Александр Рахвалов На гарях
Ефимову А. И.
1
Несмотря на теплую погоду, Тихон работал в телогрейке. Березовая плаха, тронутая по кромке топором, шипела и пенилась, как на огне, исходя зеленым соком. Тепло было по-летнему, хоть не месяц май стоял на дворе. Даже не верилось, после затяжного морока погода разыгралась, и воду, зазвеневшую в желобках, пришлось направлять в огромную бочку. Воробьи тут же надумали купаться и просыпались в нее, как горох.
— Намокнете, а если ударит заморозок? — улыбнулся Тихон, подходя к бочке. — Смотрите, я вас, чертей болотных, отогревать не буду.
В дровянике вздыхала корова. Постояв неподвижно, она принималась жевать и опять вздыхала, точно тяжелый корм давался ей через силу. «Тяжко ей, в духоте-то, — подумалось Тихону. — Выгоню за ворота, пускай походит».
Он направился к дровянику и выпустил корову. Она вышла в проулок и замерла.
Безобразные насыпухи отяжелели, вобрав в себя всю сырость, прижались к земле, как ожиревшие свиньи. Пугала выбитая по осени колея, куда сейчас стекали все ручьи и помои.
— Ты куда ее выгнал? — вышла следом хозяйка. — Она ведь тут ноги переломает. Что пню говорить, что тебе, пустоглазому.
Тихон промолчал. Ему не хотелось с ней связываться на трезвую голову. Он никогда не лаялся на трезвую…
А корова, откинув голову, гудела. Она смотрела в колею, наполненную водой, точно просила пить. Тогда хозяйка заставила ее повернуться и загнала в ворота, распахнутые настежь.
— Ого, какая чернушка! Поди, ведерница? Что ж вы ее выставили средь проулка, как на продажу, — прокричал человек в милицейской форме. Он стоял на другой стороне разбитого проулка и размахивал фуражкой, будто боялся, что его не заметят. Это был капитан Ожегов, местный участковый. — Сколько за коровушку отдали?
— Семьсот рублей, — ответила хозяйка. — Молодая, оправдает еще все до копейки. Раздою, бог даст.
— Вижу, что породистая, — хвалил участковый. — Вымя аж на земле лежит, как тыква. — Он помолчал и с некоторой даже официальностью заключил: — Я вас поздравляю, дорогие товарищи, с сей покупкой! Смелое решение, смелое. Когда новоселье?
— Ой, да какое там новоселье! — никак не хотела признаваться в своей радости хозяйка. — Только думаем входить, а вы уж… Прямо так сразу!
— Без лишней скромности, — отступил он к палисаднику, где было посуше. — Теперь пора о прописке подумать.
— Как ее добудешь? — опечалилась хозяйка. — Бегали, бегали по разным кабинетам, а толку? Кругом пожимают плечами: внеплановая постройка, внеплановая!..
— Я постараюсь помочь, — пообещал участковый. — Бумаги нужные подготовлю, и ступайте, торгуйте землю!
— Столько ходили, кланялись всем, как нищие… Даже не знаю, чем вас и отблагодарить. Хоть в ноги падай.
— Ерунда какая! — отмахнулся тот. — Я же вам говорю, сделаем прописку. А твой не попивает втихаря? Может, бегает в «Бычий глаз», а?
— Нет, что вы! — притворно удивилась хозяйка, как бы прикрывая собой молчаливого мужа. — Которую неделю сухой, как кринка на заборе! Не сглазить бы только… Беда.
Переступая с ноги на ногу, участковый смотрел в колею, залитую помоями, и, как показалось, забыл о тех, с кем только что разговаривал. Такое с ним случалось— задумчивым был… Но вот он достал папироску.
— Ты, Тихон, забеги ко мне — потолкуем о работе, — посерьезнел вдруг участковый. — Может, где и сам присмотришь по душе. Хватит сидеть без настоящего дела, коли домик собран и обжит. Чего молчишь?
— Ну как… Вы, конечно, правы, — опомнился тот. — Но ведь у меня в трудовой — горбатые! Кто меня возьмет на работу по своей специальности? Разве что в дворники… И то не возьмут.
— Видишь, Клава, каков молодец! Ни слова в оправдание, ни звука в ответ… Недаром, знать, офицерил в молодости. А, солдат?
Он продолжал балагурить, но Клава вдруг перестала его слышать, а только смотрела в ту сторону, где он стоял. Сейчас ей почему-то вспомнилось, как он, неброский, в сущности, мужик, поставил, что называется, на «попа» матерого цыгана из тех, кто косточек не наломали в труде праведном, потому и бесились с жиру.
Тогда она думала об одном: без копейки хорошего фундамента под домик не подведешь. А где взять такой материал, который бы ничего не стоил? И вдруг ее осенило, прожгло насквозь гениальной догадкой.
— Что я, колода? А ну-ка, Тихон, собирайся, — приказала она мужу. — Да шевелись, шевелись, патятя.
Ни о чем не спрашивая, Тихон оделся и побрел за своим отчаянным прорабом. «Куда-то побежали пат с паташонком, — наблюдала за ними из окна старуха Харитоновна. — Большой да малый…»
С горем пополам они достали четыре комлевых среза — полдня торчали на пилораме, а потом, когда все-таки сговорились и сторговались с рамщиком, катили их, надсаживаясь, сюда… Спать укладывались обессиленные, хоть отпевай, но с лучистым чертиком в душе. А утром выползли на свет божий — чурок нет, одни следы да желтая, как с луковиц, шелуха.
— Ну не зверье ли?! — разрыдалась она. — Самые гадючие твари, а не народ… Да чтоб вам, кровососам, сдохнуть!
Тихон молчал, не зная чем успокоить и как успокоить свою прорабшу.
Зато она, поняв, куда укатили срезы, с ярой ненавистью смотрела на соседнюю халупу, где, не боясь никого, докалывали их в эту минуту.
— А ты? Разве ты мужик? — безжалостно, наотмашь плеснула кипятком, не соображая, кто перед ней стоит и в чем он повинен. — Хоть все утащите, не крикнешь: куда? Не мужик, а обмылок.
И усталый, выболевший какой-то, даже жалкий, Тихон молча побрел на стук колуна. Ему казалось, не срезы кололи, а ломились в чужую дверь, за которой теплилась тихая, но честная жизнь. Он шел так, как будто его послали умирать.
— Верни срезы, — попросил он цыгана тихим своим голосом. — Домик не на что ставить, а так бы… перебились без них, — будто оправдывался он, смиряя в себе дрожь, перед ворюгой. — Будь человеком, верни, а?
— Я мерзну, дети мерзнут, — ухмыльнулся тот и, отбросив в сторону колун, шагнул навстречу. Не проронив больше ни слова, он круто развернул Тихона и поддал коленом под зад. — Иди, не гневи бога, сосед дорогой. А то я разозлюсь и изрублю тебя на куски, чтоб собакам скормить.
Цыган вернулся к колуну, а Тихон, не поднимая глаз, — к своей прорабше. Теперь они оба разрыдались.
От бессилия плакали, от ненависти ко всему человечеству, изменившему им в такую трудную пору. И некому было вступиться за них (сын, как назло, жил и учился в другом городе. Крепкий подросток, он бы, конечно, не дал их в обиду никому).
Чадили насыпухи, лаяли охрипшие за ночь дворняги, а цыган, не перекуривая, разваливал один за другим легкие на колку срезы. Грузная его фигура работала, как огромная помпа. Она со свистом всасывала в себя смолистый воздух. Тихону бы, даже вооружись он топором, сроду бы не справиться с таким амбалом.
А амбал работал, и чумазые цыганята, высыпав из ворот, начали перетаскивать в ограду сосновую наколку. Она была мягкой и вязкой от смолы.
Тогда-то и появился в проулке капитан Ожегов. Он, видимо, шел огородами, где было выше и суше, поэтому его не заметили сразу.
— Что случилось, товарищи? — спросил офицер. — Чего ж запираетесь? Вижу, что не лук чистили.
— Чурбаки укатил! Сволочь поганая, — простонала женщина, кивая на цыгана. — Ночью. Зверюга!
Цыган, не оглянувшись ни разу, добивал последний срез. Он старательно вогнал клин, оглядел глубокую трещину, разрывавшую ровную поверхность чурбака и, круто, как мясник, размахнулся: ха! Смолистый срез развалился на две равные части, обдав всех горьковатой смолой. На двор к цыгану и шагнул капитан.
Сорокалетний амбал с усмешкой, не спрятанной в бороде, смотрел на приближающегося милиционера — чего скрывать, цыган побаивались здесь даже те, кто не раз громил доселе притоны и блатхаты, где собиралось всякое отребье. Потому и этот бровью не повел, колун не отбросил — стоял, широко разбросав ноги, и ждал, ждал… А капитан уверенно шел на сближение. И когда до цыгана осталось не более трех шагов, он резко выбросил вперед руку и сгреб того за бороду.
— Стоять, тварь! Я те лягну! — кричал он, стараясь пригнуть бородатую голову книзу, чтоб ловчее перехватиться. — Ровней, гад, иди, ровней! Не рыси, как малолеток… Тпру!
Цыган всхрапнул, охнул всей утробой, как жеребец. Но участковый вел его сбоку на вытянутой руке. Вел так, как вели бы пляшущего коня… под уздцы. Тот выкатил глаза, но крепкая рука была сильней норова. Так они шли до самого отдела, след в след. И участковый, изредка оглядываясь, покрикивал на стонущего цыгана:
— Иди ровней, ровней! Рысак хренов… Допрыгаешь, запрягу в телегу и буду ездить по участку.
Они не могли знать того, что произошло в отделе, но к вечеру обидевший их цыган прикатил откуда-то четыре точно таких же, как были у них, среза. Даже смола пузырилась на поверхности…
Вспомнив об этом случае, она расплакалась. Тихон косился на супругу, покусывая губы, чудом не съеденные в морозах, когда он пластался на дому, не выпуская из рук топора, чтобы быстрей дорубиться до тепла. Жена была рядом и тоже работала по-рабски, не щадя себя.
Участковый опомнился первым и постарался утешить плачущую женщину.
— Хватит, Клава! — проговорил он. — По совести скажу: трудное свалилось с телеги, а вы — на возу! Понимаешь? Вон какой теремок поставили! Люди проезжают по тракту — глаза вывихнули, глядя на диковинку. Сюда сын ваш невестку приведет скоро. Вот увидите! Тогда уж гульнем. Слышите?
И достал-таки, дотянулся до нее, вернул к разговору.
— Заманишь его в эту дыру! — отозвалась она, подбирая с земли конец веревки. Корова стояла смирно, как над кормушкой. — Комаров, что ли, кормить приедет сюда… Ждите.
— В родном-то доме?
— Хоть так… Ему еще год учиться, а там укатит на Север. Все-таки сварщиком будет, — доказывала она. — А сюда к пьянчугам в пасть? Сама не желаю. Пьянчуг скрутим! — не сдавался участковый. — Зато ему работу подберем такую, что дороже любой девки станет. Не таких привязывает, а щенка… — махнул он рукой. — Об этом судить нечего, и я докажу тебе.
Неуемным он был человеком. Бывало, схватит на лету концовку какой-нибудь фразы и пошел, поехал, особо-то не следя ни за жестами, ни за речью. В таких людях энергия, как кипяток в самоваре. Все равно вырвется наружу.
— Пускай сам решает, — продолжала она. — Не вчера же с горшка. Шестнадцатый год лочкану…
— Ты права в общих чертах, — не стал убеждать ее в обратном капитан Ожегов. — А работа, она повсюду валяется — подбирай, если по душе. На трассу? На трассу поезжай и заколачивай большую деньгу. Хотя что толку-то с этой деньги? Сорная трава.
Да, не секрет… С недавних, первопроходческих пор областью начал править натуральный кусок. Деньги же считались сором, которым в первую же пятилетку освоения забили все сберкассы. Денег — море, товару — нет. Зато к «Дворянскому гнезду», этому небоскребу, выстроенному для первых людей города, подкатывали средь бела дня продуктовые машины и разгружались на глазах у всех. Пахло колбасой, фруктами — все свозили сюда, хотя это «все» должно было пойти на Север, где люди работали на износ, чтобы обогатить свою великую державу. Но их провел вокруг пальца рядовой работник базы: он, поселенный в «Дворянском гнезде», на совесть кормил местную аристократию, дабы не вылететь в «малосемейку». Северяне же из рабочих потянулись к газетной похвале, махнув рукой на все махинации торгашей. Они работали, казалось, за газетный репортаж, забивая полосы своими фотопортретами. Вкусив парадного слова, тщеславный народец бегал по пустым магазинам: где бы отоварить талончик? Но его не отоваривали. Тогда он, выстрадав свой отпуск, оказывался на черноморском побережье, где его потрошили, как глупого индюка. Деньги, заработанные в год, исчезали за полтора месяца, и первопроходец-герой с пустыми карманами, но сытый и счастливый возвращался на буровую, где шоколадный загар сбивали с него, как окалину, в одну неделю. И действительно, там был «только ветер сквозной от одной буровой до другой буровой». И этот ветер сквозной лопали всей бригадой и еще просили, не боясь, что он набьет оскомину. Иногда только хотелось говядинки, ее начинали требовать у начальства к празднику… И только фронтовики, потерявшие на войне свои желудки, не роптали на судьбу, а шипели вслед «вечно голодным»: с кого требуете? Ш-шмоньки!
— Не хныкайте, говорю, — крикнул Ожегов. — Мы придем к победе коммунистического труда!..
Он махнул рукой, как будто обиделся на них, и, опустив голову, зашагал в конец проулка.
— Смотри, Тихон, какой славный человек! — провожала его взглядом Клава, жена Тихона. — И нечем его отблагодарить. Нищета проклятая… Ну, когда начнем жить, когда? Не все же только брать от хороших людей— об отдаче пора подумать.
— Не взятку же давать, — разозлился вдруг Тихон. — А то смотри, перехватим где-нибудь пару сотенных да отдадим ему. В конвертике чтоб. Все же печется, хлопочет за нас, как родной.
— И все ты с язвецой какой-то, — обиделась она. — Мало, что ли, он добра тебе сделал?
— Какого добра? — не понимал Тихон или только делал вид, что не понимает. — Ну, какого добра?
— Да, добра! — стояла на своем Клава. — Память-то у тебя отшибло, что ли? Забыл, как он нас спас от этого… Вон из-за угла мордоворот проклятый выглядывает. Не припомнишь разве эту рожу?
— Хватит тебе, — несколько сник Тихон и отвернулся. — Теперь до утра не кончишь.
Ему было неприятно вспоминать о том случае, стыдно было — перетрусил он тогда порядком.
— И не кончу! — разошлась Клава. — За деньги, что истратила на корову, сожрать меня готов, в колею втоптать. Я что их, пропила? Сволочи!.. Навоза боитесь, а потом спросите: где взять мяса, где взять молока? Почему ничего нету? Не работали б на земле, а только рассуждали, кислогубые.
Корова стояла смирно, головой в воротах, стараясь не напоминать о себе. Зато хозяйка разошлась…
— Я понимаю, — продолжала она, — ты бы хотел иметь бабенку получше, пообразованнее, что ли. Что я тебе, дурочка… Но ведь мы, как ни крути, стоим один другого: оба стоптаны на одну сторону. И комнатку-то снимали в Юмени, вошли в нее, как погорельцы, с двумя тощими чемоданами. Разве то жизнь была? Ты тогда строиться не хотел, тунеядец. Все кричал: «Ты хоть понимаешь, глупая баба, что значит строиться в зиму? В тепле-то мерзнем…» Мерзнет он, — притворно рассмеялась она. — В десять часов не могу добудиться… Но я тебе доказала, что можно и в зиму строиться, а к весне входить в избушку. Теперь за мной будет первое слово, и не путайся у меня под ногами, не терплю…
— Ты уж меня в раба превратила, — закурил Тихон. Голос у него дрожал, руки ходили ходуном. — А я ведь из военных…
— Из бывших военных, — поправила она. — Я, может, тоже не из простых людей, да помалкиваю. А то кого ни спроси, все из господ, и к черту некого послать. За кусок — всей пятерней, а за работу одним мизинчиком.
— Да работаю я, работаю! — взревел Тихон, и даже папироска отлетела от губы. — Чего тебе еще? Ну, не хотел строиться в зиму, ну, мерз в тепле…
— Да не мерз ты, — опять рассмеялась она с той же притворностью. — Дрых до обеда. Где ж это было тебе взять топор и рубиться на морозе? Лучше уж лежать и поплевывать в потолок, баба прокормит, она безотказная, да и выбирать ей не из чего. Какой попал, с таким и живи. До обеда не буди… В вытрезвителе-то в пять — как штык! Еще подъема не объявили, а ты уж на ногах…
Вот когда изловчилась и опрокинула навзничь. Он аж зубами скрипнул, но промолчал. Правду говорила.
…Тогда они отмечали какой-то праздник. Хозяйка пригласила их к столу, накрытому в большой комнате. Втроем просидели до третьей рюмки. Молчали. Потом хозяйка сорвалась и побежала к соседу, от которого вернулась с гармонью. Тихон пробежал по кнопкам, запел — голос у него имелся… Но вскоре бедную гармонь отбросили на диван и пошли танцевать, он — с хозяйкой, как бы позабыв про то, что рядом сидела жена. Они так старательно танцевали, прижавшись друг к другу, что Клава не выдержала и вышла в сенки. Через некоторое время танцор бросился ее искать. Со свету, как слепой, вывалился в темные сенки… Здесь она и поджидала его: грохнула по башке табуреткой! Он, конечно, обиделся, набросил на себя пальто и отправился к автобусной остановке. «К брату поеду, — проговорил напоследок, — пока не убили тут… Звери!»
Но до брата он не доехал — забрали прямо с остановки в вытрезвитель, из которого вытолкали на мороз в пять утра (поняли, что клиент пуст, как барабан). И теперь при случае она напоминала ему об этом.
— В пять утра, как физкультурник, — хохотала она. — На свежем воздухе разминка. Так ты, брат, до ста лет проживешь!
Корова стояла в воротах. Кудрявая, с намокшей шерстью дворняга проскользнула у нее под брюхом и стала осторожно обнюхивать сапоги хозяйки, не понимая, почему та стоит. А хозяйка смотрела в конец проулка, где только что скрылся из виду участковый милиционер. Корова с трудом двигала челюстями, будто собственный язык пыталась разжевать.
…Она вела его за собой, как теленка. Они вышли на окраину города, где люди строились нахально, невзирая на строгий запрет горисполкома. Вышли и осмотрелись.
Камыш да тальник. Кое-где полыхала, радуя глаз, рябина. С обратной стороны тракта наползали на Нахаловку громоздкие постройки гаражей, как бы сдавливая ее. Потому она схлынула в болотину и закисла, как старая вода. Чадили насыпухи, трубили голодные коровы, беспородные собаки водили свои игры, попутно облаивая пришельцев.
Стороной, подобрав цветастые подолы юбок, пробежали цыганки — бойкий, горластый народ. Их жизнерадостности можно было позавидовать. Пустые пока сумки обвисли в их руках, как проколотые шары. Наконец они выбрались на тракт — здесь была автобусная остановка.
— Соседки будущие, — кивнула им вслед Клава. — На работу пошли. Дай бог им хорошего улова.
— Свое возьмут, — отозвался он, тоже следивший за ними. — Заберутся в толпу, как в малинник. Им проще — кругом родина!
И такая тоска прозвучала в его голосе, что Клава, вздохнув, отвернулась, чтоб не видеть, как он стоит — съежившись и прижав к животу посиневшие кулачки. Не мужик, а ребенок.
Корова по-прежнему стояла в воротах, будто застряла в них, когда ее хотели завести во двор. Желтая пена свисала с губ и хлопьями падала на землю. Хозяйка забыла о ней… «Заводи ее, — хотелось сказать хозяину, — пока собака с хвоста не постригла!»
…Работали они на пару, и не поймешь — кто коренник, а кто пристяжная. Зима стояла лютая — в несчастье она всегда бывает такой, — а жить пока пришлось в подполе, как в землянке. Часто простужались, болели, но лечились «железкой», установленной тут же, возле нар. Тогда они напрочь позабыли, в каком веке живут и кто правит их великой державой. Может, царь, а может, кто другой — какая им, к лешему, разница.
Обносившиеся и полуголодные, они через день ездили на попутках в сторону городской свалки. Здесь, на свалке, закоптившей дочерна небеса, они выбирали годный для строительства материал. Зачастую попадались горбыль, мешки с цементом, ящики с ржавыми гвоздями. Бульдозеры не успевали хоронить народное добро, а свальщики — сжигать. Что-то не зарывалось, колом стояло среди чадящих куч, а что-то и попросту не сгорало в огне. Зато частники, наторевшие на этом «разбое», гребли под себя несметные богатства. И Тихон с Клавой не зевали. Они выбирали даровой стройматериал и вывозили со свалки, расплачиваясь с водителем последними деньгами, которые пополнялись за счет собранных здесь бутылок.
И работали, работали… Протесывая одну горбылину за другой, он дул на сбитые руки, стараясь их отогреть, и с благодарностью поглядывал на жену, которая не отступала от него ни на шаг. Он работал, и она работала рядом. Без остатку отдавались работе, поэтому и насыпуха поднималась на глазах.
В феврале они перебрались под крышу, хоть в потолке еще зияли дыры, обнесенные густой изморозью. Теса не было, чтобы «заткнуть им глотку», этим дырам. Все чаще и чаще, швыряя топор на мерзлую землю, срывался Тихон: «За что же я вымерзаю-то здесь? За какие такие грехи, а?» — «Не вымерзнешь, — успокаивала она Тихона. — Завтра чего-нибудь присмотрим в уцененке, одену тебя, работника». — «В уцененке? — вопил тот. — С трупов, что ли? Не хочу!..» — и дул на руки, едва не плача.
Выписали машину тесу. Свежий тес пах лесом и какой-то тихой полузабытой далью. Хотелось забыться… Клаве в такие минуты виделось: босая, она помогает деду по дому. Работу закончили поздно и сразу же отправились на речку. Но клонит девчушку к сосновому бору, и она убегает в хвойники. Там она купается во мху, посыпанном мелкой иглой, — отмывает пятки. После этого они становятся чистыми и нежными, и траву под ногами чувствуешь острей, точно по живому идешь.
Однажды к ним подошел участковый Ожегов.
— Запрещаю постройку, — сказал он. — Бросайте топоры, и в отдел проследуем.
Прямо ошарашил. Ведь не один раз проходил мимо: постоит, посмотрит на них да молчком дальше потопает, как блаженный.
— Почему запрещаете? — удивились они.
— По кочану… Но поясню, — подступил он к домику, под который еще не подвели фундамент. — Землю не купили, разрешения не имеете, а тес свистнули. Прямо уголовники, а не хозяева.
— Тес? У нас же накладная есть, — пролепетала она. — Остальное со свалки привезли.
— Кто же вам поверит? — наступал участковый. — Разговор-то идет не о порожней таре, а о постройке, которая тысяч на пять вытянет. Нет, со мной не сыграете в дурака. Я старый волчина, меня толкать не надо… ногой. Бросайте топоры — и в кутузку.
— Нам нечего скрывать, — проговорила Клава. — Что есть, все на нас, а если раздеться — как сбруей побиты… Прямо не люди, а кони, господи прости… Посмотрите же!
— Посмотрю, — осадил он Клаву. — Вот только малость перекурю. Перед кутузкой.
Он достал портсигар и предложил папироску Тихону:
— Закуривай, чего дрожишь… Кур, что ли, воровал?
И закатился.
— Стройтесь, — смилостивился вдруг. — Пока промолчу, а после, как говорится, будем посмотреть. Пойду бичей трясти. Слышал, что опять нигде не работают, черти опухшие. Хоть в колонию отправляй, неймется…
И пошел, бросив напоследок:
— Вы верно настраиваетесь на жизнь. Одобряю.
Корова тяжело вздохнула, всхлипнула, задирая голову. И только сейчас о ней вспомнили. Хозяйка обхватила ее голову и прижалась к ней щекой, даже чмокнула в ссохшуюся от грязи бровь. И прежняя радость от такой покупки вломилась в ее душу с удвоенной силой. «Спасибо матушке за подмогу. Хоть на старости лет решили помочь, скупердяи…»
Корова была костлявой, но с крупным выменем и широкими, округлыми, как бочка, боками, по которым можно было судить о скором отеле. Бывший хозяин так и сказал Клаве:
— Ждите теленка. Не проспите по глупости наследника.
Кое-как Цыганку втолкали в теплый дровяник — чистенький, вылизанный на совесть. Корова упиралась передними ногами в порожек, раздувала ноздри и храпела, как кобыла перед полыньей. Насилу втолкали.
А вечером, тщательно обмыв вымя, Клава впервые подоила корову в собственном дворе. Светлая, молочная улыбка забрызгала ее губы, и некогда было облизнуться или смахнуть ее рукой.
И тогда решили отдохнуть, справить, как у добрых людей, новоселье. Готовились к нему на скорую руку, между делом, заполнившим их жизнь до краев.
— Бог с ними, с расходами, — горячилась Клава. — Что же теперь — семь кошек завести, а новоселье вытолкать в шею?
Тихон согласился с ней. Однако новоселье по разным причинам все откладывалось, и о нем наконец совсем позабыли. Сегодня же капитан Ожегов, как бы вскользь, но напомнил об этом важном хозяйском празднике.
— Надо, Тихон, справить, — смирилась Клава, точно они и не ругались. — Соберемся, посидим и Ожегова пригласим. Любишь ты его или не любишь, но пригласить следует. Иди, уберись у свиней!
Он шагнул в ограду и, отыскав совковую лопату, направился к стайке, в которой любил убираться. Еще, видимо, не приелась ему эта работка. Хоть в этом им повезло: не сосунков купили, а крепких, жорких поросят, невесть как народившихся в такую раннюю пору. Мычал и похрюкивал их двор, скрипели ворота, облитые свежею краской, и дым, повисший над трубой щитовика, говорил о покое, согласии и сытости.
Теперь-то чего не жить.
2
Веранда с насыпною банькой дались им без мук. Неподалеку сносили деревянные бараки, оттуда они и натаскали на себе щитов, балочек, косяков, не изъеденных плесенью. Будто из страха, что у них все это могут отобрать, сразу же приступили к хлеву. Брус был сухим, крепким, потому собирали коробку шутя. (Не сегодня, так завтра он должен будет достлать пол в хлеву, пару горбылин подогнать осталось…) Он работал здесь, она занялась покраской и побелкой щитовика.
— Беспросыпная, слышь, работенка. У осьминога рук не хватит, а я человек.
— Да ну, разве это работа, Тихон, — отзывалась она. — Такую бы работу всю жизнь, как невесту, на руках носить.
Теперь ей было все нипочем. Она радовалась работе, не то что зимой, когда только начинали строиться. Ни опыта, ни средств — хоть замерзай в подполе, бросив эту глупую затею. Однажды только приезжал сын из Обольска, тогда и порадовалась его приезду — один раз за всю зиму порадовалась.
С приездом сына работа пошла веселей. Мужики тогда освободили ее: «Отдыхай, мать!» Закончив с крышей, перебрались на землю: нужно было выдолбить колодец, чтоб не хватать воду где попало. Землю отогрели костром и без особого труда углубились метра на три — этого хватило: вода была близко. Подвели сруб. Она не могла нарадоваться им, побежала к соседу, который должен был колоть свинью (страховала его пятистенок, слышала вскользь разговор). Поговорила с мужиком, согласился продать мяса.
— Пока хоть в долг, — просила Клава. — Отбатрачу после. Могу полушубок пошить или шапку. Но надо, милый, надо мужиков подкормить. Работяги все же.
— Я не против. Давай, откармливай, — прогудел хозяин. — Завтра же завалю кабана… Самим жрать нечего, на голяке сидим. Ты даже не сомневайся… Сделаем.
— Но почему завтра? — удивилась она. — Я могу подержать боровишку.
— Нет, Клава! Не могу я так, с маху, — покачал головой. — Понимаешь, кормлю свинью, кормлю, а зарежу— половину в отход да собакам. Ни колбасы кровяной сделать, ни шкуру обработать. Все выбрасываю, богач! Поэтому схожу за братом, он спец.
Кое-как дождалась следующего дня. К соседу пришла в телогрейке, в резиновых сапогах, думая, что потребуется ее помощь. Но скотовладелец, взглянув на нее, с усмешкой произнес: «Садись на лавку и прижми задницу». Потом он протянул из бани два электрических провода, к концу которых примотал шилья, и вошел в стайку. Боров даже не хрюкнул; оглушенный током, завалился, и его потащили из стайки волоком за задние ноги. Капелька крови запеклась под ухом — так здесь глушили все: вонзая шилья в виски, чтоб после перерезать глотку. Но эти почему-то поступили по-своему, и живого, тепленького, вздрагивающего борова вытаскивали во двор. Боров выбросил вперед голову и ноги, будто хотел зацепиться за косяк, и толстая, косматая складка на горле разгладилась, как голенище сапога — в этот миг ее и распороли, перерезав до самого загривка. Дымная кровь хлынула на снег, и боров захрипел, пытаясь подняться на передние ноги. Так он прополз с метр, а мужики, настраивая паяльную лампу, забыли про кровь, из которой хотели сделать колбасу. Хозяин нахмурился:
— Опять впустую. Зачем тогда врал, что можешь колоть? Шкуру, значит, тоже палить?
— Я не врал, — разжигал тот лампу. — Видишь, как заколол. Без визга. Терпеть не могу, когда визжат…
— Потому у нас и нет ни хрена. Двести голов в смену режешь, — ворчал он, — и треть на помойку выбрасываешь.
— Поток… Ты не работаешь на забое; не знаешь, что такое поток! А это, брат, работа без перекура. Волоки сюда солому, и кипяток готовьте, — прикрикнул он, подходя к затихшему борову. Вспыхнула, затрещала густая шерсть, завиваясь в черные кольца.
— Мужики, — обратилась к ним Клава. — Пока копаетесь с ним, я побуду дома. Потом приду — отрубите мне килограммов десять — пятнадцать, чтоб и грудинка была и с ребер…
— Задницу отрублю, — ухмыльнулся брат хозяина. — Забирай всю, мне не жалко, потому что я — забойщик! А брат жадюга, каких свет не видел. Но я тебе подыграю. Вот увидишь.
Вскоре принесли свежатинку, и Тихон, направив топор, аккуратно разрубил вдоль ребер живую еще, не застывшую часть тушки. «Хорошие пластики, не жирные!» — похвалила хозяйка. А сын, следивший за отчимом, воскликнул: «Где это ты так рубить насобачился? Случаем, не на мясокомбинате?» Тот промолчал, хотя Роман попал в самую точку: приходилось Тихону не раз зашибать там деньгу. В проходной не спрашивали паспортов, поэтому безработный и потрепанный жизнью люд валил туда валом. Платили на мясокомбинате, вернее, рассчитывали раз в три дня и кормили на убой. Тогда Тихон пробичевал почти что год, работал по две смены в сутки, отъедался. Заработанные деньги конечно же пропивал и не мог остановиться.
Нарубленное мясо сложили в сарае на лавке. Здесь оно должно было сохраниться: холода стояли крепкие… Радостная, беззаботная ехала она домой, а добралась, вошла во двор — едва не свалилась: замка на сарае не было! Дверь разворочена, щепа на снегу…
— Сколько утащили, ворюги, сколько утащили! — причитала она. — Ох, ворюги! И эти, — вспомнила о сыне с мужем, — не присмотрели! Полушарые! Никому не верь, никому.
Она рванулась к двери.
Мужики сидели за столом красные и хмельные. Перед ними на столе выстроились в ряд отпотевшие бутылки портвейна.
— Клава, слышь, — пьяно лепетал Тихон. — Решили выпить тут по граммушке. Ты не ругайся, молитва моя! Песня… Не ругайся.
— Конечно, не буду, — сдерживаясь изо всех сил, проговорила она. — Без всякой ругани… Вот сейчас принесу топор, отрублю тебе башку, и скажу, что так и было.
— Не каждый же день, — обиделся он. — Сын приехал. Родная кровь! Можно сказать.
— Ага, ты его родил и вырастил… Опоек.
— Брось ты, мать! Присаживайся к столу, — приглашал сын. — Ударим по нервам и по струнам! Все путем.
И опять она смирилась. Молча стала раздеваться и только потом, когда прошла в кухню, обронила:
— Надо ж. Осоловели оба. Сколько же они успели продать?
Конечно, до нее сразу дошло, что это они взломали дверь, взяли мясо и продали его где-нибудь за бесценок. Тихон, когда запивал, мог продать и пропить даже шапку с собственной головы.
— Ох, паразиты! — не укладывалось в голове. — Нет, им никак нельзя жить под одной крышей! Потянутся к выпивке — малый за большим, тогда конец!..
А сын после уехал, не отведав даже воды из колодца, который помог выкопать, выдолбить в такую стужу, что и вспомнить — оторопь берет…
Тихон с утра отправился на свалку. К обеду вернулся и больше часу потратил на то, чтоб перетаскать на себе от тракта мешки с хлебом. Восемь мешков он нагреб сегодня, а мог, если бы захотел, нагрести хоть тонну — столько там было сухарей, едва початых буханок и прочих отходов… Словом, по хлебу ходили и люди, и бульдозеры. Она наблюдала из окна за мужем, который с буханок срезал плесень. Чистые куски ссыпал в фанерный короб, а черствые, с прозеленью, замачивал в корыте. «Ну вот, — подумала она, — теперь на недельку хватит и корове, и свиньям. Глядишь, без горя проживем».
Клава готовилась к новоселью.
В большой комнате она вылепила места для гостей: доска поверх чурбаков — скамейка, а с другой стороны к столу придвинула видавший виды диван. Шаньги и пироги были уже готовы, и она закрыла их полотенцем прямо в противне, чтоб не остыли. Вкусно пахло тушеным мясом, стоявшим в печи, — небольшой, но сделанной под русскую. Слазила в подпол, достала бутылку водки, при этом тяжело вздохнула: «Не втянуть бы мужика! Выпьет рюмку, а там разохотится… Черт рогатый!»
Тихон, войдя в дом, с прищуром оглядел праздничный стол. Такого здесь еще не бывало, потому он крякнул:
— Кха! Ну и закатим, пожалуй, пир! Не все же время голодать и питаться с помойки, а?!
— Наговоришь. Кто тебя за язык тянет?
— А что? — сбросил он телогрейку. — Правду надо уважать; если было, значит, было.
— Хоть при людях не сболтни, придурок! Со стыда ведь сгореть…
— Тогда поясню: с тухлятиной — это хантыйский посол. Так сказать, специфический, — продолжал он. — Рыбу они так готовят.
— Сболтнешь… Я тебя сразу, — вспылила она, — прикончу на месте. Ты меня, Тихон, не вынуждай лучше и не позорь на людях!
— Вот они не знают, — сбросил он сапоги. — А впрочем, о каких ты людях говоришь?
— Как о каких? Да о гостях же, — посмотрела она на него. — Они к столу придут, а не к твоему поганому языку… — И осеклась. Она прежде и подумать не могла, замотавшись в работе, что гостей не будет, что звать некого, что не обзавелись они, не успели обзавестись знакомыми, даже ближних своих соседей толком не знали и не здоровались при встрече. Кто они, соседи? Одни, что похозяйственней, отгородились от всех высокими заборами; другие, в основном безработные и опустившиеся люди, промышляли на свалке, пили да пребывали в спячке, позабыв о нормальной человеческой жизни, труде и общении с другими. Все без имен, под кличками. Кроме старухи, что поселилась напротив, купив небольшой, но справный домик, да одинокого мужика, собравшего недавно настоящий дом на краю проулка, и человека не встретишь. И этих они пока не знали. Не успели познакомиться, как-то случая подходящего не выпадало… И ведь ни разу до этого часа, как вошел муж и сказал: «О каких ты людях говоришь?», она даже мельком не подумала об этом. Настолько, видно, засосала их работа… Теперь выходило, что и гостей нужно было заслужить! И поговорка всплыла: «Калачом не заманишь…», и обида обожгла до слез. Всей душой потянулась к родне, перебрала всех по памяти: мать с отчимом, сестра, дочь с сыном, внучата… И не дотянулась. Все они были там, в Обольске, а не здесь, в Нахаловке, среди чужих людей. Даже радостью не с кем было поделиться за этим столом, к которому они так рвались.
— Ну, чего ты! Давай посидим, — вздохнув, проговорил Тихон. — Пусть столы стоят, а мы все-таки люди… Присаживайся, мать.
Она такими глазами на него посмотрела, что он сразу примолк, но не отступил:
— Не бери в голову. Подумаешь, какая трагедия! Разве нам легче было вчера или позавчера? Не пришли на помощь, не хрен и у стола делать! Я лучше корову рядом посажу… Свинью посажу! Пусть порадуются вместе с нами. Садись, мать.
Видимо, он был прав. Потому она сразу же прошла к столу и с дрожью в голосе произнесла:
— Давай, Тихон, выпьем с тобой. Пока вдвоем… Но когда-нибудь у нас гости будут. Правда же?
— Не могу знать, — спустился он на диван. — Правда то, что я не очень-то влюблен в людей.
— Не оговаривай себя. Ну, наливай. Корова, однако, мычит? — насторожилась она, подавая Тихону бутылку.
— Чего ей мычать? Хлеба дал… Ну, не последняя! — и ловко опрокинул стаканчик.
Есть не хотелось. Кусок пирога застревал в глотке, как бывает, если тебя вдруг попрекнут. После третьей «рюмашки» — отсчет для Тихона привычный — он повеселел, движения его стали быстрыми и четкими, как у змеи.
— Только выпью — и влюблен! Почему, а? — поражался он. — Кажется, жить не хотелось, видеть не мог этот вонючий двор, а теперь ценю и почитаю. Даже с Ожеговым бы, кажется, расцеловался. И все-то мне к душе, и все-то обиды разом испарились. Выбежать бы на улицу, раскинуть руки… Эх, Клава! Ну почему так, скажи, по-че-му?
— Больной ты, Тихон. Алкоголик, — равнодушно отозвалась она. — Тебе бы лечиться да к молочку больше привыкать. А я вот думаю… Вот скоро оденемся, как люди, чтобы не стыдно было войти в автобус, где битком и все — разряженные, да и отправимся в городской сад либо в кинотеатр. Даже интересно: как они, люди-то, повсюду живут и сможем ли мы так, как они, жить? Ненавижу себя, нищенку!..
— Ну, почему так, а? — перебил он Клаву, желая докопаться до своей истины. — Лишь выпью — и нежностью обольюсь. Почему?
— Наладился, — обиделась она. — Я же тебе говорю: ты больной, и тебе, уроду, лечиться бы, а не долбить одно да по тому… И самому ведь не надоест.
— Больной? Это ты меня угробила… Теперь избавиться хочешь от меня — иди, дескать, патятя, ложись в больницу, к тому же элтэпэшную, чтоб насовсем, — взбеленился он, вылетая из-за стола. — И врать меня не учи, пропастина, не буду. А то: «Придут гости, не сболтни лишнего…» Кто это к тебе придет? Любовник? Значит, на моем гробу решили потанцевать… Нет, я сам еще потанцую, и не в элтэпэ, а на своей территории, в этом дому. Видите ли, я больной. Я больной, а они… Нет, где моя музыка?
Он бросился к окну, сорвал с подоконника небольшой транзистор и заплетающимися руками начал крутить его и трясти над головой. Транзистор хрипел и не слушался своего хозяина. Тогда хозяин швырнул его на диван и отчаянно топнул ногой… Популярный певец оказался рядом.
И Тихон вдруг сорвался с места и закружил в каком-то диком танце. Рубаха расползлась на его груди, как будто он стал шире в плечах.
— Суки позорные, дешевый мир! — выкрикивал он, размахивая руками. — Меня унижают, ме-ня унижа-ают!.. Меня заваливают, как быка, меня кастри-и-ру-ют! — орал Тихон, глядя куда-то поверх стола и топая ногами. Клава вскочила и приросла к стенке. — Меня заставляют врать, вра-ать! Я врать не буду, не бу-ду вра-ать… Кому в угоду вра-ать? Эх, суки позорные, дешевый мир, — захлебывался он. — А мне дорога на элтэпэ?
Клава не отходила от стенки, продолжая наблюдать за мужиком. Мужиком не чужим, а своим. В том-то и дело, что своим, понятным, кажется, до конца. И этот, свой мужик, умудрился ее так перепугать, что она в первую минуту хотела уж броситься к гаражу, чтобы вызвать по телефону «Скорую помощь». Тамара, придурошная соседка, ее бы так не смогла перепугать, как это сделал родной муженек.
А муженек надрывался, наседал, как припадочный, одновременно, казалось, дергая ногой, бедром и плечом, будто в двери колотился, чтобы вывалиться во двор:
— Какой есть. Обрасти враньем — вместо брюк надеть юбку? Нет, все равно разглядят, кто перед ними — баба или мужик. Честность — не внешность. Ха! Рваная фуражка и кепка в клеточку… Давай истину, истину!
Она внимательно посмотрела на него и, опустив руки, шагнула к дивану. Ей было непонятно — о чем это он? Может, опять заскок?! Сколько вроде бы уж прожили бок о бок, но понять его до конца она не могла никак. Но Тихон стоял на своем: какой есть и врать в угоду тебе не буду. Точка.
В этот момент танцор откатился к порогу, но тут же, подпрыгивая, как воробей, вернулся к столу, наполнил стопку. Когда он открыл рот, чтобы плеснуть «на каменку», на веранде хлопнула дверь.
— А, сердешные, пируете! — вошел капитан Ожегов. — Я думаю, по какому поводу музыка? Не корова ли отелилась? — Он расстегивал нижние пуговицы плаща, полы которого были забрызганы грязью. В дождевике чем-то походил он в эту минуту на колхозного бригадира.
— Проходите, проходите к столу, — забеспокоилась хозяйка, вставая с дивана.
— Я им домовую книгу, — продолжал Ожегов, — чуть ли не выбил у властей, а они в запое. Что это значит и как с этим бороться?
— Вот здесь присядьте, товарищ капитан. Тихон, отодвинь скамейку. Ну, не стой же, как истукан.
— Лещенку включили, — не понижая голоса, напирал участковый. — Слушают себе. Ему-то чего! Живет, поет и поправляется на глазах. Как говорится, цветет и пахнет. Ну-ка, приглушите его пока. Речь буду держать.
Участковый прошел к столу, подле которого суетилась хозяйка, и присел на край дивана. Сапоги на нем были чистые, видно, на совесть вымыл во дворе и оскоблил.
— А мы тут новоселье справляем, — как виноватая, произнесла она, пряча глаза. — Без шума. Вдвоем. И бутылочку взяли, и мяса натушили, и пирогов напекли. Угощайтесь, товарищ капитан, не побрезгуйте.
— Шаньгу съем, а остальное прошу не предлагать. Я, други мои, на верной диете. Прежде, после голодухи, съедал по двенадцать беляшей, — разговорился он. — Однажды на тринадцатом стошнило… Не поверите, но даже выпивать бросил! Теперь только бабу свою целую да воздухом дышу.
Он снял фуражку, достал и расстегнул планшетку. Написал что-то на чистом листке.
— Вот, Клава, — кивнул он на листок, — документ… Домовую пока не дают, но встанете там же, в паспортном столе — не с центрального входа пробивайся в милицию, а с бокового. Ясно? Там и поставят вас на карточный учет. Вроде так… С инспектором обговорил, они знают о вас… Словом, пока лучше так, чем вообще никак.
— Я не поняла? — прикусила она кончик языка. — Как это — на карточный учет?
— Врать не буду… — посмотрел он ей в глаза. — Здесь гаражи строят, землю прибирают к рукам, но вас не выселят… Покуда не выселят: карточка — прописка, черт бы ее побрал! Все, как у людей. Спите спокойно… Я думаю, что не посмеют подогнать бульдозер и сковырнуть ваш теремок. Спите.
— Ну так-то можно! — обрадовалась хозяйка. — Чего нам не спать. Правда же, Тихон?
Хозяин внимательно разглядывал руки участкового, потому он, наверное, прослушал разговор и не ответил жене.
— Вы не состоите в браке?
— Нет пока, — призналась Клава. — Почти тридцать лет, как не живу с мужем… До сих пор не развелись. С этой работой… Не вырвешься в загс… Да фу-ты, Тихон, — прикрикнула она на мужа, — не кури под носом! Дышать нечем… без тебя. Вот так и живем.
— Значит, Тихону придется пока где-нибудь прописаться. В доме, где есть домовая книга, или в общежитии каком-нибудь. Надо подумать. А что, собственно, мы загадываем на века? — спохватился капитан. — Он же у тебя с образованием! На работу пойдет, через годик получит… хотя бы надежду на квартиру, если не заездишь его до срока — скоро ведь пахать в огороде. Смотри, Клава!
— Заездишь его, — улыбнулась та. — Где сядешь, там и слезешь.
— Ну, действуйте, пока трамваи ходят… — Он тотчас же поднялся с дивана и направился к двери.
— А шаньгу? А стаканчик? — бросилась следом хозяйка.
— Нет, нет! Еще распоюсь, как этот… — забасил Ожегов, нарочно ломая голос. — Надо забежать к вашим соседям. Кстати, не знаете, дома они или на свалку укатили?
— Бог их знает. Какие-то скрытные они, хотя иногда кричат на весь проулок, — ответила Клава.
— Хожу через день, а все замок… В ограде одна собака.
Выйдя на крыльцо, капитан Ожегов оглянулся в последний раз:
— Учтите: я не добрый человек! — заявил он. — Просто вы мне нужны здесь… Как тыл, что ли. Ха-ха! — то ли шутил он, то ли говорил серьезно. — Нахаловка гниет с этого конца, здесь живут одни бичи, навроде Алки с Лехой. Вот отрубить бы этот конец метров на пятьдесят, тогда бы порядок… тогда бы порядком здесь все заросло, как крапивой. Теперь понимаете, почему я вожусь с вами, как с детсадовскими?
— Нет! Вы как-то объясните… — попятилась она, отдавив ногу мужу. Тот оказался за ее спиной, потерянный и робкий, как послушник.
— Хорошие люди мне здесь нужны, — пояснил участковый. — Именно с этого конца. Работящие и спокойные, как снеговики… Испугались? Да с такими, как вы, мы всю шелупонь в один год выкурим: одних — в гаражи, других — в элтэпэ, третьих — в колонию. Эх, горемыки!..
Он постоял с минуту в раздумье, точно хотел произнести: «Не пугайтесь, я пошутил!» — но промолчал. Хозяева как-то сразу погасли, опустили руки, не зная чем заткнуть образовавшуюся вдруг паузу. Но безобидная лукавинка стояла перед ними во весь рост — капитан Ожегов улыбался: понимайте, дескать, как хотите, а я бегу.
Он пошел огородом. Тихон погрозил собакам, увидев с крыльца, как они скользнули за угол, чтоб облаять участкового. Собаки, поджав хвосты, скрылись в конуре. «Зачем она вторую взяла, — подумал он о жене. — С одной сучкой толком не поспишь, а две — в ушах звенит!»
Он покурил на крыльце и вернулся к столу, вспомнив, что у них еще осталась в бутылке водка. Клава отказалась от нее.
— Сморило меня, Тихон, — призналась она. — Пойду спать. Ты пей и стелись на диване. Не тревожь меня.
Тот не обиделся и, пропустив стопку, выдохнул:
— Какой мне сон. Со скотиной управиться надо. А ты спи, — съязвил напоследок. — Ты ведь только что с фермы пришла, без рук, без ног — целое стадо отдоила. Тебе можно спать.
Потом он закурил, осмотрел стол и не пожалел даже о том, что гостей не было, что все осталось нетронутым… Участковый и тот, побрезговав, даже шаньгу не съел, к молоку не прикоснулся.
Вспомнив об участковом, он с недоверием пробормотал: «Не упек бы меня, радетель!» Тихон давно никому не верил. Даже на жену порой косился, как на недруга. Пока она спала, он нашел деньги и сбегал за водкой. Правда, к скотине он отнесся с прежним вниманием: накормил, напоил, даже корову подоил… И, прикрыв ворота, на цыпочках вернулся к початой бутылке, стараясь не разбудить жену. Она, набегавшись днем и нахлопотавшись с новосельем, дорвалась наконец-то до настоящего сна.
3
Капитан Ожегов колесил по своему участку. Он был встревожен наплывом безработного люда: знать, крепко, на совесть поработали его коллеги, перетряхнув притоны в центре и вокзалы, особенно железнодорожный, где всякой рвани невпроворот. Бичи ринулись не на мясокомбинат, а на окраину Нахаловки, к которой присосались, как пиявки. Они не строились, предвидя всю бесполезность начатого здесь дела, и рассуждали примерно так: ты построишься, а через годик тебя снесут вместе с халупой, отобрав землю под какой-нибудь гараж, и квартиру не получишь, так как прописку имел «липовую» — карточную, что скорей всего ведется для статистики. А когда выпрут, то беги, жалуйся… Гнилой это номер. Нет, такие без расчета гвоздя не вобьют, тента не растянут над головой, хоть будут мокнуть под дождем, как скот на выпасе. Участковый прекрасно понимал это, потому и мотался по участку, не жалея новых сапог. В его интересах было втолкнуть какого-нибудь тунеядца в слесарку, чтоб он стоял за тисками и работал, не беспокоя других.
В последние недели капитан Ожегов вроде бы вздохнул полной грудью, видя, как на отшибе затеплилась жизнь. Клава с мужем построились, и дальше по проулку — Юрий Иванович, слесарь из гаража, поднял крепкий домик; одинокая пенсионерка купила небольшой теремок. Словом, завязка вышла неплохая, и недели не пройдет, как они перезнакомятся друг с другом, начнут общаться, чаи гонять да разговоры водить. Но тут-то и объявились старые знакомые по соседству с теми, на кого он так рассчитывал. И капитану нужно было поднять этот сброд из грязи, пока он не захлебнулся в ней. Разговор предстоял серьезный, не терпящий горячности, при которой, как правило, власть имущий рубит с плеча.
Он вошел в ограду. Бедолаги сидели на завалинке бревенчатого домика, похожего на добрую баньку, и о чем-то негромко переговаривались.
— Здравствуйте, товарищи бухарики! — начал Ожегов. — Сидим, значит, на солнцепеке, обсуждаем грядущую пятилетку, да?
Они посмотрели на гостя — старик-хозяин и опухший бугай лет тридцати пяти, квартирант, который, как уже знал Ожегов, мог говорить более или менее внятно, только в меру опохмелившись: чуть перебрал — и пропала дикция, недобрал — тоже не спрашивай ни о чем — завалит звуковой неразберихою, как первобытный дикарь. Но Ожегов пришел вовремя — он это понял по багровому отливу на щеках и по тому, как тот сплевывал — гулко и хлестко, как воздушка в тире. В самый раз поговорить.
Старик, схватившись за бок, уполз в сенки, точно его и не было здесь. Этого семидесятилетнего байбака поздно было призывать к чему-то светлому и необходимому в жизни. Зато квартирант с супругой находились, так сказать, в зрелом возрасте, но силу, скопившуюся в себе, до сих пор сжигали впустую.
— Опять не работаешь? — прямо спросил капитан. — Думаю пока предупредить тебя, а там — на парашу. Как тебе, подходит? А то скажи — и пересмотрим вместе этот вопрос.
— Как прикажете, — пробурчал бугай. — Я ведь скотина безропотная, даже рогов нет, чтоб при случае отбодаться.
Участковый присел на ящик, оглядел собеседника.
— Что так?.. Работу могу подобрать, — проговорил он. — От безделья ведь ты раскис, как шаньга морковная.
— Ничего, Алка схавает, — отрезал тот.
— Вот чудак, а! И ведь грамотный, черт, — вслух недоумевал капитан. — Но несет ахинею. Не Тамара же ты! Это той все равно — дом с детьми или психичка, а тебе?.. Есть же в твоей башке масло. Ну, зачерпни его!
— Да, не некрасовский мужичок, — согласился он. — Газеты читаю. Вот — сегодняшняя. Прямо классика! Хотя… вряд ли вы ее читаете — не для вас, а для нас печатают, так скать, для поголовья.
— Ну почему же? Выписываю…
— Да? А щеки не горят от стыда, когда читаете про нашу счастливую жизнь?
— Чего ты от нее хотел? — в свою очередь спросил Ожегов. — На то и газета, чтоб радовать людей и собирать их вокруг себя. Чего еще от нее требовать?
— Не цыплята, чтоб собирать нас, — сплюнул тот. — Хочу правды, единственной к тому ж!..
— Вот чудак! У нас — десять их, что ли?
Но бугай смело рванулся на красный свет:
— Больше! Районная, областная, какая-нибудь цеховая многотиражка, — перечислял он. — Словом, столько повсюду правд, что пятак свернешь, как пьяный боров. Лучше не ковырять… Но хочется одной, про каждый день и час… А то сижу в гнилухе, света — в полнакала лампочка горит, радио — нет, проводку не протянут никак, ни магазина под боком, ни клуба, чтоб в кино сбегать… Одни правды! Что они мне — светят разве? Странно, не правда ли, гражданин капитан?
— Я тебе о работе, о настоящей жизни… Пойми.
— Не надо! Я только что об этом прочитал… Не без интереса, — отмахнулся он. — Особенно меня заинтересовал следующий факт: заводу выделили три квартиры. Понимаю, что люди радешеньки до слез. Прямо так и пишут: «Со слезами на глазах токарь со станкостроительного принял ключи от квартиры…» Конечно, завтра он попрет на «Ура!» и в неделю своротит месячный план, но я хочу, — неожиданно закричал он, — жить в «Дворянском гнезде». Рядом с редактором этой правды… Он, надо полагать, обогнал меня на целый строй: я сижу впотьмах, как при царизме, а он уже давно перемахнул через развитой социализм. Нет, нам не понять друг друга… Не та дистанция. Мы, мягко говоря, не равны, но хотца пожить рядом, в соседях, как двадцать лет назад, когда переворачивали этот край: я валил лес, он сучки срубал, а жили в одном бараке. Потом что-то случилось. Очнулся — гипс… Вроде так.
«Хреновый из меня воспитатель», — подумал капитан Ожегов. И не одернул даже бунтаря. Зато бунтарь напирал.
— Начать бы сначала… Я бы мог сотрудничать в газете. Господи, про такую правду написать даже моя Алка сможет! — воскликнул он. — И старик этот, обглоданный нашим временем до костей… Втроем бы засели за любую статью о правде.
— Другие газеты читай. Центральные… Они точней… Где баба-то твоя? — не зная, как осадить бунтаря, спросил участковый.
— Баба на работе.
— На свалке?
— Посуду собирает. Она — вечная труженица, — ответил бунтарь, — не в пример другим. А что?
— Не надорвется с такой поклажей?
— Не надорвется, — спокойно ответил супруг той, что, по его словам, работала сейчас на свалке. — Она привыкла поднимать тяжести. Не в Америке живем… Да и не зря бутылки называют «пушниной». Так себе, пух. Вот припрет опять мешков десять…
— Эх, Леха! — вздохнул участковый. — Зальетесь ведь в доску. А молодые… Детей бы завели.
— Нищету плодить? — усмехнулся тот. — Как Томка с Аркашкой. В наше время нельзя допустить этого. Были в детсаду? Видели деток?
— Своих иногда отвожу. Ну и что?
— Ничего. К слову я. Был такой случай, — оживился Леха. — На бывшей работе как-то отправил меня мастак в детсадик. Сходи, мол, обнови штакетник. Прихожу я, значит, туда, настроился — и постукиваю себе, как дятел, а короеды в песке роются, пищат, хихикают… Веселый народец! А когда солнце поднялось над головой да окатило нас светом, тут-то я и разглядел, что в ушах у детей— драгоценные сережки. Да, да! — выпучил он глаза, едва разодрав подтеки. — А те, что без сережек, играли отдельно, в другой песочнице. Но их было меньше… Потому их оттолкнули в сторону. Ну все как во взрослой жизни, то есть в нашей! Без сережек — дурной тон и дальнейшая бесперспективность. Будто на роду писано: этот, в штопаной рубашке, будет каменщиком, а этот, в джинсовых шортиках, возглавит какой-нибудь трест, и та, с крупными сережками, будет заправлять в его бухгалтерии финансовыми делами. Когда я понял это… Словом, мне стало страшно, представил я себе: у крыльца присев на корточки, плакал мой ребенок, а эти, с сережками да в джинсовых шортиках, забрасывали его песком, как шелудивого щенка. После этого я стал много рассуждать о жизни — и не пришел ни к чему. Теперь пьем. Оба пьем и помногу.
— Ты, наверное, настоящей жизни не видел, — помолчав, отозвался Ожегов. — Потому обозлен.
— Конечно! Где нам! Из-за пилорамы одни обрезки видны — не до хорошей жизни…
— Постой, не перебивай! — прикрикнул участковый. — В личной жизни ты свободен… Дело ваше. Но работать ты обязан всегда! Поэтому я тебя предупреждаю… И предупреждаю в последний раз.
— Пожалуйста! Я готов к этапу, — расхрабрился вдруг Леха, с вызовом посмотрев на участкового. — Там, в тюряге, я хоть знать буду: кто есть кто! Если все мрази, то и я мразь, а здесь — потемки… А вы бы, конечно, хотели, чтоб мы с Алкой работали на эту толсторожую ораву не покладая рук?
Ожегов был привычен к подобным разговорам. Он давно приметил, что всякий бездельник обязательно зубаст, его не возьмешь, как говорится, голыми руками. Работяге некогда лясы точить, но этому только тему подать… Он не слезет с нее, пока не загонит… И с ним нужно было бороться, как с грибком, что в два-три года может слопать здоровый пятистенок. Когда народились такие люди? Десять — пятнадцать лет назад? — не просто было ответить на эти вопросы даже такому знатоку, каким считал себя капитан Ожегов, но он не сдавался, решив для себя: с опозданием, но бороться с ними, выжигать до самых корней, чтоб и корни эти выдрать, не позволив им разростись вширь и вглубь. Был и другой метод: попробовать убедить человека в том, что он разваливается, как сгнившее дерево, что единственное спасение — это отказаться от гнили и пустотелости и начать себя заново с крошечного ростка. Об этом подумалось прежде всего капитану Ожегову, и он, щелкнув портсигаром, заговорил:
— Пойми же ты наконец, что без работы погибнешь. Вот старик, — кивнул он на сенки, — даже на пенсию не заработал, побирается теперь, как нищий. Разве это жизнь? Нет, конечно… Во-вторых, о какой толсторожей ораве ты говоришь? Не пойму никак.
— О местной власти говорю. Я работал на них столько лет, но сижу в болоте. Да и вы, — сплюнул он, — надо полагать, на хозрасчете. У вас тоже план: чем больше наловите нашего брата, тем сытнее жить будете. За счет таких, как я, держитесь на плаву…
— Заткнись ты, ско… — едва не сорвался участковый, но сжал челюсти. — Они же заработали это всей жизнью.
Но бунтарь входил в раж.
— В том и дело, что они — жизнью, а я — горбом, — хрипел он. — Они всей жизнью, а я одним горбом… Построившись в центре, они как бы четко объяснили мне, кто я таков, презренный раб… Не спорю: пусть Алка метет улицы перед выходом этих персон, но я не хочу, не желаю-у… Да, я пью, — соглашался он, — и буду пить, пока кругом — ничего, кроме питья. Жрать не дают, зато ярмарки устраивают, на которых продают китайские халаты. Понимаете, — оживился бунтарь, — я выкатываю на бан голодный и с голой ж…, но зато в богатом халате! Как Шукшин в «Калине красной»…
Ожегов, откинувшись на ящике, от души расхохотался. Конечно, он помнил эту богатую ярмарку, где даже Томка выторговала своему рыжему амбалу великолепный китайский халат.
За неделю в местной газете объявили о проведении этой ярмарки; заодно планировалось проститься и проводить на заслуженный отдых зиму, которая порядком надоела северянам. Снег сошел, накатила следом привычная грязь, сжирая дороги.
Под воскресенье на стыке города и Нахаловки выросли торговые ряды, украшенные кумачом. С утра повалил народ, который в импровизированных воротах встречали клубные работники, напялившие на себя русские национальные костюмы. Баяны рыдают, барабаны бьют, скоморохи сыплют частушками, как золотой крупой, но толпа рвется на запах, ее не обманешь. Когда ротозеи привалили к месту торговли, чтоб получить обещанное редактором, то выяснилось, что чай выпит, а пельмени и блины съедены еще при открытии ярмарки, что весь этот процесс заснят уже на фото- и кинопленку. Получилось так, что людей оставили на бобах, хотя они целую неделю готовились к выходу на ярмарку, как, наверное, не готовятся к выходу из тюрьмы. Но ковры и халаты все-таки не исчезли. Надо было их брать, и все кинулись к прилавкам. Томка же, о которой все в Нахаловке говорили просто: баба с козырем в башке, — ринулась на красный цвет томатов. К пятилитровой банке помидоров придавались пачка индийского чая и пачка с броской надписью: «Обдирные хрустящие хлебцы». Но и тут ее «козырь в башке» дал о себе знать… Она не смогла, как все, отовариться молчком, встала на дыбы:
— Где колбаса? — спросила она продавщицу. — В городе такой мясокомбинат, а колбаса — где?
— На Север отправили, может, — спокойно ответила та, поправляя сползающие лямки народного сарафана. — Туда же все отсылают — рабочим.
— Не ври! Я только что оттуда, — напирала Томка. — Шаром покати, языком пролижи!.. Брату картоху отсылала посылкой, а ты — на Север, работягам. Где колбаса?
Пока они выясняли вопрос с колбасой, народ разобрал томаты, и Томке пришлось, расстроенной и ворчливой, идти к лицевому ряду — к коврам и халатам. Она, оглянувшись на мужа, заявила:
— Ковер не по карману, так хоть халат тебе куплю. Китайский!
— Тише ты, дура! — прикрикнул тот. — А то ведь опять утартают в психичку…
Без намеков, прямо в лоб осадил он супругу, которую действительно недавно в очередной раз после излечения выпустили из психиатрической больницы к семье. Но Тамара не обиделась, а доказала своему ненаглядному, что она умней его: оторвалась от него на пять минут и халат купила — яркий, махровый, с атласным воротником и манжетами. Вечером Аркадий, пьяный в дугу, бегал в этом халате по Нахаловке и орал:
— Чем я хуже людей? Нет, я не хуже людей!
И лихо отшлепывал волосатой ладошкой по грязному голенищу резинового сапога. Ожегов едва его успокоил и уложил спать. Зато Тамаре выговорил:
— Халат взяла, а водку зачем? У вас же столько детей… Лучше им покупку бы сделала, а не этому старому пердуну.
— Там больше ничего не было, — оправдывалась Тамара. — Вот и решили обмыть халат. Впрочем, мои деньги, — накатило на нее, — хочу потрачу, хочу так сжую.
— Вот и поговори с тобой, — вышел он из ворот, и обидно ему было, что торг устроили на час, а винища продали, пожалуй, на всю ночь. Опять до утра придется усмирять и уговаривать этот бесшабашный народ.
— Смеетесь. Верно говорят: кто смеется, тот дольше живет, — проговорил Леха, обращаясь к участковому. — Вы еще поторчите на этой земле.
— С вами поторчишь, — не мог тот избавиться от смеха, навалившегося так некстати. Но, видно, Аркадий стоял в глазах: огромный, в шикарном халате, но в забрызганных грязью болотных сапогах. Попробуй отмахнись от такого…
— Ты прости, — наконец выровнялся он. — Я не над тобой смеюсь… Так, вспомнилось. Но тебе скажу: оглядись — люди живут! Вон Тамара с Аркадием…
— Нет! Как они, не хочу, — отбивался Леха. — Это ж нищета! На задницах — одна естественная, остальные дыры… Словом, нищета. И радости им не видать, как своих ушей.
— Потому и убеждаю: работать надо, воротить. Тогда только никакой бедности не будет.
— Ну давайте, пойду работать за сто пятьдесят рэ, — вроде как согласился тот. — Теперь — раскладка: оклад сто пятьдесят, а ковер — тыщу! Понимаете? Все равно не догнать народ, который вовремя успел набрать скорость и оторваться от нас. Мы — на первом, они — на шестом обороте и все рвут, рвут… Богаче они впятеро, но что толку? — грустно улыбнулся он. — Деньги — сорняк, которым кормятся торгаши, а человеку… Дай бог выжить.
— Как так можно? — поразился участковый, но не воскликнул, а спросил: — Как так можно? Живете вдвоем, любите друг друга, а вот жизни не построили никакой.
— Какая, на хрен, любовь! Она мне, — вспомнил он о жене, — не любовь, а костыль. Иду, опираясь на нее, чтоб не упасть… Тоски боюсь. Тоска приходит на трезвую голову…
— Бедные люди! Убогие люди! — возмущался Ожегов. — Неужели вы не видите, как уроды или смертельно больные рвутся к жизни? Кажется, у человека рак, завтра он, может быть, не поднимется больше с постели, но смотришь — с утра колупается в клумбах, цветочки поливает. Какая воля к жизни! Думайте, вы же здоровые люди. Стройте свое счастье, и никто его у вас не отберет.
— Сейчас Алка припрет мешков десять, — ухмыльнулся тот, — перемоем бутылки, оттартаем в приемный пункт, купим бормотухи — и начнем строить счастье. Прибалдеем, так скать. Может, даже разок согрешим. А утром — опять на свалку. Вот и весь сюжет.
— Нет, брат во Христе, — покачал головой Ожегов. — Надо тебя треножить, пока ты не помял чужие хлеба. Не признаёшь мира, но мир трудится и живет. А если где-то загнивает, то ведь, сам посуди, не без помощи таких, как ты. Вы, прямо сказать, и есть гнойники. Так зачем обвинять людей в каких-то грехах, если сам ногтя их не стоишь? Они живут лучше, они заслужили… Бывает, конечно, ошибаются, но… нам ли судить об их промахах?
— Не нам, конечно! Но не скрою своей радости, — не испугавшись угрозы, начал Леха, — не скрою… Рад, что до этой жировальни, судя по слухам, скоро доберется одна — центральная «Правда». Сколько можно обманывать людей? Вчера там вычитал, — не успокаивался он, — разогнали один подпольный трест, а сегодня уже по червонцу навесили. Поразительная оперативность. Наконец-то. И в эту «Правду» веришь.
Ожегову не хотелось больше тасовать крапленую колоду, и он, совершенно успокоившийся, спросил:
— В гараж не ходил?
— Зачем? В какой, к черту, гараж? — растерялся бунтарь. — Автобус, что ли, распилить… Я же не водило, а рамщик.
— Верно, ты не водило! Ты, Леха, мозгов не имеешь в башке, — с прежним спокойствием произнес участковый. — Разве так может рассуждать нормальный человек? Нет, ты убог… Не растрясай, не растрясай этой газетенкой блох, не в ней — истина. В твоих поступках или проступках.
— Вы ошибаетесь! Истина не во мне, а в этой штуке, — кивнул он на газету, которую не выпускал из рук, как самокрутку. — По ней я сужу о жизни нашей! Хвалят хлеборобов — значит, с хлебом не выходит, бранят кого-то — значит, человек заикнулся о больном, о том, что его ранило. Такой расклад. — Сегодня даже дикция, подводившая его прежде, не теряла своей четкости и крепости. — Мне, как внимательному зрителю, все видно и понятно. Прежде до седых волос зарабатывали почет и уважение односельчан, а теперь — вот! Мужик, разбаловавшись на грамотах, стал требовать материальных благ: грамот, мол, полно — я заслуженный человек, поэтому требую сальца к выпивке.
— Опять ты погнал гусей.
— Ни хрена подобного! — горячился Леха. — До семидесятых годов мы в леспромхозе вламывали за одни грамоты. Шутка ли — тебе, зашапочному дураку, оказывают почет: вручают принародно Похвальную грамоту! Да я за эту праздничность выбрасывал по пять норм и ничего взамен не требовал. Ничего!!! Почетом был сыт, как и те, мне подобные… Потому страна богатела. Но стоило только мне запросить того, что показывали в кино… Словом, по шапке мне, козлу, по шапке! Даже грамоты не спасли. Кого дурить, гражданин капитан, — ухмыльнулся он. — Меня, волка, дурить? Ну, строились на Лебяжьем, объедали народ, — вспомнил он опять о «толсторожей ораве». — Ну, кутили бы дальше втихаря! Нет, выползли на глаза… Точно глаза — медные пятаки… Сволочи! Разве это партийцы? Разве это правда?! Одни лозунги для таких, как я… Но грош им цена, если даже я, полуобразованный, допер до истинного смысла, — чеканил он. — А вы, кстати, не представляете себе такое: несется, допустим, быстрая конница на врага, а впереди — в высокой царской карете, захваченной в бою, едет сам Семен Михайлович? Ну, представьте себе хоть на миг! Смеетесь.
— Ты меня уморишь, — признался участковый. — Всяких слушаю, но ты неисправим… Впрочем, мысль верная, а вот изложить как следует не можешь. Тупеешь с вина. Признаёшь?
— А чего тут излагать?! Хреновенький театр, — не смутился тот. — Этого даже печать скрыть не может… Того и гляди, выйдет редактор на улицу в наполеоновской треуголке. И представляете, — она бумажная! Но разве докажешь ему, что она действительно бумажная? Разве докажешь ему, что в газете самый уместный лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»? Где там… Они же давно опозорили его всеми этими лицемерными «Партия — наш рулевой!» или «Слава партии!». Спрашивается, на кой нашей партии такая слава? — не унимался он. — Дошло до того, что в хлебном магазине вывесили на стену моральный кодекс — Кодекс строителя коммунизма! Неужели мы так отупели? Не люди — чайники… И ведь печатает этот чайник.
Ожегов не перебивал его. Он по-прежнему сидел на ящике и с прищуром смотрел на эту злополучную газетенку, с редактором которой его сводила судьба.
— Если интересуетесь ею, — будто перехватил его мысль бунтарь, — то вот, смотрите: материал — перепечатка, даже фотографии. Правда, последняя страница своя. Кто еще такую глупость напечатает! — он разгладил газетку на коленях. — Вот, полюбуйтесь. На Севере план «горит», здесь жить негде, а тут: «Будьте осторожны на воде!» К чему? До воды еще, как до Египта раком!.. Если газета, как вы говорите, связывает людей, то прямо скажу: хреновенькая эта связь, гнилая. Разве нас с вами свяжет она? — ухмыльнулся он. — Даже нас с Алкой не свяжет! Да, мы привыкли к более очевидной связи — половой… Ха-ха!
Противный, какой-то болотистый запах исходил от этого человека. Ожегову хотелось встать и уйти, но он, сморщившись, протянул руку к газете. На «своей» странице пестрели под разными рисунками крупные надписи: «Граждане, учитесь своевременно плавать!» или «Родители, до купания посоветуйтесь с врачом!» Едва просмотрев страницу, он наткнулся на знакомую фамилию в рамке… Нет, редактор был жив, и рамка не была траурной. Ожегов понимал это получше собеседника, но не имел никакого права говорить с ним на эту тему. Не всегда это можно было делать, главное — не с каждым из тех, кто проживал на его рабочем участке.
Именно к этому редактору капитан Ожегов обратился однажды с письмом, в котором просил его приехать и осмотреть пригородный район. Он писал, что люди здесь до сих пор живут без нормального электричества, сидят в потемках и без радио, что район абсолютно неблагоустроен: нет магазинов, аптек, спортивных площадок для детей нет, не говоря уж о детсадах и школах; что даже в хорошую погоду ни пройти, ни проехать по этой стране, Нахаловке, с населением, давно перевалившим за пятитысячный рубеж. Но редактор почему-то не приехал, не написал правдивой статьи о жизни людей, погрязших в этом болоте, как, впрочем, и в пьянстве, чтоб обратить хоть так внимание властей и общественности, которые, по разумению Ожегова, обязательно должны были вмешаться в ужасную ситуацию: не грибы же гниют, а люди. И все осталось по-прежнему, как три, как четыре года назад… Почувствовав себя одиноким, писать он больше не стал никому, не пошел никуда с жалобой, потому что понимал: эту землю не станут благоустраивать ради того, чтоб через год продать ее с потрохами строительным организациям, которые, разместившись в городе, наловчились прятать свою бесхозяйственность на окраине, как в загашнике: что сгноили, отвозили сюда — с глаз подальше, не рискуя отправлять сразу на свалку. Но засело в его упрямой голове: если какой-то вопрос не решается в пользу человека, то вряд ли он может решиться и в пользу государства. Будто пчела ударила в висок и никак он не мог нащупать жало, чтоб выдрать его. Голова болела, и он объяснял это по-своему. «Не даю ей отдыху, — заключал участковый, — она всегда работает, даже когда сплю. То сено кошу, то лес валю, то утопающих спасаю, бросаясь в полынью… Но не наяву же! Не выживаю ли я, грешный человек, из ума? Все может быть, все может…»
Между тем время летело. Все забывалось, кроме лица этого редактора. Сколько раз он встречался с ним, когда проверял сержантов, дежуривших в просторных — на пять квартир — вестибюлях «Дворянского гнезда».
Район «Дворянского гнезда» был тихим, зеленым, с прекрасно оборудованной детской площадкой и шикарным подъездом. После проверки постов Ожегов любил посидеть среди акаций, радуясь свежему утру. Вскоре появлялись и первые квартиросъемщики. Один выкатывался и попадал прямо в «Волгу», другой пробегал метров тридцать для зарядки и тоже заваливался в служебную машину, третий… Человек девять выходило за утро на улицу, не считая, конечно, прислуги, провожающей капризных чад в спецсадики или в школу. Остальные, по всей вероятности, занимались какой-нибудь научной или писательской деятельностью, поэтому сидели в своих кабинетах, набрасывая новые главы повестей и романов, драм и поэм о нефтяном Севере, о его героях, составляли сметы, проекты, приказы и другие официальные бумаги, — словом, работали. Не одну зиму напрочь источила весна, не на одной весне, как на опаре, поднялось лето, чтоб вскормить осень, а в жизни города ничего не менялось, как, впрочем, и в жизни «Дворянского гнезда». Но раньше всех выходил на свет божий редактор, а по сути дела — писатель, издавший не один роман и для взрослых, и для детей. Он очень следил за своим здоровьем, поэтому вставал рано и пробегал по холодку две-три тысячи метров. Жизнь ему полюбилась до свежего румянца на щеках, до легких строк, сочиняемых прямо на ходу:
А я, как в юности, иду на шестьдесят втором году!Плотный, полный здоровья, бежал он к реке, точно наперегонки с эпохой. Через час возвращался к дому того краше! Румяный, подтянутый, как капрал, полный творческих сил, довольный: знать, намотал, накрутил на стержень нового сюжета нескольких «железных» героев. Теперь нужно было записать. Но сколько бы тысяч километров он не пробежал по родному городу, капитан Ожегов точно знал, что ни разу его маршрут не пролег через Нахаловку, в которой он мог бы выловить без труда не одну злободневную тему. И ловить не надо, сами напрыгают, как лягушки, в приподнятую полу иностранной куртки на меху. Да, он в любое время года больше всего боялся простуды. Так и жил, заглядывая в жизнь, как в колодец, но не черпая из него: воду подавали из скважин, кипятили на совесть…
Ожегов скомкал газету и швырнул под ноги. Потом он поднялся и, оттолкнув ногой ящик, глухо произнес:
— Так мы с тобой ни к чему не придем! Судить мастера, но разве ты или я поднял этот край из трясины? Они же, как ты говоришь, орава…
— Я тоже работал… На пилораме, сквозь нее тайгу пропустил, можно сказать, — отозвался Леха. — Пилы сносились, а я живой. И ни черта не имею.
— Ты не завидуй им, — проговорил Ожегов. — Сам виноват, если будущее сменял на водку. Такой сделал выбор. И хватит критиковать, надо очищаться…
— Ну, конечно, ваше «надо» для нас звучит как указ, — посмотрел он исподлобья на капитана. — Мы и милиция — давно не друзья; прежде, говорят, вы были народной гвардией, верней — так планировалось. Теперь же я знаю: нам нельзя сойтись один на один! Вы — закон… Но если б сошлись и я выиграл? — спросил он и сам же ответил: — Тогда бы я был прав, и тоже бы призывал вас к жизни, которою жил бы сам. Но нет, мы в разных мирах веники вяжем! И я не хочу опускаться под вашим давлением до щенячьего визга, не желаю…
Ожегов промолчал.
«Что же я рву свое сердце? Во имя чего?» — думал он.
— …Я на пилораме работал и кроме грамот ни черта не получал, — продолжал, оказывается, бунтарь. — Теперь мне ничего не надо. Даже от почестей бы отказался.
И Ожегов будто только сейчас разглядел его: в грязных брюках и рубахе, с опухшим лицом, он ничего, кроме брезгливости, не вызывал в этот миг, и капитан, вздохнув, решительно заговорил:
— Ну вот что! Поговорить мы с тобой поговорили по душам, как свояки. А теперь ты один переговори со своей ненаглядной. О чем? Сам знаешь… Но если через три-четыре дня вы не устроитесь на работу, то я сам помогу вам устроиться, так сказать, по блату! — голос его окреп. — Я тебя рвать зубами буду и куски твоего гнилого мяса глотать, чтоб собаки не отравились. Я тебя зарою в этом огороде, как дохлую крысу!.. Я тебя искрошу, поганку… — побледнел он.
Бунтарь, перепугавшись, отпрянул к стене. Таким он еще не видел участкового. Всегда с шуточкой, прибауточкой, разговором. — теперь он стоял бледный, как бы схлынувший с лица. Точно моль переточила в нем эту добрую нитку, и он, не справляясь с болью, налился мгновенно злобой, готовой вырваться наружу. Паясничать больше не хотелось…
Хлопнула калитка. В сенях закряхтел старик, не решаясь пока выйти к квартиранту. Скворцы задыхались в трескотне, как будто пробовали настроить глотки на более нежные звуки. Из-под крыльца выползла собака, и Леха, нашарив ее рукой, вцепился в загривок. Он оторвал собаку от земли, усадил на своих коленях, а когда на его глазах появились слезы, то, содрогаясь всем телом, прижался к ней лицом, точно хотел зарыться, спрятаться в грязной и жесткой шерсти. Она даже не успела лизнуть его, и влажный язык по-змеиному вспыхнул и мелькнул в воздухе, едва ли достав до виска. А он сжал ее в своих корявых руках, как подушку… Может быть, только она могла понять ту трагедию, что произошла с ним, и только ей виделась рухнувшая судьба хозяина…
4
Тихону не о чем было разговаривать с самим собой, все уже давным-давно перебрал и столкнул с души. В последнее время, правда, пытался ответить на один вопрос: кто он здесь, дармоед? Но, не разобравшись толком, как бы в спешке, начинал оправдываться перед самим собой: нет, я работаю. А если перевести эту работу на рубли и копейки, то просто так не поймешь, кто из нас двоих дармоед. О своей судьбе он уже давно не рассуждал никак, будто захоронил ее, поставил сверху крест да и забыл поминать, привыкнув жить одним днем.
Сегодня он в одиночку справлял новоселье и сидел за бутылкой, изредка прислушиваясь к посапыванию жены. В бутылке еще оставалась водка, когда он, не раздеваясь, завалился на диван. Тот даже охнул, как охала всегда Клава, бросая косой взгляд на мужа: «Куда ты во всем-то, охрядь! Разденься, сними с себя эту шкуру. Самому же легче будет…»
Вскоре он забылся, но не умолк. Даже спящий он не умолкал: всегда за кем-то бегал, от кого-то отбивался во сне. Так было и сейчас. «Куда ты, стервоза? — кричал он, вцепившись в подушку. — Нет, я тебе не прощу. У, сучий мир!»
Через каждые полчаса он вскакивал, чтоб налить стопку и выпить и откинуться на диван. Сигарета дымилась в руке до тех пор, пока огонек не обжигал пальцев, подобравшись к ним вплотную. Тихон, очнувшись на миг, швырял тлеющий окурок на стол. Час, другой… Вскочил, выпил, не почувствовал ни горечи, ни крепости водки, отвалил от стола. Вскоре бутылка опустела, и он, слив последние капли, простонал:
— Фу-ты, грыжа! Вроде пустая… Совсем пустая.
Простонал, казалось, с облегчением, будто сам был доволен тем, что она пустая.
Опять забылся. Очнулся от духоты, покрывшей его потом, и сбросил с себя все: остался в носках и в длинной, как ночная рубаха, майке (жена сшила такую). Когда озяб, вспомнил вдруг о жене и тотчас же отправился к ней.
— Ты где? — босой, в длинной майке, простонал жалобно он, входя в спальню. — Ты где? Я не могу без тебя… — И подошел вплотную к постели, дохнув в темноту.
— Ух ты! — очнулась Клава, защищаясь рукой. — Не дыши на меня! Кошка, что ли, у тебя во рту окотилась… Убирайся, убирайся, опоек! — пыталась оттолкнуть его рукой, едва видимого в темноте. — Убирайся же!
Он покорно побрел в комнату.
При виде окурков и пустых бутылок на столе его передернуло. Он вспомнил о недавнем застолье, даже чувство подхватывающего опьянения на миг возвратилось к нему, и хмель, согревавший изнутри голову, прихлынул ко лбу. Скоро вернется боль…
«Хреново без хороших соседей, — с грустью подумалось ему. — Так бы вышел, хоть за бражонкой сходил бы! Не надо, господи, водки… Не до хорошего, как говорят, — молока бы с крошками! И не пил ведь столько, не пил ни грамма — и вот, как в отместку…» Надо было прилечь.
В четвертом часу, намучившись в ознобе, он на газовой плите вскипятил чайник, потом выпил стакан заварки и как бы задремал. Разбудил его, вернее насторожил протяжный утробный стон. Ничего не соображая, он с трудом оторвал от подушки отекающую, как ушиб, голову. Где-то стонали, а ему почудилось, что в спальне, и он, вскочив на ноги, бросился туда:
— Клава! Ты стонешь?
В спальне уже было не так темно, и он увидел, как резко обернулась на голос спящая, но не успела ответить или крикнуть — губы застыли: кто-то стонал во дворе. Сон слетел сразу, и забегали по дому, припадая к окнам, — ничего не видно. И когда Тихон включил свет — по ночам напряжение было сносным, по крайней мере лампочка светила, а не дразнила красноватыми нитками, — жена всплеснула руками:
— Корова же стонет, корова!.. — И так, в одной рубахе, едва запрыгнув в валенки и сорвав со стены куртку, кинулась к двери. Тихон кое-как отыскал фонарик и, жужжа им, вышел следом.
Когда он вошел в хлев и раскочегарил «жучок», то увидел: жена склонилась над чем-то и правой рукой шарит по полу, подбирая сухое сено. Он, подавая ей пучок, заглянул туда: на его курточке, которую Клава сорвала со стены, выбегая, лежал мокрый, дрожащий, весь в клеверных хлопьях теленочек, и она обтирала его сеном. Из-под руки ее, сжавшей пучок, торчала черно-белая головка теленка. Корова тоже тянулась к нему. Но хозяйка, отбиваясь локтем, сама натирала дрожащего малыша, на котором липкая шерсть стала уже виться и поблескивать при свете «жучка». Клаве хотелось, видно, натереть досуха, корова мешала ей, чавкая над самым ухом.
— Да свети же ты! — нервничала она. — Ну, уродина! Сбоку зайди, сбоку.
И Тихон, отшатнувшись, стал светить сбоку. Почему-то сейчас ему вспомнилось — из детства, — что мать вообще не подходила к корове, когда та телилась. Она сама должна была облизать и поставить на ножки малыша.
— Отойди ты, Клава! — волновался он. И у нее, как заметил, руки дрожали. — Отойди… Она сама, сама… Ты ей только мешаешь!
Но та даже ухом не повела, точно это был не теленочек, а ее собственный ребенок, и она лучше других знала, как ей поступать. Корова не отходила ни на шаг, и огромные ее глаза светились в темноте.
— Без сопливых, — отмахнулась Клава, — не тоскливо! Стонешь. Что я ему — хуже делаю?
— Жалко… Ну, не могу я! — продолжал тот. — Ведь такой крошечный он, такой беззащитный!
— Сердце у него… Ты, наверное, думал, что я у тебя глупа, как селезень, — добрела на глазах она. — Нет, родной, нет! Но так надо… Самой же больно отрывать. Городи здесь уголок, три доски прибей… Отсаживать будем.
Тихон вышел из хлева, вернулся с топором и «летучей мышью», выгреб навоз из угла. После он отгородил угол и покрыл пол сухим сеном. Последнее было, но не жалел.
— У-у! — прогудела корова. Всхлипнула даже, но с облегчением, без боли.
— Не дури тут, Цыганка! — прикрикнула на нее Клава. — Чего гудеть. Сиротой не оставим.
Тихон был покорным и исполнительным, о таких мужиках и мечтают хозяйственные бабенки. Вот указала, вот ткнула пальцем, а он бежит, с радостью исполняет поручение жены. И всем он был хорош, да во хмелю — хуже всякого дерьма!.. Но сейчас она забыла обо всем на свете, и хоть он дышал перегаром на нее, не кричала: «Избави меня, господи! Налей ему в глотку чего-нибудь такого… Нет, его уже не исправишь — конченый человек!»
— Тихон! — попросила она. — Иди ладить пойло… Сгорит ведь корова! Все бы ехали на ней, — проворчала себе под нос, выпроводив мужа, — а кормить некому.
Вернувшись с полным ведром, Тихон молча поставил его перед коровой. Та обнюхала хлеб, плавающий сверху, подняла тяжелую голову и, раздув ноздри, опустила… Вдохнула со свистом раз, другой и, показалось, опустошила ведро наполовину. Но только после этого сделала три-четыре ровных мелких глотка. Уставшая, на вдохе и выдохе, она наконец-то утолила жажду, приглушив огонь в утробе, но не напилась. Язык подбирал со дна ведра последний хлеб. Тихон вышел опять и вернулся с полным ведром. Корова успокоилась, она пила не спеша, часто отрываясь от ведра: сделает глоток — посмотрит на теленка, сделает следующий — и вновь косится… И, будто токи передались, — он задрожал всем тельцем и, вытягивая шею, потянулся на запах матери.
— Каждому свое, — вздохнула хозяйка. — Вот ведь, чертенок, не облизывает мои руки — хоть медом намажь, а к ней тянется. Погоди, сейчас мы тебя отсадим и накормим.
Теленок тыкался мордочкой в ее руки, губы, нос, как слепой. И мир для него, наверное, был еще плотным и теплым, как утроба матери, и в нем, в этом мире, он не успел пока пораниться или удариться обо что-то острое. И вот он, вздрогнув всем тельцем, попытался вскочить на передние ножки, согнутые в чашечках, и не смог. Хозяйка отбросила полу куртки, чтоб он не путался в ней, и прошептала, затаив дыханье:
— Ну, ну, малыш! Поднимайся же! Что ж ты такой пьяный, как хозяин твой… О, холера!
Она отошла на шаг от новорожденного, и теперь все они — Клава, Тихон и корова, — вытянув шеи, смотрели на него, как бы давая ему возможность самостоятельно подняться с пола. Теленочек рвался, собравшись с силами, как из трясины, и наконец вскочил. Ножки дрожали, неровно надломившись сразу в нескольких местах, сам он качался, как маятник, и отяжелевшая голова тянула его к настилу, но не могла пока уронить. Глупенький и слепой, он уставился куда-то перед собой. И тут его занесло, не устоял и повалился на бок — прямо Тихону на руки, который подхватил его, присев, и расплылся в улыбке:
— Куда с ним? Куда? — бормотал он, обращаясь к жене, обхватив теплое тельце.
— Неси домой, — рассмеялась Клава. — Ну, чего стоишь? Неси, говорю, на веранду… Или к себе на диван.
И тот, не уловив в ее голосе иронии, действительно бросился к выходу.
— Тихон, Тихон! Ты куда? Вернись, я все прощу, — кричала она и смеялась, даже слезы выступили на глазах. — Чего ты с ним бегаешь, как с чемоданом? Поезд ушел… Ставь его, варнака, в угол. Неуж не догадался, зачем отгораживал?
Тихон прошел в угол и осторожно опустил по ту сторону перегородки свою ношу. Теленок встал на ножки и привалился к поперечинкам.
— Надо кормить его, — сказала Клава. — А то свалится и разобьется. Жених!
— Ничего. Крепче будет, — улыбнулся Тихон, гладя теленка по голове. — У них своя жизнь. Это только люди могут пролежать друг подле друга, как яйца в корзине, и ни разу не стукнуться. Потому целы, без трещинок.
Но корова не дала упасть своему малышу. Она подошла к перегородке и, вытянув шею, стала облизывать теленка. Облизывала мордочку, глаза, загривок, а хозяйка тем временем, подставив скамейку, начала доить ее. Вспенилось сильное молоко, зазвенело о подойник, и пар, поднимаясь над ним, окутал Клаву: только теперь она почувствовала, как продрогла в своей рубашонке.
Совсем уже рассвело, когда они вернулись в хлев: хозяйка несла подойник, наполовину заполненный молоком. Но теленок не стал пить. Он ткнулся мордочкой в шипучую пену, сглотнул и, фыркая, отскочил в сторону.
— Ты палец ему подай, — посоветовал Тихон. — Снизу, снизу, чтоб как сосок был. Он же не умеет…
— Без тебя не догадаюсь. Ну пей, пей, капризник, — прикрикнула Клава на теленка. — Какого-то лешего роется.
Теленок неуверенно, с дрожью потянулся к подойнику и только тогда дернулся, опираясь на ножки, и окреп, когда дотянулся до Клавиного пальца. Он присосался к нему, как к соску.
— Теперь его за уши не оттащишь, варнака, — улыбнулась довольная кормилица.
Корова, жмурясь по-кошачьи, стояла рядом и лениво пережевывала свежую траву, которую Тихон сегодня напластал в ближних колочках. Трава была вперемешку с крапивой, но корова не отбрасывала ее, поедала с удовольствием— это было днем. Теперь же она, очевидно, насытилась и могла довольствоваться своею «резиновой» жвачкой.
Только тут Тихон обратил внимание на курточку — личную да к тому же еще и парадно-выходную. Отброшенная к стене, она была похожа на задрипанную подстилку: коровья лепеха прилипла к воротнику. «Ну все, кончили», — подумалось Тихону.
Но ни слова в упрек, он даже не обиделся на жену, которая схватила с вешалки его последнюю одевку, чтобы бросить вот здесь, в хлеву… Видно, настолько была сильна радость сегодняшнего события и так она потрясла хозяина, что никакими словами ее нельзя было омрачить, никакими оплошностями — да пошли они корове под хвост!.. И он стоял с сияющим лицом, наблюдая за женой и теленком.
Сегодня Тихон держался молодцом.
— Ну вот, вроде бы управились, — оглядев хлев, с облегчением выдохнула хозяйка. Тот не отозвался, и в наступившей тишине слышно было, как посасывающе неровно дышал теленок.
Сорвалась дужка и звякнула о краешек подойника. Оба вздрогнули и почему-то оглянулись на дверь. С испугом оглянулись, как будто их застали в чужом хлеву. И вправду, знать, не скоро еще привыкнешь к новому жильцу…
В стайке поднялись поросята, завизжали, громко тукая по деревянному полу. Надо было их кормить.
В доме прибавилось радости и света. Тихон, повеселев, как бы даже забыв о похмелье, до обеда провозился со скворечником, который прибил к шесту, а шест — к углу хлева.
— И ведь надо всех прокормить. На работу пока никуда не пойдешь, — точно распорядилась Клава.
И он не стал спорить, хотя руки просили настоящего дела. Может быть, глядя на скворечник и работающих птиц, он приходил к мысли, что счастливая жизнь ходит низко, по самой земле, по грязи и навозу, как в их огороде.
А скворцы, облюбовав новый скворечник, носили в него сухой мох, выдранный из пазов зажиточных пятистенков, клочья ваты, травинки и сорный листок, выбранный из прошлогодней копны, что стояла близ хлева. Птицы работали по-земному, очень просто и понятно, подчиняясь общим законам строительного мастерства. И, возможно, они так же уставали, как устает всякий мастер, отдаваясь полностью работе. Но, судя по их энергичным голосам, они были счастливы и жили не скучней того, кто построил им вдруг этот скворечник.
Тихон, войдя в хлев, осмотрелся со свету. Здесь был другой быт, другой совсем мир. И понимание его было выше и значимей любого полета над землей.
— Ну что, маленький мой! — подошел он к теленку, лежащему на подстилке из сена. — Тепло тебе здесь?
И умолк. Глаза малыша были белесыми, усталыми-усталыми, и такими грустными-грустными, как будто теленок с болью в сердце переживал свое появление на белый свет. Даже клочок клевера, подобранный с подстилки, он обсасывал нехотя, с явным безразличием, как больной.
«Неужели он понимает, зачем рожден? — подумал Тихон, опуская глаза. — Если так, то он конечно же видит близко, как вот меня, тот день, когда его выведут под навес и приколют. Он его чувствует, свой смертный день, он видит меня, но терпит, даже беспокойства не проявляет, не выказывает страха передо мной, перед своим последним часом и мигом, только глаза…»
Тихон начал заговариваться, как в белой горячке. Но сознание у него было ясным, и мысли не путались в голове. Просто они были странными, эти мысли. «Я ведь тоже когда-то родился, — думал он, — и меня вот так же, как его, приняли заботливые руки, чтоб сразу же напоить молоком. Что же я тогда увидел? Не последний ли час своей жизни? Неужели первая капля молока способна на какой-то миг увести человека туда, к его концу, чтобы вернуть назад — к материнской титьке? — рассуждал Тихон. — Наверное, так было и со мной, и глаза у меня были такими же грустными и обреченными, зато мать, ослепшая от радости, не могла этого заметить. Но сейчас я ничего не помню, поэтому не смогу предсказать себе дорогу…»
Корова с безразличием смотрела на них и жевала; послед облепила сенная труха. Но он должен был со временем отсохнуть… Тихону думалось о другом. «Вот же она, — глядел он на корову, — ни хрена не помнит, ни черта не понимает и жует себе, кормилица… Чем больше сжует, тем больше даст молока; или чем больше высосем из нее, тем жаднее она будет уничтожать корма. Таков закон ее жизни».
«А лучше, когда не знаешь, — вздохнул Тихон. — Может, только потому и живешь, не думая о смерти… В противном случае цеплялся бы за каждый миг жизни обеими руками, чтоб не потратить впустую ни одного дня, докатился бы до крохоборства и не узнал бы никогда, что значит не хотеть порою жить, дышать, ходить по земле!.. Здоровый плюет на все».
Покурив на крыльце, он направился к колодцу, зачерпнул воды: нужен был кипяток, чтоб распарить черствый хлеб и комбикорм, к которым привыкли уже корова и поросята.
«Будем кормить скотину, — говорила ему жена, — будут и мясо, и молоко. Деньги, наконец, будут».
И он опять улыбнулся ее железной, неколебимой наивности.
В бачке закипала вода, принесенная из колодца. На ее поверхности появился крупный пузырь. Он был похож на белесый, измученный глаз теленка, точно тот искоса наблюдал за человеком в грязных сапогах.
Ему было тоскливо, со дна, казалось, самой души поднималась похмельная муть и подступала к глотке. Теперь бы он не прочь опохмелиться, выпить стаканчик-другой какой-нибудь бормотухи. Однако денег не было.
Ближе к вечеру он совсем потерял покой, не знал, куда себя деть. Выходил за ворота, но, наткнувшись на колею, заполненную помоями, опять возвращался в ограду. Тошнота не проходила. Он заварил крепкого чаю и почифирил в одиночку. «Хоть бы Роман приехал, — подумалось вдруг ему. — Отвязались бы на денечек».
В стайке завозились проголодавшиеся поросята, и он отправился «затыкать им глотки» хлебом, замоченным с обеда.
Клава задерживалась на работе, и Тихон ожидал ее с надеждой: а вдруг принесет похмелиться? Баба она с понятием, да и теленка не мешало бы обмыть — здоровше будет.
5
Роман исподволь следил за Котенком. Вот он прошел к двери, заглянул в волчок и, повернувшись лицом к зарешеченному окну, запел:
Я прощаюсь с тобой, в глотке — сгусток, как кляп… Проводи меня, мать, на последний этап…Котенок был неплохим парнем, но затаился в себе, как в норе. Не подступишься к нему, не подберешься, а поговорить начистоту хотелось, ох как хотелось. Казалось бы, пустяк, но именно на этом пустяке изнашивал свою дурную башку подросток. Они продолжали жить каждый в своей тоске. «Что же ты, кровняк? — думал Роман, следя за Котенком. — Эх, побазарить бы накоротке». Однако он понимал, чувствовал всем сердцем, что тот не отзовется.
— Прекратить вой! — гулким, как из колодца, голосом прокричали в коридоре. Даже сапогом топнули, и подковка, чиркнувшая по бетонному полу, больно прозвенела за дверью. — Сейчас на кичу оттартаю! Слышите?
Котенку не хотелось ввязываться в перепалку с надзирательским постом, и он умолк, хотя мог огрызнуться: «Че вы мне глотку затыкаете? Я в камере, но душа-то моя… на воле!» Чтобы не выдернули из камеры и не выхлопали деревянными киянками, как пыльный мешок, нужно было смириться. Кроме того, Котенок прекрасно понимал, что тюрьма переполнена, надзиратели издерганы бунтарями всех мастей, потому они не станут церемониться с каждым уркой, уговаривать и смирять по-отцовски… Высунул башку — размахнулись киянкой — и на тебе, заполучи! Деревянные молотки прилипают к лобешнику похлеще кулака.
И Котенок, запахнувшись в телогрейку, начал молча ходить по камере — из угла в угол, от окна к двери. Костыли, на которые он опирался, не раздражали остальных: они были подбиты войлоком, потому не стучали, как молотки, и подчинялись воле хозяина, точно живые. Это были его ноги. На бледном лице Котенка поблескивал мелкий, как испарина, пот.
— Ничего, братва, — успокаивал он самого себя, — первые два года тяжко, а там пойдет — хоть за новым сроком обращайся к «хозяину». Я вам божусь, в рот меня высмеять… Сам по третьей ходке канаю. Точняком я, Зюзик, бацаю?
— Точняком! — свесился с верхней койки Зюзик. — Я иду по второй ходке… Кайфую.
— Кайфует он, придурок, — сплюнул Котенок. — Давай тогда вместе кайфовать. — И запел вполголоса:
Проводи меня, мать, на последний этап…—Мамку давно не видел, — вздохнул Котенок. — Старится моя мамка, отмирает, как болячка. Потому мне, Зюзик, не до кайфа. Но срок я отмотаю, отмотаю… А, фрайера?
Остановившись посередине камеры, он в последний раз с дрожью в голосе, почти шепотом произнес:
— Проводи меня, мать, на последний этап… Ничего, ничего, братуха! — успокаивал он себя. — Сцепи, сомкни зубарики… Мы еще погуляем по «бану».
Глаза его побежали, как у человека, провалившегося под лед. Будто он искал, смирившийся и притихший, того, кто бы помог ему выбраться отсюда… И глаза их встретились. Роман даже вздрогнул от неожиданности: ему показалось, что Котенок плачет. Но тот сразу же отвернулся и шагнул к бачку с питьевой водой.
Сейчас бы выдохнуть: «Кровняк, иди, поговорим! Нет сил больше держать себя на цепи… В душе все пересохло, и жжет, жжет, жжет!..» Но осторожный мышонок упреждал: «Не смей! Убьет… Он же плачет, плачет!» И Роман уткнулся в журнал, чтобы показать всем видом, что он ничего не заметил… Так был упущен момент, о котором он, может быть, даже мечтать не мог прежде. Теперь ему, Роману, хотелось выть. До чего же обидно было терять такую возможность — сблизиться с Котенком. Но Котенок плевать на него хотел и на его тоску, смердящую, как пригородная свалка. Что делать? «Но не мог же я, — прикрыл он глаза, — не мог я пролететь, как чирок… Я надыбал его, нащупал среди этой мертвечины, я! Теперь не выпущу».
Котенок продолжал ходить по камере, не обращая внимания на Писку, присохшего к волчку.
В прогулочном дворике, затянутом сверху металлической сеткой, он просидел вместе с сокамерниками около часу. Просидел, как в гигантском накомарнике. На большее их не хватило… Вернувшись в камеру, он не завалился на койку, а запел своим мягким, но сильным голосом. Ему не хватало гитары, за которую он бы сейчас, кажется, мог отдать три зуба или три пальца кряду, как пробожившийся «баклан». Но гитары не было — кроме домино, здесь ничего не выдавали, и многие коротали день за костяшками. Зато срок скоротать было непросто, даже вчетвером. И он молча ходил по камере, косясь на решетку, грузно впечатанную в оконный проем.
В коридоре загремели тележки, и кисловатый запах баланды расползся по камерам. Котенок успокоился и, не взглянув на Романа, прошел к своей постели. Он отбросил костыли, свернулся калачиком на подушке. Так показалось Роману, который продолжал наблюдать за ним: Котенок занял дальний угол кровати, где лежала подушка, и высохшие на нет ноги сразу же исчезли под его крепким туловищем. Он не двигался.
Писка, дохлый подросток, с огромными глазами на лице-кулачке, припав к волчку, пытался что-то разглядеть в коридоре. Ему не терпелось, хотя котел, судя по грохоту, накатывал — вот он, рядом, через пару дверей, где хлопают откидываемые надзирателем «кормушки».
— Не скись ты, Писка! — с раздражением проговорил Роман, бросая журнал на тумбочку. — Не провезут же баланду… А то смотри, Зюзик тебя посадит на кукан! Ему наплевать, что ты тощий.
Писка оглянулся. Кровяная сеточка выступила на бледной щеке.
— Подавиться, — прошипел он. — Я не скусь, — глянул негодующий подросток на Романа, что затеял этот разговор. — Подумаешь — баланда! Я, может, о другом думаю.
Зюзик промолчал, но Роману хотелось выяснить, о чем думал и думает Писка.
— Не в Дусю ли ты влюбился? — спросил он.
— Нет! Воровок не уважаю, — отозвался Писка. — Хоть сам, сам дербанул…
— Ходики! — поймал его на слове Зюзик. Он раскурил папиросу и с презрением в голосе продолжал: — Понимаете— кража века: часы спер!.. Молчал бы уж.
— Отвали, свол… — хотелось Писке осадить этого наглеца, но он поперхнулся.
Теперь только Писка понял, что его нарочно выводят из себя, и, не ответив Зюзику, отвернулся к волчку. Ему противен был этот разговор, начатый Романом, но тут же вывернутый наизнанку этим носатым брехуном. А может, просто он был сегодня не в духе, потому молчал, как на том суде, когда ему присудили два года, в сущности, за безделку (подростки вообще не признают виновности, особенно те, кто осужден впервые). Даже Котенок, исповедовавший новичка, поразился: «За такую кражу — на кичу? Ну ты даешь, в натуре!» По его мнению, это не стоило и десятка стерлядей, вовремя выловленных в родном Иртыше. Но Писка сглупил, «тасанул сверчка», а молчаливый адвокат не стал «править» положение и твердым голосом произнес: «Держитесь, гражданин!» — чтобы тотчас выплыть из зала, в котором тишина съела все — и сопение внимательных старушек, и монотонный голос судьи, шуршащего подшивкой «дела», и покашливание застоявшихся милиционеров, охраняющих подсудимого (уж такой порядок: охраняй — хоть клопа, если он до боли укусил кого-то, до крови). Только бабка его, опомнившись после оглашения приговора, накричала на своих подружек, сидящих рядом: «За что, господи? Это все вы, — шепелявила она. — Господь, он все равно достанет неправых…» И самому Писке было всегда стыдно рассказывать о своем преступлении, где сути — на грош, и он бы, конечно, рад был промолчать, но камера призывала к чистосердечности: «На суде фаланулся, а здесь — гаси меки? Гони все, кроме порожняка…» И ему приходилось рассказывать. «Ну, прикандехал я, — начинал он, — к бабуле, шлеп-ноге — она у меня хромает — взял часы настенные и прямиком на „тучу“, чтоб продать их и купить мопед себе. В воротах столкнулся с бабкиными подружками — они, облетевшие осинки, посоветовавшись между собой, решили меня сдать участковому. Тот даже обрадовался, увидев меня, и просопел: „Давно ожидаю… И где, думаю, он, шкет, бродит, почему ко мне не спешит, чего выгадывает? Но теперь прямо скажу: „Начинающего воришку — за чугунный нарез!“ Прощайся с миром воришек…“ Словом, грешков накопилось довольно, чтобы получить свои две пасхи. Вот так, — вздыхал он, мучительно предугадывая реакцию камеры, — оказался я среди вас».
«Не будь шаньгой! — успокаивал его Котенок. — Реже грусти, чаще пой, щегол! Тебе нужно петь. А что, в натуре? Только хорошая песня сможет тебя вытянуть до полутора метров. Пой — и прости старух, — продолжал он разыгрывать камерную сценку-импровизацию. — В какой-нибудь церкви отец святой без нас разберется с ними: он знает, какую из них наказать. Верующие — особый люд… Их не надуешь».
«Нету веры! Откуда? — расправлялся Писка. — Все давно провожено… Хотя в церковь они ходят на Панином бугре. Там отец Василий, он тоже безбожник… Но гонит им фуфляк».
«Почему? Что же он, пробожившийся поп?»
«По вечерам ездит на своей „волжанке“ в „Октябрь“ и смотрит там наравне с грешными боевики — секс и трупы! Такой давно развратил весь приход. Такому и веры быть не может».
«Брось! — одергивал его Котенок. — Не семечками торгуешь. И не дрожи, как кролик. Не выдержишь нагрузки, а бабку потом кому? Бабушку-то на кого оставишь?»
«Сама по себе… Сдала меня, стерва, как барана».
«Нет, кровнячок! Ты ей еще понадобишься, — хитрил Котенок. — В жизни всегда так: сначала посадят, а потом начинают посылки слать, передачи носить да на денежный квиточек намекать. Так что верь — понадобишься еще своей шлеп-ноге… Она тебя найдет». «Крепитесь, гражданин!» — в натуре, лучше не скажешь!
Но «гражданин» не успокаивался, воспринимая все всерьез и выкатывал влажные, как голубика, глаза: «Нашли преступничка! Ничего, — утешался он, — я эти два года отломаю, будто на парашу схожу. Но знайте: я вам не гад! — дрожал он всем тельцем. — Придет час — хоть с быком стыкнусь, придет — и стыкнусь! А что? Не стыкнусь?»
И Котенок, и Зюзик начинали старательно поддакивать распаленному подростку, но Роману было не до смеха — он никак не мог понять: сопляк этот по-русски не может связать и двух слов, а «феню» осврил в три месяца и обсасывает сейчас каждую бяку, как ириску! Ну когда успел? И главное — душа это принимает, как хорошую песню.
Не то среди подследственных, не то в этапке, когда осужденных распределяют по камерам, но Писка успел нахвататься верхушек из «феклы» и смело вгонял их в свою речь. Никто его не притеснял, не обижал, как зачастую бывает среди малолетних преступников, не одергивал без нужды по-настоящему… Разговаривали, шутили, и тем, наверное, пока утешались. Молчком, как сова в дупле, невозможно было протянуть и дня, потому что убивали собственные мысли: они, оказывается, как вода, стекали под уклон, образовывая глубокую воронку, которая могла проглотить даже опытного пловца. В тишине — жутко и душно! Дремота. Табачный дым, расползаясь по потолку, желтел, как накипь на стенках рыбацкого котла. Слышно было, как в трубах хрустела вода… Кому-то сустав выворачивали с хрустом, но он не кричал от боли. Роман даже рифмовал:
В трубе хрустит вода. Вам больно? Да?«Кому — вам?» — не отпускал неожиданный вопрос. Как в патрон зажали башку. И получалось, что никому. Среди людей жил, а выдрали, как морковку из грядки. Никто не вступился даже… Кругом — мертвые вершки. Но куда ты теперь с этой обидой, щенок?!
У каждого впереди был срок, а относились к нему все по-разному. «Первоходочники» ожидали чего-то, но такие, как Котенок, старались сразу же как бы рассредоточиться в нем, чтобы потом, по ходу отсидки, не свалиться на один бок. Бывало, что придавит… Но нет, Котенок знал, как ему дотянуть до середины и перевалить через нее, чтоб без одышки приблизиться к желанному звонку. Собственно, уже все было. Надо просто повторить пройденный маршрут и избежать тех ошибок, что совершал по неопытности. Здесь проще.
Писка же по-прежнему оставался слепышом и тянулся за «бывалыми» изо всех сил, перехватывая на ходу и усваивая нужную походку, осанку, жестикуляцию, даже манеру говорить. С миру по нитке. В этом и заключалась вся его жизнь.
«Думаете, сконю?» — горячился он, обращаясь к Котенку. «Брось ты, щегол, — усмехался тот. — Лучше пой. Душевная песня из таких худоб, как ты, делает отличных ребят. Вот, к примеру, я, — в который уж раз вспоминал он. — Выкатил из кабака, топаю. Привязались чуваки. Я не сконил, кричу: „Вы че, в натуре?!“ Сцепились. Оторвался кое-как, отступил на шаг и размахнулся костылем… А когда махнул да посчитал, оказалось — трое!»
Котенок не был приблатненным, как Зюзик, которому без «фени» — угар, но в розыгрышах все-таки не брезговал этим специфическим диалектом. Так и на Писку надавил… Тот даже растерялся и, отойдя к бачку, стал набирать воду в кружку, но цедил ее нарочно по капле, чтоб хоть так оторваться от проигрышного разговора, который его ни в коей мере больше не устраивал. На том и расходились.
Теперь же Котенок дремал, но Зюзик подкалывал Писку, и тот вынужден был приклеиться к волчку, чтобы не опростоволоситься очередной раз. Ему прощали все. Но впереди был срок.
Маленький шкет, он стоял на цыпочках, едва дотягиваясь до застекленного отверстия-кругляша в двери, через которое надзиратели наблюдали, так сказать, за жизнью в камере. Роману даже стало жалко Писку, и он в душе покаялся, что попусту сцепился с ним. Ну, крутится, ну, смотрит — кому же помешал человек! И этот прилип к нему…
К счастью, Зюзик сам отвернулся от Писки, не желая больше выяснять подробности «кражи века». Он валялся на своей постели и смотрел в пол, точно соображая: «Свободу прошляпил: в бегах стреножили, как Сивку, теперь самое время подумать о том, как жить дальше. В камере. Здесь пространства нет, но жизнь… Сама мысль о жизни разрывает голову».
Наступила тишина.
Роман отбросил затертый до дыр журнальчик, когда за дверью, от которой отскочил Писка, заскрежетали запором, раскручивая сложнейшую конструкцию замков. Наконец «кормушка» распахнулась, и в ней показалось добродушное, с ярким румянцем лицо Дуси-баландерши:
— Кушать будем? А, ребятки мои?
Дуся улыбалась.
— Будем, мамка, будем! — подлетел к «кормушке» Котенок, будто и не спал вовсе. Писка притих за его широкой спиной.
— Всегда рада вас покормить, работнички вы мои! — нежно выговаривалась Дуся. — Плотники вы мои, каменщики и слесаря! А ну, подавай миску!
Запарившаяся от беготни, Дуся потянулась за черпаком. Белые ее груди едва не вывалились из разреза блузки… Но и так было видно, что бывшая кассирша не думала даже терять своих внешних данных. Срок сроком, а товар… Работая в тюремной хозобслуге, она не прокурилась насквозь, как проживающие с ней в камере девицы, не высохла в думах о приближающейся свободе, которая должна была окатить ее через полгода.
— Фуры гоните! — прохрипел надзиратель, выглядывавший из-за Дусиного плеча. — Чего вылупились, волчата?
На него никто не обратил внимания.
— Эх, мамка! — стонал Котенок. — Дай хоть я тебя мацану за что-нибудь! Ну, одним хоть клыком… Третью ходку без… О-о! — замотал он башкой, едва не дотянувшись губами до потной груди баландерши. Та вовремя отскочила и шлепнула в протянутую ей миску черпак дымящейся жидкости, настоянной, очевидно, на муке. — Ты че, в натуре! — обиделся Котенок. — Толкаешь, как мастевому. Черпай со дна да погуще, чтоб самый кайфолом!
Дуся провернула черпаком в котле и выловила целую картошину.
— Кушай на здоровье! — по-прежнему улыбалась она. — Суп, конечно, не ахти какой, но густоватый. После будет хорошая каша.
— Хрен с ней, с кашей! — подходя к столу, визжал Котенок. — Но я люблю похавать, чикуха-муха! Жру мало не потому, что не хочу, а потому, что мне не дают. А, Зюзикон?
Зюзик подтвердил, кивнув на «кормушку»:
— Ты прав, как всегда.
— А где у вас карапузик-то? — заглядывая в «кормушку», спросила Дуся. — Ах, вот ты где прячешься, маленький мой! — обрадовалась она, увидев Писку. — Вот ты где! А я тебя, крошку!.. Ну, подходи смелей, подходи, роднятинка моя, — пела она. — Вот так, оть! Как мы ходим, как ходим ножками… Глаз не оторвать!
— Цыц ты, воровка!
— Оть так, оть… — тянулась к нему Дуся.
Писку любили все женщины тюрьмы — и те, что в пересменку драили коридор, и те, что развозили баланду. Кому-то он напоминал, может быть, родного сына, кому-то братишку… И всем хотелось дотянуться до него, погладить по головке, приласкать, просто взглянуть — чтоб унести с собой в камеру и побыть с ним наедине — хоть в мыслях, но как дома. То же тепло. Он им снился по ночам…
Но Писка негодовал, он зверел.
— Заелись, воровки! — подходил он к столу, едва отвязавшись от Дуси. — Нашли игрушку себе… Куски вонючие!
Котенок хохотал. Роман ел молча. Зато Зюзик, не скрывая ехидства, советовал:
— Не распаляйся, карифан! А то язык… Вон какой красный!
Писка, отбросив ложку, сжал маленькие кулачки, но в голове не складывалось достойного ответа, которым можно было бы, как иглой, ткнуть Зюзика. А ответ был очень нужен, потому что в Зюзиной реплике Писка видел прямой намек. «Да что я, чушок? — сопел он, не отыскав ответа. — Ночью запорю заточкой!..» Но ночью он сладко спал и постанывал, когда ему снился нехороший сон, ворочался, с испугом цепляясь за сползающее на пол одеяло. И все же спал. И все спали, надумавшись про себя и навздыхавшись в подушку. В тишине раздавались только шаги надзирателей, подходивших иногда к волчку, да глухо позвякивали связки тяжелых ключей в их руках. Тюрьма спала. Притока свежего воздуха почти не ощущалось, потому тюремные сны почти не прерывались, как забытье, до самого утра. Зато утром, стоило только потянуться лицом к форточке, как свежий воздух окатывал — он бил струей, как из водонапорной колонки, и струя эта была студеной. Хотелось припасть к ней, чтоб напиться досыта. Потом это все уничтожалось табачным дымом и запахом прелого озноба, исходящего от постелей, пропитанных сыростью. Нестерпимо воняла параша.
Дуся привезла кашу. Успокоившийся Писка подошел к «кормушке» и протянул миску. Баландерша положила ему три черпака вместо одного и сверху залила кашу растительным маслом, позабыв о положенной «чайной» мерке: пять так пять! И надзиратель, сопровождавший ее, не запротестовал.
После обеда решили отдохнуть. Не хотелось забивать «козла», и в свои придуманные игры, непонятные посторонним, играть совсем не хотелось. Даже Зюзик забрался на верхотуру, не желая «блатовать» с Пиской.
Вот уже больше месяца они вчетвером сидели в этой камере, ожидая этапа на зону. Этап то собирали, то расформировывали по неизвестным причинам, будто нарочно создавали нервозную обстановку в камерах подростков. Вызывали, выдергивали с вещами в этапку, но через час возвращали назад. Путались в списках, толкали вроде бы тех, но не туда. Крики, схватки, брань… И так весь месяц.
Тюрьму лихорадило. Обалдевшие от безделья и постоянной лежки малолетние преступники активно искали отдушину: они ходили в «поход», протаранив двери спаренными койками (одна радость — побегать с выпученными глазами по коридору да позаглядывать в «кормушки» соседних камер). Контролеры, собравшись на аварийном посту, ловко орудовали деревянными киянками и через пять — десять минут водворяли бунтарей в свободную камеру. Жертв не было. Выбитую дверь чинили осужденные из хозобслуги… Страшней было, когда малолетки затевали свары между собой.
Но в этой камере пока не сходили с ума, хотя безделие поражало их, довалявшихся до пролежней, до бреда, до стона в утомительных снах.
Посредине — стол, с одной стороны — лавка, с другой — три табурета, в ближних от двери углах: параша да бачок с питьевой водой, которую выдавали два раза в день, а в дальних углах, под самым окном — спаренные кровати, где поверху, вместо сеток — узкие полосы из тонкого железа, чтоб матрац не проваливался, и две тумбочки — вся камера, над дверью которой зиял небольшой квадратный вырез с зарешеченной лампочкой, что светила круглые сутки. Иногда в камеру заходил воспитатель, выдавал газету и письма, если они были, оглядывал подопечных: «Жалоб нет?» — и исчезал. Никто здесь не знал ни имени его, ни звания.
Надзиратели поговаривали между собой о новой колонии для несовершеннолетних, которая якобы открылась прямо здесь, на Панином бугре, и туда не сегодня, так завтра должны были отправить всех осужденных и не помилованных по кассационным жалобам. Слухам верили и с нетерпением ожидали этапа: каждому хотелось прийти на зону в числе первых. И это была не прихоть — необходимость, проверенная не один раз самой жизнью. Любой сопляк знал, что только первые берут все в свои руки: и власть, и «козырные» места… А если власть в твоих руках, то ты — хозяин и смело можешь встречать прибывающих следом — они будут жить по твоей воле. Ты — топчешь масть, живешь в кругу привилегированных, а не забитых чуханов, которым предписано — половая тряпка да сапожная щетка в руках.
Но тюрьма пока держала крепко.
Сутки, вторые… Месяц, другой… Как бы пустеет кислородный баллон, что ты принес сюда, и дышать с каждым днем становится все труднее и труднее. Но перед тем как совсем задохнуться, ты вдруг, потемневший головой, вырвешься из удушья — и опять живешь! Легкие твои смирились, ты наконец в своей среде.
Извечный монотонный ход — сутки, вторые… Они, как картофельные клубни, катятся по одному желобу и падают в бездонный мешок. Нечаянный стук в дверь мог оказаться мизерным, но событием, отвлекающим хоть на миг… Ко времени, к его движению можно было пристроиться, даже привыкнуть — проснулся, сходил на оправку, позавтракал; прогулка, обед, домино, ужин, радио, отбой… — но стены давили справа и слева, от окна и от двери — хоть кричи, чтоб отодвинуть на шаг, оттолкнуть эту каменную тишину, переворачиваясь на другой, не отекший бок. Рядом с тобою в этой коробке свободно плодились и размножались, не поддаваясь никакой обработке, липкие мокрицы, похожие на плевки.
Сутки, вторые… Обстановка иногда разряжалась по вине надзирателей. Случалось, что постовые, обалдев от одиночества в глухом коридоре, путали номера камер: выведут кого-нибудь к следователю, а вернут… не туда, и дверью хлопнут. Новичок — какой-нибудь деревенский увалень — и не подумает возразить надзирателю, полагая, что тому видней (странное дело, но всякий новичок в преступном мире сразу как бы теряет способность мыслить и поступать по своему разумению, как будто в человеке заранее откладывается что-то вроде запасного мышления, которое подготавливает его к неизбежной ситуации: оказался под запором — сдайся на милость того, кто тебя запер, и не ропщи. И сдается, и не ропщет, хотя бывает исключение — подросток, коим движет кровь, а не разум), и войдет в камеру, распахнутую перед ним. Случилось разрядиться и сорок третьей, когда в нее втолкнули щуплого, в кирзачах на кривых ногах мужичонку лет сорока пяти, что внешне походил на сельского кладовщика.
Он возник на пороге.
— Кто там? — прошептал Котенок, точно боялся спугнуть гостя. — Кто?
— Хрен в кожаном пальто, — отреагировал Зюзик, и сразу же отрезал гостя от двери. — Проходи, дорогой, желанный… У-ти какой! — подталкивал он обалдевшего кладовщика к столу. — Писка, канай с заточкой к волчку! Не дай боже фугануть… Ах какая прелесть!
За столом смешались все от неожиданности, кроме Зюзика. Но вот и Котенок отреагировал: он быстро вскочил и, навалившись на костыли, приблизился к гостю.
— Цинкуй, пахан: откуда и за что? — выдохнул он. — Прикидоном займемся после.
— Да я, я… Вот… — попытался объяснить кладовщик. — Не в ту камеру я…
— Какая ходка? Первая?
Кладовщик утвердительно кивнул.
— Не может быть! — задыхался Котенок, стараясь расстегнуть верхние пуговицы рубахи. Горло перехватило. Котенку стало невыносимо душно, и он свистел: — Я сразу смикитил, в рот меня высмеять… Этот волчина уже человек пять мочканул и схряпал в бегах. А? Я прав?
Гостя повело в правый угол — на тумбочку с питьевым бачком, но трое, продолжая кружить, не дали ему упасть. Четвертый, закусив уголок подушки, лежал на койке и изо всех сил сдерживался, чтоб не расхохотаться и не испортить этим успешно начатого спектакля, который сочинился сам по себе, на ходу.
И тут Писка, неразумный шкет, разменялся вдруг на мелочевку. Он вцепился в отворот пиджака:
— Дай прикину.
— Да я, я… не ваш… — просто по-дурацки продолжал вести себя кладовщик, и это было на руку обнаглевшей шпане.
— Будешь наш! — заверил Зюзик, прицениваясь к сапогам. — Лопаря скидай! Хромовые они или кирза?
— Не позволю! — взревел Котенок. — Не позволю дербанить человека, пока не выясню: почему без сала вломился? Где сало, хохол?
— Нас хотел схряпать? А! Вали его! — прозрел Писка. В его ручке появилась заточенная ложка, которой они нарезали хлеб, и он размахивал ею перед носом кладовщика. Но Котенок, не желая, чтоб пролилась напрасная кровь, вцепился в Писку и с дрожью в голосе повторял:
— Не позволю, щенок, не позволю! Будем прописывать его по всем законам. Зюзик, — оглянулся он. — Закладывай волчок!
И тут выяснилось, что Зюзик пожадничал, и жадность его сгубила всех. Гость не обронил ни звука, когда с него сдернули пиджак и один сапог, но когда потянули за другой, как бы невзначай прихватив и штанину, он разобрался наконец в собственных губах и, округлив их, затрубил:
— Охрана! Где вы, охрана?
Никто не ожидал такого, но Зюзик… Его сковало воплем, и он, не выпуская из рук сапога, остался в прежнем положении — сидеть на корточках — когда загремели запором. Котенок с Пиской попадали на койки, и хохот, скопившийся в них, прорвался наружу. В камеру ворвались надзиратели и вывели обиженного в коридор, даже не взглянув на обидчиков.
— Пронесло, — хохотал Роман. — Наверное, карцеров свободных нет.
А за дверью успокаивали всхлипывающего кладовщика.
— Ну не хлюпай! — говорил старшина, начальник караула. — Не разорвали же тебя на куски. С кем не бывает.
— Конечно, конечно, — частил тот. — Я так… от чувств… Так.
Его и не пытались особо-то успокаивать. Все знали — до слез рад, что опять находится среди людей, что вернется сейчас в родную камеру, не пострадав в этой, дикарской (о каких здесь говорят мужики едва ли не шепотом от страха), что его встретят тихие и общительные мужики… Большего нечего желать.
А в сорок третьей, отхохотавшись, упрекали Зюзика:
— Пожадничал, фрайер жеваный! Второй раз из-за тебя прогораем, как валютчики. Нет, кровняк, — говорил Котенок, — пора тебя садить на парашу.
— Он нас дуранул! — злорадствовал Писка. — Его надо прописать.
Но Зюзика не прописали. Видать, всем интересно слушать болтовню раскрутчика, только что осужденного во второй раз за побег из колонии, хотя Котенок оценил этот факт весьма невысоко:
— Пришел на зону с двумя годами, теперь же раскрутили на трешник. Совок ты, Зюзимон.
Зюзик, не замечая иронии, самозабвенно вспоминал:
— Зато каков побег! Иду на запретку, проползаю на пузе под самой вышкой, а свобода — как нашатырь! Выруливаю на обочину, слышу — поезд! тук-тук-тук!.. Прыгаю на ходу в товарняк и — качу-у! Какой побег, какой побег, — изумлялся он. — Мамуля моя, какой побег! А небо какое тогда было — во всю Вселенную наждак! Дззы-дзы-дзы! А я качу, качу, качу-у…
Без труда, судя по рассказу, добрался Зюзя до родного города. Пришел домой, расцеловался с родителями. Мать радешенька: сына выпустили через полгода, амнистировали парня! Накрывает на стол, смеются, едят и выпивают на радостях, как именинники. Через три дня Зюзик позабыл, что он в бегах, а в милиции вряд ли даже могли подумать, где он находится, — не может быть, чтоб побежник заявился прямо домой. Но побежник отсыпался и отъедался, дерзко подмигивая самому себе, отраженному в зеркале: «Дави, Славик!..» Впервые ночи мать подолгу сидела перед ним, как сестра милосердия. Сынок вскрикивал во сне, бредил, пытался скинуть с себя одеяло, и матери приходилось сидеть возле него до утра. Ослепшая и оглохшая от счастья, она ничего такого не замечала, что бы могло ее подвести к мысли, что сын вернулся не навсегда, что его в любую минуту, в любой час могут забрать. И Славик вовсю жировал. Наконец он выбрался в общежитие, где его встретила подруга, встретила по-взрослому — с бутылочкой и постелью… Больше они не прятались от вахтерши, допоздна шастающей по комнатам. Влюбленные не желали играть в фантики, как бывало, и жевать, по выражению Славика, сопли, потому что Славик, отбарабанив свое, вернулся настоящим мужчиной и не мог прятаться по углам, как какой-нибудь сопляк. Так о нем говорили и сверстники, не знавшие тюремной тоски. Славик это понял сразу и озаботился тем, чтобы не пасть в их глазах. Надо было взрослить себя, и он придумал — как.
Просидев день с родней и порядком «уколовшись с батей», он выруливал на улицу. Сапоги дорогу знали: они вели его прямиком в общагу к любимой. «Раздайся, грязь, — дерьмо плывет!..» Подростки с уважением поглядывали на него, уступая дорогу. Перед самой общагой, по-воровски оглянувшись, Славик подходил к тополям и сбивал до крови об их грубую кору костяшки на кулаке. Хмель убивал боль, и Славик входил в общагу героем, только что вступившимся за какую-то девчонку. «Надо же! — поражалась вахтерша. — Из тюрьмы пришел, а рыцарь! Наши головорезы вечно только на девчонок и нападают… Проходи, Славочка, проходи!» Славик, окруженный подростками, которым разрешалось побыть некоторое время в комнате молодых, рассказывал: «Я канаю… А их — пятеро! Пристали к соплюхе, та верещит… Ну и кричу: „Куда, волки?“ Пошла масть… Бац!.. Обидно, что опять козонки сбил. Но ничего, я научу вас свободу любить». Нет, он стал кумиром! И юбочно-джинсовая связь сработала: за ним пришли вечером, когда он готовился к выходу на «бан». И взвыла мать… Зато следствие не вымотало его, и суд, рассчитанный на подобный контингент, сработал четко и ясно, как штамп. Но Зюзик дал ему свою характеристику: «Провели производственную планерку, где говорили только по делу. Полемики никакой…» Но и об этом вскоре он позабыл, как о пустяке, не имеющем ценности. Камера напрочь отшибает память.
В сорок третьей не бесились, и надзиратели, привыкшие к этому, даже не подходили к волчку.
Писка с Зюзиком сладко сопели; Котенок тоже затих, подмяв под себя подушку. Роману даже не дремалось. Он смотрел на спящего Котенка, а видел почему-то лицо матери.
Ему опять виделась мать. В последнее время он все чаще и с болью вспоминал о ней и сожалел о том, что она до сих пор не знает, где он находится. А так бы пришла, прилетела по воздуху, поговорили бы, отгребли от себя горячую золу, называемую тоской! Но ему совестно было написать ей, пригласить на свидание. За всю жизнь не отослал ни одной поздравительной открытки, строчки не черкнул, а как оказался в камере — сразу же вспомнил и рот распахнул, чтобы позвать: «Приезжай, мать! Плохо мне, мать!»
Чем-то нехорошим отдает, подленьким. Вот если б в другой ситуации! Но где она, другая ситуация?
О многом ему хотелось поговорить с Котенком, в которого он поверил сразу. Но нужнее всего — спросить: писать ли матери? Если писать, то как преодолеть в себе эту проклятую гордыньку? Многое, многое накопилось… Зато Котенок, имея на руках верные козыри, не спешил покуда их раскрывать, будто не видел равных себе в этой камере. Роману было обидно, он все чаще и чаще злился на толкового сокамерника. Когда тот хохотал, то Роман даже не прятал своего ненавистного взгляда: «Хохочет! Прикололся, сука…» И ни разу ему в голову не пришло, что Котенок, может быть, сам ищет совета: с какого козыря зайти?
И день тянулся. Не один час надо было пролежать до ужина, а там — до отбоя, после которого должно будет отключиться сознание.
И Роман лежал, лежал и пролеживал день за днем, час за часом, минуту за минутой. Сильному и крепкому подростку, ему страшно было просто лежать. Тогда он начинал думать и не избегал уж больше этих проклятых дум. Назло самому себе.
Котенок стонал во сне, скрипел зубами и дергался так, что потревоженный наверху Зюзик приподнимался на койке. Он переворачивался на другой бок и снова забывался.
В коридоре иногда подавал голос надзиратель. У него то ручку требовали, то бумагу: многим в тюрьме не спалось. Попискивал телефон на посту.
За окном просыпались голуби. Они подолгу ворковали меж собой и где-то близко-близко, над самою форточкой, замирали.
Писка улыбался от хорошего сна.
6
До весенних работ в огороде, залитом водой, они решили не терять попусту времени, занялись шитьем. Клава сама перебрала старую швейную машинку, подаренную ей еще в детстве матерью, смазала, пробежала строчку. Старушка работала на совесть.
«Умный человек, — говорила она, — лучше сейчас купит полушубок, потому что дешевле вне сезона. Ты меня слушай, Тихон! Мы с тобой еще вырвемся на международный рынок…»
Из пустых, казалось бы, овчинок, из шапок, заношенных до дыр, из воротников облезлых они умудрялись собрать, скроить и пошить такую вещь, что на городской толкучке их встречали едва ли не в воротах.
— А шапки шьете? — хрипели барыги, занявшие передние ряды. — Мех дадим, платить будем по-барски, а?
— Ну вас к черту! — отбивалась она. — Еще влипнем в какую-нибудь аферу. Нет, что вы, христовые! Я лучше сама, без оглядки на ворота…
А в ворота валил и валил горожанин и ориентировался на ходу, отыскивая глазами нужный товар. Чего тут только не было! Вязанье, шитье, колотье, резьба, чеканка… Сюда можно было принести трехмесячного ребенка и в минуту одеть и обуть его на любой вкус, а обратно увезти в чудесной коляске. Бабы торговали ковры, мужики — унты и полушубки, молодежь приценивалась к джинсам и кроссовкам.
Старьевщики жили скромнее: они раскладывали свой сапожный или портняжный товар-сырец на винных ящиках вдоль забора, опоясавшего пятачок. С ними-то и торговалась Клава.
— Почем рукава, отец? — спрашивала она, подходя к какому-нибудь старику, торгующему остатками тулупа.
— Бери хоть так! — старался выглядеть обиженным и беззащитным ветеран толкучки.
— Так нельзя, — отказывалась она наотрез, прекрасно понимая куда тот клонит. — Вот тебе полтора червонца… За оба рукава! Идет, отец?
— Да чтоб у меня последняя нога отсохла, — протягивал он товар неожиданному покупателю, — если запрошу лишку. Ты не приглядывай, а бери: мездра — куда с добром, хоть видец не ахти какой.
— Конечно, возьму. Не боюсь даже, — рассчитывалась она со стариком. — Хороший купец обманывать не станет, не то что эти — шушера! Правда, отец? Ты давай к следующей субботе готовь опять заготовку.
— Ну, дева! Ты меня разволновала, как рысака, — молодел он на глазах. — С тобой мы поладим. Смотри только, чтоб без мастырок.
— Не подведу… Люблю стариков, — хохотала она. — Со мной да в паре! Через годик будешь спать на матрасе, набитом деньгами. Веришь, отец?
Тихон помогал жене не только на рынке, когда продавали новую вещь, но и дома сидел подле нее. Потрошил старье, скоблил, мял овчинки, стараясь придать им божеский вид. После он собирал рукава, вырезанные по выкройке, и шил на руках.
Кроме стариков, торгующих на толкучке, выручали соседи, с которыми они наконец-то перезнакомились. Соседи несли ей негодные для носки полушубки и отдавали дешевле барыг, почти не торгуясь, хоть каждому была дорога лишняя копейка.
— Работаю, работаю, а ничего не имею, — шипел Тихон, ковыряясь в овчине. — Кому ты все спускаешь? Сыночку своему, что ли?
— Какой все-таки ты… У, змей!
Сыну она в этот год и копейкой не смогла помочь, но не мучилась, потому что знала: в училище он на всем готовом. Заботится о таких государство: не инженеры — рабочие люди нарождаются… И молчать ей приходилось, подавляя вспыхнувшую ярость. В этом молчании она думала о дочери, о внучатах, хотя и о сыне наболело сердце, будто предчувствовало неладное. Тот не ехал… Все теперь, думалось ей, удирают в города повеселей. Что-то есть в этом необъяснимое: живут в селе, все имеют, а удирают нищенствовать! Ни жилья, ни поддержки со стороны, но живут, урча животами, перебиваются с воды на хлеб, и ради чего-то терпят… И все — ближе к суете, к жгучему ядру муравейника.
Недавно видела его во сне… Сын проходил по какой-то грязной улице среди серых домиков без единой печной трубы, а во всю его спину красовался коровий «блин». Она подбежала к нему, хотела сорвать блин, но он не позволил, устало проговорив: «Присохло, мать. Теперь и ножом не отскребешь. Поздно, родная!»
С утра к ним шли, как к старьевщикам. Опять кто-то постучал в дверь.
— Здравствуйте, добрые люди! — вошла крупная цыганка, толкая поперед себя сопливых ребятишек. В глазах — дерзость, вот пойдут шнырять по углам.
— Проходи сюда, — отозвалась хозяйка. Тихон вышел на веранду покурить. — С чем пожаловала, красавица ты моя?
— Клава, смотри, какая овчина! — развернула та потертую полу от полушубка. — Хоть парик шей! Дети спали — не прописали ни разу. Ты уж поверь мне, дуре.
— Дай-ка самой взглянуть.
— Смотри, смотри! — тараторила цыганка, но не спешила показывать товар. — Дорого не прошу: тридцатку навернешь детишкам на хлеб — и на том спасибо! Ох, горе с ними, горе.
— Мездра слабая, — присмотрелась хозяйка. — Развалится, а ты говоришь — тридцатку.
— Господь с тобой! Посовестись перед детишками хоть, — обиделась цыганка. — Развалится… Ну!
Клава покачала головой. Ей всегда было непонятно: зачем человек врет в глаза? Вот хоть с этой овчиной… Видно, считает, что чужому человеку можно врать, выпячиваться перед ним по-петушьи: все равно он не знает тебе истинную цену! Неужели мы все настолько чужие, что человек человеку при встрече руки не подаст?.. И вот врут в глаза, вот врут.
По ее суждению, человек входит в жизнь, как молодой петушок — во всей красе, при всех достоинствах. Потом его потихоньку ощипывают бывалые петухи, чтобы не выпячивал грудь, не отличался от них.
Но что говорить о человеке, если даже весна обманчива, как цыганка. То печет, то подмораживает, то дождит… Капитан Ожегов давно уж не показывался в Нахаловке, запутался, наверное, в новых делах, а может, даже уехал отдыхать куда-нибудь на юг. И вправду, не железный, не ломовик в телеге…
Тихон, загоняя в стайку свиней, кричал на весь двор. Но Клава не прослушала, как звякнула железная «собачка» на воротах, в которых показался старик.
— Тащится, старый пень, — проворчала она. — Прокис весь, чавкун, сгнил. И как так можно жить! Один другого краше…
И таких людей она не понимала, что, дожив до пятидесяти лет, ни разу не споткнулся нигде, зато после пятидесяти — всмятку. Какой уж там возраст мудрости… Старик жил в одной избушке с бичами. Он был слаб, чтоб воевать за свой кусок на свалке, потому кормился в новом микрорайоне города, перетрясая на заре мусорные ящики, пока их не увезли на свалку. Посуду он сдавал в приемный пункт, а овчину приносил соседке. Так и жил в тревогах, опустившийся донельзя.
— Здравствуйте! — кряхтя, вполз он в прихожую. — На улице такая сырость, что коляску не своротишь с места, язви тя. Не идет по глине. И кашляю… Вот тут, под ребром этим, — жаловался он с порога, — гудит, как будильник. Не могу.
Хозяйка, повернувшись вместе с табуретом, осуждающе посмотрела на соседа.
— Бедный, бедный старик! Трудится так, что и в поликлинику некогда забежать ему, в две смены на станкостроительном, надо думать, вламывает. Бедный, надсаженный весь… Ну, проходи! Чего стоишь, нагнувшись, будто в штаны навалил… — предложила она табуретку нерадивому старцу. Голос был у нее грудной, мягкий; послушать было приятно, а уж поговорить — и мертвый кивнет в ответ.
Старик отказался от приглашения.
— Пожалуй, накладешь… Сырость. По глине, — как бы оправдывался он, — ползешь, как блоха. Язви тя!
— Вот я чему поражаюсь, дядя Миша, — не посочувствовала она ему, — вот чему… Сроду ничего не жрешь, валяешься на сырой подстилке в своей берлоге, если те алкаши под пьяную руку не вышвырнут во двор, а какая рожа! Лоснишься даже, как сытый конь. А, дядя Миша? — расхохоталась вдруг она. — Поведал бы мне секрет долголетия. Заплачу по совести. А?
— Да отвяжись ты, репей! — кряхтел тот. — Чего привязалась к семидесятилетнему старику? Никаких секретов, до смерти — четыре шага…
— Да тебя паралич не возьмет. Путного бы человека…
И сбилась, вспомнив, кажется, ни с того ни с сего, прошлую осень. Тогда они три дня кряду засыпали стены, а дождина валил… И, видать, прохватило ее наверху, слегла. К вечеру стало хуже, думала, что умрет, потому и позвала к себе Тихона, который крутился возле «железки»:
— Мертвые не приказывают, а хочется: продай домик, как закончишь, и отвези меня на родину. Приодень прежде, чтоб не стыдно мне людям в глаза… Там не любили таких… — Тихону показалось, что она бредит. — А то дед скажет: это что за оборванка рядом легла? Ленющий народ, голь… Я не помню такой внучки! — бредила она. — Я знаю: и мертвую не простит за такую нищету. А ведь как обидно, как обидно — всю жизнь работала, а ничего не имею, даже приличного платья… На день похорон… Позорище какой… срам… Не топи больше, не топи… Ты меня сожжешь…
Тихон приподнял крышку подпола над головой и вынырнул, как из проруби. На дворе бродил дождь, по-стариковски ворчливый и неопрятный. После того как Тихон прибежал в диспетчерскую гаража и позвонил по ноль-три, прошло два часа… Через два часа прикатила «скорая». А через два дня Клава встала на ноги и еще злее, упрямее налегла на работу. Умирать больше не хотелось, умирать в нищете, когда тебе и пятидесяти нет…
— Щеки у тебя, дядя Миша, скоро лопнут, — вернулась она к разговору со стариком. — Вот помянешь мое слово, когда лопнут.
— Да отвяжись ты, нечистая сила! Без тебя руки разбегаются по сторонам, не соберу никак.
— Нет, признавайся: витамин в ней, в проклятой сивухе, что ли?
— Да ну, язви тя! — отбивался старик. — Не до шуток. Голова закисла, как параша.
— Слышу, слышу запашок.
— И тут гудит, под ребром. Как будто петух долбит по мерзлому, язви тя!
— Петух? — переспросила та. — А говорил, что будильник.
— И будильник…
— Бог бы тебя любил! — хохотала она, навалившись на стол. — Что ты, изробился, что ли? Отвоевал на войне и в пожарку зарылся… Провалялся там на шлангах, работник хренов… Сколько лет? Тридцать?
Старик по-прежнему стоял у порога, не решаясь шагнуть к столу, чтоб присесть. Она сидела вполоборота к нему.
— Пенсию почему не требуешь, фронтовик? — более с обидой, чем с укором взглянула на старика. — И квартиру бы дали без очереди, всем фронтовикам теперь льготы, а ты лежишь в своей бичарне, как тифозник, догниваешь. Давай я куда-нибудь напишу, а? — не отступала она. — Помогу тебе… Знаешь, куда пишут такие, как ты?
— Некогда пока… Вот отмоюсь, язви тя, тогда уж двину. Приду и скажу: принимайте, граждане, бывшего фронтовика! Прибыл за пособием… Десять лет не получал, копил, чтоб забрать все сразу. Вот рюкзак…
— Тебе же добра желаю, — обиделась Клава. — Чего кривляешься? Время ума копить.
— Что ты! — испугался тот, и заморгал глазами, не зная как загладить свою дурацкую выходку. — Разве я против? Как прикажешь… Я всегда готов выслушать разумный совет.
— Вот и не позорь свою седину, хотя бы заслуженную ее половину, — поправила она. — Иди сторожить автопарк. Старушки вон сидят, ручки сложат, ну, как на горшках, а зарплату получают по восемьдесят рублей. Где ты возьмешь восемьдесят рублей?
Старик, соглашаясь с ней, кивал головой. Потом он нагнулся над мешком и зубами попытался развязать узелок на горловине. Будто кланялся, посверкивая матовым бельмом… Веревка поддалась, и старик запустил в мешок свою длинную руку, достал оттуда шапку.
— Гляжу, — пояснил он, — шапка, а кондыря нет. Собаки, что ли, отгрызли, язви их.
Старый, вышарканный каракуль и пара цигейковых воротников, которыми смог разжиться сегодня старик, обходя микрорайон, обещали всем своим видом рубля четыре-пять. Большего он не желал. Но какое-то рабское сомнение, возникшее от сознания полнейшей зависимости, сбивало его с толку: а вдруг не возьмет? Даже руки дрожали, как будто он не нашел эту цигейку, а украл… Старик выглядел жалким. Пропитанное жгучею вонью пальто стояло на нем стоймя, как войлок, едва обозначая грузную фигуру.
— Сколько просишь? — поинтересовалась наконец хозяйка, доставая кошелек с деньгами из кармана, прихваченного булавкой.
— Пятерку, думаю… — отозвался тот. — Воротники неплохие. Один к одному, язви тя.
— Бери пятерку, — согласилась она. — Но вот о чем умоляю: не покупай винища, а забеги лучше в продуктовый магазин. Жрать тебе надо, а не пить всякую заразу…
Она всегда поражалась тому, что прежде, в трудные годы, люди без всякого стеснения мечтали вслух о сытном столе, а теперь вроде бы можно, если захотеть, сносно питаться, так опять аппетит пропал. И что ты поделаешь с таким народом!..
— Шел бы хоть, говорю, валенки подшивать, — продолжала она. — Сапоги ремонтировать, как эти… в будках! Не такие красавицы, да чистят обувь. А ты! Вон какой лось, под потолок… И от старух бы отбою не было, сошелся бы с какой-нибудь бабкой.
— Валенки никто теперь не носит… Сложность кругом.
— Ох, горе! — вздохнула хозяйка. — И вправду говорят: к старости ума не остается…
Она не договорила, оглянувшись на стук в дверь. Еще раз постучали.
— Входите же! Кто там такой культурный? — отозвалась хозяйка, насторожившись.
В распахнутую дверь вошла пожилая, но свежая еще женщина. Она была в старомодной жакетке из черного плюша.
Старик вдруг засуетился, поправил на голове шапочку и, пятясь за дверь, вывалился на веранду. Во дворе затявкали собаки…
— Спугнула опять жениха! Ну, Харитоновна, — улыбнулась гостье Клава, — я тебя ремнем отстегаю! Сниму с Тихона и выпорю.
— Одной покойней в тысячу раз, — ответила та, усмехнувшись. — А тут что? Вшей разводить? Да ну их!
— Не спеши, — подумай… Такого ведь старичину во всем городе не сыщешь. Отмой, отскобли да одень — и хоть верхом поезжай к дочери в гости… Все равно они не катают тебя в собственных «Жигулях». Смелей держись, молодуха.
— Хватит тебе… Шутковать — не шишковать, — распахнула жакетку Харитоновна. Эти проклятые «ш» и показали, что рот Харитоновны давно уже наполовину опустел. Свежесть лица, ладность фигуры и старческий провал рта. И крепкая, и свежая, и бодрая, но — старуха…
Теперь они сидели рядом, внешне даже похожие друг на друга, как двоюродные сестры. Сидели молча. Хозяйка прислушивалась к каждому шороху во дворе, точно кого-то поджидала, но ожидаемый не торопился — один Тихон бродил по ограде и не знал, чем ему заняться. Она, возможно, его не видела, но чувствовала — по запаху, что ли, как не видят, но чувствуют кошки.
И дверь не открывалась.
«Да что же я беспокоюсь, — молчала хозяйка. — Забиваю этим беспокойством каждую клеточку, каждую жилку… Он ведь, если приедет, постучит в окно. Подскочишь, бывало: напугал, чертенок!.. Пугливая какая…»
И тихо, как родничок, ворковала Харитоновна. Будто боялась спугнуть ее думку.
— Ты, Харитоновна, посиди пока, — поднялась вдруг хозяйка, — а я сбегаю — теленочка посмотрю. Какой-то он вяленький у нас, бескровный. Не знаешь — почему?
— Все они бескровные, — ответила старуха. — Сорок лет с ними провозилась… Попервости все такие; зато после, как наберутся силенок — и хвост трубой. Не догонишь.
— Все равно тревожусь, свой же… — не поверив опытной телятнице, она отрезала от буханки ломоть и с пахучим мякишем в руке вышла за дверь. Харитоновна не осудила хозяйку, но ей, вырастившей за свою долгую колхозную жизнь, может быть, десятки тысяч голов молодняка, была непонятна такая хлопотливость.
— А, пускай бегают, — махнула она рукой. — Посля привыкнут, поймут, что скорее боров падет, чем молочный теленок. Нет, этого не свалишь.
Харитоновна, прокуковав с недельку в пустом домике, не выдержала одиночества и отправилась знакомиться к соседям через дорогу. А когда познакомилась с ними да посидела за чаем, да наговорилась досыта, то поняла: с такими ей легко будет водить дружбу. Она к ним привязалась сразу. По крайней мере не ощутила никакой разницы между теми, с кем прожила в деревне, и этими, городскими жителями. Будто и не переезжала вовсе с онемевшей от страха душой в этот город. Переехала, а он оказался такой же деревней: та же грязь, те же люди, даже скот и залитые навозной жижей колеи были теми же. Точно и не переезжала никуда, не лопотала, сидя на узлах, как наседка.
Харитоновне понравилось у соседей, и она зачастила к ним, как к приветливой родне.
— Жует парнишонка, — вернулась хозяйка. — Чуть палец мне не отхватил, едва подала хлеб. Из деревни убежала, так хоть здесь, думаю, надо скотинку держать.
— Бегут из села, бегут, — согласилась с ней старуха. Но в голосе ее не было ни осуждения, ни одобрения. Какой-то спокойный, даже бездумный тон. — И я сбежала: не до ста же лет в хомуте ходить?
— Никто же тебя силой не держал. Пенсия подошла — и на милу печь полезай.
— Вроде бы так… Но шея болит… В тридцатых как надела на нее хомут, так и снять не смогла: прикипел, паразит!
Женщины затаились: одна теребила уголок платка, другая — овчину.
— Рассказала бы что-нибудь, — вздохнула наконец хозяйка. — А то я со своим шипуном намолчалась, и ты — язык в карман засунула. Давай раскошеливайся!
— Что ты! — отмахнулась Харитоновна. — Седьмой десяток пошел, а что скажу? Нечего сказать. Все в двух словах: жила, живу. Девке моей, взять к примеру, тридцати еще нет, но слов, слов… Откуда? — пожала плечами. — Я никак не решу. Что у нее, спрашивается, за хребтом? Десятилетка да техникум! Вот уж поняла, дева, жизнь, вот уж поняла…
— Соскучилась ты, что ли, по ней?
— Да что у них делать? С собакой водиться, как с дитем? На унитазе посидеть… Так у меня свой туалет — игрушечка! Нет, не хочу в такую скукотищу.
Она облизнулась и, поправив на груди кофточку, кивнула на избитую донельзя колоду:
— Сворожи-ка мне лучше.
— На Короля? Так ведь только что уполз дядя Миша, кавалер куда с добром, — раскатилась Клава. Но, чтобы не огорчать старуху, взяла колоду. — И верю и не верю в них… Да, знать, втянулась смолоду.
И колода, тая в руках, пошла гулять по столу. Но карта шла пустая.
— Может, настоечки отведаем, а? — предложила Харитоновна. — Сидим, толкуем всухомятку. — И, не ожидая согласия, юркнула в двери. Хозяйка только руками развела: счастливые, дескать, люди, прямо в доме держат настойку. При Тихоне бы не устояла, вылакал бы в один присест.
— Ему не предлагаем, — предупредила хозяйка, когда вернулась Харитоновна, прижимая к груди трехлитровую банку с настойкой. — Чтоб не втянулся… Хотя, если захочет, он сам найдет, подженится на какой-нибудь дурочке… Не привыкать. — И рассказала, умирая со смеху: — Ведь какую прекрасную роль сыграл, паразит, и как он ее сыграл — диву даешься. Как настоящий жених. Ох, умру…
Тогда Тихон болел, даже страдал, потому что болела и страдала после вчерашней мешанины голова. Утром встал, а глаза не смотрят: окостенели, кажется, во лбу, как пуговицы. Он побрился и выполз из подпола, и Клава не заметила, как ускользнул ее плотник, кричавший всегда во хмелю: «Да мне этот дом поставить — топора не надо! Я его каблуком срублю». Четыре дня не объявлялся рубака, на пятый день сердобольная Алка по секрету нашептала Клаве: Тихон женится. Но Клаву поразило не то, что он женится, а то, что не с кем будет теперь поднять дом. Боль засела в ней: кто же поможет? Волей-неволей пришлось идти к молодоженам по адресу, указанному Алкой. Там и выяснилось… Тихон отправился прямо в промтоварный магазин. В одном из отделов он приглядел жертву: выбрал ту, что тряслась над кошельком, не зная, на что ей потратить деньги. Он, выбритый, с лихим взглядом бывшего офицера, без труда разговорил глупышку. Ох, ах, какая встреча! Может, даже судьба!.. Словом, через час на другом конце Нахаловки он был уже отлично опохмелен, но назад, то есть в подпол, пока не спешил. А девица, узнав, что она настоящая невеста, заказала ящик водки, напекла, нажарила всего и напарила, даже какие-то гости крутились в небольшом, но бревенчатом доме. День, второй, третий… Тихон признается наконец своей невесте ни в чем-нибудь, а в собственном горе. «Не подумай, что я пьяница, — всхлипывал он. — Я на той неделе сестру схоронил, родную сестру! И боль меня сосет, не позволяет расслабиться… Потому я так холоден и безответен с тобой. Какое горе, какое гор…» Срывался он и рыдал по-настоящему. Юное сердце страдало, невеста все понимала… Только одного не могла понять: как это он смог воздержаться от соблазна… медовых ночей? Спали-то они вместе! А он даже руки не наложит на ее молодую грудь. Небольшой опыт подсказывал ей, что так не бывает, и она уже хотела спросить своего жениха, подаренного судьбой: любит ли он ее?.. Не успела — дверь распахнулась настежь, на пороге стояла взволнованная женщина лет пятидесяти. «Ну-ка, милок, собирайся, — выдохнула она. — Че это ты развалился здесь, как барон?! Быстро собирайся!» Невеста тогда поняла, что она обманута. «А вы, молодая свистунья, — продолжала женщина, дрожа всем телом и с презрением оглядывая соперницу, — вы почему добиваете этой водкой больной организм человека? Я вас спрашиваю?» — «Я не пойму вас, о чем вы?..» — «Не поймет она, соплюха, — надвигалась гостья. — Чего тут понимать! Ты думала, что он кавалер… Он же алкаш!» — «Да вы что?!» — «Угробить захотела у меня работника… Он же тебе в отцы годится, дура пустоглазая!..» Тихон выкатился во двор, Клава — следом… А непонятный смех уже раздирал ее, крошил на кусочки: «Жениха нашла… Ох, пустоголовая, ох, пустоголовая! Неуж не видела, кто перед ней?»
Сама она от него ничего не требовала, лишь бы работал да не отбивался от дома. Была молодость, сходила с ума… Теперь жить, жить и трудиться, чтоб радость от этого была в крови. Больше ничего не надо… И Тихон, прощенный ею, исправно трудился по сей день.
— Не сглазить бы! — чуть не сплюнула она. — Вроде бы мужик направился… Чего зря говорить.
Харитоновна возмутилась одними глазами: мол, что ты говоришь, не злые же люди.
Выпили по стаканчику.
— Но одного не пойму я, Харитоновна, — облизнув сладкие и липкие губы, проговорила Клава. — Не пойму, как это молодая, восемнадцати или девятнадцати лет может жить со стариком?! Ей-то какая сласть? Ну, ему понятно… Да убей меня громом, но это не любовь! — рассуждала она. — Это издевательство! Старый мерин сжирает цветок. Прежде хоть нужда была — выходили поневоле, по принуждению, а теперь-то?! Вот бы я разлеглась перед дядей Мишей… Да тьфу ты, срамота! Меня бы стошнило сразу.
— Смотри, и вправду стошнит, — Тихон стоял в проеме без дверей: в кухню они не думали навешивать двери. Он, конечно же, все слышал, а женщины — нет, потому что слишком увлеклись разговором.
— Ах, ты… Губошлепик мой!
— Не подлизывайся, — без всякой злобы отмахнулся тот. — Ты — единственная в России баба, которой разрешается кричать на мужика.
— Фу-ты!.. Какой ты мужик? — сквозь смех проговорила хозяйка. — Ты не мужик. Ты лгун!
Тихон подошел к столу, взял пирожок и, не обратив никакого внимания на настойку, вышел из кухни. Он еще похохатывал в дверях, но Клаву уже бросило в радостный озноб: настойку видел на столе, но даже не заикнулся… Нет, мужик, видно, действительно настроился на добрую жизнь, теперь только радуйся…
— Ушел шаварногий! Ох, лгун, ну и лгун… Таких брехунов, Харитоновна, больше нет. Поверь моему слову.
— Зря ты, Клава, — светилась лицом Харитоновна. — Хороший он у тебя, простой.
— Простой, но брехун… Ведь так соврет, что поверишь, как в настоящее горе. До слез.
Второй час бродили они вокруг да около, толкли воду в ступе. Харитоновна в десятый, наверное, раз пересказывала свою жизнь. Помянула любимого, что ушел на фронт да и затерялся в рядах неофициального батальона походно-полевых жен… «ППЖ», — с презрением и ненавистью повторяли бабы, работающие в тылу. Этот батальон многим принес страдание: мужья сходились с фронтовыми подругами, бросая свои семьи… И тыл взвыл от обиды и боли… Тогда-то, говорят, и обратились многие женщины к самому Сталину с письмом. Мол, так и так, работаем здесь в счет Победы, недоедаем, а на фронте такое… На нашем горе процветают шлюхи… Словом, батальон расформировали. Не забыла Харитоновна и о том, случившемся сразу же после войны мужике, которого она в третью ночь, с обиды, что ли, едва не уходила вилами. Вовремя он нырнул в портки да — ноги в руки! Убежал паразит. От него родила дочь, вырастила, выучила, поставила на всю ступню… Помянула и зятя, и внука…
— У меня-то бы лучше рос, — была уверена Харитоновна. — Не баловала бы сладостями, все бы подряд уминал — и картошку, и сало… Копчу по старой памяти прямо в баньке.
В наступившей тишине выпили по третьему стаканчику. И спеть бы, да певуньи никакие. Харитоновна тяжело вздохнула, опустив, как виноватая, глаза. Хотя перед кем она могла быть виноватой? Труженица вечная и безотказная.
— Ты не поешь, Харитоновна?
— Смолоду не певала, — ответила старуха. — Почему-то не в песню ушла, а в работу.
— Я ведь певунья никакая, к великому огорчению. Хоть Томку в гости зазывай.
Пир не удался, как пирог, который посадили в остывшую печь. Настроение у обеих было с туманцем: того и гляди, что задождит.
Вспомнив о внуке, Харитоновна как бы ненароком повернула хозяйку лицом к собственной памяти, к юности, к ребятишкам… Сейчас должна была, склонив свою красивую голову, вспоминать хозяйка. Так и вышло. А память глубока, не вычерпаешь.
…В подполе было темно, но сухо. Узнав, что он придет домой пьяный — пахал в соседях, — она заранее перетащила сюда постель, крынку молока да краюху хлеба, заботливо приняла ребятишек. Втроем затаились. «Тисе, мама», — шепчет ей в лицо сынишка и пальчиком, едва видимым в темноте, грозит. Он прижался к сестренке, запахнутой в домотканую рубаху, чувствует каждую косточку ее, каждый суставчик. Она, сестренка, худа до бескровности, хоть в семье не голодали никогда, ели-пили вволю.
Час-два ли прогудели в напряженных ушах… Наверху, над самой головою гремит тяжелыми кирзачами отец, разыскивая свое семейство. Он пьян в стельку, но никак не свалится в постель — «Заячья порода, беспокойная…» «Клава!» — орет он на всю избу.
Слышно, как скрипит дверь, — вывалился в сенки. Взвизгнула, как ушибленный щенок, гармошка, покатился по ступенькам жестяной ковш, слетевший с кадки, хлопнули ворота.
«Заяц опять буянит!» — знают в деревне. А Заяц начинает свой пьяный обход с ближних домов. Он будет ходить по соседям, по родне, пока не найдет своих. Шарашится, бранится в потемках, иногда распахивая гармонь, будто на ее звук могут отозваться детки. На этот раз Клава его перехитрила, спрятавшись с ребятишками в подполе, а не в людях. Только здесь они могли отсидеться, среди кадушек с солониной: за картофельной кучей она смастерила временную лежанку: разостлала на плахах два тулупа, а накрылись стеганым одеялом, подаренным доброй и отзывчивой свекровью… Прижала детей к себе. Дочь была слабенькой, горластой, но в подполе, предчувствуя опасность всем своим тельцем, сидела смирно, как мышка, сопела — тоже, видно, прислушивалась. Сын был младше ее, только начал говорить, а ходил: сделает шажок — навзничь, да все затылком, затылком об пол!.. Она не вспомнила бы никогда о том, сосал ли он грудь, потому что свекровка кормила его всегда сама и кормила тем, чем кормила всех. Он всегда молчал, а заговорил — и вот: «Тисе, мама, тисе!..»
Заяц обжигался частенько. По этой причине и жизнь у них не шла. Кому огород вспашет, кому дрова из лесу вывезет — кругом стопка, всюду глоток. Пьяный, он, как коршун, набрасывался на сынишку, подхватывал его и сажал на острое колено, толкая ему в рот дымящую самокрутку: «Кури, сын!» Ребенок не отбивался — наоборот с каким-то интересом мусолил предложенную отцом цигарку. По щекам его катились слезы — такие огромные и чистые, какие бывают только у детей. Не от боли, от едкого дыма. Он прыскал, болтал руками и ногами, будто его щекотали и заваливали на спину. «Сын, — орал Заяц, — кури! Если куришь — значит, мужик! Ну их всех…» Голос у него был громкий, трескучий, словно стужа стояла в горле. «Клава, принеси поллитровку из трактора!» — приказывал он жене. Та выходила в сенки, а он продолжал, не заботясь о том, что его смогут услышать: «Сегодня пахал у Бандурихи — там, возле Васи-мушника. Едва не стоптал корягу старую: ползает к борозде, как грачиха! Какого хрена проверять? Не первый же год пашу ей огород!»
Он плескал на «каменку» и распахивал гармонь:
Я по родине своей Отпою, как соловей… Я на Север укачу, Я тебя озолочу!Это был единственный миг, когда он, как глухарь на току, забывался, и можно было без помех улизнуть, спрятаться в соседях. Нет, она не могла повторять прежних ошибок. Прежде, дура, укладывалась спать вместе с детьми, не дождавшись его. Он приходил и сбрасывал детей с высокой кровати, как котят, прямо на пол, чтобы лечь рядом с ней. Те плакали, ползали по полу, тычась друг в друга, точно слепые, но чутье им подсказывало: рядом мать, близко!.. Не могла больше терпеть такое, убегала заранее… Спохватившись, он отбрасывал гармонь и выходил за ворота, оглядывал сонный переулок, чтобы до утра проползать по нему от ворот к воротам. Бывало, что находил их, случалось, что нет… А под утро, выбившись из сил, засыпал на сеновале. Она будила его на работу, он вставал, умывался и, не позавтракав, шел к трактору. Обед ей приходилось носить ему в поле. И там он молчал, как человек, увлекшийся работой, — хоть бы слово обронил в оправдание. Вчерашнего не помнил, а может, просто не признавал своей вины. И так до первой рюмки, до первого глотка — ни звука, точно накапливал в себе дурость, чтобы отыграться после на собственных детях, на жене. Прожили они под одной крышей около пяти лет.
Зато каким он был прежде! Даже матери своей не послушалась, когда выходила за него, такого работящего да развеселого парня.
«Клава! — умоляла та. — Одумайся! Не ходи ты за него, Зайца. Весь род у них непутевый… Разве он иной? Чудес в роду не бывает, кровь не заменишь парным молоком! Водой не заменишь, — подсаживалась она к окну. — Вон живут, на глазах. Отца, Федулку, возьми. Что он и кто? Да прямо скажу: издеватель! Вечор иду мимо ихнего дома, гляжу — в окне Таня. Съежилась, подобралась вся, как будто прозябла наскрозь, пропиталась инеем до самых косточек. А он плюет ей в глаза своей жалючей слюной! Она сидит, тихая, покорная, только рученькой вот так, вот так — точно кошка, умывается. И не зовет его, не величает никак. Зря, что ли, он шутит в застолье: „Если Таня меня назовет при всех по имени — корову отдам!“ Клава, — стонала она, — одумайся, пока этот губан тебя из рубашонки не вытряхнул. Что ему, Зайцу! Смотри, если сделаешь по-своему, — грозила она, — не дам тебе родительского благословения, недам! Вот так, девка».
Солнце раскачивалось над тальником огромным розовым одуванчиком. Одуванчик, потревоженный ветром, ровно облетал в вечернюю речку, окрашивал воду в нежный цвет. Слышен плеск: рыба играет на мельнице, а может, воду вычерпывают из лодок. Свистели, шлепаясь под самый берег, утки. На высоком, продуваемом со всех сторон яру собиралась голосистая молодежь.
Заяц вразвалочку шел по деревне. Яркая косоворотка, пронизывающие насквозь глаза… Черноволосый, резкий в движениях, он разрывал на вытянутых руках гармонь, словно продирался сквозь густые лопухи, — так и брызгала роса! Сильный, красивый, хмельной… Девки — кругом, парни — колесом! Закружила карусель… А он поет, запрокидывая отчаянную голову:
Надоели трактора, Я махну на Севера! Лишь гармошку прихвачу… Я тебя озолочу!..Клаве в ту пору не было еще и семнадцати. Но работящая, бойкая в мать, девка отличалась от подруг какою-то мягкою, неброской красотой, многие сватались, но мать не торопилась с выбором: не хотела, видно, губить до времени в ней крепкую, «царскую» жилку — такая настраивалась на работу, как струна, и пела, и пела, не зная устали… Дочь вышла в деда. Такую нельзя было сгубить. «Учить буду», — решила мать. Она была настроена решительно. Но самой Клаве с каждым днем все трудней и невыносимей становилось в родном доме, который, уходя, оставил им дедушка…
Семья тружеников стала редеть и вымирать еще до войны. Дедушка, отец матери, говорят, строил дом без посторонней помощи. Матицу в одиночку поднимал: сгребет, как медведь, — и на хребет! «Тятенька! — кричит маленькая дочка, которую он всегда подле себя держал, берег наследницу. — Я мужиков сзову!» — «На кой мне они, — отвечает, — пусть занимаются своим делом… У каждого человека, доча, должно быть свое дело. По сему отрывать не моги!» И вот он шагнул уже под самое небо, бросил матицу поперек сруба… А может, ей только казалось: в чужих руках да при ребячьем огляде волосок — и тот с оглоблю. Но тятенька улыбнется дочке: «Принеси-ка кваску. Горит все внутрях…» Гудела в нем, звенела могучая кровь.
Клава понимала его… Старик направляет продольную пилу и идет в соседнюю деревню наниматься пилить тес. Неделю, две недели стучит, как пилорама, но, глядишь, везет целый воз пшеницы: ешьте, робята! Ради семьи на каторгу, а не на работу шел… Привезет хлеб, а через пару дней наезжают сельсоветчики и, как у кулака, выгребают все под метлу, чтоб увезти в район. Старик идет следом… Так до самой весны и пробегает по начальству, пока не вернут хлеб. Все было. На то она и жизнь, чтобы в ней все было. Хлеб вернули, теперь и стопочку опрокинуть можно, другую… Да, не любил он в дармоедах сидеть, вроде как на бабах ехать, хотя в доме хватало всего — и огород кормил, и скотину держали. Выпьет прилично — и ох она! Добрый, сильный, справедливый, а прослыл в последние годы матерщинником. Однако вскоре самому опротивел дьявольский язык. Говорит зятю: «Ежли хоть раз попрет из меня да ты услышишь — хлещи ложкой по голому заду! Срам, конечно, но спасай душу!» И тот, исполняя волю старика, хлестал, приговаривая: «Ешьте. Хороша кашка…» И старик ел до тех пор, пока не наелся до отвала. Насилу переболел… Потом вдруг собрался в дорогу: «Издергали власти…» — да и убрел в самый безлюдный район, к прежней, наверное, сударке. Была такая…
Бабушка умерла. Ушел из дому дедушка… Новая беда подкараулила их, она вползла в избу, где никогда не попрекали куском хлеба, где гостей привечали, как родню, и вцепилась в сестренку Катеньку… Они тогда остались вдвоем. Мать коня во дворе запрягала, чтобы завезти на ферму корма. И вдруг на крыльцо выбегает Клава, босая, она шепелявит, вытаращив глазенки: «Маменька, гоим, гоим… Катя!..» Накричала на нее мать, загнала вожжой в избу, а сама и не подумала даже войти следом. Торопилась… А на Катеньке вспыхнуло платье — и своя, плотная, добротная ткань сожгла ее, изгрызла, как огненная собака. Клава так перепугалась, что даже кричать не могла. Обгоревший ребенок прожил только сутки…
После — война… И вот уже настроились на встречу с отцом (деревней проезжал цыган, передал от него весточку: мол, живой, нахожусь в госпитале, скоро буду). А госпиталь разбомбили немцы. Отец не вернулся…
От семьи остались рожки да ножки… Клава училась в школе, матушка «воевала» на ферме. Приходилось ей воевать, потому что телята падали с голоду… «Ты у меня заплатишь за телушку!» — кричал председатель. Маленькая, но бойкая телятница не давала себя в обиду. «Нет! — стучал по столу крошечный кулачок. — Сам плати! Что же мне их, грудью кормить?!» Но власть всегда была властью. И платила бессильная труженица.
Матушка была не только бойкой да работящей, но и красивой. Работа не изъела ее, как ржа. Смуглая, коса калачом уложена на голове, ходкая на ногу, а стать какая!.. С такою быстрицей рядом пожить — слез не знать, тоски не ведать!
В ту пору и повадился к ним фронтовик из соседней деревни, молоденький совсем парнишка, но уже израненный. Придет, бывало, и сядет у порога: «Возьми в дом! Верным тебе, преданным буду… Как собака…» — «Куда ты! — отбивалась она. — Я, почитай, на пятнадцать годков тебя обскакала. Не смеши людей…» Отбивалась, но в душе смирилась. Вскоре они сошлись.
— И черт его знает, что с ним случилось! — недоумевает Клава, глядя на Харитоновну. Та слушает, придерживая руками непослушную голову: захмелела, пошла кругом… — Был таким ласковым, масляным, а через полгода озверел, хлеб стал из рук вырывать. «Че, че столь мнешь! Роблю, роблю, а ты мнешь!..» Сроду меня никто не обижал, не попрекал куском, а тут… Обидно до слез. И матушка не вступится, сама, видно, не поймет, что творится с мужиком. Может, отвоевал, но в душе не избавился от войны? Увидел смерть — стал жадным к жизни: мир мой, земля моя, хлеб мой… Никому не дам! Хотя для мужиков… Господи, да радешеньки, что живыми вернулись! Последнее отдадут, лишь бы не встретиться опять со смертью… — рассуждала она. — Здесь же обратное. Угробила человека война… Нет, я не могла так больше жить, по-сиротски… И плачу, бывало, и втихомолку кормлюсь где-нибудь за хлевом: хлеба заранее сюда приволоку, чтоб он не видел. Натрескаюсь, а душа голоднехонька!.. Тогда-то я согласна была хоть за черта пойти, лишь бы не жить с ними под одной крышей…
— Так вот, девка, — соглашалась Харитоновна. — В прорубь шагнешь… Я бы тоже не смогла.
— А Заяц, он парень был первейший в округе, — продолжала Клава. — Втайне я уже решилась на все… Правда, семья у них была огромная и ленивая, но я работы не боялась, нет… Что мне работа! Я с детства купалась в ней.
Едва поспела в лесу знойная ягода, как Клава забегала с корзинкой на хвойники. Одна ходила, счастливая в своем одиночестве… Там-то и выследил ее Заяц, завалил прямо на мох в душном хвойнике… И сладким показался брусничный сок, и губы, поцелуи лопались, как ягоды, кружа голову. Видно, любила его…
В дом вошла тринадцатой — и впряглась в работу! Одна в огороде тяпает, одна на покосе гребет… Федул все недомогал, свекровь тоже была непривычной к работе, деверя работали в соседнем селе, в районе… Так и ехали на девке год, второй, третий… Дочь росла, а сына родила после того, как расколола возище березняка и дрова сложила в поленницу. Еще два года выдержала, не обращаясь ни за советом, ни за помощью к родной матери. Все ей казалось, что та с злорадством наблюдает за ее жизнью. А Заяц лютовал по-прежнему… Лютовал только дома. На всех гулянках его, задиру, колошматили деревенские мужики, всегда он был бит, всегда едва уносил ноги, трусливый, как заяц (потому Заяц. В деревнях настоящее имя могло ни о чем не говорить, но прозвище… Это в точку! Скажут: заяц — и все тебе понятно, и все ты уже знаешь о человеке).
После долгих раздумий она поняла, что надо куда-то уходить, чтобы спасти себя к ребятишек, повидавших всего с таких пор… Но как решиться на первый шаг? Именно на этот первый шаг у многих несчастных баб не хватало когда-то сил, потому они и умывались всю жизнь слезами и до сих пор умываются: пинок — вот и вся ласка! Клаве не хотелось жить такой жизнью… Клокотала в ней дедова гордая кровь, не признающая рабства; кровь матери катила рябью. И собралась с духом, приготовилась. «Пусть только еще раз тронет! — молчала она. — Соберу детей в охапку, да и отправлюсь вслед за дедом».
Бабы поглядывали на нее с состраданием, не замечая своих плачевных дней и лет. Они не понимали того, что понимала Клава: привычка терпеть и сносить все безропотно с годами превратила их в покорных буренушек. «Себя пожалейте!..»
Не раз она покаялась, что не послушала мать. Но это еще надо понять, где лучше! И все-таки мать предсказала ей судьбу. Как в сердце смотрела… И вот живут. Крепкая изба, ребятишек двое, родни с короб, да жизни никакой. И обида запала в душу, обида на родную мать: не дала благословения, не дала!.. Потому все страдания, все слезы, от которых нужно бежать, бежать… Тогда она поклялась себе: пропаду где-нибудь, милостыню буду собирать, но к родительнице не вернусь. Никогда!.. Дело, как она считала, стало за выбором: или дедушку искать в соседнем районе, или перебираться в районный центр, где со своими-то руками она не пропадет. В прачки напросится, в истопники, но только бы оторваться от нелюбимых людей. Душа не терпит хомута, не терпит плети, занесенной над ней.
Еще по стаканчику выпили. Ни та, ни другая не понимала: есть ли в ней радость-то, в настойке? Вроде выпили, вроде посидели и не на пустом, как сплетня, языке — о чем-то все же толковали и что-то припомнили. Взгрустнулось, всплакнулось… Нет, нравы и обычаи сюда не следует подшивать, ни в коем разе. А Харитоновна-то чего припухла?
— Ты что, родная?
И — пошли по новому кругу.
7
Тихон бродил вдоль ограды в глубоком раздумье. В предбаннике стояла банка с настойкой, которую подсунула ему Харитоновна. Теперь он страдал: выпить? Нет? Хотелось, ох как хотелось ему выпить, но душа упиралась. Он поднимал глаза… Боже мой! День, какой день накатился! Воздух, казалось, насильно вползал в человека, заражая его здоровою чистотой, протестующей даже против табачного дыма. От тальника, от колышущихся кустов тянуло горьковатым, как навоз в прелой гряде, запахом. Где-то там же истошно кричал и плакал, кувыркаясь над болотиной, потревоженный кем-то чибис…
Тихон боролся: выпить? Нет?..
Возле своей будки крутились собачушки — Динка и Крошка. Обнюхивались. В подворотню прошмыгнул кудрявый с бойкою искрой в шкуре кобель. Такой был только у бичей — сытый, откормленный безотказным поставщиком— городской свалкой, где по сей день промышляла, проклиная обленившегося супруга, Алка.
«Выпить? Нет?»
В такой день нельзя убивать себя; пусть прежде приестся он, разлюбится, как кедровый орех к концу сезона.
Тихон ни разу не вошел в дом после того, как едва не поцапался с женой. Весь день он чем-то занимался. Вначале в бане поправил съехавшийся набок полочек, потом убрался у свиней и в хлеву, больше часа таскал за ограду оставшийся снег в железном корыте.
Скотину он выгнал за ворота еще до обеда. В болотине кое-где пробилась первая зелень, и в этой прожорливой тишине бродили коровы, овцы, поросята… Скоро в Нахаловке наймут пастуха — и скот разгуляется на славу. Когда выгонял теленочка, тот, одурев от воли, начал взбрыкивать и кидаться на крупного подсвинка, пытаясь толкнуть его безрогим лбом. Подсвинку это не понравилось, и он, рявкнув, бросился на шалуна. Тихон подбежал вовремя и цыкнул… «Ну, пошли!» — и скот дружно скатился в болотинку, к кустам. Хозяин стоял и смотрел вослед, улыбаясь.
А там, за кустами, трубили, как лоси, грузовики, всхлипывали «жигулята» — Велижанский тракт не признавал покоя. Жидкая грязь, вырвавшись из-под колес, поднималась и застывала сплошным облаком в воздухе, вровень с тальником. И в душе оставалось только радоваться, что сейчас весна — пускай грязная, но весна, и нет жары, и нет той пыли, что покроет все толстым слоем, и хозяйки будут сдирать ее с коровьих языков железными скребками, как ржавчину. Было свежо, дышалось всей грудью. И он дышал…
«Нет, не буду пить! — подумал Тихон. — Пускай стоит в предбаннике. Представлю, что это — банка с керосином…» Никак не мог он собраться с духом, чтобы взять да выплеснуть настойку в огород, — рука не поднималась, как перебитая.
Сегодня он даже не курил, руки постоянно натыкались на работу. Вытаскав за ограду снег, взялся за коробку, в которую, разбухнув от сырости, не входила дверь. Подтесал, подрезал. Теперь бы за печь взяться, что недавно начал класть на веранде, да кирпича не было. Так и осталось — неровный остов. Здесь — работа, там — работа, без конца, а радости от нее нет. Конечно, жизнь, если ее хорошенько разносить, как новый полушубок, — она послужит тебе, и греть будет, и радовать. Но что дальше? Надо топать на производство и присыхать к настоящему делу. Тоже мне, кулак! Частник матерый… Кулак. Пачка папирос в кулаке — потому и кулак…
На той неделе он заявил супруге: «Пойду работу искать. Может, хоть механиком возьмут. Руки зудят…» — «Не ерепенился бы, — осадила его жена. — В доме столько недоделок, работай пока здесь, не дармоед. Или дурная голова ногам покою не дает?» — «Как ты не поймешь! — пытался сломить ее Тихон. — Здесь — не работа. Мне к людям хочется, понимаешь?» — «Значит, на пьяночку потянуло. Ну что ж, иди, алкаш, повесели свою пропитую давно совесть, душу повесели… Может, свернешь где-нибудь башку свою дурную», — пожелала она. «Свою, свою! Что ты в меня вцепилась!» — «Да нужен ты мне, опоек…»
Но «опоек» не решался поступить так, как хотелось. Он запивал. На целую неделю! Вначале пил водку, а к концу недели был уж рад и одеколону. Провалявшись ночь на полу, Тихон поднимался утром, стараясь не разбудить жену, и шарил глазами: нужно было что-нибудь взять и продать на опохмелку. Что же, что же? Часы пропил позавчера, шапку — вчера… Но вот глаза натыкаются на полушубок: они просидели над ним неделю, собирая из кусков, чтобы в субботу продать на «толкучке» — кончился комбикорм, надо выписывать, а деньги — в полушубке… Он снимает его с вешалки и уходит со двора. Часа три его не будет.
Деньги, кошелек всегда были при ней, даже ложилась спать в халате, в кармане которого тощеватый «гоманок» был заколот булавкой. Корову доила, в бане мылась — с деньгами не расставалась ни на минуту, а вот вещи… Утром встанет и заплачет от обиды: работала неделю, собирала полушубок по кусочку, а он — за десятку отдаст первому встречному!.. И отправлялась поплакаться Харитоновне.
Три-четыре часа Тихон не показывал носа. Она, заплаканная и несчастная, управлялась по хозяйству. От безутешной боли раздражалась и тяжелою рукой била собак… Крошку ударит, оттолкнет обеими руками, когда та, доверчиво моргая глазами, потянется к миске. Визжат ушибленные собачушки. Все обижены, всем больно, но никто не поймет: за что обижен? Позже эти умные собаки наконец-то постигнут некий закон, вносящий нескладность в их жизнь, и возненавидят едкий, приторный запах, исходящий от хозяина: именно в дни этого запаха их обижают до слез. Они даже будут предчувствовать его — нет, хозяйка еще ласковая, но Крошка уже настороженно поглядывает на хозяина, будто умоляет его: не думай об этом запахе, не соблазняйся им, от него все беды в нашем дворе… Только хозяйка ничего не будет предчувствовать, хотя собаки будут жаться к ней. Собака поймет человека, но человек не всегда поймет собаку.
Ее тошнило от одной мысли, что вот сейчас он придет, еле живой, и вместо того чтобы покаяться, попытаться хоть как-то загладить свою вину перед женой, начнет срамить ее и попрекать, как иждивенку. «Сидите с сыночком на моем хребте, — прошипит он. — Работаю на вас, ублажаю вас, как раб!» — «Не тебя ли я, пропастину, кормлю и одеваю! — прохрипит она, едва сдержавшись, чтоб не налететь на ненавистного мужа. — Ты же присосался ко мне, как клоп. Но я терплю, терплю…»
Так было в этом доме месяц назад… И опять все повторится — и то нудное молчание, и тот первый шаг навстречу: «Уберись у свиней, алкоголик!», или «Где вилы-то? В стайке не вижу…» И наступит перемирие, и опять будут жить они и спать в одной постели, есть за одним столом, и он, зарывшись в себе, будет сносить все ее окрики. Все-таки она была доброй, и он в этом убеждался не раз.
«Нет, пить не буду, — сплюнул Тихон. — Сейчас возьму и разобью эту проклятую банку…»
Но в предбанник он не пошел — впервые за весь день присел покурить на завалинке. Стена нагрелась, и он привалился к ней спиной, как к печке.
Он сидел зажмурившись и думал о жене. Подчас он ее ненавидел и готов был уйти куда глаза глядят. Но разве уйдешь от такой, если она чем-то накрепко примотала тебя к себе, точно к столбу.
В прошлом году, когда они жили на квартире, их разыскали сестра и брат Тихона. Тогда он был потрясен их разговором.
— Ох, Клава! Душа просто выболела, — присела на диванчик сестра. — Не чужой ведь человек. Хватились — нету! Думаем: не умер ли? Пьет… А с пьяным всякое может случиться. Да хоть бы, думаем, тело отыскать. И в морг уже звонили, искали повсюду… Ох, бестолочь, ну и бестолочь! — восклицала она, не глядя на брата. Он сидел подле нее, раздувал ноздри. А сестра продолжала: — Дума-то какая… Думаем: найдем хоть мертвого и увезем на родину, чтобы там схоронить — среди родных. Честно скажу: неохота, если как собаку где-нибудь… Ты уж, Клава, помни об этом… Боже мой, беда какая! Ох, беда!..
— Ладно, буду помнить, — поджав губы, согласилась Клава. — Память у меня хорошая, не пью…
— И живите! Мы ведь не против, — продолжала сестра. — Баба ты, видно, не из последних, работаешь… Завсегда можешь за ним приглядеть. Чего еще желать? Вот и держитесь друг за друга, чтобы не спиться… В общем, вам видней, как поступать… Живите, наживайте добра. Хватит бродяжить…
— Тихон, ты завязывай, — бурчал брат, здоровый, с хомяковатым лицом. — Харэ бухать! По себе знаю, как тяжек отход… Ну, совсем, допустим, не бросай: сначала раз в неделю пей, потом раз в месяц… Можно выправиться… А там и бросишь.
— Да разве он бросит! — не верилось сестре. — Пробовали уже бросать, но даже насильственный метод не помог. Нужно искать иной…
— Как — насильственный? — перебила ее Клава.
— Тут целая история… Тогда он объявился в Юмени, горький пропойца, погулял, а я в заботе — что делать? День беспокоюсь, другой… И с добрым словом подхожу к нему, и стращаю чуть ли не прокурором — ничего не помогает, — рассказывала она, по-прежнему не глядя на брата. — Решила схитрить. Так вот слушай. Болел он с похмелья, а я подъехала на такси и говорю ему: «Вот, Тихон, я тебе спиртику привезла, поправь головку». Он, конечно, обрадовался спирту, как ребенок прянику… Ой, плачет, спасибо, сестрица! Ты одна понимаешь меня и любишь. Я отвечаю: а как иначе! Так и должно быть среди людей родных… Ну, он выпил, лопочет что-то, пытается даже петь свою «ленинградскую»… А я, не долго думая, зазвала таксиста и — айда, братец, в машину! Прикатили к воротам элтэпэ… Ну и что? — обратилась она к Клаве с неожиданным вопросом, будто та могла ответить на него. — Думаешь, его там за год вылечили? Ничего подобного. Деньжат, конечно, на кирпичиках подзаработал — с их пропивания и начал, как только выпустили за ворота. Еще страшней стал пить. Раньше хоть одеколон не пил… Нет, Клава, нужен новый метод… Ты хоть смотри за ним, на тебя, дорогая наша, вся надежда.
— Конечно, харэ, брат, погудели, — поддерживал сестру хомяковатый, молчаливый братец. — Добра не будет сроду… Харэ.
На том и порешили. Сестра с братом уехали и больше не показывались. Тихон по-прежнему срывался.
Тихон Засекин не прожил свою жизнь — пятьдесят лет! — а пролетел, как реактивный самолет. После школы вырвался он из родной деревни и поступил в военное училище, которое окончил успешно. Молодой лейтенант неплохо служил, пока его не списали по состоянию здоровья («что-то сделалось с головой»). Но он не пал духом, засел за учебники, страстно желая поступить в институт. Подготовившись к экзаменам, он приехал в Ленинград и поступил почти без нервотрепки, как настоящий «везун». Через год он женился, потом у них родилась дочь, но деньгами молодой семье никто не мог помочь (Тихон сам выкраивал прежде из стипендии рублей по двадцать, чтобы отправить в деревню — отцу и братьям). Тогда они перебрались в Ярославль, где их, как нужных специалистов, обеспечили жильем и приличной зарплатой. И здесь он успешно окончил вечерний факультет института, получив диплом инженера-механика. Расслабился, сбросил напряженный темп — поплыл по течению жизни чуть ли не на спине, даже глаза прикрыл от блаженства. Хорошо! В эту пору сестра переехала в нефтяную Сибирь, стала приглашать родню в гости: «А может, и понравится вам: останетесь, пока здесь прилично платят и не сняли коэффициент. Один к семи — это когда одному за семерых работать не надо. Приезжайте». Надо было ехать… Нет, он больше не желал связывать концы с концами, по его: руби — и концы в воду!.. Так и хотелось поступить. Вскоре он уезжает на заработки, заклиная жену: ждать, ждать! Пустым не вернусь… В Юмени сестра помогает ему устроиться на большие деньги: экспедитором по сопровождению грузов на Север, то есть в дальние города и поселки строителей, нефтяников. Экспедитор приступил к исполнению своих обязанностей, полагаясь полностью на особенность своего ума. Образование должно было сослужить ему добрую службу: он-то видел, какая даль распахнулась перед ним, какую в ней деньгу можно было подстрелить, почти не целясь!.. Нечаянная, какая-то непривычная воля подхватила его и подняла над людьми, над всем миром — этими складами, фруктами, свиными тушами, мехами, шубами — и он с презрением начал поглядывать даже на официальные бумаги. Плавал по Оби, плавал по Иртышу, торговал товарами, предназначенными для северян, греб деньгу. Обирая хантов, манси, ненцев, он как бы опирался на классический опыт: за карабин — меха, но чтоб стопка в рост карабина. Читал, читал о дореволюционных торгашах, повадившихся на Север. С тех пор прошло полвека, но цивилизация почти не коснулась этих народностей — такие же доверчивые простаки. Легкие деньги вращались с такой силой, что образовалась воронка, в которую его затянуло. Да, деньги были легкими, а работа — никакой. Это только в газетах: трудно… Ни черта!
…Сухогруз добрался до конечного пункта назначения через неделю-две, Тихон гулял по-купечески, во всю широту души русской. Бывало, прихватит какую-нибудь «хозяйку», плывут, поют в два голоса:
— Ты куда меня повел, такую молодую? — На ту сторону реки, иди не разговаривай.Года три пролетело, в семье ни разу не пришлось побывать…
Кубарем он покатился вниз, обдираясь в кровь об острые углы земли. «Была бы голова на плечах!..» Но сама жизнь опровергла его железную теорию, которую он постигал столько лет. Катился, катился, разлохматившись и растрепавшись, пока не очнулся на руках у всепрощающей и всепонимающей женщины, безработный, бездомный, как всякий пропойца. В ту пору Север не таких ломал — бывшие окопники не выдерживали его натиска — и руки кверху.
Но и теперь жизнь не шла, хотя должна была идти после долгих мытарств и лишений. Вот он с утра выходит на улицу, копается, как жук в навозе, в бесконечных недоделках и вдруг присядет — душа болит: здоровый, крепкий мужик, а сидит, как домработник, полностью зависимый от своих хозяев. Обидно ему становилось до слез, в душе все переворачивалось, даже жить не хотелось. И соседям в глаза он старался не смотреть, будто чувствовал, что они так же думают и говорят, как он. Тихон стыдился их, как воришка, что-то укравший у них, — они догадываются об этом и не сегодня, так завтра придут, чтобы разоблачить его при всем честном народе. Только пьяному ему было все равно, и он как бы облегчал свою участь тем, что пил. Он не считал себя алкоголиком, потому что пил от совестливости, которая может мучить только образованного и порядочного человека, а не таких, как дядя Миша, Алка и Леха. Это — скоты, а он — офицер, и только некоторые обстоятельства временно сбросили его до такого быта: до коровы, до свиней, до их стайки, пропитанной невыносимой вонью. Да, в жизни нужно чем-то жертвовать, чтобы не растерять благородства. Честь имею, господа бичи!..
Итак, он натянул эту новую для себя жизнь и тут же понял, что жмет и режет — не по размеру. А когда вспоминал, то задавался одним вопросом: почему все — вчера? Жена и дочь, письмо сестры, торгово-закупочная база, водка… Вчера, вчера, вчера!..
Он открыл глаза и чуть-чуть отвалился от теплой стены. Солнце по-прежнему светило — прямо в лоб, и Тихону не хотелось даже двигаться.
Почему-то вспомнил, как они с Ромкой долбили колодец. Тот еще пошутил: «Не люблю я рыться в земле. Видно, не крот». — «А мне, думаешь, по душе!» — хотелось ответить Тихону, но он промолчал тогда. Просто отвернулся и высморкался в горячую руку. Не по душе ему было это и сейчас, но он продолжал жить не по душе. Жил и мучился, как подстреленный, в котором горела мелкая, как соль, дробь. Она пронзила его крепко и засела в теле, и он жалел теперь только об одном: что не наткнулся на пулю.
Он вошел в дом — хотелось пить.
— Посиди, ненаглядный, с нами, — смилостивилась вдруг жена. — Я тебе разрешаю, подсаживайся к нам. Прощаю твою холодность.
Но Тихон отказался, да таким твердым голосом, что Клава даже споткнулась и умолкла, позабыв закрыть рот.
— Собачья жизнь! Сволочи, всю дорогу разбили! — донеслось с улицы. — Я вот вам головы поотрубаю и отвечать не буду… А ну, подставляй башку!
— Томка катит, — догадался Тихон, направляясь к двери.
«Сниму пробу… И пальцы… руки раскину, чтоб банка сорвалась, — обманывал он себя, — сорвалась — и разбилась! Брр… Как вспомню, так вздрогну…»
Тамара отчаянно ворвалась в этот мир и разрушила в нем все.
— Я вам покажу, как капканиться здесь! — кричала Тамара. — Вот подвернитесь только под горячую руку… Оксанка, не отставай! Вперед, дети мои, вперед!..
Тамара была единственным в стране человеком, который ни от кого и ни от чего не зависел. Она жила трудно, но свободно, поднимая на крыло шумную свою ораву, воспитанную в таком же духе.
— Шурка! Кобыляк такой… Не отставать от матери… Вперед, дети мои, вперед!..
Даже Тихон шагнул к воротам, чтобы поприветствовать накатывающуюся, как гром, ораву.
8
Высокая, в мужских броднях и куцей ветровке, Тамара, отчаянно боролась с бездорожьем — срываясь в глубокие колеи, заполненные водой и навозной жижей, она все-таки пробивалась к своей халупе, отстроенной за Клавиным домом-теремком. Огромный пестрый узел не мог свалить могучую женщину, и она терпеливо волокла его на себе. Крепкой, сильной была. Из подмышки, вытягивая плешивую шею, вырывался перепуганный гусенок. Он шипел Тамаре в щеку, точно хотелось ему ущипнуть ее, но Тамара была не из пугливых. Она дерзко одергивала наглеца:
— Ти-ха! После выскажешься, черт плешивый!
Тамара походила на беженку, удирающую из-под бомбежки. Только над ней не самолеты кружили, а обыкновенные скворцы.
С прошлой осени Тамару «понужали изверги». По крайней мере ни с того ни с сего она бы сроду не решилась строиться в одиночку на окраине Нахаловки.
— Моча тебе в башку-то ударила, — проворчал Аркадий, ее мужик, когда узнал, что она облюбовала уже пригодный для постройки участок. Тогда он поверить не мог: живут в хорошем доме, от чего же добра-то искать?
— Хочу детям построить что-то навроде микропионерлагеря, — отвечала она. — На свежем воздухе они вырастут, как дикие утки — без подкормки даже, без затрат.
— Куда ты, дуреха? — пытался образумить ее Аркадий.
— Пинать верблюда, — складная на язык, отмахивалась Тамара, — пока лежит, а то убежит.
— Оштрафуют ведь. Не гоношись, мошенница.
— Не оштрафуют. Я многодетная, и мужик у меня увалень: настрогал полдюжины и не печется, не телится. Но я одна подниму дачу! — клялась Тамара, посматривая искоса на своих детей.
Всю зиму она трубила. В отличие от соседей, которые тоже трубили без продыху, она не стеснялась брать строительный материал с объекта, где копошились неторопливые солдатики. Она брала и таскала на своем горбу, как верблюдица, даже березовые плахи. Здоровая была баба. Солдатики ей не мешали, и она навьючивалась так, что вены на ногах вздувались и шевелились под кожей, как жирные дождевые черви.
— Теперь не сталинские времена, чтоб человека хватать за работой. Хорошее не беру — гниль да скол. Все равно в костре спалите, солдатики-гореваны. А ну не крутись! — покрикивала она на мерзлую доску, что так и выскальзывала из рук.
Она неспроста начала строиться зимой. По снегу легче было переправлять на конец Нахаловки тяжелые поддоны из-под кирпича. Так она и слепила халупу, обнесла ее неровным заборчиком, над которым вскоре повисла едкая струйка дорогого для сердца дыма.
Не без помех она строилась. Вначале участковый Ожегов попытался остановить, как он выразился, этот грабеж средь бела дня, но быстро отстал от многодетной матери — видно, из-за ребятишек, коим негде было подчас приткнуться. И вспомнилось ему, с каким трудом он выколотил этому семейству благоустроенную квартиру в новом микрорайоне, а потом оказалось — зря: взвыли соседи, пришлось «дикарям» съезжать. «Господа какие! — орала Тамара, перегружая барахло в мусоровозку. — Живите тут одни!» Причин для такого спешного выселения было много, даже больше, чем детей. Ну, что ты с ней, полоумой, поделаешь?
Клава, узнав об этом, была просто поражена. Ведь она-то, когда были маленькими ее ребятишки, с бою брала свою квартиру в райцентре. Ничто не могло остановить молодую мать, а тут — не укладывается в голове.
…Весной потревожили трухлявый улей — выселили всех жильцов из старого дома и раскатали бывший райком, где много лет кряду гнездилось двенадцать семей. А когда собрали новую двухэтажку, то оказалось, что в ней не хватает двух квартир: было двенадцать, а стало десять. Зима обещала быть морозной, и люди поневоле трезвели, думая о ней. Старая семенная станция, в которой пока проживали семьи-аварийщики, промерзала насквозь, страшно было оставаться на зиму в такой развалюхе. Предчувствуя неладное, Клава решила без ордера въехать в еще недостроенный дом. Ордеров даже не обещали, темнили чего-то местные власти. Тогда она перевезла свои пожитки на санках и заперлась в новой квартире. Печи были, а недоделки не пугали работящую Клаву.
Уходя на работу, она строго-настрого наказывала детям, чтобы те никому не открывали дверей. Словом, как в известной сказке про козлятушек-ребятушек. И Серый волк вскоре пришел, постучал… Клава была дома. Представитель власти, барабаня в двери, нервничал:
— Ты вне закона! Ну кто тебе разрешил вселиться без спросу?
— Дети разрешили и холод, — ответила женщина. — Они, дети, мои начальники. Больше я никому не подчиняюсь.
— Мы взломаем дверь и выбросим вас к чертовой матери! Ты слышишь меня? — кричал представитель власти. — Открой по-доброму.
— «Взломаем», — передразнила Клава. — Только суньтесь — башку отсеку. Три ночи топор точила.
Серый волк промолчал. Но осада длилась около недели. Всю неделю Клава не ходила на работу, дети сидели рядом. Кончились дрова, хлеб, все эти дни она с детьми «ходила» на ведерко, но не открыла никому. Тогда и был принесен ордер: его просунули в замочную скважину, чтоб она могла убедиться — ее не обманывают, и открыла двери.
— Перепугались! — злорадствовала Клава. — Каратели толстобрюхие. Нет, вам не пройдет этот номер.
— Фу! Здесь же дышать нечем, — столпились в дверях «ордероносцы». — Как в толчке.
— Да, мы валили прямо в ведерко, — продолжала хозяйка. — Честно говоря, и валить-то не с чего было: хлеб кончился. А вы ничего, лоснитесь. Породистая скотинка.
Квартиру оставили за ней. Летом она согласилась самостоятельно провести доделку, за что ей была гарантирована оплата. Но Тамара-то, Тамара отказалась от таких неимоверных по нынешним меркам благ, отказалась по доброй воле!.. Подвел ее, знать, этот всесильный «козырь в башке». Вот теперь и кукует, придурошная баба.
Капитан Ожегов сплюнул да и укатил в другой конец Нахаловки. Но на дымок пожаловали строители. Взревел бульдозер, намереваясь снести Тамарину халупу. Другая бы, конечно, растерялась и, отступая, позволила бы порушить свое рукотворное детище, но только не Тамара. Тамара не была «другой», потому и атаковала первой наглых не в меру строителей.
Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью, —ревела она, приближаясь к пузатенькому прорабу. Едва не разгорелась настоящая битва за крохотный пятачок земли, что должен был исчезнуть под территорией гаража.
— Автобусов много, — кричала Тамара, — а я одна.
Прораб, не выдержав натиска, отступил со своим карательным отрядом к Велижанскому тракту, к металлическому забору, опоясавшему автобусный парк. Они умело прикрывали свой отход раскаленным бульдозером.
От ворот автобусного парка пытался докинуть, как камень, свою тяжелую фразу пузатенький прораб:
— Дура! Здесь все завалят песком! Неужели ты не видишь, как работают самосвалы?
— Я тебе завалю! — огрызалась Тамара. — Шарик, Шарик, возьми его, усь! — подталкивала она ногой косматую собачушку-дворнягу. — Не сечешь, косматая? Надо лаять на беспорядки, лаять!
Но собака ни черта не соображала — она была из тех, зажравшихся на свалке. Тамара наплевала ей в «бессовестные шары».
Вскоре на дачу пожаловал Тамарин мужик. С весной Арканя, как всем показалось, стал еще рыжее и шире в плечах. Всю зиму он трескал сало и копил силу для летних перевозок. Однако все знали — кто он и что он такое, этот Арканя. За пять лет работы на мусоровозке он навозил в центр Нахаловки столько всякого добра, что хватило построить в сезон крепкий пятистенок, поднять хлев, баню и дровяник из отличного горбыля, вывезенного на свалку, очевидно, по ошибке. Арканя зажил сытно, по-хохляцки, и семья, прикипев к нему, не знала горя. Но Тамара, беспокойная душа, никак не могла уняться, все ее «тянуло на подвиги». Прочистив с утра мусоропроводы, она возвращалась к своему дачному комплексу и рьяно бралась за работу. Воспитанная в детском доме, она не умела гореть вполнакала — уж пластать так пластать.
Еще она играла на гармошке, которую таскала всегда с собой, если была под мухой или просто в хорошем настроении, и заявляла всюду как бы под аккомпанемент «хромки», что если бы не выпоротки, то она играла бы сейчас в каком-нибудь ансамбле песни и пляски.
Арканя долго осматривал дачу. Он почесал своей косматой рукой за правым ухом, за левым же прихлопнул, как комара, нудное сомнение — похвалить ли? — и наконец решил: — «Сюда буду свозить весь хлам со свалки. Пущай сортируют».
Тамара продвигалась вперед, отчаянная и неудержимая. Сзади, метров за тридцать, показалась ее горластая орава. Вечно сопливая, в одежонке с чужого плеча, орава свистела и рикошетила, как бойкая картечь. По всему было видно, что в их пятистенке разгулялся рыжий папаша — задали деру. Они теперь ему не простят до самой пенсии контрреволюционного разгула.
Тамара прошла мимо Клавиного дома, свернула в свою калитку, на которую без слез нельзя было взглянуть. В ограде задымила железка, ржавая труба едва процеживала дымок. Загремели котлы, ложки-поварешки, зашипела на плите вода. В последний раз заявил о себе гусенок с плешивой шеей: он закричал, хлопая крыльями, точно хотел взлететь, но Тамара тут же подступила с ножом к горлу.
Непросто ей было прокормить такую ораву, причем в полевых условиях. Но она выкручивалась.
Тихон, завидя бегущих ребятишек, сразу же понял: Арканя опять задал стране угля. Ко всему привычные, они не выдержали отцовского буйства и поспешили перебраться с зимней квартиры на летнюю. Лучше в полевых условиях развиваться, чем дрожать под столом или кроватью, пережидая, когда папаша кончит выступать. А здесь, на отшибе, такая волюшка!..
— Тюу! Му! — приветствовал Тихона самый маленький из детей, Илюшка, свисая с Оксанкиных рук.
— Дорогой мой! — улыбнулся Тихон. — Ну, здравствуй, здравствуй!
— Хлен молдастый! — по-отцовски срифмовал картавенький Илюшка. — Здлавствуй!
— Дети мои! Ау! — кричала Тамара, чувствуя, что дети где-то рядом, но позадержались. — Не выкупайте Илюшку в луже. Ох, придурки, ох, придурки! Да чтоб вам, большеухие… — Она заметно распалялась, входила в раж и кричала наугад, не глядя в сторону детей, которые опять погрязли в колее. — Не искупайте, говорю, а то я вас прихлопну тазиком.
— Не искупаем, мам, — отзывалась старшая девочка. — Что мы, придурки, что ли.
— Смотрите у меня… Жираф большой, ему видней. Ут-ро туманное, ут-ро седо-е…
Тамара, может быть, и не кричала вовсе — она так разговаривала, тише не могла и не хотела. Да и покричать, поговорить было ей с кем: шестеро гавриков, один к одному, как огурчики, не считая, конечно же, умерших.
— Соли опять нету, — возмущалась Тамара. — Прямо под самый копчик подгрызают… Ну, не загонят ли опять в психичку?
Дети все не шли и не шли. Застряли полоротые вблизи собственных «ворот» и ни гугу.
Вокруг Тамары крутились разномастные собачушки и кошки с обмороженными ушами: уши у них свисали, как опустошенные гороховые стручки. Почернели даже. Не отходя от котла, хозяйка направо и налево швыряла кости, привезенные мужем со свалки, гнилую рыбу, фарш, ловко вывернутый из целлофана. В пище она не отказывала никому.
— Ешьте! — ворчала она. — Обыватели позаботились о том, чтобы вы не пропали с голоду. Фу-ты, едва палец не откусил… Ты, Шарик, волк, а не собака.
Тамара выполнила план, доведенный до нее жэковским начальником, — остальные «пищевые отходы» — собакам и кошкам, пускай жрут.
— Зажрался народ, — укоряет кого-то Тамара. — Спятил от сытости. Все вываливают на свалку. Ну, господа!..
Сейчас она должна произнести патетический монолог и голос ее зазвучит на самой высокой ноте, набирая все большую и большую мощь. Она вытаращит глаза на зрителя… Вот уж этот зритель заполняет зал — ребятишки вползли в ограду — сопит перед сценой, жалкий и убогий, а на сцене — она, Тамара, в черном до самых пят платье, сейчас она начнет… Этот монолог по плечу только ей, заслуженной артистке, а не рыжему охламону Аркане.
— О, какою высокою стала в нашу бытность культура барского жратия и пития! — звучит Тамарин голос. — Никто уж не выбросит на свалку курицу, прежде не завернув ее в целлофан, никто не выбросит буханки хлеба… Слышите, как пахнет горящий хлебец? На свалке!.. За этот хлеб горел когда-то Петруша, наш великий земляк, — чуете? О, великое сверххлебье! — стонет актриса. — О, потерявшие всякий стыд люди! Я вас презираю и не хочу больше выступать перед вами со столь высокой сцены…
Ребятня с криком бросилась к огромной луже, которая со всех сторон омывала дачный участок.
— Эскадра! Вперед! — командовал старший из парней, сталкивая на воду плотик. — Илюха, куда ты, щенок? Круг ему бросьте, круг! — Плот накренился, зачерпнув болотной жижи, но капитан был решительным: — Навались, орда! Раааз! Мамка, не свороти мачту! Уволю по статье!..
Разгоряченная Тамара, видя, как тонет ее меньшой сынишка, навалилась с берега и вмиг подмяла под себя всю эскадру. Треснул по швам парус, собранный из брезента, переломилась мачта. Тамара, как багром, выхватила тонущего Илюшку, прижала его к мощной груди. Илюха надрывался, как простуженный боцман:
— А-а!
— Боже мой, — стонала Тамара, не выказывая особых мук, — и этот, с двумя зубиками во рту, норовит вцепиться в самую глотку. И тебе, мокрозадый, не жалко матери? А?
Илюшка захлебывался слезами. Тамара на ходу пыталась всунуть ему в рот озябший до синевы сосок.
— Дочка! Ты что, оглохла? В горле уже мозоль, — кричала Тамара девочке, внешне похожей на нее. — Соли нету. Почему не купили?
— Да я, мам, завтра куплю, — оправдывалась девчушка. — Сегодня мы проели все деньги. Завтра не забуду.
— Как — завтра? — не отступала мать. — Жрать-то сегодня надо, так? Ты что, ты думаешь, что отец твой заперся в дому на сутки? Хренушки. Он не усидит в своей крепости и через час выступит, каратель, а мы еще не ели… А?
Тамара говорила вполне серьезно, чем приводила в недоумение редких прохожих. При слове «каратель» те замедляли шаг, вернее, сбивались с шага-скачка. «Ну что? — ехидничала Тамара. — Застолбило вас, что ли?»
— Смотри хоть тогда за детьми, — утихомирилась Тамара. — Пойду к соседу за солью.
Она рысью подлетела к Клавиным воротам, на бегу бинтуя голову платком, чтобы спрятать свежий синяк под глазом — Арканя слегка прошелся по ее лицу.
— Ох, детки! — проговорила Тамара. — Живу и думаю: где бы еще парочку таких заказать?
Тамара стеснялась молчаливого соседа. В воротах она наклонила голову и, не взглянув на него, спросила:
— Клава дома?
— Сидят с Харитоновной, — ответил тот, — лясы точат. Тебя поджидают.
— Соли спрошу…
Она подошла к крыльцу, притопнула одной-другой ножищей. Даже грязь отстала от подошв, расплылась на чистых, крашеных ступеньках.
Соли нету, — сообщила она женщинам, что сидели за столом в кухне. — Мой придурок пьет. Хоть мочой его, карателя, пои. И вправду: в бутылку — и опохмелю.
— Ерунда. Если б это средство действовало на пьянчуг, то я бы давно своему касатику, — начала, улыбаясь, хозяйка, — выставила целую бадью — до ободков. Сказала бы: гуляй, касатик, веселись и ни о чем не тужи. Для пущей важности еще бы сама отпила. Боже мой, чего бы, кажется, не сделала для того, чтоб бросил человек пьянку! А ты присаживайся к столу, пока мы добрые.
Тамаре подставили табуретку.
— Ты все, девка, в бегах да в бегах. И синяк, вижу, свежий, — заговорила Харитоновна и вдруг вспылила: — Он ее колотит, а она помалкивает. Добрая бы бабенка давным-давно взяла кочергу да по мысалу ему, черту рыжему, по мысалу!
— И ведь чего ревнует-то и буянит после? — рассмеялась Тамара. — Да говорит, что последний выродок, дескать, не от меня, и баста, а если от меня, то почему не рыжий и почему такой тихий-претихий, как дебил? А какой он тихий? Из яслей вытолкали в шею только за глотку его луженую. Гремел, говорят, как дизель. Да черт с ними, с яслями, — махнула она рукой. — Там все равно не воспитывают, такту нету. Прибегаю однажды, вся радостная, и кричу с порога: «Валя, Валя, у меня Илюшка выучился считать до десяти! Понимаешь, Валечка?» А она, Валечка-воспитка, подходит ко мне и равнодушно так заявляет: «Вы лучше б задницу его вытирать научили, а то прямо с горшка бежит к столу: вытрите мне попку…» — захлебывалась Тамара. — Нет, не надо мне никаких яслей, сама присмотрю за потомством.
— А из благоустроенной-то квартиры чего съехала? — спросили Тамару. — Дочери бы оставила, коли самой не пожилось.
— Не пожилось, соседи попали хреновые, — ответила Тамара. — Видите ли, потревожили их покой господский, шумим, дескать. А дети, они и должны шуметь. Я оскорбилась и говорю: орда, собирайсь! Нам с ними не по пути — они в коммунизм плывут. Не нравлюсь? Тогда прощайте. Квартиру же дарю государству.
— А с Арканей как будешь мириться?
— Никак. Вот когда-нибудь хлопну ломиком по башке — сразу признает и Илюшку, и родную власть, и меня. Запросит родить двойню… — И Тамара свела весь разговор к замысловатой формулировке: — Жизнь бывает разной, — заявила она, — жидкой и газообразной. Разве не так?
Но Тамаре не ответили. Сидели молча.
Хозяйке с некоторых пор стали нравиться все, даже Галя с Алексеем, что жили через проулок в добротном особняке, крытом железом. Она, видно, забыла, как они рубили свой особняк: всех привечали, даже бичей, ловко используя даровую силушку. На них работал весь отшиб… Но едва поставили ворота, как Галя прокричала: «Не хрен делать здесь этим пьянчугам!» И ворота захлопнулись наглухо, и хозяева особняка стали жить по принципу: никого — в дом, но все в ограду. Алексей работал в НИИ слесарем, чинил начальству «Жигули» и пользовался на работе заслуженным авторитетом… Каждый день носил он на коромысле отходы из институтской столовки, откармливал на продажу скотину. Никто не знал, зачем ему нужны были большие деньги. Машину он имел, хотя выехать на ней из ограды мог только зимой, по твердой, так сказать, почве, мотолодку — тоже… Может, просто с голодухи хотелось людям пожить на славу, потому они и имели все, как бы на всякий случай. «Живут, живут, как на зоне, — кричала подвыпившая Алка. — Забор-то какой, заборище! Гли, гли — даже колючка есть!» Но крепких хозяев не интересовало мнение какой-то пьянчужки.
В будни их никто не встречал на улице, но и праздники они отмечали дома, накрепко закрыв ворота. Но если человек живет обстоятельно, с любовью к хозяйству и никому не делает зла, как считала Клава, то он — чего тут гадать? — хороший человек! Лентяй не построит такой домище, лопнет от зависти, а не построит… Здесь душа работала.
И Юрка-слесарь построил себе особнячок — из-под ручки поглядеть! В таком мужике червяк не заведется…
А Томка допила настойку, поставила стаканчик на край стола и перевела дыхание, точно целый ковш выдула.
— Закусывай, — посоветовали ей.
— Милые, да что в рот полезет, если орда сидит голодная? — закричала Тамара. И сразу же, без всякой паузы, перекинулась на другое: — Да и зачем бабе закусывать? Это мужику… Выпил, поел мяса, запил квасом — и нету спасу. А нам, девкам, чего? Поел хлеба с луком — да и в руку… Что такое выпила — опять не разберу, — поморщилась она. — Но спасибо этому дому, пойду к родному. Где моя соль? Все, ухожу. Бегу-у…
Харитоновна смахнула слезинку со щеки.
— Вспомнилось, — пролепетала она. — Соль вспомнилась. Отец еще был живой. Сварим, бывало, картошку, а посолить нечем. Русские же люди, без соли не могли ее лупить, хоть пропадай. Тогда он, батюшка, пошел в амбар и выкатил во двор бочку, в которой завсегда солили капусту, — рассказывала Харитоновна. — Выкатил да и разгрохотал ее топором, прямо на мелконькие кусочки… Зачем? — никто не поймет. Вечером только, когда варили супец, сообразили. Отец подошел к чугунку и бросил туда щепочку от старой бочки: «Вот и присолим, девки».
Хозяйке хотелось пожалеть старуху, она потянулась к ней, чтобы обнять, но старуха отстранилась.
— Хоть бы Томка не вернулась, — с опаской произнесла она, зная, на что способна талантливая, по-детдомовски нахрапистая артистка. Пришла бы — и песен не перепеть до самого утра. Она бы все кричала: «Подпевайте, развалюхи! А то переглушу, как налимов…» И до утра бы ее не выкурили из дома.
— Завтра помирятся, — произнесла Клава, лишь бы не молчать. — Опять будут ходить в обнимку.
— Своя ноша… Лешак их возьми.
Вернулась с пастбища скотина. Тихон покрикивал на свиней, отгоняя их от теленка.
Харитоновна совсем захмелела, языком не провернет. Все оглядывается и грозит кому-то скрюченным пальчиком.
Попрощались они за воротами — обнялись и расцеловались напоследок, как будто Харитоновна куда-то уезжала.
Она топала через проулок, беспомощно балансируя руками, как на бревне.
Тихон сидел на крылечке: он давно уже управился и прибрался во дворе. Соблазн его поборол — банка была опустошена, и Тихон теперь парил в облаках, и крепко любил жизнь, даже этот вот навоз был ему по сердцу.
Смеркалось.
Они молчком поужинали, молчком встали из-за стола, точно боялись взглянуть в глаза друг другу. Из окна было видно, как по ту сторону огорода, за невысокой изгородью, резвился Тамарин выводок. Насытившаяся семейка прыгала вокруг стола, точно хоровод водила.
— Резвится, кобылица! — покачала головой Клава. Но Тихон не осудил Тамару.
Не зажигая света, они молчком стали укладываться в маленькой комнатке, где всегда казалось уютнее и теплей, потому и спалось слаще.
За день воздух прогрелся, и они зарывались в ночь, как в душный стожок.
Тихо, едва касаясь пола, по комнате прошла кошка и, запрыгнув на подоконник, притихла.
Клаве не спалось. Она считала деньги, которые бы мог иметь на книжке ее суженый до их недавней встречи. Дурак дураком: деньги умел зарабатывать, а получать— нет, не давались в руки.
Сколько раз Тихон уходил шабашничать в деревню. Обычно какой-нибудь кацо соберет бригаду плотников на вокзале, где безработных и ленивых — тьма, и айда, погнали на «паре гнедых» в отстающий колхозик. Бригада приступает к работе, поднимает коровник или элеватор, получает на жизнь небольшие авансы — основную сумму не трогают. Общий котел позволяет экономить, и слава богу.
— Тысяч по пять заколотим к концу сезона, — обещает работягам хитроватый кацо. — Только не ленитесь, други, работайте, как скажу.
И други пашут от зари до зари, питаются кое-как, спят в каком-нибудь сарае, чтобы не платить лишних денег за жилье. Терпят, со всем мирятся, глотку понапрасну не дерут. Но кацо вдруг исчезает, заполучив всю сумму по договору.
Не ожидали други такого: коровник-то еще не достроен. На каком основании произведена выплата? Бегут к председателю колхоза, тот только плечами пожимает:
— А я что, бригадир?
В отчаянье шабашники доделывают коровник, чтобы получить деньги хотя бы за эту мелочовку и пропить до последней копейки.
— Не были богатыми, — успокаивают себя, — не хрен начинать. Давай, други, попируем напоследок.
И никто из них не знает, как будет жить дальше, на какие средства. Опускается в пьянке человек, а пьяному не страшна никакая житуха. И благо, если тебя заберут в спецприемник: там разберутся, пристроят в какую-нибудь организацию — трудись, зарабатывай на прокорм и одежду. А если не заберут?
Много потерял таким образом Тихон. Пытались как-то вместе подсчитать его потерянные доходы за последние пять лет.
— Тысяч пятьдесят! — удивлялась Клава. — Господи, деньжищи-то какие, Тихон…
— Стоп, Антроп! — не соглашался с женой работяга. — Это — мелочовка. Больше должно быть, но ты, как всякая безграмотная бабенка, просчиталась. Тысяч сорок не додала. Обижаешь мужика, обижаешь.
Чтобы не спорить впустую, она ему додавала эти сорок тысяч, и он, успокоившись, уходил на улицу.
Но Тихон — пьянчуга. Зато она — трезвенница, однако денег недобрала за свою жизнь не меньше его. Не умеет копить, не держатся они у нее — хоть убей.
Клаве не спалось.
9
Кроме богатеев, из деревни могли убраться и те, кто, отслужив срочную и вернувшись из армии, наскоро успел вкусить иной жизни и был не на шутку отравлен ее хмельным привкусом. Солдатики уходили, облапив напоследок стареющих родителей. Однако массового бегства из деревни пока еще не было.
Клава тоже поглядывала в ту сторону, куда уходил уже не деревенский народ.
Провожаю за околицу мила сокола. А слеза, слеза-то по лицу… Матка охала: — Не пущай его, касатика, не пущай его, солдатика-а…Причитали старушки, изуродованные колхозным трудом. И еще больше сутулились, точно брели против ветра — головой вперед, отяжелевшей враз от печальных думок.
Клава ничего уже не боялась. Ей было все равно: туда ли пойти, сюда ли, да и дорог, уводящих направо-налево, в ту пору еще не было, и выбирать не пришлось.
С вечера бродила по лесу, выходила на берег речушки и все смотрела куда-то вдаль. Печальными были глаза у нее, она прощалась с деревней, где жила, где любила, где впервые споткнулась под житейскою ношей.
Утром, погоняя поперед себя ребятишек, она отправилась по избитому большаку — в райцентр. Те, что ехали в район, развалившись в рессорных бричках, не замечали ее, не предлагали подвезти. Все насупились и молчали, будто тоже выбирали — одно из двух: ехать или вернуться? Дорожная пыль съедала топот копыт. И опять становилось пусто на большаке. Ни души. Ни звука… О погоне ей тогда не думалось, отошла — ровно оторвала от сердца.
Возле поворота на Слепушиху толпились какие-то люди. Подошла поближе — многих узнала: да, слепушевские! Но почему здесь? Рыдая и охая, люди подходили к телеге с белыми как снег узелками — такие собирают косцу, когда он уходит на целый день в луга. Клаве подумалось: может, кого-то на кладбище провожают? Она спешно подошла к тем, что толпились на обочине, и спросила: «Кого хоронят?» — «Хуже, матушка, — отозвалась какая-то старушка, незнакомая ей. — Отдаем на излеченье Таиску… Ох, работница-то была какая, ох, работница! Войну победили, а водку проклятущую не смогли… Мужики тоже попивают, но отдаем бабу, чтоб спасти: она дороже».
Люди скорбели по пьянчужке; тогда в деревнях еще могли сострадать всякому человеку, попавшему в беду. Потому и Таиску порешили отправить на излечение всем миром, чтобы вернуть — цену человеку знали, не холстины аршин…
Пятнадцать лет прошло с тех пор, как где-то за тридевятой землей отгремела война, а люди уж стали расползаться по своим укромным щелям, перегоняя и отталкивая при этом друг друга. Каждый старался вползти в свою щель, теплую и глубокую, чтобы скорее начать жить своей крохотной радостью.
Вскоре Клава устроилась в пошивочную мастерскую, получила комнатушку. Обласкали старые портнихи новенькую, заботились о ней. Какой кусок вельвету выкроят — ей несут: «Бери, Клава, чего-нибудь ребятишкам выкроить». И Клава выкраивала — детей одевала как куколок.
Потихоньку-помаленьку, но жизнь налаживалась. Нечего было бога гневить.
Летом старики продали дом-крестовик в Мечатном и срубили на окраине райцентра добрый пятистенок. Работать на дому приходилось только вечерами да в праздничные дни (он слесарничал, она обстирывала пекарню, выйдя из колхоза, где порядком износилась и надорвалась). Работали до упаду. И всем был хорош старик, но не любил, когда путаются под ногами — кто в помощники навязывается, кто с советом лезет, одна суета. Потому он отгонял от себя и родных, и знакомых, точно не доверял им, — всех отгонял, что крутились подле них, норовя прошмыгнуть в недостроенные сенки, а там — прямо к столу. Работали они на пару. Повсюду так строились, и они не хотели ни в чем уступать галдевшим соседям… А те спешили жить, будто готовились к какой-то необыкновенной завтрашней жизни: благо, что ее не только прославляли по радио, то есть на слух, но и в школьных учебниках печатали: огромные быки, фляги с молоком, улыбающиеся доярки в белоснежных, как у врачей, халатах, и цифры, цифры, цифры — просто в голове не укладывалось. Без десятилетки не осмыслить. За хлебом приходилось покуда толкаться в очередях, но все сознавали: завтра приближается, завтра уже на подходе, как уборочная страда. И каждому думалось об одном: «Не прозевать бы свою судьбу». А то бывает: судьба-то придет, но выпустишь ее из рук, точно скользкую рыбину.
И все каким-то необыкновенным, неосмысливаемым образом уяснили для себя, что в завтрашнем плодородном, богатом дне потребуется только крепкая крыша над головой, даже деньги — к чертовой бабушке! И люди торопились, отчаянно размахивая топорами, — в чувствах и мыслях они летели, как на пожар, не разбирая в бегущем потоке, кто здесь мужик, а кто баба. Так и в этой семье все спуталось. Разве что под комель, когда поднимали венцы, она не вставала — сам кряхтел, беспокоя раненую руку.
В жуткую для себя пору Клава ездила на окраину райцентра. Подгоняла лошадь к дому родителей, когда старик был на работе, и прямо с порога просила: «Выручай, матушка! Нету ни дров, ни картошки… Пропадаем». Старуха с оглядкой разрешала ей выбрать треть клетки из березовой поленницы и нагребала картошки. «Он ведь меня съест, — оглядывалась она, поминая супруга. — А ты, знать, до самой смерти теперь побираться будешь». — «Не буду, матушка, — отзывалась Клава. — Бог даст, заживем». — «И ведь отец-то у тебя такой же неудачник был, — ворчала старуха. — Бывало, башкой бьется о косяк, но поправить некогда. Скажу: поправь, нечистый тебя унеси… Так нет, после, отвечает. А война началась — с радостью бросился на войну. Понятно: в тылу-то робить да робить пришлось бы, а в окопе — хоть до пенсии сиди-посиживай, не обдерешься до самых косточек… Не добровольцы они, а лентяи проклятые, — потрясая сухоньким кулачком, ругалась старуха. — Убежали в окопы сидеть, так хоть бы после войны возвращались. Только и славы, что ласковым и заботливым был: когда председательствовал, отправит баб на работу, мужиков следом, а сам растянется на траве — ребятишки по пузе ползают, не нарадуются…»
На скорую руку они заметали следы: ровняли поленницу, разбрасывали снег, изрезанный розвальнями, чтобы старик ни о чем не смог догадаться, и — Клава уезжала, нахлестывая и торопя неповоротливую конягу.
«Больше не езди!» — кричала ей вслед старуха.
Еще один год проковылял, как хромой. Скрипучий, неровный год… Крепко доставалось зимой, когда от мороза стекла в рамах лопались и иней проступал на стенах, густой, как болотный мох. Обжигала дымная стужа. Вот когда раскрывались люди: и те, в кого она не верила сроду, и те, к кому не однажды думала обратиться, да все как-то не решалась. А спасли матушка с отчимом… Клава выбивала на хоздворе лошадь и ехала к старикам просить дров и картошки.
Тихон вскочил и убежал на кухню. Через минуту, отхаркавшись над ведром, он вернулся. Она заботливо накрыла его простынью: «Спи».
«Меня не возьмешь голою рукой!» — хрипел Тихон, опять от кого-то отбиваясь. «Не возьмешь, не возьмешь, — соглашалась Клава. — Только спи, ради бога. Без тебя тошно… Спи, Тихон».
В этом году через дорогу от дома, в котором они жили, местные власти открыли прямо-таки купеческую столовую. С утра до вечера на высоком крыльце толпились важные люди. Ленивые, в добротных полушубках, в белоснежных бурках с бронзовою прострочкой, с портфелями… Важные люди курили только «Казбек», сплевывая под ноги. А у них в каморке не было ни одной проросшей картошины, ни одной завалявшейся луковицы, и до получки нужно было еще тянуть да тянуть… И только тогда она увидела впервые, с какой ненавистью смотрит на людей, толпившихся возле столовой, ее сын, подсевший к окну.
«На этой зарплате не протянем, — решила про себя молодая мать. — Разобьемся вдрызг!»
Клава давно уже подумывала о том, что нужно ехать в Обольск, где по осени набирают курсы продавцов. Воровать, обсчитывать людей она, конечно, не смогла бы, но прилавок виделся ей не пустой подпоркой, а чем-то обнадеживающим, убивающим самую мысль о голоде. Этого не объяснить. Теперь осталось решить самый главный вопрос: возьмут ли родители своих внучат в дом? «Чего тут, — бормотала она. — Всего на одну зиму. Не объедят, господи прости! У самих родилась дочь. За троими и смотреть проще… Да и по две жизни все равно не проживут, а покоя когда-нибудь запросят! Покой, он дается при чистой совести…»
Отчим не отказал. Смирился. Все-таки слово хозяйки казалось тяжелее его слова. Но перед самым ее отъездом старики вдруг передумали и ошарашили Клаву своим новым решением: «Парнишонку берем, а девку — куда хошь девай! Трудно двоих брать, не справимся…» И как она ни плакала, как ни уговаривала родителей, чтобы пожалели девочку, те стояли на своем: «Отвези ее в абалакский детдом!» — «Потом же нас всех, — рыдала Клава, — совесть загрызет, и рады будем искупить вину перед ней, да не простит».
«Каку-то совесть! — отбивался дед. — Придумат, тоже мне. На едрену мать ты их тогда рожала, ежли топерь не нужны стали?»
«Нужны… Да разве вам, жандармам, объяснишь!» — Она выбежала на крыльцо — земли не видит.
Ребятишки играли в ограде. Она, точно одурев, бросилась к ним, плачет, обнимает, а сама слова вымолвить не может. Но пятиться было поздно, и Клава собралась в дорогу. До Обольска ехали в крытом грузовике. В Обольске, отыскав свое общежитие, Клава бросила вещи и, покормив дочку, отправилась на рынок. На рынке отыскала мужиков, которые привезли сюда из Абалака рыбу: грязные, облепленные вонючей чешуей телеги стояли в самом углу рынка. Кони еще не остыли, от них пахло прелой огуречной грядой и потом.
— Ты, девка, оставайся, — советовал Клаве возница, хмурый мужик в дождевике до самых пят. — Без тебя девчушку довезем и сдадим куда следует. А то, мотри, дорога не мед… Ухайдокаешься сразу, перегоришь.
Но Клава и мысли такой не могла допустить, чтоб отправить дочку одну. К вечеру рыбный обоз вышел из Обольска, выкатил на скрипучих колесах.
К Абалаку подъехали на заре.
Первая телега свернула к нему. Показались ворота, а сверху, прямо по глазам — «Школа-интернат».
— Ну, зря ты, дева, убивалась, — проговорил возница. — Не детдом это вовсе. Гли, напутали чего-то в твоих гумагах.
Через час, когда они сидели возле клумбы, в окнах стали появляться заспанные мордашки детей. Детям не спалось. Они каким-то чудом узнали, что в ограде интерната появились посторонние люди, и теперь прилипли к стеклам, точно спрашивая: не ко мне? Клаве стало еще горше, и она, натыкаясь на детские глазенки, отрицательно качала головой: не к вам, милые, сама собралась сдавать… Сдавать? Как телячью шкуру в заготконтору.
Они не завтракали, потому что в это время разбирались с «гумагами», а к обеденному столу дочка вышла уже в форменном платьице, села с краю, как сирота. Клава наблюдала за ней из окна, смахивая слезы. Девочка склонилась над миской и неумело вылавливала из нее суп — Клаве казалось: пустую ложку подносит ко рту. Коротко стриженная, с тоненькой шейкой, она отличалась от всех — коридорная сырость не слизнула еще с ее щечек детского румянца. Запах умывальной и туалета… Оттуда и наползала сырость, пропитанная жгучей хлоркой.
Ощущение этой сырости Клава унесла с собой, поклявшись забрать девочку в тот же день, как окончит курсы. Она знала — нигде не найдет тепла и покоя, пока дочь живет в этой сырости…
«Она еще рядом, — подумалось ей. — Может, забрать?»
Нет, не забрала.
Не помня себя, она вернулась в Обольск, а в глазах — дочка склонилась над миской и зачерпнуть из нее не может, опять подносит пустую ложку ко рту. Только губы мажет…
Клава едва забылась. Последнею ее мыслью почему-то была мысль о муже, который под утро затих, не метался больше, бросаясь на стену, не скрипел зубами. «Завтра куплю ему рубаху, — решила она. — Хочется белую-пребелую».
Кошка, подбежав к двери, промяукала, просясь на улицу. Сейчас должен был проснуться Тихон. Он встанет, как всегда, и выпустит одуревшую кошку, успев уловить «привкус» погоды, чтобы одется по ней.
Потом он снимет с печки ведро, разомнет руками вареную картошку для свиней, наладит сытное пойло корове и теленку, выйдет на улицу…
Вывалятся из конуры собачушки, запотягиваются, разминаясь, но тишина покуда не сойдет с привычного круга.
Тихон поставит ведро и присядет на крыльце, подзывая собачушек.
— Собаки, милые! — начнет он хрипловатым спросонок голосом. — Я вам честно скажу: жизнь прекрасна!
Скворцы, раскачивая на шесте скворечник, будут лопотать по-своему над головой Тихона. Прислушиваясь к их голосам, он из зависти, что ли, решит: вчера они веселей были. Ожирели, черти, обленились. Надо их шугануть, чтоб не заразили ленью.
После чего он подхватит ведра и шагнет к хлеву.
В соседях ругались с самого сосранья, как выражался старик, когда поминал квартирантов. Леха бубнил, Алка — не кричала, а чеканила пятки.
— Тунеядец, бич, шельма, — чеканила Алка, колотя ногой в двери. — Совсем обнаглел, бичара, — вторую неделю одна езжу на свалку. Кончать тебя надо, кончать.
— Бу-бу-бу! — бубнил Леха, закрывшись в сенях.
— Хрен тебе на губу! — злилась Алка, не переставая колотить в дверь. — Ты еще, бичара, попомнишь: я тебя на голяке оставлю. Вот увидишь. Божусь.
Через две минуты она показалась на Велижанском тракте. А еще через минуту попутная мусоровозка унесла ее в сторону городской свалки. Алка уехала на работу.
10
За ночь, казалось, тюрьма выветрилась. Табачная гарь осела на стенах, и свежий воздух бродил по камерам.
В сорок третьей уже не спали. Отлежав за ночь бока, малолетки разминались в проходах, приседали и отжимались на руках. Косточки потрескивали, когда отжимался Котенок: руки его не знали устали, потому он мог отжаться тысячу раз и не охнуть.
— Лучше тыщу раз по разу, — балагурил он, — чем ни разу тыщу раз. В рот меня высмеять.
Роман искоса наблюдал за ним и завидовал его непомерной силе и ловкости.
Потянулись первые часы нового дня — повторялся в точности вчерашний, опостылевший до не могу.
Писка и Зюзик — с этой мелкотой Роман почти не разговаривал, потому что не любил их за пустой, как прикрытый рынок, торг — кричать кричали, едва ли не набрасываясь друг на друга с заточками, а товару не было. Пустая, надоедливая болтовня.
Зато перед Котенком он мог раскрыться без боязни: верилось, что тот не плюнет в раскрытую душу. Честь не позволит, если она есть у него.
— Хохочешь, собака, — ухмылялся в подушку Роман. — Но я-то знаю, что тебе не веселей меня живется. Ты, брат, не из этих пустотелых, хотя тоже срублен прокурорским топором. Ничего, поговорим — я своего добьюсь.
— Чего шепчешь? — настораживался Котенок. — Порчу на нас напускаешь?..
На прогулке Роман заговорил с Котом о голубях, живших под тюремным козырьком, но Котенок, насторожившись, свел все к шутке.
— Не люблю говорить о птицах, — отвернулся он. — Да и прежде не любил. Сомнительный символ воли, этот голубок. Но верь в него, если по нраву, а мне не в кайф.
Больше они ни о чем не говорили. А Котенок, проехавшись на Зюзике верхом, запросился вдруг в камеру. Надзиратели вывели их из прогулочного дворика раньше времени.
Котенок не был глупцом, и Роман это прекрасно понимал. Шутка ли — тебе нет восемнадцати, а ты уже идешь по третьему разу! Прямо-таки изумляющий случай: за три с половиной года совершить три преступления, за два — отсидеть, а третье обыграть и вынести на стол судей в таком виде, что его расценили едва ли не как пустяк, что не тянет попросту на солидный срок. Котенок был башковитым парнем, опытным — из тех, что себе на уме, и в преступный мир он ворвался в четырнадцать лет, подкованным на оба костыля. Попробуй подступиться к нему.
В камеру Роман вернулся подавленным. Ему все казалось, что он вступил в игру с Котенком, но проиграл. Да и Котенок вел себя как победитель.
— Колбаски бы сейчас пожевать, — проговорил Зюзик, заваливаясь на койку. — Или стерлядочки распотрошить. Нет, я не выдержу — ломанусь прямо на автомат! Пусть стреляют, но шаг к воле…
— Дрыхни ты, блоха! — прикрикнул на него Роман и, не раздеваясь, прилег.
Ему не хотелось ни сладостей, ни пряностей, о которых здесь частенько мечтали вслух, ни игрищ, ни танцев в ДК. Больше всего он устал от молчания и спячки. Столько всего накопилось на душе, а выхода не было… Пустые разговоры не могли вычерпать из него застоявшуюся энергию. Она бурлила в нем, как гудрон в котле, раздирая ребра, но в любую минуту могла загустеть и схватиться намертво. Что будет дальше? Вот-вот прорвется оболочка — и озлобленность хлынет на того же Писку…
Никогда он не был таким одиноким среди людей, как здесь, в камере. Вроде бы люди, вроде бы говорят, но сердце не обманешь — оно, как белка, давно, оказывается, научилось сортировать орешки, на вид одинаковые: одни крепкие, другие же с горьковатой плесенью внутри. Эти были гнилыми…
Котенок, когда отходил от Романа, бравировал:
— Не тужи, кровняк! Подумаешь — срок какой… Как говорят блатные, не бери в голову, а бери… хоть куда!
И эта пошлятина не могла настроить против него, и Роман продолжал обхаживать Котенка со всех сторон. Мать сидела в сердце, мешала жить.
Чутким был он пареньком, наверное, в мать.
Он читал все подряд, но не было таких строк, что могли бы вернуть его к прежнему состоянию — когда живешь, ничем не мучаясь и не терзаясь.
Подумав о Котенке, он скосил на него глаза. Тот спал спокойно, привычно как-то — в излюбленной позе: поджав под себя высохшие ноги.
А ему не спалось.
И дрожь пробила, как тогда — дома у матери, когда приехала к ней бабушка, ее мать.
«Дом ли?» — улыбнулся тогда Роман, но придержал язык. Действительно, собрали его мигом, внахлест — как сарай, и не было в их труде той неспешности, какою веет за версту от хозяина, поднимающего пятистенок. Не работа, а насмешка над руками человека (он помнил, как строились бабка с дедом). Здесь — не то, и дом не тот, и дух не тот. Бабушка сидела по ту сторону стола, покрывшись огромной шалью. Одно личико светилось, как исхоженный и исчерканный птицами снег. Но он обратился к матери, а не к бабушке:
— И что ты решила сюда перебраться? Мне не трудно помочь, но я не пойму, как можно было уехать из села?
Тяжелая и усталая, она ответила каким-то непривычным, как этот домик, голосом:
— Понимаешь, сынок, в пятьдесят лет думается о многом. Вспоминаешь, как жил ты, что сделал за свою жизнь и что бы мог иметь. Не знаю, как объяснить. Но помню — глянула, а в квартире пусто! Вас обоих нет под боком… Вот и бросилась искать свою жизнь, пока не поздно да сила в руках есть. Не сидеть же одной, как сова? — Она волновалась, даже дыхание осыпалось в ее груди, как шлак между стойками в дощатых степах. — Не к бабке же было идти? Не к дочери же было присыхать? Здесь хоть свою жизнь устроила… Вон какой красавец сидит! — кивнула она на мужа. — Понимаешь, сын?
Тот улыбнулся матери, но с ответом не собрался. Честно говоря, он не понял ее. Зато поступок, на который решилась мать, бросив в селе неплохую квартиру, вызывал уважение. Внутренне он был за нее, отчаянную донельзя. Матери этот домик казался, может быть, огромными купеческими хоромами, но бабка убила в ней радость:
— Стыдобища какая! Халупа ведь… Дунь — и нету! Да разве б я стала жить в такой? — стучала она сухонькой ручкой по фанере. — А сколь денег ухлопано! А чем отдавать?
Всем стало неловко. Тихон съежился и опустил глаза. Роману хотелось одернуть бабушку, которую он уважал за многое — года два в детстве он провел в их доме и ни разу не был обижен ни ею, ни дедом — да слов не нашел. Только вспыхнул: «Родные ведь! И как она могла в такую пору спрашивать про деньги? Мать сидит вся в заплатках… Высохла бабушка телом, высохла душой…» Но мать была сильной. Она не взвыла, прикидываясь несчастненькой, а наоборот, расправилась, как птица перед полетом:
— Чем отдавать? — переспросила она, взглянув на мать. — Не собираюсь пока отдавать. Зато занять хочу рублей шестьсот — на коровенку. А, матушка?
— Ну, не знаю! Господь с тобой, — удивилась та. — Дед ворчит и без того: «На кой мне их дома? Деньги пущай отдаст! А че, че я — в районный город поеду натощак?» Вот и поговори с ним. Хозяин он у меня строгий, потому сроду не побирались…
— И я не побираюсь. У родных беру, у матери своей… Или ты отказалась от меня опять?
Ворошить старое не хотелось. Бабушка посмотрела в окно.
— Все не нажадничаетесь. Как всегда… Кой черт вас в Обольск-то понес? — спросила мать.
Бабушка смирилась.
— Спрошу его… насчет денег. Может, даст, — проговорила она, не отворачиваясь от окна. — Живите так, коль на большее нет толку.
Тогда он вдруг понял, что мать им не дочь, а вечный должник. Она полностью зависела от их денег: дадут — заведет корову, не дадут… И жалко ему стало мать — будто на его глазах топили щенка.
А бабушка через час спохватилась:
— Все, поеду домой! Ох, надо ехать, ехать.
— Да гости, матушка! Чего тебе там делать, с жадюгой своим? — пыталась она остановить старуху. Но та была настырной смолоду:
— Нет, поеду. — И всхлипнула: — Коровушка ждет! Руки здесь, ноги, а душа туда бежит, нечистый дух. Надо ехать, Клава.
Роман тоже решил ехать в училище, но мать уговорила его остаться еще на денек-два: колодец выдолбить. И он, проводив бабушку, вернулся домой. Родители сидели хмурые… Без разговоров постелили, что могли, на пол и проспали вповалку до самого утра.
Уезжая, он взял у матери только на дорогу — три рубля. Знал, что денег нет. Обнял ее, а она — литая, тяжелая и опять — чужая-пречужая… Родней не бывает, как понял позже.
Теперь он вспомнил об этом.
Вспомнил и о том, что сестра говорила на суде: старики переехали в Обольск. Продали дом, корову и переехали сюда. Здесь полюдней, повеселей сердцу… Но не его сердцу!
«Переехали… Интересно, дали они матери денег на корову или нет? Не может быть, чтоб родной и не дали? Хотя всякое было…»
В груди пощипывало, будто легкие приморозил. Но самым больным было то, что он понимал: никто никому и ничем не обязан даже в их немногочисленной родне! Он помнил, как строились старики, и знал, с каким трудом копились их рублики — к копейке копейка, одна другой круглей, и теперь их, этих копеек и рублей, было, наверное, ровно столько, чтобы дожить свою жизнь, припрятав положенное на смерть, к мысли о которой человек привыкает смолоду. С кого тянуть? По какому праву?.. И за мать, и за стариков, наработавшихся в своей жизни, болела душа, но мать все-таки… Ее было жальче.
«Милые, родные, помогли бы ей, помогли! Как-то надо подняться ей на ноги, сильной, хорошей, несчастной в своей жизни… Нет, я не могу требовать от нее передачу, не могу!»
…В коридоре загремела тележка с баландой, захлопали «кормушки», зазвучали голоса. И в сорок третьей все поднялись, как по команде.
— Ты че такой пришибленный, сроком придавленный, сморщенный, как тюремный бубон? — спросил Котенок, натягивая сапоги. Ножки не слушались его и выворачивались ступнями внутрь в широких, как трубы, голенищах. — Чего пригас?
— Да так, не спалось, — с неохотой ответил Роман. А когда подавал Дусе миску, вдруг понял и воскликнул про себя: «Так они же разные! И бабка, и дед, и мать… Все у них разное, потому что от разных кормушек отходили, а не от разных кровей… Она — голодом, но в душе столько света, они — сытые, а просят еще: когда деньги вернешь?»
— Отваливай, отваливай! — прогудел надзиратель.
«Выходит, что смахни кормушку — исчезнет эта проклятая разность! Заживем душа в душу!..»
— Ну чего встал? Дома надо было есть! Отваливай, — торопил надзиратель. — Навалили ему до краев, а он еще ждет.
«Теперь не до „кормушек“. Дай волю, хоть какую! Вот, наверное, в чем суть».
Едва поели, как дверь распахнулась. Писку с Зюзиком вывели по записи (единственная роскошь — записаться с подъема к оперативнику или в санчасть. Те принимали, если считали нужным. Правда, оперативник — кум — принимал всегда: мало ли? А вдруг тот, кто записался на прием, идет с сообщением о преднамеренном убийстве в своей камере?!).
— Зюзя, не вломи нас! — усмехнулся Котенок, провожая их взглядом. — А то фуганешь, тебе не заподляк, фрайеру.
Писка уходил в санчасть, хотя на болезнь никому не жаловался (лишь бы сходить, растрястись малость).
Они остались вдвоем.
Тогда и вызвали Котенка на «решку». Он подскочил к окну и, оттолкнувшись от коек, оказался под самой форточкой.
— Базарь.
— «Чайковского» подогнали, — полушепотом ответили снаружи.
— Ништяк, земеля! Я скнокал. — И тотчас свалился на пол, крепко сжав в кулаке какой-то пакетик. Но Роман знал, что Котенку заслали грев — щепотку чая, на запарку. Тюрьма тюрьмой, но запрещенный в камерах чай всегда имелся у заядлых чифиристов.
— Уколюсь хоть! — раскраснелся от волнения Котенок. — А то кровь закисла.
Роман стал помогать ему скручивать газеты… Эти плотные трубочки из газет горели подолгу, как лучина, и на пятой-шестой трубочке вода в миске, куда уже брошен был чай, закипала и пышная, пахучая «шапка» поднималась. Постоит пару минут — и пей (кто-то жевал чай, как жвачку, кто-то сосал, но Котенок, несмотря ни на что, только запаривал).
— Поглядывай за волчком, — попросил он Романа, а сам, откинув матрац, устанавливал миску на пластинах, чтобы снизу удобнее было держать огонь.
— У тебя есть время, — отозвался Роман. — Я буду слушать… От поворота, где кабинеты, — сорок семь шагов. — И он припал ухом к самому волчку.
«Шапка» поднялась. Запах чая перебивали испепеленные газеты. Так что можно было не бояться надзирателей: те давно привыкли к газетному дыму, потому что в камерах, где стояли параши, всегда жгли бумаги, стараясь убить таким образом несносную вонь.
— Вот и чифирнем! Подсаживайся, кровняк!
Но Роман отказался. Он не представлял, как это можно было пить такой деготь. Котенок, закатывая глаза, переливал пахучую жидкость из миски в кружку.
— А почему ты, Котенок, попал в третий раз? — ни с того ни с сего спросил Роман.
Котенок посмотрел на него, как на глупого воробья, что стаями кормились под окнами тюрьмы и порядком ожирели с перекорму и оглупели, но ответил:
— Понимаешь, что-то вроде несоответствия гонит обратно сюда. Пищишь, но лезешь.
— Какого несоответствия? С чем? — удивился Роман.
— Не с чем, а с кем. Скажу прямо: с людьми, — он жадно отхлебывал из горячей кружки.
— А люди-то при чем? Каждый по себе… А ты живи, как вздумается, среди них. Не пойму я тебя. Объясни попроще, — попросил он Котенка.
— Япона мать! — сплюнул тот. — Потом поймешь. Не через мое слово поймешь, а на собственной шкуре испытаешь, когда выйдешь на волю. А так… Понятно, может, и будет, но… Как стишок — сегодня заучил, а назавтра— башка пустая! Вот так, — неловко объяснил он. — Понимаешь, ты выйдешь, но люди — не те!
— Как же — не те? Что — мужики превратятся в медведей, а бабы — в коров, что ли?
— Да, ты прав. Люди, может, и те, да я, оказывается, перекован уже настолько тюремным миром, что не ходится мне по земле одной с ними.
— ?!
— Ну, идешь… И шел бы себе, — обжигался Котенок. — Да нельзя. Потому что всей ступней, костылем чуешь, что не по своей земле ты шагаешь! Чужая она тебе. Почувствуешь — и начинаешь рвать да метать со злости. Не убьешь же всех! Зато они тебя запросто сбагрят… Чух, и нету тебя!
— Все равно не пойму.
— Я тебе сразу сказал, что этого не поймешь разумом. Надо, кровняк, пережить самому… Словом, после откидона из людей вылетаешь, как пробка! Щелк — и нету. Где она? В зоне.
— Кто же меня вытолкает! Я сгребу ломик…
— Наконец-то! Как до утки, но дошло, — даже обрадовался Котенок. — Именно этого ломика они будут ждать от тебя! А как уж ты схватишься за него… В общем, исход один: тюрьма. Срок.
Роман опустил голову, но отступать было некуда.
— По-твоему выходит, что никто не приживается после срока? Я знаю многих, что отсидели. Живут, как все. Мужики деловые…
— «Мужики! Деловые», — передразнил Котенок. — Они — мужики, да ты малолетка. Кто тебя, неуча, возьмет в хорошую бригаду? Ну, с чем ты, с каким опытом придешь к работягам?
— Учиться пойду.
— Никуда ты не пойдешь, — спокойно возразил Котенок. — Ученик, тоже мне! С клеймом-то на лбу! Может, в юридический пожелаешь, а? Давай, там тебя встретят, как в зале суда.
Здесь он ничего не мог сказать Котенку, потому что никогда не интересовался юридическим институтом, но в техникуме его шарканули по мозгам — не тот абитуриент! И он понимал, что во многом Котенок прав, да поверить не желал в эту правоту, душа упиралась, не желая ее принимать.
— Это только на словах: «Здравствуйте, товарищи!», на деле же, — расходился Котенок, — брысь! Втайне, но презирать будут. Будто ты из плена вернулся. Вроде на родине, а не то, не то! Понимаешь, кровняк, мораль такая… Она у каждого в крови… Она направляет человека и всех людей по одному руслу, но если вылетишь за борт — уже плохой. Был хороший, но сдвиг — и уже плохой, то есть вне морали. Да и как иначе? Ты пакостишь, а на тебя молиться будут? Они сожрут тебя не потому, что ты слабей, а потому, что ты оказался в стороне… Собственно, тебе еще рано думать о воле. Думай о зоне.
Роман умехнулся.
— Что о ней думать? Привезут — и выйду. Гаркну: «Земляки есть?»
— Выйдешь? — закатился Котенок. — Ты знаешь, как выходят? Думаешь, что приедешь в единую семью? Нет, там надо уметь вертеться. Иначе сомнут и растопчут, как щенка. Тяф-тяф, и мы в раю!
Котенок обалдел с чифиря. Кровь гоняла его по камере, и он с удовольствием, прищурившись, носился туда-сюда. Но Роман был доволен тем, что хоть так удалось связаться с Котенком, перебросить мостик…
Настроение Котенка передалось Роману, и он глянул в мир… Да, он вроде как даже настроился против него, видя в себе борца, способного поспорить хоть с чертом. Прилег, зажмурился, а изнаночная, обратная сторона всей жизни сразу же предстала перед глазами, как широкий экран, на котором возникали не замечаемые прежде предметы и фигурки людей. Они почему-то разбудили в нем непонятное чувство — то ли он злился на всех, то ли просто не любил всех, не уважал, а они, как назло, лезли в глаза. Неизвестно, чем бы это кончилось, но вовремя загремел запор, и в камеру ввалились Писка с Зюзиком.
— А, фуганки вернулись, — недовольно бросил Котенок, видимо оттого, что ему помешали. — Проходите, пока не стоптал.
Оба подростка прошли к своим постелям и завалились.
Эх, как тронут я был одинокой рукой! Я тебя полюбил, Хоть какой…Но, не допев, Котенок прислушался. В коридоре, судя по голосу, пищала медичка, толкая впереди себя тележку с медикаментами.
— Опять голова болит? — удивлялась она. — Не конструкторы, не ученые… Почему у них так головы болят? Опять весь анальгин раздала, больше нету. — Тележка прокатывала мимо сорок третьей. — Ничего, без таблеток не передохнут. И здесь стучат! Иду, иду… Голова у тебя нормальная! А то, что мозгов нет, — отбивалась медичка, — так я не виновата. Копи, бандюга.
У нее голова не болела, не раскалывалась от дум. Особого усердия от нее тоже не требовали, хотя обход камер оплачивался ей в двойном или в тройном размере, в отличие от обычного оклада, которым довольствуется любой врач на свободе. Рубли здесь начисляли и за вредность, и за опасность… Нет, голова у нее не болела, не беспокоила ее и душа.
— Ты был у нее? — спросил Котенок Писку.
— Конечно, был. Вот витаминок дала, — ответил тот. — Она меня одного сегодня приняла. Из любви.
Но Котенок, искривившись, перебил его:
— Хватит, не фень, брат! Зачем это тебе? Я, допустим, иногда тоже ботаю, но ведь для смеха. Вяжи, кровняк.
Может быть, это было неожиданностью для Зюзика или для шкета, но не для Романа. Для Романа Котенок не изменился как бы вдруг, а стал самим собою. А Котенок мог срубить любого, поэтому в него верили именно как в блатного.
— Я понял тебя, Кот, — покорно сказал Писка. — Завязываю, как говорится, на время. Не сердись.
— Глупец! — усмехнулся Котенок. — Мне-то все равно, как ты будешь лопотать. Просто уж слишком усердствуешь, в рот меня высмеять. Не «фекла» богиня, хотя она замешана на крови сотен и тысяч, а воля! На нее молись, как на бабку родную. На во-лю!
Писка и Зюзик попадали на кровати. Они поняли, что мешают Котенку. Больше с ним вообще нельзя было разговаривать… Котенка раздирали собственные вены. По ним, толкаясь и перегоняя саму себя, гуляла хмельная кровь. Голова кружилась… Через пять — семь минут чайная волна должна была выбросить его на отмель. Тогда только наступит прежнее состояние, и он присохнет к постели, как колода, которую ничем уже не свернуть до самого утра.
— А ты… Ты думаешь, что сам по себе проживешь! — дикими глазами посмотрел он на Романа. — Физически возможно… Как в опале… Чашка своя, ложка, сухарь… Но для этого, брат лихой, надо будет жить какой-то сугубо своей жизнью. Отрешенной, да… Как духом единым! Понял? — на лбу его выступил пот. — Не понял! Ну все, все!.. Все, расход по мастям!.. Все!..
Роман не произнес ни звука, видя, как бесится Котенок (в прошлый раз оскалился Зюзик — Котенок навернул его костылем, будто баталкой городок смел). Но в душе он ликовал. И дрожь раскатилась по застоявшемуся телу. Он слышал, как она прошла по рукам и отложилась в кончиках пальцев. Даже в щеках скопился невыносимый зуд. «Теперь мне будет легче!» — радовался он, плотнее прижимаясь гудящей головой к подушке.
«Борец» забывался, как после крепкой бани. Грохот тележки, катящейся по коридору, больше не раздражал его.
11
Котенок привык своими глазами смотреть на мир и по-своему все оценивать. Беда заключалась в том, что слишком много глаз было у этого паренька на костылях. Ему казалось, что они были на затылке, горели в ключицах, даже плечом он мог увидеть человека, с которым случайно сталкивался где-нибудь в темном подъезде. Глаза ему не давали покоя, будили «больные» мысли, мешали ему спать, двигаться так, как он двигался прежде, жить мешали… Эти проклятые глаза копили в нем боль. Но Котенок не выставлял своего сердца напоказ, никому никогда не плакался по-сиротски, как будто предчувствовал заранее, что сочувствия не встретит ни в ком. Последние пять лет он прожил просто, почти без борьбы. Прежде, когда его с поврежденным позвоночником привезли в больницу, он хотел жить и жить, потому сразу же, по первому слову врача, включился в борьбу со своим недугом. Но, отстояв себя, свою жизнь, он не стал отстаивать свою судьбу. Вышел из больницы и покостылял, куда глаза глядели. Тогда впервые пришлось ему увидеть людей, смотревших на него не с сочувствием, а с презрением: «Смотрите, какая каракатица ползет!» И он покатился… Сначала пил для того, чтобы запросто вломиться в строй танцующих на городской площадке и станцевать на руках. Крутился, потешал народ, но никого не трогал, пока те сами не подавали повода. Кому-то становилось весело, он хохотал, а Котенок, приняв все на свой счет, подлетал к весельчаку и на глазах у всех срезал его под корень костылем. Так он набивал руку, таким образом добывал авторитет. Слишком скоро понял, что авторитет в его положении — ерунда! Ему говорили: «Бацай, Котяра!», а за глаза насмехались над его обезьяньим послушанием. И он видел это собственными глазами, которых у него оказалось в десять раз больше, чем у обычного человека. От этого и страдал. Теперь бы его вполне мог устроить один глаз, как у камбалы. Однажды он чуть-чуть не убил человека, угодив костылем повыше уха. А когда склонился над ним, потерявшим сознание, то поклялся себе: «Шабаш, Котяра! „Бакланом“ быть стыдно, а уж мокрушником… Увольте, господа салаги!..»
С тех пор он не появлялся на танцплощадке. Стал воровать, трудно и бессмысленно воровать в одиночку, как воруют те, кому и не нужны даже ни вещи, украденные из квартиры, ни деньги. Такие воруют только для того, чтобы создать иллюзию собственного превосходства над другими: вы, мол, не уроды, но лопухи. Захочу — по миру вас отправлю, и летите на чужбину, как отощавшие гуси… Киоски он щелкал, как орехи. Ворованное выбрасывал или сжигал, и домой приходил повеселевшим: «Мамуля! Мечи на стол!..»
Прихватили Котенка первый раз, а там пошло, как по наводке, — второй, третий… Опять камера. Теперь он крепко усвоил, что человек может прожить счастливо на земле, если не споткнется ни разу. Споткнулся — вот это и будет той колодкой, которая выправит тебя по своей форме. Где ты можешь укрыться? Среди какой толпы растворишься, искрошишься, как снежок? Теперь и судьба одна. По этой судьбе тебя найдет всякий ефрейтор без собаки. Она — след, свойственный только тебе. Оступиться впервые — это значит навсегда!.. Так рассуждал Котенок, любивший с самим собой поговорить и веривший, что в этой правоте он сильней всех надзирателей и судей. О сокамерниках вспоминать не приходилось. Хотя к Роману в глубине своей одичавшей души он невольно затаил неуместную, на его взгляд, симпатию. Это злило его, и он, как никогда прежде, боялся вдруг остаться не наедине с собой. Его проклятые глаза давно уже раскололи мир на «я» и «не я», которому он не желал, не хотел подавать горячей своей руки, даже пальца, считая, что «не я» перебьется — не велик фрайер! И «не я» пока действительно перебивался, по «я» был встревожен, даже слишком. Потому он, наверное, и расколол «не я», вырвав из него Романа.
Они сидели на верхней койке, вблизи окна. Роман сегодня забрался сюда первым. Он вдруг почувствовал, когда проснулся, — струя воздуха, бьющая из форточки, была такой же сильной, но уже не холодила и не окатывала, как вода. Она была весенней, теплой, и к ней можно было спокойно прижаться щекой. Котенок забрался следом, и они разговорились, не обращая внимания на Писку с Зюзей, мотавшихся без дела по камере.
— Вторая, третья ходка… Как, видно, покатит. Но не пойму Зюзика, — рассуждал Роман. — Сидел, рванул когти… А куда бежать? За сроком. Через год бы его подчистую выгнали.
— Не выгнали б, — возразил Котенок. — Ты думаешь, что он, рисуется? Нет, это предчувствие срока. Откуда оно берется? Душу, брат лихой, не обманешь. Если душа тревожится, значит она уловила тревогу, охватившую весь организм. То есть организм первым осознает, что не имеет способности преодолеть срок. Вот и паникует человек, бежит от самого себя…
— Не знаю. У меня нет предчувствий… Честно говоря, я даже не думаю о какой-то раскрутке.
— И я не думаю. И мне, дураку, остается только со спокойной душой отломать положенный срок. А Зюзик, — видишь как он мечется?
— Зато Писка спокоен, — проговорил Роман.
— Гирька! Трехсотграммовая гирька, а не человек! — улыбнулся чему-то Котенок. — Такие и в радости и в беде не меняют своей массы. Вчера триста грамм, сегодня триста… И все равно ему, на каких весах лежать. Зюзику трудней.
— Зюзик дурак! У него на лбу это написано… Мне его не жалко даже, — горячился Роман.
— И ты не зарекайся.
— Да брось ты! Побег? Ну, какая чушь.
— Все говорят: чушь! А сроки наматывают, — вполголоса заводил Котенок свой хоровод. Роман как будто забыл о том, что тот не любит говорить впустую, что и теперь наверняка не от скуки подсел к нему. Он даже не вспомнил о своей цели — сблизиться с Котенком, чтобы поделиться с ним, как с другом, самым сокровенным. Голова пока не работала. Но Котенок подводил его к своему кругу.
— Никто не хочет сидеть, а сроки гребут лопатой, — продолжал он. — Его отталкивают, а он пищит, да лезет. Прет на запретку. Все ему по фигу!
— Может, бьют?
— Конечно, бьют. Но если уж попал, то будь мужиком, в рот меня высмеять! Здесь, повторяю, предчувствие срока… Оно гонит тебя по прямой — в полынью так в полынью. Ты еще увидишь всякое.
— Я тоже живой! — сопротивлялся Роман, действительно не понимая, о каком предчувствии говорит Котенок. — Я тоже живу, но без предчувствий. Знаю одно: получил срок, так отбывать его придется целиком, и отбуду. День в день. На какое, к черту, предчувствие полагаться?
— Ну, конечно, — усмехнулся Котенок, — отбудешь. Куда денешься. Тут и рассуждать ни к чему: сидишь в камере и зубов пока полон рот у тебя. Клацай ими… Думать начнешь, когда крепко ударишься обо что-нибудь да сломаешь ребра три-четыре.
— А что — камера? Не сижу, что ли?
— Лежишь. В зоне начнешь сидеть. Вот там тебя затянет под лед, а здесь — в детсаду. Вот там прибалдеешь, как верблюд в песках! — сорвался он сверху и, как бы налетев на костыли, застыл в проходе — спиной к Роману, но и лицом — к нему же. — Вот там поймешь, что кодекс — как электропила! Ты налетел на нее, она вцепилась вращающейся цепью тебе в ногу, побежала — по штанине, по рукаву — к воротнику. Вроде бы ты отключил ее, но цепь вращается и будет вращаться, кусая тебя, еще секунд тридцать. Кусается? Она затихнет только тогда, когда изорвет тебя, исхватает, как пес. Нет, ты там еще не был… Ты лежишь в детсаду, где Дуся кормит, а надзиратель оправляет. А там тебя зацепит, как Зюзика. Я прав, Зюзилло?
— Ништяк! — по-глупому улыбнулся тот. И Писка сидел рядом с ним, испуганно прижавшись к столу. — Там — зона… Там надо рогом шевелить.
— Даже он сообразил! — Котенок, вылетев из прохода, заметался по камере. Он бегал от двери к окну и швырял в остолбеневшего Романа: — Даже он согласился, что «ништяк»!
— Там будешь сидеть! — орал Котенок, волоча за собой усохшие ноги, и только чудом с них не сваливались сапоги. — Вот и разберешься во всем. Придешь за кражу, а раскрутят за побег. Обрастешь сроком, как бочка ржавчиной. Судьба. А какая у тебя судьба? Пока неизвестно. Но зона, поверь вечному зэку, ответит на этот вопрос. Я вот часто думаю, — приостановившись у стола, закурил он папиросу, — иной подлец каждый день крадет или разрушает, а ничего… живет. И никто ему не скажет: сволочь! Никто не скажет, пока не скажет прокурор. Украдет он вагон щебенки — все промолчат… Другой же плюнет не там, пописает за углом — шесть месяцев навесят (здесь-то уж каждый из прохожих углядит преступление!). Прокурор не заметил, так сами люди слопают человека за такую мелочь. Редко штрафуют, а уж заявку накатать… Тьфу, твари! И никто не увидит, как тот, с шестью месяцами, из какого-нибудь слесаря превращается в рецеде: подцепил червонец и катит на строгач. Судьба? Конечно, судьба. Я таких видел… А ты, Роман, не встречал?
— Пока нет. Но будет вре…
— Будет, будет! — прервал его Котенок — Прямо здесь и сейчас. Вот он, один из таких, как бы в зародыше, — кивнул он на Писку. — Прямо говорю, в глаза. Или не так?
Но Писка в эту минуту рассматривал бледные пальчики своих рук, низко опустив головку, и потому просмотрел кивок Котенка. Зато Зюзик был начеку:
— Ништяк! — согласился он.
— Вначале не думаешь о сроке, хватаешь его, — погрустнел вдруг Котенок — А после каждый час не меньше пуда… И давит, и давит сверху… Глотку перехватывает… — Он едва справился с дрожью в голосе и скрипнул зубами: — Попал — терпи и не распускай грабли! А то словом обидят, но ты беспощаден — хватаешься за нож, дикий абрек! Схватился — ага, червонец приобрел… Какие обиды? От гордости, что ли, господа дворяне, воспаляетесь? Может, от чрезмерного ума? Ша, фрайера! — выкрикнул он. — Я-то знаю, что вы дурачье. Те, кто умен, не сидят на параше, а занимаются в каком-нибудь творческом кружке при Доме пионеров. Они не крадут, не режут… Хорош, преподал! Ша, фрайера!.. — и Котенок, сплюнув, грохнулся на свою койку. Правая нога откинулась в сторону, будто ее оторвали и, Котенок, лежа на боку, потянулся к ней — достал и прижал к животу, как щенка, без которого бы он не смог уснуть.
И больно было смотреть на него. Роман отвернулся к окну. Дурацкая кутерьма. Он даже не помнил, с чего начался этот крик.
«Страной правит добряк… Но он не судит! Когда не судит добрый, — это и есть самое зло. Тюрьма набита до отказу… Разве не видно эту кровь?» — говорил Котенок. Вчера говорил? Сегодня? Время смешалось, перепутались минуты и часы в одних сутках, как разные грибы в корзине.
«Они не крадут, не режут..»
Котенок как будто нарочно наталкивал Романа то на одну, то на другую мысль. Они были непривычными… Они понимались, но не проникали внутрь сердца. Полюбить их, поверить в них было пока невозможно; так же невозможно, как довериться якобы доброму человеку прежде, чем поймешь и убедишься в том, что он на самом деле добр.
Но Роман точно знал, что и ОНИ крадут и режут… Котенок здесь переборщил, и этим поставил под сомнение весь свой нервный монолог.
«Они не крадут, не режут…»
…Густой иней. Будто пену с кружек сдули вблизи пивной. Светится дымный «аквариум». От самых дверей — холодная полоса, ведущая в бесконечность. Но земля по-прежнему ощущается, по-прежнему в нее вбивают каблуки, и она мелко точит их, как крыса, стараясь свести на нет. Где-то громко переговариваются люди… Закрывается пивная, этот «аквариум», этот «Бычий глаз».
Отяжелевший от пива и «ерша» народец почти на ощупь подбирался к освещенной улице всем косяком. Поодиночке нельзя, потому что здесь, в трех шагах от пивной, находится общежитие строительного училища, возле которого допоздна околачиваются подростки, любящие пошалить на досуге. Их боялись. Слышали — боялись, видели — боялись, и жили потому как бы с оглядкой. В родном городе, как в чужом. Но все равно выпивохи умудрялись попасть в непонятную историю. Какого-нибудь, самого отчаянного, вылавливали во дворе общаги и накрепко привязывали к водосточной трубе, и затыкали рот перчаткой, чтобы не орал. Потом уж стучали в дверь общаги, вызывали дежурную старушку (молодые старались не дежурить по ночам), — надо было подороже продать пленника.
— Бабуля! Мы ведь ждем… Ты что, в натуре!
Открывалась дверь, стонал «товар», пробуя выплюнуть кляп, и старушка невольно обращалась к нему всем своим добрым личиком.
— Что вы делаете, хищники! — напускалась она на парней. — Отпустите же человека, пока он не кончился на этой дыбе. Сколько раз говорила, чтоб убрали эту трубу, сколько раз!
— Нельзя убирать, — подступали вплотную подростки. — По ней дожди в бочку стекают, а не помои. А «товар» оценивай резвей — в твоей воле… Иначе погибнет человек.
— Паразиты! И что на сей раз просите?
— Пропусти к девкам. Через пару часов слиняем. Не пропадать же ему!
А пленник стонет, косясь на старушку.
— Мы нарочно его, как Христа, распяли, чтоб ты была помилосердней. Если будешь резину тянуть, присобачим на гвозди. На «сотку». Может, побожиться?
— У ты, нехристь! Тресну вот замком… — не решалась пока старушка впустить их в общежитие.
— Не торгуйся, мать! Человек, можно сказать, при смерти, а ты цену набиваешь. Не свинью продаем. Так пускаешь?
— Ну, хищники! Ох, хищники! Я вот в милицию позвоню, — грозила она.
Но «хищники» стояли на своем до тех пор, пока она не соглашалась пропустить их в общагу «на пару часов». Мужика отвязывали.
К вечеру возле крыльца — опять столпотворение! В основном, городские парни. Стоят, обсуждают что-нибудь…
— Этот с Маринкой шарится… Борзота!
— Он давно выпрашивает. Тогда еще надо было его цепями зарубить, гада! — В эту пору по Обольску таскались с цепями от бензопил. Протянут такой вдоль хребта… Любую простуду вышибут, со сломанной ногой полетишь, не касаясь земли… Нет, с цепями не шутили…
— Их всех ушибать надо! Скупить, как на базе, оптом…
— Опять в грузчиках?
— Ну да.
— В училище бы шел. Столяр — отличная спецуха! Почему не идешь туда?
— Ты же знаешь, я человек вертикультяпистый: могу завертикультяпнуть и вывертикультяпнуть. Голимый срок, голимый! А я не хочу пока сочинять ксиву домой: «Сухарей не надо, сало, масло шли».
— Да, там глухо, как в танке.
Те, что уже побывали «там», нехотя начинали откалывать и выбрасывать на круг ценную информацию — кусками, чтоб не все сразу.
— Главное, в тюряге не опуститься. На зоне полегче будет: придешь — и земляки примут в свой косяк.
— Прописка, говорят, трудна. Не каждый переносит.
— Ты прав. Бывает, что колются аж до самого «карего глаза», — заверяли обеспокоенного пропиской. — Потому и кричу тебе: не бегай с этой цепью, повяжут. Пасхи три схлопочешь.
— Один, что ли, я бегаю с ней?
— А вот за это там вообще убивают! Попался — не закладывай, а то запорют ночью гвоздем.
Кое-кто даже попытался незаметно снять с руки эту опасную цепь, что острым браслетом стягивала кисть руки, но почему-то не получалось. Без нее бы, конечно, было спокойней…
Зазвенели стекла и посыпались на стылую землю. В светлом проеме окна кричали и размахивали руками. Полосатая штора, выбросившись из окна, болталась в воздухе, как нераскрывшийся парашют. В одной из комнат дрались. С минуты на минуту сюда должна была подкатить милицейская машина — об этом знали толпившиеся во дворе, как знали и о том, что дежурная повисла сейчас на телефоне, вызывая милицейский наряд.
Вот так каждый вечер. Драка, звонок в отделение и привычный разговор с дежурным офицером:
— Драка… Что там происходит в данный момент? — спрашивал офицер.
— Табуретками бросаются, окно вынесли…
— Ну, какая малость! — иронизирует тот. — Поторопились со звоночком. Когда полетят топоры, тогда звоните.
— Разве так можно поступать! — негодует дежурная. — Присылайте срочно наряд!
— Уговорили. Отправляю машину, но — стекольщиков нет. Даже в вытрезвительных камерах! Сапожник без сапог… Ждите.
И наряд выезжал… размяться, хоть так скоротать смену. Будущих работяг не брали (пересажаешь, а кто на стройках станет работать? Папа Карло?).
Роман не заметил, как вжился в эту компанию, но в душе гордился тем, что вырвался из серого стада пэтэушников. Не дома живешь — значит взрослый, и вправе выбирать по своему усмотрению друзей-товарищей. В училище занимались днем часа по четыре, затем он отправлялся в спортсекцию, а вечер наступал — голый, как зимнее поле. А хотелось общения: хоть в пивной сиди, чтоб среди интересных парней! Вначале они потешались, позже потехи переросли в зубастые и тесные, как собачьи свадьбы, потасовки. Но и к ним быстро привыкли. Очень естественно потасовки превратились в охоту на людей. Кошку изорвать на куски — не охота, а детская возня! Копнули глубже… И косяк вышел на охоту.
Морозец не крепок. Идешь по снегу — точно гвозди вколачиваешь, и возбужденное сердце, почти не размахиваясь, бьет под мышку. Иногда, правда, где-нибудь в темном переулке этот же снег хрустит так, как будто там кости грызут или хрящики пережевывают. Но кружит косяк, играет в крови знаменитый «ерш», — они ищут жертву. Навстречу идут люди, почти все знакомые, и друзья приветливо здороваются с ними. Как же иначе? К этому здесь привыкли, потому что все, кроме Романа, дети уважаемых родителей: не школа, так райком.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте, дети! — кивали прохожие.
Но «детям» не нужны были прохожие, им нужен был прохожий, какой-нибудь одинокий человек, чтоб без свидетелей… И они его находили. И поражали незнакомца в порядке общей очереди. Первый бьет, бьет кулаком. Жертва падает, и ее, оттачивая новый прием, добивают на снегу остальные: сколько приемов, столько ударов. И пощады не будет, хотя человек, захлебываясь кровью, просит: «Парни! Ребятишки, вы че?!» — «Лежи, пьяная сволочь!» А чаще — молчком, будто свиную тушу разрубают. Сроду не голодавшие, не зная, как избавиться от дурной силы, они хрипели над жертвой, пока поблизости не объявлялись прохожие. Нужно было линять, и линяли, выдыхая на бегу: «Опять хлюпик! С первого торца — навзничь!..» Но стойко держались на ногах пожилые мужики, которых перехватывали, при выходе из пивной. Таких приходилось обступать сразу всем косяком.
— Побазарим, паханок…
— Как на фронте говорят! Всегда рад… — Он шарил по карманам полушубка, думая, что у него просят закурить. Щедрый, готовый отдать последнюю папиросу, никак не мог нащупать пачку. — Счас, парнишки, счас… Язви ее, куда-то запропастилась…
И в этот миг тяжелый кулак врезается в его крупные беззащитные губы, как приклад карабина. Он, охнув от неожиданности, тяжело заваливается на спину почти на прямых ногах и падает. Шапка, слетевшая с головы, предает его, и он бухается прямо затылком на мерзлую землю. Гудит земля, чего не слышат «охотники», гудит. Она гудит, оскорбленная подлым ударом. «А-а!» — стонет человек, приподнимаясь на локтях. Лицо, грудь, живот, пах — все обнажено, открыто, как на операционном столе. И так же, может быть, он приподнимался там, в медсанбате, когда из него вынимали покрытые пороховой гарью осколки, и так же стонал, рассматривая хирурга: «А-а!» — «Вставай, брат!» — хрипит он, ничего не видя перед собой, потому что не может поверить в то, что перед ним не подростки, а враги. Сознание, светлея, обличает, но душа протестует против этого. Вот он протягивает руку: «Погодите, стервецы! Счас я поднимусь…» — и ее перерубают цепью, как серпом. Тогда он переворачивается на бок и, оттолкнув тех, что наседали, встает на колени.
— Стыдно, паханок, на коленях!
— Ничего, — хрипит он, — стыд я оставил на фронте. — И сплевывает, поднимаясь. Его пинают, он опять тяжело заваливается, но вперед — бороздит плечом, щекой и виском окровавленный снег. Но протрезвевший, с перебитой рукой, он все-таки находит в себе силы подняться и шагнуть навстречу врагу. Голова огромна, он наклонил ее, идет… Шаг, другой… И не может ухватиться — кругом один воздух. Теперь прежняя сноровка изменяет ему, но он хватает, хватает холодный и липкий воздух. Его бьют, но не могут сбить с ног. Видно, он подтянулся и налился устойчивостью. Чем тверже он стоял на ногах, тем азартнее нападали на него враги. И если хлюпики после первого же удара падали на землю и, как дворняжки, поджимали хвосты, то этот, наоборот, двигался и надвигался на них, на врагов своих. Вместо лица — кровавый сгусток. Но вскоре силы изменяли ему, и он со стоном оседал на гудящую землю.
Больше его не встречали… Может быть, и встречали, но мужичье — всегда на одно лицо. Зато Роману, выросшему среди такого мужичья, виделся он в каждом прохожем. Роман жалел его, даже страдал, но оторваться от косяка, признавшись в своей слабости, уже не мог. Охота продолжалась. Размах ее рос, и группы-косяки росли… Потому, наверное, одинокие прохожие исчезли совсем, как выбитые звери, перевелись. Напрочь. Но косяк по-прежнему верил в удачу.
В этот вечер охота не удалась, и они ввалились в пивную. Цедили пиво, вели разговоры в глухоте и тесноте «Бычьего глаза». А когда Роман отправился за очередной порцией, то там, где он только что стоял с товарищами по косяку, загремели посудой, закричали: «Топчи его, топчи!» Когда он оглянулся — над головами сцепившихся кто-то размахивал не то вилкой, не то складешком, не раскрытым полностью, и кричал: «Па-ре-жу!» Падали и бухали о цементный пол тяжелые пивные кружки, скрежетало стекло… Крики, рев… Когда куча мала хоть как-то обозначилась и внутри ее, в горячем ядре что-то хрустнуло, завизжало, вырываясь наружу, — тогда только Роман бросился к дерущимся, вспомнив о товарищах. Приблизившись к ним, он попытался сорвать и скатить на пол хотя бы верхних, но те связались крепко, и не было никакой возможности докопаться до того, кто так страшно вопил снизу. Казалось, что нижнего не душат, а жгут его тело горячими сигаретами, как при пытке. Никто не бросился на подмогу, и Роман, изодрав в кровь руки, из последних сил старался разодрать этот шипящий, как змеи, клубок. Поняв, что ему не растрясти их, он вскочил и стал пинать ногою, как будто только от тяжелых пинков могла рассыпаться эта змеиная куча. И, верно, с заплеванного цемента к нему потянулись, спружинив, руки, лица… Поднялись. Но он, отступив на шаг, успел все-таки перехватить то, что брызнуло, как с точильного диска, огнем, блеснуло сталью, и направить в сторону набегавших. Два, три ли раза успел он ткнуть… И набежали патрульные, точно за углом пивной ожидавшие этого рева, чтобы разом накрыть шпану. Они обрушились на Романа (он стоял в этот момент спиной к двери) и ловко его скрутили. На пол из вывернутой руки упал складишок, и мужики, очнувшись наконец, чуть ли не разом выдохнули: «Нож!» В омертвевшей пивной бормотала одна уборщица, собирая с полу битое стекло: «Нож… Они там без нас разберутся — с ножом, без ножа ли. Вот стекло и кровь… А может, не кровь, краснуха. Кто теперь разберет в этом стойле». Он слышал ее бормотанье, но никого из друзей, оглянувшись, не увидел. И в «воронке» уже сплюнул: «Сам виноват…»
…Нет, они тоже режут. Но режут по-своему — без последствий и тюремных камер. Они умней. Обучены, видно, родителями, а ты? Учили работать… А работа научила не вилять задом, шагать вперед лицом. Собака и в кулаки тычется всей мордашкой, если окликнуть. Боже мой, как она рада этому оклику!
По ту сторону окна завозились голуби. Они просили хлеба, привыкшие к тому, что их всегда здесь прикармливали. Роман сполз с окна, стараясь никого не потревожить, и отломил от своей пайки ровно половину. Он искрошил хлеб прямо на форточку — в щель между жалюзи проходила ладонь, но куда падали крошки, он уже не мог видеть. Но чувствовал, что падают они не на землю — совсем близко их подбирают голуби.
«В пятнадцать лет оказаться в тюрьме? Моли бога! — рассуждал тогда следователь. — И радуйся. Выйдешь молодым и здоровым, начнешь новую жизнь. А если бы тебе было сорок пять? А? Это же хана! Так что не серчай — вовремя взялись за твое воспитание. В колонии перевоспитают». Больше они не разговаривали, но Роман всегда задумывался над его словами. «Что это — насмешка? — удивлялся он, вспоминая следователя. — Как перевоспитать человека, если он оторван не от титьки, а от жизни? И кто меня сможет сейчас переубедить, перевоспитать? В чем переубедить? С восьми лет пошел работать и жил среди хороших людей-тружеников, родных людей. Они меня учили жить… Значит, я не могу быть плохим человеком! И что — все равно перевоспитают?»
И увидел мать: она, согнувшись над корытом, стирала. Густая пена, вонючая, как пиво, слетала с плеч ее, с рук и падала на босые ноги. Казалось, что ее заносит снегом. Тихо так кругом, одиноко, но она стирает, стирает… И тогда ему стало страшно, жутко от одной мысли, что мать может отвернуться от него так же, как отвернулись прежние друзья-товарищи.
Мать увиделась, а не броский косяк, разодетый по моде. Яркое перекрывает неяркое, броское — неброское. Так и здесь. Недаром же крупный, сочный и отовсюду видимый плод клубники, эту огромную ягоду, называют не иначе, как ложный плод. Оказывается, настоящий плод — не крупная, налитая соком ягода, а всего лишь те крошечные семечки, что облепили ее сверху. Так было, видно, угодно самой природе… И сердце сына тянется к матери.
Тюрьма отдыхала. Камера отдыхала. Трудным для всех оказался этот день в сорок третьей.
12
В десятом часу, когда на траве, кустах и на сверкающих крышах домов еще голубел иней, по Велижанскому тракту катила мусоровозка. Не сворачивая в Нахаловку, она резко притормозила на обочине. Из кабины выбрался усталый и разбитый Аркадий. Он простонал, хватаясь за голову.
Из глубокого бака для пищевых отходов, что был вплотную придвинут к кабине, вынырнула Алка. Косматая, грязная, она торчала, как метла, над кабиной, но улыбалась.
— А вот, а вот… Танкисты прибыли! Открывай, открывай люк, — зачастила она, радуясь тому, что наконец-то вырвалась из душной и дымной полосы — свалка осталась позади. — Ты никуда, никуда не торопишься, Аркадий? Нет, да?!
— А куда мне торопиться, — нехотя отозвался он. — Машина — не та штука, может и постоять.
Оказавшись на бетоне, она потянулась к мешкам с «пушниной», что были накрепко привязаны толстой веревкой к баку. Сняла первый мешок и, оттащив его к кустам, вернулась за вторым.
На ней было красное пальто, засаленное и облитое какой-то краской; голову покрывал желтый платок в крупную клетку, который постоянно сползал на плечи; на ногах сгармонились, как обмотки, разбитые сапожки с давно отблиставшей «молнией». Работала она по привычке без рукавиц, на голую руку.
Составив рядком, как молочные фляги, все шесть мешков у ближайших кустиков, Алка вернулась к машине и сунула водителю рублевку «за проезд и провоз багажа». Тот не стал упрямиться, как обычно упрямятся соседи, оказавшие друг другу помощь, взял рубль и, отвернувшись от пассажирки, со стоном вполз в кабину: «Если не умру седня, то мы с тобой еще поворкуем где-нибудь в сараюшке».
Мусоровозка завелась сразу, и колеса без пробуксовки покатили по тракту.
Алка рысью бросилась через поле к своей избушке. Несмотря на то что приходилось петлять между кочек, дыхание ее было ровным, а крупный мешок, стянутый в горловине, ловко сидел на горбу, даже не поскрипывал стеклом. Сегодня она задержалась на свалке: слишком много собралось конкурентов — и за пустые бутылки пришлось чуть ли не драться возле подъезжающих мусоровозок. Теперь еще дома… Она прекрасно знала, с каким раздражением встретит ее в калитке ненаглядный муженек. «Не надо было вчера так нажираться, — лопотала она. — Теперь стонет… Ну и хрен с ним, с бичарой, пускай стонет, стонет!» Она продолжала рысить по полю, стараясь не споткнуться.
— Что я ему, тунеядцу, обязана — горбатить за троих?! Сам лежит там, лежит…
А у распахнутой настежь двери Леха давно поджидал свою супругу. Он страшно нервничал, торопился, будто опаздывал на поезд, а билет — в кассе, но через двадцать человек. А поезд уже подрагивает, позвякивает, примеряясь к рельсам, двигается туда-сюда, того и гляди — уйдет, оставив всех на пустом перроне.
Леха терпеливо ожидал ее в восемь, в девять часов… Он выползал из избушки и, прислушиваясь, вглядывался в дымную даль.
— Где она, стерва? — начинал он волноваться. — Нету. Спрашивается, куда я попал и где мои вещи? Ожегов всю душу вытянул, и эта… не укладывается в срок. Буду править мозговик, — пришел он к выводу. По Лехиному мнению, любая женщина быстрехонько растеряет все свои лучшие качества, если муж не будет ее «править» хотя бы через день. Леха строго следил за этим, не обращая внимания на упреки супруги, которая всякий раз напоминала о том, что она и кормит его, и поит, и даже обстирывает. «Врешь, крысота! Разве ты меня обстирываешь? — возмущался он. — Посмотри, это не жир… это слой грязи прилип к моему телу. Я скоро вообще сломаюсь… И жрать уж года три… в рот не беру!» — «И не бери, не бери в рот! — хлюпала она, утирая подолом грязной юбки разбитое в кровь лицо. — Что я тебе — толкаю, что ли, навеливаю… Размахался тут, иждивенец чертов». Но никакое «воспитание» не действовало на Алку, она была неисправима. Вот и сегодня припоздала на целый час.
Он ходил вдоль ограды, как в клетке. Его импортные ботинки, выловленные супругой на свалке, безжалостно дотаптывали последний ледок, запутавшийся кое-где в траве, близ завалинки, куда не дотягивалось солнце, в опилках. Алки все не было…
Кроме того, Леха не мог простить себе, что спасовал перед капитаном Ожеговым в таком принципиально важном разговоре по поводу ненавистного в народе «Дворянского гнезда», хуже — он просто-напросто струсил! А зря! Еще бы напор, рывок… А тут и народу не помог ничем, и сам попал на заметку. Теперь ему оставалось одно: или идти на работу, или сушить сухари перед неминуемым этапом на «строгач». Выбирать было страшно на трезвую голову, а Алка, как назло, не возвращалась с «пушниной», которая могла бы все сразу поправить.
Леха злился, бегая вдоль ограды. «Выпьешь ты у меня сегодня, — бурчал он, — только подливай. Я тебя, стерву, проучу: вымоешь тару, отнесешь к приемщице — и свободна!»
Но Алки все равно не было.
Дядя Миша вернулся с обхода своего участка, вывернул рюкзак, перемыл полтора десятка поллитровок и, взвалив это все на хребет, молчком подался к тракту. Леха с надеждой провожал его взглядом: вернется — опохмелит… Рюкзак медленно перевалил через огромную кучу песка, отдохнул на вершине другой — и сорвался вниз. Старик всегда ходил этим путем — вдоль забора, по кучам: неровно, зато чисто и без грязи. Другие же боялись рельефных перепадов и ходили по общей тропе, сроду не просыхающей на болотине. Старик был мудрей их.
Алка не появлялась.
Леха закурил. Сигареты, высушенные на печке, воняли плесенью. Давно их, видно, списали со склада, и долго они еще гнили, пока их не уцепила заботливая рука супруги. Леха плевался, комкая сигареты:
— Фу, отрава! Грузинский — и то лучше… Эх, родина. Так и кони можно кинуть.
Алка не показывалась.
Он опять вернулся в избушку и распластался на грязном матрасе, разостланном на высокой железной кровати. Матрас был влажным, как губка. Леха сгреб подушки, откинулся к стенке и презрительным взглядом оглядел семейный стол. На клеенке горой возвышались не сгнившие до конца яблоки, соленая и копченая рыба, курятина кем-то и когда-то на совесть отваренная — словом, бери кисть и пиши! С натуры!
— Вонючий, поганый стол! — прохрипел Леха. — Я его изрублю после на мелкие кусочки… Вот только «заправлюсь»… Да где же они, гады?!
На полу, в ближнем от двери углу, где обычно спала их собака, беспорядочно громоздились настоящие картины местных художников. Алка обожала живопись, часто привозила со свалки этот тяжкий груз, говоря: «Люблю красоту! Лех, Лех, а, Лех, посмотри — такую прелесть повесить над столом!» Она вешала тяжелые рамки по стенкам, над столом и кроватью, подолгу рассматривала живописные портреты и пейзажи, как бы желая наглядеться всласть до того момента, пока Леха не взревет быком и не сорвет их, швыряя в кучу. Живопись его раздражала. Оконные рамы, в которых посверкивали обломки стекол, были заткнуты грязными подушками и не пропускали совсем дневного света. Пахло плесенью и гнилью… Леха выполз в сенки, потеряв всякое терпение: он был взбешен, и, наверное, подвернись сейчас ему собака — загрыз бы до смерти. Но умная дворняга затаилась в углу.
Алка с мешком на горбу семенила по полю.
— Су-кха! — грозно прохрипел Леха.
— А вот, а вот… несу-у! — пропела Алка. Своим покорным голосом ей хотелось хоть как-то загладить вину перед мужем, как будто и впрямь она была виновата в том, что задержалась на свалке, добирая шестой мешок. — Едва уговорила, уговорила Аркашку! Не вез, не вез, но я, я… Надо уметь кошку съесть. Сейчас еще, еще пять мешков припру. Это первый, — хвастала она, стараясь смягчить гнев мужа. — Как с куста сняла, как с куста — все пять, пять! А ты орешь, орешь на меня, как на дурочку.
Едва мешок коснулся земли, как она круто, на одном каблуке развернулась и с места взяла в галоп…
Леха наполнил корыто водой, которую заранее приготовил — на печке, на горячей плите стояли ведра — и вывалил из мешка бутылки. Банки и баночки он отложил в сторону: подождут, или на черный денек… на выходной, когда приемные пункты не работают, а в молочный отдел придешь — пожалуйста. Словом, во всем у него была своя стратегия и тактика.
Настроение поднималось, как температура у больного. Лехе захотелось жить. Ему захотелось просто и скромно жить, никому не мешая. Так случалось всегда, ибо «пушнина» гарантировала солидную выручку, а выручка — нужный товар: «Почем вермут?» Круг замыкался… И можно было уже заглянуть в этот круг, как в колодец, на дне которого молчала, не тронутая бадьей, пахучая влага. Яблоки!.. И все бы прошло, да крепкая рука Ожегова зависла над их домиком, как горящий факел: Лехе, такому молодому, не хотелось гореть в огне… По крайней мере трезвому, пьяному — черт с ним, пусть поджигает… Алкой прикроюсь.
Он обложил крепким матом все винопроизводящие страны, в том числе и Грузию, и Молдавию, и Украину, когда с ревом выдирал пробки, утопленные в бутылках. Крючок часто разгибался… Лехе пришлось на ходу приспособить медную проволоку-петлю. Вот ведь как: пьют всем миром, а пробки загоняют вовнутрь, как пугливые подростки за углом гастронома. Толком обработать не могут даже бутылку…
Алка приволокла наконец последний, шестой мешок. Присела на порожек… В душе ее не проходила обида: вторую неделю Леха держался особняком, кормясь на халявку. Он не ездил с ней на свалку, как было прежде, сидел на кровати и перечитывал, перелистывал книжки, которые она привозила домой со свалки. Потому Алке приходилось работать за двоих, даже за троих — старик дядя Миша частенько падал на хвост и не брезговал даровою стопкой. «Че им — лежат, быки! — ворчала Алка. — Выгнать бы на мороз… Нет, я не могу, потому что добрая. Вот они и пролазят мне в душу… без мыла».
К обеду они сдали «пушнину» и направились к винному отделу гастронома, что находился во дворе. Алка с ходу въелась в трясущуюся у самой двери толпу. Пробил час, толпа рявкнула, и техничка, открывающая дверь, рухнула. Ее сбили с ног.
— Ой, раздавят! — вопила она, ползая в ногах ворвавшихся покупателей. — Стоптали совсем, все-о!..
Хрустнула швабра, со скрипом и скрежетом поползло по бетонному полу ведро.
— Фрося! Фрося! А! — кричала из-за прилавка перепуганная продавщица. — Ты где? Люди, человека же давите!.. — Она не могла покинуть своего поста.
Но техничка, почувствовав поддержку со стороны своей начальницы, вдруг собралась с духом и, крякнув, распрямилась. Какой-то мужичонка повис на ней, переломившись на ее могучем плече, и будто высматривал, куда бы ему спрыгнуть, но так и не нашел свободного пятачка. Техничка сгребла его за шкирку и утопила в толпе.
— Верна, Герасим! Так их, так их… сволочи! — потешались в очереди.
Прилавок скрипел и стонал. Пахло потом и жутким перегаром. В толпе задыхались и жадно, вытягивая шеи, надкусывали воздух, хрипели, бранились, как могли и как умели. Но Алка все-таки отоварилась по-богатому и, сияющая, вполне счастливая, вывалилась на крыльцо, возле которого ее ожидал муж.
— Леха, Леха! — частила супруга. — Все путем. Но ты, не толкайся, кабан…
Через полчаса она, как заправская хозяйка, уже хлопотала у раскаленной плиты, одергивая суровый передник. В кастрюлю были опущены пельмени: бурлила, покрываясь мутной пеной, вода.
— Счас, дорогой мой, потерпи малость, — успокаивала она нетерпеливого мужа. — Ох какие! Колом стоят…
Леха встал и вымыл миску, ложки, нашел даже перец и горчицу. Затем, не приглашая супругу, хватил еще стакан «Осеннего сада» — натощак хмельнее. Пошло вроде, раскатилась желанная струйка… Алка краешком глаза успела «накрыть» Леху, и рот у нее округлился:
— Как бич, как бич сосешь в одиночку! — взбунтовалась она. — Опять беспредельничаешь, беспредельничаешь… как в лагере.
— Ску-тха! — осадил ее, как пристяжную, Леха.
Алка разрыдалась.
Три года они прожили вместе, потому и понимали друг друга без слов. Алка, собственно говоря, и сорвала его, рабочего таропильного заводика, с места.
Крупный лесопункт истаивал на глазах. В этом районе к тому времени оставалось не более двухсот человек. Ни аптеки, ни продовольственного магазина, ни детского сада — все перебрались в центр леспромхоза. Но люди, обжившие эти места, цеплялись изо всех сил за свои дома и участки. Заглохло все, даже клуб закрылся, но люди держались. Вскоре пришел приказ из леспромхоза: пока есть сельсовет, будете жить, пока есть лес, будете работать. Мужиков стали отправлять в тайгу — добирать последний лес, а бабы копошились на заводике, пилили тару. Пилорама, два станка да три мужика — вот и вся разумная сила, способная приводить в движение оборудование. Бабы оказались на подхвате… Пилили они не торопясь, так как оборудование давно износилось, сдавали приемщику куба по четыре в смену — и ладно. Получали по работе: двадцать рублей аванса, тридцать — в расчет. Но деньги были не нужны многим: люди кормились хозяйством — сдавали государству картошку, мясо, ягоду и кедровый орех. Дневная норма в летне-осенний период падала до двух кубов. Больше никто и не стремился выработать… Нет подвоза, хорошей дороги — нет работы. Дощатый заводик продувался насквозь, в холода невозможно было работать без «подогрева», и мужики принимали вовнутрь по три-четыре раза в смену. Вся жизнь была построена на парадоксах: аптека съехала, ясли укатили, клуб прикрылся, а вот винная лавка осталась на месте, чтобы «выбирать» последние рубли у работяг… Тогда и появилась Алка. И надо ж было Лехе, одинокому мужику, бывшему на хорошем счету у людей, сойтись с этой дурой! Ну, переспал бы раз, другой… Такого добра… не шаньга — всем бы хватило… Но поплелся за ней, как на поводу, плюнув и на заводик, и на свою пилораму (он до сих пор не знал, откуда появилась Алка, как-то не случалось расспросить толком). Перебрались они в пригород, наткнулись на старика, недавно овдовевшего и запившего с горя, стали жить. Дядя Миша даже не заикнулся о квартплате. «Прижмет когда болезнь, — проговорил он, — так поможете куском. А так, живите. Бог с вами». Перебрались к нему налегке, а теперь тряпья, тряпья…
— Не плачь! На выпей, — пожалел супругу Леха. Пьяный он был добрым, и дикция к нему возвращалась. — Иди, Алушка, иди сюда…
Выпили по стакану. Теперь уж поровну. Алка кивнула на кастрюлю с пельменями, но муж отказался:
— Пусть пока рассосется, перемешается с кровью. Сколько там у нас?
— Хватит… Хих! — по-дурацки ухмыльнулась Алка. — Нам хватит… Гостей не ждем.
Но она ошиблась.
— Тихон, вставай! — толкнула в бок мужа Клава. — Что-то ты сегодня не торопишься со скотиной управляться. Я бы сама… Не могу. Еще с часик полежу.
Тихона будто током ударило.
— Да я что тебе, раб? — хрипло отозвался он и вскочил, опираясь на локоть. — Сама лежит, как корова, а мне опять в навозе… Да я что, в прислугах?
С ворчанием, но он все-таки поднялся, сполз с постели… Жена ничего пока не подозревала. Не знала она о том, что Харитоновна угостила Тихона настойкой, что тот выпил ее, но не захмелел как следует. Тогда он выклянчил у цыган желтой бурды. Брага была мутная, густой осадок плавал в банке ошметками, вобрав в себя всю крепость и сладость. Брага была, а крепости не было. Пока хозяйка «пела Лазаря», а Харитоновна обливалась слезами, слушая ее, Тихон управился по хозяйству и опорожнил две банки. Жена ничего, конечно, не поняла — сама хороша была! — но утром… Утром его подняла с боем.
Он опять не мог ни сидеть, ни лежать. В любом положении голова будто сходила с шеи, как с оси, в глазах — по мухомору. Будто кто-то облапил его и стал высасывать мозги — так их высасывают из рыбьих голов. Виски сжимало, череп хрустел. Ничего не соображая, он обшарил прихожую и кухню, обползал на корачках веранду, но так не нашел, что продать. Товара не было. Присев на крыльце, он нахмурил брови, точно с трудом постигал истину: оказывается, у человека самое больное место — это голова.
Вышла Клава. Она была в плаще и с сумкой — на работу отправилась. Тихон хотел выпросить у нее на поллитровку, но передумал.
— Корову подои сам, — попросила его супруга. — Я пойду… Может, кто с машиной попадет: план вытяну.
Тихон молча кивнул ей, даже не взглянувшей на него, и вздрогнул всем телом, когда она хлопнула воротами. Даже в пот бросило, тяжелый, липкий пот, как будто он стоял на грязной обочине, а машина прошла рядом — утирайся рукавом.
Сколько он мучился, сколько страдал… Прошла одна жизнь, другая, с восьмого эшафота сняли, как помилованного, но голова гудела по-прежнему. Он несколько раз заваривал крепкий чай, пил, обжигаясь, — толку на грош. И вдруг во второй половине дня, когда подскребал у хлева навоз, привиделось ему: по полю, прижимаясь к забору, как-то крадучись шла Алка с Лехой. Сверток, который Алка прижимала к груди, был внушительным, крупным, как годовалый ребенок, завернутый в пеленки. Дураку понятно, что она могла нести в этом свертке, а уж Тихон знал наверняка: вермут или «яблочное», которым союзная Украина травила северян.
«Сходить к ним, что ли?» — подумал Тихон, смахнув с лица надоевший пот — от слабости. И колебался он, преодолевая брезгливость, не дольше трех минут. Он прекрасно понимал, что всякое промедление могло оставить его на бобах… А выпить нужно было, хотя бы для того, чтобы убить боль. И он решился: шагнул в огород, обогнул хлев, стараясь никому не попасть на глаза — мало ли что скажут в соседях! — оказался у рассохшихся дверей. Сенки были заперты изнутри. Он постучал ногой в дверь.
«Ничего, поворчит да перестанет», — подумалось ему — жену вспомнил.
За дверью ни шепота, ни скрипа половиц, будто они и не входили сюда. Опять ткнул сапогом…
Ни шепота, ни звука в ответ.
Тихон постучал настойчивее, смелее, как в собственную дверь. И Леха, подглядывающий за ним в щель, на цыпочках, чтобы его не обнаружили, вернулся из сеней в избушку и подтолкнул супругу к двери:
— Открой-х!
— Кому? — прошептала она-
— Жениху… А то все ворота обгадит-х…
И Алке пришлось повиноваться, хотя она страшно была недовольна приходом гостя.
Хозяин выставил на стол три бутылки, на этикетках которых красовались крупные с малиновым отливом яблоки.
— Выпьем, Тихон! — дикция не подвела.
— Кто эту заразу хоть весной-то выпускает? — разглядывая бутылки, принял удивленный вид гость. — Травят народ этой гнилью… Такая вонища, что ноздри выворачивает! Всех под корень вырубают, сволочи, выпуская эту отраву… И тело, и душу — под корень.
— А пусть, а пусть! Тебе-то чего? — воскликнула хозяйка. Она была раздражена «третьим лишним» и не скрывала этого. — Что есть, то и пей. Барон какой, герцог…
— Так передохнем же! — возмутился Тихон.
— Ну и передохнем! Пускай! Конец котенку — гадить не будет, где попало… Так, так!
— Сгинь, дура! — рявкнул хозяин. Он обретал человеческий облик и начал говорить нормальным языком. Все-таки «краснуха» творила чудеса.
Они помолчали. Тихон наконец прошел к окну и опустился на край постели. Хозяин приказал налить. Алка шагнула к столу и, схватив бутылку, сорвала пробку зубами.
— Ты во что это мне наливаешь?
— В стакан. Ослеп, что ли?
— Какой стакан? — вскипел гость. — Там же черви завелись!
— Если черви, так не пей, не пей, — зачастила опять Алка. — Никто тебя не принуждает. А то… вино, видите, ли, отрава, теперь в стакане — черви. На хрена такой гость…
— Что за базар? — цыкнул на нее Леха. — Пойди и вымой стаканюгу… Чтоб блестел.
Алка подошла к ведру с чистой водой, зачерпнула из него стаканом и, крутанув в руке, выплеснула из него содержимое прямо на пол. Тихон сморщился:
— Брось ее к черту, Леха, — проговорил он. — Бить не надо, посадят еще… Лучше сшей седло или где-нибудь на старой конюшне возьми, выторгуй… кавалерийское.
— Зачем?
— Оседлаешь ее и станешь вдоль ограды ездить, как на кобыле. Хоть вряд ли она поймет — за что? Туповата.
Алка молча перенесла оскорбление. Мужики, не чокаясь, выпили по стакану. Полегчало.
Тихон улыбнулся. По мозгам, по всему телу разлилась щекочущая влага. Он взял со стола сигарету, прикурил, но, почувствовав отвратительный привкус плесени на губах, швырнул ее к порогу.
— Свои, свои имей! — укусила его Алка. — Разбросался тут…
Тихон молча достал свои.
— Цыц! Ух ты, дешевка… прибью к стене, — подпрыгнул Леха, хватая Алку за руку, которая под шумок пыталась отхлебнуть из початой бутылки. — Не прощу никогда, собаку! Вон из хаты! — Он ощетинился, как кабан, и подтолкнул свою возлюбленную к двери. Он толкал ее в костлявую спину руками, пока наконец не вытолкнул за дверь. Босую. Сплюнув, набросил крючок… Обиженная Алка завыла под окном:
— Сожгу алкашей, спалю! Где у меня спички, где у меня спички?..
Леха был неумолим. Он сидел на койке, нахмурившись, и молчал. Тихон с уважением взглянул на него.
— А ты смелый мужик, — проговорил он. — Я слышал краешком уха, как ты оттянул здесь Ожегова. Хвалю за ухватку, дал бы, как говорится, десятку, но мелочи нет. Так его, волка!
— А чего на него смотреть, — отозвался хозяин. — Почему, грит, пьешь? О жизни тут начал, о самом важном… Самое важное, как я считаю, — выбрать: убить или прожить время. Прожить мне… Ну, для раба — это мука! Им-то чего, живут господа… А мне нельзя, терпения нету. Потому я убиваю свое время… Так проще.
Тихон прислушался.
— Вино прекрасно убивает. Сам посуди. Три дня пей — пройдет, как одна минута! А попробуй три дня прожить… Ну! Нет, я не могу жить в таком неравенстве: им, господам, все, мне — кукиш! Как говорится, смотри на плешь и думай, что лук ешь.
— Смел ты, Леха, — опять похвалил хозяина Тихон. — Я так бы не смог. А ты прямо — в лобешник ему закатил, как попу. Хвалю.
— А чего… Я люблю народ и привык страдать, — продолжал Леха. — Понимаешь, страдание привычкой стало, привычка перешла в любовь. А любовь меня убила… Да, видел, как люди живут, страдал, привык к страданию… Все, конец — пора сушить сухарики.
— Не посмеет! Ожегов не посмеет тебя посадить, — убеждал Тихон. — Как ни крути, но он мужик ничего… Бывает, конечно… Эх, наливай, братан!
Выпили. Попытались даже запеть на два голоса, но песня вышла такой, что даже Алка, убитая горем, расхохоталась под окном. Транзистор хрипел: сели, наверное, батарейки. Назревал кризис. Если люди выпили, да молчат — это к драке.
Тихон, раскачиваясь, разминал острые чашечки коленок пальцами, порывался начать какую-то речь, но передумывал: кому здесь говорить? Кожа на его лице расправилась, налилась кровью. Он опять начинал фразу, но она рвалась, как гнилая нитка.
— Держи крепче, — протянул он хозяину стакан.
Тихон на глазах «крепчал».
— Эх, господа юнкера, кем вы были вчера? А сегодня вы… Эх, Леха! — хотелось ему всплакнуть, но не получалось: срок не приспел. — Мы сами виноваты в том, что господами не стали. Они стали, а мы пропили это званье… Винить здесь некого. Надо признать… Эх, Леха!
— Я и не виню никого, — проговорил Леха. — Я просто убиваю свою жизнь. Я себя, себя убиваю!
— Стоп, Антроп! Пока живи… После. — Тихон, расправив узкие плечи, отряхнулся, как грач на пашне, и подхватил со стола наполненный до краев стакан. — Давай, Леха, врежем. И я тебе расскажу…
— Ну хватит клопа давить. Лучше сочиним лозунг, — Леха на миг задумался. — К примеру, такой: «Власти! Спасите нас, пьянчуг!» Нет, не пойдет… Лучше так: «Власти! Отдайте нам „Дворянское гнездо“, чтоб мы почувствовали себя на этой земле людьми…» Нет, слишком длинно. Покороче бы… Думай.
— У тебя не горячка? — спросил Тихон, потянувшись к бутылке. — В семнадцатом бы году я рванул за тобой — хоть в ссылку… Все равно бы потом освободили… Сейчас не могу: времена не те. Если уж здесь жрать нечего, то там — извини-подвинься! Закусить бы чего. А?
Пельмени, приготовленные хозяйкой, давно остыли, их нужно было разогревать. Проголодавшийся гость требовал десятка три-четыре.
— Не из мышей?
— Брось ты, Тихон! — обиделся хозяин.
— Ты не сердись, — обнял его тот. — Я шучу. Если хочешь, я тебе, как лучшему другу, теленка отдам. Сейчас сбегаю в хлев и пригоню. Возьмешь?
— Нет.
— Вот дурак! Чего проще, — не унимался гость. — Если не будешь сейчас колоть, то пускай в зиму. Алку переоборудуешь в сенокосилку, она тебе стожков на пять срубит.
— Нет, — отказывался наотрез Леха. — Не в сене суть, а в твоей бабе. Она же мне башку отрубит…
— Ну, волка бояться… Дело твое, не неволю. Давай догонимся.
Хозяин подал пельмени, а сам завалился на кровать.
В эту минуту скрипнула дверь — Алка стояла на пороге, приложив палец к губам: тсс!
— Ну ты даешь! — изумился гость. — Как сквозь стену прошла, не ободралась даже.
— Я с отмычкой, — прошептала она. — Любой замок — щелк! — и готово.
— Научи.
— Постоишь на холоде босиком, попрыгаешь, как лягушка, с часик, так любой сейф пальцем откроешь. Жизнь научит всему…
Она входила всегда после того стакана, что сваливал Леху, и все, что оставалось на столе, переходило в ее собственность, доставалось без боя.
— Поешь, поешь, Тихон! — она не могла согреться. — Этот сроду не предложит. Лежит кверху воронкой… У, тиран! Прямо ЦРУ, ЦРУ!
Леха попытался встать. Голова не поднялась, и он опять засопел на своем грязном матрасе.
— Спи, родненький, баю-бай! — подстраховалась Алка.
— Ты хоть бы простынь ему дала, — вступился за друга Тихон. — А то лежит в этой… гниет заживо.
— Простынку ему… Не покойник, чтоб в белом лежать.
Гость взял ложку, обтер ее об штанину, подцепил пельмень.
Алка, тыча пальцем в миску, стала утверждать:
— Не пельмени, а вареники, вареники! Три штуки съел — и будь здоров! Каждый с кулак, с кулак…
«Кислит, что ли?» — подумал Тихон, раскусывая пельмень. Алка опять не растерялась:
— Уксусу, уксусу много! Ты, Тихон, перчику подсыпь, перчику. С перчиком веселей.
Но опоздала…
Пельмени оказались тухлыми (их привезли со свалки, где они успели загнить). Тихон, побледнев, встал с кровати и шагнул к двери. Он с ревом выбрался из сеней и через огород, на карачках пополз к собственной бане.
— То! — всплеснула руками Клава, наткнувшись на него в воротцах. — Опять нажрался, собака. Да чтоб тебя паралич разбил, гада такого! Ведь добрые люди гибнут, а этого ничто не берет… И где ж ты, справедливость?!
Она не выдержала и хлопнула его по голове сумкой. Тихон завалился, прижался к земле ухом, точно прислушивался — что там, в глубине? Клава вытащила из сумки бумажный сверток, сорвала бумагу и — втоптала в грязь белую, как снег, рубашку.
— Купила… Вот тебе, змею! — топтала она ногой. — Получи подарочек, получи! Вот тебе…
— Башку мне не раздави, — плача, просил он. — Я просплюсь… Завтра встану — как огурчик! Прости меня!
— Не встанешь ты… Сволочь, крови моей еще не испил, — разрыдалась она. — Ночь будешь пить, день… Сколько тебе — ведро? Возьми сразу, только не тяни душу!
— Прости меня, прости, — пытался он встать. Оторвал от земли голову — правая щека в грязи, как подошва. — Я сам себя накажу, сам накажу…
— Не прикасайся ко мне, не прикасайся, — оттолкнула она ногой грязную руку, которую он протянул к ней. Будто милостыню просил.
— Не добивай меня… я просплюсь… как огурчик…
Он плакал. Она тоже плакала. В ограде повизгивали собаки, не находя себе места. Слышно было, как корова толкалась в дверь, но открыть ее не могла. Вот она вдохнула шумного, как сено, воздуха, замерла на миг и протрубила.
Небо накатывалось скирдой, которую могла поджечь только гроза. Было душно, очень душно… Но гроза не приходила, и некому было поторопить ее.
13
Голуби прилетали, но стоило ему приблизиться к окну, как они тут же срывались всей стайкой и улетали. «Что же вы меня боитесь?» — хотелось ему крикнуть. Но они по-прежнему боялись его, хотя он находился за тройной решеткой и не мог причинить им никакого вреда, если бы даже захотел.
Роман подобрался к окну. Сквозь решетку, прикрытую снаружи плотным зонтом, ничего не было видно. Как будто этот зонт установили специально, чтобы в камеру не попадал свет. Но Роман с трудом отогнул одну из пластин, поставил ее прямее — и в прорезь увидел полоску земли, на которой кормились голуби. В эту прорезь теперь он и крошил хлеб, отломив от пайки. Голуби налетели разом и стали подбирать крошки, отгоняя назойливых воробьишек.
Роман впервые смог рассмотреть их — так близко, так рядом, что нельзя было не заметить розовых крапинок в желтых кругляшках глаз. Изуродованные лапки: обмороженные зимой, с отрезанными коготками, точно беспалые ладони. Откуда их только вырвали, вынесли собственные крылья, из чьих страшных рук?!
Рассматривая голубей, он вдруг вспомнил Мондаса, который любил казнить стрижей, гнездящихся в крутых берегах реки. Он приходил на речку с ножом и с охапкой ивовых прутьев, похожих на кресты-распятья. Специально выбирал такие… Мондас деловито выковыривал стрижей из гнезд и приступал к расправе. С каким наслаждением он проделывал эту работу; подрезал им крылья, отрывал, как за обеденным столом, лапки и только после этого распяливал стрижа, примотав ниткою к крестовине. Как бились, как кричали истерзанные, но еще живые птицы!.. К Мондасу стали приходить другие подростки — им тоже нравилось казнить! А стрижи носились, свистели и кричали над самой водой, потеряв рассудок. Они были такими маленькими и слабыми, что ничего не могли поделать с озверевшей шпаной. К вечеру песок покрывался кровью, пухом и плотью изуродованных птиц. Повсюду валялись трупики этих жизнелюбов. На птичье кладбище слетались вороны, которым предстояло до очередного появления Мондаса уничтожить, склевать замученных и истерзанных стрижей.
Теперь вспомнил. «На свободе же, черт! — подумал Роман. — Будто судьба готовит ему особую участь. Может, страшную, как те расправы над стрижами. А голубей он, сволочь, живьем сжигал на костре…» Роман одернул себя: осуждаю, что ли? А сам?.. Сам он в первой же драке схватился за нож, и этот нож был похож на тот, которым орудовал когда-то в середине детства Мондас. Видимо, он не осуждал его. Просто в последнее время на память приходило всегда что-то плохое, ужасное… Но это плохое и ужасное стало плохим и ужасным только здесь, в камере, а прежде оно не замечалось вовсе. Так, жил… и казнь стрижей воспринимал как вполне нормальное явление. Нет, тогда он не думал об этом, купался в трех шагах и не ужаснулся ни разу, что вода, в которой он плавает и которую пьет, наполовину — кровь стрижей! Кровь тех кошек и щенят, которых Мондас замучил здесь же, на берегу, развлекаясь и развлекая сопливую ораву подростков. Взрослые удили неподалеку и изредка поглядывали в эту сторону: «Подальше бы ушли, чертенята! От вас крику — только рыбу пугаете». «Чертенята» продолжали выковыривать стрижей, подрезать им крылышки и живьем распяливать на крестовинах… Кровавый промысел разрастался.
К окну подобрался Котенок.
— Че там, кровняк?
— Голуби, — ответил Роман, уступая Котенку прорезь. — Посмотри, лапки у них какие. Глазам больно… Видишь?
— Вижу, — отозвался тот. — А ты меня убедил: я признаю в них родню! Такие же беспалые, как я…
Котенок повернулся к Роману и разжал кулак — на левой руке у него недоставало трех пальцев. Розоватые обрубки блестели, как отшлифованные.
— Пилой, наверное, оттяпал?
— Спокуха! Не тревожь меня! — воскликнул Котенок. — Все равно гадать не стану… Скажу прямо: пальчики я прокрутил на мясорубке. Доволен?
— Будет тебе, — не поверил Роман. — Как этапнику, дуру гонишь. Пельмени, что ли, хотел стряпать?
— Нет, просто так… Знаешь, засунул и — крутанул ручку. А она не шла, а я ее крутил… пока фарш не брызнул! Пока кровь не полилась, — врал Котенок. — Лучку бы малость, чесночку — чем не фарш? Но тогда не догадался… Теперь жалею о том, что испортил мясо. Эх, теперь бы его похавать!
— Наговоришь — ломиком не провернуть. — Роман взял его за руку. — Я вижу, что ровно отрезаны, по суставам.
— По суставам, говоришь. Это уже в больнице подрезали и подровняли, как надо, — продолжал Котенок. И Роман почувствовал — не врет. Котенок говорил правду. К его иронии Роман стал привыкать.
— А все-таки почему — в мясорубку? — не отступал он.
Котенок закурил. Он не нервничал, не дергался, казалось, вообще никак не среагировал на вопрос товарища — только глаза его как бы покрылись тем дымком, что он густо выпустил изо рта.
— Ты обо мне все знаешь, — проговорил он. — Я тебе рассказывал тогда… Ну, боялись меня на танцплощадке, а я стал бояться бить… костылем. Подниму, а ударить не могу. Хотя ты знаешь, — курил он, — мне «скачки» разогнать — пару пальцев описать! Но боялся — убью. А сил не было… Знал, что втихаря надо мной хохочут, за спиной, мог даже угадать — кто. Обида такая, боль… Что делать? Однажды прибежал домой — и к мясорубке… Попала она на глаза. Вот так, кровняк.
— Но зачем на ней… на мясорубке? Это же… — Роман даже растерялся. Впору было усомниться. — Ты же живой человек, а здесь — такая боль!
— Больней было, когда знал, что надо мной за глаза хихикают стервы какие-нибудь, — спокойно проговорил Котенок. — С этой болью я и бросился к дому. Чтобы никого не убить — понимаешь? — Я постарался сбить свою ярость… Когда крутанул, то даже боли не чувствовал. Могу забожиться!
— Что ты! Не надо! — перехватил его руку Роман, когда он собрался «дернуть зуб». — Одного не пойму… Ты же такой волевой человек! Ты же себя резал, как барана…
Котенок расхохотался.
— Ты знаешь, смехотура, — не мог успокоиться он. — Лежу в больнице, пальчики — тю-тю, а под другой рукой — книга: Лев Толстой. Прочитал, глазам не верю — перечитываю… А там, в рот меня высмеять, отец Сергий кромсает себя топором! Бац! — пальца нет… Ну, как нарочно подвернулась книжонка про тот же соблазн, про тот же уход от соблазна… Только там он мог согрешить, а я — убить… Не читал?
Роман отрицательно покачал головой. Ему почему-то стыдно было признаться, что он почти не читал классиков; а если что и читал, так только потому, что в школе заставляли. Правда, «Героя нашего времени» любил, и про войну.
— Вот так и вышло… Я еще подумал тогда: слава богу, что не поддался соблазну, — улыбнулся Котенок. — Лев Толстой как бы одобрил мою правоту… Поступи я тогда по-иному, корячиться бы мне сейчас с червонцем! А теперь — настежь дверь: я шагаю к цели… Так я базарю, Писка?
— Ты, Котяра, всегда прав, — отозвался шкет. Писке не спалось, и он бегал по камере, радуясь тому, что Котенок, забравшийся на «решку», дал ему эту возможность.
— Спросишь о цели?
Роман отозвался:
— Ты битый и тертый… Скажи, может, когда пригодится мне в жизни.
— Цель такая — день освобождения, — просто ответил Котенок. — Я накрепко запомнил этот день и буду ждать его. Раньше не освободят, потому что служить не умею. В зоне только служак освобождают раньше срока… По досрочке канают. Я даже знаю, в котором часу меня выпустят.
— Откуда? — удивился Роман. — Разве в «деле» написано, в котором часу тебя выпустят за ворота?
— Нет, в «деле» не написано. — Котенок раскурил гаснущую папироску. — Просто я привык в жизни все подмечать и анализировать. Мне не надо поводырей и воспитателей — я сам себе хозяин и на этом стою. Меня могут схватить, осудить, затолкать, как в бочку, в карцер, но сломать меня не могут, нет! Скорей я сам себя прикончу, растопчу… Так и сделаю, коли прижмет… Но служить… Никог-да! — проговорил он почти по слогам. Табачная дымка слетела с глаз, будто ее не было. — Начальник колонии, он для всех хозяин, но не для меня… А откинусь я после обеда, часа в два, может, в три. Неужели ты сам не допрешь? Ну, осмотрись… Представь себе, что у тебя завтра звонок, ты сидишь и гадаешь: когда выдернут из камеры, когда? Человеку срок вышел… Обед наступил, а его все не выпускают. Почему? — дурачился Котенок.
— Почему? — переспросил Роман. Ему страшно захотелось ответа, а у самого голова не работала. Он даже не попытался спросить себя: почему? — ждал, ерзая на «подоконнике», когда ответит Котенок. Котенок опять расхохотался.
— Ну, ты, кровняк, бацаешь! И думать не смей, что тебя выпустят с утра. Утром они бумаги готовят — до самого обеда тянут, а в обед… В обед они жрут! Сообразил? — раскраснелся он. — Ты сам посуди: для тебя — да, это радость, все-таки на волю идешь; но для них… они на службе. Какая им разница, кого выпускать… Я прав, Писка?
— Ты всегда, Котяра, прав, — отозвались снизу. Писка прыгал по камере, как кузнечик, разминался. На прогулку выводили, но погуляли они только час из двух положенных. Видно, тюрьма была набита до отказа, а прогулочных двориков — десяток, не больше. Потому и выдергивали всех до срока, отбирая таким образом последнюю радость — прогулку на свежем воздухе.
Котенок сполз на свою кровать. Роман последовал его примеру. Привычка — лежать часами на постели — давала о себе знать.
— Старшой! — кричал Писка, прыгая у волчка. — А, старшой! Слышь, будь другом, навали в карман, а?!
— Я вот справлю тебе сейчас однокомнатную фатерку, тогда узнаешь, как кричать, шпингалетик! Давно ли там сидел?.. — отвечали из коридора.
— О, не вспоминай! Без тебя, как вспомню, так вздрогну…
Писка не так давно отсидел трое суток в карцере. Он решил пошутить с опытной надзирательницей Совой над суровою, как выразился, действительностью: обложил матом и тюрьму, и всех надзирателей. Сова написала рапорт, и пискуна посадили в одиночный карцер. Там он взбунтовался, отказался от пищи и три дня не ел ничего, даже воды в рот не брал. Начальство конечно же всполошилось, узнав о голодовке осужденного преступника. А когда оперативник пришел в карцер да взглянул на этого преступника, то только руками развел. «Маргарита Ивановна! — обратился он к надзирательнице Сове. — Кого вы опять посадили? Он же почти грудной…» И Писку выбросили из карцера. На другой день появился оперативник у «кормушки»: «Где ты, шкетик? Подойди ко мне». Писка подошел, робко озираясь по сторонам, как будто не в камере находился, а в дремучем лесу. — «Я здесь», — пропищал он. И вдруг отшатнулся — в «кормушку» ему подали три пакета молока и огромный кулек с пряниками! Запах был невероятный, медовый какой-то запах… «Сразу все не ешь, — наказывал оперативник. — Пряничка три-четыре съешь и запей молоком. Слышишь? Я накажу врачихе, чтоб проследила за тобой. Ну, по рукам?»
«Кормушка» захлопнулась. Слышно было, как уходил в глубь коридора оперативник и кого-то поругивал: «Сколько раз просил вас: не теряйте совести, не теряйте! Здесь вам не мясокомбинат…» После этого случая Писка зачастил к оперативнику, записывался на «вызов» едва ли не через день, и его водили.
— Все, старшой, — молчу! — проговорил в волчок Писка. — Я себе не враг.
— Угомонись, угомонись, — отозвался старшой. — А то ведь я тебя сгребу в охапку и выпорю. Ремень у меня хороший, славный ремешок! Сына опояшу — неделю одни пятерки носит…
Писка угомонился.
Зюзик спал. Ему второй день нездоровилось, и врачиха поила его какой-то жидкостью — таблеток он не терпел. «Отравит еще… А жидкость? Я ее как водку пью… Горька, крепка, вроде даже кайф ловлю».
Весь день они проспали.
После ужина Роман заявил о том, что собирается ловить мышей.
— Давай, лови, — поддержал его Котенок. — А то они скоро по пузам начнут ползать. Я боюсь: а вдруг в рот заползет? Хотя вряд ли ты их переловишь…
Роман приступил к охоте.
Деревянный пол давно сгнил, обуглился по краям. Отсюда и выползали мыши. Они выползали из-под пола поздно вечером, когда затихала тюрьма. Вчера Роман накрошил хлеба прямо на пол возле бачка, а сверху пристроил тазик на подпорке. Тазик должен был накрыть мышку — только не прозевай и вовремя дерни нитку, протянутую к подпорке. Ловушка работала безотказно, но мышка все-таки успевала удрать. Тазик гремел, сорвавшись с перекладинки, набегали надзиратели: «Что за шум?» Вскоре они привыкли к этому грохоту и не подходили больше к волчку. Роман удивлялся: под полом — бетон, свободное пространство — ну, сантиметров пять, не больше, но мыши умудрялись не только жить, но и свободно размножаться… Через час они поймали глупышку и посадили на привязь, как собаку. Ее кормили, играли с ней, забавлялись.
Сегодня же охота не удалась. Камера рано «отошла» ко сну. И мышка, свернувшись, спала в своем уютном гнездышке, которое ей «вылепили» из байковой портянки…
Утром Роман думал о Тане. Она снилась ему всю ночь — последняя и первая любовь. Он просыпался, но не расставался с ней: лежал и думал. Так к нему однажды пришло ошеломляющее сравнение. Да, Таня — это ложный плод, который на некоторое время закрыл всех своей яркостью и броскостью. Он и сейчас стоял в глазах, но мать — распрямлялась во весь рост в душе. Но как позабыть человека, которого любишь? И ведь знаешь, что он не станет тебя столько лет ждать, но все равно сомневаешься: а вдруг? «Что вдруг?! — усмехался он. — Пятнадцать лет, в душе — ни одной боли, ни одного крепкого чувства. Так себе, щекотка. Она, любовь его и нелюбовь — ложный плод…»
«Жизнь коротка, а толком не живем», — написал он ей в первом письме. Порвал.
Пятнадцать лет, а вспомнить не о чем. Пчела сорок дней живет, но столько успевает сделать — даже не верится! Жить бы да жить ей, трудяге, но изнашиваются крылышки, и она погибает. Хорошая, а погибает. Какая несправедливость в природе! Хорошее гибнет, ты же, здоровый и разумный, просто не желаешь жить… Почему же не думалось об этом прежде? Некогда. Все на ходу, все на бегу, как будто уж столько важных дел выполняешь, что оглянуться некогда. А по сути дела ты ни черта не сделал за пятнадцать лет. Итог этому «ни-черта-не-сделал» — тюремный срок… Вот над чем нужно крепко задуматься, а Таня — «перебьется».
Он опять достал тетрадку, в которой хранились все письма к Тане, хотел перечитать, но дежурный по тюрьме помешал ему: включили радио — розетка находилась в дежурке. Диктор объявил конкурс современной песни.
— Резвятся, коты! — сплюнул Котенок. — После таких песен не хочется жить. Ну, если это завывание — душа народа, то мы не зря оказались здесь. Души нет, есть тюрьма…
И Романа раздражали эти напевные стенания. Все ему виделось как на плакатах в ПТУ: гигантские люди бодро шагают по жизни, в руках — гаечные ключи, молотки, пшеничные снопы… Они шагают с песней — рты широко распахнуты — шагают по стене ПТУ, поднявшись над землей метров на восемь, парят. А под ними бредут волосатые подростки в драных, но модных джинсах… Они не поют, им не до песен: скучно… Но — не сорвать плаката, не отключить радио самому…
Он раскрыл тетрадку. В коридоре было тихо, в камере тоже, радио наконец отключили… Охрана, видно, перешла на домино.
Что же я написал ей?
«…Мать пока ничего не знает, думает, что я учусь, — читал он. — Я никак не могу забыть твоих слез после суда, аж сердце ломит!.. Но ты „не убей мою надежду, кто виноват, что я такой?“ Помнишь? Новых стихов пока не пишу…»
«…Бедненькая моя! Какие слезки у тебя были тогда! Я их забыть не могу, как будто перед каким-то несчастьем».
Слабак — думаю так, а поступаю этак.
«…Как я без тебя опустел!.. Сегодня долго бродил в прогулочном дворике, видел верх Захарьевской церкви. Там на крыше растут деревья. Понимаешь, такое запустить!.. Ночью приснилось: играл с овцами и телятами. Целое стадо! Телята глупы и доверчивы, овцы дичатся человека, но я звал их, звал: „Баси, баси, баси!“ Не подошли. Большой мир это, тихий и успокаивающий, где все родное».
«…Еще видел. Сижу за столом, пишу… На дворе — двенадцать ночи. Пишу и слышу, как в спаленке сопит во сне мать. Вот дыхание прекратилось — наверное, прислушивается, чем я занимаюсь, сплю ли. Вздохнула — опять дышит ровно, глубоко… Отчим появился, украдкой переоделся, прихватил что-то с собой и исчез. Наверное, запил… Жалко его. Хорошо, что никто из родных не желает ему зла, а так бы „пристроили“ в ЛТП. Он без того несчастен… Эх, милые, родные люди! Всех они жалеют, всем желают только добра, никуда не лезут, живут себе… Если бы мы сейчас приехали к матери моей, то я бы познакомил тебя с самой глупой в мире собакой! Она добрая… Вправду, у хороших хозяев не бывает злых собак. А кошка у нас серая, как мышь. Мне порой кажется, что на потолке кто-то скребется: это, вру себе, кошка привела жениха. И он „языком багряным лижет свой черный бок, сильный, красивый, пьяный!“ Помнишь? Читай, пока я жив. Сестра мне приснилась этакой важной дамой… А еще — я к тебе неравнодушен! Ты должна об этом помнить… А еще — я не отправляю тебе это письмо! Зачем?»
«…Столько дней я тебя не видел! Ты не пишешь. Тяжело… Тяжело, как в тюрьме, когда, наверное, считают последние часы и минуты перед выходом на свободу. Понимаешь, о чем я? Ты — моя свобода!»
— Старшой! Открывайте — убивают! А-а! — разнеслось по коридору. Загрохотали кирзачи и запоры, хлопнула, как взрывпакет, дверь. В коридоре возле какой-то камеры громко переговаривались надзиратели, кого-то выдрали в коридор: «В карцер его! Сволочи, друг друга жрут… А этого куда?.. Сейчас разберемся… Да иди ты, молокосос! В карцере веселей..» — «Я его не бил, я его не бил!.. — повторял неприятный, визгливый голос. — Я его не бил…» Грохочущие кирзачи откатились в дальний конец коридора, к карцерам.
— Опять кого-то прописывают, — равнодушно отозвался Котенок, переворачиваясь на другой бок. — Вот куда тебя надо втолкнуть, Писка, чтобы поглядел на жизнь… Тряхнули бы разок-другой.
— Да я бы им всем «матрасовки» повспарывал и кишки выпустил!.. — обиделся Писка.
— Не визжи, как поросенок. Дядя Котя будет продолжать свой сон.
Роман не встревал в разговор. Он был занят своим «разговором», сокровенным, в который нельзя втянуть постороннего человека, тем более такого, как Писка или Зюзик. Даже Котенку он довериться не мог, да и не нужно это было Котенку: он жил в себе, как в раковине, и редко когда высовывался из нее; разве что наполовину… Покажет нос, ткнет тебя им, как шильцем, и обратно уползет. Надолго, на целый день.
«…Хорошо тому, кто не любит, — читал Роман. — Я люблю тебя, потому и живу в муках. Все это, конечно, дурость… Но кто считает, что любовь нечто разумное, тот только прикидывается, что любит. Любовь — почти всегда гибель, реже — несчастье, и только в сказках она — в конце — радостная встреча. Если случится сказка, то мы встретимся. Но лучше сдохнуть, чем не любить».
Да, он ее любил. Но был несчастен в этой любви потому, что не «видел» ответных мук: она даже не писала ему. А человеческая натура устроена так, что если один страдает, то и другой, любимый, должен тоже страдать. А она-то как раз и не страдала — он это чувствовал и глубоко уверился в том, что те ее слезы были последними. Она отпела его как покойника и оплакала. Вот почему он колебался, намереваясь выбрать между матерью и Таней. Иначе бы зачем ему мучить себя? Писал бы ей и ждал ответа. Но он уже наверняка знал, что ответа не будет, а пытать судьбу только для того, чтоб оказаться униженным, было страшно. Нет, он бы не простил себе.
В первые дни он покачнулся, отяжелел душой, даже впал в уныние, а потом понял: «Так ведь и сломаться можно! А собратья по камере только этого и ждут… Ох, как бы они отыгрались на мне, потерявшемся хоть на миг!»
Хлопнула «кормушка», и в камеру, прямо на пол, упала газетка… Первым читал Роман: сокамерники предпочитали воспринимать последние новости только на слух. Интересное приходилось пересказывать им за столом. Слушали, разбирали и страшно критиковали… Камерная болезнь.
Роман начинал с четвертой страницы. И теперь он пробежал по заголовкам «Меняю-Продаю» и остановился на «Знакомствах», где молодые, в основном, люди искали друг друга… «Научный сотрудник, — читал вслух Роман, — ищет спутницу жизни…» Научному сотруднику вторила, как бы откликаясь на его зов, «блондинка приятной внешности 26 лет, с высшим образованием…»
Котенок не мог удержаться, чтобы не прокомментировать эти объявления по-своему.
— Я ее, конечно, не устрою, — проговорил он. — Во-первых, жилплощадь порочная; во-вторых, образование — только тюрьмы да этапы. Но и с ним, с этим очкариком, хоть здесь про очки — ни слова, — с ним-то ей что? Ничего не даст этот интеллектуальный гибрид. Оба — кисточки марать… А я бы с жизненным опытом, так сказать, подвернулся: прошу, пане. Беда в другом: я бы сроду не поверил той, что через газету предлагает себя. Любовь покупаем? Мерзко становится на душе… Гони дальше.
Роман не понимал, почему Котенок, такой славный парень, валяет дурака, скоморошничает. Если рисуется, то перед кем? Перед Зюзиком, перед Пиской? Как же мог он, переживший столько и повидавший, не чувствовать той тоски, что исходила от этих объявлений-знакомств? Даже обидно становилось: зачем так тянулся к нему, верил в него, хотел всегда поговорить по душам? Неужели и он, Роман, пройдя через все, станет таким же глухим и циничным, каким стал, вернее, увиделся ему сейчас Котенок? Может, поспорить с ним, сказать, чтобы не валял дурочку — в душе-то он не такой?! Но Котенок знал все… И это все как бы давало ему право вести себя так, как вздумается: в товарищах по камере он не видел ни соперников, ни судей. Он — сам по себе, попробуй подтасовать такую карту!
Но Роман заболел… Оставив газетку, он прошел к своей постели.
— Ты чего, кровняк? — удивился Котенок.
— Так, полежу…
Он думал о том, что виделось. В душе — жалость и к тем одиноким, и к самому себе. Что же бранить этот мир, если даже он отвернулся от тебя! Разве там, по ту сторону решетки, не такая же тоска и одинокость? Сколько одиночества и боли на земле? И всех не обнимешь, утешая, не прижмешь к груди, не пожалеешь. Вот и песни-то по радио — одна непроглядная тоска, точно исполняет их один, задыхающийся в одиночестве человек.
Но он видел…
Большая и светлая комната. Маленькая, какая-то большеротая блондинка, она сидит в низком кресле. Возле ног по оранжевому коврику ползает ребенок: он перебирает кубики, капризничает… Молодая мать страшно «сердится» и без конца повторяет: «Я тебя выдеру, я тебя выдеру!» Это она слышала от таких же, как и сама, матерей — на работе всякое говорят те, кто к тридцати годам наконец-то обзаводятся детьми. Говорит, а сама думает: «Как бы его шлепнуть по задику? Хоть бы разик попробовать…» И однажды «выдерет», расхохочется до слез: какая прелесть! Вскоре карапуз начнет говорить, дуться за едой, чем и приблизит свою мать к необычайному торжеству — пересказывать подружкам его гениальные изречения. «Ты слышь, Верка! Я ему говорю: ешь! — возликует молодая мать. — Ешь! А он мне, паразитик, отвечает: „Ты мне неласково совсем говоришь: Юленька, ешь!“ Веришь, я при-бал-де-ла! А у тебя — как?»
То, о чем он думал, не выметалось из его души. Он стыдился говорить об этом вслух — не боялся, что высмеют, но стыдился. Стыдно было «выказывать» себя с этой стороны… Он даже клялся себе не раз: «Запишусь к библиотекарше — пусть принесет Маяковского. Надо „огрубеть“, чтоб голос стрелял… Что же я так нюню, преступничек липовый?!»
— Ну, что там, — поднялся Котенок, — никого больше не прописывают?
— Тихо вроде, — отозвался Писка. — Может, уже убили.
— Тебя бы туда, Писка. Вот где закон — тайга, а в тайге — шпана, — чеканил Котенок. — Кстати, такая же, как ты, Писка.
— Я не шпана… Я мальчик…
— Все вы пока мальчики!
— Завязывай, Котяра! Что я тебе, чухан, что ли? — пропищал подросток.
Котенок схватил его за руку и отбросил к стене, после чего выбросил вперед костыль. Писка был прижат к стене; конец костыля, самая «пяточка» — в углублении между ключицами… Котенок слегка надавил — Писка захрипел, выкатывая глаза. Они выкатились — в прожилках и продолговатые, как грецкие орехи, но не лопнули. «Живи, стервец!» — прохрипел Котенок.
Роман отвернулся. Ему и жалко, и больно было, но он продолжал плыть в своей калоше, не признаваясь даже самому себе в том, что все чаще и чаще стал не замечать чужие обиду и боль. Видно, старый «ожог» побаливал, напоминая о себе. Да и разговоры с Котенком не прошли для него впустую, кое-что он накрепко ухватил — как окунь, заглотивший наживку, а в ней — крючок.
Писка притих на постели, сил не было смотреть на него — и глупый, и жалкий. Такому постоять за себя — надо решиться пожертвовать многим. Кулаком он не сможет наказать обидчика, а взяться за нож — это волю, и немалую, нужно иметь: все-таки червонец выгорает. Как он может поступить? — Роман не знал. Но успел заметить, когда Писка заполз на кровать: глаза у него блестели, как ледышки. Такой блеск мог, наверное, со временем слиться с блеском отточенного лезвия. Писка превращался в звереныша…
Роман осознавал вполне, что промолчать, когда на твоих глазах растаптывают человека, — трусость. Даже не трусость, а забой: ты забиваешь, как овец, волю, честь, гордость — все то, без чего нельзя жить человеку, без чего ты не жил еще вчера. Теперь живешь… И надо отказаться от всех своих достоинств — здесь иная школа, иная жизнь.
Пора кончать, пора трубить отбой своему неравнодушию, если думаешь выжить. На волю хочется, в уединение…
«Попробовав» себя на зуб, он стал настраиваться, как это делал Котенок, на звонок. Стиснуть зубы, закатить глаза, но ждать, ждать своего часа, не позволив никому свить из себя веревку. О главном тоже думалось ему: не «потерять» бы, не прожить впустую свой срок, как прожил последние два-три года. Ел досыта, спал всласть, «охотился» на людей, «мацал» девочек, а жить, видно, собирался потом, когда-нибудь… Чего думать — тебе только пятнадцать лет.
Но то было вчера. Сегодня же цена на каждый час подскочила: попробуй прожить его, этот каждый час, просто так. Надо настраивать себя на завтрашний день, как на драку. Давай будем читать — заразился иронией от Котенка — прочитаем десяток номеров «Юности» и выкатимся за ворота: «Встречайте, товарищи! Я вумен, как вутка!» Если бы так вышло на самом деле. Это все старая привычка — оценивать по знанию, как оценивали в школе: выучил урок, значит, хороший мальчик и в жизнь войдешь хорошим человеком… Оценивали, оценивали, а в послешкольную жизнь не приняли, потому что среди оценок в Свидетельстве оказалась одна подозрительная: неуд по поведению! Спортсмен, неплохой ученик, а ткнулся в мореходку — отказали, пришел в рыбтехникум — извините, у нас таких не берут; бросился к речникам — держи краба! И — прощай!.. После долгих мытарств оказался в ПТУ. Сюда всех брали. Здесь не воспитывают, здесь растут сами по себе рабочие кадры… Благодаря неудовлетворительной оценке ты наконец-то причащаешься к святыне — предрабочей атмосфере, до рабочей — два года… Какою она будет — неизвестно, но ты не дурак и прекрасно понимаешь, что после училища придется тебе примерять солдатскую робу, а может — тюремную…
Об этом пока не думаешь. Повиснув в пространстве, где тебя никто не оценивает, ты внутренне возмутишься: как так? Всегда оценивали, а теперь — кукиш? Ну погодите, собаки!.. Торопишься в «Бычий глаз», в эту вонючую пивнушку, чтобы протолкаться до закрытия среди таких же не оцененных никем, но желающих оценки. И оценка приходит. В пивнушке оценивают по уличной системе: сидел — вор, не сидел — хороший человек, только смысл здесь обратный. Давай выпьем и скорешимся… После придет время «охоты на людей». А что делать? Здоровый, крепкий парень, физически развит… Разве физическая сила, приобретенная тобой в долгих и упорных занятиях, не запросится на волю? Да, сила требует применения на деле. В училище на это плюют, ты плюешь в ответ. Выпили, захмелели, вырвались на простор — началась «охота», окончилась — в камере. Окончилась ли?
К первому в своей жизни суду — уголовному — ты приходишь в четырнадцать лет, вспомнив вдруг, что Гайдар в этом возрасте «командовал полком». Ты, к сожалению, не способен командовать даже самим собой, не научили… Тебя подхватывает следователь и по закону доказывает, что ты преступник, что тебе нет места среди нормальных людей. По ходу следствия ты открываешь для себя Уголовный кодекс, о существовании которого прежде не слыхал даже. Камера углубляет твои знания и успешно доказывает, что в любом возрасте ты совершал преступления, то есть был преступником, но как бы в законе. Осветить «хулиганку»? Пожалуйста. Фонари на столбах бил? Караешься по статье двести шестой части первой. Дрался на кулаках? Караешься по этой же статье, но части второй. За нож хватался? Ах, да! Об этом ты уже знаешь… Но прежде не знал! Уголовный кодекс, он что, недавно составлен? Всегда был, и в нем — несколько сотен статей, втрое больше частей и «тележка» пунктов… Боже мой! Но ты еще не сломлен — ты просто оглушен, потому решаешься на последнее слово. После полнейшей свободы не сладко сидеть в клетке, даже если для тебя включается радио и передаются песни. «Товарищи судьи! — по-детски обращаешься ты к гражданам судьям. — Прошу вас, накажите меня строже, приговорите хоть к подвалу, но не выносите большого срока! Я не знал, признаюсь искренно, что совершал преступление…»
Проклятая ирония, он уже не мог без нее. Котенок дремал, но Роман слышал его голос — тот как бы заново рассказывал ему о системе колоний — взрослых и детских. Именно после этого разговора, не ознакомившись, в сущности, пока ни с чем, что бы приблизило его к самой теме, он возненавидел законность. Она ему представилась жесткой и несправедливой во всех отношениях.
— Пора бы тебе понять, — говорил Котенок, — что подросток — это никто и ничто. С ним никогда не считались и не будут считаться. Почему? Не знаю, но видел и слышал вот о чем. Система малолетки — это, в основном, усиленный режим. В колонию усиленного режима сваливают всех — и тех, кто с тяжкими преступлениями приканал, и тех, кто за пощечину уселся, — сваливают сюда всех, как в яму. Есть, правда, общий режим — слышал, но никого не встречал; есть «спецы», три-четыре на всю страну колонии отпетых — камерная система. Вот и весь расклад, — сплевывал Котенок прямо на пол — Зюзик подотрет. — Что такое взросляк? Ну, брат, это льготная система! Смотри. Украл мужик шапку — езжай на общаг, поддал жене — вали на усиленку, зарезал — строгач, потом — «полосатый», затем — крытка… Целая лестница.
— Какие же это льготы?
— Они всюду. Взрослая система отлажена на совесть; тебе же, сопляку, — только сидеть в зоне. Никаких поселух, — продолжал он. — И мужики используют все возможности, чтобы вырваться на свободу. Даже досрочка срабатывает, как простейший автомат. Да, да! Там тоже служба: «карьерист» шагает по лестнице — к досрочному освобождению. Он не брезгует ничем: продает ближних, бра-та продаст оперу… Да мало ли подлости! Бог с ними. Преступник шагает вниз — он крутится: с общака на усиленку, с усиленки на строгач… О, какой выбор! Грех не выбирать, если к этому принуждает сама жизнь.
— К раскрутке?
— Конечно. Если тебя продали и ты из-за какой-то сволочи, — горячится Котенок, — оттянул в БУРе шесть месяцев — неужели простишь? Приблуду в рукав — и попер буром… Вот такая карусель. Я много читал разного, — с болью произносил он, — и пришел к выводу: в правительстве сидят одни добряки, а закон звереет! Почему так? Раньше господ в ссылку отправляли: дескать, в глухомани без того мука будет, поймет преступник, каково оторваться хоть на три года от нормальной жизни. Отрывались и понимали… Больше и страшнее кары не знали — ну, были исключения! Чего зря говорить… Но в общем-то карали ссылкой. А теперь? Что, спрашивается за нужда — поступать жестоко с оступившимся человеком? Так можно убить веру не только в людей, но и в самый строй… Когда-нибудь поймут, что вполне сознательно вырастили огромную стаю людей-волков — вырастили за «колючкой»… А, да сам увидишь, — махнул рукой Котенок. Он мог сорваться, потому, как бы упреждая прилив ярости, замолчал. На койке было спокойнее.
«Поживу — увижу», — согласился с ним Роман.
Теперь он понимал, откуда и по какому руслу к нему приходили мысли, что толкали на спор с самим собой. В этом мире преступников, в мире, который взрослые люди скрывали изо всех сил от таких, как он, Роману полюбилась ирония Котенка, невольно подкатывающая его к ненависти жестокой: возненавидь тот мир, в котором прожил пятнадцать лет! Те, кто создал систему колоний, кричали только о «прекрасной молодежи… о всех раскрывшихся перед ней далях… о путях солнечных и радостных… о счастливой жизни и будущем…» Теперь-то он знал, как они пламенно лгали на весь мир, дважды карая ту молодежь, о которой кричали: прекрасная… А может, они и вправду не знают, сколько юных жизней искалечили за последние пять-шесть лет — их уголовные суды заработали на полную мощь на рубеже семидесятых годов! — не знали, сколько слез принесли в рабочие семьи, в основном — в рабочие! Роман за эти месяцы на разных перетасовках успел познакомиться с доброй сотней ровесников — одна голытьба… Но не за рабочую струю, подорванную сплошным судебным процессом, он конечно же болел и страдал, нет! Просто суд… Напали на слабые семьи внезапно, как умные враги…
Матери стали добрей и нежней. Это от света, от достатка, от свободы, от мира… Пятнадцать лет назад — мир тогда был полуголодным, а руки матерей походили на жесткую, черную и тяжелую землю. Изъеденные послевоенной разрухой, как кислотой, но поднявшие страну, эти руки не успели отдохнуть и залечиться до того дня, когда объявилось горе: страну подняли, но потеряли детей.
Матери — ни строки! Разве он мог написать ей о том, что случилось? Пока он знал, что она была счастливей многих матерей, ему хотелось продлить ей это счастье — хоть на час, хоть на минуту, но продлить. Мать, его мать не должна была страдать, потому что она только-только начала жить.
Он ненавидел самого себя. И весь мир бы он, кажется, возненавидел, если бы не сознавал такого пустяка, что для мира его ненависть — пустой звук. Зато на самом себе можно было вполне отыграться.
Духота набивалась в камеру, как мухи. Она жужжала, и постанывала, и рябила сизой рябью. Ее мертвый привкус ощущался на губах, отчего к горлу подступала тошнота. В камере задыхались, но свежего воздуха сюда не поступало, как будто его перекрыли. Казалось, что жужжит и постанывает на своей койке Зюзик, искривив до неузнаваемости посиневшую рожу.
Писка тоже отлеживался. Он мял подушку и, вскидывая голову, тянулся к окну.
И вдруг в коридоре зашумели. Кто-то, гремя ключами, выплывал на свет божий, как топляк. Слышались голоса, сапоги отчаянно пробивались из небытия — звенели радостные подковки. В камере насторожились. Котенок уже сполз со своей койки, но сделав круг по камере, прилег опять. Он разволновался, он что-то предчувствовал, битый котище.
И в эту минуту загремел замок, дверь распахнулась. В камеру втолкнули крупного, широко улыбающегося подростка с большим сидором. Котенок вспорхнул с «веточки» и подлетел к новичку:
— Привет, кореш!
— А? — не понял тот, но на всякий случай улыбнулся еще шире, точно рад был этой встрече.
— П-т, говорю, — повторил Котенок. — Как пишут на стенках. Не понял?
Камера качнулась, вспенилась, как застоявшаяся лужа, в которую свалили огромный камень-булыжник.
14
День подходил к концу.
— Давай, Тихон, собираться будем, — немного успокоилась Клава. — Съездим, пока есть время, на мельзавод, проследим за отгрузкой комбикорма: может, самим придется отгружать.
— Я не могу, — простонал тот. — Я сейчас умирать буду прямо здесь, у крылечка.
Но она не расслышала его и ворчливо продолжала:
— Просидела у дверей бухгалтерии, как нищенка, до обеда, а они не выписывают ни центнер, ни два — берите, говорят, сразу машину целиком, разделите между собой… Разделишь тут. Собирайся, Тихон, поехали.
— Куда? — не соображая ничего, без искорки разума в глазах вдруг спросил Тихон. Будто ни о чем ему она не говорила. — Собирайся, но — куда?
— Не знает он, опоек, куда, — выкрикнула она, даже не взглянув на мужа. — За бутылкой бы давно упорол хоть на край города.
— Ты объясни толком… Я ведь не в курсях.
— За комбикормом надо ехать! Свиней нечем кормить, корову, теленка… Чего расселся! — Спокойствия как не бывало. Но Тихон и не думал соглашаться с женой.
— Леха просится в «Дворянское гнездо», тебе комбикорм подай, — почти шептал он, чтобы попусту не беспокоить спекшиеся губы. — Сегодня комбикорма захотела, завтра черной икры запросишь, послезавтра… Остановитесь, ненасытные. Хватит шиковать, я против барства; свинья должна питаться, как свинья, а Леха должен жить… в своем погребе. Остановитесь!
— Вот опять начал городить… — подошла она к нему, снисходительно, с сочувствием и пониманием оглядывая: ну вот, мол, понес, худоумненький. Что с ним поделаешь, если он такой. — Да вставай же ты, Алеша — гони гусей, время бежит… Оторви задницу-то свою сухую от крыльца… Ну, опоек, ну! — И ткнула его рукой в лоб, как бестолкового помощника, с которым собралась ехать за комбикормом, а он — ни в какую…
— Хватит тебе! Че ты меня, как топором… — опять простонал Тихон, откинув голову назад. Ему не хотелось сходить с крыльца, где он сидел — грязный и колючий.
— Голова? — издевалась она. — Так тебе и надо, да чтоб она раскололась у тебя на две части — одну корове, другую — свиньям скормлю! Вставай, говорю!
— Не могу. Ты пожалей меня, — умолял он ее, как палача. — Поверь в последний раз, позволь отойти…
— Не позволю! Голова болит… Голова не попа, потому завяжи да лежи…
— Сейчас лягу…
— Я тебе лягу, я вот возьму сейчас палку… — она шагнула к дровянику и вместо палки вытащила оттуда целлофан. Пленка была старая и грязная, но годилась в дело. Клава стала разворачивать сверток среди ограды, чтобы потом, как привезут комбикорм, было чем накрыть его от дождя. В том, что они поедут, она, видимо, не сомневалась вовсе.
— Вставай, Тихон… Ты же у меня такой сильный, такой волевой, — изменила она голос. — Чего стонать. Подумаешь, голова болит! Да мы ее, проклятую, наизнанку вывернем, с плечиков снимем, если она будет мешать нам в работе. Так я говорю? Ну, ну, разродись…
— У-у! Ты, как… У-у! — не переставал он стонать, точно израненный. — Ты не заездишь, так задергаешь…
— Верно, миленький, задергаю! Меня нельзя нервировать, — продолжала она. — Я женщина суровая, решительная, и если ты по доброй воле не поедешь… Вставай! Расселся тут, клюет носом, ворон пустоглазый! — Клава подлетела к крыльцу и рванула Тихона за воротник. — Снимай с себя эту грязь — чистое надень! Поедем сейчас же, сию минуту… Вставай!
Тихона перекосило, как рассохшуюся дверь в коробке. Он попытался отбиться от супруги, но она атаковала отчаянно, с редким упорством, и ему пришлось признать ее силу.
— Не рви меня, — прохрипел он, как в хомуте. — Ни души, ни подхода к человеку. Вся разглажена, как доска…
— Боже, какой ты человек?! — отступила она на шаг, чтобы развести руками. — Ты лентяй и опоек…
— Нельзя так обращаться с человеком, — стоял он на своем. — С душой бы подошла, с добрым словом…
— Да… твою за ногу! Он еще меня учить вздумал, — перебила она его. — Бабу рожать не учат… В конце концов, мой бычок: хочу — веду в поводу, хочу — еду. Быстрей переодевайся, а то как тресну вот этим корытом, — кивнула она на корыто, в котором распаривали комбикорм свиньям.
Тихон попытался привстать, но, видно, сил не хватило: дернулся, как с горшка, и затих.
Клава засуетилась. Она, закусив губу, бросилась к колодцу, выкрутила ведро из него и круто, с разворота окатила Тихона ледяной водой. Тот взревел, задохнулся.
— Вот чем надо было тебя опохмелить с утра! — хохотала Клава, не видя уже ничего перед собой. — Теперь ты — как огурчик малосольный, а! Ох, артист!
Тихон рычал… Он, как волк, кинулся на нее, но промахнулся и всей грудью, пролетев метра три, навалился на колодезную крышку, словно хотел своротить сруб.
— Вот дурачок, вот дурачок, — отошла она в сторону. — Да разве я могу дать себя в обиду?
И Тихону ничего не оставалось — он смирил свой гнев. Полежав на срубе, он поднялся и нехотя, молчком начал стягивать с себя мокрую рубаху. Штаны, расстегнутые в поясе, сползли с него сами по себе. Он дрожал, но не от злости, а от холода.
— Переодевайся, Тихон, — пожалела она мужа. — Вот тебе все сухое да чистенькое.
Тихон молча переоделся и, ни слова не обронив, поплелся за супругой к автобусной остановке. Скандал, что должен был разразиться во дворе, не состоялся.
— Прости, родной, — добродушно шутила она. — Прости, но концерта не будет. Не будет его по той причине, что сгорела филармония. Дотла сгорела. И дыму нет.
Он прокашлялся.
— Маус, маус, ком хер аус…
— Что ты там бормочешь? — оглянулась она. — Или мне послышалось?
— Я говорю: мышки, мышки, выбегайте, — отозвался он. Ни гнева, ни боли в голосе. — По-немецки ты ни бум-бум…
— А зачем мне понимать по-немецки, — не растерялась Клава. — Ты мне и так объяснишь, по доброй воле… Ну-ка, как там будет: автобус, автобус, объявись поскорей?
— Не знаю.
— Эх, Тихон… не ловишь ты мышей, как хреновый кот, — поглядывала она в сторону остановки. — Только и осталось от института, что про мышек… Не забыл. В другом деле — дурак дураком…
Конечно же в душе он оскорбился; да не стал с ней спорить, приберег это «оскорбление» для удобного случая, отложил в «пистончик». Он всегда так поступал, прощать за просто так не хотелось даже в мелочах.
В районе мельзавода не гудели больше мощные бункера, хотя рабочий день не закончился. Мучная пыль, белая как снег, покрыла дорогу, деревья, дома… Расчетливые хозяйки повылазили на улицу, чтобы протереть окна. Да, бункера не работали, но слышно было, как в наступившей тишине с жестяных стенок отводов осыпается крупа — ее слизывало воздухом, гоняемым вхолостую, как шершавым языком. Транспортер, уходящий к верхнему, круглому, как шар земной, бункеру, тоже затих и не раскачивался больше над высоким забором, поскрипывая роликами. Зато белые автомашины выползали из ворот, лениво скрипели бортами…
Она подбежала к проходной, оставив Тихона. Бежала скачками, как кенгуру, боясь наступить на дохлых и еще живых крыс: они валялись повсюду и, судорожно хватая воздух, ползли к тротуару — отравленные, но не мертвые. Ребятишки добивали их палками, разбрызгивая кровь… Сытые кошки сидели на заборах и наблюдали оттуда за собаками, которые рвали зубами легкую добычу. Визг, урчанье, крики пацанов… Вонища кругом невыносимая… Но Клаве было не до этого, она торопилась — успеть бы в контору, пока бабы не ушли в какой-нибудь магазин.
— Че вы ночью не пришли? — встретила ее бухгалтерша, у которой она днем забрала бумаги на комбикорм. — Знаете, по ночам мы тут даем стране угля… Приходите.
Голос бухгалтерши не понравился Клаве.
— Не надо таким тоном, — проговорила она. — Время — четыре, а вы уже на чемоданах сидите. Разве так можно работать?
— Ну, знаете… Вы нас не учите! — вроде как обиделась та. — Ученый, съешь пирог печеный… Кроме того, мы отгрузили продукцию по плану — совхозы довольны и еще приедут.
— А мне как быть?
— Укладывайтесь в рабочее время… Как все.
— Так эти все… вы их отпускать будете, а меня?
— Я вас отпускаю, — играла бухгалтерша.
— Ничего не знаю. Отдайте мне то, что выписали днем.
— Берите, берите, — улыбнулась, не скрывая ехидства, бухгалтерша. — Найдете кладовщика — и берите… хоть вместе с крысами.
— Тунеядка! — выругалась Клава в коридоре. — Всякая ноздря шипеть будет! Господи, что хотят, то и делают… Тихон, Тихон!
Тот ожидал супругу на крыльце.
— Чего кричишь? — спросил он.
— Корову! Пойдем кладовщика искать… Стоишь тут, как этажерка. Нет бы помочь мне…
Пошли искать кладовщика. Услышав о кладовщике, Тихон сразу сообразил: кладовщик — значит отгружать со склада. Может, даже вручную, лопатой… Его аж в пот бросило: «Придется пыхтеть… Мужиков нигде нет. Ну, все, сливай воду!»
Территория мельзавода была огромной, склад — один: комбикорма отгружали сразу, не копили… Наткнувшись на кладовщика, Клава расцвела.
— О, парнишонка-то знакомый! Я у них вещи страховала, — пояснила она мужу. — Только горе им принесла… Здравствуй, Паша! — улыбнулась она.
Тот отбросил палку, которой молотил подыхающих крыс, и приветливо отозвался:
— Вы ко мне?
— Да, Пашенька, к тебе. Комбикорм сегодня выписала у вас, надо забрать. Не люблю, когда свое пропадает… Забираю в срок.
— Как — забрать? — удивился кладовщик. — Ни машин, ни рабочих. Или у вас — мешок?
— Что ты! Больше тонны! — не без гордости заявила она. — Мешок-то бы я без тебя нагребла. Пойду машину ловить… Тихон сегодня в ауте, — взглянула на мужа. А кладовщика спросила: — Ты на меня не сердишься?
— За что? — смутился он.
— За свинью.
Кладовщик покраснел.
— Нет. Что вы!.. Сам виноват… Пожадничал.
— Ну смотри, Пашутка… А то запрягу: на обиженных воду возят, — похлопала она смущенного паренька по плечу. Он отшатнулся:
— Торопитесь за машиной… Может, за проходной кто подвернется, они не прочь подкалымить… Рвачи.
Клава пошла к воротам, оставив их вдвоем.
Кругом поперек дороги ложатся, — думала она. — Будто нарочно, вредители, не позволяют простому человеку на ноги встать. Сами не живут и тебе не дают. Хорошо, я настырная, в лепешку расшибусь, но своего добьюсь. А такие, как Паша? Господи, таким сразу руки отшибают! Ну, вредители, ну, злодеи!
Она выбежала на дорогу.
Бревенчатые дома на две семьи, а кругом дикая земля, покрытая густой и топкой мукой. Здесь не пошли дальше огородцев, в которых выращивали лук и картошку. «Что это за жизнь? — стараясь не наступить на крысу, шла и думала она. — Лентяи! Сколько земли, корма под боком! Не пойму я вас, граждане… Так ведь и с голоду помрете! Крыс станете лопать. Калач надену тебе, мордастому, на шею, — покосилась она на старика, высунувшегося из окна, — а толку? Выгрызешь то, что возле рта будет, а перевернуть не догадаешься. Так и умрешь с калачом на шее, как в хомуте». Но больше всего она недолюбливала молодых лентяев. «Старые, бог с ними! Были годы — потрудились, как матушка у меня, а эти…»
И Паша попался ей на глаза — вспомнила сразу о том же: молодые, а не живут настоящей жизнью. Хотела ему, Паше, помочь…
Паренек недавно вернулся из армии, месяца не прогулял — женился. Приткнулись к работе, а зарплата — так себе: ни одеться, ни обуться, одна любовь. Клава обходила эту улицу — страховала имущество, — по ходу заглянула к молодым. Страховку оформила, хотя имущества в квартире — один диван да обшарпанный шифоньер. Разговорились.
— Что так жидко? Страховки на рубль…
— Не воровать же нам! — обиделась молодуха, отквасив синие губы. — Другие страхуют и мы решили. Правда, Пашок?
— Правда, — отозвался муж. — С годами наживем всего, куда торопиться.
— Завели бы хозяйство, — посоветовала Клава. — Это же огромный доход! И питанием себя обеспечите, и на обстановку останется, на вещи необходимые… Слушайте, пока я жива.
— Как — на вещи? — удивилась молодуха. — От чего — останется?
— От свиньи. Заведете свинью, вырастите… Всю же ее не съедите? Государству большую часть сдадите, а государство вам деньги всучит. Появятся деньги — купишь себе дубленку.
— А Паше? — одурела хозяйка.
— Паше будет, — не смутилась Клава. — Пусть не сдает государству, а везет прямо на рынок — там продаст дороже. Идет или едет?
Молодые согласились.
Полгода Клава заглядывала к ним, нарадоваться не могла: живут, растят борова. На комбикормах он поднимался быстрее, чем на картошке. Поначалу консультировала молодуху, а потом забегала скорее по привычке. На минутку, да забежит. Паша с работы возвращался всегда с ведерком: «С пола наскреб!» Честный парень, не воровал, хотя мог; работа такая, по кормам, чай, ходил… И тут что-то случилось с консультантом — она уж не помнила… Словом, Клава не показывала глаз целую неделю, а когда пришла — в ограде тишина стояла, запах свиного навоза выветрился будто… «Забили?!» Но она ошиблась.
Оказывается, боров «съел» своих хозяев…
— Стайку развалил, рвался на волю, зверюга, — жаловался Паша. — Даже страшно жить стало… Рычит, а клыки — как у слона бивни!.. Ну его…
— Ах ты, балда такая! — чихвостила она Пашу. — Ты что думал? Думал, что он, боров, как твоя ненаглядная, бутербродов наестся да завалится спать? Нет, друг, его кормить да кормить надо было… Верно говорят — на убой!
— Кормили же, — оправдывался Паша. — По два ведра в день жрал.
— Надо было по три давать. Че же он тогда визжал? — теперь уж визжала она. — Я без комбикорма держу… Да ну вас! Сидите теперь без мяса… Денег-то сколько выручили? — спросила вдруг. А когда Паша ответил, едва не ударила его: «Ох, глупые! Продали, как беспородного щенка. Боров же был у вас, боров!»
Клава негодовала. Первый ее, так сказать, социальный эксперимент, в который она была влюблена всей душой, сорвался. И так глупо, что на Пашу она посмотрела, как на Тамару-соседку. Разве что не спросила: не в одной ли палате лежали?.. Они ее разочаровали… Злости она не имела вовсе.
Машину нашла, договорилась. Вчетвером — Паша и водитель помогали — нагрузили машину и взвесили на весах. Оказалось чуть больше, но кладовщик махнул рукой, точно спешил отвязаться от Клавы. Они распрощались за воротами.
Домой пришлось возвращаться на автобусе.
Грязные, белые, как мельники, они вошли в салон и сели возле самых дверей. Тихон, пропотевший на славу, дрожал; даже говорил и то с дрожью в голосе, как в сильном волнении:
— Разве это жизнь? Мы сами себя издергали, и нет, не осталось больше сил для нормальной жизни, хотя мы продолжаем карабкаться к каким-то вершинам, опустошенные. Забота о человеке… Хрен о тебе кто позаботится! Тот, кто якобы заботится, питается в отдельной столовке… Ты не суйся со своим свинячьим рылом. Он спокоен, этот начальничек, и наблюдает за тобой, толкающимся в очередях: мол, толкайся, выбьешься из сил — на критику не потянет. Я лучше день в речном порту отработаю, чем час проживу в толчее. Наша дурацкая толчея спасет сотни и тысячи барствующих сволочей, которые даже комбикорм отпустить не могут без издевки. В магазине тебе пачку папирос швыряют так, точно совсем и не ты только что уплатил за нее, а продавец; в паспортном столе, когда ты почему-то не имеешь права на домовую книгу, тебя вносят в карточку учета с таким видом, будто иждивенца принимают в собственную семью… Кругом и без конца — мелочи, но так оскорбляют, так ранят душу! Приехали на мельзавод — и тут мелочи… Эти мелочи бьют тебя по темени, как вода в камере пыток.
Он кричал об этом теперь… Но что кричать? Он и не кричал — кричала душа, которой трудно было вернуться на родную орбиту, с которой она сорвалась много лет назад.
Тихон не был слабым и безвольным. Но он не мог уже управлять собой, как будто армейская жизнь отняла у него эту способность. Теперь он запросто мог пропасть, но Клава, разглядевшая в нем человека, верила в то, что Тихон со временем настроится на житейский лад. Все люди не без странностей, а уж в такой, как у них, жизни подавно: куда ни ткни пальцем, всюду чудики, не в портках с мотней, так в китайских халатах.
Они спешили к дому.
Вскоре должна была подойти машина с комбикормом, а таскать придется на себе: подъезд только зимой бывает, пробивают трактором… Она беспокоилась о другом: найдутся ли покупатели? Самим-то надо не больше пяти центнеров, а остатки куда? Просто башка от дум раскалывается.
Но все обошлось. Даже цыгане купили по мешку, судача о лошадях, которых нужно было довести до блеска.
Наработавшись, они уснули. Ни тому, ни другому не понадобился ужин: перекусили всухомятку. Спали крепко и безотрывно, видя во сне завтрашнюю баньку.
15
Вовке Булову, губастому пареньку, объявили приговор: пять лет. Но Вовка даже не шелохнулся на скамье подсудимых, только со страхом посмотрел в сторону адвоката, как будто вопрошал: а ты что молчишь? Адвокат, навалившись на «дипломат», сидел смирно, как подсудимый. И прежде он немного говорил, а теперь и вовсе сник. Такие дома пеленки стирают да детишек с ложечки кормят… Адвокат предал Вовку. И то верно — не родня же!
Осужденного подхватили под руки, втолкнули в «воронок» и привезли в тюрьму.
До суда он сидел, как и полагается, в камере с подследственными, играл в домино, належивал жирок да мечтал о блинах и девках. Кроме того, он искренно верил в правосудие и ничуть не сомневался в том, что адвокат, нанятый матушкой, спасет его. Но Вовка просчитался и схлопотал большой срок.
— Ну, что? — кричали из камеры старые дружки, когда его привезли из зала суда, но вели по коридору совсем в другой конец, в другую камеру — к осужденным. — Что там, Вовчик?
— Ни хрена да луку мешок! — задиристо отвечал он.
— Чему радуешься, дубина?!
Вовка тащил за собой волоком огромную сетку, набитую маслом, булками, конфетами, папиросами и сигаретами, майками, трусами, носками. Мамуля на совесть собрала в дальнюю дорогу своего богатыря, будто заранее знала, что в казенном доме он уже такого не увидит. Переход на новый режим, на скудную пайку. После оглашения приговора она зарыдала, прижала к груди сына и расцеловала на прощание. «Обидно, что до армии не дотянул… полтора годика! — стонала она. — А здесь… по этой проклятой статье судят при закрытых дверях. Что захотят, то и делают, не директоров судят, знамо дело. Ну, крепись, сынок!» И вот ее Вовик прошел как песок сквозь пальцы. И в душе пусто… Едва не лишилась чувств.
Он шел вразвалочку, виляя отекшим задом. Проваляться в тюрьме пришлось больше четырех месяцев: писали одну жалобу, другую, ответа ждали одного, другого, но желаемого результата так и не добились от властей. Вовчик заметно поправился, потому и передвигался не спеша, как повар после трудовой смены. В коридоре было полутемно и почти пусто. Только там, где находились посты надзирателей, стояли тумбочки с телефонами. Вовке почему-то подумалось, что и этим служакам нелегко здесь: его отправят в зону, а им продолжать «тянуть» свой добровольный срок в «крытке». Так он шел, и его никто не торопил, не подталкивал в спину ключами, как показывают в кино… Тюремные надзиратели, честно говоря, народ спокойный, ко всему привычный и, может быть, даже похожий душой и телом на серые стены тюрьмы: их ничем не прошибешь, ничем не высветлишь. Посиди-ка лет пятнадцать вот за этой тумбочкой, так и черта, пожалуй, начнешь вызывать по телефону: «Алло! Это ты, черт? Приходи на пятый пост чай пить».
— Куда его?
— Давай к этим… — ответил разводящий надзирателю. — Их скоро всех вывезут на Панин бугор.
— Слушаюсь.
Старшина остановился возле тумбочки и записал на доске, похожей на разделочную, только покрытой белым пластиком, чтобы легко было стирать карандаш, фамилию осужденного и номер камеры, куда того должны были ввести.
Перед Вовкой распахнулась дверь, и он, как-то даже пригнувшись, перешагнул порог.
— Не бойся… здесь ребята хорошие, — проводил его спокойным голосом надзиратель. — Не ссорьтесь попусту.
И дверь захлопнулась.
Его окружили.
В камере было четверо… И, как показалось Вовке, их прежде всего интересовал его сидор. Он понимал, что отоваривали в тюрьме весьма скудно: на пять рублей можно было взять табак, бумагу, чтоб изливать свои чувства, несколько пачек маргарину, буханку хлеба — вот и весь закуп. Не до сладостей и белых булок. Поэтому на него и вытаращились.
— Ху ты какой! Так скоро и не обойдешь тебя, — дохнул прямо в лицо маленький, но, видать, нахальный подросток. Дохнул теплом и здоровьем, как молочный щенок. — Пекарню, что ли, на уши поставил?
— Не-е! — протянул Вовка, ожидая, когда его пригласят к столу. Хотелось поскорей упасть на лавку, расслабиться после трудного и утомительного процесса. — Не-е! Матушка подогнала… Грев.
Зюзик выздоровел и набрался храбрости проскользнуть мимо Котенка к новичку.
— На все плевал, — начал он, — я срок мотал и нервы ящиками тратил! Откуда ты, фуцман?
Но Котенок оттолкнул его в сторону.
— Проходи, кровняк!
Вовка с уважением посмотрел на крепыша. Опираясь на костыли, тот будто висел в воздухе, и только левая нога, что была подлинней и потолще правой, касалась пола. Крепыш облизнулся, обдирая щеку шершавым языком. Вовке не показалось.
— Проходи, кровняк! А ты, Зюзя, грубиян. Такой грев! Мы здесь чуть кони не кинули — одна баланда. Присаживайся, — крепыш подмигнул Вовке. Вовка ничего не подозревал… Но крепыш был твердо уверен в том, что этому балбесу продукты питания поставляются регулярно: вон какую мордуленцию наел — тазиком не прикроешь.
Крепыш протянул руку:
— Котенок. Твоя кликуха?
— Пока нету.
— Будет! Я тебе клянусь своей незапачканностью в этом грязном мире, где сидят преступники… Будет у тебя кликуха.
Познакомились.
— Пируем, братва! Больше года не дадут, дальше Панина бугра… Спокуха! — Котенок ловко развязал сетку, будто ногтем разрезал, вываливая на стол содержимое сидора. — Итак, приступим к хавате! Такого грева я не видал сроду.
Пир закатили на всю тюрьму, не заметили, как сменились надзиратели: на пост заступила, как определили по голосу, суровая Сова.
Пир продолжался. Они хлопали друг друга по животам, хохотали от удовольствия, дурачились, как малые дети. Сливочное масло ровным слоем укладывалось на батон, сверху — пластик колбасы, сверху — срез сала-шпиг. Писка даже посыпал уникальный бутерброд сахаром и теперь уминал его за обе щечки, косясь на банку с повидлом. Пища хмелила, как водка. Солнце просачивалось сквозь решетку и слепило подростков, будто за окном кто-то играл зеркалом, ловко наводя зайчика.
Сову пока не беспокоили.
— Ты, кровняк, вовремя нарисовался, — говорил Котенок. — А то ведь девятый хрен без соли доедали… А с этим, сам знаешь, не шутят. Прощай баланда!
— Если я сегодня не лопну, — хорохорился Писка, — то еще три срока оттащу.
— Не лопнешь, — доверчиво поддерживал его Вовка. Он тоже проголодался и ел со всеми наравне.
— Хавай, Писка! Я на бок, на бок!
Котенок только сейчас с отвращением, не свойственным людям в его положении, посмотрел на рваные куски сала — его не резали, а пилили ложкой, заточенной кое-как об угол кровати.
К камере подкатила тележка. Сова распахнула «кормушку» — она всегда открывала ее без грохота, тихо, мягко… Словом, женские руки.
— К приему пищи, граждане осужденные, готовы? — спросила презирающая всех и недоверяющая даже хозобслуге Сова.
— Атас! — прокричал в ответ Котенок. — Хаваты не надо… Пшла вон, коза! — Он замахнулся костылем, изменившись в лице, будто на самом деле мог ударить.
Сова хлопнула «кормушкой» и выругалась вполголоса какой-то изящной, не надзирательской бранью.
Писка пролез у него под руками и хотел заглянуть в волчок, но Котенок развернул шкета и, ухватившись за уши, притянул к себе. Он чмокнул Писку в кончик носа и смачно сплюнул: «Фу, форшмак!» — так, наверное, ему захотелось загладить свою вину перед маленьким товарищем.
Но Писка, похоже, и не злился вовсе на него — он встревожился по другому поводу:
— А если в карцер запрут?
Маленький глупенький человечек, он совсем забыл о том, что Котенок был психологом и шкурой своей ощущал мельчайшую дрожь тюремного бытия. Хлопнула где-то дверь — он по звуку определил, с какой силой ее закрыли: если сильно, нервно — значит, кого-то тащат в карцер… А в эти дни повсюду так хлопали дверьми, что и мертвый бы вздрогнул.
— Не посадят, кореш, — спокойно ответил Котенок.
— Сова же! Она, стерва, на все пойдет, — беспокоился Писка.
Котенок, тронутый его заботой, отвернулся и быстро проскользнул к кровати. Он с минуту помолчал, как бы унимая дрожь в теле, посидел и потом только, повернувшись к Вовику, спросил:
— Из деревни, что ли?
Сметая со стола объедки, тот простодушно отозвался:
— Из деревни. Совсем рядом.
— Кто теперь хлеб сеять будет? Ты понимаешь, — входил в колею Котенок, — что ты наделал? Кто страну кормить будет, а? Того посадили, другого, третьего… Нет, ты учти: мы спросим строго! С тебя спросим, кровняк.
— Я ни при чем.
— При всем. Мы не политические, так себе, шваль, потому голодовок не объявляем, — катил он колесо. — Каждый день требуем: граждане надзиратели, вы слопали мясо, так дайте нам хоть хлеба, хлеба, хлеба!
— И без меня поля засеют, — улыбнулся Вовик. — У стариков пока протезы ходят.
— Как у меня — костыли? — спросил Котенок. — Людей и зверей ноги кормят, а на протезах — куда? Эх, господь знал, кому их по самый кисет отхватить…
— Протезы?
— Нет, ноги. Так бы я далеко пошел… Теперь на тебя вся надежда — не подведи, не дай пропасть с голоду.
Из коридора доносился голос Совы, она с кем-то переговаривалась по телефону, что-то доказывала, срываясь на визг.
— Без ног никуда, — продолжал Котенок. — Без ног меня на руках носить придется. Эх, Вовик, — вздохнул он. — Береги ноги: кони всегда пригодятся тебе… А то переломят оглоблей хребет — отсохнут, как перебитые ветки на тополе.
— Не-е, не отсохнут, — скалился Вовик.
— Не читал Николая Островского?
— Не-е, не читал.
— Так ты неуч? Но времени у тебя сейчас будет в достатке, читай, — советовал Котенок. — Все читай — от «Пионерской правды» до «Крокодила», чтобы выйти отсюда подкованным человеком. Впереди — не жизнь, а борьба. Понял?
— Не-е, не понял.
— Запомни: человек читает или в больнице, или в тюряге. Больше некогда. — Серьезно принялся за новичка Котенок. — Здесь поймешь, что такое книга. Много, конечно, дряни среди книг, как и среди людей, но если уж встретишь настоящую — она в тебе все перевернет, на нее обопрешься, как на плечо друга. Я тебе без иронии, как есть… Один раз я в карцере сидел, — продолжал он, — суток тридцать отмотал… Ну а когда полез на стенду да стал биться головой, старшинка подсунул мне одну книжечку… Я ее не читал! Я, отощавший за тридцать суток, жрал ее, как хлеб, и плакал, рыдал навзрыд!.. Вот такое было… — Котенок занервничал, вскочил с койки, руки у него дрожали…
Роман, слушавший внимательно его, спросил:
— Какая книга, Котенок?
— Не книга, сборничек стихов, — ответил тот. — Поэта Анатолия Кукарского! «Или чем роднее, тем труднее, или чем труднее, тем родней?» Вот такие строки… Тогда я понял, что не я один одинок. На свободе этот поэт — как в клетке: столько тоски и боли!.. Русскому поэту нельзя иначе: живем-то хуже некуда, заврались и залились в корягу.
— В натуре, к стишкам приканали, — хохотнул Зюзик.
— Заткнись, Зюзимон! — оборвал его Котенок. — Слова эти все поганые. Говоришь, а тебя тошнит, как с перепою…
Котенок вышел в проход и, подтянувшись на сильных руках, оказался на «решке».
Отяжелели веки, переплелись ресницы. Нет, мы с тобой не реки вспять повернем, как птицы… Гнезда в пурге бросая, стая под небо взмыла. Знает ли эта стая то, что она бескрыла?..Котенок пел.
Роман лежал поверх одеяла и курил. В последнее время он стал молчаливым и задумчивым. Поэтому весьма рисковал, играл с огнем… Думать среди малолеток не полагалось: решат, что тихоня, — заклюют и растопчут, как цыпленка. Но здесь ему никто не мешал, и он думал, как бы примеряясь заранее к завтрашнему дню, прикидывая на глаз эту спецовку. Один из главных законов тюремного бытия распространялся и на зону: вошел в камеру и в две-три минуты будь добр понять — кто есть кто, оценить и сделать выводы, как себя вести в этой обстановке. Один неверный шаг мог смазать все… Словом, ошибись — и хана!.. В тюрьме Роман не ошибся, а как на зоне?
Хныкать было бесполезно, но звала свобода, хотелось жить там, среди друзей и подруг. Большей потери он не знал и потому стиснул зубы: верить только в самого себя, верить до конца и выстоять! Помощи ждать было неоткуда.
Роман сроду не копил друзей, но они постоянно собирались вокруг него. Парень он был развитый, не из тихонь, всегда мог «раскрутить» компанию на весь вечер: танцуйте! Чего грустить?.. И дотанцевались. Теперь эти… Какими бы они ни были, они надолго. Да и не в тягость, потому что с детства в одной толпе и хорошие и плохие. Школа, училище… И это «стадное» чувство присуще, наверное, каждому. С рождения в стаде… Меняется мир, окружение, но толпа неизменна. С детства ведут их в жизнь по одной стезе, на разных, правда, поводках, меняя с возрастом ошейники… И ему приходилось мириться со всеми.
С другой стороны, он только здесь понял, насколько крошечен мир человека со всеми его думами, чувствами, друзьями, обидами — все это сгребли и втолкнули в одну камеру. Человек низведен до состояния вот этой мышки, что дремала на мягкой портянке, до мокриц, что по ночам срывались с мокрого потолка и падали на лицо, мерзкие как плевки, до параши, покрытой ржавчиной… Нет тебя, великий человек! Тебя придумали писатели и составители учебников по литературе. Они тебя придумали, утвердили саму мысль в тебе, что ты велик, а теперь ты не можешь избавиться от этой мысли и кричишь, униженный и оскорбленный: «Я же велик! Кто вы такие, чтоб унижать меня?» Это трагедия, пережить которую способны немногие, да и то лишь в том случае, если им удастся найти какую-нибудь отдушину…
Ему хотелось писать — в детстве, в отрочестве все болели то ангиной, то еще чем-нибудь, а он не мог избавиться от стихов. Он посвящал стихи Тане, которая его не любила (потом она полюбит, когда он из заморыша в драной телогрейке и стоптанных валенках превратится в красивого парня в вельветовом костюмчике, пошитом матерью. А может, и не полюбит — так покажется). И здесь он пробовал писать стихи, но они ему не нравились, да и совестно было их кому-то показывать: что скажут? Может ли понять поэзию Зюзя, Писка?.. Потому он пока писал только письма-записки Тане, так и не сумев оторвать себя от нее.
«…Опять хандра. Жизнь идет, а радости нет, — писал он в тетради. — Как ты там? Пиши. Большего я и не ожидаю… Завтра дочитаю Обществоведение и сяду за Русский — хочу учиться. Писать больше не буду. Кто пишет письма, тот дурак: надо было раньше говорить, — чтобы из души, глаза в глаза! Говорить, говорить, говорить… Радовать человека ласковым словом. Я не смог. Что же теперь? Теперь и всегда — только жить…»
«…Жить, пока еще есть возможность…»
«…Если я напишу матери о том, что со мной произошло, она бросит все, но прилетит ко мне. А нужно ли именно сейчас бросать это все? Скоро огород копать, столько хлопот… Нет, обождем, как говорится, за углом: может, кто и появится!»
«…Почему так болит душа?»
В коридоре бухали сапоги, как чугунные ходики, прибитые к стене. Время не останавливалось ни на минуту.
Вовка Булов храпел на втором ярусе, насытившись, словно в родительском пятистенке отвел душу: и мед пил, и свинину уминал за обе щеки, и табак хороший курил. Ему, наверное, снился сон. Он обхватил подушку и прижался к ней пухлой щекой — так обнимают и прижимают к себе только родных или близких сердцу людей. Может, невесту обнимал, забравшись к ней на клеверную подстилку. Голова кругом, а внизу, прямо под ними, хрустит сеном, часто вздыхая, корова. Прекрасный сон!
Зюзик спал на спине, выставив острые коленки в потолок. Он всегда так спал, потому что ему было жарко и душно. «Разденься, чушок!» — говорил Зюзику Котенок, но тот продолжал валяться на постели в робе: «Ночью же я раздеваюсь…» Днем Зюзик по-прежнему спал, не раздеваясь, будто пугался того, что у него могут украсть одежду. Зоновская привычка.
Писка исчез под одеялом. Перед тем как уснуть, он пожаловался на калорийную пищу: «Нахавался слишком… Ну, Вовчик, погоди!»
Котенок спал на подушке, растеряв мертвые свои ножки: они валялись рядом, но как-то вразброс, точно отстегнутые детские протезики.
Романа даже перекосило, и он отвернулся, прикрыл глаза. Радио почему-то сегодня не включали. Зато ходики в коридоре бухали и бухали.
…Они проснулись, но поднялись с кроватей тяжело, как после глубокого кайфа: тошнило, во рту запекся неприятный запах… В коридоре — тишина, даже ходики встали. Только надзиратель шуршал бумагой, как крыса, — видно, решил перекусить возле своей тумбочки, не оставляя поста.
Писка сполз на пол и замер: он, наклонив голову, прислушивался к чему-то. И вдруг вскочил, забегал по камере, схватившись за живот, запричитал:
— Уа, уа! Сейчас я приплыву… Точняк!
Котенок кивнул на дверь, и Писка бросился к волчку.
— Старшая, старшая! Своди в сортир, — просил он. — Ну, пожалуйста.
Но Сова не отзывалась. Она продолжала шуршать бумагой, а Писка молил:
— Славная, добрая наша! Своди, ну, пожалуйста!..
Нет. Сова не могла забыть того, что ей пришлось выслушать и стерпеть от них. Бранили ее часто, поливали грязью, а вот привыкнуть к этому она никак не могла. После происшедшего она подавала рапорт начальнику развода, но тот посчитал неосновательными ее доводы для того, чтобы посадить «бунтарей» в карцер. Отказал. И кому? Сове, самой Сове!
— Своди, добрая, — пищал шкет. — Что же у вас ни сердца, ни собственных детей нету?
— Нету! — отрезала Сова. — Зачем они мне? Затем, чтобы вот так же смотреть на них через глазок? Раньше, утром надо было оправиться…
— При чем — утром? Я сейчас захотел, — проговорил он. — Захотел, и точка.
— Захотел… Мало ли что! — гудела Сова. — Не ты первый… Все, как попадут в камеру, так и запросятся сразу…
— Ух, глаз бы вытащил… на анализ! — прошипел Писка так, чтобы не расслышала Сова. Он не терял надежды. — Так выпустите? Ну, пожалуйста. Мы больше не будем…
— Молчать! Надо было раньше думать об этом, — не прощала их Сова. — Вали теперь в штаны…
— О, Сова проклятая! — взвыл Писка. — Чтоб тебя никто не обнял ни разу до самой смерти! Чтоб тебе, волчице кровожадной, скончаться в этом коридоре… Чтоб тебе…
— Прыгай на парашу, — отвечала Сова, подойдя к самой двери. — С нее будешь говорить, как с трибуны. Уяснил?
— О-о-о!
Котенок молча наблюдал за Пиской. В глазах — ни сочувствия, ни презрения… Он был равнодушен к происходящему.
Писку прихватило не на шутку. Он корчился, приседая у двери, и скрипел зубами. Котенок, наблюдая за ним, сладко зевал. После зевка в глазах появлялось любопытство: неужели и впрямь навалит?
— Ты не подпрыгивай, Писка, — советовал он товарищу, — а то надавит на клапан… Задохнемся тогда, как в термосе.
Зюзик наблюдал за страдальцем с верхней койки. Он сидел, тихий такой, грустный, подпирая подбородок кулаком. Редкое зрелище приводило его в умиление.
Роман морщился, сочувствуя Писке, но молчал. Не надо было жадничать, а то набросился, как с голодного острова…
Параша стояла в углу. Но в камерах придерживались неписаного порядка — ходить на парашу только по малой нужде. Писка бесился… все знали, что здесь, в старом корпусе тюрьмы, устанавливают уже «горшки», просто до них не дошла очередь… Хоть пропади: в тех камерах будут, а в этой — когда? А может, впустую мололи об установке унитазов, лишь бы поговорить; на самом же деле никто и никогда не думал благоустраивать это заведение, потому что преступный мир должен был вскоре изжить себя…
— Сходи на парашу, — не выдержал Роман. — После подожжет газетку — и не будет никакого запаха… Раздует ведь его, пацана!
— Пацана! — фыркнул Котенок. — Не надо было обжираться… Самая позорная смерть от обжорства! Но я верю: этот не умрет…
Вскоре открыли дверь.
— Выходи на оправку! — скомандовал старшина.
Сова стояла в стороне, поигрывая связкой ключей.
Она была довольна, даже слишком: светилась лицом в глубине коридора, как плафон. Теперь только можно было разглядеть ее: губы и брови у Совы, как и у всякой женщины, были подкрашены, на ногах — блестящий, как чешуя, капрон… Стройная, белокурая женщина в очках. Открытие для многих ошеломляющее.
Все вывалились из дверей, как из переполненного автобуса, и бросились по коридору к туалету.
— А парашу? — крикнул Котенок. — Кто понесет подругу, а? Мне никак нельзя, потому что я — инвалид… Эй, ворюги!
Старшина улыбнулся:
— Не хотят выносить, так пускай бродит. Брага, может, получится, крепкая и хмельная.
— Уголовнички! — ковылял по коридору Котенок. — Выдрать бы вас… А, старшинка?
— Поздновато, — отозвался тот.
— Хоть в этом мы с тобой единомышленники.
Котенок ковылял. Костыли, на которые он опирался, поскрипывали, как новенькие хромачи.
В туалете ополоснулись холодной водой. Краны свистели и стреляли, как насосы, выпуская наружу скопившийся в трубах воздух по «кускам». Писка, повеселев, божился:
— Больше не буду так наедаться! Ты, Вовчик, некстати совсем подвернулся.
— Смотри, Писка, у обжор страшный жребий, — полоскался под краном Котенок. — А жизнь одна… И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно… Как там у Николая Островского?
Котенку никто не ответил. Зато он сам, утираясь рукавом рубахи, не растерялся:
— Ну и денек, фрайера!
Будто итог подбил.
16
Тихон убрался в хлеву. На старой куче свежие пласты навоза парили, как утренние лужи. Теплынь. Скоро можно будет поднимать огуречную гряду — навоза прорва… Но сердце опустилось в груди, едва он шагнул в огород: земля, что навозили сюда зимой, исчезла, а там, где возвышались кучи песка и назема, зияли воронки, как после бомбежки. Да, земля ушла в эту ненасытную болотину, где всякий след в мгновение заполняется водой. О копке огорода не могло быть и речи.
Тихон вошел в дом и теперь только вспомнил, что ничего не ел с утра. Он прошел к столу.
«Слава богу, начал есть! — с радостью подумала Клава, услышав, как муж хрустит капустой. — Если напал жор, то пить уже не будет». Она торопливо оделась и направилась к двери: корова была недоена.
Сухо и горячо было во рту. Тихон ухватил из миски прямо пальцами капустную нарезку и отправил в рот. Едва сжал челюсти, как сок, прохладный и густой, прихлынул к самой гортани. Тихон даже поперхнулся. Он жевал капусту и чувствовал, ощущая каждою клеткой, как сок всасывался в воспаленную ткань желудка.
Когда Тихон надкусил луковицу и проглотил разжеванную, вязкую горечь, то внутри зажгло так, как не жгло от водки. Лук обжигал как крапива, и он, Тихон, невольно потянулся к банке с молоком. Поднял ее, припал губами и стал жадно пить. Постепенно остывало нутро, проходил ожог, причиненный луком, и капуста становилась капустой, а молоко молоком. И Тихон, втянувшись в еду, как бы даже забыл о том, что ест. Теперь он просто насыщался, как в обычные дни. Равнодушный и молчаливый, он уставился в одну точку. А когда вдруг вспомнился ему сон, который он видел под утро — потому и проснулся, — то даже жевать перестал: угарным был он, этот сон, похмельным… До одури.
Он нехотя поднялся из-за стола. Надо было выйти на воздух, но не хотелось встречаться с Клавой: привяжется опять, начнет ворошить вчерашнее, как в навозе рыться. Все-таки вышел на веранду… Боже, какая весна! Вот она, и хорошая. Но опять же земля ни к черту. Поэтому кажется: затянулась весна. Земля ни к черту, весна ни к черту. И что же так плохо-то? Не в удавке же!..
Клава разговаривала с «хозяйством», он это понял сразу. Вот ей под руку попала кошка, и она отругала ее: «Мнешь задницей-то, хамка! Сидела бы на столбике, не крутилась под ногами». И собакам тоже досталось. «Не мешайте мне, бездельницы! — проговорила Клава. — И чего крутитесь, сучки? Голодные, что ли?»
Тихон видел, как она открыла дверь хлева. «Выходите, ребятишки мои маленькие! — пропела она нежным голоском. — Хорошие мои, красивые, родные…» Теленок высунул голову и как-то нехотя шагнул через порог. Корова, напирая сзади, толкнула его — она была вдвое выше, потому Клаве показалось, что корова хотела перепрыгнуть через бычка, выехать на его загривке из душного хлева. «Ну! Какого черта тебе не стоится-то, толстозадая?! — прикрикнула хозяйка. — Не успеете, что ли?»
Собаки крутились под ногами, радостно повизгивая. «Во кому жизнь! — отмахнулась от них Клава. — Зачем им умирать? Здесь и накормят, и напоят… Нашли дурочек».
Потом она вспомнила о муже и приказала ему:
— Хлеб кончился. Поезжай на свалку — бог даст, отыщется хлебушек для скота.
— Дала бы малость отдохнуть, — проворчал Тихон, ленивый после еды. Но Клава так цикнула на него, что он в спешке подхватил мешки и бросился через огород к Велижанскому тракту.
Тихон стоял на обочине, ловил попутку. Его забрызгало грязью, но он упрямо голосовал, как будто не уехать сию же минуту ему было никак нельзя. Он даже вышел на проезжую часть, не обращая внимания на хриплые сигналы грузовиков. Сплошной автопоток накатывал со стороны города, и казалось, невозможно было вырвать из него хотя бы вот эту «мыльницу».
А небо клубилось над головой — оно было здесь черным и угарным, прогибалось, как сам тракт. Это, наверное, по нему ползали грязные, как свиньи, автомашины.
— Остановись, рожа! — просил Тихон, не сходя с дороги. — Мне туда же, в ту сторону!
Но поток продолжал катить и сигналить. В мире не было такой силы, что могла бы остановить и прижать его к разбитому бетону. Тихон не стал терять время и побрел кромкою туда, где чадила грандиозная свалка. Его окатывало грязью, она попала на лицо и присохла к нему, стягивая кожу, как короста. Тихону не было горько, потому что глаза его светились, по-собачьи чистые, но не молящие. Как будто он познал себе цену.
…После любой пьянки Алка поднималась бодро, как курица. Ее не убивала головная боль. По крайней мере она не жаловалась никогда на эту якобы обязательную после запоя боль. Она, видимо, была разумней всех: не хнычь, не жалуйся на голову, а трезво рассуди: нечем опохмелиться, нечем! Тощая, испитая вконец, Алка обладала какой-то неимоверной энергией, побуждающей ее отдаваться любому делу целиком. Словом, пить так пить, а не пить — отваливай от цистерны! Такую бабу только надоумь, она и слону шею свернет…
И сегодня Алка поднялась сразу, без раскачки, закудахтала:
— Ты куда? Ты куда? Как куда? — дурачилась она. — Туда! На свалку надо гнать, на свалку…
Муж не двигался. Но и это не омрачило ее настроения, она не закричала: «Ты спишь, а мне одной опять ехать?» Поднялась с постели и, как всегда, хотела в первую очередь накормить собаку.
— Шарик, Шарик, че ты валяешься? Пора вставать на работу, — ткнула она собаку, валяющуюся под порогом. — Э, вытянулся как! Вставай! Я кому говорю?
Она вцепилась ему в ухо, а когда подтянула к себе, то почувствовала, что собака — ну, вроде как отяжелела. Совсем не их собака. Уж своего-то Шарика хозяйка знала, приглядывала за ним и нежила его, как своего детеныша. Толкнула рукой в бок — и вскрикнула: Шарик был тугим, с грубой, как войлок, шерстью, точно она скаталась за ночь. Ничего не соображая, Алка зарыдала и бросилась к мужу:
— Шарик, Шарик не встает! Ты слышишь — не встает… Как камень, не могла своротить… Леха!
Она с испугом оглянулась, как будто собака могла ее укусить за пятку, и вдруг поняла: она неживая! Слезы покатились по щекам, редкие для Алки слезы, и она запричитала, тормоша мужа:
— Слышишь, слышишь? Ой, отравили нашего Шарика, — билась она головой в Лехину грудь. Точно не Шарик, а сам хозяин отравился и лежал теперь перед нею мертвый. — Это Тихон отравил, он… Я видела, я знаю, знаю, что он. Больше некому.
— Тхур! Бруу! — простонал, огрызаясь, Леха. В таком состоянии он вообще не мог разговаривать.
— Он отравил, он! — продолжала рыдать Алка. — Умер Шарик… Да чтоб им всем, злодеям, издохнуть! Тебе, бичаре, все едино! А мне каково? — оскорбилась она. — Лежишь, лежишь… Хоть дом сгори, не встанет, тварь!
Оглушенная горем, оскорбленная равнодушием мужа, Алка поднялась и, перешагнув через мертвую собаку, вышла на улицу. Во дворе у соседей громко разговаривали. Она прислушивалась.
— Ах ты глупышка! Я ведь тебя ударила, чтоб не лез мордой в корыто, — разговаривала с кем-то соседка. — Я же комбикорм здесь распариваю, в кипятке… а ты мордашку суешь. Ну-ка! — крикнула она. — Эта сюда же ползет… Кипяток! Пошли вон!.. Да не сверните со страху сруб… — Соседка расхохоталась. Чувствовалось, что человек просто умирает со смеху.
— Хохочет! — проговорила Алка, вцепившись руками в дверную скобу. — Нашла дурачков… Я знаю — это она, она отравила Шарика. Скажу, скажу Лехе.
Она вернулась к кровати, навалилась на мужа.
— Тху! — сбрасывал ее со своей груди Леха. — Пха-р!
— Я знаю, что она, она, — доказывала Алка. — Чтоб Тихон к нам не ходил, не ходил! Вот так, так…
Леха не просыпался. Тогда Алка, взревев, хлопнула дверью и оказалась за калиткой: ноги несли ее на громкий хохот, который будто бы даже обжигал на расстоянии.
— Ага, хохочешь, хохочешь над чужой бедой! — завизжала она, не решаясь войти в ворота ненавистных соседей. — Собаку отравили, скоро людей начнешь травить, травить… Какая сволочь!
Клава распрямилась над корытом, в котором распаривала комбикорм, и, отбросив со лба мокрые волосы, улыбнулась Алке: мол, здравствуй. Она ничего еще не могла сообразить, потому замерла в ожидании. Теленок подошел сбоку и боднул ее в ногу. От неожиданности она даже присела.
— Опять пристаешь, варнак! — засмеялась она. — Опять ударю… Ну, ладно, ладно, родной, — погладила теленка. — Не сердись. Я ведь если один раз обижу, то потом сто раз пожалею.
— И теленка, и теленка отрави! — передохнула Алка. — Свой, не отравишь, поди, не отравишь? Сука паршивая…
— Ты это мне, что ли? — продолжала улыбаться Клава. — Не пойму тебя — мне?
— А кому же, кому же? — частила Алка. — Прикинулась безгрешной… хоть в рай этапируй…
— Что я тебе плохого сделала? Я ведь сроду… — И голос у Клавы сорвался. Она набрала воздуху, чтобы не задохнуться, но не успела ничего сказать.
— Молчишь! Значит, я правду, одну правду говорю! И меня скоро отравишь… гольная правда, — даже глазом не моргнула крикунья. — Всех, всех отравишь… Люди, караул!
— Отравишь вас, пьянчуг, — выдохнула наконец Клава. — Вас ацетон не возьмет… Кого бы доброго, а такую тварюгу…
— Возьмет, возьмет, если ты возьмешься… Люди, отравят нас! — оглянувшись, бросила в проулок Алка. — Караул!
— Орешь тут, срамина! Позоришь меня на всю улицу… перед добрыми людьми, — приближалась к воротам Клава.
— Сама, сама срамовка!..
Алка стояла в воротах в затрепанном халатике, черном от печной копоти. Она постоянно озиралась, будто в ожидании подмоги. Из соседних халуп и особняков выползали на ее крик хозяева: они никак не могли, одуревшие от скуки, пропустить очередной бесплатный концерт — Алка была азартной артисткой, похлеще Томки, и играла свои роли до конца. Об этом все знали.
— Галя! Слышишь, Галя? — прокричала Алка, повернувшись на скрип тяжелых ворот. — Гли-ка, они нас срамят, срамят! Всех срамят… всех… А сами, как нищие, в подполье жили, — не отступала Алка. — Вырыли нору, как кроты… Два крота. Нищета!
— Отстала бы ты от меня, — едва не разрыдалась Клава. — Мы не нищие… А в подполье жили потому, что боялись: последнее растащат. Квартира у нас, угол был… Отстанешь теперь? — остановилась она в трех шагах от соперницы.
Алка, улыбаясь, выкатилась из ворот на середину проулка (тактический ход). Зеваки настроились на серьезное зрелище: они стали поудобнее размещаться на своих завалинках и скамейках. Концерт был непраздничным.
— Всех, всех обобрала… Дядю Мишу, к примеру. А у нас сколько шапок и воротников выманила? Лехе бы ввек не истрепать.
— Так я же твоему опойку платила и дяде Мише тоже… Спроси, тварюга, у них, спроси!..
— Сама тварюга… Разбогатела на нашем горе, как эксплуататор германский. Но теперь не нэп, не нэп!
— Так ты меня, Алка, за добро… Как же я могла жалеть тебя, змею?
Клава разрыдалась, не зная, как разговаривать дальше с давно опустившейся женщиной. Просить ее бесполезно, умолять тоже. А люди подходили и подходили отовсюду, как на сходку. Самым постыдным было то, что она вдруг поняла — скандалю, но с кем? Боже мой, с получеловеком!.. Как же можно было допустить такое, чтоб ввязаться в перепалку вот так, на равных?.. Схватиться, перемешаться с грязью при людях… И сил уже не было, не могла она остановить себя, опомнившись, чтобы повернуть вспять, оторваться от этой бессовестной пьянчужки, насевшей по-собачьи. Алка, как собака, вцепилась в нее и не разжимала крепких челюстей.
И они сцепились, мыча и бодаясь. Волосы, казалось, затрещали, как на огне. Сжав зубы, они с остервенением терзали друг друга, пока не завалились в колею. Колея вспенилась. Сцепившиеся хрипели и стонали, вывалявшись в грязи, но не могли даже встать на колени, будто колея держала их цепко. Зеваки попискивали, как мыши, и перебирали в азарте пуговицы на пиджаках — женщины выглядывали из щелей, потому их как бы не было на концерте. Никто не бросился разнимать…
Тихон выбежал за ограду. Грязный, потрясенный, потный, он бросился к сцепившимся женщинам и кое-как растащил их — страшных и озлобленных, готовых в эту минуту на все. Бабы хрипели и плевали друг на дружку.
Вышла Харитоновна. В руках она держала тяпку: работала, очевидно, на огородце.
— Вот рожа, вот рожа! — негодовала старуха, сразу же сообразив в чем дело. — Что творит, и никакой на нее управы!
Она подошла к Клаве и обняла ее. Та, тронутая ее участием, еще глубже стала всасывать воздух, который клокотал в груди и не выдыхался. Слезы потекли по ее лицу, перемешиваясь с грязью. Она пыталась что-то сказать, кивая на зевак, но не могла, потому что захлебывалась воздухом и слезами.
— Да ну их к черту! — утешала Харитоновна, ведя ее под локоть. — Нашла с кем связаться.
— Да я разве… да разве…
Харитоновна подвела ее к воротам, оглянулась в последний раз и зло посмотрела на соседей. Те вздрогнули, зашевелились и поползли в разные стороны, как черви, потревоженные в навозной куче.
— Хочется жить… не дают… Все одно к одному! — выдыхала Клава, потихоньку приходя в себя. — Ни дня, чтобы он прошел спокойно, по-человечески.
— А не лезь к ним! Сколько раз я тебе говорила, — отчитывала Харитоновна.
— Да разве я лезла? Что ты, родная! Мне до них дела нет…
— Надо в милицию… Больше нельзя терпеть.
— Какая милиция? Придут, посмотрят и — бегут, как от чумы. Ну как тут жить, как тут жить, Харитоновна? — стонала Клава. — Этот бич запивает, эти срамят… Хоть бросай все да беги куда глаза глядят…
— Понимаю. Я что, не вижу, что ли?
— И ведь заступиться некому! Как сирота… Ох, думала, сердце лопнет. А ты, — посмотрела на мужа, — где бродишь? Меня хоть убей здесь…
— На свалке был… Вот овчину нашел на рукав, — оправдывался Тихон. — Все обползал, перерыл там… гору.
Только плакать она не перестала. Так плачут родственники, убитые горем, когда их ведут под руки к столу, на котором стоит гроб с покойником.
Они вошли на веранду, поддерживая друг друга, прикрыли за собой дверь.
Тихон остался в ограде, не зная, куда ему спрятаться от глаз людских. Так было стыдно за себя, за свою беспомощность, что хотелось, не раздумывая, броситься — хоть в колодец. Все опротивело враз.
В огороде было тихо. Корова по-прежнему лениво пережевывала жвачку, собака забралась в конуру, откуда торчал кончик ее носа, влажный, как будто заплаканный.
А день продолжался. Алка с опозданием, но собралась на «работу». Она умылась, надела чистое платье и, прихватив под мышку пустые мешки, побежала к гудящему тракту.
Толпа уже разошлась. Тихон подметал за воротами. «Воры и сволочи!» — сплюнул он. За забором переговаривались соседи — дядя Миша с Лехой.
Старик вернулся с обхода пустым.
— Черт знает, почему не везет, — проговорил он. — То ли люди жадней стали, то ли выбрасывать нечего… Не пойму.
— Бери резерв, — разрешил ему сдать резервную «пушнину» молодой увалень.
— Сдам, — согласился тот. — А то когда еще твоя вернется со свалки!
О драке старик ничего еще не знал. Он впрягся в рюкзак, как в баржу, потянул, едва переставляя ноги:
— Ну, язви тя!
Глаза болели. Такими глазами не хотелось смотреть на мир… Огороды, забродившие от тепла, воняли, как помойки, отпугивая этим смрадом людей. Работы опять не было — тоска подбиралась, наползала со всех сторон.
Тихон думал. Когда он не пил, он молчал и думал, чтобы во хмелю, как казалось, дать волю своему «поганому языку». Есть вроде земля и жизнь не стоит на месте, только вот привязанности к этому нет. А без привязанности ты бродяч, как пес. Дух отбился от двора, дух… Где-то его уже раздавили. А жизнь торопит. Только вот куда тебе спешить?
И земля гудела, пробивая сквозь подошвы сапог онемевшие ступни. Ему не стоялось. Бежать? Но куда, куда бежать?
17
Алка вернулась с большим опозданием, часам к трем, вбежала в ограду, перепуганная и взлохмаченная. Она привезла недобрую весть.
— А вот, а вот что говорят: всех будут мести под метлу! Сам участковый… Не вырваться из кольца! — сообщила она мужу.
— Вре-шь! — почти ясно выговорил тот, не веря супруге. Алка сразу сообразила: опохмелился! Видно, стакан пропустил со стариком… Но вернулась к недоброй вести.
— А что, что мне врать? Не верь… Но сюда тоже нагрянут ментяры: кто-то «палево строганул», — утверждала она, прибегнув даже к лагерному жаргону.
Лехе вспомнилось, как Ожегов его предупреждал, уговаривал пойти на работу. Нет, неспроста поднимается этот шум…
— Змеи! — прорычал Леха. — Их бы всех… к стенке.
— А вот, а вот… змеи! — согласилась Алка, поглядывая искоса на стол, где бутылок не было, но стакан, чем-то наполненный, стоял. Зрение у нее было отличное.
— Змеи! — повторил Леха. — А ты, шельма, садись — выпьем.
«Шельма» подсела к нему и приняла стакан. Понюхала: вермут! И вправду, старик отоварился.
— Сколько? — спросила она, опрокинув стакан.
— Восемнадцать, кажется, оборотов, — ответил Леха. — Не «яблочное» пьешь.
— Хорошо, чего зря говорить! — повеселела она. — Хорошо, но мало. Может, у тебя…
— Цыц, шельма!
Алке и без окрика некогда было рассиживаться. Она встала и наклонилась над ванной, в которой горой была навалена грязная посуда. Не прошло и часу, как она, перемыв все, выползла на улицу. Трехполосный мешок крепко сидел на горбу.
Когда бежала к остановке, то чибисы подняли такой плач, что ушам стало больно. Точно они оплакивали кого-то… Они болтались над болотиной, как бумажные змеи, не управляемые никем с земли.
А в Нахаловке зашевелились, забегали «безлошадные». Беготня разрасталась во все концы, но не перекидывалась на город. Бичи колотились в тесной матице и не могли уже вырваться из невода, заброшенного сюда милицией. Бичей не трогали несколько лет, они и подумать даже не могли о какой-то облаве, жили себе и жили, но вдруг…
Облава началась с дальнего конца Нахаловки, что едва ли не сливался с городом. Она началась как по команде. Кричали люди, хлопали, как выстрелы, калитки, ревели быками опохмелившиеся бухарики, как будто их гнали на убой. Кто-то, протестуя в последний раз, сотрясал воздух:
— Я честный гражданин! Кого берете, волки?
Кому-то помешал капитан Ожегов, и ему грозили:
— Мы тебя сделаем! Мы тебя приткнем… Отходняк тебе обеспечен! Делайте его, братва! А, делайте-е!..
Орали, бранились, плакали.
— Прости, начальник! Сукой буду, если…
— Делайте его, делайте!
— Не забуду мать родную, — пели где-то совсем рядом, — и отца бухарика… От кого я? По какому праву вяжешь? С дураков спросу нет…
Но спрос был.
Леха молчал. Старик, предчувствуя неладное, решил переодеться. Он сменил кальсоны, надел чистую рубашку.
— Умирать, что ли, собрался? — поинтересовался молодой. Старик не ответил. Зато вопли, крики, брань наползали со всех сторон — и это было ответом на Лехин вопрос.
Вернулась Алка.
Они решили достойно проститься с жизнью и с этим маленьким, как собачья конура, но своим, государством.
Выпили крепко. Алка, позабыв про облаву, привязалась к Лехе.
— Так и не ответишь на загадку? — повторяла она. — Не ответишь?
— Какая загадка? Повтори, — мычал Леха. — Я ведь уже забыл… Повторяй.
— Из детства… Бабка одна все нам, ребятне, загадывала, — умилялась Алка. — Прекрасная бабка! Она спрашивала: стоите перед ямами, в одной яме мед, в другой дерьмо. В какую яму упадете? Хы! Ну в какую, Леха? Скажи, скажи!
Леха упал в мед, чем страшно рассмешил супругу. Она хохотала до тех пор, пока не вспомнила об ответе.
— А я бы в дерьмо упала, — заявила Алка. — Потом бы мы выбрались и стали друг друга облизывать: я бы мед слизывала, а тебя, а ты…
— Зачем?
— Как — зачем? Так по загадке, — пояснила Алка.
— Больше ничего не помнишь… из детства?
Алка тяжело вздохнула.
— Всякое было… А вспомнилось почему-то про мед. Еще когда тару выбирала на свалке… Туман какой, туман! — всхлипнула она. Лицо у нее пожелтело, глаза плакали, но без слез. Сухие, плачущие глаза.
— Скоро за нами придут.
— Придут. Давай пировать. А?
Они пировали. На столе валялись гнилые яблоки, арбузные корки, рыба, обглоданная и обсосанная наполовину. Кто-то позаботился об них, подбросил со своего стола даже фруктов, а вот души не успокоил, нет.
— Еще наливай. Не жадничай. В последний раз…
Молодые выпивали по стакану, валились с ног, но и поднимались в ногу, чтобы «повторить». А повторив, опять валились на сырую и грязную постель.
— А я еще помню… из детства! Только что накатило, — бормотала она, цепляясь за Леху. — Песню такую помню, переделанную…
Выходила на берег корова на высоком дамском каблуке. Выходила, песню заводила про степного рыжего быка, про того, которого любила, про того… Эх!— В знак признания… только так! — грозил ей пальцем Леха.
— Какой знак?
— Признания… к поэту! Так бы не стали переделывать песню… Мы тоже переделывали. Допеределывались… Споем?
— Нет, выпьем лучше… Я тронута до слез! Ты прости, что не девка была…
— Ты корова, — насупился Леха. — Была корова, и сейчас — корова. Ну-ка, промычи! Вот так: му-у!..
— А ты вечный обидчик, — не стала мычать она. — Ты мне всю душу истоптал… Давай люби меня, люби!
Старик не испытывал вообще никаких чувств, потому держался особняком. Он давно устал и выдохся, к тому же совсем некстати приболел: легкие застудил. Скоро — со слов соседки — его должны были забрать и отвезти на «скорой» в больницу. Старик опрокинул еще один стакан и прямо в одежде завалился на багровый от потеков матрас-губку, брошенный к стене. Он прикрыл глаза, притворился спящим, но в душе, наверное, гарцевал, как конник: выпил-то задарма! Такое бывает не каждый день.
Алка в одной нижней рубашке, отороченной по краям сиреневым пушком — эту рубашку, наверное, выбросила на помойку одна из актрис местного драмтеатра, — выбежала в сенки. В сенках ей стало тесно — она оказалась за воротами. Раскинув сухие и смуглые руки, Алка танцевала среди проулка на цыпочках. Она качалась и подпрыгивала. Как будто ей хотелось оторваться от земли и взмыть, но у нее не получалось, как у настоящих птиц. Ей хотелось кричать, но слова испепелились в чувствах… Да и кому здесь кричать? Поганая округа… закрылись на запоры, а там, где кричат, людей вяжут… Им, может, кричать о любви? Но разве они способны понять их, волшебные эти слова, подхватить и понести по свету, как кукушкин бред?
Она, кружась, приближалась к дому соседей. Здесь вот они сцепились с Клавой, вот колея… Алка кружилась под окнами недавней соперницы и каялась:
— Прости, прости! Слышишь, прости… Клава.
Ей не отвечали.
— Где вы, люди?
Леха выполз за ограду. Он был в сорочке, вышитой русским узором, но разорванной до пупа. Такую можно было найти в любом клубе — самодеятельные артисты давно уж поют и пляшут в батниках. Леха замер в воротах и тяжело повел головой, отыскивая глазами супругу. Вот он потянулся, раздув ноздри, но налетевший ветерок отнес родной запах в противоположную сторону. Он принюхивался…
В эту минуту к избушке подпятил «воронок», прокравшийся по кромке. Дверца глухой, как у хлебовозки, будки распахнулась, и Леху, точно борова, загнали по широкой плахе внутрь. Он визжал, призывая на помощь, брызгал слюной, и Алка действительно поспешила к нему — бросилась на визг, позабыв о последнем танце, споткнулась и распласталась на земле.
В «воронке» было темно и душно, но Алку охватила дрожь. Она замерзла, пришлось прижаться к мужней груди. Леха не оттолкнул ее — наоборот, в приливе нежности, что ли, стал гладить ее по голове, приговаривая:
— Терпи, ниче не поделаешь. Ты у меня терпеливая.
Дверь приоткрылась, и милиционер швырнул им телогрейки:
— Берите, там пригодятся.
— Где это там, где это там? — загалдели в «воронке». — Ты нас, уркаган, не хорони прежде срока.
— Ну, вот, обиделись, — вздохнул тот, не скрывая усмешки. — Там — это там, куда мы вывезли сегодня пять «воронков». Вот таких же хануриков, один другого краше. Понятно?
— Слушай, кореш, ты свалил бы, а? — не прощали обиды милиционеру. — Пьешь кровь… Губы красные без того. Свали, а!
Милиционер только головой покачал… Леха жадно смотрел поверх его головы, точно хотел проститься со своим жилищем, куцыми, как камыш, кустами, с выбитыми окнами и ржавой трубой на крыше. Кому-то гнилушка, а ему дом родной… Сердце сжалось, слезы навернулись на глаза… Но будка захлопнулась как мышеловка. Алка даже оскорбилась, хотела сплюнуть — некуда: кругом сидели и полулежали люди с припухшими лицами.
Лехе дали папироску. Затянувшись, он попытался утешить супругу.
— Больше года не дадут, — проговорил он. — Год — это не срок, отмотаем за милую душу.
— А вот, а вот… Все ниче, но темно здесь, как у негра в ухе.
— Я тебе про зону говорю, — вспылил Леха. — Так вот, годик и телогрейки пошьешь, не принцесса. Клава, смотри, полушубки шпарит, хоть не сидела. И тебе пригодится специальность такая…
— Пригодится, пригодится… Ага, — вроде как даже обрадовалась та. — Но и ты годик повламываешь на кирпичиках. Тоже профессия. Хватит тебе лежать, хватит… Труба зовет.
Леха отвернулся. Ему стало противно смотреть на супругу. А в сознании, темном еще и вязком, шевельнулось: Алка не та баба, с которой бы он смог обрести покой. Не та, и все! Разве объяснишь — почему? По крайней мере лебедихи из нее не получилось и никогда уж, видно, не получится. Пустая, ощипанная курица.
— Фу, харя какая! — прошипел он.
— Ты лучше на себя взгляни! — непримиримо посверкивала она из угла. — Глаза — и те разные…
— Ша! Не понтуйтесь! — рявкнул тот, что сидел у дверки. — Что они там говорят? Слышите?
Возле «воронка» действительно переговаривались.
— Да хоть папиросы передайте! — просила какая-то женщина. — О передаче не прошу… Люди ведь, прямо жалко… Ну разрешите передать, товарищ капитан.
— Нет, не разрешаю! — ответил капитан. — Надо было жить и работать. Я их предупреждал не раз.
— Так вот… Что им говорить.
— Рассуждать научились, а работать не хотят. Нынче пенсионеры и те вышли на работу. Да! Старик, переломанный трижды в войну, нашел в себе силы, чтоб шагнуть к токарному станку… Калеки выполняют посильную работу, а эти, здоровые быки, весят по центнеру, но лежат, — продолжал он. — Так кого жалеть, спрашивается? Страна сбилась с ритма, сейчас бы всем подняться, так сказать, на святой труд… Нет, лежат, пьянствуют. Так пусть хоть в колонии пользу принесут, там все работают.
— Все равно их жалко… Не жили ведь, а мучились, — вздохнула женщина.
— Ну, знаешь! Не люблю… А кстати, Клава, — ты вроде бы сама на них жаловалась: Тихона, мол, спаивают, грязь разводят. Разве не так? — спросил капитан.
— Жаловалась. Теперь жалко их.
— Опыт подсказывает: жалеть нельзя таких людей.
— Почему же?
— Да потому, что жалость зачастую не тех губит, кто жалеет, а тех, кого жалеют. И эти не исключение. Надыбав слабинку, уселись на шею.
— Верно говорят, что посади свинью за стол, она и ноги на стол… Но их-то кто жалел? — не понимала женщина.
— Здрасте! — воскликнул капитан. — Все мы жалели — ты, я… А они только в кнуте нуждались. Если бы я вовремя подстегнул этого увальня, то он бы у меня сейчас ходил в передовиках производства, а не валялся в заплеванном «воронке». Кнут…
— Трудно здесь выжить.
— Но вы-то, слава богу, живы и здоровы! Без кнута тянете свой возик. Сколько в нем весу — ноша не давит? А?
— Как не давит… Но тянем понемногу. Гараж этот проклятый… отсыпают участок, воду выдавливают, она сползает в наши огороды… Прямо вредители! Там комбикорму не выпишешь, здесь последнее отрезают — шесть соток было, так нет — половину отрежут.
Они разговорились. Капитан шуршал свертком, точно пятый раз его проверял. Но в «воронке» ошиблись — капитан Ожегов волновался, поэтому и мял в жестких руках бумагу.
Он упрекал многих, но в первую голову самого себя. Да, это он, участковый, просмотрел этих людей. Просмотрел потому, что слишком верил им, много сочувствовал, зная наперечет и помня все их срывы. Участковый знал, кто селился здесь, на отшибе. Селились те, кто после долгих мытарств и брожений хотел жить своим домом, хозяйством. Даже цыгане, этот кочующий не по земле, так по рынкам народ, покупали дома, обзаводились хозяйством и начинали жить своим трудом. Цыгане! Больше всего он боялся спугнуть их. Ладно, думал он, пусть приживутся, а после посмотрим и поговорим об общественно полезном труде. Цыган у токарного станка — ну, знаете, это не реально… Потому капитан Ожегов не совал носа в их жизнь, чтобы не посеять среди поселенцев недоверия к властям, соседям, а главное — чтобы не мешать людям жить своим умом, которым они давно уж не жили. Но вышло по-иному. Загнило в одном месте — добра не жди, а навались, доктор! Иначе эта зараза окатит весь край, который поневоле придется ампутировать. Сколько промахов допустили: край кишел бичами. Они, как черви в мясе, копошились в нем… Только потому Ожегов был вынужден обращаться с людьми, как со скотом: он применял силу, он обратился к закону и теперь хватал за волосы тех, что тонули и гибли на глазах.
— Никто не говорит, — произнес он вслух, — что народ у нас дрянь. Нет, живут люди и в основном работают, по миру, значит, не пойдут. Но вот из-за таких оглоедов, как твои преподобные соседи, стали люди прятаться по щелям. Вроде бы встречают праздники, гуляют, выпивают, а посмотришь — не по-людски выпивают, — рассуждал он. — Сама посуди, что за охота наливаться в одиночку? На улицу не выйдут, точно кого-то боятся. Гуляют, как воры… Что, сходить некуда? Я понимаю: в городе — да, не вывалишься с гармошкой за ворота, как в добрые времена стариков наших, не споешь хором, не спляшешь… приберут к рукам, на работу «страшную» бумагу отправят: мужик, мол, буянил в общественном месте в нетрезвом состоянии. Это в городе. Но здесь-то вам чего не гуляется? Соплячье бежит в общественные места — где такие? — до сих пор не пойму! — и сколько их там попадает в милицию! Жуть. Зато здесь не общественное место, а наше. Гуляйте!
— Все как-то пока не получается. Не сдружились.
— Потому и празднуете — точно ворованное делите, — горячился участковый. — Отсюда и равнодушие к чужой беде. Ты прибежала вот, а еще кто? Пусто в проулке. Ни одного кустика не посадите… Конечно, в грязи и задохнетесь.
— Не задохнутся они там? — спросила она, кивнув на машину.
— Ребята мощные, выдержат. Что, в этой помойке у них воздуха больше было? Нет, нам заново придется учить их дышать и видеть голубые небеса… Сын приезжал? — неожиданно спросил он Клаву.
— Нету. Откуда? — протянула она. — Пропал где-то.
— Отыщется. В такой домик грех не приехать.
— Там посмотрим… Везите их, а то и впрямь задохнутся.
«Воронок», раскачиваясь как баркас, плыл по проулку. В глубине Нахаловки было повыше, кое-где даже просохла дорога: к остановке люди все реже и реже пробивались в сапогах, а то ведь стыд: до остановки идут в сапогах, там их снимают и прячут — в город едут в туфлях, в городе сухо и асфальт…
Вслед «воронку» смотрел старик, прикрывая ладонью свой единственный глаз.
— Смотри, докатишься, что тоже увезут! — погрозила ему Клава.
Харитоновна поддакивала ей.
— Язви тя! Надо в избушке вымести… Загадили, — пробурчал старик.
— Сам бы, черт, уехал в больницу… «Скорую» ему, видите ли, заказали, — с осуждением произнесла Харитоновна.
— Ладно тебе! — улыбнулась Клава. — Замуж за него не выходишь, а поворчать первая… Тут видишь в чем дело, я узнавала… В общем, трудно теперь лечь в больницу, а так, по вызову — никуда не денутся — возьмут старика. Так что не ворчи.
— В больницу не лечь! Твою мать… Мне тыщу давай, так не лягу, а они — лечь не могут.
Женщины направились к дому.
Повылазили соседи… Они собрались в реденькую кучу, но не переговаривались, только ежились, как от холода, притворно вздыхали.
Клава отвернулась.
Тихон стоял в воротах, как цапля, на одной ноге. Но супруга прошла молчком, точно не заметила его. Харитоновна тоже промолчала, видно, вспомнив наказ Клавы: «Харитоновна, не нежь его!»
Черт его, Ожегова, дернул спросить о сыне! Теперь она не могла успокоиться. Присели с Харитоновной в кухне, а разговор не получался. Крутили, вертели — одни вздохи да пустые глаза. «Хоть бы открыточку прислал», — вздохнула Клава, позабыв о старухе, молчавшей рядом.
— Помидоры переросли, а когда высаживать — один господь знает, — проговорила та. — Ты как думаешь?
— А никак! — отмахнулась хозяйка. Ей нечего было сказать. Может быть, впервые она не хотела разговаривать со старухой. И та верно поняла ее — встала и, не простившись, вышла на веранду. Только оттуда донеслось: «Нечего рассусоливать впустую».
Хозяйка вздохнула.
18
К обеду Котенок повеселел. Он прыгал по камере, гоняясь за мухами, что «выпарились» как-то разом, чуть ли не в один день, и бил их газеткой.
— Крупные и сизые, как сливы, — заметил Роман. — Неизвестная доселе порода. Я таких прежде не видал даже в деревнях.
— Слетелись, как на мертвецов! Что мы, пахнем? — орал Котенок, гоняясь за мухами. — Хлоп! — приговаривал он. — Хлоп! А ты куда, косолапая? Иди сюда… Хлоп!
— Таких не газеткой надо бить, а журналом «Крокодил», — рассмеялся Роман. — Разве газеткой убьешь? Не муха, воробей.
— Да, — согласился Котенок.
Котенок подошел к столу и опустился на лавку.
— Вовчик, — начал он издалека, — расскажи еще разик о своем дельце. Оно мне страшно нравится. Не веришь?
Вовчик оскалился и «погнал». В их деревне «всесоюзная» шоферня решила отметить трудовую победу — конец страды. Набрали вина, девочек и тихо-мирно сидели на берегу речки, ощипывая колхозных гусей. Пока готовилось мясо, они пили. Вовка, одуревший от вина, утащил в кусты одну из молодух и только прижал ее поплотней и порешительней, как нагрянула милиция. Навалились сверху, можно сказать, «изнасиловал», как позже признает суд.
— Групповая? — вскрикнул Котенок, когда впервые узнал о преступлении Вовчика.
— Нет. Я один был…
— Значит, сексуальный медвежатник, — заключил Котенок. — С тобой все ясно. Гони дальше.
И Вовчик «догонял» до суда, до этапки… Так было и сейчас. Котенок, выслушав его, с грустью произнес:
— Забросили нынче «прописку». Напрочь.
— Где? — подскочил Писка. Он поспевал к любому разговору.
— Везде. Вовчик, допустим, у нас тоже живет без «прописки». Что мы скажем «хозяину», как в глаза ему глянем? Без «прописки» жить — самый тяжкий в тюрьме грех. Лучше фалануться, сдать себя в эксплуатацию, но чтоб без «прописки»… Грех!
— Тяжкий грех! — повторил Писка.
Зюзик, поняв наконец, о чем говорили товарищи, прыгнул с койки.
— Надо исправлять положение, — проговорил он. — Прописать человека — это же долг, а не просто обязанность.
— А ты, Вовчик, как считаешь?
— Как вы, — улыбнулся тот.
Он еще не понимал, не предчувствовал ничего худого. А «прописка», настоящая, «прописка» — жестокое испытание. Многие не выдерживают ее, опускаются. В дальнейшем таких ожидает жестокий удел: трет пол, чистит сапоги и одежду, прислуживает всем — словом, эксплуатируется на протяжении всего срока, как ездовая лошадь, которой ласки — никакой, пищи — что подадут… Опустившийся — это одна из мастей, а масть ничем не смоешь, даже нет возможности искупить кровью, как тягчайшую вину. Она, масть, — как клеймо на лбу! Но как объяснить такое новичку? Он по твоей просьбе прихватит твои же портянки, чтоб развесить сушить на батарее, а ему припечатывают с ходу: «шеха»! Через час он уже, глядишь, сапоги чужие начищает с удовольствием — лишь бы не трогали, не били по голове… Нет, здесь надо от природы быть башковитым: увидел — пойми, иначе, как говорят или скажут после: испеклась, мастюха!
«Прописка» решала судьбу подростка!
Но не во всякой камере прописывали — это уж к кому попадешь. Бывает, что и «не повезет»… Тогда стойкому, волевому парню, который не реагирует ни на какие «просьбы», приходится расплачиваться собственным здоровьем. Да будь он гигантом, но «против лома нет приема», все равно «отстегнут почки» и кровью будет мочиться… Зато выстояв в испытаниях, подросток автоматически приобретает авторитет среди таких же, как сам, сильных, волевых. Остальные — «мастевые», они не в счет. Он входит в кучку избранных, которые до сих пор живут, во всем подражая ворам, — бывшим «ворам в законе». Они и в зоне живут, пользуясь всеми благами преступного мира. Не мыть пол, не пыхтеть над производственной нормой, питаться за особым столом — это блага.
Выбор, конечно, небольшой, но выбирать приходится, чтобы в один час не растоптали твоего достоинства.
Поводов прописать Вовку было больше, чем надо. Главное в решении: прописывать или нет?
За два дня Вовчик успел накатать на родину с десяток писем. Он писал родным, друзьям, потому что тосковал по ним. Казалось, он на глазах худеет, обретая какой-то жалкий, хныкающий вид. Это не могло нравиться камере. Но главной побудительной причиной была та, что подростки, ожидая этапа на зону, засиделись, надо было хоть как-то размяться, повеселить тело и душу. Тогда и подвернулся Вовчик, напросившийся сам на эту «прописку». И камера, не сговариваясь, решила приступить к ней.
— Надо поддержать парня, — посерьезнел Котенок. — Не бросать ему поддержку на «пола», а поступить по совести — прописать. Прежде подготовьте соответствующий текст…
Согласие было полным, вернее, при одном воздержавшемся.
Роман валялся на постели. Заняться было нечем. Он думал о Вовке: дурак дураком! Таких на свободе обычно отправляют шутливые не в меру механизаторы в контору — за совковым маслом. И те идут, думая, что это какой-нибудь автол, приходят к бухгалтерше и спрашивают: есть ли совковое масло? Нет, к таким людям не бывает чувства расположенности, бывает — равнодушие.
— Писка, продиктуй текст, — приказал Котенок. — Да ты не трусь, Вовчик! Меня вон всю жизнь прописывают в казенном доме. Выпишут, черти, а через пару месяцев, глядишь, опять загремел на кичу. Хорошо, что сюда идешь, как… в иной, лучший строй: ни матраса с собой, ни подушки, даже сухарей не прихватываешь. Все выдадут. — Котенок входил в раж. — Главное, о прописке хлопотать не надо, как в городе, бегать повсюду, унижаться… Тебя всегда здесь встретят, остригут, накормят и спать уложат… Потому и полюбил я справедливость, и от вас требую того же. Пиши, кровняк.
Вовка взял ручку.
— Убедительно прошу совет камеры, — начал сам диктовать, никому не доверил Котенок. — Прошу прописать. Пошло? Да смелей ты, не взятку же берешь… Прошу прописать потому, что я не желаю больше проживать в камере незаконным образом и спать как будто на чужой койке, можно из «фени» — шконке… Записал? — Котенок был артистом. — В противном случае я вынужден буду обратиться в Верховный Совет… Однако никто не давал вам такого права, чтоб оставлять меня, бывшего колхозника, без прописки, без гражданства и подданства, положенных мне по закону. Формальный акт прописки доверяю своим товарищам по камере. Теперь, Вовчик, подпишись, не будем отходить от буквы. Вот так.
Вовка подписался под заявлением, даже поставил дату, не подозревая, что подписал себе приговор.
— Совет камеры не имеет возражений, — невесть где набрался этакой высокомерной важности побежник Зюзимон. — И вообще голосовать в нашем положении — это унижать самый акт священной прописки. Я категорически против этого маразма.
К Зюзику прислушались. Решили пару часов переждать, пока не успокоится тюрьма и не отгрохочут в коридоре сапоги дубаков.
— Хорошо, кровняки. А Роман не член Совета… Поэтому без права голоса. Пусть отдыхает, — заключил Котенок.
Котенок чувствовал, что Роман не ввяжется сроду в эту свару. Не первый день его знал, догадывался — из лириков.
Роман не отозвался на «прикол». Он знал, что такое «прописка», и ему всегда было противно смотреть на то, как трое или четверо избивают одного, кружатся вокруг бедолаги, хлопают… Своеобразная игра в знаменитого «жучка», где тебя бьют со спины — угадай, кто ударил? Не угадаешь, так подставляй плечо. Правда, разница была — здесь били в открытую, заходя с лица. Вроде честней.
Если бы Роман захотел вступиться за Вовку, то все равно бы не смог, чтобы не настроить против себя и тех, кто рядом, и тех, кто сидит в соседних камерах. Сработало бы «радио»: заворовался, пора мочить… Ему бы не простили никогда такой неслыханной дерзости — восстать против своих!
Отгрохотала, как далекий гром, тележка Дуси… Хозобслуга вместе с надзирателем прошли в другой конец коридора, к дальним камерам. Слышно было, как они переговаривались, стуча «кормушками», у дверей карцеров.
— Этот вчера тоже не ел.
— Пускай не ест. Не малолетка — уговаривать не станем… Вот заработает себе язву, тогда поймет, чего добивался.
У карцеров переговаривались, но в этом конце коридора не было ни одного дубака. Пробил час «прописки»…
Писка навалился на дверь, прикрывая затылком волчок. Так надо было, чтоб не застали врасплох.
— Встань, Вовчик! — потребовал Котенок. — Такой официальный момент, а ты кривляешься.
Вовка встал перед Котенком и вытянулся, слегка поджав живот. Он думал, что с ним продолжают играть: трусит, мол, или нет? Недоверия у него не было. Вместе ели и пили, его же продукты хряпали… Нет, ничего плохого Вовчик не ожидал ни от Котенка, ни от Писки — этого бы он ногтем раздавил! — ни от Зюзи, ни от Романа, перелистывающего сейчас старый журнал.
— Начинаем, — объявил Котенок, — с пончика. Ну-ка, кровняк, надуй щечку. Да не эту, а левую. Вот так, кровнячок, погоди… Пальцы не гнутся.
Поджав согнутые, точно завязанные в узел, пальцы и смастерив таким образом «лодочку», Котенок хлестко ударил. Удар получился звонким и оглушительным, как пощечина. Казалось, лопнула щека. Вовке не было больно, но голова, потеряв опору, поплыла по кругу. Невесомая, она стала чужой и легкой. Она стала подниматься кверху, но не могла оторваться от сильной шеи. Но так ему только показалось. На самом же деле он медленно оседал, сломавшись в коленях, потеряв на миг зрение и слух. Не ощущая себя, он свалился на пол.
— Вставай! — донеслось до Вовки. — Это — «пончик». Тебе их придется штук десять сглотить, иначе на парашу— петь петухом. Писка, давай делай!
Котенок сверкал глазами. В последние дни он не чифирил — не мог достать чаю, — сегодняшняя игра как бы разогнала в нем загустевшую кровь. Котенок ожил.
Писка подошел к Вовчику и заставил его «надувать щечку». Это делалось для того, чтобы не повредить челюсть: боялись «раскрутки». Писка припечатал «лодочку», повернувшись на каблуке. Вовка поплыл по камере, дурацки улыбаясь.
Зюзик долго выбирал позицию, но все-таки хлопнул… Удар не вышел таким, как хотелось бы Зюзику.
— Размазня! Теперь введем винозаменитель — кырочку, — оттолкнул Зюзика Котенок. — Это уже бобо! Замастырь, Писка.
Писка, убедившись, что в коридоре по-прежнему тихо и спокойно и надзиратель басит где-то в конце коридора, подскочил к Вовке со спины и резко вытянул его по шее ребром ладони.
Бил Котенок, потом Зюзик, Писка набегал от двери и, вытаращив глаза, рубил с плеча. Вовчик едва держался на ногах, но, как назло, не терял сознания, чтобы забыться, оторваться от боли ощетинившейся в затылке.
«Набили руку», — подумал Роман. Неожиданная мысль обожгла его: за пончиком шла кырочка, а не наоборот! Кто-то, видно, нарочно разработал эту систему приемов, чтобы сперва «отуманить» пончиком, не спугнуть— пончик-то «хмелен»! — а уж потом расколоть человека напополам, развалить, как топором, кырочкой. За легким ударом следовал сильный… Попахивало настоящим садизмом.
Вовка отворачивался, но его ставили лицом к двери: так им было удобнее следить за волчком, к которому в любую минуту мог подойти надзиратель.
Прописка затягивалась. Его теперь не били, над ним попросту издевались. Он, выросший на парном молоке и шанежках, имел крепкое здоровье, и потому держался. Лучше бы свалился, прикинулся «вырубленным», тогда бы его оставили в покое. Но он не «вырубался».
— Тихо ты, не мычи! — шипел Писка. — Если запалишь нас, то знай: достанем даже в «обиженке»!
Одним приемом его «подмолаживали», другим раскалывали голову. Роман видел, что по камерному закону прописка подходила к концу, она закончилась, и Вовка, как бы он себя ни вел, выдержал ее с честью. Он не взревел, не бросился с кулаками на дверь, призывая на помощь надзирателей, то есть «не спрыгнул в обиженку».
Но прописчики вошли в раж и не могли остановиться, точно их раздражало и бесило то, что они не могут сломить Вовчика. Почему он держится? Почему не отключается?! Азарт захватил их полностью, они на глазах превращались в зверенышей, жаждущих крови того, кто попал в их лапы. Будто хотели разорвать свою добычу на куски, да не могли: коготки ломались.
Дежурный по тюрьме офицер включил радио. Программа радиостанции «Юность», бодрая и жизнерадостная, вошла в камеру. Она поздоровалась и сообщила им прямо с порога об успешной сдаче очередного отрезка дороги на БАМе, где трудилась комсомольско-молодежная бригада товарища Ловушко из Кривого Рога, и запела:
…Сердце волнуется. Почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, Мой адрес Советский Союз!— Как будто спецом! — выругался Котенок. — Коридор теперь не прослушивается из-за этого «адреса».
Вовка держался. Его избивали, стараясь не оставить на теле ни ссадин, ни синяков, а сами все ближе и ближе подбирались к почкам.
— Отстегнем ему почки! — прохрипел Котенок. Тогда и подумалось Роману: «Да он зверь! Что же я так рвался к нему?» Знать, ни черта он не разбирался в людях,
Пытка продолжалась.
…Сердце волнуется. Почтовый пакуется груз……Утром Вовка оправился с большим трудом. От боли, сковавшей его тело, он ходил как-то боком, заваливаясь на правую ногу. В этом боку, в правом, покалывала иглой кровоточащая внутренняя рана, которая терзала его всю ночь. Надзиратели, выводя камеру на оправку, не заметили ничего ни в первый, ни во второй день. Вовка один вытаскивал парашу, подметал и мыл пол, но уже не допускался к общему столу — он ел на кровати, зажав миску в коленях. Ему не разрешалось прикасаться к мискам, к хлебу, питьевому бачку… Он погрузился в одиночество и, пожираемый тяжелыми думами, замкнулся, камера виделась ему со спичечный коробок. Такой она стала. Вовка пал духом, освоив поневоле глупое выражение лица и медлительность движений, и стал походить на форменного придурка.
На четвертый день он уже не мог встать с постели, хотя его больше не били. Прописка выпотрошила его. Он лежал на койке и не прикасался к еде. Страшно болела голова, а тело вообще отекло и не подчинялось ему.
Писка поймал живьем крупную муху и, подойдя к нему, приказал:
— Хавай, Вовчик!
Вовчик, не соображая, что делает, цепко перехватил муху и положил в рот. Муха хрустнула на зубах. В камере переглянулись.
— Может, хватит? — не выдержал Роман. — Так ведь и свихнуться он может. Тогда схлопочем лет по пять…
— Это уже не человек, — спокойно произнес Котенок. — Он вернулся к истоку — перевоплотился в обезьянку. Правильно, человеку счастья на этой земле нет. Зачем быть человеком? Затем, чтобы сидеть в клетке? Так это и есть зоопарк… Вот, любуйтесь, пожалуйста, на обезьянку.
Но Роман все-таки успел разглядеть этот крошечный огонек, что тревожно блеснул в глазах Котенка, и сразу понял: Котенок боялся. Он боялся последствий и вовремя почувствовал, что запахло жареным. Его даже пот прошиб: «пятак» намотают, а за что? За эту паршивую свинью! Котенок опустился на кровать. В этот миг, перетрусивший не на шутку, он раскрылся с другой стороны и увиделся таким, каким прежде его трудно было даже представить. Вот она, жизнь. Лоск слетел…
— Спокуха! — хорохорился Писка. — Все равно ему не светило урковать: рожей не вышел… Разве это аристократ?
Роман промолчал. Он, к сожалению, тоже не был аристократом.
Тихо было в коридоре. Вместе с телефонами исчезли дубаки.
Роман жалел этого мордастого, бесхарактерного парня. Но кто виноват в том, что он до сих пор ходил в любимых детях и ни разу не поклялся себе: если придется трудно в жизни, то я выстою? Он не думал об этом, ибо не знал, что характер куется с детства, что его не подают к столу, как пирог, испеченный заботливой матерью. Все она отдала своему чаду, но только не характер… Как его отдашь, если его и у самой нету?
Роман считал: впредь ему наука. Он вспомнил, как сам проходил прописку. Ему было трудней, чем Вовке, вдвое трудней, но он выстоял, не признав авторитета раскрутчиков… Кровью оправлялся, но не признавал. Тогда ребята подобрались «оторви и выбрось», их не удерживала подстраховочная мораль Котенка, потому что они шли на «раскрутку», а таким терять было нечего… Они уже набрали положенный по закону срок.
Через день Вовчик превратился в артиста: пел по заявкам, опустив голову в парашу.
Он перестал следить за собой, не умывался по утрам, не чистил зубы, не ходил на прогулку, когда всех выводили.
Надзиратели, входящие во время проверки в камеру, не обращали на него никакого внимания, хотя обязаны были всех поднять с кроватей, ощупать глазами. Роман слышал, как Вовка плакал по ночам в подушку, звал шепотом мать.
Котенок не знал, чем себя отвлечь от тяжких дум.
Вдруг Вовчик бросился на дверь. Он молотил кулаками по железу и кричал, давясь слюной:
— Открывай, старшой! Меня убивают… А-а!
Писка и Котенок, сидевшие возле параши, растерялись. А по коридору, гремя кирзачами, бежали уже надзиратели со всех ближайших постов. Загремели запоры — в камеру ворвались.
— Что такое? — спросил запыхавшийся старшина. А когда осмотрел всех внимательно, то без объяснений понял: прописывали.
— Собирайся с вещами! — приказали Вовчику. — Переведем тебя в хорошую камеру. Ну не плачь, как пацан, не плачь…
— Боюсь в камеру, — ревел Вовка. — Лучше в карцер меня посадите, где я буду сидеть один. Не хочу в камеру.
— Мы тебя в хорошую камеру посадим, — утешал старшина. — К таким же, как ты… Давай выходи.
В камере притихли.
— А тебя, сучонок, — грозил старшина Писке, — я сейчас запру в самый чудесный карцер, чтоб ни лечь, ни сесть! Метр на полтора… По росту тебе. Тогда, — вспомнил он, — в тридцатой воду мутил, теперь здесь не сидится… Окурок, как «покури, дружок, я губы обжег», по гонору… Сучий хвост!
— Ага, без очков не разглядишь, — подключился постовой. — Ни хрена добра не понимают. Без того, честно говоря, обижены законом… И нет чтоб хоть как-то утешить друг друга в беде, так они наоборот — грызутся, как собаки. Кому досаждаете, а?
В камере молчали.
— И ты выходи, — увидев, что Писка не торопится со сборами, приказал старшина. — Не хлопай глазами! Все, приехали, как у вас говорят: приплыли! Сейчас втолкну в самую дикую камеру. Поторапливайся же! Вот вытяну киянкой по хребтине, гадина!
— Попробуй только! — огрызнулся Писка. — Срок схлопочешь.
— Соображает, что нельзя. А если я перемахну через нельзя? Тебе же все, выходит, можно, а мне — почему нельзя? Почему?
— По хрену и по кочану! Я в карцере опять голодовку объявлю, — не терял надежды на спасение Писка. — Посадите?
— Конечно, посадим, — подтвердил старшина. — Жрать не будешь — я в тебя шлангом волью или соску из дому принесу с бутылочкой молока… Ухватил? Вливать будем, вливать.
Вовку увели.
Писка едва собрался: в карцер разрешали брать с собой только нижнее белье и робу. Ни фуфайки, ни бумаги, ни табаку. Писка надел чистую маечку и трусы, натянул носки, робу, попрощался с товарищами и вышел. Его посадили в карцер.
— Беситесь с жиру, — ворчал надзиратель. — Эх, ребятишки! Вам бы хоть какую-нибудь работенку подсунуть, заняли бы руки.
— Пусть работает Иван и выполняет план, — пропел Зюзик.
Но надзиратель не слышал и продолжал:
— Тапочки бы шили, коробки конфетные клеили, как в приличных тюрьмах. А без работы, без дела поневоле с ума спятишь. Вопрос ясный.
— Котяра, а, Котяра! — кричали из соседней камеры. — Что там за кипиш? У вас?
— Спалились, братуха, — ответил Котенок. — Один тут в обиженку спрыгнул. Куреху получили?
— Ага, ништяк. Цинкани, кто спрыгнул — ушибать будем…
— После, после… Пока расход! Пусть все утихнет, в рот меня высмеять, — свалился с «решки» Котенок.
Роман, вспомнив о пленнице, подошел и порвал нитку, на которой та сидела. Мышка, покрутившись между ног, не спеша направилась в угол, где зияла дыра.
Котенок попытался запеть, но голос у него срывался. Тогда он сполз с кровати и, нарочно стуча костылями, стал ходить по камере. Говорить им было не о чем. Тюрьма тоже молчала.
19
Когда «воронок» отчалил, капитан Ожегов подошел к Клаве и спросил:
— Как дальше думаете жить?
— Как жили, так и будем жить, — ответила она. — И да поможет нам господь.
— Господь не поможет, — заметил Ожегов. — Сами выкручивайтесь, и я вам больше не нянька. Вот так.
— Выкрутимся… Хоть кошки на душе скребут, а жить будем, товарищ капитан, — через силу улыбнулась она.
Уважаю тех, кто говорит напрямую. В нашем деле, Клава, нельзя крутить хвостом.
Ожегов ушел огородами, по самой кромке, где могучий гараж уже насыпал песку.
Она накормила свиней, подмела в ограде.
— Сама управляешься! Что с тобой? — удивился Тихон. — Где-то, видно, медведь сдох, а то и два.
Но она продолжала работать молчком. Ей больше всего хотелось избавиться от невеселых мыслей. Сделала то, другое, а успокоиться не могла. Не отпускал вопрос Ожегова: «Как думаете жить дальше?» Даже он почувствовал ее усталость… Может, уехать к детям?
Беспокойная душа, она не знала устали. И теперь, когда Нахаловка встала ей поперек горла, она зарубила: не хочу жить так! Что же это за неволя такая?
— Я не могу больше с такой «пропиской», — решительно заявила она. — Не прописали, а приписали к району, как скот… Гараж вот наползает, смахнут нас — куда пойдем? Квартиру ведь никто не даст, потому что даже домовой книги не имеем. На улицу выгонят, как иноземцев… Зла не хватает.
— А насыпушку куда? — спросил Тихон. — Ее же не перевезешь — развалится по дороге к твоей родне.
Не начав толком разговора, они уже подобрались к самой сути, и Клава, обрадовавшись сообразительности мужа, воскликнула:
— Да мы новую избушку купим! В Обольске их прорва… На худой конец переберем по бревнышку какую-нибудь лачугу, чтоб не тратиться, да заживем себе. А эту продадим, нехай берут. Может, там и пить бросишь, — вздохнула она. — Ну ее к лешему, болезнь такую, прямо жить невмоготу.
Тихон тоже не мог не почувствовать, как стремительно начал приближаться к той черте, за которою уже бывал. Неужели его и впрямь сносит к прежней воронке? Значит, опять беспробудный запой, когда ты без штанов, без своего угла, но с господином градусом в башке. Страшновато об этом даже подумать.
А почему, собственно, в Обольск?
Однако он не стал ее об этом расспрашивать, но недвусмысленно заявил:
— Куда поедешь, если здоровья осталось на раз чихнуть. Все бросим, переедем, а в Обольске… Кто-то рад нам, нишете.
— Ничего, рядом с родней не пропадем, — посмотрела она на мужа. — Ты тут размышлял бы пока, а я слетала — узнала бы, что к чему. Родные помогут на первых порах…
Она была в этом уверена. Тихон присел на ступеньке и задумался.
— Вот снесем товар на «толкучку», — продолжала Клава, — и я уеду со спокойной душой. Чего ждать, у нас не подают никому даже на паперти.
И опять он не произнес ни слова.
Наступил торговый день.
Бодрые, суетливые, отправились на толкучку, будто предчувствовали удачу. На торговом пятачке бродил, гудел, спорил и толкался разномастный народ, вечно выгадывающий и приценивающийся. Когда они прорвались к прилавкам, то свободных мест уже не было: люди выглядывали из-за барьеров, прижатые и подогнанные друг к другу, как патроны в обойме. Клава подвела мужа к забору и сказала: «Раскладывайся тут, а я пойду искать куркулей местных».
Тихон вывесил полушубок и шапки, но курточку, легкую, сшитую по последней моде, оставил. Он держал ее в руках, кивая тем, кто был помоложе: «Ну, чего варежку разинул? Бери, пока не толкнул». И курточку действительно вскоре взяли, вручив торгашу сторублевую бумажку.
Когда вернулась Клава, ведя за собой высокого, заросшего щетиной барыгу, он ей пожаловался: «Да, продешевил с курткой! Надо было сто пятьдесят просить, совесть не позволила». — «Подь ты к черту, — отозвалась супруга. — Где так смелый, а здесь стоишь, глаза навыпучку… Ну ладно, чего с ребятишек возьмешь! Студенты прохладной жизни». И взяла из рук Тихона сотенную, вздыхая: все, мол, одеться хотят по моде да со вкусом. Последние деньги спускают, не жрут по неделям — одеться позволь.
Барыга, попусту не торгуясь, сунул ей три сотни за крытый полушубок. Купюры были новенькими, как из Госбанка.
— Владей, подруженька моя, — заявил он. — Дороже бы никто не стал брать: вещь сумнительная, даже весьма.
Но она знала своему товару цену.
Вот уж и продали его, а уйти не смогли. Толкучка затягивала Клаву, веселила: нравилось ей мотаться средь торговых рядов да оглядывать то, что произвели не машины, а такие же, как у нее, руки. Гудят, спорят, кое-где приходится выступить даже в роли судьи: защитить товар или похаять вместе с покупателем. Нет, руки все могут! Даже обидно становится, когда тебя за твой же труд тащат обалдевшие от гула и толкотни оперативники, чтобы вывернуть наизнанку: откуда, мол, товар? Конечно, на толкучке много разной дряни околачивается, но надо уметь отличать хорошего человека от плохого. Тем более что проходимец торгует джинсами, а частник сапогами, тапочками, полушубками, скобами, заготовками.
С грустью расставались с «толкучкой» — родиной последних мастеров-умельцев. Надо было заехать в универмаг — купить Тихону костюм, не хотелось его везти в Обольск голодранцем. Да и что это будут за смотрины, если задница у мужика наголе?!
Подъехали к универмагу. И тут к одной радости, как говорится, прилипла другая: Тихон столкнулся с родным братцем.
— Родной! Боже мой, какая радость, — бросился он на шею опухшему и тяжелому, видно с похмелья, брату.
— Здравствуй, братец! — улыбнулся тот. — Рядом живем, в одном городе, а друг к другу — ни разу! Так хоть улица свела, а?
Обнимались, тискались братья. Клава стояла в сторонке и невольно удивилась: «Как похожи, черти!» Да, одна кровь. Теперь уж было не до универмага — отправились в гастроном.
— Устрою вам, субчикам, праздник, — говорила она, радуясь за Тихона: обняв брата, тот даже прослезился.
— Отпразднуем! — хрипло похохатывал брат. — Никаких обид! Помочь вам ничем не мог — работа заела: постоянно на Север ездил… То туда, то сюда. Теперь осел, роюсь в земле, как крот: газ проводим в городе.
— Возьмем две бутылочки коньяку, поедем к нам, — никак не отреагировала она. — Посидим дома, выпьем… Родные братья встретились!
Вернувшись домой, она быстро собрала на стол и пригласила братьев, разговаривавших на улице. Они сидели на крыльце и курили, с волнением и дрожью в голосе перебирали родные имена.
— Эх, как жизнь-то пролетела! — выпив, проговорил братец. — Но я все помню — как приезжал к тебе в Ленинград, как ты нам гармошку купил, учились тогда играть… Эх, жизня! А сам-то, Тихон, играешь теперь? Давай.
— Не играю, — ответил Тихон, взглянув на жену. — Но достать могу — у Томки. Сбегай, Клава, а?
Клава побежала к соседке.
— Вот так они и жили, — вздохнул братец, — спали врозь, а дети были. Но я рад тебе, братуха, рад!..
Братья обнялись и расцеловались.
Клава вернулась с гармошкой. Хомяковатый братец пробежал по басам, опробовал голос — заказывай, — и Тихон заказал — ту, из молодости, любимую. Когда запели, Клава и тут подивилась: мягкие и сильные голоса у обоих. Точно один человек поет.
Захмелевшая хозяйка, склонив голову, слушала их.
Ни о белых ночах, ни о Васильевском острове она не знала, но плакала вместе с братьями. Будто одну молодость оплакивали. До чего же сближает людей хорошая песня!
— Почему ничего не едите? — спросила она после того, как брат отставил гармонь.
— Без еды… Да о чем ты, Клава! Не беспокойся, — ответил гармонист. — Какая еда? Встретились наконец-то… Дай я тебя поцелую, брат!
Они опять целовались, и Клава, качая головой, радовалась этому. Тихон посвежел, приободрился. Он беспрестанно подливал брату, жене и себе — в последнюю, конечно, очередь. Он угощал, как только может угощать настоящий хозяин, щедро, с высоко поднятой головой: прошу, прошу… не чужие.
Мужики басили. Клава распахнула двери, даже форточки пооткрывала, как будто хотела доказать соседям, что и у нее, такой-сякой, в доме праздник. Пойте, мужики, коли душа просит… И соседи не могли не слышать стройных их песен — Тамара бы так не спела никогда… Куда ей, дуре.
И луна на Васильевский остров…Через час к дому Тихона потянулся народ. Соседи приходили со своим вином… Клава даже пошутила: «Когда строились, ни один не пришел помочь, а в застолье — ох, как мы дружны, люди!»
Первым пришел Юрий Иванович, что недавно построился за Харитоновной.
— Можно к вам? — пропищал он своим слабеньким голоском в приоткрытую дверь. — Не прогоните?
— Заходи, Юра, — пригласила его Клава. — Здесь как раз только тебя и не хватало. До полного комплекта.
— Я слышу — поют, — не обиделся он на иронию в голосе хозяйки. — А суббота, в душе пусто… Чего, думаю, сидеть одному? Пойду к Тихону.
Он выставил на стол бутылку водки и присел рядом с хозяином.
— Хорошо, что пришел! — искренно обрадовался гостю Тихон. — Я давно хотел поближе с тобой познакомиться. Живем, как… Не знаю.
— Все верно. Трудно по одному жить… Дико.
— А это… Это братуху встретили в городе, поэтому празднуем, — продолжал хозяин. — А так-то я не очень употребляю… Некогда.
Клава расхохоталась. Но чтобы не испортить настроения мужу, обратилась к Юрию Ивановичу:
— Ты, сосед, — хохотала она, — пей и ешь. Об одном прошу: не пой песен. С твоим голосом только в туалете сидеть и кричать: занято!
Юрий Иванович тоже расхохотался. Обиды не было, потому что он не понаслышке знал, какова на язычок хозяйка.
Застолье оживилось.
Об Юрие Ивановиче знали здесь только хорошее. На глазах строился человек… Не заладилась семейная жизнь, бросил шоферить, оставил жене и детям квартиру, а сам, прихватив ковер — «На черный день, строиться буду, так хоть не с ноля!» — притопал к брату. Вдвоем они привезли две машины списанных шпал на окраину да и собрали из них крепкий домик. «На кой черт мне насыпушка! — визжал Юрий Иванович. — Срубил из шпалы, так теперь знать буду, что навеки! Лет двадцать протяну, а там завещание напишу: „Передайте мой дом тому, кто нуждается в жилье“. Этот крепок, — кивал он на дом, — простоит века, как добрая железная дорога. Не зря же — шпала?!» Каждый видел, что неказистый мужичок поставил себе не дом, а памятник. Стены покрыл снаружи резной дощечкой, проолифил, принялся за ворота, но бросил почему-то… Так и стоял его домик, открытый глазу со всех сторон, без изгороди, без вспаханного огорода. Точно человек жил в гнезде, даже замка на двери не было: что воровать? Работал он слесарем, ни к кому не ходил, но и не чурался никого. Казалось, что жизнь его так издергала, что он рад был своему одиночеству. Дважды ему попадали бабенки, сходился просто: «На работу не гоню, сиди дома…» — «Как же без работы?» — удивлялась «невеста». Тогда он брал ее под локоток и растолковывал, как несмышленому ребенку: «Вот мой дом, кухня, постель… Об одном прошу: следи за чистотой, готовь мне еду и никуда не лезь! Деньги будут лежать в шкафу, — он сам все сделал в доме, пригладил: и стол, и шкаф, и шифоньер врезал в стенку, — сколько денег понадобится, столько и возьмешь. Вот так и будем жить. Устраивает тебя?» — «Даже не верится! — вспыхивала „невеста“, наливаясь огнем. — Сроду была, как батрачка… Потому и скатилась…» — «Меня не интересует твое прошлое, — перебивал Юрий Иванович. — Не слепой, вижу кого беру. Живи по совести и не выпрягайся, а я — простой мужик».
Через недельку, глядишь, выправляется Юрий Иванович, ходит бодро, даже брюшко появляется, и он важно несет его перед собой, нигде не споткнется. Соседи знают; жизнь наладилась, слава богу… А еще через недельку— «невеста» вылетает в трубу.
— Что там, Юрка? — спрашивает беспардонная Тамара, высунувшись из воротец. — Нагнал, что ли?
— Говорил тварюге, — отвечает Юрий Иванович, — замечу чего — выгоню. Нет, неймется. Пришел, а она на рогах стоит среди кухни, вдупель пьяна. Чего не хватало тварюге?
Путные бабешки на Руси перевелись.
Так и жил Юрий Иванович. Так и стоял его домик, поражая всех красотой — мастером сработан! — и удивляя тем, что никогда не запирался на замок.
Застолье продолжалось.
Клава, довольная и деловая, прямо за столом пересчитала деньги, положила их в карман — и на булавочку.
Братья крепко подпили и решили съезжаться, так как больше не могли жить друг без друга. Но Клава их осадила:
— Съезжаться они будут. Вы тут, два гаврика, запьете — мне что делать? С одним-то алкоголиком справиться не могу. Нет, лучше уж живите порознь и в разлуке страдайте на трезвую голову.
Тихон «догонялся», как поняла Клава. Все у него было по-прежнему: выпил стопку — показалось, что капельки не хватило, потянулся за другой — опять не хватило капельки, а рука сама тянулась и тянулась к бутылке. И не мог он понять, что этой капельки ему никогда не хватит, и тянулся, не в силах бороться с пагубным инстинктом. Остановиться бы ему сейчас, переждать… Но Тихон пил одну за одной, как будто ему хотелось сравняться, сгладиться с братом, слиться, чтоб — как один человек… Братана-то она, зараза, веселила, и он, раскрасневшийся, терзал гармонь. Его душа пела. И Тихону, отяжелевшему на глазах, хотелось петь.
— Хватит тебе, Тихон, — попросила жена.
— Молчи! У меня праздник, — отмахнулся он. — Я сегодня праздную, а не митингую. Так, братуха?
— Все верно. Празднуй…
— Продали товар? — спросил Юрий Иванович. — Вроде на толкучку ездили.
— Продали, слава богу, — с облегчением вздохнула Клава. — Народу там!.. И в городе ходили — кругом, как ярмарка! Были бы только деньги…
— Весной всегда ярмарка в Юмени, — согласился Юрий Иванович. — Накормят разок людей, те и бодрствуют до первого каравая!
— Жрать тебе нечего, а? — ревел брат. — Тогда собирай рюкзак и дуй в колхоз на посевную. Че ты тут сидишь, присох? Ага, не хочешь пахать и сеять… Я тоже, брат, не хочу, — признался он. — И все мы не хотим, вся страна, только хлеба просим… Тихон вот, этот не жалуется ни на что — сам себя кормит. Ура, братец!
Спорить не стали, выпили втроем… Клава ела. Она, если выпьет, всегда ест, потому не болеет с утра.
— У меня тоже есть брат, — проговорил Юрий Иванович. — Он у меня без штанов, зато в «Жигулях». Так и ездит. Я ему говорю: купи себе порты хорошие, а он отвечает: зачем? В кабине не видно, что я без штанов… Так и буду ездить. А если ГАИ остановит? И тут, сволочь, выкрутился, — говорил гость. — Говорит мне: не остановит ГАИ, потому что я не пью. Он не пьет, он богатеет…
— А я при чем? — спросил Тихон. — У меня есть портки…
— А у меня нет теленка, — вздохнул Юрий Иванович. — У меня есть собака Пушок… Я его очень люблю и уважаю, своего Пушка.
Хомяковатый братец грянул турецкий марш… Мужики обнялись и выпили на брудершафт, как будто клялись в вечной дружбе.
Тамара не вошла — она ворвалась в прихожую, считая, что имеет на это право: гармошка-то ее здесь.
— Пьянству бой, — прокричала она с порога, — но выпьем перед боем! Не верите мне — спросите у меня.
Она прошла к столу.
— Я выходная, — заявила мужикам. — Выпоротков связала и уложила штабелем, а сверху придавила их рыжим паханом.
В засаленной кофточке, в трико и болотных сапогах, Тамара выставила бутылку портвейна на стол.
— Тихон, я с тобой посижу. Идет? А ты, Юрий Иванович, какого хрена расшеперился тут? Дай-ка пройти молодой и интересной женщине.
Здоровая и шумная, она ни с кем не церемонилась. Прорвавшись к Тихону, плюхнулась ему на колени и с жаром впилась в губы. Тот насилу оторвался:
— Пшла ты, стерва! Я свою-то бабу не целую, еще тебя… Ну-ка свали, свали, говорю.
Тамара по-глупому хохотнула и предложила выпить. За столом притихли.
— А что вы, собственно, пялитесь на меня? Свалкой попрекаете… Да? — Тамара становилась опасной. — За вами же я убираю грязь, соскребаю с асфальта плевки… Воздух от этого чище в городе, без меня бы поросли плесенью. А? Вы, потребители, сделали по одному ребенку и давай меня учить, как жить, давай меня учить совести и уму. Да?
— Тише ты, Томка! Не ори! — попытались ее осадить.
— А свалка… Чего свалка? — недоумевала Тамара. — Свалка меня кормит и не унижает так, как унижаетесь в жизни перед всякою швалью вы! Стала бы я ходить к квартальной, чтобы на коленях перед ней стоять да вымаливать талоны: позволь отовариться на триста грамм масла! выдай мне, пожалуйста, талончик на один кэгэ мяса. Мне же положено мясо? Ждите, — передохнула она. — Я здесь, на свалке, выручу во сто раз больше, и без унижения! Ты понял, красноносый? — Тамара посмотрела почему-то на гармониста, и тот вынужден был притворно согласиться с ней:
— Верно говоришь… Но мне не нужны талоны: я почти не ем — только пью. Устраивает тебя такой ответ?
— Вполне. Давай с тобой выпьем.
Тамара сорвала зубами пробку и налила в два стакана.
— Пей, красноносый!
Они выпили с гармонистом.
— Ты, Юрка, ехидный, — заметила, почти успокоившись, Тамара. — Потому с тобой бабы не живут.
— Такие, как ты?
— И я бы не стала… — с Тамарой невозможно было сладить. — Да, я собираю на свалке всякое тряпье, я санитар общества, а не волчица. Почему я собираю рвань? — спросила она. — Да потому, что ты не станешь собирать, а для меня это — мое богатство: богатой я обязана быть, детей надо поднимать… Понял? Так вот, я привожу все домой и сортирую, чтобы потом сдать в магазин «Стимул». Там принимаю в дар за вторсырье ночные сорочки, портфели — а что делать, если больше ничего не дают? То есть я меняю дерьмо на добро. Ха-ха! Раньше этим занимались старьевщики: они ездили на телегах по дворам и скупали всякую рухлядь. Выброса не было, потому жили богаче… Помнишь?
— Помню, помню, — согласился вдруг Юрий Иванович. — Сам отдавал рваные телогрейки в обмен на шары.
— Шары! — передразнила Тамара. — Обними пьяного ежика… Но теперь старьевщиков нет — я одна работаю. По-некрасовски: слышь, отец рубит, а я отвожу… А вы мне про свалку… Да я, может, честней всех вас: вам-то наплевать на то добро, которое сжигают на свалке, хотя — домик-то с помощью свалки поставили. Так?
— Хватит тебе, Томка, — нервничала Клава. — Лучше возьми гармошку да спойте… Вот и мой соколик подпоет тебе.
Тихон вернулся к столу, но не сел рядом с Тамарой. Он «целился» из пальца в супругу и повторял;
— Пух-пух! Подвинься, рядышком подсяду.
— В кого ты целишься, — улыбнулась та. — Убьешь… Что ты без меня делать-то будешь? Садись, глупышка, — она обняла мужа и ласково потрепала его рукой по щеке.
Тамара, тронутая такой сценкой, всхлипнула:
— Вот как у вас… А мой, кабан, пьет только и никогда руки не наложит, чтоб приласкать меня. Сволочь! Алкаш! — но увидев Харитоновну, что появилась на пороге, закричала: — Входи, Харитоновна! Ты, как… оттуда на быстрых лыжах!
Искренно Харитоновне обрадовалась только хозяйка. Она встала и шагнула навстречу смутившейся старухе.
— Проходи, родная, проходи! — повторяла она, ведя гостью под руку. — У нас весело.
— Веселей некуда! — ехидничала Тамара. — Давайте плясать.
Харитоновна, не проронив ни слова, села рядом с хозяйкой и уставилась на кривляющуюся Тамару.
Гости не расходились.
Юрий Иванович как бы под аккомпанемент гармошки, сцепился с младшим из братьев. Мужики выясняли международную обстановку.
После выпивки и сытной закуски Клаву потянуло на сон. Она поднялась из-за стола и, хлопнув себя по карману — на месте ли деньги? — прошла в спаленку.
Сквозь сон она слышала ровное гудение мужиков и всхлип, собравший все звуки в один, — протяжный и тоскливый, как осенний дождь.
Клава проснулась от какого-то шума в комнате: вроде как стакан свалился со стола и, ударившись обо что-то твердое, разбился.
Она шагнула в комнату.
В комнате горел свет. В дверном проеме — дверей они так и не навесили — задницами в прихожую, а головами в комнату стояли на четвереньках мужики — Тихон с братом. Они боролись. Тихон, увидев жену, прохрипел:
— Клава, подай бутылку! Вон ту бутылку, пустую… — Он вытянул шею, жилистую, как натруженная рука.
Клава машинально подала ему пустую бутылку, спросонья еще ничего не соображая. Тихон схватил поллитровку и, коротко размахнувшись, ударил… Стекло посыпалось им на головы и они, как бы протрезвев, расцепились и рухнули на пол. Сидя на полу, братья с испугом смотрели друг на друга.
— Ты что? Братан! — выдохнул младший, не отрывая глаз от братниной руки, в которой было зажато горлышко от бутылки. — Ты же мог меня убить… насмерть! Понимаешь?
Тихон, содрогаясь всем телом, шептал:
— Я с понтом, братан, с понтом! Я бы тебя не убил! Я спецом так сделал, чтоб напугать тебя… все рассчитал и — ударил по косяку. Клянусь честью.
— Нет, ты хотел меня убить… Убить хотел, зарезать… Так на, режь меня на куски! — орал тот, распахивая на груди рубаху.
Они сидели на полу, прямо в тесном проеме, где не было никакой возможности подняться на ноги так, чтобы не удариться при этом лбами.
Клава очнулась. Только теперь она поняла, что братья дерутся и что их надо немедленно развести по углам, чтоб не изрезались по пьяному делу. Она протянула руки и, вцепившись в Тихона, выдернула его из проема, как из щели, в которой он застрял. Младший брат поднялся сам и все качал головой:
— Ты мог меня убить, ты мог меня убить… А за что? За сто грамм коньяка.
— Прости, брат. Ты ведь знаешь, какая у меня жизнь была… Прости, пожалуйста.
— Так вы, придурки, из-за этой капли разодрались? — удивилась Клава, наклонившись над бутылкой, на дне которой еще оставался темный коньяк, грамм сто пятьдесят. — Да?
Она подошла к столу и разлила последки по стаканам.
— Пейте, сволочи, и расходитесь! — приказала она, подавая им стаканы.
Братья выпили. После этого один — Тихон — потянулся, чтоб обнять, но другой отвел его руки.
— Не прощаю! — твердо проговорил он. — Братоубийцу не прощаю! Ни-ког-да! Точка, тире… Я уход отбиваю…
— Ну вот, поссорились… — хозяйку разобрал смех, и она закатилась. — Идите уж оба. Ты, Тихон, чего стоишь? Одевайся тоже…
Младший, выкрикнув на прощание: «Не прощу братоубийцу!» — вышел на веранду.
Тихон плакал.
Клава оглядела комнату. Грязный стол, на полу окурки… И больно глазам сделалось.
— Вас ведь и приветить-то нельзя, — проворчала она. — Думала: погуляете, а вы насвинячили только да подрались. Спи здесь, в комнате.
Она вышла на улицу, постояла на крыльце… Вечер пришел — небо переливалось, как брусника в лукошке! Светло и тепло, как тихо было вокруг… Собаки, подбежав к крыльцу, облизали хозяйкины ноги.
— Спать, девки, спать! — улыбнулась она.
Собаки поскулили, виляя хвостами, припадали на передние лапки, точно прижимались к земле.
— Не разбейте головы-то с радостей! Все бы ласки вам, а службу не несете, чертовки…
«Жить-то как хорошо! — подумалось ей. — Надо все обиды позабыть и наплевать на переезд… Столько мучились — и вдруг куда-то ехать!»
Она вернулась в спаленку и прилегла, не забыв похлопать себя по бедру: деньги были на месте — ощутила тугой кошелек в кармане, заколотом булавкой.
Надо было уснуть.
Тихон, скрипя диваном, по-прежнему плакал:
— Брата обидел, брата…
— Тихон! — окликнула она. — Спи, родной. Стащи с себя шкуру — не в штанах же спать! — и отдыхай с богом. Давай, маленький, послушай меня хоть раз. Я ведь тебе зла не желаю. Правда?
— А деньги мои где?
— У меня твои деньги, у меня, — отозвалась она ласковым голосом. — Позволь мне их посторожить до утра. Спи, ненаглядный мой, спи… А завтра встанешь и возьмешь свои деньги, — обещала Клава. — Как только глазоньки откроешь, так и получишь… Спи.
Тихон и вправду успокоился.
Завтра для них должна была начаться привычная жизнь, потому что, настроившись на спешный переезд, они позабыли о нем так же быстро, как и вспомнили. Душа человека отходчива, а привычка слишком сильна, чтобы вот так, запросто можно было перемахнуть через нее, как через низенький штакетник.
Она проснулась и вышла из спальни. Прислушалась — Тихон швыркал, отхлебывал из чашки «гольную заварку».
— Ничего, братец, переболеем, — громко проговорила Клава, несказанно обрадовавшись тому, что муж не убежал никуда искать опохмелку.
О переезде в Обольск не произнесла ни слова. Тихон тоже молчал, пил заварку.
Она прошла на кухню — хотела умыться — и машинально хлопнула себя по бедру, проверяя: на месте ли кошелек? Кошелек был на месте, захотелось пересчитать деньги, чтобы выяснить, сколько вчера истратили на этот праздник, достала кошелек, но денег в нем не оказалось ни копья! Сначала она подумала, что куда-нибудь спрятала — всегда же прятала! — но сразу же отогнала эту мысль: как — спрятала? Зачем тогда карман заколола пажичком? А по телу уже закружила, покалывая, горячая струя, ноги задрожали, теряя силу. «Тихон»? Нет, он не мог взять все. Если бы взял на опохмелку, то рублей двадцать… Если бы взял, то его бы давно уже не было в доме… Это факт!
На всякий случай она перевернула постель — нету… Посмотрела в плаще, в сумке, под столом…
— Че ищешь? — спокойно, но с дрожью в голосе спросил Тихон.
— Деньги… Кто взял, кто взял? Да я им, скотам, храпки перерву! — грозила она кому-то. — Приютили людей, угостили, а они — деньги унесли… А?! Я же не могла потерять… Я никуда не выходила и кошельком не трясла. А?! Помню все же. Не перепилась ведь вчера…
Клава побежала по соседям. К Харитоновне не пошла: старуха не могла взять, она и посидела с ними пять минуток… Томки не оказалось в халупе. Только Юрий Иванович, обхватив голову, сидел на крыльце и тяжело отплевывался.
Когда Клава подошла к нему и спросила — именно спросила деньги, он посмотрел на нее и с обидой проговорил:
— Да ты что? Разве я могу такое… У меня дом всегда настежь, сам отдам последнее… Ты не обижай меня.
Юрий Иванович встал и скрылся в сенях.
«Наверное, брат!» — подумала она, возвращаясь к дому. Но могла взять и Тамара… Разберись тут! Если он, Тихон, — убила бы насмерть, втоптала в землю… Кипела, негодовала, проклинала себя… И вдруг ей стало стыдно, что почувствовала даже, как вспыхнули мочки ушей, будто только-только их проколола, решив носить сережки. «Женщина, тоже мне! — ненавидела она себя. — Попало в рот, не смогла остановиться… Хороша, знать, была, если не слышала, как вытащили деньги. Господи, опять с пустым карманом…» В доме оставались кое-какие обрезки, но из них не то что полушубок — шапки не соберешь… Как жить?
Тихон молчал… Трезвый он всегда молчал — выскажет все, коль попадет в рот, после…
Она поплакала в кухне, взяла подойник и ушла к корове.
В хлеву ей показалось, что корова встретила ее презрительным взглядом.
— Что, презираешь меня? — Клава опустилась на скамеечку.
Дойка сегодня затянулась, потому что Клава доила вслепую, как бы на ощупь: слезы мешали и твердый камешек, застрявший в горле.
— Больше в рот не возьму, — клялась она корове. — Ты мне веришь, Цыганка?
Через час она уже не думала о деньгах — ей виделся небольшой, но опрятный домик где-нибудь на краю Обольска.
— Поеду я, милый, — негромко произнесла она, обращаясь к мужу. Знала, когда можно накричать на него, а когда и лисичкой пропеть, задрав мордочку. Было бы на пользу.
— Езжай, — ответил он. — Самой судьбе было угодно распорядиться… Нечего выбирать.
Она должна была успеть на дневной поезд, следовавший через Юмень в Сургут.
Тихон проводил ее до автобусной остановки. Даже рукой помахал вслед уходящему автобусу, точно торопил: быстрей давай, быстрей.
Скрипнули ворота. Через окно Тихон увидел Юрия Ивановича, вошедшего в ограду, а далее — на веранду.
Юрий Иванович мягко, по-кошачьи прошел к столу и сел рядом с хозяином. В руке дымила сигарета.
— Нашли деньги? — спросил он Тихона. — А то у нас был случай — Арканя терял… После нашлись — выбил кочергой из Томки. А у вас?
— Бесполезно, — ответил Тихон. — Хрен его знает, на кого и подумать.
— Не на меня же? — изумился гость. — Я сроду бы такого не позволил себе, да еще — в соседях.
— Что ты, Юрка! Брось! На тебя никто и не думал, — успокоил его хозяин. — Какая чушь!
— Но кто-то же им приделал ноги. Кто же это мог сделать? — допытывался Юрий Иванович.
— Все тут смешалось, не поймешь… Может, сама где обронила. Черт с ними, с деньгами, — хозяину не хотелось говорить на эту тему. — Поздно спохватились.
— Мда, у кого-то из наших рука с «клеем», — заключил гость. — Но ты прав: не поймали сразу… А теперь где ж ты выловишь сопача! Переживите этот случай, Тихон, — продолжал Юрий Иванович. — Чем смогу, тем помогу вам. По рукам?
Они ударили по рукам, после чего Юрий Иванович перевел разговор на иную тему.
Юрий Иванович пришел «под мухой». Ему хотелось поговорить. Естественное состояние. Зато хозяин сидел пришибленный и кое-как поддерживал эту беседу.
— Сын-то к вам не приезжал после того раза? — спросил Юрий Иванович.
— Нет, не было пока, — ответил Тихон.
— Хоть бы в картишки перекинулись да и так посидели, покалякали, как бывало. Он мне в прошлый раз говорит: какой дурак, мол, зимой дом ставит! Только нынешние шабашники… Верно ведь приметил, наблюдательный! — похвалил Романа Юрий Иванович. — Я ему отвечаю: знаешь, брат, если приспичит, то и на луне построишься, на склоне горы-вулкана. Такая уж жизнь… Кстати, башковитый, а почему дальше учиться не стал?
— Я ей говорил, Клаве, — ответил хозяин. — Но, видно, в школе дурачился — охота, рыбалка, пропуски занятий… Словом, вытолкнули парня с «неудом». А куда с такой отметкой по поведению пойдешь? Только в училище.
— Черти! — выругался Юрий Иванович. — Всюду в бумагу смотрят, а не в душу человеческую. Я обшиваю дом, а он все смотрит за мной да поправляет на ходу, — вспоминал гость. — Здесь, мол, не тот вырез, дядя Юра, — узора нет, огонька! Вот ведь как судит… Как по бумаге пишет!
— Только домой ни строки! А ты чего Дуську выгнал? — стараясь избавиться от разговора о неродном сыне, спросил Тихон.
— Дуську? Ну, это стерва еще та! — повысил свой голосок Юрий Иванович. — Развратная душа, а я не люблю… Брезгую.
— А у меня баба хорошая, — признался Тихон, — так сам не могу выровняться в душе. Все кажется: не тем занимаюсь делом, хочется большего… Вот плывем в лодке по границе — накренился правым бортом — кипятку зачерпнул, накренился левым — студеной воды. Ну, нету ровной жизни, и все тут! Дела по душе нет…
— Дело ни при чем! Любое дело приласкай, приручи к себе — оно и пойдет за тобой, полюбится тебе, — рассуждал Юрий Иванович. — Увидишь нужное дело, подойдешь к нему с вниманием да любовью, по-человечески подойдешь — и ладь! А без этого… Да у нас все славные дела разбежались по белу свету, будто испугавшись наших рук. Тем — брезгуем, это — не по душе… Эх, жизня!
— Как ни суди, но я не могу совместить в своей жизни три понятия: жена, дом, дело… Жена хороша, дом неплохой, опять же дело… Душа к нему не лежит! Тоскую я, Юрка, по хорошему делу.
— В одиночку, что ли?
— Нет, с Клавой… О работе думаю, вернее, думаем… — неуверенно говорил хозяин. Юрий Иванович «перехватил» эту неуверенность и развел руками:
— Тогда все понял! Она поехала в Обольск по этому вопросу?
— Как бы тебе объяснить? — сморщился Тихон. — Вроде и так…
— Не объясняй дальше. Я понял. И знаешь что скажу, — посмотрел на хозяина писклявый гость. — С ней ты нигде не пропадешь! Все в дом тащит, все в нору… Этой бабе цены нету, а ты — в тоску!
— Я знаю… Теперь полегче мне стало, а то, бывает, так прижмет… Волнами бежит, как ты выражаешься, жизня.
— Выстоять, Тихон, надо. Все образуется даже здесь… Обживутся люди, вытеснят всякую мразь… А то думали: Ожегов будет с ними нянчиться. Хрен в зубы!
— Да, тряхнули бичей…
— Бичей? — переспросил Юрий Иванович. — Ты сам давай берись за ум, как за оглоблю. Иначе сгниешь в своей тоске по делу. Вот твое главное дело… А ты, как слизняк на печке — прилип, но не сохнешь.
Тихон скрипнул зубами. Опять по самому сердцу полоснули его. А гость продолжал:
— Ты думаешь, что мне легко было слесарить и дом поднимать? Нет. Греб, выгребал против течения, не жалуясь ни на что. Дом — это твоя душа, его не строят бригадой; и душу не создают коллективом… Бригада, рабочий цех — совсем другое… Но ты должен встать между домом своим и бригадой, как конь встает между двух оглобель… Тогда только стронешься с места и подумаешь: хорошо! Даже кровь быстрей потекла по телу…
Забежала Харитоновна: вчера она забыла сумку.
— Э, и ты здесь! — улыбнулась она Юрию Ивановичу. — Опять «под мухой»!
— А че мне, Харитоновна, делать, — сорвался он на писк. — Я почти холостяк. Слушай, старая! Ты не обмывала никогда покойников?
— Зачем тебе? — не опешила та. Привыкла уже к его баламутству.
— Надо.
— Не умирать ли собрался?
— Харитоновна, меня еще колом не убьешь, — пищал Юрий Иванович. — Но если помру, то натри меня спиртом, чтоб сразу не сгнил: хочется и там, в земле, побалагурить.
— Дай тебе бог, — пробурчала Харитоновна, направляясь к двери.
Юрий Иванович, не простившись с хозяином, вышел следом. Со двора доносились их голоса. Видно, мужик подговаривался к старухиной настойке.
Тихон сплюнул. «Какого черта зашевелились, — подумал он. — Не успели подумать о переезде, а они уж почувствовали… Может, я сам вчера проболтался? Чего же пьяному-то… Началась карусель. Покою не дадут».
К писклявому голоску Юрия Ивановича присоединился густой басок Аркашки. Они громко переговаривались в проулке — штурмовали старуху, брали, видно, измором.
Тихон вышел в ограду и прислушался. Где-то рядом пискнула гармонь, и Тамариным голосом окатило округу:
— Чуваки! — кричала она. — Хватайте Харитоновну, иначе она не нальет.
Харитоновна застенчиво отбивалась от выпивох, а Тамара терзала двухрядку и орала на весь проулок.
В околотке назревала новая попойка.
20
Юрий Иванович проспал на работу. Утром встал и не поймет — что к чему. Ожегов стоял в дверях, вернее, в косяках — дверей из кухни в комнатку не было.
— Спишь, братец, — проговорил участковый. — Негоже так проживать свою предстарость.
— А-а! — простонал Юрий Иванович. — Что это я будильник не слышал… Звенел он, нет ли?
— Разве это будильник! — кивнул капитан на пластмассовую коробку. — Прежде были неброские, зато страна на работу не опаздывала… С таким будильником в те времена тебя бы сразу загребли куда следует.
— Да, перебрал… Редко пью, но метко.
Юрий Иванович прошел в кухню и поставил чайник. Вскоре он заварил «купчика» и, неумытый, растрепанный, сел за стол. Капитан Ожегов тоже присел.
— У Томки вчера врезали, — пояснял Юрий Иванович. — Чувствую, что отключаюсь… Кричу: отдайте шляпу и пальто — я ухожу в свою берлогу. Пришел и не помню, как лег.
— Дружите?
— Какие друзья! — вскрикнул хозяин. — Таких друзей за нос да в музей… Так, с тоски.
Под окном пробежали, громко ругаясь, цыганки. Ожегов прислушался.
— Свой язык берегут, — проговорил он. — На нашем ругаются.
Но Юрий Иванович, отхлебнув из стакана, уперся в прежний вопрос: дружите?
— Друзей таких не надо, — покачал он головой. — Но цыгане нам могут носы утереть: они действительно дружный народ. Их не сомнешь, как нашего брата — русака. Мы-то что? Вот живем тут на окраине… Совсем чужие люди! И невольно думаю о русских: что за народ? — Чаек перемешался с кровью, и мозги, повернувшись, сошли с мертвой точки, язык заработал. — И не найду ответа. В войне, в беде какой-нибудь вселенской — русские самые дружные, в мире — самые равнодушные, что живут каждый по себе. Так и живем. В России… Россия — это дом, где приютят, накормят, а о комфорте — ни звука! Но и так я согласен, — рассуждал хозяин. — По мне был бы хозяин щедр да гости честны. Зеркал не просим.
— Плохо, Юрка, плохо живем, — вздохнул капитан. — Не так живем, как надо бы… душа болит.
— В том, что плохо живем, я не удивляюсь и не дивлюсь, — как-то не по-русски отвечал хозяин. — А что? Все верно… Герои первых пятилеток оставили нам большой задел. Мы его, этот задел, почти ничем не пополняя, растратили, то есть жили за счет стариков… К пустой кормушке и пришли… Хоть новую революцию начинай, если думаешь жить по-людски. Ну, как еще можно избавиться от дармоедства? Оно же в законе и надежно прикрыто лозунгом, цифрой, фактом…
— Осмыслим со временем все, — неуверенно произнес Ожегов. — В верхах вроде зашевелились…
— Осмыслим! — чуть ли не хохотнул хозяин. — Нет, если попользовался чужим заделом, то будь добр вернуть долг… Надо и детям оставить кое-что. Лучше, конечно, если они сами начнут свою жизнь, без всяких фор. Так трудно, но надежней. К совести придут…
— Нет, не придут к совести, — не согласился с хозяином участковый. — К кроссовкам придут, к джинсам… Здесь у них будут работать многочисленные КБ. Зачем им лесоповал?
— Вы правы… Мозгов не надо, если есть из чего кроить эти самые джинсы… Вы-то на хозрасчете? — неожиданно спросил Юрий Иванович. — Вижу, как зарабатываете на кусок хлеба…
Одной фразой, оказывается, можно испортить весь разговор. Ожегов насторожился, но продолжал разговор:
— Бичей собирали, а они орут: мол, хватаете, как в прежние годы… Ты тоже так думаешь? — спросил участковый.
Юрий Иванович задумался.
— Знаешь, — ответил он, — я всю жизнь провел среди простых людей и сам пошел работать с тринадцати лет, но не помню, чтоб кто-то осуждал наше прошлое. Нет, тогда людей не хватали… Работяг не хватали, а до прочих… Эти прочие — видно, их шибко помяли в те годы, вот они и заболели болезнью «великих людей» — бранить тридцатые… Браните, но не трогайте народ… Творили и пировали одни, а как тряхнули всю эту знать — прикрылись именем народа… Не знаю, я из рабочей семьи, никто никого у нас не тронул. Чего нас было трогать, работяг? Ну? Мы же не писателями были, не актерами, не конструкторами… Работяги! При чем здесь тогда: народ чуть ли не угнетали? Никто нас не угнетал, а тяжело было… Тут другое. Мы ведь, по сути дела, в те годы и развились, из тех лет к нам перешел этот, как оказалось, губительный задел… Отработаем ли?
Ожегов молчал.
— Наши-то достижения — налицо! — закипал Юрий Иванович. — Вот ты, капитан, выхлопотал для нас… репродуктор. Вот он целыми днями и орет со столба, чтоб слушали «жизнь». А хрен ли ее слушать, если я ее вижу!
— О, да ты, брат, ярый сталинец! — очнулся наконец участковый.
— Да, сталинец!
— Ну тогда твое время приходит — хватаем, как говорят бичи, прямо в родных домах! Жирела, мол, все эти годы милиция — и вот выползла на окраину порезвиться, размяться, — иронизировал Ожегов. — Берем и отвозим за колючку, вражины такие!..
— А правда, указ есть? — спросил хозяин.
— Да, есть. Скоро будем брать всех, кто болтается безоправдательно в магазинах и в кинотеатрах, когда на дворе — рабочий день. Знаешь как нас возненавидит народ! Представляешь?
— Народ вам скажет спасибо, — спокойно ответил хозяин. — Тот, рабочий люд скажет…
— Да? — удивился Ожегов.
— Конечно. Ему же, народу, до слез обидно: я работаю, а эти сволочи отовариваются на какие-то денежки, гуляют и отдыхают… Кому же работать? — разошелся Юрий Иванович. — Народу все равно, какую ты форму носишь — жандармскую или милицейскую… Если ты человек, он разглядит это скрозь сукно шинели. Оскорбятся только те, кого поставят — и правильно сделают! — в свое стойло. Вот увидишь, именно они лет через пять начнут хаять сегодняшний день… Мол, насилие, террор! Им вы помешали сейчас допить свое шампанское, дожрать шоколад, допеть эти бездушные песни и досмотреть от скуки фильмы в кинотеатрах города. Они жили, а вы их вдруг сковырнули! Нет, все эти инженеры и актерики заявят еще о себе… лет через десять, — перенес он прежний срок, изменил прежнюю дату. — Они гадят сегодняшний день, как обкакали вчерашний…
— Ты что, считаешь, что мы не страдали? — не мог понять своего собеседника участковый.
— Я уже говорил тебе: да, не страдали! Я не знаю, кто пострадал… как враг народа, но не народ.
— А статьи, а указы! Да ты что, обеспамятовал?
— У меня прекрасная память, — уперся Юрий Иванович. — Народ жил. А статьи… Статьи просто были.
— Как — просто? Что значит — были?
— Да, они просто были, но сейчас почему-то говорят, что они, эти статьи, применялись как бы, испытывались, действовали, что ли, на народе… Не могу выразиться. Но суть такова: статьи просто были…
— Ну, не долби, не долби… Были!
— Статьи были… Но за опоздание на работу не сидели.
— Почему же? — никак не мог понять Ожегов.
— Не сидели, потому что тогда не опаздывали на работу. За этот пресловутый колосок тоже не сидели… Потому что тогда не воровали! Да, хоть колосок, но не укради! Такая была мораль. Это позже позабыли честь, потащили снопами, а теперь вообще… Вот и рассуди, товарищ интеллиго… Еще неизвестно, кто пострадал. Ну скажи: слышал ты про эти страдания от старого колхозника, сталевара, допустим, слесаря хоть что-то? Проголодь? Так страна только-только на ноги вставала! Всем трудно было, но ведь даже мать моя — вечная прачка — рыдала, когда умер Сталин. Все рыдали… А кто заговорил вдруг о плохой жизни? Моя мать? Я? Опять же «господа»… Это он им не дал жить вольготно. Понимаешь, они могли бы жить с размахом тогда… а стали жить только после его смерти. Ох как сожалеют…
— Постой, постой! — перебил его Ожегов. То ли он играл, то ли действительно не понимал, о чем говорит Юрий Иванович, но перебил говорящего: — Почему — тогда?
— Ну, у них же, у этих недовольных, все по наследству, так сказать, от отцов: и квартира, и кое-какие сбережения… Чего им ишачить — сразу можно приступать к роскошной жизни. А Сталин бил по башке, как бы равняя всех с народом… Ты говоришь, — посмотрел в глаза участковому хозяин, — близится то время. Прекрасно! Я рад, что мы передушим тунеядцев и кровососов от наследств! Иначе их не переведешь: они не дурней нас — все с партбилетами. А народ, народ не пострадает… То, что вы гребете здесь, — это не народ… Только одного желаю: будьте смелей и берите выше… Ну, чего вы в грязи роетесь? Грязь без вас просохнет и превратится в пыль. Выше берите… Не надо в грязь… Все гораздо проще. Сними этот репродуктор со столба и скажи честно людям: Нахаловка — район бесперспективный, потому его снесут скоро, и не питайте никаких надежд. Будем, мол, строить город, идите, товарищи, на стройку, если желаете жить в нем, в новом и прекрасном городе. Стройте его, а не выжидайте здесь милости божьей. Вот как надо, а вы врете народу — подожди, скоро все образуется, и домовую книгу получишь. Это, товарищ капитан, поганое дело… Нельзя так с нами обращаться — мы не безмозглые бараны, наконец.
Ожегов покраснел.
— Ты откуда это взял? — спросил.
— Откуда… Догадывался, — ответил Юрий Иванович. — А вчера по пьянке Тамара сказала, что району — хана… Она ходила в исполком, что ли, и ей там, как многодетной матери, не стали врать: мол, не выхаживай землю… Все зря. Может, потому она так бесится, но другим— ни слова, чтобы не убить в людях последнюю веру… Здесь же кто как мог, так и зацепился за жизнь. Зачем бить по рукам? А ты не знал?
— Жить, Юрка, надо… — умолк капитан Ожегов.
Через минуту он спокойно произнес:
— Так, говоришь, когда Сталин умер, народ плакал?
— Да, горе было… Я пацаном был, но помню… Щемящая тишина! Растерянность… А народ, — торопился Юрий Иванович, — не мог любить деспота. Это факт. Строгих отцов всегда больше любят…
— Говоришь, плакали… — неизвестно к чему повторил капитан. — Говоришь, строгих отцов… Завтра Парфеново будем осаждать, сегодня — баб выселять из общаги… Радость людям — где ее взять?
Странно как-то повел себя участковый. Но само чувство, щемящее какое-то, прорвалось сквозь оболочку бессмысленных фраз и дошло до хозяина. Он сглотнул слюну…
— Если бы мне кто-нибудь принес радость хотя бы по почте, — произнес наконец Юрий Иванович, — я бы ходил по всем почтовым отделениям и просил книгу жалоб и предложений, чтобы вписать туда: «СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ!» Но такого не случится, я чувствую…
— По почте… радость… — бормотал Ожегов. Казалось, что это он, а не хозяин мучается с похмелья. Хозяин же посверкивал возбужденными глазами и даже про чай забыл…
Но участковый вырвался из забытья.
— Хреновые мы с тобой философы, — произнес он. — Не философствовать надо, а работать. Я вот зачем к тебе пришел… У вас там старое здание сносят, ты поговори с шоферюгами — надо завезти сюда битый кирпич, обломки разные, чтоб почище в проулке стало. Сделаешь?
— Добре! — отозвался Юрий Иванович. — Поговорю с водилами… Парни у нас неплохие в гараже.
— Ну, по рукам!
Ожегов поднялся из-за стола и стремительно направился к двери. Хозяин даже попрощаться не успел.
«Жить, Юрка, надо», — вспомнились и через час, и через два часа слова Ожегова. Юрий Иванович кожей чувствовал, что мучается человек, страдает всей душой. А душа есть, есть… «Все вы бунтари, — признался капитан Ожегов. — Мне аж страшно с вами разговаривать. Честное слово. Во всем околотке одна Клава проста и понятна».
Юрий Иванович вышел на крыльцо, присел. Пушок подкатился к его ногам, он приласкал его, а сам, глядя куда-то в сторону, повторял: «Проста она… Пусть так, пусть так, пусть…», точно часы, которые не разбудили его утром на работу и громко отмеряли теперь потерянное для Юрия Ивановича время. Но он не сожалел о том, что попусту провел его в комнате, похожей на тюремную камеру.
«Кругом тюрьма!» — как кричала Тамара.
К обеду капитан Ожегов отправился на камвольно-суконный комбинат, где должен был состояться митинг, организованный в честь новоселья. Беда заключалась в том, что народ не хотел переезжать на новые квартиры и вцепился в общагу, раскачивая ее, как гулкий колокол. Баб нужно было перевозить силой, но только после митинга.
Митинг был назначен на полдень. Власти подгадали под перерыв: не хотели терять рабочее время. И то верно. Когда Ожегов подъехал к трибуне, здесь находились одни милиционеры — в форме и, черт возьми, переодетые. Ветер дышал в микрофоны, включенные почему-то заранее. Казалось, земля дышала в микрофоны, не решаясь на первое слово в честь новоселья. Будто чувства в ее душе не поддавались никакой обработке и их невозможно было произнести как торжественную речь по такому торжественному случаю.
Подкатили обкомовские «Волги». Из одной вышел писатель и редактор, ненавистный капитану Ожегову. Он, писатель и редактор, распахнул курточку и внимательно посмотрел на трибуну сквозь темные очки. Участковый сразу понял, кто будет говорить речь…
Начальство в ожидании народа с комбината курило, по-простому сплевывая. Седые, семидесятилетние пузаны щурились на солнце. Это они, как писал в передовицах редактор, выполняли нечеловечески трудную работу, тянули область в передовые и не знали ни сна ни покоя. Это они переносили вместе с народом «временные трудности» и так же, как народ, недоедали, но работали и работали на благо Родины… Ожегов всегда кривился, точно от боли, читая подобные передовицы, и хрипел: «Титанический труд… Но я на пятом десятке выбегался, как борзая, а вы на восьмом работаете за семерых! Это откуда ж такое вдохновение берется?» Капитан Ожегов жег избранных старцев своею прямотой, но про себя. Он-то понимал, что на восьмом десятке не могло быть никакой не то что титанической работы, но и самой незначительной… Такая дряхлость, дай бог ноги передвигать и не подкоситься от слабости в коленках перед трибуной… Какая уж там работа! Быть бы живу… Но почему-то в городе не спешили обновлять, омолаживать, что ли, руководство, а старцы даже речи не могли говорить — принуждали писателя и редактора, и тот охотно исполнял их волю. Даже гордился, что он, по сути дела, а не старцы Глава… Он здесь говорит и там говорит — люди видят перед собой только его, говорящего с ними. Сегодня он тоже скажет… Ему бы писать, ему бы отдавать всю душу и все силы творчеству, но нет, он пишет и творит урывками, как бы между речами, — в этом его, может быть, гибель…
А народ уже вытесняли из проходной, люди нехотя, с ропотом приближались к трибуне. Они шли сюда из уважения к личности начальника — это тоже врожденное, что ли, качество, перешедшее к людям от матерей и отцов, подчинявшихся слепо в свое время авторитету «своих» избранников. Но ныне это качество как бы рассосалось в крови, сходя на нет: люди продолжали уважать, но по инерции. Душа уже не могла ликовать при виде высокопоставленного лица… И вот шли они, торкаясь друг о друга, роптали и ворчали на тех, кто пытался поскорее согнать их к трибуне. Люди шли на встречу с теми, чьи бронзовые бюсты маячили по всему краю; потому у людей создавалось такое впечатление, что их гнали на встречу с умершими. Да, да, люди-то привыкли за многие века видеть подобное увековечивание только на могилах знатных людей, а тут — раздвоенность такая: бюст видели, но и человек, оказывается, живой. Они никак не могли привыкнуть к бюстам и памятникам, устанавливаемым то там, то здесь разным персонам еще при жизни.
Когда капитан Ожегов втягивался в собственные мысли, к таким простым и вместе с тем страшным вещам он приходил, что дыхание пропадало на какое-то время, тело превращалось в тяжелое осиновое полено. Вот оно — стоит торчмя, и ледяной сок клокочет под толстою корой, стараясь вырваться наружу. «В такой культурной стране, — недоумевал Ожегов, — и такая нищета духа?! Как же так, товарищи? С одной стороны, чрезмерная воля, а с другой — это же невыносимая каторга! Люди не рады самим себе…»
Но как тогда объяснить этим людям, что даже врач может быть подлецом и бездарью? В понятии этих людей врач — святой. И если врач говорит, что великий пост вреден, то даже старухи, услышав об этом, прекращают поститься. И никого не интересует разумность великого поста, во время которого и организм очищается, и природа, живая природа не расхищается в течение семи недель. Всем наплевать на эти семь недель. А за семь недель птица успевает отложить яйца и вывести птенцов… Так и здесь.
Ожегов смотрел на ропщущих людей, что подходили и окружали со всех сторон трибуну, и как бы читал их мысли. Боже мой, кто-кто, но участковый прекрасно разбирался в этих выдуманных профорганизациями передовиках производства. Он знал, что и эта вот бабенка, посверкивающая нервными глазами, и тот мужик, в спецухе — видно, наладчик, приехали в этот город и пришли на этот комбинат не затем, чтобы работать по-ударному, а потому, что им надо было вырвать жилье. Вот она проработает год-два — получит квартирку, он — тоже, но дальше — ищи работку почище. Получалось, что все сидели на чемоданах, все временщики, у всех одна цель — устроиться выгодно, а не наработаться, как говорят о дураках. Все производство — потому оно и дышало кое-как — было временным по сути своей: дайте всем квартиры — и разбегутся! И никого уже не соберешь под лозунг: «Даешь пятилетку в четыре года!» Они уже дали. Ожегов брал глубже: как же тогда жить и трудиться? По нему, и сам социализм был хорош только на новостройках, где нет еще оседлости, борьбы за лучший кус, за квартиру… Но как-то надо было жить… «Как-то» не устраивало людей… Что же тогда делать? И Ожегов, упершись глазами в местную власть, приходил — так было почти на каждом общегородском митинге — к одной мысли: или менять строй, или менять власть на местах, подбирать молодых и энергичных людей. Советский строй его вполне устраивал, потому он хлестко, как мясник, половинил свою мысль: нет, строй пусть продолжается, но власть надо перебрать, как застучавший движок, пока машина не встала… Он не мог смириться с тем, что его народу в конце двадцатого века растолковывали эту жизнь с различных трибун так, как будто не было в Сибири стольких лет революции. По-прежнему все рисовалось и обещалось. Умные, образованные люди почему-то на митингах несли такое, что не всякий мог дослушать их до конца, не испытывая при этом чувства стыда. Ораторы говорили о трудовых победах в молочном и мясном животноводстве, а люди, слушавшие их, позабыли и самый запах колбас и творога. Ну, в достижениях, скажем, науки и техники не разобрался бы никто, прослушали бы люди, похлопали оратору да и разошлись. Но в мясе, в сметане… Здесь сам желудок обяжет разобраться. Так было вчера, и сегодня митинговали, как вчера, отнимая у людей время и дотаптывая на глазах собственный авторитет. Но власти выглядели настолько благообразно, что на них и обидеться было невозможно: эти кряхтящие старцы невольно вызывали чувство жалости у народа. Вот поднимается на трибуну старичок, а толпа затаит дыхание: хоть бы не споткнулся! хоть бы не упал!..
Когда поступил приказ сверху — навести порядок в городе — капитан Ожегов воспринял это как божье благословение и рьяно взялся за работу. Он понимал, что люди привыкли к указам, что люди бедовали, но молчали, ожидая каких-то волевых решений сверху, и не пытались даже обратиться к такой форме выражения своей воли, каким был наказ. Да, да, обращение к депутату, депутатский наказ… И что за народ такой, думалось участковому, ни шагу без подсказки! Сгори все огнем, но пока не ткнут пальцем сверху, никто не решится тушить пожар: а вдруг так и надо, чтоб горело? Приступая к непривычной работе, участковый видел, кого надо было полоснуть кнутом, чтоб не истлел до трухи, а с кем и по душам поговорить, хотя бы там, в Нахаловке.
И вот милиция стронулась с места, пошла ломить, то есть приступила к наведению порядка всюду, как вдруг ей по ушам ударила прежняя «ораторская речь». И Ожегов только подумал: «Что же мы — порознь включились в работу? Власти — сами по себе, мы — сами… Так чем же может стать теперь для народа милиция?»
Но кашу уже заварили.
А редактор продолжал свою речь.
«Беспримерный трудовой подвиг, — говорил он. — Наш край героический! Нашей нефтью пользуется вся Европа, а в гости к нам ездит весь мир, но мы еще посмотрим, с кем завести дружбу, а кого и назад отправить по трассе Надым — Москва. Мы — новое время, нам и жить нужно по-новому, — говорил он свободно, без всяких бумажек. — Вот почему мы собрались сегодня на этот митинг. Посмотрите, что вам построила наша великая партия, наше советское правительство», — он широко повел рукой, и все, как сговорившись, повернули головы и посмотрели на новые корпуса «малосемеек», что обелисками устремились ввысь.
Конечно, люди знали, что «великая наша партия» не могла им построить такие колонны, но продолжали слушать. А редактор продолжал говорить.
А женщины, слушая его, по-настоящему плакали, плакали навзрыд. Ожегов — по ропоту в толпе — догадался, что их так огорчало. Он даже себя пристыдил: что же, мол, ты, участковый, оболгал людей? Нет, не ради новых квартир они пришли трудиться на камвольно-суконный комбинат. Здесь другое…
Дольше часу продолжался митинг, дольше часу плакали женщины.
После митинга милиции было приказано «шепотом» выселять людей из «старорежимных казарм», построенных здесь «быдлу» каким-то неизвестным фабрикантом.
Ожегов из речи писателя почему-то выхватил две фразы. Одна утверждала, что в городе шесть высших учебных заведений, другая поясняла, что в городе шесть профессиональных училищ. Разум не воспринимал такой пропорции. Поэтому в плохом настроении капитан Ожегов приступил к выполнению приказа: закусив губы, он с остервенением выталкивал на улицу орущих баб, цепляющихся за гладкие стены «старорежимных казарм». Почему взбунтовались бабы — милиция разобралась сразу, мельком взглянув на новые корпуса и сравнив их со старыми… Но сила приказа оказалась сильней бабьего вопля и визга детишек, которых с большим трудом смогли выловить в весьма просторных комнатах и коридорах «казарм». Этот простор и толкнул женщин на неравную борьбу с отборными «частями» областной милиции. Крепкие и сильные парни, просидевшие последние годы фактически без работы, разминались с удовольствием, хотя ревущие бабы рвали их ногтями и зубами.
— Куда вы нас, куда! — орали бабы. — Опричники! Россию разбазарили, так хоть бы людей оставили в покое, а… Сволочи в кованых сапогах!
— В новый дом, в новый дом, — частили оробевшие милиционеры. — Никто ничего не базарил… Идите, идите!
Одна ложь порождала другую. Придуманное мясо сбивало с толку людей: они считали, что продукты животноводства вывозятся за границу. Действительно, если «трудовые победы» есть, а мясо не попадает на прилавки магазинов, значит, его куда-то увозят, и по городу пошли стихи, сочиненные неизвестным автором, который сообщал миру:
Пусть знает Уренгой, разбросанный по трассам: мы кормим на убой планету русским мясом. И я ничем не смог помочь людскому горю… Увозят русский шелк по суше и по морю. Как будто сквозь порез, течет он на чужбину. Увозят русский лес, орех, смолу, пушнину, И рыбину — к багру, покуда бьют шальною, червонною ценою, за русскую икру!..— Я ведущая прядельщица! — кричала женщина, вырываясь из рук капитана Ожегова. — А ты… дармоед! Куда ты меня… Я же здесь прижилась — огород, погреб… Там — голь!
Бабы упирались. Зато молодухи шли в новый корпус с радостью. Боже праведный, своя клетушка! Вода горячая, душ, туалет… Пришел с работы — и сверли глазами телевизор… без подселенцев, без лишних глаз и ртов! Радость их охватила великая.
Старые работницы рассуждали по-иному.
Семь лет назад, когда в городе появились «малосемейки» и комбинат решил заложить свою, в партком поступили жалобы и предложения. Люди умоляли не строить такую душегубку, предлагали свои проекты, указывая удобные районы города; они говорили, что каждая работница готова трудиться на строительстве настоящего дома по два часа в день, причем бесплатно. В парткоме не оценили инициативы работниц и продолжили строительство «малосемейки». Бабы запели на все лады.
— Здесь у меня комната, как там — пять, — говорила одна. — Окна просторные, потолки высокие… Нет, я не могу переселиться в новый дом.
— У меня дети, — говорила другая. — Они растут на глазах — под окнами парк, река…
— А чердак? Ты что — забыла? — вступала в разговор третья. — Я обстираю своих, так знаю, что на чердаке высушу белье.
— У тебя двое… У меня четверо! Мне и чердак нужен, и огородец, как сейчас — рядом с «казармой». А там?
Бабы митинговали в просторном и светлом коридоре «казармы». Никто и представить себе не мог, как он соберется и с большой площади вдруг переедет на малую, из хором — в клетушку… Решили погибнуть у родных дверей, но не погибли…
К вечеру их всех выселили… силой. Произошло постыдное происшествие: народ искусственно вызвали на конфликт. А когда люди поднялись да попытались отстоять свою правоту, эту попытку подавили силой, как некогда подавляли восставшие окраины России. Один народ сцепился, не осознавая себя больше народом! А когда одни захлебывались слезами, а другие скрипели зубами, раздраженные сопротивлением, над «казармами» гремели громкоговорители. Видно, кто-то из обкомовских социологов и идеологов предвидел схватку, потому заранее вызвал работников телевидения, и те проигрывали без конца одну и ту же симфонию Дмитрия Шостаковича — Ленинградскую. Гениальная музыка обдирала до крови, люди вспомнили о былом…
Ожегов приехал домой поздно вечером. Он вошел в кухню и попросил воды. Жена, окинув его изумленным взглядом, поцокала языком: «Ого, Нахаловка изрядно тебя изжулькала!» Он закрылся в комнатке и, завалившись на диван, попытался хоть как-то осмыслить происшедшее. «Что же мы делаем? — спрашивал он себя. — Столько лет ждали, что Москва ударит по пустым головам, а она ударила… Люди взвыли…» Он несколько раз представлял себе: выходит на улицу, направляется в отдел, дальше — в Нахаловку. В проулке его встречает Юрий Иванович и спрашивает: «Ну как? Подавили „восстание“?» — «Разобрались, — отвечает Ожегов. — Поладили». — «Я не о том, — продолжит Юрий Иванович. — Я о тридцатых, которыми вы все недовольны…Тогда нас, людей, так не обижали… ни за что! Обижали только за дело. Ну как? „Казарму“ взорвали?» — «Нет, не смогли…» — «И не взорвете, — хихикнет Юрий Иванович. — Ее не какой-то там фабрикант строил… Ее люди советские строили, это было в тридцатых. Тогда строили навеки. А „казарма“ как?» — «Окна выбиты и парк захламлен», — просто ответит капитан Ожегов и попытается обойти Юрия Ивановича. Тот даст дорогу, но выкрикнет: «Читай „Войну и мир“, иначе пропадешь…»
«Ну, знаете, если бы культура „вела“ человека, то все, прочитав „Тихий Дон“, стали бы настоящими людьми. По мне, культура — убить время. А что еще? „Война и мир“ мне душу дали? Нет, душа у меня от матери и отца».
Однажды жена его спросила: «Почему ты не любишь балет?» Он, не задумываясь, ответил: «Я работаю в таком крошеве, в такой среде, где не всякий зверь выживет. А ты — балет! Это же танец бабочек…»
Как и что ни говори, но самыми страшными днями для Нахаловки были выходные. Вот и эти прошли, протянулись над головами, как подожженные самолеты, и рухнули где-то в районе свалки. Дым и копоть. Непьющие сидели дома и скучали, зная, что в городе по выходным дням работают только продовольственные магазины, в которых все равно пока нечего покупать. Пьющие пили разную бурду, покупая ее втридорога у знатных «людей». Бичей вышвырнули, а работяг — куда деть? Они ведь не бичи, они работают… Выходные сжигают.
«Хоть бы лавчонку какую-нибудь здесь открыть, — думал Ожегов. — Не надо колбасы — открой стрелковый тир». Он верил, что в тир бы собрались все мужики, пуляли бы по мишеням, дурачились… Эх, люди. Только вы знаете, как страшны воскресные дни…
«Что же я бегаю по Нахаловке? — мучил он себя. — Как будто от того, что я не приду сюда хотя бы один день, все развалится и рухнет в этом околотке, люди сожрут самих себя…» Порой ему казалось, что это даже лучше, что люди сожрут друг друга, очистят эту землю, так сказать, по доброй воле. Но, вспомнив о Юрии Ивановиче, участковый сплевывал под ноги: «Ни хрена не сожрут!»
Восьмидесятые разворачивались не так, как хотелось бы участковому капитану Ожегову…
Россия, земля-умница, продолжала, как пять лет назад, два года, год… — она продолжала верить в то, что к ней обратятся простым человеческим голосом и проговорят: «Милая, светлая, сильная земля!..»
Но к ней не обратились — ее попытались встряхнуть, как пьяного, что заснул на крыльце гастронома. Она приоткрыла глаза, но, оскорбленная тем, что ее дернули за воротник, не попыталась даже привстать с бетонной ступени. Она плевалась, ругалась, отталкивалась и отбивалась от тех, что на нее наседали со всех сторон. Она не понимала такого обращения… Тогда на ней стали рвать одежду… отрывали пуговицы и крючки, сбивали набекрень кепку, из-под которой наконец брызнул бунтарский чуб… Она не могла смириться с грубостью и с пренебрежительным отношением к ней, а ее тащили в разные стороны и толкали в бока. Пуговицы поотлетали, крючки — не жалко…
Но эти пуговицы и крючки были живыми…
В короткий срок областные тюрьмы заполнили до отказу. В разных городах — в двух, трех километрах от них — спешно воздвигались колонии для взрослых и малолетних преступников. И в тот день, когда участковый капитан Ожегов наконец-то выбрался в Нахаловку после долгих мук и размышлений, из района в облуправление МВД поступила телеграмма, в которой сообщалось, что Панин бугор готов к приему первого этапа малолетних преступников.
Капитан Ожегов шел молчком, хотя прежде он любил что-нибудь выпевать на ходу. Издали он увидел, что возле избушки старика, которого «вывезли» вместе с потрохами в больницу, толпятся люди. Капитан ускорил шаг. Через несколько минут он подошел к толпе, что почтительно расступилась, и скользнул в ограду.
Дощатая дверь, которую бывшие хозяева запирали крепко, была полуразворочена. Кто-то пробрался в сенки, сорвав ее с нижней петли… Участковый нырнул в этот отворот и, проходя сенки, успел подумать: «Только не ограбление! Здесь нечего воровать…»
На пороге его так ослепило, что он прикрылся ладонью: неожиданным и резким был свет, брызнувший в глаза из окон, из которых, по-видимому, кто-то выдрал вонючие подушки. Но Ожегов не застыл на месте, ослепленный, а шагнул вглубь, ни о чем не думая (оперативничек!). Через один-два шага он ткнулся головой, ткнулся носом во что-то твердое, как кость, покрытое тряпкой… В голову так ударило, что жгучие молнии расползлись по вспотевшим вдруг вискам. Да, капитан Ожегов, наткнувшись на что-то, успел вобрать в себя, всосать обеими ноздрями этот сладковато-приторный запах… Он ничего еще не видел, но сознание, сработавшее вмиг, определило: труп. И пульс, прорезавшись в висках, зачастил, как бы вторя сознанию: труп, труп!..
Отступив назад, участковый поднял глаза.
Глаза их встретились и сцепились. Участковый смотрел в глаза Юрию Ивановичу. Тот стоял неподвижно и закрывал собою одно окно, потому находился как бы в тени… Из-за этих глаз участковый не мог оглядеть того, на кого только что наткнулся, но все-таки видел его. Труп висел слева, наполовину закрыв собой окно, освобожденное от подушек. Он висел как-то чуть-чуть внаклон, точно свая, которую держит стрела крана, и похож был на сваю, ровную и тяжелую на весу.
Юрий Иванович почему-то молчал и не двигался.
Тогда Ожегов, сжав челюсти, постарался растащить глаза. Ему хотелось осмотреть труп и не хотелось убегать от молчаливого взгляда Юрия Ивановича. Юрий Иванович по-прежнему смотрел на участкового, и казалось, с усмешкой.
Желтоватое, как кожа опаленной свиньи, в черных подтеках, казавшихся не соскобленной еще и не смытой гарью от паяльной лампы, — таким увиделось участковому лицо покойника.
Желтое, с синеватыми впадинами на щеках, заполненными мелкой, как изморозь, испариной, что говорило о том, что человек хоть и не дышит, но все равно живой — это было лицо «червяковатого» мужичка с писклявым голоском.
Но Юрий Иванович даже не попытался проявить себя — вдохнуть, выдохнуть ли — чтобы доказать, показать участковому, что он действительно живой. Потому его можно было сравнить с неловко повесившимся мужиком, ноги которого касались пола: он не висел, а стоял. И — усмешка в глазах! Вот он, молчаливый и обозленный, скопился в одних глазах и смотрит, смотрит… Теперь ты его ничем не своротишь, так он и будет смотреть.
Капитан Ожегов не заметил этой усмешки. Ему только показалось, что он много-много дней не видел уже Юрия Ивановича, нигде не встречался с ним, хотя сам не заметил, как пролетели эти «много-много дней». Странная штука. Время, что ли, стало исчисляться по-новому? Может, не на час его стали передвигать туда-сюда, а на целые дни и недели?
И все равно капитан Ожегов не смог проговорить, как это бывало всегда при встрече, привычное «здравствуй»… Он как-то растерянно ощупал наконец-то глазами того, на кого наткнулся, будто приценивался на «туче» к подозрительной вещице, и почти шепотом, одним воздухом спросил:
— Кто это, Юрка?
Световая полоса, прежде ослепившая участкового, лежала между ними, как лезвие огромного меча, опущенного покойником.
Юрий Иванович не собирался отвечать на вопрос Ожегова, но они, когда первый выходил из избушки, а второй уступал ему дверной проем, успели обменяться выразительными взглядами.
Юрий Иванович проговорил: «Не время у нас виновато, а люди, что одели Россию непонятно в какую одежду. Теперь навалились на нее, отрывают пуговицы, крючки… Скоро, наверное, разденут матушку свою донага, чтоб показать всему миру. Смотрите, мол, какая она! Это хорошо?»
«А как поступить иначе? — спросил капитан Ожегов. — Нельзя же продолжать жить вслепую. Нет, без кнута не может жить русский человек!»
«Разгоняя очереди в магазинах и выбрасывая людей из общежитий, где им жилось хорошо, — говорил Юрий Иванович, — ты не людей унижаешь, а саму Россию. Кто тебе дал такое право?»
«Был приказ сверху…»
«Не ври! Такого приказа не могла дать партия, — крепчал голос Юрия Ивановича. — Партия, она, как Россия, столько страдала… Разве после страданий она могла пойти на такой приказ?!»
«Приказ был…»
«Приказа не было, — стоял на своем Юрий Иванович. — Это вы, собаки, довели наш край до такой нищеты, а теперь бросились вытаскивать его из грязи. Знаете, что скоро доберутся до вас… Потому спешите замести следы. И ты, Ожегов, хитер бобер: всем хочешь угодить. А сколько вас таких, что опираются на партбилеты, как на костыли? Ни шагу без партбилета. Приказ, говоришь… А душа твоя где, совесть где, наконец?»
«Ты ничего не знаешь, Юрка», — простонал Ожегов.
«Да, я ничего не знаю, но я все вижу, — проговорил Юрий Иванович. — Тогда вам Сталин не нравился, теперь — люди не те, Россия не та… Забарчились, собаки! Завтра заставите человека… жрать, если, не дай бог, он повстречается вам на улице Республики да среди бела дня. Беда в том, что вы ненасытны. Дорвались до власти и правите, как вам взбредет на ум, пользуясь тем, что наверху пока… неувязки», — снизошел он таки до вполне земного слова.
Ожегов не стал окликать его, чтобы вернуть назад. Он сам не знал, что делать.
Юрий Иванович, довольный и молчаливый, шел по краю проулка, изредка вскидывал голову, как будто хотел показать всем своим видом, какой он разумный и независимый человек. Вот он встретил в Нахаловке шибко важного человека, персону, можно сказать, и при всем честном народе утер ему нос в таком же шибко важном вопросе. Персона опозорилась на весь околоток.
Но Юрий Иванович был простым человеком.
Капитан Ожегов опрашивал свидетелей. Один из них был тут же отправлен в диспетчерскую гаража — надо было вызвать компетентных, по выражению капитана Ожегова, людей.
21
Пассажирский поезд Свердловск — Сургут шел через Обольск. Счастливчикам удавалось перехватить билет до Обольска, несчастливчики же оставались на вокзале — они ожидали ночного поезда местного, так сказать, значения.
Клаве повезло, она достала билет и даже плацкарту. Веселая и жизнерадостная, она не вошла, а вломилась в свой вагон. Проводница кивнула ей приветливо: «Проходите, ваше место в середине вагона», — и Клава прошла.
В плацкартном вагоне было многолюдно и тесно, но теснота никого не раздражала. Редчайшая из теснот, что многим по душе, — вагонная. Пассажиры, как беспечные иностранцы, лопотали между собой, прыскали, как дети, в ладони, стучали чайными ложечками о стаканы, требуя проводника. Но проводник не мог подойти к ним, потому что поезд приближался, как было известно Клаве, к крупной станции, а за полчаса до этого взволнованный бригадир объявил по радио, прервав московскую трансляцию, о готовности номер один: на очередной станции бригаду проводников ожидала большая и хлопотливая работа. Теперь они замерли в тамбурах, сторожа двери.
Бригадир предупреждал полчаса назад: «Товарищи проводники! Со станции сообщили, что к посадке готовятся цыгане. Не сажай цыган: у них один билет на всю ораву!»
Но вот и злополучную станцию проехали. Цыгане бежали за поездом до самого моста и бранили тех, кто управлял поездом, а значит, и тех, кто в нем ехал. Краснолицые ребятишки горели в руках матерей, как непризнанные поездной бригадой семафоры. В вагоне прохохотались и прокашлялись не скоро…
Тепло и уютно, как в натопленной избе. Клаве даже думать ни о чем не хотелось. Ее приезду должны были обрадоваться в Обольске. Она это чувствовала, потому и не суетилась.
Скорый шел в Сургут. Народ, рвущийся на строительство новых дорог и городов, сжигал лишнюю энергию, перечисляя по памяти наименования знаменитых мест, славу которых ему, может быть, предстояло умножить. Славен Сургут в стране — прославим на весь мир! Разговор короток. И был этот народ неподдельно веселым и здоровым.
В вагоне пели, раскачиваясь в такт песне. Клаве понравился бодрый мотив — а чего унывать?
За столиками собирали ужин. Клава косилась на молодых, и к ней приходили странные мысли. «Вот ведь, — думала она, — кто-то вываливает на столик груши, кто-то рыбу, кто-то ягоды — дары всех краев и земель! Как будто сама земля притягивает одних к другим: дружите! Ее не пригласили, но она все равно не обиделась. Наоборот, была довольна, что не помешает молодым: у них, дескать, свои разговоры… Пахло свежим лимоном; проводница, издерганная за долгую дорогу, с припухшим лицом, кричала на весь вагон: „Кому чаю, кому чаю!“ И люди пошли на этот крик, на острый запах лимона, повалили толпой» чтобы не опоздать к кипятку.
Люди, кругом люди. Клава наблюдала за всеми с таким любопытством, как будто год-два провела в глухой тайге и вот наконец-то вырвалась из цепкой глухомани, где, кроме охотников-промысловиков, никого не встречала. Улыбчивая и счастливая, она наблюдала за воркующей парочкой — видно, молодожены — что стояла в проходе, опустив боковые «места», чтобы приблизиться к самому окну. Молодые стояли и дурачились. Паренек все пытался ущипнуть девушку губами за мочку уха — так он вытягивал шею и хватал воздух, потому что девушка успевала уклониться. Тогда он, как бы смирившись, целовал ее в лобик, в щеку… Хорошо им было дурачиться… Ласкались, ну прямо как кони в лугах!
Вагон покачивало, но Клаве не дремалось. А за переборкой заспорили о колбасе.
— Такой громадный мясокомбинат в Юмени, а колбасы нету, — удивился один. Другой его поддержал:
— Да, колбаски — плешь!
— Плакать надо, что нету! — поднялся вдруг третий.
— А чего плакать-то? Колбасу из мяса, надо полагать, делают, а не из слез. Если бы из слез, то мы бы были самой колбасной страной в этом подлом мире…
— Без шуток! Я в Юмени живу, — не унимался третий. — Летом дышать нечем, потому что от мясокомбината валит такая вонь, такая вонь… Что там, спрашивается, квасят? Хоть бы выдавали колбасу… за вредность, что ли.
— А луку не хошь? Колбасы ему захотелось, — обиделись первый и второй голоса. — Где ее взять, если нету?
— Но мясокомбинат есть, и вонь от него есть! Слышите, о чем я толкую?
— Все, все… Замяли! — вклинился четвертый. — О колбасе — ни слова! Колбасам — бой!
Соседи притихли.
Клава прилегла, но память поволокла ее, точно столкнула с полки… Она вернулась на родину.
Вплоть до семидесятых годов небольшое село могло похвастаться богатым прилавком. Рыбу — и эту привозили сюда с татарского озера Кутуз на подводах. Люди покупали лениво… Но крупный золотой карась с утра до вечера колотил хвостом, сверкающим на солнце, будто заманивал сельчан, и те подходили, прося: «Давайте парочку!» Парочку, больше не надо. А в магазине прилавки ломились от парной свинины, кедрового ореха, разной ягоды, грибов… Подходи и бери! И не дорого же!.. Именно так. Только денег почему-то не хватало. С получки возьмешь полакомиться того, другого, а в будний день — рука не поднимается… А полакомиться хочется. Больше и сильнее всего раздражала колбаса — копченая, с красным отливом! Ее продавали в каждой лавке, даже в пункте приема посуды и в промтоварных отделах магазинчиков торговали колбасой. Придешь за сапогами, а на прилавке — на пару сапог приходится по кругу колбасы. А натянешь сапоги — они еще неделю будут пахнуть копченой колбасой… Кругом колбаса, колбаса, колбаса… Прямо не село, а колбасный базар.
Никогда не думала об этом, а сегодня вдруг удивилась: мясокомбината не было в селе, но колбаса была! Ее «делали» два человека — Груня-колбасница с мужем Толей. На краю села поставили домик амбарного типа и в нем колдовали над своей продукцией супруги. Никто никогда не видал их в работе, но колбаса была! Потом они почему-то запили… На это никто не обратил внимания, потому что колбаса по-прежнему лежала на прилавках. Сначала она исчезла из пункта приема посуды и из промтоварных отделов, но не исчезла совсем… Супруги пили. Груня-колбасница пила по-умному: напившись, она не показывалась на глаза односельчанам, отходила дома. Зато Толя, прихватив с собой огромного волкодава, откормленного, видимо, копченой колбасой, выползал на улицу. Пьяный, он мотался по селу. Народ сторонился его. Когда он, обессилев, заваливался в какую-нибудь лужу, собака садилась сторожить своего хозяина и никого не подпускала к нему: когда люди хотели поднять пьяного, чтоб он не захлебнулся, собака рычала. Еще миг — и, кажется, вцепится в глотку. Но были отчаюги. Они мастерили факел, окунали его в бензобак и поджигали. Только тогда волкодав отходил на шаг-другой от своего хозяина. Толя поднимался, протирал глаза и хрипел: «Ну, что? Я вас кормил колбасой, а вы меня закрыли… Скоро палец сосать будете». Толя оказался прав.
Клава даже всплакнула.
А те, что спорили о колбасе, переметнулись на колхозы.
— Жрать хочешь, — говорил один, — а в навозе копаться — нет. Так, что ли?
— Там платят по рублю в день, а бардак такой… Нет, я лучше тебе трешку отдам, только не ходи туда! — бодро выкрикивал другой.
— А как же земля?
— Катим на Север! В нем — наша судьба! — продолжал кричать другой. — Здесь мы с деньгой будем и такое построим, что мир ахнет! Не работа — подвиг… А ты про землю толчешь мне.
Молодой и здоровый народ рвал постромки. Ему не терпелось причаститься к тому бездонному роднику, название которому — северная надбавка, а в пересчете на рубли — один к семи. Отдай, как говорится, и не греши. И народ этот валил туда, и никто бы его уж не решился остановить, даже если бы захотел: упряжки, идущие диким наметом, останавливают только в некоторых книжках, останавливают герои, а здесь, в вагоне, в поезде, находился простой народ, вечно недовольный то тем, то этим. Недовольный, но не по-бунтарски, что действительно свойственно молодости да силе, а, как показалось Клаве, по-старчески — народ не бунтовал, он ворчал.
Она не могла понять: если уж вправду так плохо живется людям, то почему они говорят о своем несчастье чуть ли не в полушутливом тоне? Разве тот, кто голоден, стал бы кричать об этом? Зачем? Он бы сидел в уголке и тихонько мечтал, пуская слюни, о куске хлеба… Почему люди даже в радости переезда так недовольны всем? Молодые ведь, здоровые, а ворчат, как старики, и это ворчание, где бы она ни была и кого бы ни слушала, выпирает всегда, как опухоль, что ли. Недовольство стало нудной болезнью времени. Все ворчат, все болеют… И эти сетуют на жизнь. А ведь едут строить такое, чтобы мир ахнул!
И правильно, думала она, езжайте, дети. Без настоящей работы человеку никак нельзя… Без настоящей — это только мучиться и болеть ворчливостью, которая и других не отпускает, и тебя забьет, как труха.
Что же они там построят? Дети! Если решились поехать, значит, знают… Ворчливые, недовольные, а нефть добывают! Вот и пойми ее, молодую песню.
Паренек, что отдыхал на верхней полке, часто спускался оттуда и бегал курить. Она присматривалась к нему: вроде как на сына похож. Но нет, тот был крупней и покрепче, прямо сказать: ярославской породы! Так у них всегда говорили о людях физически развитых, крупных, работящих… Невольно она добавляла: «Конечно, в мать!» И грустно, и хорошо было вспоминать то далекое время, те редкие, но настоящие гулянки в родне. Они-то, эти гулянки, раскрывали полностью — почему «конечно, в мать!».
Одну зиму, когда Клава вернулась с курсов продавцов, родители стали приглашать ее в свой дом на праздники. Стол накрывался по-богатому, но из чужих почти никто не приглашался — близкие соседи да родня. Приходили брат отчима Егор с женой Дуней, соседи Зеленины, сестра с дочерью, а с материной стороны — Клава. Так получалось. Словом, за стол усаживались три-четыре мужика, остальные — бабы. С утра они еще бегали в фуфайках да в резиновых сапогах — на ферме трудились, а вечером закатились в дом — нарядные, румяные да статные! Чудеса земные… Застолье разворачивалось не спеша. Выпив и закусив, люди начинали петь. Пели долго — и тоскливо, и отчаянно. Но Дуня срывалась вдруг с криком «их!» и бросалась в пляс. Плясали без гармони, так сказать, под задорную частушку. Матушка не любила плясать, она всегда оставалась за столом и, грустно улыбаясь, смотрела на плясунов и головой покачивала: мол, так, девки! Так, парни!.. После пляски братья драли глотки. Они были горластыми. «Че орете-то!» — пристукивала кулачком матушка, но те продолжали орать: такие громкие у них были разговоры. «Че не поорать? — выпучивался Егор. — Всю жизнь прожили молчком». — «А ча, ча! — вторил ему отчим. — Никому, никому не мешаем». Застолье, разгоряченное вином, пляской и частушками, гудело вовсю. У мужиков наконец иссякали слова, и они не разговаривали больше, а только мычали, дакали да цокали языками, как на ярмарке. Тогда поднималась матушка.
— Отец бы мой, — начинала она, — стал бы вот так сидеть… без задору и выдумки. Ждите!
— А ча, ча! — отозвался отчим. — Бороться, че ли?
— Какой-то из тебя борец! — безжалостно отвечала матушка. — Вас всех-то одна Клава переборет… Сидите уж!
— Ча, ча переборет! — не унимался отчим. — Пушай пробует… В крайнем случае…
— И переборет, — наступала матушка. — Она в деда пошла… И не вам рассказывать, каким он был.
Мужики оскорблялись. «Ну ча, ча! — выходил на середину горницы отчим. — Попробуем». Он стоял с выпученным животом и как-то искоса смотрел на баб, готовивших к «бою» отнекивающуюся Клаву, будто те хотели ему показать какую-нибудь безделушку… Именно насмешливым, даже убийственно-снисходительным был огляд отчима. Руки расслаблены — опасности ждать неоткуда. И Клава, ободренная бабами, выходила. Мужику конечно же трудно было схватиться с молодой женщиной — туда не сунься, сюда — и потому дед упускал инициативу, Клава, наоборот, царствовала: воспользовавшись растерянностью соперника, она заваливала его, хрюкающего, на кровать. Бабы визжали от радости. А отчим, вскочив на ноги, начинал кричать, дабы заглушить их дикий визг. «А ча, ча! — кричал он. — Мне несподручно, мне… Да и рука, рука ранета! Не гнется, не гнется… Так бы я, в крайнем случае…» Но он не мог договорить, что бы он сделал «в крайнем случае». И теперь так же: «В крайнем случае да в крайнем случае». А матушка, светясь от гордости за дочь, повторяла без конца: «Так их, Клава! Так их, Клава!..» Гордилась она дочерью.
Вспомнила. Вроде недавно все это происходило, каких-нибудь десять лет… Больше? Бог с ним… Но Егора уже нет! Ладони омертвели будто… Вот он, Егор, нехотя поднимается из-за стола, выходит бороться — какая, впрочем, тут борьба! Господи, как он работал! До самой смерти робил, вечно в пимах да в чунях обнавоженных ходил. Идет, бывало, а с каждым шагом ногу как бы придерживает на весу, потряхивает ею… как кот, что ступил в грязь.
Где же еще, как не в поезде, вспоминать и поминать? Сейчас стариков увижу…
Так и ехала. Да, крепка она была, и сын, видимо, в нее, но внучки… Без слез не взглянешь! Не едят вовсе, поклюют, как птички, да и бежать на улицу. Отцу приходится уговаривать каждую: «Вот съешь десять ложечек супа, тогда дам двадцать копеек на жевательную резинку». Разве так можно? Такой подрост хилый, а кто же завтра трудиться будет?
В вагоне по-прежнему пели, спорили и кричали, как будто хотели убедить Клаву в том, что работники в стране всегда были и будут. Мы, рвущиеся на «севера», будем трудиться, твой сын приедет следом… Не переживай, мать.
Она и вправду успокоилась.
Чего грустить? Откуда — скучно? Так и должно быть в жизни человека… Скучно, видите ли, ей! Весело и интересно везде и всюду только детям: они даже в Нахаловке, залитой грязью и пропитанной нестерпимой вонью, чувствуют себя вполне счастливыми. Грустно от памяти, а не от того, что ты едешь в вагоне с людьми, с которыми тебе, мягко говоря, не по пути. У людей один путь — жизнь… И страшно, если его однажды переметет, а ты — из-за своей выдуманной скуки — не захочешь разобрать заносы.
И ехала она, и ехала.
Л вечером, припав к окнам, все дивились: что это? Вдали, по самому горизонту, рассыпался снег, окрашенный поздним солнцем. Он переливался в последних лучах и клубился, как гигантское облако. Пассажиры гадали: вулкан? Пожар? Может быть, настоящий снег? Просто чудо какое-то полыхает, закрыв полнеба!..
Тогда Клава, ни к кому не обращаясь, ровным голосом произнесла:
— Панин бугор.
На горизонте полыхали стены чистого и белого как снег кремля. Панин бугор вырисовывался из гулких небес.
Теперь она разволновалась, предчувствуя близкую встречу с родными людьми. Секундная стрелка не торопилась, а до станции оставалось не менее десяти минут; проскочат чугунный мост — и засверкает, обжигая глаза, вокзал, высокий, радостный, весь из стекла.
Она молча оделась и, попрощавшись с соседями, направилась в конец вагона, где издерганная проводница должна была ее выпустить. Соседи без сожаления простились:
— Всего вам! А нам — еще две тыщи верст… По шпалам, глядь, поедем, глядь, по шпалам!
— Езжайте, ребятишки, устраивайте свою жизнь, — себе, видно, говорила. — Чтоб все было по уму.
Подкатывали к вокзалу.
22
Капитану Ожегову предложили участок в новом микрорайоне города. Он поблагодарил начальника отдела, но ничего не ответил сразу, решил подумать наедине, посоветоваться, наконец, с супругой. Вернувшись домой, он попытался обсудить заманчивое предложение со своей половиной и не смог: она так понесла навстречу обещанной квартире, что капитан оскорбился даже, как мог оскорбиться только тот, кого толкали на явную сделку.
— Никаких хренов! — прокричал он, пытаясь осадить взволнованную жену. — У меня Нахаловка на взводе, я там все перевернул, перелопатил, а теперь, когда надо успокоить людей, сбегу! Так, что ли? Да люди… Я этих людей… не брошу!
Он хотел прокричать, что этих людей любит, но вовремя осадил себя, потому что вчера — он вдруг вспомнил об этом — доказывал жене: весь мир нельзя любить. Те, кто кричат, что любят весь мир, попросту брешут. Он успешно доказал супруге, что человек способен любить одного, двух, трех таких же, как сам, но всем сердцем! Вот это любовь.
— Да я как посмотрю им в глаза? — продолжал участковый. — Они же мне дороги… Я привык к ним и хочу им действительно хоть в чем-то помочь. А кто еще поможет?
— Милый мой! — простонала супруга, подавая ему через стол тарелку. — Тебе больше фасоли нужно есть, чтобы регулярно подкармливать мозги. Видишь, как я ее уплетаю. Вот так, — она подцепила вилкой крупную фасолину и отправила ее в рот.
— Что это за выпад? — обиделся участковый. — Что я тебе, пришибленный какой-то?
Он, отодвинув от себя тарелку, вышел из-за стола.
— Иди, иди! — прокричала она вслед. — Может, наедине осмыслишь выгоду. Сам ползает по болоту и меня в этой халупе держит, как бедную Матреху.
— Пошла ты к черту!
— У черта своих… Давай, души меня своим табачищем, я стерплю — привычная.
Закрывшись в маленькой комнатке, Ожегов закурил. Табак ему вдруг показался едким и жгучим — такой обжигал все нутро, но не утолял жажды курильщика, и тот нервничал, меняя папиросу. Одна, вторая… Гадость! И табак вроде прежний, и набивка тугая, и фабрика та же, но привкус…
Поворчав, он попытался заснуть. Бесполезно. «Меня, честного офицера… толкают на эти „крольчатники“, что заселили конторским людом. Да разве я выслуживался? — мучился капитан. — Я просто работал… А меня, как доносчика и стукача, решили „повысить“: мы, мол, тобой довольны, получи квартирку путную. Людей бросаю! По какому праву: смени одних на других? А Клаве, а Юрке, а Харитоновне что сказать?!»
Всю ночь он промучился, а утром, выйдя к завтраку, заявил супруге:
— Отсюда — никуда! И не качай своей башкой, как кобра…
Та не обиделась, но как-то уж слишком спокойно произнесла:
— Не обожгись — чайник прямо с плиты… А я и в этой пещере проживу. Буду огонь поддерживать, а ты на своем хребте диких кабанов таскать, вертел изобретем… Каменный век.
И все-таки руки у нее дрожали.
— За квартиру готова меня измордовать. А душу мою не поймешь, — присел он к столу. — Конечно, здесь грязь… А как без нее? Ну, допустим, соглашусь я, выползу из колеи и отряхнусь да побегу, как таракан… А совесть? В этой грязи оставлю? А люди? — рассуждал он. — Они что, в грязи останутся? Я, может быть, для них единственная опора, последний…
— Чудак… Ешь фасоль! — проговорила супруга и, как ни странно, сама вышла из-за стола.
Участковый так растерялся, что, потянувшись за чашкой, промахнулся и угодил пальцем в кипяток.
— А, сволота!.. — выругался он. — И запомни: не погонам служу, а людям. И горжусь этим…
— Гордись, гордись, — равнодушно отозвалась жена. — Мне на службу. Я из простых смертных и жить хочу.
— А я не хочу?!
— После завтрака, — наказывала она ему, — не забудь кошку из подпола выпустить.
— Не беспокойся.
— Мало ли! Вдруг гордость-то эта разум затмит и позабудешь про бедную, — язвила она. — Позабудешь, а ее мышки съедят. Как жить-то дальше станешь? Без кошки?!
— Проживу…
Сегодня ему не хотелось вступать в перепалку с женой, поэтому он вполне сознательно свернул предисловие: «Как жить-то дальше станешь?» Прежде, после этой дурацкой фразы, они выходили на стартовую дорожку, чтоб размяться перед работой. И супруга вдруг поняла, что схватки не будет. Она быстро причесалась, подкрасилась и шагнула к двери. Замок, до сих пор не отремонтированный хозяином, нехотя открылся. Зато пока он открывался, жена успела пропеть сквозь зубы: «Мы вчера узнали из газет, как живет наш местный комитет. Па-па-па! Далее — Моцарт».
Она хлопнула дверью, но супруг, радуясь благополучному исходу, никак не ответил на эту дерзость. Он доел фасоль, допил чай и, освежив бархоткой носки сапог, вышел на улицу.
В отделе, узнав об его отказе, посмеялись… Но что мог значить в масштабе районных ЧП этот безобидный выпад капитана Ожегова?!
Позабыли о нем тут же. Забот без того хватало: впервые, можно сказать, проводили активную чистку в районах пригорода, выметали и выскребали всю мразь, потерявшую в пьянстве и разврате человеческий облик.
23
Беда прокатилась стороной, Вовка не «вломил» своих палачей, не «продал» оперативнику. Но радостней от этого не становилось…
Камера жила тихой, по-болотному вязкой жизнью и дышала едким, как газ, воздухом. Ей не хотелось дышать. Котенок остыл, он даже перестал рассуждать о преступном мире, почувствовав, наверное, что Романа перестали интересовать эти рассуждения. Они не отвернулись друг от друга, но точно испугались, что могут со всего маху сойтись лбами. Надо было немного остыть.
С утра Зюзик плевался, демонстрируя это «верблюжье» искусство. Он облюбовал дверь и сначала постреливал в нее сквозь зубы, потом «метал» с губы, затем, округлив губы, трубил от самого окна, стараясь попасть в «десятку», и попадал, как ни странно. Вскоре он стал харкать, как могут харкать только в пятнадцать-шестнадцать лет подростки, не один месяц «отторчавшие» в камере: Зюзик тяжело откалывал с прокуренных легких накипь и, собрав ее во рту, плевал. На дверь прилипала такая гарь, что казалось, ее соскребли с пароходных или печных труб.
— Хватит, Зюзик! — крикнул Котенок. — Обтрухал всю дверь. Без того нет мочи сидеть в этом страхилатории. Возьми тряпку и вытри дверь хаты…
Зюзик выполнил приказание.
С утра к нему привязывался Котенок. Безделье допекло, Котенок искал жертву, но — Зюзик ловко срывался с любого подкола, как с крючка. Хитрый был, битый.
Однако Роман чувствовал, сколько злости скопилось в Котенке. Камера душила, «чайковского» не слали, потому Котенок болел… и мог сорваться по любому поводу.
Роману было легче: он продолжал «кропать» тетради новыми стихами. Писал стихи и как бы разряжал свою душу, не позволял скопиться в ней «черной» энергии.
Солнце пробивалось в камеру сквозь жалюзи. Гроз еще не было. Но дышалось неистовей и судорожней с каждым днем: кровь-то улавливала, какая пора стоит на дворе!.. Тоска обжигала больней.
— Сегодня с решки снял пушинку, — проговорил Роман. — Думал, снег идет… Нет, голуби оставили, — вздохнул он. — Вроде зима только что прошла, а тоскую по ней. Снежинки видятся, такие пушистенькие, и все — в пропорции. Не снежинка будто, а ювелирное изделие, руками она сработана… Мне бы так не сделать.
— Сейчас бы в бега ломануться, — подал голос Зюзик. — Я вот все думаю: при царе, как пишут в книгах, одни побеги были. Посадят человека на пятой странице романа, а на восьмой — он, читаешь, деру дал. Здорово! Что же это за тюрьмы были при царе, если из них многие убегали? Ну, например, из наших же не убежишь…
— Не о том, Зюзик, думаешь. — Роман оглядел с ног до головы ярого «бегунка». — Ты, наверное, забыл, что люди тогда и в казематах Петропавловки сидели, заживо гнили… Живыми оттуда не выходили. А теперь-то! Вон поймай мышку да играй с ней…
— Все равно тоска, — вздохнул Котенок. — Жить хочу, дышать… Аж тело отекло!
— Ты прав, — отозвался Роман. — У меня тоже полнейший застой — и тела, и духа…
— Духа! — хмыкнул Котенок. — Дух — это пыль… Здесь похуже: я отлежал бока, руки, а бедные мои ножки — хоть отрубай. Не веришь?
Роман промолчал. Тогда Котенок, раскурив папиросу, задрал штанину и ткнул горящей папиросой прямо в ногу… Затрещали волосы, даже папироска, пшикнув в лопнувшей коже, погасла, но Котенок сидел и смотрел на Романа спокойными глазами.
— Видишь, боли нет, — простонал от злости он. — А без боли хана!
— Что же, совсем не больно? — подскочил на койке Роман. Он и спросил-то шепотом, как с перепугу.
— Да, совсем, — ответил Котенок. — Ощущение такое… Не только духа, но и крови, кажется, нет во мне. А тело, оно вроде как ржавеет, окисляется, зудит… Меня даже тошнит. Кажется, не выдержу — и перегрызу себе вену! Брр! — Он мотнул головой.
— Брось ты, Котяра, дурить, — попытался его утешить Роман. — Скоро вывезут на Панин бугор… Меня тоже тошнит… — признался вдруг он.
И опять навалилась тишина. Только мухи, кружа по камере, сверлили воздух… Надо было спешно зацепиться за какую-нибудь мыслишку, она спасет.
«Что же я, такой здоровый да ладный, не жил на свободе? — подумал Роман. — Ну, Котенок — урод, ему там трудно было… А мне-то чего не хватало?» На эти вопросы он натыкался после каждого разговора с Котенком. И память перебирала, перебирала…
Они косяком ходили по «общаге», стреляли мелочовку. Один из них сворачивал кулек, как продавец, и шел впереди, выговаривая пацанве: «А ну, урки, сыпь! Че, пятака даже нет?» И «урки», чтобы не связываться с пьяными, сыпали, кто сколько мог. За два часа они могли собрать полный кулечек и отправлялись в пивнуху. Там иногда приходилось «каруселить». Они выбирали «застолье» помноголюдней и вызывали разгоряченных пивком и не в меру обидчивых на «пару ласковых». Конечно, рисковали, но хмель не знал страха… Во дворе им приходилось сбиваться в «колесо», чтобы спина к спине — так они успешно отбивались от наседающих со всех сторон фрайеров…
Не об этом было противно вспоминать, о другом. После драк возле пивнушки, после «охоты» на подвыпивших мужиков, он возвращался в «общагу» и начинал колесить по комнатам девушек. Хотелось «догнаться». Приходил к одним и с кем-нибудь в паре клянчил огуречный лосьон. Девчушки отдавали. Ох, как они его смаковали! Пили из пробочки, пили «по пять грамм», пили, не признавая закуски… Теперь он не мог понять, как эта гадость лезла в глотку.
«Общага» избаловала его. В драках он почти всегда выходил победителем… Но с нежностью вспоминал только о покосе, на котором пришлось потрудиться после того как сдал документы в училище.
В конце июля пэтэушников отправили за реку, сказали — сено грести, дня на два… Тогда они быстренько перезнакомились, спали в одной палатке с девчатами… Девчата уже были — оторви да выбрось, зато парни — огородная зелень. Но Роман выглядел взрослее всех, потому на его долю выпали отчаянные девчухи, от которых отбиться было непросто. Ему понравилась одна северянка — тихая такая, с молящими глазами. Из жалости, что ли, но он выбрал ее и спал с нею рядом в палатке, даже не подумав ни разу о близости. Ее трясло, она морщилась, как от боли, прижималась к нему изо всех сил, но он, остолоп деревенский, даже подумать не мог о… бабе. После восьмого-то класса в селе не всякая девчонка решалась на поцелуй, а на другое… Потому и парни, которым не давали повода, были спокойны… Гуляли по лугам, целовались. Хорошо было на душе без пивных, без «общаги» с этим проклятым огуречником. Он не обижал ее, а она по-прежнему смотрела на него молящими, как у собаки, глазами. «Может, сирота?» — вздыхал он. Но хорошо было на душе.
Сгребли сено, метать никто не умел, потому через два дня все вернулись в училище. А через неделю ее вырвали из постели какого-то «химика»… Ни боли, ни чувства досады не испытал Роман — просто в толк не мог взять: девахе пятнадцать лет, а она живет с мужиком. Нет, такого он не мог понять.
Но все равно он с нежностью вспоминал эту северянку и помнил как пахло сено, на котором они спали. Теперь бы в палатку, к костру, к гомону тех девчонок, которым вскоре придется обшивать страну, штукатурить стены новых зданий — словом, жить по-взрослому, на свою зарплату…
В прогулочном дворике, куда их вывели перед обедом, было еще жарче и душней, чем в камере. В камере хоть от стен веяло сыростью, а здесь воздух так прокалился, что дышать нечем было. За шлакобетонной стенкой переговаривались хриплыми голосами мужики. Их все забавляло в этой жизни, как будто они радовались тому, что их посадили.
— И вот он пишет старикам, — рассказывал кто-то затертую до дыр байку. — Дорогие мама и папа! Сижу я теперь в камере, народ вокруг бойкий и коварный, говорят на непонятном языке… Обешали мне выколоть шнифт, пока правый… Как выколют этот самый шнифт, так я вам сразу же напишу — что это такое.
Во дворике расхохотались. Даже хохот и тот почему-то был отвратителен. Хотелось крикнуть: «Взрослые люди, а чем занимаетесь?»
— Сало! Сосало! — сплюнул Котенок. Он подошел к стене, задрал голову и пропел петухом: — Кукареку-у! Эй, вы слышите меня?
В оглохшем дворике продолжали хохотать.
— Эй, не слышите, волки?.. Так я вам бросаю в рожи, — кричал Котенок, — я вам бросаю, что вы петухи!
Мужики притихли. Кто-то удивился:
— Что за борзота?
— Это я, конечно, Котяра! — кричал Котенок. — И говорю вам: вы мразь старая! Таких я не уважаю!
— Ах ты!.. — поднялись мужики. — Ты что, заборзел в корягу?! Ух, соплегон!..
— Петрович, Петрович! — прокричал надзиратель сверху. Он ходил по специальному трапику, но снизу казалось — по торцу стенки. — Петрович, выводи из пятого и шестого.
— А что так быстро? — удивился Петрович.
— Они нагулялись… В камеру просятся. Прямо спасу нет.
— Врет он, шакал! — завопили мужики. — Это малолетки просятся! А не мы, слышишь, старшой?!
Но надзиратель наклонился над ними и будто сплюнул на металлическую сетку:
— Они сопляки… А ты, чего с ними связался? Вот теперь шагай в камеру, парь там вшей.
Котенок, когда услышал, как загремели запоры в шестом дворике и потащили из него мужиков, даже подпрыгнул от радости:
— Так их, старшинка! Гони их в камеру, гони!..
— Это же он подстроил, — упирались мужики. Но Петрович только бормотал:
— Ничего не знаю, ничего не знаю… С поста сообщили, с поста…
— Так их, Петрович! — орал Котенок. — А то пригрелись тут, жрут казенный хлеб да еще на прогулку просятся. Гони их в камеру! Ха-ха-ха!..
Вернулся Петрович, открыл дверь во дворик и спокойно проговорил:
— Прошу, ребятки. Хватит балдеть…
Они лежали на койках, прикрыв глаза. Соседи переговаривались между собой, будто боялись, что могут разучиться разговаривать громко, как в шумной толчее.
Надзиратели потерялись в коридорах. Ни один не подойдет к двери, чтобы ударить по ней ключами… Тогда бы вздрогнули, закопошились в камере, хоть как-то разряжаясь.
Память часто пропадала…
В соседней камере запели, но так тоскливо, будто нашли где-то жестяной рупор и, направив его из окна во двор, выли. От этого становилось еще тошней.
— Кто же так поет! — очнулся Котенок. — А-а! — прохрипел он в гневе и, точно сорвавшись сверху, пролетел по воздуху метра три… Наткнувшись на стол, он оглянулся, увидел костыли и, прыгнув к койке, схватил один. Потом, дико взревев, размахнулся и изо всей силы ударил костылем о стену. Костыль рассыпался: на пол полетели вставки и болтики. Котенку как будто того и надо было… Он поостыл и, взглянув на раздробленную деревяшку, прохрипел:
— Будем учиться ходить на одном… — И тут же расхохотался на всю камеру.
Перепуганный Зюзик глупо улыбался, поглядывая то на Котенка, то на Романа. Роман по-прежнему лежал на спине и спокойно смотрел на Котенка, будто гадал: а дальше что?
На самом же деле ему было не до Котенка. Он в полусне зацепился за покосившийся сруб колодца. Отчим ломиком пытался выправить «халтуру», но мать пресекла эту попытку. «Лишь бы с рук сбыть, — проворчала она. — Кто так работает? Это же себе на вред!» — «Себе я не желаю зла, — отозвался отчим. — Поправлю и как у добрых людей…» — «Людей, — ворчала мать. — Теперь люди-то длинны, как сосны». — «Почему?» — «Потому, что каждый хочет в солнце выкупаться, — ответила мать. — Вот и идут в рост, а не в корень».
Возненавидев камерную духоту, он все чаще и чаще возвращался памятью в недостроенный родительский домик. Каким уютным и крепким он виделся ему во сне! Прежде даже не заметил — работал вслепую, потому что надо помочь родителям. А домик продолжал сниться, и Роману было приятно видеть отчима, неторопливого в работе, и вечно ворчащую мать. Ни во что он теперь не верил, никому бы не дозволил коснуться своих мыслей, а вот увидятся мать с отчимом — хоть плачь! И тянуло к ним, и крепла вера в них. Без этой веры он давно бы «скорешился» с Зюзиком, стал бы «ботать…» Фу, как это противно — ломать свой язык!
Он прикрыл глаза…
Мать поила корову, а отчим стоял у колодца и курил, раздувая ноздри.
«Хорошие, добрые мои!» — повторял Роман, оторвавшись наконец-то от невыносимой духоты.
Прошла ночь…
В двенадцатом часу, едва пропикало «обедешное» радио, многопудовая дверь распахнулась, качнув решетку. Будто между решеткой и дверью образовалась плотная толща: потянули дверь — дрогнула решетка. На пороге стоял надзиратель с «разделочной» доской в руках.
— Выходи, орда! — бодро выкрикнул он, обнажив на миг белые десны. — На зону пойдете… Ну, шевелись.
В полутемном коридоре уже толпились подростки, прижимая к груди тощие авоськи. Всех охватило волнение, глупые и растерянные улыбки не сходили с лиц. Среди этапников было много северян, сузивших и без того узкие глаза.
— Чего, хохлы, прищурились? — вывалился из камеры Котенок, опираясь на единственный костыль. — Ничего, держись меня!
Подростки переминались с ноги на ногу, точно «пробовали» свои отвыкшие от ходьбы ноги: понесут ли?
Писка находился среди этапников. Он визжал, хлопая Котенка по плечу:
— Прощай, тюряга!
Котенок тоже ликовал.
Их провели по коридору и вытолкнули во двор. Четыре двух-трехэтажных корпуса образовали небольшую площадку. В просветах, между корпусами, светились, как плафоны, сторожевые вышки под стеклянными колпаками.
Их посадили в «воронок», в темноту, в духоту… Больше они ничего не смогли рассмотреть.
Ехали без тряски. Сквозь металлические стенки «воронка» все-таки просачивалась городская жизнь: гудели автомобили, слышен был человеческий говор, даже смех. Город жил своей беспокойной жизнью, отдыхать ему было некогда.
Этапников конвоировали молоденькие солдатики с погонами «ВВ»: они сидели за решетчатой дверкой, подле окна, молчали, зажав между коленями автоматы. Свет, падающий сбоку, превратил их в бледно-горящие свечки, только языки погон были алыми.
Котенок задирался.
— Ну что, краснспогонник, — обратился он к солдатику, почти ровеснику. — Побегу — стрелять будешь? А?
— Буду, — безразлично отозвался тот. — Давно уж не стрелял, так и поджидаю случая.
— Смотри, что ботает! Как ботает, пес! — оглянулся Котенок, будто решил обратиться к товарищам за поддержкой. — Да сосешь ты лапу, пес вонючий!
Котенку очень хотелось «разогнать» дурь.
Роман поинтересовался:
— Не на дальняк?
— Нет. На Панин бугор, — ответил солдатик, не обидевшись на них из-за дурости Котенка. Как будто он понимал, насколько их потрепала тюрьма.
— Значит, на свою зону.
И радостно сделалось всем, что на свою…
«Воронок» выкатил на неровную дорогу, закачался из стороны в сторону, точно балансировал на бревне. Но никто не сплюнул, не выругался, потому что, пробуксовывая, колеса рвали цепями родную землю — Панин бугор обдирали, а не какой-нибудь северный волок. На чужбине сидеть никому не хотелось.
Слышно было, как шумели березы, изредка царапая металлическую крышу «воронка», в котором притихли этапники. А пацаны думали об одном: как же их встретят на зоне? Родина родиной, но зона… Не к маме родной везут.
24
Конечно, своя земля не жжет пяток… Но Роману казалось, что если бы его увезли куда-нибудь в другую область, то он бы даже обрадовался. Все-таки дальняк — неизвестная, потому манящая земля, а тут все примелькалось и обрыдло до студенистости в глазах. Просто смотреть — и то зрачки мутнеют… По правде сказать, Роман нигде еще не был, никакой земли не видел да и читал немного о чужих краях. А они, как ему всегда казалось, были теплыми и красивыми, намного красивей и теплей, чем свои, родные: на географической карте — такие цвета, такие цвета… сплошь бархат! А посмотришь, оглядишь расцветку родного края — одни штрихи да бледно-льдистые кругляши озер. Не край, а лужа, которая в долгие и морозные зимы промерзает до дна.
Всегда ему снились чужие края и страны, и всегда он хотел уехать туда, уплыть — потому и готовился в мореходное училище. Когда они с друзьями начали уже вкрутую говорить о поступлении в мореходное училище, в Вагай приехал вербовщик из Казахстана. Выйдя из автобуса, он по-хозяйски и как-то сразу облюбовал болтающихся пацанов. Вечером он пригласил их к себе в гостиницу. В номере они выпили, разговорились. Оказалось, что мужик искал шустрых, как он выразился, чуваков, которые бы без излишней возни могли поехать с ним в Джезказган.
— Собирайтесь без шухера, — советовал он. — Не в армию призываю, не в Морфлот, чтобы устраивать проводы. Бабки — это мое дело, ваше — собраться в дорогу.
Предложение было интересным. Вербовщик рассказал им, что в Джезказгане открылось профтехучилище, куда набирают людей со всей страны, набирают молодняк…
— Выучитесь на механизаторов широкого профиля, — обещал вербовщик. — Через пару лет сядете за рычаги трактора и вспашете первый клин. По длине клина вам отрежут рубль… Чем длинней, клянусь вам, тем лучше.
— Что же, у вас пацанов нет? Надо-то пятнадцать харь, — спросил Роман.
— Да как тебе сказать, — сморщился вербовщик… И никак не сказал.
Интерес к Джезказгану заметно ослаб. Вербовщик не хотел говорить напрямую, чем и насторожил парней.
— С этим все ясно! — поднялся Вовка, самый «взрослый» из косяка. — Он бай или хан какой-нибудь, потому ищет, кто бы на него согласился работать. Культурный и хитрый бай: училище даже построил.
— Это государство построило… Это ему нужны кадры, а не мне.
Но Вовка не слушал вербовщика.
— Посадят на трактор, — продолжал он, — укажут на целину — и при за семерых. У них же там существует своя власть, а Советская — вроде была, но распахали вместе с целиной.
— Я вам дело говорю! — подливал в стакан вербовщик, желая замять этот неприятный разговор. — Специальность плюс десятилетка… Не по душе — топайте в институт. Главное, что деньжата всегда будут при себе, как собственная башка, руки ли…
— Мы и так всегда с деньгами, — перебили его. — Подрабатываем на похоронах.
Вербовщик вытаращил глаза.
— Не пойму я вас, чуваки. Проясните.
Ему прояснили.
Последнее время мало кому из сельских ребят хотелось потрудиться на кирпичном заводе или в совхозе, как бывало прежде, когда с наступлением каникул — даже зимних, коротких, но до головокружения заводных и шумных, все старались подработать десятку-две, чтобы купить коньки, а кому-то вдруг приходило время обзаводиться настоящим ружьем. Все надо, все дай — воровать не умели, и работали, отказавшись от каникул. Но вот жердистая поросль соприкоснулась с ленью, да и родители многих считали чуть ли не позором отпустить своих деток на кирпичный завод. «Что за надобность такая, — ворчали они. — Что мы, нищие?» И вправду, нищих в селе не было. Дородные мамаши выгоняли коров за ворота в малиновых халатах, пошитых на заказ, стараясь прошагать за скотиной метров по пятьдесят, чтобы их успели разглядеть те, «кому надо». А парням нужны были деньги, они уже помаленьку начинали «квасить». Хоть воровать или грабить на автовокзале — самом людном месте — проезжих.
На помощь ораве пришел учитель труда Калиб, решивший вдруг организовать при школе духовой оркестр.
— Путевый мужик! — обрадовались подростки. — Видит, чего нам не хватает. Пошли к нему, братва!
Почуяв легкую наживу, они ринулись в оркестрантскую, где их поджидал сообразительный экзаменатор. После прослушивания выявили из своих самых способных и поручили им овладевать музыкальной грамотой. Калиб кивком головы утвердил состав начинающего оркестра и велел составить список, который нужно было показать для порядка завучу. Учитель труда спешил. А выгода была видна всем настолько, что о ней даже не рассуждали вслух.
— Сыграться бы побыстрей, — подбадривали друг друга. — Хоть как-нибудь! А там попрем за гробом, деньги — в шапку!
Роман, как один из бездарных, не вошел в состав оркестра, но всей душой был за то, чтобы кореша как можно быстрей овладели грамотой и попусту не слюнявили медных мундштуков. В тот год и люди среднего возраста в селе умирали один за одним, как цветы на клумбе, прихваченной первым, но крепким заморозком. То ли пить стали больше, то ли сердца не выдерживали современных нагрузок, но люди умирали, не давая передыху музыкантам. Тогда и начали клясть бедного Калиба.
— Я его ушатаю! — скалился Вовка, протащивший свой барабан четыре версты — до кладбища и обратно.
— Ты что, аля-улю? — покручивая возле виска пальцем, заступался за учителя Куса. — Благодаря ему мы раскрутились…
— Пусть больше платит… А то, как алиментщик, бросит на табак сынкам… Нет, я ему дам в лобешник.
Спорили, спорили, пока не пришли к простейшему выводу: если нас ценят, то надо воспользоваться этим и самим проявить инициативу, как в школе говорят… Роман оживился.
— Те, что играют, будут продолжать свою игру, — проговорил он. — Такие, как я, будут рыскать по округе в поисках работы… Заранее, дня за три-четыре, а может, даже за неделю, надо знать, кто из стариков отходит, готовится к отходу.
С ним согласились. В «фирме» появились нюхачи: они завязали знакомство в райбольнице, чтобы заранее знать, кто там на очереди в мир иной. Они же бегали по селу, «вынюхивая» умерший люд, переписывали нужных им стариков и старух. Даже возрастной потолок определили — шестьдесят пять лет, расписали все на год вперед. В том году должно было скончаться двести тридцать человек, не считая исключительных случаев: в двухэтажном доме могло сгореть, допустим, при пожаре сразу человек пятнадцать.
Но очередь не подвигалась, потому что старики не умирали. Они даже болеть и прихварывать перестали, чем любили заниматься прежде.
— Что же их теперь — убивать? — кривился Куса. — Может, капканы на них ставить или уронить старушенцию с мостка, она и дух испустит… Так?
А старикам в эту пору так полюбилась жизнь, что они стали искать посильную работу: кто-то устроился в совхоз, кто-то набирал скотину, чтобы растить. Старики не собирались отходить… Зато стали потихоньку отходить молодые мужики, отравленные зельем. Пришлось сменить ориентир: переписали всех пьянчуг в Вагае, подсчитали… Цифра впечатляла!
— Скоро коньяк будем пить! — повеселели дружки. — Хватит эту сивуху цедить… С нее мужики дохнут, как мухи.
…Сдохнешь, если пьешь так! — кричала какая-нибудь баба на своего мужа. — Недели не протянешь. Вот помяни мое слово…
И бабе верили, ждали и молили, чтоб мужик ее действительно «недели не протянул». Безмозглый возраст…
Главное в работе нюхачей — не прозевать покойника: не все же хотели хоронить своих под музыку! Многие хотели жить по старинке, потому, сберегая копейку, вывозили усопших на кладбище под вой соседей и родных. Нюхачи были всегда начеку.
Стоило кому-нибудь умереть, как нюхачи тут же заявлялись и спрашивали убитую горем родню:
— Музыка не нужна?
— Какая музыка? — спрашивали в ответ.
— Какая музыка! Духовая, — нервничали пришельцы. — А ты, бабка Дарья, привстань с мешка-то…
— Како-от мешок имя, — ворча, шепелявила старуха.
— Сидишь на деньгах, как на яйцах, — добивали растерявшуюся старушку. — Слазь! И — заказывай музыку… Не чужой, поди, богу душу отдал.
Хозяева наконец соглашались на музыку. Отказаться было стыдно: что подумают люди? И оркестр нанимали, выбрасывая на стол деньги — по пятерке на игрока.
Удачные операции окрылили их. На Калиба они стали поглядывать свысока, как на подсобника, и выдавали ему после похорон рублей по десять — пятнадцать. Он не роптал, может, даже побаивался своих учеников, так быстро переросших в профессиональных духачей-обирал.
Вроде все было, но вербовщик как-то сумел заинтересовать их компанию своим Казахстаном, и они слушали его… Он вовремя нащупал гитару под рукой и ударил по струнам:
…И по земле — о, дивный Казахстан! — проезжал на папиной машине модно разодетый мальчуган…Многим захотелось проехаться на папиной машине по Казахстану. Тогда и решили: вот только отстреляемся в школе, сдадим экзамены за восьмилетку и укатим туда… Но экзамены не нужно было сдавать: училище, кроме профессии, давало среднее образование.
— Уговорил! Едем — хоть завтра в дорогу… А?
Собрались в дальнюю дорогу и, перепившись в вокзальном ларьке, едва вползли в автобус, закупленный полностью вербовщиком. Их провожали, крича и плача, всем селом.
Уезжали лучшие друзья, но Роман не поехал с ними. Видимо, мечта о мореходке и о звонкой Болгарии, в которой он непременно хотел побывать, была сильней песни о «папиной машине». Песня его не смогла переубедить…
А через полгода, как раз к посевной, прикатили в родимые края механизаторы — прикатили на каникулы, да так и не собрались в обратную дорогу.
Прошлое было странным, потому, наверное, думы о нем не прерывались. Вспоминая одно, Роман приходил к другому… И так без конца, эпизод за эпизодом, глава за главой, как будто повесть о жизни своей сочинял он — и в камере, и даже здесь, в «воронке». Он жил пока только вчерашним днем, хотя самое время было подумать о настоящем: что его ожидает в зоне? В зону же везут, в зону…
«Воронок» покачивало, он ровно урчал мотором. Выхлопные газы просачивались внутрь… Роман вспомнил вернувшихся из Казахстана друзей, и грустно ему стало от мысли, что он не воспользовался тогда возможностью уехать. Может, застрял бы там, прижился в чужом краю и сейчас бы не пришлось сидеть в этой душной коробке и глотать выхлопные газы, от которых глаза слезились.
— Откройте окно, — попросил Котенок, обращаясь к солдатам. — Э, зверюга! Не слышишь, что ли?
— Не открывается, — спокойно отозвался солдат. — Наглухо задраено.
В «воронке» недовольно посапывали: духота… Если внимательно присмотреться, то можно было и в полутьме разглядеть этапников. Почти все сидели на низеньких лавках вдоль стенок, как парашютисты, подпирая коленками подбородки. Те, кому не хватило места, сидели на корточках. Ни слова, ни шумного выдоха… Изредка вспыхнет спичка да кто-нибудь раскурит папироску. Но волнение все-таки ощущалось: в комочки сбились сидящие, точно в оцепенении, будто в ожидании встречного удара. Притихли… Тишина-то больше всего и выдавала их волнение. Зюзик вообще не проронил ни слова, даже не закурил ни разу.
«Воронок», накренившись на бок, плавно затормозил. Дверцу открыли снаружи — солдаты, оказывается, тоже находились под замком.
— Приплыли, в рот меня высмеять! — оживился Котенок. — Отмучились фрайера…
Конвой почему-то заторопился, как будто куда-то опаздывал. Солдаты и контролеры зоны, образовав живой коридор, стали выбрасывать из «воронка» упирающихся подростков.
— Первый, второй!..
— Первый, второй, — отзывались те, что принимали этап.
Они работали, как грузчики, и выбрасывали из коробки мешки с ватой.
— Третий, четвертый, — пересчитывали их.
— Третий, четвертый, — повторяли внизу, принимая этап не по «делам», как принимают везде, а по счету.
Лобастые подростки огрызались, щелкая прокуренными донельзя зубами.
А у бревенчатого домика-вахты, по эту сторону забора с трехрядным карнизом из колючей проволоки, стоял высокий, плотный офицер с погонами майора. Едва он появился на крыльце, как Котенок уже вычислил — хозяин и повернулся к нему боком. Хозяин же широко расставил ноги и, простодушно оскалясь, предупреждал конвой:
— Осторожнее сбрасывайте, не рэцэдэ.
— Везли осторожно, — отозвался сержантик. — Везли, так, как не возят куриные яйца. Битых нет.
Но майор даже не взглянул на него.
— Что, пацаны? Как добрались, пацаны? — спрашивал он прибывших, что сбились поодаль в табунок. — Никто там не спрятался под лавку? А, пацаны?
Майор улыбался. В руке у него был зажат тонкий прутик, которым он в такт словам ударял по голенищу сапога.
— Сейчас разведем по отрядам… — высунулся было щупленький офицерик, но майор тотчас поправил его:
— Не по отрядам, а в карантинку! Там мы вас отмоем, приоденем, подстрижем, как женихов… Идет, пацаны?
— Подмажем, если что не так… Какой базар!
Майор резко повернулся на голос и, не раздумывая, вытянул говорящего прутиком.
— Не шалить у меня! — пригрозил он.
Но лицо этого майора оставалось по-прежнему простодушным и улыбчивым. Он поправил фуражку, съехавшую на затылок, пристукнул каблуками:
— Если все поняли, то через пропускной — строго по одному — арш!
Неровно потянулись к крыльцу, покачиваясь, будто им под ноги бросили узкий и шаткий трапик.
— С одним-то костылем удобно? — спросил майор, взглянув на Котенка, идущего первым.
— Привычен ко всему, — отозвался тот. — Могу и на руках войти в зону.
— После на руках… В день освобождения… Эх ты, остряк.
Снег на Панином бугре давно сошел. Дорогу, по которой ехали сюда, накатали, но повсюду была грязь. Прямо пенилась, как размороженная капуста. Зато воздух кружил голову. Он, этот воздух, пропитался насквозь не прошлогодней травой, не гнилью, а, казалось, грибным духом. Глаза кое-как привыкали к свету, слезились, как у больных собак.
Их вели вдоль забора по дощатому тротуару, обнесенному с обеих сторон колючей проволокой, за которую легко было зацепиться штанами или рукавом телогрейки, — таким узким был этот проход. Шли друг за другом, настороженно поглядывая на территорию колонии, где копошились подростки, что-то подбирая с земли, как грачи на пашне.
Зона — квадрат сто на сто пятьдесят… Первое, что бросалось и глаза, — двухэтажный дом из бруса с такими же, как на воле, окнами и карнизами, с шиферной крышей. Дальше вырисовывались кирпичные постройки, но они были как бы прикрыты туманом, исходящим от парной земли. Набегали рядки акаций, повсюду нарождалась трава, и подростки ходили по ней осторожно, бережно, как по дорогому ковру. Звенела гитара. Под окнами, развалившись на скамье, сидел гитарист в красивом костюме спортивного образца и перебирал струны, не заботясь о стройности мотива. Слов песни невозможно было разобрать.
Этапники тянулись к карантинке, впереди — молодцевато вышагивал пожилой старшина.
— Не отставайте, пацаны, — просил он. — Или ослабли в тюряге, ноги не тянут?
— Тянут, старшинка, тянут, — отвечал Котенок. — Если прикажешь, то до Колымы дойдем. Отцы и деды наши доходили, а мы что, рыжие? Не форшманемся, старшинка.
Остальные шли молчком. Зюзик косился на запретку, оглядывал низ забора, точно выискивал щель для лаза — скоро опять в бега, не врюхаться бы как сивому.
На угловой вышке стоял контролер — заспиртованный в стеклянном набалдашнике, как змея. Он с кем-то разговаривал по телефону, а всем слышалось — шипит, вот-вот высунет жалоподобный язык.
Старшина позвонил в двери карантинки — открыли, и подростки дружно втянулись в полутемный коридор.
— Что там, — кричали из карцеров, — этап?
Этап пришел на зону.
25
Клава приехала в Обольск и сразу же отправилась по магазинам. Погода стояла добрая, но людей почему-то в городке было мало. Даже в центре, где обычно кипит толчея, переулки и улочки просматривались насквозь, до самых тупиков. Верткий и заполошенный горожанин Севера не нудил, как комар: в магазинах не толкались покупатели, которым всегда чего-то не хватает и они без смущения выражают свое недовольство; изредка потрескивала, выбрасывая из себя чеки, касса-автомат.
Клава объяснила это по-своему… Еще в автобусе, когда тот, не останавливаясь, пролетал пустые остановки, она подумала, что люди — не дураки толпиться в душном городке в такую теплынь, укатили на речку или в лес. Где им отдыхать, как не на природе? К тому же новый химкомплекс слопал не только всю растительность в городке, но и самый воздух поглотил, которого прежде здесь, на высоком берегу Иртыша, было вдосталь. В три года вытаскали всю черемуху, всю рябину — одни тополя, обрезанные наполовину, сорят повсюду да собирают пыль, превратившуюся на их стволах в черную, как печная копоть, корку.
Она долго бродила по магазинам, осматривая броские витрины, никак не могла выбрать того, с чем можно было бы прийти к внучкам. Бывает так: все есть — и ничего нет. Как раз тот случай. Куклы — не то, конфеты — карамель, завернутая в такую обертку, что глаз коробит. «Товар — калина: огня половина», — подумала она, остановившись перед сверкающим бруствером бакалейного отдела. Здесь и набрала всего помаленьку. Без гостинцев не хотелось показываться им, внучкам, на глаза. Они б это запомнили, как запоминают в таком возрасте всякую обиду.
Поплутав по новому микрорайону, она наконец вышла к дому дочери. Поднялась на пятый этаж, позвонила в дверь… Волновалась очень.
Дочь, открыла дверь.
— Во! — вскрикнула она. — Проходи, мамка! Как это ты надумала приехать… Даешь!
Она искренно обрадовалась приезду матери, забегала, засуетилась и, не обнявшись даже с ней, убежала в кухню. Из кухни доносилась ее взволнованная и бестолковая речь:
— Я как раз всего наготовила, как будто предчувствовала, что ты приедешь, — говорила дочь. — А сама я на больничном сижу. Скукота такая… Ты там не стой у дверей-то, проходи!.. Скоро мой заявится.
Она гремела посудой, но Клава, сбросив с ног стоптанные туфлишки, придерживала ее:
— Не хлопочи попусту. Я хоть и с дороги, но сыта… — И разворчалась, безобидно попрекая дочь: — И какого лешего вы болеете? Соберут все болезни в кучу, только бы от работы отлынить. Так и жизнь пройдет — по больничному… Бог вас разберет, лежебоких!
— Чего ты там? — раскатилась больная. — Проходи давай сюда, хоть поговорим… Ворчунья!
— Не о чем нам говорить. Не люблю ленивых баб, — отказалась Клава и направилась в комнату внучек. Ох, как не терпелось ей увидеть этих пострелушек.
Две худенькие девочки, просвечивающие насквозь, как просвечивала в детстве их мать, сидели по разным углам, как будто их специально развели, чтобы они не мешали друг другу в своих занятиях. Одна рисовала за столом. Старшая, отбросив фартучек, что шила на руках, вдруг прыснула и, сорвавшись со стула, бросилась Клаве на шею:
— Баба! Баба приехала!
Клава обняла ее и прижала к груди.
— Боже мой! Да вы не едите, что ли? — поразилась она, нарочно разводя руками. — Ручонка-то… Да гли-ка — у меня ведь палец толще. Мизинчик!
Внучки расхохотались, а она, неожиданно скривившись, заплакала. Не от боли и не от обиды заплакала. Просто год их не видела, а они, поди ж ты, помнили ее.
— Баба, не плакай, — немного капризничая, просила младшая, лет трех, внучка. Она была светлей старшей и круглолица — в отцову породу, в мать отцову. — Не плакай, баба!
— Садись, баба, сюда, — тащила за рукав старшая. — Чего-то расплачутся вечно. Бабушка приходит и плачет, что зря, дескать, уехала из Вагая. Ну, народец! — повторяла она чьи-то слова. Может быть, даже копировала манеры и голос матери. Эта была смуглой, худоногой. — Проходи, баба.
Клава опустилась на стул.
— Вот и выбралась к вам, — вздохнула она. — Теперь нацелуемся. Скучали по бабе-то?
— Скучали. Странная ты какая, — фыркнула старшая, точно ее обидели бабушкины слова.
Комната у них была уютная: две деревянные кровати, письменный стол, тетради, карандаши, уйма книг. Об этом и мечтать не могла Клава, когда растила вот таких же двух одуванчиков. «Неужели они, — подумалось ей, — уже читать умеют?» Но когда присмотрелась к полочкам, то поняла, что книжки были рисованные.
— Хорошо у вас в комнате, — хвалила Клава. — А лампа-то горит?
— Конечно, горит! — даже удивилась младшая. — Включи-ка! — Включили настольную лампу.
— И вправду горит. Живете как инженерши…
Вечер продвигался споро. Не заметили, как смеркалось. Вернулся с работы Клавин зять. Он ввалился в прихожую и теперь подпрыгивал на одной ноге и не мог никак сбросить ботинок, точно прилипший к ступне.
— А, мать! — поздоровался он. Однако чрезмерной радости по поводу тещиного приезда не выразил.
— Что там на ужин? — кричал он из ванной. — Мясного запаха не слышу.
— Бедный! — отозвалась жена. — Тебя ведь здесь не кормят. Все ты голодный да холодный бегаешь. С чего вот только такая резвость? С чаю?
— Прошу без шуток. Я хочу есть, и много есть, — не обиделся тот, проходя в кухню.
Зять был расчетливым парнем. В нужный для семьи момент он подался на курсы операторов, чтобы после их окончания устроиться на химкомплекс и заработать квартиру. Вскоре руководство и вправду выделило ему трехкомнатную квартиру, как работнику нужному, инициативному, а кроме того, имеющему двух детей. Так перебрались они в новый микрорайон города, необжитый еще и не выжженный дотла, где повсюду шелестели березы и гудели, как телеграфные столбы, сосны вперемежку с кедрачом.
— Квартира — это еще не все, — заявлял он молодой жене. — Я не могу смотреть, когда ты приходишь из магазина и, чтобы заправить суп, очищаешь восемь луковиц-горошин. Поэтому я иду к начальству и прошу у него участок земли… Пока не до терема, но огородец разобью путный…
Он не хвастал, он проектировал материальную базу своей семьи, не желая больше толкаться в длинных, душных очередях за мелким луком или дряблой картошкой.
— Хоть всю планету перекопай, — заявила жена, — но меня не трогай. Я тебе не помощница, в земле рыться не стану… Да и что за нужда?
Она даже подняла его на смех. Но муж не растерялся. Он подошел к своей глуповатой супруге, обнял ее и проговорил:
— Я добытчик. Уж коли женился да развел детишек, то должен, просто обязан добыть по сто рублей в месяц на каждого. Четыреста рублей.
— Где они напреют? На гряде, что ли?
— Я их добуду, — спокойно проговорил он. — Иначе будет полунищета.
И он приобрел этот участок.
Летом он ездил на свой пятачок, где выращивал лук, картошку, клубнику и даже цветы на продажу. Нет, он не толкался на рынке, к нему приходили и забирали все сразу, — цветы шли по первому сорту и пополняли семейный бюджет.
Внучки сидели тут же, за столом, но их не интересовал разговор взрослых — они смотрели телевизор, на экране которого продолжался концерт артистов эстрады.
— Чего им не жить, — вздохнула Клава. — Языком молотить — косточки не заболят. Мети им, размахивай. Эх, жизнь несправедливая, когда ты только и кончишься… Не бездна же тебя!
— Жизнь прекрасна! — заметил зять. — Зря ты ее так…
— Эх ты, жизнь… — опять вздохнула она. — Давай, зятек, хлопнем еще по рюмке.
— Я не против, — согласился зятек.
Хозяйка косилась на мать. Помалкивала.
В какую-то минуту — не здесь, за столом, так там, в детской — Клава почувствовала, что ей чего-то не договаривают. Ей показалось, что ее умышленно уводят в сторону — то к шутке, то к разговору о давней свадьбе… Так птицы уводят от своих гнезд, но тот, кого они уводят, невольно настораживается: уводят, но от чего? Этого она не могла понять. Потому насторожилась… Неспроста Клава побаивалась за дочку: побаливало у девчонки сердце. Вроде бы ездит на курорты, лечится, но стоит немножко понервничать, как оно, сердце, вдруг начинает долбить изнутри, скрести когтями… Дома-то ее никто не расстроит, а вот среди людей… Всякий-разный народец обживает этот городок, обживает по-всякому и по-разному. А муж, он слабый, как подросток, ни росту, ни силы особенной господь ему не дал. Сможет ли он постоять за родного человека, если того на глазах обидит какой-нибудь хам или какая-нибудь наглячка? Такой же телок, как Тихон.
— Давеча иду к вам, а под ногами хвоя. Свежая такая, яркая, — проговорила Клава. — Кого хоронили-то? Из соседей кого-то, из знакомых?
Хозяин посмотрел на тещу без всякого интереса и слабым, точно выцветшим голосом произнес:
— Шпана резвится… После таких игрищ бывают, естественно, жертвы.
— Каких игрищ-то! — вспыхнула жена. — Это не игрища, а самые настоящие расправы и убийства. Дети убивают детей!
— Говорите толком, — не поняла Клава.
Дочь, разливая чай, начала рассказывать матери.
— Хоронили паренька из соседнего подъезда, — начала она. — Позавчера вроде я его видела, а сегодня — лежит в гробу… Лица нету, один носик торчит… Я уж не стала выходить — с балкона смотрела, расстроилась… — волновалась она.
— Так что произошло-то? — спросила мать, не прикоснувшаяся даже к чаю.
— Дети убили своего товарища. Им, соплякам, от шести до одиннадцати лет, а они увели его в березняк— это там, за стройкой, — и стали убивать. Отрезали уши, долго мучили… Видно, он долго не умирал, а они его совали головой в лужу, чтоб захлебнулся… Топили-то уже тогда, когда одумались и перепугались… Но страшней всего было отпустить этого пацанчика: он был настолько изуродован, что его уже нельзя было отпускать домой. Потому и топили, плакали от страха, но топили… Лужа, говорят, сверху покрылась пленкой крови, как мазутом.
— А-а! — раскрыв рот, протянула Клава. — Ведь дети! Откуда такая жестокость в них? Господи, вы хоть своих-то на улицу не пускайте… Неужели б и наш смог?..
Она ничего не могла понять. Мысли разбрелись, как куры.
— Неужели б и наш смог пойти и совершить убийство? — опять воскликнула она и посмотрела на дочь, будто ждала от нее ответа. — Горе, ребятишки, горе. А у нас ведь в Юмени ничего такого не услышишь. Честное слово. Я не слышала, чтоб дети убивали…
— У вас нет стройки такой, — заметил хозяин, — потому так тихо. А здесь народу понаехало, никто никого не знает, все на всех плюют, а дети видят… Стихийно возник бардак. В центре туристов ублажают, а на окраинах людей хоронят.
И он стал рассказывать теще о недавнем судебном процессе над школьниками, процессе открытом и очень скандальном… Родители там едва-едва не передрались с избранниками народа — крепким и справедливым судом. Не всякий бы здесь выстоял и хладнокровно рассудил возникший спор, а потом уж и осудил, кого посчитал нужным… Родительский косяк навязывал правосудию свою, на первый взгляд вполне логичную, точку зрения.
Этого человека не убили, его просто сбросили с моста. Он шел, как всегда, под мухой; а когда дошел до середины моста и ему навстречу вышли трезвые подростки, то приснял кепку и, по-глупому улыбаясь, как виноватый, произнес: «Здравствуйте!» Девочки, стоявшие возле перил, поздоровались с ним… парни промолчали. «Из ревности», — пробормотал он, и хотел пройти мимо. Он так всегда делал, этот пьяница, работающий где-то грузчиком или подсобным рабочим: брезентовая куртка вечно была заляпана не то кровью, не то ржавчиной. Возвращался домой он всегда по этому маршруту — через мост «Юношеских встреч» и здоровался с молодежью. Парни, как всегда, не отзывались на приветствие, но девочки… Вот и на этот раз они приветливо поздоровались с ним, а когда он — и тоже, как всегда! — хотел обогнуть ревнивых кавалеров, они его почему-то не пропустили. «Пускаем тебя, батя, в расход, — проговорили они, вцепившись в рукав. — Нынче борются с позорящими нашу действительность людьми, и мы решили, что не к лицу нам отставать от старших товарищей— вносим свою лепту. Прощайся, батя, с жизнью. Может, последние просьбы будут?» Мужик хлопал глазами, как будто силился протрезветь, но не протрезвел. Он пошарил в карманах, хмыкнул и ничего не сказал. Соображалось туго, слишком туго. Тогда одна из девчушек, точно капризничая, простонала: «Ну, что же вы, мальчики? Пора кончать… Он же ждет вас!» И мужичка «кончили»…
Его сбросили с моста вниз головой. Когда стемнело, «трибунал» спустился по насыпи к трупу и закопал его тут же. Только через неделю кто-то наткнулся на убитого и сообщил в милицию. Преступников отыскали.
На суде выяснилось, что школьники, вспомнив один из эпизодов романа Юлиана Семенова, разошлись во мнениях и заспорили. Одним казалось, что профессор, отправленный Штирлицем в Берн и бросившийся после из окна, правильно разбился; другие доказывали, что неправильно. Профессор этот должен был разбиться в лепешку, а он, упав на камни, почему-то лежал как живой, даже крови не было видно. Юлиана Семенова обвиняли во лжи, в этой самой лжи обвиняли и кинематографистов, допустивших такую оплошность. Спорили до звезд, а на другой день решили провести эксперимент: мужик, сброшенный с высокого моста, действительно не разбился в лепешку. Он даже стонал там, лежа на камнях, около часу. А им, влюбленным, пришлось горланить песни, чтобы редкие прохожие не смогли услышать этих стонов.
После раскрытия причин и мотивов преступления на суде вспыхнула битва характеристик. Характеристика убитого была средней. Работал грузчиком, выпивал, случалось, что пропускал рабочие дни, а если не пропускал, то опаздывал часа на два. Бумаги же школьников были безупречны. Характеристики из школы — активисты, способные ученики, прекрасные товарищи: всегда и везде вместе. Кроме того, к деловому материалу были подшиты разнообразные справки и справочки, которые пришлось собирать озабоченным родителям даже по совхозам, где их дети трудились во время летних каникул (дети действительно там трудились, но, очевидно, осенью, когда все школы спешат на помощь совхозам — убирают картошку). Убитый конечно же проиграл эту битву.
— За что нас судить? — обратилась к суду одна из девочек. — Он же все равно был пропащим человеком. Разве не так?
Ее поддержали родители.
— Граждане судьи! — поднялась одна из мам. — Конечно, наши дети виноваты, и мы их, конечно, выпорем еще. Я со своего шкуру спущу! Конечно! Но — ничего уже не вернуть, — вздрогнула она. — Как его вернешь к жизни? Никак! А дети только-только вступают в эту жизнь. Понимаете? У них же скоро экзамены и выпускной вечер. Разве можно лишить их будущего? Пощадите, граждане судьи! Он был пьяницей, он был пропащим человеком, такой гроша не стоит даже в базарный день, — говорила, очевидно, не просто женщина и мать подсудимого, а опытный работник городского рынка. — Я не знаю, как можно из-за какого-то червяка лишить молодости этих ребят?! Они же пойдут в институты, после окончания которых вольются в семью ученых и инженеров. А с судимостью — куда? Это гибель. Товарищи, у нас на глазах хотят уничтожить целую группу способнейшей молодежи! — крикнула она в зал. — Их убьют, и они не смогут уже принести никакой пользы нашему государству!
Клава держалась спокойно, как будто уже попривыкла ко всем этим страхам и ужасам, о которых наслушалась от детей.
Хозяйка продолжала сводить все разговоры, какие бы не возникали за столом, к одному и тому же вопросу — о подростковой преступности. Чувствовалось, что ей это было неприятно, что она говорит через силу, даже с риском для собственного сердца. Не сама, так мужа вынуждала, и он подчинялся ее воле. Когда умолкал, она опять наталкивала его. Может быть, из жалости к матери, порядком потрепанной жизнью, она не хотела сообщить ей страшную новость — хотела постепенно подготовить ее к этой новости, приучить, а не ударить сплеча, как по наковальне. Муж ей, правда, говорил: «Чего скрывать? Как есть, так и скажем». Но она накричала на него и попросила, чтоб он не раздражал ее попусту. Теперь вот верти-крути, и неизвестно, когда это все кончится.
Продолжали сидеть, пили чай.
— Старики-то как? Привыкают на новом месте? — спросила Клава, обращаясь к дочери. — Ходят к вам или по-прежнему нелюдимы?
— Какие-то нелюдимы! Ты че это, мамка! — с радостью отозвалась дочь. — Всегда они вместе, и к нам всегда заходят… Вон ведь где живут, — она ткнула в сторону окна, из которого хорошо были видны такие же, как у них, пятиэтажки с вытаращенными от света окнами. — Через дом, можно сказать, сняли квартиру. Двухкомнатная. Первый этаж. Сыровато, но — поищи такую!
— Они, как лебеди, парой ходят, — подхватил зять, весь вечер играющий не любимую для себя и даже унизительную в чем-то роль. — Бабка бежит впереди, он крутится вокруг нее, как будто боится слово пропустить. Ловит, старый, прямо на лету.
— Чего, он всегда ценил ее, — признала Клава. — Пальцем сроду не тронул. Скуповат вот только… Дай бог им здоровья… А к брату ты, дочь, ездишь? — просто спросила она. И улыбнулась: — Он же, молчун, сам-то не решится приехать, поди… Или ездит?
Наступила тишина. Зять хрустел своей газетой, как будто ледок крошил…
— Уже не ездит, — с трудом выговорила хозяйка. — А прежде бывал раза два.
— Вы что, поссорились?
— Хуже, мамка. Если б поссорились… Да выключите вы его! — выкрикнула она, имея в виду телевизор. — Надоело все, как… Дураки потешают дураков…
Внучки, переглянувшись, тихонько выбрались из кухни. Зять поднялся молчком из-за стола и шагнул к телевизору.
— Не ходит он больше, мамка, — проговорила дочь в наступившей вдруг тишине.
И она рассказала все, что знала о брате. Только о том, что его уже этапировали в колонию, она не могла знать. Муж тоже.
Клава обмерла, а в ушах продолжал шипеть и пениться голос дочери…
Она кое-как разгребла над собой невидимую тину, чтобы глотнуть воздуха.
— Да ты что? Ты… Да за что же меня опять так?! — Она не договорила и, неловко всхрапнув, повалилась на стол. Повалилась и прижалась щекой к одеревеневшим рукам.
В тесной, плотно заставленной кухне Клава не кричала диким голосом и не ревела, не рвала волос на голове, ее даже никто не держал, как взбесившуюся, не совал стакан с холодной водой, — она была гораздо спокойнее в своем горе, чем можно было ожидать. Даже дочь растерялась. Но вот она опомнилась и, вскочив с табурета, закружила вокруг матери.
— Теперь ничего… Ты, мамка, не плачь! — просила она, прикасаясь осторожно к ней. — Вот уж зима прошла, время бежит, как под уклон. Теперь проще.
— Я не могу, — мычала Клава. — За что же меня так! Кому я зла желала, кому-у?
— Ты не реви! — успокаивала ее дочь, склонившись над нею. — Теперь все пройдет… нечего дрожать.
Зять был спокоен.
— Чего реветь. Все сидят, — проговорил он. — У нас старый район, где мы жили, опустел наполовину. Как будто всех в армию забрали.
— Ты у него была? — подняла голову Клава. Лицо у нее исказилось, она была некрасивой, вся в слезах — каких-то тяжелых, едва расплывающихся на смуглой коже.
— Нет, не была, — произнесла дочь.
— Почему? — по-прежнему снизу смотрела на нее Клава. — Почему не была?
— Я на суде была… А тебя не хотели пока срывать с места. Какой толк?
«А теща — баба сильная, — подумал хозяин. — Остывает».
— Правильно, мать! Без истерик… — погладил он ее по плечу. — А то если весь город взвоет… Ты потерпи, будь разумней. Ну ведь сильные же мы! Выслушай… Хуже не будет.
Клава непонимающе посмотрела на зятя, всхрапнула, втягивая ноздрями воздух.
— Что он натворил? — наконец спросила она, с трудом унимая в себе дрожь. И оглянулась, хватая дочь за рукав халата: — Что-нибудь страшное? А?
— Подрался. Ты успокойся, пожалуйста. Не ахти какое преступление, — отозвалась та. — Правда, с ножиком был…
Подрался… На фоне сегодняшних рассказов, что пришлось выслушать Клаве, это конечно же смотрелось пустяком. И она бы, очевидно, успокоилась совсем, если бы дочь не добавила: «С ножиком был».
— Ромка-то с ножиком? — воскликнула Клава. — Это он-то, молчун, за ножик схватился? — не верилось ей. — Да ты мне, девка, не рассказывай вовсе! Так я тебе и поверила. Х-ы!
В кухне даже оживились. Хозяйка, глупо хохотнув, подтвердила:
— Да, ввязался в драку… Чей-то ножик взял. Но никакой там резни не было.
А Клава, не слушая уже никого, запричитала.
— Так я ведь предчувствовала… Видела всякую ерунду во сне, — хлопала она себя по бедрам. — Неспроста ведь я мучилась. Но разве ж я могла подумать, что он, молчун, пойдет куда-то и совершит там преступление? Никогда. А он, выходит, пошел и совершил! Ах ты, проклятая порода заячья! — недоумевала она. — Где хоть он?
— В тюрьме, наверное, — пожала плечами дочь, поняв, что мамка как бы заговорила саму себя от неминуемой, казалось бы, истерики. — А может, в колонию отвезли. Благо, что рядом Панин бугор… Плохо, что статья у него тяжелая — будет сидеть, пока не отмахает от срока две трети. После этого могут освободить…
— Почему две трети и от какого срока? — не поняла Клава, обращаясь к дочери.
— Ты, мамка, не нервничай, — просила ее рассказчица. — Я разговаривала с адвокатом, еще до суда… Он мне сказал, что часть третья статьи двести шестой идет только по двум третям: из трех лет Роману придется отсидеть два года.
— Два года?.. Ох, ты, господи, — вздохнула Клава. — А пораньше что, нельзя?
— Он и сам ни черта не понимает, этот адвокат… Развернул кодекс передо мной, как Библию, и тычет пальцем: «Двести шестая часть третья… От трех до семи лет…» Ага, за что? «Легкие телесные повреждения… Но лучше, конечно, тяжелые. Так, смотрим: тяжелые… Сто восьмая… От года до восьми, но статья идет…» Я испугалась, — волновалась дочь, — и говорю: «Вы что, хотите ему восемь лет выхлопотать?» А он спокойно возражает: «Погодите, девушка! От года до восьми, но идет по одной трети. То есть отсидит третью часть срока и освободят, если вести себя там будет примерно. Я хотел перебить на сто восьмую, но заключение медиков… За эту царапину он будет у вас трубить на пару лет дольше… Кроме того, статья не попадает ни под какие указы. А то через годик бы к мамке…» Ты не понимаешь? — спросила она мать.
— Так вот… — согласилась с ней Клава. — Че уж он, молчун, не мог посильней-то подрезать? Где так шустрый, а тут оплошал… Ломал бы ребра-то… коли так.
— Ты что это, мамка, городишь! — не поняла ее дочь.
И та вдруг испугалась собственных слов, подобралась вся: что же, мол, я дура?
Дочь волновалась:
— Если в Кодексе несправедливость, то чего ждать от самой жизни… Потому и зверства повсюду свершаются. Конечно, знающему хулигану-то на руку такой кодекс: станет он тебе пощечину давать, держи карман… Он лучше сразу ножом в печенку!..
— Говори по делу! — одернул ее муж.
— Верно, зятек! — поддержала теща. А сама подумала: «опыт-то жизни, когда еще он придет! Сама я к пятидесяти годам собралась с толком-то этим…»
Хозяйка постелила матери в комнате. Она расправила диван, и от простыней, ослепивших Клаву, повеяло приятным холодком.
Клава ходила по комнате из угла в угол и грызла ногти. Горькая дума вернулась к ней…
Дочь на цыпочках вышла из комнаты и неслышно прикрыла за собой дверь.
Зять укладывал дочек:
— Я сколько раз могу повторять, что уже поздно? — в одной руке он держал какие-то тапочки, в другой — платьице, которые едва — с боем — содрал с младшей дочери. Старшая была послушней и покладистей. — Быстро спать! Сто раз повторять?..
Девчонки нехотя забрались в свои постели, огрызались и возражали отцу одними глазами.
— Быстрей, говорю, укладывайтесь!
Отец был суров.
— Ну, папочка! — притворно застонала младшая. — Ты же добрый, хороший… Не кричи на нас, как в садике… Ты же чуткий у нас. Да ведь?
— Нет, я злой! — наступал отец, не ведая жалости. — Я могу и выпороть…
— Как это — выпороть?
— Потом увидите…
На кухне он покурил, не зажигая света, и, как тень, прошмыгнул к жене.
Та не спала. Притихшая, она лежала и косилась на стену, за которой находилась мать. Как будто прислушивалась: спит ли она?… Дочь не стыдилась штопок на кофточке матери, не стыдилась ее стоптанных полуботинок — она жалела мать и думала о ней с такой нежностью, что слезы навертывались на глаза.
За стенкой было тихо, как бывало всегда, будто там никто и не спал.
Но сама Клава слышала, как бегают по двору встревоженные матери и собирают в подолы недовольные ребячьи возгласы. Крики, смех, глухие, как на реке, пошлепывания…
И били, били настенные часы, хоть время не продвигалось совсем. Клава не спала в эту ночь.
26
В тюрьме ей сказали, что сын отправлен в колонию, и она пешком через весь городок бежала к Паниному бугру.
В колонии, как назло, был объявлен недельный карантин, но передачи принимали. Поэтому родители, потолкавшись возле вахты и досыта наплакавшись, спускались с Паниного бугра немного успокоенными: передачу приняли, а значит, сын их жив и здоров. С этой уверенностью они разъезжались по разным городам и поселкам Севера. Обширной была география родительского горя.
Клаве сказали, чего и сколько можно было купить для передачи, и она, кликнув старшую из внучек, отправилась в город. Навстречу ей двигался высокий и длинноногий, как кулик, офицер. Когда они поравнялись, она даже вскрикнула от неожиданности:
— Батюшки мои! Вы ли это, Александр Васильевич? Вроде вы, но почему, думаю, в форме?!
Офицер посмотрел на женщину.
— Клава! Ба! — как будто обрадовался он. — Ты откуда, землячка? Из колонии, что ли?
— К сыну приходила, а здесь карантин… А я, дура…
Она расплакалась, и капитан Кулик, исполнявший в колонии обязанности замполита, стал успокаивать ее.
— Брось ты, Клава! Ну, такая сильная девка была… Брось! — говорил он, похлопывая ее, как приятеля, по плечу. — А я ведь принимаю этапы, но сроду бы не узнал твоего чада… Честное слово.
— Так когда вы жили-то в Вагае! — отозвалась Клава. — Тогда он клоп был… Вот горе-то мне, дуре!
— Успокойся. Через неделю я тебе дам настоящее свидание с ним. Часа на три, — пообещал Кулик. — Да и вообще присмотрю за ним, работенку ему подыщу…
— Я не останусь в долгу…
— Ну, земляки же! — откинул голову Кулик и прогнулся, как талина под ветром. — Какие могут быть долги!.. Сегодня же ознакомлюсь с его делом, а там посмотрим. И — телефон мой запиши.
Она должна была позвонить ему дня через три-четыре.
Этот человек когда-то работал в вагайской газетке и даже писал о ней, молодой портнихе, какую-то заметку. И вот — через столько лет! — они вдруг встретились на Панином бугре и, немного поговорив, распрощались.
Клава бежала, не чуя под собой земли…
У дочери ее поджидали старики. Они сидели за столом и пили чай. От порога Клава слышала, как частил отчим.
— Мне, мне только забелить… Я не люблю крепкой, — говорил он. — А кофя, на то пошло, я могу цельный ковш выдуть… Но зачем зря переводить-то!.. Вот, подбели молочком… В крайнем случае, так…
— Ну, пей ты, — проворчала матушка. — Кофя, чай ли — главно, чтоб горяченько… Не хлопочи, внуча! Ему ведь не угодить…
Клава прошла к ним.
Мать совсем высохла… Маленькая, она пережила то время, когда людей в колхозах сушили, как воблу. Вены на ее руках прорезались, как жгуты, головка поседела… Но и на восьмом десятке старуха была бодра и подвижна.
Отчим вообще держался молодцом: строгая осанка, широкая грудь, лицо без морщин, аккуратненькое пузцо… Такого хоть на службу забирай, и не смотри, что ему шестьдесят лет!
Они привстали, поздоровались с Клавой.
— Целуйтесь! — хохотнула хозяйка. — Не чужие ведь!..
Старики смутились, покраснели, точно испытывали какую-то вину перед дочерью. Слегка обнялись и не расцеловались — обнюхали друг друга, как староверы.
— А мы тебе домишко присмотрели, — проговорила старуха, поправляя изуродованной рукой платок. Она никогда его не снимала с головы, за чаем, правда, откидывала на плечи. — За Пятницким мостом. Для себя хотели, а тут квартирешка подвернулась. Но хозяин-то все интересуется: возьмем ли? Теперь возьмем, — решила она. — Пару венцов сменим, фундамент подведем — и живи себе в радость!
Дед, откинувшись на спинку стула, молча кивал головой, выражая таким образом свое согласие.
— В душу вы мне, что ли, заглянули, — улыбнулась Клава, подсаживаясь к столу. Стол по такому случаю был накрыт не на кухне, а в комнате. — Я ведь, по совести сказать, за этим и ехала сюда.
Никто не начинал разговора о сыне.
Через час они всем семейством отправились к Пятницкому мосту, за которым старики присмотрели домик для себя, а вышло, что для дочери. Окраина старого городка находилась в подгорной части. Каждую весну здесь разливался Иртыш, но люди, привязанные к своему хозяйству, не боялись этого. Наоборот, после схода воды повсюду открывалась такая трава, что коровушки распрямлялись в две недели, наливались силою и молоком.
Слов не было, когда переходили мост… Торопились, как будто с покупкой домика тотчас же разрешатся все вопросы, прояснится суть дела, свалившегося на Клаву.
Хозяин, с лицом татарского типа, слонялся по двору. Он давно уже вывез пожитки и теперь ежедневно приходил сюда, как-будто боялся просмотреть желанных гостей-покупателей. Домик у него был небольшой, но плановый, то есть с домовой книгой. Честь по чести.
— А, пришли! Якши! — обрадовался он, встречая в покосившихся воротах гостей. — Ураза так не шт-ал, как вас. Прохоти…
Тесной кучкой осматривали домик.
Клава обошла двор, огород, даже заглянула в колодец-журавель.
Аккуратный домик. Ограда тесовая, высокие ворота — все, как хотелось.
— Поможем, поможем! — говорил дед. — Венцы сменим, фундамент подведем… Как у людей будет!..
Видно было, что он порядком засиделся в благоустроенной квартире и соскучился, как таежник по людям, по крестьянской домашней работе.
— Не размахивай руками! — одернула его старуха. — Спокойней будь…
Она не выказывала особенной радости… Она, изношенная многолетним тяжелым трудом, радовалась теперь от всей души и горячей воде из крана, и ванне, и теплому туалету, кое-как привыкнув к нему. «Господи, блажь какая! — повторяла она. — Прямо баре, а не люди… Пожить так-то хочетсы».
— Поможем, Клава, — приговаривала старуха. — Не бойся этих неполадок… Мы-то, молодые, как робили!.. Аж на улец ходили, как козы, — горохом…
— Мне чего бояться-то! — оглянулась Клава. — Вот испугалась прямо, дрожу вся…
— У хорошего хозяина, — не слушая ее, продолжала старуха, — и домик хороший. А то кругом — лень… Посмотришь: жена тоща, а мужик с брюхом. Не поймешь, кто из них скоря родит… Лентяи! Стыд потеряли, бессовестные люди!..
Старуха разговорилась.
— Лентяев накажет бог, и этого татарина накажет за равнодушие к дому… До чего ж он его довел! Срамота! А бог бесстыдных людей прибирает к рукам…
— Не всегда, — заметила Клава. Она прощупывала нижний венец — бревно было мягкое, трухлявое, палец засадила в него по первый сустав. — Не всегда, матушка, он наказывает лентяев… Не всегда.
— Ну, старый уже… маленько ленится сам, — оправдывала бога старуха. — А так — он все видит…
— Ты разве веришь в него?
— До войны не верила… Тогда разуверилась в нем, когда нас с отцом из деревни выслали, отобрали все, как у вражин каких… Но зла я не затаила, потому опять верю в бога, — говорила старуха. — Как не верить? Страдаю, что робить перестала… Сорвалась из родной земли в город этот, приживаюся теперь…
Трагедия ее жизни заключалась не в этом переезде. Она всегда — и до войны, и после — страдала и тосковала по той жизни, в которой они с отцом, выкладываясь полностью в работе, имели все: и коров, и лошадей, и крепкий, как сама земля, пятистенок. И вот — памятью — кружила она над той жизнью, над тем временем, как утка, но не садилась на воду. Обессилела, но не садилась на эту гладь, которую будто покрыли нефтью. Все утки плавали по этой воде, свыкались с мазутом, притерпелись к нему, а она не могла пересилить себя, чтобы сесть и плавать рядом с теми, что уже почернели и потеряли всяческий облик в этой грязи. Она не могла, потому что помнила чистую воду…
Она часто плакала. Гордость и радость светились в ее глазах, когда она вспоминала о крепкой и здоровой жизни.
— Тогда мы больше были хозяевами, — говорила она. — До сих пор там я живу, как будто у меня там, в том времени, ноги остались: ши-ро-ко шагают!.. И я шагаю, шагаю! — светилась она. — И не боюсь, что упаду. Какой широкий шаг!.. А здесь, в этой жизни — душа, ум, руки, но ножек почему-то нет: не шагается вовсе! Чтоб ее, эту жизнь! Не прижилась… А ведь народ— я красоту помню! — как лошади: породистая одна, а другая нет… Отец мой был породистым!
— Теперь не так, — соглашались с ней. — Не по породам, как таковым делят народ — порода определяется по кормушке: в которой овес отборный, там породистая лошадь!.. Вот так-то, бабка.
— Плохо, что не по труду — корм! — говорила она в ответ. — Тятька бы у меня вытянул вожжой за такую бесстыдность. Он не любил, когда выездную пару кормили овсом в те дни, когда не ехать. «Кормите, — говорил, — Карюх; завтра сенцо вывозить. Или опять на себе воз потащу?» Справедливость. Да разве я не могу тосковать о своей молодости? Она для меня как родина, все там — здесь только родня. Не вводите в грех меня, старуху… А бог есть… Вот так.
— Я хоть тут промнусь! Отек весь, — волновался дед, голос у него дрожал. — Сменим нижние венцы, кого тут менять!.. За месяц управимся… С Тихоном.
— Управимся, — согласилась Клава. — Тот вот, пенек, прикатит, он с радостью начнет работу. Че не поработать-то, — улыбнулась она, — с тещей да с тестем!
— Тихон хорошой, — похвалила старуха. — Он сухой, как наш Егорша, но цепкой. Хорошой мужик…
Когда ее впервые спросили дома о Клавином мужике и она его похвалила, то за столом даже насторожились. «Почему — хорошой? — спросил зять. — С первого взгляда определила, а, мать?» — «Хорошой! — повторила старуха и добавила твердым голосом: — Клава бы не стала жить с дрянью. Она своевольна…»
Покупку оформили по всем правилам: составили купчую на имя дочери, расписались в бумаге — листок, вырванный из школьной тетради, — поблагодарили бывшего хозяина.
Вышли во двор.
— Ну, скучно тебе, матушка, в городе-то? — спросила вдруг Клава. — Все-таки на старости лет… переехать. Тоскуешь?
— Ну, как, поди, не тоскую, — отозвалась старуха, когда они присели на сутунок, лежащий впритык к подворотне, чтоб собаки не лазили во двор. — Тоскую. Тянет на родину-то. Конечно… Но мы с дедом, как журавли, — взглянула она на мужа грустными, но быстрыми глазами. — Как журавли… Там родились, а сюда прилетели жить, как в теплые края… Ох-ха! Теперь, как журавли, кажной год будем возвращаться на родину — к дочке, к внучку… Будем жить.
В Вагае у них осталась дочь — совместная, младше Клавы, да и, как ни крути, более любимая. К ней они частенько ездили погостить на выходные: шестьдесят километров на автобусе — и на тебе, — родная кровь! С радостью ездили… Как на праздник! Об этом знала Клава, потому ревновала: «Ко мне-то бы не очень кинулась».
— Домик тот продадим, — проговорила Клава. — Появятся деньги, помаленьку рассчитаюсь с вами. С отдачей беру. А всего верней — шить буду да промышлять на рынке. Так что вы не огорчайтесь… Отдам деньги, верну.
— Хы! Чего-то верну! — отозвался дед. — Не просим же сразу…
— Так вот, — согласилась она. — Понимаю, что не просите, а душа уже болит. Так, видно, приучена… Но я доберусь до рынка; не я буду, если не смогу найти покупателя, не я! Рынок-то у вас добрый?
— Че ему… Гудит, как улей, — произнесла старуха. — Все там есть… Торгуй. Даже обман продают…
— Какой обман?
— A-а! Ты, старуха, вон о чем! — вспомнил дед. — А я тоже думаю: что за обман? Теперь спомнил… Хи-хи! — как-то по-бабьи хихикнул он. — Позорники!
— Позорники! Стыд потеряли люди… Вот кого надо ссылать в чужие края! — грозила кому-то сухоньким кулачком старуха. — У меня бы они пообманывали народ! У меня бы… Бесстыжие!
— Дед, рассказывай! А то твою ненаглядную сроду не поймешь, — попросила Клава. — Только грозит…
— Я не дура! — обиделась бабка. — Я все понимаю… Бесстыдника понять не трудно… Меня бы обмани! Проклятущие…
А дед протянул к ней руку, перебивая:
— Постой, старуха! Я сам, сам! Ты-то не видела, только я видел…
— Мне не надо видеть… Я без вида всякого понимаю! — не на шутку разошлась старуха. — Обманывают людей, а они сами на этот обман, как на подкормку, клюют.
Старуха едва смирилась. Старик набросился на рассказ, как кот на карася.
— Кожуру, кожуру продавала… А ее вскорости забрали вместе с кожурой, — торопился он. — Кожуру вывалили на землю, но горсть взяли на экспертизу… Она, воровка, в столовой, в столовой робила. Так говорят, так… — частил дед. В сильном волнении он всегда частил, как неопытный танцор.
— Кто — воровка-то? — перебила его Клава, ничего не понимая. — Торговка, что ли?
— Она, она в столовой робила… А кожуры на базаре продавала… Вместо, говорит, витамин. А ее поняли сразу, — продолжал дед. — И забрали, а кожуры — на землю! Народ-то не дурак…
Кое-как Клава разобралась в рассказе отчима. А когда поняла, о чем он ей толкует, то хохотала до слез, как будто радовалась чужой смекалке и потешалась над глупостью людской. Такого не придумаешь, не увидишь даже во сне.
С приходом весны под горой оживает рынок. Запасливые хозяева выбрасывают на прилавки квашеную капусту, соленые огурцы, помидоры, ягоду, закатанную в банках, картошку, чтобы продать по тройной цене такой продукт. Торговая база, овощная ее кубышка, к этому времени, как всегда, пустеет: капусту добирают, картошку, сгнившую наполовину, списывают и вывозят на свалку, а народу нужен витамин — хоть какой, но витамин… С далекого юга на рынок прибывают яблоки; они пахнут так, что даже скупые не выдерживают такой пытки и с радостью вынимают из-под матрасов кошельки, нетронутые зимой. Рынок начинает бурлить и кипеть с утра до вечера: люди, ослабшие к весне, спешат подкормиться. Они готовы платить… Технари, пэтэушники — и те не жалеют своих стипендий! Бледноватый, но отчаянный донельзя подросток появляется в воротах, распевая песню военных десантников: «Мы за ценой не постоим!».
Сотни голосов, десятки языков, говоров и наречий сплетаются в один клубок.
Но в этом году юг подкачал: на рынок не завезли фруктов. То ли осень там была неурожайная, то ли торгаши-частники состарились, но даже яблок не завезли. Всегда были яблоки, а нынче — хоть зубы выплевывай на дорогу…
Заведующая столовой, что находилась поблизости от рынка, не растерялась: она приказала поварам очищать яблоки, а кожуру приносить ей в бытовку. Повара стали чистить яблоки, как картошку, и уже очищенные — крошить, как картошку, в бачок, чтобы варить компот. Кожура доставлялась в ведре прямо заведующей, и та, придав этим очисткам вполне товарный вид, с лотком выходила на рынок.
Раздавай она этот товар бесплатно, к ней, конечно бы, никто и не подошел. Но когда люди увидели ценник, а на нем надпись: «Яблочный витамин. Сорт первый. Цена 9 руб.» — они не смогли устоять. Отовсюду набежали хлопотливые женщины, зашуршали целлофановыми пакетами и стали брать по два-три килограмма яблочного витамина в кожуре. Они понимающе объясняли друг другу: «А что вы думаете! В самом плоде витамина нет, зря его очищают, как показывают в кино, ножом. Да, да — витамин в кожуре!» Один мужик с припухшим лицом, проходя мимо и услышав это мудрое изречение, сунулся было в очередь: «Ешьте кожуру, а мне отдавайте этот безвитаминный плод… Хрен с ним, я не побрезгую!» — но его так отхалезили, что он опрометью бросился вдоль рядов. «От семечек труху, — кричал он, озираясь, — собирайте! Эвон ее сколько повсюду!»
Целую неделю торговала заведующая и набивала карманы белоснежного халатика, накинутого поверх кожаного плаща, рублями и червонцами. Десятки покупателей проходили через ее ручки, сотни зевак и попросту жмотов собиралось вокруг ее лотка, как вокруг площадки, на которой выступала едва ль не сама Пугачева: шум, толкотня. Мошенница просто купалась в лучах всеобщего внимания. На этот-то свет потянулись и неглупые люди. Они пришли, посмотрели, позвонили кое-куда, чтобы проконсультироваться по этому небывалому и не встречавшемуся прежде вопросу, а там дали указание: брать! А ей, торговке, как выяснится потом, оставалось продать всего три-четыре килограмма яблочного витамина… Не успела. Ее брали на глазах у всего городка, и начальник оперативной группы стыдил народ:
— Неужели не видели, что покупаете кожуру? Это ж пищевые отходы! Такого «витамина» на свалке… Стыдно, товарищи!
Толпа разошлась. Никто, кроме женщин, повадившихся к лотку, кажется, не огорчился…
— Что, что за порода — плут? — недоумевал дед. — Это хуже дураков. Хуже.
Клава, прохохотавши, встала с лавки.
— Айдате к дочери, — сказала она. — Уж час прошел, как упорола длинноногая… Может, обед приготовила нам. Айдате.
Но и за воротами старуха не утихомирилась. Она шла впереди и продолжала свою безобидную ворчбу.
— Какая уж порода! — ворчала она. — Облик-то бы человеческий не потерять. Порода! Гиблое дело, а ты— порода, мол. Я их, таких прохвостов, не люблю. Ох, как не люблю я их, девка!
— А сама торговала… Молоко-то кто из нас продавал: ты или я? — напомнила Клава, смеясь. — По три литра в день, но продавала. Моли бога, что ОБХСС на тебя не натравили…
— Да я что, обманула кого-то на копейку? — обиделась старуха. — Люди придут, спросят: «Будешь, тетка, молоко продавать?» А мне че… берите, коль надо. Ставлю банки на завалинку: приходят, берут. Не воровала же я! А людям польза…
— Молоко! Едри йё мать!.. Все бы так торговали! — Старик готов был закрыть собой жену. — Заведи свою коровенку да опосля торгуй. Косить-то лень, а молоко все любят… Ча, ча!
— Шучу я! Не сердись на меня, дурочку, — успокаивала их Клава. — Сорвалось с языка.
По проулку шли гуськом. Проулок этот — как неглубокий овражек, что по весне заливает водой, и она, эта вода, стоит здесь все лето. Хорошо! Хоть в лодке плавай… Только бы не закис этот овражек летом: вода-то стоячая, вони не оберешься.
Лаяли собаки, натягивая цепи. Чужие собаки. А Клава подумала о своих. «Куда их, сучек! — подумала с нежностью. — Придется с собой везти».
Приезд в гости — всегда ворох новостей. Клаве столько понарассказывали, что в голове все смешалось. Неспроста ей почудилось: какой тут день — неделю прожила! И наплакались, и нахохотались… Но мысль о сыне не покидала ее ни на минуту. Поэтому, пока добирались до микрорайона, она решила: сегодня ехать в Юмень или подождать до утра? Решила, что надо ехать вечерним поездом, который прибывал в Юмень утром. Всю ночь она будет ехать, выспится досыта, а утром, отдохнувшая и бодрая, предстанет перед своим муженьком, чтобы обрадовать его родительской покупкой. Потом они решат вопрос со скотиной…
Клава вернулась в Юмень. Она бегала по вокзальной площади, но такси пролетали мимо, обдавая всех мелкими брызгами. Погода портилась.
Едва уговорила частника.
Всю машину искурочу, — ворчал тот, пряча в карман полученную от нахрапистой пассажирки трешку. — И в год не отмою. У вас же там — хоть армейские учения проводи: местность, приближенная к боевой… Танки разуются мигом… Поехали.
— А ты шутник! — повеселела она.
— Жизнь шутовская… Вон видишь, кого нам не хватает? Да на стекле, на стекле лобовом!..
Клава посмотрела в ту сторону, куда кивнул водитель. Перед светофором выстроились машины. Машины-работяги — грузовики, бензовозы, хлебовозки — выставили напоказ портрет Сталина. Он был приклеен к лобовому стеклу автомобиля в том месте, где сидит пассажир… Собрав тучней брови, Сталин смотрел на дорогу, как будто был недоволен тем, что его задерживают…
— И при нем не сладко было, — отозвалась Клава.
— Не сладко, а жили… Теперь бы этот кулак! Но, видимо, тоскуем по тому времени — не зря же его выставили напоказ?
— Ничего не вернуть…
— Возвращаем! — стоял на своем водитель. — Тоскуем и возвращаем незаметно для самих себя… В город-то теперь страшно выйти: скрутят — почему не на работе? А если я в отпуске?
— Если возвращаем, то, значит, не можем жить больше без того времени. Это хорошо? — спросила Клава.
— А как было? — посмотрел на нее водитель. — У вас здесь хорошо было, а у нас там, — кивнул он за окно, — плохо. Очень плохо.
— Где у вас-то?
— Да-а… Отсюда не видать! — не захотел отвечать частник. — Но у вас было хорошо при нем. Все так говорят.
— Какая разница?
— Большая! Народ у вас здесь был дикий, но совестливый: не доносил на ближнего даже пропащий человек! Короче говоря, не бедовали вы здесь, потому и выставляются портреты «отца народов» на самых видных местах.
Она примолкла.
— Хреново стали жить, — продолжал частник. — Без радости. Все я имею, а счастья — и щепоти не наскребу. Вот в чем моя личная трагедия.
— Желай большего… Зачем тебе щепоть?
— Как зачем? — будто удивился частник. — Я бы ее, эту щепоть, втолкнул в ноздрю, как табак, чтобы чихнуть по-человечески. Щекотки хочется и здорового, как у счастливых людей, чиха. Видели, как в кино чихают?
Она опять примолкла.
— Где вам выходить?
— За гаражом, — ответила наконец Клава и кивнула в сторону наплывающей Нахаловки.
— Боже мой, как вы хоть тут живете? — поразился частник. — Вам же ордена за такую геройскую жизнь надо выдавать, а не талоны на субпродукты. Чихнуть-то по-человечески не хочется? Хочется ведь, поди, а? — привязался он к Клаве. — Или атрофировались уже, как алкаши?
— Атрофировались, — согласилась она. — Чихнуть по-человечески вправду не хочется… Хочется пожить, и не хуже, чем ты живешь. Ну ладно, мне выходить.
Она хлопнула дверцей.
27
Тихон встретил супругу радостно, даже обнял слегка и ткнулся губами в щеку.
— Приехала, — улыбнулся он.
Но Клава, удивленная будто, отстранилась от мужа.
— Что с тобой, касатик? Нежности-то сколько… Да трезв ли ты, дружок? А ну-ка дохни!
— Трезв. Ласки полны глазки, — простодушничал тот. — Как будто неделю тебя не было.
Собачушки стояли рядом на задних лапках, как косматые свечки, и поскуливали от нетерпения. Они понимали, что хозяйка пришла в добром духе. В такие минуты она кормила их ливерной колбасой.
— Ну вот, Тихон, — не обратив на них внимания, проговорила хозяйка, — дельце провернули. Теперь будем продавать эту хибару. Срочно надо писать объявления и расклеивать на всех столбах. Я обегу знакомых: может, натолкнут на покупателя… Слышишь?
Тихон кивнул на хлев, ткнул пальцем в дровяник: что, мол, все прахом… А корова? А свиньи? А теленок?..
Она поняла его без слов.
— Домик-то пока постоять может; Харитоновна без нас его продаст… А скотину… Такую-то ухоженную, господи прости, только дурак не возьмет, — толковала она Тихону. — Ты сходи к Феде: он корову ищет. Нашу-то с рогами оторвет! Иди, иди, — торопила, — может, он дома.
Но Тихон не уходил. Он стоял возле крыльца и со странным прищуром смотрел на Клаву, точно хотел внимательно разглядеть ее перед тем, как пойти к соседу. Глаза у него лучились, но грустным светом.
— Ты что? — спросила она. — Соскучился, что ли?
Она подошла к нему и уткнулась в плечо. Он даже не обнял ее.
— Соскучился, бедненький, — поняла она. — Молчун! Не признается сроду… Чего так исхудал-то? Как сухостой, скрипишь суставами, колешься… А? Никуда тут не бегал? Дома сидел? — спросила она, игриво закусив губу. — Может, к какой-нибудь бичевке сбегал без меня? Нет?
— Убежишь тут… от скотины-то! — сухим голосом произнес наконец Тихон. — То одно, то другое — весь день на колесах.
— Смотри, дружок! — погрозила она пальцем. — В другой раз придется расстаться хоть на день — запру тебя в доме, и сухарей, чтоб не пропал с голоду, оставлю мешок.
— Не будет другого раза, — пробормотал Тихон.
— Не будет, Тихон, — согласилась Клава, и, сразу же посерьезнев, отстранилась от мужа. — Иди к Феде, не тяни время.
Тихон, расправив голенища болотных сапог, побрел через проулок к соседу. «Не расспросил ее ни о чем, — жалел он. — С другой стороны, чего спрашивать? Если говорит, что все продавать будем, значит есть куда ехать. Зря ведь не скажет, не такой человек…»
Сосед не заставил себя ждать, прибежал тотчас.
— Беру, беру, — горячился он. — Кажи товар…
— Вот — покупай… Корова так на тебя и смотрит, — проговорила Клава.
Федя, высокий и жилистый татарин, обошел корову. Та встревожилась, точно поняла, что к ней прицениваются, заурчала, как собака, утробой. Она смотрела на хозяйку широко распахнутыми глазами, и такая тоска стояла в них, что Клава не выдержала и отвернулась.
— Дорого, цхе! — крутился Федя.
— Чего тебе дорого? — подошел Тихон. — Бери, пока отдаем. Это же не корова, а молочный завод.
— Не моку-у! — сопел татарин. — За такой деньгу трех лошатей можно купить.
— Ну, свиней возьми! — распахнул перед ним стайку. — Вон та… Как орех — так и просится на грех! А, Федя?
— Ты што? Свинью же нельзя мне!
— Подь вы к черту, — злилась Клава. — Всякую отраву пьют-жрут, а свинью брезгуют. Да у нее мясо-то… Во!
Федя развернулся и, сплюнув под ноги, побрел к воротам.
— Ну и вали, придурок! Через час припрешься — не продам… Помяни мое слово.
Но Федя выкатил за ворота.
Тихон беспомощно опустил руки да так и стоял среди двора, как истукан. Собачонки повизгивали, прижавшись к ногам хозяина, и готовы были по первому зову броситься вслед соседу, распушив, раскрутив свои грязные хвосты.
— Может, Юрка возьмет? Вроде серьезно собирается жить.
— Юрка? — с ехидцей переспросила она. — Да ему, пискуну, не корова нужна, а баба. С этими придурками не сговоришься; надо машину искать, чтоб отвезти скотину на мясокомбинат. Сдавать ее к чертовой матери! Не могу: за свой труд да кого-то ублажать, как капризного царька…
Корова даже жевать перестала. Она попятилась к колодцу, но не захотела возвращаться в загончик, — подняла голову и смотрела на ругающихся хозяев, которые наверняка что-то затевали. Корова понимала все, только говорить не умела, хотя они с хозяйкой понимали друг друга: одна плакалась и доила, другая слушала, перекатывая во рту жвачку, и доилась. Так было, но сегодня корова впервые уловила запахи какой-то неведомой ей жизни. Эти запахи пропитали насквозь хозяйку, и с ними, с этими запахами, она вдруг стала совсем другой. Корова впервые не могла понять ее.
И собаки не могли ничего понять: те же ноги, те же тяжелые, но теплые руки у хозяйки, а вот глаза — глаза куда-то пропали, исчезли глаза. По глазам бы они узнали о многом, именно по глазам…
Два дня бегала по городу в поисках грузовика. Техники навалом, а ни за какие деньги не допросишься: дачно-огородный сезон приблизился вплотную и техника завернула туда, где парили и прели частные земли.
Свиней оторвали с руками, но остались корова с теленком, которых они решили сдать на мясокомбинат. К корове даже никто не приценивался — просили теленка, но за полцены.
— Да пошли они все!! — горячилась Клава. — Я лучше его Томкиному «интернату» подарю, чем за полцены отдам. Не видят, что ли: от него же молоком пахнет, как от дитяти… Холили.
А время разбежалось так, что перекусить некогда было. Все быстрей, быстрей, все на бегу.
Машину наконец отыскали… И вот ждали ее, поглядывая из огорода на Велижанский тракт. Огород пенился, закисал, перепоенная земля пропадала.
— Запаздывает шоферюга-то, — обронил Тихон.
— Так вот… На них, на пьяниц, надежды-то никакой нет, — вздохнула Клава.
Вокруг нее с утра начали крутиться и корова, и теленок, и собачушки. Как будто они, неразумные, разгадали ее мысли и теперь изо всех сил старались разжалобить сердце хозяйки. Собачушки стояли на задних лапках, корова, вытягивая морду, лизала Клаве руки. И только бычок, невыхолощенный хозяином до сих пор, был бодрым и игривым. Он ничего не предвидел, а подходил и принюхивался к хозяйке потому, что подходила и принюхивалась к ней его мать.
— Ну, черти! — отмахивалась хозяйка. — Че я вам — медом намазана, что ли!
Но не отходили неразумные.
На тракте появился грузовик и долго, протяжно засигналил, как на похоронах.
— Ну, Тихон, айда! — обрадовалась она. — Гони их! Теленка-то бери удавкой…
— Не могу, — прохрипел Тихон. Он стоял в загончике, и веревка, скрюченная в руках, извивалась, как змея. Руки у него дрожали.
— Да ты чего, Кузьма, стоишь-то? Гони теленка! — кричала Клава. — Не вынуждай меня лучше…
Шумная, с высокою грудью, она могла сейчас навалиться на каждого, кто бы ей стал поперек, и подмять под себя. Она даже губы поджала, как перед броском. Но Тихон, разозлив себя, швырнул к двери веревку и топнул ногой.
— Не поведу! — сказал он. — В Обольск поведу, а на мясокомбинат — нет.
— То-о! Смотри-ка че он делает! — сплеснула, как утка на воде, Клава. — Да ты че его… в купе, что ли, повезешь? Давай, Тихон, по добру… Выводи.
— Я сказал, что нет. И не поведу, — крепчал Тихон. — Корову сдадим… Теленка не трожь! Ты за ним не ходила… — И притих: — Не надо туда, Клава.
— Да ты не городи! Не поведет он! Поведешь как миленький. Буду я тут с тобой рассусоливать.
— Не поведу…
— !!!
Она и бранилась, и умоляла, и плакала, но Тихон как сдурел: уперся — и ни в какую! Пока она поправляла веревку на корове, он приоткрыл дверь во хлев и втолкнул туда упирающегося теленка. Щелкнул замком, а ключ выбросил в огород. В грязи его сам черт не отыщет.
А грузовик все гудел и гудел, торопя хозяев. Может быть, Клава испугалась, что он укатит, не дождавшись их, или решила, что вторым рейсом увезут теленка — уговорит же она мужа! — но корова пошла к тракту, натягивая веревку, которой была привязана к своей хозяйке.
— Вот твердолобый-то! — ворчала та. — Уперся, шкалик! Прямо убила бы!
Тихон побрел за ними. Он тяжело дышал, но затягивался папироской с наслаждением.
Они молчали. Шли, не глядя друг на друга, как чужие.
Корову они загнали по широким сходням в кузов грузовика, и Клава, садясь в кабину, проговорила:
— Езжай сразу к мясокомбинату.
— А в ветлечебницу?
— Я еще вчера справку взяла, — ответила она. — Со слезами, но выпросила. Езжай.
К мясокомбинату они подъехали в самую жару, когда солнце беспощадно обрушилось на землю. Гудела раскаленная дорога, плавился и таял битум, прилипая к колесам.
У проходной их встретила женщина в белом халате. Она осмотрела корову, а потом уже заглянула в справку, — и разрешила въезд на территорию мясокомбината, спросив напоследок:
— Изо рта-то течет у нее… Как больная… Не болела?
— Не болела, — ответила Клава. — По такой жаре везли — вырвало бедную…
Приемщица отошла.
— Ну, вези! Уснул за рулем, что ли? — занервничала Клава.
Шофер газанул. А они молча шли следом за машиной.
— Собак-то куда? — наконец спросил Тихон.
— Черт его знает. С собой же в вагоне не повезешь, — отозвалась Клава. — Может, Харитоновна возьмет или Томка. Надо будет спросить у них. — И простонала: — Не могу я бросить их! Жалко ведь…
— И мне тоже, — признался Тихон.
Они опять замолчали. «Твердолобый, — с нежностью подумала она о муже. — Ведь как уперся, шкалик! С характером».
Грузовик вел их за собой. Они шли послушно, стараясь не глядеть на корову, всхрапывающую в кузове: она, заломив шею, тянулась к ним, казалось, вывернутыми ноздрями, красными и влажными, как арбузная мякоть.
Убойный цех… Здание из красного кирпича походило на городскую кочегарку: высокое, с пятиметровыми сплошными окнами, только без трубы и копоти.
Под дощатою крышей «привод» упирался в глухой забор, которым был обнесен мясокомбинат. Отсюда и подавали скот в убойный цех, как по конвейеру.
Перед «приводом», в загоне, трубили тощие коровенки и непородистые бычки, обалдевшие от зноя. Грязные и тихие, они бродили по открытому загону, тыкались мордами по углам в поисках клочка сена, но пусто было повсюду, забетонированная площадка парила, поливаемая мочой. Глухо. Зной. Стонет труба…
Цыганку спустили по сходням в загон, и она, сытая, гладкая прежде, не показалась хозяйке: точно исхудала в одно утро. Коровы потянулись к машине, не замечая чужачку, думая, что им подвезли корм. Но шофер цыкнул на них и поднял задний борт. Цыганка развернулась и стала с мольбой, неотрывно смотреть за хозяйкой, которая, охая и ахая, отдалялась от загона. «У-у!» — протянула корова, но хозяйка ускорила шаг, будто ее подстегнули, и не отозвалась никак на зов Цыганки. Даже не оглянулась.
«Так вышло… — думала она. — Я ведь никогда не сдавала скотину, а по чужому совету так поступила».
— Я побежала, Тихон, — бросила она мужу. — Ты хоть смотри, не проторгуйся тут без меня. Ради бога, не прошляпь ни копейки.
Тихон сунул в карман бумажки и с усмешкой посмотрел вслед супруге. Та, не оглядываясь, побежала к шоссе, на автобусную остановку. «Цоп! Эгей, цоп!» — доносилось до нее из-за высокого забора. И стонала, хрипела Цыганка, потерявшая свою хозяйку.
От внутренностей Цыганки Тихон отказался: «В трех ведрах не унесешь, — сказал он. — Да и не едим мы субпродуктов ваших». — «Не наших, а твоих!» — поправили его. «Тем более; родню нельзя кушать, и я не стану жрать родню».
Он вспомнил тот день, когда до обеда прождал Клаву с покупкой небывалой… А вышел навстречу, заволновался, осматривая корову, и что-то не так спросил. Тогда она ему влепила, женушка милая: «Че, не признал родню?» Конечно, не признал.
И вот, скатывая, как шинель, шкуру он вспомнил Цыганку. Глаза у нее были глупыми, и встречала она своих хозяев без особого подлиза: оторвется от кормушки, равнодушно посмотрит на Тихона, который волочет ей охапку сена, да опять — в кормушку… Но именно эта степенность, что ли, вызывала в нем невольное уважение к корове. А зачем, спрашивается, ей суетиться? Она ведь чувствует, что о ней заботятся, и как бы оправдывает эту заботу: не ест для того, чтобы брюхо набить, а ест-жует, чтобы молоко дать. Степенная! Не суетится, как человек-проныра, а ведет себя с достоинством, как и подобает хорошей корове. Если выгнали попастись, так в определенный час сама подходит к воротам и — му-у! А за ней и теленочек приходит, а за ним и свиньи… Нет, коровушка — это пример всем; и собаки-то будто переняли ее неспешную походку — к подворотне идут не спеша, низко опустив голову, точно приглядываясь к земле, готовые слизнуть свежую травинку, если та наросла.
Он побрел в бухгалтерию, куда его направили из цеха. Шкуру перекинул через плечо, как солдат скатку. Шел, шел да и задумался: «Шкура-то мне зачем? Малицу, что ли, из нее шить? Так ведь мы, неучи, сроду не сумеем выделать ее…»
Войдя в административное помещение мясокомбината, он поставил стоймя шкуру за дверь, а когда, довольный, вышел из бухгалтерии, то даже не вспомнил о ней.
Выпить ему «с устатку» не хотелось. Но помолодевшие березки, что распускались повсюду, напомнили вдруг ему о березовых вениках, о баньке, которую он любил. И так ему захотелось прямиком, никуда не заворачивая, ехать домой и затопить там баньку, что он даже о жене вспомнил с раздражением: черт возьми, ведь она ждет на рынке! Сроду у них все не по-людски… Ну, при чем здесь рынок-то? Сразу надо было домой ей отправляться…
28
Тихон должен был заехать за ней на рынок. Она сбегала на работу, сделала там все дела и вернулась в центр. Жарко было, душно. Поневоле пришлось толкаться возле автоматов с газированной водой. Выпила стакан, другой…
В ларьках распаковывали картонные коробки с рыбными пирожками, и вроде бы есть хотелось, но она все-таки отказала себе. «И так толстая, хоть на диету садись». Тихон часто поддевал ее по этому поводу: «Вот потеряешь страховую сумму, — говорил он, лукаво прищурившись, — и тебя отвезут куда следует, тогда и похудеешь сразу. Там, во сырой камере, веками испытанная диета». Шибздик, недомерок, а кусать любил всегда. Нынче чего-то притих… Скажешь: «Устала я, Тихон, ноги не несут…» — а он уж, бывало, с ухмылочкой желчной: «Конечно… Кто с этим спорит! С камвольно-суконного вернулась, отработала там две смены кряду». Не поймет, стервец, что и с сумкой набегаешься в поисках страхователей — жизнь не мила, глаза ни на что бы не смотрели, а тут еще надо корову подоить…
Нечаянно совсем наткнувшись в мыслях на корову, Клава чуть не разрыдалась. Но стыд, охвативший ее, как бы загнал внутрь эти слезы.
Больше всего было стыдно капитана Ожегова, соседей. Хвалилась перед участковым: что нам стоит дом построить!.. Мы все сможем, и врастем в эту землю, как колоды под гулкими наковальнями… Не вросли, не получилось… Обидней, что убегать приходится по-воровски: молчком, с оглядкой да на цыпочках, будто сзади в любой момент могли окликнуть их, скрутить и призвать к ответу. В чем грешны-то? Ни в чем вроде не грешны. Тогда почему бежите от людей? Разве не в этом домике справляли новоселье? В этом, в этом, и капитан Ожегов может подтвердить, что в этом…
Самое время переброситься на участкового и обвинить его во всех земных и небесных грехах. Так она и поступила. Сразу же припомнила, как Ожегов пришел к ним в тот день и отказался не только от застолья, но даже от стопки, которую был обязан осушить до дна. Побрезговал, значит… Он побрезговал, а у них с Тихоном все рухнуло. Стойки, тощие, как рыбацкие тычки, выдержали и несут на себе крышу, а вот они, Клава с Тихоном, подогнулись и идут в полунаклон, как тени: ноги — колесом, лицом — к земле, и страшно поднять глаза. Не украли ничего, никого не осрамили, а стыд не отпускает.
Она обвиняла участкового в своей неудавшейся жизни на новом месте, как будто он ей поставил подножку и она, наткнувшись на эту подножку, упала вниз лицом.
Ничуть не меньше было ей стыдно соседей. Ратовала за крепкую жизнь, глотку рвала, доказывая соседям, что они размахнутся со временем и здесь, на болотной жиже, заживут по-человечески, только не ленись. Крику было много, возни тоже, и к этому крику привыкли, почитай, в околотке — и вдруг наступит идеальная тишина, точно и звуки-то все выйдут, как выходят к весне корма для скота. Как же, мол, так, Клава? Обман?.. Соседи бросятся за ней, и на вокзал они придут, побегут за поездом, размахивая на ходу: «Эй, как же так? Ты куда, прорабша? Кто ж теперь жизнь-то новую поднимать будет на болотной жиже? А?!»
На рынке по-прежнему толпились люди. В последнее время они перестали посещать кинотеатры города и магазины: рейды нарядов милиции, очищающих днем и кинотеатры, и магазины, заставили народ насторожиться. При виде милицейских машин люди невольно поджимались и шныряли в подворотни. На рынке же их не трогали.
Тихон появился неожиданно. Потный и всклоченный, он стоял вблизи ворот и, вытягивая шею, пытался заглянуть через толпу… Клава первой заметила его и обрадовалась.
— Окружай их, тискай их, дави, дави, пьяниц! — по-детски ликуя, прорывалась она к мужу. — Не выпускай их из кольца! Тесни к забору, пьянчуг таких!..
Тихон едва отбился от нее.
— Присядем где-нибудь, — сказал он. — Ноги не держат.
Они отошли в сторонку и присели на пустые ящики. Под ногами шипела стружка. Клава сосредоточенно стала пересчитывать деньги, а Тихон, насупившись вдруг, вздохнул:
— Не такой уж я пьяница… Просто собираю все неприятности в кучу и смываю их водкой. Потом опять хорошо живу, без мук.
Она его не слушала.
— Это у меня как запой, — продолжал он. — А запой приходится на время болезни душевной… Не как, допустим, ревматизм, хотя тоже мучаюсь, а другое совсем… Да нет, не другое, — оспорил он самого себя. — Так и есть — ревматизм! Заболит — вот я и лечусь. А ты думаешь, что мне выпить охота, как жрать? Мол, пришел час обеда — и подавай обед? Выпью — и боль проходит, — вырывалось из сухого горла. — А там остается занять свою душу чем-нибудь… Такой человек, если ему удастся занять чем-нибудь свою душу, как ребенок, спокоен. Даже счастлив! Он не будет уже кричать…
— Ты о чем это? — спросила Клава. Она пересчитала деньги, и по всему было видно, что осталась довольна. — Про что ты тут «тихо сам с собою», а?
— Я говорю, что занятый делом человек ни пить, ни кричать не будет, — повторил Тихон.
— Правильно, — согласилась с ним Клава. — Не надо кричать… Ну, выпил, допустим, а кричать-то зачем? Зачем оскорблять всех и обливать грязью?
— Да я тебе не про то!..
— А я — про то, — светилась она. — Ты даже признаться не хочешь, не желаешь согласиться со мной, что болен, и болен серьезно. Тяга к выпивке — это же болезнь! Чего ее стыдиться? Ее лечить надо, с ней надо бороться сообща…
Да, она действительно не слушала его, когда считала деньги. Но и он не стал повторно пересказывать свой монолог.
— Впору хоть купаться, — заметил он. — Дурацкая эта жара… К вечеру бы баньку истопить, попариться… Одежда к телу прилипла.
Клава развернула ящик, присела покруче, подобрав ноги под себя, чтоб не завалиться на спину. Жара ее допекла. Но люди продолжали шнырять туда-сюда и все тащили, тащили перегруженные всякой всячиной сетки и сумки, как бы говоря друг другу: если зиму пережили, то с весной-то уж как-нибудь поладим. Она, весна, да к тому же такая ранняя, всегда сговорчива и хлебосольна: вывернула погреба, распахнула картофельные ямы — не желаешь южных плодов, так бери местные соленья и варенья, картошку и морковь, грибки сушеные… Клава всегда поражалась терпению людскому: сами не едят, всю зиму на суповых пакетах сидят, но весной выкатят и вскроют бочки, чтобы содержимое их тут же распродать чужим людям. Она так бы не могла, она не понимала: как это — работать, сжигать себя, а на питании экономить?
Тихон расстегнул на груди рубашку.
— Пропаду… Пить хочу, но боюсь: выпей стакан, а там не остановишься, — проговорил он. — Рубаху хоть выжимай… Прилипла к спине, как пластырь.
— То-то! А я забыла тебя обрадовать! — спохватилась Клава и склонилась над сумкой. — Рубаху тебе купила… самую модную — в полоску… В палатке-то из-за них давились.
— Но ты, конечно, растолкала всех…
— Что же я, своему касатику да не куплю! — улыбнулась Клава. — Бог, думаю, с ним, отдам семнадцать рублей, так он у меня будет ходить по моде… Как путный. Смотри! Красивая какая… А?
Она вытащила из пакета рубашку и развернула. Перед Тихоном лежала безрукавка — серая, в крупную зеленую полоску. Безрукавка была распашной.
— А че! Тебе хоть посвободней в ней будет, — уверяла Клава, разглаживая на коленях дорогую покупку. — Три кармана… есть куда папиросы класть, спички. Нравится?
— Нравится, — недовольно отозвался он. — Изношу до осени. Погода бы только стояла добрая… В полоску-то даже приглядней: не скроюсь с глаз, не убегу…
— Да беги, мне что… — отвернулась она. — Тебе все не нравится. Что бы ни купила, все не так. Ядовитый ты человек…
Она собрала по старым складочкам безрукавку и сунула ее в пакет.
— Ты не сердись. Я просто вспомнил сразу… Как в кино этих показывают — военнопленных, — утешал он жену. — Они там в таких же примерно курточках, только с рукавами… полосатики. Кепочку бы еще такую же… в полоску.
— Смешно дураку, что рот на боку. Смейся…
Она заметно огорчилась, и Тихону стало жалко ее. Он протянул к ней руки…
— Убери, убери… Знаешь, я не люблю этого, — отстранилась она. — Смешно тебе, дурачку…
— Конечно, дурачку! — согласился он. — Кто бы спорил! Другой бы кинулся доказывать обратное, божился бы, клялся, что он умный, а я — нет! Сказала, что дурачок, — значит и вправду дурачок. Не сердись. У нас еще столько дел впереди!
— Какие дела-то? — фыркнула она. — О продаже я все объявления уже расклеила. Сейчас домой поеду…
— А я?
— Как хочешь… И хватит тебе дурачиться-то, — не смирялась Клава.
— Обидчивая слишком… Шуток не принимаешь, — притих Тихон. Петушился тут, подпрыгивал на ящике и разом сник.
— Трудный ты человек, Тихон, — проговорила Клава. — Желчи в тебе много. Так много, что и мне перепадает… такая горечь.
— Хватит тебе!.. Что ты, как… — подпрыгнул Тихон на ящике. — Да изношу я твою рубаху, изношу! Не такие носил… Поехали: мне баню топить надо.
Он встал и отряхнул брюки. Стружка налетела даже за отворот рубашки — он отдирал ее, как репей. На остановку отправились через рынок, открытый, как толкучка: ни одного навеса, чтоб спрятаться от солнечных лучей, палящих беспощадно.
Тихон приотстал от жены и подошел к грузину, высвобождающему из фольги настоящие яблоки. Крупные, в хорошем цвету, они появлялись на прилавке, и торговец брал их осторожно, как елочные шары, чтобы насухо протереть. Яблоки, оказывается, были чем-то смазаны на зиму, а потом уж их, очевидно, заворачивали в фольгу.
— Так только хранатца, — пояснил мужчина, похожий на кавказца.
— У меня рубль, — замялся Тихон. — Хватит на одно?
Тот выбрал самое маленькое, но красное-красное, и, улыбнувшись, взвесил для порядка.
— Хватыт, — ответил он. — Забырай…
Тихон протянул ему рубль и взял с весовой чашки яблочко. Он догонял Клаву и одновременно, на бегу, вытирал носовым платком яблочко. Смазка прикипела к шкурке. Тогда стал Тихон поплевывать на него и изо всех сил натирать платком упругую кожицу — и она заскрипела в его руках, как снежок.
Он наконец догнал жену и, ничего не говоря, протянул ей руку.
— Ну, Тихон… Напугал меня! — смутилась она. — Думаю, кто это там набегает, как самосвал.
— Торговался долго… Несговорчивый, черт, попался, — как бы оправдывался Тихон, следя за женой.
Та зажала яблочко в руке и шла, гордо неся свою голову.
На остановке она вдруг спросила:
— За сколь сговорился-то?
— Рубль отдал.
— До-о-рого, — протянула она. — Сказать-то ему не мог, что дорого?
— Не могу я… Думал, что сам поймет… — смутился Тихон. — Чего говорить! Он же не навязывался… Сам.
— Робкий ты, слабый, — вздохнула Клава.
А самой приятно было. Она чувствовала, как такие же бабешки косились: вот, мол, мужик-то у нее какой внимательный! — и с грустью отводила глаза. А яблочко посверкивало в ее руке, радовалось. А когда Клава поднесла его ко рту да надкусила…
— Ниче, как свежее… — похвалила она. — Только вот, как у коровы нашей сосцы, припахивает вазелином. Где вывалял-то?
Тихон не мог с ней больше не только разговаривать, но и рядом находиться, в двух шагах. Он сверкнул глазами и перешел на другую сторону пятачка. Здесь он достал папиросы и закурил, нервно поглядывая туда, откуда должен был появиться автобус.
Воробьишку он накрыл в предбаннике. Тот пролез сюда довольно-таки свободно: почва играла, потому и дверь перекосило, выперло из коробки — в образовавшуюся щель можно было руку просунуть. Маленький воришка возился в тазу, где прежде размачивали сухари для пойла, собирал крохи. Тихон набросил на таз свой пиджак и, присев, выбрал из него, как из невода, бедную пичужку. Он держал ее в ладони и чувствовал, каким бойким, горячим было ее пушистенькое тельце.
— Ну, как же так, брат? — улыбнулся Тихон, дыша на пичужку. — Стыдно — попал за сухарь!..
Он вышел из предбанника, но воробьишку не выпускал.
— Чего ты там? — спросила Клава. Она стояла возле крыльца и ладила пойло теленку. Когда вышел Тихон, разговаривая с кем-то, разогнулась над ведром. — С кем говоришь-то?
— Воришку поймал в тазу, — позабыв обиду, улыбался тот. — Попался, можно сказать, за крошку. Я говорю: уж стащил бы у мамы Клавы мешок комбикорма, не обидно бы было пропадать.
— Куда ты его… кошке?
— Нет. Отпущу… — И разжал ладонь.
— Ты дров-то не жалей — топи березовыми, — посоветовала Клава. — Теперь чего их жалеть.
Он гремел колодезной цепью, поправляя кольцо на дужке ведра. Клава подошла к нему поближе и тронула за рукав.
— Бычка-то вправду погонишь? — почти шепотом спросила она.
— А че шептать… Погоню! — опускал он в колодец ведро. — Дня за два, если не перекуривать в каждой деревне, доберусь.
Пусто было в хлеву. Прежние запахи почти выветрились. Теленок стоял в углу и спокойно жевал сено. А когда вошла хозяйка, выдернул из кормушки голову и смело шагнул к ведру.
— Не торопись… Пей, — погладила она его, потрепала за ухом.
Теленок присосался. Хозяйка стояла над ним и с грустью смотрела, как он пьет.
— По матери-то не тоскуешь? — спросила она. — Плохо, знать, тебе… Сердце-то все равно болит. Ты без матери, а я без сына…
Всхлипнула, но не заплакала. После встречи с Куликом уверенность в скором свидании с сыном не покидала ее. Она даже переросла в спокойствие, эта уверенность, и Клава крепко спала ночью. Дня через два-три она придет на Панин бугор — и ей приведут ее теленка-молчуна. Что принести в передаче, она уже знала, сотню раз мысленно перебрала сетку, взвесила каждый сверточек с едой, схитрила: не пять килограммов принесет, а хотя бы пять с половиной. Земляк же, не откажет…
Баня топилась, и, точно на дымок, повалили соседи. Тихон, здороваясь с ними, кивал на окна: мол, проходите — Клава дома… И те проходили — тихие и задумчивые, как будто шли одалживать до получки и не знали, с чего начать этот унизительный для себя разговор.
Над хлевом скрипели работяжки-скворцы, не оставляя своего скворечника без присмотра ни на минуту.
Тамара была, как всегда, крикливой и непоседливой.
— Расщедрись, — прижимала она Харитоновну. — Вытащи из подпола чего-нибудь. Клюкнем помаленьку.
Харитоновна, будто смутившись, отводила глаза.
— Жмешься, старая! — кричала Тамара, растопырив свои длинные пальцы. — Если бы я пробилася в артистки, вы бы у меня пили лучшие вина. Я добрая, щедрая… Приходите ко мне — увидите.
— Не кричи ты, Томка, — поморщилась хозяйка. — Глухих нету.
— Да вы придите ко мне, посмотрите, как я живу, — чуть ли не обиделась Тамара. — Не богато, но на стол выставлю все, что имею, до последней крохи… Харитоша, неси настойку! Не принесешь — пойду в милицию и заявлю на тебя как на самогонщицу. Поняла? Не поняла, значит. Так… — Тамара прищурилась, скрипнула на табурете и махнула рукой: — Черт с тобой, скупердяйка! Айда ко мне… Если рыжий не выпил, то там осталось грамм пятьсот. Пошли!
Она уже поднялась и направилась к двери, когда Клава, схватив ее за руку, отказалась:
— Нельзя пока… Баню топим. А с хмельной головой кто на полок лазит! Ты че это, Христос с тобой.
— Угостить хотела… Брезгуете?
— Перестань… Не транжирь денежки: дочери старшей на приданое копи, — усадили ее на табурет. — Восьмой ведь заканчивает, невеста почти…
— Скоро приедет, — смирилась Тамара. — В интернате у них хорошо-о…
— Порядок там, конечно… — вздохнула Клава. Может, и ей вспомнился тот интернат, куда она давным-давно отвозила на рыбных подводах дочку. Ослепла на миг, но забыться ей не дали… Тамара понесла.
— Вы можете меня презирать, что я дочку отдала в интернат, — проговорила она. — Но там ей лучше, дочке… Для меня интернат не тюрьма какая-то, а — учеба, труд: они ведь там вечерами в больнице подрабатывают. Понимаете: дочурка моя уже зарабатывает себе на хлеб! Копейки ведь с меня не возьмет, когда уезжает с каникул… И я горжусь этим! Другая бы тянула, наплевав на братьев и сестер, а дочка не возьмет сроду… Наоборот: «Мамка, я гостинцы ребятишкам привезла!» — вот как. А я и не стыжусь, что она у меня в интернате! — волновалась Тамара. — Да такая жизнь в тыщу раз лучше и богаче, чем сидеть на узлах в тереме, сидеть с полным ртом картошки… Лучше впроголодь, но знать себе цену. А то кругом одни господа… Живут, как в капиталистических странах — замашки крутые, запросы — с девятиэтажный дом, но где, где, сволочи, живут и кого сосут? Наша-то система — не капитализм: она не обороняется от наглецов, так устроена — на доверии, а они, сволочи, рвут, растаскивают все… У нас какой-нибудь склад обчистить — это как котенка раздавить, никто за него не постоит, а там, у капиталистов, руки-то тебе сразу обломят но локти. Стыдно, девки, ох как стыдно жить рядом с такими наглыми людьми. Будто и не в России живешь… Покарай меня бог…
— Пойду я, — сказала Харитоновна, приподымаясь с табурета.
— Давно бы! А то сидишь, жмешься… Я ведь за что тебя люблю, Харитоновна, — потянулась к старухе Тамара, — за то, что ты наш советский человек, я тебя люблю.
Пар был резкий и прозрачный; внутри его, как в морозном воздухе, посверкивали какие-то искорки, лопались пузырьки. Тихон мелко-мелко дышал, как будто боялся обжечь нутро. Тело, обожженное веником, вспыхнуло, и он запрокинулся на полок, задирая кверху красные ноги. Ему было хорошо, он пел, купая себя в первом жару, в первом, но и, к сожалению, последнем.
Клава взяла ковш. Кирпичи, облитые кипятком, зашипели, и баню окутал бело-молочный клуб пара. Жару больше не было… Из-за печки они разругались: Тихон умудрился ее так сложить, что даже кирпичи, находящиеся под огнем, не прокалялись — после четвертого ковша они чадили, как притушенные костры, дышать было нечем.
— Че, истратил, на себя жар-то, — проговорила Клава, разводя в тазу кипяток. — Только о себе думаешь.
— Иди сюда, родная, иди, — фыркал он с полка. — У меня всегда найдется для тебя место в душе.
— Нужна мне твоя душа… Хоть на полке-то место дай! — Она поставила таз и взобралась на высокий, как тумба, полок. На этом полке, чтобы сидеть, надо было согнуться в три погибели. «Кругом одни неудобства. Сколько материалу зря перевел».
Тихон объяснялся с нею уже много раз, признавал свои ошибки: не плотник же, мол, конечно, допустил просчеты, но и эти просчеты удивительны по своему исполнению — все гладко, все ровно, как отшлифованное. Старательным он был мужиком, если уж брался за что-то — делал на совесть. Поэтому негде было споткнуться, тем более занозить палец. Насчет удобств — это уж просчеты в замерах, неточно подогнал, не рассчитал, отсюда — там высоко, здесь низко, и с печью так же: кирпичи остывают быстро… Если бы заново строиться, тогда бы он не допустил ни одной ошибочки. Любой опыт приходит с годами, и не только — необходим беспрерывный трудовой процесс по специальности. «Не в плотники же мне идти! — оправдывался он. — Но если скажешь, то пойду… Лоб расшибу, а сделаю, как ты повелишь».
Неудачная баня. Но Клава мылась в ней всегда с большим удовольствием. При тихом, молочном паре, когда он прикипает к отпотевшему оконцу, как иней, хорошо тут плескаться. Люди по-разному смотрят на баню. Слабые не терпят ее, сильные любят и стараются приохотить к ней отпрысков своих. Тихон как раз был из породы сильных, любящих жаркую баньку. Потому он всегда приходил первым и «воровал» первый жар. Клава понимала его и кричать не кричала, если запаздывала минут на десять: пусть бесится, шибздик, выбивает дурь из себя.
На дворе смеркалось. Лампочка, светившая над окном, качалась в тумане, как поплавок на волне.
— Ноги в тазик ставь, — смягчилась Клава. — Вон он, на лавке.
— Ради тебя я не только в тазик — в Туру брошусь, — продолжал дурачиться Тихон. Видимо, крепко влетел в настроение. — Ты только не толкай меня… Я сам.
— Без костей язык-от… Че тебе, молоти, — успокоилась она. — Сроду не устанешь.
Тихо было, спокойно. Только вода плескалась да во дворе, шарахаясь к воротам, урчали собачушки.
Тихон сидел на краешке полка. Теперь он никуда не спешил. Вода в бачке была.
Он потер Клаве спину, окатил водой, а потом вдруг спросил:
— А собак-то куда?
— Никуда. С собой повезу. Посажу их в коробку — и в вагон, — ответила она, и голос у нее был серьезным. — В космос такие же летали, а мои — чем хуже? Доедем как-нибудь.
— Доедете, — согласился Тихон. — А я уж как-нибудь дойду. Может, верхом на нем поеду. На теленке-то.
Замолчали. Каждый понимал, что не так-то просто переехать на новое место: не новое место пугало, а вещи, весь этот домашний скарб, но кроме всего еще и скотину надо было перевозить. Зачем? А бог знает. Если бы только тряпки-деревяшки переезжали да люди, накопившие их, отправлялись вслед за ними, а то ведь и души едут, не желая терять того, к чему так привыкли. Из головы можно все выбросить, а душа — нет, она так просто не отдаст ничего, и с ней не поспоришь. Она может толкнуть тебя, разумного человека, на самый дурацкий поступок, и ты, обузданный ею, пойдешь, еще как пойдешь. И Тихон прекрасно понимал, на какую глупость он идет, но когда представил себе Клаву: вот она вошла в вагон, отыскала свое место, села, а на коленях — картонная коробка, из которой торчат глупые мордашки Динки и Крошки, — представил себе — и расхохотался.
— Не упади с полка… Смеху-то сколько… — с удивлением взглянула она на мужа. — Совсем уж одурел. Садись ближе, хоть спину-то тебе шоркну…
Она повернула его боком, оглядела с прищуром, как будто собиралась стричь, и сказав: «Наклони голову-то!» — навалилась с мочалкой. Высокая пена, хлюпая и взбиваясь, легко затягивала пропаренное тело мужика, и он не сопротивлялся тому, что его мыли.
— Сиди! Я с тебя всю грязь смою, — говорила Клава. — Все притоны, все запои, все скандалы сдеру, как коросты… Ты у меня чистеньким будешь… В Обольске грязнули не нужны: там уважают трезвый и работящий народ. Вот так тебе, гаврику… Не крути башкой-то, не крути…
Пар потихоньку высквозило. И только от лампочки падала молочная полоса, широкая, как полотенце. Клава, крупная, мясистая баба, натирала мужа мочалкой, и тот торчал из пены — недовольный, с по-детски капризным лицом.
— Я тебя доведу до блеска… Все грехи смою, — напирала она. — Я тебя отшоркаю и отскребу, как законченную сковородку…
Тихон, крепко прижатый к полку, не вырывался.
— Терпи, дружок. Шкуру с тебя никто не сдирает — грязь сдираю, — разошлась она. — Вся тут ласка моя, вся любовь… Вся тут правда моя и обида! Не крутись, а то ошпарю кипятком.
Березовым веником пропиталась баня. Березою пахло так же густо и плотно, как пахнет от поваленной сосны — хвоей, смолой… На этот запах не натыкались, как вначале, — его вдыхали вместе с паром, обмякшим вдруг.
А после бани пили чай. Вдвоем Клава не очень-то любила баловаться чайком, но свежего молока на столе больше не было.
— Если придут покупатели, — наказывала Клава, — ты уж, Харитоновна, дай мне телеграмму.
— Дам, дам… Не переживай даже, — обещала старуха. — А вещи-то как повезете?
— Контейнер железнодорожный заказали, — ответила хозяйка. — Нагрузим его, загрузим здесь, а там распакуем. Удобно так…
День был тихий и теплый. С утра заходил Юрий Иванович, попрощался на всякий случай.
— Ну уж… если что не так, — помялся он, — то не серчайте. Пойду на работу.
— Давай, писклявый мужичок, топай, — улыбнулась Клава, подавая ему руку.
— Тихона-то не грызи, — уходил Юрий Иванович. — Че он тебе, калач, что ли. Бывайте…
И, важный, с расправленной грудью, побрел к тракту.
Томились в ожидании контейнера. А когда тот пришел, начали таскать на себе весь домашний скарб — туда, к дороге. Хлюпая по болотине, проклинали топкую окраину, не просохшую даже в такую жаркую пору.
Тихон проводил жену на вокзал. Он не стал дожидаться поезда на Обольск, всучил ей коробку с собаками и, не приласкав никак, вышел из зала ожидания.
Дома он соберет рюкзак с провизией, с вечера побреется и ляжет спать, чтобы подняться на заре и выйти с теленком за черту города. С вечера же он мысленно изучит и проверит свой маршрут и останется доволен: за час с небольшим выберусь… Ночью его разбудит кошка. Он откроет глаза и почувствует, как она дышит вблизи его лица — теплая и спокойная. Он погладит ее и пообещает: «Харитоновна тебя возьмет к себе… Спи, и ничего не бойся».
Больше он не уснет.
29
Местные власти перестарались. Крикливая и бестолковая возня вокруг «казарм», когда переселяли работников камвольно-суконного комбината в малосемейку, а затем и размашистый, жгучий, как нагайка, рейд по наведению порядка в дневном городе привели к тому, что народ куда-то исчез. Город опустел, ни души на улицах и в скверах. Так здесь бывало только тогда, когда наступал сабантуй и с раннего утра люди уходили на Казачьи луга, чтобы попеть, поплясать, поторговаться у ярмарочных рядов, где всего было вдоволь. Но этот летний праздник задушили в последние годы Днем молодежи, а молодежь не смогла слепить из своего праздника даже подобия… Наступила дикая пустота, перегруженная воздухом, а не людьми. «Меньше народу — больше кислороду»… Нет, без привычной сутолоки тяжело передвигаться по городу, ни на кого не натыкаясь. Опустели магазины и кинотеатры, в городском саду не поскрипывали, как прежде, качели, даже колесо обозрения завязло в небесах, как будто больше нечего было обозревать и некому. По знойным улицам ползли осторожные автомобили да изредка шипели автобусы, по привычке останавливаясь в нужных местах. Странная опустошенность. Точно всех жителей города свезли в инфекционное отделение областной больницы. Те же улицы, те же дома, а человека не встретишь… Многочисленные главки, тресты и конторы стали почему-то работать с зашторенными окнами, как засекреченные, даже наглядную агитацию поснимали со стен — затаились. Только управление торговли не сменило козырька, обтянутого кумачом, но лозунг все-таки переписало: «Да здравствует народ!» превратился вдруг в иную связку — «Да здравствует наша родная партия!» Шрифт стал помельче, но новый лозунг, видимо, успокаивал работников управления — у них даже окна были зашторены наполовину, да и то только в первом этаже. Кое-где мелькали приземисто-белые фигурки милиционеров, для которых уже прозвучала команда «отбоя».
Но город по-прежнему где-то прятался, как куропатка от ястреба, чтобы в очередной раз не оказаться в милицейском автобусе, который бы доставил его в отделение милиции, а там бы опять стали «пытать»: «Кто таков? Почему в рабочее время шляешься по улице?» — а он бы, перепуганный, сбивчиво отвечал: «В магазин спешил… думал рубашку купить… носки… галстук… Вечером-то они не работают!..» Конечно, его бы отпустили, предупредив, чтоб не болтался впредь по городу в дневное время, — но — зачем лишний раз рисковать? И без того наказан: остался с окладом, премию смахнули…
Восприимчивые же ко всему люди, оказавшись в самой гуще обывательских прогнозов, «заболели» неведомым доселе состоянием… Старики бросились к ним на помощь, разъясняя, что так было до войны, до последней бойни… В конце концов «диагноз» был установлен точный: это неведомое состояние, это неудобное чувство оказалось чувством страха.
Тогда-то и местные власти, испытав, может быть, этот же самый страх, дали «отбой». Но об этом никто пока не знал, как не знали и о начале проведения столь «блистательного» рейда.
«Отбой» дали, но вот как теперь выманивать из своего убежища перепуганного горожанина, остается вопросом. Через газету? Какой же дурак поверит редактору?
И в Нахаловке капитан Ожегов никого не встретил. Правда, цыганки, обвешанные грудными детьми, по-прежнему торопились на «работу». Поравнявшись с участковым, они дружно поприветствовали его: «Привет начальнику! Дай бог тебе здоровья и орденов…» Бодрые и торопливые, они направлялись к автобусной остановке.
Цыганки скрылись за тальником, и Ожегов, оказавшись опять один, позабыл, о чем думал. Благие мысли не отвлекали его, не захватывали. Пустой проулок воздействовал на участкового, как тайга на осторожного зверя. Он даже не шел, а крался, прислушиваясь к каждому шороху.
Коровы не мычали; вечно голодные поросята не визжали в онемевших дворах, как будто им разрешили отсасывать коров, лишь бы заткнулись и не навлекали на своих хозяев ожеговского гнева. Казалось, что и скворечники опустели.
Но Нахаловка не была бы Нахаловкой, если бы в ней в такую лихую пору не нашлось бунтаря: на самом въезде некий бунтарь содрал пятиметровый щит-плакат и заменил краснощекого рабочего, орущего «Слава советскому народу!», огромным портретом Сталина. Ожегов не притронулся к портрету «отца».
Он побывал в городе, обошел Нахаловку. Безлюдье, угнетавшее многих, было ему на руку: не надо смотреть людям в глаза и объясняться с ними. Вот только бы заглушить в себе, как изжогу, саднящее чувство — не то стыда, не то неловкости. Он понимал, что питьевая сода здесь не поможет…
Мимо Клавиного дома прошел, опустив глаза. Руки прижал к бедрам, шаг ускорил, и все ему казалось, что не успеет прошмыгнуть — выйдет из ворот хозяйка и прокричит на всю округу: «Здравствуйте, товарищ капитан! Почему не заходите? Милости просим!..» Сильная, громкая баба разорвалась бы тогда, как бомба. «А что я бегу-то? — злился Ожегов. — В чем моя вина? Тю, дурачина, тю! — как бы подгонял он себя, боясь, что скрипнут ворота. — Рвем когти, рвем!» Он не знал, о чем бы стал разговаривать с Клавой, да и стал бы, если в душе его уже объявился старый знакомый — двойник, молчаливый и жестокий, как солдатский сапог. Это он его давил и топтал в последние дни, не ведая усталости…
Но Клава, слава богу, не вышла из ворот. Тихона тоже не оказалось поблизости. И только краешком глаза он успел уловить, как дрогнула и расправилась шторка в окне Харитоновны: старуха, очевидно, следила за участковым из окна.
— Ну, эта ничего, — нарочно вслух подбадривал себя капитан Ожегов. — Этой хоть палец на ноге отдави, она промолчит, слова тебе не скажет, не то чтоб там возмутиться. Хорошая, милая старушка, — нахваливал он Харитоновну.
Теперь надо было пройти еще метров тридцать, чтоб оказаться на вольной волюшке. Но у Тамариной хибарки заголосили…
«Этих не обойдешь, не объедешь! — сплюнул участковый. — Торчат в проулке, будто нарочно поджидают… Что же она там выбивает? Диванчик?..» Он приближался к Тамариной «даче».
— Со свалки привез тахту, — проговорил Аркадий, взглянув на участкового. — Томка выбивает из нее микробов.
— А ты почему в ограду не заходишь? — остановился Ожегов. — Помог бы ей.
— Зачем под горячую руку лезть, — она с палкой, — ухмыльнулся рыжий Арканя. — Вон какая свирепая.
Тамара, привалив тахту к колодцу, березовой доской выбивала из нее пыль. На голос участкового она не оглянулась, как будто не слышала, как тот подошел и остановился возле мужа.
— Старательная баба, — похвалил Ожегов. — Хочет, чтоб в доме ее все было. Аккуратность любит. Как фрау!
— Не фрау, а фрайер! — закатился Арканя. — Только с пузой…
— Да? — удивился капитан. Но даже на улыбку, чтобы хоть как-то поддержать Арканю, у него не хватило сил. — Да?! — повторил он и, засуетившись, полез в карман за папиросами.
— Да! Да! — крикнула Тамара, отбросив в сторону доску. Она повернулась к мужикам: — Да, я рожала и буду рожать рабочих, чтоб выжить власть сытых. Иначе они погубят наш строй.
Ожегов промолчал, посасывая «беломорину».
— Лет эдак через десять, — продолжала Тамара, — детки мои вырастут, пойдут работать на завод, — тогда-то мы и отпразднуем первую годовщину нашей революции. Почему? Да потому, что они станут истинной силой пролетариата. Наш строй придет, я поживу при светлом и честном строе моих детей-тружеников. Я им дам среднее специальное образование, а вместо высшего — душу. Таковы мои планы, товарищ Ожегов, — говорила Тамара. — Сил своих не пожалею. А свалка?.. Да ладно, она ко мне не присохнет! Нищая я не по своей воле, по вашей… И уматывай отсюда, не сверкай кокардой! — вдруг разозлилась она. — Брехун, подлец, петух!.. Аркашка хоть мой на пьяную голову лютует, а ты — ты трезвый угнетаешь народ. Ты страшен, Ожегов, но я тебя не боюсь. За мною стена — дети, а за тобой? Пошел вон, коршун!.. «Фрау!» — передразнила она. — Да, фрау, а ты… Сделай вид, что тебя ищут! Ну!..
Тамара притопнула — и беспородная собачня, как бы исполняя ее команду, бросилась к перекосившимся воротцам, залилась звонким лаем. Даже кошенка, с обмороженными ушами запрыгнула на столб и оттуда, изогнувшись в дугу, проурчала на участкового.
— Тиха! — потребовал хозяин. — Своих не узнаете, зверюги! А ну под лавку!..
Но его никто не слушал. Пришлось наклониться и поднять с земли увесистую палку.
«Теперь бы попить чаю и заставить себя забыться, — подумалось Ожегову. — Заснуть бы». Осунувшийся, с пожелтевшим лицом, как будто его угнетала язва, он шагал к Велижанскому тракту, и не о Тамариной озлобленности думал, а о чем-то таком, что его угнетало пострашней желудочной язвы. Всякая боль невыносима наедине, но ему хотелось поскорее именно уединиться — посидеть в своей комнатке с зашторенными окнами, как на холодке, отогнать изжогу, раздирающую его грудь.
Жена почему-то не сразу открыла дверь.
— Чего копаешься! — недовольно пробурчал Ожегов, переступая порог. — Видишь, я с обхода вернулся. Понимаешь, с об-хо-да?!
— Да ты что?! — как бы удивилась супруга. — А я думала, что с фронта прибыл. Вот, думаю, какая радость — дождалась. — И недобро улыбнулась: — Может, хлеб-соль поднести!
С такой разговаривать — себя не уважать. Потому капитан Ожегов, скинув сапоги, сразу же прошел на кухню.
Он сидел за столом и пил горячий чай. «Купчик» не веселил, но было приятно обжигать себя. Кружка за кружкой; не жажда, а зверская ненасытность.
Супруга сидела рядом.
— Я думала, — начала она, — если людей выселяете из «казарм», то хоть сами вселитесь туда. Ведь там не квартирки, настоящие хоромы! Потолки до небес… А вы? Придурки! Сам не ам, но и другим не дам, — известная поговорочка. Придурки! Теперь такие дома без пользы развалите…
— В благоустроенные квартиры переселили работяг, — спокойно произнес Ожегов. — Горячая вода, душ… Балкончики имеются…
— Ерунда! Врете! — возмутилась супруга. — Там только тараканы да вечное отключение парового отопления… Как будто ты не знаешь. Казармы-то почему вам не отдали? Просите!.. Заварили кашу… Народ ворошите без толку, притесняете — шутка ли?!
— Приказ…
— Что, вас выстроили в дежурке и приказали: хватайте народ? — не унималась она. — Кто приказал?
— Кто приказал, того больше нет, — попытался отмахнуться Ожегов.
— А как это людям объяснить? — крепчал ее голос. — Генералы-то ваши, те, что приказали, живут себе, поживают, а на вашего брата люди смотрят с ненавистью. Вашими руками свершается гнусное дело… Мне стыдно из дому выйти, — всхлипнула она. — На меня смотрят, как на ведьму… Дети, и те, кажется, ненавидят: весь город разделился на детей простых родителей и детей милицейских работников. С пеленок… вражда! Понимаешь? Если вы, взрослые, управляетесь с теми, кого хватаете, то у детей все наоборот: у них нет чувства страха перед властями, потому они «отыгрываются» за своих родителей на детях милицейских… В детсадах, в школах — ужас, что творится!.. Ты понимаешь?
Ожегов промолчал.
— Старики говорят: не прежние ли времена вернулись? Повсюду пустота, живут в страхе… Как при «культе»… Ты что, в городе захотел разобраться? — спросила она. — Брось… В квартире-то своей и в своей жизни нельзя ничего понять, а вы…
— Город похож на своего хозяина, — отозвался Ожегов. — Каков хозяин, таков и город…
— Но вы-то умные мужики! Неужели не понимаете, что творите?! — напирала супруга. — Во всех городах так «ловите» или только здесь, в областном омуте?
— Нет, только здесь, — признался он. — Центр чистим, потому что иностранцы наезжают в гости. Порядок должен быть… Все-таки к одному миллиону тонн нефти подходим — суточная добыча — нельзя не показать иностранцу такой мощи…
— Ну вот… Со всеми странами разговаривать умеем, а свой народ заторкали, — вздохнула она. — Он и так, бедный, не знает, в какую сторону бежать, да вы еще напираете… Во имя чего? Охраняете принципы изобилия? И вправду, гости пируют на Лебяжьем, а хозяева смотрят и рукава жуют. Вон наш паек: один кэгэ мяса на месяц, тебе один и мне один — два! Но где его отыскать, это мясо, чтобы отоварить талоны? Придурки… Не надо, не стройте коммунизма — сохраните хоть социализм в нашей области, за который полегло столько народу. Я так думаю, — продолжала она, — и не я одна: если сорвали коммунизм, откатились назад, то будьте добры объясниться с народом. Почему бы нет? Народ поймет, если ему все разъяснить толком, а не давить силой. Или ответа нет?
Ожегов закурил.
— За Нахаловку воюй, — поняв, что ей не ответят, заговорила хозяйка. — Здесь наводи порядок. Песок-то подсыпают и подсыпают, как будто негде больше стоянку автобусную устроить. А вода — ее же выдавили из болотины, и она пошла, пошла волной на Нахаловку. Скоро люди побросают свои дома и побегут куда глаза глядят, — махнула она рукой. — Скотину бросят, землю… Что ни говори, а с этой земли можно взять и лук, и картошку для города. Но людей вытесняют, пастбище урезали на две трети — где коров пасти? Может, специально и урезали, чтоб скотину сдали государству, а? Выигрыш-то какой тут?! Ну, не злодеи ли?..
Где-то промяукала кошка. За столом насторожились — кошка попросилась опять. Хозяйка, недовольная тем, что ее перебили, кинулась к двери, открыла.
Кошка ворвалась на кухню и бросилась в угол, где у нее стояла консервная банка. Хозяйка подлила ей молока, и благодарное животное ответило тихим и спокойным взглядом. Только после этого, подняв пушистый хвост, кошка уткнулась в банку.
— Чтоб тя мыши ободрали! — выругалась беззлобно хозяйка. — Вечно ты голодная… Я тебе говорю, — обратилась она к мужу, — не там порядок наводите, не там… Получается, что расправу учинили над тружениками…
— Какую расправу! Какую расправу! — рявкнул Ожегов. — Они болтаются по магазинам в рабочее время, а мы — «расправу учинили»!.. Все тут как надо. Отскочь!
— Не ори, а слушай, — ничуть не смутилась супруга. — Не расправу, так произвол. Ты ведь не дурак и понимаешь, что вечером многие магазины не работают. Когда людям поспеть? А кинотеатры? Афиши зазывают горожан, а вы их — цап-царап!.. Это ль не подлость? Одни заманивают, как в засаду, другие разделываются… Неужели ты не понимаешь, что это против закона? Вы делаете то, о чем не ведаете: был приказ, а теперь — нет. Как это понять? — удивилась она. — Кто-то же должен ответить… Да вас попросту стравили с народом! — выкрикнула жена.
— Какой народ! Какой народ! — опять рявкнул Ожегов. Не плюнул, не выбежал из кухни… Казалось, что он играючи злился и рявкал. — Откуда ему взяться, народу-то? Народ — это те, кто беззаконно обижен или беден, а эти… жирюги, эти отработать день не могут. К черту такой народ, к едреие-фене!..
— Да, народу нынче почти не осталось. Народ только в Нахаловке да в пивных. Так по-твоему? Этих притесняют, знаю… Но все-таки людей не в кинотеатрах и магазинах надо отлавливать, а в первую очередь в пивных и на стадионах. Мне соседям стыдно в глаза смотреть…
— Не смотри…
— Не смотри, — повторила она мужнину фразу. — Не получается так. Мысль меня точит: если уж сейчас мы без всякой на то надобности хамы, то какими же мы были в трудную пору?! Ужас! Какие злодеи повсюду…
— Да, я злой! — Ожегов подпрыгнул на стуле, потом нашарил на столе папиросную пачку и закурил. — Только от этой злости не кого-то хочу убить, а самого себя. Почему? Что это за злость такая? — круто затягивался он папиросой. — Может, обида за людей?
«Гвозди бы делать из этих людей, Крепче бы не было в мире гвоздей!..» —она процитировала с усмешкой известные стихи и, как бы смирившись, прибавила:
Не надо больше гвоздей, не надо… Их хватит вполне. Плохо, если их опять начнут делать из людей.
Наступила пауза, нужная обоим. Можно было просто смотреть и не бояться встречного взгляда: они сидели в полутемной кухне, только сейчас заметив, что за окном смеркалось… В подполе скреблись мыши. Кошка дремала на стуле, приставленном к самому холодильнику, который при отключении периодически дребезжал, точно на нем стояла стопка тарелок, не убранных вовремя в шкаф.
Ожегов пошарил рукой — включил свет.
— Надо переезжать в микрорайон, — слышишь?
— Переедем, — вырвалось у него.
— Тебе дают квартиру… Зачем отказываться, если ее дают?
— Но за какую цену! — огрызнулся Ожегов. — Вот в чем загвоздка. В такой квартире, как в гробу…
— За Нахаловку дают, — настаивала супруга. — Не за рейд, что нас обоих измучил… Разве мало ты для людей сделал? Кому смог, тому помог… В награду — квартира. Переедем?
— Здесь места хватит, — просипел он сорвавшимся голосом. Откашлялся и вполне уверенно заключил: — Как трехкомнатная квартира. Куда тебе лишнюю площадь… Живи.
— Места хватает. Не спорю. Но барак есть барак, — заупрямилась жена. — Воду грею на плите, одних помоев выношу… Не упрямься, родной…
— Квартира… За нее надо хозяину служить, как собаке за кусок хлеба, а я кому служу? Нахаловке, — ответил он на свой же вопрос. — Этот «хозяин», как ты знаешь, квартир не дает, и вряд ли когда будет давать. Придется потерпеть…
Он даже вздрогнул и отпрянул назад, когда взбесившаяся вдруг жена бросилась грудью на стол и, глядя ему в глаза, стала злобно, как глухому, кричать:
— Подонок! Змей жалючий! Зеленый ухопряд! Ненавижу, презираю… Разве ты офицер? Ты, ты тупица, которой управляют такие же тупицы! Чтоб ты сдох, чтоб ты…
Ей не хватило воздуха, она захлебнулась… Потом он слышал, как она рухнула на диван и забилась: стонала, плакала, может быть, волосы на голове рвала.
Даже дома он не нашел убежища, в котором так нуждался в последние дни. Родной человек не понимал его — в сострадающий мир он больше не верил, хотя ненависти к нему не испытывал.
«Она права, — закрылся он в спальне, заменяющей ему и кабинет, и столярную клетушку. — Она права… Офицер бы в моем положении застрелился от позора. Хочется жить, и вдвойне хочется жить, когда жизнь опротивеет до омерзения…»
Ожегов сидел у окна, утешаясь: «Бог терпел и нам велел». Настольная лампа светила как бы из-за спины — казалось, этот сноп света навалился на Ожегова, чтобы вытолкнуть его в окно. Но он облокотился о подоконник и смотрел куда-то сквозь запотевшее стекло, ничего не видя перед собой. «Ненавижу!» — кричала жена. Ему и надо было сейчас, чтоб его кто-нибудь так люто ненавидел: обласканный, он бы не выдержал такой нагрузки на сердце…
Он так и сидел у окна, и все ему казалось, что кто-то ходит во дворе. Вот хрустнула палка — и человек остановился: Ожегов все ожидал, что в окно прилетит камень и его засыплет битым стеклом; булыжник, возможно, угодит ему в висок…
Жена любила повторять, в особенности, когда была в хорошем настроении: «Ввалился, как мышь в крупу… Причем в хорошую — гречневую, сыпучую…» И он не возражал ей, потому что она была прекрасной хозяйкой и заботливой женой. Только порой ему казалось, что она чрезмерно увлекается этим. Тогда он уходил из дому недовольный: «Опекает, а по сути — припекает…» Теперь же Ожегову некуда было податься, он сидел у окна и надсадно коптил потолок.
В комнатку попросилась кошка. Точно так же попросилась, как часа два или три назад просилась со двора. Небольшая разница: там она звала хозяев, подавала голос, а здесь, кроме этого, скребла дверь когтистою лапой.
Ожегов пустил ее к себе, а когда вернулся к окну и присел, то ушам своим не поверил: самый чистый и добрый романс, тот, который он любил до того, что не мог напеть в трудную для себя минуту, зазвучал прямо здесь, в прокуренной до ужаса комнатке. Как будто он вошел сюда следом за кошкой — видимо, дверь осталась приоткрытой:
Гори, гори, моя звезда… ………………………… Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда…Голос Бориса Штоколова был неземным: казалось, он вливался внутрь и сдирал с покоробившейся души жесткую коросту…
В душе измученной моей…Никто не видел, как по желтой щеке капитана Ожегова катилась чистая до небесного блеска слеза.
Вскоре он выйдет из дому, чтобы посидеть на крылечке. Ночь будет темной, без звезд. Но он придумает свою звезду — увидит ее над головой и прошепчет: «Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда!..»
Слова он вспомнит, но слух, изменявший ему всегда, не дотянется до высокого мотива, он переврет его… Только в сердце он, этот высокий мотив, будет звучать строго и мощно, без всякой фальши, даже без слов, необязательных иногда.
Гори, гори, моя звезда!..
Кошка сидела подле его ног, теребила когтями половичок и, часто прерывая дыхание, прислушивалась к тишине, которая была не в тягость и самому Ожегову.
Раскатали и растащили малые города. Как на редкую породу кедрача, поднялся спрос на жизнерадостного человека, который прежде поднимался на заревом всплеске и до самых звезд колесил: во дворе хлопочет, на работе, а там и снасти рыболовные пора готовить — на Иртыше да на Туре живешь. В меру ел, в меру пил, и красив был. Объявится с утра — повсюду, кажется, звон стоит. И невольно подумаешь, радуясь этому: живет мир, крепко живет!.. Основательные города по всему краю не теряют своих достоинств, равно живут, звено к звену — добрая и надежная цепь. Есть чем поторговаться и чем похвастать друг перед другом, предлагая свой товар. Благодаря этой цепи не колыхнется суровый край, стоит как на якоре. Видали хороших людей…
Так было до тех пор, пока много севернее не прорвались из земли один за другим несколько нефтегазовых фонтанов. И попер, как на нерест, разный люд, каждому — не своя земля… Работу и заработок ставили в первую голову. Навалились на землю, как будто сто лет не работали. Все бы было в норме, если бы не преждевременный износ… Этой оравы, похожей прежде на людей, чутких по природе своей к соседу и его укладу жизни, хватило лет на пять, как невода, что гребет на славу, и так привык к богатому улову, что возомнил себя вечным неводом, стальным. Но прорвалась, не выдержав нагрузки, матица, прорвались сгнившие в некоторых местах окрылья-разводы, а невод все полз и полз по накатанному руслу, не обнажая зияющих дыр. Улов с каждым днем, как ни странно, рос, чем и скрывал немощность самого невода. Одно покрывало другое, и жизнь, проверяемая по тоннажу, виделась вполне добротной. А невод тем временем терял золотые ячеи… Тот, кто вернулся сюда через пять лет, увидел: народ погружался в иную среду — в дым и смрад стеклянных пивных, которые строили в сотни раз проворнее, чем жилье. Бывший человек, пьянчуга… соринка, а всплыла бревном. И нельзя уже было пройти стороной мимо этой коптильни, но — «кому нельзя?» — проходили. Тем, кто знал этот город раньше, становилось больно… Но как разобраться в природе этой боли, что скрутила тебя в момент и бросила в самую грязь лицом, всей жизнью бросила и судьбой!..
В «аквариуме» накурили — не продохнуть. Буфетчица, выставляя на прилавок тяжелые кружки с пивом, плакала:
— Хоть топор вешай!..
Не от обиды плакала, не от боли, а от едучего дыма, из полос которого можно было вить веревки. Порядок здесь поддерживали только в час открытия.
— Таким труд не может быть! — продолжала буфетчица. — В глотке, кажется, пробка…
— Зато на пенсию пойдешь по «горячему цеху», — пытались «подмазать», чтобы работала порасторопней, те, что выстроились вдоль прилавка. — Мы в собес напишем — двести рубчиков отвалят. Чика в чику, к прокурору не ходи.
— Тут дождешься, — выбросила она на прилавок ручной насос. — Качайте, бездельники, качайте!..
Отвоевав в зале по паре кружек, мужики все подходили и подходили к грязному прилавку. В зале были установлены специальные автоматы, но им здесь, очевидно, не доверяли. Пиво завозилось в бочках. Казалось, вот она, бочка, а не зачерпнешь, как из ведра.
— Качайте, качайте! — напоминала буфетчица, а в зале старчески-печальным голосом умоляли, не обращаясь, собственно, ни к кому:
— Я же не приказываю, я же прошу: ребяты, не курите, пожалуйста! А, ребяты!..
— Отскочь, бабка! Не до тебя… — отвечали мужики, под глубокую затяжку наливаясь пивом. — Не ломай кайф.
Старушка, уборщица в черном халате, ползала по пивной, выгребая что-то из-под столиков. Гулкое помещение из стекла и бетона наполнялось до отказу дымом и постепенно превращалось в гигантскую колбу, в которой все клокотало и пузырилось. Но никто здесь не проводил рискованных опытов, и люди продолжали плавать по залу, спорить, шутить, размахивая при этом сушеными окуньками — последней роскошью родимой реки.
А дверь, скрежеща, болталась на весу и распахивалась перед каждым, кто рвался к пивному прилавку. Подходил один, брался за насос и начинал накачивать бочку, как автобаллон…
— Веревки! — вздыхала буфетчица.
— Ничего, родная, — утешали ее мужики. — Вот разбросаем по парочке и — сквозанем отсюда… Тихо-мирно, топ-топ, хлюп-хлюп!..
— Ага, напоишь вас, чертей безрогих! Не лилипутики, — ворчала она. — Тем бы по наперстку, и хватило бы по самые ноздри, а вы…
— Да, литра по три примем, поддержим тебя, — подавали ей трехлитровую банку. — На лилипутиках-то, не в обиду будет сказано, не разжилась бы. Давно бы съехала.
— Куда — съехала?
— В хлебный отдел… Или мороженым торговать. Общаться с детишками, то есть в медяки с ними играть.
— Не трепись, уродина! — оскорбилась буфетчица. — Дубина! Вот начнут кочевряжиться, как будто я и их не знаю и впервые вижу. И этот-то ханурик!.. Даже не верится, что с бабой живет. Повезло дураку, что рот на боку… Ох, бедная баба, — посочувствовала она супруге того, о ком говорила. — Но за твердость ее уважаю. Этот, ханурик-то, припрется хмельной, а она ему кивнет: ложись у порога, порог — под голову… «Стели, — кричит, — постель!» — но сам все-таки ложится у двери, как пес. Так и живут. Верно говерят, — повернулась она к бочке, — что такой мужик, как чемодан без ручки: и нести неудобно, и бросить жалко. Алкашня!..
К вечеру в «аквариуме» скопилось человек пятьдесят. Шумные и энергичные люди перли напролом. Капитан Ожегов, притихший за угловым столиком, давно уже понял, что никаким страхом не был скован местный житель, что всеобщий страх, охвативший якобы людей в последние дни, был попросту кем-то придуман. Сплетня к сплетне, а волна получилась высокая. На самом же деле выпивохи по-прежнему собирались в «аквариуме» и гудели здесь, пока их не выметали шваброй: «Поспешай, ребяты, — закрываем митинг!..»
Многие, как заметил Ожегов, входили и, дернув по кружке, сразу же выходили на улицу. Только самые ненасытные держались до конца и с трех-четырех часов потихоньку настраивались на долгую, как бы даже профессиональную «выстойку». Непросто выстоять до конца, до «замка» пять-шесть часов! Но они держались, перематывая, как клубки, пустые разговоры. Домой никто не спешил, не рвался из цепких рук собеседников.
В пивной пахло селедкой. Сладковато-приторный запах вызывал тошноту и отвращение. Еще более непонятным и отвратительным был запах вареных креветок, завезенных сюда бог знает когда и черт знает откуда.
Но даже эти отвратительные запахи не отпугивали никого, и мужики, в который раз уж «разбрасывая по последней», токовали, как на кипучем торге, не признавая того, что многие из них давно все продали и пропили.
«Ще?» — переспрашивал один. «Не ще!» — отвечал другой. Прямо-таки говор первобытных людей.
Все как будто выглядели работягами — одни в мазуте, другие по самые подбородки в цементе — каменщики, — только работа почему-то не удерживала их на объектах.
За некоторыми столиками, раскачивая их, тянулись на руках. Мужики там подбирались серьезные, не крикуны, и тянулись до хруста в суставах, собирая вокруг себя восторженных зевак.
По углам — пытались петь. И пели, но слабо как-то, через силу, будто пиво не веселило их…
Пацанва, прежде вошедшая сюда чуть ли не на цыпочках, расправлялась, смелея на глазах: подростки, отвоевав один из углов, бойко вели свои «базары», задиристо поглядывая по сторонам, — на пацанов, «оборзевших в корень». Но в дыму пока не проглядывались те, на которых можно было налететь, как на подводные камни, и разозлиться, чтобы начать драку.
— Он кричит мне: «Куда, — кричит, — рванул?» Я кричу: «Некуда, — кричу, — рвануть, кроме как, — кричу, — в пивную. Надо, — кричу, — прошвырнуться…» Он кричит: «Я, — кричит, — был, — кричит, — в „аквариуме“ — там, — кричит, — нет их». Но я кричу: «Все равно, — кричу, — надо куда-то подаваться. Вечер, — кричу…»
И не понять — о чем «базар». Но таким образом в Юмени выражался молодняк, только-только начинавший бодаться, почувствовав в себе кое-какую силенку. И эти притащились сюда, чтобы скоротать время, которого у них, как и у отцов, было невпроворот.
Косноязычные постепенно обретали утраченный было дар речи.
— Из деревни, что ли?
— Нету ее…
— То есть?
— Нету ее… Пустошь.
— За границу, что ли, выехала?
— Сожгли ее, когда опустела совсем. Людей теперь не собрать по стране… Обезглавились.
— Ты не страдай. Выпей…
— Какой там «выпей»!.. Мать пропили, только что пропили — закопали в глухомани, как чужую. Брат себе не взял, а мне некуда было брать…
— Бич?
— Нет. Просто не у дела. Я ведь, братец, бондарничал, а тут — стройка, нужны строители… Вот я подался в строители, а роблю не от души. Живу в общаге… Порой думаю: сегодня нас сократили, а завтра искать повсюду начнут. Придут ко мне — что я скажу? Скажу, что поздно, скажу, что я руки свои давно уже пропил…
— Выпей…
Этого еще не выдрали из земли с корнем, потому он и плакался первому встречному.
— Веревки! — по-прежнему стонала буфетчица, хозяйка «аквариума», и добавляла: — Конец всему!..
Вошли девицы с магнитофоном. «Сюда, чувихи!» — пригласили их подростки, колдующие над «ершом».
«Аквариум» наливался багровою кровью и отпугивал прохожих — в городе смеркалось, — и те, озираясь, пробегали стороной, боясь его, как ножа.
— Качайте ловчей, а то как побитые! — кричала буфетчица на мужиков, подходивших к прилавку.
И наливала, наливала… И пена крупными хлопьями, срываясь с кружек, падала на пол. Не пена даже, а клочья…
Девицы танцевали под магнитофон. Они были в джинсах в обтяжку и в белесых рубахах чуть ли не до колен, похожих на те, что выдают в армии и в зонах как нательное белье. Наверное, мода.
Драка произошла неожиданно для всех. Малолетки чего-то не поделили — и два-три столика с грохотом опрокинулись на пол. Скрежетали осколки пивных кружек… Над кучей-малой взвилась сталистая ракета и, описав дугу, цокнула о цементный пол… Кто-то страшно заорал, как будто его пронзили ножом. На этот крик сбежались милиционеры, молодые парни, видимо, срочники, и выволокли сцепившийся клубок на улицу. Девицы вышли сами. «Там у них „воронок“, — подумал Ожегов. — За углом».
Публика успокоилась. Мужики потихоньку стали возвращаться к своим столам.
— Вроде ножом работали?
— Сейчас менты придут — выясним…
Но никто не пришел ни через пять минут, ни через десять. В «аквариуме» продолжали тянуть пивцо, мешая его с водкой или с краснотой, — по средствам ершили, а не по желанию. Как всегда. И — курили, курили беспрестанно, сгущая над собою табачные облака. Порою казалось, что люди боятся прохожих, которые могли рассмотреть их сквозь стекла «аквариума», и дымили, пряча лица, хоть этих лиц, в сущности, не было. Черти — с рогами и без рогов — пировали на чьих-то поминках, не желая оплакивать того, по кому поминки справлялись.
Даже потасовка, где блеснул нож, никого не отрезвила и не привела в чувства. Эти больные не боялись смерти от ножа, потому что сами медленно умирали за столиками. Умирали взрослые, позволяя умирать молодняку, что толпился рядом. Никто ни о ком не думал — видимо, болезнь мешала думать, постепенно убивая всех. И никто ее, эту болезнь, не мог скрутить так же ловко, как недавно на глазах у всех скрутили подростков, чтобы вывести на улицу — к «воронку».
Капитан Ожегов стоял за столиком и курил. Одна папироса за другой с шипением исчезала в пивной кружке, приспособленной под пепельницу. В жизни ему уже ничего не хотелось, как будто он всего уж насмотрелся и испытал вдосталь. Даже об отпуске, о поездке в какой-нибудь цветущий край не мечталось, как отпетому старику. Куда, собственно, ехать и от чего бежать? Хрен редьки не слаще. Иногда он забывался, но его вырывали из этого угарного забытья пьяные голоса мужиков. Мужики вычерпывали свою мерку и уходить из пивнушки не собирались. То они спорили, цепляясь друг за друга, то плакали, непонятно чем обиженные. Тоска…
Юрий Иванович предстал перед капитаном Ожеговым, худой и желтый, как покойник. Тот даже вздрогнул и от неожиданности стал разгонять фуражкой клубящийся над столиком дым, будто черпал его…
— Я вас приветствую, господин Ожегов! — хихикнул Юрий Иванович, подойдя вплотную. — А говорили, что не пьет… Как же! За ухо льет… Поговорим?
— Поговорим, — согласился участковый. Он поморщился и с надсадой, отпечатавшейся на лице, повел плечом — будто сгибал в себе эту позорную растерянность, как подкову.
— Надо спешить, — продолжал Юрий Иванович, — а то еще застрелишься… Не с кем будет обсудить текущий вопрос.
— Может, вопросы?
— Нет, вопрос…
Они потянулись к кружкам.
30
— Хочу поговорить о жизни, — начал Юрий Иванович. — О сегодняшнем дне, но в особенности о вчерашнем, так не любимом тобой.
— О Сталине?
— Естественный вопрос…
— Это вопрос политический, — попытался отвязаться от пьяного задиры капитан Ожегов. — И если ты в своем гараже не пропускаешь политбесед, то ты должен знать, что политический вопрос — это вопрос, находящийся в компетенции власти, и в пивных он не должен обсуждаться. Мы с тобой не власть… А народу этот вопрос неинтересен.
— Тю! Какой ты строгий! — закатил глаза Юрий Иванович. — Это власти он неинтересен, она его замалчивает, а народ, сколько я себя помню, обсуждает только политвопросы… О Сталине говорит этот народ с особенною болью и страстью. Что же он, по-твоему, будет выжидать, когда власть начнет говорить о наболевшем? Сроду не дождется…
— Об этом говорили уже на двадцатом съезде, — заявил Ожегов. — Забыл? Или память у тебя подсела, как аккумулятор?
— Не подсела. Как же!.. Речь идет о великом человеке, — ответил Юрий Иванович. — Это нынче все забывается… Иного при жизни только что в постели не снимают, кругом фото, а умрет — как будто и не жил такой герой. Вот тебе и бюсты при жизни! О Сталине же говорили и будут говорить, потому что он был для всех людей Отцом.
— Для всех?
— Не ехидничай. Для таких, как ты, конечно, он достоин осуждения — и вы осудили его на том самом съезде… Страшно вспомнить, — поморщился Юрий Иванович, — страна плачет по покойнику, а вы осуждаете культ личности и, наплевав на все, выносите святое тело из Мавзолея. А людей спросили? Расправились над трупом. А при жизни-то этого трупа почему молчали? Строг был? Ха-ха! Да какая же вы сила, если один Человек скрутил вас в бараний рог? Так и получилось: он вас, бездельников, заставлял работать и карал, если не подчинялись, а вы срывали злость на простых людях. Отсюда и вся заваруха… Верно, он не терпел болтунов-экспериментаторов, ему надо было страну поднимать и кормить. И вы служили ему преданно… После осудили. А сами? Чисты? Если он был жестоким и вы выполняли его жестокую волю, то, значит, и вы… Понимаешь?
«Вы» — это не Ожегов, это теперешняя власть в его лице.
— Репрессии? — напирал Юрий Иванович. — Зато сейчас вам лафа, хребтов не гнете… Нет той руки, что заставила бы вас работать, как бывало. Тогда хоть лес валили и народ не разрывался на десятки работ, именуемых каторгой. А нынче каково народу? Насели на него, едете, и некому вас одернуть… И народ давно уже понял, что Леонид Добрый — не заступник. Он книжки пишет, а вы ему лжете: дескать, живем лучше всех! Он верит всему, потому что добрый… Но и при нем вы работягу не тронете, — заявил Юрий Иванович. — Эту мразь хватай среди улицы, а меня — попробуй только тронуть. Я те трону! И ты об этом прекрасно знаешь. Я такой: если плохо живем, то и говорю, что плохо. Мне ни к чему врать… Я в страшном смятении: люди по всему миру бастуют. Отсюда я делаю вывод: всем нынче плохо. Но почему? Разве в этом Сталин или Леонид Добрый виноваты? Нет, здесь иной масштаб, а обвинять того или иного человека во всех бедах — это самих себя обманывать. Надо сообща разобраться в том, почему людям всего мира плохо? Почему? С кем посоветоваться?
— Слушай радио, — хмыкнул Ожегов. — Слушай политических обозревателей: они говорят на эту тему.
— Я их слушаю и прихожу к такому выводу: не люди, а государства похожи на бесстыдных чудовищ. Вчера, например, не признавали ту страну, но нынче она поздоровалась с нами — кричим, что братская. Потом что-то не поладят меж собой верхи-министры — враждебная страна, руки ей не подаем… И это в масштабе всего мира, у всех на виду! Международники, что ли, не имеют ни чести ни совести, если так получается? Тогда при чем тут сам народ? Все эти «слуховые» битвы происходят над нашими головами, но мы-то в них не принимаем никакого участия. Ты уж поверь мне, я за всю жизнь не обругал ни одного американца, ни одного англичанина. Бастует шахтер — значит ему плохо. «Бастуй, — кричу, — я всем сердцем за тебя!» И я бы, конечно, бастовал… Только у нас это не принято. У нас скажут: все в порядке, скоро тебя озолотим, работяга, — и баста! А шахтеры английские, мол, мелочный народишко: за копейку бастуют. Неделями бастуют… Только я думаю: шахтеры ли бастуют? — хитрил Юрий Иванович. — Немного побастуешь, если с полгодика придется ходить по улице с транспарантом, а кормить кто тебя будет? Они ходят — кто-то же их кормит! Кто их кормит, тому и нужна эта забастовка… А как иначе? Если мы восстанем, то кто нас станет кормить?
— Против чего ты собрался восставать?..
— В том-то и дело, что не знаю, — признался Юрий Иванович. — Наверное, против бардака надо восстать, против вас и против самих себя вот таких, — он с презрением оглядел чокающихся по-пьяному мужиков, что и не думали уходить из пивной. — А еще лучше — открыть границу выпустить всех туда, где, по нашим бредням, жизнь получше. Хоть в Америку. Но ведь не пойдем, потому что нищие… Туда другие едут в командировку… Детки тех интеллигентов, что «страдали» при Отце. Работяга всегда был работягой, ему не на что туда сгонять, потому он сидит, как в мешке. Как там, за границей, живут, об этом знают только страдальцы — голубая кровь, которую прежде пускали. А по сути дела — никто не страдал… Посмотри фотоматериалы, которые печатают нечаянно, посмотри документальные кинокадры, что так же нечаянно пропускают в эфир, — да там же счастливейший народ! Того и гляди, что зевки лопнут от широких улыбок. Кто же тогда страдал? Где правда?.. В Сингапур, что ли, сгонять, — задумался Юрий Иванович. — Или уж не ездить? Прямо не знаю, как и поступить в данном случае.
Конечно, он кривлялся.
— Все, что соприкасается с зарубежом, развивается, — сказал Ожегов. — Спорт, например. Это значит, что в мире едином живем, а соприкасаясь, как бы подталкиваем друг друга вперед. Наука развивается в содружестве, медицина… Если тебя туда отправят на какой-нибудь симпозиум — ну, какой от этого толк? Ты же безграмотен! Учился бы…
— Я работал с малых лет! — вспыхнул Юрий Иванович. — Мне некогда было учиться!.. Да и не всякая грамота на пользу обществу идет, — придержал он себя. — О грамоте будешь мне тут выговаривать! Без того государство наше… Глава книги пишет, народ их читает, а кто работать будет? Читатели! Поневоле самая читающая страна… Развиваемся. Да чтобы догнать в техническом отношении капиталистов, нас надо — в хомут… Тогда только мы сможем повторить прежние рекорды и показать свою настоящую силу. А то заладили: дескать, понимаем, что вам трудно. Что поделаешь, если не первые… Нельзя на это ссылаться. Первые, первые, а Советской власти седьмой десяток идет. Хоть на пенсию провожай! Сколько это может повторяться — первые?! — возмущался он. — Кто хотел, тот за десять — двадцать лет обжился в новом мире и живет себе припеваючи, а нам по-прежнему талдычат: «Потерпите, товарищи… Мы в этом мире первые!..» Союзные-то республики давно живут на славу. Они что, не первые? Особняковые братья… В двухэтажных особняках плодятся, у нас деньги зарабатывают — на стройке. Куда податься «первому»? Конечно же в кабак. Мы все еще с социализмом не можем разобраться, а у них уже частный капитал, — продолжал Юрий Иванович. Он даже к кружке не прикладывался… — Да, частный! Как у нас на Лебяжьем: машина, дача, работники в саду… Если уж у нас, в России, где самый совестливый народ, так живут, то чего говорить о союзных республиках… В раю живут. Там у них средневековые законы, что правятся ножами, которыми режут и неугодных, и баранов… Нет, туда я не хочу! — расхохотался вдруг Юрий Иванович. — Я вот о чем подумал: почему же не живут по-райски наши северяне — ханты, манси, ненцы? Они ведь тоже как союзные. Верно? А вот не смогли встать на ноги — климат, что ли, не тот. Если глубже копнуть, то видишь: обласкали вы их, напоили, а когда они проснулись в своих чумах с больными головами, — кругом чужие люди: землю бурят, тундру корежат, добывают, так сказать, природные богатства. Словом, остались они без земли. А человек без своей земли — это Нахаловка. Здорово вы их облапошили! Еще изумительнее то, как подаете зевакам эту аферу: дескать, героическое освоение Севера, и те, поверив вам, кричат «Ура!». Ура-а! — прокричал он на всю пивную.
— Ура-а! — отозвались из разных углов подвыпившие крепко мужики, и никто даже не спросил: «В чем дело? Из-за чего шумим?!»
Опять потянулись к кружкам.
— Как так получилось, что в стране равноправия и культа тружеников народного хозяйства, то есть культа труда, работяге дают квартиру через полтора десятка лет? И то не каждому: я шоферил всю жизнь, чтоб получить квартиру на семью, а иному только общага… Зато начальству, прибывшему сюда, квартира выдается через год-два. Откуда такой произвол? — спрашивал Юрий Иванович. — Кто нужней государству — вы или мы, рабочие? И они ведь едут именно сюда, наверняка зная, что здесь им, специалистам-ученым, создадут все условия для жизни. Иначе бы рванули на Малую землю… Не едут, знают — ложь…
— Кстати, о книгах, — перебил его Ожегов. — В России бастовали, когда надо было. Вспомни — роман «Мать»… Тогда поднялись за копейку…
— А теперь что, не надо?
— Реши вначале — по какому поводу затевать смуту?..
— Какой же еще повод… Хоть в землю зарывайся… Радио, телевидение… Да он же, Великий Добряк, одними речами доканает нас! Он же!.. — Юрий Иванович замотал башкой. — Люди убегают из дому, когда он подходит к микрофону: одни собак выгуливают, другие в «аквариум» ныряют… Господи, мочи нет! При Отце-то, как ты утверждаешь, угнетали физически, а тут ведь нравственно убивают. Это во сто крат безжалостней, это садизм!.. Садизм! — завопил он, размахивая руками.
— Юрок, Юрок! — обратились к нему из-за соседнего столика и погрозили пальцем: — Ты не кипишуй… Тебя что, этот мент трогает? Не трогает. Тогда припухни. Тс-с.
Юрий Иванович успокоился. Он закурил и, загадочно улыбнувшись, приблизился к Ожегову.
— Одного не пойму, — прошептал он. — Если мы все пьем, то кто же нас кормит? Чей хлеб едим? Лица этого человека не увидишь в кино, не прочтешь и в книгах о нем ни слова. Как быть?
— Направляйся к своему депутату, — посоветовал Ожегов. — Кого избирали в Совет, тот и обязан вам все разъяснить. Закон у нас верный, только научитесь требовать по закону… Иначе ничего не добьетесь.
— К депутату? — удивился Юрий Иванович. — К какому депутату?
За которого голосовал…
— А-а! — дошло до того. — Действительно, я помню, где за него отдавал свой голос… Но вряд ли кто ведает, где его депутат принимает просителей. Да и фамилию не помню… Хрен его знает! Приехали в Нахаловку с ящиком — проголосовал…
— Так теперь и живи, — отмахнулся Ожегов. — Сами выберут вожаков, а потом стонут: не так, видите ли, ими руководят. Все так. По едреной матери колпак… Будем продолжать?
— Ты мне не завирай! — как бы опомнился Юрий Иванович. — Депутат не руководит, он… Это для него не работа, а общественная нагрузка. Руководишь нами ты и тебе подобные, и я прямо в глаза говорю: да, хреново руководите!.. Валите все на правительство, а сами бесчинствуете здесь, на местах! Кто вам позволил так обращаться с народом? Отвечай! — притопнул ногой Юрий Иванович. — Отвечай, пока я мужиков не крикнул!.. Крикну толпе — разорвут тебя на куски. Они хоть и дураки, но их объединяет пивнушка, а вас? Коммунистическая мораль, что ли? Знаем ей цену, — взбесился он. — Кончилась жратва, нет мяса — нет ничего… И конец пришел вашей лживой морали. А ведь еще не голодуха! Что же будет, если кончится хлеб? Друг друга жрать начнем, позабыв о морали? Видимо, так и будет. Пей. Ожегов, пиво, пей! Ты же понимаешь, что вам уже никто не поверит… Народ един в настроении: и бедные, и богатые недовольны своей жизнью. Кое-кому надо делать из этого соответствующие выводы. Ты меня понимаешь? — перешел на шепот Юрий Иванович. — Все на взводе! Проворный идеолог-проходимец может повернуть эту массу в любую сторону… Ты понимаешь меня или нет? Я сам в страхе… Я сам боюсь своей мысли… Понимаешь, Ожегов?!
Они оба оцепенели. Капитан Ожегов смотрел на Юрия Ивановича такими глазами, как будто перед ним на столе лежала гадюка, напряженная, готовая к прыжку, а он, изумленный этим, не мог найти в себе силы, чтобы отпрянуть от нее.
Юрий Иванович оказался смелее Ожегова, точно чувствовал, что истина на его стороне. Но и участковый не собирался сдаваться:
— Причина наших неурядиц, — проговорил он, — заключается в том, что мы плюем на марксистско-ленинскую теорию. А она ведь нам была выдана как инструкция к руководству… Посчитали себя умней. Сталин твой — этот был самым умным…
— Я же чувствовал, что что-то здесь не так, говорю же…
— Все вы чувствуете и говорите только в пьяном виде. Трезвые же молчите…
— Никак себя не поймем. Звери поняли, что мы звери, и ушли из наших лесов; рыбы поняли, что мы хищники, и уплыли из наших рек… А мы все никак не поймем самих себя, копаемся в собственных кишках. Как так? Что есть жизнь? Мужики, вернувшиеся с войны, за пятнадцать лет едва коммунизм не построили. Чего-то не хватило…
— Почему не построили? Да потому что это не сарай…
— Спились мужики! Во дворах за их столиками играют в домино старухи. Старики вымерли от ран и надсады. Так ли? Старухи ведь тоже надсаживались, но живут… Старики вымерли от водки, пили, чтоб не смотреть на такую нашу жизнь. И причина, как ты говоришь, наших неурядиц заключается в том, что действуют такие приказы, как ваш, — приказы по управлению, а не по стране. Князьки! В прежнее бы время… Вот почему вы его не любите. Там не было князьков. Я помню: начальство советовалось с работягами, запросто принимало их в своих кабинетах… Ходоки — возможно ль теперь? Я к механику задрипанному не мог пробиться, а парторганизация — эта вообще на небесах обитает, не пробьешься к руководству. Она, конечно, с народом, но — в книгах. Нужна рука, одна сильная рука, а не косяк: русский человек не умеет коллективно управлять, ибо всяк мыслит по-своему. Это в крови. У коня нет врожденного чувства подвластности: жеребенка от прирученной кобылы все равно надо объезжать, иначе не покорить его, а у людей? Дите еще в пузе объезжено кровью рабыни… Где та единая рука? Ваш приказ?.. Быки перестоялые! Получили за много лет первый приказ и рады в лепешку разбиться. Объявили бы, предупредили людей… Или забыли, что народ — это власть? Его кровью она добыта не для того, чтобы в ней всякая сволочь купалась, как в молоке. Хватали нас из-за иностранцев. Значит, не из экономических причин? О, позорище! Я думал, об экономике хлопочете… Власть на местах во все века — суррогат; парторганизация, видимо, здесь ни при чем — при любой власти в провинциях царили произвол и тупость; читал ведь Салтыкова-Щедрина… Но теперь!.. Чем образованней человек, тем он глупей. Сидяче-бумажный образ труда оглупляет умных людей, что ли? И всегда мы ищем виноватых! Прежде Отца обвиняли, потом Хрущева, теперь — Леонида Доброго? Нет, не обвините его! Возможно, после смерти наброситесь на его труп и имя, а пока — будем читать книги… Народ! Да народ понять — не один литр водки выпить! Какая уж там соль. А уж наша-то земля проклятая… Не было на ней чести…
— А декабристы?..
— Вот именно. Дворяне гибли за простой народ, а мы унижаем друг друга… Что происходит?
«Человек живет без страха и уважения к власти. Для него ее нет. Дожили…»
— Народ — ядро, парторганизация — как кожура, что оберегает от всего это ядро. У нас же, в Юмени, все наоборот.
«Народ — река, власть — камни и пороги… Но реки сдвигают камни и меняют русла!..»
— Захирели… Мэр города едва на трибуну поднимается — горожане едва живут. Все взаимосвязано.
— Чтобы город всегда был бодрым и здоровым, надо нам быть всегда на подъеме. А старость? Жили-были, трудились и — состарились…
— Так уйди на заслуженный отдых! Тебе-то, старику, зачем власть?
— Всюду материальное начало… Там, наверху, человек — бог: он правит не только вещественным миром — деньги-то старику зачем?! — но и людьми. Это главное. Представь себе, перед тобой, дряхлым и обрюзгшим, преклоняется красота, сила, молодость… Да кто же откажется от этого! Вот почему человек рвется туда, наверх. Ты туда не рвешься, потому что не понимаешь, что жизнь одна, что раз живем… В пивной этого не понять. Потому и вечных принципов нет: всякая власть делает их только себе удобными; Длина принципов — длина жизни карьериста… Он состарился, умер, испоганив все, а ты — начинай заново и жить, и работать, и правду восстанавливать. Бесконечная работа.
— Не понимаю, но оценить могу!.. Кстати, раньше тебя узнал об «отбое».
«Прямо мафия! Все знают, живучи…»
— Вечная работа, говоришь. Может быть. Но я знаю и другое… Знаю, допустим, что Рим простоял двенадцать веков. Там людей — таких голодранцев, как я, — бесплатно кормили… Законы были железными, земля богатейшая… И тем не менее этот Рим тазиком накрылся. Что же будет с нашим строем? Почему у нас глядят вперед на длину только своей жизни?.. Если все идет на спад, значит, скоро нашему строю хана! Капитализм тоже думал, что навеки… Однако разрушили. Но если бы в завтрашний день мы верили так же, как некогда верили в бога, тогда бы можно было рассчитывать веков на пять-шесть. Черт с ним, с этим двенадцативековым Римом! Правда?
— Не согласен… Во все века господствует идеология сильных… При вере — «не убий, не укради» сильные сами убивали и крали на глазах народа. Народ голодал, а они — братья во Христе — обжирались…
— А теперь?
— Какая разница! Тьфу ты, спутал меня!..
— Я хотел сказать, что если подкапываться под социализм, как под религию, то мы не в пример хуже окажемся. Более того, мне кажется, что нашу мораль мы выколотили из Евангелия: те же, в сущности, принципы — не убий, не укради, не обидь… Так?
— Каков поп, таков приход…
— Все равно обидно… Всю неделю «Юменская правда» печатает материалы по поводу одной победы нашей… Очередная, так сказать, победа. Редактор пишет: «Ведомственные автобусы берут на остановках пассажиров-попутчиков. В какой еще стране вы можете увидеть такое! Да вас там, наоборот, вышвырнут…» За рубежом не бывал — что могу сказать? Ничего. Но за границей, говорят, работа — это все: и быт, и машина… Живи — не хочу, только б работа была. А у нас? На трассе платят хорошо, но нет быта. Там, где есть быт, нету заработка. Как бы это объединить!.. Я вот работаю… Зачем такая работа, если она толком не кормит и не приносит счастья! Вот о чем надо писать «Юменской правде»… Еще обидней за наших детей…
— Детей не впутывай…
— Нет, ты послушай! Чтобы узнать, как живут богатые, Тамаркины дети пришли к «Дворянскому гнезду» и стали рыться в мусоропроводе. По отходам — пищевым и вещевым — они вычислили, как те живут, и впервые, может быть, раскрыли для себя смысл поговорки: гусь свинье не товарищ!.. А ты говоришь: детей не впутывай. Да они умнее нас и чутче. Ты-то бы сроду не узнал, как живет мэр города… Ты-то охранял их, пыль стирал полой шинели… Ублюдок!
— Ах ты, сволочь! Благородный!.. Один такой благородный да жалостливый позавчера изрезал в общежитии речников пять человек и сам же перевязал простынью, и милицейский наряд вызвал по телефону. Благородные!.. Не будь нас, вы бы давно перерезали друг друга…
— Заткнись ты, мусор!
— Не затыкай мне рта! Таких, как ты, надо сильным ядом выводить. Как глистов. На вас ведь ни мораль, ни добрые слова не действуют…
— А тебя надо образумить… Как в США, подсунуть гранату под крылечко — взлетишь и шмякнешься о стенку, тогда, может быть, поумнеешь.
— Гад! Подонок!..
Они сцепились…
«Если мы так распустились, значит, не можем существовать без твердой руки. Как при Петре, как при Отце… Люди, опомнитесь, пока опять не пришли к старому… Трудитесь, живите по доброй воле…»
— Скоро грянут репрессии! — орал Юрий Иванович, выйдя на середину зала. — Закон скрутит нас и бросит в трудовые лагеря, только теперь там не будет ни сочувствия, ни души… Молитесь на сталинские репрессии! Те в сравнении с этими — благо!..
— Юрок, Юрок! — успокаивали его мужики. — Тебя мент обидел? Да, Юрок?
— Завтра же идемте к Дому Советов. Идемте, пока не поздно… Падем на четыре мосла и скажем: «Мы будем жить, мы будет работать!» Нет, лучше к обкому… Слышите, братья?!
— Юрок, Юрок! — толпились мужики. — Мента мы сейчас ухлопаем… Он тебя оскорбил, да? Ах ты, ах ты, шушера!.. Грохаем его!..
Мужики было шагнули к Ожегову, но буфетчица опередила их.
— Выметайтесь! — прокричала она, указывая на дверь. — Я буду закрываться. Оглохли, что ли!
В зале наступила тишина. Такая тишина наступила, что слышно было, как хрипел своей тощей грудью Юрий Иванович. Будто жучок скребется в спичечном коробке. Но никто не шагнул к двери, точно не могут понять буфетчицу, хотя соображают, морща лбы, соображают… Кажется, что пивная боится выйти на улицу — к живым.
Но вздрогнули — и поплелись к дверям.
— Идите с богом, — прошипела вослед уборщица. — Не заводите смуту… Грех.
Ожегов вышел последним, протянув измученной старухе полтинник. Та низко ему поклонилась.
…На улице было темно. Выходя со света, надо остановиться хотя бы на миг, чтобы привыкнуть к темноте, после чего она отступит…
«Аквариум», как огромный матовый плафон, высвечивал довольно-таки значительную площадку. Воздух здесь был особенно густым от нудящего комарья, в этом же воздухе — чертячьи рожи… Они скалились и хлопали тяжелыми ушами в пяти шагах от Ожегова.
В трико с отвисшей мотней — «мешок» свисал едва ли не до колен — и в тапочках Юрий Иванович оторвался от сотоварищей, стоявших полукругом. Среди них было много малолеток — эти всегда, выпив хоть каплю, начинают бесконечно сплевывать, будто дегтю глотнули.
«Не пройду, — подумалось Ожегову. — Обложили по-хозяйски: справа, слева ли, но ни одной щелки».
— Договорим до конца, — прошипел Юрий Иванович, приближаясь к участковому. — Поплачь об моей судьбе. Давай вместе поплачем, а!.. Нету слез? Ага, выплакал их по академикам, страдавшим на северах… А по мне, по народу кто всплакнет? — взвизгнул он, пьяный, решительный и злой. — Когда страдали, как ты говоришь, интеллигенты, я работал гаечным ключом… Они поднимали науку, а я железо таскал на хребте, гаечный ключ примерзал к моим детским ручонкам… Ладно, всем трудно было. Согласен. Но вот пришло их время — вышли из лагерей — они облегчили мой труд? Нет! И правильно, что Он их ссылал — хоть работали на Отечество, а нынче? Они, растолстев, получают ордена, а я, как прежде, когда якобы обезглавили науку и инженерию, работаю тем же гаечным ключом, «монтажкой» разбортовываю и забортовываю колеса-скаты и после чуть ли не вручную их качаю; по-прежнему я ползаю под машиной и собираю сгнившие движки… Теперь-то академики не сидят!.. Где помощь моему труду?.. Вот на чьей крови произрастают ордена и благополучие твоей интеллигенции, которую ты, подлец, всячески защищаешь. Народ бы защитил… Мы ведь до сих пор в бараках живем. Что ваша мощь? Трассы? Парад на Красной площади? И мы видали это, но… все это как будто из другого мира. Ты сам понимаешь, только признаться не хочешь… Нету больше сил терпеть. Что же вы, великие люди, ходите по нам, крошите нас! Неужели наши переломанные кости не втыкаются в ступни вам, не саднят как занозы? Врете! Вам тоже больно!.. Но ради чего терпите? Эвон рожу-то как искривил…
— Юрок, мы его кончим! — бросили сотоварищи. — Мы его сейчас малость покружим и кончим. С палками набежим, как дикари набегали на мамонта… Погнали!..
Ожегов не успел отступить к двери, как вокруг него образовалось плотное кольцо. Выпивохи, взявшись за руки, стали водить хоровод, припевая:
Каравай, каравай, кого хочешь выбирай…Это пьяное колесо было неровным, вихляющим, как «восьмерка», но крепко держащим внутри себя растерявшегося капитана. Тот стоял на месте и смотрел… Пьяные рожи, волосы — щетиной… И вправду, не люди, а черти.
Каравай, каравай… Выбирай, выбирай!..— Мента выбираем! — орали черти, не разжимая кольца. — Вначале покружим, после схряпаем… Сырьем.
Острые, вытянутые в оскаленности рты напоминали Ожегову рыбьи скелеты.
Милицейского наряда, работавшего здесь весь день, уже не было. Милиция тоже храбра только при дневном свете… Из наряда, скрутившего с особой ловкостью разодравшихся подростков, не вернулся даже тот, с единственной, но больно сверкающей звездочкой на погоне. И только запах бензина напомнил о недавней стоянке «соронка», на котором укатили добрые молодцы.
— Если сейчас подняться против власти, — хрипел Юрий Иванович, — то вам конец. Мы вооружены охотничьими ружьями, у каждого второго — ружье. Так что прошли времена Пугачева, у народа иная готовность к бунту… Будь такая при Емельке, он бы конечно же вскарабкался на престол. Сечешь, ментяра? Мы же почти армия!
Каравай, каравай, кого хочешь выбирай!..— Мента выбираем!..
Дикая пляска продолжалась. Хоровод разваливался на глазах. Но только после раскаленного укола в шею — не то палкой ткнули сзади, не то гвоздем — Ожегов опомнился… Ему ничего не оставалось, кроме как броситься назад, к двери, к которой он прижался спиной, рявкнул для острастки и выхватил пистолет…
Каравай, каравай, —вопили обезумевшие мужики, наползая на участкового со всех сторон. Юрий Иванович рвал на себе рубаху, вопя громче всех и истеричней, как будто Ожегов причинил ему столько зла, сколько не причинил он доброму десятку из тех, что понимали и горячо поддерживали нахаловского «политика».
Расправа была неизбежной…
31
Тихон гнал теленка по кромке дороги. На трезвую голову даже пешая дорога была мила. Теперь у него все не так в жизни, как бывало прежде. Он хоть просыпается дома. А были ведь случаи полнейшего отключения: очнется, бывало, и понять не может — где он? Как здесь очутился? А глянет на себя… Боже мой, в одних трусах стоит да в майке, как марафонец, сошедший вдруг с дистанции. А кругом толкутся люди…
С Клавой они познакомились именно после такого случая, когда Тихон, опозорившись перед людьми, целую неделю не выходил из общежития и не пил. Он сидел в красном уголке и смотрел телевизор, а Клава решила: «Ты смотри, мужичок-то какой примерный! Надо с ним познакомиться как-то…» Неделю он страдал за свой проступок, который так и не смог объяснить.
Натрескались они тогда от пуза. В магазин завезли машину яблочного. Они на троих взяли две сетки, а оно, хоть и дешевое, оказалось весьма злым. Пили на берегу Туры, в кустах. Солнце палило так, что мозги оплывали. Там он, наверное, и отключился… А когда очнулся — стоит перед одним из подъездов «Дворянского гнезда», ничего понять не может. Но, слава богу, что хоть сообразил перебраться в детский домик. А к вечеру похолодало, Тихон сидел в одних трусах и дрожал. Детишки качались на качельках, а тех, что подходили к домику, он отгонял, как кур: «Кыш! Кыш!» Он не мог вспомнить, как здесь очутился: может, приходил требовать равноправия? Но почему — в трусах? А, разгоряченные вином и опаленные жгучим солнцем, они, наверное, купались в Туре… Где ж товарищи тогда? Утонули?.. Ничего он так и не вспомнил. Не забрали его, видно, только потому, что охрана находилась внутри «Дворянского гнезда», а вблизи дома милиция не появлялась сроду. По двугривенным и полтинникам, что были зажаты в руке, он сообразил: да, милосердные домохозяйки, очевидно, подавали ему, как блаженному… Только глубоким вечером он решился наконец-то выбраться из этого домика и побежал по тротуару, изображая, чтоб не забрали в милицию, спортсмена-любителя. Тяжко было с перепою бежать, но он бежал, боясь оказаться в вытрезвителе, где бы с него содрали четвертную. Он не имел права на такую роскошь, хотя и скупостью не болел: гулял от рубля и выше. Чего же тогда боялся? Да унижения. Согласен, мол, пью, но зачем так унижать-то человека! В последний раз привезли в вытрезвитель, вывалили из одежды, как свиные ножки из мешка, — хоть холодец вари. А ведь он приседал перед врачихой, доказывая ей, что в меру пьян, что вполне бы смог дойти до дому, но куда там!.. Забросили в одних трусах в камеру, и спать пришлось на решетчатой скамейке среди всякой мрази… Таков он, хозрасчет-то милицейский в действии: о людях ни гугу, только о деньгах думают. После вытрезвителя долго не мог прийти в себя, даже плакал от обиды. Козлячья рожа…
Теленок резвился впереди. Холощеный, он старался боднуть землю: изогнул шею и головой торкался в каждую кочку или взгорок, забрасывая кверху задние ноги. Чуть ли на голове не стоял. Кровь, забродившая в нем, не давала ему покоя. Тихон даже подумал: подлаживать надо бычишку, пока не шибко жарко. В жару-то они очень трудно переносят эту операцию. Трава по кромке лилась густая и сочная, но теленок, привыкший к комбикорму да к сытному пойлу, не очень-то ее жаловал. Так, щипнет, точно гусь, да и дальше понесся… Поля, разбухшие от влаги, казались черноземными, хотя Тихон знал, что здесь не было доброй земли. Вот просушит ладом — и заклубится поле, как пыльная дорога. Разве это земля?.. Но кое-где все-таки работали трактора. Они вязли в топких полях и бороны, засаженные грязью и травой, ползли за ними, тяжелые, как плоты. Казалось, что в полях не боронили, а лес сплавляли.
Теленок сполз с обочины и напился из кювета. Он фыркнул, мотнул головой и, с некоторым удивлением оглядев лужу, точно его обманули — подсунули пустое питье, выбрался на обочину. Тихон потрепал его за ухом, и они пошли дальше.
Конечно, Тихон понимал, что до Районного им не доползти и в три дня, но он надеялся на попутный транспорт: весной, как правило, колхозы и совхозы из-за отсутствия кормов старались избавиться от скотины, очень много выбраковывали… Поэтому со всех концов области к центральному мясокомбинату тащились по разбитой земле скотовозки. Утром он разговаривал с одним шоферюгой, который, увидев на дороге человека с теленком, решил остановиться и перекурить.
— Третий день пилю, — жаловался он. — Дороги нет, а везти надо. И так каждый год — по бездорожью…
Третий день… Тихон еще посмотрел на коров, отупевших от болтания и мотания в кузове, нарощенном на полтора метра. Скелеты, обшарпанные о борта, с невыносимой тоской смотрели на его теленка и бог знает о чем думали в эту минуту.
— Я пойду… Некогда, — соврал Тихон, не в силах больше находиться рядом с измученным скотом. — Может, на обратном пути меня захватишь.
— Конечно, прихвачу! Вдвоем-то веселя будет! — даже обрадовался шофер. — А то ведь я одичал с ними: воют, как волки. Бывай.
На том они и расстались.
Стыдно было признаться в этом, но животных он любил больше, чем людей. Так уж выстрадалось в жизни… Ничего не исправишь. Слеза Цыганки, надсадившейся вот этим сутунком, показалась ему слезой души. Даже слезы жены, к которой он пришел на другой день после родов, не были такими понятными и умиляющими: она плакала от радости, но как бы в обход самой души… Здесь же плакала корова, но казалось, что плакала душа. Только душа плачет просто и мудро, никому не навязывая своих слез.
Вспомнив затем о Клаве, он невольно переключился на размышления о предстоящей работе. Боязни перед ней не было, робости тоже: он готов хоть сейчас, не прося передышки, вломиться в эту работу. Работая на дому, он даже как-то по-иному начинал жить, точно работа трудилась над ним, контролируя его помыслы и поступки. Странная такая обоюдность. Но речь велась о другом: лето, оно промелькнет за работой, но к осени надо будет подготовить домишко, чтобы не зимовать в холодных стенах. И с огородом бы успеть, и кое-какой материал заготовить: тес, лес на замену сгнивших венцов, да и инструмент раздобыть: эти-то топоры — не топором, а ногтями будто тесал плахи. Все тут одно к одному, знай поворачивайся… И скотом, наверное, она, Клава, сразу решит обзавестись — значит, хлев ей подай и стайку. А за плечами еще этот мешок — домик не продали, потому начинать придется не с нужных дозарезу тысяч, а с этих несчастных сотенок… Забот полон рот, а на поверку: дом продали, а ворота купили. Сотня, сотенка — она хороша в дешевом кабаке, куда ты ворвался гульнуть, но в гнилом хозяйстве — это в лучшем случае новые ставни на окнах да банка краски, чтобы покрасить их хотя бы на один раз. Кто строился ни с шиша, тот знает, кто работал, тот поймет… Баба, наверное, носится сейчас по Обольску — подол на затылке, а будет ли из этого толк — одни прорабы знают, втихаря торгующие государственными материалами, одни мастера ведают.
— Ну, не взлягивай! — прикрикнул он на теленка. — По глазам прямо лупишь.
А теленок резвился, разбрасывая копытцами влажную землю, скользил по траве. Ему-то ни о чем не надо было думать, и верно: голова не заболит.
— Вытянуть бы тебя веревкой, — продолжал Тихон, которому надоело уже идти молчком. — Но прощаю. Резвись, поросенок… Я в твоем возрасте, если брать год моей жизни за день твоей, ни одной девки не пропустил. Было время, дружок, было! Ну да быльем поросло… Народ знал, что говорить по этому поводу.
Об этом только теленку и мог он похвастать, потому что дома его прихватывали за язык уже не раз. Особенно Тамара. Эта дура разоблачала подвыпивших мужиков с ходу. «Одна пьянь! — кричала она на всю Нахаловку. — Чем дальше, тем беспомощней. Поэтому я не хочу в коммунизм, где настоящих мужиков уже не будет: сопьются вконец. Лучше при первобытно-общинном строе жить, но чтоб под боком был крепкий мужик, а не бесчувственное бревнышко. Хватит молчать: надо бить в колокола, пока нас не захлестнуло напрочь половое бессилие… Арканя, ешь больше сала! Тихон, этот уже не потянет…» Бабы, скопившиеся у ее избушки, хохотали, но мужики не обращали на них внимания: Арканя разливал портвейн, а Юрий Иванович, перед тем как принять очередной стакан, прохаживался под окнами своего теремка, независимый, как сквозняк. Он поглядывал на Валюху, и она опускала застенчивые глаза: мол, мы-то про себя знаем…
Что-то притягивало к Нахаловке, но многое отталкивало. Все-таки грустно ему было уходить из обжитого места. Все напоминало о жизни, к которой хотелось вернуться. Но, возвращаясь к ней памятью, Тихон начинал морщиться и фыркать, как будто в нос ему ударило неприятным запахом. Там, в этой жизни, что-то гнило, как на мясокомбинате, и от этой вони выворачивало внутренности… Нельзя было туда возвращаться, никак нельзя! Душа прямо-таки становилась на дыбы и, разбрызгивая желчь, скачками уходила от невыносимой вони, которая будто бы накатывала следом, стараясь настигнуть ее.
«Как жить-то будем, люди?! — вопрошала Клава, стоя по щиколотки в грязи. — Пропадем ведь здесь, захлебнемся в этой непролазной жиже…»
Харитоновна вышла из ограды, готовая перелопатить весь проулок. Но ее лопатка, величиной в ладонь, показалась такой беспомощной, что даже Клава, призывавшая соседей на борьбу с грязью, опешила: как же они смогут разровнять колеи и насыпать на прохожую часть проулка битого кирпича? Да его сюда надо день и ночь таскать со стройки в ведрах, пока засыплешь эту грязь!.. Но отступать уже не хотелось, как и выказывать людям свою слабость, даже бессилие перед вонючей стихией. Женщины сошлись на середине проулка, воткнули лопаты в мясистый загривок, образовавшийся меж двумя глубокими колеями, в которых клокотала грязь. «Ну, Харитоновна, с богом!» — проговорила одна, а другая только отмахнулась: какой, мол, там бог… Ты вышла копать и я следом. Через полчаса они сковырнули этот загривок и сровняли проулок с… грязью. То хоть одна тропинка была, а теперь и ее сбросили, как в топку… «Не мучайтесь, — уговаривал вначале бестолковых работниц Тихон. — Найдем трактор и притартаем сюда сушняка с битым кирпичом. Бросьте!..» Но вскоре и он замолчал: Клава копала молчком, закусив нижнюю губу — это было плохим признаком: она могла в этот момент не только отчихвостить мужа, но и «заломить коробку», что никак не переводилось на нормальный человеческий язык. «Вы че, Матрены, угорели? — показался в проулке Аркадий. — Где это видано, чтоб народ бесплатно грязь месил?» Клава распрямилась, посмотрела на Аркадия и, выбрасывая вперед руку, проговорила: «Так неуж сидеть!.. В городе-то вон какие помойки заваливают, а у нас столько народу и никто пальцем не пошевелит. Тунеядцы». Но Аркадий не смутился. «Зачем им шевелить, пальцем-то? — нагло уставился он на Клаву. — Сказанешь тоже! Там — город, а тут… Сравнила хрен с пальцем…» — «Чахледь… А туда же — в мужики! И мой вон стоит, — повеселела Клава, и в голосе ее появилась теплота, — ручки на животе сложил… Эх, мужики!»
Аркадий подошел к забору и попрыгал, тяжело топая, на месте, чтобы сбить грязь со своих болотных сапог. «Копец подкрался! — кивнул он Тихону. — Прохода не дают… Курицы роются в земле потому, что пищу себе находят, а эти… У меня нет больше слов». Тихон промолчал, но Клава порядком разозлилась: «Мужики! Да разве вы мужики? — напирала она. — Мужики пьют и закусывают крепко. Вы же отщипываете от краюхи и в нос тянете — будто табак нюхаете, а не закусываете вовсе. Нет, с вами все ясно». — «А с вами? — задирался Аркадий, но уже продвигаясь вдоль забора к своей мазанушке. — Мы экономим на закуске… Вам же лишняя копейка от этого! Только и хлопот, что простирнуть после рукав, которым закусывали…» Аркадий удалялся, вышагивая по кромке, затянутой травой, как цапля. «Топай, топай! — кричала Клава. — Лентяй рыжеголовый! А если по совести сказать, то нам не дано права жить даже здесь: не страдали за эту землю и привести ее в божеский вид не можем. Куда ни взгляни, кругом грязь. Слышишь, пьяная рожа?!» Но Аркадий скрылся за воротцами своей летней резиденции, от которой несло приторно-горьким дымком: будто там шерсть жгли или дохлых собак. И женщины, наработавшись, разошлись. Чище в проулке не стало, но исчезли бугры — разгладилась дорога и, сверкая на солнце, подрагивала, как цементный раствор, способный через некоторое время схватиться и затвердеть. Но ни через день, ни через неделю он не схватился, и проулок продолжал киснуть и клокотать, подогреваемый знойным солнцем. Казалось, что вонючему замесу не будет дна, как его ни прожигай. И битый кирпич, обещанный Тихоном, потерялся где-то вместе с трактором ДТ-54.
Он хотел сплюнуть, но во рту было сухо, как в ладони, натертой черенком лопаты. Щеки ввалились и, как показалось ему, прикипели к деснам. И кто-то ведь тогда потянул его за язык — брякнуть об этом тракторе, хотя достать он его мог только при условии, если бы действительно работал где-нибудь в гараже… «Работал, работал! — со злостью подумал он. — В гараже! Работник хренов… Из армии профессиональных бичей!» О Лехе вспомнил — не полегчало: разве это оправдание? Перед участковым — куда ни шло, а себе все равно не соврешь, себя не обманешь, не проведешь, как рыночного зеваку. Сам-то ты на этом деле пса схрумкал, а он, может быть, только мышонка. Фу, какой разрыв!..
Он сполз в кювет и напился прямо из лужи. Вода оказалась теплой и безвкусной, как в бочке, заполненной вчерашним или позавчерашним дождем. Есть ему не хотелось, и он поспешил к теленку, ожидающему неподалеку. Теленок стоял грудью вперед, но шею выгнул так, что едва не коснулся губами собственной холки: не отставай, мол, хозяин… И тот торопился. Они давно уже привыкли к телеграфному гулу, натянутому между землей и небом, и как бы даже слились с ним. Только вначале не понимали: то ли воздух такой гулкий, то ли гулкой дрожью пропиталась округа, впитывая в себя и траву, и деревья, и людей, и животных, что иногда объявлялись вблизи частых деревень: бредет стадо коров и гудит, гудит необъятной утробой, как сама земля. Но вскоре Тихон почувствовал, что грудь у него онемела и, точно столб, стала гудеть на выдохе.
Вблизи деревень поля невыносимо воняли, как будто их удобрили не навозом, а силосом, пролежавшим в яме года три-четыре. Этот отрезок пути Тихон старался пробежать, сомкнув плотно губы, и теленка торопил. Это были чужие поля, таких полей не было у Тихона в памяти, и сравнить он их ни с чем не мог. Те, далекие, из детства, пахли березовым поленом и русской печью. Тетя Фая, мать Петьки-дружка, ездила по деревне на лошади и с боем выбирала из домов печную золу. Кто отдаст по доброй воле такое золото, у каждого свой огород, своя земля… Но отдавали полю, чтобы не засорять его всякой дрянью. Потому и поля были родными, потому и пахли они родиной, а не остро-кислым, как едкая мазь, силосом.
В заболоченном клине, меж двух бесконечных пропашек, бродили коровы. Они стояли боком к дороге, но почти что враз повернули головы, чтобы разглядеть получше незнакомцев. Тихону вспомнилась Цыганка, умная и послушная коровка. Но жалости к ней он не испытал, как будто тогда, на мясокомбинате, один раз взвыл по ней и оторвал от своего сердца. Теперь он оглядывал коров, и эти чужие коровы доставали до печенок своими шершавыми языками. Он не хотел, но глаза цеплялись за каждую и будто обжигались… Человека, увидевшего корову, не рога интересуют, не холка, не окрас — он смотрит на вымя, по которому и определяет породность этой коровы. Здесь же, в перегляде на Цыганку, породу невозможно было определить: отвисшее вымя тащилось у каждой чуть ли не по самой земле, готовое в любой миг оторваться, но чудом держалось на этом скукоженном лафтаке, точно на пуповине. Может быть, так выглядывает из сумки детеныш кенгуру… Но вымени не было — от коровы отделился какой-то нарост, похожий на пудовую килу. Обезображенное вымя не знало человеческих рук, потому оно и отделилось от коровы. Насосы высасывали молоко, а когда оно кончалось, то как бы по инерции продолжали высасывать и соки, и кровь из опустошенного вымени. Так показалось Тихону. И он не мог себе представить, что вот у этой безрогой буренки когда-то розоватое вымя было покрыто пушком и плотно прилегало к животу, как высокая коврига, потому что сейчас оно блестело и рябило мелкою клеткой, как голенище кирзового сапога, затертое до дыр. Этих коров ему было жалко. А стадо продолжало стоять, и жевало оно свою жвачку, клейко срывающуюся с нижней губы. Казалось, что и травы-то тут доброй не было — одна болотная слизь, которую трудно удержать на языке. Хорошо, что хоть после пастьбы скотину покормят на ферме каким-нибудь травомолом и начнут выкачивать, высасывать из нее молочный должок.
В этом колхозе Тихон бывал не раз: работал в бригаде шабашников на строительстве коровника. Тогда они очень спешили, потому что договор с правлением колхоза был заключен не весной, как это делали опытные люди, а в середине лета. В середине лета начали копать ямки под столбы и бетонировать их, к концу сентября предполагалось поднять стены, а там — крыша… И бог бы с ней, с крышей, но по расчетам бригадира они оказывались под проливными осенними дождями, когда от насморка до гриппа или воспаления легких — один час. Поневоле всполошились — и в ямки, и в прогоны под фундамент, принятые колхозным начальством, полетели кирпичи, обломки досок — словом, с бетонированием они покончили в три дня. Ни одна бригада в округе не работала еще в таком прогрессивном стиле. Через три месяца коровник принял, как писали в районной газете, высокопроизводительное стадо буренок. И бык-хозяин с радостью вошел в свое просторное стойло. Он не суетился, с достоинством вел себя — обнюхивал и оглядывал хозяйским глазом новое жилье, терся крепкою головой о стойки, торчащие из бетона, всхрапывал. Всем своим видом он напоминал человека-труженика, который вдруг получил двухкомнатную квартиру. «Мне сорок восемь лет, — скрывал он свое недоумение и ликование, — а я уже вошел в такую квартирку! Нет, это жизнь!» Бык принял коровник, а колхозная бухгалтерия рассчитала бригаду, как и полагалось по договору. И Тихона в этот сезон рассчитали по совести…
Выкурив пару «беломорин», Тихон почувствовал, как засосало внутри: надо было перекусить в деревне. Он встал, отряхнул брюки, подтянул их… Под ремень хоть кулак вгоняй! Как назло, пояс у этих брюк был без гужиков, держащих ремень, и потому он «выпускал» их из своей удавки, — пришлось перетягивать себя в поясе, как мешок в горловине, чтобы не вывалиться из штанов. Тихон шел к магазину, где хотел взять хлеба, банку каких-нибудь консервов да пачку папирос, без которых невозможна дорога: с голоду не умрешь, а вот без табака…
— Здравствуйте, мужики! — улыбнулся он, подойдя к мужикам, сидевшим на винных ящиках под окнами сельмага. — Жарко у вас… Хоть в колодец прыгай.
— «Здравствуйте», — передразнил кто-то Тихона. — По-русски-то не можешь поздороваться-то: дескать, привет, мужики! — обязательно надо с хохляцким выкозюливанием. Деятель!
Но передразнившего тотчас одернули:
— Ты че, Костыль, к мужику привязался? Человек подошел, поприветствовал нас…
— Вот именно — вас, — буркнул тот, — хохлов немытых, а я-то кровный россиянин, работяга по крови, а не по стажу. Вам до меня вместе с пришельцем тянуться да тянуться, не лопотали бы уж, говнюки позорные.
Костыль пересел на другой ящик, одернул на себе пиджак, стараясь выпятить, выставить напоказ перед пришельцем свою орденскую планку. Он был не старым, но каким-то изжульканным до не могу, как будто только что пришел с фермы, где задавал корм скоту. Остальные были помоложе — лет по сорок мужикам, не больше.
— А ты… Ты не трожь, собака, Украину! — набросился на Костыля один из мужиков. — Я украинец, но работаю здесь… Пятнадцать лет уже коровам хвосты кручу. Чем ты лучше меня?
— Я и не говорю, что лучше, — ответил Костыль. — Я о хохлах говорю, а не об украинцах. Понимать надо.
— А какая разница?
— Большая, — кашлянул тот. — Украинцы, как я понимаю, на Украине живут, а хохлы — ищут, где получше. Ненавижу рвачей! А ты садись, земляк, — обратился к Тихону Костыль. — Потолкуем, как приятели, посидим.
— И ты ищи, где получше, — посоветовали Костылю.
— А я в своей жизни не видел ни хрена, кроме этой вот деревни да коровьего навоза, — подхватил Костыль, — хорошо, что хоть война была: нужда провела меня по всему свету, поглядел на людскую жизнь… Точно в музее побывал. Да когда же я стану жить-то! На чужую жизнь поглядел, а свою все никак не начну.
— Кто тебя здесь привязал, — возразили Костылю. — Поезжай к морю да живи там тридцать ден, пока отпуск не кончится. Обидчивый какой.
— Не обидчивый я, ты зря не городи тут, — отозвался Костыль. — У меня четверо ребятишек, а зарплата одна — сто тридцать рублев… Так что я в Юмень-то не каждую пятилетку езжу, а ты про Черное море мне толкуешь.
— Смени работу… на пятьсот рублей… Тогда съездишь.
— Хы! Смени работу, — закурил Костыль. — Где ж ты ее найдешь такую! Нет, брат, нас с тобой крепко загнали в эти сто тридцать рубчиков… Хомут надежный, и сносу он не знает. Скажи мне: дескать, ослабла мошна — подбрось, мужичок, на развитие цветной металлургии. Да разве бы я отказал?! Пожалуйста, коль надо, не враг же я своей родине. Так нет, втихую работают, по-подлому… Штрафы кругом да налоги… То профсоюз тянет, то рыбнадзор, то магазин, а у меня — сто тридцать рубчиков. Как быть?
Мужики промолчали.
— А никак! — продолжал Костыль. — Жизнь-то прогуляли, видно, наполовину… Обеднело малость государство, отощало — вот и переходит потихоньку на народ свой безропотный, как на подножный корм. Так бывает — уж когда хуже некуда, то есть в крайних случаях. Соображать надо, — рассуждал Костыль. — Дорвутся сейчас до нас, в неохотку-то повытопчут больше, чем съедят. С военной угрозой народ баламутят, на ней сосредотачивают наше внимание — зачем? — оглядел он мужиков, не имеющих никакого отношения к военной угрозе: «выпускали» они молоко, мясо, хлеб, а не атомные бомбы. — Что я могу, если даже буду кричать против войны? Нет, неспроста этот отвлекающий маневр: мол, напужаем близостью войны, тогда они и под ноги не будут смотреть и о жизни своей роптать-говорить не станут. Дескать, есть дела поважнее, а прохудившийся коровник — тьфу! Во как! — Костыль поднял над головой руку с вытянутым указательным пальцем, точно направление ветра угадывал, и создал таким образом искусственную паузу.
— Против государства прешь, — нарушили эту паузу мужики. — Пора тебе, брат, в дорогу собираться. Сухарей сушить не надо — у нас такой хлеб, что как раз подходит к тюремному житию. Возьмешь семь буханок — и до Колымы тебе хватит.
Костыль помолчал. Казалось, он о чем-то думает, прежде чем ответить шутнику. Вот он подтянул обе ноги к себе, и одна, правая, ударилась об ящик. Деревяшка о деревяшку. Тихон понял: правая — это протез и даже посочувствовал Костылю.
— И с работой нас объегоривают, — заговорил тот. — Суют дешевку, а чужакам отдают дорогую: дескать, зарабатывайте денежки, а взамен — ну, пригласите нас к себе в гости отдохнуть. Лучше всего — прямо к морю. Происходит сделка.
Мужики не встревали. А Костыль продолжал:
— Отдают дорогую работу шабашникам-хохлам, а те? А те-то чего? Неужели они не понимают, что грабят бессильных людей? Да, на ферме я ворочаю, как бык, но в этой жизни — я круглее нолика. Кто-то тут распоряжается… Мне аж страшно порой становится: а вдруг и меня, живого человека, со стадом погонят пастись? И человек ли я?.. Голова-то у меня перестала варить, потому что от нее не требуют этого… — Голос у Костыля сорвался, и он затих, как пересохший вдруг родничок.
Тихону прежде казалось, что он оторвался от жизни, но теперь он почувствовал ту боль, которая грызла Костыля. Он понимал этого мужика с протезом. Значит, не только он, Тихон, судил — судили все: и жизнь свою, и жизнь чужую, которая текла сквозь них и обдирала до крови душу. Прежде он думал, что время пришло такое — болтливое от безделья, и даже доказывал это самому себе: в беде выстоит русский человек, слова не обронит, а вот в безделье — хоть пропадай. В этом безделье он и сбивает язык, как сбивают подошву сапога. Мужику нужна работа, руки его не могут без работы, в противном случае вместо рук работает язык, который и вправду без костей. Люди не умели воровать, они просили повсюду работы, приносящей доход семье. Люди устали работать только за кусок хлеба… Безработный — это когда голодно и, может быть, нет жилья, но у нас-то: живи! У нас мужик стоит за прилавком, а иные народы вообще не работают — торгуют… Хуже того, бичи рассматриваются как паразиты, а не рабочие руки, которые бы могли озолотить эту землю. Эх ты, Россия! Пятьдесят лет назад ты учитывала даже детские ручонки, а теперь ведешь счет безработным рукам на сотни и тысячи: сотня рук не трудится на тебя — и бог с ней, с этой сотней! Считаешь по-крупному: тысячи, десятки тысяч… Масштаб! Но при таком-то счете можно и не работая прожить, и живут — благодать какая! Сколько же тогда у нас не работающих? Тьма!.. Тихон даже головой покачал, припомнив былые притоны, вокзалы, мясокомбинат: по одному орешку, а весьма приличный мешок набирается. Это всегда его поражало, хоть давненько он стал раздумывать об этом: видишь-понимаешь, но объяснить не можешь. Беспомощней Костыля… Вот встретились, а говорить стали — как глухонемые, двух слов связать не могут. Что за мужики! Таких убивать будут, угнетать — письма прокурору не составят. Но ведь и при крепостном праве знали, что нельзя так больше жить, а слов… Хвать за дубину! Не то, граждане мужики, не туда гнете.
Вот и сказать бы Костылю: чувствуешь-то ты верно, а по словам твоим дурацким выходит, что мы влопались в эту нашу замечательнейшую систему, как рыба в «морду». Вот она плыла по протоке из озера в реку, доплыла до крыльев, что направили ее к горловине «морды», и рванулась туда. А в горловине тесно, душно, больно… Но ведь казалось, что еще чуть-чуть — и кончится она, выпуская всех на речной простор. И она кончилась, но простор не начался: кругом сетка-плетенка, обратного хода нет. Остается одно — сидеть и ждать, когда тебя вынут из «морды» и, прикинув на ладони, решат: то ли жарить тебя, то ли сырым обгладывать до костей?! Редко какую мелочь бросают в воду. А крупная, задыхаясь в «морде», мечется, но вырваться оттуда не может. «Морда» на совесть сплетена: пока разберемся, как лучше сделать, чтоб выбраться из нее, передохнем и сгнием… «Как дохлые телята за коровником?» — «Да, ты верно чувствуешь, Костыль». Но Тихон не сказал.
Зато Костыль, немного передохнув, подал свой голос— неумело, но с чувством.
— Разве мы живем? — проговорил он. — Хохлы, эти живут!.. Тыквы съедают, а семечки нам везут, чтобы продать: сорок копеек за стаканчик. Ловкие ребята. А?! — наливался он жаром. — В прошлом году привезли машину яблок — и ну торговать. Народу сбежалось столько, что в очереди трех лучших доярок помяли. Надои на ферме упали… Нет, такого братства я не желаю. По мне лучше капиталист, но чтоб поступал по совести. — Костыль помолчал немного и поправил себя: — По натуре капиталист, а не по наличию денег. Таких-то и у нас в колхозе навалом… А вот тех, что прислали на ферму конвейер, — это большая редкость. Зато они не обманывают: конвейер хорош! Я при нем отдыхаю. Он работает ровно, бережет мои руки и ноги. Молодец! Спасибо капиталисту.
Костылю посоветовали запастись сухарями, но тот отказался:
— Без сухарей обойдусь.
На крыльце появилась продавщица, грузная и толстогубая женщина.
— Тихо, братва, — прошептал Костыль. — Шлеп-губа на горизонте.
Шлеп-губа с презрением оглядела бездельников и, перебирая в руках тесную связку ключей, направилась к амбару. Она открыла дверь, вошла внутрь амбара-склада, откуда пахнуло крепким запахом лаврового листа. Через минуту она вышла оттуда с мешком на загривке, повернулась боком к двери и, толкнув ее ногой, ловко набросила замок.
— Пьянчужки! — бросила Шлеп-губа, проходя мимо мужиков. — Так и будете здесь сидеть до вечера. — Срамота!
— И будем! — подтвердил украинец. — Не кипишуй.
— Срамота! — повторила женщина, приближаясь к крыльцу. — Добрые люди робят, а они толкутся здесь с утра, как на ярмарке.
— Кто это — добрые? — насторожился Костыль. — Хохлы, что ли?
— Срамота! — Продавщица, не отвечая, стала подниматься по ступенькам крыльца, качнув его, как плотик на реке, с которого обычно полощут белье. Она вошла в открытую дверь и через некоторое время сильно хлопнула ею.
— Злится, стервоза. Работает на двух ставках, а кто-то виноват, что ей приходится мешки на себе таскать.
— Бери с нее пример, Костыль. А то плачешься, что мало плотют… За что тебе, лентяю, платить деньги?
— Опохмелимся — разберемся, — пообещал Костыль и умолк.
После магазина Тихон вырвался за деревню. Он потерял теленка и теперь оглядывал пастбище. По пастбищу к теленку приближался огромный бык. Громадина надвигалась. Внутри ее клокотала бездна, готовая вырваться наружу. Громадина двигалась. Вот она подошла и… обнюхала теленка. Тот аж задрожал весь. Но ничего, к счастью, не случилось, ничего не произошло, хотя Тихон перепугался, что теленка сейчас прямо на его глазах раздавят и втопчут в гудящий, как эта громада, дерн. Бык лизнул теленка, скупо и жестко окатив его языком снизу вверх — от ноздрей до влажных глазниц, и только после этого отвалил в сторону, отпуская их с миром. Тихон прокричал: «Циля!» — и, подталкивая теленка, чуть ли не бегом заспешил к дороге. Колени слабели… Теленок, как назло, взлягивал, убегая от хозяина, и недовольно крутил головой. Вот-вот, казалось, он зацепится мордой за кочку и полетит вверх тормашками, преграждая путь отхода не в меру суетливому хозяину.
На обочине Иваныч оглянулся. Черный бык, наливаясь гулом, шагал в обратную от дороги сторону, вовремя заметив, как крайние коровы потянулись к ферме. Надо было их завернуть и заставить добирать пастбище, где клубилась небольшая, но сочная трава. Бык знал, здешняя трава была слаще.
Жара вроде бы спадала. Не так хотелось пить, как прежде, и сухая горечь от выкуренных папирос выветрилась изо рта. Тихон шагал за теленком и ни о чем, собственно, не думал. Ему даже ни разу не захотелось повернуть назад — к Юмени.
И теленок больше не беспокоил его: он семенил по обочине, никуда не сворачивая, как будто заранее знал, в какую сторону ему следовать, белолобому.
Скотовозка обрушилась на землю. Водитель, выглядывая из кабины, хохотал.
— Ну как, бедолаги? — кричал он, притормозив возле Тихона. — Не потеряли меня, а? Ха-ха!
Добродушный и краснолицый, как будто свежих помидоров наелся в городе, он вышел из машины и, подойдя к Тихону, похлопал его по плечу.
— Не серчайте! Замотали меня на комбинате, — как бы оправдывался он. — Едва отвязался. Думал, что и меня забьют, как выбракованного кастрата. Ха-ха! Ну, едем? Или — пешком пойдем? — балагурил водитель, наскучавшись в дороге по собеседнику. — А то бросим ее тут, эту развалюху, да рванем пешедралом. Эх, как люблю-у!..
Па-а родине-е, как па-а смаро-ди-не, иду — листом пахнет…Идем? Значит, идем!
— Э! Ты дурака не валяй, — после некоторой растерянности проговорил Тихон. Он и водителю обрадовался, и машине, которую тот водил, и выхлопному газу, — всему, что наконец-то настигло его в этой проклятой пустыне. — Я уж затылок смозолил, ожидая тебя…
— Затылком, че ли? Ха-ха!
— Затылком!
Они расхохотались, напугав теленка: тот аж отскочил в сторону, едва не налетев на телеграфный столб и не разбив себе голову.
Теленка погрузили на машину.
— А я, брат, в Юмени выпил целую сотню сырых яиц, — начал водитель, когда они стронулись с места. — Пью и пью, пью и пью, мать твою за ногу, и не могу уж, но пью. Через силу.
— Зачем пьешь-то, если через силу? — удивился Тихон, не подозревая никакого подвоха.
— А ждал, когда вареное попадет. И ведь не попалось, как я ни старался его отловить.
Смех их даже сблизил. В кузове бился теленок.
— Бастует, как студент, — пояснил водитель. — Свой, сытый, потому прыткий такой. Я же отвожу доходяг, смирных… Их загрузят, а они аж по доскам стелются: не дай, мол, бог, передумают да обратно выгрузят — в коровнике голодуха… Зато на комбинате — один укол, и ты в раю. Коровушку, брат, не проведешь.
Он остановил машину — отправились смотреть теленка.
— Ха! Отец сердешный! — воскликнул он. — Да мы озверели! Ни хрена себе пассажирчик…
Теперь они оба уставились на теленка.
А теленок, ударившись в боковой борт, отлетел на середину кузова и замер, не справляясь с дрожащими ногами. Ноздри вывернулись, обнажив влажную красноту, глаза округлились, загривок ощетинился, как у фыркающего кота… Бычок косился на лепехи, присохшие к бортам, на солому, стертую копытами животных чуть ли не в порошок, и за всем этим ему виделась какая-то убийственная бездна, что могла и его, оказавшегося в кузове, поглотить, как она поглотила, наверное, не одного теленка. Он чувствовал, он слышал запах мочи, запах шерсти, на него веяло прелым дыханием тех животных, что кормились силосом и соломой, но кроме этих запахов в кузове не было ничего, как будто все провалилось сквозь пол, затоптанный копытами. Он принюхивался, дрожа всем телом, и боялся шагнуть к кабине — там он мог провалиться и исчезнуть, как исчезли коровы, которыми пропахли эти доски, эта солома, этот кузов-загончик. От всего веяло смертью, и он, может быть, видел, как повисли на тросах коровы, и кровь, хлынувшая из их глоток, окатила его… Перепуганный Тихон лаял, как собака, но теленок, наделенный высшим чутьем, смотрел в бездну, не подвластную человеческому разуму, и видел в ней свою погибель.
— Вязать, вязать его, чтоб не разбился, — повторял шофер, повисший, как и Тихон, на решетке. — Иначе мы его не довезем.
Но Тихон перебрался через нарощенный борт и прижал к животу голову теленка.
— А веревка-то у тебя имеется? — спросил он шофера. — Надо бы связать, а то разобьется — верно говоришь.
— Нету веревки, — ответил тот. — И шпагатика никакого нету, вот ведь черт…
— Как нету? — не поверил Тихон. — Коров-то, что ты отвез, на что-то же привязывали. Не так же просто везли…
— Я говорю тебе: они смирные были, — ответил шофер. — Я говорю, что они даже плясали тут от радости: газую — пляшут, но чуть сброшу обороты — могила… Боялись, что вспомню о них и наброшусь: чего пляшете? А ну-ка поедем назад — в коровник… Может, брючным ремнем стянуть его? Попробуем?
Но теленок прижался к Тихону и затих. Страшно было тревожить его. «Если даже свяжем, — подумалось ему, — то все равно он сбесится и разобьет башку о какой-нибудь угольник». Тогда он решил ехать в кузове вместе с теленком.
— Поступай, как знаешь, — обиделся водитель. — А мне поговорить с тобой хотелось.
Он хлопнул дверцей, и скотовозка, взревев и дернувшись, покатилась по мягкому асфальту.
Вскоре Тихон, намучившись в кузове, попросился в кабину.
— Едешь, значит, строиться, — переспросил шофер, когда они разговорились. — С хорошей бабой… А у тебя как, работящая?
— Жена хорошая… Благодаря ей… — Тихон не знал, как высказать похвалу супруге. Зато водитель не растерялся.
— Ну, это, товарищ ты мой, самое главное! Я имею в виду, — уточнил он, — в жизни. А то иных послушаешь — и волос дыбом, как на твоем теленке… Спрашивается, что за крик? Может, женсоветы возродились, а? Ничего не понять. Но я со своей ненаглядной прибрел на окраину деревни, и мы молчком начали строиться. Плакали молча и плясали молча, бывало, даже голодали… Кричать-то стали уж после, когда вторая дочка родилась. Дочки-то, они горластые… — распахнулся он настежь. — Она, баба моя, красивой была, но я подвернулся— на рубахе пятнадцать заплаток, а на заднице… Словом, в работе я и красивым стал, и одетым не хуже ее.
— На дому, что ли, разбогател? — не поверил Тихон, вспомнив, как они с Клавой строились. — Так кому ты тогда дом строил? Нанимался в паре с бабой своей?
— Не-ет! Свой дом ставили, — хитрил шофер. — В той же рубахе и сокался на нем… Только в работе не пялятся люди друг на дружку. Так и мы. В чем бы она ни была — краше нет. И теперь ниче, правда, растолстела… Я и пою иногда: «Широка страна моя родная…» — без обид. А может, обижаю? Поосторожней бы… — смутился вдруг он. — Если обижаю, простит. Я ведь работяга до ужаса: день и ночь пыхчу, копейку для семьи зарабатываю, стараюсь. Надо жить, хочется жить, эх, люблю-у жить!.. — перехватило глотку.
Тихон, слушая водителя, ушам своим не верил. Все ему казалось, что тот врет.
— Если баба хорошая, — продолжал шофер, — то, считай, что ты уже выбрался на берег — выливай из сапог воду и сушись. Через некоторое время ты протопишь баньку свою, выпаришься и придешь в дом, чтобы сесть за стол. «Маньша! — крикнешь ты. — Принеси из кладовки окорок. Да не старый, а вчерашний… Кровяную колбаску не шевель — подай мне ливерную». Во как! У плохих баб мужики на пьянку выходят, как на работу, и дают по три плана — язык от болтовни в кровавых волдырях… Паскудно! — покачал он головой. — И я не прочь выпить, но чтоб в радость, и жена чтоб со мной сидела. Остальное — не жизнь… Да ты ведь знаешь, если говоришь, баба у тебя хорошая. С хорошей бабой трудно, но — иначе нельзя, — заключил он. — Я и работаю, и в вечернюю школу бегаю. Зачем — в школу? Да дочек стыдно… У отца безграмотного такие же и детки будут.
— Ты, значит, шоферишь, а жена по дому хлопочет… Так? — поинтересовался Иваныч. За разговором он и о теленке позабыл.
— Как это — так? Ни хрена не так! — ответил водитель. — Оба работаем, она — на ферме. Это у начальства совхозного бабы сидят дома. Правительницы! Им можно, но нам, честным и простым людям, нельзя сидеть без толку. Земля и та живет, пока рожает… Ты что, заквасить нас хочешь?
— И у нас так же, — соврал он. — Оба пыхтим. Потом пропитался до костей…
— Хуже! — рявкнул водитель. — Ты потом, а я мазутом пропитался. Ха-ха! Мне подчас кажется, что весь свет пропитан им. Да! — глянул он на Тихона. — Пью чай — от чая несет мазутом, борщ хлебаю — от борща, даже хлеб им пропитан… Думал: кажется так, но нет: баба с ложки меня пробовала кормить — то же самое! Да что ты будешь делать! Сроднились.
С минуту помолчав, он вполне серьезно заявил:
— Пусть так. Хрен с ним, с этим мазутом… Но я ел и буду есть настоящее мясо, а не «гуляш по коридору», что выдают в столовках. И детей своих буду кормить настоящим мясом, и бабу…
Он протянул Тихону пачку папирос. Закурили.
— Но мясо мясу рознь. Иные, как волки, таскают его на загривках из совхозных закромов, чтоб прокормить семейства. Тьфу! Если жрут ворованное, значит, — волчата… Из волчат вырастут новые волки. У, товарищ мой, конца этому нет! — прогудел шофер. — Лучше уж мазутом пропахнуть, чем воровством. Неприятно об этом говорить — будто из вонючей бочки попил, на губах слизь какая-то… Санекдотим? Да ты че такой квелый?
— Устал, — признался пассажир. — Скорей бы добраться до города.
— Ну, мне бы твои заботы! — расхохотался водитель. — Доедем. У меня впереди — медосмотр: баба ревнивая… Сейчас приеду, она меня бросит в ванну — ванну я в доме установил, — и начнет проверять: с кем, дескать, подлюка, стрепнулся. И так после каждого рейса.
Хохотали до слез.
— Не бить же ее, бабу свою, за такую глупость. Ничего, живем… Анекдотим.
Тихон так и не понял: то ли правда это, то ли анекдот. В Нахаловке все было конкретней… Мужики здесь проводили свою политику: бей бабу раза два в неделю — порядок обеспечен. И редкая из женщин сопротивлялась этому, но если уж решалась на такой дерзкий поступок, то почти всегда побеждала: «Два раза в неделю? — переспрашивала она. — Я не два, а один раз ударю, но чтоб сразу года на три».
— У меня тоже ревнивая, — сказал он шоферу. — Только так не проверяет. Языком в основном.
Ничего не случилось, но на душе… Будто чертик-плясун ковырнул ее каблучком! Печалило Тихона только то, что он не представлял себе, как его встретят в Обольске, не заявится ли он чужаком, стремящимся примазаться к богатой родне… Начнут расспрашивать: кто таков? — а он и язык проглотил… Хорош зятек! Подвезло родне… Но как он думал об этом, так и сказал водителю, надеясь на разумный совет.
— Тю! — воскликнул тот. — Не думай даже! Подумаешь, какие баре!.. Первая Дума!.. Чем отличается приезжий от аборигена, тем отличается и чужой от родного, а в сущности — те и другие — народ. Вот ты приедешь, вымоешься в баньке и выйдешь из нее как проявленный снимок… По нему поймут, что ты приезжий.
Тихон не понял.
— А волосы-то у тебя торчать будут, сверху — прибеленность, точно перхоть… Пархатый!
— Ни хрена не пойму, — признался Тихон.
— Так сразу видно, что вода не та. Не пошла она к твоим волосьям, не промыла их… Значит, ты откуда-то приехал и мылся до сего времени другой водой. Но ты не трусь, — успокаивал он Тихона. — Облупишься, как наличник, — заново покрасят. Новый слой впитается в тебя навеки — чем не родня?
На развилке они сняли теленка сверху… Теленок, оказавшись на земле, не проявил никакой радости — наоборот, покачиваясь, как обессилевший, он тупо смотрел под ноги и с чмоканием подхватывал язык, вываливающийся изо рта. Желтоватою слюной покрылись его губы и ноздри, как будто он только что ткнулся мордой в прокисшую лужицу. Тихон подумал, что теленок залежался, может быть, даже его укачало и он облевался в кузове, — не велика беда, разомнутся дорогой…
— На переправе окатишь его водой из Иртыша, — смеясь, посоветовал шофер. — Иначе не протрезвеет. Не первый год вожу скотину… Загружаюсь — трезвые, а разгружаться начну — лыка не вяжут. Не скотовозка, а спецмедвытрезвитель. Ну, по рукам! — протянул он Тихону руку. — Станешь богатым, заплатишь мне червонец за то, что доставил вас к месту…
— Деньги развращают, — неловко отшутился он. — Спасибо тебе, дружище. Не сердись.
Хлопнула дверца. Скотовозка, прогудев, как корова, свернула направо… По косматому столбу пыли, что поднялся за нею, можно было определить, в какую глушь зарывается она: кончилась административная дорога, покрытая асфальтом, началась простая — не растеряй колеса! — которую пробили здесь, может быть, для того, чтобы не всякий глаз мог добраться до глубинки, «откармливающей» для области тощих коров и телят. Тихон долго смотрел туда, где в непроглядной пыли затонула скотовозка…
Они шли к переправе не торопясь. Оба поглядывали в одну сторону — туда, где пыхтел, как колесник, перегруженный паром. На этом пароме они должны были переправиться на неведомый для них обоих берег.

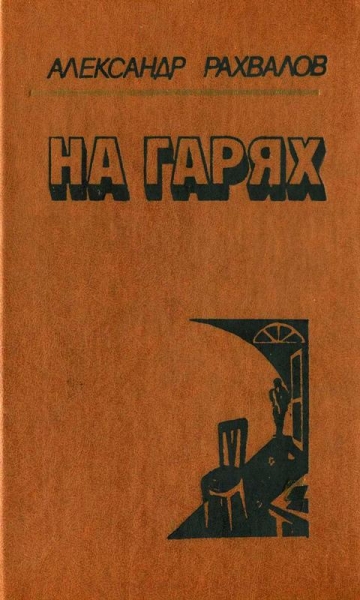
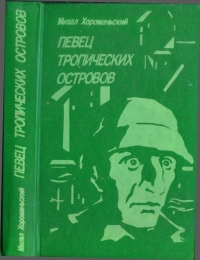
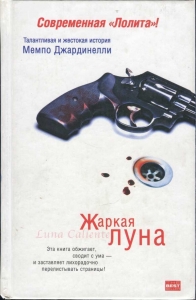


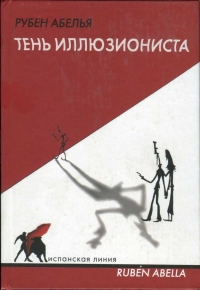
Комментарии к книге «На гарях», Александр Степанович Рахвалов
Всего 0 комментариев