Василий Михайлович ПЕСКОВ Полное собрание сочинений Том 12 «Ключи от Волги»
Предисловие
Среди самых любопытных командировок Василия Михайловича Пескова, несомненно, та, о которой вы найдете целую серию репортажей в этом томе: экспедиция «Комсомольской правды» на лыжах к Северному полюсу.
Нет, сам Василий Михайлович туда на лыжах не ходил, это был тяжелейший переход. И совершила его команда под началом Дмитрия Шпаро, теперь уже очень известного полярника.
Прежде чем вы прочтете его заметки об этом, стоит коротко рассказать о самой экспедиции. Она действительно суперуникальная. По сути, это был первый в истории человечества лыжный переход от берегов нашего континента до Северного полюса.
16 марта 1979 года семерка лыжников с рюкзаками за плечами выступила к полюсу с острова Генриетты (это в арктическом архипелаге Де-Лонга). Шли по дрейфующим льдам строго на север. Весь маршрут — 1500 километров по торосам и через трещины, разводья и полыньи во льду отделяли отважных путешественников от заветной цели. Сперва идти было тяжко из-за природы — температура нередко опускалась до минус 40.
Потом за экспедицию взялась усталость. Ведь весь груз тащили на себе. Вам будет любопытно: стартовый вес рюкзаков достигал 50 килограммов.
Они не просто шли, но еще и выполняли научную программу. Изучали проблемы выживаемости человеческого организма в экстремальных условиях Арктики, проверяли тонкости психологической совместимости людей, ели экспериментальную высококалорийную сублимированную пищу.
Естественно, опыт у команды был. К переходу на полюс они готовились девять лет, ходили в маршруты по дрейфующим льдам пролива Лонга, прошли от острова Врангеля до дрейфующей станции «Северный полюс-23», искали в Арктике следы пропавших экспедиций русских исследователей Севера Владимира Русанова и Эдуарда Толля.
Василий Песков с еще одним спецкором «Комсомолки», Владимиром Снегиревым, двинулись следом за экспедицией по воздуху. Чтобы встретить ребят на полюсе.
Нет смысла сейчас рассказывать об этом подробно — вы все прочтете в репортажах Пескова.
Но все-таки стоит заметить деталь.
Время было советское, и потому помимо груза, который помогал ребятам выжить на этом беспримерном переходе, ребята несли на себе на полюс «флаг легендарных папанинцев — символ неразрывной связи поколений советских покорителей Арктики, верности молодежи славным традициям наших отцов». И непотопляемый, герметичный металлический красный шар-контейнер с надписью «СССР, высокоширотная полярная экспедиция «Комсомольской правды».
Конечно, такой шар нужен был, подобно тому, как нужны капсулы с записками об экспедициях, которые альпинисты оставляют на высочайших вершинах мира для подтверждения того, что они туда забрались.
Но эта капсула была не просто с запиской. Рассчитывая каждый грамм походного груза, участники перехода все-таки заложили в нее флаг СССР, горсть московской земли от стен Кремля, брошюру В. И. Ленина «Задачи союзов молодежи» (она, кстати, побывала до этого в космосе на борту орбитального комплекса «Салют-6»), серебряный рельсовый костыль БАМа (!), пучок колосьев с казахстанской целины, мастерок строителей ударных комсомольских отрядов, талисман Олимпиады-80 — фарфорового медвежонка, специальный выпуск газеты «Комсомольская правда» с рассказом об экспедиции, вымпелы ЦК ВЛКСМ и, наконец, как и положено — копии официальных протоколов о достижении Северного полюса, а также памятные записки на русском и английском языках.
Что делать! Такое было время. По всей стране комсомольцы закладывали в стены райкомов и горкомов ВЛКСМ капсулы с такими же примерно посланиями будущим поколениям…
Ребята шли 76 дней и 31 мая 1979 года дошли до полюса!
Вот их имена: начальник экспедиции, кандидат физико-математических наук, доцент Московского института стали и сплавов Дмитрий Шпаро. Научный руководитель маршрутной грунта, кандидат физико-математических наук, сотрудник Центрального экономико-математического института Юрий Хмелевский. Завхоз экспедиции, кандидат технических наук, сотрудник Всесоюзного НИИ продуктов брожения Владимир Леденев. Радист Анатолий Мельников. Врач Вадим Рахманов. И рабочий московского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Василий Шишкарев.
Впрочем, читайте репортажи Пескова, Василий Михайлович рассказал о них очень интересно.
Так что идем в этот маршрут вместе с ребятами и Песковым.
Андрей Дятлов,
заместитель главного редактора «Комсомольской правды».
1978 (начало в т.11)
В лесу над Вяткой
(Окно в природу)
В этих краях на узких лыжах не ходят. Узкие лыжи — это лыжня: куда один, туда все. Тут ходят на лыжах коротких и в две ладони широких.
Таким лыжам торная колея не нужна. Иди куда хочешь. Любое место на этих лыжах доступно.
Февральский снег капустой скрипит под лыжей. Лес, лес — буреломы, завалы. Но вот полянка, наискосок прошитая строчкой лисьего следа. Вот норки в снегу — у края поляны ночевали тетерева. Глубокий лосиный брод в ивняках у болотца. Заячьи петли рядом с лосиным бродом. И вдруг — следы, у которых идущая рядом собака жмется к ноге. Прошли волки…
Вятские земли не густо заселены. Тут осталось много пространства и для животных.
Тут человек, как и встарь, снимает в лесу урожай, дарованный дикой природой. И потому едва ли не в каждом из деревенских домов видишь широкие лыжи. К охоте тут приобщаются с детства и расстаются с ружьем у самого края жизни.
И охота, кажется, продлевает тут человеку жизнь. Глядишь, совсем старикашка, а сделал за день на лыжах километров под тридцать. И не с пустыми руками движется к дому — добыл зайчишек, косача и тетерку.
Разговор об охоте, начатый в лесу, кончается в доме у старика за чаем. И чувствуешь: нет ничего дороже для человека, чем вспомнить удачи лесных хождений.
Вспоминает охотник, как «офлачивал» (окладывал флажками) волков, как тропил зайцев, подманивал рябчиков, как добывал куницу и выдру, караулил на овсяных полях медведей. В речи, неторопливой и обстоятельной, множество местных вятских словечек и охотничьих тонкостей, с полуслова, впрочем, понимаемых за столом. На языке этом заяц не бежит, а летит, а утки весною над Вяткой не летят, а идут, тетерева из лунок в снегу не взлетают — взрываются, молодого лосенка зовут сеголетком, а волчат того же возраста — прибылыми. И так далее. Что же касается местных вятских словечек, то вот образец.
Когда зашел разговор о лосях, старик примолкнул, послушал охотников помоложе.
А потом сказал такое суждение:
— Лось — она хламина нотная, она, мотри, паря, тово…
Только чутьем можно понять мудреную простоту слов. В приблизительном переводе с вятского это вот что: «Лось, скажу тебе, зверь непростой, от него, смотри, парень, можно ждать всякого…»
На лося старик не ходит уже давно, а вот зайчишек, уток, тетеревов он еще промышляет.
— Пока ходится, надо ходить, — сказал он, прощаясь.
В холодных просторных сенях старик веником смахнул с полинявшей широкой лыжи снежок.
— Пока ходится, надо ходить, — повторил он уже на пороге.
Уже в сумерках шли мы в лесную избу к ночлегу. Убегала вперед и ворочалась резвая остроухая лайка. А мы не спешили, неторопливо шли, смакуя на перекурах аппетитное вятское словотканье: «Лось — она хламина нотная, она, мотри, паря, тово…»
Фото автора. 16 февраля 1978 г.
Черно-белая магия
Легче всего снимать пейзажи, говорят люди, впервые взявшие фотокамеру. «Из всех фотографических жанров труднейший — пейзаж», — говорит Ансел Адамс, американский фотограф-художник, снимающий уже шестьдесят лет. В этой противоположности — суть примечательного явления: фотография общедоступна, но лишь в руках человека-художника, человека, мыслящего образами, она становится искусством.
Ансел Адамс — фотограф высшего класса.
Слава его давно перешагнула границы Соединенных Штатов. Мы знали его работы. А этой зимой москвичи получили возможность увидеть их в подлинниках.
Выставка Адамса (восемьдесят четыре черно-белые фотографии) путешествует по миру уже третий год. В Москву она отправлена из Варшавы, а через пять дней будет послана в Анкару. Можно не сомневаться, что этот путь всюду отмечен успехом, ибо творчество Адамса интернационально, понятно и близко каждому человеку.
Главный объект фотографа-ветерана — природа: доступные взгляду каждого горы, деревья, лес, облака, роса на травах, ручьи и камни, обнаженные корни деревьев, тихие воды. Все это, снятое заурядно, остается обычно в домашнем альбоме фотографов. Но Адамс («снимает не объектив, снимает — сердце») так зорок, так строг и разборчив в изобразительных средствах и так умел в выборе момента съемки, что его фотографические образы поднимаются до высот философских.
Ансел Адамс. Секвойи.
Он неизменно пользуется черно-белым изображением («все чудеса мира размещены между почти белым и почти черным тонами»). На автопортрете мы видим его с громоздким треножником и большой камерой. Это отнюдь не чудачество. Только неопытный человек полагает, что дело решается нажатием кнопки на фотокамере.
На самом деле обработка пленки и перевод изображения на бумагу — едва ли не половина успеха. Для Адамса таинства, совершенные при свете красного фонаря, венчают все, что добыто при солнце. Больших размеров черно-белые негативы дают художнику много возможностей повлиять на конечные результаты.
Техника его виртуозна. И один из уроков выставки для всех, кто ее посетил, — ощущение безграничных возможностей фотографии. Другой урок: за каждым снимком — величайший труд и терпение, строгая требовательность к себе, без которых даже большой талант остается у подножья горы.
Еще одно ощущение — необычайная актуальность всего, что Адамс показывает. Многие снимки сделаны тридцать и сорок лет назад, но как они созвучны всему, что нас волнует сегодня!
Главная причина этому — сам объект, к которому обращены и объектив, и сердце Адамса, — Природа.
Мы чувствуем волнение, испытанное художником, от красоты и величия им увиденного. И это волнение передается нам, находит отклик в нашей душе. Искусство это времени не подвластно.
С каждым годом нам все дороже будет зелень лесов, молчанье пустынь, плеск чистой воды и сияние неба. И благодарность людям, этот мир для нас открывающим, будет лишь возрастать.
Не постарели снимки Адамса еще и потому, что он избежал влияния всяческих мод, которым за долгую его жизнь фотография подвергалась.
Строгая простота снимков, предельная четкость, вера в магию черно-белых тонов — таковы принципы Адамса. Он не поступился ими ни разу и достиг вершины в искусстве, именуемой классикой.
Все награды и звания, полученные художником, перечислить нет никакой возможности. Он почетный доктор искусствоведения нескольких университетов, автор многочисленных книг и многотомного руководства по фотографии. Но он признается: «Дороже всего для меня — простой человеческий отклик».
В Москву из Калифорнии Ансел Адамс приехать не мог, но на открытии выставки мы слышали его голос с магнитной пленки. «Для меня это большая честь, что мои работы увидят в Москве».
Завтра у Ансела Адамса день рождения. Ему исполняется семьдесят шесть. Это возраст, в котором и солнце, и человеческое тепло особенно дороги. И мы рады послать ему привет из Москвы, привет и Спасибо! от всех, кто видел его жизнеутверждающее искусство.
Фото из архива В. Пескова. 19 февраля 1978 г.
К человеку…
(Окно в природу)
В природе у человека есть спутники. Посмотрите в окно. Корку хлеба на снегу делят шумные воробьи. И лето, и зиму они кормятся возле людей, вся их жизнь приспособлена к этому соседству. Синица возле окна — гостья из леса. Летом ее не увидишь, а зимой — тут как тут, у нашего дома. То же самое и сороки. Летом в деревне их видишь редко, зимой же они скачут по крышам, по изгородям. Зоркие, осторожные, вороватые. Покормились, а на ночь — в лес, в густые теплые ельники. Возле людей держатся голуби и вороны. Рядом с людьми живут ласточки, аисты и скворцы. Спутником человека можно считать и волка. В глухой тайге волка не встретишь, он держится поблизости от селений — тут прокормиться легче.
Любопытно, что волки, сороки, вороны, воробьи, крысы, постоянно соприкасаясь с людьми, как бы «умнеют», иначе говоря, знают, что можно от нас ожидать за свою вороватость, и всегда начеку. «Старого воробья на мякине не проведешь», — говорится в пословице.
Сорока — не редкая птица, но вот уже много лет я безуспешно пытаюсь сделать хороший снимок этой красавицы, не подпускающей «на выстрел».
Животные, никогда не видевшие человека, совершенно его не боятся. В Антарктиде к пингвинам подходишь вплотную, и можно птицу даже погладить. Так же ведет себя наша сибирская птица дикуша. Самый крупный из хищников — белый медведь не чувствует страха перед людьми. Зато олени, кабаны, лоси, бурый медведь, зайцы, лисицы, многие птицы, услышав наши шаги, уловив запах, немедля спасаются бегством. Это результат векового преследования. Страх этот рождается не только опытом, но и наследуется. Однако он быстро слабеет, как только животные чувствуют безопасность и особенно покровительство. Слоны в Африке когда-то совсем не боялись людей.
Потом они стали бояться людей панически.
Теперь в заповедниках слонов наблюдают с расстояния в тридцать метров, и они спокойно пасутся. Лоси вблизи больших городов быстро привыкли к людям. Увидеть лося там, где он часто встречает людей, куда проще, чем в дикой тайге, где человека животные видят лишь в роли охотника.
Меру опасности все животные чувствуют очень тонко. И очень часто, не теряя страха перед человеком, они именно к нему устремляются в мгновения крайней опасности.
Два года назад, путешествуя по реке Воронеж, мы наблюдали характерную сцену. Сокол чеглок высоко в небе атаковал ласточку. Спасаясь, она комом шмыгнула в кустик, у которого мы стояли, хотя таких кустиков было на берегу много. В. Сорокин сообщает из Горьковской области: «Жаворонок, спасаясь от ястреба, упал ко мне прямо на грудь. Я накрыл птицу ладонью. Оторвать ее от тела, не повредив коготков, было трудно».
Охотники рассказывают, как, спасаясь от ястреба, тетерева, случается, падают и замирают прямо у ног человека. И немедленно улетают, как только главная опасность минует. И таких случаев много.
В. Кривоногое из Новоалексеевки Алма-Атинской области пишет, как в кабину грузового автомобиля влетел фазан. «Я резко притормозил, испугавшись и не зная, в чем дело. И в этот момент над капотом мелькнула тень ястреба».
Во время войны к нам в сени, помню, заскочил заяц. Услышав, как загремели ведра, я выскочил и увидел возле крыльца лисицу, за которой уже устремились собаки. О похожем случае рассказал мне отец. Он вез сено и сверху, с воза, видит, как полем лисица гонит ослабшего русака. Заяц почему-то хромал, и быть бы ему на зубах у лисицы, но сообразил заяц нырнуть под сани. И это его спасло.
А вот поразительный случай, который я записал неделю назад со слов егеря Юрия Константиновича Баранова (охотничье хозяйство Максатиха Калининской области).
«21 декабря я делал обход. В невысоком кустарнике сбоку большой поляны что-то мелькнуло. Лось! Идет почему-то согнувшись.
Явно меня заметил, но, странно, сделав петлю в кустах, он повернул и через поляну направился прямо ко мне. Тут я заметил: лось-то в беде. На шее у зверя висел, волочился по снегу волк. Второй волк вцепился лосю в правую заднюю ногу и тоже тащился по снегу. В азарте охоты волки меня, как видно, не видели, лось же шел прямиком, наклонив голову, безуспешно пытаясь стряхнуть смертельную ношу. Он явно видел во мне спасителя. Я успел достать патроны с картечью и шагов с пятнадцати выстрелил. Висевший на шее волк кувыркнулся в снегу, но побежал. Я еще выстрелил. С удивлением увидел: оба волка лежат. Висевший на шее первым выстрелом был только ранен, а второго картечь, пролетев у лося между ногами, свалила сразу.
На лыжах я сбегал на кордон за товарищем. Следы рассказали нам все, как было. Лось почти километр тащил на себе волков. Три раза падал, пытаясь, возможно, подмять мучителей под себя, но волки не отпускали… Лось пострадал, однако, несильно. Потоптавшись на глазах у меня по поляне, он, оставляя капельки крови, побрел в сосняки. Из любопытства мы следили за этим лосем несколько дней. Выжил!»
Такая история. Любопытно, что все это случилось в охотничьих угодьях, где лосю одинаково опасны и волки, и человек. Однако принцип — из двух опасностей предпочтительней наименьшая — сохранил лосю жизнь.
Этот принцип лежит в основе поведения всех животных, о которых шла речь. Волки, для которых человек всегда опасность номер один, оценив обстановку, тоже спешат иногда под спасительный зонтик человеческого могущества.
Вот случай, рассказанный В. Вохмятиным.
«Ловили рыбу на озере… Степан тронул меня рукой.
— Смотри…
По зеленой траве скользила черная тень. Быстро снижаясь, над долиной летел беркут. И сразу же мы увидели волка. Он бежал тяжелым галопом, стараясь достичь спасительного ивняка. Выскочил волк прямо к прогалу, где мы стояли. Он явно понимал, что это лучшее место спастись от орла, и стал боком, не спуская с нас взгляда, подходить ближе. Он трусил, взвешивая, с какой стороны опасность была наибольшей. Но видя в руках у нас только удочки, приблизился почти вплотную. Беркут полетел прочь. А волк стоял рядом с нами, похожий на затравленную, смертельно уставшую собаку.
Поводив глазами по небу, волк неслышно шмыгнул в ивняки».
Покровительства слабых не ищут. Только к сильному при смертельной опасности льнет все живое. Человек в этом мире — наивысшая сила, не лишенная благородства. И это тонко чувствуют все, настигнутые бедой.
Фото автора. 26 февраля 1978 г.
Что делать с волком?
(Окно в природу)
Что делать с волком? У почтальона деревни Овчинниково Кировской области Михаила Васильевича Крюкова ответ на этот вопрос однозначен: «Ноги слабы, иначе я бы ему показал…»
В конце января, проезжая по маленькой деревеньке, мы увидели резвую пегую лайку, скакавшую возле дома на трех ногах.
— Жива-здорова, волчий огрызок, — сказал шофер, притормаживая. Мы дождались хозяина, и он рассказал: «Глядел телевизор. Слышу, кто-то стукнулся в дверь и сразу — собачий визг. Выбегаю… Волга моя на пороге в зубах у волка! Я тяну в одну сторону, волк — в другую. Вырвал. Однако теперь вот трехлапа и пуглива до смерти».
Мы сделали снимок хозяина и собаки на том самом пороге, где лайку догнал молодой, как видно, еще неопытный волк. Другим собакам повезло меньше. В беседе выяснилось: за минувшую осень и зиму волки в Кировской области прикончили три десятка породистых гончих собак, и никто не считал, сколько украдено лаек и всяких дворняжек прямо у сельских домов. «И собаки-лишь малая часть той дани, какую волки сейчас собирают», — говорит Михаил Павлович Павлов, ученый, хорошо знающий «волчью проблему». Между прочим, за неделю пребывания в Кировской области я был свидетелем дерзких набегов волков и уже не в деревню. В городской черте убили волчицу — «мастера» по собакам, а в двадцати километрах от Кирова обложили стаю матерых волков-лосятников. «Волков много.
Волки стали до крайности дерзкие. Такое я наблюдал лишь после войны, когда численность зверя была рекордной», — говорит Павлов.
В природе у волка врагов нет, численность зверя полностью зависит от интенсивности его истребления людьми. В друзьях человека он не числился никогда, волка всегда «держали на мушке». На западе густонаселенной Европы зверя полностью истребили. На наших пространствах это сделать не удавалось да и вряд ли возможно при поразительной жизнеспособности зверя. Как только волки становились «иголкою в стоге сена», преследование этих остатков оказывалось делом безмерно трудным, давление естественным образом ослабевало.
И четырех-пяти лет было достаточно, чтобы волки вновь о себе заявили. Эти «качели», возможно, являются лучшей формой сложившихся отношений с хищником: ему оставлялось место под солнцем и в то же время его держали в хорошей узде.
Однако бывали полосы в жизни, когда по разным причинам численность зверя возрастала стремительно. Главным образом это случалось в годы, когда «было не до волков». На памяти нынешних поколений это — время Гражданской войны и годы войны Отечественной.
Я хорошо помню: встреча с волком в наших воронежских краях была делом нередким. Волки, как пишут зоологи, встречались в двадцати километрах от Москвы. И если перед войной в Московской области волков не было, то в один только послевоенный 1956 год их уничтожено 265. Картину эту надо считать характерной для всех районов страны. В скотоводческих, степной и лесостепной, зонах численность волка была особенно велика (в Тамбовской — 1500, в Саратовской — 5000 волков). Ущерб хозяйству от набега зверей был колоссальный. Стали наблюдаться и случаи нападения на людей. В Кировской области зарегистрирован (документально!) двадцать один случай таких нападений.
Любопытно, что покушались волки главным образом на детей и не в голодное зимнее время, а летом, когда подрастающее в логовах потомство требовало еды.
Почтальон деревни Овчинниково Михаил Васильевич Крюков.
Меры, принятые против волков, хорошо известны. Облавы, капканы, яды, отстрел с самолетов постепенно низвели волка до тех самых «иголок в сене», когда истребление хищников стало дороже приносимого им ущерба. Эта точка «качелей» приходится на 60-е годы. Однако волк приспосабливался к новым условиям, и формы приспособления были поразительно интересны.
Человек изощренным гонением как бы учил волков жить. Неприспособленный погибал, а умный, выносливый выживал и умело избегал всех опасностей. В те годы я завел папку с надписью «Волк» и стал собирать свидетельства «из первых рук» обо всем, что касалось гонимого зверя. Сейчас число этих папок выросло до двенадцати, и в последние два-три года они пополняются беспрерывно. Газетные вырезки, письма читателей «Комсомолки», статьи и записки ученых, статистика. Анализ всей информации позволяет говорить о резкой вспышке численности волка, об изменении характера его поведения вследствие этого и о причинах, все это вызвавших.
Ученые В. Осмоловская и С. Приклонский, располагающие наиболее достоверными данными о численности зверя, пишут, что его терпимое поголовье в 60-е годы по Российской Республике не превышало двух с половиной тысяч.
Сейчас они называют двенадцать тысяч — численность зверя за последние годы выросла в 4–5 раз. Однако волки не покрывают равномерно всю огромную территорию. Волки — спутники человека, и в отдельных «волчьих углах» число их выросло в восемь и десять раз. Похожая картина на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Особенно много волков сейчас в Казахстане (по некоторым данным, до 30 тысяч). Простая арифметика заставляет ждать дальнейшего (и скорого!) роста числа волков (прогнозируется послевоенная численность). И, ясное дело, «регулятор» придется включать неизбежно — уже сейчас дань волку никак невозможно считать терпимой. В Пермской области, например, по данным охотоведа Виталия Нечаева, «за 1976 год тысяча волков уничтожила не менее двух тысяч лосей и 633 головы овец и коз… Убыток только животноводству за год исчисляется суммой 98 814 рублей». Сходные данные поступают из многих других областей. По официальному документу из Якутской АССР, ущерб оленеводству и коневодству за год составляет без малого два миллиона рублей. Это и есть то самое, что породило давнюю поговорку: «Не за то бьют, что сер, а за то, что овцу съел». И хотя понимаешь, на «серого» могут кое-что списывать волки двуногие, все же следует помнить: сеном волки никогда не питались.
Что касается волчьих повадок, то они остаются классическими. И первая из них — убивать столько, сколько можно убить. (В совхозе «Мокшинский» Кировской области в прошлом году после набега волков на ферме недосчитались полторы сотни овец. Одних хищники задавили в загоне, других, разбежавшихся по лесу, рвали поодиночке.) Во время лесной охоты волков наблюдаются все приемы стайного мастерства — загон, засада. И опять же, если есть возможность кого-то настичь, настигают, хотя предыдущая жертва не успела еще остыть. Все это в характере волка. Стоит, пожалуй, отметить особенности поведения, порожденные возрастающей численностью зверей. Волки, как все отмечают, стали в последние годы необычайно дерзкими, даже наглыми. (Забежать в деревню и тащить из рук человека собаку — характерный пример.)
Изменилось отношение волка к собакам.
В годы небольшой численности собаки признавались волками за родственников — смешанный брак был делом нередким, и в лесах одно время появились полуволки-полусобаки. Теперь к собакам исконное отношение: за собаками волки охотятся, нередко предпочитая их любой другой жертве.
Интересующий многих вопрос: есть ли случаи нападения на людей? Есть. Как правило, это связано с бешенством (в белорусской деревне Закорье матерый волк ворвался в дом крестьянки Татьяны Яковлевой и рвал подушки, половики, валенки — хозяйка спаслась, захлопнув двери на кухню), но есть сигналы о нападении на людей, преграждавших волку дорогу к добыче. Особо надо отметить единичные факты, когда волки в азарте стайной охоты избирали жертвою человека. Это свидетельство возросшей самоуверенности зверей. Она всегда появляется, если волка мало преследуют.
* * *
В чем причина неожиданно резкого повышения числа волков? В первую очередь искать ее надо в природных взаимосвязях. За последние годы наблюдается вспышка (зоологи говорят «взрыв») численности копытных животных: лосей, кабанов, оленей, косуль. Лоси размножились благодаря охранным мерам, но главным образом из-за роста кормовой базы (на месте вырубленных лесов поднялась молодая, наиболее продуктивная для лосей поросль). Оленей, кабанов и косуль не просто оберегали, но расселяли по многим лесным районам, нередко искусственно поддерживая их существование. В результате образовалось обилие пищи для волка. А в механизме природы пища — решающий фактор. (В логовах волков в последние годы наблюдалось рекордное число щенков — 10–12. И при обилии корма шансы на их выживание сильно повысились.)
Хорошим подспорьем волку служила и бесхозяйственность. Не убранный вовремя, под снегом оставленный урожай кормил кабанов.
Кабаны же (главным образом молодые) шли на стол волку. Помогала волкам и беспечность животноводов. Падших животных не трудились закапывать или сжигать, обеспечивая волкам даровую подкормку.
Это одна сторона дела. Вторая, не менее важная, состоит в том, что волка последние годы мало кто беспокоил. «Загнав хищника в угол в 60-х годах, мы как бы разоружились», — пишет один охотник. Это действительно так.
Трудная, требующая выносливости и смекалки, всегда почитавшаяся доблестью охота на волка в последние годы пришла в упадок. Состарились и позабыты егери-волчатники, «профессора», без которых волчьи облавы — лишь трата времени. Распались бригады специалистов — охотников за волками. Дилетантов же волки чаще всего оставляют в дураках, надолго отбивая охоту соревноваться с умным и очень выносливым зверем. Вся страсть охоты в последние годы сосредоточилась на лосе и кабане. Сравнительно легко добытое мясо почитается ныне важнее премии за убитого волка. «Стыдно признаться, — пишет все тот же старый охотник, — но в охотах на лося с загоном случайного волка, бывает, даже и не стреляют — не хотят отпугнуть лося».
Откровенно надо сказать и об общественной атмосфере, сложившейся в эти годы вокруг «волчьей проблемы». Истоки ее лежат в естественном интересе к животному, всегда игравшему в дикой природе роль «щуки, не дающей дремать карасю», к животному, которое в это же время было спутником человека и умело его обкрадывало, к животному умному, дерзкому, сильному. Наивысшая точка «качелей» (охотник — волк) совпала с волной природоохранительных мер, и волк неожиданно сделался символом наших забот. Как всякий гонимый, волк у многих рождал сочувствие. Главный очаг «покровительства волку» оказался в Западной Европе и главным образом в США. Там возникла вполне понятная ностальгия по зверю (в Америке к 1972 году оставалось три сотни волков). Опасность утратить волка как вид животного мира заставила зоологов серьезно заняться изучением зверя и принять меры к его сохранению. Несколько превосходных исследований, проведенных в США и Канаде, открыли много закономерностей в жизни волков, их роли в природе. Но, как это часто бывает, большая волна интереса несет и пену сенсаций.
При нынешнем движении информации мы получили и то и другое. И некоторые выводы и суждения, думаю, некритически перенесли на наши условия.
У городской интеллигенции наибольший сердечный отклик вызвала повесть-исследование канадца Моуэта «Не кричи: «Волки!». Книга эта, превосходная в литературном отношении, небезупречна в биологическом. Автор идеализирует волка. К тому же безоговорочная роль санитара ему отведена в условиях дикой природы севера Канады, где не существует хозяйственного оленеводства. Но все эти тонкости прошли мимо широкой публики. Остался в памяти лишь благородный и ласковый «зверь-санитар» и бездушные канадские чиновники, имеющие на него зуб. Городскому читателю, у которого волки ягнят и телок не режут и который искренне озабочен обеднением природы, очень хотелось видеть волка таким, как он описан в полюбившейся книжке. Так возникла известная идеализация животного с предельно доступным для понимания всех ярлыком: «зверь-санитар». Способствовал этому и наш брат журналист. По течению плыли и многие из ученых.
Плыли потому, что не было якоря научно обоснованного отношения к волку в наших условиях.
Затянувшийся спор — считать этого зверя «санитаром» или «пиратом»? — не был квалифицированным. И точку в нем, как видим теперь, ставят жизненные реальности.
Что же стоит за понятием «санитар»? Верно ли оно по сути своей? Верно, но со множеством оговорок. Как и всякий другой хищник, волк, конечно, поддерживает в нужной форме обитателей дикой природы, выбирая в первую очередь ослабевших. Но не следует понимать эту роль примитивно. Волк вовсе не размышляет таким вот образом: «Тот заплошал, возьму-ка его во имя здоровья всех остальных». Волки берут все, что способны догнать и свалить. А способности у них большие. Что же касается ослабевших, то среди них оказываются и беременные самки, и молодняк. И тут уже возникают претензии к «санитарам», особенно если число их немалое.
Волчьи повадки остаются классическими — сколько можно.
Еще обстоятельство. Роль селекции хищников безупречна и естественна в дикой природе, куда человек не вмешался никаким образом. Там, по закону обратной связи, и волки сыты, и лоси целы. Модель такой территории существует в Америке на острове Айл-Ройал (800 лосей и 30 волков; численность тех и других на изолированной территории не меняется). В некоторых наших заповедниках (далеко не во всех!) волк может быть терпимым и даже желательным селекционером. Но опять же в каком количестве? В Окском заповеднике (Мещера), пока жила только пара волков, все было как нельзя хорошо. Но у пары появилось потомство, а у потомства — еще потомство. И вот уже директор заповедника, грамотный, широко мыслящий зоолог Святослав Приклонский ищет способ срочного сокращения «санитаров».
И возьмем теперь обширные территории, затронутые той или иной формой хозяйственной деятельности. (Выпуск животных в лесах и подкормка их в трудную пору — это тоже хозяйственная деятельность.) Тут санитарная служба волка справедливо ставится под сомнение.
Животные, существующие при поддержке человека, с трудом переживающие невзгоды зимы, перед волком все подряд беззащитны. И всякое обогащение фауны в этом случае — не более чем поставка живности волку. Вряд ли разумно отдавать зверю и нынешний излишек лосей. Это было бы равносильно кормлению его с нашего не так уж богатого мясом стола.
И наконец, главная арена постоянной вражды волка и человека — животноводство. Тут ни о какой санитарной роли хищника говорить не приходится. Тут он просто разбойник, мировая с которым невозможна и не нужна.
Итоги. Численность волка необходимо и неизбежно надо сокращать. И к этому следует относиться спокойно. Любая чрезмерность нехороша. Нехороши полчища голубей, расплодившихся в городах, вредит лесу избыток лосей.
За волками же нужен особый контроль. Большое число волков — это пожар, тушить который предписано лишь человеку.
* * *
Существенным является вопрос: какими средствами регулировать численность зверя?
Некоторые считают: на пожаре все средства надо считать хорошими. Думается, однако, тут надо как следует оглядеться. Неразумным, разрушительным с точки зрения охраны природы и просто опасным явилось бы широкое обращение к ядам. Жертвой в этом случае неизбежно стали бы кабаны и лисицы, наравне с волками поедающие падаль, под удар поставлены будут и без того редкие в средних широтах вороны, а в Казахстане могут исчезнуть остатки крупных птиц-хищников, помеченных в Красной книге.
К тому же следует помнить: яды — средство ограниченно эффективное. Волки довольно скоро начинают обходить отравленный корм, и яд превращается лишь в административную видимость борьбы со зверем.
В степных, безлесных районах придется, видимо, вспомнить об авиации. Этот сугубо истребительный метод не очень дешев, стрельба с самолета многим из нас неприятна, но иного средства для животноводческого Казахстана, например, не существует.
Что же касается лесостепных и лесных районов России, Белоруссии, Украины, Прибалтики, то единственно верным средством тут надо считать традиционную, ныне сильно запущенную охоту на волка. Эту охоту надо всячески возрождать. Она хороша во всех отношениях: дает человеку яркие сильные переживания, дает радость познания тайн и законов природы, воспитывает мужество и выносливость, она эффективна, и вместе с тем это далеко не простое состязание с умным и сильным зверем — у волка всегда остаются шансы спастись. Человек при этом способе регулирования численности сам невольно становится селекционером волков — выживают самые опытные, самые сообразительные звери, не дающие при меняющихся условиях угаснуть волчьему роду.
Охота на волка сложна и трудна. Для нее «субботы и воскресенья», достаточных, скажем, для охоты на лося и кабана, мало. Неделю, а то и две меряют люди снег, распутывая волчьи ходы и выходы, переходы и перебежки (за ночь волки одолевают 40–60 километров), и очень часто весь труд напрасен. (Павлов: «Из десяти выездов на волков примерно лишь два бывают успешными». А вот данные со множеством любопытных цифровых выкладок. В прошлом году 10 егерей Вяземского охотничьего хозяйства Смоленской области за месяц ежедневной охоты в марте добыли двух волков. В том же хозяйстве и в это же время два волка убили: лося, двух оленей-самцов, семь оленух и трех молодых кабанят.)
Таков противник. Воевать с ним надо умеючи.
И непременной фигурой на всех облавах всегда был «Командующий» — волчатник, до тонкости знающий поведение зверя, страстный охотник и отменный знаток природы. Охота готовилась кропотливо: с выслеживанием и приваживанием волков, с соблюдением дисциплины и строгих правил. Теперь этой фигуры в охотничьих хозяйствах нет. И именно с нее надо возрождать охоту на волка.
Необычный труд волчатника-егеря одною лишь страстью к охоте питаться не может.
Егерь-волчатник всегда хорошо поощрялся. Поощрялись и все охотники. Государство платило премию за каждого из добытых волков, крестьяне же давали призы натурой — поросенка или овцу, выделяли волчатникам транспорт и всегда их встречали как желанных людей. Эти здоровые, нормальные отношения к охотнику за волками следует возродить.
Премию за добытых волков государство сейчас продолжает платить, но общее мнение таково, что нынешние ее размеры не срабатывают нужным образом. Разумным будет премию увеличить. Плату за шкуру волка тоже надо ввести в справедливые рамки. Сегодня охотнику платят лишь 3 рубля. Это борьбе с волками вряд ли способствует. Разумнее платить не 3, а 30 рублей, поощряя тем самым охоту и не давая расти подпольному рынку пушнины. Возможно, стоит, как было после войны, снабжать охотников за сданные шкуры волков товарами, каких не всегда найдешь в магазине. Волчатникам в первую очередь следует выделять лицензии для охоты на лося, предоставлять хотя бы недельные отпуска для охоты.
Есть и еще детали этой проблемы, обстоятельный разговор о которых уместен в изданиях специальных. Тут же следует подчеркнуть: организация охоты на волка — дело государственной важности. И медлить с нею не стоит, ибо время пока что работает на волков.
Важно не упустить еще одно обстоятельство.
Довольно распространенная точка зрения: «волков не надо изучать, волков надо истреблять» — в корне неверная. Работа по регулированию численности волка должна идти непременно с участием науки. А зоологам, нередко снаряжающим экспедиции в дальние страны, следует помнить: объект природы, изучать который насущно необходимо, находится рядом.
И надо его изучать.
И в окончании этой беседы — сердечная благодарность всем, кто нам написал, чьи письма лежат в основе этого размышления. На эту помощь читателей мы надеемся и в будущем — папка для писем с надписью «Волк» остается открытой.
Фото автора. 10 марта 1978 г.
Начало и продолжение
У Толстого Мыса
Семнадцать лет назад, зимой 1961 года, я впервые увидел эти места. В памяти все сохранилось черно-белым контрастным снимком: темная кисея леса, черный бревенчатый лик деревеньки с названием Невон, черные лодки на берегу, лошадь у самолета. Все остальное сверкало: снежная лента реки, белый столбами дым над деревней, бахрома инея над бровями.
— Нос белый! Три варежкой!
Я тер его так, что кожа сошла. Мороз в этот день подобрался к отметке 52. На пути к Толстому Мысу я соскочил с саней и с трудом на бегу выгнал мороз из унтов и длиннополого, с чужого плеча, полушубка.
— Вот тут и будет стоять… — сказал провожавший меня гидролог, укрывая обрывком мешка индевевшую лошадь.
Я закрыл глаза, пытаясь представить плотину над спящей белой рекой. И не мог.
Между тем первые символы стройки тогда уже обозначились. Неделей ранее в Невон из Забайкалья прилетели трое друзей-комсомольцев (в блокноте сохранились их имена: Василий Нарожный, Александр Зуев, Михаил Стовбер).
— В газете прочли: «Усть-Илимская ГЭС», и сразу сюда…
Судьба трех парней неизвестна. Возможно, они улетели из Невона, не дождавшись начала работ. Но для меня эти трое ребят, стоящих над белой рекой, и есть начало всего, чем потеплели сегодня ангарские берега.
Первые строители.
Семнадцать лет — немалое время. Однако на часах деревеньки, проспавшей у Толстого Мыса без малого три столетия, это было всего лишь мгновение. Деревенька за это время не изменилась и была для памяти некоей точкой опоры: «Тут проходила дорога, в эту сторону — Мыс, там дальше «Лосята» — два острова Ангары…»
— Вспоминайте, вспоминайте, — улыбался молодой летчик. — И запоминайте: тут все меняется на глазах.
Все изменилось неузнаваемо! Под вертолетом проплывал молодой город: дороги, массивы многоэтажных строений, «Жигули» у домов, как в Москве, — под брезентом, ребятишки у школы по лужам гоняют мяч, молодые мамы с колясками, орудовец «стружку снимает» с водителя самосвала…
— Семьдесят тысяч жителей! — кричит мне в ухо механик, наблюдающий, чтобы в азарте съемок фотограф не выпал в открытую дверь вертолета.
Город — справа и слева по Ангаре. Тайга уступила ему пространство. Но сверху видно: это всего лишь большой обитаемый остров в океане лесов — 250 километров до Братска, 850 — до Иркутска.
— Плотина… — показал глазами механик на темный брус, лежавший поперек Ангары.
Я помню волшебный момент, знакомый любому фотографу: на белом листе бумаги, опущенном в жидкость, вдруг возникает изображение — лица, деревья, дома… В моей памяти Ангара была белым листом, и вот теперь из сизой весенней дымки фотографическим чудом выплывала мускулистая плоть строения, обуздавшего Ангару.
Мы облетели плотину несколько раз.
Снимали ее с большой высоты и с малой, видели и при солнце, и в белом тумане косо летящего снега. Глядя сейчас на снимок, можно представить, сколько всего вобрала в себя эта постройка, третья по счету на Ангаре. На каком-то масштабном рисунке я видел плотину и рядом — ленинградский Исаакиевский собор. Известный храм — строение немалое, но у плотины он выглядел, как шкатулка в соседстве с тяжелым резным сундуком.
Плотина — сооружение особое. Любое другое строительство — езда на спокойной лошади: выбирай верно путь, будь терпелив, настойчив и цели достигнешь. Строитель плотины всегда подобен всаднику, вскочившему на коня необъезженного: в любой момент может сбросить.
У Ангары нрав особо крутой, надеть хомут на нее очень непросто, и потому опыт строителей здешних плотин во всем мире внимательно изучают.
Качество… Симпатичный пятигранный
знак, означающий: «изделие без дефектов», тут вызывал бы улыбку. Качество у этого рода построек — понятие само собой разумеющееся, ибо инспектор суров и пощады не знает — сама Ангара. Верблюду в игольное ушко пролезть невозможно, но река, если такое ушко находит, сделает свое дело. История знает немало плотин, поверженных силой воды. Представляете меру ответственности тех, кто рассчитывал эту постройку на листах ватмана, и тех, кто клал в нее ковш за ковшом бетон на морозе, при котором «птицы на ветках мерзли, а металл временами становился, как стекло, хрупким»?
Все тут было как на войне, как при штурме больших крепостей. И союзников человеку этот край не припас. Летом — мошка, зимой — мороз, необжитые расстояния, глухомань — все было против людей. И все же вот она, плотина. Стоит, подпирает спиною стену воды, прочная (с расчетом выдержать десятибалльное землетрясение), работящая, красивая.
Старший брат у этой постройки — Братск.
Плотина Усть-Илимской ГЭС.
Весь опыт, накопленный выше по Ангаре, сюда направляли без промедления. Ангару у Толстого Мыса одолели «с ходу, с разгону и малой кровью». А все, что накоплено здесь, — механизмы, сила и опыт пошли теперь дальше. Хорошие вести идут уже с плацдарма у Кодинской заимки. Там, ниже по Ангаре, готовится новое наступление, по силе равное Братскому и этому Усть-Илимскому.
Однако и тут, у Толстого Мыса, горячие дни не окончились. Мне даже сказали: «Наоборот, только все разворачивается».
Плотина, строительству которой подчинена была вся жизнь Усть-Илимска, сама теперь эту жизнь направляет. Пятнадцать турбин, вращаемых Ангарой, дают половодье энергии.
И тут (на базе: лес — электричество) возводятся предприятия, равных которым, кажется, не было в нашей стране. Коротко стройка означается буквами ЛПК (Лесопромышленный комплекс. Главный конечный продукт — целлюлоза).
О ней уже многое известно. Я тоже о ней слыхал. Но только поездив на «газике» по огромной строительной площади и увидев ее с вертолета, представляешь реально размеры встающего предприятия. Непосвященному человеку невозможно сейчас разобраться в кажущемся хаосе труб, корпусов, путепроводов, складов, дорог, траншей, огромных емкостей и гигантских металлических ферм. Специалистам тоже многое тут в новинку. «Плотина теперь мне кажется делом простым и понятным — одна единая строчка, а тут огромный кроссворд», — сказал молодой инженер, с которым мы облетали площадку.
Однако все идет тут по плану. У стройки уже появляются зримые контуры. В день полтора миллиона рублей — таков объем освоения средств. Кто знаком с экономикой, сразу поймет и накал, и масштабы идущих рядом с плотиной работ… Одновременно на берегу, у плотины, с таким же размахом строится город, в котором поселятся те, кто будет варить из таежной сосны целлюлозу.
Так обживается Ангара. Жизнь прирастает в этом краю плотинами, корпусами заводов, дорогами и домами. Но главное, чем согреваются здешние земли, — тепло очага. Свет в окнах и гомон детей — вот что радует больше всего в местах, где недавно следы оставляли лишь птицы и звери.
Край этот слабых не любит. Но сильному он покоряется.
Старожилы
Большому сражению предшествует тщательная разведка. Так же было и тут. В 1961 году в Невоне я встретил гидрологов, живших «в глубоком тылу Ангары» уже более пяти лет. Среди них молодые муж и жена Добрусенки, которых, помню, снимал у реки, у которых одалживал полушубок для поездки на лошади к Толстому Мысу, пил у них чай и ел осетра. Кусок осетра для ухи при мне отпилили ножовкой от громадной мороженой туши. Были еще помидоры — и отнюдь не болгарского производства, а выращенные здесь, в огороде у Ангары.
А что если вдруг гидрологи не уехали и живут по-прежнему тут? Без всякой надежды взялся я наводить справки и — чудо — на самый первый вопрос услышал:
— Добрусенки?.. Вот вам их телефон.
Звоню.
— Не помнят ли добрые люди фотографа, который семнадцать лет назад…
Они помнили. «Приходите скорей, будем вместе смотреть «Тихий Дон».
И вот мы опять за столом. Опять — рыба (на этот раз океанская), чай, пироги и — чего не было в Невоне, о чем даже и не мечтали тогда — телевизор.
От разговора о жизни Григория и Аксиньи на далеком отсюда Дону мы легко перешли к Ангаре, ко всему, что и тут прошумело и утекло. Вспоминаем до полночи. На другой день — продолжение «Тихого Дона» и опять разговор. Давние мои друзья вспоминают не для меня даже — самим интересно прокрутить ленту жизни.
— Все, как в кино, промелькнуло, а ведь двадцать три года пьем воду из Ангары.
— Вот тут, где наш дом, был глухариный ток, где сейчас стадион — было овсяное поле, осенью гуси садились…
— Осетры хорошо ловились как раз против мыса. Ивановна у меня — рыболов…
Моих друзей зовут Лидия Ивановна и Александр Васильевич. Друг друга они называют Ивановна и Василич.
* * *
Оба родились в теплом краю, в Майкопе.
Жили на одной улице. В один год окончили школу. Вместе начали работать. А поженившись, решили испытать семейную лодку тут, в необжитых местах. (Василич: «Никто не неволил. Сами решили: начнем все с нуля…»)
В Братске в год их приезда горели костры и жизнь начиналась с палаток. Там проходила линия фронта на Ангаре. Их же послали в тылы, дальше за линию — готовить новое наступление. И они согласились. (Ивановна: «Молоды были — все нипочем».)
В Невон с тяжелым сундуком снаряжения трехместный По-2 взять их не мог. Поплыли на барже и на лодке дальним кружным путем по Илиму и Ангаре. Плыли долго, полагаясь лишь на теченье и рулевое весло. Баржа везла в какой-то колхоз новый комбайн «Сталинец». (Ивановна: «Возле комбайна мы, как цыгане, и сидели со своим сундуком».)
Добрусенки — Лидия Ивановна и Александр Васильевич.
После кавказских бурливых речек Илим показался тихим и ласковым. По берегам проплывали редкие деревеньки. Дома были черные, без единого деревца. Лишь яркие белые ставни на окнах заставляли подумать: о красоте человек и тут не забыл. (Василич: «В Сибири с лесом всегда боролись. Лес был повсюду. И, конечно, никому в голову не приходило сажать деревья возле домов».)
Баржа с комбайном достигла цели. Пассажирам-гидрологам надо было искать новый попутный транспорт. И он нашелся. Их взяли в большую смоленую лодку, снаряженную за припасами на Ангару. В лодку сели: старик рулевой, шесть гребцов (по трое на весло), под уздцы спустили в нее еще и трех лошадей.
Это был старый испытанный способ доставлять груз водою. По течению лодка плыла своим ходом, а на обратном пути выводили на берег лошадей, и они не спеша, на веревках тянули посуду. (Василич: «Называлось это — идти бечевой. Тропа вдоль берега — бечевик».)
С «мотором» в три лошадиные силы много не увезешь. Возили лишь самое необходимое: дробь, порох, соль, керосин, спички и сахар, ткани, железо для кузниц и почту. Все остальное в деревнях по традиции добывалось на месте.
Люди, тут жившие, были одновременно хлебопашцами, рыболовами и охотниками.
Несколько дней смоленая лодка плыла по Илиму и Ангаре. Для ночлега искали пологий «привальный» берег. Выводили из лодки пастись лошадей, зажигали костер, ловили на ужин рыбу. (Ивановна: «На блесну из металлической ложки таймень попадался на третьем-четвертом забросе».)
У порогов в лодке оставались только старик рулевой и гребцы. (Ивановна: «Я глаза закрывала — сейчас будут щепки. И такое, как нам говорили, случалось. Но наш ковчег каким-то чудом проскакивал у камней».)
Двух молодых южан первобытность и глушь испугали. (Василич: «На одном из привалов я пошел поглядеть: почему косцы на лугу были все в черном — сапоги, на голове какой-то мешок, на руках — рукавицы. Пока дошел до косцов, без объяснения понял: мошка заставляла тут одеваться. В тот вечер я, помнишь, сказал: заработаем на обратный билет — и к себе на Кавказ».
Ивановна: «Не думали, что останемся надолго. Не думали, что полюбим неторопливую жизнь, и эту суровость, и здешних людей, и все, все. Не думали, что родим тут сына, дождемся внука…»)
Деревня Невон, лежавшая за большими порогами, была местом в здешних краях особо глухим. (Василич: «Не знали, что такое кирпич.
На всю деревню — один батарейный приемник. Колеса двуколок по недостатку железа были без ободов».)
Кузнец Семен Михайлович Сизых, встречавший лодку, узнав, зачем появились новые люди, расхохотался:
— Кум, послухай, кум, Ангару собираются запрудить. Ха-ха-ха!..
Прибывших кузнец поселил в своем доме, помогал им работать, но продолжал сомневаться. «Запрудить Ангару?..» — с улыбкой качал головой. Смеяться он перестал, когда батарейный приемник разнес известие: у Иркутска Ангару перекрыли.
* * *
Ангара была для людей тут единственной дорогой и главной улицей, была и кормилицей, и красою. Вся жизнь тут прочно к реке привязана. Летом из деревни в деревню ходили на лодках, зимой по льду делали санный путь — срубали торосы и приминали снег.
Из Ангары для питья брали воду. И почти так же просто, как воду, брали из реки рыбу: осетров, тайменей, сомов, хариусов, стерлядей.
Рыбалка была столь простым делом, что занимались ею главным образом женщины. (Ивановна: «В подполье у кузнеца рядом с картошкой зимою стояла бочка с водой. В ней мы держали пескарей для наживки. Сколько, бывало, возьмешь в берестяной туес рыбешек, столько несешь с реки и тайменей».)
Под спудом лежало еще одно богатство реки — огромная сила ее теченья. У разведчиков этой силы задача была простая: мерить скорость воды, уровень ее в берегах, температуру.
Мерить надо было методично, два раза в день и несколько лет подряд. Летом на лодке, зимой в санях кочевали гидрологи по реке. Колонки цифр, уходивших в Москву из Невона, приближали время больших перемен, а деревня жила прежним неторопливым старинным укладом. Двое людей из Майкопа приняли эту жизнь и вспоминают о ней сейчас с благодарностью. («Теленок в избе. Керосиновая лампа.
Бревна в стенах трещат от мороза. Газеты — раз в месяц… Тогда временами казалось: зачем все это? Теперь, оглянувшись, видишь: без тех девяти лет в избе ангарского кузнеца вкус жизни, возможно бы, и не узнали».)
Контрасты делают жизнь человека богатой и яркой. Главная здешняя перемена — скорость теченья всего. Веками жизнь шла тут на веслах и вдруг сразу, с ходу понеслась на моторе. («Как только стало известно: плотина будет у Толстого Мыса, — кажется, даже сама Ангара ускорила ход».) И все было тут в первый раз. Первый раз прилетел вертолет, появилась первая лодка с мотором, первый раз добрался тайгой сюда грузовик. Далее так и пошло: первый дом, первое перекрытие Ангары, первый бетон в плотину, первый ток дала станция. И вот уже город стоит на том месте, где молодой Александр Добрусенко стрелял глухарей, а жена его собирала в лукошко чернику. И ко всему, что было тут, что выросло, возмужало за двадцать лет, причастны двое этих кавказцев. Все, что тут радовало, будоражило и огорчало людей, было частью их жизни. И это является главным богатством семьи Добрусенко. Жизнь их, так смело и хорошо начатая, хорошо и продолжается. В отпуск они ежегодно ездят в Майкоп. Но судьбою их стали не горы Кавказские, а сибирская Ангара. («Все лучшее для нас связано с этой рекой».)
Добрусенки просили «не искать в их жизни ничего героического». Я и не стал искать. Рассказал лишь о том, что сами они с удовольствием вспоминали.
Кодинская заимка
Сибирское слово «заимка» обозначает место, занятое под пашню либо под сенокос. Стоят на заимке обычно два-три строения. Приезжают сюда из деревни на время, главным образом летом. А поскольку дорогу в малообжитых местах заменяет река, заимка — это почти всегда пойменный лоскуток занятой под хозяйство земли.
Кодинская заимка оказалась заимкой под громадное дело. Тут будет построена четвертая ангарская гидростанция. Название этого места будет, скорее всего, позабыто. Станцию собирались строить у Богучана, и в проектных конторах уже привыкли к названию «Богучанская ГЭС». Но тут, на месте, слово «заимка» еще в ходу.
— Куда вертолет? — спросил я у летчиков.
— На заимку.
— Возьмете?
— Садись.
Чуть левее этого места Ангару пересекает плотина.
* * *
От Усть-Илимска по прямой линии над тайгой до заимки двести с небольшим километров. На этой прямой я увидел три деревеньки и несколько ниток лесовозных дорог. Это были всего лишь маленькие человеческие причалы в океане лесов.
Леса тут хвойные. На высоких сухих местах — сплошь сосняки. А каждое пониженье — река, ручей, болотце, распадок между холмами — обозначено темной опушью елок. Если более часа лететь над такими лесами, покажется: вся земля из тайги только и состоит.
Но вот следы быстро идущих сюда перемен.
Лес сострижен. Горят костры. Козявками ползают тракторы. У Ангары штабелями сложена ждущая паводка древесина. Лес тут надо бы брать сейчас полной горстью, пока пространство это не стало очередным морем. И это время не за горами. Место плотины уже обозначено. Полным ходом идет подготовка строительства. В вертолете к заимке направляются прилетевшие из Москвы экономисты и инженеры — на месте оценить обстановку перед началом генерального наступления.
Садимся у Ангары. Часа четыре комиссия будет копаться в бумагах и осматривать место створа плотины. За это время можно как следует тут оглядеться.
* * *
В Усть-Илимске печным дымом не пахнет.
Варит, парит, обогревает и освещает там электричество. Тут же все пока по-таежному. У деревенских домов — баррикады сосновых дров, досок, опилок, щепок. Поселок от этого кажется желтым, янтарным. Пахнет прогретой солнцем смолой, дымом из труб, и где-то явно пекут блины.
Звуки тоже хорошие: стучат топоры, визжит дисковая пила, орут, почуяв весну, ребятишки и воробьи. Много на улицах молчаливых, изнывающих от безделья, добродушных собак.
И — не частая радость — ни единого пьяного.
Таково первое впечатление от поселка на Ангаре.
Захожу в первый дом познакомиться. Специально выбираю строенье немолодое, потемневшее и осевшее, с городьбою двора из тонких жердин, с коровой посреди городьбы. Хозяин приветлив, но без посредника-толмача объясниться мы, кажется, не сумеем: у старика ни единого зуба и вместо слов — только шипящие звуки.
Однако разговор получился. И за столом, где на выбор стояли бутылка корейской водки и кувшин молока, я узнал: хозяин дома Иван Иванович Куликов, его жена Валентина Ильинична и трое живущих рядом соседей представляют «уходящее прошлое» заимки.
Прошлое таково. В 1930 году волна бурлившей в сельских местах перестройки прибила сюда крестьян из-под Канска. Эти люди и положили начало поселку: раскорчевали лес, распахали землю под рожь и овес, завели огороды, построили мельницу, баню, пекарню. Ивану Ивановичу в ту пору шел девятнадцатый год, и это обжитое вместе со всеми место на Ангаре он стал считать самым хорошим местом для жизни. В1941 году отсюда он ехал на фронт и был в числе тех сибиряков, стойкость которых в морозную страшную зиму помогла Москве устоять.
Был ранен Иван Куликов в шею навылет. За что-то существенно важное сам маршал Жуков сказал этому сибиряку: «Молодец…»
После войны заимка почему-то стала хиреть.
Многие разобрали дома и перевезли на лодках в соседние села. Но Куликовы и еще кое-кто остались в поселке. И вот старики дожили до времени, когда все должно измениться, и очень скоро.
— Поселок-то будет затоплен. Не жалко хозяйство?
Старик вздохнул.
— Мы свое прожили. Вам, молодым, надо теперь глядеть, что жалко и что не жалко. Мои сыновья тоже вместе со всеми хлопочут. Оба — бурильщики…
Сыновей старика увидеть мне не пришлось.
Но в конторе геологов застал я главного их начальника, человека медвежьей комплекции, добродушного и веселого, с фамилией, как нарочно придуманной, — Буров.
— Сейчас, знаю, будете спрашивать, сколько всего я тут набурил… Все начинают с этого, — опередил мои шутки главный бурильщик.
Зовут его Игорь Сергеевич. Сюда, на зимовку, с отрядом геологов он прибыл уже давно и по праву считается тут старожилом. Он знает местную жизнь, тайгу, людей, охоту, погоду, норов реки. Но главное дело его — буренье.
Разведка буром необходима, чтобы надежно, на прочные скалы поставить плотину. И Буров бурил. На берегах Ангары и в русле ее (со льда) пройдено несколько тысяч скважин, заложено полторы тысячи шурфов, пробиты штольни.
— За фундамент ручаемся. Дело теперь за строителями.
Буровое свое хозяйство Игорь Сергеевич сейчас сворачивает.
— Двинемся дальше по Ангаре. Уже намечена точка…
Таким образом, покидает заимку и среднее поколение старожилов. На разведенном месте под стук топоров и урчанье моторов пускает корни жизнь совсем молодая. В семи километрах от берега заложен город (в поредевших соснах стоят там краны и домишки-времянки), а прямо у Ангары идет накопление сил для главного наступления — жилые дома, общежития, склады, аэродром, детский сад, школа… И продолжают стучать топоры. Поселок растет, принимая в себя идущие по таежному зимнику, а летом по Ангаре машины, припасы для стройки и молодых поселенцев.
Сейчас их четыре тысячи. Одни с опытом Братска и Усть-Илимска, другие только тут набираются мудрости жизни…
— И что же будет в этом сосновом храме?
— Тут банька, а тут — столярня, — откликается парень, крепивший стропила над аккуратным маленьким срубом. Плотника-парня зовут Александр.
— Александр Слащинин, — представляется он, вытирая с ладоней смолу.
Заходим в его домишко… Когда-нибудь Александр и его жена Наталья (она топограф) заведут себе фабричную мебель в квартире, полной всяких удобств. Но, поручиться можно, нынешнее свое жилище будут они вспоминать с благодарностью. Бревенчатые стены; кровать, сработанная без претензий на большое изящество, но надежно; стол; табуретки; сосновый шкаф; скамейки; полка — все еще пахнет тайгою, все сработано в радости: «жизнь начинаем».
На столе лежит много ходившая по рукам книга с надписью на обертке «Домоводство», на стене приколот букетик засохших здешних цветов.
— Издалека перебрались?
— Из Оренбурга.
Съездив на родину в отпуск, Александр привез с собой друга с женой. Теперь живут по соседству.
— Чем же понравилась жизнь на заимке?
— А все тут по мне. Дело хорошее и горячее. И время есть куда деть — на охоту хожу, рыбалка. Вольность тут чувствуешь…
На прощанье молодой плотник показал мне место, где будет стоять плотина.
— Как раз вот там, за краем поселка…
Пока мы в бинокль искали на правом, подернутом дымкой берегу Ангары точку, куда упрется плотина, подъехал шофер.
— Все уже в вертолете. Надо спешить.
Через десять минут мы вылетели и, сделав два круга, уже сверху с большим любопытством разглядывали заимку. Вон дом старика Куликова с коровою во дворе. Вон полинявший барак геологов. И, кажется, Буров сам стоит на пороге…
Дом и банька Александра Слащинина… Задорная надпись на свежей доске: «Даешь Богучанскую ГЭС!» И пока еще спящая Ангара…
Все это важно запомнить, потому что быстро-быстро все тут будет меняться.
Фото В. Пескова и из архива автора. Усть-Илимск, Кодинская заимка.
22–25 апреля 1978 г.
Птичьи постройки
(Окно в природу)
В предзимье, когда опадает листва, когда кустарник и лес делаются прозрачными, мы во множестве видим эти постройки. Сейчас же все скрыто, спрятано в зелени, и только писк детворы выдает иногда птичий домик.
Человек на ночь спешит под крышу. Птица выспаться может и на сучке. Но чтобы вывести, вскормить потомство, большинство птиц строят жилища, и эти постройки — одно из чудес природы. Многообразие их описанью не поддается. Есть гнезда-малютки величиною чуть более коробка спичек, и есть гиганты (у орлов, например) весом до полутонны.
Строятся гнезда на скалах под облаками, на высоких деревьях, но много их и внизу, у земли, и даже в самой земле, в обрывистых берегах (так селятся золотистые щурки, сизоворонки, зимородки, ласточки-береговушки), а красавица птица чемга, непонятно за что прозванная поганкой, строит гнездо плавучее.
У каждого вида пернатых излюбленные места гнездовий. Иволга подвесит свой гамачок высоко на березе, клест построит гнездо под плотным пологом из хвои, черный аист выберет место в глухом, малодоступном для человека лесу, а белый его собрат, напротив, безопасность чувствует лишь возле наших жилищ.
Птицы, живущие рядом с людьми, легко приспосабливаются к изменению обстановки.
Вороны, например, строят иногда гнезда на стрелах подъемных кранов, на опорах высоковольтных линий, а недавно в Ростовской области я обнаружил гнезда скворцов в металлических трубах, ограждающих полевой стан, и можно было только гадать, как выдерживают птенцы нагреванье металла солнцем и как они выбираются из трубы, когда возмужают. Нередкое дело — гнездо синицы в почтовом ящике.
Известен случай, когда трясогузка облюбовала для гнезда трактор и кормила птенцов, летая вслед за машиной.
Строительный материал для гнезд разнообразен: ветки, травинки, лыко, осока, древесный пух, а на внутреннюю отделку — волоски, шерстка и перья. Для опытного натуралиста иное гнездо — хороший справочный пункт: по шерсти, перьям и волоскам он сразу может определить, кто обитает в окрестностях. Дрозд рябинник, искусно сооружая гнездо, однако, обходится в нем без подстилки.
Внутренность его дома в полном смысле оштукатурена землей с подмесом древесной трухи и очень напоминает аккуратную черепушку.
Ласточка лепит гнездо из грязи, а в азиатских тропиках родственницы ее сооружают гнездо из слюны. (Гурманы такие гнезда употребляют в пищу, и блюдо «ласточкино гнездо» отнюдь не выдумка.) Для пингвина адели строительный материал — камешки. Самец прилежно носит их в клюве, а подруга его, сделав подобие круглой ограды, кладет в середине ее два яйца.
Птицы — наши соседи, пускают в дело все, что находят рядом. Стриж, лишенный возможности собирать строительный материал на земле, ловит ветром поднятые перья, нитки, соломинки, пух. Скрепляя находки быстро твердеющей липкой слюной, этот летун обходится легким гнездом-матрасом. Всеобщий любимец аист для подстилки птенцам носит различный хлам. (В одном гнезде я обнаружил обрывок чулка, кусок киноленты, страницу учебника алгебры, алюминиевую фольгу, детскую варежку, кусок шпагата, множество разноцветных тряпок и даже полинявшую двадцатирублевку, ходившую при Керенском.) Таким барахольщиком аист всегда и был. А вот новаторство.
У меня хранится гнездо вороны-москвички, сооруженное из веток вперемешку с обрывками электрических проводов и кусками железной проволоки.
Строительство — дело всегда хлопотливое, и кое-кто из птиц предпочитает этим не заниматься. Одни кладут яйца прямо на землю (чибисы, козодои, филин), другие занимают чужие гнезда. Все наши совы, исключая сову болотную, — квартиросъемщики.
Главными поставщиками жилплощади в наших лесах являются дятлы и сороки. Дупло — убежище очень надежное, и после дятла его по очереди занимают многие птицы. Так же надежен домик сороки. Немаленький шар из веток с прочным глиняным основанием имеет боковой лаз, и всякий в гнезде поселившийся хорошо защищен. (Сорочьи гнезда в разное время года птицы используют как гостиницу для ночлега. Сами сороки, по моим наблюдениям, предпочитают ночевать большим коллективом в плотных молодых ельниках — спугнул одну, и вся ночлежка подымается по тревоге.)
Врагов у любого гнезда великое множество, и поэтому птицы всегда стремятся надежно его укрыть и всячески маскируют. Зяблики, например, внешние стенки изящной своей постройки шпаклюют мхами, лишайником, а если гнездо на березе — в облицовку идет береста. Иные же птицы гнезда не прячут, а селятся массой (береговушки, грачи, бакланы, пингвины, ткачики, цапли, чайки). Тут защита гнездовий идет всем миром, и надежность ее проверена жизнью.
И это тоже — гнездо!
Есть в птичьем мире герои и в одиночку постоять за потомство. В Антарктиде, снимая яйцо поморника (оно лежало на голом камне), я убедился в смелости этой птицы — поморник пикировал сверху, почти касаясь моей головы. Точно так же на острове Врангеля защищала гнездо полярная сова (увечий фотограф не получил, но шапка с его головы сбивалась дважды). Однако такая смелость дана немногим. Большинство птиц защищают потомство разными хитростями: тщательно прячут гнездо, не выдавая гнезда, сидят в нем до крайней опасности, пытаются напугать, подражая шипенью змеи, отвлекают врага от гнезда, притворяясь ранеными.
Но лучшее средство укрыться от непогоды и от врагов — построить маленький домик-крепость.
Более всех преуспели в этом две наши синицы: длиннохвостая и синица ремез. Обе малютки, но обе первоклассные архитекторы.
Гнездо ремеза я много раз видел выставленным в качестве чуда в музеях, а этой весной в пойме Северского Донца обнаружил жилую постройку, наблюдал даже, как она возводилась.
В топком месте возле болота, на иве, на трех концевых свисающих книзу ветках, ветер покачивал маленькую корзину. Прутики ивы были в ней «арматурой», искусно оплетаемой ткацкой основой из волокон крапивы, а по основе скоро и споро шла набивка стенок корзинки пухом рогоза, росшего тут же невдалеке. Мое присутствие с фотокамерой двух маленьких пестрых ткачей слегка беспокоило, но работа не прекращалась. И постепенно корзиночка превратилась в глухой мешок с двумя отверстиями по бокам.
Одно синицы заделали, а к другому пристроили характерный сосок-крылечко, через который то и дело юркали внутрь постройки.
Две недели примерно продолжалась работа, работа без чертежей, инструментов, без предварительного обучения. Крошечный мозг архитекторов хранил в себе наследственную программу действий, где все учтено: место гнездовья, строительный материал, технология ткачества, чувство формы и меры, надежность конструкций. И вот он — ткацкий шедевр, напоминающий, впрочем, не ткань, а плотный и прочный войлок. Такое гнездо висит невредимым несколько лет, разве что сами синицы в поисках дефицитного материала разбирают его на постройку новой своей рукавички.
Сейчас в этом доме у ремезов и повсюду в гнездах, больших и малых, растет, наливается силой желторотая молодь. Велик соблазн подсмотреть, как это все протекает. Однако остережемся, не зря в народе говорят о «дурном глазе». Малейшая наша неосторожность гибельна для гнезда. Тревожный крик родителей, незаметное для нашего глаза изменение обстановки привлекают к гнезду разных охотников за птенцами. Одичавшая кошка, лисица, ворона, сойка, обнаружив гнездо, оставляют его пустым.
Недопустимо сейчас находиться в лесу, на лугу, на болоте с собакой, недопустимо, случайно обнаружив гнездо, кричать: «Эй, сюда!»
Июнь качает в своей колыбели разноголосую многоликую жизнь. Надо дать этой жизни спокойно стать на крыло.
Фото автора. 7 июня 1978 г.
От деда — к внукам…
(Окно в природу)
На минувшей неделе я получил три бандероли: книжку Сергея Владимировича Образцова, книжку зоолога Андрея Григорьевича Банникова и «Мурзилку» за июнь месяц от редактора журнала Владимира Федоровича Матвеева. Три разные книжки, но вместе по адресу «Окно в природу» они собрались не случайно, все три — разговор взрослых, умудренных жизнью людей с детьми о природе.
Листая книжки, я вспомнил знакомые с детства стихи: «Дедушка, голубчик, сделай мне свисток…» Два возраста, начальный и преклонный, тяготеют друг к другу. Жадность узнавания жизни и мудрость прожитого находят общий язык и общие радости. И первое, что роднит, что связывает начало и зрелость жизни, — радость от самой жизни. Мальчик ловит картузом солнечного зайчика, дед подставил зайчику руку — греется. И оба с интересом наблюдают, как ползет по скамейке с ношей маленький муравей, как дерутся у лужицы воробьи, как котенок крадется в траве у забора.
Много вопросов у внука, и на все у деда жизнь накопила ответы. Кое-что, взрослея, внук, возможно, вспомнит с улыбкой. Всем нам знакомо, например, деревенское наставление: «Лягушку трогать нельзя, корова молока не будет давать».
Забавно, но этот прием дедовской педагогики надежно спасал лягушек от цепких рук пятилетних естествоиспытателей.
Они и сейчас такие же любопытные, такие же цепкие, открывающие мир ребятишки. Мой внук недавно принес в картузе жабу: «Дедушка, давай сфотографируем, посмотри, какая она красивая!.. А потом мы ее оставим жить в доме».
У каждого времени своя педагогика. Сейчас мальчишку не убедишь стращаньем «корова молока не будет давать», сегодня ему нередко надо еще объяснить, что такое корова. Но цели у воспитания во все времена одинаковы: пробудить у растущего человека любопытство ко всему, что дышит, зеленеет, цветет, издает звуки, что составляет понятие жизнь. Человек, ощутивший родство с многообразием всего живого, более стоек в волнах бытия, легче находит ответы на неизбежный вопрос о смысле существования, ему не нужен бог для объяснения чуда жизни, он будет внимательно-бережливым ко всему, что рядом с ним соседствует на земле.
Человек, ведущий за руку внука, испытывает потребность передать ему эту простую, как воздух, мудрость. У каждого деда получается это по-разному. Но есть особо талантливые воспитатели, и знает их не одно поколение внуков.
Дед Ушинский, дед Толстой, дед Пришвин, дед Бианки. В этот же ряд справедливо поставим живущего рядом с нами мудрого деда Сергея Владимировича Образцова. Все, что делает этот человек в искусстве, коротко можно назвать воспитанием вкуса к жизни. Сергей Владимирович убежденно считает: без любви к природе, без понимания природы человек не может ощутить всю радость праздника под названием жизнь.
Одна из его прекрасных работ-размышлений называется «Удивительное рядом». По ней Образцов сделал фильм с таким же названием.
(Отчего бы не выпустить фильм повторно? Он нисколько не устарел!) Все помнят также вдохновенный киноразговор Образцова «Кому он нужен, этот Васька?» о месте животных в нашей жизни. Теперь же Сергей Владимирович написал книжку для совсем маленьких. Листая ее, прямо-таки видишь сидящего на скамейке с интересными их названиями, удивительным миром животных, с их историей и проблемами.
Рисунки из книжек и «Мурзилки».
Все есть в «целевой» «Мурзилке»: интересное путешествие, стихи, загадки, задачи, игра, занятная и серьезная. И есть поэзия. Вот как, например, начинает «Мурзилка» один из рассказов: «Речки засыпают с вечера. Маленькие пораньше, на последней зорьке, большие попозже. Реки великие засыпают за полночь. Чем больше река, тем больше у нее дел…»
«Мурзилку» делают люди сравнительно молодые. Этот же специальный номер подготовлен по предложению и настоянию художника журнала Юрия Александровича Молоканова.
Он ждал двух событий в этом году: рождения внука и выхода в свет «Мурзилки», сделанной по его замыслу. Но художник не дожил до июня.
Светлый ручеек его наследства бежит сейчас к внукам. У «Мурзилки» тираж — без малого шесть миллионов. Это значит, почти в каждом доме, где есть уже читающие малыши, узнают, чем живы, чем дороги нам и куда текут по земле маленькие речки.
Третью из присланных книжек, «Мир животных и охрана его», для ребят постарше написал профессор Андрей Григорьевич Банников.
В книжке понятно и просто рассказано о явлениях сложных и очень серьезных. О том, как животные влияют на облик земли, сколько их на планете, в каких отношениях живут они друг с другом и с человеком, существуют ли «вредные» и «полезные» животные, почему одни исчезают, другие сильно плодятся, что надо сделать для спасения исчезающих. Все это волнует сейчас людей взрослых, это обязательно надо знать также и детям. В книжке (выпустило ее издательство «Педагогика» в серии «Ученые — школьникам») есть популярный рассказ о знаменитой Красной книге. Удачным, продуманным оформлением до читателя донесен облик животных нашей страны, о которых надо позаботиться в первую очередь.
Я хорошо знаю Андрея Григорьевича, знаю, насколько занят этот ученый делами серьезными, неотложными. И все же нашел вот время для разговора с детьми. Достойный пример! Деду обязательно надо говорить с внуками, законы жизни этого требуют.
Фото из архива В. Пескова. 17 июня 1978 г.
Ванкувер верит в разрядку
Советско-американские отношения подвергаются сейчас испытаниям. Натиск сил, стремящихся вернуть мир к состоянию враждебности, так велик, что диву даешься стойкости простых американцев. Пропагандистская буря не может одолеть устойчивого соотношения: восемь людей из десяти по-прежнему хотят добрососедских отношений с Советским Союзом. Это показывают опросы общественного мнения.
Пятеро американцев, прибывших позавчера в Москву, принадлежат к этому большинству трезво и ответственно мыслящих людей. Все они граждане маленького городка Ванкувер в штате Вашингтон. Того самого Ванкувера, который восторженно и гостеприимно сорок один год назад встречал Чкалова и его спутников, прилетевших в Америку через полюс, Ванкувера, который и не забыл этого человеческого подвига.
В 1975 году ветераны-летчики Г. Байдуков и А. Беляков были приглашены в маленький городок, и им оказали высшие почести. В городке в те дни был открыт монумент в честь славного перелета, и ванкуверцы остаются верными дружеским чувствам. Там создан и действует «Чкаловский комитет», сделавший имя летчика символом добрососедских отношений. Комитет организовал музей Чкалова в Ванкувере, несколько его членов прилетали в Москву на открытие монумента в честь перелета над полюсом. В нашей стране побывал журналист Стив Смолл, подробно и красочно рассказавший своим землякам о поездке.
Недавно в США комитет издал переведенную на английский язык книгу Георгия Филипповича Байдукова «Чкалов». Идут переговоры о создании совместного советско-американского фильма о перелете. Есть и другие хорошие планы, о которых будет идти теперь речь.
Встреча ванкуверцев в аэропорту «Шереметьево». Имена гостей (все они члены «Чкаловского комитета»): Алан Коул и Стивен Смут (администраторы), Петр Белов и Ричард Боун (инженеры-строители), Стив Смолл (журналист).
Фото автора. 15 июля 1978 г.
Храбрец
(Окно в природу)
На съемке для «Мира животных» встретили зайца, молодого, не искушенного жизнью подростка. Попытался зверь убегать, однако не знал еще заяц, что оператор Яков Посельский тоже умеет бегать. Остановился заяц и стал наблюдать: что будет? Камера пожужжала издалека, потом подвинулась ближе, потом нависла над самым ухом. И заяц решил за себя постоять.
Сначала он шевельнул лапкой, потом сделал выпад в сторону камеры, потом, справедливо решив, что уязвимое место у жужжащего зверя — глаз, кинулся в объектив. Спасая нежные стекла, оператор вскочил, но разъяренный зайчишка жаждал победы полной. Он отбегал и с силой кидался на Яшкины ноги. Спасли оператора «бронированные» штаны под названием «джинсы» и полушутливые-полусерьезные вопли о помощи. Мы хохотали, наблюдая, как победитель спокойно почистил одну о другую лапы и тут же взялся закусывать стебельком щавеля.
Общее мнение: заяц труслив. Он и правда надеется больше всего на ноги.
Ноги уносят зайца от тысячи опасностей, стерегущих его повсюду. Лисица, волк, филин, рысь, ястреб, орлы, бродячие собаки, енот — все любят зайчатину. В молодом возрасте зайцу надо еще опасаться ворон и сорок. Ну и конечно, охотник с ружьем зайцу тоже не друг.
Сидит заяц тихо, полагаясь на цвет своей шкурки. Зимой она прячет его в снегу, летом — в траве.
Уловил шорох — сразу уши торчком: определить, откуда опасность. Определил — немедленно уши прячет, чтобы не выдавали, и уже наблюдает глазами. И если опасность близка — вся надежда на задние ноги. Они у зайца длинные.
Опережая передние, они, как пружины, толкают зайца вперед и вперед, прыжки бывают до пяти метров, скорость — под шестьдесят километров в час. Глядишь, и спасся. Однако от ястреба и от филина на открытом пространстве спастись непросто. В последний момент падает заяц на спину, и опять оружие его — ноги. Бьет сильно.
Известны случаи: раненый заяц ударом ног распарывал полушубок, и беспечный охотник получал опасные раны на животе.
Это храбрость самозащиты. Известно, однако: зайчиха-мать смело атакует ворону или сороку, выследивших зайчонка. Тут храбрость зайчихи не знает предела. Хитрые птицы, правда, охотятся парой — одна отвлекает зайчиху, другая хватает зайчонка. И потому природой зайцу предписано: сиди незаметно и тихо, обнаружат — беги. Защита силой — последнее средство. Наш заяц-подросток прибегнул к силе отчасти по недостатку житейского опыта, отчасти потому, что ноги еще слабы. Но, может быть, это храбрец? Почему не быть храбрецу даже и среди зайцев.
Фото автора. 26 июля 1978 г.
Полуостров сокровищ
«Сделали море, надо и моряков заводить», — шутит Фрэд. В виду имеется море Братское — самый крупный из всех искусственных на земле водоемов. «Некоторые думают: а, море! Думают, можно его в калошах переходить. А в прошлом году беспечный катер накрыло штормом — до сих пор не нашли…»
А что касается моряков, то, говоря о Братском море, Фрэд вспоминает Плещеево озеро на ярославской земле, где, как известно, в потешных играх вырос создатель российского флота по имени Петр. «Сегодня игра, а завтра, глядишь, человек присылает открытку со штемпелем «Сингапур», — улыбается Фрэд и достает фотографии своих воспитанников уже в курсантской, мичманской и лейтенантской форме.
Игра в моряков тут, в Сибири, началась лет десять назад. Началось с прозаичной и знакомой, увы, на всех широтах проблемы: что делать с подростками? У тех, кто строил плотину на Ангаре, Братск и Братское море, подросли дети. И многие вдруг обнаружили: с Ангарой воевать при любых морозах было, пожалуй, легче, чем направить в нужное русло жизнь сына, ничего, кроме гитары, не признающего.
Вот тогда и возникла идея морского лагеря для подростков. Автор идеи во времени затерялся, известен зато доброволец, сказавший: «Я за это дело берусь. «Педагогически запущенных» будем записывать первыми». Добровольцем был Фрэд. В Братске у этого человека едва ли не в каждом доме друзья. Они считали долгом отговорить: «Утонет какой-нибудь лоботряс — тюрьма». Фрэд и сам хорошо понимал, как может все обернуться, однако не отступил.
«Если будем так рассуждать, все они, как котята, начнут пускать пузыри в воде под названием — жизнь. Надо учить их плавать». Эту серьезную мысль Фрэд написал в дневнике. С друзьями же он, как обычно, шутил, обращая их одного за другим в единомышленников. Летом 1969 года в Зябском заливе Братского моря на маленьком полуострове открылся юношеский военно-спортивный лагерь «Варяг».
Сразу же скажем: за девять лет никто в этом лагере не утонул (а плавать многие научились!).
И Фрэд, хотя и нажил седину в шевелюре, ничуть не раскаялся в деле, за которое взялся смело. В разговоре он даже признался: «Кажется, я нашел как раз то, чем мне и следует заниматься».
Три с половиной тысячи подростков прошли школу «Варяга». Кое-кто из «самодельного» моря выплыл уже в океан. Но главное, однако, не в этом. Все они, играя тут в моряков, узнают и первые трудности и заботы, с которыми человеку неизбежно придется встретиться и на воде, и на суше. Пот, мозоли, риск, ответственность, чувство взаимовыручки, ощущение победы — все это, познанное в игре, Фрэд называет «прививкой»: «Встретят потом реальные трудности — не растеряются».
И есть уже подтверждение этому. Письмо из армии: «Фридрих Павлович, часто Вас вспоминаю. Служба, признаться, нелегкая. На той неделе в походе вымокли так, что, кажется, только порох в патронах остался сухим, от усталости с ног валились. Кое-кто из ребят скис.
Старший лейтенант у костра говорит: «Вот, берите пример» — и показал на меня. А я не мать, не отца сразу вспомнил, хотя и очень люблю их обоих. Вас вспомнил. Спасибо!»
Еще письмо. «…Геометрия, физика, кружок математики — все это очень любил. Но должен признаться сейчас: с наибольшей благодарностью вспоминаю не школу, а наши палатки в лесу. Мы тогда считали, что весело отдыхаем после учебы, сейчас я вижу: в нашем «Варяге» мы все серьезно учились» — это пишет студент с геологической практики. Много писем от моряков. А вот слова уже бывалого человека: «…
Юношеский военно-спортивный лагерь «Варяг» мы считаем «действующим подразделением» Тихоокеанского флота на Братском море» — вице-адмирал С. С. Бевз.
* * *
Путевка в лагерь стоит 18 рублей. Получают ее родители старшеклассников по месту своей работы, в профкоме «Братскгэсстроя». И когда июньское солнце расплавит на море лед, двести подростков собираются в Зябской бухте…
Как-то так получилось, что детские лагеря отдыха стали у нас похожи на санатории для престарелых. «Для детей ничего не жалеем», — сказал мне директор большого московского предприятия, показывая минувшим летом современный дворец-поместье. И было на что поглядеть: дом-спальня со всеми удобствами, зал-столовая со стенами, украшенными майоликой, кинозал с мягкими креслами, цветник, скамейки, беседки, дорожки, покрытые красной кирпичной крошкой.
Создателя этого подмосковного рая, окажись они в Зябском заливе, остолбенели бы от удивления. Лагерь, в который прибывают двести подростков, представляет собою старый сосновый лес с местами для десяти просторных палаток. Из зимовавших в лесу построек они бы увидели только тир, легкий каркас столовой и скамеечки для кино. Это, однако, не бедность.
«Братскгэсстрой» — организация мощная, тут и деньги считают не иначе как десятками миллионов, и строителей со стороны тут нет нужды приглашать, а бухгалтер Любовь Андреевна Суворова так относится к лагерю: «На баловство — ни копейки, на воспитание — столько, сколько необходимо».
Воспитание начинается с первого дня.
— Вот тут будем жить, — обычно говорит Фрэд, обращаясь к притихшим мальчишкам. — Все сделаем сами: поставим палатки, кровати, заготовим дрова для бани, покрасим и спустим на воду шлюпки, наведем тут порядок. Справимся, а?
Новички обычно молчат. Голоса, полные оптимизма, подают те, кто в лагере уже был: «Справимся!!!» Новичков же поначалу волнует главный вопрос: «А когда форма?»
Морская форма, будничная и парадная, по заказу «Варяга» пошита в мастерских Владивостока. И это первое сокровище, которым не терпится тут овладеть. Однако празднику получения формы предшествуют будни.
За четыре-пять дней лагерь преображается. Теперь он становится похожим на корабль, скользящий из сосен в воду: столовая стала похожа на верхнюю палубу, ниже — палуба для построений, тут же — каюты-палатки, мачта, командный мостик, два настоящих корабельных орудия на носу, шлюпки и катер у «борта».
И уже не разношерстная галдящая ребятня, а юнги в матросской форме готовы к поднятию флага. (Фрэд: «Невозможно заметить, как растет трава. То же самое с воспитанием. Но в эти первые пять дней я отчетливо вижу, как мальчишки растут, меняются на глазах. Самое важное, они и сами это видят и чувствуют. Получая, например, форму, многие первый раз в жизни берут в руки иголку с ниткой — надо что-то подшить, подогнать. Показываем, объясняем. Пыхтят, пот градом, но маленькая победа, одержанная в таком простом деле, ценится высоко. Я слышал несколько раз, как говорят приехавшим в лагерь родителям: «Мама, я это сам сделал».)
И наступает день — «Варяг» поднимает флаг. Это значит — на сухопутном корабле все готово для жизни по морскому уставу. (Фрэд: «В этот день, стоя на мостике, я в самом деле чувствую себя капитаном. И в это же время кажется: тридцать пять лет сброшено и мне тоже четырнадцать».)
* * *
Корабельный устав — это в первую очередь дисциплина. Подъем в 7, поверка-отбой в 22.30.
И все пятнадцать с половиной часов счастливо-длинного летнего дня строго расписаны. Привыкать к такому порядку (зарядка — в любую погоду, «ранняя утренняя рыбалка сном не компенсируется») куда сложнее, чем облачиться в тельняшку и овладеть аппетитным морским словарем — вахта, салага, рында, чумичка, кореш, полундра, швабра, аврал. На мой вопрос, что любят юнги делать охотней всего, Фрэд говорит: «На первом месте — хождение в поход.
Известие о походе встречается криком «ура».
На втором — «ничего не делать», просто валяться на берегу. На третьем — спорт. Главная наша задача — противостоять второму желанию.
Работу «Варяга» я измеряю тем, как и какими средствами этого достигаем».
Утром, на свежую голову, весь «Варяг» учится. Программа: море и моряки. (Фрэд: «Все самое-самое по истории мореходства: знаменитые корабли, великие открытия, памятные сражения. Особо — российский флот, подвиги моряков в боях за Отечество в минувшей войне и флот сегодня. Ну и, конечно, самое главное — морская практика».)
Морская практика на «Варяге» — это чтение карты, умение обращаться с компасом и секстантом, хождение на шлюпках под парусом и на веслах, вождение катера, десантная высадка, плавание, спасение оказавшихся за бортом, морская сигнализация, радиодело, стрельба, чтение лоции, акваланг… Поставим точку, хотя перечислена едва ли половина всего, чем заняты до обеда юнги под руководством молодых моряков, самого Фрэда и под пристальным взглядом бородатых и безбородых флотоводцев с портретов под соснами. (Фрэд: «Непременно заботимся, чтобы не было сухомятки. При точном плане занятий — импровизация, поощрение инициативы, элементов игры, дозволенной степени риска и трудностей».)
Кончается все купанием. А после обеда — футбол, гребля, соревнования по стрельбе, рыбной ловле, по бегу, по шахматам, есть и час «ничегонеделания» — читай, грибы собирай, дурачься, хочешь — пиши письмо, хочешь — стихи.
(Фрэд: «Ну и конечно, дается воля разным веселым затеям, начинаем, например, игру в «мумбо-юмбо-бол» — футбол «по-варяжски». Противники по двое связаны, вратарь у ворот — на веревке. От смеха даже вода на море трясется».)
Есть в «Варяге» дела прозаические — работа на кухне, вахта, уборка палаток и территории, драение палубы катера, мытье робы. И есть специальные дни, когда весь лагерь со знаменем, с котлом для пищи участвует в трудовом десанте — едет работать в Братск. (Фрэд: «Тут сачковать считается делом позорным. Ставим на видном месте флотское знамя и на виду у него вкалываем. Работаем дружно и так, что работа всегда видна: корчуем под пашню пни, убираем территорию какого-нибудь завода, затариваем кирпич. Вечером мозоли показывают как награду. Бывает, командиры и юнги валятся с ног от усталости, зато уж знаем: деньги, которые в нашу кассу переведут, честные, а о работе с уважением скажут: это «варяжцы»…)
Спешу рассеять возможное впечатление: не замучены ль тут мальчишки, не велика ли нагрузка? — лето же… Не замучены. Нагрузки тут обязательны. Они планируются. Задорное, коллективное исполнение всяческих дел и занятий значительно их облегчает. По-настоящему эту школу ценят потом, когда «понюхают жизнь», но и тут, в лагере, мальчишка способен уже понять: отдых, веселье, забавы хороши именно после нагрузок.
О юморе, об интересных затеях и играх в «Варяге» рассказать можно много. И кое-что, наверно, полезно тут перенять уже и для этого лета. Вот как проходит, к примеру, знаменитая «Рындыбулина» — поиски клада в лесу. Весь лагерь — пять экипажей — получает записки, из которых можно узнать лишь место, где надо искать другую записку, а потом карту, по которой надо отыскивать клад. Карта, понятно, замысловата, полна таинственных знаков, намеков, ложных ходов. Нужны смекалка, знание топографии, лесных примет, слаженность в поиске.
Часа через два где-нибудь в километре от лагеря слышатся вопли счастливцев — мешок с большой банкой джема, конфетами и сгущенкою найден!
Венец желаний и всеобщая радость — многодневный поход. В любую погоду, с едой, палатками, радиостанциями и морскими приборами десант «Варяга» высаживается где-нибудь в незнакомом месте, и все тут идет по законам полевой жизни. Расписание дня такое же, как на базе, но много тут новых забот и радостей.
С базой же устанавливаются «военные отношения». Разведке десанта дана задача: однажды ночью проникнуть в лагерь и унести флаг. Вахте базы полагается не дремать. И все же разведчик-радист, подобравшийся к лагерю, подает однажды сигнал: «Задремали…» (Фрэд: «В этой игре я — главный посредник. Связали сонную вахту и овладели флагом — победа. Если же обнаружены и сами повязаны — победа за базой. Победитель получает сразу много очков в соревновании экипажей. А это для осени, когда начинают «считать цыплят», имеет большое значение».)
Возвращаясь к делам не столь романтическим, я спросил Фрэда: а кидают ли после отбоя друг в друга подушками? «Кидают. Но это не самая большая из наших забот. На сон грядущий стали читать им по радио главы из интересных книжек. Слушают, утихают. И мы хорошо уже знаем, когда приходит минута сказать: спокойной ночи, друзья».
* * *
Педагогические проблемы… Они, разумеется, есть. Их и не может не быть, если примерно десять процентов подростков имели приводы в милицию и ходили в «педагогически запущенных». (Фрэд: «С ними, конечно, хлопотно. Но, удивительное дело, именно эти мальчишки часто становятся самыми большими энтузиастами лагерной жизни. Наблюдая за ними, чувствуешь: не хватало мальчишкам занятости, возможности отличиться. В здоровых условиях показать силу, сноровку, смелость. Такой возраст…»)
Проблемы тут могут быть специфическими, и решать их приходится не по стандарту. Вот, например, возвратился ходивший в город по увольнению юнга. Расстроен, даже заплакан — «двое городских мальчишек отняли тельняшку».
На это реагировать можно всяко. Совет командиров реагирует так. Собирает весь лагерь для срочной беседы. Беседа идет о тельняшке, о том, что значит она для морского братства, почему во время войны матросы ходили в атаку в тельняшках и почему фашисты смертельно боялись людей в полосатых рубашках. Тут же упрек пострадавшему: «Если б вернулся ты поцарапанным, с разбитым носом, а то ведь, наверное, отдал, как только сказали «снимай». (Фрэд: «Утором парень подходит и снова просится в город. Я отпускаю. Возвращается в тельнике.
В подранном, правда. Но с какой радостью вечером на поверке мы объявили об этом. И надо было видеть счастье мальчишки. Тельняшку я вручил ему новую, а побывавшую в переплете перед строем отдал на память — береги, будешь знать: за себя надо уметь постоять».)
Другой пример. «Хотим пойти на шлюпке». — «Ветер. Вам трудно на веслах будет вернуться». — «Вернемся!» — «Выручать не будем». Настаивают: «Вернемся!» (Фрэд: «Возвращаться было действительно трудно. Я на катере вышел навстречу. Обрадовались: «Берите нас на буксир!»
«Нет, — говорю, — покажите характер. На веслах — значит, на веслах». Проще, конечно, было бы на буксире — нам, командирам, меньше хлопот, им облегчение мгновенное. Однако два с половиной часа борьбы с сильным ветром были хорошей наукой: во-первых, вкусили, что значит поступать легкомысленно, а во-вторых, почувствовали — трудность можно преодолеть».)
Главный принцип воспитания в лагере: мелочно не опекать, не запаздывая, однако, ни с поощрением, ни со взысканием. Чтобы мальчишки почувствовали себя окрыленными, поощрения хватает порою и маленького — благодарность перед строем во время вечерней поверки, письмо родителям, фотоснимок в стенной газете или просто мимоходом сказанные слова: «Молодец, действовал верно». В числе наказаний — выговор на поверке или там же — шутливое замечание, от которого виноватый чувствует себя неуютно среди смеющихся. Сильное средство — дня на два лишение формы. (Фрэд: «Ощущения белой вороны никому не приятны».)
И соревнования… Из-за нередкого, к сожалению, формализма, из-за того, что слово «соревнование» употребляют нередко всуе, само понятие здорового соперничества обесценивается.
А между тем соревнование лежит в естественной природе человека. И подросток, начиная утверждать себя на земле, участвует в нем охотно и радостно. Жизнь лагеря, где все на виду — аккуратность постели, результат в спорте, знания, труд, заслуги и погрешения, — дает умелым организаторам соревнования надежный педагогический инструмент. (Фрэд: «Важно лишь соблюсти полную объективность и справедливость в оценке. И награду, если она обещана, победитель должен получить непременно».)
Награды в «Варяге» великолепны. Экипаж-победитель (40 человек) под конец пребывания в лагере садится на самолет Як-40 и облетает Братск, Братское море, видит сверху плотину на Ангаре, видит свой лагерь в Зябском заливе, своих друзей, кидающих в это время кверху пилотки…
Двенадцать — пятнадцать человек, отличившихся лично, получают награду, еще более привлекательную: на заработанные деньги в конце лета они едут к лучшим друзьям «Варяга» — к морякам Тихоокеанского флота в город Владивосток.
* * *
Дружба эта началась сразу. В первый же год существования «Варяга» Фрэд поехал на флот, рассказал там о лагере и попросил о поддержке.
Молодой еще адмирал слушал его внимательно и сказал: «Дело хорошее. Считайте, что Братское море соединяется теперь с Океаном». (Фрэд: «Спустя какое-то время мне домой позвонили со станции: «Пришел специальный поезд. Явитесь получить груз». Являюсь. У теплушек — морская охрана. По всем правилам воинского порядка передали имущество: катер, шлюпки, корабельные пушки, две учебные торпеды, морские приборы, флаги, много учебных пособий».)
А летом в лагерь приехали восемь молодых курсантов Высшего военно-морского училища для прохождения практики, какую они обычно проходят на кораблях. Училище послало лучших своих воспитанников. И теперь уже каждое лето двенадцать курсантов являются в Братск и становятся командирами-воспитателями. (Фрэд: «Мои мальчишки и эти молодые еще моряки, сами вчерашние мальчишки, друг к другу тянутся как магниты. К моменту закрытия лагеря дружба становится просто трогательной.
Проводы командиров — стихийное выражение накопившихся чувств. Отъезжающих окружают плотным кольцом и почти на руках несут до автобуса. Потом все вместе едут в аэропорт. Стоят, пока самолет не взлетит и не скроется в небе.
Провожали вот так же, помню, Володю Рыжих, так дело дошло до слез. Трое ребят стояли на вахте и не могли излиться в общем хоре прощания. Сменившись, они прибежали в последний момент. Украдкой сунули командиру записку. Развернул записку Володя, и вдруг вижу, у парня потекли слезы. На клочке случайной бумаги было написано: «Володя, мы тебя никогда не забудем. Не забывай и ты нас». Теперь Володя — морской офицер. Однажды посчастливилось встретиться. Конечно, вспомнили лагерь и тот отъезд. Смотрю, достает моряк офицерскую книжку, раскрывает, вижу, лежит в ней тот самый лоскут бумаги: «Мы тебя никогда не забудем».)
Связь «Варяга» с Высшим военно-морским училище двусторонняя. К Братскому морю едут курсанты на практику, во Владивосток уезжают учиться те, кому лагерь «Варяг» помог выбрать дорогу к морю. Каждый год десять — двенадцать «варяжцев» поступают в морские училища. Из них училище имени адмирала Макарова — особо для них почетное.
В честь всех, кто в морские училища поступил, в лагере, чуть в стороне от линии построения, двумя рядами сажают березы. Мне объяснили: «Это дерево в честь Володи Цибульского, это — в честь Игоря Тютрюмова, Вячеслава Зыкова, Сергея Арцыбашева, Виктора Сирыка…»
Кончает военно-морское училище и сын Фрэда Александр Юсфин. Недавно прислал письмо: «Ходил в плавание штурманом. Получил благодарность. Спасибо, отец, за науку».
Из заработанных в «трудовые дни» денег учредили недавно в лагере стипендии для «варяжцев» в училище. Невеликие деньги эта стипендия — десять рублей всего, но можно представить, сколько тепла приносит курсанту эта забота корешей с Братского моря.
Ежегодная осенняя поездка во Владивосток отличившихся в лагере — особый праздник на линии «Океан — Братское море». Якорь приехавшие обычно бросают в военно-морском училище. Их ставят тут на довольствие, и наступают для мальчишек из Братска полторы недели очень счастливой жизни. Знакомство с училищем, братание «со своими», осмотр Владивостока — порта, кораблей, памятников и музеев. Флот принимает «варяжцев» тепло и сердечно. С ребятами беседует сам адмирал.
Потом посещение больших кораблей, подлодки.
С цветами они идут к монументу героям легендарного крейсера, чье имя носит и лагерь.
Особая встреча — на борту корабля, главного шефа «Варяга». Это новейший ракетный крейсер. Все, что можно на нем показать, гостям показывают. (Фрэд: «Весь корабль, от командирского мостика до машинного отделения, в нашем распоряжении. Мы чувствуем: наше присутствие, горящие глаза мальчишек, их любопытство — праздник на корабле. После взаимных отчетов в каюте у командира — рассказ обо всем интересном, что было за год на крейсере, и обо всем интересном, что было в нашем «Варяге», — обед в кают-компании. Воспоминания. Шутки. Морские истории… После поездок во Владивосток ребята уже навсегда «больны морем».)
Так «самодельное» Братское море соединяется с Океаном.
* * *
О самом Фрэде… Осенью ему исполнится пятьдесят, и, конечно, в «Варяге» он — Фридрих Павлович. Но только официально. Между собой юнги зовут его Фрэд. (Фрэд: «Фридрихом родители нарекли в честь Энгельса. Им было известно, что Маркс называл своего друга Фрэдом. От родителей и пошло».)
Закалку жизнью Фрэд Юсфин получил во время войны. И убеждение: «Надо растить мужчин» — это, помимо всего, еще и опыт собственной жизни.
После войны Фрэд добровольцем ушел во флот. На подлодке «Щ-310» служил с командиром Петелиным Александром Ивановичем — «суровым, знающим, справедливым». В честь командира уже на суше, в Братске, Фрэд назвал Александром сына, а когда в 1962 году подводная лодка «Ленинский комсомол» подо льдами достигла полюса, послал командиру ее телеграмму: «Служба под вашим командованием была и остается лучшей школой жизни».
И получил от Петелина теплый ответ — командир помнил подводника Фридриха Юсфина.
В Братск Фрэд приехал тоже в числе добровольцев, начинавших новую жизнь в палатках.
Он был тут диспетчером стройки. Хорошим диспетчером. Однако «частицей истории Братска» Фрэда сделал его талант заводилы, веселого, общительного человека, организатора кипевшей тут молодой жизни. Я это знаю не по рассказам, я помню Братск той счастливой поры, помню, например, вечера в до отказа набитом «Глобусе», клубе — детище Юсфина.
(Фрэд: «Да, есть что вспомнить. В зале на двести мест каким-то образом умещалось шестьсот — семьсот человек».)
Из большой стройки Братск стал теперь немаленьким городом. Новые люди, новые интересы, новый ритм жизни. Многие из создателей Братска уехали — повышение по службе, семейные обстоятельства, иные взгляды на жизнь.
Фрэд остался. И для меня он — хранитель всего доброго, чем создавался город на Ангаре.
Лагерь «Варяг» — ноша нелегкая. В два потока за лето «прививку» в нем проходят четыреста человек. И не «кадры для моря», а «кадры для жизни» — основная забота Фридриха Юсфина, человека с редким талантом воспитателя-вожака. Для него лагерь — не служба, для него лагерь — жизнь. И мальчишки хорошо это чувствуют. (Фрэд: «Удивительный возраст. Если во взрослом человеке они почувствовали друга — в огонь и в воду пойдут. При таком доверии мера ответственности очень большая».)
Самим мальчишкам мера ответственности их вожака часто совсем не видна. Между тем существует житейское море со своими фарватерами, маяками, сигнальными знаками, мелкой водой и подводными камнями. Прокладывать новый курс в этом море — всегда нелегкое дело. Вот для примера один эпизод.
На четвертом году существования «Варяга» команда из семи человек решила пройти на шлюпке по Ангаре до Иркутска. По Ангаре вверх на шлюпках никто никогда не ходил.
Ходили лишь «бечевой» — на веревках лодки тянули идущие берегом лошади. К серьезному путешествию хорошо подготовились, все было испытано и проверено. А накануне отплытия Фрэда срочно вызывает Ответственное Лицо.
— Кто разрешил?
— Этот поход в плане нашей работы…
— А если что-нибудь с ними случится, кто отвечать будет?
— Я их готовил и, конечно, за все отвечаю.
Между прочим, на шлюпке вместе со всеми — мой сын…
В заключение разговора Фрэду дали листок бумаги, и он написал: «…Всю ответственность как начальник лагеря беру на себя». (Фрэд: «Я сделал это спокойно, потому что был совершенно уверен в ребятах».)
И все же легко ли было после этого провожать шлюпку и ни намеком, ни словом не сказать о состоявшемся разговоре. «Действуйте, как учились. И все у вас будет в порядке», — это было словом-напутствием.
Все и было в порядке. За девятнадцать дней три пары гребцов с рулевым одолели встречное течение Ангары. Иркутск встречал победителей. Прямо с ходу они стали участниками шлюпочных соревнований и, несмотря на усталость, заняли в них призовое место. (Фрэд: «Но главным призом для всей семерки стала высокая точка отсчета в мужестве и выносливости.
Шестеро из ребят стали или через год уже станут офицерами-моряками. И, я уверен, Родина может надеяться на этих людей».)
Случай с походом на шлюпке был серьезным экзаменом для «Варяга». Ответственное Лицо тоже получило хороший урок и теперь совсем иными глазами глядит на лагерь.
У лагеря много сейчас друзей. Начальник «Братскгэсстроя» Леонид Иванович Яценко считает «Варяг» опорной точкой в воспитании молодежи. С его одобрения Фрэд хлопочет сейчас о строительстве судна, чтобы не только коротким сибирским летом, а и весь год заниматься с мальчишками. (Фрэд: «Это будет интернат на воде. Мы уже мысленно окрестили его школою юнг».)
Размышляя об этой новой затее, я спросил Фрэда, сознает ли он, как велика ноша, которую добровольно кладет на плечи: построить судно, пусть даже на базе баржи, — это не шлюпку построить. Фрэд сказал: «Сознаю. Но это важно. И сделать это необходимо».
Спустя полгода я увидел Фрэда уже с тремя томами документов под мышкой. Оказалось: съездил в Ленинград, рассказал о «Варяге» на комсомольском собрании проектно-конструкторского бюро Министерства морского флота. И вот она — комсомольская солидарность!
Во внеурочное время молодые конструкторы изготовили проект судна. Дело теперь за строительством. И мы надеемся: все, от кого зависит помощь сибирякам, с пониманием встретят ходатайство ребячьего вожака Фрэда Павловича Юсфина.
* * *
И заключение. В подмосковном лагере, упомянутом в самом начале этого очерка, устроили прошлым летом «вылазку в лес». Были палатки и был костер. Но палатки для отроков заранее ставили взрослые люди, они же рубили дрова для костра и готовили пищу. Согласимся, что это крайний случай «заботы о детях», заботы, которая ничего, кроме горького сожаления, не приносит. Но согласимся также: это ведь характерно для большинства лагерей, это вообще характерно сейчас в воспитании.
Прививку против болезней делают в раннем возрасте. И болезнь потом уже не страшна человеку. В раннем возрасте также надо приучать человека к преодолению всего, что неизбежно встретится в жизни. Особо касается это подростков, из которых должны вырастать мужчины, а не изнеженные растеньица. Делать это, разумеется, надо не только в лагере. Но лагерь — особо подходящее место для этого.
Можно ли, отбросив заблуждение «не перегрузить бы ребят», а главным образом страх «как бы чего не случилось», вести дело так, как следует его вести? Как видим, можно. Кое-кто скажет: «Но там вот нашелся такой человек…»
Верно, от вожака-человека в таком воспитании много зависит. Но люди, подобные Фридриху Юсфину, совсем не былинки в поле. Надо их находить, доверять им, поддерживать.
…А «Варяг» в девятый раз поднял на маленьком полуострове свой романтический флаг. Вчера я звонил туда расспросить: что нового? как дела? Вот что ответил Фрэд: — Все в порядке. Шесть курсантов-дальневосточников: Федоров Игорь, Турищев Игорь, Салищев Александр, Семенов Александр, Никита Ильченко и Алексей Гладушевский — прибыли к нам и приступили к обязанностям…
В лагере в этом году свой духовой оркестр.
Когда грянет марш, даже у меня, бывалого кашалота, мурашки по телу. А утром побудку делаем музыкальной строкой «Наверх вы, товарищи, все по местам…».
Пополнили библиотеку. В Братске у нас жила архивариус Инеева Ольга Илларионовна. Была она страстной путешественницей. Но могла путешествовать только по книгам. Когда умирала, сказала сестре: «Книги — в хорошие руки».
И теперь эти книги у нас. Листали вчера — Стивенсон, Конрад, Станюкович, Новиков-Прибой, Тур Хейердал… — ощущение, что держишь в руках сокровища…
Юнга Чижиков Игорь пришел с заявлением отпустить его домой. Говорит, у него там хомяк и двадцать шесть канареек. Они, мол, скучают.
Мы понимаем — парню первые дни трудновато. Говорю: возьми хомяка в лагерь. Попросил разрешения подумать. День будем думать — и он, и я…
Большая задача этого лета — в шлюпочных походах начать делать лоцию (описание берегов Братского моря). Будем делать. Как говорили древние, плавать по морю необходимо…
Такие дела на полуострове в Зябском заливе.
Фото автора. Братск — Москва. 16 июля 1978 г.
Проселки
Проселок по Далю — это «расстоянье и пути между селеньями в стороне от городов и больших дорог». Это глухая, не очень ухоженная дорога.
Ее всегда поругивали. «Ехать проселком — дома не ночевать». И верно. Застрять на проселке — обычное дело. Колеса телеги после дождей увязают по ступицы, а на нынешних «Жигулях» на проселок лучше и не заглядывать. В ином месте лишь трактор одолевает колдобины, переезды через ручьи, подъемы, спуски.
С хозяйственной стороны поглядеть — погибель эти дороги. Всю быструю жизнь тормозят.
Овощ, не увезенный вовремя с грядок, вянет, хлеб мокнет, яблоко-слива гниют. Иное дело шоссе: утром — в Москве, вечером — в Конотопе. Быстрота и всему экономия, времени в первую очередь. Радость большая, когда проселок превращается в асфальтированную дорогу. Жизнь, ставшая на резиновые колеса, требует и дорог подобающих.
Но для странствия, для хождения по земле с котомкой, теперь называемой рюкзаком, и для небыстрой езды на надежной машине что за чудо эти плохие дороги-проселки! По опыту знаю: по шоссе ехать — ничего не увидеть. Много ли замечает мчащийся по шоссе из Москвы в Симферополь?
Попроси рассказать — помнится, признается: если что и запомнил как следует, так это съезды с гладкой дороги на ее неудобные для езды ответвленья. Шоссе при нынешних скоростях почти что воздушная трасса — большую страну можно перемахнуть и ничего не увидеть.
Проселок — иное дело. Тут дорога тебя ведет не спеша, ко всем подробностям жизни. Всего ты можешь коснуться, ко всему как следует приглядеться. Радости и печали тут живут обнаженными рядом с дорогой. Все крупное на земле соединил сегодня асфальт. А деревеньку в четыре двора ты увидишь только тут, у проселка. Из ключа, текущего у шоссе, кто из нас решится напиться? А проселок может привести тебя к роднику, и ты изведаешь вкус первородной воды, ничем не сдобренной и здоровой. Скрипучий мосток. Проезжая его, прощаешься мысленно с жизнью. Однако ничего, переехали. Стоишь, наблюдаешь, как в омутке играют резвые кресноперки. Чья-то пасека возле старинных лип, оставшихся после усадьбы. Чьей? Тебе называют по книгам знакомое имя, и ты стоишь пораженный: вот тут Он ходил, под этой липой, возможно, сидел, наблюдая за облаками, за этой дорогой, убегающей в перелески… На проселке ты можешь остановиться, изумленный полоской неизвестных, скорее всего, каких-то заморских растений. Батюшки, да это же конопля, которую сеяли ранее всюду. Теперь ее посеяла только эта вот сидящая на завалинке бабка. «Зачем же теперь конопля?» «А блох выводить!» — простодушно отвечает старуха.
Дорога от крайнего дома, где растет конопля, спускается к лугу, потом, огибая ржаное поле, углубляется в лес. За лесом ты опять уже видишь на синеющем взгорье светлый шнурочек — дорога пошла к другой, незнакомой тебе деревне. Ничто любопытного человека не дразнит так сильно, как эти проселки по древним российским землям. Запахи трав. Звоны кузнечиков. Урчание лягушек в болотце. Следит за тобой с сухого дерева птица. Пастух притронулся к козырьку, отвечая на приветствие проходящего. На проселке версты не бывает, чтобы с кем-то не перекинулся словом, а то завяжется разговор — не хочется расставаться. В августе я проехал на «газике» по проселкам Псковской, Новгородской и Калининской областей. Ехал по делу. Не слишком долгой была дорога. И все же проселки оставили в памяти много желанных и чаще всего неожиданных встреч.
Пастух
У рощи играл рожок… Мы открыли дверцу машины, заглушили мотор и боялись поверить ушам. Пастуший рожок! Эту музыку где услышишь теперь? В кино, по радио. А тут дорога уготовила нам подарок, удивительный в своей натуральности. Пастух сидел спиною к нам у березы и разливал по поляне мелодию, какую и родил-то, возможно, пастуший рожок: «Сама садик я садила…» Под тягучие звуки черный пес пастуха шевелил ухом, коровы лениво щипали траву, стрекотали кузнечики в бурьянах. А березы у края рощицы, казалось, вот-вот пробудятся от дремоты и пойдут хороводом.
— Вот такая арматура, — сказал пастух, вытирая тряпицей пищик рожка.
Он нисколько не удивился нашему появлению, не заставил себя уговаривать сыграть еще что-нибудь. Закончил и опять сказал весело:
— Такая вот арматура. Интересуетесь — заезжайте с заходом солнца домой, вместе повеселим душу.
Вечером гроза повредила электролинию.
Старик поставил в бутылку свечу и при ней разложил на столе богатство свое — пищики, сделанные им самим из веточек волчьего лыка. Он крепил их к рожку, пробовал, поясняя:
— Этот — играть с баяном, этот — под балалайку, этот — с роялей в паре, этот — для кардиона. А этим баб по утрам подымаю с постелей.
Далее шел рассказ о том, как, где и с каким успехом играл пастух на рожке.
— На эту музыку спрос большой. В Москве на концерте как дунул — все: ах! И рты поразинули. В Ленинграде играл, в Калинине, тут, у себя, на свадьбах, ну и коров в лесу этой музыкой собираю.
Веселое балагурство пастуха-музыканта слушала, прислонив голову к печке, его жена Лидия Матвеевна. На замечание: «Нет, наверное, в округе человека веселей ее мужа» — она, согласная, улыбнулась.
— Он у меня огонек…
Старику без года семьдесят. Пастушество начал с десяти лет.
— Мы, зубцовские, — все пастухи. Из других мест в отхожий промысел шли плотники, портняжничать, шли пильщиками, официантами, сапожниками. А мы — пастухи. Сотнями уходили на лето к Москве и под Тверь. И все знали: зубцовский — значит, пастух… Вот такая была арматура.
Девятилетним мальчишкой с новым кнутом и узелком пышек осилил Сергей Красильщиков путь с Верхней Волги почти до Москвы — полторы сотни верст пешим ходом. И вот пятьдесят лет — пастух. Были в этой работе и перерывы. Перед войною освоил трактор. Воевал в танке. После войны в колхозе «Сознательный» был бригадиром и председателем. Однако все это Сергей Осипович вспоминает как нечто второстепенное. Главная линия жизни — пастух.
— Я скажу, профессия самая хорошая, ежели кто понимает. Ну, конечно, дождички неприятны, и просыпаться надо следом за петухами — тоже не сладкое дело. Зато уж все твое на земле: видишь, как солнце всходит, как птица гнездышко вьет, как зверь в лесу обитает. Небо, травы, день без конца и вся духовитость земли как будто для тебя созданы. Ходи и радуйся. Пастуха-то всегда считали почти что нищим, а я посмеивался — богаче меня и нет никого на земле! Вот такая арматура…
Мелодия вечера: солнце садится — пастух веселится.
Сейчас пастухам платят исправно. Четыре сотни целковых — да я не пастух, а полковник!
Однако радость, как прежде, вижу не в деньгах. Семьдесят за плечами, а я весь день на ногах-молодым не угнаться. Весел. Здоров, хотя и клюнут железом дважды — в живот и в руку. В зеркало гляну — глаза, как у подпаска, с блеском. Чарку могу опрокинуть. Всегда компанию поддержу.
И вижу, что нужен в людском обороте. Ну и конечно, вот-дом, жена, дети, внуки. Чего же еще желать человеку? У печки в прежней позе тихого согласия стоит жена пастуха. В открытое окно к свечке летят мохнатые мотыльки. Старик, подбирая нужные пищики, вспоминает одну мелодию за другой: «На диком бреге», «Калинка», «Прощай, радость моя» и кое-что из «своего сочинительства».
— Эту утром обычно играл. Эту вот в полдень — себя подбодрить и чтобы коровы не разбредались. А это — вечер, солнце садится — пастух веселится. Такая вот арматура.
Инструмент, глядите сюда, проще и некуда. Коровий рог, к нему, гляди-ка, трубочка из рябины вся в дырках — по ним пальцами прохожусь, ну и пищик. Однако дуньте-ка, что получится?..
Во! На рожке и раньше не каждый пастух играл.
На рожке труднее, чем на гармошке. От того и плату пастух-рожечник получал иную, чем безголосый пастух. И при найме непременно тебе вопрос: играю ли на рожке?
Особо этим бабы интересовались.
И, конечно уж, им угождал — под рожок просыпаться приятное дело… А теперь я на много губерний остался, пожалуй, один. Меня уже можно за деньги показывать.
Нашу беседу со снисходительным любопытством слушал сын пастуха Сергей, такой же веселый и откровенный, как и отец.
— Ха, чепуха какая — рожок. Да появись с этой музыкой в ПТУ, засмеют…
— А ты появись, появись, — горячится старик. — Ты появись! Ревом, понятно, кого удивишь? Ты появись с музыкой. Вон, погляди, смеются там или нет?
Вблизи избы пастуха на бревнах и на скамейках в полутьме августовского вечера сидят люди, явно привлеченные звуком рожка.
— Дядя Сергей, «Меж крутых бережков» можно?
— Вон, слышишь, просят? Слышишь — «Меж крутых бережков». И так всегда. Заиграл — сейчас же люди. И всегда тебе благодарные.
Старик отыскал нужный пищик и сел поближе к окну.
Он сыграл «Меж крутых бережков», потом по просьбе женского голоса «Хуторок». И под конец по-свойски весело крикнул в окно, в темноту: «Концерт окончен, пора на насести!»
Мы вместе с Сергеем-младшим стали собираться на сеновал.
— Выпейте молока на ночь, — сказал пастух, принимая из рук жены большую стеклянную банку.
Пока пили, старик опять незлобливо и, видно, не первый раз вразумлял сына:
— Смешон не рожок. Смешно, что ты от этих пространств, от этой вольности в таксисты хочешь податься… Такая вот арматура, — подытожил он разговор. — Валяйте на сеновал. Но вы не слезайте. Это будет просто сигнал: я пошел на работу.
Утром мы и проснулись от звуков рожка.
Через прореху в крыше был виден реденький сад с покосившейся загородкой. За садом к Волге спускался лес. Здесь он наполнен был подсвеченным солнцем туманом. Верхушки высоких сосен, берез и елок темнели в тумане, как острова. В соседнем сарае чутко переговаривались гуси. Слышно было: где-то в подойник бьет струйками молоко. Шуршала на сеновале мышь. И сладко посапывал младший Сергей.
А старший Красильщиков, судя по звукам рожка, был уже за околицей. Он извещал селенье над Волгой, что день начался и надо его встречать.
Деревня Столыпино. Верхняя Волга.
Швея
В музее рядом с патронными лентами, пулеметом, снарядами и останками бомбы стоит эта сугубо мирная вещь — швейная машинка Zinger.
— Наверное, есть какие-нибудь заслуги у этой старушки?
— Есть, — сказали в музее. — Если полчаса подождете, то придет и хозяйка машины.
Она пришла приодетая, необычайно опрятная, подтянутая. Выжидательно села на краешек стула. Познакомились. И я записал: Зоя Александровна Запутряева. Уроженка Осташкова. Возраст — 78 лет. Швея. Сейчас смотритель музея.
— Машина, наверное, ровесница вам.
— Да нет. Пожалуй, чуть помоложе. Мне купили ее на двадцатом году…
Зоя Александровна Запутряева и ее машинка.
В семье Запутряевых детей было шестеро. Кормила всех кузница, где отец Александр Михайлович Запутряев с утра до ночи стучал молотком — ковал лошадей и выделывал для окрестных мужиков косы. «Возможно, как раз отцовские косы и сохранились у нас в музее».
Для дочери-рукодельницы решил кузнец справить машину. Много, наверное, надо было выковать кос и подков, чтобы купить недешевый по тем временам заграничный снаряд.
Покупка пришлась ко двору. И семья Запутряевых выбралась из нужды — в кузне стучал молоток, а в доме стучала теперь машина. «До этого я шила руками. Теперь же работа шла едва ли не в сто раз быстрее. И так получилось: к этой машине я приросла на всю жизнь».
Слово «война» Зоя Александровна услышала за шитьем. Осташков, казалось, был далеко от боев. Но война пришла и сюда, к Селигеру.
Одна из дочерей кузнеца Запутряева — Валентина была в Осташкове секретарем райкома комсомола. А в соседнем на Селигере районе, в Пено, тоже секретарем была Лиза Чайкина.
«Лиза и Валя дружили. В последний раз из райкома Лиза звонила сестре: «Валя, до встречи. Я ухожу в леса».
Сейчас сестры Запутряевы, Валентина и Зоя, живут вместе. «Год, когда Лиза ушла, был и в нашей судьбе поворотным. Я решила, что наибольшую пользу могу принести, если буду что-нибудь делать для фронта на своей безотказной машине».
В Осташкове в 42-м году сформировалось небольшое подразделение для ремонта солдатской одежды. Швея Запутряева Зоя в него попросилась.
Когда говорят о войне, в первую очередь справедливо вспоминают тех, кто лежал на переднем крае в окопах, кто поднимался в атаку, ходил в разведку, — вспоминают пехоту, танкистов, саперов, пилотов, связистов, вспоминают ударную силу войны. И мало кому известны шедшие следом за боевыми порядками нестроевые силы. Шофер, фельдшер, сапожник, пекарь, прачка, швея, оружейник. Все это люди, без чьей заботы передовая держаться бы не могла. В нестроевые подразделения пули не долетали, но снарядами их накрывало и бомбы их находили.
И непролазная грязь военных дорог им знакома. И весь кочевой быт войны люди, нередко немолодые уже, вынесли. Были в этих подразделениях и женщины.
Представьте себе отряд из пятнадцати конных повозок, идущий следом за фронтом.
На повозках поклажа донельзя прозаическая: корыта, стиральные доски, утюги. Мыло, иголки и нитки. На передней «штабной повозке» главная ценность — маленький сейф с печатью и документами части, два автомата и вот эта машинка Zinger.
Заботой отряда была одежда солдат. Ее стирали, чинили, гладили. «Располагались в какой-нибудь деревеньке у речки. Кипятили и промывали одежду в проточной воде (а зимой-то она ледяная!), сушили летом на солнце, зимою жарко топили крестьянские печи. Целыми днями не разгибались. Так и жили.
Часть продвигалась — и мы сейчас же свой скарб на подводу. Вот так на лошадке дошли из-под Курска до Дрездена».
Память у Зои Александровны сохранилась прекрасно. Помнит имена своих сослуживцев.
«Как не помнить — почти все из Осташкова!» Помнит деревни и речки, где делали остановки по Украине, Молдавии, Румынии, Чехословакии, Австрии.
В Дрездене война для банно-прачечного отряда не кончилась. «Погрузили нас в эшелон, и двинулись мы на восток. И опять шли за фронтом. В пустыне Гоби хлебнули горя от недостатка воды. Но, слава богу, там все окончилось скоро. И опять эшелон. Теперь уже домой. Развинтила машину, аккуратно все переложила ветошью. Сказала спасибо мысленно людям, сделавшим этот станок для шитья надежным и некапризным. Как подумаю, сколько я с этой машиной проехала, — голова кружится. А ведь ни разу не поломалась, меняла только иголки.
И еще тридцать лет после войны работали вместе швея и машина. «Я первая подносилась — глаза изменять стали. В последний раз сшила сотню этих вот тапочек для музея, чтобы полы обувкой не портили, и сказала: все, хватит. Попросили машину сюда — отдала. А теперь и сама вот смотрителем при музее».
Сделать снимок машину мы вынесли в главную светлую залу музея. А потом поставили снова на место, к площадке, где лежат пулемет, каски, патронные ленты и бомба. Зоя Александровна заправила под каретку машины солдатскую гимнастерку, прошла одну строчку: «В полном порядке. Садись и работай. Нам бы, людям, такую надежность».
Фото автора. Осташков. 3 сентября 1978 г.
Новоселье
(Проселки)
В деревню Сытьково в этом году весною прилетели три пары аистов. Полетали, посидели на высоких деревьях, походили по болотцам у Волги, и жители догадались: прилетели в разведку. Аисты в этих местах никогда не селились, никто никогда их не видел. И можно представить радость, волненье и ожиданье: а вдруг останутся?
Два просвещенных сытьковца Цветков Михаил и Геннадий Дроздов первыми вспомнили: в иных местах для привлечения птиц укрепляют на дереве колесо. Колесо сейчас же нашли, хотя найти тележное колесо в наше моторное время дело совсем не простое.
Ну и конечно, непросто надеть колесо на верхушку высокого дерева. Вся деревня сошлась поглядеть, чем все окончится. Не будь такого схода людей, Геннадий и Михаил, возможно, отступили бы. Но на миру чего не сделаешь!
В старое время на местных ярмарках смельчаки за сапогами на гладкий столб залезали. Поговаривают, на этот раз для смелости была выпита четвертинка. И это было как раз столько, чтобы и дело сделать, и живыми спуститься на землю.
Фундамент для птичьего дома получился хороший. И пара аистов поселилась в Сытькове.
Гнездо, однако, птицы построили не на ели, увенчанной колесом, а на церкви.
На самом высоком месте деревни стоит эта церковь. В былые времена такое расположенье постройки (за многие версты видна!) внушало человеку верующему подобающее почтенье. А во время войны сытьковская церковь стала многострадальной мишенью.
Подозревая на ней наблюдателей, били по деревне то наши, то немцы, и столько было изведено снарядов, что целый город бы рухнул.
А церковь стоит. Старухи обстоятельство это приписывают покровительству сил неземных. А семилетний внук одной из старушек в моем присутствии высказал суждение очень здравое: «Что ты, бабушка, это со знаком качества строили!»
Неистребленный запас прочности аисты по достоинству оценили. На самой верхушке церкви соорудили гнездо, вывели аистят.
И стали они принадлежать как бы всем, всей деревне. И в этом усмотрена высшая справедливость. Даже Геннадий с Михаилом сказали: «Ну что ж, им виднее, где строить. Они понимают…»
Лето в Сытькове прошло под знаком птицновоселов. Непугливые аисты ходят по огородам, по лугу, садятся на крыши домов. Из любой калитки, с любой завалинки и скамейки видно гнездо. Видно, как прилетают с запасом еды для детей старики аисты. Видно: толпятся в гнезде, пробуют крылья три молодые птицы.
Вся деревня слышит раннюю утреннюю побудку-треск клюва. «Это они переговариваются друг с другом. И так приятно душе от этого разговора».
Много толков о птицах. Куда летают, что носят в гнездо, у чьего дома любят садиться, что за странная песня… Глядя на трех аистят, подросших в гнезде, стали строить предположенье: вернутся сюда же или, как сельские молодые ребята, подадутся куда. Колесо, на котором ночуют пока что вороны, у аистов на виду — селись, пожалуйста! А у парома я встретил двух молодцов на мотоцикле — везли еще колесо от телеги.
— Не иначе как аистам?
— А что, разве плохо, говорят, счастье от них.
Паромщик, переправлявший ребят в деревню, с покоряющим удовольствием тоже заговорил о птицах:
— Слышал, там и там поселились… А ведь ранее никогда не было.
В этом орнитологическом явлении (ареал гнездящихся аистов за последние годы заметно расширился на восток) паромщику явно хотелось видеть добрый житейский знак.
— Селится птица! Вот и люди, глядишь, тоже начнут кое-что понимать. Недавно с одним из наших беседовал. Говорит: «Уеду из города! Срублю дом и буду хозяйствовать». Как считаете, только поговорили или в самом деле назад в деревню?..
Начнется с колеса…
… закончится гнездом.
Паром
Древнейшая из переправ. Пешеход осилит воду на лодке, по бревну, по мостку. Для повозки же нужен мост или это вот нехитрое скрипучее сооруженье — паром. Чтобы не уносило теченьем, над водой натянут канат. Вдоль него потихоньку паром и плывет. Туда и обратно, туда и обратно.
Паром — признак жизни неторопливой и не слишком густо замешенной. Иногда паром, правда, единственный выход из положения. Через Каспий, к примеру, мост не построишь.
Паром! Да какой! Железнодорожный поезд скрывается в его чреве, а утром, переправившись из Баку в Красноводск, следует далее в Азию. В Норвегии я видел паромные переправы через фиорды, на западе США, у Сиэтла, и на востоке, на Великих озерах, паромы ходят между островами. На них сразу возят до сотни автомобилей, и тянут эти плавучие средства громадной силы моторы. А прародители этих паромов-гигантов такие вот тихие переправы.
На Волге, после истока, самая первая переправа — деревянный мосток, а дальше до Ржева, до первых больших мостов я насчитал четыре парома. Для интереса на всех четырех переправился, посидел с паромщиками, поглядел, как каждый из них управляется на ответственном человеческом перекрестке.
А с паромщиком Виктором Андреевичем Смирновым и женой его Анной Дмитриевной мы подружились. Я залезал на крышу их дома, чтобы сделать этот вот снимок, в минуты затишья на переправе пил с ними чай и послушал обоих — Анну Дмитриевну, говорящую скоро, как пулемет, и хозяина, немногословного и тишайшего.
— Тридцать три года переправляем. На сорок верст всех кругом знаем. Все тут сходятся на пароме — кто с горем, кто с радостью, кто с трудами-заботами. В три часа ночи стукнут в окно — встаешь. А как же, должность такая!
Паромщик, покуривая, согласно слушает заливистый говор жены и считает нужным только добавить:
— Да, с 45-го тут при воде. Сразу как вернулся с войны…
Переправа — особая точка в здешних краях.
Тут перекресток всех новостей и справочный пункт, место неожиданных встреч, расставаний. В погожее время тут клуб для старушек и место, где ребятишки приобщаются к жизни ершистой и непричесанной.
В определенный час к переправе является почтальон с велосипедом. Ей по маленьким деревенькам предстоит проехать километров двадцать пять — тридцать. В определенный час везут на подводах молоко с фермы, везут в фургоне теплый пахучий хлеб. Машина с красным крестом посигналит — паромщик бегом летит к переправе.
Бывают на этом пароме заторы. Случается это весной, когда везут удобрения, летом, когда везут сено и намолоченный хлеб. Лен, лес, дрова, скот — всему свое время на переправе.
— В последний год-два много техники разной идет. Мелиорация. Иногда такой механизм вкатят — моя «дощечка» оседает до самого некуда.
Движет паром вдоль каната сама вода. Теченье у Волги в этих местах большое. Поставит паромщик рулевое весло под нужным углом — паром на роликах вдоль каната и движется: переменил положенье весла — пойдет обратно.
Хочешь ускорить ход — помогай, надевай рукавицу и тяни за канат. Есть для этого и особая деревяшка с зазубриной. Раз, раз… глядишь, вот он и берег.
Переправа на этом месте такая же древняя, как сама Волга, как деревеньки по ее берегам.
Кажется, покопайся в песке — найдешь старинную денежку, подкову и даже стрелы наконечник. И много, очень много железа осталось в Волге с минувшей войны — каски, снаряды, патроны. До сей поры ребятишки нет-нет да и вынут что-нибудь из воды…
Вечер. С Виктором Андреевичем мы сидим на бревне у причала. Видно, как в светлой воде у пригнутой теченьем травы играет рыбешка.
На другой стороне, на отмели, ходит аист.
Сзади, на взгорье, за домом Анна Дмитриевна возле желтого «Москвича» скороговоркой дает проезжим советы, как солить огурцы: «Смородинный лист, непременно смородинный лист…»
— Да, переправа, переправа, берег левый, берег правый, — задумчиво говорит перевозчик. И я чувствую, говорит он это в тысячный раз.
— Андреич, а ты знаешь, что это стихи? Знаешь, кто написал?
— Нет, не знаю. В армии слышал это от повара, он всегда говорил: «Берег левый, берег правый». С кухней вместе погиб — прямое попадание бомбы…
На другом берегу появляются трое мотоциклистов.
— К девчонкам ребята едут?
— Да это наши местные женихи. Возвращаться будут с рассветом.
— Сказал бы ты им — ночью-то беспокойство…
— А что говорить, все равно не послушают, дело-то молодое. Я и сам, бывало, являлся домой, когда петухи уже поохрипнут.
На помост осторожно въезжает желтый «Москвич». Андреич переводит весло в нужное положение, и паром, поскрипывая, отходит.
Слышно, как беззаботно переговариваются ребята-мотоциклисты, как шлепается блесна об воду у рыболова и где-то блеет овца.
И вот уже на средине Волги паром. Перевозчик, не выпуская весла из рук, продолжает начатый с водителем «Москвича» разговор о делах деревенских и городских:
— Да, берег левый, берег правый…
Фото автора. Деревня Сытьково, Калининская область.
6 сентября 1978 г.
Селигер
(Проселки)
— Ну а Селигер, бывали, конечно?
Когда говоришь «не бывал» — удивленье.
Объяснение «берегу про запас» встречается с пониманием: у каждого есть заветное место, которое хочется видеть не мимоходом. И все же встреча эта была короткой. Дорога лежала у Селигера. И мы завернули. Сразу после ржаного поля увидели много тихой воды. Однако не сплошь водяная гладь, а полосы темной осоки, острова с кудряшками леса, за которыми снова сверкала вода. Садилось солнце. И все кругом как будто оцепенело в прощании со светилом. Не шевелились на красном зеркале лодки. Дым от костра на синеющем вдалеке берегу подымался кверху светлым столбом.
Стрекоза сидела на цветке таволги возле воды, и блики заката играли на слюдяных крыльях.
Мы зачерпнули воды в ладони, сполоснули пыльные лица.
— Здравствуйте, Селигер Селигерыч…
— Первый раз приехали? — понимающе отозвался натиравший песочком кастрюлю явно нездешний загорелый рыбак. — Я тоже, помню, так же под вечер увидел все это. И теперь вот в плену, восемнадцатый раз приехал. Откуда?
Не поверите, из Сухуми…
* * *
У большинства наших больших озер мужское имя. Каспий, Арал, Балхаш, Байкал, Сенеж.
И это — Селигер Селигерыч. На карте, где восточное чудо — Байкал синеет внушительной полосой, Селигер почти незаметен — в лупу я разглядел лишь подсиненную неясного очертания слезку. И только тут, вдыхая запах воды, одолевая взглядом уходящие друг за друга гребешки прибрежного леса, понимаешь, как много всего скрывала от глаз мелкомасштабная карта.
Озеро очень большое. И все же его размеры разом определить невозможно. С моторной лодки одновременно видишь два берега. Они то расходятся, то сужаются, так что даже не слишком смелый пловец вполне одолеет протоку. Но лодка идет полчаса, час, два часа, и озеро все не кончается. На коленях измятая карта, где крупно помечена каждая из морщинок земли, заполненная водой. Лишь этот крупномасштабный рисунок дает представление о водяном кружеве. Длина озера — сто, ширина — пятьдесят километров.
Иные озера похожи на огромную залу под куполом, Селигер же вызывает в памяти лабиринт Эрмитажа — сотни причудливых «помещений», переходящих одно в другое, — протоки, заливы, тайные устья речек, плесы, мыски, острова.
И все это в зелени трав и подступающих к самой воде лесов. Одних островов тут насчитано сто шестьдесят. Есть малютки, сверху глянуть — мыши одолевают воду, и есть большие, есть один с деревеньками у воды, с непроходимым лесом, большим и малым зверьем, с озерами, на которых — свои острова и тоже с озерами.
Отцом озера был ледник, отступавший с Валдая, как считают, двадцать пять тысяч лет назад. Получив изначально талую воду утомленного ледника, озеро пополняется теперь постоянным стоком сотен маленьких речек.
Избыток же вод Селигер, подобно Байкалу, отдает в одном месте, одним только руслом, впадающим в Волгу.
Исток Волги лежит по соседству в девятнадцати километрах от озера. Взглянув на подробную карту, можно увидеть: очень близко от колыбели Волги резвятся еще две маленькие речки. Приглядимся, проследим их пути-Днепр, Западная Двина… Вспомним Днипро у Киева, Даугаву у Риги, на российских просторах матушку Волгу — могучие реки! А тут, в валдайских лесах, они еще босоногие ребятишки. Не познакомившись даже, они разбегаются в разные стороны из непролазной чащи их общего детского сада. Они мало чем отличимы от десятков таких же маленьких речек. В этих местах главный держатель вод — Селигер. Богат, красив и заметен. «Европейский Байкал» зовут Селигер любители странствий.
* * *
Человеческая история у этой воды теряется в дымке времен. Никто не знает, когда впервые появились тут люди. Но кремневые молотки, скребки и долота, отрытые в городищах на берегу, говорят о том, что в каменном веке Селигер уже был приютом для человека. Череда веков, именуемая «до нашей эры», тут тоже оставила память. А в XIII веке берега Селигера уже густо заселены славянскими племенами кривичей. Деревушки, видимые сейчас с воды и скрытые за лесами, нередко имеют глубокие корни во времени. Сотни лет назад выглядели они, конечно, иначе, но в названиях деревенек сохранились звуки минувшего, ощущения пространств и преград, разделявших людей. Заречье, Залучье, Заплавье, Заболотье, Заборье, Замошье, Задубье, Селище, Свапуща, Кравотынь…
Селение Кравотынь, дразнящее путника белой церковью и сиреневой россыпью деревянных домов, название свое получило, как считают, из-за резни, устроенной тут Батыем.
С юго-востока до Селигера в 1238 году докатились конные орды завоевателей. Воображенье Батыя, покорившего многие земли, дразнили теперь Псков и Новгород. «Посекая людей яко траву», двигалось войско к желанной цели «селигерским путем». И осталось до Новгорода всего несколько переходов, когда озеро вскрылось.
Текущие в него речки набухли весенней водой, и непролазными стали болота. Войско Батыя остановилось и, не мешкая долго, повернуло на юг. Селигер, воды, в него текущие, и глухие леса без дорог загородили, прикрыли Новгород.
Позже этот природный щит прикрывал россиян и с другой стороны, с запада, при походах сюда литовцев. Служил он также амортизатором в междоусобных стычках русских князей. И недавно совсем, в 41-м году, в Селигер уперлась, забуксовала машина фашистского наступления. Обойдя природную крепость с юга и с севера, Селигер фашисты все же не одолели. Проплывая сейчас по озеру, видишь на западном берегу памятник — пушку на постаменте. Надпись — «Отсюда люди гнали прочь войну…» — имеет в виду наступление 42-го года, однако смысл ее глубже — с берегов Селигера поворачивали вспять многие силы, сюда подступавшие.
Можно перечислить здешних людей — героев из разных времен. Двое из них хорошо нам известны — Лиза Чайкина и Константин Заслонов.
* * *
Мирная жизнь искони держалась на Селигере рыболовством, лесными промыслами, ремеслами и торговлей (селигерский путь «из варяг в греки» и выгодное торговое положение позже). У каждой из приютившихся на берегах деревенек поныне свой норов. Звоном кузнечиков и дремотною тишиной встретило нас Залучье. Кажется, даже собаки лаять тут не обучены и вся деревенька создана для любования ею. На взгорке между водою и лесом как будто чья-то большая рука рассыпала деревянные домики, а по соседству та же рука насыпала холм, с которого видишь эту деревню, леса, уходящие за горизонт, а глянешь в сторону Селигера — кудрявые косы и островки, лес и вода полосами. «Кто в Залучье не бывал — Селигера не видал», — пишет путеводитель.
Тот же путеводитель очень советует заглянуть и в Заплавье. «Вы знаете — Голливуд. Голливуд!» — прокричал нам со встречной моторки знакомый киношник из Ленинграда.
Мы заглянули в Заплавье минут на двадцать, а пробыли там пять часов, хотя деревня эта, как все другие на Селигере, совсем небольшая.
Очарование Заплавья начинается с пристани. Видишь какую-то ярмарку лодок, рабочих и праздных туристских, с парусами и без парусов. Дощатые мостики, баньки, деревянные склады и щегольской магазинчик, толчея людей, приезжих и местных, собаки и кошки — завсегдатаи причала, ребятишки-удильщики, местный юродивый. И тут же — рыбацкие сети на кольях, копенки сена, одноглазые баньки под крышами из щепы. И, обрамляя все, глядит на воду прибрежная улица. Дома пестрые и необычные — то крепость из бревен, то деревянное кружево от порога до конька кровли. И более всего неожиданно — много домов тут каменных, но построенных и украшенных так, как будто трудился плотник. Так, видно, и было. На одном из крахмально-белых строений читаешь вдруг надпись: «Строил плотник Александр Митриев».
Углубляясь в деревню, чувствуешь, что в самом деле занесло тебя в некий северный Голливуд — смешенье строительных стилей, красок, форм и объемов. Все покоряюще необычно: как детский рисунок, наивно и ярко — не деревня, а дымковская игрушка! «Как будто специально для туристов построено», — говорит кто-то, идущий сзади тебя. Однако большому туризму в этих краях лет двадцать от роду, а деревенька — старожил Селигера. Не замечая множества любопытных глаз, она живет своей накатанной жизнью. Во дворе за малиново-красным забором слышно — доят корову, на улице перед стайкой туристов посторонились овцы, ходят три лошади около бани. На лодках привезли сено. Молодая мамаша катит младенца в ярко-желтой коляске. Двое соседей через забор выясняют давние отношения. До пояса голый старик варит в огромном котле смолу, а по краю деревни (субботний день!) курятся баньки и сохнут сети.
Заплавье жило всегда и теперь живет рыболовством. Здешние рыбаки, возможно, лучшие на Селигере, а весь край славен и рыбой, и уменьем ее ловить. Рыба отсюда издавна шла в Петербург и в Москву. А слава о рыбаках расходилась и того дальше. В 1724 году шведский король обратился к царю Петру с просьбой прислать в королевство двух рыбаков для обучения шведов рыбному промыслу. Понятное дело, царь приказал разыскать лучших. И выбор пал на рыбаков с Селигера. И нисколько не удивляешься, когда на гербе столицы здешнего края — града Осташкова — видишь три серебряные рыбы.
* * *
Город Осташков, как и все здешние поселения, — дитя Селигера. Он жил тоже рыбой, кузнечным и кожевенным ремеслом, славен был знаменитыми богомазами, сапожниками, чеканщиками и оборотистыми купцами, подарил Отечеству двух математиков — Леонтия Магницкого (по его учебнику постигал азы арифметики Ломоносов) и Семена Лобанова, читавшего лекции в Московском университете.
В среде уездных городков России конца XVIII — начала XIX века Осташков слыл знаменитостью. О нем охотно и много писали в столичных газетах. Много людей шло и ехало сюда на богомолье, просто «взглянуть на славный Осташков» и даже, как сейчас бы сказали, «за опытом». И было чему подивиться тут ходокам из уездной России. «На грани столетий, — читаем мы у историков, — в Осташкове были: больница, народные и духовные училища, библиотека, театр, бульвары, воспитательный дом, училище для девиц, городской сад и духовой оркестр, мощенные булыжником улицы, первая в России добровольная общественная пожарная команда, в городе почти все были грамотны, жители брили бороды и называли себя гражданами». Немало для уездного городка!
И осташи всем этим, конечно, гордились. Был тут даже и собственный гимн с такими вот строчками:
От конца в конец России Ты отмечен уж молвой: Из уездных городов России Ты слывешь передовой.Образцово-показательная провинция! Но нам интересно сейчас, что все это было и дошло до нас не слишком поврежденное временем.
Бурное течение нашего века уездный Осташков не подмяло, не затопило. Что строилось — строилось в стороне, не разрушая облика городка.
Он хорошо сохранился, уездный Осташков. И (диалектика времени!) «уездность» эта с памятниками архитектуры и старины стала его богатством. Он снова столица озерного края.
На этот раз столица туристского Селигера.
Сегодня не надо уже доказывать, что селигерский край разумней всего использовать для отдыха и радостей путешествия. Это, кажется, все уже понимают. Досадно, однако, что оснащение удобствами и утверждение этого края «национальным парком» (или местом отдыха с иным каким статусом) движется медленно. Слишком медленно, ибо стихийные, без разумного регулирования потоки людей могут повредить уникальное на земле место, да и удобства, хотя бы самые небольшие, в путешествиях людям нынче необходимы.
Потоки людей сюда остановить уже невозможно. Наиболее неприхотливые, запасаясь едою и всем, что надо для жизни две-три недели в лесах у воды, едут сюда зимою и летом. Люди находят тут ценности, в других местах поглощенные городами и громадами производства.
Тишина. Чистый здоровый воздух. Чистые воды. Рыбная ловля. Лес со всеми его богатствами. Своеобразие жизни на берегах. Следы истории.
Все это, объединенное символом «Селигер», стоит ныне в ряду самых больших человеческих ценностей. Дело только за тем, чтобы богатством этим разумно распоряжаться.
* * *
— Прощай, Селигер…
Мы стоим на пристани Свапуща, готовые двинуться к пограничной новгородской земле, к деревенькам, откуда повернули вспять орды Батыя. Белый пароход выплыл из-за полоски леса, помаячил на синей воде и снова скрылся за поворотом.
— Мама, мама, я поймал окуня! — кричит шестилетний рыбак.
— Он маленький. Отпусти его. Лови большого, — отвечает женщина, перебирающая грибы у мостка.
Мальчик с сожалением разжимает в воде ладошку, смотрит, что стало с рыбкой, и снова забрасывает удочку.
Застыли на воде лодки рыболовов серьезных. Неподвижно стоят над озером облачка. Оцепенели леса над гладью.
— Эх, искупаться, что ли, в последний разок, — говорит шофер. И мы решаем именно так попрощаться со стариком Селигером…
Об озере много написано. Так же много, как о Байкале. В одной книжке я подчеркнул строчку «Осмотреть селигеровские владения не хватит никакого отпуска». Верно. Два дня же — это так, мимолетность. И все-таки в памяти что-то осталось. Так при коротком знакомстве запоминаешь лицо хорошего человека и думаешь: мы еще встретимся.
Фото автора. 10 сентября 1978 г.
Стожки
(Проселки)
Ничего особенного — стожок сена и складушка приготовленных на зиму дров. Но как они сложены!..
Сено в стожках всегда волновало художников и поэтов. Почему? Потому, наверное, что стожок — это память о лете, это итог поэтичного по своей природе труда, это копилка запахов и тепла, гарантия благополучия на зиму. Но об этом не размышляешь. Когда видишь стожки, просто ими любуешься. Они украшают любой пейзаж, везде они к месту. И чем их больше, тем больше и радуешься.
На этот раз не столько живописность стожков остановила внимание, сколько особая их аккуратность, я бы сказал, изящество, с каким было уложено сено. Один стожок, другой, третий вдоль полотна дороги. По почерку видно: клал один человек. Остановились. Сунули в сено носы и, насладившись запахом, отошли полюбоваться со стороны добротной крестьянской работой.
Кажется, клались былинка к былинке — все причесано, утрамбовано. Чтобы даже малость не похилился стожок, подперт он кольями, обложен жердями и стоит на помосте из бревнышек.
— Не стожок, а игрушка! Кто же кладет такие? — спросили у проходившей женщины.
— Понравилось? Это клал Василий Петрович Петров из деревни Петрово. Если не очень спешите — три километра назад. В крайнем доме живет.
Мы не поленились вернуться к маленькой деревеньке. Хозяина дома не было, уехал в больницу. А жена его Антонина Алексеевна, посмеявшись нашему интересу, сказала:
— Да, он у меня такой. Семьдесят шесть, а по-прежнему уважает во всем порядок. Вон поглядите, дровишки как положил.
Действительно, тем же почерком во дворе были уложены и дрова — поленце к поленцу, изящным «амбарцем».
Василий Петрович всю жизнь проработал дорожным рабочим.
— Его участок всегда отмечали. Всегда к празднику — грамота. Премии получал, — вспоминает хозяйка дома.
Уверенно можно сказать: и во всех других делах человек этот аккуратен. Есть такие люди, чего ни коснутся, все выходит у них — поглядеть любо. И качество это важно заметить. Слишком уж часто видишь кирпич, брошенный как попало, бревна, рассыпанные, как спички, то же сено, накиданное небрежно, насквозь прошиваемое дождями, дорогие машины, брошенные в грязи без навеса…
Низко поклонимся аккуратности! Она не только приятна для глаза, она сберегает добро и воспитывает в человеке хозяина.
Демянский район, Новгородская область.
Марья Васильевна
Утвердилось последние годы понятие: «неперспективная деревенька». Пять — семь домов.
Живут одни старики. Удалена от дорог и центра хозяйства. Много таких деревенек встречаешь в лесной России. Подъезжаешь — ни дымка, ни собачьего лая, ни детского смеха, ни плача.
Доживают три-четыре старухи. Рады любому объявившемуся тут человеку. Сразу же семенят в огород за луком, за огурцами, несут в подоле из одичавшего сада яблоки. У одной — кошка, у другой — коза, две-три курицы. Как живут? Чем живут?
У некоторых в городе дети и внуки. Бывает, зовут к себе на житье. А то и не зовут вовсе.
Приедут летом на красных, как вареные раки, машинах. Поживут неделю-другую и опять в город. Но тихие бабки и этому рады. На внучат поглядели. Убедились, что дети живы-здоровы.
Некоторых дети зовут усиленно. «Мама, ну как же так можно, поедем». Не соглашаются: «На этажах какая там жизнь. Тут вон укропцем пахнет, свой огурец, да и дом — как-никак жизнь протекла».
И правда, «на этажах» эти старухи, подобно яблоням, пересаженным в позднем возрасте, не приживаются. Маются, сидя у городских телевизоров, видят во сне свои огороды с укропцем, свои сиреневые при солнце и серые в непогоду домишки, заглохший колодец, заржавевший почтовый ящик.
А иным просто некуда и податься. Сыновей война покосила. А они вот живут. Все их богатство — эта вот «неперспективная деревушка».
И деревушка тоже только старухами и жива. Умрут — все быстро поглотят бурьян и леса.
Деревне Сытьково исчезновение не суждено. Стоит над Волгой и возле дорожного тракта. И хотя прежде бурлившая жизнь переместилась в иные места, деревенька все же стоит на ногах. Но и тут большая часть населения — старики.
Подымаясь от Волги по косогору, мы повстречали за деревенскими огородами старуху с косой.
— Для козы, бабушка?
— Для коровы, милые, — ответила бабка, поглядев на нас сквозь очки прищуренными, всевидящими глазами.
— Тяжело? Дело-то ведь мужицкое.
— Разве не тяжело! Что мужицкое — полбеды. Беда — годов-то семьдесят девять…
Поправив платок, старуха взялась косить.
А вечером мы снова с ней встретились. Попросившись на ночлег в домишко у края села, мы готовили «газик» съездить за Волгу, когда старуха вернулась с вязанкой травы.
Марья Васильевна.
— У нас на ночлег? Ну что же, рады гостям.
Бросив вязанку и прислонив в уголке палисадника косу, она тяжело опустилась на порог дома и уголком платка стала тереть очки.
— Ну вот, наработалась. А то корову-корову. Для коровы силы нужны, — пожалела ее хозяйка дома, принимавшая нас на ночлег.
Выяснилось: в доме живут три сестры. Анастасья Васильевна, Марья Васильевна и Арина Васильевна. У каждой была своя жизнь.
А старость собрала сестер под одной крышей. И живут. Все опрятно, ухожено, прибрано.
На окошках цветы, на бревенчатых стенках застекленные рамки со множеством фотографий. На кухне на чистом столе самовар, горка оладий. В открытое кухонное окно видно Волгу и обкошенный склон у воды. Старухи садятся вокруг самовара и заводят, как видно, не новый разговор о хозяйстве. Объект неторопливой дискуссии — корова. Продавать или не продавать?
Силы в этом домашнем споре распределяются так. Старшая из сестер, Марья Васильевна (та, что косила траву), твердо стоит за корову — «без коровы нельзя» — и делает все, что можно сделать в ее без года восемьдесят лет, чтобы корова осталась. Против — младшая, Анастасья Васильевна. Она курит, голос у нее от этого хрипловатый:
— А кто же будет за ней ходить? Я вон на двенадцать рублей лекарств накупила…
Заботы о корове лежали на Анастасье.
Но год назад ее, шестидесятилетнюю (тридцать лет из них проработала медсестрой в сельской больнице), настиг инфаркт, и с коровой трудно теперь управляться.
Средняя из сестер, Арина Васильевна (76 лет), тоже больна. У этой склероз — забывает все тут же. Сердцем она за корову — «как же без нее, матушки». Но она понимает — главный работник в доме, Анастасья, вышла из строя.
Арина слушает каждую из сестер, говорит: «Господи…» — и подносит к глазам платок.
— Без коровы никак нельзя, — упрямо стоит на своем Марья Васильевна и берется отбивать косу, чтобы завтра с росою снова пойти косить.
Мы уезжаем за Волгу и возвращаемся в сумерках. Сестры сидят у остывшего самовара.
Разговор прежний.
— Всю жизнь держали, и вот теперь — на, продавать! — вполголоса говорит Марья Васильевна.
— Господи, — шепчет Арина и смотрит с надеждой по очереди на сестер.
— Кто же против. Но я-то, видите, молоком запиваю таблетки, — хрипловато, но очень миролюбиво и даже ласково возражает младшая из сестер.
В открытые окна летят на свет бабочки.
В палисаднике чутко ходит собака. А за углом во дворе пережевывает жвачку и шумно вздыхает корова.
Мы пьем поставленное в светелке для нас молоко.
— Настоящее. Не то что в пакетах, — говорит шофер, наливая вторую кружку.
— Без коровы нельзя, — подытоживает на кухне разговор Марья Васильевна и выключает свет по очереди в сенях, в соседних двух комнатках, в пристройке для кур…
Утром проснулись мы рано, но сестры были уже на ногах.
— Греем кости чайком. Садитесь-ка с нами, — позвала Анастасья Васильевна.
Мы сели. Побеседовали о том о сем. Но разговор опять подался в прежнее русло.
— Грех такую корову на мясо. Грех! — утверждала свою позицию Марья Васильевна.
Сестры молчали, соглашаясь, что «на мясо» это действительно грех.
У проблемы, оказывается, была еще одна важная сторона. Продать кому-либо корову — это еще полбеды. «Будем видеть ее, да и молока, глядишь, купим». А вот на мясо — сестры единодушны — это никак не годится.
Оказывается, нет охотников покупать дойную и очень хорошей породы корову.
— Молодые не интересуются. Говорят: зачем? А старые — видите сами, — объясняет ситуацию Марья Васильевна.
На этой точке дискуссия о корове утром остановилась. Мы, попрощавшись, поехали.
А три сестры принялись каждая за свое дело.
Младшая села за письмо дочери в Ленинград. Арина взялась мыть посуду. А Марья Васильевна пошла за косою…
На взгорке мы остановились — последний раз взглянуть на деревню. Разыскали глазами знакомую крышу за садом, дорожку от дома к Волге и на откосе увидели человеческую фигурку в коричневой кофте и пестром платочке.
— Марья Васильевна! Косит! — восхищенно сказал шофер. — Косит. Вот человек!..
В дороге мы много раз еще вспоминали ночлег у старушек Цветковых и слова Марьи Васильевны о житейских заботах: «Как не косить. Косить надо. Отец еще, помню, говаривал: умирать собирайся, а рожь сей».
Деревня Сытьково, Верхняя Волга.
Сестры
Неглубокую воду возле моста переходило стадо. День был на редкость жаркий, и коровы посреди речки остановились. Надо было спросить дорогу, и мы ожидали: вот сейчас из высоких кустов выйдет на берег пастух. Но, подгоняя хромавшую телку, у воды появились две эти девчушки. Появились вот так, сидя вдвоем на лошади. С любопытством поглядели на нас, стоявших возле автомобиля. Потом старшая похлопала резиновым сапожком в крутой лошадиный бок.
— Ну давай, давай, Мальчик!
Мальчик неторопливо спустился к воде, наклонился напиться, пил долго, пофыркивая и отгоняя хвостом оводов. Старшая всадница все это время, умело отпустив повод, держала в седле себя и обхватившую ее сзади за талию компаньонку. Заметив, что все это мы наблюдаем с большим интересом, девчушки слегка засмущались, но тут же с подчеркнутым безразличием занялись делом.
— Ну пошли, пошли… Пошли, кому я сказала!
Коровы нехотя, но послушно вылезли из воды и гуськом потянулись на горку. Следом за ними на берег вышел и Мальчик с наездницами.
— Галя, прыгай, — сказала старшая.
Сидевшая сзади ловко скользнула на землю, а следом за нею, держась за седло, соскочила и управлявшая Мальчиком Таня.
Девочки были сестрами. Старшей исполнилось десять, младшей — «шестой миновал».
Отец у девчушек пастух. Сестры носят ему обед.
И старшая Таня с шести лет уже научилась ездить на лошади. И не просто ездит, а помогает отцу пасти стадо — две с половиной сотни коров.
По ее рассказу было понятно: делает она это с удовольствием, даже с радостью.
— Мальчик — он умный. Он меня слушает даже лучше, чем папу. И его никто не боится.
Один раз лисица вон там на пашне за речкой ловила мышей. Я подъехала к ней ну вот так. И она не бежит. Папа сказал, что лисы и зайцы лошадей и коров не боятся…
Младшая Галя с восхищением глядит на сестру и, когда улыбается, прикрывает ладошкой щербатый рот.
Сегодня день — особо ответственный. Отец заболел, и стадо пасет соседка Елизавета Григорьевна Чагина. Но она не садится на лошадь. Она только смотрит за стадом, а пасут его Таня и Галя Гавриловы.
Таня и Галя — в одном седле.
Мы поговорили еще о школьных отметках, о передачах по телевидению, о деревеньке девчушек, которая называлась Кривая Часовня и которую называют теперь Заря.
— Когда будете посылать фотокарточки, пишите хоть Заря, хоть Часовня — дойдет все равно, — сказала Таня, мимоходом кивнув сестренке на двух коров, соблазнившихся выйти к овсам.
— Сбегай-ка их огрей, да как следует…
Перед тем как проститься, я спросил у Татьяны:
— В седло тебя-то подсаживают?
— Нет, я сама. — Она подвела Мальчика к луговой кочке, ловко подпрыгнула, подтянулась и вот уже помогает забраться в седло сестренке.
Мы постояли, наблюдая, как по лугу затрусила немолодая умная лошадь и как уверенно сидели на ней две наездницы. Вспомнился сразу некрасовский шестилетний мальчишка «в больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок».
Взрослых людей в деревенских детях всегда покоряет причастность их с раннего возраста ко всем делам и заботам, которыми заняты взрослые. Одно они делают играючи, с удовольствием, к другому их приучают. Но все это в жизни потом идет им на пользу. Ну посмотрите на этих девчонок. Взрослый позавидовать может сноровке и покоряющей жизнестойкости двух молодых ростков на земле.
Фото автора. Демянский район, Новгородская область.
14 сентября 1978 г.
Ключи от Волги
(Проселки)
Ну вот и пришли. Запоминайте минуту… Мы оглянулись. На горке виднелась деревня, мимо которой мы только что шли. За нею — дорога по освещенным солнцем холмам, и еще одна кроткая деревенька с названием Вороново, а далее лес — хранитель здешнего таинства, зарожденья великой речи.
Лес вековой в полном смысле этого слова.
Топор его не касался. Прорубили только дорогу, по которой когда-то ездили на телегах, но теперь дорога доступна лишь пешему. Она почти скрыта пологом елей, огромных дуплистых осин, темнотой черемухи и ольхи. Лужи на этой дороге не высыхают все лето. И все кругом пронизано влагой. Шаг в сторону от дороги — под ногою, как губка, сочится мох, упавшее дерево мокро и скользко, грибы тоже какие-то водянистые, и даже позеленевший камень, кажется, будет сочиться, если как следует сжать его в кулаке.
Шумно хлопая крыльями, улетают с дороги не очень пугливые тут глухари. Часто видишь на мягкой глине четкий след лося. Отпечаток собачьего следа? Нет, это волки прошли за лосем.
Леший если и водится, то, несомненно, в таких вот лесах, сырых, непролазных и старых, как сам Валдай.
Пеший путь — километров десять — двенадцать — посильное испытание всякому, кто хочет видеть, как зарождается Волга. Сама ее колыбелька, освещенная солнцем, лежит у холмов, поросших ромашками, и приходящего к ней встречают оркестры кузнечиков. Однако дорога лесом напоминает: места глухие, удаленные от сует, веками лежат они в тишине и покое.
Человеку надлежит прийти сюда поклониться и тихо вернуться к шумным своим дорогам.
Размышление это, возникающее у всех, кто приходит к истоку Волги, прервем сообщением: строят сюда шоссе. Новость эта, конечно, должна быть приятна для тех, кто привык уже видеть землю свою из окошка автомобиля. Однако будем уповать на мудрость тех, кто дорогу наметил: ее ни в коем случае не следует вести до истока. Владельца автомобиля надо заставить из него выйти и понудить хотя бы два-три километра идти пешком. Только в этом случае в душе его шевельнется волнение от встречи. И сам исток великой реки не потонет в бензиновой гари, в конфетных и сигаретных обертках.
Минуту, когда мы скинули рюкзаки и сели на них — оглядеться, вспоминаешь сейчас, как зарубку на прожитом. Важная эта минута, когда видишь то, о чем много раз думал, старался себе представить, к чему стремился давно и только на пятом десятке годов дошел вот сюда.
Маленький ручеек. Вода немного коричневатая. Она не течет, а сочится из мхов, от подножия невысоких березок, ив, ольхи и болотной травы. Летают стрекозы, снуют по воде жуки-водомерки, окунек размером с мизинец полосатым тельцем жмется к тонкому стеблю водяной травки. Вода прозрачная и кажется неподвижной. Но вот ты кинул ольховый листок, и вода его медленно потянула в проход между стенками таволги и осоки. Течение есть. И течет это Волга. Хотя странно называть Волгой ключик, который можно перешагнуть, над которым челноком, охотясь на комаров, порхает резвая трясогузка, в который издалека, снизу заплывают шальные щурята и обнаруживают: пути дальше нет, тут начало реки.
Здесь начинается Волга.
Река-младенец. Через три десятка шагов пересечет ее первый деревянный мосток. Немного дальше встретит она подругу, такую же малую, как и сама, Персянку. И потечет с нею вместе.
Потом еще приток, потом озера, вытянутые по течению воды. А дальше — первые лодки, паромы, мосты, водопои, причалы и пристани, катера, теплоходы, водокачки, плотины, каналы.
Отразятся в воде селения, города, шалаши рыбаков, обрывы, леса, степное небо, гудки, огни.
Почти четыре тысячи километров пути у реки — красавицы и работницы. А тут, в колыбельных лесах, забот у нее никаких. Полуденный сон, тихие детские шалости в камышах…
С горки от старой церкви спускается парень с ведерком.
— Для самовара?
— Для него. Заходите на чай из волжской водицы.
Заметив колебание — можно ли пить прямо тут из ключа? — парень откинул волосы и, нагнувшись, припал к воде.
— Пейте. Чистая и здоровая. Пили ее всегда.
Монахи раньше считали даже целебной.
Вода слегка отдает настоем травы, но холодная, на вкус приятная.
— Кощунством кажется даже умыться в этой воде…
— Да, — соглашается парень. — Родник…
А между прочим, мыли в нем тут сапоги. Сейчас я вам покажу…
Он уносит ведерко в дом на горе и, вернувшись, достает из кармана погнутый черный патрон от немецкой винтовки.
— Тут, под березой, нашел. Дошли сюда.
На этом месте как раз снимались — «мы у истока Волги». Дед мне рассказывал: гоготали, мыли в этой воде свои добротные сапоги. Страшно подумать, что стало бы с нами со всеми, если бы там, ниже по Волге, их бы не повернули…
Все, что стало великим — человеческая жизнь, река, событие, путь, творение, — всегда привлекает людей своим началом, истоком: откуда и как пошло? Если хотите узнать поэта, побывайте у него на родине, говорил Гете.
Исток Волги люди знали давно, хотя научно географы подтвердили его только в конце минувшего века. И, надо думать, величие Волги, а не свойство воды заставляло христиан-богомольцев совершать паломничество в эти глухие места, «к святому ручью». В 1649 году указом царя Алексея Михайловича основан был монастырь, святыней которого был этот ключ, дающий начало Волге. Петр Великий, не слишком благоволивший к монастырям, этот жаловал и вниманием, и средствами, и богослужебными книгами. Однако глушь, удаленность от дорог и бедность местного люда не дали окрепнуть монастырю. Он захирел, и деревянные постройки за год до смерти Петра сгорели. От огня уцелела только часовенка над истоком. Паломники продолжали сюда идти, и часовенку подновляли, а когда она сильно ветшала, «на деньги, собранные в кружку» ставили новую. Нынешний домик с остроконечной крышей повторяет своими чертами традиционность постройки. На многочисленных снимках именно этот домик известен как символ начала Волги.
Домик закрыт на ключ. И эта мера оправданна. Люди бывают тут разные, и место общего поклонения должно быть в покое. Однако всякий, кто пожелает увидеть круг темной воды в полу на сваях стоящего теремка, легко может ключи получить.
«В Волго-Верховье разыщите Нину Андреевну Полякову. Ключи от домика у нее», — сказали провожавшие нас в Осташкове.
Найти старушку проще простого — в Волго-Верховье всего двенадцать домой, а Нина Андреевна — единственное «должностное лицо» в деревне. Зимой она расчищает дорожку к истоку, а летом, когда идут сюда много людей, ее дело — присматривать за порядком.
Нина Андреевна сгребала сено за огородом и издали нам покричала:
— Ключи от Волги (так и сказала «от Волги») — на гвоздике возле двери. Открывайте, а я приду.
Ключ оказался на месте, и минут через пять мы стояли в домишке с непокрытыми головами.
Чистые стены, обитые лесом, полосы света через окошки, запах воды и смолы. И вот он у ног, символический круг-колодец, означающий: в этой точке начинается Волга. Аккуратный — метр в поперечнике — круг. Вода таинственно-темная. Движение родниковых струй незаметно, однако оно тут есть. В окошке видно: вода из-под домика утекает.
— Ну, помолились? — улыбается на пороге Нина Андреевна. — Не вы первые, не вы последние. Идут и идут. На горе, слышишь, погомонят, а тут как-то все утихают. Вот так всегда стоят и молчат.
Тот самый ключ.
Нина Андреевна, хранительница ключей от Волги.
Старуха запирает домик на ключ, черпает из ручья два ведерка воды и, охотно отдав нести их до дому одному из «паломников», продолжает рассказ-размышление.
— Разные люди. И, скажу вам, едут со всего света. Германцы недавно на кино тут Волгу снимали. Попросили цветной платочек надеть.
Молодые совсем ребята, обходительные. Японцы тоже снимали. Небольшие росточком, шустрые, головы у всех черные. Тоже не дурные люди…
— Нина Андреевна, вы сами-то Волгу в ином каком месте видали? — спрашиваю я напоследок.
Нет, в другом месте Волгу Нина Андреевна не видала. Шестьдесят девять лет живет она тут безвыездно у истока. Схоронила умершего от ран мужа, взрастила трех сыновей.
— Виктор шофером в Нелидове, Николай в Мурманске большие электрические столбы подымает, Алексей в Баку водолазом. И я вот тоже при должности. Соберусь умирать, скажу, чтобы тут, на горке, и положили. Хочу видеть все, как сейчас вижу.
На прощание мы постояли возле дороги на теплом песчаном холме. Вечернее солнце золотило в низине верхушки леса, удивленно и радостно глядел на мир белобровый домик над родником. Одеяльцем тумана накрылось узкое руслице Волги.
— Люди вот умирают, а она течет и течет… Ну, с богом. Если еще придете — ключ на гвоздике возле двери.
Раза два мы еще оглянулись помахать старушке рукой и, как могли скоро, двинулись к лесу…
Шли потом уже в темноте с фонарем. Опять лужи, хлопанье крыльев невидимых птиц. Ярко светились, попадая в луч фонаря, соцветья таволги у дороги. Усталость скрыла на время яркие впечатления дня. Вместо них в голове почему-то всплыли и обозначились древней таинственной связью три слова: Волга, иволга, таволга. В такт шагам они повторялись, следуя друг за другом, несчетное число раз: Волга — иволга — таволга…
Под музыку этих слов я, помню, и шел до ночлега.
Фото автора. 15 сентября 1978 г.
Обезьяний остров
(Окно в природу)
Глухая сторона Псковщины. Леса и воды. Деревня Петраши над озером Язно. Когда узнавали дорогу в деревню, встречная женщина спросила нас в свою очередь: «Наверное, на остров к обезьянам?» От нее мы узнали кое-что новое к тому, что было известно, и вдоволь посмеялись, дивясь, как уживаются рядом были и небылицы.
«Зимой-то, — говорят, — едят камыши и осину, играют в снежки?» Веселая небылица. Быль, впрочем, тоже достаточно фантастична — обезьяны среди берез и осин! Но это быль.
… С доктором Фирсовым в высоких резиновых сапогах мы идем по отмели мимо озерного острова. Хорошо бы прямо на остров, ан нет, на остров нельзя. Будь Фирсов один, Тарас вел бы себя иначе. А сейчас большая африканская обезьяна-вожак возбуждена до крайности. На вожаке Тарасе лежит обязанность обратить вспять пришельцев, и он настроен очень решительно. Он угрожающе ухает и колотит по земле передними лапами (подмывает сказать — руками). Схватив попавшую под руку палку, Тарас начинает ею крушить кусты, молотит прибрежный песок. Нас разделяет метров десять мелкой воды. Это защита надежная — обезьяны воды боятся, но у Тараса есть способ «удлинить руки». Размахнувшись, как городошник, он запускает в нас палкой.
Видя, что промахнулся, хватает камень, и приходится глядеть в оба — бросок «из-под себя» не слишком силен (один камень я изловчился, поймал руками), но в ход идут булыжники с детскую голову, а это уже не шутка. Мы отступаем. А когда приближаемся к берегу снова, Тарас моментально находит новое средство нас напугать. Забегая вперед, он мгновенно лезет на склоненные над водой ольхи. Он безошибочно выбирает деревья с сухими суками, а когда мы подходим, что есть мочи трясет ольшину. Смешно наклонив голову, он наблюдает, куда падают сучья.
— Ну вот вам ответ на вопрос из давнего спора: соображают они или не соображают? — говорит Фирсов.
Леонид Александрович Фирсов с подопечным в обнимку.
Шутки с обезьянами плохи. Оператор, снимавший с лодки для «Мира животных» наш с Фирсовым проход у берега, увернулся от камня Тараса, но полетел вместе с камерой в воду.
Съемка остановилась. Однако бывают потери и посерьезней — у доктора Фирсова на руке нет двух пальцев.
— За тридцать лет общения с обезьянами эта плата терпимая. Зато сколько всего интересного мы узнали…
В Ленинградском институте физиологии Леонид Александрович Фирсов изучает антропоидов, иначе говоря, человекообразных обезьян. Эта работа на острове — дело новаторское, открывшее много возможностей для познания наших ближайших родственников и, стало быть, нас самих.
Люди всегда глядели на обезьян как на свое отражение в слегка искривленном зеркале. Догадка Дарвина о совсем небожественном происхождении человека интерес к обезьянам сильно повысила. Их усиленно изучают. Изучают психологи, физиологи, антропологи, этологи, генетики — и всем обезьяна дает много пищи для размышлений. Человекообразные обезьяны — лабораторные двойники человека. У них такое же, как и у нас, пищеварение, кровообращение, дыхание, строение сосудистой системы, витаминный обмен. Много важных открытий в физиологии человека сделано в опытах с обезьянами. Действие особо важных лекарств проверяют на обезьянах.
Однако неменьший интерес представляют для нас обезьяны как некая «модель детства человека». Изучая их поведение, можно понять, откуда, как, какими путями пошел на земле человеческий род, что хранит в себе человек уже от рождения и что дает ему воспитание, труд, навыки жизни. Скрупулезные опыты в стенах лабораторий дали много обширного материала для суждений на этот счет. Однако выводы часто бывали и спорными. Необходимая для науки «чистота опыта» требовала условий, в каких животные никак не могли проявить заложенных в них природой способностей. Это слабое место всех экспериментов касалось не только обезьян, но и многих других животных — клетка или беленые стены лабораторий были скучной неволей, а в неволе, известно, все увядает.
Новые горизонты открылись, когда животных стали наблюдать в среде, где они обитают и к которой веками «притерты».
И сразу же почти все они «поумнели». Обнаружились заблуждения и ложные выводы многих лабораторных опытов.
Не уплыть ли с острова?
Экспериментам в живой природе, правда, грозил налет субъективных оценок, наукой не признаваемых, однако новейшие средства фиксации наблюдений (фото- и кинопленка, магнитная звукозапись) помогли сделать выводы объективные и корректные.
Жизнь обезьян шимпанзе в дикой природе глазами ученого впервые пристально наблюдала самоотверженная англичанка Джейн Гудолл.
Превосходная ее работа показала огромное преимущество наблюдения животных «в их собственном доме». Однако в этой работе существовали пределы доступного — Джейн Гудолл имела дело с дикими обезьянами (а мы видели, как ведет себя на свободе даже выросший рядом с людьми Тарас). Вот если бы хорошо изученных и обследованных животных выпустить на свободу да проследить, как будут они меняться в новой среде? Однако Танзания, родина обезьян, далеко. Экспедиция туда дорога и громоздка. Поселить обезьян в средних широтах?..
Сейчас, после пятого лета жизни на островах, многое кажется уже простым и естественным.
А тогда, в 1972 году, идея была почти фантастической. Дети Африки на озерном острове Псковщины? А дожди, ночной холод, незнакомая обезьянам растительность, среди которой есть растения ядовитые! Решиться на эксперимент было трудно, тем более что как раз в это время пришло известие: две обезьяны американцев, высаженные на островке теплого штата Джорджия, погибли. (Фирсов: «Теперь выяснено, погибли от случайного стечения обстоятельств».)
Опасности и тревоги при итоге благополучном всегда вспоминаются с удовольствием.
С Леонидом Александровичем мы встречаемся не впервые. Тут, на озере Язно, сидя в лодке у бережка, освежаем в памяти хронику эксперимента.
Выживут или нет? Это был первый вопрос.
Выжили! В лагере ученых лечились от насморков, радикулитов, сердечных приступов, миазитов. Ничего подобного у обезьян не было. Больше того, к удивлению ученых, за четыре-пять дней пребывания на воле у них заросли все царапины, струпья и ссадины, шерсть на них залоснилась. (Фирсов: «Наглядный урок целительной силы движений, свежего воздуха, свежей растительной пищи».)
С едой обстояло так. В Ленинграде запаслись вдоволь тем, что обезьянам особо «показано», — фруктами, кашами, разнообразными витаминами. Однако все это скоро оказалось ненужным. Пять обезьян стали питаться тем, что сами находили на острове, и это особо важный момент эксперимента.
Философ.
На острове — сто восемьдесят видов растений. Половину из них обезьяны нашли съедобными.
Первыми вдело шли ягоды: земляника, малина, рябина, черемуха, можжевельник, смородина, шиповник. Однако островитяне ели и листья ягодных кустиков, ели листья практически всех деревьев. (Фирсов: «На ужин, мы замечали, предпочитают жевать листья ольховые».) Грибы и «мясная приправа» из улиток и муравьев (их обезьяны выуживали тонкой смоченной слюной палочкой) были прибавкой к зеленой пище. Ядовитых растений обезьяны не ели. Волчье лыко, цикута, вороний глаз, грибы мухоморы (всего на острове пятнадцать ядовитых растений) оставались нетронутыми. Каким образом уроженцы Африки знают, что эти растения для еды — «табу», остается неясным.
После малого упрощенного мира лабораторий озерный остров показался пяти робинзонам миром бескрайним и поначалу их испугал. (Фирсов: «Они не отходили от клеток, и когда мы отплывали на лодках, то видели протянутые вслед нам лапы и душераздирающие вопли — «возьмите и нас!».) Очень скоро, однако, новоселы поняли преимущества новой жизни. Началось быстрое приспособление к новой среде. Обезьяны сразу поняли, какие деревья ломаются, а на какие можно забраться до самой вершины и сделать пружинящий спуск, поняли: под черемухой лучше всего спасаться от комаров. Они помнили все: наблюдательный пункт, места, где можно остаться сухим при дожде, нагретые солнцем поляны, деревья для гнезд на ночлег — и все соединили на острове рационально пробитыми тропами.
Остров стал территорией, границы которой они позволяли нарушить лишь старым своим знакомым.
Для выяснения, как шимпанзе относится к другим живым существам, на остров пускали ужей, черепаху, зайца, ежа. Результат — неизменное любопытство и выяснение самого главного: опасно — неопасно? Объект изучения нюхали, трогали палочкой, пальцами. Иногда это делалось всей компанией сразу. Иногда же вперед выступал смельчак-доброволец. За ним пристально наблюдали: что неопасно для одного — неопасно для всех. (Фирсов: «Лошадь, привезенная нами на остров, поначалу обезьян испугала. Но скоро они поняли: лошадь сама их боится. Бегать за ней по острову стало для коллектива желанной игрой».)
Именно коллектив со сложной структурой взаимодействий сложился на острове. Определился вожак (Бой) с большими правами, но и со столь же большими обязанностями. Более слабый, молодой его конкурент (Тарас) был оттеснен на край иерархических отношений. Маленькой Чите все дозволялось. Она могла посягнуть даже на святая святых — отщипнуть от куска лакомства, которое вожак держал в своих лапах. Фаворитка Боя — шимпанзе Гамма — была в натянутых отношениях с особой ее же пола и помыкала Тарасом. Возникали конфликты, которые Бой погашал иногда лаской, иногда же железной рукой владыки. Но в целом это было сообщество дружное, и принцип — каждому свой шесток — лишь помогал сохранять необходимый порядок в островном общежитии. (Фирсов: «Наблюдать тонкости отношений в группе, объяснять их природу, закономерность — было важнейшей нашей задачей. Механизм отношений не становился окостеневшим. Он менялся по мере того, как менялся каждый из членов сообщества. Подраставшей Чите перестали позволять детские вольности, да она и сама поняла: что позволялось ребенку, не дозволено взрослому. Возмужавший умный Тарас все чаще стал посягать на права вожака и в конце концов сделался им».)
О чем беседуют?
На камушке у озера.
Такова хроника пяти летних сезонов жизни на островах в обстановке, максимально приближенной к естественной. От людей дичавшая группа несколько отдалилась, чтобы сторониться общения. Кроме тщательных наблюдений за образом жизни животных, на острове проводилось множество экспериментов. Проверялось все, что было известно до этого о памяти, о рассудочной и орудийной деятельности обезьян, ставилось много опытов, подсказанных обстановкой и новыми взглядами на возможности этих животных. Эксперимент накопил много данных, позволяющих Фирсову и его коллегам утверждать: высшие животные не являются жестко запрограммированными автоматами. Не все в их поведении можно объяснять, основываясь только на понимании механизма условных рефлексов. Иначе говоря, животные способны мыслить. В житейских условиях доказательства этому вроде бы очевидны. Но наука строга. Потребовалось время, новый уровень знаний и не повторение пройденного в исследованиях, а продвижение вперед, чтобы сделать смелые выводы. Никакого «подкопа» под классическое учение об условных рефлексах, однако, тут нет. Сам Павлов, наблюдая обезьян, уже высказывался, что не все в поведении их объясняется механизмом условных рефлексов. Таким образом, новые работы в институте, носящем имя Павлова, представляют собой творческое развитие учения великого физиолога.
Необычная жизнь на озерных островах Псковщины свежей новостью не является. Многие помнят великолепный фильм «Обезьяний остров». (Вариант кинонаблюдений для широкого зрителя. Есть еще фильм, предназначенный для ученых.) И недавно вышел труд Леонида Александровича Фирсова «Поведение антропоидов в природных условиях». Богатство наглядного материала, ненавязчивость выводов, приглашение к размышлению отличают эти работы. Содержится в них и ответ на вопрос, зачем вообще изучается поведение животных — будь то пчела, лягушка или близко стоящая к нам обезьяна. Одну из важных деталей ответа следует подчеркнуть.
Для постижения сущности сложного полезно рассматривать сложность на ясных простых моделях. Мир человека сложен необычайно.
Тысячи лет его препарируют медицина, психология, литература. Однако многое остается еще запутанным и неясным. И любопытно, кое-что в естественной природе человека вдруг становится очень понятным, когда наблюдаешь животных. Под пластами всего, что человека делает человеком, обнаруживаешь вдруг закономерности, общие для «нас» и для «них». Преувеличивать эту общность не следует, однако и оставлять ее без внимания неразумно. Один пример с островов.
Для ночлега и в плохую погоду обезьяны сооружали что-то, напоминавшее гнезда.
Полчаса — и готово убежище. Теплое и уютное. Строили все, исключая Боя и его подружку шимпанзе Гамму. Пока их сородичи со всеми удобствами, как у себя в Африке, спали на дереве, две эти сильные обезьяны прятались либо в ящиках, либо, согнувшись, сидели под деревом. Строить гнезд они не умели. Фирсов: «Это было загадкой до той поры, пока мы не вспомнили, в каком возрасте каждая из обезьян к нам попала. Умевшие строить гнезда были пойманы в Африке в двухлетнем возрасте.
А неумехи Гамма и Бой — совсем малышами. Гнездостроительные способности в каждой из обезьян заложены от рождения. Но у первых в процессе подражания взрослым эти способности пробудились и получили развитие, а Бой и Гамма «это не проходили». Возникает вопрос: но теперь? Разве поздно теперь Бою научиться такому простому, казалось бы, делу? Оказывается, всему свое время. Сесть в ушедший поезд уже нельзя.
То же самое наблюдается и у людей при обучении, например, музыке, иностранному языку, плаванию, катанию на коньках, развитию трудовых навыков. Все, что легко и свободно прививается в возрасте раннем, очень трудно дается человеку, когда «поезд уже ушел». Есть над чем поразмыслить папам и мамам, воспитателям, педагогам.
На островах псковских озер Ущо и Язно жили два вида обезьян — африканские шимпанзе и макаки из Азии. Немаловажный смысл эксперимента состоял еще в том, чтобы создать условия для размножения редких животных в неволе. Это важно — за каждую обезьяну для научных лабораторий приходится платить тысячи золотом, а всевозрастающий спрос на этих животных грозит истреблением их в природе.
Теперь доказано: «дачный сезон» — хорошее средство продолжить род обезьян вдалеке от африканских и азиатских джунглей.
Фото автора. 21 октября 1978 г.
День в октябре
(Окно в природу)
День, как свеча, горящая с двух сторон, убывает утром и вечером. Небо жмется к земле.
Солнце лишь изредка и вполглаза смотрит на перелески. Дали промыты дождями, продуты ветром. И уже хрустит под ногою тонкий белесоватый ледок. Лес даже в самых чащобах полупрозрачен.
Краски скупые. Только рябина дразнит бахромой ягод да лесная дикая яблоня вся в светлых фонариках — листья пооблетели, а мелкие обледенелые яблочки держатся.
На полянах — кротовые кучи. В жухлых полегших травах обозначились норки мышей и мышиные тропы. Лосиный след по грязи глубок и полон воды.
Все, кому полагается быть на юге, уже улетели. Задержались на рябиновом корме только дрозды, да какая-то запоздалая птица парит над верхушками леса. Долго парит, привлеченная. Может быть, током тепла от костра, может, какой-то добычей.
Доставая еду, на дне рюкзака среди ремешков и веревочек вдруг видишь послание давнего лета — сухой стебелек таволги и божью коровку. На ладони красный жучок оживает и сонно ползет, не зная, куда податься.
За опушкой, у края лесной деревеньки, стрекочет сорока. Лениво ходят тепло одетые овцы.
Вон и окно засветилось в крайней избе. Пора на дорогу из леса.
Хрустит крепнущий к ночи ледок. Возле кочек и у пней на опушке в сумерках явственней обозначился пятнами снег. Это след недавнего зазимка. И зима уже тоже не за горами, а где-то рядом, за темным гребешком леса.
Хороший день. Однако скорей бы к огням, к теплу.
Фото автора. 1 ноября 1978 г.
Сорочьи страсти
(Окно в природу)
Это был маленький эксперимент. Ближе к рассвету, когда вовсю уже пели станичные петухи, но по-ночному еще продолжал ухать филин, мы с фонарем нырнули в загон к филину и после минутной борьбы водворили птицу в большую корзину.
Километра два пути в темноте. И вот они — пень на опушке, сухая ветла, два заранее сделанных шалаша. Сажаем Фильку на пень, проверяем крепость привязанного шнурка и прячемся в шалашах.
Лес проснулся, как только небо стало чуть серым и на нем проступили контуры нахохлившейся птицы. Первый голос подала сорока.
И не просто так себе прокричала спросонья, а известила округу о том, что привычной для всех опушкой нахально, нагло, при свете дня завладел — кто бы вы думали? — филин! Летите и поглядите сами.
И представление началось. Со всех сторон немедленно отозвались: «Летите и посмотрите!»
И сразу со всех сторон на опушку, как это бывает у людей при пожаре, в мгновение ока собрались сороки, вороны, сойки, синицы.
В отверстие шалаша нам видно сухую ветлу, и на ней ерзает больше десятка самых отчаянных забияк. Остальные, их вряд ли менее сотни, прыгали по кустам, по земле, по крыше нашего шалаша. И каждая птица подавала негодующий голос. Вольный филин, конечно, улетел бы — невозможно вытерпеть натиск обезумевшей толпы, — но нашему Фильке некуда было податься, и он лишь крутил головой, приседал и изредка щелкал клювом.
Благоразумнее всех в общем гвалте, нам показалось, вели себя сойки. Они не очень кричали, но рисковали садиться к Филиппу ближе других и, наклонив головы, с любопытством разглядывали: «Как же так — днем, а сидит на виду? Как же так?»
И совсем удивила семейка фазанов, птиц, которым Филиппа как раз и надо было бояться. Но они смело гуськом вышли из плотных кустов и, поглядев с полминуты на странный спектакль, стали, как куры, клевать зерно на площадке у шалаша.
Лесной водевиль продолжался часа полтора.
Заводилы-солисты в нем непрерывно менялись, но постепенно весь разноперый ансамбль стал выдыхаться. Мы вылезли из укрытий, когда все утихло, и Филька стал осанисто озираться.
Но, оказалось, с десяток сорок, сойки и стайка фазанов продолжали молчаливо наблюдать необычного гостя. Все они шумно взлетели, а Филька, нам показалось, с большим облегчением нырнул в корзину.
Я много раз слышал: в охотничьих хозяйствах, где надо снизить число сильно вредящих ворон и сорок, их привлекают на выстрел с помощью филина. Маленький наш эксперимент подтверждает: сделать это нетрудно. Ночной сановитый хищник, объявившись на видном месте среди бела дня, всегда привлекает и возбуждает хищников рангом поменьше. Шумным атакам подвергаются, впрочем, и вороны, коршуны, ястребы, одичавшие кошки. Причем не всегда птичий мир видит в объекте своей атаки непосредственного врага, но уже один только облик хищника возбуждает всеобщий протест. В нем нередко участвует множество маленьких птиц (и они обращают хищника в бегство!), но наибольшие страсти разгораются там, где шум поднимают сороки, вороны и сойки, сами готовые прищучить всех, кого только способны осилить.
Чтобы покричать на филина, сорок собралось множество.
Сороки атаковали Фильку ежесекундно.
Фото автора. 16 ноября 1978 г.
Трезвенник Топ
(Окно в природу)
И воробья можно сделать смешным и жалким, если приобщить его к выпивке.
Года четыре назад на пустыре за оградой стадиона «Динамо» в Москве я увидел странное оживление. Трое людей забавлялись чем-то, нагнувшись к самой земле. На камне рядом стояла пустая бутылка. Выпита она была не «на троих», как обычно, а по крайней мере душ на семь или восемь. Захмелевшими были люди, а возле ног копошились смертельно пьяные воробьи. Они поразительно были похожими на людей — волочили по песку крылья, качались на непослушных ножках, а один свалился набок и особенно потешал трех затейников.
Это прямо-таки шекспировское соединение грустного и смешного я увидел на другой день,
проходя тем же местом, — пьяные люди и такие же пьяные птицы. Люди макали в водку кусочки хлеба, а воробьи-«алкоголики» жадно на них набрасывались, потеряв всякую осторожность, свойственную этим птицам.
Нетрудно представить истоки «биологического эксперимента». Как раз напротив пустыря действовала торговая точка, именуемая «гадюшником». С бутылкой — три шага до пустыря.
Воробьи, подбиравшие крошки ежедневного жалкого пиршества, были приобщены «к застолью» и сделались «алкоголиками».
Спиртное действует на животных так же, как на людей. Организм протестует сначала, но, привыкнув, начинает требовать алкоголь. Я знал пьяницу-лошадь, совращенную пьяницей-кучером. Видел свиней-алкоголиков, пристрастившихся к выжимкам барды во дворе самогонщицы. Известен случай, когда куры валялись пьяными, наклевавшись ягод винной настойки.
Замечено: активную нетерпимость к спиртному проявляют собаки. Видимо, запах нетрезвого человека и его непредсказуемые поступки собаки связывают воедино. Посмотрите, как раздражает их каждый пьяный. Даже горячо любимый хозяин собаки, вернувшись домой нетрезвым, заставляет ее недружелюбно рычать.
А недавно я встретил овчарку, у которой неприязнь к алкоголю развила довольно занятные навыки санитара.
На речке Усманке, на кордоне у лесника я увидел за домом гору бутылок — не менее тысячи.
— Наверное, навезли гости? — деликатно спросил я хозяина.
— Какие гости, — ответил лесник. — Собака носит! Хотите проверить — отнесите хотя бы вот эту пивную бутылку к речке в кусты.
Я так и сделал. И вот перед вами на снимке финал эксперимента. Овчарка прогулялась к реке и разыскала бутылку, а после принесла еще не менее дюжины, оставленных возле речки запоздалыми рыболовами.
— Все лето таскала. Были курьезы. Приносит вдруг непочатую поллитровку «Столичной» и по обыкновению закапывает в песок за баней. Я беру «приношение» и иду вдоль реки.
Спрашиваю у двоих сидящих возле костра бедолаг: ничего, мол, не пропадало? А они в один голос: «Как же не пропадало? Рыжий кот уволок вот такого подлещика, а чья-то собака почти что из рук схватила бутылку». Ну, говорю, подлещика вам не видать — кот мой рыбу домой не носит, а выпивка, поглядите-ка, ваша? Закричали, как будто потерянный миллион отыскался: «Наша, наша!» Вот такие дела с бутылками учиняет наш Топ.
Обучить овчарку находить и носить в какое-то место бутылки — дело нетрудное. Однако тут никакого обучения не было. Топ очень любит хозяина и не терпит гостей. Они приезжают обычно с бутылкой, и лесник, посидев за столом с гостями, переставал Топу нравиться.
Скоро собака сообразила, что все неприятные перемены в хозяине идут от стеклянной посуды. Теперь во время застолья она садится обычно рядом и глаз не сводит с бутылки, ожидая, когда она опустеет. Как только такой момент наступает, овчарка хватает бутылку, уносит и зарывает. Хозяйка дома да и сам хозяин тоже эту инициативу не пресекают, и постепенно Топ расширил свою антиалкогольную деятельность далеко за пределы лесного двора и вот уже два года что есть мочи борется за чистоту берегов Усманки. Бутылку он стремится обязательно закопать. Но работы все прибавляется, а земля неподатлива, и Топ валит теперь бутылки в кучу за баней. Этот занятный склад стеклотары — хороший повод восхититься собакой и укорить высшее творение природы-матери — человека.
Фото автора. 19 ноября 1978 г.
Открытые двери для Мишки
Его все уже знают и любят. Канадцы, прилетавшие недавно в Москву по делам Олимпийских игр, сказали: «Мишка — редкостная удача. Все талисманы минувших Олимпиад рядом с Мишкой тускнеют». Это не комплимент вежливых гостей, это мнение специалистов, четыре года назад также ломавших голову над тем, как лучше украсить Олимпиаду.
Мишка в самом деле хорош. Однако радость находки мы уже пережили. Речь сегодня о том, как Мишка служит Олимпиаде. Изображение симпатичного медвежонка мы видим сегодня в витринах и на дорожных щитах, на дверцах автомобилей, на кустарных холщовых сумках, на вымпелах и значках. На этом снимке мы видим, как Мишка обретает плоть на фарфоровой фабрике. Все как будто идет как надо?
В том-то и дело, что нет.
На минувшей неделе я побывал в сувенирных киосках и магазинах, на выставке, где показаны образцы Мишек из гуттаперчи, резины, фарфора, побывал на Дулевском фарфоровом заводе и в Оргкомитете «Олимпиада-80», беседовал с ответственными работниками Министерства легкой промышленности. И вот что выяснилось.
Спрос на главный сувенир Олимпиады очень большой. «Сколько сделают, столько и продадим», — сказали в одном магазине. «Первое слово иностранных туристов, когда подходят к прилавку: «Мишутка…» — сказали в магазине «Березка». Двести пятьдесят тысяч Мишек, изготовленных на чехословацкой фабрике мягких игрушек по заказу из ФРГ, проданы моментально. Начато производство Мишек в Японии.
На родине Мишек дело обстоит так. То, что выпускается из резины и гуттаперчи, с найденным образом медвежонка не имеет ничего общего. В одних случаях неряшливость, в других — самоуправство художников фабрики до неузнаваемости изменили то, что найдено было Виктором Чижиковым, — на прилавки идет откровенная халтура. Аргументы — «но ведь берут нарасхват» — оправданием служить не могут. Берут потому, что нечего более взять.
Оргкомитет «Олимпиада-80», приложивший немало усилий в поисках талисмана, имеет право (и обязан!) следить, чтобы образ этот не искажался. Халтуру надо остановить, и немедленно. Надо заставить выпускать талисман в полном соответствии с найденным образом.
И это следует помнить всем, кто только теперь берется за его производство.
Мишек из мягкого материала на выставке я не увидел. Предприятия мягкой игрушки пока еще ничего не заявили на рынок. Исключение составляют разве что медвежата из Петропавловска-Камчатского. Тут изготовлено несколько тысяч Мишек из оленьего меха.
На Дулевском заводе. Художница Ирина Воробьева представляет серийных Мишек.
Один из них сто сорок дней пробыл на космической станции с Александром Иванченковым и Владимиром Коваленком. Все мы, наблюдая репортажи из космоса, радовались: символ нашей природы и грядущего праздника спорта скрашивал жизнь космонавтов. Между тем несколько тысяч других медвежат, изготовленных на Камчатке, могут только завидовать близнецу-космонавту. Их путешествие задержалось даже и по земле — завод в Мытищах никак не может изготовить для медвежат олимпийские пояски.
Больше других повезло Мишке фарфоровому.
На подмосковном Дулевском заводе (директор — Михаил Борисович Борисов, главный художник — Петр Васильевич Леонов) отнеслись к делу с надлежащей ответственностью. Их Мишка первым шагнул на торговый прилавок. И он получился таким, каким ему надлежало и быть — максимально приближен к утвержденному образу талисмана. В этом большая заслуга молодого художника Виктора Ропова. Он скрупулезно вместе с Виктором Чижиковым (его специально на завод приглашали) «доводил» объемный вариант медвежонка, и вот результат — лучшего, чем у дулевцев, Мишки пока что не существует.
Я видел процесс его производства: изготовление фарфоровой массы, отливка, сушка, обжиг, окраска, еще один обжиг — и вот на столе готовые медвежата. Они двух размеров: медведь-малышка и Мишка (посмотрите на снимок) довольно рослый. Такого в качестве приза Оргкомитета «Олимпиада-80» вручили недавно на фестивале спортивных фильмов в Париже.
Говорят, получивший его режиссер запрыгал от радости — из всех призов это был наиболее привлекательный.
А теперь вы вправе задать вопрос: где такого красавца можно купить? Увы, адреса я не знаю. Недавно надо было уважить зарубежных гостей, заявивших: «Как хотите, друзья, без Мишек домой мы вернуться не можем». Безрезультатно обшарив торговые точки в Москве, мы поехали прямо в Дулево и дюжину Мишек «достали» — гости вернутся домой с желанными сувенирами.
Но почему же надо нам «доставать» то, что должно быть доступно (обязательно доступно!) для всех, кто хочет оставить что-то на память о событии редком и интересном?
— Сколько медвежат в день у вас получается? — спросил я в Дулеве.
Оказалось, больших и маленьких в день выпускают сотни четыре (в год примерно сто тысяч).
Сто тысяч в год при огромном спросе дома и за границей — это ничтожно мало. А почему же не выпускать больше?
— Да, понимаете, у нас ведь сложный ассортимент-посуда, сервизы.
— Ну потеснить бы на время сервизы…
— Не можем — план.
— А другие заводы?
— Об этом лучше спросить в министерстве.
В Министерстве легкой промышленности СССР мне сказали, что фарфор у нас выпускают около пятидесяти заводов, но пока лишь дулевцы нашли в производстве место для Мишки.
На вопрос — отчего бы тем же дулевцам не перестроить на время планы, да и другим заводам тоже? — мне ответили: «Планы — дело серьезное». Но я понял: никто пока что и пальцем не шевельнул, чтобы привести эти планы в соответствие с потребностями времени. Мне намекнули: поддержите в газете, тогда, возможно, кое-что и поправится. При этом было добавлено, что есть еще одна закавыка — авторские права.
Дулевцы, мол, выстрадали Мишку и неохотно согласятся, чтобы и кто-то другой его выпускал.
На замечания, что, кроме фирменных интересов, существуют ведь интересы и государственные, пожимают плечами: все верно, но вот сложилось…
Такие дела с талисманом Олимпиады. Надо срочно их поправлять. Сообща: Оргкомитету «Олимпиада-80», Министерству легкой промышленности и всем, кто обязан внести свою лепту в подготовку Олимпиады. Думаем, производством хорошо принятого сувенира, олицетворяющего спортивный праздник в Москве, должно заинтересоваться и Министерство внешней торговли. Продукция в высшей степени ходовая. Ведь в самом деле сколько произведем — столько и купят. Так ли уж много подобного товара идет у нас за рубеж, чтобы не воспользоваться этой возможностью. К тому же продукции этой не надо ни запасных частей, ни особой рекламы. Купят, да еще и скажут спасибо. И прибыль двойная — деньги на Олимпиаду и пропаганда Олимпиады.
Но надо спешить — яичко дорого к празднику.
Фото автора. 26 ноября 1978 г.
Белое чудо
(Окно в природу)
Жизнь меряют веснами. Однако и первый снег заставляет нас встрепенуться, подумать о течении времени.
Две недели назад меня разбудил возбужденный малыш.
— Поглядите-ка, снег нападал! Но немного, на один комок только хватит.
За окном лежали простынки первого зазимка.
И наступает утро, когда и взрослый, проснувшись в посветлевшем жилье, долго стоит у окна — снег… Завтра к снегу привыкнешь. Но сегодня изменившийся за ночь мир волнует, как день рожденья, как ледоход, как листопад, как бой часов в новогоднюю полночь.
Давнее правило: в день прихода зимы оказаться в лесу. Убеждаешься: тут тоже царит удивленье сказочной переменой.
Удивленно топчутся гуси у крыльца лесника. Гусыня-мать на своем веку уже видела снег. А молодые озадаченно озираются, пробуют клювом холодное белое вещество. Умная ворона вышагивает вдоль изгороди, припоминая, где спрятан излишек еды, — и так голову повернет, и так. Не найдя кладовую, ворона решает в снегу искупаться. Я много раз видел, как птицы чистят в снегу оперенье. Ворона это делает особенно вдохновенно. Она погружается в снег, чуть хохлится и очень забавно начинает ползти, оставляя сзади глубокую борозду. Оглянулась, встряхнулась и опять поползла. За долгую осень на свалках и мусорных кучах перья испачкались, заскорузли — чистка очень важна. Но не всякий снег для этого годен. Слежавшийся или мокрый не может сделать того, что делает вот такой рыхлый, сухой и легкий снежок. Любопытно, что это все одинаково понимают: ворона почистилась, собака около будки с наслаждением валяется, дочь лесника вынесла, расстелила по снегу половички и шумно их выколачивает.
А в лесу тишина. Перемена за ночь так велика, что все живое оцепенело, притихло на всякий случай, привыкает к побелевшему миру. Опушка и поляны в лесу чисты, как нетронутый лист бумаги, — ни единого следа. Только в низине видишь вдруг шевелящийся черный бутон рыхлого чернозема. Это крот, равнодушный к белому свету, гонит наружу черные метки подземных своих путей…
Лесные тропинки исчезли. Их можно только угадывать по желтой щетинке окольной травы и сломанным веткам. Временами кажется, заблудился. Но вот поднялся на возвышенье, и все стало на свое место: справа — знакомый стог сена, слева — старая ель со сломанной в непогоду вершиной. А внизу речка — темная змейка по белому. За речкой в осинниках любят держаться олени. В другое время их не увидишь. Сейчас же сверху пойменный лес кажется реденькой кисеей. Немного терпенья, немного везенья, и вот он, подарок первого зимнего дня — по лесу бесшумно, неторопливо, как тени, идут оленухи.
Раз, два, три… семь… десять. Летом шли бы иначе. Теперь же по снегу легче вот так — друг за другом. Остановились, прислушались и опять тихо, неспешно идут, как видно, с кормежки к ночлегу…
Костерок на снегу кажется красным горячим цветком. Чуть подогретый хлеб и холодное яблоко — весь нехитрый обед на привале. И надо идти.
Где-то, не помню, читал: у народов на севере нет названия: снег. Есть то, что у нас называют метелью, есть наст, пороша, крупа, есть мокрая каша из снега, есть твердый, как лед, слежавшийся снег. Как-нибудь называют и такое вот рыхлое, теплое покрывало. Брести по нему — одно удовольствие.
За долгую зиму снег надоест. Но первая встреча с ним — радость. Небо к вечеру потемнело: а земля светлая. Хрустит под ногою капустой и пахнет арбузом белое чудо — снег.
Фото автора. 3 декабря 1978 г.
Кошки-пышки
(Окно в природу)
Мой знакомый, пятилетний исследователь мира сего, на вопрос — что ему больше всего понравилось в зоопарке? — сказал: «Верблюд, обезьянки, медведь. — И добавил: — Но больше всего мне понравился котенок у бабушки. Такой хо-о-ороший! Я говорю: бабушка, ну чего же ты для него мышек не разведешь?!»
Мышки заводятся, увы, помимо наших желаний. И приносят заметные неприятности, покушаясь на крупу в кладовой и на зерна в полях.
Едок невелик. Велико число едоков. И потому мыши давно причислены к человеческим захребетникам. (Обыкновенно мы всю грызущую мелкоту называем мышами. Однако мышь — это мышь. А родственники ее — их великое множество — называются «мышевидными грызунами».)
Обычно этих наших соседей мы видим редко.
Их как будто и нет. Но замечали, наверно, по морозному свежему снегу — следы, аккуратные, как строчка швейной машины. Нежданно возникли, незаметно исчезли. Это бежала мышь. Если нашли ее мертвой, значит, в сильный мороз отбилась от дома и погибла от холода. Весной, когда сходит снег, обнаруживаешь на земле уйму мышиных гнезд и травяных мышиных тоннелей — жизнь под снегом ни на минуту не замирала. И уж конечно, эта жизнь бьет ключом в летнюю пору. Сколько бы, вы думали, мышей живет на квадратном километре леса?
40 — 50 тысяч! Много? Считают, что это норма.
В «мышиные годы» (они повторяются по законам активности Солнца) число грызунов вырастает в десять и более раз. Бедствие? Смотря для кого. Для человека это, конечно, не радость, а вот для дикой природы «мышиный год» — великое процветание. И наоборот, мало мышей — это голод.
Кто же, потребляя урожай мяса, нагулянный в травяных джунглях, держит в узде племя мышей, не давая ему заполонить землю? Кто стережет мышку, решившую прогуляться? Ну кошка, конечно. Посмотрите, как терпеливо, как тихо сидит она возле норки, чтобы в нужный момент превратиться в живую пружину. Завзятые мышееды — лисы и совы. Лиса может украсть цыпленка, придушить молодого зайца, однако это ей удается по праздникам, а будни лисы — это мыши. Приглядитесь к следам: бежала и слушала, услыхала — и сразу мордою в снег, да так, что порою лишь хвост наружи.
До восьмидесяти процентов пищи у Лизаветы — мышки. То же самое и у сов. Пискните мышью в сумерках где-нибудь на опушке — сейчас же бесшумным чудом появится птица, а иногда и несколько птиц. Совы — главные мышеловы.
И слух, и зрение приспособлены у совы для этой охоты. Даже великан филин, с его разнообразным вкусом и большим уменьем охотиться, предпочитает все-таки крыс и мышей. Благополучие остальных сов с мышами только и связано.
Много мышей — много будет совят в гнезде. Если же урожай мышей минимальный — совы, бывает, даже не делают кладки яиц. Крошечный воробьиный сычик в пору, когда охота добычлива, стремится делать запасы и набивает свой «холодильник», что называется, до отказа. Я сам находил в дупле шестнадцать полевок. Но, пишут, бывает запас до восьми десятков мышей. Такова эта самая маленькая из сов.
Профессиональными мышеловами являются ласка и горностай, птицы — канюк, пустельга.
Ловят мышей змеи и аисты, а при обилии грызунов к ним подключаются чайки, вороны, сороки, сойки, цапли, фазаны. Кабаны наловчились выкапывать гнезда мышей и, как видно, находят эту работу гораздо рентабельней добывания корешков и не вырытой нами картошки.
Для волка мыши — что-то вроде лакомых семечек. Едят мышей, представьте себе, северные олени, и даже лошадь, при недостатке белкового корма, позволяет себе оскоромиться.
Мышиное племя — великолепное пищевое звено в природе. Грызущая мелкота (есть мыши размером чуть больше наперстка) неутомимо перерабатывает энергию Солнца, накопленную в растениях, и дает пищу многим животным. Исчезни внезапно мыши — исчезнут многие формы жизни. Такие дела под Солнцем.
На этом снимке мы видим древнейшую игру природы в кошки-мышки: молодая рысь догоняет полевку.
Фото из книги «Природа в фотографиях», США. (Из архива В. Пескова.)
24 декабря 1978 г.
Стратегия жить
Редкий снимок, необычная ситуация — сотни слонов шествуют по саванне. Куда? Почему их так много? Какая сила влечет животных? Ответ грустен: слонам негде жить. Человек, занимая земли под пашни, все больше и больше теснит животных. Для слонов оставлены в Африке островки жизни — территория заповедников.
Но, увы, заповедник, подобно лодке, тонущей при излишней нагрузке, приютить может лишь ограниченное число слонов. Этим места в раю не осталось. И они идут, не сознавая того, в поисках своего конца.
Такова драма нашего времени. Шествие обреченных слонов — лишь один из наглядных символов этой драмы. Как человеку, оставаясь хозяином на земле, сохранить рядом с собою разнообразие диких животных? Житье в соседстве лишь с воробьями и тараканами — невеселая перспектива. Да и возможно ли существование самого человека, если будет разорвана и растоптана сложная многоцветная ткань жизни, частью которой он сам является? Все это человека должно беспокоить и беспокоит.
* * *
Тридцать лет назад дальновидные и знающие люди создали Международный союз охраны природы (МСОП). Действовать он начал в годы, когда мир только-только стал поправляться от разрушений войны и казалось: до животных ли, когда люди кругом разуты, раздеты и неустроенны! Энтузиасты охраны природы встречали непонимание и упреки. Однако жизнь показала: колокол тревоги зазвучал вовремя.
«Обуваясь и одеваясь» и обретая невиданную до этого власть над природой, человек ставит под угрозу не только существование на планете диких животных, но и само здоровье земли.
Понять драматизм происходящего и предвидеть последствия набирающих скорость процессов массе людей помогает Международный союз охраны природы. За тридцать лет целеустремленной работы союз получил большую известность, авторитет и признание. Он действует сейчас под покровительством Организации Объединенных Наций. Наиболее активные его работники, такие, например, как профессор Гржимек и сэр Питер Скотт, стали подлинными героями нашего времени.
В союзе активно работают советские ученые. И на свою четырнадцатую ассамблею энтузиасты охраны природы минувшей осенью собрались в Ашхабаде. Это был внушительный форум натуралистов-экологов, приехавших из пятидесяти стран мира.
По общему мнению, организована встреча была хорошо и работала ассамблея успешно.
Главным на ней было обсуждение обширного документа «Всемирная стратегия охраны природы». Программа эта являет собой несомненную новую веху в общих усилиях по охране природы. Это заметили все, кто следит за работой союза. Сущность новой стратегии состоит в том, чтобы сделать охрану природы заботой не только энтузиастов (их немало, но их усилия уже несоизмеримы проблеме), охрана природы должна стать непременной заботой каждого государства и каждого человека. «Без этого решительного поворота будущее человека непредсказуемо. Деградация природы наступает с такой скоростью, что непосредственно угрожает благополучию многих людей и стабильности государств».
К этому основополагающему моменту «Стратегии» надо отнестись со всей серьезностью.
Документ не является плодом размышления одного человека. Это суммированный взгляд авторитетных ученых, несколько лет потративших на исследование проблемы. Каждое государство в рамках своей социальной системы должно черпать в «Стратегии» руководство в долговременной политике по охране природы. Ученые вполне понимают масштабы, огромную сложность проблемы и место ее среди других забот человечества. Они не сулят быстрых и легких решений, они призывают к мудрому и терпеливому действию и берут на себя ответственность экспертов и советчиков.
«Всемирная стратегия охраны природы» изложена в большого формата книге с приложением обширного справочного материала.
Популярная расшифровка ее для массового читателя потребовала бы объемистого издания (осуществить его, конечно, необходимо, не говоря уже о переводе текста «Стратегии» на разные языки). Теперь же у нас есть возможность остановиться лишь на некоторых моментах «Стратегии» в популярном их изложении и с некоторыми комментариями.
«Земля у нас только одна…» Этот прекрасный корабль имеет все необходимое для бесконечно долгого путешествия на нем. Но люди не должны обращаться с запасом жизнеобеспечения, как подгулявшие матросы. Механизм жизни необычайно прочен, однако не беспредельно. В случае поломки его пересесть нам будет не на что. Надо беречь что имеем.
«Ресурсы Земли конечны и не в состоянии поддерживать неограниченное число представителей любого вида живой природы». Иначе говоря, беспредельный рост численности людей опасен. Проблема эта сложна, деликатна, неоднозначна для разных мест, но упускать из виду ее нельзя, иначе регулятором численности неизбежно выступит голод или иное бедствие.
«Расточительность людей — одна из главных угроз ресурсам планеты. Из недр земли ежегодно изымается 100 миллиардов тонн минералов (25 тонн на человека). Из них девяносто процентов идет в отбросы». Страсть потребительства, разжигаемая рекламой, пагубна. Производится неимоверно большое количество вещей, без которых человек может обходиться и должен обходиться. Альтернатива этому — пустой колодец ресурсов и горы удушающих природу и человека отбросов.
«Количество кислорода, потребляемого отдельным странами, уже превышает выработку его растениями в этих странах. Восполнение дефицита идет пока что за счет больших лесных массивов планеты. Однако дождевой тропический лес — один из главных поставщиков кислорода — уничтожен уже на сорок процентов.
«И вырубка его продолжается со скоростью 20 гектаров в минуту». «Со скоростью 44 гектара в минуту идет сейчас превращение суши в пустыню. Большое число видов животных и растений находится под угрозой исчезновения».
«Главная беда хозяйствования человека на земле — неудержимое стремление к выгоде сегодняшнего дня». Выход из этого «Стратегия» видит только один — долговременное, тщательное планирование экономики, пресечение алчности, воздержание от соблазнов за счет природы поправлять просчеты и бесхозяйственность.
Сотни слонов шествуют по саванне. Куда?
«Эксплуатация природы без оглядки — дело, изжившее себя. Философия: «природа — враг» — тоже анахронизм. «Природа — друг!» — такой должна быть этика человека. Как аксиому надо принять положение о том, что воспроизводство природных ресурсов невозможно без их охраны». Однако точка зрения: «остановиться и разгрузить природу» — признается в корне неверной, нереалистичной. Природа должна служить человеку, и она способна ему служить, если охрана ее и рациональное использование станут делом экономики, нравственности, этики и политики каждого государства.
Задачи неотложной важности стоят в этой связи перед наукой. Нужна серьезная, качественная и количественная оценка ресурсов природы, выяснение сложных процессов взаимодействия живых систем, способность предвидеть последствия всех важных проектов экономического развития. Иными словами, решающее слово при всяком вторжении в природу должно быть за наукой.
Экологическая грамотность и сознание ответственности за судьбу природы каждым человеком — еще одна важная предпосылка для «заключения мира с природой». «Стратегия» не считает достаточными практикуемые ныне в школах курсы охраны природы. Вся система просвещения должна быть перестроена с учетом насущной задачи, каждый учитель на каждом уроке должен не упускать возможности экологического воспитания. То же самое в высшей школе. Необходимо помнить: завтрашний гидролог, строитель, проектировщик, агроном, транспортник, администратор будут вести хозяйство. Каждый неверный, неграмотный, нерассчитанный шаг влечет потери, часто невосполнимые. И напротив, экологически грамотный человек способен умножить богатства природы.
Знания, культура, продуманные законы, ответственность, информированность — вот что поможет людям преодолеть растущий конфликт с природой.
Информированности «Стратегия» отводит особое знание. Она признает: без ошибок невозможны поиски новых путей. И если есть от ошибок какая-то польза, так это возможность учиться на них. Сокрытие оплошностей и ошибок по соображениям ведомственного или национального престижа — это путь к новым просчетам. А они повсюду должны сводиться к минимуму.
Одновременно с этим «Стратегия» призывает возможно шире и ярче рассказывать о каждом заметном успехе в охране природы.
Успехи эти должны быть делом национальной гордости, должны укреплять веру людей в возможность преодоления кризиса.
«Стратегия» не перечисляет конкретные просчеты и успехи в охране природы последних лет. Но в качестве воодушевляющих примеров можно было бы вспомнить организацию национальных парков в Кении и Танзании, эффективные экологические законы в Швеции, ликвидацию загрязнения воздуха в американском металлургическом Питсбурге, оздоровление вод Темзы и Москвы-реки, охрану животного мира на сельскохозяйственных угодьях в Чехословакии. Это внушительные успехи. Ими можно гордиться. И они вселяют надежду.
В Ашхабаде «Всемирная стратегия охраны природы» тщательно обсуждалась. После доработок ее предложат как базовый документ всем государствам мира. Она будет служить руководством для выработки региональных «Стратегий» с учетом национальных и социальных особенностей каждого государства. На ассамблее выражалась надежда, что эти планы будут обнародованы на самом высоком уровне главами государства и что пример Советского Союза, включившего статью об охране природы в свою Конституцию, найдет последователей.
* * *
«Стратегия не содержит сенсаций. Все, что в ней говорится, было в последние годы предметом споров, предположений, прогнозов. Но одно дело — дискуссионный запал, другое — спокойные, тщательно взвешенные выводы и рекомендации, призванные служить своего рода конституцией поведения на земле всего человечества.
Одна из важных мировоззренческих предпосылок в охране природы состоит в осознании понятия: все живое имеет одинаковое право на существование. У природы нет пасынков, все для нее одинаково любимые дети: и человек, и какая-нибудь синица, и божья коровка. Человеку лишь кажется, что безмолвное выпадение из ткани жизни какой-либо «ниточки» — несущественно. Заблуждение! Ткань постепенно становится и менее прочной, и менее яркой. Оскудение живого мира неизбежно влечет к оскудению человеческого духа, дегуманизации человеческой личности, ибо природа является важным источником наших духовных ценностей и душевного здоровья. И воссоздать потерянное нельзя — строение обычной мухи остается более сложным и более тонким, чем любая компьютерная система, любой аппарат, построенный человеком. Неслучайно японцы «ценою любых затрат» стремятся сейчас спасти исчезающий вид одной маленькой птицы, американцы тратят большие усилия для спасения журавлей, а в нашей стране действует большая и некопеечная программа возрождения зубра. Во всех случаях не существует видимой узкопрактической пользы от спасенных животных. Просто важно, чтобы они остались жить на земле, ибо, махнув рукой на одних, мы создадим неизбежную цепь потерь и в конце концов можем остаться в массовом одиночестве на планете.
Для поддержания физического своего существования человек опять же «шьет рубашку себе» из той же ткани природы. И ткань эта чудесным образом возобновляется, если не отхватывать от нее слишком большие куски, не топтать ногами в ажиотаже взять поскорее и то, что поближе лежит. «Все виды животных и растений имеют потенциальную экономическую ценность, — утверждает «Стратегия». — Возможность использования их настолько непредсказуема, что было бы величайшей глупостью дать вымереть виду растений или животных только потому, что мы сегодня не знаем его полезность».
(В справочном материале «Стратегии» говорится, что половину примерно всех лекарств человек продолжает получать из растительных и животных продуктов и что «химический ключ» для производства большинства лекарств синтетических лежит опять же в тканях растений и животных. В последние годы исследование, например, физиологии медведя открыло способ получать лечебное диетическое питание с большим содержанием белка и малым количеством влаги. Изучение физиологии осьминога дало ключи к пониманию процессов старения. Считавшиеся недавно бесполезными некоторые морские губки, актинии и моллюски дали лекарство для борьбы с сердечно-сосудистыми и раковыми болезнями и с вирусным энцефалитом. Напоминается, что важнейшие открытия в генетике были сделаны в опытах с плодовыми мушками дрозофилами и цветным горошком.)
«Сейчас невозможно сказать, какие виды животных, растений и экосистемы дадут толчок для научного прогресса, станут важной статьей экономики», — говорится в «Стратегии».
Между тем 1000 видов животных и 25000 растений находятся сейчас под угрозой исчезновения. Называют три главные причины к этому: разрушение среды обитания, переэксплуатация, подавление аборигенных животных переселенным человеком.
Многие ошибочно полагают, что самой главной бедой является переэксплуатация — добыча животных неумеренным промыслом: «запретите стрельбу, и все поправится». Дело обстоит, однако, сложнее. Регулировать охоту необходимо. Такими мерами в нашей стране были спасены соболь, бобр, сайгак, в средней полосе лось. Спасены не просто как виды, спасены для промысла («Стратегия» подчеркивает важность именно такого подхода к охране животных).
Умеренной добычей или полным запретом охоты из-под угрозы истребления выведены морские котики и белый медведь. Таким образом, контроль над промыслом — средство относительно простое и эффективное. Им надо пользоваться. Но «Стратегия» отмечает: переэксплуатация угрожает сейчас примерно 30 процентам видов животных, в два раза же более видов может исчезнуть от разрушенья среды обитания. Под этим разумеется осушенье болот, вырубка леса, распашка остатков целинных земель, затопленье обширных пространств искусственными «морями», тотальная химизация сельскохозяйственного производства.
Для примера назовем аиста. В Красной книге птица пока не числится, но во многих государствах Европы аист исчез. Исчез потому, что исчезли болота. Дрофа и стрепет у нас становятся крайне редкими потому, что лишаются мест обитания — нераспаханной степи. «Стратегия» призывает срочно бросить «спасательный круг терпящим бедствие». Необходимо поделиться с животными местом для жизни. Причем поделиться не по принципу: «на тебе, боже, что нам негоже». Взять животное под охрану — значит сохранить специфическую среду обитания (биоценоз), где в сложной взаимосвязи существует целый ряд растений и животных. Опыт такой заботы у человека уже накоплен. Это организация заповедников, заказников, разерватов. «Стратегия» призывает все государства в срочном порядке выявить и заповедать новые острова жизни для тех, кто «стоит на краю», и тех, кто завтра может там оказаться. Правило пожарных — «разумнее предупреждать пожары, чем героически их тушить» — полностью соответствует стратегии охраны природы.
Не самой главной, но существенной угрозой животным является интродукция, проще говоря, внедрение в сложившиеся сообщества животных географически удаленных видов, которые начинают господствовать, подавлять аборигенных животных. Примеров этому много. Кролики, завезенные в Австралию, уссурийский енот, опрометчиво выпущенный в европейской части нашей страны, благородный олень, необдуманно завезенный в Новую Зеландию. Но особенно чувствительны к чужакам оказались животные пресной воды. Для многих рыб акклиматизация пришельцев оказалась катастрофической. Подмосковные рыболовы в последние годы убедились наглядно, как действует механизм непродуманной интродукции.
Дальневосточная рыбка ротан (завезенная, возможно, «ради хохмы» кем-то из ихтиологов) расселилась с фантастической быстротой. Ротан живет в засоренных канавах, ямах, прудах. И там, где он поселился, ничему другому, даже неприхотливому карасю, места не остается.
Было время, сами биологи увлекались акклиматизацией, перевозя туда и сюда разных животных. Сейчас эта страсть поутихла. Однако соблазны «обогащать» местную фауну чужаками все же остались. Масла в огонь подливают еще и самодеятельные акклиматизаторы, вольно или невольно расселяющие растения и животных.
(Один американец привез для украшения пруда из Южной Азии гиацинт. Сейчас для борьбы с этим цветком, заполонившим пресные воды южных штатов Америки, тратятся миллионы рублей.) «Стратегия» призывает иметь все это в виду. Интродукция допустима лишь в исключительных случаях, когда все тщательно взвешено и наперед известны последствия.
При огромном хозяйственном натиске человека особо остро стоит проблема сохранения оригинальных, ничем не поврежденных природных сообществ. Такие участки (эталоны) достаточной площади должны быть выявлены и взяты под охрану в самых различных биомах земли: в зонах лесов, в тундре, на морских побережьях, в зоне степей, в пустынях, альпике, в пресных равнинных водах, на островах. Человеку необходимо иметь «камертон», по которому при расстройствах преобразованной им природы можно было бы обнаружить ошибки и видеть способы их исправления.
Особой строкой «Стратегия» записала необходимость срочной заботы о диких предшественниках наших культурных растений.
Длительная селекция позволила человеку добиться поразительных результатов. Современные сорта пшеницы, риса, картофеля, сои, кукурузы, проса, хлопка, томатов, кофе и чая дают огромные по сравнению с необходимыми формами урожаи. Однако есть у наших кормилиц одно уязвимое место — жизнестойкость их в сравнении с дикорастущими предками сильно понижена. «Сохранение на земле предков культурных растений является единственной гарантией, которую имеет человечество, что эти культуры не будут уничтожены какой-либо болезнью или не выродятся». Между тем последние очаги некоторых «дикарей» человек, не ведая того, уже уничтожил. Другие растения под угрозой. «Оставить жить на земле этот закаленный эволюцией фундамент нашего благополучия — дело первостепенной важности и каких угодно затрат».
* * *
Охрана природы — не единственная большая забота всего человечества. Наверное, она стоит после проблемы сохранить землю от катастрофы войны, после проблемы энергии, проблемы пищи. Но она стоит все же в этом перечне самых больших забот человека. Не следует ожидать, что проблема эта как-нибудь упростится, что «все само собой обойдется». Груз забот по охране природы человек неизбежно должен взвалить на свои плечи и мужественно его нести. Другого выхода нет. Это утверждает весь опыт нынешней жизни. Это утверждают ученые, обсуждавшие в этом году в Ашхабаде кодекс нашего поведения на земле.
Фото из архива автора. В. Песков, участник XIV Ассамблеи Международного союза охраны природы.
30 декабря 1978 г.
1979
Мороз
— Бр-р-р… Собачий холод! — сказал шофер и пока мы гнали машину, чтобы не разминуться с Новым годом, рассказал: бездомные собаки вертятся у ворот таксомоторного парка и там, заискивающе глядя на людей, ищут спасения под крышей между машинами.
Воробьи в эти дни залетали в метро, в магазины, в подъезды домов. Вороны, галки и голуби жались к трубам. У людей облезали носы, с московских трамваев (почему-то только с трамваев?) облезала краска. В первый день нового года улицы были пустынны, как при воздушной тревоге, — все сидели в домах. Однако и под крышей было не очень уютно. У нас, на Верхней Масловке, на втором этаже батареи по сию минуту не теплей парного молока и красная нитка термометра не подымается выше отметки 12. Прямо скажем, не Сочи!
Днем — антарктическое белье, свитер. На ночь, как в экспедиции, залезаю в спальный мешок.
Позвонил вчера в магазин «Свет» и не раскрыл еще рта для первого слова, как трубка сказала: «Электрообогревателей нет». Перезвонил — тот же холодный голос: «Обогревателей нет». Стоявшие до этого в магазине без особого спроса приборы в одночасье стали дефицитным товаром…
В эти дни показалось: полюс холода переместился в Москву. Между тем этот полюс находится все-таки в Антарктиде — минус 88,3! (Пережитый нами мороз надо удвоить, да еще и накинуть маленько.) Что значит такая температура? Листаю свои антарктические блокноты.
Вот запись со слов зимовщиков на «Востоке»: «Ртуть в термометре замерзает. Жидкий шарик становится шариком от подшипника… Металл хрупок — от удара кувалды труба разлетается, как стеклянная… Бензин превращается в белую кашу и не горит. Сунешь факел — потухает в бензине… Снег, как песок, — никакого скольженья… Температуру за 70 определяем на слух: «дышишь, а у лица легкий шорох — дыхание замерзает».
Это в большой глубине Антарктиды. На побережье полегче — минус 40! Но и ветер при этом бывает сорок метров в секунду. Страшная леденящая сила. Однако ж пингвины как раз в это время несут яйца и высиживают птенцов. (Вернее, «выстаивают» — яйцо на лапах и прикрыто складкою живота.)
Из всех теплокровных существ самый сильный мороз приспособился выносить человек. Но он создает вокруг тела искусственную среду — одежда, обогреваемая постройка. (На станции «Восток» рядом стоят два дизеля. Случись авария — немедленно запускают резервный, а первый немедленно ремонтируют.)
Дикой природе это все недоступно. И каждый выживает, как может. Синантропные птицы — сороки, вороны, воробьи и синицы — тянутся к человеку, тут легче и прокормиться, и обогреться. Кое-кто приспособился в зимнее время спать (медведь, сурок, енотовидная собака, барсук). Сало, запасенное с осени, и надежное логово сберегают от холода.
Целой группе животных убежищем служит вода. Выдра, ондатра, бобр в морозы и в ус не дуют, лишь бы пруд или речка не промерзли до дна.
Проблема еды в сильный мороз становится делом жизни и смерти. Поэтому многие из животных запасаются загодя. Птица кедровка, пищуха, суслик всю зиму живут запасом. Для других запас не является постоянной базой питания. Он служит резервом, страховкой на самое лютое время. Так, десятками в дуплах запасают мышей воробьиный сычик и колонок, белка запасает грибы и орехи. В большой мороз еда под рукою — это почти гарантия выжить.
Однако многим каждый день надо «бегать по магазинам». Поел вовремя — выжил, не нашел что поесть — лапки кверху.
Мороз изменяет поведение многих животных. Лось в поисках калорийного корма переходит из осинников в сосняки. Чувствительный к холоду соболь много бегает, но в очень сильный мороз, когда расход энергии при движении превышает энергию добытой пищи, соболь забивается в «запуски» и там коротает время. Ласка в большие морозы на поверхности снега не появляется. Под снегом охотится на мышей, там же в теплых мышиных гнездах и отдыхает. Мелкие птицы (корольки, синицы, чечетки) при сильных морозах образуют большие общие стаи — «в сорок глаз» скорее отыщешь кормежку, увидишь опасность, найдешь укрытие и ночлег.
Движения этих юрких обычно птиц замедляются, сохраняя тепло, они хохлятся, становятся похожими на пушистые шарики. Иногда наблюдают такую картину. Птица повисает на ветке вниз головой. Висит на одной лапке, другая спрятана в перья. Что это может давать — пока что не ясно.
Особое испытанье для птиц — морозная ночь. Исключая сов, никто в темноте кормиться не может. Поэтому всеми средствами надо сберечь тепло! Птицы забираются в дупла, в щели и ниши деревьев. Считалось, что каждая ищет себе гостиницу одноместную, но иркутский биолог Георгий Зонов недавно установил: некоторые птицы «снимают один общий номер» и спят, тесно прижавшись друг к другу.
Теплее! Знакомые всем длиннохвостые синицы ночуют тесным рядком на одной ветке и по мере того, как мороз донимает крайних, занимают (погреться!) место в средине.
Спасителем всего живого от холодов является снег. Разница температур на поверхности снега и у земли достигает двадцати градусов. Птицам это известно. В снегу ночуют рябчики, глухари, тетерева. Падают сверху вниз и, сделав туннель, замирают. По наблюдениям Зонова, при морозе выше пятидесяти градусов трехпалый дятел и черный дятел желна покидают ночлежные дупла и тоже ныряют в снег. В снежные полости прячутся многие мелкие птицы.
Для мышей, постоянно живущих под снегом, даже самый сильный мороз не помеха, живут полнокровной мышиной жизнью — кормятся и плодятся. Под снегом от дыхания многочисленной братии накапливается углекислый газ, но мыши туннели свои вентилируют — прорывают вертикальные шахты. Сибирских мышей постоянный мороз научил у поверхности снега сужать туннель до предела — не окно, а лишь форточка открыта в снежную полость.
Снег — первый хранитель жизни в большие морозы. И если мороз упадет на слишком тонкое снежное одеяло — страдает все. Мыши, случалось, начисто вымерзали. Так же катастрофично сочетанье большого мороза и малого снега для змей, ежей, ящериц и лягушек. Человек тоже в такие зимы вздыхает, вспоминая об озими, о садах, об оставленной в поле в буртах картошке.
Из диких растений в наших широтах от морозов страдает главным образом дуб. Наиболее давние сведения о «морозных годах» содержатся не в бумагах синоптиков (температура в нашей стране фиксируется с 1878 года), а в записках самой природы. Чувствительный к холодам дуб помечает это в годовых кольцах. Так вот сильнейшие морозы — до 40 градусов — вековые дубы записали в 1780, 1830,1892,1940 годах. Самым жестоким за сотню лет был холод зимою 1939–1940 годов. Посмотрите срез дуба, жившего в это время. Зима оставила в древесине кольцевую хорошо заметную рану. Из-за боя морозом (кольцевого и вертикального) дубовая древесина средних широт за редким исключением пригодна лишь на дрова и как сырье для дубильных веществ. Ничего не сделаешь, дуб по природе своей — южанин. Московская область — граница его продвижения на север. А вот береза, осина, сосна — типичные северяне. Для них зима — это время спокойного сна.
Защита от холода. Воробей распушил перья.
Люди в Антарктиде надели специальные маски и меховую одежду.
* * *
Наблюдая тех, кто бросил вызов недавним «Никольским морозам», первыми я бы назвал рыболовов-подледников. На реке даже в 20 градусов неуютно. И раскрываешь от удивления рот, увидев энтузиастов на льду. Мерзнет лунка, мерзнет на носу капля, руки не гнутся, леска окостенела, червяка приходится греть во рту — однако сидят! При такой стойкости человека мороз неизбежно должен был отступить.
Кстати, вы наблюдали, как оживают принесенные в дом замерзшие окуньки? Гремели в ящике, как ледяшки, и — не чудо ли! — вдруг ожили. Плавают в ванне. Честное слово, не жарить их хочется, а отпустить в речку.
А что интересного вы наблюдали в эти большие морозы? Напишите об этом для нашей копилки природных явлений.
Фото автора. 6 января 1979 г.
Окно в природу
Понимаю, что это вряд ли возможно, но я хотела бы каждый день видеть в газете «Окно в природу»… Очень интересно, просто и поучительно… Я еще, помню, в школе услышала: «Читайте внимательно. Эти заметки — мостик между миром природы и духовным миром человека». Теперь я имею и свое суждение о прочитанном. И каждый раз вырезаю заметку — сохранить. Знаю — она будет полезной и для подрастающего сына… И два вопроса. Не будут ли «Окна» собраны в книжку? Как В. Песков готовит эти замечательные заметки?
Т. Бахтина, Великие Луки
Спасибо Т. Бахтиной и всем, кто читает и любит наше «Окно». Думаю, объединяет нас общий большой интерес к природе, к ее загадкам, тайнам, поэзии.
Насчет «мостиков» замечено верно. Мы ищем интересную, впечатляющую информацию из мира природы, стараемся показать многообразие жизни. Стремимся перевести на простой язык явления сложные и, с другой стороны, на простых фактах стараемся показать важные закономерности. Назовем это экологическим воспитанием. Но это только половина задачи. Другая половина — наведение этих самых «мостиков» между миром природы и духовным миром человека. Мы не являемся тут пионерами. Наша отечественная педагогика от Ушинского до Сухомлинского всегда придавала этому первостепенное значение. Литература — вспомним Толстого, Тургенева, Бунина, Есенина, Пришвина, Паустовского — расширяет и укрепляет эти связи. Таким образом, наши заметки — начальные уроки замечательной школы воспитания человека.
Мы не преувеличиваем значения этих уроков, но и не сомневаемся в их важности.
И руководствуемся целью очень большой: научить человека любви к жизни, интересу ко всему, что дышит, зеленеет, цветет, издает звуки и запахи. Научить радости жизни!
Лично я убежден, что именно это является фундаментом, на котором строится все остальное. Знания, профессия, мастерство, успех, материальное благополучие без страсти и вкуса жить, без интереса к богатству живого мира и ощущения своего в нем места нечасто делают человека счастливым. Во всяком случае ему трудно остаться наедине с неизбежным вопросом: «Для чего я живу?» И, напротив, у человека, которого радует пение птицы, обычно и все остальное в жизни хорошо ладится.
Такой человек душевно здоров, постигая тайну и красоту природы, он не нуждается в боге для объяснения всего удивительного, что окружает нас на земле.
О значении природы в человеческой жизни многое объясняет такая вот, например, строчка из дневников Льва Толстого: «…Вышел за Заказ вечером и заплакал от радости благодарной — за жизнь». Почитайте Пришвина — все его дневниковые записи полны этим же чувством.
Провинился… (Токийский зоопарк).
Таким образом, предпосылки ведения наших бесед о природе значительны и серьезны.
И «Окно» для этого показалось подходящей газетной формой. Форма эта, правда, заставляет нас придерживаться некоторых принципов.
1. Писать недлинно — три-четыре страницы.
(Это не всегда просто. И бывает, что исследование какого-нибудь явления требует не «окна», а очень широкой «двери». Пример — статья «Что делать с волком?».)
2. Очень желательна фотография. (Документ, подтверждающий подлинность информации.)
3. Не быть в плену фактов. Видеть за ними явление и осмысливать его.
4. Писать предельно понятно, не нарушая, однако, научной достоверности явления.
На открывающем «Окно» лежат серьезные обязанности. Он должен быть знающим человеком, обязан многое видеть собственным глазом и чувствовать собственным сердцем. (Фотосъемка, ведение дневника и блокнотов натуралиста этому помогают.) Но, конечно, одному человеку все знать невозможно. Помогает библиотека. И уже много лет я веду обширную картотеку (это просто большие конверты, куда кладутся вырезки из газет и журналов, выписки из прочитанных книг, редкие снимки и ваши, читатели, письма).
Ведущему рубрику полагается следить за всем, что происходит в биологической науке, поддерживать связи с учеными, вести переписку. И поскольку «Окно» не единственное твое дело в газете, нетрудно представить, что вести все это хозяйство можно лишь добровольно. Награда за эту работу — сознание, что делаешь дело небесполезное, и такие вот ваши письма…
Возможна ли книжка под названием «Окно в природу»? Думаю, что возможна. А пока спасибо вам всем за теплые отклики, и будем встречаться в нашем «Окне».
Фото из архива В. Пескова. 25 января 1979 г.
В мороз
(Обзор писем наших читателей)
В старину говорили: «На Рождество цыган тулуп продает». В этой веселой усмешке под скрип морозного снега уже примета — дело пойдет к теплу. И оно идет помаленьку. Позади «классические» Никольские, рождественские и крещенские морозы. И теперь уже, что бы там ни было, о больших холодах будем лишь вспоминать.
Вчера я просматривал письма-отклики на заметку «Мороз». Много всего интересного наблюдалось, хотя большинство из нас видело этот мороз сквозь оконные стекла, и, стало быть, в поле зрения попадало главным образом то, что было возле жилья.
Больше всего писем о птицах. Они прямо-таки льнули к домам. На кормушках было столпотворение. «Обычно ко мне под окно прилетало семь-восемь синиц. А тут насчитал однажды сорок четыре! Каруселью вертелись.
Успевай подсыпать зерна», — пишет А. Чернышов из Касимова. К кормушкам, кроме привычных птиц, устремились и те, кто обычно держится в стороне от людей. «За много лет в первый раз явились дятлы и сойки. Прилетало сразу по четыре-пять птиц».
Птицы искали не только пищу, но и тепло.
«В чуть приоткрытую форточку к нам друг за дружкой пролезли четыре синицы. Отогрелись. И жили шесть дней. Улетели через ту же форточку, как только ослабли морозы» (И. Уткин, Топки). В городах птицы находили убежище около труб, паропроводов. «Наши кемеровские воробьи за эти дни стали похожи на трубочистов — все черные» (Н. Макиенко). Даже крупица тепла птицами замечалась. Из многих мест сообщают, что видели синиц, ночевавших под плафонами уличных электрических лампочек: сидели, уцепившись лапками за патрон.
А Василий Иванович Прокопенко из Николаева пишет: «У нас в городе убежищем воробьев стала елка на площади. Как видно, лампочки и густая хвоя сберегали от холода. Воробьев к вечеру собиралось не менее тысячи. Рядом вертится карусель, грохочет музыка, елка вращается, а им хоть бы что — орут, дерутся за место у лампочек…» «К нам в вагон на остановке в Мичуринске залетел воробей. И хотя в вагоне тоже было — волков морозь, все же воробей ожил и доехал с нами, представляете, до Ростова! — пишут пассажиры поезда Москва — Ростов А. Трегубова и М. Торопков. — Когда выходили — выпустили этого серого курортника».
Так было в местах, где птицы соприкасаются с человеком. Но, любопытно, и вдали от поселков мороз заставил пернатых тянуться к людям.
«На рыбалке синицы залетали в рюкзак, пока я делал насадку, забирались в лежащую у ног рукавицу, — пишет И. Климов из Димитровграда Ульяновской области.
Интересны письма охотников. «Вижу, лиса. Но что-то не убегает, прижалась к дереву. Подошел ближе — валенок! (Со свалки, видимо, затащили). Толкнул ногой, а из него выпорхнуло шесть или семь птичек. Отлетели немного, сели на курс орешника, ждут. Я отошел и тоже жду.
Смотрю, опять юркнули в валенок» (Г. Тимошенко, Бобрка Львовской области). А вот как спасался от холода заяц. «Видим, след оборвался, а зайца нет, только снег как будто кто-то копал. Потоптались на этом месте — нет зайца. И вдруг косой выскочил из-под ног. Поглядели — заяц почти трехметровый тоннель проделал в снегу» (Банников, Тольятти).
Невзгоды сближают не только людей, но и животных тоже. В письмах есть сообщения о трогательном соседстве, которое помогало преодолеть бедствие. «Бездомные собаки и кошки (они вообще-то не очень ладят) нашли приют в теплом пустом подвале против нашего дома. Я специально понаблюдал: сидят мирно, как бы не замечая друг друга» (И. Уткин). А вот наблюдение в дикой природе. «Вечером, возвращаясь с охоты, сели в затишье в овраге перекусить и согреться возле костра. И увидели поразительную картину: на упавшем от старости грабе, возле самой земли, сидят близко друг к другу сойки, сова и не меньше десятка маленьких птиц. Сидят, нахохлившись, но мирно и смирно. Холод изменил обычное поведение птиц» (Г. Тимошенко).
Такого рода наблюдения чрезвычайно интересны. Ценность их укреплялась бы снимком. Но на морозе, понятное дело, фотографировать трудно, да есть еще и закон: все интересное встречается как раз в ту минуту, когда камера не в руках. Все же один любопытный снимок в почте нашелся. Сделан он, правда, летом, но вполне подтверждает: дружба и терпимость друг к другу во время беды у разных животных — явление не такое уж редкое. Мы видим на снимке теленка и поросенка. О таком же сообществе между кошкой и курицей пишет М. Артемов из Энгельса: «Я увидел поразительную картину: на гнезде сидит курица, а из-под крыла торчит кошачья морда — согревают друг друга. Сказал хозяевам, а они говорят: это у них обычное дело».
Наблюдалась ли гибель животных? Судя по письмам, немного. Из Воронежа биолог Леонид Леонидович Семаго сообщает: «Погибли хохлатые жаворонки». В серпуховских лесах находили замерзших синиц («по три, по четыре в дуплянке»). Замерзали воробьи, голуби. Из Ахтырки (Сумская область) семья Лыска (мать, отец, сыновья Саша и Дима) сообщает, что видели мертвых грачей. «Грачи в последние годы оставались у нас зимовать и ночевали обычно на тополях. А в этот мороз (у нас было минус 31) грачи укрылись в молодом сосняке. Там многие и погибли».
Упоминание о грачах и скворцах содержится в письмах из Кишинева, Днепропетровска, Москвы, Новокузнецка. Многие с удивлением спрашивают: зима — почему же скворцы и грачи?
Дело в том, что последние годы часть грачей и небольшие группы скворцов не улетали на юг. Этим птицам не так страшен холод, как зимняя бескормица. Но многие грачи и скворцы приспособились кормиться на городских свалках.
Это их и удерживало. Январский мороз был большим испытанием новоявленным зимовщикам. И вот ведь что интересно: почти всюду грачи, скворцы и дрозды пережили мороз без большого урона.
Наверное, самым стойким из них оказался скворец из Нязепетровска Челябинской области. Вот что нам пишет С. Кузнецов: «Скворец остался на зиму. Почему — не знаем. Видели его постоянно среди воробьев. 1 января у нас было минус 55. И что же, воробьи падали замертво, а скворец пережил! Теперь, когда потеплело, мы опять его видим в шумной воробьиной компании. Чудо!»
В некоторых случаях мороз заставил птиц покинуть привычное место. В Москве на улице Усиевича наблюдали большую стаю залетных щеглов. Из Ворошиловграда сообщают: на теплые заводские пруды опустилась стая обессиленных лебедей. (Предполагают, что птицы летели из Казахстана.)
В стогу в мороз все-таки теплее.
* * *
А человек? Как он перенес морозы? Ведь кое-кому пришлось работать на открытом воздухе, ехать или идти по срочному делу. Об этом письма тоже рассказывают. «Я шофер. 41! А работать-то надо. Краска на «ГАЗе» облезла так же, как на московских трамваях, — стал мой старый автомобиль похожим на военный маскировочный халат. Двадцать пять лет шоферю — такое в первый раз испытал. Тормозная жидкость стала колом, не продавишь. А нужной жидкости нет (готовиться надо было к зиме!). Ребята посоветовали залить в тормозные полости водку.
Сбегал, купил. В пору самому бы согреться, но поставил в кабину, думаю, утром залью. Утром глянул — в бутылке лед» (Л. Акимов, Петушки Владимирской области).
Но, пожалуй, тяжелей всех пришлось тем, кто работал на Крайнем Севере. Очень морозные дни тут на стройках актируют — люди являются на работу, но отсиживаются в теплушках. Однако бывает неотложное дело на самом лютом морозе.
6 января в диспетчерскую «Норильскгазпрома» поступил тревожный сигнал: на трассе авария — разрыв трубы! Линию немедленно отключили, направив газ в параллельно идущую нитку. Но долго ли выдержит нитка двойное давление? Случись что-либо — Норильск и Дудинка останутся полностью без тепла. И это при морозе минус 55.
К месту аварии немедленно вылетел вертолет, ушли вездеходы. Ровно сутки полярной ночью работали сварщики Николай Ильиных и Герман Марычев, заменяя аварийный отрезок трубы. Минус 55. Открытое голое место. Ледяной ветер. А куда денешься. Надо было работать, и надежно работать. Когда Николая и Германа поздравляли, они смущенно переминались: «Ну что вы, мороз для нас — дело привычное. Это же тундра…» Так держались в самом суровом краю.
Впрочем, утонуть можно, как говорится, и в бочке. Без трагедий не обошлось. Вот что сообщили нам из Казани.
Павлодарские школьники — десять мальчиков и одиннадцать девочек — совершали туристский поход. Они побывали в Ульяновске и потом из поселка Тетюши до Казани решили пройти на лыжах. И тут на отрезке в 70 километров, на Волге, в стороне от дорог и поселков группу настиг мороз. Кто-то поломал лыжи, кто-то в полынью провалился. Обессиленных, уже терявших сознание путешественников стали разыскивать и на вездеходах и тракторах вызволили буквально от черты гибели. Поставлены были на ноги лучшие медицинские силы Татарии — надо было остановить воспаления легких, предотвратить заражение крови, столбняк, потребовалось вмешательство хирургов. Сейчас жизнь ребят вне опасности. Но для Марины Благодатской помощь пришла слишком поздно. («Это была славная девочка. Небольшого роста, худенькая, она подбадривала всех остальных: «Ребята, надо обязательно двигаться!» — отдала свою верхнюю ветрозащитную куртку подруге, которая «совсем замерзала».)
Как случилась трагедия? Туристы как будто не были новичками — участвовали в лыжных походах, ночевали в лесу в спальных мешках. Но, возможно, самонадеянность их как раз подвела.
И, конечно, тяжелая ноша ответственности легла на руководителя похода учительницу географии А. С. Кольцову (вместе со всеми был и ее сын Николай).
Просчеты туристов теперь очевидны. Из Тетюшей 29 декабря утром группа ушла при морозе в 34 градуса. (Благоразумие требовало отказаться от перехода.) Лыжники пошли не вдоль дороги, как советовали им в Тетюшах, а решили выйти на Волгу. (При спуске на лед двое сломали лыжи, один попал в полынью.
И все на открытом пространстве оказались во власти ветра и в стороне от людей.) На карте не были детальным образом обозначены жилые места, и терпевшие бедствие не знали, где надо искать убежище. Одеты были очень легко.
Не было запасных лыж и запасных теплых вещей. А когда случилась беда, конечно, и растерялись… История поучительная для всех — со стихией шутки плохи. Легкомыслия и небрежности она не прощает.
* * *
Вот такие известия мы получили с разных сторон. Среди необычных явлений природы во многих письмах упоминается радуга. Ее наблюдали в Карелии, под Ленинградом и в Ворошиловградской области. «Редкое зрелище зимой — радуга. Не такая яркая, как летом, но все же глаз нельзя оторвать: радуга над сугробами», — пишет Виктор Макаров (Петрозаводск). А учитель Анатолий Яковлевич Ридченко в селе Писаревка Ворошиловградской области наблюдал явление особенно интересное — три солнца. «Это было 31 декабря. Я не верил глазам. Пять дней назад на уроке рассказывал детям о необычных оптических явлениях и о тройном солнце тоже. Рассказывал, руководствуясь книжками, а тут подлинная картина — в морозном тумане три солнца почти одинаковой яркости. Увидел я это в 12 часов. Выбегал на крыльцо каждые полчаса. В 15 часов боковые светила начали тускнеть, расплываться и превратились в светящиеся радужные столбы».
Такие вот чудеса творятся в природе, стоит морозу усилиться вдвое против привычного.
Сибиряки в своих письмах посмеиваются: «Приезжайте к нам греться. У нас 45 — обычное дело». Верно, там, где всегда 45, к холодам привыкают и живут, как резонно пишет Степан Островной из Иркутска, «по привычным параметрам». А мы в серединной России последние годы, надо признать, избалованы были мягкими зимами. И потому мороз оказался для многих (для человека и для животных) устрашающе сильным. И еще скажем: 45 градусов в Сибири и 45 под Москвой — это разные холода.
Я знаю сибирский сухой мороз, его переносишь легко, а о подобной силе московских морозов летописцы считали нужным помечать в своих книгах.
Ваши письма обо всем, что замечено при морозах, — важные документы. Другого способа нет — собрать с разных мест такие свидетельства.
Спасибо, что написали.
Фото автора. 7 февраля 1979 г.
Поединок
В письме из мордовского села Шейн-Майдан сообщалось о драматическом поединке с волком. Письмо сомнений не вызывало — приводились фамилия женщины и подробности схватки со зверем. Но, зная о волке были и небылицы, я написал в Шейн-Майдан самой пострадавшей, работнице совхоза «Сараст» Антонине Семеновне Грошевой. И вот на столе ее фотография и письмо.
«Да, все было, как вам написали. 12 декабря вечером я покормила на ночь телят и шла домой с фермы. Было уже темно. Но я двадцать два года хожу по этой дороге и боязни никакой не было.
До крайнего дома оставалось с полкилометра, когда я вздрогнула от толчка сзади и сразу же кто-то вцепился мне в ногу. Собака? Есть у нас в селе огромная злая собака, хозяева на ночь выпускают ее побегать. Я повернулась и замахнулась сумкой. И тут увидела: волк! Он сбил меня с ног и я подумала: ну вот и смерть. Если бы не платок, так бы оно и было, потому что зверь вцепился мне в горло. Я схватила руками его за челюсти и стала их разжимать. А они, как железные. И у меня откуда-то силы взялись — левой рукой оттянула нижнюю челюсть, а когда хотела схватить и правой — рука скользнула в пасть.
Я протолкнула ее поглубже и поймала язык.
Наверное, волку от этого сделалось больно, потому что он перестал рваться, и я смогла подняться на ноги. Кричала, звала на помощью, но никто не услышал, а может и слышали, да испугались — мало ли что ночью бывает».
Далее Антонина Семеновна рассказывает, как, пятясь, она потащила волка по направлению к дому и так прошла более полукилометра. Не отпуская зверя, она сумела отворить двери и стала одной рукой шарить в потемках — чем бы его ударить. «Потащила его сначала к конюшне, там были вилы, но потом подумала: вырвется — бросится на корову, и обратно попятилась в сени».
Попавшей под руку деревянной лопатой для чистки снега женщина начала колотить волка и била, пока лопата не поломалась. Исход поединка решил тяжелый дверной засов. Когда на крик прибежали соседи, волк лежал мертвым. Однако и пострадавшая истекала кровью от ран.
Антонина Грошева.
Письмо в редакцию Антонина Семеновна написала, уже вернувшись домой из больницы.
«Раны зажили. Но мне продолжают делать уколы — опасаются, что зверь был бешеный».
На мой вопрос о волках она сообщает: «Их видят у нас постоянно то тут, то там. Сосед рассказал, что подбегали к сараю, где лежал убитый волк. Обнюхали все. Пока бегали за ружьем, они уже скрылись».
Вот такая история с концом вполне благополучным. И все-таки она нас волнует. Волнует прежде всего потому, что это столкновение человека с силой, от которой все мы успели отвыкнуть. Загляните в статистику происшествий на автодорогах — ежедневно десятки аварий.
Но скажем правду: внимание многих ли задевают столбики драматических цифр? Привыкли. И принимаем потери почти как неизбежную плату за скорость. Тут же нечто совсем иное. Но дело, конечно, не только в экзотике.
Покоряет мужество человека. Оно покоряет нас одинаково, узнаем ли о летчике-испытателе, не потерявшем присутствия духа в критическую минуту, или об этой вот женщине, также не потерявшей самообладания. Поставим себя на место Антонины Семеновны. У многих ли хватило бы пороху выдержать схватку, не потеряться, не сплоховать?
По счастью, нападение волка — явление редкое. И нам опасаться больше всего надо все-таки недозволенных скоростей и нарушения правил на автострадах. И все же с десяток сигналов из разных концов страны о шалостях волка к нам поступило. Это прямое следствие того, что число волков пока что продолжает расти.
Не чувствуя надлежащего преследования, волки наглеют, такова уж природа этого зверя. Так что охотникам за волками надо пошевелиться.
И в заключение, возможно, самое главное.
В письме из села Шейн-Майдан есть горькая строчка. Антонина Семеновна с благодарностью отзывается о врачах районной больницы, спасавших ей жизнь, но говорит также о запоздавшей помощи в час, когда она больше всего в ней нуждалась.
«Я лежала в крови, и побежали позвать медсестру — живет по соседству. А она не пошла. Сказала: «Вы не мои. Я работаю в санатории. Идите за вашей сельской сестрой». А та живет далеко. Пока добежали за ней, пока она прибежала, я уже еле дышала…»
Вот такие дела. И не знаешь, где больше драмы — в нападении зверя или в глухом равнодушии человека. Врачебная этика, сострадание, даже простое человеческое любопытство — все напрочь отсутствует — «Вы не мои. Я работаю в санатории…». Справедливость требует рядом с достойным уважения именем Антонины Семеновны Грошевой упомянуть имя односельчанки ее — медсестры: Крашенинникова Мария Ларионовна.
Каждому своя слава. Кому-хорошая, кому-худая.
Фото автора. 18 февраля 1979 г.
Старик и птица
(Окно в природу)
Старик Абляким трусит на мохнатой серой лошадке по равнине, постепенно переходящей в горы. На правой руке Аблякима сидит орел.
Большая птица спокойна — на глазах у нее черный кожаный колпачок. Спокоен и Абляким. Ему восемьдесят четыре. И все, что сильно могло волновать человека, уже позади. И все-таки огонек прежней страсти блестит в глазах старика.
Волчья шуба с воротником из барса, лисья шапка, добротные мягкие сапоги и большая перчатка из прочной кожи служат охотнику Аблякину уже давно, и справлен этот богатый наряд из трофеев, добытых в здешних местах.
Едет старик без дороги, по бурой жесткой траве, торчащей из снега. Глаза слезятся.
И все-таки Аблякин вовремя замечает в рыжих травах рыжую тень лисы. И вот она, вспышка молодых сил, — орел на руке приподнят, кожаный колпачок с головы его сдернут. С криком «Ка!» старик толкает орла с руки, и все дальнейшее происходит в считанные мгновения.
Орел взмывает кверху, делает полукруг и сейчас же, заметив лису, несется к ней сверху по крутой невидимой горке, потом он тенью скользит у самой земли и, выбросив вперед лапы, хватает лису. В бинокль хорошо видно: хватает за морду и за крестец. Вот орел оглянулся, как будто соображает: что же делать теперь с добычей?
Но уже молодецкой рысцой спешит на серой кобыле к орлу Абляким. Вот он оставил седло, наклонился, поманил чем-то орла, протянул руку в огромной, до локтя, перчатке, и происходит то, чему трудно поверить: орел оставляет еще живую добычу, принимая из рук человека подачку — кусочек бескровного заранее припасенного мяса.
Абляким забирает лису, снова садится в седло. И опять едет по рыжим травам — иногда в день такая охота приносит две-три лисы.
* * *
Вечером мы сидим с Аблякимом за низким столом посреди дома. Сидим на ковре, поджав ноги, и пьем чай с духовитой румяной лепешкой. Абляким говорит об орлах, о давних охотах, когда ружей не знали и охотились только с орлом. Охотились на джейранов, на зайцев, лисиц, даже и на волков.
Абляким охотится с юности и пережил девять орлов. Жизнь у птицы некоротка — один орел служил Аблякиму тридцать три года. Но орлы, случается, разбиваются на охоте, — на большой скорости падая на добычу, орел промахивается, ударяется грудью о землю и уже не может взлететь.
С одним из орлов охотник простился, когда уходил на войну. Получая из дома письма, казах Абляким Сантанкулов среди всего прочего обязательно находил в письме строчки и об орле: как себя чувствует, чем его кормят и что ждет, мол, хозяина. Это были приятные вести для Аблякина. «Я ложился на спину, закрывал глаза и видел в небе любимую птицу-друга».
Мир тесен. Абляким воевал под Воронежем.
С удивлением слушаю произносимые на казахский лад названия сел: Рамонь, Чертовицкое.
Это мои родные места. Я говорю Аблякиму об этом и он, отвыкший уже волноваться, вдруг ставит на стол пиалу и с любопытством, как будто мы встречались тогда в лесах под Воронежем, смотрит на гостя.
Охотник-казах был на войне снайпером. От Воронежа по степям, через Харьков и Белгород он прошел до Полтавы и там был ранен.
В ауле Аксай говорят, что ата Абляким убил на войне более сотни фашистов. Однако сам старик ответил, что не считал — «стрелял и все».
Но счет какой-то все-таки на войне велся. Сын Аблякима, спросив разрешения у отца, приносит в комнату шелковый узелок, кладет из него на ладонь старику два ордена Славы. Молча Абляким наблюдает, как все стоящие у стола почтительно разглядывают чуть потускневшие серебристые звезды, потом кладет награды в лоскут, еще раз сказав: «Не считал…»
Зато убитых волков Абляким хорошо помнит. Их было сто восемнадцать. Одни попали в капкан, другие — под выстрел, но особо гордится охотник добычей, взятой с орлом. Хороший, сильный орел может остановить волка.
Такие орлы всегда и были у Аблякима. «За хорошую птицу в давнее время давали сотню баранов, коня или невесту».
Вернувшись с войны, Абляким охотой с орлом кормил весь аул. «Ловил джейранов, лис ловил, не считая». Старик уверен: охота с орлом прибавила ему жизни. В свои восемьдесят четыре года он легко садится на лошадь и может с утра до ночи пробыть в седле. Шкуры лисиц, висящие на дощатом сарае, — свидетельство: и глаза старика еще не утратили зоркости.
А орел по-прежнему чувствует в нем повелителя.
Я спрашиваю: как приручают орлов? Почему здоровая сильная птица, взлетев с руки, на нее же и возвращается? Что мешает ей улететь?
И много ли надо сил, чтобы вольное существо стало служить человеку?
— Орлов всегда заставляли служить, — говорит Абляким. — Были орлы у отца и у деда. И никто не знает, когда это все началось.
* * *
Сначала птицу надо поймать. Это не трудное дело. Сеть с голубем, зайцем или кекликом для приманки сделает свое дело, надо лишь вовремя выскочить из засады и быстро связать орла.
Превращение вольного дикаря в послушное существо занимает всего лишь три-четыре недели. Но какие они для орла! Птице сразу же надевают на голову кожаный колпачок, и мир для нее исчезает. Но это еще полбеды. Главное в том, что орла, привыкшего ощущать под лапой скалу, сажают на зыбкий аркан, натянутый в юрте или сарае. Не упасть! Все силы у птицы уходят на это.
Представьте канатоходца, которому завязали глаза и обрекли день и ночь стоять на канате, да к тому же канат время от времени дергают. Именно так поступают с орлом. Кто бы ни проходил мимо, обязательно тронет аркан, и орел, нахохлившись, распустив крылья, снова и снова с трудом добивается равновесия. Ни часу покоя! Ночью проходит кто-либо мимо орла — обязательно дернет аркан. Сам охотник специально встанет под утро встряхнуть задремавшую птицу.
Но эта пытка имеет и перерывы. Время от времени охотник подходит к растерявшей весь свой характер, обессилевшей птице, ласково гладит ее по перьям, снимает с головы колпачок, чтобы птица увидела избавителя от страданий, и дает ей кусочек вымоченного мяса — подставляет руку в прочной большой перчатке, и голодный орел, потянувшись за пищей, садится на руку. Но снова надет на голову колпачок.
Опять темнота и зыбкий аркан. А потом вновь лицо и рука «избавителя». И так три-четыре недели. И вот уже нет для орла ничего милее лица хозяина и перчатки, садясь на которую, обретаешь покой и получаешь еду. Все, орел готов служить человеку!
Былую страсть орла-охотника будоражат сначала лисьим хвостом — тянут его на бечевке за скачущим всадником. Награда — опять же кусочек мяса.
И потом приходит черед охот настоящих. Вольная воля открывается птице каждый раз на охоте. Слетел с руки — и в небо! В любую сторону улетай — не догонят и не поймают. Нет! Взлетев, орел устремляется на добычу. Но покорно ее отдает, как только хозяин покажет завалянный жалкий кусочек мяса.
— Орел не знает, что он невольник. Он может улететь, но я позову, и он возвращается, — говорит Абляким. — На охоте орел — слуга человеку.
А дома, наоборот, я служу этой птице. В нужное время кормлю, в порядке держу помещение, проведываю на день несколько раз. Перед охотой чаем пою, ласкаю. А охота — праздник для нас обоих. Беда не в неволе орла. Грустно — орлов становится меньше и меньше. Нас с этой птицей в музее можно уже показывать.
Фото автора. 15 апреля 1979 г.
Ковчег на Донце
(Проселки)
Заметили время, я стал считать. И за час езды на «козле» насчитал 47 зайцев (пишу прописью — сорок семь!). Машина ехала низкорослыми степными лесками, ехала вдоль зеленых хлебных полей, пастбищ, песчаных пустошей — и повсюду мы видели зайцев. Они перебегали дорогу, шевелили ушами в прошлогодних пожухлых травах, щипали зелень и просто так, в свое удовольствие, грелись на бугорках.
За этот час мы еще видели редкого по нынешним временам стрепета, двух орлов, колонию цапель на дереве; полем, притормозив, долго ехали за парочкой куропаток, не хотевших уступать нам дорогу. Мы постояли возле сурчиного городка, видели пустельгу, удодов, дроздов, луговых луней, трех оленей и много фазанов.
Ночью вышли послушать апрельского соловья и по звукам насчитали еще с полдюжины птиц. На болоте за домом ухала выпь, шумно падали в воду тяжелые кряквы, кричала неясыть и — чудо — сидевшему в загородке за домом филину отвечал из лесу вольный его собрат.
Наш ухнет — и сейчас же из лесу, издалека, из темноты ответный вздох: у-у-ух!
— Осенью тот, лесной, приспособился кур воровать, — улыбается стоящий рядом со мной Нечаев. — Таскает, а я радуюсь. Что куры? Кур, сколько надо, столько и разведем. А филин — редкость. Есть государства в Европе — на всю территорию — ни одной такой птицы. А тут шесть пар, дюжина филинов! Представляете, — Нечаев делает паузу: понимаю ли, что значит двенадцать филинов на клочке степной территории? — и продолжает: — Однажды видел: филин днем на лету встречным курсом схватил ворону.
Но это редкостный случай. Они охотятся ночью и тут благоденствуют на зайчатине. А куры…
Дураком надо быть, чтобы мимо такой добычи лететь. Вот поглядите…
Луч фонаря упирается в ветки тополя у сарая.
На ветках рядком, вобрав головы в перья, сладко спят куры.
— В сарай не загонишь. Привыкли, как дикари, — на ветках. Ну филин их и шерстил.
Борис Алексеевич Нечаев.
У-у-ух! — кричит сидящий с поврежденным крылом затворник, и сейчас же из леса, из темноты, — ответ. Поет соловей, монотонно, с долгими перерывами ухает выпь. На свет фонаря прилетела мохнатая бабочка. Нечаев стоит на крылечке с непокрытой седой головой.
Мы давно собирались увидеться тут, на Донце.
И я чувствую, как он счастлив: все, о чем говорилось при городских встречах, было перед глазами и даже сейчас вот, ночью, заявляло о себе множеством голосов.
— Ковчег на Донце…
— Ну! — радостно, с доверчивостью ребенка соглашается седой человек. — А я вроде старика Ноя, только без бороды.
Ростовская область — не край земли. И места для всего, что именуется словом «Природа», тут осталось немного — сплошь распаханный чернозем, шахты, трубы заводов, дороги, станицы, города, хутора, пристани — таков открытый ветрам и глазу равнинный пейзаж.
Усть-Донецкий район — самая середина большой хозяйственной территории, и по всем показателям район еще и самый передовой в области.
Тут берут от земли все, что она может дать. И поразительно, именно тут (место слияния Северского Донца с Доном) расцвел очаг жизни, вызывающий восхищение. Это не заповедник — сбереженный и теперь охраняемый угол природы.
Это природа, воссозданная человеком и им управляемая по законам, уже открытым и тут открываемым. И совсем уже поразительно то, что создали этот очаг охотники, люди, которых мы привыкли клеймить как злостных врагов природы. (Забывая, впрочем, что Аксаков, Тургенев, Пришвин были охотниками.)
С чего началось? Нечаев: «В 1967 году я проехал по этим местам и за день выпугнул одного зайца… И все же подумал: развести зайцев тут можно».
Зайцы когда-то водились повсюду и в изобилии. Но, с одной стороны, охотник (бескультурный, алчный и безответственный человек с ружьем действительно враг природы), с другой стороны, большие массивы распашек, лишающие полевого зверя убежищ, а главным образом матушка химия извела русака. Смешно сказать, стали зайцев для расселения покупать за границей. И сколько б, вы думали, стоит заяц? Корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Крушинский писал, помню, из Чехословакии: «Продажная стоимость одного зайца такова, что на эти деньги можно купить 100 килограммов апельсинов или 30 кг свинины».
Мысли о разведении зайцев у себя дома возникали, конечно, но мало кто верил в успех: «В наших условиях? Нечего даже и браться».
А Нечаев сказал: «Нет, можно». «Ну давай, давай, обожгись…» И получил охотовед Нечаев для начала финский дощатый домик, старенький мотоцикл, две лошади, круглую печать «Нижнекундрюченское охотхозяйство» и с молодой женой-учительницей переехал на берег Северского Донца.
Через два года жизни в лесу жена сказала: «Боря, или я, или зайцы». Нечаев: «И остался я с зайцами».
От всего, с чем столкнулся охотовед, в волосах у него завелась седина, однако и зайцы густо забегали. В письме, полученном от Нечаева в 70-м году, читаю: «Приезжай поглядеть — прибегают прямо к порогу, весь двор истоптали». И скоро тесно уже стало зайцам в угодьях на Донце, пошел русак на продажу.
Каждый год, как только выпадет снег, станичные ребятишки помогают Нечаеву ловить русаков. Сетка, загон… И вот уже грузовики с зайцами уезжают в Орловскую, Курскую, Воронежскую, Тамбовскую, Саратовскую области, на Кавказ, Украину. Каждый год — полторы-две тысячи зайцев.
Таков урожай земли, которая в это же время служит и пастбищем для скота, и полем для хлеба, и где ведется лесное хозяйство.
И к этому надо еще причислить главный прибыток, нравственный. «Заяц, журавль, перепелка, лисица, сова, когда их встречаешь в поле или в лесу, дают испытать тебе радость, без которой жить человеку нельзя» — так считает Нечаев. Сам он знает всю глубину этой радости с детства, безошибочно выбрал профессию и тут, на Донце, сразу же замахнулся на большее, чем разведение и расселение фазанов и русаков. (Полуручных фазанят из Кавказского инкубатора бережно приобщили к жизни в природе, и сейчас хозяйство Нечаева — единственный в стране естественный рассадник фазанов, откуда птиц наравне с зайцами тысячами отправляют для расселения в разных местах, в том числе на их родину, на Кавказ. Рожденные в природе, они намного жизнеспособнее инкубаторских.)
Все многоликое царство, обитающее на Донце, перечислить тут невозможно. Одних животных продуманно поселили, другие осели тут «самотеком», находя пищу, убежище, место для размножения. Третьи жили всегда, четвертые появились по природной взаимосвязи: одна форма жизни влечет за собой появление и другой. В результате на природной фазано-заячьей «ферме» сложился биоценоз, иначе говоря, сообщество растений и животных, взаимосвязанных или терпимых друг другом. В этом мне представляется главная победа Нечаева.
Биоценозы в природе складываются веками. Разрушить их — дело простое. Восстановить заново неимоверно трудно. Нечаеву это удалось сделать.
Секреты? Да нет совершенно секретов. Отстоял для начала Нечаев припойменный лес, ничтожный с точки зрения получения «деловой древесины» (кряжистые дубы, ясени, клен, дикие яблони, груши, дуплистые ивы, заросли лоха, терна, боярышника), но идеальный как «стол и дом» для животных. Отстоял от «улучшения» — от выкорчевки с мыслями посадить то, что пятилеток через десять — двенадцать, возможно, могло бы дать «деловой лес». И хотя война с лесхозом далеко еще не окончена, «стол и дом» животным оставили.
Есть в хозяйстве еще ряд забот, именуемых скучным словом «биотехния». На простом языке — это помощь животным в трудное время.
Это кормушки с отходами зерна для фазанов и куропаток, это люцерна и веники зайцам. Это поилки и солонцы. Умело расположенные добавки к природному корму не только помогают животным выжить при очень высокой плотности, но и удерживают их в определенных зонах хозяйства, отвлекают от посевов, позволяют человеку управлять всем этим диким сообществом.
Охота в хозяйстве четко регламентирована.
Есть тут заказник, где появляться с ружьем нельзя, есть в заказнике зона покоя («родильный дом»), куда и с фотокамерой путь заказан. И есть крошечный — шесть-семь гектаров возле болота — заповедничек, где сам Нечаев без нужды старается не бывать.
Забота самая важная — хищники. Легко представить, сколько желающих поживиться зайчатиной, фазанятиной и всем, чем богаты поляны и заросли над Донцом. Сороки, вороны, одичавшие кошки, собаки, лисы, еноты, волки, ястребы, совы, орлы, ну и, конечно же, человек — все хотят запустить сюда зубы и лапы.
И почти против всех надо тут постоянно держать оборону. Привилегию бесконтрольно охотиться имеют только редкие, взятые под охрану птицы. Тут зимуют до трех десятков орланов, более десяти беркутов, гнездятся орлы-карлики, совы и соколы. Остальные охотники за дичиной подлежат истреблению, преследованию, регулированию численности. Что же касается самого изощренного хищника, человека, то тут борьба с хищничеством особенно изнурительна, нередко опасна и не дает передышки ни по сезонам, ни днем, ни ночью. Нечаев: «Справиться с браконьерством — значит, полдела уже решить».
Таков в упрощенном изложении перечень дел и забот для любого места, где взялись бы разводить и сберегать дичь. К ним надо только прибавить еще одну малость: возглавлять дело должен человек с опытом и характером моего давнего друга Нечаева.
Он покорил, помню, первым своим письмом. «Мальчишкой принес домой ужака.
Отец (он был учителем математики) ужака — за хвост и в окно, а меня — за ухо. А мать говорит: «Не трогай, может, из него Мичурин вырастет». Нечто подобное произошло в армии, когда старшина, проверявший казарму, обнаружил в чемодане у рядового Нечаева черепаху и суслика. Тут заступником был лейтенант, сразу понявший: это не баловство.
И если продолжать эту линию биографии теперь уже пятидесятисемилетнего человека, надо сказать: нашлись и тут, на Донце, люди, которым дела Нечаева были докучливы и непонятны. «Зачем? С нас, что, планы по зайчатине кто-нибудь требует?» В этот раз заступился секретарь райкома партии Александр Александрович Акишев, выбравший подходящее время и подходящее место сказать: «Нечаев делает важное дело, надо ему не мешать, а всячески помогать». Вскоре Нечаев получил орден за охрану природы.
Но постоять за себя и за дело Нечаев умеет и сам. И характер бойца дело его заставляет проявлять постоянно. «Приезжаю в Ростов, в рыбинспекцию. Кладу двенадцать сетей.
Ваши, говорю, люди на Донце балуются. Недовольны. Кому приятно слышать, как тебя называют козлом в капусте. Твое дело, Нечаев, говорят, суша. Зачем на реку лезешь? Ах, так! Тогда, говорю, сейчас же сети в Москву, в министерство ваше отправлю. Сразу тон изменили, потому что знают, я и в самом деле отправлю».
Непримиримость, напористость в этом характере сочетаются с поразительной, почти детской доверчивостью к людям. И еще черта — добродушие, легкий веселый нрав. Пачки писем Нечаева я держу под рукой, если надо встряхнуться, начинаю их перечитывать. Вопросы, новости, шутки, размышления с пятью восклицательными знаками в нужных местах и неизменные строчки в конце: «Подлинность сего заверяю круглой печатью. Приезжайте, пишите, телеграфируйте!» Иногда в этих письмах, отстуканных на машинке ночами, встречаешь строку вроде этой: «В меня тут стреляли. Грозятся сжечь. Поразительная вещь, из-за чего? Кому-то хочется убить зайца, а я не даю».
Дом Нечаева стоит сейчас уже не в самом лесу, а на краю станицы. Однако новая хозяйка дома выдержала все испытания лесной жизни.
«Оказалась женой хорошей, в делах помощница и родила мне двоих сыновей-близнецов. Уже прочли сорванцы половину моей библиотеки, уже норовят с учительницей поспорить насчет того, что, когда, почему и как происходит в природе. Да что с учительницей, меня уже, глядишь, поправляют: «Нет, не так!» Зову их по обстоятельствам то снегирями, то печенегами и молю бога, чтобы хоть один из них — как это называется у спортсменов? — эстафетную ношу принял бы у отца. Знаю, что обрек бы сына на жизнь неспокойную, но должен же кто-нибудь заступиться за зайцев!»
Слабость Нечаева — фотография. Занимается ею с детства. После войны работал даже фотокором в газете. «Но две любви — Природа и Фото — слились и увлекли меня в лес. Иногда думаю, что и зверей-то развел тут, чтобы можно их было снимать».
Снимает он одержимо. День — съемка, ночь — проявление пленок. Освоил процессы цветной фотографии, результаты — по высшему классу. Однако современных камер не признает. Снимает какими-то сундучками «времен академика Тимирязева», сам делает к ним всякого рода добавки и улучшения, носит штатив весом не менее пуда и посмеивается: «Важны конечные результаты. Вот погляди. Я до всех этих фокусных расстояний своими руками дошел».
Он, несомненно, один из лучших в нашей стране фотографов-анималистов, собирается сделать книгу обо всем, что вырастил здесь, на Донце, участвует в фотовыставках. В последнем письме сообщил: «Не подвели «сундучки»!!! Из-за границы пришла награда за снимок — почти полкило бронзы в малиновом бархате. Удивляюсь себе. Троллейбус в городе не хватает терпения пять минут подождать, а тут, в шалаше, пять часов ожидаю нужной секунды».
Пять часов в шалаше — время для Нечаева, разумеется, непотерянное. «Природа с глазу на глаз — лучший учитель. За плечами университет, горы прочитанных книг, но то, что видел своими глазами и что осмыслил своим котелком, — это основа для дела и, если хотите, для понимания жизни».
Меркой законов природы Нечаев поверяет иногда самый неожиданный факт. «Встретились мы недавно в Новочеркасске — выпускники 40-го года. Пятнадцать человек нас осталось. Стали считать детей и внуков, оказалось, у 12 человек после войны родилось 25 детей. Из них 21 мальчик и 4 девочки. Разве это не чудо — природа сама восстановила равновесие полов, нарушенное войной. О, природа — великая мастерица!»
И вот под руку с этой мастерицей идет влюбленный и берегущий ее человек. Материнская мысль о Мичурине оказалась пророческой. Только вырос на Дону не Мичурин.
Вырос Нечаев Борис Алексеевич — талантливый натуралист, экспериментатор и умный, бережливый хозяин земли. «Вы один разрешили кучу вопросов, над которыми бьемся…» — написали Нечаеву биологи-охотоведы из сибирского института. «Явление уникальное…» — отозвался побывавший тут, на Донце, признанный всеми авторитет природоведения Александр Николаевич Формозов. «Свое дело делает человек, и хорошо делает», — сказал о Нечаеве первый секретарь Ростовского обкома партии Иван Афанасьевич Бондаренко.
— Ну а счастливым ты себя чувствуешь?
Нечаев, как всегда, пытается отшутиться:
— Это дело — всегда в полоску. То как
на крыльях, а то хоть плачь. Вчера вот был совершенно развинчен — поцапался с пастухами.
Опять с собаками стали пасти! А что такое собака в угодьях: косулята, зайчата, фазаны, чибисы, жаворонки — всех душит. Постановление облисполкома есть: пасти без собак. А в колхозе говорят: людей не хватает. Вот и чувствуй себя счастливым…
— Косить начнут, опять втолковываю: косите с середины, давайте птице убежать с поля…
— Круглый год кого-нибудь надо воспитывать. Станичные бабки осенью терн обрывают вчистую. Совсем запретить не могу.
Нету, к сожалению, такого права. Воспитываю: «Без терна, бабушка, говорю, птицы в лесу околеют…» А что бабке наши с вами дрозды и фазаны — терн она в город Шахты везет и там пол-литровыми банками продает…
— Или ребята-балбесы… Зайцы-то прямо в станице бегают. Кому радость, а кто их петлями ловит. Считается доблестью Нечаева обхитрить. Ворчу. Но вспоминаю: и сам ведь таким лоботрясом произрастал…
— А вот ситуации посерьезней. Друг детства пишет: «Борис, у тебя, я слышал, дичи, как в Африке. Приеду на пару дней пострелять». Отписываю, как полагается, и понимаю, что друга я потерял. Не поймет. Или приезжает начальник ГАИ с ружьем и при погонах с двумя просветами.
«Борис Алексеевич, дорогой, хочу отдохнуть…»
Объясняю начальнику, где можно охотиться, где нельзя. Обиделся. А у меня в хозяйстве четыре автомобиля — в любое время можно шоферов моих и по делу, и по безделью прищучить.
Этот разговор с Нечаевым мы ведем, сидя на ступеньках его крылечка. Шоферы среди двора возятся с поставленным на домкрат грузовиком — шины ночью кто-то шилом изрешетил.
— Вот сами видите. Но это ничего, заменим, заклеим. К этой войне мы привыкли… Федор, возьми ключи, и давай-ка покажем московскому гостю наши трофеи!
Егерь, помощник Нечаева, выносит во двор оружие охапками, как дрова, — дорогие двуствольные ружья, обрезы, самодельные самопалы, длинноствольные пистолеты.
— Браконьерская техника. Посчитайте-ка…
Да, сорок три единицы. Это за последние семь-восемь месяцев. Отнято главным образом ночью. Представляете? Каждая эта штука стреляет… А ты говоришь, счастье. Жизнь, она полосатее зебры…
Грузовик во дворе снимают с домкратов.
Нечаев подписывает шоферу путевку и подводит черту разговору.
— Позиции не сдаю, потому что руки свои держу в чистоте. Все мое достояние — эти вот смешные ящики для фотосъемки, десяток чучел зверей и птиц, которые сделал сам, полки с книгами и эта вот радость. Вот мы пойдем сейчас, а зайцы будут у нас из-под ног убегать.
И фазаны. И сокола вам покажу. Он любит там, на опушке, на сухой олыиине сидеть. И филина поснимаем. Со стороны, я думаю, выгляжу иногда чудаком, Дон-Кихотом Ламанчским.
Зайцы!.. Но ведь надо ж кому-то заступаться за этих зайцев?!
Вот такой человек живет и работает на Донце… Об охране природы у нас говорят много горячих и правильных слов. Дела же, признаем это, не всегда поспевают за словом.
И потому каждое усилие, каждое конкретное дело заслуживают и внимания, и поддержки.
Нечаев Борис Алексеевич — один из мужественных и неутомимых борцов за охрану природы. Он не просто не отступает перед трудностями в борьбе нелегкой и непростой.
Он одерживает победу. И хочется всенародно сказать за это ему спасибо
Фото автора. Станица Нижнекундрюченская.
22 апреля 1979 г.
Они идут…
В 2 часа 15 минут московского времени мы их увидели. Головной самолет первым вышел в нужную точку. Пилот Олег Охонский позже рассказывал: «Увидел след лыж. Две минуты шел над лыжней. И вот он — лагерь…»
Летели мы к ним на двух самолетах. Большой Ил-14 вез для сброса контейнеры с грузом.
С маленького Ан-2 мы готовились наблюдать сброс, готовились к фотосъемке, надеялись с небольшой высоты разглядеть лагерь семи смельчаков. От Черского с посадкой на «СП-24» летели пять с лишним часов. Видели сиротливый с обрывистым берегом островок Генриетты, откуда семерка начала путь, наблюдали с высоты плавучую базу полярников, и, конечно, было достаточно времени разглядеть сверху Арктический океан.
Солнце в этих местах уже не заходит. Видимость, как говорят летчики, «миллион на миллион». Над крыльями — синева, под крыльями слепящая белая скорлупа океана. Но это не вечные льды, без единого темного пятнышка, какие видишь, пролетая над Антарктидой. Под белым покрытием прячется чернота океана.
Мускулистая, неспокойная чернота. Течения и ветер мнут над водою белую скорлупу — видишь то паутину трещин, то реку дымящейся на морозе воды, и повсюду по белому полю — следы столкновения льдин: цепочки торосов, очень похожие сверху на полосы снегозадержания.
При низком солнце достаточно красок — все оттенки синего, белого, темнота трещин, бирюза глядящего на воды льда. И никакого признака жизни. Холодное равнодушие залитой солнцем пустыни. Тень самолета кажется призраком, скачущим через трещины и торосы.
— Выходим к точке, — говорит, отрываясь от расчетов, штурман Евгений Федорович Рудаков.
Мир действительно тесен. С этим штурманом мы спали рядом в домике, погребенном под толщей антарктического снега, вместе летали над Антарктидой и теперь вот нежданно-негаданно — встреча на борту двухкрылого самолета, летящего по необычному делу.
— Вижу палатку! — радостно кричит стоящий за спиной летчиков Володя Снегирев. И мы открываем дверь самолета. Чтобы не выпасть в горячке съемок, мы с оператором киностудии крепко привязаны и можем стоя даже чуть-чуть высовывать нос из дверей. Высота двести метров. Пролетающий воздух опаляет лицо — температура за бортом -39. Только б не подвели фотокамеры…
Палатка!.. Она похожа на ярко-оранжевый детский шарик, занесенный сюда ветрами.
Красный флаг над палаткой и семерка людей. Стоят с поднятыми кверху руками. У одного в руке дымная сигнальная шашка.
Сейчас, разглядывая снимок, я вижу полоски лыжни, цепочки следов на снегу, вижу теодолит, лыжи и палки, стоящие у палатки, какое-то снаряжение на снегу. Вижу: один из семи левой рукой прикрывает лицо — там, внизу, мороз тоже около сорока. В момент же съемок глаз улавливал три детали всего.: люди, палатка, флаг.
Тут на снегу красный цвет особенно выделяется и волнует тоже особенно.
Круг, еще круг. И еще — хочется быть уверенным в съемке. И отворот в сторону. Теперь с Ил-14 будет сброс. С высоты мы видим, как это все происходит. Самолет проносится прямо над лагерем. И — точный расчет! — парашют с мешком груза падает в двадцати шагах от палатки. Четыре захода — и дело сделано. Теперь прощальный пролет. Опять поднятые кверху руки, но кто-то уже склоняется над сброшенным грузом. Там среди снаряжения, еды, гостинцев, газет и писем есть и моя маленькая посылка — семь веточек вербы, срезанных в Подмосковье накануне полета сюда.
На лыжне в Подмосковье я встречался с этой семеркой.
Идешь налегке, а у них в рюкзаках — кирпичи.
Шутили: «Тяжело в ученье — легко в бою». Теперь пришло испытание. Они очень его хотели и держатся молодцами. Наш прилет сегодня, конечно, праздник для них. По радио предлагаем: «Мы можем сесть рядом с вами, ребята!» Они единодушно ответили: «Нет!» Условие экспедиции: никакого контакта с людьми, разве что станет необходимой медицинская помощь… Ну что же, тогда махнем на прощание рукой. Нам возвращаться на материк, их путь на север по океану.
Рядом со мной в самолете сидит товарищ по «Комсомолке» Владимир Снегирев. Он очень взволнован: «Они идут… Я счастлив — они идут…» Снегирев — кровная часть этой группы.
Вместе многие годы тренировались, вместе были в трудных походах тут, в Арктике, вместе мечтали об этом главном походе. Теперь Владимир в группе обеспечения, он ответственный секретарь штаба экспедиции, постоянно держит связь с группой по радио, подбадривает родственников идущих, пишет репортажи в газету, и я не удивляюсь, видя сейчас Владимира задремавшим на плече штурмана Рудакова. Впрочем, ненадолго. Протирая глаза, он улыбается: «Они идут. Они идут к полюсу. Как долго мы все об этом мечтали».
Идут… А зачем идут? Кто их гонит? Среди множества писем, приходящих сейчас в редакцию, писем с горячей поддержкой экспедиции и пониманием ее задач, есть и такой вот вопрос: «Зачем?» Вопрос этот столь же старый, как и вся история человека. Всегда кто-то шел по земле, обрекая себя на лишения, даже на гибель, а кто-то сидящий в спокойном тепле у костра ли в пещере или у ящика телевизора говорил: «Зачем?» Вопрошавших никто не помнит. Тех же, кто шел, история знает. Назвать имена?
Их великое множество. Вот из самого первого ряда: Колумб, Магеллан, Гагарин, Армстронг.
Усилием легиона других смельчаков были открыты на земле материки, острова, глубины, проливы, полюса, морские пути, покорены горы, нанесены на карту мельчайшие очертания лика Земли, исследованы пещеры, течения вод, открыты рудные залежи. Наконец, человек глянул на Землю со стороны, из холодного космоса. Все это нельзя было сделать, сидя на камушке возле дома или на мягком диване. Надо было идти.
Палатка! Она похожа на ярко-оранжевый детский шарик, занесенный сюда ветрами.
Тут, на Севере, едва ли не каждая точка отмечена чьим-нибудь именем. Гляжу сейчас вот на карту: поселок Черский, острова Шмидта и Ушакова, мыс Дежнева, мыс Челюскина. Усилиями идущих прирастала наша земля, наша страна на север и к востоку от Волги. И прав поэт, написавший:
Землеходцы прошли босые, Топором прорубая путь. Не забудь их, моя Россия, Добрым именем помянуть.Уместно ли, размышляя об этом походе семерки, вспоминать знаменитые имена?
Уместно. Уместно потому, что, бросая вызов пространствам, человек всегда подвергал испытанию свою волю, свои физические и духовные возможности. И в этом смысле Семен Дежнев, капитан Кук, Пржевальский, Нансен, Валерий Чкалов стоят рядом. Возможно, чуть в стороне от них стоит Амундсен — его упрекают иногда в рекордсменстве. Но кто, скажите, без уважения произносит это славное имя: Амундсен? И почему мы чтим и этого землепроходца?
Потому, что победы его — это победы человеческого духа, человеческой воли, это важнейшие точки отсчета человеческих возможностей.
Люди в суете повседневности должны, оглянувшись, иметь образцы: «Да, это человек может». Очень важно для человеческого рода иметь образцы мужества и выносливости.
Конечно, всякий поход, освещенный великой целью, вырастает в глазах людей. Нансен обессмертил себя трехлетней зимовкой во льдах, доказав предположение, что вместе со льдами от азиатского побережья можно попасть к берегам Америки. Однако национальным героем Норвегии Нансен стал до этой легендарной зимовки, он стал им, когда пересек на лыжах ледяную Гренландию. Научных находок сделано не было. Никаких особых открытий молодой в то время биолог Нансен не сделал. Просто он доказал возможность того, что до этого считалось невозможным.
В наше время белых пятен на карте осталось немного. Неоткрытых земель и вод практически нет. С помощью техники человек сегодня может достичь любого места планеты, причем с комфортом. У Чкалова, когда он со спутниками пролетал северной трассой, носом шла кровь, а с сыном его и с летчиками-ветеранами Байдуковым и Беляковым, пролетая над полюсом в 1975 году, мы открыли бутылку шампанского и глядели на льды, сидя в мягких, удобных креслах. Роберт Скотт, достигший Южного полюса, был поглощен ледяной пустыней. А сын его сэр Питер Скотт путешествовал по следам отца почти что туристом — с женою и дочкой.
Техника балует человека. Земля от больших скоростей как-то сжалась, стала казаться маленькой. Однако истинные ее размеры нисколько не изменились. Так же глубоки ее океаны, так же сильны ее штормы, морозы, так же опасна жара пустынь. И физическая природа человека тоже не изменилась. Во всяком случае, совершенней она не стала. А чтобы стрелка физических возможностей наших не качнулась резко назад, человек инстинктивно старается испытать себя в единоборстве с природой. Один одолел с рюкзаком двадцать пять километров, и это уже гарантия — человек не раб своих «Жигулей». Другому этого мало, он проверяет себя долгим пешим походом, восхождением на гору, путешествием на плоту по неспокойной реке, плаванием в океане, переходом по льдам.
Сдается, человечество в целом нуждается в подтверждении неутраченных сил и величия духа. Возможно, именно этим объясняется все время растущее число экспедиций и путешествий на лодках, плотах, на воздушных шарах, повозках, на собаках и на верблюдах. И насмешек это не вызывает. Старик Чичестер, совершивший кругосветное плавание на одиночной яхте, был удостоен на родине, в Англии, высших почестей. И вряд ли кто усомнится в их правомерности. Тур Хейердал стал не просто национальным героем Норвегии. Он стал кумиром юношества.
Вспомним недавнее путешествие наших соотечественников Буторина и Скороходова на лодке «Щелья» вдоль северных берегов по пути мореходов древности. С каким интересом и вниманием все мы следили за этим странствием! Перечислю путешествия, о которых мир говорил только в прошлом, 1978 году.
Тростниковая лодка «Тигрис» совершила плавание протяженностью в 4200 миль. Увенчалась успехом попытка американцев на воздушном шаре пересечь Атлантический океан. Австралийка Р. Дэвидсон на верблюдах одна прошла три тысячи километров по малодоступным пустыням своего континента. Японец Н. Уэмура на собачьей упряжке достиг Северного полюса.
Могло ли человечество прожить без этих путешествий? Конечно, могло бы. Но согласимся: есть все же необходимость, чтобы кто-то, где-то, подвергая себя испытаниям, все-таки шел вперед. Чтобы все мы в наше машинное время могли бы не утратить веру в человеческую отвагу, в человеческую выносливость, в способность преодолеть себя. Чтобы могли мы сказать: «Это человек может».
Идущая к полюсу наша семерка… Север для русских и для советских исследователей всегда являлся ареной мужества. И это понятно — ледовитые воды прилегают к нашей земле на огромном пространстве. Сама жизнь требовала хождения в этих водах. И это хождение всегда было подвигом. Вся история освоения Севера от смоленой лодки помора до атомных кораблей требовала от людей величайшего мужества, настойчивости и упорства. Многие путешествия кончались тут драматически. Но человека снова и снова влекло помериться силой с ледовитым пространством. И предела никому не поставлено.
Семерка свое путешествие готовила не день и не два. Эту группу мы знаем десяток лет.
Знаем по регулярным изнурительным тренировкам «у себя дома», в Подмосковье, знаем по экспедициям в Арктике. Это были серьезные переходы в поисках (не безуспешных!) следов исчезнувших экспедиций, с обследованием островов, с испытанием себя на мужество и выносливость в самых опасных районах.
Русский лейтенант Врангель со слов местных жителей точно знал, что к северу от Чукотки есть остров. Лейтенант дал верные координаты этой земли, но сам, сделав несколько отчаянных попыток, достичь острова не сумел: слишком опасен и труден путь от материка к острову через пролив. Ребята из нынешней экспедиции семь лет назад поставили себе цель: пройти пролив Лонга от Чукотки до острова Врангеля. И они успешно его прошли на лыжах, хотя Арктика со времен смелого лейтенанта не изменилась.
Теперь желанная цель — полюс. Этой точки земли достигали на собачьих упряжках, на мотосанях, дирижабле, на самолетах. На ней всплывали подводные лодки, сюда два года назад впервые в истории дошел корабль — советский ледокол «Арктика». Пешим ходом на лыжах полюса не достигали. (Десять лет назад шотландцы, супруги X. Симпсон и М. Симпсон, сделали такую попытку. Но, пройдя 90 километров, вернулись). Наши ребята прошли уже шестьсот пятьдесят километров и успешно продолжают идти.
Степень трудности перехода? Наивысшая! Она требует предела человеческих сил. Ребята идут в пустыне. Мороз под сорок. Торосы. Разводья, которые надо преодолеть на лодках. Постоянное напряжение. Не очень много людей, способных выдержать этот путь.
Риск… Он есть, конечно. И он не маленький.
Но вспомним полярников прошлого. Они уходили, и, бывало, несколько лет никто не знал: где они? что с ними? Сегодня радио ежедневно приносит вести с этой беспримерной лыжни, группа находится в пределах, достигаемых самолетом. Случись что-нибудь — помощь будет оказана без промедления.
Дойдут ли? Это покажет время. Сейчас можно только сказать: опыт прежних походов группы, тщательный расчет трассы говорят — должны дойти.
Точка полюса — лишь некий итоговый символ. Главное — в преодолении пространства до полюса, в преодолении тысячи пятисот труднейших на всей земле километров. И мы можем гордиться: идущие — из нашей с вами семьи, советские ребята, воспитанники комсомола, люди, способные на подвиг.
Сюда, в Черский, нам переслали письмо школьников из Саратова. «Пишите подробней о переходе. Мы каждый день на карте флажком отмечаем путь экспедиции. Волнуемся. И очень хотим победы этой семерке». Флажок на карте передвигают во многих домах и школах. У нас в редакции висит огромная карта Севера. Такая же карта — в ЦК комсомола. Много людей следят за движением к полюсу, и все мы хотим победы нашим посланцам.
Со станции «СП-24» по радио мы говорили с капитаном семерки Дмитрием Шпаро. Беседа состоялась уже после того, как мы вернулись на базу, а ребята там, в лагере, распаковали посылки, прочли газеты и письма. Вот наш разговор, по условиям радиосвязи краткий, но достаточно убедительный: в группе все в порядке, экспедиция полна решимости достичь цели.
Вопрос: Дима, Амундсен писал, что человек ко всему может привыкнуть и только к холоду привыкнуть нельзя. Что скажешь на этот счет?
Ответ: Холод действительно неприятная штука. И он нас мучает беспрерывно. Но, кажется, мы все же к нему привыкаем. Хотел бы сказать, московский мороз начала этого года, мы все вспоминаем об этом, переносился труднее, чем здешний мороз тех же градусов.
В.: Что было самым трудным на пройденных километрах?
О.: День старта у Генриетты, когда мы шли по обломкам плывущего льда и осилили за день всего 500 метров.
В.: Настроение в группе?
О.: Вот послушайте голоса… (Голоса у микрофона: «Дружное! Боевое!»)
В.: Сила примера… Кого из славных полярников прошлого для поддержания духа вы хотели бы видеть сейчас рядом с собой?
О.: Часто вспоминаем тут наших папанинцев, самого Ивана Дмитриевича, который относится к нам отечески. Ну и, конечно, всегда помним Нансена. Это для нас образец во всем.
В.: Есть ли признаки жизни в этих широтах?
О.: Вчера видели след песца. В этих местах песцы — спутники белых медведей. Без медведя не прокормиться. Значит, и косолапый где-то недалеко. Мы начеку.
В.: Зрительные впечатления… Не надоел ли вам белый цвет?
О.: Ну вы ведь видели сверху: у снега множество разных оттенков. При низком солнце снег тут бывает даже пурпурным. В ясный, погожий день мы просто любуемся переливами красок. И нас ведь семеро. Лицезреем друг друга — у одного нос облез, у другого щека потемнела, третий после купели синюю куртку сменил на красную, так что глаз не скучает.
В.: Что из снаряжения не оправдало себя? Чего недостает вам сейчас?
О.: Сломался ледоруб. И решили не просить запасного. Бесполезными оказались фонарики — вымерзли батареи. Свечи надежней. Остро недоставало, пожалуй, писем. Но сегодня отвели душу. Вам спасибо за прутики вербы с подмосковной лыжни. Сидим сейчас кружком в палатке. Горит примус. Горит свеча. И в банке с водою — эти семь прутиков. Пахнет апрелем…
В.: Вопрос лыжника. Как скольжение?
О.: С нашим грузом особо не разбежишься. Но дело обстоит так. При низком солнце (оно сейчас ходит по кругу) и, значит, при сильном морозе скольжение неважное. Но подымается солнце, теплеет — скольжение улучшается.
В.: Сколько часов в сутки вы спите?
О.: Всего семь.
В.: Пришлось ли принимать какие-либо лекарства?
О.: В самом начале у одного из нас расстроился живот. Пришлось прибегнуть к таблеткам. Сейчас все в порядке.
В.: Любимое ваше блюдо?
О.: Во время сильных морозов — густое горячее молоко с русским маслом. Сейчас налегаем на обезвоженный творог.
В.: Что передать читателям «Комсомолки»?
Шпаро: Скажите спасибо всем за поддержку. Скажите, что видели флаг нашей Родины над нашей палаткой. Скажите, что человек силен движением вперед. Скажите, что мы полны решимости достичь цели.
Эти заметки я пишу в поселке Черском.
Поселок тут называют столицей Арктики. Это в самом деле оживленный человеческий перекресток на Севере. Прилетают и улетают аэропланы. Поселяются новые люди. В гостинице я живу в одной комнате с прославленным летчиком Анатолием Васильевичем Ляпидевским.
Вчера он прилетал из Москвы по просьбе местных пилотов. Человеку за семьдесят, однако осилил огромное расстояние. После встречи пришел взволнованный, полный воспоминаний, переживаний. Сейчас прикорнул.
На спинке стула — его пиджак со Звездою. Рассматриваю Звезду. На обратной стороне — цифра 1. Самая первая Звезда Героя. Вручена за события тут, на Севере (Ляпидевский первым увидел на льдине челюскинцев и первым вывез из лагеря детей и женщин). Анатолий Васильевич подробно рассказывал, как это было.
Рассказал, как вручалась награда. «Калинин пожал руку и сказал: «Ну что же, начнем. У вас рука, кажется, легкая…»
Говорили с прославленным летчиком о ребятах. Он хорошо понимает трудности перехода.
Сказал: «Молодцы! Узнаю свою молодость».
В Черском весна. Много солнца. Мороз всего двадцать три градуса. В окно видно: ребятишки носятся на велосипедах, молодой летчик любезничает с местной принцессой. Проехал охотник на моторном «Буране». На ветке у подоконника скачут какие-то птицы. Их называют тут снегирям, но это вовсе не снегири. Бой часов в репродукторе — в Москве полночь. По времени разница — восемь часов. Огромная страна лежит к югу и юго-западу от точки на реке Колыме, огромная земля, полная огней, весенней воды, тепла, света, первых цветов. А на Север взглянуть, карта вся синяя — океан. И где-то там, по белой скорлупе океана, идут сейчас люди. Они идут! Пожелаем же им удачи.
Фото автора. Пос. Черский, Якутская АССР.
24 апреля 1979 г.
Амбарчик
(Север: встретилось в пути)
На картах Севера есть удивительные названия, например, Мыс Крещенный Огнем, Бухта Ложных Вестей. Или, скажем, вот это — Амбарчик. Отыщите на карте Чукотку, отыщите жилку реки Колымы, в том месте, где Колыма встречается с океаном, ищите и непременно найдете Амбарчик.
Со школьных лет дразнило это название, и вот оказался почти что рядом с Амбарчиком.
— Завернем?
Пилот глядит на часы.
— Если ненадолго — завернем.
Снижаемся над Амбарчиком. Среди белых пространств широкого устья реки, тундры и льдов океана — горстка строений. Обитаемый дом, рядом семь или восемь рубленых обветшалых строений…
К вертолету бежит добродушная, счастливая видеть новых людей собака. А минут через 20, после обхода географической знаменитости, мы пьем с пилотом огненный чай и слушаем старожила Амбарчика Игоря Межерецкого.
История у Амбарчика такова. 350 лет назад в этих местах проходили казаки Семена Дежнева. Сто лет спустя в Колыму с моря на боте заходил Дмитрий Лаптев. А семьдесят лет назад в поисках хода к колымским богатствам эти места оглядел Георгий Седов. И заметили люди Седова на суровом безлюдном берегу океана строеньице — одинокую деревянную сараюшку.
Кто поставил ее? Когда? — это неведомо.
Надо знать Север, сараюшка после сотен километров безлюдья, конечно, дразнила глаз, манила к себе. «Ну чем не амбарчик!» — сказал Седов. И, наверное, пометил на карте до этого безымянную точку. С тех пор и пошло — Амбарчик.
В 30-е годы, когда определилась возможность плавать великим путем Ледовитого океана, Сибирь становилась доступной по рекам с севера. Но Колыма в устье мелка для прохода океанских судов. Возникла нужда в перевалочном пункте. И выбор пал с Амбарчик.
Тут много было всего построено: пристань, склады, жилье, мастерские. Отсюда по Колыме вверх баржами, а в мороз на собаках, оленях, автомобилях и тракторах по зимнику шло оборудование, снаряжение, пища. А когда обжили эти места, как следует огляделись, увидели: перевалку удобнее делать выше по Колыме. Так вырос колымский порт с названием Зеленый Мыс.
Амбарчик, утратив значение путевой точки, затих. Осталось тут семь человек работников станции службы погоды. Начальник станции Игорь Межерецкий эту службу тут возглавляет. Он показал нам рабиорубку, энергоблок, комнату, где живет с женой и семилетним сыном, кают-компанию, где собираются все зимовщики вечерами. В этот час в кают-компании царило веселье. Механик (он же синоптик) Ян Тимерманис справлял день рождения. Все были в сборе. И приехали гости. На собаках с соседней Медвежки приехал с денной охотник Стригун Николай, а с Петушков (чем не название для Севера!) на моторном «Буране» проделал путь в 70 километров другой Николай — Писарюк.
Желая в застолье многих лет жизни механику, радист — начальник станции — не забывал и о службе. Каждый час Амбарчик выходит в эфир — сообщает для летчиков в Черском погодную обстановку. Погодой в Амбарчике интересуется также служба морского пути.
Библиотека в кают-компании, три сотни фильмов. (И. Межерецкий: «Крутим только любимые. Самый любимый — видовой «Весна в Киеве». Сами понимаете, почему — глаз просит зелени, теплых красок»)
Не очень уютное место для жизни — Амбарчик. Край света! И все же это жилое место на нашей земле. Семеро людей хранят в этой точке очаг тепла и несут службу, необходимую в нашем большом хозяйстве.
Фото автора. 2 мая 1979 г.
«Охотники… тем и живы»
(Север: встретилось в пути)
«Мы охотники. Тем и живы. Все село — рыбаки и охотники», — сказал отец.
«Селу лет много. О Семене Дежневе, конечно, слыхали? Так вот тогда и основано — триста пятьдесят лет…» — говорит младший Слепцов, Вячеслав.
Названье села — Походск. Стоит на протоке реки Колымы в дневном пробеге на собачьей упряжке от океана. Село самобытное: рубленые из лиственницы дома, амбары с припасами для охоты и с добычей охотников, у каждого дома — лодка, сети, стоит котел для варки еды собакам.
В облике походчан замечаешь примесь якутской крови. И все ж это русские люди, с фамилиями тех казаков, которых мы называем землепроходцами: Ребровы, Березкины, Суздаловы, Череповы, Кузаковы, Слепцовы. Сохранились обычаи, уклад жизни, одежда, песни, язык. В разговоре сверкнет вдруг словцо, нынешней русской речи совсем неизвестное. Юго-западный ветер называют, к примеру, шелонник, сильный ветер без снега — хивус, речную протоку — виска. «Попадете в Архангельск или на озеро Ильмень — услышите эти слова. Оттуда шли наши предки».
Три с лишним века кормилицей человека в здешних местах была Природа. Существует в Походске поныне более тридцати способов приготовления и сохранения рыбы — от строганины до рыбной муки и «рыбной халвы». Рыба шла на стол человеку, рыбой кормили собак, на рыбу и песцовые шкурки меняли крупу, соль, сахар, чай.
Сейчас все быстро меняется. Транспортом стал самолет. Появились в селе телевизоры. Все необходимое покупается в магазине. Но по-прежнему кормят походского жителя охота и рыболовство. По-прежнему походчанин летом — на лодке, а зимой — с собачьей упряжкой в тундре.
Слепцовы — отец и сын — среди охотников первые. У каждого свой участок. И не маленький — тысяча километров квадратных лоскут земли. Четыре сотни капканов на каждом участке и сотня «пастей» — старинных песцовых ловушек. Все надо проверить, настроить, снабдить приманкой, а потом навещать аккуратно, иначе добыча достанется росомахам, волкам и лисам.
Испытанный транспорт у зверолова — собаки.
Неприхотливы, выносливы, стойки к морозам — только корми аккуратно. Собаки знают, где спрятан капкан, и сами делают остановку, заблудился — чутьем находят дорогу, в пургу можно лечь рядом — и не замерзнешь.
Собаки здешней породы считаются лучшими для езды, Амундсен, готовясь к штурму Южного полюса, собак попросил с Колымы. В первую нашу антарктическую экспедицию, когда неясно было, на чем придется там ездить, вместе с техникой взяли собак — и тоже здешних, колымских.
Веками проверенный транспорт! Но транспорт не очень экономичный — пуд рыбы в день на упряжку, за зиму почти что две тонны. Эту рыбу надо поймать, сохранить, переправить к участку песцового промысла. Молодые охотники это не очень любят и потому меняют собак на оранжевый снегоход под названьем «Буран». Этот механический зверь всем хорош: вместо вороха рыбы потребляет бачок бензина, послушен, скорость в два раза выше собачьей. Однако не очень пока надежен. И если откажет вдалеке от жилья — дела охотника незавидны. Осторожные старики не спешат расстаться с упряжкой.
В семье Слепцовых мудро сочетается старое с новым: Савва Алексеевич — на собаках, сын Вячеслав — на «Буране». Кто более промышляет? Пока что верх за отцом. Но, считают, дело не в транспорте, дело в опыте звероловства. А опыт в селе Походск восходит к очень седым временам. Шутка ли, первые избы рубили тут еще при жизни Степана Разина и до рождения царя Петра.
Фото автора. 4 мая 1979 г.
Край леса
(Север: встретилось в пути)
Краем леса в лесных краях называют опушку. В географическом смысле край леса — зона, где лес уступает на юге место степям, а на севере — тундре. Линия эта четко не выражена. Лес островками заходит в степь, а на севере, меж тайгою и понижением к океану, тянется лесотундра — озера, болота и редеющий древостой. В тундру дальше всех проникает береза — самое выносливое из наших деревьев. Но какой ценой достается тут жизнь! «Грибы у нас выше берез», — шутят в тундре. И это верно, заросли карликовых березок легко принять за траву.
Край леса на севере состоит из лиственницы.
И это лес настоящий! Весной он в зеленом дыму молодой хвои, осенью весь в пожарах быстрого увядания, зимой манит обещанием тепла, затишьем, следами жизни.
Тут можно встретить лису, росомаху, волка, ондатру, зайца. Ну, и, конечно, где лес — там и лось! Пролетая над краем леса у Колымы, за час пути я насчитал семь лосей. Одни, притихнув, пережидали рокот мотора в чаще, другие равнодушно паслись в тальниках у реки. Я вспомнил тут лося на берегу Азовского моря: по островным лескам, по лесным полосам лоси в последние годы расселились далеко к югу. И тут, на севере, таежные великаны живут на самой границе возможного.
Зимой — большие морозы. Летом — мошка. Не слишком обильная пища. Но посмотрите, сколько жизненной силы в этом красавце! Он уходил от нас без большого испуга. Просто покинул край озера, где кормился, и пробежал под прикрытие леса.
На Колыме край леса ближе, чем где-нибудь, подступает к берегу океана. Это замечено было давно землепроходцами, звероловами, зимовщиками. Лес вблизи океана — это оазис жизни, источник тепла, это радость для человека. Колымский поселок, приютивший на границы тайги и тундры, называют Край Леса.
Фото автора. 5 мая 1979 г.
Семен-река
(Север: встретилось в пути)
По-якутски — Семен-юряк, по-русски — Семен-река… Где суша, а где вода, зимой сверху определить трудновато. Белым-бело! Ни единого пятнышка. И все ж пастухи по каким-то приметам, а пилоты по картам узнают озера и речки, которых по тундре многие тысячи.
На Семен-реке держит стадо оленей пастух-бригадир Владимир Курилов. Мы присели к нему на час.
И я всегда буду помнить, с каким достоинством, неторопливо шел пастух к вертолету. Мы вылезли в полушубках. Он же был в пиджачке и в рубашке с расстегнутым воротом.
— У вас тут жарко?..
— Сегодня жарко, — ответил пастух без тени шутки или усмешки.
Ветра не было, но мороз держался за двадцать. И можно было лишь догадываться, какими бывают в тундре зимою «нежаркие» дни.
Состоялся обмен новостями. Большие новости пастухи знали — приемник, стоявший возле яранги, доносил сюда вести со всего света.
Пастухов же интересовали новости поселка, расположенного отсюда в ста километрах. А тут у стада новости были такими. Начался отел оленей. (Нам показали стоявшую в стороне в тихой лощине мать-олениху и рожденного утром олешка. Мы глядели на первенца как на чудо: из материнской утробы — прямо на снег, мороз, никакого укрытия, и ничего — лупит глаза на людей, пытается встать). Второе событие — волки. Вчера прикончили пять оленей.
Двух сожрали. Трех оставили на снегу. И сами бродят где-то поблизости. Это беспокоило пастухов. Пока бригадир вел беседу с гостями, его помощник мастерил из жестянок из-под томатов самодельные колокольцы и вешал на шеи оленям. Оленей в стаде почти две тысячи. Всех колокольцами не снабдишь. Все же надеялись: необычные, пусть и редкие звуки остановят волков…
В яранге на металлической печке варилась оленина. И в огромном пузатом чайнике булькал чай. На стенке висели бинокль, календарь, открытки киноактеров. На почетном месте стоял будильник. Малыш лет пяти листал нарядную книжку с картинками пальм и верблюдов, шагавших по желтым пескам.
Мы стали снимать оленей, но нужного снимка не получалось — олени стояли вокруг яранги густой темной массой.
— А вы подымайтесь — и сверху. Я буду бросать аркан, а вы снимайте.
Так и сделали. И вот он, этот момент: олени бегут про кругу возле яранги. Владимир бросает аркан…
Снег в этом месте весь в оспинах — олени его копытили, добираясь до ягеля. Поразительная цепочка жизни: оленей питает подножный, подснежный ягель, а человек в этом месте земли зависит полностью от оленя. Еда, одежда, обувка, транспорт — все дает человеку олень…
Мы подымались выше и выше. Олени и человек рядом с ними превратились в россыпь маковых зерен по белому. Потом все исчезло в пологой долине Семен-реки. И только струйка рыжего дыма подымалась над белизной кверху.
Это в яранге подбросили в печку дров.
Фото автора. 6 мая 1979 г.
Рыбалка, девятый год…
(Север: встретилось в пути)
Измерьте взглядом стену от пола до потолка…
Три метра. Такой толщины бывает лед на озерах.
Озера мелкие промерзают до дна. И, конечно, они пустые. А в глубоких зимуют сиг, пелядь, ряпушка, чир — рыба первостатейной ценности.
Александр Данилович Смирнов — один из тех, кто собирает природой дарованный урожай. В начале каждой зимы вертолет оставляет его возле избушки на озере, И человек остается один на один с тундрой. Керосиновый фонарь освещает его жилище. Непрерывно много недель горит, пожирая солярку, печка «Алма-Ата». Однако не у печки греться поселяется тут рыболов. Каждый день (смешно сказать — день, дня тут зимой не бывает — все время ночь), в урочный час, по будильнику идет человек на работу. Один на озере. А врагов у него двое: мороз и ветер. Мороз бывает — 55.
В союзе с ветром это страшная сила. А безветрия в тундре почти не бывает. «При сорока пяти работать можно спокойно, а выше мороз — становишься к ветру спиною и пятишься к теплой избушке».
Одежда и обувь для этой жизни на озере продуманы и испытаны. Под шапкой — шлем, одни глаза только видно. И к каждой зиме Александр Данилович отпускает еще и бороду — «очень теплая вещь!». Под полушубком — свитер собачьей шерсти. На руках три пары перчаток: шерстяные и еще из резины. Хороши были бы рукавицы, но с сетями работать можно только в перчатках. «Иногда даже их надо скинуть.
Пальцы немедленно леденеют. Лучшее средство в этот момент — окунуть руки в прорубь: в воде как никак плюс четыре».
Техника лова отработана тут давно. По молодому, нетолстому льду делают проруби и тщательно их укрывают. И хитроумным способом ставят подо льдом сети.
Местные люди эту технику, эти морозы и ветры знают с пеленок: Александр Данилович в этих краях — человек пришлый. Родом он из Чувашии. (Земляк космонавта Андрияна Николаева.) Семнадцать лет служил в армии. Ушел в запас капитаном. Четыре года учился в Новосибирском электротехническом институте и работал в Якутске, обслуживал сложную установку измерения радиации Солнца. «Работа в тепле и, как говорится, не пыльная, но, к сожалению, работник — все время на привязи, все время надо быть у приборов. А я бродяга, без природы жить не могу. Подался сюда. И вот рыбачу девятый год».
Каков же успех у недавнего новичка промысловой рыбалки? С удивлением я узнал: Александр Данилович «обловил» не только старожилов низовья реки Колымы, но числится в первом ряду рыбаков всего Якутского края, дающих две нормы вылова в год. А в 1977 году он был даже самым первым из них — наловил двадцать шесть тонн рыбы. Один! И притом что даже двенадцать плановых тонн выловить очень непросто.
В поселковом жилье Александра Даниловича на стенке рядом с портретами двух дочерей висят награды — значки победителя трудового соперничества и орден, полученный тут за работу на севере Якутии.
Мы говорили с Данилычем, когда зима была уже позади, — вертолеты вывезли с дальнего озеру рыбу, рыбак вернулся в поселок и сбрил сезонную бороду-телогрейку. Теперь он готовился к летней страде, ремонтировал снасти, прикидывал, где и когда придется рыбачить.
— Жизнь такая — по мне. Вот только бы лето чуть подлиннее, да комаров бы поменьше.
Фото автора. Поселок Черский, Якутская АССР.
13 мая 1979 г.
Житье на айсберге
(Север: встретилось в пути)
Самолет коснулся колесами хорошо накатанной полосы. И вот мы на льдине. Раннее утро. Не уходившее за горизонт солнце висит дразнящим глаз апельсином. Мороз за тридцать. Снег звонок, как прокаленные обжигом изделия гончара. Летчики спешно укрывают моторы.
На волокуши кладут доставленный груз. Чуть в стороне — россыпь желтых приземистых домиков, палатки, антенны, бочки с горючим. Мы на станции «Северный полюс-24».
Ошибка думать, что станции в точке полюса пребывают все время. Папанинская «СП-1» создавалась прямо на полюсе. Однако сейчас же медленно, но неумолимо ее потянуло к Гренландии. Теперь поступают иначе. Сажают зимовщиков где-нибудь к северу от острова Врангеля, и лагерь медленно, вычерчивая замысловатую линию, движется к полюсу. Иногда станция на него попадает. Чаще проходит мимо, устремляясь либо в ворота между Шпицбергеном и Гренландией, либо, склоняясь вправо, делает круг и приходит в исходный район к северу от Чукотки. Движение медленное, примерно три километра в сутки. (Лед гонит ветром.)
На станцию летают самолеты, меняется смена зимовщиков. Станцию закрывают, если льдину потянуло на запад и она становится труднодоступной для самолетов, либо льдина ломается, и тогда людей снимают с нее, как с давшего течь корабля.
Чтобы ледовый корабль был надежным, стали искать для станций не просто большие крепкие льдины, рожденные морозом на поверхности океана, стали искать ледяные плавучие острова, попавшие в воду с окраины суши.
Таких подарков в океане немного, да и разыскивать лед среди льдов очень непросто.
Этот плавучий остров обнаружен осенью 1977 года к северу от Чукотки. А в декабре его снова пришлось искать — за четыре месяца остров проплыл в океане 400 километров.
В марте 1978 года на айсберге высадились люди. Стали создавать станцию. 31 мая в эфир ушла первая сводка погоды — «СП-24» начала работу.
Встречавший наш самолет начальник станции Игорь Константинович Попов изучает физику льда. Рассказ о станции со льда он и начал.
На снимке, сделанном с высоты десяти километров, плавучий остров напоминает утюг. Размеры его — шестнадцать километров на шесть. Толщина — тридцать метров. «На этой глыбе мы спим, конечно, спокойно, чего никогда не бывает на льдине обыкновенной. Там жизнь, как на фронте».
Для океана лед — все равно что яичная скорлупа: трещины то и дело. И хотя за многие годы зимовок ни один человек не погиб при разломах, опасность эта всегда существует.
Все время надо быть начеку — иметь в разных местах льдины аварийный запас еды, топлива и одежды, иметь под рукою плавучие средства.
Льдину «СП-14» океан обкорнал почти до размеров футбольного поля. С большим трудом снимали с нее людей.
Немаловажно и то, что жизнь на обычной льдине, как в пустыне, заставляет людей беспокоиться о воде. Льдина соленая. Водой с нее не напьешься. Воду натаивают из снега, из опресненных торосов. Тут же, на айсберге, опускают в колодец электрический нагреватель, и пресной воды хоть залейся — для камбуза, бани, для стирки и умывальников.
Таков ледяной транспортер, несущий в арктическом океане двадцать четвертую по счету полярную станцию.
Через десять минуть улетаем. Проводить нас пришел «директор айсберга» Игорь Попов.
* * *
Весна — время, когда на станции людям тесно. Десяток приземистых домиков и палатки едва вмещают всех квартирантов. Неутомимый, высокого класса повар Павел Петрович Волков работает на пределе возможностей. Шестьдесят не страдающих отсутствием аппетита мужчин три раза в день приходят в кают-компанию: «Павлик, корми!»
— Гидрологи, биологи, геологи… Всех не выговоришь. И все без Павлика двигать науку не могут, — ворчит дружелюбно-веселый повар.
У науки много интересов в арктическом океане. И весной, когда день велик, работа идет напряженно. Ученая молодежь живет тут на маленьком «хуторе», в горстке отдельно стоящих домов. Заглянули в один — весь тамбур завален похожими на пиленый сахар кубиками льда, в другом доме полно каких-то склянок, пробирок, в третьем нам показали чудо, только что извлеченное с самого дна океана: не то животное, не то растение? Находка тщательно упакована. В Ленинграде ее изучат. «Возможно, что живность эта науке пока неизвестна», — с осторожностью и надеждой говорит совсем еще юный гидролог.
Среди «квартирантов» «СП-24» — трое радистов экспедиции «Комсомольской правды» на полюс — Федор Склокин, Георгий Иванов и Саша Шатохин. У ребят хронический недосып — постоянно на связи с идущей группой и на связи с Большой землей.
Коренной состав станции — девятнадцать человек. Из них половина — люди науки.
Круглый год занимаются изучением дрейфа льдов, строения дна океана, солнечной радиации и погоды в этих широтах. Другая половина зимовщиков — механики, повар, радисты — служба жизненного обеспечения станции. Тут ни одной пары рук лишней. И каждый выкладывается «на полную железку».
Лежебоке и неумехе тут делать нечего. Людей на станции поселяют бывалых, испытанных.
Большинство по нескольку раз зимовало в Арктике и в Антарктиде.
Фигура особая на зимовке — главный механик. От умения и находчивости этого человека зависит тут почти все: работа приборов и механизмов, тепло, свет, баня и кухня, состояние взлетно-посадочной полосы. Этой станции повезло: у механика Быкова Александра Федоровича «золотые руки, золотая голова и золотое сердце», как сказал о нем начальник станции.
Когда мы достали блокноты, механик взмолился: — Ребята, я, правда, неплохой мастер, но, пожалуйста, не пишите, что из лома я сделал распределительный вал.
— Но вы и правда ведь сделали.
— Сделал. Но работа была несложной. И об этом милостью вашего брата весь свет уже знает…
Зимовка у девятнадцати полярников прошла хорошо. Девятнадцать раз отметили дни рождения. У елки, привезенной на самолете, встретили Новый год. Главным событием был приход к айсбергу ледокола «Сибирь». Выгружали продукты, машины, лес. «Что больше всего запомнилось? Сам огромный корабль, пришвартованный к льдине. Смолистые запахи досок и бревен. Ну и, конечно, женские лица».
Ледокол приходил в середине лета. А жили воспоминанием о нем всю зимовку.
Событием этого года будет встреча с семеркой, идущей к полюсу. Тут на обратной дороге они сделают первую остановку, увидятся с журналистами и полярниками. Но в это время на станции будет уже новая смена зимовщиков.
Старожилов мы застали в момент, когда с «насиженной льдины» они собирались сниматься в родной Ленинград.
Судьба ледового острова тоже определилась. Его тянет в ворота между Шпицбергеном и Гренландией, и, стало быть, житье на нем временем ограничено. Свои скитания рожденный в Канаде айсберг закончит в Атлантике. Сверху солнце, а снизу теплый Гольфстрим довольно скоро превратят огромную глыбу льда в океанскую воду.
Фото автора. 17 мая 1979 г.
28 близнецов
(Окно в природу)
Случай редчайший. У трехлетней свиноматки родовой линии Тура породы ландрас родилось 28 поросят-близнецов. Сначала одиннадцать, через неделю — еще семнадцать. Многодетная мамаша немедленно стала знаменитостью племенного совхоза «Рышканский». На семейство приходят взглянуть любопытные, о нем пишут газеты, толкуют животноводы.
28! А сколько норма? Норма — шесть, восемь, десять, двенадцать. Шестнадцать — уже перебор. (У свиньи четырнадцать сосков). Бывало, рождалось и восемнадцать. Но двадцать восемь — такого никто не помнит! И ведь все появились на свет жизнеспособными, весом по килограмму и больше.
Понятное дело, роженицу и потомство окружили особой заботой: для малышей группы новорожденных подыскали приемную мать-кормилицу. Рекордный приплод удалось сохранить почти полностью. (Отход был ниже обычной нормы — два поросенка).
Двадцать шесть поросяток-подростков с молочным питанием уже покончили и живут в стандартной для всех загородке — отдельно кабанчики (10), отдельно свинки (16). По моей просьбе визжащих чистеньких близнецов пустили на травяную поляну и привели к ним мамашу. Особых родственных чувств на виду у людей проявлено не было. Малыши пытались, правда, чесаться о материнский бок, но мамаша посчитала эти телячьи нежности запоздалыми. Она энергично принялась рыть пахучий зеленый лужок. И все потомство тоже пустило в ход уже окрепший, унаследованный от диких предков инструмент для рытья. За этим занятием я и снимал знаменитостей. (Для любителей точности: из двадцати шести поросяток два особенно непоседливых оказались за кадром.)
На этом снимке их можно как следует разглядеть. Недельная разница в возрасте еще заметна: одни покрупнее, другие помельче. Вес — от двадцати килограммов до тридцати. Сильно похудевшая мать здоровья, однако, не потеряла.
Аппетит у нее отменный, вес набирает быстро. И все это, конечно, радует животноводов племенного хозяйства.
— Подобная плодовитость — случай или закономерность?
— Случай, — сказал зоотехник Александр Захаров. — Случай. Он объясняется особенностями физиологии свиньи. Но дело селекции, используя случай, добиваться закономерности.
И, конечно, мы возьмем под особый контроль быстро растущих свинок. Вдруг какая-нибудь из шестнадцати выйдет в мамашу…
В природе процветающие ныне дикие предки свиньи, кабаны, тоже достаточно плодовиты: шесть — восемь полосатеньких поросят — норма. А бывает и до двенадцати. Колебания эти прямо зависят от корма и условий существования.
Замечено, например: после урожайного года на желуди (полноценный и лакомый корм кабанов) приплод обязательно будет высоким.
Та же закономерность, несомненно, действует и на ферме: добротный разнообразный корм и хороший уход — потомство будет здоровое и большое.
Так что случай случаем, но место его не случайно: совхоз «Рышканский» является образцовым хозяйством в нашей стране. А хорошему хозяину сама природа идет навстречу.
Фото автора. Молдавская ССР. 27 мая 1979 г.
Кошка без мышки
(Север: встретилось в пути)
На льдине мыши не водятся. И потому охотник в Кузе умер уже давно. Иным котам вороватость заменяет охоту. У Кузи и этого нет. Всеобщий баловень! Лучший кусок со стола — Кузе. А зимовщиков два десятка. Вот и катается Кузя, как сыр в масле. Живет постоянно в кают-компании, но часто зимовщики, спрятав кота от мороза за пазухой, уносят его в свои домишки. На льдине мяуканье сугубо домашнего зверя для человека — как эхо далекой теплой земли.
Иногда сытно поевший Кузя видит какие-то сны — мурлычет, шевелит лапами. Что может сниться коту-полярнику, не знающему, что лучшая на свете музыка для кота — это шуршание мыши в подполье и весенние вопли соперника!
Есть у Кузи соседи на льдине — восемь резвых веселых псов. Но каково кошке дружить с собакой! И Кузя блюдет себя. Наружу выходит с оглядкой, а чуть что, прибегает к известной всем кошкам на свете уловке — мгновенно куда-нибудь наверх! Но куда? — ни дерева, ни забора на льдине. Взлетает на бочку, прыжком с сугроба — на крышу дома, по стоящей наклонно доске — на крыло самолета. Наверху Кузя выгибает для устрашения спину, но знает: собакам высота недоступна, и не любят они высоты.
При широте своих взглядов на жизнь Кузя мог бы понять: скучно собакам на льдине, хочется им поиграть. Но существует кодекс кошачьей чести, и Кузя даже в этих холодных широтах его блюдет. Се-ля-ви.
От собак Кузя спасается на крыле самолета, деревьев-то нет.
Фото автора. 27 мая 1979 г.
«Ребята, полюс!..»
Сегодня впечатлениями от полюса делится наш специальный корреспондент В. ПЕСКОВ
Ребят, полюс!.. Именно эти слова сказал Шпаро, когда в белесой мгле ненадолго сверкнуло солнце и Юрий Хмелевский определил: цель достигнута.
Северный полюс столбиком не отмечен, и никакой «ледяной шишки» тут нет. Полюс — всего лишь символ, математическая точка, где сходятся меридианы и сходят на нет параллели.
На Южном полюсе, единожды вычислив точку, отметили ее флагом и кругом из бочек. На Севере из-за подвижки льда полюс всякий раз надо вычислять заново. И без солнца сделать это нельзя.
Именно поэтому наша семерка «рванула» было на юг, мимо полюса в Западное полушарие, но сверкнувшее вовремя солнце внесло поправку.
Что чувствует человек, попавший на полюс?
Смотря, как попавший. На большом самолете (пассажирские лайнеры тут летают) это минутное любопытство: что там, внизу? Совсем иное дело — добираться на полюс на маленьких самолетах, на тех самых «Антонах», что удобряют поля и летают в райцентры. На этом самолете с посадками на льдинах, куда загодя подбросили горючее, до полюса «пилили» мы очень долго. Семнадцать часов мы видели только лед.
Лед целый и битый, с черными трещинами, с горами торосов, с разводьями темной воды шириной в полноводную реку. Чудовищно далеким показалось тут все, что лежало где-то на теплых боках шара Земли. И это, сойдя с самолета! Каково же было услышать слова — «Ребята, полюс!» — тем, кто впервые в истории дошел сюда обычным человеческим шагом!
Я наблюдал за ребятами. Беседовал с ними в палатке, долго бывшей им домом. Мне показалось: в этот момент они еще жили дорогой и чувствам их еще предстояло прорваться наружу.
Они готовились к торжественному ритуалу, ставили мачту для флага, прикидывали, что надо взять, а что оставить на полюсе, фотографировали, делали пометки в дневниках, вели перекличку с радиолюбителями всего мира. Они еще жили походом, хотя великолепно отлаженный походный механизм их группы уже прокручивался на месте.
Как они выглядели? Я не один раз видел людей, одолевших большие пространства, — геологов, геодезистов. Печать большой и необычной дороги лежала и на этой семерке. Палатка выцвела — из оранжевой стала прозрачно желтой, до дыр износились бахилы, лыжи источены до предела. Ну и, конечно, на лицах запечатлелось все, что пришлось испытать. Выросшие бороды на обожженных морозом местах порыжели. Носы и щеки облуплены. Дмитрий Шпаро прямо черный. Но это не были люди, до предела растратившие силы. Мы, журналисты, от двух бессонных ночей, нервного ожидания и путешествия на «Антонах» выглядели куда более утомленными. Они же, не забывая о делах, шутили, подтрунивали друг над другом, в своей палатке за утренним чаем ответили на четыре десятка моих вопросов.
Изложить сейчас в полном объеме все, что было на этой полюсной пресс-конференции, нет возможности. Но вот несколько относящихся к этим заметкам деталей. В один голос ребята сказали, что могли бы пройти еще столько же.
Допускаю, что сказано в возбуждении. Но, несомненно, они могли бы еще идти. Пройдено не 1500 километров, отделяющих остров Генриетты от полюса. Их путь прямым не был. Все время надо было обходить торосы и трещины, искать переправы в разводьях. Таким образом, пройдено близко к двум тысячам километров.
В. Леденев, В. Шишкарев, В. Рахманов, Д. Шпаро, Ю. Хмелевский, В. Давыдов, А. Мельников.
Верные Ан-2.
Болели? Нет. Видели на пути что-либо живое? Очень немного, главным образом следы песцов и медведей. У самого полюса видели пуночку. И это было, конечно, чудом. Как попала сюда эта птица, как живет, чем питается?
Что более всего угрожало в походе? Все единодушны: мороз и разводья во льдах. «Мороз изнурял. В палатке ночью слышишь, как у соседа зуб на зуб не попадает». «Трещины были очень опасны. Не один раз поочередно мы попадали в ледяную купель, а с лыжами и тяжелыми рюкзаками до беды в этом случае — лишь мгновение.
Выручали опыт, находчивость, слаженность группы».
Я спросил, не возникала ли мысль: ну зачем я пошел, зачем эти муки? Почти все сказали: такая мысль иногда посещала, но ни разу никем не была высказана вслух.
Никого не подвело здоровье, никто не был тормозом в группе, все заботы, невзгоды и радости делились поровну. Не было и проблемы так называемой психологической совместимости. «Случалось, мы спорили и даже крепко, но всегда оставались друзьями, идущими к одной цели».
…День 1 июня на полюсе был похожим на февральский день в Подмосковье. Небольшой морозец, редкий снежок. Тихо. Очень тихо. Тарахтение движка радиостанции — это все, что слышишь, уйдя за торосы. И странный свет! Обильный свет без солнца и теней. При фотосъемке теряешь уверенность. Опытные фотографы спрашивают друг у друга об экспозиции. Адресуются в конце концов к семерке. Но и сами путешественники тоже не знают. Много снимали, донесли сюда в рюкзаках километры фото- и кинопленки. Но что там вышло? — покажет проявка.
Час ритуала с речами, с подъемом флага, с пальбой из ракетниц и карабина (его несли, опасаясь медведя) как бы поставил точку в большом путешествии. Прилетавшие журналисты сразу пошли к самолетам. А семерка и пятеро их товарищей-радистов с базовой группы остались на полюсе — неторопливо снять лагерь. Я попросился остаться и наблюдал их в минуты поразительного раскрепощения чувств. Признаюсь: никогда не видел более яркого проявления человеческой радости. Бородатые, с облезлыми носами люди в здоровенных бахилах прыгали, как мальчишки, орали, бегали кругом у символического ледяного колышка-полюса, пели, обнимались, валялись кучей в снегу, палили вверх из ракетниц, швыряли кверху куртки и шапки, качали Диму Шпаро.
Потом сварили обед. Дима со словами — «Ребята, без ограничений!» — вытряхнул из мешка конфеты «Мишка на Севере»…
И наступили минуты, когда молча присели на рюкзаки. Никогда не забуду этой удивительной тишины. Ни единого звука! Величественный белый мир. Это были минуты и очень большой радости, и, пожалуй, некоторой грусти. Вот он под ногами — полюс.
Сейчас мы покинем его. Чуть шевелится красный флаг на мачте. Под ним на льду шар-контейнер с дорогими для нас символами родной земли и жизни на ней. Это остается на полюсе. Остаются у флага портреты легендарных полярников Седова, Русанова, Толля.
Лежит на льду букетик подснежников, привезенных пилотом из Черского, и тюльпаны, привезенные из Москвы. Россыпью лежат вокруг гильзы из улетевших в небо ракет. Володя Леденев снимает на пленку эти следы посещения полюса. Снимает он и ледяной столбик, вокруг которого сегодня начерчены сажей параллели и меридианы.
— Ну вот все и окончилось. А Земля продолжает вертеться, — говорит Володя. И мы идем к самолетам.
Прощай, полюс!
Меридианы на полюсе нарисовали сами.
Этот шар-контейнер оставили на макушке земли.
Фото автора. Северный полюс — Москва.
5 июня 1979 г.
Июньский вечер
(Окно в природу)
Преддверие ночи. Солнце зашло. Но светит заря. Теплый сумрак, густеющий в лопухах, в кронах деревьев и под крышами старых сараев, начинает обволакивать землю. Все белое становится вдруг особо заметным. В белой рубахе прошел с луга малый с косой, аисты, прилетевшие на ночлег, маячат возле постройки, белая бабочка прикорнула на ночь в теплой крапиве, и светится у воды таволга.
Тихо. Слышно, как хлещет себя хвостом, отбиваясь от комаров, задремавшая белая лошадь.
Из-за речки, где светятся окна маленькой деревеньки, слышно мелодию песни: «Темная ночь.
Только пули свистят по степи…» Кричит коростель на лугу. Поют последние соловьи. И уже слышно вестника зрелого лета — погремушку кузнечика в травах.
Нагретая за день земля ласкает босые ноги.
Пахнет дикими травами, медом отцветающей липы и сыростью речки. У воды, не спуская глаз с едва заметного поплавка, сидит рыболов лет пятнадцати.
— На что ловишь?
— На бульбу…
Этим словом в здешних местах называют еду-царицу — картошку. И даже рыба приучена к этой наживке…
— Сушь-то стоит…
— Да, хорошего мало, — по-взрослому соглашается рыболов и вынимает из воды леску.
Минут через десять я вижу белую майку и белое удилище на взгорке, где у сарая стоя спят аисты и борется с комарьем лошадь.
Громко и незлобиво рядится с кем-то в крайнем дворе пастух, выпивший после трудов.
Женский голос укоризненно говорит: «Да что же тебе, как космонавту, надо платить?»
— «А что, моя профессия теперь — на вес золота…»
Кричат перепелка и коростель, сверчком трещит у воды камышовка. Темнеют в пойме стожки погожего сена, и ненадолго на небе обозначились звезды.
Фото автора. Верховье Березины.
28 июня 1979 г.
Черный лист
(Окно в природу)
Первым по березе в скрадок лезет Володя.
Минута — и на мшистую мягкую землю, звякнув, сверху падают «кошки». Ремнями привязываю их к сапогам и тоже лезу. Нехитрая техника: ударом ноги вгоняешь стальную шпору в березовый ствол и, опираясь на этот не очень надежный зацеп, то же самое делаешь правой ногой. В конце пути обливаюсь потом от напряжения и от страха полететь вниз. Кажется, влез на башню в Останкине, а всего-то до лежащего на траве рюкзака метров пятнадцать. На веревке тянем и рюкзак кверху. Теперь все с нами — еда, объективы и фотопленка. Часа четыре будем сидеть в камышовом «скворечнике», сооруженном Володей (с восхищением думаю о его верхолазной работе), в двадцати метрах от гнезда черного аиста.
Редкий случай понаблюдать редкую боязливую птицу. Черный аист в отличие от близкого родича — белого аиста — покровительства человека не ищет. Наоборот, гнезда его всегда за семью печатями непролазного леса, болотистых топей и ненарушенной тишины.
У птицы скрытая, молчаливая жизнь. Увидеть снизу гнездо — уже большая удача. Тут же семейная тайна птицы как на ладони. Пять возмужавших птенцов разминаются после ночи. Им уже тесновато в гнезде: один поднялся на ноги, расправил крылья — другому надо присесть.
Володя точно знает день их рождения. Он снимал вылупление аистят из яиц. Видел, как мать заботливо укрывала их крыльями от дождя и от солнца, а родитель носил еду. Сначала это был мягкий лакомый корм: пиявки, черви, мелкая рыба. Один из птенцов как будто не понимал, что надо делать с этой отрыгнутой из отцовского зоба добычей. Мать научила: раздругой клювом пригнула головку к еде, и дело пошло на лад. Сейчас все пятеро жадно поглощают ужей, лягушек, довольно крупную рыбу и все живое, что можно добыть в окрестных болотах и в пойме Березины. Отец в одиночку уже не в силах кормить семейство. Родители улетают охотиться вместе.
А дети взрослеют. Мы видим их на сорок втором дне жизни. Грязновато-белый пух на теле уступает место быстро растущим перьям. Неделя-другая — пять птенцов превратятся в черных таинственных птиц и в первых числах июля рискнут попробовать крылья.
Черный аист — птица, живущая на обширных пространствах земли. (У нас — в южной зоне страны от Балтики до Сахалина). Но всюду аист до крайности редок. Число его гнезд год от года сокращается по причине осушения болот и всякой другой хозяйственной деятельности, даже человеческий голос в привычной для птицы глуши может заставить ее покинуть гнездо.
Брэм полагал, что в жизни черного аиста все понятно и ясно. Считалось: от белого аиста черного отличает лишь нелюдимость. Однако теперь, когда аист «залетел» в знаменитую Красную книгу исчезающих птиц, мы узнаем, что многое в жизни его неясно и неизвестно.
Предписано изучать птицу, брать под охрану каждое ее гнездо. В Березинском заповеднике учтено девять гнезд. Одно из них взято под особый надзор. Через три-четыре дня возле этих берез появляется фотограф-кинооператор Владимир Безруков. Выбрав момент, когда родители-аисты улетели, он быстро поднимается в свой «скворечник» и часами наблюдает подробности жизни в гнезде.
…Чтобы спуститься вниз, мы опять выбираем момент, когда старики улетают за кормом, и по болотным кочкам, по зарослям папоротника и рогоза удаляемся от гнезда. Над озером в пойме Березины видим большую, спокойно парящую птицу. Это один из наших знакомых.
Осторожность ли наблюдателя тому причина или редкая для черных аистов терпимость, но близкое и частое присутствие у гнезда человека этим летом не помешало птицам продлить свой род. А человек узнал, возможно, кое-что новое из жизни таинственной, всегда сторонящейся его птицы.
Первым в скрад на березе лезет Володя.
Аистята.
Фото автора. Березинский заповедник.
8 июля 1979 г.
Птицы и радио
Трое этих людей следят за полетом черного коршуна. Четыре часа назад пойманной птице на крайнее хвостовое перо нейлоновой ниткой и эпоксидной смолой укрепили крошечный передатчик. И теперь коршун, куда бы ни полетел, дает о себе знать. Если за птицей следить с двух точек, можно ее пеленговать. А нанося на лесную карту передвижение птицы, многое можно узнать: как рано улетает с гнезда на охоту, какие места угодий предпочитает, как часто бросается на добычу и носит пищу к гнезду, где отдыхает, как велика охотничья территория птицы, где находит убежище, если ее потревожат, и так далее.
Нетрудно представить, что меченой может быть любая другая птица, жизнь которой интересует биологов, а также, например, волк, олень, соболь, лось, медведь, кит, черепаха. Все, что ранее, ускользая из поля зрения наблюдателя, растворялось в пространстве, теперь становится видимым.
Впервые радиослежение за животными было использовано в 60-х годах. Отцом его является американец Уильям Кокран. Им разработана методика наблюдений, а также портативные переносные радиостанции и передатчики, надеваемые на животных с ошейником или совсем небольшие (весом в четыре-пять граммов) для оснащения птиц.
Таким способом в первую очередь изучают скрытую жизнь исчезающих редких животных.
Изучают, чтобы знать, как лучше помочь им выжить под натиском перемен, происходящих в природе. Важно знать, например, точно пути сезонных миграций животных, чтобы ясно представить, в каких точках им угрожает опасность и от чего, какие территории следует заповедать или хотя бы временно охранять.
Слежение ведут также и в заповедниках, чтобы лучше знать законы природного общежития — знать, где и как перекрещиваются пути и интересы разных животных. Тут стационарная аппаратура пеленгации позволяет одновременно следить за сотней живых объектов, несущих на ошейниках или на перьях излучатели радиоволн заданной частоты. Диалектика!
Электронный, машинный век, повсеместно утесняющий живую природу, в это же время дает новейшие средства для ее изучения и оказания помощи.
«Радиостанция» весит 4–5 граммов.
На этом снимке, недавно сделанном в заповеднике на Оке, мы видим американцев Прескота Ворда, Марка Фуллера и советского орнитолога Владимира Галушина. Все трое уже многие годы изучают хищных птиц, повсюду оказавшихся в особо бедственном положении.
Это уже не первая встреча ученых, обоюдно заинтересованных в обмене опытом и сотрудничестве. Советские орнитологи работали в Соединенных Штатах. В нашей стране не один раз побывали биологи, изучающие журавлей и белых гусей. Марк Фуллер и Прескот Ворд второй раз приезжают в заповедник, расположенный у мещерских болот. На этот раз встреча была посвящена применению технических средств в изучении диких животных. Американцы, накопившие в этом хороший опыт, рассказали о методиках проведенных ими работ и оставили советским коллегам образцы применяемой ими техники. Были намечены планы дальнейшей совместной работы.
С таким пеленгатором следят за пернатыми.
Птица с передатчиком взмыла в небо.
Сотрудничество людей по охране живой природы Земли — чистый и, к счастью, незамерзающий родничок. Незамерзающий, несмотря на перепады температур в политической атмосфере. Многие другие каналы сотрудничества в годы нелегкой борьбы за разрядку покрывались ледком или даже промерзали до дна. Совместная же работа американских и советских биологов и защитников окружающей среды не иссякала. И это важно отметить во имя дальнейшего расширения этой благородной работы. Совместные усилия по оздоровлению природы Земли — это усилия и по оздоровлению отношений между людьми на Земле.
Фото автора. 17 июля 1979 г.
Непостаревший «Антон»
К 30-летию серийного выпуска самолета АН-2
Его называют где «Аннушкой», где «Антоном».
Это всем знакомый маленький самолет местных линий. Большой самолет на большой высоте проплывает, как «Жигули» по асфальту, а этот подобен знаменитому «козлику»-вездеходу — его трясет, его кидает в воздушные ямы. Ничего не поделаешь, малая высота — это воздушное бездорожье. И, как на земле, лишь «козлик» проходит там, где асфальт не положен, так и по небу лишь этому самолету доступны места без бетонных и асфальтовых аэродромов. Уберите ворота, и «Антон» приземлится на футбольное поле в забытом всеми лесном поселке, он сядет за околицей степного села, у поселка оленеводов, на льдине, на речном галечном берегу, на пыльном районном «аэродроме», где все оборудование-полосатый, надутый ветром «чулок» на палке. Одним словом, это вездеход — выносливый, вездесущий, надежный.
В него садятся с таким же доверием, как садились ранее на повозку с тягой в одну лошадиную силу. Садятся с узлами и чемоданами, с корзинами, из которых торчат гусиные головы и в которых визжат поросята, садятся с лыжами, теодолитами, запчастями для тракторов, садовыми саженцами, свежепойманной рыбой, с мешками картошки и яблок, с оравой детишек. Во многих местах эта четырехкрылая птица — единственный транспорт. Вырастая, человек может не видеть автомобиля, паровоза и парохода, но уже в колыбели он слышал, как прилетает и улетает «Антон».
Я на этом самолете летаю столько же, сколько служу в газете, и многое повидал благодаря «Антону». Летал на нем в Антарктиде. Из дверцы этого самолета снимал дымящийся кратер вулкана и старину Самарканда. Перелетал в Азии высокий перевал гор и садился в травянистой долине возле овечьих отар. Восемь часов подряд я летал на «Антоне» над океаном на рыборазведке и столько же на разведке ледовой.
В другой раз садился на озерную воду в бассейне Оби — забирали улов карасей. Я видел в Сибири, как геологи заводили в этот маленький самолет лошадь, а киргизские пастухи загоняли в него баранов, чтобы быстро доставить на пастбище.
Нельзя перечислить всего, что делает самолет-работяга. Он грузовой и пассажирский извозчик, он почтальон, санитар и пожарник, он борец с саранчой и вредителями лесов, надежный помощник хлебороба и хлопковода, оленевода и рыбака.
Растущее вширь и вглубь хозяйство страны добавляет «Антону» множество новых дел. Ранее, например, он только возил геологов к месту их поиска, теперь прямо с самолета ищут рудные залежи, с помощью фотосъемки составляют и уточняют подробные карты. Быстрота спутников хороша, но нужна и малая скорость, нужна способность «Антона» «обтекать» сложный рельеф Земли.
1 июня 1979 года. Самолеты Ан-2 на Северном полюсе.
В бассейне Оби воды больше, чем суши. И самолеты садятся тут на воду. Этот снимок сделан в Ханты-Мансийске.
Я видел, как снаряжается самолет для подобного года «землепроходных» работ. В него, помимо сложных приборов и дополнительных баков с горючим, несут пилу, топор, ружье, надувную лодку, сети и удочки, палатку, теплую одежду, запасы еды, сигнальные средства. Он улетает. И, случается, несколько дней «стирает белые пятна» в еще не обшаренных глазом просторах. Это романтика, хотя и нелегкая для «Антона» и для тех, кто его пилотирует. И есть дела прозаические, но очень важные, например, опрыснуть химикатами хлопчатник и виноградник, удобрить пшеничное поле, посеять рис в стоячую мелкую воду. Целый день пашет «Антон» на малых высотах воздух — взад-вперед, взад-вперед. И стало это в последние годы делом таким привычным, что председатель колхоза, готовясь к страде, считает не только комбайны и тракторы, но также и то, когда и насколько занаряжен для него самолет.
Большая подвижность этого земледельца позволяет приноровиться к погоде, появляться там, где сегодня его работа нужнее всего. Бывает, что армада «Антонов» летит в район особо горячих работ. Так было этой весной — две тысячи самолетов улетели в азиатские степи для обработки целинных посевов.
Таков самолет с официальной маркой Ан-2 и прозвищем ласково-фамильярным — «Антон».
«Антон» не молод. Серийное производство его началось тридцать лет назад, в 1949 году. Однако в авиации свои понятия о возрасте.
Можно назвать самолеты, устаревшие в колыбели. «Антон» же летает, и выпуск его продолжается. Стало быть, молодость этой конструкции сохранилась. Творцы самолетов сдержанны в похвале всего, что рождается «у соседей», но вот что сказал знаменитый конструктор Яковлев о детище своего коллеги конструктора Антонова: «Ан-2… один из самых долговечных самолетов нашей Родины.
Такие самолеты не имеют возраста». Репутацию машины, не имеющей возраста, имел американский транспортный самолет ДС-3 («Дуглас») — долгое серийное производство, долгая эксплуатация. Рекорды «Дугласа» побивает сейчас «Антон».
Идея создать надежную и простую машину для малодоступных районов нашей страны родилась у молодого тогда конструктора Олега Антонова еще до войны. Война задержала рождение самолета — «Антонов только по вечерам просиживал над набросками воздушного вездехода». После войны хозяйство страны потребовало быстрого выпуска самолета, и коллектив Антонова выполнил срочный заказ в предельно короткое время. И уже первые годы эксплуатации самолета показали: одномоторный крепыш удался на славу. В 1952 году Антонову с шестью ведущими специалистами конструкторского бюро за создание самолета присуждается Государственная премия СССР.
Но, возможно, и сам Антонов не ожидал такой долговечности самолета. Жизнь предложила этой машине множество назначений.
И низколетающий маленький самолет всюду оказался на высоте. (Вслед за игрою слов скажем: мировой рекорд высоты в этом классе машин принадлежит тоже «Антону» — 11 248 метров, зарегистрирован в 1954 году и пока еще никем не побит.)
Главные достоинства самолета — короткий разбег при взлете, короткий пробег для посадки, способность садиться на грунт и взлетать прямо «с грязи». Один мотор… Да. Но очень надежный. И если мотор отказывал (такое редко случалось), самолет, легко планируя, всегда находил пятачок земли для посадки.
Есть конструкции, ставшие легендарными, потому что идеально соответствовали своему назначению, были просты и надежны. Примеры: швейная машина «Зингер», винтовка русского капитана Мосина, все тот же «Дуглас», наш «летающий танк» — самолет-штурмовик Ил-2 и подлинный танк, признанный лучшим в минувшей войне, — «тридцатьчетверка». Самолет Ан-2 принадлежит к этому ряду больших удач.
Моя последняя встреча с «Антоном» состоялась на Крайнем Севере, где особым почтением проникаешься к этой машине. В этих широтах долгое время царствовал двухмоторный с прекрасными летными качествами Ли-2. Но самолет давно уже не выпускается (о чем можно только сожалеть), алюминиевые мощи отлетавших свое стариков приспособлены в северных «авиационных столицах» под сараи и склады. В поселке Черском Ли-2 в знак признания заслуг поставлен на постамент. Но летать-то в Арктике надо. И вот уже несколько лет ледовую службу приспособлен нести «Антон». Один мотор и небольшая дальность полета, конечно, служат помехой, но, покрывая все неприхотливостью и надежностью, «Антон» летает над Арктикой.
На льдинах создаются для самолета запасы горючего. И «Антоны» в паре (один самолет страхует другой) выполняют тут все работы — летают на островные и дрейфующие полярные станции, ведут разведку льда на Северной морской трассе, помогают ученым исследовать арктический океан.
В Черском руководитель экспедиции «Север» Михаил Николаевич Красноперов показал мне карту ледового океана, сплошь, до самого полюса, покрытую дробью равномерно расположенных точек. Это места посадки «Антонов».
Работа повторяется ежегодно. Самолеты выходят в нужный район, сверху определяют: годен ли лед для посадки? И иногда, не без риска, садятся. Самолет только коснулся лыжами льда, а механик уже высунул голову из дверей, смотрит: не мокрый ли след? Если мокрый — самолет взлетает немедленно, если след от пробега сухой, «Антон» продолжает круговое движение по льдине, а гидрологи в две минуты просверлят лед и сразу же либо бегут к самолету, либо машут пилоту: «Все в норме!» Мотор стихает.
И «Антон», затерянный в белом пространстве, становится для людей и лабораторией, и столовой, и местом сна. Мотор укрывают стеганым покрывалом, по радио сообщают координаты посадки. Работа, отдых — и снова взлет на новую точку. Иногда взлететь невозможно — лыжи примерзли к льдине. На этот случай возят деревянную огромных размеров кувалду — удар по лыжам, и только после этого взлет.
В Арктике много особых трудностей и для техники, и для людей. Я видел пилотов после недели таких полетов. Обветренные, черные от мороза и солнца, слегка одичавшие от жизни в белой пустыне, они молчаливо кидали в угол кожаные свои одежды и валились спать. Все молодые. Немолодому напряжение подобной работы во льдах не по силам. И «Антон» тут тоже, как молодой, летает и при морозах, и в оттепель, при ослепительном солнце, и при погоде, когда «летишь, как в шарике от пинг-понга».
Магнитная стрелка тут может врать, тут нет ни единого пятнышка для ориентира и до берега более тысячи километров. Летает «Антон»!
В начале этого лета самолету выпала миссия совсем необычная — увезти с полюса семерку шедших туда на лыжах людей.
Четыре года назад я пролетал над полюсом из Европы в Америку. Громадный «Ил» проглотил расстояние от Москвы до верхушки планеты незаметно для пассажиров. «Полюс!» — сказал пилот-командир, и все прижали носы к овальным окошкам. А через два часа показалась уже Аляска.
Для больших самолетов и спутников Земля стала шариком. Для «Антона» Земля остается попрежнему очень большой. Громадной! Из Черского с посадкой на островах, на дрейфующем айсберге и на льдине, куда загодя (на «Антонах» же!) переправили бочки с горючим, четыре маленьких самолета летели часов пятнадцать.
Пятнадцать часов под крыльями, прыгая по торосам и исчезая на секунды в разводьях черной воды, бежала одномоторная тень самолета.
В окошко справа был виден другой «Антон». Комарик! Комарик, залетевший чудовищно далеко от Земли. Дремали в «Антоне» утомленные тряской и бессонницей журналисты. Пальцы радиста посылали в эфир морзянку о том, что летим и у нас все в порядке. Пилоты два раза просили чаю из термоса и галеты.
И наконец — полюс! Прибыв сюда со скоростью сто семьдесят километров в час, мы с восхищением глядели на семерых ребят, шедших до этой точки с усилием двадцать пять километров в день. Их палатка на полюсе показалась нам чудом. И, конечно, вся радость, все чувства прилетевших сюда были обращены к семерке замечательных пешеходов. О самолетах и летчиках в этот день мы как-то все позабыли.
Однако разве это не чудо — «Антон» на полюсе!
Маленький самолет, рожденный для связи с райцентрами, проделал путь: 2600 километров туда, 2600 километров — обратно. Над Арктикой! Перелет прошел без малейшей заминки, в точно рассчитанный срок, с соблюдением техники безопасности. Четыре самолета побывали на полюсе, пятый пять суток сидел на льдине, на полпути к цели, страхуя всю экспедицию.
Очень хочется поименно назвать сейчас всех пилотов, радистов, штурманов, механиков этого перелета. Но длинный список — двадцать пять человек. И потому пусть останется в этих заметках одно только имя — «Антон».
Не часто механизмы называют человеческим именем. Много ли можно вспомнить?
«Катюша»… И рожденный уже после ее триумфа «Антон».
Вчера я связался по телефону с генеральным конструктором самолетов Олегом Константиновичем Антоновым, чтобы спросить: а что он сам думает о своем детище? Конструктор сказал: «Ну, конечно, это дитя — любимое. Это был первый самолет нашего конструкторского бюро, и, конечно, нам очень приятно, что первенец оказался, как говорится, путевым.
Тридцать лет — хорошая служба для самолета. Однако ничто не вечно. Сейчас мы готовим «Антону» преемника. И надеемся, это тоже будет неплохой самолет».
Фото автора. 19 июля 1979 г.
Мещера
(Проселки)
Кто бывал в селе Константиново, обязательно помнит: с высокого берега через Оку открывается дразнящая синяя даль с блестками пойменных вод, с копнами сена, извилистой желтой дорогой, силуэтами пасущихся лошадей, округлыми пятнами ивняка, одинокими ветлами и туманным гребешком леса.
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.
Хорошо представляешь себе Есенина-мальчика, стоящего на крутом глинистом берегу. За спиной: родное село, жаркое поле ржи, березовые лески по равнине, рябины и тополя у домов, яблоневые сады — черноземная лесостепь подступает с юга к Оке, и тут ей граница. Внизу, в долине реки, начинается как будто иная страна. Ее приметы мы находим в стихах выраставшего тут поэта. И название ей — Мещера.
Москвичи, может быть, удивятся, но край Мещеры кое-кто из них видит с верхних этажей городского жилища. Сокольники и зелень Лосиного Острова — это остатки великого пояса хвойных лесов, тянувшихся ранее от Десны, от Брянска и Чернигова до лесов муромских на Оке. Теперь от большого зеленого пояса повсюду остались лишь острова. Но есть район, где пока еще сохранилась «грибная бабушкина глушь».
Возьмите карту и цветной карандаш. Соедините на ней Москву, Владимир, Рязань и Касимов линией по Оке, Клязьме, Москве-реке, речкам Колпь и Судогде (одна стекает в Оку, другая — в Клязьму). Полученный треугольник с острием у Москвы и есть знаменитая Мещера.
Как видите, не край света, самая середина хорошо заселенной России. Однако много ли в треугольнике городов и селений? Почти сплошь это место на карте залито зеленым цветом лесов, пестрит черточками низин.
В опоясанном реками треугольнике покоится чаша, вернее, огромное, в половину Швейцарии (23 тысячи километров квадратных), плоскодонное блюдо земли с плотным глинистым дном и песчаными возвышениями. Считают: когда-то было тут море. Потом, одно к одному, теснились озера. Старея, они превращались в болота.
И ныне край — болотистая низина, с пахучими сухими борами на песчаных буграх, с затопляемым по весне чернолесьем и знаменитыми «мшарами» — моховыми болотами, на которых произрастает робкий березнячок и чахлые сосны. Есть, впрочем, места, где землю пашут и где посевы страдают от чрезмерного высыхания песчаной почвы, но обилие вод-основная примета этого среднерусского междуречья.
Даже в сухое время край во многих местах доступен лишь пешеходу. В половодье же Мещера (особо рязанская ее часть) превращается в море.
Ока, пятисоткилометровой извилистой лентой окаймляющая понижение, не успевает уносить в Волгу талые воды. Поднимаясь в иные годы на десять — двенадцать метров, вода из реки в степную сторону, огражденную высокими берегами, не изливается, вода устремляется в мещерское понижение, затопляя луговую широкую пойму, леса и болота, отрезает друг от друга селенья.
Не раз я видел эти разливы с высокого правого окского берега. Море! В пять-шесть дней вода накрывает пространство, уходящее за горизонт. Все в воде: дороги, мачты высоковольтных линий, деревянные постройки летнего лагеря для скота. Чтобы не уносило мосты, на них загодя возят огромные камни. В лесу вода подымается к кронам деревьев. Скворечник, на который неделю назад надо было глядеть, задрав голову, затоплен по самый леток. В воде плавают птичьи гнезда. Лесные кордоны, для которых выбирают места на «горах», тоже, случается, заливает выше окон. В 70-м году мы, помню, спасали семью лесника, ожидавшую нашу лодку, сидя на крыше.
Много воды на Мещере остается и в лето. Как губка, держат ее болота, сообщаясь друг с другом ключами и мочежинами. Голубизной сверкает вода в луговых поймах. А пробираясь по лесу, вдруг упираешься в черные, как палехские шкатулки, озера. Они тут не считаны, не помечены картой. И только местные жители да какой-нибудь дошлый турист, не изменивший Мещере ни разу в летних своих скитаниях, скажет, где и что таится в лесах.
Есть тут и целый озерный «архипелаг».
О Русь — малиновое поле И синь, упавшая в реку, — Люблю до радости и боли Твою озерную тоску.Лесное озеро. Художник Андрей Ушин.
Есенин не однажды стоял у этих озер на границе московской и рязанской земель. Озера большие, открытые, светлые (под стать названия: Святое, Великое, Белое), но до крайнего удивления мелкие. «Из деревни в деревню парни и девушки переходили по озеру вброд», — вспоминает озадаченный путешественник. И правда, в редких местах лодочный шест на этих озерах опускается глубже одного метра. Озера идут цепочкой, вливаясь одно в другое. С севера в них втекают, объединившись, речки Бужа и Поль, с юга озерные воды в Оку уносит проворная, чайного цвета, Паустовским воспетая Пра.
Других сколько-нибудь заметных речек на Мещере немного. Можно назвать еще Полю (Поля и Поль — две реки разные!), пограничную Колпь, тихую, сонную Нарму, ну и, конечно, реку-работника Гусь. Города края Мещеры Гусь-Хрустальный и Гусь-Железный названы так по речке, на которой стоят.
Такова краткая география Мещеры.
История этого края тоже своеобразна.
В Московском историческом музее хранятся две флейты, сделанные из трубчатых костей животных. Это самые древние музыкальные инструменты, найденные в европейской части нашей страны. И найдены они на Мещере, на берегу одного из озер, в спрессованной толще пепла, среди наконечников стрел и обожженных костей. Четыре тысячи лет назад одетый в шкуры полудикий наш предок уже нуждался в средстве излить свою душу.
Жили в лесных и озерных дебрях финские племена рыболовов и звероловов — мордва, мокша, мурома, мещера, названные пришедшими сюда славянами-переселенцами одним словом — чудь.
Славяне стали переселяться к северу от Оки тысячу лет назад. Шли они с юго-запада — с земли киевской и северо-запада — с новгородской. История не оставила нам указаний на стычки аборигенов с пришельцами. Как видно, они мирно поладили, перенимая друг у друга житейский опыт обитания среди лесов, благо и бог у них был поначалу един — Природа.
Они поклонялись солнцу, воде, лесному зверю, дуплистым дубам. Возможно, славянин чувствовал некоторое превосходство над добродушным, бесхитростным охотником чуди. Нынешние слова «чудить», «чудно», «чудак» дошли к нам с далеких времен общения двух народов.
Постепенно финские племена растворились в массе переселенцев. От них остались лишь названия рек, озер и урочищ. Племя мещера, исчезнув, оставило после себя название целого края.
Позже край этот был глухим «потайным карманом» Руси. В мещерских лесах за Окой население рязанской земли укрывалось от набегов татар. (И сами татары позже селились в этих лесах.) Сюда ссылали за разного рода провинности и проступки. (Князь Иван III и царь Грозный сослали на Мещеру «многие тысячи» новгородцев, не хотевших верховной власти Москвы.) Сюда бежали крестьяне-раскольники, тут оседали разбойники, промышлявшие с кистенем на муромском тракте, тут по какой-то причине осели переселенцы с Литвы. Тут находили убежище остатки разгромленной вольницы Разина и Болотникова. Сюда сослали стрельцов после бунта 1698 года и привезли на работу пленных французов после разгрома Наполеона. Сюда бежали от беззакония и от закона. И всех лесная, болотная, бездорожная глушь укрывала и берегла.
Легко представить себе лоскутное одеяло этнографии этого края. Обособленные друг от друга деревеньки и поселения Мещеры дольше, чем где-то еще в центральной России, хранили обычаи старины, своеобразие языка, одежды, обряды труда и праздников, наивную поэтичную веру в русалок, водяных, леших, домовых и баешников (стариков, живущих на чердаке бани).
Еще в 20-х годах мещерская сторона была притягательным Эльдорадо для краеведов.
Сегодня лодки, вездеходы, мотоциклы, телевизор и радио быстро приводят к единому знаменателю яркую самобытность веками формировавшейся жизни. Но еще можно встретить на Мещере своеобразные говоры с цоканьем («Девоцка не щепоцка — за окошко не кинешь»), встретишь часовню с погостом возле дороги; заметишь: дома к улице боком, а к югу — лицом на улицу; увидишь села с непременным амбаром перед жилою постройкой; увидишь колодец с журавлем местной мещерской конструкции, встретишь старика старовера, который на просьбу «угостите водицей…» приветливо вынесет воду, но кружку потом выбросит в мусор.
Все, однако, быстро меняется. Переживут неизбежные перемены, пожалуй, лишь названия речек, озер, деревень и поселков, идущие от времен чУди и несущие на себе отпечаток всего, что было тут позже. Вот вслушайтесь: Салаур, Ушмар, Тума, Ерахтур, Сынтул, Чаур, Гиблицы, Лашма (есть еще Ламша!), Лакаш, Кочемары, Мурмино, Ибердус, Курша, Иваньково, Давыдово, Голованово… Впрочем, названия деревень исчезают в последние годы вместе с самими деревнями. Раньше бежали в мещерскую глушь. В наши годы разного рода причины, в том числе соблазны городской жизни, заставляют бежать из глуши. Но в это же время из разбухающих городов (Москва, Рязань и Владимир — под боком) потянулся людской поток опять на Мещеру. Гонит людей житейская теснота, нечистый городской воздух, разного рода стрессы и перегрузки. Едут в мещерский оазис на лето, на отпускной месяц или хотя бы на пару дней. Целебную силу мещерской глуши еще до войны оценил Паустовский. В наши дни глушь мало где еще сохранилась, а где сохранилась — становится ценностью. Однако приезжающий сюда с рюкзаком и палаткой всего лишь гость, он не связан корнями с этой землей.
Он только полюбопытствует: а чем же живы тут люди?
Помню, в Воронеж на практику в областную газету приехал молодой журналист из Мещеры.
Мы отправились вместе в командировку, и не забуду его удивления на поле: «Земля-то черная!» А какая еще бывает земля? Он стал рассказывать…
Теперь, путешествуя по Мещере, я увидел светлую, почти белую землю. Нетребовательный сосновый лес растет на ней превосходно. Поля же бедны до крайности. И эта скудость земли определила уклад здешней жизни.
Изначальные племена кормились тут рыболовством, промышляли лесного зверя и дикий мед. Позже погустевшее население стало выращивать хлеб, но урожай был «сам треть», то есть одно ржаное зерно посева давало всего лишь два зерна урожая. Навоз-удобрение был столь ценим, что его включали, как пишет коренной мещерец, поэт Виктор Васильевич Полторацкий, даже в приданое за невестой. Сваты рядились примерно так: «Значит, за Анютой даете вы полушубок овчинный, чесанки с калошами, половиков тканых восемь аршин и четыре подводы навоза». Земля была слабой кормилицей человека. И, казалось, тут, у болот, должна бы гнездиться крайняя бедность. Ничуть не бывало! Мещеряки жили куда справнее своих заокских соседей, сеявших хлеб по тучному чернозему. Степняки, обитавшие в избах, крытых соломой, дивились, бывая в мещерских лесах: «Неужто не баре, неужто простые люди проживают в этих хоромах?»
Дворцов мещерские мужики, понятно, не строили. Но каждый дом тут глядел молодцом, был чист и опрятен. Почти всегда его украшало крылечко, резьба по карнизу, кружевные наличники. Любая деревня глядела на путника весело и приветливо. И жалобы на нужду в чести тут не были. Мещера хорошо была приспособлена распоряжаться лесом — главным своим богатством. В документе давности двухсотлетней читаем: «Жители по худобе своих пашен кормятся ремеслом топорным».
Все ремесла, тут бытовавшие, перечислить было бы затруднительно. Едва ли не каждая деревенька имела свой трудовой профиль.
Тут жили тележники, смолокуры, плотники, бондари, рогожники, колодезники, грибники, богомазы, корзинщики, шерстобитчики, рогожечники, столяры, коновалы, сундучники, корытники, прялочники, лапотники, лодочники, игрушечники, ложкари…
Все мещерские промыслы были подспорьем тому, что давала земля в лугах, на поле и в огороде. Промышлять принимались в пору, когда «серп и соха отдыхали». Все делалось на дому и увозилось на ярмарки в города, стоявшие на Оке. Однако существовал тут избыток рабочих рук, и Мещера поставляла их повсеместно. Выражение «Рязань косопузая» рождено обликом мещерского плотника, кочевавшего по России с топором, взятым за пояс.
Ни одно большое строительство в Питере или в Москве без мещерского плотника не обходилось. Здешние бондари ежегодно сотнями уплывали в Астрахань делать бочки. Смолокуры ходили в Финляндию. Столяр особо высокого мастерства Андрей Тулупов побывал со своим инструментом в Китае и даже в Австралии.
Красную площадь в Москве брусчаткой мостили мещеряки из села Деревенского. Первый ленинский Мавзолей (он был деревянным) сооружали мещерские плотники.
В отхожий промысел с Мещеры уходило ежегодно двести тысяч мужчин. (Одних только плотников двадцать пять тысяч!)
Хозяйством ведали женщины. Необычайно трудолюбивые («Ногой каци, каци, а рукой тоци, тоци», то есть люльку качай, а руками тачай, шей что-нибудь), мещерские женщины и мужскую долю хозяйских забот несли исправно. На сельских сходках мещерская женщина имела голос, равный с мужчиной.
Мужик же, возвращаясь к дому «с отхода», приносил впечатления странствий, окрепшее мастерство, знание жизни, желание у себя дома устроить все «не хуже людей». Соревнуясь с соседом, он перекраивал дом, менял наличники, благоустраивал двор. Оттого дома во многих местах на Мещере один милее другого. В деревне Уречье, на Нарме, я потратил полдня, примеряясь с фотокамерой почти что к каждой постройке. И каждый хозяин (чаще это была старуха) ревниво ждал: подойдет ли фотограф к его крылечку.
Сохранилась ли схема хозяйственной жизни — пашня, промыслы и «отход» — в наше время? Пожалуй, что нет. От промыслов можно найти лишь осколки. Кое-где собирают грибы и сдают в грибоварки, в приокских селах плетут корзины из ивняка для картошки. Из деревни Курмыш старик с невесткой поставляют в Касимов для заезжих людей диковину старины — лапти. В Гиблицах (родина космонавта Аксенова) производят кирпич. Кое-где вяжут метлы, делают бочки. Это и все.
Между тем земля на Мещере богаче не стала.
Ее, правда, сейчас удобряют («Удобряют привозным химикалом», — сказал старик-бондарь на выселках Амляши). И все же без промысла в этих краях хозяйствам трудно сводить концы с концами. Колхозы в большинстве своем бедные. Во многих местах в деревнях доживают одни старухи. Молодежь подалась в Горький, Владимир, Муром, Рязань, Москву. Те из мужчин, что еще держатся «мещерского корня», в колхозах тоже, можно сказать, не работники, как в прежние времена, добывают средства на жизнь «отходом».
Оптимисты выход из положения видят «в преобразовании Мещеры» — в осушении болот, введении в оборот новых посевных площадей. Эта мера, если к ней обращаться разумно, конечно, расширяет возможности земледельца.
Однако опыт ставших на ноги здешних хозяйств вразумляет: по-прежнему промысел нужен здешнему земледельцу и как статья дохода, и как средство покончить с отходничеством, разрушающим и семью, и деревню как таковую.
Возможно ли возрождение промыслов, столь естественных для этого края? Люди, изучавшие эту проблему, считают: необходимо. Но нужен широкий государственный взгляд на это насущное дело. Рогожи, корыта из дерева, лапти, деготь, прялки и сундуки сегодня не нужны, но очень разумной представляется мысль о смычке больших городских производств с сезонным производством в селах и деревнях. Уже сейчас кое-где шьют тенты для грузовых автомобилей, трут краски, производят тару, деревянные (и пластмассовые) детали машин, изготовляют упаковочный материал. Всемерное расширение подобного разделения труда между городом и деревней выгодно всем. Завод восполнит все возрастающую нехватку рабочей силы, деревня найдет дело рабочим рукам в межсезонье. Это крайне важно в целом для государства — предотвращается распухание городов, и остается на земле землепашец.
Система эта открытием не является.
Японцы широко и давно ее практикуют, отдавая крестьянам-надомникам и деревенским артелям сборку деталей даже для электронной промышленности. Нечерноземье в целом нуждается в таком разделении труда. Мещера же, где промыслы, как мы видим, всегда были жизненно важной частью хозяйства, могла бы стать опытным регионом для проверки этой системы.
О мещерской природе принято всегда говорить в первую очередь. Чаще о ней только и говорят. Во время писателя Куприна (начало этого века) поэзия Мещеры была не очень заметна, потому что было в России много других не очень тронутых человеком мест. И Куприн увидел тут лишь ужаснувшую его глушь. Но сорок лет спустя Паустовский эту глушь воспринял уже иначе. Мещера показалась ему лучшим на земле местом — «эту затерянность я ощущал, как счастье».
Паустовский много лет ездил сюда постоянно и надолго — «всего двести верст от Москвы!». Он любил этот край преданно и сумел рассказать о нем тонко и поэтично.
По Паустовскому, не побывав здесь, мы уже знаем притягательность сонной воды, тихих неярких зорь, кафедральную высь и торжественность бора, таинственность топких мшар, очарование глухих полянок с копнами сена и манящую силу одинокого огонька. Книжный лист с рассказами о Мещере (проверьте!) источает запах грибов, сосновой живицы, запах приводных трав и нагретых солнцем лугов.
Я уверен, много людей в минуты душевного неустройства засыпали успокоенными, пробежав глазами три-четыре страницы мещерских рассказов. И многих Паустовский побудил к странствию в эти места.
В этом году под осень я увидел Мещеру, запечатленную сорок лет назад Паустовским.
Изменилась она с тех пор? И да, и нет. Солотча, где жили Паустовский с Гайдаром, уже не тихое место. Тут расположены туристский стан и не менее двух десятков лагерей пионеров. Паустовский писал о заросших поэтичных, полных уток и рыбы каналах генерала Жилинского, в XIX веке неуспешно осушавшего Мещеру. Сейчас тут встречаешь много свежих, вовсе не поэтичных канав, прокопанных экскаваторами, и видишь эти машины, осушающие Мещеру довольно успешно и не всегда к лучшему.
Паустовский был в этих местах в пору легендарного бездорожья. Когда-то у мещерских крестьян существовал особый промысел — вытаскивать из колдобин застрявшие в них повозки купцов, господ и служилых людей. Паустовский этот промысел не застал, но бездорожье, его нисколько не огорчавшее, было тут прежним.
Единственным сколько-нибудь надежным путем была нитка узкоколейки, соединявшей Солотчу через леса и топи с поселками Спас-Клепики, Тумой и дальше с Мещерой Владимирской. Эта «железка» цела и поныне. Правда, ходившие по ней «со скоростью пешехода» пассажирские поезда теперь не ходят. Но товарные, которые водит сейчас почти игрушечный тепловозик, ходят по-прежнему. В Спас-Клепиках я наблюдал, как лесом груженный поезд резво бежал деревянным мостом через Пру и с мелодичным стуком скрылся в лесах.
В корне изменило представление о доступности этого края недавно проложенное шоссе от Касимова до Рязани. 170 километров асфальта — хороший подарок для хозяйственной жизни Мещеры. Но, конечно, высоко ценимую Паустовским глушь и затерянность асфальт нарушил. Впрочем, юркие «Жигули» с твердой дороги в этих местах не рискуют съезжать, и кусок Мещеры, заключенный в объятия на севере новой дорогой, а на юге Окой, хранит по-прежнему все, что пленило тут Паустовского.
С двумя спутниками (редактором «Рязанского комсомольца» Володей Панковым и директором Окского заповедника Святославом Приклонским — оба хорошо знают Мещеру) я три недели где на «газике»-вездеходе, где на лодке, а где пешком путешествовал в этих краях.
Мы побывали в местах «хрестоматийных» — в глуши, в стороне от жилья, но большая часть пути лежала все-таки на проселках. И предстоит рассказать о встречах с людьми на мещерской земле.
Фото из архива В. Пескова. 14 октября 1979 г.
Как лечить Землю
В конце октября в Женеве состоялся международный симпозиум по охране среды. В числе его участников был журналист «Комсомольской правды».
* * *
Швейцарцы любят рассказ о старушке, чья жизнь прошла в глухой альпийской деревне.
«Боже, как велик мир!» — сказала старушка, когда ее провезли через пробитый в горах тоннель и показали соседнюю деревушку.
Как тесен мир! — хотелось сказать, слушая во Дворце Наций в Женеве людей, говоривших о новых проблемах Европы, «когда дым из труб одного государства застилает глаза людям в государстве соседнем».
По инициативе Межпарламентского союза (существует с 1889 года) в Женеве из двадцати европейских стран собрались парламентарии, ученые-эксперты, представители международных организаций, и журналисты-экологи.
Три дня шел откровенный обмен мнениями о проблеме, которая лишь недавно переступила порог Дворца Наций, но от которой людям не откреститься теперь, как видно, до тех пор, пока они будут жить на Земле.
Загрязнение окружающей среды в последние годы перестало быть «домашним делом» каждого государства. Сегодня вода и ветер «экспортируют» загрязнения из одной географической зоны в другие, и границы этому не помеха. Положение усугубляется тем, что многие государства в стремлении избежать выпадения отбросов в местах концентрации своей промышленности построили сверхвысокие трубы. И первое время казалось, что выход найден. Так поступила, в частности, Англия, где высота промышленных труб едва не сравнялась с Останкинской башней. И действительно, в Англии стало легче дышать. Но сигналы тревоги зазвучали в Скандинавии. В сотнях озер и речек погибла рыба (часто и все живое!), стали терять плодородие и без того скудные северные почвы, замедляется рост лесов. Причины этого обнаружили без труда — загрязнение в Скандинавию приносят южный и юго-западный ветры. Легко понять норвежцев и шведов, протестующих против такого «подарка». Не обвиняя соседей в злонамеренности, они справедливо требуют безотлагательных мер, ограждающих их природу от деградации. Когда во Дворце Наций об этом возник разговор, англичанин, лорд Ричи-Кольдер (член парламента и журналист-эколог) сказал: «Да, все это так».
И невесело пошутил: «Либо надо что-то делать с промышленностью, либо передвинуть куда-то Норвегию». В этой английской шутке содержалось признание: что-то надо предпринимать, пока дело зашло еще не слишком далеко. И все выступавшие на симпозиуме были в этом единодушны.
От «импортных» загрязнений страдают не только скандинавы. Вся Европа, обдуваемая ветрами Атлантики, находится под прессом отбросов мощных промышленных зон. К тому же трансграничные загрязнения переносятся не только по воздуху. Рейн, текущий по территории нескольких государств, представляет собой сточную канаву, несущую едва ли не все элементы таблицы Менделеева. Дунай как будто в лучшем пока положении, но и о нем говорилось с тревогой.
Человек един с природой.
Главное — сохранить нашу планету.
Эксперты, выступавшие на симпозиуме, привели список не признающих границ отбросов от просто твердых частиц (пример — цементная пыль) до сложных химических соединений, нефтепродуктов, токсичных металлов, канцерогенных веществ.
Врагом номер один признается двуокись серы (SО2 — продукт сгорания угля и нефти многочисленных электростанциях и тепловых установках. Мировой выброс за год — 180 миллионов тонн). Соединяясь в атмосфере с каплями влаги, двуокись серы превращается в сернистую и серную кислоту. Именно этим продуктом вызвано закисление озер Скандинавии и угнетение ее растительного покрова.
Легко ли справиться с год от года возрастающим загрязнением? Все понимают: задача головоломной трудности. Но понятно также и то, что ее необходимо решать, ибо все блага нынешней цивилизации не могут заменить человеку чистую воду и чистый воздух.
Какой должна быть стратегия оздоровления Земли? Сократить, притормозить производство?
Такие мысли в последние годы высказывались.
Но они признаны нереалистичными и противоречащими законам человеческого развития.
Выход один: промышленное производство надо перестраивать, а новые предприятия планировать так, чтобы здоровье Земли (в чем человек нуждается в первую очередь!) не страдало. Этой задаче должны быть подчинены главные научные изыскания. Ну и конечно, такой подход требует немалых средств. Подсчитано: каждое государство, если оно хочет иметь здоровую среду обитания человека, должно тратить на это два процента от национального дохода. Средства очень большие. Но решиться на эти затраты придется. И чем раньше, тем целесообразнее, ибо тушить пожар дороже и невыгоднее, чем предотвращать его. Да и соседи, как видим, не склонны терпеть дыма от этих пожаров.
Но эта программа на долгие годы. Проблема, однако, властно стучится в двери уже сегодня.
С чего начать? Выступавшие на симпозиуме были единодушны в том, что: Без промедления надо установить международные стандарты качества воздуха и воды. (Нарушение этих стандартов будет поводом для тревоги соседнего государства, а в будущем поведет, возможно, к экономическим санкциям).
В пограничных районах должна быть развернута сеть контрольных слежений за состоянием атмосферы и водных потоков, чтобы иметь объективные данные при консультациях и претензиях.
Надо всеми средствами с максимальной энергией и решительностью внедрять безотходные технологии и технологии, щадящие окружающую среду. Всеми открытиями на этом пути государства должны щедро и без промедления делиться с соседями — это будет благом для всех. Руководящим должен быть лозунг: «Технология, несущая ущерб окружающей среде, — невыгодная и неприемлемая технология!»
В национальных рамках не жалеть средств на оздоровление среды, не забывая, однако, о том, что профилактика всегда дешевле и выгодней, чем лечение болезни.
Первостепенную роль играют экологические знания. Они нужны каждому человеку, но особую важность приобретают они для людей, принимающих ответственные решения, — «росчерк пера облеченного властью, но экологически неграмотного человека очень часто влечет к невосполнимым потерям в охране среды».
Участники симпозиума были единодушны в оценке угрозы трансграничного загрязнения и приветствовали все возможные соглашения, регулирующие эту проблему.
Таковы краткие выводы трехдневного собеседования в Женеве. Сам факт этой встречи — свидетельство того, что у европейских государств, независимо от их социальных систем, есть общая, жизненно важная проблема. И, конечно, в дебатах было отмечено, что все дела и заботы об охране среды возможны только при наличии мира. Они предполагают мир, способствуют вере в него. Больше того, забота о здоровой среде обитания человека является альтернативой войне во всех отношениях, в том числе и в приложении материальных затрат. Когда в дебатах возник вопрос о средствах на охрану среды, было сразу указано, где их брать, — «они лежат в кармане, из которого тратят на производство оружия».
В космос!
Симпозиум в Женеве — это практический шаг во исполнение положений Заключительного акта совещания в Хельсинки.
Удовлетворение участников встречи вызвал дух сотрудничества, царивший во время обмена мнениями. Суждения советской делегации, квалифицированные и проникнутые духом добрососедства, легли в основу многих пунктов заключительного документа симпозиума.
Документ этот будет передан участникам Европейской встречи на высшем уровне, которые соберутся в Женеве послезавтра. Встреча проводится по инициативе Советского Союза Экономической комиссией ООН для Европы.
На ней будет обсуждена и подписана конвенция, регулирующая проблемы, связанные с трансграничными загрязнениями атмосферы. Эта «первая ласточка» совместных международных усилий по охране среды, несомненно, будет способствовать новым шагам в оздоровлении среды обитания и отношений живущих близко друг к другу народов Европы.
Фото автора. Женева — Москва.
11 ноября 1979 г.
1980
Подарок лета
(Проселки)
К Новому году получил я подарок — банку грибов с запиской: «В Рязани грибы с глазами; их едят, а они глядят…» Не исключаю, что варили эти грибы в Княжах.
* * *
Вспоминаю дорогу лесной пахучей низиной.
Мой спутник сказал: «Носом чую-грибы!» Остановились. И точно, на бугорке под присмотром пожилого боровика беспечно паслась стайка молодых подосиновиков — как раз полный картуз.
«Грибная бабушкина глушь! Уверяю, гриб тут родился, растет и умирает никем не замеченный», — философствовал Володя, погружая лицо в содержимое картуза.
На карте дорога вела нас в Гиблицы. А где-то на полпути должны быть Княжи, которых карта не удостоила даже маленького кружочка. А между тем мы уже знали: деревня знаменита колодезниками («Летом скотину пасут, зимой ходят по деревням роют колодцы»). Еще, говоря о Княжах, местный учитель сказал: «Девчонки в пятом классе — уже с часами. Покупают за сданные ягоды и грибы». И еще где-то здесь за деревней пряталось занимавшее нас производство под названием грибоварня…
В Княжах было тихо.
На единственной улице у дома на травке под вербой сидел апостольского вида старик и, следуя мудрости «готовь сани летом», чинил валенок.
Грибоварня?.. Это значит вам Иван Палыч нужен. Дымок за околицей видите? Туда и ступайте.
И вот она, грибоварня.
За огородами у леска стоял дощатый навес, возле него — колодезный сруб, дымилась печурка с большим чугунным котлом. Тут же стояли бочки, мешок соли, склянки с приправами. С двумя огромными поварешками священнодействовал тут грибовар — единственный работник этой лесной промышленной точки, Иван Павлович Замилов.
Нрав у сурового с виду мастера оказался веселым.
— Ко мне? На грибы?.. — Слегка припадая на правую ногу, Иван Павлович вынес из-под навеса скамейку, и мы, вдыхая пахучий дымок, до вечера просидели на грибной кухне.
— Производство — проще и не придумать! Однако ответственное. Гриб бывает червивый, гриб, бывает, помнут, гриб может попасть ядовитый. Я должен в оба глядеть. Ну и варка тоже — не чай скипятить: промывка в нескольких водах, в меру положи уксус, в достатке корицу, лавровый лист, а главное — с солью не промахнуться!
В грибной сезон мастер почти не спит. Сорванный гриб долго не полежит. Надо варить немедля. Бывает, что варит всю ночь. Только прилег — грибники уже с утренним сбором явились.
От леса на грибоварню белеет в травах дорожка. На ней сходятся с разных сторон все лесные тропинки. Несут грибы в ведрах, в хворостяных корзинках, везут в двухколесных тележках, мотоциклетных колясках. Когда пошел гриб, в Княжах часу не потеряют: валят в лес от мала до велика. И есть у Ивана Павловича «кадровые грибники», старухи-профессионалы.
Размышляя, кого причислить к самым передовым, Иван Павлович перебирает с десяток фамилий и называет, наконец, Грибкову Анну Матвеевну и Дарью Орлову. Желая особо их отличить и не найдя подходящего слова, он говорит:
— Стахановцы! Точно. Лесные стахановцы…
Процедура приемки грибов простая и скорая.
Из корзины («обязательно белый к белому, рыжик к рыжику») гриб идет на весы. А потом — «грибы в бочку, а деньги на бочку». Расчет не запутанный: за килограмм белых — рублевка, маслята, подберезовики, подосиновики — полтинник за килограмм.
— Утром рублей на пятнадцать сдает старуха, вечером — на десятку. К зиме набегает каждой рублей шестьсот — семьсот. У нас тут телевизоры, мотоциклы, часы — все грибные да ягодные…
Иван Павлович — не единственный в этих краях грибовар. Своих близко расположенных конкурентов-приемщиков он побивает большой аккуратностью, добросовестностью в расчетах.
К нему гриб несут со всех деревень. Сам он осенью на мотоцикле объезжает все закоулки, скупая грибы сушеные — «двадцать рублей кило»!
Когда я сказал, что хотел бы снять мастера для газеты, Иван Павлович отнесся к этому с простодушной готовностью:
— А что же, сними!..
Я полез на скамейку и уже сделал несколько снимков, как вдруг грибовар спохватился:
— Постой-ка, сбегаю за тельняшкой!
Он явился в новой рубахе с расстегнутым воротом. Под рубашкой была морская тельняшка.
Уже после, в избе за столом, я спросил, что, наверное, Иван Павлович имеет с флотом какую-то связь?
— Имею, — сказал грибовар. — До войны был матросом на крейсере «Красный Кавказ». Оборонял Севастополь в 42-м. Потом воевал в Сталинграде морским пехотинцем — немцы нашего брата в тельняшках хорошо знали. От Волги до моря, до Кенигсберга я по суше пешком дошел.
От Сталинграда к Дону нас подвезли маленько автомобилями, а далее — все пешком и пешком…
После войны взялся было за старое ремесло.
Однако с моими ранами рыть колодцы тяжеловато. И вот уже двадцать пять лет занимаюсь грибами. Ну, а тельняшка — понимаете сами… — Иван Павлович изловил на тарелке ускользавший от вилки рыжик, задумчиво пожевал.
— Наталья, дай-ка баян…
Баян сейчас же был подан. На звуки «Раскинулось море широко» из соседнего дома пришла старушка, мать грибовара.
— Иван, там бабы с грибами…
Игравший кивнул: «сейчас…» и наклонился к баяну, почти положил на него ухо.
— Шестьдесят лет мужику, а рюмку понюхал, и дите дитем делается — надевает морскую рубаху и за баян…
На прощание Иван Павлович показал нам хозяйство, пасеку, сарай с сеном, коровье стойло, кур, уток и извинился:
— Теперь пойду, а то стахановки разобидятся…
У края деревни мы задержались, наблюдая, как два мальчишки пускали воздушного змея.
А когда тронулись к Гиблицам, за огородом Ивана Павловича увидели знакомый синий дымок — моряк-грибовар вершил свое сухопутное дело.
Вот такая грибоварня. В сезон Иван Павлович Замилов почти не спит — работы много.
* * *
Путь гриба с лесной грибоварни до магазина лежит через цех районного городка на Мещере.
Тут из бочек грибы кладут в стеклянные банки. И вот он, подарок лета, у меня на столе. «Казенный гриб», конечно, не может идти в сравненье с грибом домашнего приготовления, пусть и варил его мастер. И все-таки в зимнюю пору даже и он — лакомство. Лучок, чесночок, с пылу с жару картошка к грибам… Спасибо, лето, за этот подарок!..
В Рязани я получил справку: на Мещере каждое лето действует более ста лесных грибоварен. Продукция за сезон — примерно четыреста тонн. Это не очень много — банки с грибами даже в столичном продмаге «Лесная быль» мы видим не часто.
Лесной урожай во многих местах остается нетронутым. На Мещере есть уголки, где гриб в одном месте собирают два раза в день, утром и вечером. Бывают годы, когда, по словам Ивана Павловича, «от грибов некуда деться». (Таким был, например, 61-й год. Старухи в ту осень вздыхали: «Грибов-то, грибов-то, как бы войны не было…»)
* * *
За грибом на Мещеру едут с разных сторон.
В доступных местах от этих набегов гриб, замечено, переводится. Но есть тайники на Мещере, где «гриб родится, вырастает и умирает», никем не замеченный.
Телега
Это не корабельный мостик, это телега. Только что сделанная телега. И запасное колесо для нее…
Проезжая из Касимова на Елатьму, возле дороги мы прочитали: «Обозный завод». И завернули под вывеску.
Директор завода Алексей Петрович Алехов, как видно, привыкший к насмешкам над своим производством, встретил нас тоже шуткой:
— Ну заходите, заходите на наш «КамАЗ»…
Вот сырье. — Он указал на сосновые бревна.
— А вот продукция.
В углу двора, задрав друг на друга оглобли, стояли четыре десятка телег, источавшие запах желтой морилки.
— Прямо с иголочки. Мощность — одна лошадиная сила…
Дерево и железо — это и все, что надобно для телеги. На наших глазах сосновый комель превращался в пахучие заготовки колес, в рейки, бруски и доски. А рядом в цехе звенело железо.
Кузнецы, раскаляя полосы и пруты до свеченья, гнули скобы, ковали оси и обода. И все потом поступало на двор, где двое сборщиков, соединяя дерево и железо, венчали все производство.
Двенадцать повозок в день уходит с завода. Есть у изделия свои ГОСТы (высота, расстояние между колесами в соответствии с шириной проселочной колеи), свой фасон и отделка. Все бы неплохо — невелика у изделия прочность! Год всего держат телегу колеса. Их полагалось бы делать из дуба (из дуба всегда их и делали!). Теперь делают из сосны. (Даже ступицы из сосны!) И вот гарантия хода — год, тогда как в «тележные времена» повозка, сработанная здешним мещерским умельцем, служила десять — пятнадцать лет, переходила в наследство от отца к сыну.
— У нас на заводе количество подмяло качество, — вздыхает директор. — Выпускали тысячу двести повозок. Сейчас выпускаем три тысячи двести, да колес запасных пару тысяч.
Спрос подгоняет. Однако наспех даже и коромысло каким следует не сработаешь…
Телега, понятно всем, двигателем прогресса не является. Однако жизнь показала: списали со счета ее рановато. Асфальт к деревушкам проложат еще не скоро. А трактор по всякому случаю не погонишь. Так что телега нужна. По учету, какой ведется на этом обозном заводе, телега нужна сегодня на многих фермах, часто нужна сельской школе, больнице, нужна ветеринару, леснику, управляющему хозяйством.
Обозный завод в Новой Деревне на скорую руку организовали, чтобы снабжать повозками Рязанскую область. Но завод, как сказал веселый директор, «работает и на экспорт» — за телегами «толкачей» присылают из Ставрополья, с Украины, из Волгоградской, Тамбовской, Воронежской областей.
— Из Казахстана недавно приехал посыльный с двумя мешками вяленой рыбы: «Возьмите в столовую для рабочих, а мне, ради бога, десяток телег!»
Вот такие дела с проселочной колесницей!
Делают ее по Российской республике не в одном месте. Однако почти всюду делают кое-как. А от краткости службы очередь за телегой не убывает.
Продаются повозки по цене, ненамного превышающей цену велосипеда. (Сани — почти сплошь ручная работа! — стоят 24 рубля). Легко понять, что и зарплата обозника такова, что «Жигулей» ему никогда не купить. Оттого лепят телеги и сани старики да бабенки. Не разумней ли брать за телегу с потребителя подороже и обновить, встряхнуть традиционное мещерское производство? Не будем требовать от телеги «уровня мировых стандартов» — не ломалась хотя бы на первом дорожном ухабе. Не будем преувеличивать значения телеги в нашем хозяйстве, но вряд ли разумно, производя высокого класса технику для шоссейных дорог, забывать об испытанном транспортом средстве, необходимом, пока существуют грунтовые дороги.
Этого парня (он нагоняет обода на колеса) зовут Николай Дунцов. После армии он собрался уехать из Новой Деревни. Директор уговорил: «Оставайся — Ока рядом, сад, огород…» Остался. И неплохо работает парень. Но для этого снимка мне пришлось его уговаривать. Махал руками: «А, телеги!..» С резиновым колесом он снимался бы с большой охотой. А может быть, дело опять же в качестве колеса? Ведь приятно показывать только то, что и выглядит хорошо, и служит исправно.
Николай Дунцов. Он нагоняет обода на колеса.
А чем телега не транспорт?
Било
Слова с корнем «бить» в языке нашем трудно пересчитать. Битва, бойня, отбой, прибой, забой, боец, боеголовка… Били когда-то челом, били баклуши (и сейчас еще бьют, к сожаленью!), били монету, делали сбитень (напиток). Деревенский житель немолодого возраста не скажет «строят дорогу», он скажет «дорогу бьют». Так же будет сказано о проходке лесной просеки, о рытье колодца. Бьют также масло и шерсть (маслобойка и шерстобитня). Пожилой человек не скажет «послал телеграмму», он скажет «отбил».
Корень «бил» особенно обнаженно звучит в предмете, называемом просто и кратко — било.
Било непременно находишь в любой деревне. С помощью фотокамеры я составил даже коллекцию этих снарядов для сбора людей на пожар или по иному срочному делу. В прежние времена этим снарядом был колокол. Церковный сторож, заметив огонь, неприятеля или другую беду, птицей взбирался на колокольню и был в набат. (У нас в степном селе в колокол били также во время зимней пурги.)
Иногда колокол вешали посредине села просто на перекладину или на дерево. Они и сейчас висят кое-где, позеленевшие от непогоды, ревниво оберегаемые жителями старые колокола. Их я встречал и в Америке — хозяйка фермы созывает рабочих с поля на обед или ужин. Колокол (в него звонили к обеду) долго висел перед домом на дереве в Ясной Поляне…
Так долго, что дерево обтекло его, почти поглотило, и теперь уже колокол не звучит.
«Туристы снимают колокола», — жаловался мне старик на Валдае, приспосабливая на перекладине шестеренку от трактора. Он ударил, помню, по шестеренке для пробы железным прутом, и сейчас же из многих дверей стали выбегать люди: «Что там случилось?!»
Чего не вешают для сигналов в деревне!
Чаще всего видишь обломок рельса или вагонный буфер. Но видел я диски от культиватора, лемех от плуга, газовые баллоны, чугунные доски. В Калининской области около Волги в маленькой деревушке висит даже бомба.
Взрывчатку из нее вынули, а остов, если ударить, подает голос очень даже тревожный. Во времена, когда рельсов, шестеренок и баллонов от газа не знали, сигнальные доски специально ковались. В Рязанском музее хранится било из города Пронска. Железная трехметровая полоса, согнутая в полудугу, в XVII веке оповещала прончан о пожарах.
И все, кто бывал в Михайловском, могли заметить: в усадьбе поэта, почти рядом с домом, висит размером в половину примерно листа газеты поковка железа. Когда она была раскаленной, кузнец буквами старого времени обозначил ее назначение: бию. Прилежные собиратели всего, чему Пушкин мог быть свидетелем, реликвию прошлого разыскали, наверное, в какой-нибудь деревушке поблизости. И очень возможно, что Пушкин, блуждая пешком или верхом на лошади по проселкам, слышал удары железом в железо. Давнишнее это средство: гулким тревожным звуком быстро созвать людей.
Било-колокол.
Било-шестерня.
Било-диск.
Било — газовый баллон.
…и даже било — пустая бомба.
Фото автора. 19 января 1980 г.
Земля Антоновых
(Проселки)
Они коренные мещеряки. Дед был портным, ходил по деревням, шил полушубки. Отец, Антонов Дмитрий Аверьянович, одним из первых в здешних краях сел на трактор, стал позже хорошим механиком. С гаечным ключом в руках он и умер… Игрушками пятерых его сыновей в детстве были железки. И мало в том удивительного, что все они, исключая старшего Виктора, продолжают дело отца. Другое важно отметить: все, кроме Виктора («Он в Свердловске — большая шишка»), остались тут, на Мещере. У других сыновья после армии — кто куда, а Дмитрий Антонов, сам Мещеру любивший преданно, и сыновей сумел на ней удержать. «Где родился, там и годился…
В родном краю и картошка — пряник медовый», — слышали сыновья от матери и отца.
Что касается дела, то братьям Антоновым искать его не пришлось. Дело само отыскало их в сельце Афанасьево, в местах болотисто-непролазных. Все четверо стали мелиораторами. Николай, Алексей и Владимир сели за рычаги экскаваторов, Сергей обучает мещерских парней в районной школе мелиорации.
Говоря о Мещере нынешних дней, мелиорацию обойти никак невозможно. Она тут — стержень хозяйственной жизни. Само слово «мелиорация» изустно и на бумаге повторяется так же часто, как полвека назад повторялось слово «коллективизация». И перемены, за этим словом стоящие, тоже не маленькие.
Жизнь в этих почти заповедных местах была приучена к тишине и бездорожью. Тут у людей сложились особый быт и привычки. Вода, леса и болота, разъединяя людей, давали им также немалые радости и, худо ли бедно, кормили, поили и одевали. И вдруг почти разом все должно измениться.
На болотах, где раньше еле угадывались тропки сборщиков ягод и грибников, ревут экскаваторы. Появились дороги. Спрямилась, укоротилась речка. Исчезло озеро. Всюду трубы, каналы, канавы. На былых мшарах белеет пашня.
Умирают запустелые деревеньки, и кое-где показались над лесом невиданные в этих местах дома о трех-четырех этажах. Это целая революция. Плоды у нее еще в завязи, а пока идет ломка с потерями и надеждами, со вздохами и барабанным боем начальных успехов.
Братья Антоновы оказались в самой гуще работ. Дело у них нелегкое. Жара, комары, одиночество, риск увязнуть в болоте. Но братья привыкли. Работают споро, умело и давно уже получили известность как мастера. Известность эта подкрепляется родственной сплоткой — «братья Антоновы». В любом деле — на шахте ли, в поле, на лесосеке или на рыболовном судне три брата плечом к плечу — это всегда впечатляет и привлекает внимание. Братья, если они не лодыри, непременно окажутся на виду.
Именно так сложилась судьба сыновей старого тракториста Антонова — всемерно отмечены и обласканы, получили квартиры, сидят в президиуме, привыкли видеть себя в газетах. Старший из них, Николай, получил в награду автомобиль, избран депутатом в Рязанский Совет.
Размышляя, с кем откровенно можно бы было поговорить о делах мелиорации, я колебался. «Антоновы, скорее всего, будут говорить «по писаному»… Но, с другой стороны, они — старожилы Мещеры, все, что тут происходит, — близко их сердцу, к тому же дело знают и последствия видят…»
Собрать их вместе оказалось делом нелегким — работают в разных местах, домой в Клепики возвращаются поздно.
Все-таки вечером мы собрались у среднего, Алексея. Братья оставили за порогом свои болотные сапоги, сходили под душ и сели за стол приодетыми на городской лад.
При знакомстве выяснилось: старшему Николаю — сорок один, Алексею — тридцать седьмой, Владимиру — двадцать девять. Увидев их, сразу скажешь, что это братья. Однако чем-то они и несхожи. Старший степенен: «Ну что говорить, все об нашем деле известно…»
Младший готов, пожалуй, много чего сказать, он со стрункой романтика (не поленился, долго искал упавший метеорит и нашел, отправил в Москву ученым, мечтает побывать на Камчатке), но положение младшего его сдерживает — с улыбкой или усмешкой он только следит за беседой.
Говорит главным образом Алексей, средний.
Одиночество на болотах, однако, приучило его больше думать, чем говорить. Он не спешит, едва ни не каждое слово запивает глотками чая. И говорит он совсем не «по писаному».
У него свой взгляд на дела.
По лицам и замечаниям братьев я чувствую: мнение среднего разделяется.
— Скажу так… Глушь нашу здешнюю я бы ругать не стал. Если б спросили, где лучше мне жить — тут, на втором этаже с душем и телевизором, или в самой глуши в отцовском рубленом доме с баней, охотой, рыбалкой, грибами? — я бы еще подумал, что выбрать. Но в том-то и дело, что выбора нет. Жизнь расширяется. Это все понимают. Мещерские наши места, как посмотришь, — островок в круговерти. И, конечно, брать с болота только ягоды и грибы — это мало. Вот и копаем, надеемся — будем брать больше… Мелиорация, не поспоришь, дело, конечно, правильное. Но только если правильно ее делать. А вот копаешь, копаешь, и временами сердце начинает щемить — не все правильно! И жалко не только деньги, а мелиорация — деньги немалые, землю жалко!
В иных местах чувствуешь: губим. Мелиорацию нельзя кое-как делать. Ее надо делать только хорошо. Тогда будет толк. А хорошо у нас выходит не часто… Что касается нас, Антоновых, то работать стараемся честно. Неплохо и зарабатываем. Но этот вот крендель за чаем был бы для меня куда слаще, если бы я был уверен: делаем все, как надо, и завтра не будем чесать в затылке…
Все это сказано отнюдь не за водкой, за чаем.
Я ожидал, что два других брата что-нибудь возразят среднему. Но старший и младший только сказали: «Да-а…»
Дмитрий Антонов с сыновьями.
* * *
Слово «мелиорация» в переводе на русский означает улучшение, улучшение земли. Крестьянин мелиорацией занимался почти всегда.
Удаление с пашни камней, расчистка луга от зарастанья кустами и отведение с луга излишков влаги — это мелиорация. Но слово это в ходу у нас стало с тех пор, когда землеройная техника позволила покуситься на земли избыточной влажности, ранее недоступные земледельцам.
На освоение «болотной целины» двинулись почти что с криком «Ура!». Все казалось предельно простым: прорыл канаву, сбежала по ней вода, и дело сделано — паши и сей, коси травы. Рыли эти канавы споро, спрямляя речки, спуская озерную воду. Уродовалась земля, но ладно, мол, зато кормилицей будет…
Увы, не все обернулось так, как хотелось. Во многих местах земли, с которых силой согнали воду, превратились в голые пустыри. Хуже того, пониженье грунтовых вод повредило плодородию исконной пашни, без прежней подпитки иссякли малые реки, обмелели озера.
Минувшим летом в Белоруссии я видел, как страдали и погибали от недостатка влаги посевы на землях, где, помню, с влагой вели большую войну. Да что Белоруссия, вода показалась помехой даже там, где всегда ее не хватало. Канавы споро и спешно копали в Воронежской области. Деньги и технику в этих местах следовало употребить на сбережение влаги, на заделку вершин оврагов, которые пожирают тут золотой чернозем. «Нет, «резервную пашню» искали там, где ее искать не следовало ни в коем случае. И удивительно ль, слово «мелиорация» стало во многих местах почти что ругательным.
На Мещере война с водой погубила немало прекрасных озер, местами пострадали луга, а то, что думали сделать с пашней, сейчас кое-где именуется «Каракумами» и «Сахарами».
Таковы издержки от спешки и непродуманное™. Сейчас мелиораторы взялись наконец за «двойное регулирование» — избыток влаги отводят, но держат воду в резерве и, если надо, в нужный момент ее возвращают земле.
Двойное регулирование (польдерная система) дает хорошие результаты. Тут, на Мещере, эту систему «обкатают» вблизи Клепиков на Макеевском мысу, около речки Пры.
Если кого-нибудь надо убедить в эффективности мелиорации, везут сюда. И тут в самом деле есть на что поглядеть. Бывший болотный кочкарник площадью в две тысячи гектаров с лишним осушили и разровняли, нарезали «карты» полей, разделили их водотоками, под слоем пахотной почвы, подобно кровеносной системе в живом организме, положили сетку мелких гончарных труб. Избыток влаги уходит в этот дренаж. А видит агроном, что влаги недостает — закрывают затворы в каналах, отток воды внизу прекращается, а сверху поливочный механизм на колесах, забирая из канав воду, посылает ее на земли в виде почти небесного дождика.
«От господа бога никак не зависим», — сказал мне техник, объясняя работу системы. И правда, мочливое лето или сухое — урожаи овса, пшеницы, картофеля и капусты с этого полигона, напоминающего огромный фабричный цех, получают высокие и стабильные.
Стоит такая система недешево («в каждый гектар на мысу вложили 751 рубль»), но конечные результаты, как видим, все покрывают.
И вроде бы нет причины для беспокойства. Однако тревога братьев Антоновых многими тут разделяется. Дело в том, что польдерная система — очень тонкий и деликатный процесс земледелия. Перейти на него — все равно что с телеги пересесть на сверхзвуковой самолет.
Постройка такого «самолета» требует очень большой культуры, аккуратности и добросовестности. («Гончарные трубы в земле надо класть чуть ли не по лучу лазера с уклоном в четыре сантиметра на сотню метров».) Малейшие «шаляй-валяй», «авось» и «быстрее!» рубят под корень весь замысел.
Эксплуатация поля тоже не терпит ни малейшей ошибки. Все должно быть вовремя, точно, трезво и качественно. «Примерно как в цветной фотографии, — объяснил техник, глядя на мою фотокамеру. — Чувствительность пленки, экспозиция, состав проявителя, температура, время проявки… В чем-то малость ошибся — и нет желанного результата. А тут при грубом просчете возможна еще и поломка системы…»
Но есть ведь Макеевский мыс. И действует!
Да, отправная точка хорошая. Но она, к сожалению, осталась пока что витриной мелиорации. Тут в оба глаза за делом глядели райком и обком и люди из министерства. Тут рядом большой населенный пункт с избытком рабочей силы. А вот далее вглубь лесов и болот дела не так хороши, местами просто плачевны.
Огромные средства из казны государства вязнут почти без отдачи. Мелиораторы сдают работу, мягко говоря, без знаков качества.
(«Качество! — с понятной злостью говорит начальник ПМК-9 Николай Петрович Павлов. — Вот поглядите на эти гончарные трубы. Их полагается привозить к нам в контейнерах. Нет, возят так. Пока по болотным ухабам трясут — сколько процентов боя! Полагается эти трубы привозить загодя, в зимнее время. Нет, получаем в последний момент — неизбежна спешка с укладкой!»)
Поругивая мелиораторов, в совхозах добавляют к их недоделкам и приблизительностям свои просчеты, промахи да и попросту нерадивость. В результате земля ставится под угрозу превращения в «Каракумы». (Антонов: «Я видел в южных местах черноземы — то плотный войлок. А наша земля как ситчик. Чуть промахнулся — и дырка!»)
И еще есть проблема. Допустим, что все в порядке и есть урожай. Однако людей на Мещере немного, рабочих рук не хватает. Урожай большой своей долей остается неубранным.
И, стало быть, нельзя просто так отмахнуться от существенного вопрос: «А стоит ли выделки эта овчинка?»
* * *
Между тем сейчас обсуждается план коренного переустройства Мещеры. В основе его лежит предпосылка: не лес и вода — главная ценность этого края, а пашня, которую надо создать. Плановики, составлявшие «Схему» переустройства, утверждают: овчинка выделки стоит! План «большой мелиорации» на бумаге логичен и гладок. Кое-что на Мещере он оставляет рыбакам и охотникам, есть в нем упоминание даже о «национальном мещерском парке», но главное в плане — решительное наступление на болота.
Этот план невозможно уже оспорить, он прочитан во многих инстанциях. Выгода недешевой и непростой ломки природы Мещеры основана в плане на предпосылке, что все будет сделано, как написано и рассчитано на бумаге.
Однако даже разведочные шаги вглубь Мещеры показывают, каким далеким оказывается действительное от желаемого. Жизнь с ее «битыми гончарными трубами», с ее «не туда, не то, не вовремя», со спешкой, недоделками и «авосями» заставляет с тревогой думать о «большом наступлении». Если оно неизбежно, то отнестись к нему надо с такой же ответственностью, с какой хирург относится к предстоящей операции на сердце. Мещера у нас одна. Загубить этот оазис в самом центре промышленного района России с нынешним натиском техники очень даже легко.
А потому — осторожность! И еще раз — осторожность!
Главное, чего следует избежать, — спешка.
Это тот самый случай, когда мудрость «семь раз отмерь» должна быть написана видными буквами и в кабинете проектировщика, и на будке мелиоратора. Пресловутых щепок, которые, мол, неизбежны при рубке леса, быть не должно — слишком велика ценность, на которую покушаемся.
Стратегия выполнения плана, как представляется, должна быть в постепенности и осмотрительности, в тщательном и качественном освоении того, что уже «тронуто». «Я наблюдаю, многие несообразности оттого, что откусываем больше, чем в состоянии прожевать», — говорит Алексей Антонов. Верное наблюдение! Мелиорация на Мещере — задача со многими неизвестными. Даже Макеевский мыс при всей тщательности работ на нем преподнес немало сюрпризов. Накапливать опыт, проверять все расчеты практикой жизни и потом уже двигаться дальше. «Лучше меньше, но лучше» — такова сверхзадача.
И нужен, конечно, постоянный контроль (общественный, хозяйственный и партийный) по всему фронту работ.
А смотреть, между прочим, в оба глаза надо в первую очередь за исполнителями проекта, вооруженными всесокрушающей техникой.
Характер у наших мелиораторов, как у бобра.
Известно, что этот житель болотистых речек грызет, добывая пищу, но грызет он и просто так, иначе его погубят все время растущие зубы. Мелиораторы тоже «грызут» частенько и где не надо бы грызть — у них свои планы, сметы, прогрессивка, «тринадцатая зарплата» и премии. Нельзя допустить, чтобы жертвой ведомственных интересов становились спрямленные речки, обезвоженные озера, земля с без надобности вырытыми канавами.
В оценке — что сегодня важнее: вода, лес или пашня? — тоже надо все тщательно взвешивать.
Было время, когда любое болото считалось едва ли не язвой на теле земли. Осушение почиталось заведомым благом. Сейчас бедственное положение во многих местах с водой обнаружило, какую роль играют болота в сохранении и распределении на земле влаги. Вряд ли надо упускать из виду и явно нелепое положение, когда ценою немалых затрат пашню мы ищем на дне болота, а в это же время выбывает из обихода, поглощается бурьянами и лесом земля, веками служившая человеку около многочисленных, теперь умирающих деревень.
В размышлении о богатствах Мещеры никак нельзя сбрасывать со счетов и уникальность ее природы. Создатели «Схемы», демонстрируя, что об этом они не забыли, отвели на бумажных листах два уголка с названиями «Национальные парки». Но вряд ли проектанты сами хорошо понимают, что это значит. «Национальный парк» — это не просто на карте очерченный уголок милой нашему сердцу природы.
Это тщательно организованная территория с дорогами, гостиницами, снабжением посетителей пищей, бензином и иными видами обслуживания, хорошо действующей службой охраны природы. Это все требует особой заботы, немалых капиталовложений, соответствующей культуры ведения дела.
Конечно бы, хорошо-парк… Но вряд ли проектировщики не знают о судьбе национального парка «Русский лес» вблизи Серпухова. Был проект, были речи, статьи в газетах, обсуждение в министерствах, было много всего. Кончилось дело постройкой четырех домиков, облицованных фигурным тесом, для услаждения глаза людей, проезжающих по дороге Москва — Симферополь. Это и все. Так что давайте стоять ногами на грешной земле и не будем украшения ради оснащать проекты словами, за которыми ничего не стоит.
Но важно, однако, хотя бы часть мещерской природы оставить нетронутой экскаваторами.
Сейчас, когда «Схема» еще утрясается, важно возможно большую часть Мещеры уберечь от вторжения механизмов. Через шесть — восемь лет будет видно, каким образом лучше распорядиться этим резервом. Сейчас же нужна предельная осмотрительность. Для лучшего береженья мещерской природы разумно было бы до начала работ максимально расширить территорию Окского заповедника — он сегодня тут самый надежный хранитель проверенных временем ценностей. Эти ценности — тишина, здоровый воздух и чистые воды — сейчас нужны человеку ничуть не меньше, чем хлеб насущный.
* * *
Утром я снова увидел братьев Антоновых. Они спешили на свой облезлый «болотный» автобус. Но что-то у автобуса не заладилось, и мы с полчаса посидели у тощей речушки, наблюдая, как по огромным, нагретым солнцем железным трубам бегает трясогузка.
— Мы солдаты, — сказал Алексей, кидая камешки в воду. — Копаем, копаем… Но жизнь уже научила: от этой нашей канавы бывает польза, а бывает — локти кусаешь. Земля — не эта вот колымага. Эту спишут в утиль, как только другую пришлют. А землю попробуй-ка замени…
— Садись, поехали! — крикнула у автобуса шофер-женщина. Два десятка мелиораторов, весело подталкивая друг друга, сели в автобус. И он поехал, слегка кособочась.
За поселком автобус повернул с бетонной дороги на блестевшую синими лужами колею и, колыхаясь, как лодка на крупной волне, долго плыл вдоль опушки… Через час-полтора он приедет в места, где совсем недавно ходили лишь лоси и грибники.
Фото автора. 23 января 1980 г.
Пасти журавлей
(Проселки)
В пойме Пры у болотца два молодых человека пасли журавлей. Главная их задача состояла в том, чтобы с помощью хворостинки предупреждать журавлиные драки. Так уж устроены журавли — скинув с себя яичную скорлупу и чуть обсохнув, они сейчас же бросаются в схватку.
У белых журавлей из двух птенцов один погибает. (Довольно жесткая форма естественного отбора.) Родители журавлей серых, как полагают, уводят драчунов в разные стороны.
И они долго потом не встречаются: один ходит с матерью, другой с отцом. На шестой неделе инстинкты биологического соперничества гаснут, и на болотах воцаряется мир.
Эти шесть журавлей родились в инкубаторе. Яйца, из которых они появились, взяты в гнездах журавлей серых (на мещерских болотах) и белых журавлей-стерхов, живущих в пойме якутской реки Индигирки.
Малыши журавлей выглядят одинаково — комочек коричневато-желтого пуха на голенастых ногах. И, конечно, было им невдомек, кто они и откуда. Но это хорошо знали люди, наблюдавшие журавлей. Они отмечали сходство повадок у птиц и строили любопытные планы…
Журавли между тем, порываясь подраться, если оказывались в критической близости, ловили в болотце мелких лягушек, жуков-водомерок, на полянах в лесу хватали кузнечиков и скорее, чем люди, замечали спелую землянику.
Резво убегает журавленок, хоть и инкубаторский.
* * *
Журавлей на земле становится меньше и меньше. Когда-то осенью и весной косяки этих птиц проплывали по небу. Сегодня лишь редкий счастливец может сказать: «Видел пролетающих журавлей».
Всем нам знакомые серые журавли еще держатся, а вот белых осталось совсем немного.
Американцы считали, что их уже нет. Но лет пятнадцать назад на болотах Техаса вдруг обнаружили четырнадцать зимующих птиц. Открытие самой Америки, кажется, не наделало столько шума, как эта неожиданная находка.
Предприняты были энергичные меры для спасения остатков этих некогда многочисленных птиц. На месте зимовок в Техасе был учрежден заповедник. Орнитологи проследили пути перелетов и отыскали места гнездования журавлей. (Они оказались в Канаде.)
Первые годы птиц во время пролетов сопровождали специальные самолеты. Каждый американец считал своим долгом сообщить, где и когда он видел пролетающих журавлей. Об этих ставших легендарными птицах написаны книги, много серьезных и популярных статей, сняты документальные фильмы. Газеты и телевидение в конце каждого декабря, перечисляя важнейшие события года, обязательно сообщают, как обстоят дела с журавлями — сколько их прибавилось, а если не прибавилось, то почему.
Число журавлей медленно, но растет. Ученые, тщательно изучив этих птиц, пришли к выводу: одно яйцо из гнезда, без ущерба для роста стаи, можно забрать. Эту операцию они успешно проводили несколько лет подряд, выводя журавлей в инкубаторе. Таким образом, вместе с ростом природной группы росла группа птиц, живущих в неволе. Однако специалисты пошли еще дальше. Они решили создать «запасную» популяцию журавлей, живущих на воле. (Важно было, чтобы они гнездились и зимовали в иных местах и летали иными путями.) Для этого яйца, полученные от белых журавлей, живущих теперь в неволе, стали подкладывать в гнезда серых журавлей, обитающих в западной части Америки.
Расчет был на то, что, воспитывая малышей, серые журавли не заметят, что имеют дело с подкидышами. И расчет этот, кажется, оправдался.
У нас в северной части Якутии гнездятся белые журавли-стерхи, очень похожие на американских. (Судьба их тоже похожа — предполагают, осталось не более трех сотен птиц.) И вот возникла идея «зажечь от догорающей свечки новую» — сделать примерно то же, что сделали американцы. Схема операции такова: из гнезд стерхов некоторое время брать второе «страховочное» яйцо, доставлять яйца в специально созданный журавлиный питомник, выращивать там журавлей (в неволе их можно заставить класть не два яйца, а значительно больше) и потом подкладывать яйца в гнезда серых журавлей с надеждой, что уже не только в Якутии, айв другом месте нашей страны будут гнездиться белые журавли. Каждому ясно: идея хрупкая, однако шанс на успех все же есть.
И если даже не будет достигнута цель конечная, создание «зоопарковой группы» стерхов тоже можно будет считать хорошим итогом.
Минувшей весной орнитолог Окского заповедника Владимир Панченко положил в инкубатор два яйца серого журавля. (Яйца стерхов — величайшая ценность, ими нельзя рисковать.
Для накопления опыта выведения редких птиц решили начать с журавлей серых.) Инкубация прошла гладко. Яйца, как тому полагается быть, «худели», теряя полграмма в сутки, потом они стали слегка шевелиться. И вот скорлупа одного треснула, из нее появился на свет первый рыжий мещерец. Через четыре дня он уже стал на «ходули» и по пятам следовал за ботинками воспитателя, который записывал в книжку все, что касалось роста, питания, поведения журавленка…
Через семнадцать дней и второе яйцо разрешилось рыжим пуховичком. И почти сразу же стало ясно: старший младшего заклюет.
Каждому из необычных жильцов в доме Панченко отгородили из марли стойлице. И птицы могли только слышать друг друга.
Питание в пансионе было строго рассчитано. Очень важное правило — «вес не должен опережать роста» — тщательно соблюдалось. И все-таки за одним из питомцев не уследили, и он сразу же потерял форму — длинные ноги не держали отяжелевшее тело. Пришлось его посадить на диету.
Так они и росли: рациональный стол (белок яиц, лягушата, рыбьи мальки, ягоды, яичная скорлупа) сочетался с интенсивной ходьбой.
В журавлиной жизни ноги играют ничуть не меньшую роль, чем крылья. Это птица-ходок.
В природе она на ногах уже с первых дней жизни. Тут тоже на ходьбу журавлей отвели ровно треть суток — восемь часов. А чтобы с ходоками ничего не случилось, приставили к ним пастухов — двух студентов, проходивших в заповеднике практику.
Пастушья работа однообразна, но ребята имели редкий случай понаблюдать, как птицы «учились жить». Как сразу же без боязни залезали в болото, как с наслаждением плавали, хватали слепней (и научились не трогать пчел!), как сломя голову убегали в кусты, заметив в воздухе силуэт коршуна или услышав шум самолета. И порывались все время подраться.
Старшего звали Брыка, младшего — Крош.
26 июня журавлята беззаботно резвились возле болота, полного головастиков. А в это самое время за тысячи километров от мещерского Брыкина Бора, в тундровой пойме реки Индигирки, кружил вертолет — орнитолог Владимир Евгеньевич Флинт помечал на карте редкие гнезда стерхов. Через четыре-пять дней в них должны были появиться птенцы. Стараясь не потревожить птиц, вертолет приземлялся в стороне от гнезда. И вскоре к нему возвращался «помытчик», держа в шерстяном носке драгоценную ношу. В четырех гнездах журавлям оставили по яйцу. А четыре яйца в специальном ящике-термостате сначала в вертолете, потом в самолете, потом от московского аэродрома в автомобиле спешно до ставили в Брыкин Бор. Два птенца появились на свет по дороге. Два родились в инкубаторе.
Прибавилось забот у Панченко. Прибавились хлопоты пастухам-журавлятникам. Профессору Флинту чаще стали звонить в Москву из Окского заповедника… Серые и белые журавли в детстве почти что неразличимы. И повадки у них одинаковы. Лишь спустя время у взрослых птиц появляется «законное» оперение: белые журавли становятся белыми, серые — серыми.
* * *
Таково начало операции «Журавль». Время покажет, плодотворна ль идея «зажечь от догорающей свечки новую». Но усилия по спасенью удивительных, украшающих землю птиц благородны.
Журавли почти всех видов нуждаются сейчас в защите и покровительстве человека.
Бег жизни, конечно, не замедлится от того, что какая-то птица, какой-то зверь останется людям лишь на картинках. Но есть что-то необъяснимо важное в том, чтобы видеть в небе не только пролетающий самолет. Важно для человека, хотя бы нечасто, хотя бы раз в жизни, видеть и журавлей.
Ротан
Вы замечали, наверное: рыболов сидит иногда, казалось бы, в безнадежном месте.
Какая-то ржавая лужа — торчат покрышки автомобильных колес, куски железа, пластмассовый мусор… Уважающая себя лягушка не станет селиться в таком водоеме, однако у рыболова — поклевка, и, глядите-ка, — вынул рыбешку!
— Ротан?
— Ротан, — отвечает рыбак, кидая в траву добычу, цветом похожую на ерша и чуть побольше его размером.
В названии рыбки можно почувствовать чужеземное слово. Однако стоит взглянуть на огромный рот этого существа, как все станет ясным.
Лет десять назад никто в нашей Средней России не знал этой рыбы. Ее не было. И вдруг как будто с неба свалилась. Появилась сначала, вызывая всеобщее удивленье, в прудах, канавах, речках и колдобинах Подмосковья. И потом пошла расселяться. Проезжая по землям рязанским, мы специально интересовались: не появилась ли тут?
— Да появился, будто он неладен! — сказал рыбак, отпуская с крючка добычу не очень желанную…
Известно немало историй, когда животные и растения, случайно или намеренно завезенные из исконных мест обитания в другие районы земли, начинали распространяться с фантастической быстротой, подавляя аборигенные формы жизни. Пример классический — расселение кроликов по Австралии. Иногда переселение оказывалось с хозяйственной точки зрения удачным. (Ондатровыми шапками мы обязаны зверьку, завезенному в Европу и Азию из Америки.) Однако таких примеров немного.
Чаще переселенец, не имея врагов, начинал процветать за счет беззащитных от него старожилов. Так случилось с уссурийской енотовидной собакой, переселенной в Европу. Так случилось с енотом американским, завезенным недавно в Германию каким-то любознательным лесником. На юге Соединенных Штатов не знают, что делать с заполнившим реки и водоемы водяным гиацинтом, привезенным из Индокитая любителем-цветоводом. Можно вспомнить еще воробьев и скворцов, привезенных из Европы в Америку, и колорадского жука, возможно, с грузом картошки пересекшего океан.
В прудах эта рыбешка переводит даже лягушек.
Героем нашего времени стал ротан. Говорят, что все началось с десяти рыбок, привезенных молодыми ихтиологами с Амура и выпущенных забавы ради в звенигородский пруд. И вот результат — в Подмосковье и прилежащих в нему областях редко сейчас найдешь водоем, где бы ротан не царствовал. Бедой является то, что он, пожирая все, что под руку попадает, истребляет икру всех остальных рыб. И там, где ротан поселился, карась и карп исчезают. К тому же ротан необычайно вынослив и жизнестоек. На лапках птиц, переносящих его икру, и с весенними водами он расселяется, расселяется…
Многие рыбы необычайно выносливы.
Карась способен выжить, зарывшись в грязь. Во Вьетнаме я наблюдал рыбку «банан», живущую в мелкой воде рисового поля. В Судане есть рыба, переносящая высыхание водоема. Она остается живой в толще потрескавшегося ила до сезона дождей. Эту рыбу с комком земли посылали по почте, и она приходила в себя, как только комок опускали в ванну с водой.
А недавно известен стал поразительный случай с угрем. Сорок пять лет назад австралиец О’Брайен поймал угря и подарил своей тетке.
Тетка пустила рыбу в садовый колодец. И позабыла о ней. Колодец через год за ненадобностью забетонировали. В прошлом году он снова понадобился в хозяйстве. Каково же было удивление О’Брайена, решившего почистить колодец, когда он обнаружил там живого угря, пойманного сорок пять лет назад.
Это, конечно, случай особый. Но вот что мне рассказал ловец ротанов у маленькой подмосковной деревни Зименки: «В феврале с речки в погреб я навозил льду. А осенью, прежде чем ссыпать картошку, остатки льда и воду, им образованную, из погреба взялся вычерпывать.
И что же, в воде оказались… четыре живых ротана! Вмерзшие в лед, ротаны благополучно в погребе зимовали, благополучно жили весну и лето… Поймаешь ротана в речке — два дня живет в холодильнике. В ванну пустишь — он в ванне клюет».
У себя на родине, на Амуре, ротан живет в многочисленных остающихся после разлива пойменных бочагах. Жизнь рыбешки спартанская — бочаги высыхают и промерзают. И потому, оказавшись на новоселье, он очень легко и быстро прижился, находя приемлемой воду, в которой любая другая рыба не выживает.
В чистой проточной воде ротан встречается редко. Но пруды и озера ему по душе, и он переводит в них даже лягушек. Рыбоводов это, конечно, сильно должно тревожить. Начать с ротаном войну… Но как? Нет способа обуздать мощную, не подконтрольную человеку вспышку природной силы. И трудно даже поверить, что все началось с десяти рыбок, с неосмотрительной шутки с природой.
По своим качествам ротан, с точки зрения человека, стоит едва ль не на самом последнем месте среди пресноводных рыб. Но отношение к нему, как можно заметить, двоякое. Рыбак серьезный плюется. А те, кто рад любому движению поплавка, не в претензии-хотя бы ротан!
Тем более что удить можно едва ли не в каждой луже.
Черная маска
Я стоял, прислонившись спиною к теплой шероховатой сосне. И вдруг прямо под ноги мне бросилась, распустив перья, птица размером менее воробья. Она искала защиты. От кого же? Я успел это только подумать, как птица взлетела, и следом за ней в орешник, а потом далее по траве понеслось что-то, мелькавшее серой, черной и белой окраской.
Я побежал следом и увидел, как терявшая силы зарянка еще раза три метнулась в кустах, и следом за ней неотступно гнался не слишком ловкий, но очень упорный охотник.
Появление человека разрешило драму в пользу зарянки. Она шмыгнула в сухие заросли малинника и крапивы, а тот, кто гнался за нею, взлетел на сухую ольшину и стал с любопытством меня разглядывать.
Это был серый сорокопут. Все краски на его оперении расположились теперь в нужном спокойном порядке. Птица чем-то неуловимо напоминала маленькую сороку, хотя в оперении не было ни сорочьей ослепительной белизны, ни отливающей синевой черни.
Так вот каков ты, голубчик… Бинокль подавал птицу к самым моим глазам. Наиболее выразительной в ее облике была несоразмерно крупная голова с большим крючковатым клювом и темной полосой-маской, на которой блестели бусинки глаз. Ну, брат, на разбойника ты и похож…
Уставший после погони сорокопут отдыхал и, казалось, забыл обо всем, что его окружало, даже недремлющий глаз потускнел. Но стоило чуть сократить расстояние — птица нырнула с ветки к самой траве и полетела в волнистом полете…
Серый сорокопут. Красавец.
Это место я помнил, и год спустя, оказавшись в лесах у Оки, пошел прогуляться по вырубке.
И снова встреча! Та ли самая птица или, может, полянка в окружении редких осинок с бочажком стоячей воды и зарослями репейника чем-то особенно привлекала сорокопутов, но вот он, мой хороший знакомый, сидит на ветке, да еще и с добычей — на острый сучок наколот маленький лягушонок. Убедившись, что мимо я не пройду, птица взлетает, и я как следует разглядел ее жертву…
В лесу изредка попадаются то лягушонок, то землеройка, то ящерица и даже птицы-малютки, наколотые на шипы колючих растений, на острый сучок или зажатые в развилку веток. Это запасы сорокопута. Считают, при слабых лапах ему легче именно так умерщвлять пойманных и поедать их прямо с сучка. Однако, скорее всего, объяснение это неполное. Так же, как и вороны, сороки и сойки, сорокопут делает аварийный запас на случай непогоды или бескормицы.
Особо важны такие запасы в холодное время.
(Серый сорокопут в отличие от меньшего по размеру сорокопута-жулана на зиму в Африку не летает.) Со снегом он начинает охотиться только на птиц, подстерегая их на кормежках или в местах перелетов.
В отличие от других хищников («промахнулся — другую поймаю») сорокопут преследует жертву очень настойчиво и, водворив ее на сучок, осматривается: нет ли еще добычи.
В метели и в очень морозные дни птица находит свои запасы. А иногда и забывает о них. И если зимой на сучке вам придется увидеть пушистый комочек мертвой синицы или четки, значит, ваша лыжня проходит в местах, где действует «черная маска». Может случиться, что «маску» вы увидите. Эта птица размером с дрозда обликом отдаленно напоминает сороку. Но ни родством, ни образом жизни с сорокой она не связана. Это сорокопут.
Фото автора. 25 января 1980 г.
Беседа
(Проселки)
С дороги, идущей от Касимова полем, видишь в лощине верхушки ветел, крыши домов и на взгорке — красного кирпича колокольню, крытую свежей жестью. О колокольне я прежде всего и спросил Александра Александровича.
— Совсем новая крыша…
— Да нет, церковь не действует, — ответил парторг. — Еще с довоенных лет на замке.
Кровля пообветшала, решили подправить. Дело для колхоза не разорительное, а сразу как-то опрятнее выглядеть стало село… — Опасаясь, что городской его собеседник, грешным делом, может и не понять этой необычной заботы, Александр Александрович прибавил: — Опрятность этой видной с любого двора постройки, конечно, воспитывает уваженье у человека к порядку. Так что бог тут совсем ни при чем…
После беседы в правлении мы пошли с Александром Александровичем по деревне. Как водится, гостю было показано все, чем законно тут можно гордиться: большая новая школа, еще пахнущий свежей краской и похожий на маленький городок детский сад, автоматический телефонный узел, большой и хороший клуб («кино — каждый вечер»), добротные деревянные дома для колхозников («ставим дом и сразу сажаем сад»). Асфальт на главной улице и телевизионные антенны над каждой крышей дополняли увиденное. Однако не только эти признаки достатка, разумной, расчетливой траты средств и движения в ногу с жизнью останавливали внимание. Очень обрадовал не утраченный тут, в Дмитриеве, чисто деревенский дух жизни.
Дома не все были новые, но у каждого был палисадник, двор, сад, огород. Во дворах по-вечернему кагакали гуси. Посреди улиц на траве возились дети. Старухи сидели на скамейках возле домов. (Одна, подозвавшая Александра Александровича для какого-то разговора, сбивала в горшке сосновой мутовкой масло.) Пахнуло вечерним дымком, деревенской стряпней из труб, и главной улицей степенно, неторопливо возвращались с пастьбы коровы. В домах скрипели калитки и слышались голоса: «Марусь, Марусь…», «Зорька…» Парень на оранжевом тракторе приглушил мотор, давая проследовать стаду.
«Доброго здоровья!» — приветствовал пастух моего провожатого и поручил стадо, с врученьем кнута, подвернувшемуся мальчишке.
Александр Александрович извинился, и они с пастухом, присев на бревна у дома, минут десять обсуждали какой-то деликатный и важный для пастуха житейский вопрос. «Ну ладно: так, значит так», — согласился пастух, прощаясь, видимо, даже довольный разрушению своего обдуманного в одиночестве плана…
Еще в правлении, наблюдая заходивших к секретарю колхозников, я заметил особую атмосферу отношения между людьми. Заходили по делу, но разговор непременно касался чего-то еще, вроде бы к делу не имеющему отношения, но явно ему помогавшему. «Коля! — кричал Александр Александрович со второго этажа в окно шоферу, с которым только что говорил в кабинете. — Я забыл тебя попросить, будь другом, заехай к Прасковье Ивановне, узнай, привезли или нет ей дрова… Сам привезешь? Ну, что ж, хорошо…» И такой тон со всеми. Молодые у него: «Коля… Таня… Федя», к старику вышел из-за стола: «Василь Андреич, извини, пожалуйста. Знаю, зачем пришел, но я не успел поговорить с председателем… Мимоходом сам загляну».
— У вас село, почти как семья… — сказал я, когда попрощался еще один посетитель.
Александр Александрович, извинившись, прочитал в телефон короткую сводку в район и сам вернулся к начатому разговору.
— Семья, говорите… Семья — дело особое. Хорошую семью и под одной крышей не просто сладить. А вот добрые отношения, уклад жизни с учетом всего, что деревне должно быть свойственно, это и Петр Иванович как председатель, и я как парторг всегда помним. А мы ведь почти что состарились в этой деревне. Часто ведь как бывает-«план по мясу, планы по молоку», а все остальное из поля зрения уплывает. И получается, что вроде бы только для плана человек и живет. А человек должен чувствовать радость жизни, радость труда на земле, радость своего очага. И когда он понимает, что это в нем уважается, будет и план, и даже многое сверх плана. Наше село не обветшало, не обезлюдело, а сейчас просто крепко стоит на ногах, потому что как-то так получилось: тут не забыли эту несложную мудрость.
* * *
Мы просидели с Александром Александровичем до полуночи. Разговор о деревенском укладе жизни неизбежно коснулся прежних традиций, обрядов и праздников, рожденных спецификой сельского быта, близостью человека к природе, влиянием времен года на его занятость.
— Это все — употребим не крестьянское слово — поэзия бытия. И это очень важная вещь. При нелегком труде на земле особый деревенский уклад давал человеку, даже при бедности, ощущение радости жизни… Согласны?!
Так вот, надо ли это забыть и перекладывать деревенскую жизнь на городской лад? Некоторые думают: именно так следует сделать. А мы вот так не считаем.
Я возразил, главным образом из желания удержать разговор в нужном русле:
— Но. Александр Александрович, жизнь-то в корне переменилась. Есть ли что сохранять, утверждать и отстаивать?
— А вот давайте поразмышляем…
Взялись прикидывать вместе, и оказалось, что есть! И на примере села Дмитриева это можно и рассмотреть.
Сельский дом… Традиционно — это не просто жилище, это еще и двор, сад, огород. Это корова (коза, на худой конец), куры, гуси, кошка, собака, скворечня, ласточки под карнизом. Это целый мир для деревенского человека от рождения и до старости. Это его школа жизни, его убежище, это основной корень, соединяющий человека с землей. Подруби этот корень, и человек уже — перекати-поле, ему все равно, где и на каких этажах жить. На эту традиционную жизнь кое-где покушаются, пытаясь втиснуть деревню в три-четыре многоэтажных дома. «Последствия этого неизбежно будут печальными, ибо человека, с его извечной жаждой «копаться в земле», можно все-таки приучить к сидению у телевизора и к игре в домино», — говорил Александр Александрович.
В Дмитриеве, правда, тоже построен один жилой двухэтажный дом. В нем поселили учителей и молодых специалистов, недавно в деревню приехавших. «Но курс основной — одноэтажный дом для семьи. Строит такие дома колхоз. Плата жильца — менее трех рублей в месяц. Всячески поощряем инициативу в строительстве. Строящий себе дом — это постоянный жилец в деревне. Это опора в нашем хозяйстве».
Неосмотрительное нарушение основ в сельском укладе жизни уже дало примеры для поучительных размышлений на этот счет.
Лет двадцать назад возобладала мысль, что если сельский житель не будет иметь коровы и иной живности во дворе, то все свои силы он направит на работу в хозяйстве общественном.
Мы помним то время. Сколько было и вздохов, и слез при расставании с буренками! Корова для сельского жителя всегда была чем-то само собой разумеющимся в домашнем хозяйстве — «Как жить без коровы?!».
И вот видим теперь, что вышло из насильственной операции. Пожилые владельцы скотины поплакали, повздыхали и успокоились постепенно — житье без коровы оказалось возможным и даже не лишенным удобств: не надо с зарей подыматься на дойку. Не стало в доме «своего» молока, масла, творога — да уж ладно, как-нибудь перебьемся. («Во град ездим за молоком», — сказала мне жительница деревеньки, стоящей в пятидесяти километрах от столичного града. Старуха это сказала с горечью, а молодуха из той же деревни о привозном «городском молоке» говорила с вызывающей бодростью, как будто во градах молоко бьет из артезианских скважин.)
Итог невеселый. С молоком и творогом туговато. И не потому только, что ранее от любой коровы молоко так или иначе попадало в общегосударственный бидон. Не достигнута цель, ради которой все затевалось. Пожилые теперь Дарья Петровна или Марья Петровна, лишившись своей коровы, на общественной ферме все-таки продолжали работать. А вот дочери их, не понюхав с детства навоза на своем дворе (деревенская пословица говорит: «что воняет, то и пахнет»), не спешат идти и на общественный двор. Таково следствие повреждения корня традиции. Сейчас помаленьку поправляется дело. Но подобного рода просчеты исправить очень и очень непросто.
Дмитриево не было исключением, когда коров провожали под нож. Но тут раньше других поняли ошибку, а общий стиль жизни села позволил легче ее исправить. Сейчас тут на 240 дворов 90 коров, то есть больше, чем в каждом третьем дворе. (Не говорите, что это мало. Приходилось бывать в деревнях, где молока купить невозможно — нет ни единой коровы.) И количество скота в Дмитриеве возрастает. «Колхоз, — как сказал Александр Александрович, — создал для этого «режим наибольшего благоприятствия»: по низкой цене продаются телки и поросята, всячески помогаем с кормами, из общих укосов каждый владелец коровы получил долю, а неудобья отдали косить исполу: копна — колхозу, копна — косцу». В результате колхоз обеспечен кормами и личный скот тут не будет голодным. Итог: в каждом третьем доме — свежее молоко, масло, творог. (Излишки покупает сосед, а поскольку и при этом условии молоко остается, то каждое утро по селу проезжает машина с цистерной, и эти излишки — 700–900 литров вместе с удоем общественной фермы идут государству, «во грады».)
Еще одна сторона жизни… Александр Александрович особо ее подчеркнул — забота о стариках. «В деревне все на виду, все рядом — жизнь и работа. Забвение тех, кто ослаблен годами, — неизбежно подточит все ценности. Это ведь как на войне. Если о раненых забывают — армия обречена. Умный командир даже ценою новых потерь вынесет раненых с поля боя. Таким образом укрепляется нравственная сила. А она важна одинаково всюду, где живут и действуют люди. Заботясь о стариках, мы не только воздаем должное за все, что они тут сделали, мы укрепляем веру у молодых: твое село, твой колхоз — надежное место для жизни».
Александр Александрович по памяти перечисляет людей, которые, перешагнув пенсионный возраст, продолжают работать в колхозе. «Никого не понуждаем бросать. Потребность трудиться у многих сохраняется до последней черты. Помогаем подыскать дело по силам, лишний раз похвалишь, поддержишь старания человека, и это, глядишь, главное, в чем он нуждается. А когда приходит время все-таки сесть на скамейку у дома, человек опять же ломтем отрезанным себя не чувствует.
К государственной пенсии мы выделяем специальную «колхозную надбавку», заботимся о дровах, о том, чтобы яблоком из колхозного сада, молоком, зерном для птицы не был человек обделен. Из каждого урожая выделяем пшеницы. И что, возможно, самое главное — несмотря на дела, находишь минутку забежать, спросить: как жив-здоров?»
О молодых в колхозе своя система забот.
Учиться поехал — держат его в поле зрения, помогают. В армию идет — проводы. Вернулся из армии — деньги из специального фонда.
Свадьба — тоже колхоз участие принимает. Обстроиться захотел — опять же в помощи не откажут. Пять лет механиком отработал — в четверть зарплаты надбавка. «Восемь человек из десяти, отслужив в армии, едут домой, да еще и невесту с собой привозят. Приятно это все видеть? Приятно! Однако не будем при этом преувеличивать блага материальные. Мы знаем хозяйства, где этот поводок легко обрывается и люди, как горох из сухого стручка, — кто куда. Важен нравственный климат.
А всякий климат в одночасье не создается. Это работа долговременная. Вот почему важно, заботясь о молодежи, не терять из виду и стариков. И ежели обратиться к опыту жизни, то мы увидим: в деревнях, аулах, хуторах, кишлаках так и было всегда. В этом мудрость традиций».
Коснулись мы в разговоре и того, что обычно в первую очередь вспоминают, когда говорят о традициях на селе, — праздников и обрядов. «Увы, — сказал Александр Александрович, многое ушло невозвратно. Искусственно возрождать то, что было связано с прежним укладом в деревне, — бессмысленно».
И это, конечно, верно. Но вот что важно заметить в прежних праздниках и обрядах. Все они были крепко привязаны к укладу именно деревенской жизни, к срокам сельских работ, к переменам в природе. Масленица — это конец зимы, Троица — это начало лета. Яблочный Спас, Медовый Спас, печенье жаворонков из теста в марте, смоление кабана к рождеству и свадьбы на Покров, осенью — главные деревенские праздники не приходились на горячее время работ. Они либо предваряли эти работы, а чаще венчали их. Иначе говоря, дело, труд, зависимые от капризов природы, — в первую очередь, а праздник — это в подходящее время передых от трудов. В этом смысле в сельской жизни, несмотря на обилие механизмов, условия не изменились. Тут по-прежнему не потерянный в нужное время день (даже час!) кормит год. И по этой причине в колхозе «Заветы Ильича» 1 Мая, например, — день рабочий. Это не значит, конечно, что село Дмитриеве не ценит солидарности со всем трудовым человечеством. Просто начало мая — это самый разгар работ. Потерять в это время два дня и, хуже того, сбиться с ритма — это очень большие потери. «Поэтому мы вывешиваем флаги, а сами в борозду», — говорит Александр Александрович.
Майский праздник в этом селе передвинулся на начало июня (точного числа у него нет, проводится по окончании весенних работ и называется «Праздник березки»). Дома в этот день не остается никто. Тысячи полторы людей, молодые и старые, с ребятишками на руках и в колясках, под руку с женами и невестами, с гостями из других деревень (в колхозе есть отделения), собираются в парке. «Минут пятнадцать говорит председатель или я говорю.
А потом — кому премия, кому подарок, кому доброе слово. Но и тут же веселье: ярмарка со всякими выдумками, своя самодеятельность и еще артистов из Москвы приглашаем, пять буфетов работает. В обществе трезвенников у нас никто не числится, но обходимся без вытрезвителя и даже без участкового. Я сам люблю этот праздник, знаю, как его ждут и потом едва ли не полгода еще вспоминают…»
* * *
Так понимают традиции в селе Дмитриеве.
Сама жизнь научила тут различать, что хорошо, что плохо. Но этому селу на Мещере и повезло. Повезло на двух хороших людей, тут выраставших и близко к сердцу принявших судьбу всего. Что дорого человеку в родном углу.
С большим удовольствием называю этих людей. Это председатель колхоза Жидков Петр Иванович и мой собеседник, секретарь колхозной партийной организации Александр Александрович Петропавлов. Иногда о людях этих двух должностей говорят: сработались. В этом случае слово «сработались» слишком бедное и неточное. Это единомышленники, хорошо понимающие и государственные задачи, и повседневную жизнь родного села.
«Мне тут легко, — говорит Александр Александрович. — Почти все люди в колхозе — мои ученики. И я, как прежде в школе, всех называю: «Лида, Федя…»
Отец и мать Александра Александровича — учителя. (Отцу присвоено звание заслуженного учителя школы РСФСР.) И сын тут, в Дмитриеве, стал учителем, а потом и директором школы. При нем в 1939 году нынешний председатель колхоза, а тогда Петя Жидков, кончил школу. Во время войны Александр Александрович был начальником школы девушек-снайперов, Петр Жидков воевал пехотинцем. После войны Александр Александрович снова директорствовал, а ученик его стал счетоводом. В 1958 году директора школы односельчане попросили возглавить колхоз, и он согласился. Председателем он оказался хорошим и работал четыре года, но, присмотревшись к Петру Жидкову, сказал: «Вот для колхоза настоящий хозяин». С его доводами согласились, но самого из колхоза не отпустили, выбрав секретарем партийной организации. Работают вместе уже восемнадцатый год.
«Петр Иванович — это хозяин с золотой головой и добрым мужицким сердцем», — говорит Александр Александрович о своем друге. О нем самом же, хитровато прищурясь, сказала мне Евдокия Петровна Митина, самая древняя из старожилов в деревне: «Лександр Лександрыч у нас все равно, как в старое время поп. Только лучше. Батюшка, бывает, послушает, посочувствует, посоветует. А этот послушает, посочувствует, посоветует и поможет».
Деревенский капитал всяко можно измерить. Можно посчитать деньги в итоге года, можно счет вести на пуды, на приплод и привес у скотины, можно вспомнить, сколько построек возведено, какие дороги проложены, что куплено. Но есть богатство, которое не измеришь привычными мерами, однако оно в человеческой жизни главное — это нравственный капитал. При этом главном богатстве все остальное, как вагоны при исправном и хорошо отлаженном паровозе. Эту очередность ценностей в Дмитриеве вполне понимают и председатель, и секретарь. Оттого и село прочно стоит на ногах, и жизнь в этом мещерском селении проходит осмысленно, не бестолково, с радостями и надеждами.
Все, однако, познается людьми в сравнении. Было время — отсюда тоже уезжали и на стройки, и в города. Не жалеют ли сейчас об отъездах и нет ли теперь движенья обратного — в село из города? Оказалось, что есть: и для колхоза это немаленькая проблема. Желающих переехать в село из города очень много. Мне показали папку с сотней недавно полученных писем. Во всех просьба: «Сообщите, нельзя ли приехать и вступить в ваш колхоз?» Письма разные, в том числе от людей, у которых личная жизнь дала трещину, и они, прослышав о здешнем хозяйстве, ищут прибежища. Есть наивные письма от коренных горожан, для которых житье в деревне — это сплошной сенокос, хождение за грибами и чистый воздух.
Но в большинстве пишут люди, когда-то жившие тут, в селе, а теперь, приглядевшись к городскому житью-бытью, увидели, что прогадали. Есть у колхоза уже и опыт взаимных отношений с теми, кто приезжает. «Коренные горожане не приживаются. И мы теперь соответственным образом отвечаем на письма, — говорит Александр Александрович. — Деревенская жизнь человеку много дает, в том числе свежий воздух, сенокос и грибы, но много от него и требует. Эти требования горожанину часто и непонятны, и тяжелы. Лучше всех приживаются те, кто когда-то покинул именно наше село. Для них возвращенье — все равно что выход на знакомую просеку после блужданий в лесу. Ну и вообще человек деревенской закваски довольно скоро пускает корни, если он, конечно, не лодырь, не пьяница, не стремится брать больше, чем отдает, и уважает наши традиции и порядки».
На мою просьбу назвать кого-нибудь из «пустивших недавно корни» Александр Александрович перебирает десяток фамилий: «Вам ведь, я понимаю, надо, чтоб и человек-то был интересный… Так вот, помечайте: Павел Николаевич Константинов… Найти его просто: дом с петухом на крыше…»
* * *
Мы прощались близко к полуночи. Село заливало сиянье погожей осенней луны. Синеватые блики света отражал сонный омуток реки, кровля на колокольне, синеватыми редкими фонарями светились яблоки в темной листве. «Вот и еще картинка к нашему разговору, — Александр Александрович срывает яблоко с ветки над пряслом.
— Попробуйте. Это антоновка. Подчеркиваю — антоновка, старинный российский сорт. Там, где эти местные яблоки извели, заменили сортами южными, в этом году погорели. И как погорели! Мороз все убил. Видели сами, сады стоят черные.
А вот воргуль и антоновка живы! Почему?
Веками притерты к нашему климату, испытаны самыми лютыми холодами… В сельском укладе жизни прежде чем что-то отбросить и позабыть как ненужное, следует пять раз подумать… Ну, теперь уж прощайте».
Александр Александрович уходит по белой от лунного света дорожке. Ему шестьдесят три, идет он немного ссутулившись. Сорок лет своей жизни он ходит по этой улице, и она стала его судьбою.
— Вот тут, у колодца, свернете направо, — подает Александр Александрович голос уже с поворота дороги. — И не забудьте: дом с петухом…
Колхоз «Заветы Ильича», Рязанская область.
27 января 1980 г.
Дом с петухом
(Проселки)
Дом мы нашли без труда. Хозяин чинил крышу и прыгнул вниз с легкостью подростка, хотя ему исполнилось пятьдесят.
— Вот все тут: семья, хозяйство, радости и заботы — врастаем в рязанскую землю. Правда, Аленка? — отец прислонил к носу четырехлетней дочери испачканный краской палец. Со смехом нос всей семьей оттирали. Потом Аленка вернулась к ораве кроликов и, вполне уже понимая, что забавляет взрослых, стала считать: «Раз, два, три…» Но кроликов около сотни, они бегали по двору, а способности в счете дальше десятка пока не шли…
Была во дворе минутка, когда все рады отвлечься от дел и сообща позабавиться. В такой момент как-то сразу чувствуешь, чем живут в доме: ладно ли, дружно ли? Чувствуешь, как относятся дети к родителям, а родители к детям, сколько времени уделяют потехе, а сколько делу. И переход от забавы к делам тоже какой-то естественный. Вон кролики уже объедают морковку, которую девочка держит в ручонке, сын носит с тележки траву, мать продолжает резку яблок для сушки, дочь подала отцу полотенце и стирает в тазу испачканный фартук сестры.
— Няня, — кричит Аленка, — все! — и показывает растопыренные пальцы. Сестра бежит в огород за морковкой.
— Няня… — улыбается мать, провожая ее глазами, — недавно сама старшую сестру так называла.
— Сколько же их у вас?
— О, со счета собьешься, — шестеро!
— Жили-то все по местам, где нет электричества, — подмигивает жене хозяин дома, и мы садимся с ним на скамейку, как раз под задиристым, сверкающим свежими красками петухом.
* * *
Павел Николаевич Константинов… Этому человеку жизнь ничего не поднесла на тарелке. Двухлетним его нашли на пороге приюта с запиской в ручонке: «Мальчика зовут Павел. Простите».
К его имени изобрели отчество, а фамилию дали по названию села на Рязанщине. Приютил же его Касимов, старинный городок на Оке, городок, который Павел всегда вспоминал с благодарностью.
Павел рано «стал на колеса», много ездил и много видел. В обычных спорах — где лучше? — он всегда говорил: «Я вот в Касимове…» — и так рассказывал, что мало кто сомневался: все благодати земные лежат именно в этом городе. Но самое главное, он и сам в это верил.
В Касимове прошло его детство. Детство подкидыша, совпавшее к тому же с войной.
«В приюте жили голодновато. И это заставляло быть предприимчивым: ловили рыбу в Оке, ходили в лес за орехами и грибами, пекли в золе грачиные яйца, таскали из садов яблоки…»
В четырнадцать лет из детдома он убежал. Пришло известие, что погиб любимый всеми в приюте военрук, и двенадцать подростков решили: надо немедленно ехать на фронт — отомстить за учителя. Подобных мстителей в те годы к фронту стремилось много. Их снимали с товарных и пассажирских составов, ими полны были детские приемники на вокзалах. Они убегали опять и, случалось, в самом деле добирались до фронта.
Павел ухитрился проехать до Львова, но тут, несмотря на продуманный план конспирации, путешествие кончилось — его обнаружили в куче угля на платформе. В компании таких же, как он, чумазых и оборванных беспризорников мальчишку отправили в Сочи учиться на маляра.
Первую свою зарплату юный маляр получил в известном нам по бутылочным этикеткам Абрау-Дюрсо. Первая получка — важная веха в любой биографии. И очень существенно, какой человек окажется рядом в этот момент. К счастью, мастер, учивший Павла, не был из тех, которые говорят: «Ну, парень, обмыть полагается…»
Понимая, что он, возможно, единственный, кто может сказать мальчишке напутствие в жизнь, старик увел маляра-дебютанта в парк на скамейку и прочел ему небольшую житейскую лекцию, которую Павел крепко запомнил: «Главное богатство в человеческой жизни — умелые руки… Деньги заработать значительно легче, чем их разумно истратить».
Молодость — время, когда человека тянет за горизонт. Хочется много видеть. И Павел, научившись, кроме малярного, еще и столярному, и штукатурному делу, поехал, как он сейчас говорит, «обстраивать послевоенную Родину».
Он работал на Дальнем Востоке, в леспромхозе под Красноярском, а в Башкирии на реке Белой, на строительстве гидростанции, его биография отмечена еще одной вехой — женился.
Вспомнить события двадцатипятилетней давности Павел Николаевич зовет жену, и они вместе с видимым удовольствием вспоминают (нет, переживают заново!) все подробности того года. Любовь! Но родители Нины Парфеновны (на стройке она тоже была штукатуром и маляром) категорически против замужества: «Детдомовец, семьи у вас не получится».
Мать даже сказала: «Я тебе больше не мать». Однако свадьба все-таки состоялась. Со стороны невесты было четыре десятка родственников, и Павел позвал приятеля-плотника, «вдвоем и держали весь фронт».
Павел Николаевич и художник удивительный!
Время надежно определяет, кто чего стоит.
Пригляделась теща к зятю-«подкидышу», и стал он для нее зятем любимым, как в той всем известной народной песне. Всем хорош: на производстве — первый, в доме за любое дело берется, и оно у него обязательно получается, здоров, уважителен, весел. Была и осталась в Павле еще и свойственная многим детдомовцам неукротимая жизнестойкость. Для иного маленький холмик житейских помех превращается в гору неодолимых трудностей. Павел же, переживший много трудностей в ранние годы жизни, сказал жене: «Вдвоем мы все одолеем. Детей заведем полный дом. И не бойся. По миру они у нас не пойдут».
Годы рожденья детей отец и мать сейчас вспоминают по названию строек. «Виктор, Сергей и Ольга — на Павловской ГЭС, Светлана — в Бурятии, Андрей и Алена — на Дальнем Востоке».
Шесть детей, и частые пересады… Легко ли?
Нелегко. И сегодня для многих это кажется почти невозможным, немыслимым — шесть детей. Но вот она, вся семья, на ногах. И это не просто большая семья. Это семья здоровая и счастливая. Непостаревшие мать и отец, крепкие, работящие и послушные дети. Секреты жизни такой семьи? О них, наверное, можно было написать целую книгу. Но сами старшие Константиновы книжек по воспитанию не читали. «Все получилось само собой. Работали, старались, чтобы дети росли работящими, ну и, конечно, важно, чтоб лад и мир были в доме, чтобы куда иголка, туда и нитка», — говорит мать. «У нас тут, как улей, — с пеленок каждому свое дело.
А с возрастом дел прибавляется. И вот поглядите на них, никто не заморен». Это слова отца.
В детский сад Константиновы ребятишек своих не водили. Первых, Ольгу и Виктора, помогала вынянчить бабка, а потом старшие дети были няньками младших. «С работы идешь — младшие уже спят, а старшие ужин варят. И все дела по дому управлены. Школе это ничуть не мешало. Учились и учатся все хорошо».
Родители этот со мной разговор ведут, не отрываясь отдела. Отец играючи режет из липовой чурки игрушку, мать выпаривает кадушку — солить помидоры. Семиклассник Андрей чистит клетки у кроликов. Утки, кролики и козел, заведенный во дворе для потехи, — его забота.
Светлана, девятиклассница, по домашнему распорядку дел нянчит сестренку, на ней же лежит забота об огороде — прополка, сбор огурцов, помидоров, «и колорадских жуков с картошки!» — весело откликается она, прислушиваясь к беседе.
Трое старших уже на ногах. Виктор — тракторист, Ольга — замужем, порадовала Константиновых двумя внуками. (Ее муж Василий работает вместе с отцом и принят в семье наравне с сыновьями). Девятнадцатилетний Сергей — в армии. Пишет: «Служба — дело суровое. Но мне не трудно. И за это, отец, спасибо тебе большое. Чему научен, все пригодилось». Сергей — общий любимец в семье. (Мать с гордостью: «Не пьет и не курит»). К армии он, работая рядом с отцом, научился столярному, слесарному, малярному, штукатурному делу. Он и зарабатывал столько же, сколько отец. И главная гордость семьи: Сергей от отца унаследовал незаурядные способности художника. (Дом Константиновых увешан картинами и резьбою по дереву, на которую с завистью поглядел бы художник профессиональный. Это все работы отца и сына.)
Вот такая семья выросла под крылом так удачно соединивших жизни свои Павла Николаевича и Нины Парфеновны. Переезжая на новое место, они забирали с собой лишь ребятишек, одежонку для них и ящики с инструментами.
«Ничем лишним старались не обрастать. И подыматься было легко. Из мебели брали лишь табуретку. Я ее сделал из ясеня, когда только-только взялся столярничать. Вот она стоит у окна».
Кочевая жизнь, однако, приятна лишь в молодости. Возраст просит оседлости, прочного корня.
Размышляя, где бросить якорь, склонились к жизни в деревне. «Будем работать в колхозе, справим дом, заведем уток, корову. На доме я вырежу петуха, и внукам легко будет находить, где живут дед и бабка», — балагурил глава семьи, когда вечерами все собирались вместе.
За Уралом они и осели. Оборудовали себе дом в совхозе «Георгиевский», обсадили его черемухой, завели скотину. Павел Николаевич стал работать на ферме скотником, Нина Парфеновна дояркой. Прожили в совхозе более десяти лет. Жили хорошо. Сами были довольны местом, и совхоз дорожил работящей семьей. Однако Павел Николаевич почему-то все чаще стал вспоминать свой Касимов. Рассказывал детям по вечерам об Оке, о рязанских лесах и садах.
И постепенно созрело решение: едем! Колебалась лишь Нина Парфеновна, для которой родиной была земля за Уралом, «но что же делать, куда иголка, туда и нитка».
В начале 1978 года Павел Николаевич приехал в Касимов сначала один. Отдал должное разом нахлынувшим чувствам: по льду перешел Оку, поглядел на город с правого берега, поднялся потом по знакомой деревянной лестнице к татарской мечети, поглядел на леса за Окой, постоял у дома, где был когда-то приют… И вот он уже в двадцати километрах от городка, в селе Дмитриеве, в правлении колхоза «Заветы Ильича» говорит с председателем о том, что именно тут хотел бы с семьею жить и работать…
В марте того же годы во время школьных каникул семья Константиновых со своей реликвией — табуреткой, швейной машиной, точилом, с ящиками резцов, стамесок, рубанков, кистей, буравов, молоточков и разным другим инструментом заняла отведенное ей жилье на улице Молодежной. «Ну вот мы и дома!» — сказал отец, оглядывая пока еще неуютные стены рубленого строения.
Семья Константиновых — не единственный поселенец в рязанском колхозе.
В последние годы тут заметно определилось движенье людей в деревню из города. Константиновы дали другим пример домовитости, трудолюбия, способности, как сказал председатель, «цепко взяться за землю».
На работу в колхоз из дома Константиновых явилось сразу шесть человек — отец, мать, два сына, дочь с зятем. И уже можно увидеть в колхозе, к чему приложила руку семья мастеров. И на дом, где живут, поглядеть — сразу видно: не на время люди приехали, прочно пускают житейский корень. Во дворе — живность, в огороде — все, чему полагается быть, — от картошки до подсолнухов и фасоли. У дома — свежая изгородь, цветы в палисаднике и два десятка пересаженных из приокского леса рябинок. Весь дом молодцом смотрит! Своими руками сложена печь, перестелен пол, вырыт погреб, построен сарай, водяное отопление в доме проложено — и это в полтора года всего.
«Как на все у них время хватает?» — дивятся соседи. «Такая закваска — не сидеть сложа руки», — улыбается Константинов-старший.
Минувшим летом на велосипеде они с сыном объехали приокские села, срисовывая наличники для своих окон. А когда над домом появился задорный пестрый петух, для многих в селе стало заманчивым завести над крышей что-нибудь в этом роде. Сам председатель колхоза Петр Иванович Жидков пожелал иметь над дверью своего дома оленя.
Другие пока примеряются, кого из домашней и дикой фауны заказать. «А что ж, хорошее дело! Будут дома в деревне различаться не номерами, а, скажем, так: дом с зайчиком, дом с конем, журавлем… — говорит председатель. — А сделать… Павел все может сделать!»
Павел село покорил не только трудолюбием и умением. Он и на празднике оказался самым заметным. 3 июня в колхозе праздник окончания весенних работ. В числе разных забав на празднике в парке был установлен высокий
гладкий, мылом натертый столб. «Ну, кто добудет часы?!» — весело пригласили желавших показать удаль. Пробовали молодые парни,
пробовал молодой еще зять Василий — никто до верхушки столба не добрался. И тогда вышел сорокадевятилетний глава семьи Константиновых. Кто притих, кто начал смеяться. А невысокий, коренастый человек поплевал на ладони и сначала под недоверчивый шепот и даже смешки, а потом под крик одобренья достиг верхушки столба. На глазах тысячи с лишним людей он прошел с часами в руке к скамейке, где сидела жена с ребятишками: «Нина, это тебе…»
А председатель сейчас же позвал Константинова Павла Николаевича к трибуне: «Молодец! Те часы добыл удалью. А это за труд в хозяйстве».
И вручил часы именные с дарственной надписью.
Часть семьи Константиновых: мать, отец, сын Алексей и дочери — Светлана и Елена.
* * *
Вот так на новом месте начала жизнь семья Константиновых. Возвращаясь в беседе к прошлому, Павел Николаевич опять вспоминает Касимов, военное детство, воспитательницу приюта Елизавету Михайловну Максимову.
(Он недавно ее разыскал). О своей неизвестной матери Павел Николаевич говорит без осуждения и без горечи: «В пятьдесят лет хорошо понимаешь, какая сложная штука жизнь. Я давно уже все простил. Мне только жалко ее. Самой большой радостью было бы помочь ей сейчас.
Привел бы ее в этот дом — смотри, мать, это я, твой сын. А это — мои дети. Дети, мама, — это большое счастье».
Фото автора. Колхоз «Заветы Ильича», Рязанская обл.
29 января 1980 г.
Глубынь-городок
(Проселки)
«Рим стоит на семи холмах, Касимов — на семи оврагах…» — говорящий это на виду городка не рискует, что местное изречение будет воспринято как насмешка.
Касимов, стоящий на высоком речном берегу, от воды ступенями поднимается вверх. И по всей панораме вдоль берега плывут пологие волны понижений и возвышений. На гребнях — церкви и белые пятна новых строений. Одноэтажные, главным образом давней постройки жилые дома, сбегая по склонам, вместе с крышами тонут в кудрявой овражной зелени, всплывают и опять — вниз. Природа была тут верным союзником поселенцев. В сочетании с рекой, с лесами, по которым на север уходит знаменитый Муромский тракт, Касимов с пристани и с проплывающих теплоходов дразнит глаза своей живописностью.
Город принадлежит к числу поселений с богатой историей и некогда шумной деловой жизнью (вспоминаю Ростов Великий, Рыльск, Боровск, Осташков). Но появились иные, более скорые пути сообщений, и знаменитые города по рекам и сухопутным торговым трактам оказались в стороне от больших обновлений, превратились в «районные городки». Иным, например Суздалю и Ростову, посчастливилось оказаться на больших туристских дорогах, и старину в них держат в порядке. Касимов и тут обойден. С дороги от пристани, идущей мимо церквей и приземистых с толстенными колоннами старых торговых строений, город встречает тебя, не стыдясь обветшалых одежд, — принимай, какой есть!
И он интересен, этот город, названный по имени татарского царя Касима. Пыльные дороги, где асфальтированные, где мощеные, а где и просто утоптанные ногами, ведут тебя мимо строений, ныне горячо любимых режиссерами фильмов о прошлом веке.
Покосившийся домик с геранью в окошке…
Глухие ворота с запором кузнечной работы…
Забор, горбящийся над оврагом… Давней кирпичной кладки подвал с решеткой на окнах, столь мощной, что можно подумать, именно тут хранилась городская казна. Опять домишки в один и в два этажа с садами и палисадами, из коих яблоки грозятся падать прохожим на головы… Кое-что из строений скособочилось и подперто, на что-то махнули рукой, что-то сменили современной постройкой, что-то собрались подправить, но дело ограничилось пока лишь кучей битого кирпича…
Дорога между тем приводит к «татарской горе», и по долгой деревянной лестнице (со скамейками — отдохнуть!) ты подымаешься к белому мусульманскому минарету, которому… э-ге-ге — пятьсот с лишним лет!
Странно видеть эту постройку в самом центре России. Однако было время, когда Касимов с названием Городец-Мещерский стоял на самом краю Московского государства. Основан он был Юрием Долгоруким и всего лишь пятью годами позже Москвы. Из бревен рубленный городок считался столицей Мещеры и был поставлен для бережения русской земли от татар, но волею судеб надолго сделался центром «татарского царства».
В пору, когда татарское ханство слабело, а Московское государство крепло, к великому князю Василию Темному перебежал из Казани (середина XV века), опасаясь за свою жизнь, сын хана Улу-Махмета Касим. Московский князь отечески принял беглеца с войском, дал ему «на кормление» Городец-Мещерский с прилежащими землями на Оке. И стали татары союзниками русских князей в борьбе с татарами же, с литовцами, с Польшей и новгородцами, не хотевшими стать «под высокую руку Москвы».
Касимовское царство (историк чуть округляет цифры) «простояло 200 лет и простиралось на 200 верст». Правители его, получившие титул «царей», были достаточно автономны (в здешних местах поселилось много татар, выходцев из казанского царства), но, конечно, все они верно служили Москве. (Касимовский царь Шах-Али, например, вместе с Иваном Грозным брал штурмом Казань.)
За двести лет пестрая череда мусульманских фамилий причудливой вязью помечает свиток российской истории. В Касимове правили выходцы из Казани, из Астрахани, правили отпрыски крымской династии ханов, правил царевич Арслан — внук сибирского хана Кучума. При нем жил и умер в Касимове племянник того же Кучума, взятый в плен Ермаком. Прах татарских царевичей и царевен покоится под сводами мавзолеев, поставленных на горе.
А башня мечети, сложенная из белого здешнего камня еще при Касиме, помнит все страсти, кипевшие тут, на Оке.
Постепенно «касимовское царство» из окраинного сделалось серединным. И Петр I, как говорят, весьма удивился, увидев, проплывая Окой, минарет: «Что за невидаль в здешних местах?» Ему сказали. «А ну пальнем!» — будто бы решил позабавиться царь. Но ядро пролетело мимо постройки. Не повредили ее поздние бурные времена…
В мечети сейчас музей. Не богатый, но и не бедный для районного городка. Когда вопросы мои вышли за круг вопросов привычных, миловидная и внимательная провожатая по музею простодушно призналась:
«Этого я не знаю. Провожу вас к Ахмету Мартыновичу…»
Ахмет Муртазинович Ишимбаев.
* * *
Так я познакомился с потомком подданных царя Касима, ныне пенсионером, заслуженным учителем школы РСФСР и страстным краеведом Ахметом Муртазиновичем Ишимбаевым.
Люди, подобные Ахмету Мартыновичу (так его называют и так он просил называть), сами постепенно становятся примечательностью таких городков, как Касимов. Из музея к нему бегут за справкой, школы приглашают его рассказать об истории города, к нему приезжают и пишут из других городов. И на все старик отзывается. Остаток жизни его украшен делом благородным и интересным.
Дед краеведа торговал луком. И возил его обозами на санях не близко, не далеко — аж в Сибирь, за реку Ишим. Туда — лук, оттуда — меха. Не бедный был человек… Отец Ахмета промышлял изготовление мошны — кожаных кисетов для бурлаков. Сам же Ахмет стал народным учителем и сорок лет учил ребятишек по селам окрест Касимова. Он воевал. Отличился в боях под Тихвином и у Волхова. Вместе с «учительской медалью» в деревянной коробке хранит шесть медалей военных.
Живет Ахмет Мартынович в деревянном высоком доме на кирпичной подклети. Дом построен отцом для матери. Она болела чахоткой, и земский врач посоветовал: «Муртаза, жена проживет еще пять годов, если построить здоровый сосновый дом». Отец все бросил и немедленно взялся строить. Ровно пять лет мать и жила в этом доме.
Ахмет, учительствуя, в отцовском доме почти не жил. Вернулся в него пенсионером. И живет сейчас с сестрой, уже совсем древней и неподвижной. Ахмет Мартынович трогательно о ней заботится. Несколько раз во время беседы он говорил «извините…» и нес в соседнюю комнату то чай, то яблоко…
Есть в доме реликвия — часы, которым без малого двести лет. Причудливое сооружение с большими медными гирями и сонным хрипом в высоком футляре имеет «звуковые окошки».
Через каждую четверть часа поет перепелка, и время от времени по дому разносится голос кукушки, такой натуральный, что можно подумать: залетела в окошко из сада.
— Равнодушная штука часы, — говорит старик, подымая помятые гири. — Родился — прокуковали, умрешь — прокукуют. А жизнь… Славная штука жизнь! Тут у нас над Окой много кукушек и соловьев. Соловьи, замечаю, к городу льнут…
Разговор принимает направление краеведческое. Сообща выясняем, почему соловьи «льнут к Касимову», почему славятся голосами соловьи курские и «любят ли соловьев в других государствах…».
Краеведение — это страсть, но побогаче, чем любое коллекционирование. И потому неприятным и чужим словом «хобби» эту страсть не хочется называть. Краеведение — это естественная потребность человека узнавать вокруг себя мир.
И сколько я знал краеведов — это были всегда счастливые люди, очарованные странники, для которых посещенье мест, где еще не бывал, — праздник, а узнавание подробностей всего, что лежит в пределах их досягаемости, — сама радость жизни.
Ахмет Мартынович смолоду был таким, таким и остался на восьмом десятке лет жизни.
Конечно, прежней крепости — «одолеть сорок верст за день!» — давно уже нет, да и моторный велосипед, облегчающий странствия по району, уже не часто тарахтит от дома под гору к пристани и к мосту.
— Я вроде аккумулятора — был все время под током, а теперь ко мне проводок подключают: посвети-ка, Ахмет Мартыныч! — Старик добродушно смеется. И чувствуешь: хорошо прожитая жизнь скопила радость на окончанье ее.
Ахмет Мартынович не ждет, когда к нему «подключатся», он сам подключается, появляясь перед взрослыми и детьми как проповедник с аршинной папкой наглядных пособий, сделанных из любительских фотографий. Он страстный фотограф и проводит ночи при красном свете — готовит снимки для намеченной где-то беседы. Это могут быть портреты героев войны, снимки старинных построек, памятных мест, интересных людей. Он и открытки к праздникам делает сам из фотографий по истории города…
Беседуя с краеведом, всегда узнаешь больше, чем написано в книжках о тех же местах. Под песню кукушки и хрип старинного механизма часов я узнал, где в лесах под Касимовом надо искать грибоварню, на карте в деревне Ананьино за Окой была помечена водяная мельница — «проверьте, давно там не был…» (Проверили. И действительно, обнаружили исправную водяную старушку, возможно, последнюю на Рязанщине.) Узнал я, в какой деревне плетут для туристов и для театров лапти. Помечены в памяти краеведа места, где варят на зиму «смаковы» (фруктовые хлебы из яблок, смородины и малины), и, конечно, на счету у Мартыныча села, где еще делают конскую колбасу, где перед домом непременно стоит кирпичный амбар — убежище от пожара, где плетутся корзины из хвороста и где держат коз исключительно ради пуха.
(«Оренбургский платок-то, он раньше вязался из здешнего пуха, пудами шел из касимовских сел!») Разумеется, хорошо знает Мартыныч, чего и сколько производит сейчас Касимов. («Морские сети, точила, утюги, мясорубки, ветеринарное оборудование, дубленые полушубки…») Но это все на виду, это можно пойти посмотреть. А вот ушедшее и забытое — это знает лишь краевед.
Ему ведомо, кто и когда посетил город, как о нем отозвался, что приключилось тут с человеком. «Александр Невский по пути из Орды скончался тут в Городце-Мещерском», — говорит Мартыныч значительно. (Историки, правда, спорят на этот счет, но понятно, на чьей стороне касимовский краевед…) Царь Алексей Михайлович (отец Петра I), желая обновить родовую кровь, решил жениться на девушке из глубинной России. Выбор пал на касимовскую красавицу Фиму, дочь небогатого дворянина.
Дело дошло до венчанья, но в церкви, стоя рядом с царем, Фима упала без чувств… Драматическую коллизию расстроенного замужества Мартыныч советует прочитать в романе В. Соловьева «Царская невеста». У краеведа же в записях значится еще один брак, со счастливым исходом. Отбывая в Касимове царскую ссылку, азербайджанец Бабаев женился на местной девушке. От этого брака родился Петя Бабаев, ставший знаменитым революционером. (Мартыныч перебирает свои документы, достает коробку из-под конфет. «Вот посмотрите: «Москва, кондитерская фабрика имени Бабаева».)
Что еще ведомо краеведу? Много всего. Вспоминается грамота Грозного здешней ямской слободе («Хранилась у старосты триста лет!»). Вспоминается мальчик Волченков Саша. С комиссарским пакетом мальчишка обошел дозоры мятежников и на реке криком остановил пароход, спешивший в Касимов из Мурома — подмога избежала засады на пристани. (Мартыныч достает собственноручно вычерченную карту с условными знаками. На ней — путь мальчика через город к реке и тут же портрет с пометкой: 1918 год.)
Пошел разговор об Оке — потянулась длинная цепь интересных подробностей жизни на ней. Мартыныч знал многих бакенщиков, зажигавших когда-то «керосиновый свет».
На его глазах поэтическая профессия умерла — появились бакены-автоматы с электрической лампой. Помечено у Мартыныча лето, когда в Касимов впервые пришла «Ракета». И год (1858), когда по Оке из Касимова на Рязань в первый раз прошел пароход. А заглянули глубже в историю, обнаружилось: первым кораблем на Руси был вовсе не ботик Петра на Плещеевом озере, а корабль «Орел», построенный в здешнем краю при отце царя-флотоводца, Алексее Михайловиче. Корабль дошел до Каспия, но был сожжен вольницей Стеньки Разина…
* * *
На вопрос: кого Мартыныч считает образцом для себя в делах краеведения? — старик лукаво сощурился.
— В музее нашем висит картина: Юрий Долгорукий на коне у Оки и рядом — старик проводник.
Так вот этого русского князя можно считать замечательным краеведом. Все время был на коне. И был умен, любознателен. Землю свою, по всему судя, знал весьма хорошо. Ведь какое удачное выбрал для Москвы место! И наш городок посадил на Оке тоже без всякой промашки…
У многих краеведов я замечал забавную слабость: место, которое исходили, изведали, в рассуждениях об Отечестве они непременно в строку поставят вслед за столицей. И это легко понять. Отечество — для каждого из нас — большая страна и еще уголки в ней, исхоженные, изведанные и вследствие этого всегда любимые.
Для Ахмета Муртазиновича Ишимбаева таким местом является земля на Оке и старинный глубынь-городок.
Фото автора. 6 февраля 1980 г.
Краеведы
(Проселки)
Ахмет Мартынович был молодым, когда ему показали письмо, отправленное «В Москву, Калинину…» из Сысула. Мужики жаловались: «Нет школы… говорят, радио объявилось, а мы не слыхали ни разу… И даже налог не платим…» Это было в 1933 году. Учителя послали узнать, что и как. Стал спрашивать дорогу в лесную деревню, говорят: «Иди по углям». Думал — шутят, оказалось, правда, снег на дороге был черным. Вела дорога в селение углежогов.
С этого первого путешествия вглубь мещерских лесов начал Ахмет Мартынович «краеведничать». Он сам говорит, что был в этом деле любителем, ходившим просто как человек любознательный. Но в 20-х и 30-х годах сюда отправлялись и краеведы серьезные. Ввиду перестройки деревни важно было запечатлеть быт, уклад жизни, творчество людей, поверия и обычаи, сохраненные тут, в лесах, со времен почти что языческих.
Краеведы в те годы были хорошо организованы. Они собирались на регулярные «чтения», был у них свой журнал («Вестник рязанских краеведов»), их записки собирались в специальный архив. Пробежим сегодня глазом по их тетрадкам, отмечая хотя бы только детали на листах, исчисляемых многими сотнями.
«…Мещеряки делились на жителей разных мест и назывались по-разному. Боляки — это люди, жившие у озер и болот, тумаки — в окрестностях Тумы, куршаки — по рекам Курше и Нарме». А вот собственные имена людей, какими были они во времена правления Грозного (имена краеведами взяты из судебной бумаги): «Левон Филатов, Олежка Голыга, Ивашка Резвой, Злоба Козмин, Стромила Александров, Данила Клабухов, Болобан Кухтинов…»
Жили люди в здешних лесах обособленно, замкнуто. Однако существовала торговля, было движенье на юг и с юга по Волге и по Оке. И это движенье приносило в леса «моровую болезнь» (холеру). Люди понятия не имели о невидимых глазом возбудителях мора, но опыт жизни уже подсказывал: «чистота и огонь болезнь не пускают». На дорогах, ведущих в Мещеру, учреждались заставы с предписанием: «Стоять день и ночь, приезжих из моровых мест расспрашивать через огонь и письма огнем окуривать».
Но в это же время крестьяне и таким вот образом пытались бороться с мором. «В Ерахтуре при холере впрягали в соху баб и опахивали деревню. Считалось, что так холера минует».
Однако наряду с суеверием и языческим взглядом на окружающий мир крестьянин копил и житейскую мудрость. Вот, к примеру, как мерилось время выпечки хлеба. «Когда ставили хлебы в печь, кусочек теста клали в миску с водой. Сначала тесто потонет, но через некоторое, довольно значительное время оно всплывает. И хозяйка тотчас хлеб из печи вынимает- он готов!»
Природа, окружавшая человека, была ему богом, убежищем, кормилицей, лекарем, источником радости. Дуплистое дерево сначала почиталось как божество, потом как вместилище меда при «бортной охоте». О птицах и звере в лесах было свое представленье. «Убить журавля — большой грех и дома лишиться». «Лягушку убьешь — корова молока не будет давать»…
Любая деревня имела свой норов, держалась какого-нибудь своего ремесла (бондари, углежоги, плотники, смолокуры, тележники и так далее), и почти у каждой деревни было прозвище, связанное либо с промыслом, либо с каким-нибудь памятным случаем, либо с чем-то еще. Кадомцев тут называют сомятниками. Причина: «Весной разливается Мокша, и жители Кадома, подобно венецианцам, по улицам разъезжают на лодках. После спада воды некоторые находят в своих печах заплывших туда сомов». А вот в Спасском уезде село С. (не будем полным названием его сейчас обижать) знаменито было ворами — «у кого что пропадало — ехали в С.»…
А вот вопросы, какие задавали крестьяне губернской газете в 1925 году: «Вредно ли носить калоши?», «Есть ли у человека душа?», «Почему человек говорит, а обезьяна нет?», «Как избавиться от загара?», «Полезно ли для здоровья пение песен?».
Подчеркнем: это всего лишь штрихи из многочисленных записей, а сами записи — лишь часть большой работы краеведов Рязани, проведенной полвека назад.
Краеведение на Рязанщине, как и всюду, с 30-х годов заметно заглохло. И все же тут, по моим наблюдениям, лучше, чем где-либо еще, заботятся сейчас о всем, что не должно быть забыто в познании Родины. Во время хождения по Мещере мне в руки попала книжка нынешних краеведов «На земле рязанской». Несколько суховато, но обстоятельно в ней рассказано обо всем, что достойно вниманья на этой земле, в соединении с географией, названы имена «знаменитых рязанцев».
Давно известно: нет села, городка, округи без имени чем-нибудь славного человека. Но Рязанщина все-таки поражает обилием тут рожденных или произраставших талантов. Циолковский, Есенин, Мичурин, Павлов — люди, слава которых обошла шар земной. И нет возможности перечислить всех, кем гордимся мы дома, в нашем Отечестве: писатель Новиков-Прибой, маршал Бирюзов, скульптор Голубкина, художник Архипов, несгибаемой воли человек декабрист Лунин, мореход Головнин, певец Пирогов, композитор Александров, прославленный в Италии партизан Полетаев, молодогвардеец Иван Земнухов, трактористка Дарья Гармаш и тракторист Анатолий Мерзлов… Это все дети Рязанщины. И рязанцы берегут о них память.
У дороги в Рязань из Москвы, как раз в том месте, где поворот в село Константиново (родина Есенина), установлен примечательный памятник: старенький трактор на постаменте.
Это тощее клепаное в 30-х годах изделие, со шпорами на колесах и высокой трубой, с железным круглым «седлом» и занятным рулем поворота — само по себе интересно и останавливает внимание. Но монумент — не памятник первому трактору, это память о грозных военных годах, когда женщины сели на трактор, сменив ушедших на фронт мужей и братьев. Это было большое и героическое явление в жизни.
У истоков его стояла рязанская комсомолка Дарья Гармаш. «Работали и ночами. Ремонтировали тракторы в борозде у костров. При вспашке зяби осенью садились за руль в полушубках и валенках…» — это рассказ Дарьи Матвеевны, по-прежнему здесь живущей. А вот что сказал Александр Степанович Метелкин, которого я попросил задержаться, когда он ехал в седле на колхозную ферму: «Дарья?.. Дарья — человек замечательный! Я-то ее девчонкой знавал. А когда мы в болотах под Ленинградом лежали, политрук, помню, принес газеты.
Есть, говорит, кто-нибудь из Рязани? Вот тогда и узнали о Дарье Гармаш. Ей и подругам ее с фронта мы много писали. И даже я сделался знаменитым в окопах — землячка!»
В километре по той же дороге есть и еще памятник. «Воины-летчики: лейтенанты Чукин и Прихно, сержанты Никулин и Харин. Погибли при выполнении боевого задания осенью 1941 года». Эта надпись на камне заставляет связать воедино события той поры. Легко представляешь осеннее поле, такой вот клепаный тракторишко на ней и самолет с полосой дыма, летящий к земле… При смене поколений это все не должно забываться. И рязанцы нашли хорошее средство пробуждать память.
Трактор тоже может стать памятником.
Среди краеведов, много сделавших для утверждения славы здешнего края, мне особо запомнился Анатолий Иванович Коваль, живущий в Ижевском за Окой. Это село является родиной Циолковского. Мы так привыкли связывать имя гениального старца с Калугой, что многие полагают: в этом городе он и родился.
Нет, родился он на Мещере. И хотя прожил в Ижевском всего лишь дней шестьдесят от рождения, установление этого факта было для краеведов точкой опоры в поисках всего, что связано на Рязанщине с Циолковским.
Надо сознаться, порог музея в Ижевском переступаешь без особой надежды чему-нибудь удивиться. И ошибаешься! Этот сельский музей таков, что и столичный город может ему позавидовать.
Отдавая дань художникам из Рязани, с большим уменьем и вкусом строившим экспозицию (Владимир Шипов и Владимир Зимин), все же надо сказать: главную благодарность тут заслужил краевед, в прошлом учитель и сотрудник районной газеты Анатолий Иванович Коваль.
Воссоздавая обстановку жизни семьи Циолковских в селе, ему неизбежно пришлось копнуть историю Ижевского. (Она восходит к 1387 году. Селу без малого шестьсот лет!) В музей собрано много всего любопытного, о чем нынешний житель села без краеведа знать бы не мог. Собраны вещественные свидетельства прежней жизни, обнаружилось много интересных людей, выходцев из села. И все это не просто найдено, но и прекрасно организовано для показа всем, кто окажется в Ижевском.
Хорошо понимаешь: краеведу-энтузиасту помогало в работе великое имя. Но как велика и ценна работа его! И очень хочется видеть почаще таких людей. Пусть не слишком богатым был бы музей в ином селе и городке, но важно, чтобы он был!
* * *
С чего краеведение начинается? Этим началом можно считать первый шаг человека за порог дома. Улица, огород, палисадник — уже целый мир. И этот мир стремительно расширяется, рождая много вопросов и много ответов для растущего человека.
За мещерским селом Санское мы встретили двух ребятишек, одолевших на велосипедах немаленький путь. На древнее русло реки они приехали разыскать рога туров, которые будто бы тут попадались в рыбацкие сети. Оказалось, в Санском о рогах даже никто не слыхал. Но огорченья у двух запыленных, по пояс голых подростков мы не заметили. Запивая хлеб молоком из солдатской фляги в суконном чехле, они обсуждали свое путешествие. Перебивая друг друга, ребятишки рассказали о поисках старого русла, о расспросах здешних людей — старожилов, о дороге в пойме Оки, о переправе у Шилова на пароме, о ночлеге у косарей, о норе, у которой бегали два лисенка… Двое рассказчиков переживали радость открытий, цена которых не упадет по мере того, как эти подростки будут взрослеть.
От простого туриста («поглядел и ушел») краеведа отличает пытливость, он не просто ходит, он что-то узнает, ищет (ведает!). Бывает, что степень осведомленности краеведа, авторитет его так велики, что люди науки к нему обращаются за советом и помощью. Бывает, краевед вступает в интереснейший спор с учеными. Уже несколько лет я слежу за поиском человека, поставившим под сомнение всеми признанный путь князя Игоря с войском до роковой встречи с половцами. Краевед считает, что битва состоялась не там, где привыкли считать, и готовит этому доказательство.
Четких границ между наукой и «любительским краеведением» не существует. Я знаю человека, который всю жизнь посвятил разыскиванию камней с древними знаками (он называет их «следовики»). Краевед исходил едва ли не всю европейскую часть России, составил карту находок, имеет свое представление о природе камней с письменами… Есть краевед-ботаник, восстановивший карту растений на бывшем когда-то целинном, а ныне распаханном поле Куликовом… На родине Ленина живет краевед, проследивший географию жизни семьи Ульяновых.
Назовем, наконец, большого ученого-краеведа (тоже уроженец Рязанской губернии!) Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского.
К простой фамилии «Семенов» слово «Тян-Шанский» прибавлено за большие заслуги в большом путешествии со множеством разных открытий. Но ученый известен был также как «главный краевед государства». Под его руководством был издан замечательный труд — десять томов с любопытным названием: «Россия — полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей». Это удивительное и по объему, и по богатству приведенных в нем фактов издание читаешь едва ли не с большим вниманием, чем самый интересный роман. История, география, этнография, статистика, памятники старины, примечательности природы, масса важнейших подробностей жизни и быта людей, справочный материал, названия даже маленьких поселений с указанием их родословной, их положения на местности, экономики — все находишь в этой удивительной книге!
Для интереса я заглянул: есть ли в книге местечки, упомянутые в этом очерке? Есть!
А на букву «О» я отыскал свое родное село (кого не тянет узнать, чем было место, где ты родился!) и узнал: Орлов-городок на реке Усманке основан был при царе Алексее Михайловиче в 1645 году для бережения государства от набегов кочевников. Указано, сколько саженей в окружности имел городок, где на реке стояли острожки с башнями, почему и когда городок стал селом, сколько жителей было в нем к моменту издания книги, сколько имелось лавок, церквей, ветряных мельниц, как часто бывали ярмарки, во скольких километрах по Усманке лежали другие села, как далеко была станция железной дороги и как тогда называлась. И это все о селе, каких в России было многие тысячи…
Богатство разнообразнейших сведений собрано в книгу трудом краеведов. Это венец их работы и памятник жизни — в книге есть описание сел, речек, озер, построек, дорог, которые время стерло с лица земли, но мы узнаем: они были! Узнаем, как выглядели, какую роль играли в человеческой жизни. Узнаем, сравнивая прошлое с настоящим, как развивалась наша страна, какие места Отечества претерпели наибольшие изменения. Вот что значит труд краеведа!
Музей Циолковского создали художники из Рязани.
* * *
Сегодня краеведение, надо признать, во многих местах позабыто. Мы скоро и торопливо ездим, на самолете можем за восемь часов перемахнуть страну в ее протяженности с запада на восток. Но много ль мы видим при таком замечательном путешествии? Как сказал один мой знакомый, мы видим только изнанку проплывающих над землей облаков». Краеведение — это хождение по земле! Неторопливое, обстоятельное. И главная награда при этих неспешных и чаще всего недальних передвижениях состоит не только в общественной полезности дела, главное — это радость подробного узнавания жизни, прирастание сердцем ко всему, что постепенно формирует у человека понятие: Отечество.
Главными краеведами у нас сейчас стали ребята, идущие каждое лето следами войны.
Их поиски благородны и находки часто бесценны. Но вряд ли разумно краеведение сужать только до этой задачи. Человек должен узнавать Родину (при этом, разумеется, и место, где он родился) во всем многообразии образов, ее составляющих.
Не имеет значения, далеко ли, близко ли ходит любознательный человек. Для одного поле деятельности — родное село и окрестности, другой обшарил глазом целый район, третий прошел теченьем реки от истока до устья, четвертый проследил жизненный путь интересного человека, нашел дорогую для всех могилу, памятник старины, разведал рудное место, объяснил смысл и истоки названия населенного пункта, изучил места обитания редких животных и так далее. Все это лежит в русле естественных интересов человека, и надо его к этому побуждать. Как организовать дело? Не рискую давать советы. Разумнее все обсудить сообща.
Ясно, однако, что краеведение по природе своей занятие коллективное, должно у нас сделаться частью (и важной частью!) комсомольской работы. Почин в этом деле, думаю, всячески будет поддержан и поощрен. И можно только сказать: в дорогу!
…Эти заметки с проселков — тоже суть краеведение. Размышляя, какими словами их надо окончить, я вспомнил последнюю строчку древних записок. Летописец и краевед прошлого покорно просил у читателей извинения: «Еже писах, не дописах, простите, а не кляните».
Фото из архива В. Пескова. 7 февраля 1980 г.
* * *
Редактор Андрей Дятлов
Редактор-составитель Дмитрий Песков
Дизайн-макет Александр Кулаков
Корректоры Ольга Милешина, Инна Старостина
Верстка Галина Чернецова
Подписано в печать 20.11.2014.
Формат издания 60x84/8. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 10. Заказ № 107449.
Издательский дом «Комсомольская правда».
125993, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23.
Адрес для писем: kollekt@kp.ru
Отпечатано в типографии «PNB Print», Латвия



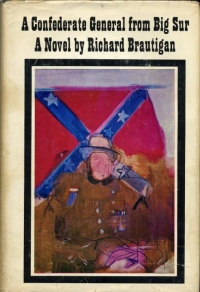
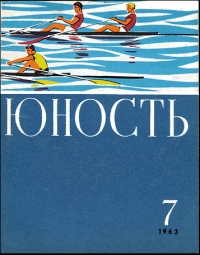


Комментарии к книге «Том 12. Ключи от Волги», Василий Михайлович Песков
Всего 0 комментариев