Сильви Жермен Безмерность
Жану Мишелю Фоке и Эмманюэль
То сердце, что живет тщетой бегущих дней, Не ведает, увы, безмерности своей. Ангелус СилезиусТак идемте искать то, что наше, сколь далеко ни пришлось бы идти.
Ф. ГёльдерлинЦВЕТОК ПРЕХОДЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
1
Прокоп Поупа был пария. В прошлом преподаватель литературы, он был вынужден сменить род занятий. Перед ним захлопнули все двери образовательных учреждений от университета до детских садов. Но зато дважды распахивали двери тюрьмы.
Уже много лет Прокоп Поупа исполнял должность дворника. Мыл коридоры, окна и лестницы в домах одного из кварталов, находящегося в стороне от центра города, а сверх того, в его обязанности входило осенью подметать палые листья, в зимнюю же пору очищать от снега тротуары перед этими домами.
Со временем он более или менее свыкся с наложенной на него опалой. Упрямо и терпеливо нес он бремя последствий сделанного им выбора, и не собирался идти ни на какие компромиссы ради изменений к лучшему в своей судьбе. У него отняли его профессию, отняли заграничный паспорт, а взамен вручили метлу, ведро и половую тряпку. У себя в стране Прокоп Поупа был расконвоированным заключенным, находящимся под надзором. И подметал малую часть географического пространства, замкнутого в пределах своего отечества.
_____
Доказательства стойкости своих политических убеждений Прокоп Поупа давал, что называется, каждодневно, но вот что касается матримониальных обязательств, то тут стойкость и постоянство его оказывались весьма и весьма проблематичными. Он дважды разводился, да и другие его связи с женщинами тоже не выдержали разрушительного воздействия времени.
Каждый его брак, прежде чем распасться и завершиться разводом, увенчивался рождением ребенка. От первой жены Магды у него была дочка Олинка, а от второй, Марии, — сын Ольбрам. Дочку он видел редко, потому что она жила в провинции. Ну а что до сына, Прокопу доверяли пасти его всего два вечера в неделю, правда, время от времени подбрасывали и на выходные.
Так что, если иметь в виду его неудачные Любови, отлученность от детей и ничтожную горстку друзей, что у него еще оставались — большинство его сотоварищей молодости эмигрировали на Запад, — Прокоп Поупа был человек достаточно одинокий. Он прозябал, оттесненный на тот крохотный пятачок на обочине жизни, который очертила ему судьба и который все больше и больше сжимался. Потому-то ему и приходилось сосредоточивать все свое внимание на том немногом, от чего он еще получал радость, и научиться извлекать из этой шагреневой кожи малые толики привлекательного, крошки еле заметного прекрасного, обнаруживать пространства, о которых он и не подозревал. Он обрел огромный опыт в искусстве неуловимого и исчезающе малого. И это спасало его от горечи и уныния, которые упорно подтачивали многих из тех, кто оказался в таком же положении.
В этом и была причина, почему столь большое значение приобрела для него уборная в его квартире. Многолетняя работа метельщиком и уборщиком развила в нем чувство, нет, нет, не собственной ничтожности и покорности, а иронии и непритязательность с некоторой даже примесью чудаковатости.
2
Прокоп Поупа был безраздельным и абсолютным владыкой в своем жилище. Оно состояло из комнаты и довольно-таки просторной кухни. Поскольку комната выходила на улицу, а по ней ездили машины и трамваи, кухню, которая была окнами во двор, Прокоп разделил перегородкой из вагонки, верхнюю ее часть сделал стеклянной, поставил кровать в отгороженном закутке, и с той поры уличный шум не мешал ему спать.
Двор был большой; окруженный шести- и семиэтажными домами, он имел форму вытянутого прямоугольника и весь был засажен деревьями. К началу лета он был сплошь зеленым; тут росли березы, буки, яблони, сирень, большая старая липа, ясени, всякая беззаконная кустарниковая поросль, сорные травы, папоротники, над которыми пылали темно-красные цветы шиповника.
Во двор выдавалось строение высотой примерно в два этажа, прилепившееся к одному из домов. В середине лета оно все утопало в зелени. Это серое оштукатуренное строение с плоской крышей, крытой оцинкованным железом, посередине которой возвышался небольшой световой фонарь, здорово смахивало на мастерскую или на склад. Однако оно не было ни мастерской, ни складом. Нелепое это здание, скрытое зеленью и кустами, было молитвенным домом евангелических христиан, и каждый день в час вечерни, а по воскресеньям утром и вечером в нем звучали голоса верующих, распевающих псалмы и славящих Всевышнего.
Весной эти голоса, исполненные сдержанного, степенного ликования, служили своеобразным аккомпанементом неистовому щебету птиц, у которых был брачный период, и крикам детей; летом ненавязчиво соперничали с доносившимися из настежь распахнутых окон неистовыми ритмами радиоприемников и прочих воспроизводящих музыку устройств; осенью звучали в унисон с монотонным перестуком капель нескончаемых дождей, и лишь зимой пространство, замкнутое между промерзшими, пропитанными сумраком стенами, придавало им некоторую глуховатость и охриплость.
Так текла жизнь в этом заросшем травой и засаженном деревьями дворе, окруженном оштукатуренными желтовато-коричневыми или охристыми стенами домов, на которых проступали кое-где бурые пятна, и освященном наличием склада во имя Господа Милосердного.
С высоты своего шестого этажа Прокоп наслаждался видом этого двора-сада, дававшим ему ощущение простора и глубокого умиротворения, ощущение, которое еще усиливалось бескрайностью небосвода над остроконечными крышами, ощетинившимися башенками, печными трубами и телевизионными антеннами, похожими на грабли и куриные насесты. И он был счастлив в своей обители между облаками и вершинами деревьев, счастлив, совсем как городская галка, устроившая гнездо в углублении утеса.
А вот зато соседи его смахивали скорее на обитателей берлоги, а не вольера. И хотя носили они чрезвычайно красивые фамилии, создавалось впечатление, будто они изощряются, как только могут, чтобы представить свои родовые прозвища в самом что ни на есть смешном виде.
Верхний сосед, пан Славик[1] — великан, словно бы вырубленный топором, с плечами, как у циркового борца, и квадратной головой, насаженной на такое же туловище. Лицо его вечно сохраняло угрожающее выражение, взгляд из-под неизменно насупленных бровей поражал своей свирепостью, хотя надо сказать, что Прокоп встречался с ним только на лестнице, когда тот с налившейся кровью физиономией, хрипло дыша от усилий, тяжело поднимался к себе наверх. Хриплое дыхание отчасти, видимо, объяснялось тем, что он вечно был обременен какой-нибудь ношей — то сумкой, набитой бутылками пива, то старой собакой, у которой были парализованы задние ноги и которую пан Славик выносил гулять два раза в день. Прогулка была недолгой, вокруг домов. Больное животное еле-еле передвигалось на передних лапах, заднюю же, парализованную часть туловища, хозяин нес на подведенном под собачье брюхо широком шерстяном шарфе карминно-красного цвета, оба конца которого он держал в руке, орудуя им с ловкостью и осторожностью кукловода. Было немножко смешно и в то же время мучительно смотреть на то, как этот великан выгуливает дряхлого пса на огненноцветном шарфе. Чтобы загодя отбить у окрестных мальчишек или иронически настроенных прохожих охоту позубоскалить, пан Славик свирепо выпучивал глаза, как бы грозно предупреждая: «Эй вы, свора кретинов! Если кто-то вздумает посмеяться над моей собакой, враз получит пинка в задницу!» Весь же вид старой собаки свидетельствовал лишь о том, что она безмерно устала от жизни и позволит смеяться над собой кому угодно и сколько влезет, так как она давно оглохла, а ее глаза навыкате помутнели от катаракты. Иные добрые души из проживающих в доме поначалу рисковали рекомендовать пану Славику усыпить бедное животное. Но в ответ вышеупомянутый Соловей рычал такое, что добрые души стали старательно обходить его стороной.
Нижние соседи носили фамилию Слунечко[2]. Время свое они проводили преимущественно во взаимной ругани. У пани Слунечковой был пропитой голос, могучий, как иерихонская труба. Но стократ громче, чем во время семейных скандалов, она орала, когда по телевизору транслировали футбольные матчи. Не пропускала же она ни одного. Сидя перед экраном, она издавала пронзительные вопли то от неистового ликования, то от ярости, в изобилии приправляя их жизнерадостно-похабными ругательствами. Во время последнего чемпионата мира она так неистово кричала, что к концу пятого матча сорвала голос и до самого финала была обречена на жалкое замогильное хрипение. Из-за нее Прокоп следил за программой, выяснял, когда транслируются решающие матчи, и в эти вечера отправлялся в кафе.
И все-таки Прокоп предпочитал базарную Слунечкову соседям по площадке супругам Златопирко[3], которые, несмотря на их чопорную и респектабельную внешность, являли собой образчик опасных фарисеев. Сталкиваясь с Прокопом на лестнице, они делали вид, будто не замечают его, словно их поразила внезапная слепота или все сто килограммов Прокопа растаяли в воздухе, а между тем, поджав губы, искоса и недоброжелательно поглядывали на него; ко всему прочему, они следили, кто и на сколько к нему приходит. Впрочем, это-то как раз менее всего тревожило Прокопа: редкие и немногочисленные гости, что поднимались к нему на шестой этаж, давным-давно уже были взяты на учет, зарегистрированы в соответствующем ведомстве и отправлены, как и он сам, в запорошенный пылью зал ожидания Истории.
3
Хотя Прокоп Поупа уделял большое внимание клозету в своей квартире, это ничуть не означает, что он заботился о каком-то чрезмерном украшении его, вовсе нет. То было внимание совершенно иного порядка.
Кухня его квартиры являла собой невообразимый хаос, в котором книги соседствовали с кастрюльками, самиздат с консервными банками, растениями в горшках и пустыми бутылками. Еще больший беспорядок царил в комнате, которая выходила на улицу; она использовалась как жилая, только когда Прокопа навещали дети. Среди нагромождения коробок и ветхой мебели, забитых одеждой, игрушками, книгами и папками, стояла кровать, которая, когда ее раздвигали, превращалась в две.
Ольбрам, когда был маленьким, разрисовывал стены фломастерами и карандашами, но в восемь лет он открыл для себя фантастическую историю Робинзона Крузо, и у него родился честолюбивый замысел написать гуашью на одной из стен фреску во славу своего любимого героя. Но под влиянием событий, когда друг отца Радомир Кукла был приговорен к полутора годам тюрьмы, замысел претерпел кардинальные изменения. Вместо того чтобы изобразить вокруг Робинзона джунгли вместе с их экзотическими обитателями, как первоначально было задумано, Ольбрам все свел к одной лишь бороде жертвы кораблекрушения. Каждую неделю он подрисовывал ее, удлиняя на семь сантиметров. Таким образом фреска превратилась в календарь, отсчитывающий срок тюремного заключения Радомира Куклы. И когда тот наконец вышел из тюрьмы, борода Робинзона достигла длины пятисот сорока семи сантиметров и в широких, прихотливых извивах тянулась по стенам комнаты. Борода сама по себе представляла настоящие джунгли, тем более что Олинка, когда навещала отца, сотрудничала с братом в создании фрески, дополняя гигантское это руно деталями, символизирующими времена года, праздники и годовщины; в самых разных местах на его колечках и завитках подвешены были, как на ветвях рождественской елки, то веточка ландыша, то роза, а то яблоко, звезда, пасхальный колокольчик, рыбка — эмблема первого апреля, свечка, снежинки, ветка с красно-золотыми листьями, месяц, гриб или же расплывшийся в нахальной улыбке ангелочек. А на самом конце этой длиннющей красочной бороды сидела пестроцветная птичка.
Но существовала еще и уборная. Узкая, вытянутая кишка. В задней стене под самым потолком было оконце, выходящее на глухую стену соседнего дома, расположенную на расстоянии чуть меньше метра. Свет оно пропускало крайне скупо. Несмотря на крайнюю тесноту этого помещения, Прокоп установил вдоль стен полки, на которых стояли пустые банки, хранились запасные лампочки, гвозди, свечи, всякие веревки и бечевки, старые тряпки, сношенная обувь, а также инструменты. Прямо перед самым унитазом на железном пруте, закрепленном тремя сантиметрами ниже потолка, висело старое шерстяное одеяло в линялую сине-желтую клетку, все в дырах, заплатках и штопке; оно ходило по пруту на кольцах, при желании его можно задернуть и тем самым обеспечить себе полнейшую уединенность. У Прокопа было пристрастие к отгораживанию от внешнего мира.
А еще по обе стороны унитаза Прокоп поставил два ящика из-под фруктов, на которых лежали книги, рулон туалетной бумаги, пепельница, зажигалка и пачка сигарет. К цепочке для спуска воды был привязан шнурок, чтобы Ольбрам мог потянуть за него. А поскольку Ольбрам был разносторонним художником, он приладил к этому шнурку медный колокольчик, так что теперь, когда дергаешь за цепочку, всхлипам и клокотанию спускаемой воды сопутствовал мелодичный звон.
На потолке, прямо у задней стены с окошком, было сырое пятно, которое Прокоп воспринимал как живую скульптуру. Оно росло в соответствии с каким-то прихотливым ритмом; долгие периоды почти что полного исчезновения вдруг сменялись бурными приступами экспансии. И тогда желтоватая его живопись шла пузырями, и тона ее обогащались бледными оттенками охры и зеленцы. Любая протечка из труб в туалете гиганта Соловья подпитывала этот потолочный штукатурный лотос, и он сразу же распространялся на смежную стену.
Прокопа, правда, это ничуть не тревожило, и он с удовольствием наблюдал за тем, как лотос раскрывает свои лепестки. Ему так редко удавалось найти время, чтобы понаблюдать за жизнью вещей… Ведь у вещей и вообще у материи есть своя жизнь, пусть даже очень неспешная и незаметная. Ольбрам предлагал приклеить к потолку головастиков в надежде, что они превратятся в лягушек; лотос, на котором не живет лягушка или жаба, с его точки зрения, свидетельствовал о дурном вкусе.
Как раз благодаря мечтательному созерцанию сортирного лотоса Прокоп и получил свой самый прекрасный почетный титул — титул Верховного хранителя лар[4].
4
Произошло это через некоторое время после выхода Радомира Куклы из тюрьмы. Радомир, Прокоп и еще несколько человек собрались в «Белом медвежонке», их любимой пивной, находившейся неподалеку от набережной.
При очередном повороте их довольно запутанной беседы Радомир напомнил легенду о ларах и в заключение заявил, что каждый должен устроить у себя приют для духа-покровителя дома. Когда живешь в квартире, у стен которой есть уши, а то и любопытствующие, все примечающие глаза, следует позаботиться о любом покровительстве, пусть даже самом фантастическом.
Тут же встал вопрос, где поместить ларарий. Радомир без колебаний выбрал кухню, поскольку это было его излюбленное местопребывание в доме. Выбор объяснялся не столько склонностью Радомира к чревоугодию, сколько чувством благоразумия, результатом горького опыта.
Бывший документалист, изгнанный с телевидения, Радомир уже много лет, за исключением тех периодов, когда ему давали тюремный срок, зарабатывал на жизнь мытьем окон. Утратив возможность прочищать мозги своих соотечественников горькими и правдивыми репортажами, он отмывал им окна. Однако из-за дождей и общей загрязненности атмосферы стекла в городе почти сразу же опять оказывались грязными, так что получить хоть какое-то удовлетворение от подобной профессии, мягко выражаясь, было трудно. Что же касается потайной его деятельности, а именно борьбы с безжалостной властью посредственности, то покуда она неизменно давала нулевые результаты; диссидентский его труд, так до сих пор и не изменив хода вещей, пока что привносил в его жизнь одни лишь неприятности, огорчения и всевозможные осложнения. Личная же его жизнь тоже представляла собой череду сплошных неудач.
Так что у него осталось только кулинарное искусство, единственное приносившее удовлетворение, то есть возможность увидеть воочию плоды своих трудов, удовлетворение, в котором во всех прочих областях ему было отказано.
После выхода из тюрьмы Радомир упорно экспериментировал с кондитерскими рецептами. Он месил, отмеривал, взвешивал, смешивал, посыпал, поливал глазурью, закладывал начинку, проверял готово ли, нюхал, пробовал… Все эти операции требовали напряжения всех чувств, полностью захватывали внимание, и это позволяло Радомиру на какое-то время отвлечься от своих огорчений и разочарований, а главное, они давали быстрый и конкретный результат, который к тому же никоим образом нельзя было рассматривать как деяние, влекущее за собой наказание в виде тюремного заключения и к которому невозможно было применить цензуру и иные методы государственного противодействия. Результат вполне невинный и в то же время вкусный. Никакая другая деятельность за последние почти что два десятка лет не давала Радомиру такого полного и ничем не омраченного удовлетворения.
Когда он извлекал из духовки пирог с абрикосами и жареным миндалем, ватрушки с творогом, приправленным ванилью или ромом, рулет со сливовым повидлом или ликерное суфле, когда пробовал орехи в меду или помадку из апельсиновых корочек, посыпанную желтым сахаром, то наслаждение его было не только вкусовым или обонятельным, нет, через нос и вкусовые сосочки оно разливалось по всему его существу. В этот миг ему казалось, что он отведывает кусочек нежной субстанции дней, смакует ту малую крошку прекрасного и доброго, что пока еще существует в жизни, и он радовался успеху своих трудов, точь-в-точь как ребенок, который восхищенно смотрит на сооруженный им замок из песка.
Эти кулинарные утехи и кондитерские радости кому-то могут показаться жалкими, но, право же, они были ничуть не хуже любых других.
Вот почему в тот вечер, споря в «Белом медвежонке» с друзьями, Радомир категорически заявил, что истинный ларарий должен находиться в кухне и что именно в этом, а ни в каком другом помещении обитает благодетельный дух-покровитель домашнего очага. И он поднял бокал в честь своего божества-охранителя в белом поварском колпаке.
Первой выступила против предложения Радомира, вознесшего свою кухонную плиту до уровня храмового алтаря, Радка Небеска. И причины для этого у нее были весьма основательные: Радка, исключенная из университета еще прежде, чем она приступила к занятиям, сменила множество работ, и последняя по времени — посудомойкой в столовой — навсегда породила в ней стойкое отвращение к кухонным раковинам. Гений-охранитель дома ни в коем случае не может пребывать там, где хлюпает грязная вода, в которой моют тарелки. Радка перебрала все другие комнаты, входящие в состав квартиры, но не смогла остановиться ни на одной. Однако выбор она сделала, назвав в конце концов чердак. Выбор этот объяснялся тем, что большую часть свободного времени Радка проводила на чердаке, где с помощью друзей устроила типографию. Оборудованную случайными и уже совершенно устаревшими станками, работающую на самом низкосортном материале типографию, где она самозабвенно и трудилась.
Когда бывали трудности с бумагой или с переплетной тканью, Радка перепахивала весь город вплоть до самых отдаленных предместий, в конце концов где-нибудь выкапывала несколько стоп папиросной бумаги, клей, ткань (случалось, что это были старые шторы или погребальные покрывала) и волокла добычу к себе в тайную чердачную типографию.
Йонаш Тупик, обладавший аппетитом воробья и габаритами кролика, тоже отверг идею Радомира и в качестве места для ларария предложил ванную комнату. Он был фотограф, и именно в ванной занимался своим делом, так что для него более подходящего места в доме просто быть не могло. Однако Йонаш не стал отстаивать свое предложение, хотя в защиту его вполне мог бы напомнить, что ванная является еще и местом очищения. Он не любил длинных речей, вообще был умерен во всем и отличался скромностью, граничащей со стремлением стушеваться.
Алоис Пипал, актер, отлученный властями от сцены, назвал столовую. У него была безумная страсть — электрические модели старинных поездов. Дома у себя он устроил огромную игрушечную дорогу и, чтобы поезда могли проходить через туннель, пробил стенку между гостиной и передней, но и то только потому, что жена решительно запретила дырявить стену спальни. Так что бога-покровителя своего дома Алоис представлял себе не иначе как в фуражке начальника миниатюрного вокзала.
Барбора Бамбасова, которую все по причине ее габаритного телосложения называли Большая Б. Б. или просто Б. Б. Б., выбрала место, которое находится как бы вне квартиры и невелико по площади — балкон. А подвигнуло ее поместить ларарий вне жилого помещения то, что она обожала птиц и голосам многих из них подражала прямо-таки мастерски. Заодно она продемонстрировала свой талант, устроив импровизированный концерт птичьего пения. Причем между хрустальной трелью синицы-лазоревки и мелодичным щебетом славки-завирушки она воспроизвела стук дождя по черепичной крыше и негромкие завывания ветра в водосточных трубах. Б. Б. Б. с ее мелодичным горлом представляла бога-покровителя своего жилья только в птичьем оперении; у него было гнездо под крышей, и он порхал возле ее окон, роняя серебряные нотки.
В противоположность Барборе и Радке Виктор Турек спустил своего духа-покровителя в подвал. Джазовый саксофонист, Виктор в полное свое удовольствие дул в свою дудку в подвале дома, где он проживал, а равно и в подвалах других зданий, потому как вкалывал кочегаром. Поэтому своих ларов он окрасил в яркие краски: огненных отблесков топки и золотистых — меди на черных кучах угля, причем краски эти он усилил глухим ревом пламени и пронзительными вскриками своего саксофона. Но, правда, все это как бы подразумевалось, потому что никакой речи он не произнес. Виктор славился как самый немногословный из людей.
Настал черед Прокопа. К этому времени выбор оставался весьма ограниченный, и все предполагали, что он поместит свой ларарий в спальне либо в гостиной. Ан нет, ко всеобщему изумлению Прокоп выбрал уборную.
Изумляться было чему. Сослать духа-покровителя в отхожее место! Радомир тут же заметил, что эта дурацкая идея могла родиться только в мозгу страдающего запорами. Прокоп никак не отреагировал на его замечание и стал обосновывать свой выбор. Речь в защиту уборной как идеальной обители для гения дома он начал с рассказа о проявившемся в его квартире феномене потрясающего спонтанного искусства. Он описал живую скульптуру, что расцветает на потолке в туалете, цветок из сырой, набухшей штукатурки с разрастающимися и множащимися лепестками.
— Прелестный фекальный цветочек, — бросила Б. Б. Б. — Вот увидишь, в один прекрасный день он рухнет тебе на голову.
— Да вовсе нет! — в порыве внезапного озарения воскликнул Прокоп. — Это цветок преходящего времени.
5
Прокоп отважился на долгий вдохновенный дифирамб уборной, и можно было подумать, будто у цветка из вспучившейся штукатурки, что цвел на потолке, были многочисленные незримые корни и корешки, которые незаметно внедрились к нему в мозг и теперь внезапно принесли плоды — этот поток слов. Ведь Прокоп столько времени и так часто проводил в долгих раздумьях под сенью цветка преходящего времени, что раздумья в конце концов обязательно должны были прорасти словами. Тепличная атмосфера кабачка, его дымный воздух, в котором витали запахи пива и жаркого, послужила толчком для бурного этого прорастания.
— Уборная, — вещал Прокоп, — это то, без чего не может обойтись ни одно жилище. Можно ни разу не спуститься в подвал или не подняться на чердак, можно никогда не выходить на свой балкон и вообще даже не иметь балкона; можно не пользоваться письменным столом и позволить мебели в гостиной покрываться пылью; можно мыться в тазу и даже вообще не мыться — от грязи, как известно, никто еще не умер, но вот от непроходимости кишечника или мочевыводящих путей точно умирают, и пример тому Тихо Браге; можно есть в спальне и готовить там на электроплитке или же, напротив, спать за неимением другого места на раскладушке в кухне. В конце концов, можно, если есть такая необходимость, изменить назначение всех комнат в квартире, но ни одна из них не сможет заменить сортир. Потому что это уже будет полное падение, маразм. Ведь недаром же в тюрьме нам ставят парашу в камеру — это делается для того, чтобы еще больше унизить нас.
В это помещеньице, как бы невелико оно ни было, ходят все члены семьи от маленького ребенка до старика-деда, причем по нескольку раз в день. И вот вам первая отправная точка: это помещение совершенно необходимое, ничем не заменимое, а сверх того — стопроцентно демократическое.
Но и это не самое главное. Следует иметь в виду особый характер этого демократического убежища: у него те же свойства, что и у печки Декарта[5]; поистине, оно наилучшее место для медитации. Чуть только опускаешь свое седалище на стульчак, в тот же миг воочию, во всей наготе видишь, что ты собой являешь, и тут приходится признать, что король — голый. Да, да, ведь и король, и королева всего лишь всеядные и дурно пахнущие млекопитающие, жалкие калопроизводящие существа, ничем не отличающиеся от прочих смертных. Попробуй после этого доказать себе, что ты выше себе подобных. О, сортир — это великолепная школа смирения, там крайне трудно считать себя богом. Да, там все встает на свое место.
Все прекрасно. Однако это только лишь начало; ведь и Декарт, осознавший наличие иллюзорности в свидетельствах органов чувств и ошибочности в суждениях, не останавливается на этой печальной констатации и ввязывается в беспощадную облаву на ложные идеи. Задается толчок эпопее сомнения. То же самое и в уборной. Король гол, он осознает всю меру своей ничтожности. С головы его сваливается корона, мозг внезапно освобождается от давления, и мысль становится свободней. Его разум теперь может вступить в разговор с глупостью, ибо король без штанов, он и есть круглый дурак. Этим очистительные возможности клозета превышают очистительные возможности ванной, где отмывается лишь кожный покров. А тут, напротив, речь идет об очищении изнутри, о прочистке всего существа, о мозговом очищении.
Но очищение подразумевает аскезу. И от печки предающегося своим мыслям философа — прямой путь к исповедальне кающегося грешника. У души есть шанс подлинно обновиться, только если она измерит до конца всю степень собственной ничтожности и в бездне откроет бесконечность Бога. Ибо нужно сойти страшно низко, чтобы обрести доступ к Всевышнему. В самые-самые глубины себя, во мрак собственной утробы. Все, как в наших выброшенных на свалку жизнях, перевернуто вверх ногами. Там, где дело касается духовного, эта перевернутость достигает вершины. Уже в псалмах пророки обращались к Нему: «Из глубины взываю к Тебе, Господи!»[6] Громче всего кричат, взывая к Господу, неизменно из бездны. И лежащий на гноище Иов, весь во вшах и коросте, в конце концов все-таки утер нос перед лицом Господа своим благополучным и благомыслящим друзьям. О том же говорит Евангелие, и апостол Павел тоже твердит об этом. Не стал бы меня опровергать и святой Фома Аквинский, который утверждал, что наше тело есть материальное выражение души и что все, чему оно подвержено, находит в душе глубинный отклик. Подобные размышления, которые способны достичь самых возвышенных сфер, когда им предаешься в монашеской келье или в тиши своего кабинета, обретают совершенно иное освещение, если ты сидишь, запершись, в сортире. Тогда твои мысли пускают корни в самую толщу плоти, в миазмы материи. Они не несутся сломя голову, они всецело принимают на себя труд воплощения, смиряются со своей случайностью и низменностью.
Одним словом, уборная соединяет в себе все свойства храма медитации, и даже более того. Это в полном смысле слова кабинет задумчивости, где осознается конечность человека и где он неосознанно предугадывает возможность бесконечности. Потому место это просто-таки предназначено для ларария. А ежели вы отвергаете мои аргументы, то это означает, что вы всего лишь сборище малохольных невежд.
— Ну, тебе-то на конкурсе малохольных явно присудили бы первое место, — невозмутимо бросила Радка.
А Радомир лишь заметил:
— После такого пылкого похвального слова затворничеству и умерщвлению плоти ты вполне созрел, чтобы снова отправиться на отсидку в тюрьму, а то даже и в психушку на небольшой срок.
Остальные уже клевали носом, а Б. Б. Б. вообще заснула над рюмкой; время от времени она всхрапывала, и звуки эти куда больше смахивали на кряканье утки, чем на мелодичный посвист иволги.
Однако, несмотря ни на что, они все-таки решили, прежде чем подняться из-за стола, покончить с проблемой, куда поместить ларарий, и под воздействием пива, вина и усталости сошлись на том, что пожаловали Прокопу, который забил их словами, хотя отнюдь не убедил, титул Верховного хранителя лар.
6
Вот так на один вечер Прокоп был удостоен титула Верховного хранителя лар, подобно тем шутам, которых в день карнавала облекают в королевские одеяния. Тем не менее в кажущейся ироничности было зерно серьезности, и за метаскатологическими речами Прокопа скрывался долгий опыт.
Действительно, Прокоп уже издавна использовал сортир как место уединения и читальню. Эту свою привычку он передал Ольбраму, который глотал там комиксы и свои любимые книжки.
Но гораздо больше времени Прокоп проводил тут не за чтением, а предаваясь мечтам, потому что любая мелочь могла отвлечь его от текста. И мелочи эти, надолго отрывавшие его от книги, в которую он был погружен, были отнюдь не чужды тому, что он в этот момент читал; наоборот, они словно бы крылись внутри прочитанного. То могла быть какая-нибудь фраза, а иногда просто слово, которое вдруг в нежданном прыжке подскакивало над страницей и обретало причудливый призвук и тревожащую плотность. Случалось даже, что некоторые слова, выпрыгнув, наполнялись ненадолго зыбкой материальностью; казалось, слово какое-то мгновение порхает над раскрытой книгой, подобное хрупкому прозрачному насекомому. И внимание Прокопа отвлекалось от текста, сосредоточиваясь на обрывке фразы или словце, которое, оторвавшись от страницы, взлетало среди стрекочущей тишины. Иногда то было какое-нибудь редкое слово, а иногда самое обыкновенное. Неожиданная красота стихотворной строки, выразительная энергия образа, предложения, удивление, вызванное семантическим сдвигом или инверсией, удачно найденная метафора либо лаконично сформулированная мысль способны были прервать процесс чтения, и мозг Прокопа мгновенно замирал или, верней сказать, настораживался. Настораживался, улавливая смысл, о котором он до сих пор не подозревал, неброскую и в то же время глубокую красоту, таящуюся в каком-нибудь выражении. И мысль начинала блуждать по бескрайним просторам языка, предметностей, образов, а сам он, не в силах найти точную формулировку, погружался в нескончаемые грезы.
Эти якобы перерывы и отвлечения вовсе не уводили Прокопа от текста, который он читал, напротив, помогали погружаться в него еще напряженней и глубже. После них он возвращался в книгу, как входят в тенистую и благоухающую лесную чащу. Он предавался грезам в недрах слов, в гуще их плоти, шелестящей отголосками, созвучиями, дуновеньями, в сочной и изобильной плоти, что вся была в складочках и морщинках. И когда грезы его с особой настойчивостью устремлялись в глубину и ширились, Прокоп инстинктивно задергивал выцветшее синее одеяло, словно для того чтобы надежней укрыться в средоточии своих грез и сконцентрировать воображение.
В синеватом полумраке, который тут же воцарялся в сортире, восседающий на унитазе Прокоп со спущенными до полу штанами и лежащей на коленях книгой, смахивал не то на карикатурного короля, погруженного в возвышенные мечтания, не то на дурака, чье чело нежданно озарил свет мудрости. И каждый раз он чувствовал, как близка в такие мгновения подлинная жизнь. Тайна жизни, казалось ему, станет вот-вот осязаемой и откроется во всей своей полноте и просветленности. Бывали дни, когда это ощущение становилось до того острым, что у Прокопа чуть ли не возникало чувство головокружения, как будто он вдруг превратился в канатоходца, балансирующего на проволоке, натянутой над двойной бездной — восторга и ужаса.
И поскольку Прокоп не находил точных слов, чтобы определить свое смятение и свое предчувствие, которое так и не могло переступить порога приотворившейся двери в таинство всего сущего, возбуждение его угасало, мгновенно сменяясь мрачным настроением, и он вдруг чувствовал, что зад у него занемел от долгого сидения на стульчаке. Поясница и ноги замерзли, на ягодицах красный след от кромки сиденья унитаза, на душе беспокойно — и Прокоп поднимался и уныло натягивал брюки.
Однако повторяющиеся неудачи не обескураживали его, и каждый день он снова, сидя в сортире, погружался в чтение. Но вовсе не оттого, что ожидал какого-то определенного результата или внезапного озарения, а просто по привычке и ради удовольствия предаться мечтам.
Совсем недавно Прокоп испытал огромное счастье от чтения в своем излюбленном месте. Уже первые прочитанные слова поразили его, и тотчас же потоком нахлынули самые разные мысли.
Он листал последний номер литературного журнала, отпечатанного на тонкой, чуть ли не папиросной бумаге расплывающимися лиловыми буквами, и вдруг его внимание привлекло короткое стихотворение. То оказался перевод нескольких строк из огромного эпоса «Калевала». Строки эти, взятые из зачина первой песни, были в качестве иллюстрации включены в статью, посвященную великим эпическим произведениям.
На устах слова уж тают, Разливаются уж речи, На язык они стремятся, Раскрывают мои зубы. Золотой мой друг и братец! Милый мой товарищ детства! Мы споем с тобою вместе, Мы с тобой промолвим слово[7].Прокоп испытал чувство чисто физического потрясения. Написанные слова, обладающие такой дивной плотностью, материализовались уже в самый момент прочтения. Каждое слово превращалось в крупицу дождя, солнца, ветра, становилось цветком — цветком из гальки, лишайников и плюща. И эти растительные, минеральные, крупинчатые слова наполняли рот, таяли в горле.
То был светоносный, холодящий ливень, веселая дробь серебристых дождевых капель, танец, оставляющий чувство радости на языке. «Золотой мой друг и братец! Милый мой товарищ детства!» В словах этих звучала ликующая дружественность, подобная стремительному, бурному источнику, что, сверкая, вырывается из скалы. Братство являло здесь себя во всей своей неприкрытости, пылкости, доброте.
А над всем этим витало: «Мы споем с тобою вместе, мы с тобой промолвим слово».
Приди ко мне, и мы с тобой промолвим слово — волшебное, магическое слово; присоединяйся же ко мне на празднике слов, блестящих от дождя, от крови, от грязи, запорошенных пылью света; вступи в хоровод слов, шершавых, как кора дерева, как поверхность скалы, шелковистых и нежных, как кожица плодов; пойдем со мною на охоту за словами, которые мчатся по болотистому мелколесью, укрываются в дремучих лесах, плавают в море, сверкают подо льдом, тянутся по небосводу вереницами серо-стальных туч, стаями перелетных птиц, чьи резкие голоса звучат в кронах деревьев; пойдем со мною на свадьбу слов с безмерным земным и небесным простором.
Руны — заклинания, высеченные на камне и на дереве, врезанные в первородный материал. Возгласы, доносящиеся из подземных пещер, со дна рек, из-под корневищ берез, из бескрайних морей, чьи воды отсвечивают свинцом, с безграничного белесого небосклона. Мычание, возносящееся с бесплодных пустошей и вересковищ, со снежных пустынь и волн, ставших торосами. Отзвуки рева зверей с ненасытными красными пастями, криков первобытных людей, чьи гортани еще жестки и сумрачны. Возгласы, усмиренные и облагороженные хрипловатым напевом колдунов-сказителей. Голос земли, на которой взросло племя людей, подобных полчищу дерев, бредущих в бурю против ветра. Звучное великолепие правековой древности.
И эта правековая древность была тут, рядом, Прокоп мог чуть ли не потрогать ее руками. Она расцвечивала цветок преходящего времени, распустившийся над его головой, дышала в вытертую шерсть синего занавеса, дыры которого превращались в галактики, озаряла полумрак сортира, раздвигала его стены, и они исчезали в бесконечности. Она превращала спускаемую в унитазе воду в белопенный студеный водопад, своим грохотом заглушающий рев урагана. И колокольчик, который Ольбрам привязал к веревочке, становился метеором.
А сидящий на унитазе Прокоп был бардом, которого озарило видение, пришедшее из начала времен. Из столкновения мрака, рун и тишины возникал мир.
Прокоп долго сидел так, погруженный в высокие грезы о земле и словах, как вдруг внезапный грохот прервал поток рун.
Звук этот пришел не из глубин прадавней древности и не с дальних побережий Балтийского моря, источником его была всего-навсего нижняя квартира, где начался привычный скандал. Хлопали двери, падали стулья, рекой лилось сквернословие. Мегера Слунечкова распевала руны на свой особый манер.
ЛУНА В ПОДАРОК
1
Долгие эти грезы в четырех стенах сортира, в полумраке, создаваемом синим занавесом, под потрескавшимся цветком преходящего времени, эти сладострастные скитания в лабиринтах слов, внимательное вслушивание в шорохи и шепоты молчания, терпеливое созерцание сновидческих образов в конце концов привели к тому, что в мозгу Прокопа образовался некий отстой мудрости. Смиренной мудрости, замешенной на легком дурачестве.
Именно здесь была плодородная почва, на которой могло проклюнуться нечто — что угодно.
Но время шло, а ничего не происходило. Штукатурный цветок вспучивался, наливался желтизной, множил свои пузыри, наполненные пустотой и сыростью. Дни проходили за днями в ритме, какой задавала метла Прокопа, обметавшая шагреневую кожу его жизни; унылые, мрачные дни, единственными светлыми пятнами в которых были чтение, вечера в «Белом медвежонке» и приходы Ольбрама и Олинки.
Плодородной почвы самой по себе недостаточно, нужно, чтобы она была перепахана, перевернута и чтобы в нее упало зерно.
И это случилось. В жизни Прокопа произошло потрясение, она разломилась, открылся провал, и в пустоту эту упало зерно.
Ударом, перевернувшим жизнь Прокопа, стало известие об отъезде Ольбрама за границу. Мария выходит замуж, переезжает к своему новому мужу и забирает с собой сына. Хотя Прокоп был привычен к ударам судьбы, такого он не ожидал.
В тот же вечер, когда Прокоп узнал о замыслах своей бывшей жены, к нему пришел Ольбрам. Они поужинали, словно ничего особенного не произошло, и ни один из них не решился заговорить о будущем расставании. Потом они сыграли партию в «лошадки»[8].
После ее окончания Ольбрам принялся расставлять фишки для следующей партии, а Прокоп поднялся, подошел к книжным полкам, покопался, вытащил географический атлас, вернулся и положил его на стол, сбив несколько уже расставленных фишек. Деланно равнодушным тоном он попросил сына показать на карте, где они будут жить. Ольбрам, который в этот момент сосал конфету, не разгрызая, проглотил ее, раскрыл атлас, нашел карту Соединенного Королевства и какое-то время ее изучал. Наконец нашел город, ткнул в него липким от сахара пальцем и произнес нечто урчаще-невразумительное. Питерборо. А затем затараторил, как ученик, вызубривший урок и спешащий оттарабанить его, не слишком хорошо понимая смысл того, что он говорит:
— Это здесь. Видишь? Местность тут низменная, все болота, болота, а вот это река, она называется Нин, и это совсем недалеко от моря. Видишь?
Но Прокоп ничего не видел, ничего, кроме маленького пальца сына, и в голове у него клубились, перебивая друг друга, какие-то дурацкие мысли. Это недалеко от моря, но страшно далеко от Праги, и, наверно, в этой проклятой стране все время жуткий дождь и жуткая скукотища, что же я буду делать тут без тебя, останусь намывать, как дурак, чужие лестницы, и уже никогда мне не придется рассказывать тебе всякие истории, и ты никогда больше не увидишь Олинку, забудешь свою сестру и своего отца, забудешь этот город и все, что тут было, станешь иностранцем, я не хочу, чтобы ты уезжал, мы никогда больше не сыграем в «лошадки», мы с тобой уже никогда больше ни во что не сыграем, Питерборо, Питерборо, это же название для исправительно-трудового лагеря, я не хочу, чтобы ты уезжал, мир и без того уже совсем опустел, я должен видеть, как ты растешь, ты — мой сын, Питерборо, Питерборо, город похитителей детей! Мальчик мой, я не хочу, чтобы ты уезжал…
Ольбрам продолжал изучать карту, водил указательным пальцем по Англии, громко выкрикивая названия городов, рек, гор, но главным образом заливов и бухт. Его тянуло море. До сих пор он знал его по картинкам да по описаниям в книжках.
А Прокоп видел только его маленький пухлый палец, на розовом ногте которого поблескивал налипший леденцовый сахар, и у него стискивало горло. У Ольбрама, которому скоро должно было исполниться десять, пальчики были округлые и нежные, как у маленького ребенка. Но вот теперь он будет расти где-то немыслимо далеко, и постепенно руки у него вытянутся, пальцы утратят нежную округлость, движения их станут осмысленней. Прокоп никогда больше не увидит рук сына, никогда больше не сожмет его ладони в своих. И все невыносимое чувство горя, оттого что у него отнимают ребенка, крадут возможность видеть, как тот растет, сейчас сосредоточилось на этом вытянутом пальце, на этой чуть согнутой детской руке.
А то, что показывал этот палец, перескакивая от Норфолка к Дорсету, от Эссекса к Ливерпульскому заливу, от бухты Уош к Бристольскому каналу, то была не страна, то была география катастрофы. География разлуки, непреодолимой дали в чистом виде. И моря, что омывают тамошние берега, — это воды, где терпят кораблекрушения, это безмерность расставания.
Ольбрам все щебетал, щебетал, забавляясь передвижением красных, зеленых, желтых и синих пластмассовых лошадок через всю Англию. Вот они уже в море и одна за другой становятся кораблями, рифами, морскими чудовищами, маяками, сиренами. А в голове у Прокопа, как будто вколачиваемое молотом, звучало одно-единственное слово: Питерборо, Питерборо.
Питерборо, новое имя беды. У нее накопилось уже столько имен.
_____
Ольбрам уедет. Фреска с Робинзоном-Радомиром на стене в детской выцветет, длинная борода с разноцветными завитками покроется пылью. Отныне это он, Прокоп, станет печальным Робинзоном.
Ольбрам уедет, и вместе с ним покинет эту квартиру детство. Олинка уже вышла из детства, ей скоро шестнадцать, она уже переступила порог возраста игр, кукол и сказок, вступила в пору первых влюбленностей, сумбурных мыслей, и к тому же она редко приезжает в Прагу.
Прокоп чувствовал, что время в самой глубине его существа, словно бы попав в кильватерный след, оставленный ожидаемым отъездом сына, покачнулось, наподобие айсбергов, которые дрейфуют в приполярных морях и у которых, когда они попадают в теплые широты, начинает таять подводная часть, и они теряют равновесие и вдруг с чудовищным грохотом раскалывающегося льда переворачиваются, поднимая гигантские фонтаны воды.
Не счесть, сколько уже раз Прокопа охватывал страх перед временем, которое внезапно рушится, взрывается и укрывается тьмой. Перед временем, которое приносило кровоточащее одиночество. И неизменно причиной тому оказывалась боль расставания, разлуки. Вначале смерть мамы — зрелище окостенелого, ссохшегося тела в еще не заколоченном дощатом гробу. Зрелище, слепящее своей беспредельной очевидностью, в котором смешивались предельная бесчувственность и полнейшее оцепенение. То была его мама, такая родная, такая знакомая, и то была не мама, а какое-то неведомое, совершенно чуждое существо. Эта двойственная, противоречивая, несовместимая очевидность поразила его, мгновенно ввергла в ошеломление. Словно неистово яркий свет вспыхнул у него перед глазами, осветив на миг тайну жизни, и в ту же секунду погас, усугубляя тягостные нагромождения мрака, каменеющего вокруг. Только мрак в этот миг и был освещен.
Мамино тело было теперь лишь усохшим куском мяса, уже тронутого темными трупными пятнами.
Прокоп почувствовал тогда, как земля уходит у него из-под ног, словно бы это ее, землю, предстояло предать земле, и время обрушилось на него всей своей массой. И оттого как бы уменьшились целостность и надежность его собственного тела. Происходила поистине некая ампутация, Прокопа отсекли от его корней. И в открывшуюся в нем глубокую трещину проникла смерть, имеющая привкус подгнившего мяса. В сердце у него дул ревущий ветер, и этот рев слагался в растерянном мозгу Прокопа в слова: «Вот теперь ты оказался в первой шеренге».
Потом была смерть сестры, и он остался один, совсем один в первой шеренге.
Но месяцы проходили, складываясь в года, и ужас постепенно сглаживался, горе смягчалось. Приходило забвение — неглубокое, легкое, как пелена лишайников на скале, как колыхание блеклых трав на песчаной дюне; этого оказывалось вполне достаточно, чтобы укрыть пустыню, спрятать все неровности, смягчить сушь. А жизнь шла своим чередом, властно вступала в свои права. До следующей беды. Тогда тоненькая пелена забвения трескалась, показывалась скала, взметался песок, а такие нестойкие травы и лишайники рассыпались пылью. Под ними же оказывалось горе во всей своей нетронутости; неосязаемые лица умерших почти касались лица Прокопа, и слезы, казалось бы навсегда иссякшие, безмолвно струились из глаз.
Потом было новое испытание разрывом, испытание поруганием любви, обманом доверия. И это оказалось тягостней, чем любой траур; разлюбившая женщина уходит, как уходят с надоевшего, затянувшегося спектакля, но для того, кто остается в одиночестве, спектакль обманутой любви оборачивается кошмаром. Когда Мария бросила Прокопа, он ощутил себя потерпевшим крушение; это был настоящий ад. Время под обличьем своего непрерывного течения закаменело. Дневные часы и минуты ощетинились терниями, которые язвили Прокопа на каждом шагу, при каждом движении, каждом взгляде; мысль его загнанно металась по кругу, память переполняли сверх всякой меры воспоминания, водовороты которых вызывали у него внезапные приступы дурноты. Ему приходилось проглатывать слезы, подавлять вопли ярости, боли, мольбы, и оттого казалось, будто он проглотил наждак. Все ему опротивело. По ночам он не находил себе места, не знал куда лечь; куда бы он ни прилег, в темноте рядом с ним оказывалось тело Марии, оно обретало объемность. Комнату наполнял ее голос, ее дыхание. Но то был всего лишь глухой шум, шум крови, что неотвязно стучала в ушах. У своего плеча он видел лицо Марии, зеленовато-синий свет ее глаз, ее улыбку. Он протягивал руку — рука сжимала пустоту. Он старался свыкнуться с этой пустотой, пытался умилостивить ее. Наконец приходил сон. Но был он недолгим. Сновидения вновь хватались за оружие, выгоняли из глубин памяти забытые воспоминания, выводили такие зримые образы, что Прокоп тут же просыпался. Образы вопили у него под веками. И беспрестанно из его плоти выдиралось тело Марии. Ночь превращалась в реку, сокрушающую плотины и разливающуюся без края и предела, и Прокоп не видел, где кончается этот разлив, не находил нигде спасительной лодки, он ощущал страх, какой среди бушующего моря на утлом плоту испытывают потерпевшие кораблекрушение, не ведающие, в какой стороне находится земля да и вообще существует ли еще она. Он ждал — ждал, когда наступит день. И вот наконец загорался рассвет, но спасительная земля все так же оставалась незримой. А потом весь день он ждал прихода ночи. Ждал наперекор всему, вопреки здравому смыслу. Ждал до изнурения, до полной безнадежности, сам не зная чего. Он жаждал смерти, и бывали мгновения, когда ему казалось, что он умирает. Потому что он поистине был уже по горло сыт своим межеумочным положением, отвращением к себе, отвращением к жизни. Был по горло сыт этой болью, которую он не только не мог одолеть, но даже и назвать, болью, оскорбляющей его плоть и рассудок. Однако жизнь не сдавалась; невозможно умирать от каждой неприятности, от каждой смерти близких, от каждой неудачи или каждого унижения. И вообще умирают вовсе не тогда, когда хочется умереть. Обычно человек приходит в себя, покряхтывая, поднимается, став чуточку старше и чуточку богаче горьким опытом, и продолжает жить — жить как придется; он лукавит, убеждая себя, будто сердце, утратившее ориентацию, способно сыскать верный путь. И поскольку не может сказать, что все хорошо, убеждает себя, что все будет хорошо. Подменяет настоящее неопределенным будущим.
В тот вечер, когда Ольбрам принялся переставлять лошадок вдоль побережья Англии, Прокоп не стал ничего больше говорить. Он лишь покуривал да смотрел на сына. Сидел, весь сжавшись в средоточии настоящего, отодвигая на потом муки грядущего расставания.
А когда настало время спать, Прокоп предложил Ольбраму лечь вместе с ним в комнате, выходящей во двор. Мальчик забрался под одеяло на широченной постели. И Прокоп, прежде чем заснуть, уселся по-турецки на подушку и принялся рассказывать ему такую вот историю.
2
«Однажды в большой город приехал молодой человек. Он вышел из вагона и вынес свои вещи. Одет молодой человек был чрезвычайно нарядно, что вполне объяснимо: совсем недавно он попросил руки одной молодой девушки, и ее родители пригласили его пожить несколько дней у них, чтобы получше познакомиться с будущим зятем.
А вот что выглядело несколько странно, так это его багаж: небольшой кожаный чемоданчик рыжевато-бурого цвета, весь вытертый и перевязанный брезентовым ремнем, большущий сундук из черного металла и круглая лакированная шляпная картонка цвета старого золота. Сундук был такой огромный и тяжеленный, что вряд ли у кого хватило бы сил поднять его. Поэтому он был на колесиках и молодой человек катил его за собой на ремне.
Невеста и ее родители встречали молодого человека на перроне. И все трое слегка удивились, увидев его необычный багаж. Отцу, между прочим, пришлось изрядно понервничать из-за этого багажа: когда он пытался загрузить сундук будущего зятя в багажник своей машины, у него случился прострел, а когда хотел взять шляпную картонку, та отпрыгнула от него, точно была на пружинах. Машина еле-еле ползла по дороге, так она была перегружена. „Странный, однако, у меня будет зятек“, — бурчал папаша, ведя машину.
Невеста и ее родители жили в предместье большого города в прелестном доме, стоящем посреди сада. Молодого человека провели в его комнату. Он расставил там свой багаж.
После ужина, когда все семейство пило кофе в гостиной и обсуждало планы молодой пары на будущее, вдруг стали раздаваться какие-то непонятные звуки. Иногда даже слышался приглушенный тоненький смех. Родители и невеста все время подскакивали на стульях, вертели во все стороны головами, точь-в-точь как флюгеры на крышах при сильном переменном ветре, и, нахмурив брови, прислушивались. Постепенно они все чаще и чаще теряли нить разговора, потому что, постоянно прерываемые непонятно откуда идущими странными голосами, останавливались на полуслове и потом забывали, о чем говорили перед этим.
Кончилось тем, что папаша опрокинул чашку и пролил горячий кофе на брюки. Вскрикнув от боли, он вскочил со стула. И тут же со всех сторон раздался тоненький смех. Разгневанный папаша поочередно оглядел всех членов своего семейства, но никто из них не смеялся.
— Может, вы ко всему прочему еще и чревовещатель? — окончательно выйдя из себя, бросил папаша молодому человеку.
— Сожалею, но этим талантом я не одарен, — улыбнувшись, ответил тот.
Все встали из-за стола, пожелали друг другу спокойной ночи, и каждый направился в свою комнату. Молодой человек, придя к себе, заперся на ключ. Невеста, заинтригованная тем, что происходило в гостиной, подкралась на цыпочках к двери комнаты молодого человека и припала к ней ухом. С большим трудом она подавила возглас удивления.
Ее жених что-то тихо говорил на иностранном языке, и ему отвечали многочисленные голоса. Мужские, женские, причем принадлежащие людям самого разного возраста, а также детские. Похоже, молодой человек был недоволен и говорил со своими собеседниками сердитым тоном. В ответ раздавались какие-то объяснения, сетования, и неоднократно звучало повторяемое на все лады „тс-с…“. Перепуганная невеста убежала. Кто были эти люди, тихонько, точно злоумышленники, разговаривавшие с ее женихом? Как они проникли в дом, какие у них были замыслы, откуда они появились? Она закрылась у себя в комнате и долго плакала, зарывшись головой в подушки.
Утром за завтраком родители, которые тоже плохо спали, удивились, увидев, что у дочери усталый вид, а глаза красные.
— Наверно, я немножко простудилась, — стала оправдываться она и, чтобы подтвердить свою ложь, чихнула.
Тут же раздался тихонький смех, и сразу же вокруг стола зашелестело: „Тс-с… тс-с…“ И опять невеста и родители напрасно вертели во все стороны головами и даже заглядывали под скатерть, поднимали крышки чайника, сахарницы и другой посуды — нигде ничего обнаружить им не удалось. Только молодой человек не шелохнулся, но вид у него был смущенный. Он кашлянул, и все звуки тут же прекратились.
— Наверно, я тоже простудился, — пробормотал он.
Папаша невесты окинул его недобрым взглядом.
Утро было спокойным. Молодой человек и его невеста отправились погулять в саду. Но не успели они пройти и нескольких шагов, как девушка повернулась к молодому человеку и спросила:
— С кем это вы вчера вечером разговаривали у себя в комнате?
— Ни с кем.
— Вы лжете! Вы говорили с какими-то людьми, я слышала голоса, много голосов. Кто были эти иностранцы?
— Я говорил сам с собой, — сказал молодой человек. — Разговаривал со своей памятью.
— Вы что, издеваетесь надо мной? Наверно, папа был прав: вы — чревовещатель и к тому же еще слегка с приветом!
Молодой человек улыбнулся, невеста надула губы.
Когда они возвратились, на крыльце их уже ждала мать невесты. Вид у нее был недовольный и раздраженный.
— Молодой человек, — прошипела она, едва они поднялись по ступенькам, — я надеюсь, вы закрыли свою комнату на ключ по рассеянности, потому что у нас в доме не принято запирать двери комнат: воров в нашей семье отродясь не было, и вообще у нас принято доверять друг другу. Я хотела сделать вам приятное, прибраться в вашей комнате, но не смогла войти.
— Вот ключ, — сказал молодой человек, достав его из кармана, — прошу извинить меня.
Мамаша схватила ключ и, ни слова не говоря, устремилась в дом; за нею последовала девушка.
Обед прошел без неожиданностей. Но перед десертом мамаша под предлогом, будто ей нужно посмотреть, готов ли пирог, выскользнула из столовой и понеслась прямиком в комнату гостя. Она обшарила в ней все углы, заглянула в шкаф, в ящики комода, за занавески и даже под кровать. Но ничего противоестественного не обнаружила. Все было в полном порядке. Тогда она взялась за багаж молодого человека. Первым делом она попыталась открыть большущий черный сундук, однако это ей не удалось, он оказался закрыт на замок.
— Решительно, у этого типа мания все запирать, — пробурчала она.
После чего, за неимением лучшего, она взялась за кожаный чемодан. Он не был закрыт, и мамаша смогла рыться в нем в полное свое удовольствие. Но и там она не нашла ничего неподобающего. Немножко белья, рубашки. Осталась только шляпная картонка. Мамаша развязала бечевку и подняла крышку. Лучше бы она ее не трогала!»
Прокоп прервал рассказ и встал налить себе бокал вина.
— А что там было? — крикнул Ольбрам. — Отрезанная голова? Нет, что-нибудь, наверно, пострашнее…
Прокоп вернулся с бокалом и продолжил:
«Картонка оказалась пустая. Совершенно пустая. И в то же время она была полна голосами. Чуть только мамаша открыла ее, в тот же миг наружу из нее вырвался чудовищный гул, в котором перемешались слова, вздохи, восклицания, крики, свист. Мамаша, уронив картонку на пол, отпрянула и с пронзительным воплем выскочила из комнаты, зажав уши руками.
А тут как раз в духовке сгорел шоколадный торт и запах гари распространился не только по кухне, но проник уже в коридор и столовую. Увидев мамашу, которая, схватившись за голову, ворвалась в комнату, все решили, что она расстроена, оттого что погиб десерт.
Мамаша упала на стул, восклицая:
— Это колдовство! Это колдовство!
— Да нет, — возразил ей муж, — ты просто плохо отрегулировала духовку.
А невеста вскочила и побежала в кухню вынимать обуглившийся торт.
Через минуту в столовой стоял невообразимый шум: мамаша вопила, папаша орал, невеста верещала, потому что обожгла руку, схватив раскаленный противень, но их заглушали звуки все множащихся голосов. Убегая, мамаша выпустила на свободу голоса, заключенные в шляпной картонке, и они устремились за нею по пятам и заполнили всю столовую. Теперь они предавались ликованию — хохотали, что-то бормотали, перекликивались друг с другом, одни напевали, другие насвистывали, некоторые прыскали от смеха. Ощущение было, будто семейство оказалось в большом зале пивной, битком набитом людьми. Шум и крики неслись со всех сторон.
Мамаша топала ногами, как раскапризничавшаяся девочка, и издавала пронзительные вопли. У нее был нервный припадок. Муж, чтобы она пришла в себя, вылил ей на голову графин воды. И в тот же миг раздался громовый смех бессчетных невидимых голосов. А также крики „браво! браво!“ и поощрительный свист. Теперь мамаша уже только плакала, укладка ее развилась, с головы стекала вода, косметика тоже потекла, и лицо было все в черных, синих и красных потеках. Внезапно она стала похожа на старого хнычущего клоуна. Молодой человек нашел даже, что вид у нее чрезвычайно трогательный. Голоса просто захлебывались от хохота.
Папаша бегал вокруг стола, взмахивая салфеткой и хлопая в ладоши, как будто гонялся за этими нахальными голосами, точно за комарами. А они в ответ смеялись еще более вызывающе, перемежая возгласы „браво! браво!“ издевательскими „тс-с, тс-с!“.
Наконец обессилевший папаша рухнул в кресло. Молодой человек, который до сих пор молча сидел на своем месте, встал и произнес несколько слов, которые родители невесты не поняли. Голоса тут же замолчали. Нет, прозвучало несколько восклицаний, несколько словно бы разочарованных междометий, но и они тоже сразу смолкли. Молодой человек, извинившись, вышел из столовой. В дверях он разминулся с невестой, которая выходила перевязать руку.
Но едва он вошел к себе в комнату, как тут же в нее ворвался папаша в сопровождении супруги и дочки. В руках он держал молоток и зубило. Решительным шагом папаша направился прямиком к черному сундуку.
— Что вы собираетесь делать? — воскликнул молодой человек.
Отец грубо оттолкнул его и закричал:
— Хочу вскрыть этот чертов железный сундук и посмотреть, какие еще колдовские гнусности вы прячете в нем!
— Не смейте! — воскликнул молодой человек.
И в тот же миг снова зазвучали голоса, причем еще громче, чем прежде. Но смеха уже не было, слышались только крики ярости, возмущения да жалобные стенания, горестные вопли, охи, ахи.
Мамаша и дочка, дрожавшие от страха, тоже пытались убедить папашу не трогать этот ужасный черный сундук. Но тот был непреклонен. Изо всех сил лупя молотком по замку сундука, он кричал жене, чтобы она вызвала полицию, пожарников, «скорую помощь», секретные службы, священника со святой водой. На всякий случай, мало ли что произойдет.
— Ничего этого не надо, — сказал ему молодой человек. — Но, поступая так, вы делаете ошибку. Нельзя совершать насилие над прекрасным.
Однако папаша его не слушал и наконец-то сбил замок. Он поднял тяжелую крышку. Голоса мгновенно смолкли, и раздалось лишь удивленное и восхищенное папашино „ах!“. Мамаша и дочка, прижавшись друг к другу, робко приблизились к сундуку. Но стоило им заглянуть в него, как немедленно прозвучало исполненное дуэтом восторженное „ах!“.
Молодой человек, стоя поодаль, с печальным видом курил сигарету. Что же касается голосов, они сосредоточились вокруг сундука и дружно восхищались увиденным. А потом завели песню, очень красивую. Нет, правда, поразительно красивую песню».
_____
Прокоп опять прервался, закурил сигарету и снова налил себе бокал вина, потом вернулся к лежащему в постели Ольбраму. Ольбрам забросал его вопросами:
— Так что же? Что там было в этом сундуке? Он был полон взглядами? Улыбками? Приятными запахами?
Прокоп неопределенно хмыкнул.
— Ух ты, — сказал он, — смотри-ка, у меня получились три кольца…
Три кольца синеватого табачного дыма поднимались над кроватью к потолку.
— Прежде чем я продолжу рассказ, — объявил он Ольбраму, — ты споешь мне песню, которую пели голоса над раскрытым сундуком.
— Но я не знаю, какую песню они пели! — воскликнул Ольбрам.
— Я тоже не знаю, потому спой ту, которая тебе больше всего нравится, которая, по-твоему, самая лучшая.
Ольбрам на миг задумался и запел. Пел он немножко фальшиво, но все равно это было красиво. А когда он закончил, Прокоп продолжил рассказ.
«Все трое, удивленно разинув рты и широко раскрыв глаза, стояли над раскрытым сундуком, и голоса, что пели вокруг, уже больше не пугали, не раздражали их, совсем наоборот. Невеста даже принялась тихонько подпевать им.
И, словно отвечая ей, зазвонили колокола. А затем стали слышны и другие звуки.
Гомон толпы, шум проезжающих автомобилей, звонки трамваев, крики чаек и уток, шелест ветра в листве деревьев, голоса игроков в карты, долетающие из кафе, грохот поезда, едущего по железнодорожному мосту, музыка, звучащая в концертных залах, смех и вопли детей в школьном дворе… Одним словом, звуки большого города.
Потому что в сундуке находился город. Самый настоящий город с улицами и домами, с церквями и соборами, с рекой, через которую перекинуты мосты и по которой плавают баржи и пароходики, с парками, кафе, вокзалами, музеями, с птицами в кронах деревьев, со старичками и старушками, сидящими на скамейках в парках и скверах, с замком на самом высоком холме, с кладбищами, магазинами и памятниками. И со всеми его обитателями. С торговцами, пенсионерами, рабочими, влюбленными, чиновниками и солдатами, с зеваками и маленькими детьми в детских садах.
И была весна. Всюду цвела сирень, яблони, вишни, все каштаны стояли бело-розовые. На улицах, во дворах, в парках вовсю чирикали воробьи. И золотисто-желтые брызги света падали на стекла окон и круглые колени девушек.
И был конец лета. Деревья стояли желтые, золотые, багряные, по склонам холмов стекали потоки красок, и яблони сгибались под тяжестью плодов, свисающих с раскинутых искривленных ветвей. Желтовато-охристый свет сыпался на тротуары и голые икры девушек.
И была в разгаре осень. Деревья почти облетели, все улицы были усыпаны палыми листьями, как золотыми и медными монетами, которые разбрасывают на бегу пьяные пираты. Дул сильный ветер, он пахнул дождем, отсыревшим камнем и печным угольным дымом. Свет с оттенками фиолетового и лилового подводил темными кругами глаза стариков, окольцовывал, подобно перстенькам, пальцы девушек.
И была зима. Деревья стояли черные, крыши были покрыты снегом. В парках появилось множество снежных баб. Река замерзла. Каркали вороны, дым из печных труб поднимался к сиреневому небу. Свет, белый, как молоко, и солнце, блеклое, как соломенная скирда, окружали сиянием замерзшие лица девушек.
Был майский вечер, ребята во дворе играли в футбол, по реке плавали лебеди.
Был августовский день, разразилась гроза, молнии озаряли небо. Колокола в церквях негромко звонили к вечерне.
И над городом встала огромная радуга. Мокрые тротуарные плиты блестели, как глаза прохожих.
Было чудесное октябрьское воскресенье, на вершине холма бегали дети и запускали под самые облака огромных разноцветных воздушных змеев.
Была ноябрьская ночь. На всех кладбищах горели свечи, их огоньки трепетали на могилах среди большущих букетов золотистых и пурпурных хризантем и украшенных сосновыми шишками венков.
Был канун Рождества. Компании ангелочков с легкими, как у бабочек, тюлевыми крылышками скакали по улицам под руку с чертенятами, лица которых были измазаны сажей и…»
— Долго ты еще будешь тянуть эту историю? — зевая, поинтересовался Ольбрам.
— Ладно, ускорю, — сказал Прокоп. — Делаю большой наезд и даю крупный план. Итак, из дверей школы выскочил мальчик с ранцем на спине; отметки в дневнике у него были так себе, но зато в кармане лежало несколько монеток, и он спешил купить себе леденец.
Полусонный Ольбрам, приоткрыв глаз, добавил:
— Ага, и еще там был добрый человек, который, попыхивая охнариком, подметал улицу. Он дал мне конфету, и мы пошли погулять в парк.
— Все так и было, — подтвердил Прокоп и продолжил рассказ.
«И тогда молодой человек подошел к сундуку, взял невесту за руку и полетел вместе с нею по пражскому небу через все четыре времени года. Он вел невесту в ее память, к воспоминаниям о первой ее любви.
Повязка, что была на обожженной руке девушки, развязалась. Она разматывалась, разматывалась, словно прозрачное белое облачко, которое плывет по небу и никак не может растаять. И это была ее свадебная фата. А на ее белой дрожащей руке там, где был ожог, распустилась красная роза. Пламенно-красная роза, испускающая пряный аромат. То было ее обручальное кольцо. А вокруг тихонько звучали, летя по ветру, сопровождающие их голоса. Над Виноградским холмом пожилой человек подметал свет, поднимая облака светло-розовой пыли.
— Позвольте представить вас моему отцу, — сказал молодой человек своей летучей невесте».
_____
Прокоп умолк. Ольбрам, растянувшись поперек постели, спал. Его ровное, легкое дыхание словно бы еще усиливало тишину. Прокоп долго смотрел на спящего сына. Потом, подогнув ноги, лег, одетый, на краешек кровати, прижался лбом к коленям Ольбрама, положил скрещенные руки на его лодыжки и тоже уснул. Ноги мальчика чуть-чуть упирались ему в грудь. И всю ночь в сердце Прокопа звучали отзвуки детских шагов.
3
Начался обратный отсчет дней, оставшихся до разлуки с Ольбрамом. Настоящее время стало для Прокопа совершенным прошедшим; всякий раз, когда Ольбрам приходил к нему, Прокоп не мог избавиться от мысли, что каждый миг, проведенный ими вместе, неумолимо становится прошлым. Каждый жест, каждое слово, каждый взгляд сына вызывали у него странное волнение, словно мальчик в первый и последний раз протягивает руку, что-то говорит ему, смеется, поднимает на него глаза. Скорбь грядущего будущего наполняла горечью часы счастливого настоящего.
Наблюдая за сыном, Прокоп думал: «Вот сейчас он возьмет яблоко, оботрет его о рукав свитера, откусит… сейчас раскроет тетрадку, я буду ему диктовать… сейчас неправильно застегнет свою пижамную курточку в желтых и красных черешнях…» В ненасытной памяти Прокопа жесты, краски, формы, запахи, звуки взрывались, точно огромные перезрелые плоды, которые с глухим звуком падают на землю, и тотчас же над ними раздается пчелиное гудение.
Чем меньше оставалось дней, тем острее становилось это ощущение разрыва, внутреннего обрушения времени. Настоящее раздвигалось, и два других временных измерения глухо и навязчиво подвывали в нем унылыми, бесцветными голосами. Даже когда Прокоп сидел с друзьями за разговорами и выпивкой в «Белом медвежонке», случались эти сдвиги, и тогда сигарета, глоток вина, кусочек хлеба или сыра неожиданно обретали новый, обостренный вкус.
Вкус последней сигареты, последнего глотка, последнего куска — вот только последнего перед чем?
Жизнь все равно продолжалась и казалась еще интенсивней, еще богаче; Прокоп ощущал ее всеми порами своей кожи, каждой клеточкой своей плоти.
Жизнь была такая звучная, такая динамичная, такая осязаемая и очевидная — как раз для того, чтобы в один из грядущих дней навек умолкнуть и уйти.
Прокоп сидел в шумном зале кафе, всецело присутствуя в нем, отмечая каждое движение, малейшую перемену вокруг; все пять его чувств обостренно воспринимали окружающее, и в то же время он ощущал, что проник в некие удаленные зоны времени, сослан в запасники будущего, заброшен куда-то в предпрошедшее. Этот парадокс порождал новые, и чем зорче Прокоп следил за самыми незначительными мелочами, тем становился невнимательней и рассеянней. Он как бы отсутствовал в зале именно из-за избыточности своего присутствия в нем.
Нежданно он обрел необычный дар — дар одновременного пребывания в разном времени. «Эй, Прокоп, да очнись ты!» — кричали ему друзья, видя его отсутствующий взгляд. Но он вовсе не спал: в самом средоточии настоящего он выкладывался в бессмысленном марафоне между будущим и прошедшим. Загружал каждое ощущение, каждую прожитую секунду в гигантское хранилище памяти. Все подряд, навалом — вкус еды и напитков, голоса, смех, беготню официанток, звон бокалов и кружек, жесты соседей, тепло человеческих тел, выражения лиц.
Но он не осмеливался признаться в этом друзьям, а главное, не сумел бы объяснить им этот феномен, который и его самого приводил в изрядное замешательство. И поэтому Прокоп улыбался и шутил, лишь бы не показать, до какой степени он выбился из сил. Не так-то просто быть бегуном на длинные дистанции в трех временных измерениях.
Единственным местом, где не возникало подобного раздвоения, была уборная. Там Прокоп обретал спокойствие, там время наконец делало передышку. Несомненно, причиной дарованного ему роздыха была благожелательность ларов, которые владычествовали здесь. Да и как же могло быть иначе в месте, которое само по себе изъято из населенного пространства и ритма обыденности.
Ведь Прокоп испытывал тревожное ощущение направленного вовнутрь взрыва времени главным образом в обществе других людей, и в особенности тех, кто был ему ближе всего. Когда он видел их лица, мельтешение их жестов, слышал их голоса, их дыхание, его особенно остро пронзало сознание мимолетности настоящего. Именно потому что он любил этих людей, потому что был связан с ними множеством уз, корнями, потому что они составляли неотъемлемую часть привычного пейзажа жизни, Прокоп рядом с ними ощущал бег времени, видел, как на поверхности настоящего трепещет тень грядущего их исчезновения. То же самое, хоть и не так остро, он ощущал и прежде в обществе других людей.
В уборной же он всегда был только один — ларарий Прокопа оставался тихой гаванью чтения, грез, раздумий, но только не уныния. На потолке над самой головой с безмятежным безразличием набухал цветок преходящего времени.
Но Прокоп все-таки использовал эти моменты передышки, чтобы попытаться осмыслить феномен, порожденный перспективой скорого отъезда Ольбрама. У него было предчувствие, что благодаря этому опыту, пусть даже и невероятно тягостному, он приблизится к некоему исключительно важному открытию. С одной стороны, опыт-то был достаточно банальный: все рано или поздно испытывают чувство подобного разрыва времени. В основном, частота, а главное, напряженность, с какими проявляется это ощущение, и вызывают тревогу и впечатление необычности. И Прокоп догадывался, что дело тут в некоей сущностной необычности, хитросплетения которой он должен исследовать, а вовсе не в простой странности, на которую можно списать временное расстройство чувств.
Он перестал читать в уборной. Сидел в тени синего занавеса, смотрел, как поднимаются над сигаретой белесоватые извивы табачного дыма, как тлеет она красным огоньком, как мягко осыпается столбик пепла. Довольствовался тем, что наблюдал за этими летучими, зыбкими письменами, которые не несли в себе никаких сведений, а только вились молочно-белыми арабесками в полусумраке ларария. А иногда кончиком пальца следовал за изгибами какой-нибудь из этих бледных завитушек, и дым тут же расплывался, а с ним вместе мысли Прокопа.
Тающий этот алфавит вызывал у Прокопа такое же смятение, что и руны «Калевалы»; то было исключительно кроткое смятение, не приносившее никакого разрешения его раздумьям, но наполнявшее их удивлением, безмерной жаждой, а также глубоким смирением.
А вот никакое озарение не приходило.
Однажды утром Прокоп встретился на лестнице с паном Славиком. Было как раз время, когда сосед обычно сносил на руках свою обезножевшую собаку на прогулку. Но на сей раз у соседа руки были пустые, они как-то по-особенному тяжело свисали, а длинный «кукловодческий» шарф был обмотан вокруг шеи. А глаза были чуть ли не такие же красные, как шарф. Поймав взгляд Прокопа, который с совершенно идиотским видом уставился на него, пан Славик опустил голову и ускорил шаг.
4
И вот пришел срок Ольбраму уезжать. Последний день, что они провели вместе, был на удивление безмятежным. С ними была и Олинка. Втроем они погуляли по Петржинскому парку, поднялись к Бельведеру, потом Ольбраму захотелось пройтись по лабиринту, стены которого увешаны кривыми зеркалами. Они бродили по зигзагообразному коридору среди своих исковерканных отражений — то сплюснутых и приземистых, то преувеличенно длинных и тощих. Там была тьма детей, лабиринт кишел непоседливыми, галдящими уродцами.
Девочка лет трех, сидящая на плечах отца, вдруг разрыдалась, увидев, что у нее выросла длинная жирафья шея, увенчанная крохотной, как у страуса, головкой с огромными выпученными глазами, тогда как ее папа внезапно превратился в карлика, ноги которого к тому же были поражены слоновьей болезнью.
Потом они спускались по сырым тропинкам, и в парке сладко и горьковато пахло древесной корой, мхом и землею, и это был знак, что близится осень.
Дети шли впереди, и Прокоп любовался их упругой походкой, которая на спуске становилась чуть-чуть подпрыгивающей. Но в Олинке уже проявилась какая-то новая энергия, та, что излучают тела молодых девушек — тела, в которых перемешаны вызов и стыдливость, наивность и диковатость, желание и грациозность. Плечи Олинки высились над городом со ржаво-рыжими в этот предзакатный час крышами, бедра покачивались в такт раскачивающимся деревьям в садах, которые уступами шли сверху вниз, голые икры усиливали сверкание реки, а на длинной светлой косе играли медно-золотистые отблески. В какой-то миг солнце легло ей на плечо, пурпурный закатный отсвет замерцал в горловой впадинке, а потом солнце покатилось по ее руке и упало в реку. Олинка двигалась легким неспешным шагом, подобная канатной плясунье, жонглирующей облаками, светом, куполами и башнями, ветром и птицами. Ольбрам вприпрыжку шел рядом с сестрой, и первые желтые листья, что сбрасывали деревья, кружили вокруг него. На самой высокой точке города эти мальчик и девушка танцевали балет багряного заката, балет идущего на убыль лета.
Они поужинали пораньше в ресторане недалеко от набережной. А когда кончили ужинать, Олинка подарила брату ярко-синий шарф и записную адресную книжку, в которой она раскрасила все буквицы. Прокоп подарил сыну часы, брелок для ключей в виде металлического свистка и маленький компас в футлярчике из темносиней пластмассы. Ольбрам был в полном восторге, и ему захотелось тоже что-нибудь подарить сестре и отцу. Что-нибудь грандиозное, по-настоящему красивое, незабываемое. Что-то такое, что невозможно ни потерять, ни даже для чего-то использовать. На миг он задумался, принялся осматриваться вокруг, и тут его осенило.
— Тебе, — сказал он Олинке, указывая пальцем в окно, — я дарю это облако, то, что плывет над замком, видишь, такое маленькое и розовато-оранжевое. Теперь всякий раз, когда на небе появится облачко такого цвета, оно будет твое, только твое и ничье больше. А тебе, папа, я дарю луну. Всю целиком. И теперь в полнолуние она будет только твоей. Так что вы никогда не сможете ни потерять, ни поломать мои подарки.
Маленькое розовато-оранжевое облачко все так же плыло по небу, и сейчас оно было прямо над базиликой Святого Иржи. Олинка внимательно следила за ним взглядом. А вот луна, совсем еще бледная, пока едва просвечивала на серо-пепельном небосклоне.
Но она постепенно всходила в сердце Прокопа. Подобно девчушке в лабиринте, которая так испугалась деформированных отражений, Прокоп в эти минуты свято верил в то, что видел, и принимал за чистую монету все, что ему говорили. Ольбрам подарил ему луну, и он осторожно, бережно принял ее, как нечто необыкновенно ценное и безумно хрупкое.
В нем совершались некие незримые движения, словно прозрачные руки производили бесконечно важные действия вокруг его сердца. Бесплотные руки трудились в нем, разглаживая его мысли, его память, чтобы распространить их на все пространство небосвода.
Луне нужен простор, широкий простор без помех, нужна высота, нужно движение. Ей необходимы тишина и отрешенность. Путь у нее долгий, а свет такой слабый, что любая малость способна затмить его.
Прокоп мгновенно ощутил огромную ответственность: как сохранить подарок, который он только что получил от сына? То был безмерный, всеобъемлющий дар, и последствия его были неисчислимы; такие подарки способны делать только дети, когда они любят того, кому дарят, и жаждут выразить свою любовь. И тогда, поскольку никакой собственностью они не обладают и никакие сокровища не способны для них сравниться с той безмерностью, что полнит их души, они ищут по всей вселенной редкости и тайны, отыскивают нечто совершенно непредставимое и подносят с простодушной улыбкой, как будто речь идет о самом обыкновенном апельсине или маргаритке. Для них это совершенно естественно. Протягивая к вам пустые ладони, они без долгих объяснений и словесных прикрас подносят вам в дар бронзовый гул океана, след падучей звезды, морозный цветок или песенку птицы в ночи. Дарят красоту мира, даже не подозревая, какую налагают на вас страшную ответственность. Дарят свое доверие, не догадываясь, какие тяжелые и категорические требования тем самым они предъявляют вам. Некоторые взрослые в слепоте любви сохраняют в себе эту серьезность, эту высокую детскую наивность; вся жизнь их воплощается в абсолютность любви. И если им изменяют, то это равносильно тому, что у них отнимают весь мир, и жизнь их тогда превращается в долгую агонию. Романа, сестра Прокопа, умерла, потому что ее постигло это горе.
_____
Настал час расставания с Ольбрамом. Долго, очень долго, может, год, а то и два Прокоп не увидит сына. Но тем же самым маленьким и пухлым пальчиком, который указал на имя беды — Питерборо, Ольбрам показал средоточие верной и светоносной памяти. Прокоп получил в подарок луну. И сразу же прекратился сумасшедший разгон времени, мучительные завихрения которого все последние недели ощущал на себе Прокоп. Время вновь обрело устойчивость, настоящее сделало передышку.
Всякий раз в период полнолуния детство Ольбрама явится во всей своей цельности и полноте, в ласковой белизне, и точно так же всякий раз, когда на горизонте проплывет розово-оранжевое облачко, юность Олинки проявится над землей, как легкий ветер с привкусом плюща и молодой травы. Облачко и луна станут отныне зеркалами стократ более сказочными, чем зеркала петржинского лабиринта: они отразят в себе всю землю со всеми ее городами, морями и лесами, отразят одиночество Прокопа, полностью очистив его от горечи, осенят разлуку с детьми таким ореолом мечты и нежности, что в самой разлуке проявится тысячекрат более подлинное их присутствие.
Луна и облачко — зеркала анаморфоз и метаморфоз. Источники иного света.
И отныне все, что окружает Прокопа, будет освещено по-иному.
ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
1
В сердце Прокопа все перевернулось, все смешалось, мысли путались, разбегались во все стороны. Но в сумятицу эту упало зернышко.
Совсем крохотное, незаметное зернышко, однако если человек всем обделен, подобно парии, каким был Прокоп, то даже такая малость уже кое-что.
Над его пустыней светила луна.
Все могло бы так и остаться: лунный свет над тусклой равниной. Зернышко могло бы скукожиться, окаменеть.
Но этого не случилось, и оно проросло.
А помогли ему прорасти встречи. Встречи самые разные, как правило, самые обычные и внешне вроде бы ничего особенного не представляющие. Встречи с людьми, оставившими в нем новый след, — со случайными прохожими, увиденными на улице, или неожиданно обретенными старыми знакомыми, связь с которыми давно оборвалась. Само собой разумеется, встречи с книгами, которые происходили за синим занавесом в уборной.
Книги и люди, слова и лица, торопящиеся прохожие и перелистанные тексты, украдкой подсмотренные взгляды и жесты — все эти ничего не значащие мелочи, какими бы несовместимыми они ни казались на первый взгляд, перемешавшись, создали новую, стократно более прозрачную атмосферу, породили климат, благоприятствующий мечтательности и работе воображения.
Прокоп, чьи глаза отливали отблесками лунного света, чуть ли не полностью отдался на произвол ветра встреч — ветра случайностей и удивления.
Все вокруг обретало новое освещение, словно дневной свет слегка пропитался лунным сиянием. Серебристые или матовые, с оттенком цвета слоновой кости отблески дрожали в воздухе, накладывая на все вокруг некую тень неочевидности. И источником этого было вовсе не время, которое раздваивается внутри себя, чтобы разбежаться в противоположных направлениях, но свет. В этом двойном освещении все зримое, начиная с тел и лиц людей, преображалось. Все, что почиталось прекрасным или уродливым, обыкновенным или редкостным, вырывалось из привычных рамок, в которых замкнули его привычки и условности.
Первый, кого Прокоп внезапно увидел по-новому при этом втором освещении, был он сам. И произошло это опять же в уборной.
Он только что отложил газету, в которой пробежал по диагонали несколько статей. Все то же самое: где-то войны, где-то катастрофы, техногенные или природные, тут захват заложников, там убийство, а тут государственный переворот; на посвященных экономике и политике страницах мешанина лжи, нелепостей, крупномасштабных афер. Скандалы и разложение на Западе, провалы и власть посредственности на Востоке, нищета и голод на Юге. Не считая того, что недосказано, и того, что скрыто. Хроника обычного дня планеты.
Прокоп наклонился взять сигарету, зажигалку и выбрать один из оставленных Ольбрамом иллюстрированных журналов, чтобы отвлечься от своих мыслей. Вот тогда-то он и увидел себя, сидящего со спущенными до полу брюками на стульчаке, увидел рыжеватые волоски на ногах и толстое брюхо пивопийцы, под напором которого просто чудом еще не отлетали пуговицы на рубашке.
Тысячи и тысячи раз Прокоп видел себя такого, однако, что бы он там ни вещал в «Белом медвежонке» в тот вечер, когда обсуждалось место установки ларария, картина эта как-то не привлекала его внимания.
Но в этот день, практически неотличимый от остальных, он испытал потрясение. И вовсе не потому, что внезапно обнаружил, какое у него отвислое брюхо и какие дряблые мышцы, это его нисколько не беспокоило, а потому, что издевательская смехотворность его обличья бросилась ему в глаза (и в сознание), точь-в-точь как порой нежданно прыгает на спину кошка с выпущенными когтями.
И дело даже было не лично в нем, речь шла о куда большем. Ситуация странного животного вида «человек», насчитывающего несколько миллиардов особей, одним из которых был он, Прокоп Поупа, предстала в его сознании во всей полноте и во всей жестокой очевидности. Этакая огромная инфузория, которая безудержно размножалась, разбухала, трагически при этом усложнялась и по мере развития с остервенением менялась к худшему. Глаза Прокопа наполнились изумлением, в мыслях царил разброд.
Он сидел, наклонив голову над своим бледным обвислым животом, сжимая в одной руке пачку «Спарты», а в другой зажигалку, и внутри у него клубилась ледяная пустота. После секундного ошеломления, он ощутил в себе звучание слов, бурно восходящих откуда-то издалека. Чувство было такое, словно кровь от внезапного страха прихлынула к сердцу, оставив тело застылым, безжизненным, а потом вновь заструилась, неся каждой клеточке пламя, фонтанирующее из самых глубин его плоти. То были строки из поэмы Бедржиха Бриделя[9], которые он заучил давным-давно, может, в самой ранней юности. И неожиданно в глубине памяти мучительные эти строфы стали разворачивать звучные свои спирали.
Ты — сладостность, а я — отрава, Уродство — я, Ты — красота, Я — стыд, бесславие, Ты — слава, Я — мерзостность, Ты — чистота, Я — бой всечасный, Ты — победа, Я — чернота, Ты — белизна… Так кто я? Смрадная клоака… Я тщетней крохотной пушинки, Что тщетный ветер вдаль несет, Непостояннее пылинки, Вершащей с вихрем свой полет, Подобие шуршащей пены, Когда я радостью объят, Но чуть приходят перемены, Вмиг страхи сердце мне томят.Разум его был потрясен абсурдностью, а сердце содрогалось от осознания тщетности жалкого своего существа. Он не сводил глаз со своего брюха, со спущенных, собравшихся в гармошку брюк. В безмолвии сортира поэма продолжала раскручивать безумными завитками скорбную литанию:
Ужасней моровой заразы И язв гноящихся страшней, Отвратней гноя и проказы И кала смрадного гнусней, Чумы стократнее опасней И смертоноснее стократ Я — мерзкий, смрадный, безобразный — Для стыдной плоти — страшный яд.Стыдная плоть! Слова эти прозвучали в мозгу Прокопа подобно удару грома. С одной стороны, некое преувеличение, таящееся в них, его коробило, но, с другой, он чувствовал, что сквозь эту чрезмерность и преизбыточность лексики вопиет истина. Под стыдностью плоти не подразумевалось никакой непристойности, непотребности, тут имелась в виду скорей уж безмерная, горестная убогость. Убогость всего человеческого существа, заплывшего салом глупости, жиром малодушия. Убогость разума, зажиревшего от лености, и сердца, утратившего силы из-за себялюбия.
Стыдная, непроницаемая плоть, в которой задохнулась душа. Тело, превратившееся в грузный механизм, работающий лишь на самого себя.
И как бы красива ни казалась телесная оболочка, внутри нее уже зреют черви, которые вскоре закишат в трупе.
Я — прах, тухлятина и тленье, В своих грехах себе же враг, Порок и клятвопреступленье, Живое гноище, червяк.Громовое урчание сотрясло канализационную трубу и прервало сетования Бедржиха Бриделя. Это верхний сосед Славик спустил воду. Прокоп встал, натянул штаны и тоже резко дернул за веревочку сливного бачка, переадресовав рев потопа нижним соседям Слунечко. После чего, взбудораженный отрывками из длинной поэмы Бриделя, что внезапно всплыли у него в памяти, пошел к книжным полкам и принялся копаться в книгах. Искать пришлось довольно долго, прежде чем он нашел поэму. Взяв ее, Прокоп уселся у себя в комнате и углубился в чтение.
Смеркалось; с серого неба сыпался мелкий холодный дождик; морось, собираясь в крупные капли, стекала по стволам нагих деревьев. Из церкви-склада приглушенно доносилась музыка — хорал Баха, который с величайшим прилежанием разучивал органист. Из печных труб поднимались рыжеватые, перекрученные струйки дымов. Прокопа так захватило чтение, что он даже не подумал встать с кресла, чтобы зажечь свет. Он читал в полутьме, все ближе поднося книжку к глазам, и мысли его запутывались среди витых колонн строф и бесконечных завитков строчек, в которых Бедржих Бридель задавал тревожные вопросы о сущности человека и при этом славил величие Господа.
То было ошеломляющее вихревое круговращение между Божьим милосердием и грехом, восхищением и богооставленностью, чистейшим светом и чернейшей тьмой. И в этом вихревороте кружили образы то цвета грязи, сажи, крови, пепла и гноя, то пурпурные, медовые, золотые, цвета росы и небесной лазури.
То были свирепые судороги стыдного и ничтожного тела, из складок и укромных мест которого сочились тьма, гной и сукровица, меж тем как все вокруг обвивал тонкий, сияющий вьюнок света.
И в этом-то и заключался главный парадокс: стыдное тело, узловатый ствол, весь в дуплах и уродливых наплывах, страдало, оттого что вокруг него с такой нежностью обвивается легчайший этот вьюнок.
Уже почти совсем стемнело, когда Прокоп дошел до последних строк, таких смиренных и изложенных такими простыми словами в этом потоке мощных и звучных образов:
Я — червь, ползущий по земле, Свое ничто дарю во мраке!Прокоп захлопнул книгу. И по причине своего характера, и по причине судьбы он без всякого сопротивления воспринял предпоследнюю строку. У него практически и сомнений не было, что он как раз и есть толстый, жирный червь, ползущий по земле. Но вот между предпоследней и последней строчкой лежала пропасть. «Свое ничто дарю во мраке!»
Как дарить свое собственное ничто, бесцветную свою ничтожность во мраке и безмолвии? Вот Ольбрам не задавался такими вопросами в тот вечер, когда подарил сестре облачко, а отцу луну. Он сорвал два прекрасных плода зримого мира и даровал их такими, какие они есть, придав им тем самым реальную весомость.
В глубине своих пятидесяти четырех лет, слагающихся из сомнений, неудач и забот, Прокоп чувствовал, что не способен на подобную дерзостность: поймать неуловимое, оплодотворить невозможное. Как поднести в дар самого себя, ежели ты ничто? Прежде всего, тут отсутствует зримость, это не соответствует никакой форме, не относится ни к чему, что явно для глаз. И потом, кому подносить этот дар? Тому неведомому, что именуется Богом? Великой этой недостоверности?
Что касается проблемы существования или несуществования Бога, то Прокоп тут, ежели говорить по правде, так никогда четко и не определился; в сущности, он не смог бы даже ответить на вопрос, верующий он или нет. Он болтался где-то в стороне от этой проблемы, не определив своей позиции, и, возможно даже, она была ему безразлична, потому что он никогда, по сути, не углублялся в нее, даже когда ему случалось трепаться на эту тему.
Вот почему в этот вечер удивлению его не было ни меры, ни предела. Привел в замешательство его не только смысл короткой фразы: «Свое ничто дарю во мраке». Куда больше удивило, что эта проблема задела его до такой степени.
До этого дня, когда при чтении сердце у него вдруг начинало учащенно биться или вздрагивало, причина всегда была чисто литературного порядка, и речь тут скорее могла идти об эксцитации воображения. Впервые родившаяся в нем тревога оказалась совершенно иного свойства и затрагивала зону, доселе пребывавшую в полуосознанном состоянии. В воображении, ничуть даже еще не взбудораженном, была пробита брешь. Родившееся в нем удивление вовсе не сопровождалось озарением, напротив, в мыслях от него оставалась какая-то серая шершавая замазка. Дело тут было не в игре слов, не в их звучной гармонии и точном соответствии, не в восхищении образами и картинами, не в захватывающих приключениях в глубинных недрах зримого мира, словно в кулисах некоего волшебного театра. Нет, театр был пуст, кулисы и сцена являли собой слитное пространство, тонущее в полумраке, а в суфлерской будке глухо завывал студеный ветер.
Никогда еще ни одно произведение не производило такого впечатления на Прокопа. То было совершенно непривычное ощущение — какой-то горькой сухости: слова не вызывали никакого отзвука, не порождали никаких грез.
Одна строка, простая стихотворная строчка разом уничтожила все языковое пространство, резко прервала разбег игры и воображения. У Прокопа было ощущение, будто он распластан на нулевом уровне языка и мышления.
И все лишь потому, что он случайно глянул на свое объемистое пузо! Потому, что по какой-то нелепой ассоциации созерцание собственного толстого брюха внезапно навело его на воспоминание о поэме, затерянной в каком-то дальнем уголке памяти. Все это было более чем странно.
_____
«Однако, — сказал себе Прокоп, вставая с кресла, чтобы зажечь наконец свет, — эта шутка с помещением ларария в клозете, похоже, начинает выходить боком». Он пребывал в некотором замешательстве. Не всегда бывает просто учесть обстоятельства и оценить содержание мыслей, которые приходят совершенно неожиданно. Что они являют собой — бальзам, смолу или всего-навсего никчемную пыль?
И однако ж короткая эта строка продолжала ввинчиваться в мозг с прежним упорством. «Свое ничто дарю во мраке!»
2
Сколь бы нелепо это ни выглядело, но именно самое заурядное созерцание собственного брюха стало причиной революции в мозгу Прокопа. Революции абсолютно некрасочной и негромогласной: не происходило никаких фантасмагорий, и его мозгу, как правило, весьма приспособленному к усвоению самых разнообразных и по большей части ярких и звучных вымыслов и отступлений, не пришлось переваривать никаких философско-поэтических выспренностей. Прокоп пребывал в мучительном процессе самой умеренной и самой сдержанной внутренней революции. Но при этом и самой упорной.
Прокоп Поупа никогда не переоценивал себя, по крайней мере с тех пор как окончательно вошел в так называемый сознательный возраст. Слишком рано измерил он всю бескрайность людской глупости и тщеты и, будучи полностью лишен заносчивости, считал себя точно таким же, как все остальные. К тому же, после того как его принудили подметать улицы и мыть лестницы сограждан, он заодно перестал лелеять свою гордыню и тешить самолюбие. Одним словом, прошел через этакий маленький локальный кризис.
Но только что Прокоп сделал еще один шаг в направлении к себе, а верней было бы сказать, обрел новую позицию, чтобы посмотреть на себя в перспективе. Совершенно неожиданно он взглянул на себя другими глазами. Глазами гораздо более проницательными и в то же время наивными, глазами осязающими, которые ощупью исследовали то, что погружено во тьму.
Внезапно он проник в самые недра плоти и прикинул вес своего тела, но отнюдь не физического, поскольку на любых весах смог бы увидеть, что весит он около ста килограммов, а свой экзистенциальный вес. И вес этот был абсолютно неисчислим, поскольку приближался к минус бесконечности. Эта устремленность к небытию потрясала разум; Прокоп уже совершенно не понимал себя, точь-в-точь как ребенок, нашедший большущего и тяжелого двурогого жука. Что это за необычное и пугающее существо? Ползает оно, бегает, летает или скачет? Оно жалящее, кусающее, кровососущее или, может, царапающее? Опасное или безобидное? Оно поет, кричит или стрекочет? Твердое оно на ощупь или, напротив, мягкое? А может, в нем все смешано понемножку?
Тем не менее должен же быть какой-то смысл в существовании и этой вызывающей тревогу твари. Толстое существо по имени Прокоп Поупа пребывало в мучительных сомнениях.
Обретя новый взгляд энтомолога с уклоном в тератологию[10], Прокоп все стал видеть совершенно по-иному. Главное, он стал воспринимать вещи и людей в чудесным образом искаженной перспективе; иногда ему казалось, будто все измерения — длина, ширина, высота, объем — подвержены, как в сказках, каким-то деформациям. А придя в гости к Алоису Пипалу, он имел случай экспериментально исследовать эти, в общем-то, сбивающие с толку оптические нарушения.
Всякий раз, когда Прокоп являлся с визитом к Алоису, тот в честь него устраивал то, что он называл «большой игрой», то есть запускал все свои электрические поезда. И всякий раз оба они получали от «большой игры» живейшее удовольствие, тем паче что Алоис не переставал совершенствовать свою железную дорогу и улучшать декор вокруг нее.
Гостиная была полностью занята разветвленной системой железнодорожных путей, и передвигаться в ней можно было только с чрезвычайной осторожностью, и притом на цыпочках. Пути прихотливо извивались среди чудесного гористого пейзажа, сделанного из картона и покрытого белой лаковой краской, изображавшей снег, а на вершинах холмов росли леса из засушенного чертополоха, перьев и маленьких кактусов. По склонам же и в долинах располагались деревни с деревянными раскрашенными домиками и церковками. Поселки и хутора соединялись извилистыми дорожками, посыпанными песком или мелким-мелким гравием. Там было даже миниатюрное озерцо, которым служило овальное блюдо, достаточно глубокое, чтобы в нем свободно могли плавать несколько крохотных рыбок.
Были там пять железнодорожных вокзалов разной величины и разного стиля, собственноручно выполненные Алоисом из крашеной или покрытой гипсом фанеры. Самым красивым был тот, который Алоис сделал точным подобием Вышеградского вокзала. Там было все: и статуя белого льва, которая стояла в дурацком карауле перед фасадом вокзального здания, и полузахиревшие садики вокруг него, и даже деревянная халупа на задах этих садиков.
Но самым примечательным был вокзал станции, называвшейся Грабал[11] в честь написанного этим писателем романа «Поезда особого назначения». Само собой разумеется, Алоис, чтобы проиллюстрировать эту книгу, выбрал сцену, где очаровательная телеграфистка Зденичка демонстрировала свои обнаженные ягодицы, на которых заместитель начальника станции Губичка оставил многочисленные оттиски вокзальной печати. И вот теперь на перроне этой игрушечной станции крохотная куколка без трусиков выставляла на всеобщее обозрение свою очаровательную попку.
Эту железнодорожную вселенную населяли и многие другие персонажи. Алоис менял фигурки в зависимости от времени года.
Сейчас, в начале декабря, в честь приближающегося дня святого Николая, Алоис расставил повсюду целую толпу ангелочков и чертенят. На Вышеградском вокзале ангелок в рубашечке из бледно-розовой гофрированной бумаги и с крылышками из гусиных перышек только что сменил начальника станции на его обычном посту рядом с белым львом. Этот ангелок-железнодорожник вместо фонаря держал в руке свой нимб. Еще один ангелочек уселся на переезде в компании двух рогатых чертенят с большущими красными глазами. Но скоро черти будут изгнаны из железнодорожного пейзажа, поскольку они входят в свиту святого Николая, но никак не волхвов. Останутся одни ангелы, и множество фигурок святых заполонят окрестности, потому что Алоис ежегодно превращал свою железнодорожную вселенную в большущий рождественский вертеп. То будет апофеоз железнодорожной мании Алоиса: холмы закудрявятся овечьими отарами, ведомыми пастухами, ангелами и крестьянами; горы покроются позолоченными и посеребренными лесами; козы и овечки будут сопровождать верблюдов царей-волхвов, которые, как известно, пришли с Востока, куры будут клевать звезды, что усеют землю, а кукла Зденичка ради такого случая прикроет свой прелестный розовый задик кружевной юбочкой. Вышеградский вокзал преобразится в хлев, где родится Божественный Младенец, и белый лев будет нести стражу вместе с волом и ослом над крохотными, заполненными соломой яслями.
В Рождественский вечер Алоис запустит все свои поезда. Дева Мария приедет на модели старинного паровоза огненно-красного цвета, святой Иосиф — в Восточном экспрессе, а платформы товарных поездов будут битком набиты ангелами, старушками в шалях и с корзинами яиц, пастухами, восторженно вздымающими руки к небу, скрипачами, флейтистами. А сам младенец Иисус совершит торжественный въезд на желтой дрезине. Алоис будет управлять сложнейшим движением всех этих поездов, которые будут встречаться, разъезжаться, бросаться на приступ холмов, нырять в туннели, везя раскрашенные вагончики в пейзаже, озаренном лишь огоньками горящих свечек. Две недели подряд дети всех друзей Алоиса будут приходить к нему полюбоваться этим всякий раз обновляющимся зрелищем. И впервые среди них не будет Ольбрама.
Когда Прокоп пришел к Алоису, тот поделился с ним своим новым замыслом. Он решил повесить колокольчики на колокольне каждой из семи церквей, стоящих между холмами, а также на донжоне укрепленного замка, перекрывающего подход к озеру с золотыми рыбками. И в Рождественскую ночь все колокольчики будут звенеть, так что дрезина с Божественным Младенцем прибудет к вертепчику Вышеградского вокзала под проливнем мелодичного благовеста.
Прокоп, сидя на корточках возле горы, слушал друга и взглядом следил за движением поездов. У него было ощущение, будто он Гулливер в стране лилипутов или Пантагрюэль, заброшенный в век электричества.
В соседней комнате зазвонил телефон. Алоис встал и вышел из гостиной. Прокоп остался один среди переплетения железнодорожных путей. Поезда один за другим замедляли ход и останавливались, и только один черно-зеленый паровозик продолжал бежать по рельсам.
Легкое гудение паровозика не только не нарушало тишину, но, напротив, словно бы делало ее еще пронзительней. Было что-то завораживающее в этом пейзаже, изготовленном из гипса и картона. Прокопу пришла на память та глава из «Четвертой книги», где Рабле повествует о необыкновенном плавании Пантагрюэля в ледяную страну; в ее воздухе было полным полно замерзших слов, похожих на драже, и когда они оттаивали, звучали разные голоса. Гудящий паровозик, он ведь тоже вез прозрачные жемчужины, в которые свернулись разреженные звуки.
В общем, не совсем это нормально, когда человек изрядно за пятьдесят сидит на корточках по соседству с миниатюрной горной страной, нависая всей своей массой над ее вершинами, церквями, вокзалами и многочисленными обитателями, и ощущает себя, поскольку его чувство пропорций на какой-то момент начисто рушится, Пантагрюэлем. У Прокопа же, до сих пор находившегося под мучительным впечатлением выражения «стыдная плоть», эта утрата чувства пропорций была сопряжена еще и с головокружением.
Рождественские паломники пока что не заполонили эту страну, и население ее составляли лишь ангелы, легкие, как цветки инея, чернявые бесенята с крысиными хвостами да бесстыжая телеграфистка Зденичка, которая выставляла свой скрепленный печатями задик с таким видом, словно говорила всем и каждому: «Вы только поглядите, как мне проштемпелевали попку!»
Но кому показывала свой игривый зад эта прелестная крошка — распевающим гимны ангелам, вопящим бесам или все-таки пассажирам поездов? Да всей земле, небу и аду, вечности, добру и злу.
Прокоп уставился на ягодицы Зденички точно таким же растерянным взглядом, каким разглядывал свое брюхо. И опять это превращалось в погружение в некую бездну. Ему казалось, будто он кончиком осязающего взора коснулся несостоятельности собственного существования.
Оно, это существование, было вовсе не отвратительным, как и задик куклы-телеграфистки. Но точно так же, как и она, он почти всю свою жизнь прожил плюя с радостным легкомыслием — и на что же? На собственное спасение.
Спасение! Еще одно нежданное слово пронзило его сознание, как совсем недавно слово «Бог». Откуда пришли они, эти ошеломляющие, черт бы их побрал, слова? Уж не из черно-зеленого ли паровозика, что одышливо бегает по кругу, таская за собой прозрачные жемчужины звуков?
Прокоп блуждал взглядом по пейзажу лилипутской страны, простирающейся у его ног, меж тем как мысли его блуждали по пустыне сомнения, возникшей в его мозгу. В мире существует парность: бесконечно малое взывает к бесконечно большому, тривиальное — к сакральному, смешное — к серьезному. Все в мире парно, и ничто не существует само по себе. Голые кукольные ягодицы обращались в сознании Прокопа в гигантский знак вопроса. Он чувствовал полнейшую растерянность: все его навыки утратили смысл, привычные ориентиры исчезли, то немногое очевидное, что оставалось у него, рухнуло. И ему открылось: все, что он думал и делал до этого дня, было несостоятельно, было прахом и пеной, а то, что существенно, оказалось несвершенным. Надо начинать с нуля. Но к чему идти, куда и как?
«Так что же это происходит последнее время?» — недоумевал Прокоп. Сперва злополучный взгляд, случайно брошенный на собственные жировые накопления, вверг его в совершенную унылость, после этого потоком пошли мрачные мысли о смысле человеческой жизни и назначении человека, а теперь вот от вида жизнерадостной кукольной попки совершенно нежданно и непонятно родилась духовная тоска. До каких пор невинная выдумка, которую он с друзьями обсуждал тогда в кафе, будет оборачиваться тревогой? Неужто добрейшие божества лары, которых каждый из присутствовавших приглашал поселиться в своем доме — кто в кухне, кто в подвале, кто на балконе, а кто и в сортире, — действительно существуют и так быстро откликнулись на приглашение? Но кто же они в действительности, эти незримые гении места? Вместо того чтобы защищать жилище и приносить в него мир, они вроде бы даже забавляются, внося тревогу и потрясение. Поражают обыденностью необычного, юмором пугающего, знакомостью неординарного, рушат все границы, и теперь, похоже, ничто уже не отделяет реального от воображаемого, нынешний миг от вечности.
Спасение, спасение — в чем оно заключается, и вообще, что оно означает? Какого дьявола этот вопрос, который Прокоп ни разу не задавал себе за более чем пятьдесят прожитых лет, вдруг вынырнул у него в мозгу?
Вернувшись в гостиную с двумя откупоренными бутылками пива, Алоис обнаружил, что Прокоп стоит на четвереньках, чуть ли не касаясь животом вершин гор, и взгляд его устремлен на ягодицы куклы-телеграфисточки. Алоис расхохотался.
— Да ты прямо как мальчишки, — давясь смехом, сказал он. — Стоит им увидеть мою Зденичку, и они глаз не могут оторвать от ее проштемпелеванной попки, так что приходится каждый раз заново рассказывать им историю заместителя начальника станции и телеграфистки.
— Да уж знаю, — с трудом поднимаясь на ноги, ответил Прокоп. — Ты замечательный рассказчик, и твой гениальный рассказ однажды вдохновил моего Ольбрама разукрасить попку своей одноклассницы переводными картинками с веселыми поросятами. Мамаша девчонки потом долго возила меня мордой по столу.
Они сидели на диване, попивали пиво и наблюдали за тем, как по рельсам с легким гудением бегут поезда. За окнами пошел мелкий снег. Алоис, как обычно, свернул разговор на свою излюбленную тему — театр. И, как всегда, заговорил о своих любимых драматургах — Чехове и Шекспире. В последний раз, то есть двадцать лет назад, он выходил на сцену, чтобы сыграть чеховского дядю Ваню, и с тех пор эта роль не отпускала его. Он столько лет пережевывал реплики несчастного дяди Вани, что в конце концов они стали как бы его собственными. Жена Алоиса Маркета утверждала даже, что нередко по ночам он произносит во сне монологи чеховского героя. Но уже довольно давно Алоиса захватил новый герой — король Лир. «У меня как раз возраст для этой роли, — говорил Алоис, ероша свои седые волосы, — а главное, я же его чувствую, чувствую!» Роль эту он знал наизусть. «Все верно, — подтверждала Маркета, — он переменил свой ночной репертуар и шпарит теперь монологи короля Лира, но от этого мне не легче. А если не декламирует, то храпит».
На улице все так же сыпал снег, и белесый свет сочился в окно гостиной, где Алоис, который никогда не сыграет короля Лира, разглагольствовал о своих драматургических пристрастиях.
Дуй, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки! Лей, дождь, как из ведра, и затопи Верхушки флюгеров и колоколен! Вы, стрелы молний, быстрые, как мысль, Деревья расщепляющие, жгите Мою седую голову![12]3
В одно январское утро Прокоп очищал тротуар от снега и обратил внимание на маленькую старушку, которая чуть дальше по улице прыгала возле бака для бутылок и прочего стекольного боя. На ней было зимнее пальто, вытертое до такой степени, что его некогда черный цвет превратился в буро-зеленый, с желтым меховым воротником. Из-под шерстяной шапочки выбивались пряди волос, седина которых отливала той же желтизной, что и кроличий воротник пальто. Башмаки, изрядно смахивающие на солдатские, в которые она была обута, похоже, болтались у нее на ногах, несмотря на несколько пар шерстяных носков, завернутых валиками над лодыжками.
Уцепившись одной рукой за край высокого пузатого бака, старушка безуспешно пыталась перегнуться через борт и что-то достать, видимо со дна. Но бедная старушка была слишком низенькая, худенькая и, наверное, еще более хрупкая, чем выброшенные в бак банки и бутылки. Прокоп слышал, как она поистине отчаянным тоном причитает: «Господи Иисусе! Господи Иисусе!» — однако попыток выловить то, что ее привлекло, не прекращает. Прокоп приставил к стене деревянную лопату и направился к ней, намереваясь предложить свою помощь. И тут, даже не оборачиваясь к Прокопу, старушка указала на предмет ее желаний и произнесла жалобным голосом:
— Очень вас прошу! Мне очень хочется взять вон то зеркало. Оно даже не разбито!
Прокоп нагнулся и извлек из осколков битого стекла зеркало.
— Только будьте осторожнее! Ради Бога, не порежьтесь! О Господи! — щебетала старушка, молитвенно сложив руки перед грудью.
Прокоп протянул ей зеркало.
— Боже мой! — воскликнула она, хлопая в ладоши, как девочка. — Оно и вправду целое!
Да, оно было целое, но все в черных пятнышках. Старушка с бесконечной осторожностью приняла зеркало из рук Прокопа.
На какой-то миг она неподвижно замерла, склонившись сияющим от радости лицом над зеркалом. Явно не собственное отражение так восхитило ее, ведь, наверное, уже давно она перестала обращать внимание на свое морщинистое, усеянное старческими пятнами лицо с пробивающимися на губах, на подбородке жесткими волосками. Она глядела в зеркало, не видя себя; ее взгляд проникал гораздо глубже собственного отражения, во всяком случае, был устремлен в некое «далёко». И «далёко» это не имело никакого отношения к воспоминаниям. То было «далёко», включенное в здесь и сейчас, в то, что зримо, и в настоящее мгновение. Прекрасное далёко, вышедшее на поверхность зримого и лучащееся детской радостью.
Мороз был сильный, и очень скоро зеркало от дыхания старушки покрылось изморозью; тогда она достала из кармана пальто носовой платок и вытерла зеркало, но оно почти сразу же опять затуманилось. Она снова вытерла. Все это время Прокоп неподвижно, несмотря на мороз, стоял рядом с ней. Он смотрел на старушку, погруженную в созерцание зеркала, видел пелену, мгновенно покрывающую поверхность стекла, потом отражение, появляющееся, как только ее стирали, но буквально через несколько секунд оно вновь начинало затуманиваться. И ему показалось, будто отражение становится все более и более просвечивающим и одновременно с этим лицо старушки как бы очищается. Это вовсе не означало, что с него исчезали морщины и бородавки, что оно становилось моложе; оно по-прежнему было лицом старой женщины, не придающей значения своему жалкому виду, но все равно как-то преображалось. В ней поднималось какое-то сияние, освещающее изнутри ее лицо. И старая женщина становилась прозрачной.
Прокоп, хотя было страшно холодно, стоял не шелохнувшись, не смея даже постучать ногой о ногу. Он любовался старушкой, восхищенный прозрачностью, которая постепенно наполняла ее. Он видел ее такой, каким, должно быть, предстает после смерти каждый человек, — в абсолютной обнаженности своей сущности. И Прокоп старался не дышать, боясь замутнить старушку, биение обнаженного сердца которой совершенно отчетливо виделось ему. Сердца из плоти и переживаний, которому было все известно — желание и радость, любовь во всех ее проявлениях, а возможно, и ненависть, горести, заботы и слезы. Людское сердце в конце пути, сердце старухи, настолько одинокой, настолько всеми покинутой, что достаточно самой ничтожной малости, чтобы на несколько мгновений сделать ее счастливой. Сердце, которое очень скоро должно будет предстать.
Где? Перед кем?
Внезапно все запутанные вопросы, которые уже довольно давно повергали Прокопа в смятение, снова встали перед ним. Ему вновь явились его отвислое брюхо, урчащее закрученными многословными строфами, и голая попка куклы-телеграфисточки, стоящей на перроне картонного вокзала в окружении ангелочков и чертенят. Все это смахивало на головоломку, на ребус. Элементы при всей их кажущейся несовместимости начинали складываться. «Стыдная плоть», оказывается, не что иное, как тело, алчущее исключительно отдыха, удовольствий и приятных, а то и пьянящих ощущений, тело, преисполненное эгоистического удовлетворения, интересующееся, в соответствии с возрастом, только собственной красотой, собственной силой, собственной привлекательностью, собственным здоровьем. Тело, настолько занятое самим собой, что душа, помутневшая в нем, не просвечивает ни единым, даже самым слабым лучиком. Тело, которое предстает некой замкнутой целостностью, сосредоточенной на себе самой, и существует, чтобы приносить удовольствие только лишь себе. Тело, что призывно кричит всем другим телам, воспринимаемым как приукрашивающие зеркала: «Любуйтесь мной! Восхищайтесь мной! Вожделейте ко мне! Ублаготворяйте меня!» Стыдное тело, корчащееся от самовлюбленности, от чревоугодия, оно сосредоточено лишь на собственном брюхе да на подбрюшье, и душа у него мясистая, как задница, на которой проштемпелеван простодушный и вызывающе-наглый лозунг: «А мне насрать на все, что не я, на все, что не является мною — мною, таким прекрасным, осязаемым и желанным, насрать на все, что не есть наслаждение и сила».
А вот старушка с извлеченным из мусорного бака зеркалом, мутным, испещренным черными точками, символизировала нечто совершенно иное. Все ее существо говорило о уязвимости плоти, о ее медленном разрушении с ходом времени, демонстрировало самонедостаточность тела. Но главное, сквозь увядание, изношенность постепенно утрачивающего корни тела открывалась его внутренняя множественность. Как охровый цвет является результатом смешения нескольких красок, так и тело объединяет в единое целое множество форм и энергий, которые не различишь с первого взгляда. Нужно долго, терпеливо и внимательно созерцать охру, чтобы потихоньку начали выявляться составляющие ее цвета; всего удобнее это делать, когда охра уже выцвела, полиняла от дождей и солнца. Тогда-то, одна за другой, использованные краски проявляются в том порядке и в том количестве, в каком они были смешаны друг с другом. Глядя попятным взглядом, можно разложить охру и дойти до ее истоков, увидеть первичный фиолетовый тон, подкоричвленный чистейшим желтым, а потом разложить фиолетовый на пурпурный и синий и оценить их количественное соотношение. Соответственно, если долго наблюдать за человеком, можно проникнуть сквозь его внешнее обличье и обнаружить другие силуэты, замкнутые в нем, а также составляющие его части тьмы и света. У некоторых стариков бывает, что явственней всего проявляется самое давнее тело; освободившись от забот о своей внешности, они обретают какую-то беспечность, прямо-таки простодушную откровенность в выражении своих переживаний и чувств. Однако это вновь начинающее лучиться зернышко первичной детскости перекрывают множество других телесных оболочек — любовника, супруга, родителя, а также работника, и еще оболочки бессонниц, страданий, усталостей, огорчений, болезней, трауров. Бывают люди, у которых хаос этот затвердевает, сгущается в жирные черные конкреции, а бывают и другие, у кого наслоения эти становятся мягкими, лучащимися, просвечивающими. Старушка с зеркалом принадлежала как раз к таким.
И она не только давала возможность проявиться отдельным телесным составляющим и их гибким соединениям, но и позволяла увидеть сквозь них другие, еще более прозрачные силуэты. Она словно бы излучала некое сияние. Нет, это вовсе не значит, что из нее исходил какой-то сверхъестественный свет; в этой миниатюрной старушке не было ничего от святой, сошедшей с иконы, она была самой обыкновенной женщиной, которую прожитые годы очистили от самой себя, вымели все грубо суетное. И слабенький ореол был отнюдь не нимбом святости, это была просто-напросто ее аура — то, что называется тонким телом, которое, как полагают, окружает всякое физическое тело, но которое никто, или почти никто, зрительно не воспринимает.
И вот Прокоп Поупа посреди улицы при тринадцатиградусном морозе сподобился запросто увидеть это нематериальное тело, окружающее незнакомую женщину. Его осязающий взгляд прикасался к незримому этому телу, и под озябшим кожным покровом плоть Прокопа вдруг затрепетала от какой-то новой, доселе неизведанной нежности к миру и к людям.
Старушка еще раз поблагодарила его и засеменила по улице, осторожно ступая по обледенелому тротуару. И вокруг нее дрожала ее аура цвета инея. Прокоп смотрел, как она удаляется. И только тут заметил, что на старушке разные чулки: на левой ноге коричневый, а на правой — нежно-зеленого цвета.
После чего Прокоп взял лопату и принялся за работу. Время от времени он бросал заинтересованный взгляд на какого-нибудь прохожего, но, видно, глаза его уже утратили ту необычную прозорливость, какой обладали совсем еще недавно.
Впрочем, это было неважно, ведь некоторые видения, как бы мимолетны ни были они, оставляют неизгладимые следы в памяти. Следы, вокруг которых потом безостановочно кружит мысль, а сердце не устает ждать. Ждать с надеждою, хотя и не знает чего.
4
Каждый раз с приходом весны Прокопа охватывало желание устроить генеральную уборку. Чуть только наступали первые теплые дни, чуть только начинали петь птицы, и Прокоп тут же бросался на штурм многолетнего беспорядка, царившего в его доме. Но результат его стараний оказывался малопродуктивным, хаос скорей усиливался, чем уменьшался.
Этой весной он решил разобрать многочисленные пакеты с фотографиями, которые валялись где попало. Для этого он перенес все их на кухонный стол и принялся сортировать. Но тут же возникла проблема: какой критерий взять за основу сортировки? Хронологический или тематический? И как определить темы? Что же касается хронологии, то она могла быть только весьма и весьма приблизительной, потому что памяти на даты у Прокопа не было.
Но главное, некоторые фотографии сами по себе были целыми книгами, источниками голосов, шепотов, звуков. Сколько историй нашептывали эти прямоугольники матовой или глянцевой бумаги, но еще больше оставляли недосказанным; сколько запутанных лабиринтов крылось под этими тоненькими пленками зримого. И Прокоп, держа в ладони такую вселенную весом в несколько граммов, сосредоточенно замирал над ней, и память его делала стойку. Взгляд его превращался в звукоулавливатель и притом становился не столько осязающим, сколько обоняющим, выкапывал из частичек фотобумаги запахи изображенных мест, запах кожи некоторых сфотографированных людей.
Запах человека; он первым выцветает в памяти, он не способен долго жить без того тела, что было его источником; он первым заходится горестными рыданиями во время траура и при разлуке. Запах волос, шеи, лба, губ, плеч… Прокоп обонял пустоту.
Запах тела Марии; он еще долго пропитывал кожу Прокопа, часто возрождался в его снах, от которых Прокоп мгновенно просыпался и впадал в черное отчаяние. Ему пришлось бороться с собой, чтобы исторгнуть из своей плоти иллюзию запаха, прижившегося в ней, чтобы свернуть шею безумному желанию обрести хоть крошечный след той, что бросила его. Напротив, он всячески старался уберечь от исчезновения запах кожи мамы, а потом сестры — легкие, чуть уловимые ароматы доброты и ласки. Однако и они тоже испарились, а следом за ними стали уходить и голоса.
Кончилось тем, что из всей этой кучи Прокоп выбрал три фотографии: одну — Ольбрама в восемь лет, одну — Олинки в пятнадцать и еще одну, на которой его пятилетний сын и одиннадцатилетняя дочка сфотографированы вместе в деревне около невысокой каменной ограды; у их ног стоит полная корзина смородины, у подножья ограды догорает костерок, и над всей этой сценой нависло низкое небо, затянутое серо-свинцовыми тучами. Прокоп отложил фотографии в сторону, решив отнести к Йонашу, чтобы тот увеличил и отретушировал их по своему анахроничному методу.
Он все еще копался в этой куче, когда раздался звонок в дверь. Пришла Б. Б. Б. Забравшись на шестой этаж, она долго не могла отдышаться. Каждую весну она набиралась решимости вскарабкаться на верхотуру к Прокопу, потому что в его комнате были слышны птичьи песни и трели, долетающие со двора. Б. Б. Б. жила на первом этаже окнами на улицу и круглый год слушала грохот машин да трамваев.
По давно уже установившемуся ритуалу Прокоп усадил гостью в кресло у распахнутого окна.
Во время таких визитов они редко беседовали, потому что Б. Б. Б. приходила, главным образом, для разговоров с птицами. Сидя лицом к окну, она импровизировала долгие мелодичные собеседования с воробьями, и было просто потрясающе слышать хрустальные трели, что выводила эта большая, грузная женщина, вечно одетая в какой-нибудь неряшливый мешковатый балахон, на лице которой видны были и ее годы, и следы перенесенных тягот. Глаза ее затуманивались от нежности, рот с мясистыми губами вдруг становился маленьким, когда она изящными движениями руки задавала ритм своим напевам, и все ее тело, тело первобытной богини, уже не казалось таким массивным и огромным.
Как-то Прокоп спросил у нее, что такого интересного могут рассказать друг другу она и птицы. И Б. Б. Б. спокойно и с полной серьезностью ответила:
— Они рассказывают мне, как их терзает голод, — ведь птицы всегда голодны, каждый день им нужно найти столько пищи, сколько весят они сами. И еще они мне рассказывают про тяготы дальних перелетов, которые им приходится совершать, спасаясь от наших студеных зим, и про ожесточенные схватки, какие они ведут, чтобы отвоевать и сохранить место для гнезда, и про то, сколько труда и упорства требуется и самцу, и самочке, чтобы накормить своих птенцов, которые появляются на свет с чувством непреходящего голода, и, наконец, о постоянном страхе, в каком они живут из-за многочисленных хищников, жаждущих сожрать их и их детей.
— И это все? Ничего, кроме рассказов о голоде и страхе? — допытывался Прокоп.
— Разумеется, нет. Они поют про мощь и неодолимость желания, про огромность просторов, которые они пролетают, про безмерность небес, про радость, что дарит солнечный свет. Рассказывают про жар страсти, про свою любовь к земле и небу, к скалам, живым изгородям и лесам, поют про напряженность и интенсивность переполняющей их жизни, кричат, какое это безумное счастье быть песней земли, возвещают на весь мир о своей гордости тем, что они птицы.
— Короче говоря, — заметил Прокоп, — все, как у нас. Вылупившись из яйца, они ходят под себя, точь-в-точь как мы, после того как выйдем из материнской утробы; они вынуждены сражаться на всех фронтах, быть вечно настороже, но тем не менее гордятся, что принадлежат к своему птичьему племени, как мы гордимся принадлежностью к людскому роду, и, естественно, они тоже стараются отодвинуть на как можно более поздний срок тот миг, когда придет пора подохнуть.
— И да, и нет. Они хотя бы не творят зла ради зла; они то, что они есть, и все их действия четко определены законами их природы. В отличие от нас, им хотя бы не в чем себя упрекнуть. Так что они имеют полное право предъявлять претензии Господу Богу.
— Как это? — удивился Прокоп, которого последние слова скорее позабавили, чем тронули по-настоящему.
— В Евангелии много красивого написано от имени Бога о птицах, — продолжала Б. Б. Б., — мол, они могут ни о чем не заботиться, Господь их напитает и удовлетворит все потребности. Однако птицы небесные так не считают, особенно когда околевают от мороза на обледенелой ветке или гибнут от голода и жажды, когда попадают в лапы кошке или в когти ястребу, либо когда получают дробинку в сердце из ружья какого-нибудь кретина охотника. Так что пташки божии чувствуют себя обманутыми вышеупомянутым Господом Богом, который относится к ним крайне невнимательно.
— Интересные, однако, вещи нащебетали тебе эти пернатые богохульники. А что ты в ответ рассказываешь им? Что жизнь у людей тоже не сахар?
— Им я ничего не рассказываю. Зачем им наши истории? Нет, я им всего-навсего задаю вопрос. Всегда один и тот же. Один-единственный вопрос.
— И какой же?
— А вот это наша с птицами тайна.
— Ну, и они тебе отвечают?
— В общем-то, не все и не полностью; я, надо думать, не настолько хорошо свищу, чтобы они как следует меня понимали. А впрочем, кто знает. Но я все равно постоянно задаю один и тот же вопрос воробьям, дроздам, галкам, щеглам, синицам, ласточкам, жаворонкам, соловьям, зимою воронам, а также чайкам и лебедям. Короче, всем.
Прокоп слушал, как Б. Б. Б. ведет разговор с птицами; сейчас она переговаривалась с кукушками настойчиво повторяющимися сдвоенными созвучиями. И получалась какая-то ласковая перекличка, обмен сигналами между окном и деревьями.
Но перекличка происходила не только здесь; обмен сигналами шел между Прокопом и птицами, между всеми живыми существами, между землей и небом, между пространством и временем. Между живущими и Богом. Потому что теперь Прокоп догадывался, какой вопрос неустанно задает Б. Б. Б. То, что когда-то и даже совсем еще недавно было для него всего лишь занятной словесной игрой, этаким жонглированием словами, теперь обретало — и с каждым днем все больше и больше — весомость и смысл. Он ощущал: что-то уходит из него и из его друзей, уходит окончательно и ежесекундно. Сейчас Прокопу стало ясно, что лары — божества, которых он вместе с друзьями призывал в тот вечер в «Белом медвежонке», откликнулись на призыв и окончательно поселились в тех местах, что им были определены. Но вместо того чтобы оберегать Прокопа и его друзей от внешних опасностей, они принялись изгонять внутреннего врага, которого каждый укрывал, а то даже и неосознанно лелеял в себе. Эти духи-хранители проникли в самые глубины их существа. И раскрытому, разоблаченному внутреннему врагу — этому затаившемуся в человеческой натуре супостату, который как ни в чем не бывало сводил их существа до гротескно-уродливых измерений «стыдного тела», ничего больше не оставалось, как выйти на дневной свет и явить свою ничтожность и низменность. По крайней мере, так происходило с Прокопом, у друзей же это принимало другие формы. Формы, которые он пока что был не в состоянии оценить, так как был слишком погружен в непонятные потрясения, происходившие в нем самом, и чуть ли не вслепую, на ощупь продвигался в потемках собственной души, и потому ему некогда было вникать в то, что творится в его друзьях, и пытаться это объяснить. Он лишь догадывался, что происходило с ними, но у него не было ключа к их тайнам и переживаниям. Он подозревал, что вопрос, неотступно задаваемый Б. Б. Б. на всех птичьих голосах и наречиях, был связан с Богом. С милосердием Божьим. Или в крайнем случае с Его справедливостью и сомнительной добротой Его Творения. Что же говорили птицы? Да то же самое, что люди. Что мир прекрасен, солнечный свет великолепен, желание пьяняще, а жизнь чудесна. Да, все так, но наверняка они еще кричали о терзающем их голоде и страхе, жаловались на горечь красоты, на жестокость желания, пылающего в чревах других божьих тварей, на свирепую безжалостность жизни. Но больше всего они говорили о том, как трудно покорять чистое световое пространство, как мучительно тяжело достигать сияющего великолепия.
Для Б. Б. Б. петь в унисон с пернатыми самых разных пород было своеобразным способом молиться. Это была ее манера возносить моление к весьма проблематичному безмолвному Богу, Творцу мира сего, продолжающего пребывать в хаосе, мира, неизменно остающегося добычею Зла. И ее молитва была не только мольбой, но и бунтом. Когда взывают к жалости, это значит требуют справедливости. Требуют права, именуемого правом жить. И жить достойно.
Нет, поистине отнюдь не очевидно, что Господь исполнил обещание, данное птицам. А кто был причиной, когда умирали дети — от голода или под пытками, от болезней или под ударами? Сколько птичек, цветов, облаков и радостных солнц было в стихах и на рисунках детей из Терезина и других лагерей уничтожения. Цветы, птицы и облака были изодраны в клочья колючей проволокой, а радостные солнца, дрожа от смертного холода и источая запах слез и кровавого пота, почернели в петлях лагерных виселиц. Ветер развеял пепел детей и вопли их матерей. А выжившие имели полное право усомниться в том, что Бог сдержал обещание, данное детям человеческим.
Становилось все прохладней, и Б. Б. Б. закрыла окно. Ее вопрос повис в пустоте между ветвями, на которых распускалась молодая листва. Прокоп сварил кофе, и они пили его в кухне, рассматривая фотографии, которые кучей валялись на столе. Одна из них, уже потрескавшаяся и пожелтевшая, внезапно привлекла внимание Прокопа. Сделана она была осенью в деревне, перед домом его матери, лет пятнадцать назад. Пятеро людей, собака, три курицы, два гуся и яблони — вот и все, что было на ней изображено. В глубине виднелся дом, частично скрытый увешанными плодами яблонями. К одной была приставлена лестница, на которой стоял мужчина, протянувший руки к ветвям; то был Марек, зять Прокопа. А возле дерева, чуть поодаль стояла улыбающаяся, слегка расплывшаяся женщина с руками, немножко отставленными в стороны, и большим круглым животом. Это была Магда, первая жена Прокопа, в ту пору беременная Олинкой. В центре снимка находились Прокоп с матерью, он обнимал ее за плечи. А в левом углу — Романа в широкой юбке, которая под порывом ветра вздулась колоколом и устремилась к левому обрезу фотографии, точно так же, как и длинные завитые пряди растрепавшихся, уже начавших седеть волос. Романа стояла в стороне и пребывала в несколько неустойчивом равновесии из-за ветра, который вздувал ее юбку. От этого и оттого, что у нее осталась только правая нога, так как левая не попала в кадр, создавалось впечатление, будто она вот-вот выйдет из фото. Одна курица что-то клевала рядом с Романой, вторая — под яблоней, а третья как будто пыталась спрятаться в траве у подножья лестницы. Собака, длинношерстная белая дворняжка по кличке Мрачек, бегала, задрав хвост, перед домом, а оба гуся, вытянув шеи, важно шествовали друг за дружкой куда-то по диагонали между двумя яблонями.
Обычная фотография обычной семьи, снятая в самый обычный день, и причем не слишком удачно скадрированная. Но именно этот недостаток после стольких лет и вызвал интерес Прокопа. Вот только кто мог сделать этот снимок? Сосед? Случайный гость? Прокоп не помнил, да, впрочем, это не имело никакого значения.
Этих куриц, этих гусей, этой собаки давным-давно уже нет на свете, десять лет назад умерла мама, восемь лет назад сестра. Мама умерла от рака, сестра — от холода в душе, который заставил ее в морозную зимнюю ночь пойти и лечь в снег, чтобы больше уже не встать.
Сколько лет было бы сейчас Романе? Прокоп мысленно произвел подсчет. Получилось пятьдесят семь. Он взял снимок и положил его вместе с фотографиями детей, чтобы отнести Йонашу — пусть он увеличит только Роману. Роману без одной ноги, словно бы уже начавшую утрачивать корни, связывающие ее с землей.
Может быть, Йонаш, способный производить самые поразительные метаморфозы и анаморфозы со всем, что зримо, сумеет вернуть Романе вторую ногу, оставшуюся за кадром, и тогда можно будет увидеть, к какому далёко хромает сестра.
5
Всякий раз, когда к нему приходили гости, а случалось это крайне редко, потому что визитов он не любил, Йонаш начинал страшно суетиться. Он судорожно метался, предлагал одновременно кофе, чай, вино, сыр, печенье, огурчики, салями, выдвигал ящики тумбочек, открывал дверцы шкафов, холодильник, совал туда голову, точь-в-точь как вынюхивающий кролика фокстерьер засовывает нос в нору. На лице у него по причине царящей там абсолютной пустоты появлялось какое-то жалобное выражение; все это время тихим, напевным голосом он монотонно повторял «вот черт возьми! вот черт возьми!» и в конце концов, бормоча невразумительные извинения, наливал посетителю стакан воды или молока.
Йонаш, можно сказать, почти ничего не ел, а пил только воду. Странный это был человек, низенький, щупленький, с большими золотистокарими и вечно словно бы удивленными глазами, которые из-за любого пустяка затуманивались печальной поволокой. Он питался воздухом, красками неба, ветром да собственными мечтами. Спал он так же мало, как ел, ложился поздно, потому что надо было делать всякие связанные с фотографий работы, вставал же спозаранку и отправлялся пешком через весь город на фабрику, где был подсобным рабочим.
Едва Прокоп переступил порог, Йонаш тут же завел свою пляску святого Витта, ринувшись на приступ пустых шкафов.
— Да брось ты! — утихомирил его Прокоп. — Все равно ведь в твоей берлоге нет никакой жратвы. Скажи мне лучше, можно что-нибудь сделать из этих фотографий?
Йонаш спрыгнул со стула, на который взобрался в поисках угощения, и с гордостью выложил на стол пачку ванильных вафель и несколько пакетиков почти совсем выдохшегося чая. Он поставил вскипятить чайник, потом достал из конверта четыре принесенных Прокопом фотографии, и тот в общих словах объяснил, что ему хотелось бы.
Чай являл яркий пример того, что именуется «писи сиротки Хаси». Прокоп добыл из кармана куртки маленькую бутылочку рома и вылил ее в чашку. Выпив почти залпом этот грог, отдававший миндалем, бензином и пылью, Прокоп поднялся и прошел в ванную комнату. На бельевых веревках, натянутых над ванной, висели бумажные прямоугольники, на которых, как печальный антифон[13], повторялся один и тот же пейзаж. Затем Прокоп перешел в комнату, где Йонаш разбирал свои работы. Тот покопался в коробках и ящиках и протянул Прокопу довольно толстую пачку фотографий. Прокоп разложил их на полу и, опустившись на четвереньки, принялся ползать среди этой россыпи изображений.
То были сплошь натюрморты — картофелины, груши, виноградные гроздья, перцы… Йонаш фотографировал их такими, какие они есть, положив на деревянный стол, а то и просто на землю, не пробуя даже мало-мальски приукрасить эти самые обыкновение фрукты и овощи какой бы то ни было бутафорией или световыми эффектами. Вся серия была выдержана в черно-белых или, верней сказать, в серых тонах. Тут были представлены все оттенки серого — от самого темного до самого светлого. Каждый плод, каждый овощ был сгущением серого цвета, плотным растительным камнем, на поверхности которого вершился переход от шелковистости к шероховатости: плоды, сформировавшиеся из нечистот земли и нечистот веков, овощи, выросшие в пустотах почвы, засеянной долгим, безмерно долгим сном мертвецов. Тысячелетиями сна.
Кому предназначалась эта пища земная? Кого она должна была напитать — живых или мертвых? Все эти овощи и фрукты, окруженные серым ореолом приглушенного света, изваянные из безмолвия, глины, пыли и камня, были похожи на куски вулканического шлака, выброшенного извержением какого-то таинственного вулкана, сокрытого глубоко под земной корой. Некоторые картофелины напоминали отшлифованные булыжники, несколько груш — сглаженные, вздувшиеся куски кремня, цветная капуста — зернистые камни с выпирающими кристаллами цвета мела, а перцы смахивали на массивные стальные отливки. А между тем, работая с ними, Йонаш ничего не убавлял и не прибавлял; он просто долго их рассматривал, а потом клал на деревянную столешницу, на край покрытого пылью или мокрого от дождя подоконника, а иногда в грязь или на ледяную изморозь, хватал фотоаппарат и ловил тот образ, какой виделся ему. А видел он именно так, без всяких прикрас, и запечатлевал свое видение.
В этой серии натюрмортов не было букетов, имелся всего один-единственный цветок. Полуоблетевший пион. Вазой ему служила стеклянная молочная бутылка. Бутылка была немытая, на дне по окружности стенок остался желтовато-белый осадок, а сами стенки были чуть затуманены млечно-белым налетом. Казалось, будто эта случайная, импровизированная ваза сделана из тончайшего фарфора или даже из просвечивающего перламутра, а несколько еще не опавших лепестков на стебле, торчащем из горлышка, были такой нежной, бархатистой белизны, словно стебель выпил все молоко и вскормил, окрасил им нежный этот цветок. При взгляде на опавшие лепестки чудилось, будто они прямо на глазах истаивают, такие они были невесомые, переливчатые. То был самый трогательный цветок, какой только можно себе представить, и белизну его подчеркивали завихрения тени, обвивавшие все вокруг.
Пион, такой, каким его увидел Йонаш, источал даже не аромат, он испускал вздох, и это был вздох его растительной души. Вздох существа, смирившегося с утратой силы и красоты, отказавшегося от всего, чтобы отныне жить одним лишь забвением себя, одним лишь самопожертвованием, в неведомом, в безмолвии, в исчезновении. То был самый смиренный, самый кроткий цветок, какой только может существовать на свете; воистину, воплощенная цветочная молитва.
Натюрморты сменились пейзажами — полями, проселочными дорогами, берегами рек, болотами. Взгляд Йонаша постепенно перемещался с единичного на множественное, однако строгая скупость видения оставалась прежней, хотя, пожалуй, оказывалась еще более ошеломляющей. Возникало, и это самое главное, ощущение, будто материя в ускоренном темпе разлагается; от всех этих пейзажей оставалось впечатление, что они на пороге исчезновения, что они вот-вот развеются в едком разрушительном тумане. Материя — неважно какая, минеральная или растительная, — распадалась, становясь кишением бесконечных точек, мягкой щекоткой расплывчатых теней и зерен света, которые то там, то тут пронизывали тонким звездным мерцанием всеобъемлющий мглистый сумрак.
Там были пруды, по берегам которых росли пепельные травы и тростник с листьями цвета чернил; свинцово-серую воду морщила серебристая рябь. Были береговые откосы, покрытые бледно-сиреневой травой и поросшие гранитным кустарником, по верху которых стояли тоненькие тополя, легкие, как птичьи перья, и отражения их дрожали на поверхности оловянных рек. Были рельсы заброшенной железной дороги, их бег к горизонту в ритме, который задавали столбы с оборванными проводами. Были тропинки в парках со статуями, укрытыми чехлами; лесные дороги, на них в черной грязи блестели дождевые лужи; были парадные лестницы старинных домов, у подножья которых в несменяемом задумчивом карауле замерли изъеденные непогодами химеры. А над всеми этими истаивающими пейзажами простирались небеса, то темные, то пронизанные завихрениями с металлическими бликами. Но были там небеса и иных цветов — цвета садовых колокольчиков, тусклого золота или старой слоновой кости, а также сепиевые рощи, янтарные реки, рыжие облака с золотистыми пронизями, лиловые луга и снежно-белые солнца. И воздух, ветер, запахи этих пейзажей становились осязаемыми.
А уж если быть точным, просто над печальными этими пространствами дул ветер, зародившийся в неких сопредельных регионах, и сквозь прозрачность этих небес сиял свет, сотворенный в какой-то неопределенной и неопределимой дальней дали. Тончайшая дымка незримого разрывала узы, объединяющие красоту и материю, материю и форму. Все эти местности казались призрачными видениями, очертания их расплывались, и опоры были ненадежны. Совсем как та маленькая старушка с зеркалом, которую Прокоп встретил в морозный день. Нематериальное делалось зримым.
Были там также и другие пейзажи, и странные, небывалые города. Теперь Йонаш сам делал декорации; он вырезал силуэты из картона и устанавливал их на металлических пластинках или перед задниками из кальки, фольги либо пластика. Прокоп отметил один пейзаж — поле менгиров; какое-то лунное пространство, где высятся камни, по-разному обтесанные и разных объемов — угольно-черные стелы, похожие на молящихся с надвинутыми на лица капюшонами, на кающихся, задрапированных мраком, на плакальщиц, окамененных своими слезами, что точатся, как пот. И в картонном небе, к которому, множась, устремлялись эти торжественно-строгие и в то же время непередаваемо одинокие силуэты, была та же самая напряженная чернота, забрызганная белесоватыми облаками, кудрявыми, как дым гигантского пожара, занявшегося где-то далеко-далеко.
И был еще двор заброшенного замка, его стены, такие высокие, что казалось, будто они уходят в бесконечность за рамки снимка, земля, потрескавшаяся, нечистая, с кучами мусора, гравия, усыпанная пылью. Стены, такие же голые, как двор. Ни статуй, ни колонн, ни одной даже лестницы. В каждой стене проем, но ворот нету. Сквозь эти низкие, приземистые проходы во двор вступают глыбы мрака — а может, напротив, отступают? Точно ответить невозможно.
До Прокопа вдруг дошло: фотографии Йонаша все больше и больше становятся похожи как бы на поля сражения, где свет и тьма сошлись в безжалостной, безмолвной, застывшей битве. Свет ли теснит непроницаемую эту тьму, обуздывает, раздирает ее, или же, напротив, мрак пожирает, заглатывает свет? На каждом снимке сражение в самом разгаре, но исход его неизвестен. И взгляд всякий раз поражается, почти ужасается, обнаружив, что оказался в самом центре схватки, соприкоснувшись внезапно с рождением этого мира, если только на самом деле то не был апокалиптический миг светопреставления.
Полотнища света уцепились за шероховатые стены, и кучки гравия, которым была усыпана земля, кое-где посверкивали отблесками цвета белого золота.
Но что таилось за этими зияющими проемами — текучая густота застывшей ночи, бездна, простертая до самого ада, порог небытия или черная дыра начала времен? Мрак ли наползал на авансцену двора, куда сыпались сгущенные гранулы чистого света, наползал, чтобы раздробить, растереть их, обратить в ничто, в небытие или чтобы расцветиться ими, как звездами, просиять ими? Или же, наоборот, осколки света прорывались в эти проемы, чтобы взорвать и рассеять мрак?
Рядом с этим двором лежащего в руинах дворца Прокоп чувствовал себя крохотным, и внезапно опять откуда-то выскочила мысль о спасении. Ну неужели нельзя опуститься на пол на четвереньки, чтобы тут же не столкнуться с проблемой благодати и вечной гибели?
Алоис миниатюризировал мир и ставил какой-то сказочный спектакль, представлял ничто в декорациях, на первый взгляд наивных и ребяческих. Йонаш творил бесконечность исходя из ничего — с помощью кусков картона, коллажей, металлических пластинок, щепотки растертой в пыль известки. Но в обоих случаях в какой-то моментальной точке соприкосновения пересекались бесконечно малое и бесконечно большое, и стыдная плоть вдруг содрогалась, обнаружив, что ей явлена ее ничтожность, а главное — осознав грубо и внезапно на этом скрещении времени и вечности, что она, оказывается, смертна.
И опять сливались реальное и воображаемое; знакомое возносилось или, верней сказать, низвергалось к границам неведомого, пугающего.
Тьма являла себя могущественной, колдовской, трагической; пронзительным, мучительным и стократ более трагическим представал свет. Поддаться сладострастному искушению погрузиться в черные волны тьмы — означало погибнуть. Но и оставаться под пронзительным пламенем света точно так же значило погибнуть. Надо было выбирать между ними, никакого третьего пути не существует и никогда не существовало, даже при том что большинство людей ухитряется как-то лавировать посерединке.
Прокоп собрался подняться. Когда он встал на колени, внезапно прострелило в пояснице, и он на миг замер. Разгибался он осторожно, в несколько приемов.
Все то время, пока Прокоп рассматривал фотографии, Йонаш, как-то странно съежившись, не произнося ни слова, сидел в сторонке. Так он вел себя всякий раз, когда кто-нибудь из друзей расставлял при ярком свете работы, над которыми он долго трудился в одиночестве. Он не шевелился, ничего не говорил и лишь пристально глядел на того, кто рассматривал его фотографии. Предельное внимание, которое читалось в блеске его глаз, вовсе не было связано с ожиданием, какое мнение выскажет о его работах посетитель. Йонашу было глубоко наплевать, признают или не признают его талант. Он тревожно наблюдал за взглядом гостя, впиваясь в сам источник этого взгляда. Главное для него было, видят ли его гости то, что разглядел он сквозь толщу мира, разделяют ли они его любознательность и приподнимают ли постепенно многочисленные веки, что так ограничивают видение, и еще — обращают ли они свой взгляд назад, к самому его истоку. Обращают ли они его еще дальше — к свету, что облекал первые дни Творения, достигают ли той баснословной прогалины, что открывалась в первозданной тьме, и напитываются ли там великой силой изумления и восторженным пылом.
И когда он так, съежившись, сидел в уголке, не сводя глаз с лица гостя, взгляд его проливался в комнату, напитывая ее сном; взгляд этот был прикован к полу, где лежали десятки отпечатков фотографий, и в то же самое время витал в пространстве, замкнутом четырьмя стенами. И у посетителя тогда возникало ощущение, будто зримое начинает тихонько колыхаться и мерцать вокруг него, и в нем проклевывалась смутная жажда ясности.
Прокоп подошел к столу на козлах, заваленному обрезками картона и бумаги, заставленному пузырьками с чернилами, клеем, красками, банками с песком, камешками, битым стеклом.
— Это что, твои кулисы? — поинтересовался он, указывая на весь этот хаос.
— Да, это моя мастерская. Чем дальше, тем меньше я снимаю на натуре. Все делаю дома. Выхожу, только чтобы дохнуть воздуха да глянуть, какая погода, ну, заодно подобрать кое-какие останки материи, всякий мусор. Во всем есть красота, даже в ржавом гвозде. С помощью этих отбросов все можно сделать, все изобрести, все изобразить. И я здорово развлекаюсь, путешествуя по собственному столу. Имея немножко бумаги, металлических опилок, битого стекла, можно отправиться в самые дальние дали, причем куда угодно…
— А это, значит, твои менгиры? — спросил Прокоп, указав на набольшие кусочки картона, закрашенные черным фломастером.
— Да. Я сейчас занимаюсь кельтскими пейзажами. Странствую по ландам.
При этих словах в воображении Прокопа мгновенно возник образ: два силуэта, два человека, держащиеся друг за друга, бредут против ветра по безбрежной песчаной равнине: Король Лир и Шут, Алоис и Йонаш. Но невозможно различить, кто из них идет впереди; то Шут, легкий, как пыль на ветру, спотыкливо семенит следом за Лиром, держась за его плащ, то свергнутый король, сгорбившись, понурив голову, пошатываясь, неверным шагом плетется, уцепившись за пояс идущего подпрыгивающей походкой верного своего Шута. Картина эта несколько раз на мгновение вспыхивала перед глазами Прокопа.
Неожиданно прорвавшийся свет вычертил на столе и на лежащих среди развала отходов и мусора руках Йонаша и Прокопа несколько белых полосок; световые эти полосы то разрастались, то сжимались, потом снова расползались вширь, на какое-то мгновение замирали. Цвет их тоже менялся: металлически-белый блеск мутнел, истаивал в голубоватости, в прозрачной сиреневости и наконец погас. Смутные мысли Прокопа в унисон тоже меняли свой цвет, пока не погрузились в свинцовую серость, подобную сумеркам, заполнившим комнату. Пейзажи, что лежали на полу, дрейфовали сквозь заливавший их сумеречный ропот. Они медлительно погружались в обступившую их тьму и постепенно смазывались, истаивали. На сердце Прокопа дул ветер мегалитических ланд.
6
Лето Прокопу показалось бесконечным. Первые каникулы без Ольбрама ввергли его в унылое, мрачное настроение.
Настала осень. Прокоп и его подручная метла сражались с опавшими листьями, Прокоп и его подручные мусорные баки, выстроившиеся по краешку тротуара, послушно принимали мусор, Прокоп и его радикулит отогревались по вечерам в «Белом медвежонке», где разговоры все больше вертелись вокруг событий, происходящих в соседних странах. Прокоп и его лары дольше, чем обычно, безмолвно беседовали в сортире о тайнах зримого и незримого и о проблеме спасения.
Кончался октябрь. Проплыло много розово-оранжевых облачков в честь Олинки, и полные луны наполняли ночи мыслями об Ольбраме.
Отретушированные Йонашем портреты висели на стене в комнате Прокопа. Какие-то вневременные портреты, источенные рыжей, охристой и соломенно-желтой мглою, сквозь которую просвечивали кирпично-красные губы, ореховые глаза и длинные, цвета песка, волосы Олинки и вишневые губы и сине-фиалковые глаза Ольбрама. На третьем снимке, висящем под этими двумя, были изображены дети, стоящие возле каменной ограды. На затянутом тучами небе с какой-то вихрящейся переменчивостью сверкали бронзовые и светло-зеленые отблески, отражавшиеся на скошенной траве, а ограда была такого прозрачно-серого цвета, что казалась стеклянной. Лица обоих детей были такими же молочно-белыми, как и дым, поднимающийся над костерком, что умирал у их ног. Яркими были только губы — пунцовые, как смородина в корзинке. Ольбрам и Олинка парили, как два призрака с живыми ртами, под небосводом, сплетенным из меди и нежно-зеленого атласа.
Фигуру Романы Йонаш тоже увеличил. Фотография была выдержана в черно-белых тонах так же, как лунные менгиры и двор покинутого дворца.
Отрешенность Романы была так явственна, проявлялась с такой силой, что фотографию эту просто немыслимо было повесить на стену. Прокоп засунул ее в какую-то книжку.
Кроме этих портретов, Йонаш дал ему еще несколько снимков — те, что Прокоп рассматривал с наибольшим вниманием. «Мне показалось, что они тебе понравились, — сказал Йонаш, протягивая их Прокопу. — Пусть подышат воздухом, всяко лучше, чем валяться в коробках. Увидишь, воздух и свет им пойдут на пользу, с течением времени они пожелтеют, поблекнут, истают. Я специально делаю такие вот исчезающие фото, под действием света они потихоньку развеиваются. Вообще-то, и нам всем надо бы так: истаять, постепенно исчезнуть…»
Ноябрь начался чередой дождливых дней. В один из них, во второй половине, Прокоп зашел в кочегарку, где работал Виктор. Как раз утром этого дня привезли самосвал бурого угля; огромнейшая его гора занимала чуть ли не весь подвал, закрыв подвальное окошко. Спецовка Виктора, его волосы, руки, лицо обрели цвет пыли. Но он сказал, что в этом и нет ничего страшного, быстренько ополоснул лицо, руки, переоделся, и они отправились выпить пива.
Бурый туман скрывал небо, но еще более густой и смрадный туман заполнял пивную. Выпив по две кружки, Прокоп и Виктор вышли на улицу. Они сели в трамвай, идущий в Витонь. Их ждала Радка у себя в типографии, располагающейся под самой крышей старого дома.
На последней лестничной площадке Виктор извлек из кармана связку ключей. Они прошли через первый темный чердак, заставленный ломаной мебелью, заваленный досками. Идти приходилось согнувшись, чтобы не расшибить лоб о балки, но это зато заставляло смотреть под ноги, видеть, куда ступаешь. Виктор постучался в дверь, до такой степени изъеденную жучком, что тяжелый железный замок на ней выглядел чистой насмешкой. Чтобы вышибить ее, достаточно было бы чуть навалиться плечом. Им открыла Радка. Она была в толстом свитере, на голове шерстяная шапочка, на руках шерстяные же митенки, однако кончики ее пальцев были такого же малиново-красного цвета, что и нос. На чердаке стоял леденящий холод.
— Обогреватель загнулся, — сообщила Радка вместо приветствия.
Столы на козлах. На них рядком лежали стопы отпечатанных листов. Воняло клеем. На ящике стояла бумагорезательная машина с поднятым ножом. Были тут еще два печатных станка и ротатор. На длинной деревянной скамье лежали стопы бумаги. Пол покрывали коврики, один истрепанней другого. Голые лампочки освещали резким светом весь этот кавардак. Радка предложила кофе. Из фаянсового кувшина она налила воды в помятую кастрюлю и поставила ее кипятиться на электрическую плитку, стоящую на складном дачном столике.
— Сахара нет, — предупредила она.
Она беспрестанно шмыгала носом, на кончике которого от холода висела капля, и каждое слово вылетало у нее изо рта, окутанное облачком пара. Прокоп и Виктор перелистывали уже сброшюрованные и переплетенные экземпляры. Говорили о сегодняшней демонстрации.
— Посмотрим, — сказала Радка, разливая по чашкам кофе. — В любом случае на пути от Вышеграда колонна пройдет здесь. Мы будем стоять в первых рядах и присоединимся к ней.
Они принялись за работу. Вскоре на заледенелом чердаке слышался только шелест бумаги. Аккомпанементом негромкому этому шуршанию служило шмыганье Радкиного носа да иногда раздававшееся поскрипывание балок. Время от времени Радка отходила от стола, на котором разбирала оттиски, чтобы проверить, как сохнут проклеенные обложки. В войлочных туфлях передвигалась она совершенно бесшумно.
На стенах были прикноплены несколько афиш и плакатов. От сырости все они покоробились, вспучились. Висели и фотографии Йонаша, тоже покоробившиеся, пожелтевшие. Было несколько портретов поэтов и писателей. Рембо соседствовал с Анной Ахматовой и Иржи Ортеном. В мутном расколотом зеркале, перечеркнутом из угла в угол косой трещиной, которое висело на поперечной балке, отражался портрет Богуслава Рейнека, прилепленный скотчем к боковой стенке шкафа. Оттого что это было отражение и оттого что мутное зеркало слегка искажало его, особенно заметным становилась тревожная и пристальная печаль лица Рейнека.
Несмотря ни на что, улыбнись хоть чуть-чуть… Пусть я даже узнаю, что зеркало мне протянул незнакомец и что я говорю сам с собой, что пишу я себя самого, чья улыбка в сердечных глубинах побита и в цепи забита.На отраженной фотографии Рейнек, худой, щуплый, а главное такой несчастный, сидел в полумраке своего петрковского дома около высокой кафельной печки, спиной к потрескавшейся стене. Сидел, опустив глаза. Ни тени улыбки на высоколобом лице. Но, наверное, в глубине его сердца таился слабый просвет улыбки, такой же неизгладимой и устойчивой, как крупица слюды в черном камешке. И уж несомненно, в глубине его печали был чистый свет самоотвержения, строгой надежды.
Было что-то общее у него с Радкой, перемещавшейся скользящим бесшумным шагом, не тревожа даже воздух вокруг, на худом, осунувшемся лице которой застыло озабоченное выражение, словно она непрестанно пыталась разрешить какую-то загадку. Она была труженицей подполья, и ее делом была поэзия. Сама она стихов не писала, а если и писала, то никому не показывала. Может, она сочиняла их только мысленно, этакие безмолвные стихи. Но как бы тогда она смогла отличить свои стихи от чужих, которые она читала и перечитывала, пока не заучивала наизусть? В памяти ее хранились многие тысячи строф. Радка была ходячей гигантской антологией поэзии, своего рода лирическим самиздатом во плоти. Чтобы расширить границы своей поэтической географии, она самостоятельно переводила стихи со многих языков, даже с латыни. А совсем недавно перевела «Гимны» аббатисы Хильдегарды из Бингена[14]. Все эти тексты, наверное, казались полиции настолько смехотворными, что подпольные издания Радки и сама издательница были скорей объектами безразличия, если не презрения, чем преследования. Очевидно, по мнению агентов госбезопасности, она занималась совершенно бессмысленным и даже — тут у них, надо думать, и сомнений не возникало — идиотским делом, рискуя отморозить пальцы на захламленном, пыльном чердаке всего лишь для того, чтобы отпечатать скверным лиловым шрифтом на скверной, почти папиросной бумаге какую-нибудь чушь наподобие этой:
О сладчайший избранник, Что блистаешь в сверканье сияния, О начало всего, Ты во славе Отца Тайны нам осветил…Шорохи, потрескивания, хлюпанье носом. Прокоп и Виктор продолжали свой однообразный балет вокруг столов, Радка перемещалась сложными зигзагами от длинного стола на козлах к скамейкам, от печатного станка к бумагорезательной машине. Уже три сумки были набиты готовыми экземплярами.
Внезапно послышался гул многих голосов. Он доносился с улицы. Виктор, Прокоп и Радка подняли головы, недоверчиво прислушиваясь. Однако чувствовалось: там огромная толпа, очень спокойная и решительная. Она шагает, скандируя слово «свобода». Радка вскарабкалась на табуретку, приникла к слуховому окну, пытаясь разобрать, что происходит на улице, однако видела только головы, головы, головы и множество огоньков свечей. Все трое побежали вниз, чтобы присоединиться к демонстрации. И все-таки Радка, у которой осторожность стала второй натурой, не преминула погасить на чердаке свет и запереть на замок дверь. Но вот сменить обувь забыла и прошла весь путь вместе с колонной в зеленых войлочных тапках.
Колонна текла к реке. Толпа становилась все плотней и плотней, трамваи на набережной уже едва ползли, из их окон, прилипнув к стеклам, смотрели люди. В неживом вагонном освещении их лица с вытаращенными глазами казались ирреальными, явившимися из какого-то другого времени. Привычный распорядок жизни внезапно рухнул; вдруг оказалось, что это вовсе не час возвращения в трамвае с работы домой. Конечная остановка неожиданно перенеслась на середину маршрута.
В конце концов пассажиры стали вылезать из остановившихся трамваев и присоединяться к демонстрации, которая заворачивала за угол здания Национального театра. На всех его этажах, словно вставленные в рамы окон с золотистой подсветкой сзади, стояли, вытянувшись, как солдаты на параде, билетерши в черных платьях и махали руками в знак солидарности.
Однако немного дальше, на Народном проспекте, демонстрантов ожидали в засаде полицейские с дубинками. Но как бы они ни усердствовали, ни колотили людей, им удалось посеять только временную панику. Нет, ноябрь этот стал ответом на радостные приветствия билетерш, а не на удары дубинок. Весь город превратился в театр, вся страна вышла на сцену, и очень скоро Замок распахнет свои двери перед неким драматургом. Надвигалась пора нового репертуара.
ТАНЕЦ В АДУ
1
Ветер случайностей, встреч и удивления дарил жизнью сердце Прокопа. Ветер слов и образов изнашивал его, медленно и неотступно истощая. А совсем недавно ветер истории перевернул вверх дном окружавший его угрюмый пейзаж.
Зернышко безумия, упавшее к нему в душу, продолжало прорастать; в долгие серые дни оно дало крепкий росток, упорно, старательно тянулось вверх, и вроде все ему шло впрок. Вот уже и цветок проклюнулся — такой трепетный в сокровенных своих тайниках, но, главное, когда он начал нежно распускаться, такой недолговечный и смертный.
Прокоп уже не был парией. Он мог бы даже получить какой-нибудь важный пост. Но когда прошла эйфория и возбуждение первых недель после революции, в нем началось какое-то осторожное попятное движение в пределы своей внутренней, душевной географии.
Да, парией он уже не был, но он был деклассированным.
«Свобода! Свобода!» — кричала толпа в тот чудесный ноябрьский день, спускаясь с Вышеградского кладбища. Свобода — это прекрасно, но, в сущности, для чего? Теперь она была достигнута, эта свобода, за которую Прокоп так долго боролся и во имя которой претерпел столько страданий и обид. Однако безмерная требовательность, заключенная в этом определении, уже смещалась, она дрейфовала к новым зонам, к дальнему горизонту. К горизонту, отступившему так далеко, что казалось, будто он находится уже за земными переделами.
Роскошное слово «свобода» стало потихоньку дрожать, сбрасывать с себя свою гордыню. Оно призывало к самопожертвованию — во мраке, к самоотвержению — в тишине. Оно звучало щебетом в пении птиц, завывало вместе с ветром, просвечивало сквозь ауру, какую иногда излучают лица.
Эпоха метлы и лопаты для Прокопа кончилась. Ему предложили должность в университете. Он долго раздумывал и в конце концов отказался. Ему разонравилось преподавание, вещать наставительным тоном было ему уже не по нраву. Притом Прокоп испытывал некоторую неуверенность: он так долго разговаривал сам с собой в четырех стенах своей квартиры или когда махал метлой, подметая лестницы, что теперь очень сомневался, сумеет ли найти нужный тон, общаясь со студенческой аудиторией. Правда, ему случалось, когда он не провозглашал в тишине долгие безмолвные монологи, разглагольствовать в пивной. Но если в течение двадцати лет посещать только две эти маргинальные школы, искусству красноречия это явно на пользу не пойдет.
Однако время пивных и кафе бесповоротно ушло, встречи в «Белом медвежонке» прекратились. Радомир ринулся в журналистику, Б. Б. Б. стала депутатом, Виктор играл в джазовой группе, Радка получила стипендию и училась в Берлине, Алоис не вылезал из театра, а Йонаш собирался переехать в деревню, чтобы там спокойно заниматься своим делом. То же самое было и в отношениях с другими знакомыми и приятелями; все пребывали в бурном движении — и внутри себя, и в пространстве. Некоторые действительно перемещались, они в полной мере осознали возможности внезапно наступивших перемен и действовали соответственно этому; у других же закружилась голова, и они в основном размахивали руками, подчиняясь обманчивым порывам сердца и ума, последствия каковых были не способны просчитать.
Прага была подобна старинной стеклянной безделушке, заполненной разноцветными песчинками; когда ее переворачиваешь, все частицы приходят в вихреобразное движение между стеклянными стенками, слагаясь в мгновенные узоры и арабески. Нельзя смотреть без восхищения на этот внезапный взрыв новых форм и ритмов, и глаз не может оторваться от извивов и мерцающего колыхания, наблюдая за постепенным замедлением этой фарандолы. Некоторые песчинки, охваченные чувством легкости, продолжают грациозно кружиться, меж тем как другие тяжело и скоро опадают и спрессовываются в плотную непроницаемую массу. Наконец прекращается всякое движение, и образуется новая фигура, с иным расположением цветовых слоев, чем в той, которая ей предшествовала, — с иным, но отнюдь не совершенно противоположным. Зритель констатирует новый установившийся порядок, постепенно свыкается с преобразованным расположением песчинок, ставит игрушку на полку — и жизнь продолжается.
Прокоп выбрал издательское дело, поступил на работу в редакцию одного литературного журнала. То недоверие к языку, которое, как он чувствовал, пробивалось или даже, верней сказать, разрасталось в нем, в меньшей степени проявлялось в отношении написанного, нежели устного слова. Когда он писал статью, то подолгу взвешивал каждое слово, оценивая его смысл, старался с максимально возможной ясностью передать развитие мысли. Он, который так долго пленялся звучностью, созвучиями и внутренней перекличкой слов, он, который наслаждался речью, как бард, вдохновленный ветром и пеною волн, бард, чьим устам предназначено спеть «предков песню, рода своего напевы», утратил ощущение, что слова тают у него на устах, разливаясь из горла потоками речи. Сейчас в горле у него была только глухая тревога, а в сердце ворочалось неясное сомнение. Прокоп оказался выключен из игрища рун и рифм, он чувствовал, как внутри него шелестит странное безмолвие, которое требует от него все больше и больше внимания. Отныне он уже не мог, и уж тем более не хотел, вещать не только наставническим, но и поэтическим тоном. Теперь он старался, чтобы мысли его были четкими, свободными от всяческих прикрас и несуразностей.
_____
Посетителей в редакцию к Прокопу приходило много — на его вкус, так даже чересчур много. И в один из дней дверь его кабинета отворилась и вошел стриженный чуть ли не под ноль молодой человек в линялых джинсах и черной рубашке. Прокоп поздоровался и замолчал, ожидая, когда посетитель представится.
— Папа, ты что, не узнаешь меня? — засмеявшись, промолвил молодой человек.
Прокоп так и осел на стул. То была Олинка. Она подошла к нему и чмокнула в щеку. А он только и смог промямлить:
— Что ты сделала со своими волосами?
— Постригла, — весьма лаконично ответила дочка.
Она уселась на краешек письменного стола и извлекла из кармана рубашки пачку сигарет.
— Курить у тебя можно? — осведомилась она и закурила, не дожидаясь ответа.
Молча, словно у него пропал голос, Прокоп пододвинул к ней пепельницу, кстати сказать уже полную окурков. Он был в бешенстве, но что он мог сделать — запретить? Олинка сообщила, что теперь будет жить в Праге. Она поступила на филологический, будет учить испанский и португальский, а жилье она будет снимать вместе с двумя подругами.
— Ты могла бы поселиться и у меня, — сказал Прокоп.
— Ну зачем я буду мешать старому медведю жить в его берлоге? — со смехом ответила Олинка.
Она все время смеялась тем легким, светлым и немножко глуповатым смехом, каким обычно смеются влюбленные. Прокопу стало ясно: у Олинки полная перемена жизни — она не только стала студенткой, но у нее появился любимый. Кстати, Прокоп очень скоро узнал, что счастливца, в которого по уши влюбилась Олинка и ради которого она постриглась наголо, зовут Филипп и что он студент третьего курса медицинского факультета.
2
А вскорости к Прокопу явился еще один посетитель, визит которого привел его в ничуть не меньшее замешательство, чем визит Олинки с ее новым шпанистым обликом. В кабинет ворвался крупногабаритный мужчина, подлетел к столу и буркнул что-то вроде «здравствуйте». Прокоп не сразу его узнал. То был пан Славик, в своем неизменном красном шарфе, который уже начал изрядно махриться. Прокоп так давно не сталкивался с этим своим соседом, что почти забыл, как он выглядит, и сейчас, совершенно неожиданно увидев его вне привычных декораций и при освещении куда более ярком, чем на полутемной лестнице, должен был признать, что вид у него был весьма и весьма своеобразный.
Без всяких предисловий пан Славик вытащил тоненькую тетрадку.
— Это я вам, — глухим басом произнес он, теребя свою длинную траурную хоругвь, красный цвет которой во многих местах сошел на оранжеватый. — Прочтете, когда будет время.
Прокоп взял рукопись и поинтересовался:
— О чем это, пан Славик? Да вы присаживайтесь, присаживайтесь…
— Нет, нет, я не хочу отнимать у вас время. Я на минутку. И потом, когда прочтете, вы сами увидите, о чем это. До свидания, и благодарю вас.
И пан Славик ретировался. Тщетно Прокоп пытался его удержать. После ухода пана Славика Прокоп сел за стол и перелистал тетрадку. Текст в ней, хоть она и была тоненькая, занимал меньше половины: десяток страниц, исписанных крупным старательным почерком. Это был рассказ, озаглавленный «Без названия»; видимо, автору ничего подходящего в голову не пришло. На обороте тетрадной обложки автор написал посвящение: «Моему Псу». «Ну и ну, — подумал Прокоп, глядя на буквы посвящения, выведенные его немногословным соседом с ученической аккуратностью. — Толстый пан Славик поддался на соблазн беса сочинительства, и все из любви к своему двортерьеру!» И он немедленно погрузился в чтение рукописи.
*
Моему Псу
БЕЗ НАЗВАНИЯ
Родился я ночью, в разгар зимы, при тридцатиградусном морозе, в маленькой деревне в Крконошах. Произошло это в феврале месяце 1925 года. Моя мама рассказывала, что все небо тогда было в звездах, ласковых и белых, как капли молока, и можно было подумать, будто они застыли от мороза. А вдалеке слышался волчий вой, добавляла она. Моя мама никогда не говорила неправды. Кроме мамы и моего пса, я в своей жизни не встречал никого, кто никогда бы не обманывал.
Про годы детства в деревне мне нечего рассказывать. Тогда происходили лишь самые обыкновенные события, связанные с временами года, и все, что пекла мама, тоже соответствовало этому годовому циклу. Запеканки из лапши и ватрушки с творогом и изюмом зимой; витые булочки с миндальными орехами на Рождество, а также разные сладкие печенья и пряники; тарталетки с вареньем и слойки с шоколадом на Пасху; вареники с черникой, малиной и ежевикой летом; а осенью штрудели с яблоками и орехами. Моя мама никогда никого не обманывала, даже времена года. Точно так же, как и мой пес.
Вот и все о моем раннем детстве: одни только вкусовые воспоминания, ну или почти. Да еще воспоминания о запахах — земли, животных.
Мама и смерть тоже не стала обманывать. Она никогда ничем не болела. Но однажды слегла. У нее были страшные головные боли. А через десять дней ее похоронили. Потом нам сказали, что у нее в мозгу была опухоль. Как если бы гриб завелся у нее в голове, огромный, ядовитый, прожорливый гриб. Когда она слегла, то уже точно знала, что больше не встанет. Люди, которые всю жизнь на ногах, в работе, никогда не ошибаются насчет определенных признаков; для них жизнь — это движение, а остановиться значит умереть. Моя мама все прекрасно понимала, точно так же, как и мой пес. И она не жаловалась.
Хоронили маму ясным октябрьским утром. Стоял сухой морозец, высоко на безоблачном небе сверкало солнце, как медный циферблат часов, который мама начищала, пока он не засверкает. По обе стороны дороги стояли рыже-красные буки; кладбищенские аллеи были усыпаны нежной пылью светло-желтой палой листвы, позолоченной солнечным светом. Я до сих пор не могу забыть это бледное золото, дрожавшее в моих слезах. Мне было тогда одиннадцать лет.
Вечером после похорон мой отец напился. И с тех пор не переставал пить. Он продал дом и уехал из нашей деревни. Увез меня с собой в Прагу. Только-только мы обосновались там в квартале Жижков, как в город вошли немцы. Мне совсем недавно исполнилось четырнадцать лет. Отец, который раньше приходил от выпитого в печальное настроение, теперь, напиваясь, зверел. Он все больше и больше превращался в запойного пьяницу. Иногда приводил домой женщин. Но поскольку он бил их и злобно ругал, они больше не приходили. А он находил новых.
Это было время насильственных смертей. Некоторые погибали от пуль, другие под бомбежкой, кто-то на поле боя, а кто-то в концлагере от голода и избиений. Отец тоже погиб во время оккупации, но не как герой или мученик, а спьяну. В жилах у него в тот раз вина было не меньше, чем крови, и он попал под трамвай. Можно сказать, что под колесами трамвая лопнул старый бурдюк с дешевым прокисшим вином. Я остался сиротой. Пришлось бросить школу и поступить на фабрику.
Немцев из страны прогнали, но вскоре их место заняли новые оккупанты, так что перемены оказались не слишком большие. Женился я в двадцать семь. А через девять лет жена ушла от меня к аккордеонисту из Млада Болеслава, у которого был стеклянный глаз. «Ну и что из того, что у него всего один глаз, — сказала она мне на прощанье, — зато он играет как бог!» Но поскольку моя жена никогда раньше не проявляла никакого интереса к музыке, я понял, что божественность ее кривого избранника кроется не в пальцах, а между ног. Сам-то я не больно увлекался этими вещами. Короче, я остался один и мог в свое удовольствие пялиться в окружавшую меня пустоту двумя глазами, которые оказались не такими привлекательными, как один стеклянный. Но я очень быстро приспособился к одиночеству. И больше не женился, а уж тем более не научился играть ни на каком музыкальном инструменте.
Но поскольку вечера все-таки иногда казались мне долгими, я шатался по пивным да кафе. Играл в карты, но без особой увлеченности. Вообще, где бы я ни оказывался, чем бы ни занимался, мне все очень быстро надоедало. Я часто менял работу: водил грузовик, разносил почту, перевозил мебель, работал механиком, носильщиком, контролером электросбыта, а какое-то время даже кладбищенским сторожем. Это позволило мне неплохо изучить людей. И надо сказать, что за видимостью внешних отличий, они все, в сущности, одинаковые — в одно и то же время храбрецы и трусы, скареды, способные при случае на широкий жест, сумасброды или мудрецы в зависимости от обстоятельств, то бесконечно верные, то предатели. Но возвышенными они не бывают никогда, по крайней мере исключительно редко. Надо сказать, большинство людей таскают свою комканую-перекомканую, засморканную, истрепанную душу в карманах, да только дело в том, что у большинства из этого большинства карманы дырявые, и по пути грязный и мятый платочек души у них вываливается, но они этого даже не замечают.
И вот однажды в мою жизнь вошел пес. И с его приходом ушла тоска. Было это в августе шестьдесят восьмого, сразу же после вторжения. Он стоял на углу улицы, по которой шли танки. Он был совсем еще молодой; невысокий дворняга без ошейника, немножко коротколапый, с мощным туловом и пушистым хвостом; острые стоячие уши, длинная морда и карие глаза с оранжевыми искорками. Масть — медно-рыжая, и при этом белая грудка.
Он поднял голову и посмотрел на меня, словно о чем-то раздумывая, а потом, виляя хвостом, пошел за мной. Если я останавливался, он останавливался тоже, но все время держал дистанцию метра два; сидел, чуть опустив голову, и словно бы искоса поглядывал на меня. У него был добрый, умный и внимательный взгляд. Точь-в-точь как у моей мамы. Он проводил меня до дома. Когда я вошел туда, он сделал вид, будто собирается продолжить свой путь. Я поднялся к себе и забыл про него. Но когда утром открыл дверь своей квартиры, обнаружил, что пес лежит у порога. Он поднял голову и улыбнулся мне.
Да, да, такое бывает. Собаки иногда улыбаются. И я впустил его к себе в дом. Восемнадцать лет он прожил в нем. Я знаю, почему он так сопротивлялся смерти: он хотел как можно дольше отсрочить миг нашей разлуки. Он знал, что для меня это будет горе. И для меня это действительно было горе, да такое, о каком он и подозревать не мог.
_____
В тот первый день, когда он мне улыбнулся и вошел в мой дом, он обследовал обе комнаты и кухню и остановил свой выбор на узкой кушетке, что стояла у окна в гостиной. Он вспрыгнул на нее и взглянул на меня, словно бы спрашивая, не против ли я. Я сделал знак, что ничего против не имею. С той поры эта кушетка стала его лежбищем. После этого я три раза переезжал; Пес и его кушетка первыми оказывались в моем новом жилье.
Я не стал искать для него какой-нибудь особенной клички, я называл его именем его вида. Я звал его Пес. Пусть он и был беспородный, но все равно принадлежал к собачьему племени. И мне бы очень хотелось, чтобы он меня называл Человек — просто пан Человек. Тем более что при моем бычьем сложении, квадратной голове и басистом, рыкающем голосе называться Соловьем смешно. Все вечно подтрунивали над моей фамилией, которая мне идет, как корове седло.
Мы с Псом сразу же поладили. Он был умный и склонный к одиночеству; как и я, он отнюдь не стремился к обществу своих сородичей, а к сучкам относился с таким же недоверием, с каким я к женщинам.
Я начал читать. На пятом десятке открыл для себя книги, открыл радость, какую приносит чтение. Когда великие мореплаватели, отправлявшиеся исследовать моря и океаны, приплывали к новым континентам, они, должно быть, бывали поражены куда меньше, чем я, когда ринулся в приключение книгочейства. Первое время читал что попало, ходил в библиотеки и брал книги в алфавитном порядке. Но мало-помалу стал ориентироваться лучше и следовал уже не алфавитной системе, а интуиции. И вот однажды я наткнулся на автора, который произвел на меня потрясающее впечатление. Это был Стриндберг[15]. Конечно же, понял я не очень много, но даже это немногое поразило меня. Этот человек потряс меня до такой степени, что я стал учить шведский. Изучал я его самостоятельно. Дома по вечерам разговаривал по-шведски с Псом; само собой, произношение у меня было жуткое, у меня нет способности к языкам. Пес, лежа на своей кушетке, внимательно слушал меня. Я убежден, Пес понимал все языки, потому что в человеческом голосе он слышал только интонации сердца.
Утром и вечером мы с Псом выходили на прогулку. По утрам маршрут выбирал я, а так как времени у меня бывало в обрез, он оставался почти неизменным: мы обходили наш квартал. Но зато уж вечером Пес выгуливал меня. Он бежал уверенной неспешной рысцой, увлекая меня, куда ему заблагорассудится. Хотя выражение «куда ему заблагорассудится» будет не совсем точным. Он тянул меня по улицам в сквер или в парк. И вот там-то для него начиналась настоящая прогулка. Там он замедлял шаг, обнюхивал травы и корни, втягивал запахи земли, воздуха, облаков. Этот пес все чуял, даже — и главным образом — чуял, какое у человека сердце. Я, насколько мог, подражал ему, старательно втягивал в себя запах ветра, запах времени, запахи света. Благодаря Псу я обрел чуткость, узнал, что у всего есть свой запах — даже у звуков, красок и уходящего времени. И еще я научился по-другому смотреть и слушать. Начал воспринимать мир и людей по-собачьему. И в конце концов научился любить жизнь, как любит его сердце собаки. Сердце, которое всегда настороже, но не в тревоге. Сердце, обонянием воспринимающее пространство.
Пространство, которое я обрел в себе и которое помог мне открыть Пес. Он научил мое сердце быть чутким, и я сумел ощутить в себе запах бесконечности. Таская меня по улицам и городским паркам, Пес на самом деле уводил меня в безграничность моего внутреннего мира. И на этом пути я находил следы. Следы Бога. Или верней будет сказать, следы отсутствия Бога. Я слушал в себе Его молчание, видел в себе Его отсутствие и осязал пустоту на Его месте. И в иные дни ощущал странное сгущение этой пустоты. Нет, я никогда не молился и не ходил в церковь. Я просто шел по этой Господней пустыне. И это была моя молитва, молитва человекособаки.
Хочу сказать еще немножко об улыбке моей собаки, хотя описать ее невозможно. Так улыбаются те, кто провидит насквозь мир и время, кто всеми своими органами чувств ощущает, что истинная жизнь набирает полноту, только когда молчание бесконечности затрепещет на поверхности бегущего мгновения, когда тайна незримого придет в соприкосновение с самыми обычными вещами — деревянной столешницей с хлопьями пивной пены на ней, фаянсовой чашкой, перилами лестницы, хлебною коркой, крышкой мусорного бака, стеной, деревом…
Бывали дни, когда Пес внезапно поднимал голову, наставлял уши и вслушивался, хотя, казалось бы, никаких оснований для повышенного внимания не было. Он чуял присутствие незримого, которое я был не способен ощутить, но о котором благодаря ему догадывался.
У Пса была улыбка тех избранных, на кого возложил свою десницу ангел. И я только через много лет понял, что мой Пес на самом деле был сопутником ангелов. Нет, я не брежу, не святотатствую и уж тем более не шучу. Это истинная правда. Наверно, случаются такие времена, когда людей, достойных возложения на них ангельской десницы, оказывается так мало, что ангелы в растерянности обращаются к животным. Ведь из нас двоих хозяином и главным был Пес. Он сообщался с ангелами, он нес жар их ласковых рук в своей шерсти и кротость их света в своей улыбке, а я шел за ним в его тени.
Я уже говорил, что большинство людей — натуры весьма незначительные и не представляют большого интереса, а главное, почти все они крайне небрежно обращаются с той жалкой душонкой, которою были наделены, превратив ее в какое-то подобие грязной и затрепанной половой тряпки. А вот у Пса души не было — он сам был воплощенной душой. Самой ласковой и самой простой из всех великих душ. Ангельской душой на четырех лапах, одетой рыжей шерстью. Великой в своем смирении.
Пес состарился. Ослеп, оглох, а потом у него отнялись задние лапы. Почти весь день он, поскуливая, спал, забывшись тяжелым сном; ему было больно. Ветеринары, к которым я ходил, предлагали усыпить его. Кое-кто из жильцов дома, где я жил, давали мне такой же добрый совет. Ведь никто из них не знал подлинной природы Пса. Впрочем, если бы я открыл ее им, они бы расхохотались. И, наверно, ответили бы мне с полнейшей уверенностью в собственной правоте, что если бы и вправду существовали собаки ангельской породы, то в старости они не были бы такими жалкими, бессильными, безобразно толстыми, а главное, дурно пахнущими. Как будто всякий, кого коснулся ангельский свет, обязательно должен преобразиться, стать красавцем, неподвластным законам природы. Законы плоти и времени беспощадны. Мой Пес, как всякое живое существо, прошел через старость, через страшное ничтожество старости. Он не избегнул ее, да и почему он должен был ее избежать? С какой стати? Святость не пользуется никакими льготами, напротив того, она подчиняется законам и обязанностям, общим для всех. Однако люди, поскольку они верят видимостям, а не сердцу, поскольку воображение у них горбатое и закостенело в предрассудках, требуют чуда, а иначе они не соглашаются верить в то, чего не понимают. Тайна обходится без показных чудес, незримое не имеет ничего общего со сверхъестественными феноменами. Для чудесного характерно то, что оно не бросается в глаза. И потом, если Господь сошел на землю, воплотившись в сына простых людей, если он претерпел муки и позор казни, какой казнят разбойников, то почему ангел не может явиться в обличье собаки, симпатичного дворняги, бегающего по улицам города, по которому катят чужие танки?
Пес подошел ко мне и больше уже меня не покидал; он стал моим проводником в безмерности, о существовании которой я не ведал и которую никто, кроме него, мне не показал. Пес был моим товарищем, моим ангелом-хранителем, моим учителем. Он был светом моей жизни. Так неужто я смог бы сократить дни жизни этого животного? Я ухаживал за ним, не спал ночей. И это было самое малое, что я мог сделать для него. Ведь я всем обязан ему.
Пес умер. Ушел, как следопыт разведывать путь. Он оставил мне свою улыбку, которая до сих пор витает вокруг меня, и мягкость своей шерсти, впитавшуюся в кожу моих ладоней. И еще в глубине моего сердца от него мне осталась крошечная малость его чутья.
И теперь мое сердце ждет смерти. Я не боюсь ее. Когда она придет за мной, у нее будет та же радость и та же улыбка, с какими встречал меня Пес, когда я приходил с работы, чтобы отправиться с ним гулять. Смерть поведет меня куда ей заблагорассудится, и это будет прекрасно. Уверен, у вечности тоже есть запах, а вкус — вкус чистейшего света.
На этом рассказ пана Славика обрывался. Но на следующей странице он приписал еще несколько строк. Они были адресованы Прокопу.
«Пан Поупа, я принес вам этот рассказ вовсе не потому, что надеюсь на его публикацию в журнале. Я не писатель, до этого я ничего никогда не писал и больше ничего не напишу. Я принес вам эту тетрадку, потому что вы единственный человек из всех, кого я знаю, который способен прочесть этот текст так, как его следует прочитать. Прошу вас понять, я обращаюсь к вам не как к профессору и не как к литературному критику, а как к человеку, в котором я чувствую — во всяком случае, так мне кажется — способность к пониманию и открытость к восприятию некоторых тайн. Я уже говорил вам, мой Пес передал мне малую толику своего чутья, и я чую в вас одного из „сопутников“. Мы все сопутники, но, к сожалению, очень немногие осознают это. Не думаю, чтобы я ошибся, полагая, что вам был дарован тот же шанс, что и мне, хоть я и не знаю, в какой форме.
И еще со всей откровенностью скажу вам, что считаю вас недостойным, равно как и себя, такого дара небес. Не будем заблуждаться, потому что и вы, и я не слишком много стоим, ведь нам не сотворить из своей жизни шедевр или хотя бы просто талантливое произведение. В лучшем случае это будет базарная поделка. Надеюсь, вы не обидетесь на меня за эти слова, потому что, уверен, уже давно пришли к такому же выводу. Во всяком случае, я вам этого желаю.
Вот поэтому я и доверяю вам секрет моего Пса. Вам не надо объяснять, что публикация этих строк, которые большинству читателей покажутся курьезными и нелепыми, было бы величайшей бестактностью. Рассчитываю на ваше понимание и на ваше умение хранить тайну.
Р. Славик».
*
Прокоп перелистал оставшиеся страницы, они были пустые. Он закрыл тетрадку. Он не знал, что думать об этом рассказе. Не знай Прокоп пана Славика, он воспринял бы этот текст как художественный вымысел, а уж на приписку с пожеланием не публиковать его не обратил бы внимания, так как расценил бы эту просьбу как кокетство дилетанта, желающего привлечь к себе внимание деланной оригинальностью. Но пан Славик не был похож на человека, жаждущего прославиться и склонного к жеманству. Прокоп даже скорректировал свое первое впечатление, возникшее у него, когда он открыл тетрадку и прочел заглавие и посвящение. Теперь он уже не думал, что вирус сочинительства поразил его соседа, как поразил великое множество других людей, и что пан Славик озаглавил свой рассказ «Без названия» по причине скудости вдохновения. И уж тем более Прокоп не воспринимал этот текст как нелепый плод экзальтированного воображения. Пан Славик отнюдь не был ни сумасшедшим мистикомтвизионером, ни претенциозным графоманом. Это был простой человек достаточно грубой внешности, в поведении же сдержанный и скромный. Написал он это только лишь затем, чтобы поведать о фактах, которые считал реальными; он не пробовал их приукрасить, расцветить какими-нибудь сверхъестественными подробностями. Кстати, подробностей у него было крайне мало, и он вообще даже не пытался чем-то подкрепить свои утверждения. Он рассказывал все, как было. Но если Б. Б. Б. разговаривала с птицами, то и пан Славик точно так же мог говорить со своей собакой на ломаном шведском. Прокоп тут же вспомнил про тот давний вечер в «Белом медвежонке», когда они вспомнили легенду о ларах. Никому тогда в голову не пришло поместить ларарий в собачью конуру. А между тем долгие годы добрый ангел в обличье пса рыжей масти с белой грудью жил на кушетке в квартире над Прокопом, и никто об этом не подозревал. Пан Славик прав, духи способны обитать всюду, даже в самых невероятных местах и телах. В сортире, в отвисшем брюхе, в помутневшем зеркале, в кочегарке, в дворняге.
Вечером, возвратясь домой, Прокоп поднялся на седьмой этаж и позвонил в квартиру пана Славика. Дверь открыл незнакомый человек с пышными черными усами и сообщил, что прежний жилец съехал почти год назад, а где он теперь проживает, ему неизвестно. Прокоп попробовал расспрашивать других соседей, но никто ничего не мог ему сообщить. Пан Славик выехал, ни с кем не попрощавшись и не оставив своего нового адреса. Но Прокоп надеялся, что пан Славик все-таки объявится, придет за рукописью. Шли дни, и Прокоп с растущим нетерпением ждал человека с собачьим сердцем и чутьем, который почтил его своим доверием без всякого, так сказать, заднего умысла. Рассказ, написанный странным этим человеком, был весьма необычным и на первый взгляд даже нелепым, но он вновь всколыхнул множество вопросов, которые задавал себе Прокоп. И через какое-то время Прокоп воспринимал бывшего своего соседа не просто как собрата по духовной убогости, но как близнеца. В каком-то смысле как брата по блужданию во тьме.
_____
Пан Славик так и не появился и больше не дал о себе знать Прокопу. Человеку-собаке была безразлична судьба его рукописи, и его ничуть не интересовало, какое она произвела впечатление на единственного читателя. Должно быть, он продолжал в этом, а может, и в каком-нибудь другом городе долгий одинокий путь по бесконечной внутренней пустыне. А Прокоп в своей совершенно заблудился.
3
На следующий год после революции Алоис Пипал покончил с собой. Когда начались эти события, он участвовал в демонстрациях; неожиданный порыв, поднявший по всей стране людей, целые города, подхватил и его, наполнил новой энергией. Прага стала подобием праздника; лица прохожих, их взгляды, даже походка изменились, стали свободными. Маски были сброшены, исчез страх. Возвращалась подлинная жизнь, и она казалась еще радостней, оттого что изо дня в день импровизировалась прямо на улицах, подобно спектаклю бродячего театра. Жизнь взошла на подмостки и играла самое себя такою, какая она есть.
Прага была самым прекрасным праздником, потому что она стала театром, и ослепленный мечтами и открывшимися возможностями Алоис вернулся к своему актерскому ремеслу, ринулся в головокружительный вихрь театра. Его голову переполняли планы, сердце переполняли желания. Он верил, что для него пришла пора наверстать потерянное время и перейти к действиям, заняться главным делом, то есть играть.
Но шли месяцы, и им стало овладевать чувство неуверенности. Послереволюционное воодушевление понемножку сходило на нет, начал вырисовываться новый порядок вещей, возникали новые структуры, а вот к ним-то Алоису так и не удалось приспособиться. Он чувствовал, что все больше и больше теряет дыхание, теряет скорость, плетется где-то в хвосте. Вихрь, сперва завертев его, теперь отбросил на обочину. Новая жизнь была рядом, звала к себе, но Алоис был не в состоянии переступить порог. И он даже не смог бы объяснить почему.
Впрочем, театр распахнул перед ним свои двери. Алоис получил возможность выбраться из люка, куда его заточили на целых двадцать лет, и выйти на сцену. Однако он по-прежнему прятался в этой своей темной яме. Просто страх в нем переместился, уйдя в самые глубины сердца.
Нет, он никогда уже не смог бы воплотить короля Лира: его погубил иной король, имя которому Убю[16]. Алоис слишком долго пробыл в яме циничного короля и не мог уже выйти из нее. У него не осталось сил подняться на сцену, предстать перед зрителями, представить им одного героя, перевоплотиться в другого. Сцена пугала его, зрители вызывали ужас. То не был обычный актерский страх, то был темный провал внутри всего его существа.
Алоис перестал быть актером, он превратился в постаревшего ярмарочного комедианта с надорванными мышцами, рассеянными желаниями, синюшными мыслями. Жизнь больше не была театром, сцену относило куда-то вдаль; слова, жесты, смех, крики агонизировали на этом плоту, плывущем по воле волн и ветра. Игра закончилась.
Перед близкими он еще притворялся, даже изображал жизнерадостность. Но страх продолжал ширить свои бездны; Алоис чувствовал, что земля живых уходит у него из-под ног. Юмор его становился все непринужденней, и частенько это сбивало с толку. Он продолжал обсуждать планы, вовсю работал над ними. Однако не верил в их осуществление. И однажды понял, что уже не сумеет избавиться от затаившегося в нем страха, спастись в этом всеобъемлющем крушении.
Я, кажется, сойду сейчас с ума. — Что, милый друг, с тобой? Озяб, бедняжка? Озяб и я…[17]Он так озяб, что в точности не понимал, кто же он — король или шут.
Мой бедный шут, средь собственного горя Мне так же краем сердца жаль тебя[18].Он больше не декламировал Шекспира, даже во сне. Долгие ночи он лежал без сна, лежал с закрытыми глазами, не шелохнувшись. Монологи короля Лира чуть слышно шелестели в его мозгу, скорбном, как тусклая, мертвенно-бледная равнина. «Мой бедный шут…» Он скорбел о себе, обо всем, обо всех. То была смертельная скорбь.
У кого ума крупица, Тот снесет и дождь, и град[19].И дождь, и град, и ветер. И однажды октябрьским вечером, когда черный ветер страха задул так, что не было сил вынести, Алоис повесился в подвале своего дома.
В день его похорон не было ни дождя, ни ветра, светило яркое солнце, и пришло много народа; потрясенные, подавленные, собрались все его друзья. Они не понимали или, скорей, не смели понять причин, толкнувших Алоиса на этот поступок. Была большая группа подростков, пришедших проститься со старым начальником волшебного вокзала, который часто приглашал их в свою железнодорожную гостиную. Они прощались с отошедшим волшебством детства. Среди них была и Олинка; как и остальные, она бросила в могилу железнодорожный билет. А потом второй — за Ольбрама. Друзья Алоиса, глядя, как их дети осыпают гроб билетами, вдруг почувствовали себя бесконечно старыми.
Ольбрам приехал к отцу на Рождество. Вместо чешских слов в разговоре он иногда употреблял английские. Ему нравилось в Питерборо. Он хотел стать моряком или фокусником, однако окончательного выбора пока еще не сделал. Но уже знал множество фокусов и вовсю демонстрировал их отцу. В его наловчившихся руках исчезали любые предметы. А уезжая обратно в Англию, он похитил у Прокопа что-то такое, чего тот не мог в точности определить и назвать — нечто от его манеры видеть вещи, город, людей. После этого у Прокопа иногда случались какие-то странные видения — ни с того ни с сего, причем наяву. Как будто Ольбрам своими иллюзионистскими трюками деформировал ему хрусталики.
Но происходило это не так, как в то зимнее утро, когда Прокоп увидел беловатую ауру вокруг старушки, и не было похоже на ощущение прикосновенности к незримому, как тогда, когда он смотрел фотографии Йонаша; сейчас это смахивало на проникновение, а то даже на мощный прорыв сновидения в реальность.
Так однажды, собираясь перейти улицу, Прокоп увидел в окне на третьем этаже дома на противоположной стороне мальчика. Тот пускал мыльные пузыри. Гроздья пузырей самой разной величины появлялись из его соломинки, плыли по воздуху, лопались или, плавно покачиваясь, опускались на мостовую. Один такой переливающийся фиолетово-зеленый шарик весь в золотистых прожилках и с яркой лилово-синей полосой проплыл перед глазами Прокопа, и тот на какой-то миг увидел свое перевернутое отражение на его радужной сферической поверхности. И тут же пузырь — хлоп! — лопнул у него прямо перед носом. В этом пустяковом и, в общем-то, забавном эпизоде не было бы ничего примечательного, если бы Прокоп в этот миг, который ему показался нескончаемым, не почувствовал, что голова его перевернулась. По-настоящему, и к тому же медленно воспарила над тротуаром и поплыла вдоль улицы. Прокоп не мог ступить ни вперед, ни назад, он внезапно утратил зрение двуногого существа, ходящего по земле, обретя как бы в состоянии невесомости зрение опоссума, висящего вниз головой на ветке. Он ничего не узнавал, потеряв способность ориентироваться в пространстве, был не в состоянии шевельнуть ни рукой, ни ногой, все перед ним кружилось. Большущий шар его головы с маленькими шариками глаз, в которых в каком-то искривленном ракурсе отражались дома и улица, доплыл до перекрестка и с легким хлопком лопнул около фонарного столба. Прокоп ощутил этот взрыв всем телом. В тот же миг голова его заняла положенное ей место на шее, он схватился за нее обеими руками, чтобы удостовериться в ее наличии, и неверным шагом, чуть пошатываясь, перешел улицу.
Весной Олинка поселилась вместе с Филиппом в однокомнатной квартире недалеко от Браникского вокзала. Теперь волосы у нее — до очередной экстравагантной моды на прически — были стрижены бобриком и выкрашены под цвет воронова крыла. Квартира эта была мастерской их друга-художника, который, уезжая за границу, позволил им в ней пожить. Потому половина стен в ней была из стекла; свет заменял юной паре мебель, сведенную, кстати сказать, до минимума. Светло в ней было, как в оранжерее, и это натолкнуло Олинку на мысль завести кактусы и другие комнатные растения, за которыми она рьяно ухаживала. Прокоп, который никак не мог смириться с систематическими опустошениями, какие дочка производила у себя на голове, говорил, что лучше бы она с таким же вниманием относилась к собственным волосам. Но Олинка в ответ только посмеивалась.
— С собственными волосами, — отвечала она отцу, — не пообщаешься, а вот с растениями — да. У них есть свои вкусы и пристрастия, бывают разные настроения, разные чувства и эмоции.
Убежденная в этом, Олинка разговаривала с ними и для душевных бесед использовала язык, который изучала — португальский, прямо как пан Славик, говоривший со своим ангелическим псом на ломаном шведском. Прокоп тоже начал испытывать любовь к растениям, а на собак и прочих животных поглядывал с некоторым даже беспокойством. Рассказ человека-собаки по-прежнему не выходил у него из головы, а нежные чувства дочери к растениям потихонечку зазеленяли его мысли.
4
В одно из последних воскресений лета Прокопу захотелось съездить в Кукс[20] посмотреть скульптуры Матиаса Бернарда Брауна. Олинка и Филипп присоединились к нему. После долгой езды в автобусе они вышли у старинной богадельни, перед которой на террасе стояли статуи, названия которых уже сами по себе звучали внушительно и важно: «Веселия», «Ангел блаженной Смерти», «Ангел горестной Смерти», «Вера», «Добродетели и Пороки». Прокоп долго стоял перед статуей Целомудрия, представленного в облике женщины, чье томно расслабленное тело контрастировало со скрытым покрывалом лицом; покрывало доходило до того места, где под каменным платьем начиналась тяжелая, красивая грудь с острыми сосками, а под складками плаща, слегка сползшего с плеч и обернутого вокруг бедер, угадывалась плавная округлость живота. Лицо ее чуть обрисовывалось под покрывалом, и невольно закрадывалась мысль, что едва намеченные его черты могли принадлежать как человеку, так и животному.
Это навеки скрытое, спрятанное от взгляда лицо, сросшееся с темным песчаником покрывала и как бы чуждое соблазнительному и почти осязаемому под пористым камнем телу, долго не отпускало Прокопа. Полное истомы тело поистине истаивало от мрачного пламени целомудрия, что пылало под покрывалом.
Мудрость же, напротив, была трехлика; второе лицо у нее было на затылке, а первое лицо отражалось в овальном зеркале, которое возвращало ей насмешливую улыбку. Надежда же запрокинула голову в небо, и глаза ее были обращены к свету, к облакам; руку она прижала к сердцу, и все ее тело трепетало под волнами сползающего платья, обнажившего ей одну грудь.
Ангел горестной смерти сменял Ангела блаженной смерти и открывал бал Пороков, которые судорожно изгибали свои алчные, истерзанные тела и корчили гримасы, устремляя в пустоту безумные, яростные или коварные взоры.
В последний раз Прокоп приезжал в Кукс давным-давно зимой вместе с Марией, то было самое начало их отношений. В тот день каждый их взгляд выражал лишь пыл желания; Пороки и Добродетели, неотличимые друг от друга, оттого что снег укрывал их жесты и изменил лица, модулировали все вариации желания, и даже само Целомудрие, похоже, прятало под покрывалом выражение беспредельной неги и волнения.
Шеренга Добродетелей и Пороков выстроилась в строгом порядке в направлении с востока на запад, и точно так же развивались любовные отношения Прокопа и Марии — от восхода к закату. От нежнейшей утренней до горчайшей вечерней зари через неистовый полдень. От блаженства страсти до горя преданной любви. От блаженства ликующей плоти к плоти, изнемогшей от слез.
_____
С террасы богадельни они прошли в ближний Вифлеемский лес, где Браун вытесал прямо в скалах огромные изваяния на евангельские и мифологические сюжеты. Гигантские отшельники Гарен и Онуфрий словно бы вторили друг другу своими почти лишенными плоти согбенными телами и худыми лицами, скрытыми волнистой зыбью бород и волос. Сквозь деревья они обменивались друг с другом своим ненасытимым голодом ясности и справедливости, своей неутомимой жаждой вечности, священным страхом и неистовой любовью к Богу. Святая Мария Магдалина лежала возле дороги на каменном ложе у берез, которые усыпали ее тело листьями. Лицо ее было обращено куда-то по-над древесными кронами. И не было в ней ничего от пламенной неистовости отшельников. Погрузившись в бесконечную сладостность чистой любви, она возлежала здесь, избавленная от страха и страдания, мечтала на скальном ложе, не обращая внимания ни на века, что изъедали ее тело, ни на дожди и морозы, изъязвившие ее нежную минеральную плоть, ни на зверьков и прочих тварей, пробегающих по ее платью. Лицо ее наполовину стерлось, и пальцы руки, которую она подложила под голову, указывали на уже отсутствующий глаз. Но ей это было безразлично; теперь она видела всем своим телом, из которого в едином неощутимом дыхании воспаряли сердце и душа. И чем сильней распадалось ее тело, чем больше оно покрывалось мхами и лишайниками, тем явственней становилась ее радость. На лице, черты которого постепенно стерлись, осталась неуничтожимая, неизгладимая улыбка. Все ее тело постепенно претворялось в улыбку, и в тот день, когда она окончательно станет всего лишь бесформенным камнем, наполовину вросшим в землю, окруженным зарослями папоротников, каменная ее материя по-прежнему будет лучиться светом этой улыбки.
Прокоп склонился над Кающейся с лицом прокаженной, озаренным счастливой улыбкой. Блестела вода, оставшаяся после дождя в складках ее платья. Паук соткал паутину между ее коленями. Божья коровка ползла по ее обнаженному плечу. На лбу чуть подрагивал дубовый листок, прозрачная тень берез слегка приглушала свет, падающий на ее тело. Прокоп присел у нее в головах и любовался ее улыбкой. Даже под покрывалом Целомудрия не могло быть лица прекрасней, чем у этой Кающейся, позабывшей о своих грехах, чтобы всецело погрузиться в мысли о новой пожирающей ее любви. Святая Мария Магдалина распростерлась у ног Прокопа, приглашая его к размышлению о тайне прощения.
Но мысли Прокопа внезапно отклонились в сторону. Глядя на эту женщину, лежащую на земле в лесу, он вдруг вспомнил Роману. Ее точно так же нашли лежащую и уже окостеневшую в лесу Дикой Шарки. Вот только лицо ее не озаряла улыбка. На платье были пятна супа, на лице замерзшие слезы. Она умерла в пустыне любви, не обретя утешения.
Десять лет прошло с тех пор, как случилась эта трагедия. Но чем дальше мертвые удаляются во времени, тем жесточе ощущается их возвращение, когда они неожиданно приходят и стучат в память живых своими пальцами, сотканными из тумана.
Нет, Роману унесла не блаженная смерть и даже не горестная, а плачевная.
Однажды вечером, когда она готовила картофельный суп и именно так, как любил Марек, ее словно бы пронзила уверенность, что он, ее муж, никогда уже не вернется к ней и что ее любовь не более чем пепел, развеянный ветром забвения и равнодушия. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он оставил Роману, но какая-то внутренняя убежденность заставляла ее надеяться, верить в возвращение блудного супруга. Она глотала слезы, глушила стыд, страдания. Она ждала. Любовь, которую она хранила в себе, оставалась настолько сильной, настолько нежной даже в горе, что Марек просто не мог долго пребывать вне этого пространства света; еще немного, и он должен возвратиться к этому сиянию. Ведь они же дали друг другу обет быть вместе навсегда. И она верила в это. Но внезапно иллюзия развеялась, обман, преисполненный обветшалого романтизма и поразительной наивности, сам разоблачил себя, и надежда вдруг без криков и громких слов рассыпалась прахом в кухне перед плитой, на которой томился суп, так вкусно пахнувший тмином, чесноком и поджаренным на масле луком. Да, да, теперь ему была не нужна она вместе со своим супом и своей любовью стареющей весталки. Марек ушел к другой, он бросил жену, как ненужный хлам, и думал о ней не больше, чем о паре стоптанных и давно немодных башмаков.
И тогда ее переполнило отчаяние брошенного ребенка, маленького ребенка, забытого на огромном безлюдном пустыре. Она не раздумывала; от охватившего ее отчаяния у нее помрачился рассудок. Схватив горячую супницу и даже не погасив ни газ, ни свет в кухне, она вышла. Одной рукой открыла дверь квартиры, придерживая другой прижатую к бедру супницу, и спустилась по лестнице. На ней было только серое платье в бирюзовую полоску да домашние тапочки на босу ногу. Когда она вышла из дома, ее окутал холод. Было морозно.
Она шла по улице куда глаза глядят, прижимая к животу супницу. Супница жгла живот, но она не обращала на это внимания. Холод и жар сталкивались в ее плоти. Струйки пара вырывались из-под крышки такими же белыми, как ее дыхание, клубами.
Она прошла через весь безлюдный город. Под ее шагами легонько поскрипывал снег, покрывавший тротуары. Время от времени все тело ее вздрагивало от судорожных рыданий, суп выплескивался на платье, по щекам ползли черные потеки туши. Она плакала, подвывая, глотая слезы, от которых трескались губы. Сквозь это подвывание глухо, неявно прорывалось имя Марека, заполнявшее ей рот и горло, и она пережевывала свой плач, у которого был вкус тины.
Так она дошла до леса. Углубилась в него. Поднимаясь по склону, поскользнулась, упала, потеряла один тапок, крышку от супницы. Половина супа вылилась. Но она встала и продолжала идти, все так же вцепившись обеими руками в супницу. А когда упала во второй раз, уже не поднялась. Нашли ее на третий день. Супница была полна снега, глаза у Романы были широко открыты, а подошва босой ноги ободрана до крови, словно на ней был отпечаток ее сердца.
_____
Прокоп гладил каменное лицо, словно бы с опозданием в десять лет утирая слезы сестры. И впервые ужас смерти отдался в нем не плотской и даже не сердечной болью, а какой-то душевной мукой и ощущением ответственности за всех, кого отняла трагическая смерть. Ведь те, кого нам дано было любить, в какой бы форме ни проявлялась любовь, навсегда остаются с нами.
Когда же Прокоп наконец встал, то чуть подальше увидел Олинку, прижавшуюся спиной к фреске, изображающей видение святого Губерта. Филипп обнимал ее, и они самозабвенно целовались на фоне огромного колена святого.
5
Три следующие ночи подряд Прокопу снился один и тот же сон. Он был не способен объяснить этот поразительный феномен, который впоследствии не давал ему покоя.
Происходило это во сне, но не по законам сновидения, динамика которого разворачивает сеть более или менее связанных между собой образов, почерпнутых из реальности или из памяти. Этот же феномен не относился к разряду образов — он воспринимался кожей и плотью; корнями уходил в сверхреальность и тем самым обращался к абсолютной, всеобщей памяти. То был одновременно телесный и умственный опыт, но без участия какого-либо галлюциногена. Прокоп не производил никаких приуготовлений для подобного путешествия за пределы себя, никаких, если таковыми не считать чуть более пятидесяти лет земной жизни и с годами все учащавшихся и удлинявшихся блужданий по внутренним своим просторам.
Прокоп спал в своей постели, но ощущал, что летает во дворе над самыми деревьями. Летит медлительным тяжелым полетом в прохладной сентябрьской ночи. Вытянувшись и прижав руки к телу, он бесшумно парил спиной к небу и лицом к земле. Глаза у него были открыты, и он в темноте различал кусты шиповника, листву сирени и яблонь, находившиеся ниже крон буков, ясеней и берез. Он даже заметил кошку, кравшуюся в зарослях папоротника. Все было одинакового антрацитово-черного цвета. Грузные серо-синие облака заволакивали луну в последней четверти, и она едва просвечивала сквозь них. Он задевал верхушки деревьев, влажность листвы проникала ему сквозь кожу, листья источали сильный, чуть терпковатый аромат, шершавая кора ветвей царапала лицо, руки.
В ту ночь более ничего не происходило, только этот замедленный полет между растущими под его окнами деревьями. Проснувшись утром, он знал: это не сон. Он действительно летал во дворе. Он еще ощущал в себе запах и влажность листвы, шершавую ласковость коры. Его кожа, все его органы чувств свидетельствовали о реальности этого феномена. Безмолвное это свидетельство исходило от всего тела и выражалось неопровержимым языком ощущений. Прокоп просто не мог сомневаться в произошедшем, материальность которого все еще продолжала оставаться такой осязаемой, хотя ничего не понимал. Впрочем, в тот день он и не пытался ничего объяснять; все его внимание было сосредоточено на еще живших в его эпидерме ощущениях, потому что тем самым он старался сохранить их как можно дольше. Физическое впечатление было настолько сильным, что Прокоп ни о чем другом просто не думал, он пытался исследовать глубину их проникновения в его плоть. А когда вечером он ложился спать, то и думать не думал, что чудо это может повториться. Однако оно повторилось.
В какой-то неопределимый, как и вчера, час спящий Прокоп опять летал. Вполне возможно, происходило это в последние секунды перед рассветом. Его тело, вытянувшееся точно так же, как в прошлую ночь, касалось верхушек деревьев. Однако физическое ощущение на этот раз было куда интенсивней; оно, казалось, удесятерилось, как будто листья и кора проникали ему под кожу. Окруженный темнотой, Прокоп проплывал между ветвями в шелестящей тишине ночи.
Субстанция ночи смешивалась с его плотью, текстура тишины переплеталась с его венами и мускулами, сок деревьев просачивался к нему в кровь, сердце отиралось о ветки. И его наполнял страх, поднявшийся из глубины веков, пришедший с самых пределов земли. Этот страх был бесконечно огромней, чем все прочие, которые когда-либо испытывал Прокоп, он перерастал и его личность, и его судьбу, переливался через край. Обретал планетарные размеры.
Прокопа заполняла самая острая, самая трагическая боль истории. Рана первородного греха отдавалась в его потрясенном разуме множеством отголосков. И однако же все его существо испытывало самую свирепую боль не от прегрешения Адама, но от грехов Каина, Понтия Пилата, Иуды, а еще от преступлений одного народа против другого, человека против человека, брата против брата.
Полет Прокопа становился все грузней, все тяжеловесней, а главное, ограниченней в пространстве; он, можно сказать, завис над большой липой, чья крона частично накрывала ветви искривленной яблони, под которыми росли маленькие деревца, крапива, сорные травы. Под этим переплетением крон и ветвей сумрак был по-особенному плотен.
Прокоп ощущал чье-то присутствие там, в этом сгущении сумрака. Он опустился бы, исследовал бы эти заросли, но ему не дано было ни подняться, ни снизиться: не он управлял полетом. Бремя накопленных за тысячелетия грехов удерживало его в состоянии какой-то странной невесомости, которая, казалось, опровергала собственные законы: Прокоп парил над неким мощным и все более усиливающимся центром гравитации.
Ветер тоже стал сильнее, и скоро заморосил мелкий холодный дождик. А Прокоп продолжал висеть в своем космическом одиночестве на уровне крон, листья несильно хлестали его по лицу и телу.
Проснулся он поздно и чувствовал себя закоченевшим и измотанным. Он провел рукой по лицу, пытаясь понять, что за капли на нем — пота, следствия тяжелого сна, или ночного дождя. Но у него не было времени размышлять над тем, что с ним происходило ночью: он торопился в редакцию, где было назначено совещание, а он и так уже опаздывал. Весь день оказался занят мелкими делами, рутинными обязанностями, встречами, но Прокопу удавалось удерживать где-то на периферии сознания то грандиозное волнение, которое он испытал ночью. Однако, вернувшись домой, он уже не смог сдерживать переполнявшее его беспокойство. Две ночи подряд некая сила вырывала его из собственного тела и подводила к самой границе ужаснейшей из тайн, к рубежу великого забвения, окружающего сознание. Внеличностная память трепетала в нем, и в трепете этом ужаса было не меньше, чем жажды познания. Его насильственно вбросили в средоточие некоего спектакля, где слились привычное и сверхъестественное. Смысл и причины этого причудливого спектакля оставались непостижимыми для него, однако Прокоп предощущал, что постепенно спектакль этот мало-помалу подведет его к конкретному, зримому, осязаемому аспекту главнейшей, важнейшей драмы. Драмы греховного и грешащего человечества. Вот только он не очень понимал, жаждет он или боится возврата в лоно этого театра теней.
Но кем был он сам в этой драме? Жалким актеришкой среди миллиардов других. Ничуть не большим и не меньшим, чем Лир, его шут, Эдмонд, Гонерилья или Регана, поскольку грех не делает различия между высоким и низким. Алоис умер, ослепленный жестокой тьмой, которую несет в себе великое; Романа умерла, сломленная ложью, что затаилась рядышком с великим. У обоих сердца были слишком привержены к абсолютному, и оба они верили, что красота, спасение заключены в игре, в искусстве, в любви людей друг к другу. Однако подлинная жизнь шла где-то в стороне и совсем по-другому. То была драма вне меры, вне текста. «Свое ничто дарю во мраке». После этого все слова тщетны.
_____
Прокоп постарался лечь спать как можно позже, ничего не ожидая — в ожидании невозможного. Он погрузился в глубокий сон. Под конец ночи феномен опять повторился. Его тело в состоянии невесомости снова медленно кружило вокруг старой липы. Сохнувшее на одном из балконов белье легонько хлопало на ветру. На сей раз он куда лучше различал краски, которые темнота делала более насыщенными, — последние ярко-красные сентябрьские цветы шиповника на углу молельного дома-склада, бледно-матовое серебро его оцинкованной крыши, темную охру фасадов и гранатовую черепицу крыш домов, все подчерненные оттенки лиственной зелени, чуть приглушенную ослепительную белизну берез, буро-красные пятна яблок-паданцев в черноватой траве. И еще он видел изнутри свое собственное тело — цвета обсидиана. А в другом конце двора чуть светила лампочка в подъезде, блеклый соломенно-желтый ореол рассеивал слабый свой свет по куску стены да двум-трем деревьям.
Но главное, его глаза нащупали некий сгусток тьмы под липой. И теперь Прокоп уже чувствовал, знал, что кто-то там есть, кто-то сидит на корточках среди кустов. Он угадывал его тело из мглы, слез и скального праха, все в пятнах заскорузлой крови, но что важнее, угадывал его неподвижный взгляд, устремленный в густой мрак. Взгляд, который был не способен ничего различить, заживить, осветить; глаза, навсегда лишенные покоя и света, обреченные на вечное бодрствование в самом одиноком из одиночеств. Глаза человека, уже много веков назад изгнанного на долгие тысячелетия в безлюбовную пустыню.
Прокоп не мог спуститься с высоты к этому человеку, замкнувшемуся в безмолвной тоске, не мог приблизиться к нему и рассмотреть его. Человека этого, пришедшего из каких-то незапамятных времен, он видел в определенном смысле косвенно — благодаря пористости своего второго тела, которое изошло из его плотского тела, лежащего в замкнутой комнате; только благодаря бесконечной чувствительности текучего этого тела Прокоп ощущал его присутствие под липой. И было совершенно невыносимо чувствовать безмерную, всеобъемлющую скорбь этого актера, поверженного в человеческой — божеской — трагедии.
Кто он был? Каин, Пилат или сам Иуда? Брат, позавидовавший и ставший убийцей, трус, чьи руки навсегда заледенели от чистой воды омовения, которая вечно слепит его, свидетельствуя о его малодушии, или предатель с губами, болезненно кровоточащими после изменнического поцелуя?
Отчаяние этого человека, на которого не распространяется Божественное милосердие, достигало Прокопа, наполняло его сознание, и валы беспамятности, безразличия, невнимательности, которые доселе надежно защищали его, безмолвно рушились. Он чувствовал, как его пронизывает холод, исходящий от этого человека с плотью, изъязвленной угрызениями, которые точили его сердце. Прокопу хотелось знать, хотя бы знать, какие тот совершил гибельные преступления против любви к ближнему и любви к Богу. Прокоп старался, старался как мог приблизиться к нему, напрягал все силы, пытаясь прорваться через столб воздуха, снизиться до уровня кустов, однако ему не удавалось сделать ни единого движения, тело его оставалось недвижным, вися во влажном, теплом воздухе среди ветвей. Его нематериальное тело пребывало в ловушке ночи, меж тем как тот, другой, что находился внизу, вечно и неизбывно терзался от ужаса своего вопиющего и неискупимого греха.
Прокоп хотел хотя бы окликнуть его, позвать, спросить имя этого человека, которого даже смерть отвергла и который не находит иного места, где избывать свою вечную бессонницу, кроме неизведанного пространства сознания живых. Однако он был лишен не только способности двигаться, но и голоса.
И тем не менее этот неведомый, этот странник, что блуждает по пограничью людской памяти — кем бы он ни был, Каином, Пилатом или Искариотом, — ждал всего лишь жеста, взгляда, слова, чтобы освободиться от проклятия, которым он сам обременил свою душу. Но какой человек, живущий на этой земле, несет в себе столько любви, чтобы избавить от мук проклятого за непрощаемый грех?
Ни у кого нет такой власти, и все же никто не вправе оставаться к нему равнодушным, пройти мимо его страданий.
Чем упорнее Прокоп пытался преодолеть расстояние, отделяющее его от падшего — падшего тысячекрат ниже даже Преисподней, тем больше убеждался в тщетности своих стараний и тем острее чувствовал, как в нем прорастает слово, которое единственно может быть применено к этому неприкасаемому: брат.
Что, милый друг, с тобой? Озяб, бедняжка? Озяб и я…Но тот, проклятый, не знал о его попытках. А даже если бы он в конце концов и смог уловить зов, который обращал к нему Прокоп, то прежде чем обратить свое лицо или протянуть руку брату по скорби, брату по любви и глубокому сочувствию, он ответил бы, как Лир Глостеру: «Вытру сначала. У нее трупный запах»[21].
От лица, руки, сердца, сознания неприкасаемого, притаившегося в кустах под липой, так трагически несло смертью, что становилось ясно: причина тому непролитая кровь брата. От удрученной души его шел запах кровавого пота и слез Господа.
Ни Иуде, ни Пилату не избавиться от этого смрада предательства, смрада трусости, приставших навечно к их душам. Ни Иуде, ни Пилату не протянуть руки, чтобы от нее не несло самым страшным, самым трагическим трупным запахом. Они ждут конца времен. И в душах тех живых, по дальним окраинам чьего сознания они однажды пройдут, навсегда запечатлится взгляд, обращенный к горизонту памяти, которого они никогда не смогут не только достичь, но даже различить. Весь остаток своих дней живые эти будут бессильны избавиться от чувства, что и они не чужды трусости и предательству и могли бы свершить предательское деяние, обрекшее на вечное проклятие двоих этих людей — их братьев по вине и по мучительной каре. И с горизонта, что встает на самых пределах их памяти, будет сочиться темный отсвет, придающий горький привкус их поступкам, мыслям, словам — но более всего тому, о чем они умалчивают. Потому что отныне им ведомо: они несут в себе преступление, которое могли бы совершить, и причастны как к страданиям жертвы, так и к мукам виновных в преступлении; и еще им ведомо, что они тоже тяжко виновны — в недостатке доброты, понимания и участливости в любви. В неумении сказать слово, услышать, в неверности ближним, каждому, Духу.
Нематериальное тело Прокопа, зависшее среди ветвей старой липы, превратилось в зеркало цвета обсидиана, которое все сильней и сильней раскалялось и в то же время искажало изображение; отражавшаяся в нем мука грешника не только жгла, но и обретала совершенно невообразимые размеры.
Когда Прокоп пробудился в своей постели, тайна прошедших ночей замкнулась в себе, не раскрыв своего секрета. Напрасно ночь за ночью ждал он продолжения полетов своего бесплотного тела вокруг старой липы, ждал, что загадка разрешится — ничего больше не происходило. Нередко он подолгу сидел у окна, опершись локтями на подоконник и глядя на листву деревьев. Он думал о пане Славике и его собаке: Пес несомненно учуял бы сидевшего под липой и дал бы знать хозяину, а тот, может, сумел бы дознаться, кто этот человек. Но Пес был давно мертв, Славик исчез, а неизвестный пришелец, проведший подряд три ночи во дворе, продолжил свое странствие, унеся с собой тысячелетнюю муку. Двор дышал скучной пустотой, и ночь больше не увлекала в полет. На балконах, висящих в пустыне ночи, белели простыни, рубашки, пеленки, подобные флагам, возвещающим о поражении и покорности. Фасады домов с черными прямоугольниками окон замыкали двор своими охристыми безмолвными стенами; эти прямоугольники были похожи на вертикально поставленные могильные плиты. Иногда какая-нибудь из этих плит на секунду освещалась, в эфемерном свете возникал силуэт и тут же исчезал, и тьма вновь заполняла могилу. Кто, интересно, вырвал из сна спящего, вдруг ощутившего потребность в свете, — Иуда или Пилат? И почувствовал ли этот проснувшийся, отхлебнув воды из стакана, привкус слез и кровавого пота?
Но, поистине, кто суть мертвые, а кто живые? Прокопу случалось усомниться в том, что он в полной мере живой, во всецелом своем присутствии в этом мире. А также и в отсутствии в нем умерших. В иные мгновения он чувствовал себя перебежчиком, скитающимся между тем и этим станом, но нигде не находящим себе места. К тому же он не обладал чутьем и искусностью Следопыта.
Настала зима. Декорации сцены, при которой Прокопу трижды довелось присутствовать — и даже участвовать в ней, правда, так ничего и не поняв в выпавшей ему в этой драме роли, — были разобраны. Во дворе не осталось ни единого листка, ни единой травинки. Одни лишь нагие стволы и ветви, голая черная земля, а вместо птичьего пения картавое карканье ворон. На обледенелой земле, под сбросившими листву липой и корявой яблоней не видно было никаких следов.
След остался в глубине его мыслей. Время от времени Прокоп неуверенными шажками бродил вокруг. Смутный страх удерживал его, не давая углубиться в безграничные пространства, которые он предощущал за пределами сознания. Он чувствовал, что если однажды безрассудно зайдет слишком далеко, то вернуться уже никогда не сможет. И потому топтался у порога.
6
Однажды ранним утром Прокопа разбудил телефонный звонок. Звонили из психиатрической клиники, куда только что привезли его дочь. Ничего серьезного, сказали ему, просто нервный криз, который мог бы иметь фатальные последствия, если бы не своевременное вмешательство; короче, успокоили его, худшее уже позади. Прокоп ничего не понял, но поскольку он был склонен считать, что худшее это, как правило, то, что еще не сказало последнего слова, то схватил такси и помчался в клинику, где ему дали понять, что приехал он крайне некстати и вообще здесь не нужен. Пустили его к Олинке всего на несколько минут. Она спала, погруженная в благодетельный химический сон. Крашенные хной волосы прилипли к вискам и ко лбу. Она была мертвенно-бледная, на руках и ладонях повязки, лицо в порезах. Под глазами огромные фиолетовые круги. Прокоп склонился над дочкой и постарался хотя бы привести в порядок ее оранжевые волосы, раз уж не мог проделать то же со своими мыслями. Он стал искать Филиппа, но ему сказали, что никакого молодого человека не видели. В клинику позвонили соседи. Прокоп нашел в сумке Олинки ключи от ее квартиры и отправился в Браник.
В мастерской был полный разгром: все перевернуто, часть стекол разбита, а главное, уничтожены все цветы. По всему полу валялись отрубленные ножом листья, даже кактусы были раскромсаны на части. Прокоп ошеломленно оглядывал этот погром, мысленно задаваясь вопросом, что за бандит мог устроить его. В дверь, которую он оставил открытой, постучали. То была соседка, маленькая пухлая старушка, пришедшая узнать новости. Следом явилась вторая соседка, жирная матрона лет сорока с багровой физиономией, облаченная в ярко-розовый шуршащий халат. Прокоп поинтересовался, кто это все натворил.
— Да сама ж и натворила, — сообщила матрона. — Постаралась от души, ничего не скажешь. Крушила все подряд, а уж орала при этом благим матом!
— Ой, да, — подтвердила старушечка, складывая лапки перед грудью. — Бедняжечка так кричала…
— Но почему? — спросил совсем уже сбитый с толку Прокоп. — А ее друга, что, не было здесь?
— А чего ему тут было делать, если он ее бросил?! — объявила толстуха. — Потому-то она и сошла с тормозов. Он вежливенько ей сообщил, что больше не любит ее и уходит к другой, после чего тут же отвалил. Нормальный ход, в жизни всегда так! Не в обиду вам будь сказано, все мужики одинаковы. Но дочечка ваша жизни еще не нюхала. Вот и разволновалась.
— Бедные цветочки… — жалобно причитала старушка, бросая вокруг сокрушенные взгляды. — Она их так любила! Ведь она всегда, когда уезжала на несколько дней, просила меня поливать их. Как она могла?
Старушечка говорила об Олинке как о покойнице.
— Чего о цветах горевать, — заявила матрона, — всегда можно завести новые, как и мужика. Да вы не беспокойтесь, дочечка ваша еще молодая, у нее все будет хорошо.
Прокоп не знал, кому из них он с большим удовольствием влепил бы оплеуху. Однако он взял себя в руки, поблагодарил соседок, вежливо выпроводил их, потом подмел пол, собрав все обломки и осколки, расставил по местам книги и немногие уцелевшие вещи. Но тут же спохватился: Олинка не должна возвращаться сюда, после выхода из больницы она будет жить у него. Потому он стал паковать ее вещи в мешки и некоторые из них взял с собой. Придя домой, он сразу же позвонил в больницу: Олинка все еще спала. Потом он позвонил Магде, сообщил, что произошло. Она никак не прокомментировала сообщение, только объявила, что сейчас же выезжает в Прагу, чтобы повидать дочь, и повесила трубку.
На следующий день Магда была в Праге. Прокоп встретился с ней в палате, где лежала Олинка. Они не виделись уже много лет. Магда почти не изменилась, осталась такой же красивой, но едва уловимое выражение горечи ожесточило ее черты.
Олинка уже не спала. Вела она себя спокойно. Чувствовалось, она устала и вымотана. А главное, переполнена горем. Когда с ней заговаривали, она отворачивала лицо и молча плакала. Перевязанные пальцы безостановочно теребили край одеяла. Она попросила пить, и это были единственные слова, которые она произнесла. Она все время чувствовала жажду. Прокопу припомнилось, как она рассказывала ему про жажду, какую испытывают растения, про то, что, когда им не дают пить, они страдают, как люди; припомнилось, как она все это говорила, какие странные слова порой выбирала, чтобы все это объяснить, и какая у нее была интонация. Рассказывая, она ведь имела в виду совсем другую жажду — жажду безмерности, мечту о вечности, зарождение и развитие которой она, видимо, смутно ощущал в себе. И вот ее жажду утолили отравой.
Магда, когда они прощались в холле клиники, сообщила Прокопу о своем решении забрать Олинку, как только та встанет на ноги, и увезти к себе в провинцию. О том, чтобы Олинка в ближайшее время поселилась у него, и речи быть не может. Он, который пятнадцать лет назад бросил ее и Магду так же грубо, безжалостно и равнодушно, как это сделал сейчас Филипп, просто не имеет права заниматься девочкой в этот тяжелейший для нее период. По его милости она, Магда, тоже претерпела все те ужасные страдания, какие терзают сейчас Олинку. Она ничего не забыла и ничего не простила. Да, конечно, она заново выстроила свою жизнь, но на развалинах, на душевных развалинах.
Все это Магда говорила, не глядя на него, каким-то глухим, почти бесцветным голосом. На виске у нее просвечивала синяя-синяя жилка. Несколько минут назад Прокоп заметил точно такую же жилку на виске Олинки и еще заметил, что у нее точно так же подрагивают ноздри. Страдание и гнев одинаково проявлялись в телесном облике матери и дочери. Обманутая любовь породила и эту холодную синеву, и чуть заметное подрагивание ноздрей, которые постепенно ожесточали их красоту. И еще Прокоп отметил, что Магда, говоря об Олинке, ни разу не произнесла «наша дочь», а только «моя» или просто «девочка», словно его супружеская измена раз и навсегда лишила его и отцовских прав, и даже права называться отцом. Ушла Магда не попрощавшись.
Домой Прокоп возвращался пешком, у него была потребность пройтись. Во время монолога Магды он не проронил ни слова. Понимал, что ему нечего сказать в свою защиту. Правда, в ту пору, когда он покинул Магду, он не особенно задумывался, как его уход подействует на нее, он думал только о Марии. В счет шла только она. Страсть все оправдывала, все искупала. Страдания Магды были делом как бы второстепенным. Улыбка одной так замечательно скрывала слезы другой. А потом настал и его черед: от него ушла Мария. Он прошел через долгое чистилище, когда периоды отчаяния следовали друг за другом, чистилище, преисполненное болью, причиненной ближним, притом что этот ближний наслаждался новым счастьем совсем рядом, в пределах досягаемости. Однако горе, испытанное Прокопом, ни в коей мере не снимало с него давней вины перед Магдой. Вина не имеет срока давности, если по-прежнему длится страдание, ею порожденное.
Прокоп шагал, и с ним следовали четыре женских имени, которые непрестанно сталкивались у него в мыслях, пересекались, сливались друг с другом. Магда, Мария, Романа, Олинка… Ему так не хотелось, чтобы горечь изменила красоту Олинки, чтобы разочарование ожесточило ее взгляд, а еще больше он боялся, что она поддастся соблазну отчаяния. Магда передала в наследство Олинке сине-лиловые — цвета безвременника — чернила своей крови, которыми в конце концов в плоть девочки впишется скрежещущая зубами ненависть. Но случается наследство куда более незаметное, потаенное, которое передается по боковой линии, вне прямой связи матери и дочери; бывают побочные матери и сестры, вливающие, сами того не ведая, белые чернила в тела некоторых своих родственников. И, возможно, горестная смерть Романы отзывается в Олинке белесым шелестом палимпсеста.
До вечера Прокоп ходил по улицам. Несколько раз заглядывал в кафе, выпил несчетное количество рюмок водки. И даже когда настала ночь, он не мог заставить себя лечь спать. Что-то продолжало в нем бродить. Он сел за стол и начал писать. Ему необходимо было поговорить с дочерью, а через нее обратиться к бывшей своей жене, но главное — к сестре. А может, и к себе самому. Прокоп не знал, о чем он будет рассказывать. Он на секунду прикрыл глаза в поисках первого, начального слова. Из хаоса языка вынырнуло слово «дорога» и привлекло его внимание. Этого оказалось достаточно. Возможно, то вздрогнуло и проявилось воспоминание о лежащей рядом с тропинкой Марии Магдалине. Однако Прокоп был не в состоянии уточнять воспоминания; слова всплывали с легким, смутным шелестом и сочетались друг с другом. Начав со слова «дорога», он сочинял на ходу сказку для Олинки.
7
«Это была узкая проселочная дорога. Она вилась по равнине вдали от крупных городов. Ее окаймляли поросшие кустарником откосы, тополя, березы, скалы. А на одном из поворотов высился каменный крест на замшелом постаменте. Но потом она потихоньку затерялась в пыли, среди зарослей колючей ежевики. Истомленная безмерно долгим своим путем, она в конце концов растворилась в скошенной траве и россыпях камней, точь-в-точь как изглаживаются умершие, которых ночь земли призвала приобщиться к великому таинству исчезновения.
Ведь дороги тоже обладают жизнью, у них, как у людей, есть своя история и своя судьба. И точно так же, как люди, однажды они умирают.
История их связана с историей людей, которые прошли по ним, с историей всех, кто оставил на них свои следы. И у них есть сердце, и сердце это бьется в такт шагам тех, кто идет по ним. Смерть настигает их, когда они становятся безлюдными, когда никто не заботится о них; их сердце смолкает, когда смолкают шаги.
У дорог есть также душа, и они обладают голосом. Тоненьким таким голоском, но он вдруг звучит, начинает петь на крайнем пределе тишины.
Голос дороги поет о любви, о бедах и радостях всех, кто проходил по ней, память о ком она хранит в себе.
А память дороги неизменная и глубокая, как века.
И вот однажды дорога пропела свою песню девушке. Шаг этой девушки был таким легким, таким нежным, что мог растрогать даже землю и гравий, по которым она ступала.
Девушку звали Люлла. У нее были белокурые волосы с золотистым отливом и карие, чуть миндалевидные глаза.
Люлла шла без всякой цели. Нестерпимое горе выгнало ее посреди ночи из родного дома.
Люлла полюбила, но тот, кого любила она, ее не любил. Впервые изведала она эту боль, когда сердце не получает ответа на свои зовы и не обретает утешения в слезах.
Она шла куда глаза глядят и заблудилась в предутреннем тумане. Однако назад не повернула, а продолжала идти по дороге.
И ей было все равно, куда она придет. Для нее весь мир был пустыней. Она любила, но ее не любили. Ей необходим был простор, бескрайний простор и тишина, чтобы постараться утишить долгий стон, звучавший в ее сердце. Ей необходимо было уйти далеко-далеко, как можно дальше. Вот так однажды она оказалась на проселочной дороге, по которой давным-давно никто уже не ходил.
Когда дорога почувствовала, что по ней ступает девушка, ее старое сердце из земли и земного праха вздрогнуло, а девушка продолжала идти по ней, и постепенно уснувшая память дороги начала оживать. Ее голос, давно умолкший, вновь зазвучал в тишине тихим шорохом трав на откосе.
Сперва Люлла ничего не слышала, она вся замкнулась в своей печали. Но дорога запела чуть звучней. Люлла было подумала, что причина этих торжественных и медленных звуков — ветер. Но никакого ветра не было.
Песня сопутствовала Люлле, она звучала у нее под ногами, и Люлла понемногу стала забывать о своем горе, она осматривалась вокруг, пытаясь понять, что могло быть источником этого дивного, прекрасного голоса.
Как только дорога почувствовала, что девушка обратила внимание на ее песню, она окружила своим голосом ее тело, обвила грудь и шею, и пение растекалось по девичьей коже. Напевные слова понемножку стали раскрываться Люлле.
То были простые, ничем не примечательные обыденные слова, которые дорога многие годы подбирала у всех тех, кто когда-либо проходил по ней. Однако дорога в глубине своих долгих лет, в глубине земли, из которой она состояла, в глубине бескрайнего неба над собой, в глубине дней и ночей нашла для них бесконечно торжественное и ласковое звучание.
„Слушай, девушка, — шептал Люлле голос, — слушай песню старой полевой дороги. Напряги слух, напряги сердце, потому что я — дорога, которая многое помнит. Я пою рядом с тобой, я пою у тебя в ушах, я пою в тебе, в твоей плоти, в твоей крови, у тебя под кожей. Дай мне проникнуть даже в твое дыхание.
Слушай, девушка, идущая, не зная куда, я расскажу тебе, как беспредельна равнина и как глубока порой бывает скорбь деревьев и скал, которые не способны постичь ее безмерность. Ведь они недвижны, навсегда прикованы к темноте земной своими длинными корнями или огромной своей тяжестью.
Я расскажу тебе о страшных муках деревьев, чьи корни питают их и одновременно лишают свободы. Чем глубже они разрастаются, чем гуще они, тем больше приносят сока, дающего деревьям силу и рост. И тем крепче связывают могучее дерево. Они не дают ему сделать даже самый малюсенький шажок.
Дерево ощущает раскинувшееся вокруг пространство, оно тянет свои ветви, чтобы коснуться его, призывает ветер унести его в манящие дали, но ветер лишь поиграет с ним, растреплет его крону, унесет с собой несколько листьев, но тут же бросит их.
Дерево изо всех сил растет, старается вырасти как можно выше, протягивает свои ветви к небу, по которому проплывают легкие облака, вечные странники. Тянется к небу, в котором кружат птицы, с которого льется свет, где сверкают звезды. Но улететь оно не способно. И его ветви наливаются тяжестью от усталости, искривляются, сплетаются, молча приникают друг к другу, потому что испытывают потребность в дружеском прикосновении, в ласке.
Слушай, девушка, чье сердце исполнено горя, я расскажу тебе о бедах деревьев. Им точно так же, как людям и животным, ведомы жажда, усталость и голод, холод тоже им ведом. Им часто случается бесконечно долго дожидаться дождя, который утолит их жажду, омоет от горькой пыли, смягчит боль ожогов. Ведь они же не могут отправиться на поиски воды. Я видела агонию деревьев, умирающих в засуху или в морозы, от которых трескается их кора. Видела, как деревья сопротивляются порывам неистового ветра или свирепым струям дождя в грозу. Они гнутся, скрипят, стонут, дрожат, но держатся. Ураган обрывает у них листья, ломает ветки.
Я видела и деревья, поверженные грозой. Точно вне себя от скорби, они словно бы поднимаются над землей, машут в воздухе пылающими ветвями, и это похоже на тщетные и бессильные взмахи крыльев, которые лишь ускоряют их падение. Они рушатся наземь, и древесная их плоть становится угольно-черной.
Но и умирают они с достоинством.
Однако деревья, даже мертвые, продолжают ждать. Они ждут возвращения птиц, потому что птичьи песни запечатлелись в волокнах древесной их плоти. Все деревья, и те, что стоят, живые, и те, что сломленные лежат на земле, ждут возвращения птиц, в чьих песнях красота земли, вкус неба, запах ветра, сиянье дня и отзвук дальних далей.
Слушай, девушка, чье сердце замкнулось для красоты мира, я расскажу тебе про великое счастье деревьев. Я сообщу тебе тайну их безмерного счастья, которое ничто не способно убить, ни долгое испытание жаждой, ни медленная агония от стужи или урагана, от огня или топора.
Тайна эта проста. Она струится их соком, зеленеет листвой, трепещет в их плоти, как пение птиц, с которым она так схожа.
Эта молчаливая древесная тайна называется терпение.
Присмотрись, девушка, пытающаяся убежать от своего горя, хорошенько присмотрись к терпению деревьев. Оно так безмерно, это — смирение. Они со всем смирились. Смирились с навязанной им недвижностью и с одиночеством, на которое они обречены. Тщетно они тянут ветви, им не дано достичь ни горизонта, замкнувшегося вокруг них, ни небосвода, краски которого все время меняются, ни других деревьев, растущих вокруг. Разве что иногда им удастся коснуться друг друга кончиками ветвей. Однако им навеки отказано в счастье объятий, когда забываешь себя, сливаясь с телом другого. Питаются они светом, дождями и росой, и нет у них иного голоса, чтобы высказать свои жалобы, желания и мечты, кроме того, который лишь иногда дарит им ветер, когда треплет их листву.
Все приходит к ним извне, из дальних далей, куда они не могут уйти. Нет у них ничего своего, кроме терпения. И они не сохраняют ничего из того, что получают. Удерживаемые на месте силой земли, без всякой надежды на освобождение, сами они ничего не удерживают для себя. На них распускаются благоуханные цветы, но цветы эти увядают и опадают, и на их месте созревают плоды, которые прилетают клевать перелетные птицы. Они раздают ветрам, пчелам, птицам и прочим тварям все, что долго зарождалось и производилось в них. Они предлагают приют любому животному, которое ищет укрытия. Отдают все, вплоть до тени. Просторной голубоватой тени, что трепещет на земле, узниками которой являются деревья.
Однако нет в них ни ожесточенности, ни горечи. Свои горести они высказывают тонким ароматом, тихим шелестом. Детей в их бесстрашных снах деревья возносят на вершины своих зеленых растительных грез, баюкают их в своих ветвях, учат смотреть на землю новыми глазами и ласковым сердцем. Учат смотреть на небо огромными, широко раскрытыми глазами и хрустально-прозрачной душой.
Смотри, девушка, на терпение деревьев, которые стоят, протягивая ветви, как протягивают руки нищие, и ждут, когда им будет дано все, что им потребно. Они, как последние бедняки, ждут, чтобы потом тем, что получили, щедро одарить других.
Подними, девушка, глаза с покрасневшими от слез веками, учись видеть по-новому, смотри на терпение деревьев, на то, как бессонно, с утренней до вечерней зари и с вечерней до утренней, они воздевают свои ветви, подобно рукам молящихся.
Перейми же это терпение, потому что они могут даровать и его. Прими его, оно само смирение, кротость и щедрость. Оно — чистая любовь с узловатыми, изуродованными страданием корнями. Оно — молитва.
Слушай, девушка, плачущая, оттого что нелюбима, я расскажу тебе, сколь велико одиночество каменного креста, который высится невдалеке. Он заброшен, никто за ним не следит.
Никто не приносит к нему цветов, никто не преклоняет перед ним колени. Но и никто не клянет. А когда-то путники преклоняли перед ним колени, осеняли себя крестным знамением, хотя бывали и такие, которые бросали проклятие и плевали на его цоколь.
Молитвы и богохульства давно уже смолкли. Но я их не забыла. Я знаю, что каждая молитва, обращенная перед каменным крестом к Богу, была услышана и принята. Каждая молитва, будь то просьба или жалоба, превращалась в тихий ропот, который камень вбирал в себя, во вздох, который испускало тело Распятого на кресте, и зернистый гранит становился тогда подобен коже человека. И еще я знаю, что каждый плевок причинял Ему боль, как причиняет боль удар, предательство брата, отречение сына от отца, отцовское проклятие. И я видела, как на камне выступал кровавый пот.
Слушай, девушка, плачущая от неразделенной любви, я расскажу тебе про борьбу, которую вынужден был непрестанно вести этот крест. Ветер, дожди, мороз разъедали камень, в него вгрызался лишайник, плевки грязнили его. Но он по-прежнему стоял прямо, и тело на кресте, обнаженное до последнего предела наготы, все так же раскрывало объятия. Его стойкость беспредельна. Но и уязвимость безмерна. Он сопротивляется молча, не поддаваясь никаким соблазнам.
Существует множество соблазнов для тех, чья любовь уязвлена. Гордыня предлагает свое надменное величие и холодную заносчивость. Ненависть, дрожа от злобы, ярости, жажды мести, предлагает свое сверкающее оружие. Забывчивость старается обольстить хитростями и уловками, чтобы навязать свое пресное и вялое небытие. А еще поблизости кружит отчаяние, говорящее „нет“ всему, кроме смерти, сулящей утешение. Но крест непреклонен.
Слушай, девушка, я расскажу тебе, как в некоторые весенние ночи соблазны набирают силы и терзают крест. Черное небо в такие ночи тяжело нависает над землей. Равнину объемлет пронзительная тишина. Крест переполняется страданием; камень внезапно чувствует боль тела, подвергнутого бичеванию, ужас плоти, в которую вбивают гвозди. Камень ощущает невыносимый страх, какой испытывает покинутое, отвергнутое сердце, какой охватывает душу перед начинающейся агонией. Соблазны подступают к нему, вьются, как огоньки, вокруг его ран, сливают свое шипение с его страхом.
Камень стонет, истекает слезами и потом, которые перемешиваются друг с другом, и постепенно белеет. Белизна превращается в прозрачность. Крест становится стеклянным, и чернота ночи сверкает сквозь него грозовой молнией. Потом высверк этот становится свинцово-серым, и крест превращается в спекшийся сгусток золы, соли и плевков. Он победил соблазны. Дошел до предела отречения и смирения.
И вот тогда на безмолвной равнине появилась женщина, пришедшая неведомо откуда, и была она в ту холодную ночь босая. Она подбежала к кресту, обняла его, вырвала из цоколя. Все движения ее были точны и четки, хотя и поспешны. Она села на цоколь, положила крест к себе на колени и, напевая, стала убаюкивать его. Рукой она утерла слезы и кровь, что еще сочились из камня, омыла его своим пением. Песня ее стала саваном, ладони — плащаницей, на которой сердце креста оставило неизгладимый отпечаток.
Женщина эта не видела и не слышала соблазнов, подстерегавших и ее. Она склонилась над израненным, окровавленным телом и баюкала его, как новорожденного младенца. Пение ее терялось в ночи, слезы звенели в пустоте, ладони раскрывались небу. Ночь накрыла землю.
Слушай, девушка, пожелавшая умереть, потому что тот, кого ты любишь, не любит тебя, слушай самую чистую и самую безыскусную песню, которой та женщина убаюкивала своего сына, преданного смерти. И знай, что, оцепенев от холода и горя, она будет сидеть в преддверии ада и баюкать его, пока не наступит конец света.
Услышь последний крик ее сына, который любил как никто другой и который умер в полном одиночестве. И знай, что он будет любить, пока не настанет конец света, и никогда не поддастся обольщениям соблазнов.
И знай, что он, казненный, и в преддверии ада будет полон любви, покуда не настанет конец света.
Иди, девушка, иди до самого конца твоего горя, и на своем пути напевай вполголоса, чтобы отогнать гордыню и ненависть, которые, рыча, крадутся за тобой. Иди и пой, но только не оборачивайся назад, чтобы не попасть в сети отчаяния, притаившегося в твоих следах.
Иди, неся свое горе на руках, как больного ребенка, которого бьет лихорадка. Иди, покуда тебе достанет сил. Сделай остановку лишь перед крестом, который нагой стоит вон там. Сложи на миг бремя твоей уязвленной любви к подножью этого креста, и этот миг станет вечностью. Потом продолжи путь и напевай все ту же песню. Ту, что я нашептываю тебе на твоем пути, простенькую песню, которую я пою тебе на ухо.
Горе твое пройдет не сразу и не вдруг, ведь несостоявшаяся любовь, которую ты оплакиваешь, не придет к тебе, однако оно изменится и понемножку будет становиться все легче и легче. Так будет продолжаться долго, очень долго, но деревья помогут тебе, наделив своим терпением, и река, и камни, и кусты, и птицы, и запахи земли — все помогут тебе со смирением, но и с безмерной добротой. А я, старая дорога, затерявшаяся в безбрежности равнины, отдаю тебе свою песню и буду помогать тебе идти“».
Прокоп отложил ручку. Все это он написал не отрываясь, одним духом, но порыв его внезапно угас. Он писал, объятый сильным беспокойством, подхваченный каким-то неясным круговращением образов и звуков, и вдруг наткнулся на последний рубеж слов. Чистая страница предстала перед ним вертикальной стеной молчания.
Что, в сущности, он написал? Ничего, что могло бы утешить Олинку, вернуть ей вкус к жизни. Нескольких этих страничек совершенно недостаточно, чтобы победить соблазн отчаяния, что недавно вкрался к ней. Надо было поискать другие слова — точнее, действенней. Но ему не удалось, да и вряд ли могло бы удасться. Как перевести на людской язык неизреченную песню земли? Как записать черным по белому невероятное молчание Бога? Как это сделать, как решиться на это?
Пустые руки Прокопа лежали на столе среди листков с записанными второпях фразами, которые теперь уже не имели никакого смысла. Написанное, сказанное никогда не могло и не сможет принести утешение в том, что противится выражению, ускользает за пределы слов, отказывается выявляться в знаках.
И тогда, впервые после ухода Марии, Прокоп заплакал. В безмолвии бессонной ночи, когда немотствуют слова, Прокоп рыдал, упав головой на пустые ладони, его слезы капали на страницы, и чернила расплывались. Сказка для Олинки пошла серыми туманными пятнами, и песня дороги сплывала с бумаги.
Через открытое окно в комнату втекал тонкий, сладкий аромат цветущей липы, усиливая пресный запах слез, пятнавших лицо и руки Прокопа.
Там, на террасе замка Кукс, Горестная смерть неощутимо подрагивала, словно огромный черный конь, предчувствующий приближение новых всадников, а в Вифлеемском лесу упавший на колени святой Губерт со стыдом опустил голову, глядя на свое колено, которое болело от бесконечно разных людских поцелуев. А в глубине леса Дикой Шарки мшистая земля источала талый снег той давней зимы. Прокоп уже не понимал, куда направить свои мысли, разум его метался блуждающим огоньком в темной чаще памяти, натыкаясь на воспоминания и образы, которые тревога за Олинку оживляла, превращая в роковых призраков.
8
Олинка уже больше месяца жила у матери. Прокоп звонил Магде, спрашивал, какие новости. Магда на его вопросы отвечала крайне лаконично. Говорила, что Олинка не хочет разговаривать с ним. Прокоп посылал дочке открытки, короткие письма, книги, журналы. Но ответов не получал. Олинка не хотела писать, утратила интерес к чтению. «Но это пройдет, пройдет, — холодным тоном повторяла Магда. — В конце концов все войдет в норму, пусть время делает свое дело, и девочка успокоится». Жизнь Олинки уже на двадцатом году слилась с неисповедимым будущим.
Прокоп был весь в трудах. Работал он все больше и больше, выходил из дому все реже, кроме основной работы, он писал статьи, переводил с английского и немецкого, чтобы свести концы с концами. Квартплата росла как на дрожжах, цены летели вверх.
Деревья были в полном цвету, во дворе опять звенели птичьи песни. Прокопу этого было вполне достаточно; несмотря ни на что, утонувшая в слезах песня старой дороги тихо звучала в его сердце.
Однажды вечером Прокоп слушал по радио запись «Страстей по Иоанну». Правда, не очень внимательно, вполуха, копаясь в словарях, так как он делал срочный перевод, который должен был завтра сдать. Но вскоре музыка Баха захватила его. Нет, слушал он ее не так, как, скажем, на концерте, однако всякий раз, когда запевал хор, он настораживался и прислушивался внимательней. Во время речитативов певцы четко артикулировали текст, а инструменты мягко подчеркивали пение; когда же вступал хор, музыка и голос взлетали с таким живым пылом, так стремительно, что казалось, пульсирует все пространство.
Вскоре Прокоп ощущал этот феномен пульсации и в ариях с хоралом, даже если он развивался гораздо медлительней. Потом эти сверкающие вспышки отзвуков захватили пространство целиком — и пространство его тела, и все вокруг. И в какой-то миг пространство его души.
Da capo[22]. Мелодии повторялись снова и снова с самого начала с какими-то потрясающими столкновениями, резонансами, завихрениями и после окончания концерта. Сильнейшая зыбь пульсаций распространялась в ночном безмолвии, смешивалась с нежными запахами земли и листвы, вливавшимися через открытое окошко в комнату, разрасталась в теле Прокопа, вызывая ликование, доводя до головокружения. «Herr, unser Herrscher…»[23]
Эти биения становились настолько мощными, что Прокоп чувствовал, как постепенно в нем рушатся все границы. Тело его раскрывалось, разверзалось, и разум его зиял, как бездна, наполненная мраком.
«Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allem Landen herrlich ist!..»[24]
Но что за шаги звучат в его сердце, наполняют его сознание?
Бесконечным эхом отзываются они в нем. Ритм их стремителен, но звучат они замогильно, хоть и оглушительно.
Чьи ноги наполняют ночь напряженной пульсацией, а плоть Прокопа безмерным ужасом?
Они пляшут, не останавливаясь пляшут.
Это танец в аду.
Da capo. Прокопу было трудно дышать. «Herr, unser Herrscher…» Ему не хватало дыхания следовать за барабанным ритмом, сотрясавшим ночь — недра ночи вне времени и пространства, где сонмы душ пребывают в тревоге вечной бессонницы, на которую каждая из них была осуждена по собственной вине, ибо отказалась ответить на любовь в земной жизни.
Все они, когда были живы, безоговорочно сказали Духу высокомерное «нет». Они отрицали Дух, выкорчевывали из своего сознания таинство любви. Они надменно смеялись над словами жалости, милосердия и сочувствия — постыдными, отвратительными словами, которые в ходу лишь у жалких, слабых, побежденных. Они самонадеянно отстаивали свое право на небытие и день за днем, позволяя себе самые низкие поступки и мысли, беззаботно и без малейших угрызений совести прибегая ко лжи, клевете, неправедным обвинениям, подготавливали вхождение в это безболезненное ничто. Но когда пришла смерть, она привела их совсем не в то небытие, на которое они надеялись и во имя которого считали, что им все дозволено, — они оказались в безлюбовной пустыне. Ибо нет иного ада; и в этой пустыне еще звучат шаги Христа, сошедшего туда к навечно проклятым, чтобы найти их и вызволить от мук. Но тщетно; даже Христос не сумел освободить их от незримых цепей, в которые они добровольно себя заковали. Отверженные вечно влачат в себе приговор, который вынесли себе сами. Они сами себе и судьи, и неподкупные свидетели, доказывающие собственную вину. Невозможно ничего изменить в том, что содеяла их свободная воля. Даже Бог не может этого, и именно во имя той абсолютной свободы, которой Он сам их наделил. Христос без конца ходит вокруг их пустыни не в силах туда вступить. При жизни эти существа отвергали Его любовь с таким неистовым презрением, что даже после их смерти Его бесконечная доброта не может излиться на них. Они слышат отзвук шагов блуждающей этой любви, ощущают прикосновение ее раскаленного дыхания на границах своего одиночества, но не могут позволить ей приблизиться. Стыд, неверие и нежелание давать бесконечно кипят в них, превращая их в вечных неприкасаемых. И в конце концов в муках они научаются любить и быть любимыми, что лишь усугубляет их отчаяние.
Da capo. «Herr, unser Herrscher…» Христос в синкопированном ритме обегает эту недосягаемую безлюбовную пустыню душ, оцепеневших от ужаса перед самими собой. «Wohin? Wohin?..»[25] Души слышат дробь этих шагов, устремленных к ним, но души немотствуют. «Wohin? Wohin?..» Красота этих шагов, исполненных безумного милосердия, что кружат там, рукой подать, нигде и всюду в безмерности тьмы, лишь обостряет их мучения. Шаги, выплясывающие сочувствие, выплясывающие прощение, выплясывающие совершенную и всеобъемлющую любовь. «Wohin? Wohin?..» Но у поверженных душ нет сил последовать за ними, и они по-прежнему удручены отвращением к себе.
Прокоп дышал в ритме, что выбивали стопы бессильного Искупителя, под которыми мир то прогибался, то выпрямлялся. Дыхание всех тех, кто некогда изощрялся в оскорблении и унижении любви, кто не умел просить о сострадании, отказывая в нем другим, разрастающимися волнами наполняло его грудь. Прокопу так хотелось дать им свой голос, крикнуть за них, воззвать: «Господи, они здесь, прости их, даруй им наконец утешение!»
Господи, они там. Aber wohin? Wohin? Никто не может сказать, где расположена безлюбовная пустыня.
Прокоп закричал бы, но голоса не было, однако, даже если бы он и смог крикнуть, слова его рассыпались бы прахом от пульсации этого мучительного бега по кругу.
«Herr, unser Herrscher…» Он бежит, Господь, бьет стопами со следами гвоздей по трепещущему молчанию преисподней, чтобы оно уступило. Но молчание преисподней не сдается, до бесконечности повторяя эхо шагов милосердия и немой ужас душ, которые сами обрекли себя вечному проклятию. Шаги эти отдавались в сердце Прокопа, которое страдало оттого, что чувствовало и умоляющий гнет израненных стоп Христа, и отчаяние отверженных душ.
Zerflisse, Mein Herze, in Fluten den Zähren Dem Huchsten zu Ehren[26].Нет, Прокоп был всего лишь человеком, и слезы призывал он не столько во славу Всевышнего, сколько из сочувствия к мукам падших в самую бездну бездн без надежды на прощение. Призывал слезы, которые приходят, когда отступают слова, когда разум ужасается настолько, что может перейти за установленные ему пределы, а сознание скорбит, обнаружив, сколь мало в нем доброты. Слезы, которые рождаются в глубочайшей сердечной глубине и наполняют взгляд, даже не пролившись, — невидимые слезы.
«Восплачь, мое сердце, потоками слез и молчания…» Сердце Прокопа плакало, источая кровь, что сочилась из израненных, прободенных гвоздями стоп Христа, плакало, источая молчание, исходившее из безлюбовной пустыни, где искупали свой грех обреченные вечному проклятию. Плакало той самой кровью и тем молчанием, которым никогда не суждено соединиться.
Папки и словари грудой лежали на столе; тщетность слов гнела сознание Прокопа, опустошенное, уязвленное вечными муками проклятых. «Господи, сжалься…» Однако Господь, танцевавший в преисподней, явил жалость, дав пролить свою кровь, явил ее тысячекрат трагичнее, чем наивный Прокоп. И тем не менее Прокоп все повторял и повторял безмолвную свою молитву. Человек, чье присутствие он чувствовал осенью под сенью старой липы, вошел в его душу, и не имело значения, кто это был — Каин, Пилат, Искариот или любой другой предавший любовь. Человек этот превратился в несметные полчища, и полчища эти из бездн души Прокопа обращали к его сознанию взгляды, исполненные невыносимой мукой.
О, кто, после того как увидел хотя бы на мгновение этот взгляд низверженных, взгляд, полный ужаса, осмелился бы возжелать спасения лишь для себя одного? Ибо жажда помочь проклятым без надежд на прощение тут же затмевает все прочие мысли. А может затмить и разум.
Все погрузилось в безмолвие. Листва старой липы закаменела в сердце Прокопа, а ледяная ее тень после той ночи стала сгущаться, постепенно становясь монолитной. Еще не зная того, Прокоп только что вступил на дорогу изгнания в неумолимое одиночество отрекшихся от Бога.
НИЧТО
1
Цветок раскрылся. Но что же это был за цветок? Он еще не успел расцвести, а шипы, которыми ощетинился стебель, уже язвили его лепестки. Едва поднявшись к свету, он сразу же стал клониться к земле. И аромат, который он источал, был горьким, почти едким.
При первом же порыве налетевшего невесть откуда ветра он осыпался. Его оголившееся цветоложе засыхало на земле.
Но ведь и это могло нести в себе обетование нового цветения.
Жизнь Прокопа шла, минуя все виды будущего времени — простое будущее, будущее предшествующее, неопределенное будущее. Он жил в абсолютном будущем, а это значит в самом сгущенном и зачастую бесцветном настоящем.
Летом Ольбрам приехал в Прагу. Мальчик так вырос и изменился, что Прокоп с трудом узнал его, а главное, никак не мог свыкнуться с этой метаморфозой. Ольбрам стал похож на побег бамбука, у него начали пробиваться усы и ломаться голос. И ему было скучно. Он скучал демонстративно, с каким-то мрачным наслаждением. Игра в лошадки, в морской бой, фокусы утратили для него всякую притягательность. Ольбрам не находил больше удовольствия ни в чтении, ни в рисовании, не мечтал ни о полной приключений профессии моряка, ни о том, чтобы стать фокусником; похоже, у него вообще не было потребности в мечтах. Нет, он отнюдь не радовал взгляд отца, скорей вынуждал его обескураженно опускать глаза.
Впрочем, говорил себе Прокоп, мальчик растет, меняется, надо, чтобы он прошел весь цикл линьки и чтобы время сделало свое дело, а там посмотрим, тем более что и сам Прокоп, насколько он себя помнил, в этом возрасте был точно таким же обормотом. Ему лишь хотелось больше заниматься сыном, как можно дольше бывать с ним, пусть даже для этого ему придется выдерживать некую новую дистанцию, чтобы не слишком давить на мальчика. Но их встречи ограничивались несколькими неделями в году, чего было явно недостаточно для подлинного восстановления отношений. Сына «пересадили» слишком далеко, а главное — слишком рано, на Запад, тогда как сам он слишком прирос корнями к Востоку, тем более что его собственное усталое тело и исполненный меланхолии разум уже клонились к закату.
Что же до Олинки, она тоже только что прошла линьку, правда, совсем иного свойства, после которой стала недоверчивой, даже подозрительной, а временами и раздражительной. Но и тут лучший лекарь время и особенно терпение.
Однако работа и вечная нехватка денег не давали роздыха, и Прокопу приходилось вкалывать в стремительном темпе и, что называется, не разгибая спины.
_____
Прокоп давно уже не позволял себе роскоши рассиживаться под сенью цветка преходящего времени. Впрочем, цветок так вспучился, что в конце концов растрескался, а потом осыпался, и теперь на его месте осталось лишь большое серое пятно.
Как-то вечером Прокоп в уборной копался в коробке с инструментами в поисках отвертки, и вдруг его объяла тьма. Во всем доме отключилось электричество. Прокоп застыл на месте и стал вертеть головой вправо-влево, словно авария пряталась где-то рядышком в темноте и дразнила его, крича: «Ку-ку, я здесь, найди меня!»
Вместо того чтобы спокойно поставить инструменты на полку и пройти в кухню поискать свечку, Прокоп уселся на крышку унитаза, держа коробку на коленях, и стал ждать, когда снова зажжется свет.
От ветра, время от времени задувавшего в открытое окно уборной, колокольчик, привязанный на бечевке для спуска воды, тихо позвякивал.
Прокоп сидел не шевелясь. Глаза его были открыты и устремлены в темноту. Он не грезил, не воображал себе никаких картин, даже ни о чем не думал. Он неподвижно сидел, вяло, безвольно положив руки на инструменты. Кожей он ощущал металлический холодок головки молотка. Он слушал ветер, тихий звон колокольчика. Иногда до него доносились вопли пани Слунечковой. Соседи высыпали на площадки и громогласно, словно внезапно наступившая тьма поразила их глухотой, осведомлялись друг у друга, что произошло. Прокоп слышал их возбужденные голоса, но они не затрагивали его, не вызывали никакой реакции. Он слушал только ветер, воспринимал лишь разрастающуюся в нем пустоту, каким-то образом связанную с холодком молотка. Время от времени в голове у него, в гигантской пустоте черепной коробки звякал колокольчик. Ничего не происходило.
Ничего никогда не происходило. Никогда. Все сомнения, которые так терзали его, все эти порой трагические тревоги, мысли о навечно проклятых, повергавшие его разум в ужас, а сердце в отчаяние, вдруг предстали ему лишенными всякого смысла и основания точно так же, как мимолетные мгновения радости и ослепляющей любви, что возвышали душу, стоило ему подумать о Боге. Что осталось от этой любви, которая в течение стольких лет не прекращала нарождаться в нем, представая с каждым разом еще свежей, еще жизнетворней и переполняя все его существо своими чудесами, но также и страхами? В один миг от нее не осталось ничего — меньше даже, чем от его земных Любовей и плотских страстей. Ничего, совершенно ничегошеньки. Не осталось даже ни грамма волнения.
Вера, что приходила к нему такими долгими, извилистыми путями, внезапно и неожиданно опала с его сердца, как мертвая кожа. А под ней не осталось даже шрама, какой оставляет исчезнувшая любовь — так, разве что мозоль. Имя Бога, слова «милосердие», «вечность», «спасение», «проклятие» ужались до своих скудных словарных значений. Никакого отзвука, никаких эмоций. В словах «дракон», «единорог», «сирена» или «философский камень» было даже больше реального содержания, они во всяком случае сохранили силу мечты. Еще немного, и Прокоп сказал бы себе: хватит шуток и сетований, пора вернуться к серьезным вещам. Но он был не в состоянии сформулировать даже обычную банальность, не говоря уже о чем-то другом. Да ему было бы крайне трудно определить, что означают эти самые серьезные вещи. Он был пуст, как пустая бутылка. Быть может, потому, что ажиотаж, вызванный реституцией недвижимого имущества, развернувшейся по всей стране, поразил, наподобие гангрены, и неосязаемые и незримые ценности. Счастливым временам ничтожной квартплаты пришел конец, владельцы получали назад свою собственность и тут же взвинчивали цены за жилье. Ну кто взялся бы в таких условиях за восстановление величия имени Божьего? Явно только какой-нибудь циничный и гениальный иллюзионист. Любовь показала себя весьма ненадежной ценностью, курс которой способен внезапно упасть до нуля, причем не только в плане человеческих отношений, но, что хуже, и в плане духовном.
Молчание преисподней, запиравшее рты проклятым, овладело душой Прокопа.
Загорелся свет. Прокоп заморгал глазами и вышел из оцепенения. Вставал он покряхтывая: в поясницу «вступило». Мало того что все было ничтожно, а Бог на поверку оказался не более чем воздушным шариком, который вдруг лопнул, так вдобавок еще этот чертов радикулит опять проявился. Прокоп припомнил, зачем он зашел сюда и что искал в коробке с инструментами — отвертку, чтобы прочистить радиаторы.
_____
Дни и недели скользили по поверхности предметов, по поверхности времени. Прокопу ничего больше не являлось, не поражало, не потрясало. Ни дневные грезы, ни ночные видения, ни доводящие до головокружения сомнения на крайнем подступе к тайне Бога. Приливы и отливы благодати прекратились. Сердце Прокопа застыло и душа закаменела, ибо Бог в них отсутствовал. Да нет, стократ хуже — не существовал. Полая бутыль, в которую превратилась голова Прокопа, звенела пустотой, и запах там стоял противный, затхлый.
Вотще, еще не до конца веря в пустоту, воцарившуюся в нем, а главное, бунтуя против ни с того ни с сего обрушившейся на него немилости, пытался он, несмотря ни на что, нащупать в себе что-то; ничего он не находил. Ничего, кроме бесчувственной мозоли на месте души.
Лица, что встречались ему на улице, отнюдь не были окружены ореолом и не открывали перед ним нежданных горизонтов, они были наглухо закрыты; лица и тела теперь были всего лишь тленной материей — кожей и жиром, мышечной тканью и нервами. Иногда бывали дни, когда лица прохожих, пассажиров в метро или трамваях превращались в кривляющиеся маски; особенно носы вызывали у него внезапный ужас — он видел в них только уродливые наросты на искаженных рожах, пригодные лишь для обоняния грязи и праха. В такие минуты он испытывал тошнотворную жалость к своим современникам и безмерное отвращение к себе.
В иные вечера он вдруг подходил к окну, глядел во двор, всматриваясь в бесформенную черную массу листвы. Он долго не отрывал взгляда от липы и в конце концов уже различал каждый сердцевидный гладкий листок с прожилками. И вопреки всем ожиданиям питал надежду, что множество этих зеленовато-бронзовых сердец, на которые время от времени падал свет из лестничных окон, подаст признаки жизни, что-то они шепнут. В нем жила и куда более безумная надежда на то, что однажды все эти листья вдруг встанут торчком, как вставали уши Пса, что среди ветвей задрожит улыбка. Он углублялся в темную память плоти, пытаясь воскресить ощущение тех полетов на уровне густой массы листвы, но чувствовал только унылую тяжесть собственного тела. Ничье присутствие не угадывалось под липой, с земли не возносился ничей зов, ничья мольба не доносилась из тьмы. Под деревом никого не было, земля и ночь были немы, небо горизонтально и плоско, а жизнь уныла. Прокопа уже не призывали к себе великолепие и ужасы Нездешнего. Теперь он был просто млекопитающим, пережевывающим жвачку пустоты и грузным шагом бредущим к естественному концу. И пустота эта была тем горше, что Прокоп брел совсем один; не было никого с ним рядом, и никто не присоединится к нему, чтобы разделить и скрасить одиночество. Впрочем, на шестом десятке Прокоп уже ничего не ждал и на новую любовь не надеялся. И, зная, что никто его не любит, он потихоньку стал считать себя человеком исключительно неинтересным и все больше в себе разочаровывался. Чувство любви к себе перешло в стадию досады. Он ощущал себя обманутым всеми и самим собой, горними и дольними сферами. Однако эта констатация преступления против любви не открыла в нем бездны вроде той, что выбила почву из-под ног Романы и Алоиса; ни бездонных провалов, ни вулканов — сплошное плоское пространство, со всех сторон окруженное скукой. На таком фоне другие люди казались всего лишь ковыляющими с достоинством марионетками.
В течение всего дня он обманывал скуку работой, ночью же слушал шорохи пустоты и в конце концов засыпал от усталости и отвращения. Бывали вечера, когда горечь одиночества становилась настолько острой, что у него появлялось ощущение, будто он вгрызается в смерть, пережевывает небытие.
2
Первого ноября Прокоп и Маркета ходили на кладбище Мальвазинки, где был похоронен Алоис. Небо висело молочно-белесое, а под ним, накрытые туманной дымкой, что плавала на уровне крыш, миражно дрожали городские здания. Старушки, нагруженные горшками с хризантемами и оцинкованными лейками, неспешно семенили по дорожкам между могилами. Маркета шла решительным шагом, высоко подняв голову и сунув руки в карманы. Что-то изменилось в ней, и это интриговало Прокопа, потому что он не мог точно определить, что именно — то ли преувеличенно прямая осанка, то ли твердость походки, а может, легкий тик, от которого чуть подергивались губы, отчего возникало ощущение, что она вот-вот что-то произнесет.
На могиле Алоиса не было никакой плиты, она представляла собой небольшой холмик, устланный еловыми лапами, с простым березовым крестом. Маркета достала из сумочки три плоских свечи в чашечках из красного стекла, зажгла их и расставила между еловыми лапами. Фитили еле слышно потрескивали, над ними трепетали бледные язычки пламени. Маркета держалась очень прямо, руки она опять засунула в карманы, а взгляд у нее был до того напряженный, застывший, что казался невидящим, верней, что-то напряженно высматривающим в колючем сплетении собственных дум.
Внезапно она резко развернулась и пошла обратно, Прокоп последовал за ней. Так же неожиданно она замедлила шаг, и Прокоп невольно обогнал ее. Они шли по узкой дорожке между могилами. Иные из них смахивали на миниатюрные садики, столько там было разных трав, декоративных растений, цветов, сосновых шишек, срезанных веток. Дрожащие язычки свечей, черно-белые или коричневатые портреты покойных в овальных рамках, их имена и эпитафии, высеченные на каменных крестах, — все обретало растительное обличье, становилось флорой слов, огоньков и лиц.
И вдруг Маркета заговорила — быстро, отрывисто, надтреснутым голосом. Она бросала слова в спину Прокопа, но обращалась вовсе не к нему, он был всего-навсего чем-то наподобие стены, отражающей эхо. Прокоп не оборачивался, даже не замедлил шаг, но, вместо того чтобы идти прямым путем к выходу, свернул в сторону, и они пошли по извилистым кладбищенским дорожкам.
Они долго бродили между рядами могил, он шел впереди, она за ним. Несколько раз прошли мимо стены колумбария и вокруг луга, на котором развеивают прах и где валялись несколько увядших гвоздик и веточки. Маркета глухим голосом продолжала свой монолог; она говорила об Алоисе и еще об их так и не родившемся ребенке, о собственном детстве, о своей бессердечной матери, ни разу не обнявшей, не поцеловавшей ее, о кукле, которую она назвала именем матери и с удовольствием угощала шлепками и пощечинами, о том, как она впервые влюбилась в шестнадцать лет, о том, как ей хотелось эмигрировать, но она так и не посмела осуществить эту мечту. Она шагала и говорила, говорила, словно в сомнамбулическом трансе, перескакивая с одного на другое. Слова ее, как град, стучали по спине Прокопа.
Начинало смеркаться. Молочный туман окутывал город; освещение на кладбище было немножко другой тональности, чем свет, сквозивший между стенами. Прокопа всегда удивляло, до чего непохожий бывает свет в разных частях города: в школьном дворе он совсем не такой, как на улице, на вокзальном перроне, в парках, на стадионах, на берегу реки, потому что отражают его не только земля, камни, металл, вода, стекла и растения, но и лица, руки, веки и губы людей. А еще на него действуют жесты, походка, звучание голосов, они усиливают или изменяют освещение. А еще, наверное, рассеивающиеся сны, сотканные живыми, и те, загадочные, сплетенные ушедшими с лица земли, создают амальгаму, чуть приглушающую атмосферу кладбища.
Смешение существования и несуществования, памяти и забвения, скорби, нежности, молчания, огоньков свечей и зелени сгущено в замкнутом кладбищенском пространстве, и непостижимая алхимия плоти, претворяющейся в деревья, в траву или разлетающейся над землею пеплом, ложится на воздух какой-то особенной амальгамой.
Быть может, это белая кора березового креста на могиле Алоиса, гравий дорожек, усеянная пеплом трава луга, где развеивают прах, или губы Маркеты так отражали свет и амальгамировали в тот день воздух на кладбище Мальвазинки?
Ведь свет — это всегда ветер, что хранит в себе обрывки ночи — бесконечной ночи, которая предшествовала ему и в безднах которой он зародился, того мрака, откуда он вырвался. Свет — это всегда диалог духа и материи, прикосновение незримого. Великая тайна.
Когда они вышли с кладбища, Маркета, казалось, забыла о своем недавнем бессвязном монологе; волна памяти, вызванная световым ветром, поднявшимся среди могил и берез Мальвазинок, похоже, спала в синеватых сумерках, затопляющих улицы. Прокоп проводил Маркету до ее дома, потом пошел к станции метро. Какие-то неуловимые фрагменты слов, что произносила Маркета, трепещущие огоньки свечей на могилах, лохмотья коры на березах и крупицы световой пыли перемалывались у него в мыслях, которые по-прежнему не способны были обрести былую значительность и творческий порыв. Разум Прокопа стал унылым пустырем, усеянным обрывками мыслей, осколками эмоций, клочьями чувств. И сам он был не очень уверен, что плотность его существования намного больше, чем у портретов покойных на надгробных памятниках.
3
Осенним вечером Прокоп ожидал в Страхове двадцать второй трамвай. Моросил дождик. Во влажной мгле горделиво вытягивали шеи статуи Тихо Браге и Кеплера. В отличие от них, Прокоп свою шею зябко втягивал в воротник куртки. Он перешел на другую сторону улицы и в ожидании бродил взад-вперед по тротуару. Прошел мимо обоих астрономов, навечно застывших в созерцании хода планет, и остановился перед гостиницей «Савой». Здание сносили, от него остался только фасад, окна которого слепо глядели в пустоту; в их проемах поблескивали капли дождя. У Прокопа столько воспоминаний было связано с этим заведением. Было это еще во времена Марии. Он задумался, куда подевались духи-хранители этого места, после того как разворотили их обиталище; может, залегли в землю под новый фундамент, а может, бежали в пока еще девственные, нетронутые места, подальше от людей, разоривших дом, которому они дарили благодетельную защиту? А возможно, лары гостиницы «Савой» укрылись неподалеку отсюда в Львином Рве и унесли с собой туда клочья воспоминаний, и, может, среди этих лохмотьев памяти сохранились фрагменты взгляда, улыбки, тела Марии. Духи-хранители мест, они ведь так же эфемерны, как блуждающие огоньки, как людские поцелуи; они как бледные язычки пламени, истаивающие в болотной тине, едва успев покружиться на солнце.
Прокоп вернулся к остановке. Раздалось железное дребезжание, свидетельствующее о приближении трамвая. Подъехавший «двадцать второй» шел в противоположную сторону. Почти пустые его вагоны со скрежетом влекли наполняющий их бледный свет сквозь туман. Трамвай остановился. Во втором вагоне, прислонясь к окну, стоял мужчина. Он был в темно-серой куртке и зеленой вельветовой кепке. И он играл на саксофоне. Верхняя часть его корпуса раскачивалась вместе с вагоном, между тем как голова чуть поднималась и опускалась в такт музыке, а пальцы быстро пробегали по клапанам инструмента. Прокоп стоял на тротуаре и смотрел сквозь стекло на саксофониста. Он узнал Виктора. Они не виделись уже года два. Виктор его не заметил, он играл, закрыв глаза.
Двери вагона раскрылись. Музыка выплеснулась на улицу, рассыпая в ночи звуки цвета червонного золота. На какое-то мгновение Прокоп замер, ошеломленный этим звучащим светом, который щедро изливало раскачивающееся тело Виктора. Ноты, как градины, звонко отскакивали от рельсов и асфальта.
Виктор дул в свой сакс, как в рог изобилия. Он черпал дыхание из глубин своего существа, своей души и тут же швырял его в разрастающуюся ночь, как пьяный старатель, разбрасывающий пригоршнями во все стороны золотой песок, который недавно добыл из земли. То была песнь ликующей плоти, то был вопль сердца, пронзенного мукой, зов вышедшей из берегов памяти, мелодия любви, разрывающейся между радостью и страданием. То было безмерное смятение желания, удрученного и в то же время восхищенного своей огромностью и силой, в мире, который вскоре придется покинуть.
Двери закрылись. Трамвай дернулся и, раскачиваясь, продолжил свой путь по маршруту к Белой Горе. Он повернул, и с ним вместе исчез силуэт Виктора, замкнутый в светлом пространстве трамвайного окна. Прокоп перешел улицу и встал на своей остановке. Ритм саксофона продолжал звучать вокруг него, выбивая движущиеся закорючки на зернистой шкуре тумана. Наконец из-за угла вывернул его трамвай, такой же пустой, как и тот, в котором ехал Виктор; только у этого стенки были разрисованы во славу «Кэмела» ультрамариновыми верблюдами на желто-оранжевом фоне. Двери на этот раз открылись с тем особенным звуком, какой издает старый одышливый аккордеон. Прокоп прошел в конец вагона и пристроился у окна. Пол подрагивал у него под ногами, вагон сильно раскачивался. Вагоновожатый весьма резко вел свой караван синих верблюдов. Мертвенный фасад гостиницы «Савой» тоже покачивался в ночи.
Лязг колес стал громче, когда трамвай заворачивал на улицу Кеплера; купа белых берез на миг вынырнула из тумана и тут же вновь погрузилась в свое пепельное чистилище. Прокоп безвольно отдавался качке вагона. Он смотрел, как проносятся мимо деревья, растущие вдоль Оленьего проспекта. Его взгляд выхватывал на мгновенье из темноты красно-коралловые гроздья рябины, серебристый трепет тополиной листвы, нежную зелень колючих каштанов на ветвях, которые ударяли по стеклам.
Ночь гналась по пятам за Прокопом, караван верблюдов на стенке вагона нахлестывали, погоняя, деревья, а он невидящим взглядом следил, как удлиняются борозды рельсов. Песня саксофона билась прибоем в его груди, наполняя клочьями рыжей пены изнуренный пустотой разум. И разум постепенно оживал.
Виктор, одиноко игравший в пустом вагоне, был воплощением абсолютной щедрости. Он ехал через весь город до самой окраины, даря свою песню всем, кто желал ее услышать, — прохожим, статуям, деревьям, звездам; в чистейшем порыве бескорыстия он отдавал всё, сам всецело отдаваясь музыке. Он рассеивал в ночи песнь всетворения — истинное Реченное о времени, которое уходит, даруя жизнь и движение, и все уносит с собой. И все это он выразил, не промолвив ни единого слова и не содрогаясь от безмолвных слез бессилия. Он вещал, как пророк, ниспосланный самой землей, от имени всех облеченных плотью и мучимых желанием, вещал устами живого существа, дыханием смертного.
Ежели Бог существует, кем бы Он ни был, да услышит Он эту песнь человека, славящего землю, выражающего свою любовь к сей юдоли, из которой он — и это ему известно — скоро уйдет. Да услышит Бог этот крик человека, не ведающего, слышит ли Он его.
Человека, который не знает, слышит ли его Бог и даже существует ли Он!
Но так ли уж это важно, слышит ли Бог крики человеческие, и так ли уж важно, есть Он или нет? При новом набеге прибоя, когда трамвай катил мимо решетки сада Бельведер, мысли Прокопа вдруг резко изменили направление. Все вопросы, что преследовали его, вопросы, которые он считал до того важными, что невозможность дать на них ответ наполняла его отчаянием, становившимся с каждым днем все мучительней, внезапно предстали перед ним пустыми и тщетными.
Трамвай катил вниз по извилистой Шотковой, спускаясь в город, крыши и купола которого жались друг к другу в лилово-сером тумане, как жмутся друг к другу люди, борясь с холодом, одиночеством, страхом темноты. Пустота, что с давних пор вгрызалась в Прокопа, замерла, но вовсе не для того, чтобы покинуть его, — совсем напротив, чтобы распространиться до бесконечности. И внезапно Прокоп безоговорочно смирился со всем — и с безмерной скудостью своей любви к людям и со стократ более острой бессмысленностью своего существования в отсутствие Бога.
Он одинок, и нет никакой защиты ни от времени, ни от вечности. Хорошенькая история! Но таков удел большинства подобных ему, так что нет никаких оснований скулить от отчаяния, а тем паче томиться от скуки. Тем не менее он будет продолжать жить — жить в незаметных, непрестанных заботах о других, живых и умерших. Как если бы Бог таился в тени каждого человека. И что из того, что в тени этой пусто и горизонт пустынен. Ведь все равно же каждый влечет за собой свою тень, и всюду, где бы он ни был, человек замкнут горизонтом. У него есть жизнь и жажда вечности, каждое мгновение выплескивающаяся из него и прорывающаяся в средоточие самых простых вещей. Этого достаточно. Вполне хватит. Пан Славик так жил уже давно, любовь ему заменило восторженное воспоминание об улыбке своей собаки.
Трамвай устремился под арки Летенской улицы. Прокоп пребывал в полном неведении, руки его были пусты, пусто сердце, и будущее тоже было пусто. Он спокойно поддался смиренной силе согласия с собственной унылой обездоленностью.
Трясясь, трамвай катился вдоль подножья Петржинских садов и понемножку наполнялся пассажирами. А по ту сторону холма на окраину ехал Виктор со своим пророчествующим саксофоном, ликующие вскрики которого громозвучно отдавались в бесконечности молчания Божьего. Праздничная эта музыка звучала контрапунктом дроби, которую выбивали прободенные стопы Христа, попирающего слякоть горьких слез тех, кто проклят навеки. Эта музыка звала живых пребывать на отведенном им месте — посреди прекрасного, посреди жестокого мира сего.
Живым не дано последовать в эту давильню слез за Учителем Света, тем единственным, который является также и Владыкою тьмы. За Учителем, просветленным чистейшим светом, босоногим Господом с ободранными пятками; Владыкой, поникшим у граничного рва своего собственного царства.
Ни у одного живого недостанет столько сочувствия, столько мудрости любви, чтобы сойти в ад таким вот танцующим шагом, шагом попирателя мрака, неистово молящего о любви. Ноги живых слишком тяжеловесны, слишком неуклюжи, чтобы выдерживать ритм подобной стремительной, отрывистой, пульсирующей мелодии. Только лишь гордыня, рвение болезненного тщеславия заставляет их верить, будто они способны на это. Ногам живых предопределено ступать по земле, по пыли, камням и колючкам да еще раздраженно топнуть в момент усталости и уныния, чтобы заставить себя поднять голову. Им, не способным ходить по воде, — впрочем, по облакам и по огню тоже, — еще трудней, да нет, невозможно было бы танцевать в аду. В большинстве своем они даже не умеют ходить прямыми путями, а уж тем более следовать друг за другом, и в то же время смеют полагать, что у них достаточно сил, чтобы сойти в бездны адовы и без конца бегать вокруг низвергнутых туда.
Живые способны иногда повернуть голову в сторону ада, на какое-то мгновение убедить себя, будто они бродят по его окраинам, и предощутить ужас душ, которые сами себя изгнали за пределы любви, но никогда не удастся им туда проникнуть и даже по-настоящему понять, что значит это трагическое безлюбие, ибо за время своего земного пути им даже не удается измерить всю огромность глагола «любить». Зато им дано принять в свои сердца тревогу за Каина, за Пилата, за Иуду и всех навеки осужденных грешников, согласиться на то, чтобы рухнули стены, окружающие их сознание, и широко распахнуть свои мысли ошеломляющему неизвестному, дать затрепетать в себе всей безграничной полноте неизвестного.
Принять, согласиться, смириться, услышать молчание и узреть незримое — вот наивысшие деяния, которые, напрягая внимание и сознание, должны совершить живые. Нужно отказаться от нетерпения, от желания получать знамения, от лихорадочной жажды обрести подтверждения. Существуют лишь неосязаемые следы, рассеянные там и тут, которые иногда, неожиданно, на малую долю мгновения являются нам. Следы столь же незаметные, сколь и тревожащие, никогда не дающие уверенности, но всегда дарящие удивление, грезы и ожидание.
Трамвай ехал по мосту Легионов, и отражения его огней дрожали в реке. Реальность и ее двойник составляли одно целое; реальность в складках своей разбухающей плоти хранит огромное множество двойников — теней, отражений, эхо и отголосков. Вполне возможно, она таит в себе и след Бога — некое лучистое зияние. Но так же возможно, что она ничего в себе не укрывает. Однако это было теперь совершенно неважно; Прокоп только что наконец отказался от всего, даже от уверенности, что Бог есть, и даже от страданий, которые причиняет неуверенность в том, что Он существует. Прокоп смирился с небытием Бога.
Он согласился с мыслью, что Бог всего лишь одна из многочисленных иллюзий, один из самых безумных миражей среди множества грез, желаний, которые приукрашивают мир и дают ему импульс к движению, полноту и дыхание. И однако иллюзия эта казалась ему самой обманчивой из всех. Но в таком случае стоит ли тревожиться, беситься или заранее впадать в отчаяние от того, что в день смерти иллюзия рассеется? Вопреки всему Прокоп в свой последний час скажет, что ничуть не сожалеет о том, что безмерно предавался восхитительной этой иллюзии, и нисколько не раскаивается в том, что позволял своим мыслям блуждать по великолепной ее пустыне.
Безмерность так стойко замкнута в нашей бренности, ее зыбь до того сильна и так пронзительны песни, поднимающиеся с ее рубежей, что нам приходится, хочешь не хочешь, освободить ей в себе какое-то место, уделить хоть немного внимания. Эта безмерность, которая стонет под гнетом лености нашего ума, скупости сердца, воет в тесноте нашей бренности, является, быть может, зовом к чему-то, что даже больше, чем она сама, приглашением к плаванию в бесконечность — в сторону вечности по-над мраком и тьмой. Вполне возможно. Но как бы там ни было, придет день, когда безмерность в нас обрубит швартовы и унесет нас с собою. И совсем неважно, каков будет пункт назначения — Бог или небытие; достаточно того, что швартовам суждено быть обрубленными.
Трамвай ехал уже по Народному проспекту. Прокоп плыл среди городского шума, среди певучих водоворотов реальности, и за кормой была ночь, а впереди по курсу — неведомое. Он не знал ничего, кроме того, что он — ничто. И дарил себя как ничто во тьме.
А трамвай трясся, скрежетал на поворотах, болтал во все стороны дремлющих пассажиров. На грязных стеклах поблескивали капли дождя. Испарения от влажных пальто и курток мешались с запахом пыли и ржавчины, наполнявшим вагон. Но даже этот пресновато-едкий запашок обычной городской жизни поражал Прокопа и заставлял настораживаться все его чувства. Он так остро ощущал обыденность привычных вещей, что испытывал восторг от самой этой обыденности. В каждой из них трепетала безмерность, даже в грязи на полу вагона. Прокоп всецело ощущал свое сродство с этим ребенком, у которого сумасбродная голова, непостоянное сердце и неуверенный шаг, — с человечеством, своим блудным братом.
Прокоп Поупа был пария. В прошлом преподаватель литературы, он был вынужден сменить род занятий.
Перед ним захлопнули все двери образовательных учреждений от университета до детских садов.
Но зато дважды распахивали двери тюрьмы…
Герои романа «Безмерность», стоящего особняком в творчестве Сильви Жермен, живут в постсоциалистической Праге. Однако читатель напрасно будет искать в нем конкретные описания недавних политических событий. Как и все произведения французской писательницы, эта книга посвящена прежде всего мучительным поискам Бога, которые наполнили смыслом жизнь главного героя — бывшего чешского диссидента Прокопа Поупы.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Соловей (чешск.).
(обратно)2
Солнышко (чешск.).
(обратно)3
Золотое перо (чешск.).
(обратно)4
Лары — древнеримские божества, покровители семьи и дома.
(обратно)5
Имеется в виду фрагмент из «Рассуждения о методе» (II), где Декарт пишет: «Я в одиночестве просиживал целые дни дома у печки, так что у меня был досуг предаваться своим мыслям».
(обратно)6
Пс. 129, 1.
(обратно)7
Перевод Л.П. Бельского.
(обратно)8
Настольная игра, в которой фишки выполнены в виде лошадок.
(обратно)9
Бедржих Бридель (1619–1680) — чешский религиозный поэт, миссионер, член ордена иезуитов. Здесь приведены фрагменты его большой поэмы «Кем есть Бог и кем человек» (1656–1660).
(обратно)10
Тератология (греч. teras — чудовище, урод) — раздел естественных наук, изучающий уродства в растительном и животном мире.
(обратно)11
Грабал Богумил (1914–2000) — чешский писатель, автор повестей и романов, которым присуща гротескность, насыщенность жаргоном; повесть «Поезда особого назначения» вышла в свет в 1965 г.
(обратно)12
Шекспир У. Король Лир, III, 2 (Пер. Б. Пастернака).
(обратно)13
Антифон — в католической литургии короткое песнопение, обрамляющее строки псалма.
(обратно)14
Святая Хильдегарда (ок. 1100–1178) — монахиня-бенедиктинка, настоятельница монастыря в Бингене (Германия), автор догматических и мистических сочинений, а также мистических стихов, написанных на латыни.
(обратно)15
Стриндберг Август Юхан (1849–1912) — шведский писатель, романист и драматург.
(обратно)16
Король Убю — герой одноименного сатирического фарса (1896) французского писателя Альфреда Жарри (1873–1907).
(обратно)17
Шекспир У. Король Лир, III, 2 (Пер. Б. Пастернака).
(обратно)18
Там же. Шекспир У. Король Лир, III, 2 (Пер. Б. Пастернака).
(обратно)19
Там же. Шекспир У. Король Лир, III, 2 (Пер. Б. Пастернака).
(обратно)20
Дворцовый комплекс в Южной Моравии, построенный в XVII в.
(обратно)21
Шекспир У. Король Лир, IV, 6 (Пер. Б. Пастернака).
(обратно)22
Музыкальный термин (итал., букв. от головы), обозначение в нотах (D. С.), предписывающее повторить пьесу с начала и до конца или от знака до знака.
(обратно)23
Господи Боже наш… (нем.).
(обратно)24
Господи Боже наш, слава Твоя всей земле воссияла!.. (нем.).
(обратно)25
Здесь: Где? (нем.).
(обратно)26
Восплачь, мое сердце, потоками слез
Во славу Всевышнего (нем.).
(обратно)
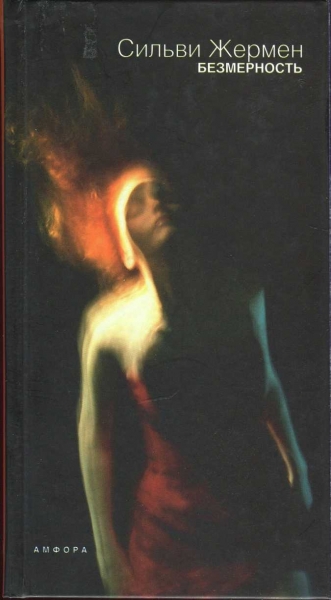



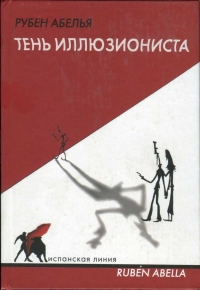
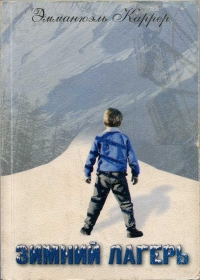
Комментарии к книге «Безмерность», Сильви Жермен
Всего 0 комментариев