Монтескье Шарль Луи Персидские письма
Предисловие
Я не предпосылаю этой книге посвящения и не прошу для нее покровительства: если она хороша, ее будут читать, а если плоха, то мне мало дела до того, что у нее не найдется читателей.
Я отобрал эти письма, чтобы испытать вкус публики: у меня в портфеле есть много и других, которые я мог бы предложить ей впоследствии.
Однако я это сделаю только при условии, что останусь неизвестным, а с той минуты, как мое имя откроется, я умолкну. Мне знакома одна женщина, которая отличается довольно твердой походкой, но хромает, как только на нее посмотрят. У самого произведения достаточно изъянов; зачем же предоставлять критике еще и недостатки собственной моей особы? Если узнают, кто я, станут говорить: «Книга не соответствует его характеру; ему следовало бы употреблять время на что-нибудь лучшее; это недостойно серьезного человека». Критики никогда не упускают случая высказать подобные соображения, потому что их можно высказывать, не напрягая ума.
Персияне, которыми написаны эти письма, жили в одном со мной доме; мы вместе проводили время. Они считали меня человеком другого мира и поэтому ничего от меня не скрывали. Действительно, люди, занесенные из такого далека, не могли уже иметь тайн. Они сообщали мне большую часть своих писем; я их списывал. Мне попалось даже несколько таких, с которыми персияне остереглись бы познакомить меня: до такой степени эти письма убийственны для персидского тщеславия и ревности.
Я исполняю, следовательно, только обязанности переводчика: все мои старания были направлены на то, чтобы приспособить это произведение к нашим нравам. Я по возможности облегчил читателям азиатский язык и избавил их от бесчисленных высокопарных выражений, которые до крайности наскучили бы им.
Но это еще не все, что я для них сделал. Я сократил пространные приветствия, на которые восточные люди тороваты не меньше нашего, и опустил бесконечное число мелочей, которым так трудно выдержать дневной свет и которым всегда следует оставаться личным делом двух друзей.
Если бы большинство тех, кто опубликовал собрания своих писем, поступило так же, то люди эти увидели бы, что от их произведения не осталось ничего.
Меня очень удивляло то обстоятельство, что эти персияне иной раз бывали осведомлены не меньше меня в нравах и обычаях нашего народа, вплоть до самых тонких обстоятельств, они подмечали такие вещи, которые — я уверен ускользнули от многих немцев, путешествовавших по Франции. Я приписываю это их долгому пребыванию у нас, не считая уж того, что азиату легче в один год усвоить нравы французов, чем французу в четыре года усвоить нравы азиатов, ибо одни настолько же откровенны, насколько другие замкнуты.
Обычай позволяет всякому переводчику и даже самому варварскому комментатору украшать начало своего перевода или толкования панегириком оригиналу: отметить его полезность, достоинства и превосходные качества. Я этого не сделал: о причинах легко догадаться. А самая уважительная из них та, что это было бы чем-то весьма скучным, помещенным в месте, уже самом по себе очень скучном: я хочу сказать — в предисловии.
ПИСЬМО I. Узбек к своему другу Рустану в Испагань
Мы пробыли в Коме{1} только один день. Помолившись у гробницы девы{2}, давшей миру двенадцать пророков, мы вновь пустились в путь и вчера, на двадцать пятый день после нашего отъезда из Испагани, прибыли в Тавриз{3}.
Мы с Рикой, пожалуй, первые из персиян, которые любознательности ради покинули отечество и, предавшись прилежным поискам мудрости, отказались от радостей безмятежной жизни.
Мы родились в цветущем царстве, но мы не верили, что его пределы в то же время пределы наших знаний и что свет Востока один только и должен нам светить.
Сообщи мне, что говорят о нашем путешествии; не льсти мне: я и не рассчитываю на общее одобрение. Посылай письма в Эрзерум{4}, где я пробуду некоторое время.
Прощай, любезный Рустан; будь уверен, что, в каком бы уголке света я ни очутился, я останусь твоим верным другом.
Из Тавриза, месяца Сафара{5} 15-го дня, 1711 годаПИСЬМО II. Узбек к главному черному евнуху в свой сераль в Испагани
Ты верный страж прекраснейших женщин Персии; тебе я доверил то, что у меня есть самого дорогого на свете; в твоих руках ключи от заветных дверей, которые отворяются только для меня. В то время как ты стережешь это бесконечно любезное моему сердцу сокровище, оно покоится и наслаждается полной безопасностью. Ты охраняешь его в ночной тиши и в дневной сутолоке; твои неустанные заботы поддерживают добродетель, когда она колеблется. Если бы женщины, которых ты стережешь, вздумали нарушить свои обязанности, ты бы отнял у них всякую надежду на это; ты бич порока и столп верности.
Ты повелеваешь ими и им повинуешься; ты слепо исполняешь все их желания и столь же беспрекословно подчиняешь их самих законам сераля. Ты гордишься возможностью оказывать им самые унизительные услуги; ты с почтением и страхом подчиняешься их законным распоряжениям; ты служишь им, как раб их рабов. Но когда возникают опасения, что могут пошатнуться законы стыда и скромности, власть возвращается к тебе и ты повелеваешь ими, словно я сам.
Помни всегда, из какого ничтожества — когда ты был последним из моих рабов — вывел я тебя, чтобы возвести на эту должность и доверить тебе усладу моего сердца. Соблюдай глубокое смирение перед теми, кто разделяет мою любовь, но в то же время давай им чувствовать их крайнюю зависимость. Доставляй им всевозможные невинные удовольствия; усыпляй их тревогу; забавляй их музыкой, плясками, восхитительными напитками; увещевай их почаще собираться вместе. Если они захотят поехать на дачу, можешь повезти их туда, но прикажи хватать всех мужчин, которые предстанут перед ними по пути. Призывай их к чистоплотности — этому образу душевной чистоты. Говори с ними иногда обо мне. Мне хотелось бы снова увидеть их в том очаровательном месте, которое они украшают собою. Прощай.
Из Тавриза, месяца Сафара 18-го дня, 1711 годаПИСЬМО III. Зашли к Узбеку в Тавриз
Мы приказали начальнику евнухов отвезти нас на дачу; он подтвердит тебе, что с нами не случилось никаких происшествий. Когда нам пришлось переправляться через реку и выйти из носилок, мы, по обычаю, пересели в ящики; двое рабов перенесли нас на плечах, и мы избегли чьих бы то ни было взоров.
Как могла бы я жить, дорогой Узбек, в твоем испаганском серале, в тех местах, которые, непрестанно вызывая в моей памяти прошедшие наслаждения, каждый день с новой силой возбуждали мои желания? Я бродила из покоя в покой, всюду ища тебя и нигде не находя, но всюду встречая жестокое воспоминание о прошлом счастье. То оказывалась я в горнице, где в первый раз в жизни приняла тебя в свои объятия, то в той, где ты решил жаркий спор, загоревшийся между твоими женами: каждая из нас притязала быть красивее других. Мы предстали пред тобой, надев все украшения и драгоценности, какие только могло придумать воображение. Ты с удовольствием взирал на чудеса нашего искусства; ты радовался, видя, как увлекает нас неуемное желание понравиться тебе. Но вскоре ты пожелал, чтобы эти заимствованные чары уступили место прелестям более естественным; ты разрушил все наше творение. Нам пришлось снять украшения, уже докучавшие тебе; пришлось предстать перед тобою в природной простоте. Я откинула всякую стыдливость: я думала только о своем торжестве. Счастливец Узбек! Сколько прелестей представилось твоим очам! Мы видели, как долго переходил ты от восторга к восторгу: твоя душа колебалась и долго ни на чем не могла остановиться; каждая новая прелесть требовала от тебя дани: в один миг мы все были покрыты твоими поцелуями; ты бросал любопытные взгляды на места самые сокровенные; ты заставлял нас принимать одно за другим тысячу различных положений; ты без конца отдавал новые распоряжения, и мы без конца повиновались. Признаюсь, Узбек: желание понравиться тебе подсказывалось мне страстью еще более живой, чем честолюбие. Я понимала, что незаметно становлюсь владычицей твоего сердца; ты завладел мною; ты меня покинул; ты вернулся ко мне, и я сумела тебя удержать: полное торжество выпало на мою долю, а уделом моих соперниц стало отчаяние. Нам с тобою показалось, что мы одни на свете; окружающее было недостойно занимать нас. О! Зачем небу не угодно было, чтобы мои соперницы нашли в себе мужество быть простыми свидетельницами пылких выражений любви, которые я получила от тебя! Если бы они видели изъявления моей страсти, они почувствовали бы разницу между их любовью и моей: они бы убедились, что если и могли соперничать со мною в прелестях, то никак не могли бы состязаться в чувствительности...
Но где я? Куда заводит меня этот напрасный рассказ? Вовсе не быть любимой — несчастье, но перестать ею быть — бесчестье. Ты покидаешь нас, Узбек, чтобы отправиться в странствие по варварским землям. Неужели ты ни во что не ставишь счастье быть любимым? Увы, ты даже не знаешь, что теряешь! Я испускаю вздохи, которые никто не слышит; слезы мои текут, а ты не радуешься им; кажется, сераль дышит одной только любовью, а твоя бесчувственность непрестанно удаляет тебя от него!
Ах, возлюбленный мой Узбек, если бы умел ты наслаждаться счастьем!
Из сераля Фатимы, месяца Махаррама{6} 21-го дня, 1711 годаПИСЬМО IV. Зефи к Узбеку в Эрзерум
В конце концов это черное чудовище решило довести меня до отчаяния. Он во что бы то ни стало хочет отнять у меня мою рабыню Зелиду, — Зелиду, которая служит мне так преданно, ловкие руки которой всюду вносят красоту и изящество. Мало того, что эта разлука огорчает меня: ему хочется еще и опозорить меня ею. Предатель считает преступными причины моего доверия к Зелиде; ему скучно за дверью, куда я его постоянно прогоняю, поэтому он смеет утверждать, будто слышал или видел такие вещи, которых я даже и вообразить не умею. Как я несчастна! Ни уединение, ни добродетель моя не могут меня уберечь от его нелепых подозрений; подлый раб преследует меня даже в твоем сердце, и даже там я вынуждена защищаться! Нет, я слишком уважаю себя, чтобы унизиться до оправданий: я не хочу другого поручителя за мое поведение, кроме тебя самого, кроме твоей любви, кроме любви моей и нужно ли говорить тебе об этом, дорогой Узбек, — кроме моих слез.
Из сераля Фатимы, месяца Махаррама 29-го дня, 1711 годаПИСЬМО V. Рустан к Узбеку в Эрзерум
Ты у всех на устах в Испагани: только и говорят, что о твоем отъезде. Одни приписывают его легкомыслию, другие — какому-то огорчению. Только друзья защищают тебя, но им не удается никого разубедить. Люди не могут понять, как решился ты покинуть своих жен, родных, друзей, отечество, чтобы отправиться в страны, не известные персиянам. Мать Рики безутешна; она требует у тебя своего сына, которого — по ее словам — ты у нее похитил. Что касается меня, дорогой Узбек, то я, разумеется, расположен одобрять все, что ты делаешь, но не могу простить тебе твоего отсутствия, и какие бы ты доводы мне ни представил, мое сердце никогда их не примет. Прощай; люби меня.
Из Испагани, месяца Ребиаба 1{7}, 28-го дня, 1711 годаПИСЬМО VI. Узбек к своему другу Нессиру в Испагань
На расстоянии одного дня пути от Испагани мы покинули пределы Персии и вступили в земли, подвластные туркам. Двенадцать дней спустя мы приехали в Эрзерум, где пробудем три-четыре месяца.
Должен признаться, Нессир: я ощутил тайную боль, когда потерял из виду Персию и очутился среди коварных османлисов{8}. По мере того как углублялся в страну этих нечестивцев, мне казалось, что и сам я становлюсь нечестивцем.
Отчизна, семья, друзья представлялись моему воображению; нежность во мне пробудилась; наконец, какая-то смутная тревога закралась мне в душу, и я понял, что предпринятое мною будет мне стоить душевного покоя.
Больше всего удручает мне сердце мысль о моих женах; как только подумаю о них, печаль начинает терзать меня.
Не в том дело, Нессир, что я их люблю: в этом отношении я настолько бесчувствен, что у меня нет никаких желаний. В многолюдном серале, где я жил, я предупреждал любовь и поэтому ею же самою разрушал ее; но из самой моей холодности проистекает тайная ревность, пожирающая меня. Мне представляется сонмище женщин, почти предоставленных самим себе: за них отвечают предо мною только презренные души. Вряд ли я могу считать себя в безопасности, даже если рабы мне и верны. А что же будет, если они неверны? Какие печальные вести могут дойти до меня в те далекие страны, которые я собираюсь посетить! Это недуг, от которого друзья не могут мне дать лекарства; это область, печальные тайны которой они не должны знать. Да и чем могли бы они помочь? Ведь я тысячу раз предпочту тайную безнаказанность шумному искуплению. Я слагаю в твое сердце все мои печали, любезный Нессир; это единственное утешение, ныне остающееся мне.
Из Эрзерума, месяца Ребиаба 2{9}, 10-го дня, 1711 годаПИСЬМО VII. Фатима к Узбеку в Эрзерум
Вот уже два месяца, как ты уехал, дорогой мой Узбек, и я в таком подавленном состоянии, что все еще не могу поверить этому. Я бегаю по всему сералю так, как если бы ты был здесь: и никак не могу убедиться, что тебя нет. Что же, по-твоему, должно происходить с женщиной, которая любит тебя, которая привыкла держать тебя в своих объятиях, у которой одна только была забота — доказать тебе свою нежность, с женщиной, свободной по происхождению, но рабыней в силу своей любви?
Когда я выходила за тебя, мои глаза еще не видели лица мужчины: ты и теперь еще единственный, лицезреть кого мне дозволено{10}, потому что я не считаю мужчинами отвратительных евнухов, наименьшим несовершенством которых является то, что они вовсе и не мужчины. Когда я сравниваю красоту твоего лица с безобразием их физиономий, я не могу не посчитать себя счастливой; воображение мое не в силах создать образа, более пленительного, более чарующего, чем ты, мой ненаглядный. Клянусь тебе, Узбек: если бы мне разрешили выйти отсюда, где я сижу взаперти благодаря моему положению, если бы я могла ускользнуть от окружающей меня стражи, если бы мне позволили выбирать среди всех мужчин, живущих в этой столице народов, Узбек, — клянусь тебе, — я выбрала бы только тебя. Во всем мире ты один заслуживаешь любви.
Не думай, что в твое отсутствие я пренебрегаю красотой, которая дорога тебе. Хотя никому не суждено видеть меня и хотя украшения, которые я надеваю, не могут тебя порадовать, я все же стремлюсь сохранить привычку нравиться. Я ложусь в постель не иначе, как надушившись самыми восхитительными благовониями. Я вспоминаю блаженное время, когда ты приходил в мои объятия; обольстительный сон-угодник являет мне бесценный предмет моей любви; мое воображение туманится от желаний и тешит меня надеждами. Иногда я думаю, что тягостное путешествие наскучит тебе и ты скоро вернешься к нам; ночь проходит в сновидениях, которые и не явь и не сон; я ищу тебя подле себя, и мне кажется, будто ты ускользаешь от меня; в конце концов огонь, пожирающий меня, сам рассеивает эти чары и возвращает мне сознание. Тогда я испытываю такое волнение...
Ты не поверишь, Узбек: нельзя жить в подобном состоянии; огонь клокочет в моих жилах. Ах, почему не могу я выразить тебе того, что так хорошо чувствую? И почему чувствую я так хорошо то, чего не могу выразить? В такие минуты, Узбек, я бы отдала власть над миром за один твой поцелуй. Как несчастна женщина, снедаемая столь бурными желаниями, когда она лишена единственного человека, который может их удовлетворить; когда, предоставленная самой себе, не имея ничего, что могло бы ее рассеять, она вынуждена жить вздохами и неистовством бушующей страсти; когда, сама далеко не счастливая, она даже лишена радости служить счастью другого; когда она ненужное украшение сераля, охраняемое ради чести, а не ради счастья ее супруга!
Как вы, мужчины, жестоки! Вы радуетесь тому, что мы наделены страстями, которых не можем утолить; вы обращаетесь с нами так, словно мы бесчувственны, но вы очень гневались бы, если бы так было в действительности; вы рассчитываете на то, что наши желания, столь долго сдерживаемые, сразу оживятся при виде вас. Трудно внушить любовь; проще, полагаете вы, получить от нашей подавленной чувственности то, чего вы не надеетесь заслужить своими достоинствами.
Прощай, дорогой мой Узбек, прощай. Знай, что я живу только для того, чтобы обожать тебя; моя душа полна тобой, и разлука не только не затмила воспоминания о тебе, а еще более воспламенила бы мою любовь, если бы только она могла стать еще более страстной.
Из испаганского сераля, месяца Ребиаба 1, 12-го дня, 1711 годаПИСЬМО VIII. Узбек к своему другу Рустану в Испагань
Твое письмо было мне вручено в Эрзеруме, где я теперь нахожусь. Я так и думал, что мой отъезд наделает шуму; но это не остановило меня. Чему же, по-твоему, мне следовать? Житейской мудрости моих врагов или моей собственной?
Я появился при дворе в пору самой нежной юности. Могу сказать прямо: мое сердце там не развратилось; я даже возымел великое намерение: осмелился при дворе остаться добродетельным. Как только я познал порок, я удалился от него, но вслед за тем приблизился к нему, чтобы его разоблачить. Я доводил истину до подножия трона, я заговорил языком, дотоле неведомым там; я обезоруживал лесть и изумлял одновременно и низкопоклонников, и их идола.
Но когда я убедился, что моя искренность создала мне врагов; что я навлек на себя зависть министров, не приобретя благосклонности государя; что при этом развращенном дворе я держусь только слабой своей добродетелью, — я решил его покинуть. Я притворялся, будто сильно увлечен науками, и притворялся так усердно, что и в самом деле увлекся ими. Я перестал вмешиваться в какие бы то ни было дела и удалился в свое поместье. Но это решение имело и отрицательные стороны: я был предоставлен козням врагов и почти лишился возможности ограждать себя от них. Несколько тайных предупреждений побудило меня серьезно подумать о себе. Я решил удалиться из отечества, а мой уход от двора доставил мне для этого благовидный предлог. Я пошел к шаху, сказал ему о своем желании познакомиться с западными науками, намекнул, что он может извлечь пользу из моих странствований. Он отнесся ко мне благосклонно, я уехал и тем самым похитил жертву у моих врагов.
Вот, Рустан, истинная причина моего путешествия. Пусть Испагань толкует, что хочет: защищай меня только перед теми, кто меня любит; предоставь моим врагам истолковывать мои поступки, как им вздумается; я слишком счастлив тем, что это единственное зло, которое они не могут причинить.
Сейчас обо мне говорят. Но не ожидает ли меня в скором времени полное забвение и не станут ли мои друзья... Нет, Рустан, я не хочу предаваться этой печальной мысли: я всегда останусь им дорог; я рассчитываю на их верность — так же как и на твою.
Из Эрзерума, месяца Джеммади 2{11}, 20-го дня, 1711 годаПИСЬМО IX. Первый евнух к Ибби в Эрзерум
Ты следуешь за своим господином в его странствиях; ты проезжаешь область за областью и царство за царством; печали бессильны над тобою; каждый миг ты видишь новое; все, что ты наблюдаешь, развлекает тебя, и время бежит для тебя незаметно.
Иное дело я; я заперт в отвратительной тюрьме, постоянно окружен одними и теми же предметами и терзаюсь одними и теми же печалями. Я стенаю, удрученный бременем пятидесяти годов, проведенных в заботах и тревогах, и не могу сказать, что в течение моей долгой жизни мне выпал хоть один ясный день и хоть один спокойный миг.
Когда мой первый господин возымел жестокое намерение доверить мне своих жен и принудил меня с помощью соблазнов, подкрепленных тысячью угроз, навсегда расстаться с самим собою, я был уже очень утомлен службою на крайне тягостных должностях и рассчитывал, что пожертвую своими страстями ради отдохновения и богатства. Несчастный! Мой удрученный ум являл мне только награду, но не потерю: я надеялся, что освобожусь от волнений любви благодаря тому, что лишусь возможности удовлетворять ее. Увы! Во мне погасили следствие страстей, не затушив их причины, и, вместо того, чтобы избавиться от них, я оказался окруженным предметами, которые беспрестанно их возбуждали. Я поступил в сераль, где все внушало мне сожаление о моей утрате: ежеминутно я ощущал волнение чувств; тысячи природных красот раскрывались предо мною, казалось, только для того, чтобы повергнуть меня в отчаяние. К довершению несчастья у меня перед глазами всегда был счастливец. В эти годы смятения всякий раз, как я сопровождал женщину к ложу моего господина, всякий раз, как я раздевал ее, я возвращался к себе с яростью в сердце и со страшной безнадежностью в душе.
Вот как провел я свою жалкую юность. У меня не было наперсников, кроме меня самого, мне приходилось преодолевать тоску и печаль собственными силами. И на тех самых женщин, на которых мне хотелось смотреть с нежностью, я бросал только суровые взоры. Я погиб бы, если бы они разгадали меня. Какой бы только выгоды они не извлекли из этого!
Помню, как однажды, сажая женщину в ванну, я почувствовал такое возбуждение, что разум мой помутился и я осмелился коснуться некого страшного места. Придя в себя, я подумал, что настал мой последний день. Однако мне посчастливилось, и я избежал жесточайшего наказания. Но красавица, ставшая свидетельницей моей слабости, очень дорого продала мне свое молчание: я совершенно утратил власть над нею, и она стала вынуждать меня к таким поблажкам, которые тысячи раз подвергали жизнь мою опасности.
Наконец, пыл юности угас, теперь я стар и в этом отношении совершенно успокоился; я смотрю на женщин равнодушно и возвращаю им с избытком то презрение и те муки, которым они подвергали меня. Я все время помню, что был рожден, чтобы повелевать ими, и в тех случаях, когда я ими еще повелеваю, мне кажется, что я вновь становлюсь мужчиной. Я ненавижу их с тех пор, как начал взирать на них хладнокровно и как мой разум стал ясно видеть все их слабости. Хотя я охраняю их для другого, сознание, что они должны подчиняться моей воле, доставляет мне тайную радость: когда я подвергаю их всяческим лишениям, мне кажется, будто я делаю это для себя, и от этого я испытываю косвенное удовлетворение. Я чувствую себя в серале, как в своем маленьком царстве, и это льстит моему самолюбию, а самолюбие — единственная оставшаяся мне страсть. Я с удовольствием вижу, что все держится на мне и что я нужен поминутно. Я охотно принимаю на себя ненависть всех этих женщин: она укрепляет меня на моем посту. Но и я не остаюсь в долгу: они встречают во мне помеху всем своим удовольствиям, даже самым невинным. Я всегда вырастаю перед ними, как непреодолимая преграда; они строят планы, а я их неожиданно расстраиваю. Мое оружие — отказ; я ощетиниваюсь придирками; на устах у меня нет других слов, кроме как о долге, добродетели, стыдливости, скромности. Я привожу их в уныние, беспрестанно твердя им о слабости их пола и о власти их господина. Вслед за тем я начинаю сетовать, что вынужден быть столь суровым, и делаю вид, будто хочу растолковать им, что нет у меня другого побуждения, кроме их же собственной выгоды и моей великой привязанности к ним.
Но, конечно, и у меня бывает множество неприятностей, а мстительные женщины все время изощряются, как бы причинить мне еще большие огорчения, чем те, которые я причиняю им. Они умеют наносить страшные удары. Между нами происходит как бы прилив и отлив власти и подчинения. Они постоянно взваливают на меня самые унизительные обязанности; они выражают мне беспримерное презрение и, не считаясь с моей старостью, раз по десять поднимают меня ночью из-за малейшей безделицы. На меня беспрестанно сыплются приказания, поручения, обязанности, прихоти; женщины словно нарочно сговариваются задавать мне работу, и их причуды сменяют одна другую. Часто они забавляются тем, что требуют от меня все новых и новых забот; они подучивают людей сообщать мне ложные сведения: то мне говорят, будто подле стен сераля появился какой-то юноша, то, что слышен какой-то шум или что кому-то собираются передать письмо. Все это тревожит меня, а они смеются над моей тревогой; они радуются, когда видят, как я таким образом сам себя мучаю. Иногда они держат меня за дверью и принуждают день и ночь быть прикованным к ней; они ловко притворяются больными, разыгрывают обмороки и страхи; у них нет недостатка в предлогах, чтобы завести меня, куда им угодно. В подобных случаях необходимо слепое повиновение и безграничная снисходительность: отказ в устах такого человека, как я, был бы чем-то неслыханным, и если бы я замешкался в послушании, они были бы вправе меня наказать. Я предпочитаю скорее расстаться с жизнью, дорогой мой Ибби, чем опуститься до такого унижения.
Это еще не все; я ни одной минуты не уверен в благосклонности моего господина: так много здесь женщин, близких его сердцу, зато враждебных мне и думающих только о том, как бы погубить меня. Им принадлежат минуты, когда они могут не слушаться меня, минуты, когда им ни в чем не отказывают, минуты, когда я всегда буду неправ. Я провожаю в постель моего господина женщин, рассерженных на меня: и ты думаешь, они действуют в мою пользу и сила на моей стороне? Я всего могу ожидать от их слез, их вздохов, их объятий и даже от их наслаждений: ведь они находятся на месте своего торжества. Их прелести становятся опасными для меня; их услужливость в эту минуту мгновенно стирает все мои прошлые заслуги, и ничто не может мне поручиться за господина, который сам себе больше не принадлежит.
Сколько раз случалось мне отходить ко сну, будучи в милости, а поутру вставать в опале! Что сделал я в тот день, когда меня с таким позором гоняли кнутьями по всему сералю? Я оставил одну из жен в объятиях моего господина. Как только он воспламенился, она залилась потоками слез, стала жаловаться на меня, и притом так ловко, что жалобы становились все трогательнее по мере того, как росла пробужденная ею страсть. На что мог я опереться в такую трудную минуту? Я погибал в то время, когда меньше всего этого ожидал; я пал жертвою любовных переговоров и союза, заключенного вздохами. Вот, дорогой Ибби, в каком жестоком положении прожил я всю жизнь.
Какой ты счастливец! Твои заботы ограничиваются особой самого Узбека. Тебе легко угождать ему и сохранить его расположение до конца дней твоих.
Из испаганского сераля, в последний день месяца Сафара 1711 годаПИСЬМО X. Мирза к своему другу Узбеку в Эрзерум
Ты один мог бы возместить мне отсутствие Рики, и только Рика мог бы утешить меня в твое отсутствие. Нам недостает тебя, Узбек: ты был душою нашего общества. Сколько силы нужно, чтобы порвать связи, созданные сердцем и умом!
Мы здесь много спорим; наши споры вращаются обычно вокруг морали. Вчера предметом обсуждения был вопрос, бывают ли люди счастливы благодаря наслаждениям и чувственным радостям или благодаря деятельной добродетели. Я часто слышал от тебя, что люди рождены, чтобы быть добродетельными и что справедливость — качество, присущее им так же, как и самое существование. Разъясни, прошу тебя, что ты этим хочешь сказать.
Я разговаривал с муллами, но они приводят меня в отчаяние выдержками из Алкорана: ведь я говорю с ними не в качестве правоверного, но как человек, как гражданин, как отец семейства. Прощай.
Из Испагани, в последний день месяца Сафара 1711 годаПИСЬМО XI. Узбек к Мирзе в Испагань
Ты отказываешься от своего рассудка, чтобы обратиться к моему; ты снисходишь до того, что спрашиваешь моего совета; ты считаешь, что я могу наставлять тебя. Любезный Мирза! Есть нечто еще более лестное для меня, нежели хорошее мнение, которое ты обо мне составил: это твоя дружба, которой я обязан таким мнением.
Чтобы исполнить то, что ты мне предписываешь, я не вижу надобности прибегать к слишком отвлеченным рассуждениям. Существуют истины, в которых недостаточно убедить кого-либо, но которые надо дать почувствовать; именно таковы истины морали. Может быть, нижеследующий отрывок из истории тронет тебя больше, чем самая проникновенная философия.
Существовало некогда в Аравии небольшое племя, называвшееся троглодитским; оно происходило от тех древних троглодитов, которые, если верить историкам, походили больше на зверей, чем на людей. Наши троглодиты вовсе не были уродами, не были покрыты шерстью, как медведи, не рычали, имели по два глаза, но они были до такой степени злы и свирепы, что не было в их среде места ни началам правосудия, ни началам справедливости.
У них был царь, чужестранец по происхождению, который, желая исправить их злобную природу, обращался с ними сурово; они составили против него заговор, убили его и истребили всю царскую семью.
Затем они собрались, чтобы выбрать правительство, и после долгих разногласий избрали себе начальников. Но едва только должностные лица были избраны, как стали ненавистными троглодитам и тоже были ими перебиты.
Народ, освободившись от нового ига, теперь слушался только своей дикой природы. Все условились, что никому не будут более подчиняться, что каждый будет заботиться лишь о собственной своей выгоде, не считаясь с выгодой других.
Единодушное это решение пришлось по вкусу всем троглодитам. Каждый говорил: зачем изводить себя работой на людей, до которых мне нет никакого дела? Буду думать только о себе. Стану жить счастливо: что мне за дело до того, будут ли счастливы и другие? Я буду удовлетворять все свои потребности; лишь бы у меня было все нужнее, — не моя забота, что прочие троглодиты будут бедны.
Настал месяц, когда засевают поля. Каждый говорил: я обработаю свое поле так, чтобы оно дало мне хлеба, сколько мне нужно; большее количество мне ни к чему; не буду трудиться зря.
Земля в этом небольшом царстве не была однородна: были там участки бесплодные, были гористые, были и расположенные в низинах, орошавшиеся многочисленными источниками. В тот год стояла сильная засуха; из-за этого на высоких местах хлеб совсем не уродился, тогда как поля, которые орошались, дали обильный урожай. Поэтому жители гористых местностей почти все погибли от голода; их соплеменники, по черствости своей, отказались поделиться с ними.
Следующий год был очень дождливым; на возвышенных местах урожай был редкостный, а низменные места оказались затопленными. Опять половина народа подняла вопль от голода, но несчастным пришлось встретиться с такою же черствостью, какую проявили они сами.
У одного из наиболее видных жителей была очень красивая жена. Его сосед влюбился в эту женщину и похитил ее; возникла великая распря; обменявшись изрядным количеством оскорблений и ударов, они в конце концов согласились передать спор на разрешение троглодита, который во времена существования республики пользовался некоторым влиянием. Они пошли к нему и хотели было изложить свои притязания. «Какое мне дело, — сказал этот человек, — до того, будет эта женщина принадлежать тебе или ему? Мне нужно обрабатывать свое поле. Не буду же я тратить время на улаживание ваших разногласий и на устройство ваших дел и пренебрегать своими собственными! Оставьте меня в покое и не докучайте больше своими пререканиями». С этими словами он их покинул и отправился на свой участок. Похититель, который был сильнее, поклялся, что скорее умрет, нежели возвратит женщину, а другой, возмущенный несправедливостью соседа и черствостью судьи, возвращался домой в ярости, и вот на дороге встретилась ему шедшая от источника молодая и красивая женщина. Жены у него больше не было, женщина ему понравилась, и понравилась еще больше, когда он узнал, что она жена того, кого он хотел пригласить в судьи и кто оказался столь мало чувствительным к его горю. Он ее похитил и привел в свой дом.
У некоего человека было довольно плодородное поле, которое он возделывал с большим тщанием. Двое его соседей стакнулись, выгнали его из дома, захватили его землю. Они заключили между собою союз, чтобы защищаться от тех, кто вздумает отнять у них это поле; и действительно благодаря этому союзу они продержались в течение нескольких месяцев. Но один из них, наскучив делиться с другим тем, чем он мог бы владеть один, убил своего сообщника и сделался единственным обладателем участка. Его владычество продолжалось недолго: два других троглодита напали на него, он оказался слишком слабым, чтобы защищаться, и был зарезан.
Один почти совсем нагой троглодит увидел шерсть, выставленную на продажу; он спросил о цене; купец подумал: «Правда, я должен был бы выручить от продажи шерсти столько денег, сколько нужно для покупки двух мер зерна, но я продам ее вчетверо дороже и куплю восемь мер». Покупателю пришлось согласиться и уплатить запрошенную цену. «Вот хорошо, — сказал купец, продавший шерсть, — теперь я буду с зерном». «Что ты говоришь, — подхватил покупатель, — тебе нужно зерно? У меня есть продажное; но вот только цена тебя, пожалуй, удивит. Ведь ты знаешь, хлеб нынче чрезвычайно дорог, и голод царит почти повсеместно. Верни мне мои деньги, и я дам тебе меру зерна: иначе я не продам, хотя бы тебе предстояло сдохнуть с голода».
Между тем жестокая болезнь опустошала страну. Из соседней страны прибыл искусный врач и так удачно лечил, что вылечивал всякого, кто обращался к нему за помощью. Когда мор прекратился, врач пошел за вознаграждением к тем, кого лечил; однако он всюду встретил отказ; он возвратился на родину, крайне устав от долгого путешествия. Но вскоре он узнал, что та же болезнь вновь дала себя знать и пуще прежнего опустошает эту неблагодарную страну. На сей раз жители сами поспешили к врачу, не дожидаясь, чтобы он приехал к ним. «Ступайте прочь, несправедливые люди, — сказал он, — у вас в душе яд, губительнее того, от которого вы хотите лечиться; вы недостойны занимать место на земле, ибо вы бесчеловечны и справедливость вам неведома; я бы оскорбил богов, которые наказывают вас, если бы стал препятствовать их справедливому гневу».
Из Эрзерума, месяца Джеммади 2, 3-го дня, 1711 годаПИСЬМО XII. Узбек к нему же в Испагань
Ты видел, любезный мой Мирза, как троглодиты погибли из-за своей же злобы и сделались жертвами собственных несправедливых поступков. Из множества семейств осталось только два; они избежали участи, постигшей весь народ. Было в этой стране двое очень странных людей: они были человечны, знали, что такое справедливость, любили добродетель; они были связаны друг с другом столько же прямотою своих сердец, сколько испорченностью сердец — их соплеменники; общее разорение вызывало в них сострадание, и это явилось поводом к еще более крепкому союзу. Заботливо трудились они сообща на общую пользу; между ними не возникало иных разногласий, кроме тех, какие порождаются кроткой и нежной дружбой, и в самой уединенной местности, вдали от соплеменников, недостойных их присутствия, они вели жизнь счастливую и спокойную: казалось, земля, возделываемая этими добродетельными руками, сама собою производит хлеб.
Они любили своих жен и были нежно любимы ими. Все внимание их было направлено на то, чтобы воспитать детей в добродетели. Они беспрестанно говорили им о несчастьях соплеменников и обращали их внимание на столь печальный пример; в особенности старались они внушить детям, что выгода отдельных лиц всегда заключается в выгоде общественной, что желать отрешиться от последней — значит желать собственной погибели, что добродетель не должна быть нам в тягость, что отнюдь не следует считать ее постылой обязанностью и что справедливость по отношению к ближнему есть милосердие по отношению к нам самим.
Скоро выпало им на долю утешение, являющееся наградой добродетельных отцов: дети стали похожи на них. Молодое племя, выросшее на их глазах, умножилось путем счастливых браков: семьи разрослись, союз оставался неизменным, и добродетель, отнюдь не ослабевшая от многолюдности, наоборот, укрепилась благодаря большому числу примеров.
Какими словами описать счастье этих троглодитов? Боги не могли не любить столь справедливый народ. Как только раскрыл он глаза, чтобы познать богов, так научился их страшиться; и религия смягчила в нравах то, что еще оставалось в них от природы слишком грубого.
Троглодиты учредили праздники в честь богов. Девушки, украшенные цветами, и юноши прославляли их плясками и звуками незатейливой музыки; затем следовали пиршества, на которых веселье царило наравне с воздержностью. На этих-то собраниях и подавала голос бесхитростная природа; там научались приносить в дар и принимать сердца; там девичья стыдливость, краснея, делала нечаянное признание, которое вскоре затем подтверждалось согласием родителей, и там нежные матери радовались, предугадывая сладостный и верный союз.
Троглодиты посещали храм, чтобы испросить милости богов: не богатств и обременительного изобилия просили они — таких недостойных желаний не было у счастливых троглодитов: богатств желали они только для своих соплеменников. Они приходили к алтарю лишь для того, чтобы просить о здоровье своих отцов, о согласии братьев, о нежности жен, о любви и послушании детей. Девушки приходили туда, чтобы принести свое нежное сердце, и каждая просила у богов одной только милости: позволить ей составить счастье троглодита.
Вечерами, когда стада покидали пастбища и усталые волы привозили домой плуги, троглодиты собирались вместе и за умеренной трапезой пели о несправедливости первых троглодитов и их бедствиях, о добродетели, возродившейся с новым народом, и о блаженстве последнего; потом воспевали они величие богов, милости, всегда даруемые ими тем, кто просит, и неминуемый гнев богов на тех, кто их не страшится; они описывали затем прелести сельской жизни и блаженство человека, украшенного невинностью. Вскоре они отходили ко сну, и его никогда не прерывали заботы и горести.
Природа щедро удовлетворяла их потребности и даже прихоти. Этой блаженной стране чужда была жадность: здесь постоянно делали друг другу подарки, и тот, кто давал, всегда почитал себя в выигрыше. Племя троглодитов чувствовало себя как бы единою семьей: стада их всегда были смешаны; троглодиты не хотели их делить — и это была единственная трудность, от которой они уклонялись.
Из Эрзерума, месяца Джеммади 2, 6-го дня, 1711 годаПИСЬМО XIII. Узбек к нему же
Я бы мог без конца говорить тебе о добродетели троглодитов. Один из них сказал однажды: «Мой отец должен завтра пахать; я встану двумя часами раньше него, и когда он придет на поле, то найдет его уже распаханным».
Другой думал: «Мне кажется, что сестра моя чувствует расположение к молодому троглодиту, нашему родственнику; надо мне поговорить с отцом и склонить его согласиться на этот брак».
Третьему говорят, что воры угнали его стадо. «Очень досадно, — отвечает он, — там была совершенно белая телочка, которую я собирался принести в жертву богам».
А иной говорил друзьям: «Мне следует пойти в храм и воздать благодарение богам, ибо мой брат, столь любимый отцом и обожаемый мною, выздоровел».
Или вот: «По соседству с участком моего отца есть другой, и люди, возделывающие его, по целым дням работают под жгучими лучами солнца; надо будет сходить туда и посадить два деревца, чтобы эти бедные люди могли время от времени отдыхать под их тенью».
Как-то раз, во время собрания троглодитов, некий старец завел речь о юноше, которого он заподозрил в дурном поступке, и упрекнул его в этом. «Нам не верится, что он совершил это преступление, — возразили молодые троглодиты, — но если он его действительно совершил, то пусть в наказание переживет всю свою семью!»
Одному троглодиту сказали, что чужестранцы разграбили его дом и все унесли с собой. «Если бы они не были несправедливы, — ответил он, — я пожелал бы, чтобы боги позволили им пользоваться моим имуществом дольше, чем пользовался им я сам».
Столь великое благополучие не могло не возбуждать зависти: соседние народы объединились и решили, под пустым предлогом, угнать стада троглодитов. Как только стало известно об этом намерении, троглодиты отправили к ним послов, которые сказали следующее: «Что сделали вам троглодиты? Похищали они ваших жен, угоняли ваши стада, опустошали ваши деревни? Нет! Мы справедливы и богобоязненны. Чего же вы требуете от нас? Хотите ли шерсти для изготовления одежды? Желаете ли молока от наших стад или плодов нашей земли? Бросьте оружие, приходите к нам, и мы дадим вам все это. Но клянемся вам всем, что только есть самого святого, что если вы вторгнетесь в наши пределы, как враги, мы будем считать вас народом несправедливым и поступим с вами, как с хищными зверьми».
Слова эти были отвергнуты с презрением; дикие народы вступили с оружием в руках на землю троглодитов, предполагая, что последних защищает только их невинность.
Но троглодиты были хорошо подготовлены к обороне. Жен и детей они поместили в середину. Их изумляла не численность врагов, а их несправедливость. Новый пыл охватил сердца троглодитов: один хотел умереть за отца, другой за жену и детей, тот за братьев, иной за друзей, все — за свой народ. Место павшего немедленно заступал другой, и, ратуя за общее дело, он горел также желанием отметить и за смерть своего предшественника.
Таков был бой между несправедливостью и добродетелью. Подлые народы, искавшие только добычи, не устыдились обратиться в бегство; их не трогала добродетель троглодитов, но им пришлось уступить ей.
Из Эрзерума, месяца Джеммади 2, 9-го дня, 1711 годаПИСЬМО XIV. Узбек к нему же
Племя с каждым днем разрасталось, и троглодиты пришли к мысли, что пора им выбрать себе царя. Они решили, что надо предложить венец самому справедливому, и взоры всех обратились на некоего старца, уважаемого за возраст и давнюю добродетель. Он не захотел присутствовать на этом собрании; он удалился домой с сердцем, стесненным печалью.
Когда к нему отправили посланцев, чтобы сообщить, что выбор пал на него, он сказал: «Да избавит меня бог причинить несправедливость троглодитам, дав повод думать, будто нет среди них никого справедливее меня. Вы предлагаете мне венец, и, если вы настаиваете на этом, мне придется его принять, но имейте в виду, что я умру от скорби, ибо при рождении я застал троглодитов свободными, а теперь увижу их порабощенными». С этими словами он горько заплакал. «Несчастный день! — воскликнул он. — И зачем прожил я так долго?» Потом он вскричал суровым голосом: «Я понимаю, что все это означает, троглодиты! Ваша добродетель начинает тяготить вас. В вашем теперешнем положении вам приходится, не имея вождя, быть добродетельными, хотите вы этого или нет: иначе вы не могли бы существовать и вас постигли бы те же беды, которые преследовали ваших предков. Но это ярмо кажется вам слишком тяжелым: вы предпочитаете подчиниться государю и повиноваться его законам, менее строгим, чем ваши нравы. Вы знаете, что тогда вам можно будет удовлетворять свое честолюбие, приобретать богатство и предаваться низкому вожделению и что вы не будете нуждаться в добродетели, лишь бы только избегали больших преступлений». Он умолк на мгновение, и слезы полились у него пуще прежнего. «Что же, по вашему мнению, мне делать? Как могу я приказать что-либо троглодиту? Вы хотите, чтобы он совершал добродетельные поступки потому, что я приказал ему их совершать, — ему, который и без меня совершал бы их просто по врожденной склонности? О троглодиты! Я у исхода дней моих, кровь остыла в моих жилах, скоро увижу я священных ваших предков; почему же хотите вы, чтобы я их огорчил, сказав им, что я оставил вас под ярмом иным, чем ярмо добродетели?»
Из Эрзерума, месяца Джеммади 2, 10-го дня, 1711 годаПИСЬМО XV. Главный евнух к Ярону, черному евнуху, в Эрзерум
Молю небо, чтобы оно вернуло тебя сюда и охранило от всяких опасностей.
Хотя я никогда не знал тех обязательств, что зовутся дружбой, и всегда замыкался в себе, ты все же дал мне почувствовать, что у меня есть еще сердце, и в то время как я был как бы бронзовым для всех рабов, состоявших в моем подчинении, я с удовольствием следил, как ты подрастал.
Настало время, когда мой господин обратил на тебя свои взоры. Далеко еще было до того, как природа должна была заговорить в тебе, а нож уже разлучил тебя с нею. Не буду говорить, жалел ли я тебя или радовался тому, что тебя возвысили до меня. Я успокаивал твои слезы и крики. Мне казалось, что ты родился вторично и вышел из состояния рабства, при котором тебе всегда приходилось повиноваться, с тем, чтобы перейти в рабство, при котором тебе предстоит повелевать. Я позаботился о твоем воспитании. Строгость, неразлучная спутница обучения, долго мешала тебе понять, что ты мне дорог. Тем не менее ты был дорог мне, и я даже сказал бы, что любил тебя, как отец любит сына, если бы эти названия — отца и сына — подходили к нашей участи.
Ты проедешь по странам, обитаемым христианами, не знающими истинной веры. Не может быть, чтобы ты чем-нибудь не осквернил себя. Как пророку углядеть за тобой среди стольких миллионов его врагов? Мне бы хотелось, чтобы мой господин совершил по возвращении паломничество в Мекку: все вы очистились бы в стране ангелов!
Из испаганского сераля, месяца Джеммади 2, 10-го дня, 1711 годаПИСЬМО XVI. Узбек к мулле Мегемету-Али, стражу трех гробниц{12}
Зачем живешь ты среди гробниц, божественный мулла? Ты создан скорее для пребывания на звездах. Ты прячешься несомненно оттого, что опасаешься затмить солнце: на тебе нет пятен, как и на этом светиле, но ты тоже закрываешься облаками.
Твоя ученость — бездна глубже Океана; твой ум острее Зуфагара{13}, меча Али о двух клинках; тебе ведомо, что происходит в девяти хорах небесных сил; ты читаешь Алкоран на груди нашего божественного пророка, а когда тебе попадается в нем какое-нибудь непостижимое место, ангел, по велению пророка, взмахивает быстрыми крылами и спускается с престола, чтобы открыть тебе тайну.
Через твое посредство я мог бы поддерживать сокровенное общение с серафимами, ибо, о тринадцатый имам{14}, не центр ли ты, в котором сходятся небо и земля, не точка ли соприкосновения преисподней с эмпиреем?
Я нахожусь среди нечестивого народа: дозволь мне очиститься с твоей помощью, разреши мне обратить лицо мое к священным местам, где ты обитаешь; отличи меня от злых подобно тому, как с наступлением зари отличают нить белую от нити черной{15}; помоги мне советами; прими душу мою под свое покровительство; опьяни ее духом пророков; напитай ее райской премудростью и дозволь мне повергнуть ее язвы к стопам твоим. Посылай свои священные письма в Эрзерум: там я пробуду несколько месяцев.
Из Эрзерума, месяца Джеммади 2, 11-го дня, 1711 годаПИСЬМО XVII. Узбек к нему же
Я не могу, божественный мулла, преодолеть нетерпение: нет сил дождаться дивного ответа. Меня обуревают сомнения, рассей их: я чувствую, что ум мой мутится; верни его на путь истины; источник света, просвети меня; срази своим божественным пером трудности, которые я сейчас изложу тебе; внуши мне презрение к самому себе и стыд за тот вопрос, который я тебе сейчас предложу.
Отчего наш законодатель лишает нас свиного мяса и всех видов говядины, называя их нечистыми? Отчего он запрещает нам дотрагиваться до трупа и повелевает беспрестанно омывать тело, чтобы очистить душу? Мне кажется, что сами по себе вещи ни чисты, ни нечисты: я не могу различить ни одного качества, присущего им от природы, которое делало бы их такими. Грязь кажется нам грязной только потому, что оскорбляет наше зрение или какое-нибудь иное из наших чувств, но сама по себе она не грязнее ни золота, ни алмазов. Мысль о том, что прикосновение к трупу оскверняет нас, возникает только из нашего естественного отвращения к мертвецам. Если бы тела тех, кто никогда не моется, не оскорбляли ни обоняния, ни зрения, как можно было бы обнаружить, что они нечисты?
Итак, божественный мулла, чувства оказываются единственными судьями чистоты или нечистоты вещей. Но так как ощущения от предметов отнюдь не одинаковы у всех людей; так как то, что вызывает приятное ощущение у одних, внушает отвращение другим, то отсюда следует, что свидетельство чувств не может служить мерилом, если только не утверждать, что каждый волен по собственному усмотрению решать этот вопрос и отличать, когда это его касается, чистые вещи от нечистых.
Но, святой мулла, ведь такими соображениями опровергаются различия, установленные нашим божественным пророком, и основные положения закона, начертанного руками ангелов!
Из Эрзерума, месяца Джеммади 2, 20-го дня, 1711 годаПИСЬМО XVIII. Мегемет-Али, служитель пророков, к Узбеку в Эрзерум
Вы постоянно задаете нам вопросы, которые уже тысячу раз предлагались нашему святому пророку. Почему не читаете вы произведения ученых{16}? Почему не прибегаете к этому чистому источнику всякого познания? Там вы нашли бы разрешение всех ваших сомнений.
Несчастные! Вы вечно заняты земными делами и никогда не обращаете взора на дела небесные; вы почитаете сан муллы, но не осмеливаетесь ни принять этот сан, ни следовать носящим его.
Нечестивцы! Вы никогда не проникаете в тайны предвечного, ваша просвещенность подобна тьме преисподней, и суждения ума вашего подобны пыли, поднимаемой вашими ногами, когда солнце стоит в зените, в знойный месяц Шахбан{17}.
И зенит вашего духа не достигает даже надира ничтожнейшего из иммомов{18}. Ваша пустая философия — молния, предвещающая грозу и мрак: вокруг вас — буря, и вы носитесь по воле ветров.
На твое затруднение ответить очень легко; для этого достаточно рассказать тебе, что случилось однажды с нашим святым пророком, когда, искушаемый христианами, испытуемый иудеями, он пристыдил и тех и других.
Иудей Авдия-Ибсалон{19} спросил у него, почему господь запретил есть свиное мясо? «Не без причины, — ответил Магомет. — Свинья животное нечистое, и сейчас я тебе это докажу». Он из грязи слепил у себя на ладони фигуру человека, бросил ее на землю и воскликнул: «Восстань!» Тотчас же встал человек и сказал: «Я Иафет, сын Ноя». «Были у тебя такие же седые волосы, когда ты умирал?» — спросил у него святой пророк. «Нет, — отвечал тот, — но когда ты меня разбудил, я подумал, что настал судный день, и так испугался, что волосы мои сразу побелели».
«А ну-ка, расскажи мне, — продолжал посланец божий, — историю Ноева ковчега». Иафет повиновался и подробно рассказал обо всем, что произошло в первые месяцы; после этого он продолжал так: «Мы сгребали нечистоты всех животных к одной стороне ковчега; от этого он так накренился, что мы смертельно перепугались, особенно женщины, причитавшие на все лады. Отец наш Ной спросил совета у бога, и тот повелел ему взять слона и повернуть его головой к накренившейся стороне. Это огромное животное наложило столько помета, что из него родилась свинья».
Как же, Узбек, не воздерживаться от ее мяса и не считать ее животным нечистым?
«Но свинья все время копалась в этих нечистотах, и в ковчеге поднялась такая вонь, что свинья сама не удержалась и чихнула, а из носу у нее вышла крыса и принялась грызть что ни попало. Ною стало невмоготу, и он решил снова обратиться за советом к богу. Бог повелел ему крепко стукнуть льва по лбу, отчего лев тоже чихнул и вычихнул кошку». Можно ли было и этих животных не почесть нечистыми? Как тебе кажется?
Итак, вы не постигаете причины нечистоты тех или иных вещей только потому, что не знаете и многих других причин, а также не знаете всего, что произошло между богом, ангелами и людьми. Вы не знаете истории вечности: вы не читали книг, написанных на небесах; то, что вам из них открыто, составляет лишь малую часть небесной библиотеки, да и те, кто подобно нам, больше вас приближаются к ней, все же, пока живут земною жизнью, коснеют во тьме и мраке. Прощай. Да пребудет Магомет в сердце твоем!
Из Кома, в последний день месяца Шахбана 1711 годаПИСЬМО XIX. Узбек к своему другу Рустану в Испагань
Мы пробыли в Токате только неделю; после тридцати пяти дней пути мы приехали в Смирну{20}.
Между Токатом и Смирной нет ни одного города, который бы заслуживал упоминания. С удивлением убеждался я в слабости империи османлисов. Это больное тело поддерживается не мягким и умеренным лечением, но сильно действующими снадобьями, которые только истощают его и подрывают его силы.
Паши, которые получают свои должности за деньги, являются в провинции разоренными и грабят их, словно завоеванные страны. Наглая солдатня подчиняется только их прихотям. Укрепления срыты, города безлюдны, деревни опустошены, земледелие и торговля совершенно заброшены.
При этом суровом управлении царит безнаказанность: христиане, возделывающие землю, и евреи, взимающие налоги, подвергаются всевозможным насилиям.
Земельная собственность не охраняется законом, и тем самым подрывается желание повысить плодородие земли: не существует ни купчих крепостей, ни документов на право владения, с которыми бы считалось самоуправство пашей.
Турки до такой степени забросили все искусства, что пренебрегли даже искусством военным. В то время как европейские народы совершенствуются с каждым днем, эти варвары коснеют в своем первобытном невежестве и надумываются применять новые изобретения европейцев только после того, как эти изобретения уже тысячу раз применялись против них.
У них нет никакого опыта в мореплавании, никакой сноровки в ведении дел. Говорят, что горсть европейцев, спустившихся с гор{21}, вгоняет оттоманов в пот и не дает покоя их империи.
Сами они неспособны к торговле и вместе с тем не любят, когда европейцы, всегда работящие и предприимчивые, приезжают к ним торговать: они воображают, что оказывают милость европейцам, когда те обогащают их.
Я пересек всю эту обширную страну и убедился, что только Смирну можно назвать городом богатым и сильным. Ее делают такою европейцы, и не туркам она обязана тем, что не похожа на другие турецкие города.
Вот, любезный Рустан, правильное представление об этой империи, которая, не пройдет и двух веков, станет местом триумфов какого-нибудь завоевателя.
Из Смирны, месяца Рамазана{22} 2-го дня, 1711 годаПИСЬМО XX. Узбек к своей жене Заши в испаганский сераль
Ты оскорбила меня, Заши, и в сердце моем рождаются чувства, которых тебе следует страшиться, если только в мое отсутствие ты не изменишь свое поведение и не постараешься утешить неистовую ревность, терзающую меня.
Я узнал, что тебя застали наедине с белым евнухом Надиром; он заплатит головою за свою неверность и вероломство. Как забылась ты до того, чтобы не сознавать, что тебе нельзя принимать в своей комнате белого евнуха, в то время как к твоим услугам имеются черные? Напрасно ты станешь уверять меня, что евнух не мужчина и что твое добронравие ставит тебя выше мыслей, которые могли бы зародиться у тебя благодаря некоторому его сходству с мужчиной. Этих уверений недостаточно ни для тебя, ни для меня: для тебя потому, что ты совершила поступок, запрещенный законами сераля; для меня потому, что ты обесчестила меня, открывшись чужим взорам... Да что я говорю — взорам: может быть, покушениям вероломного, который осквернил тебя своим преступлением и еще более своими сожалениями и отчаянием от сознания собственного бессилия.
Ты скажешь мне, быть может, что всегда была мне верна. Да разве могла ты не быть верной? Как бы тебе удалось обмануть бдительность черных евнухов, ныне столь удивленных твоим образом жизни? Как бы сломала ты засовы и двери, которые держат тебя взаперти? Ты кичишься добродетелью, которая не от тебя зависит, и, может быть, твои нечистые помыслы уже тысячи раз отнимали у тебя заслугу и лишали всякой ценности верность, которой ты так хвалишься.
Мне хочется верить, что ты вовсе не совершила того, в чем я имею основание тебя подозревать, что этот предатель не касался тебя своими кощунственными руками: ты отказала ему в лицезрении того, что является усладою его господина; ты оставила между ним и собою слабую преграду одежд, тебя облегающих; сам он потупился от благоговения; ему недостало смелости, и он затрепетал при мысли о карах, которые себе готовит. Но даже если все это так, ты все же совершила поступок, противный твоему долгу. А если ты нарушила его попусту, не надеясь удовлетворить своих развратных наклонностей, то что бы ты готова была сделать, чтобы удовлетворить их? И что бы стала ты делать, если бы тебе удалось уйти из этого священного места, являющегося для тебя суровой тюрьмой в той же мере, в какой оно является для твоих подруг надежным убежищем против поползновений порока, священным храмом, где ваш пол утрачивает свою слабость и оказывается непобедимым, несмотря на все свои изъяны? Что сделала бы ты, если бы была предоставлена самой себе и не имела другой защиты, кроме любви ко мне, столь тяжко оскорбленной, да долга, которому ты так недостойно изменила? Как святы нравы нашей отчизны, спасающие тебя от покушений подлейших рабов! Ты должна быть благодарна мне за те стеснительные условия, в которые я тебя поставил, раз только благодаря им ты еще достойна жить.
Ты терпеть не можешь начальника евнухов потому, что он неустанно следит за твоим поведением и дает тебе мудрые советы. Его безобразие, говоришь ты, так отталкивающе, что ты не можешь видеть его без отвращения. Как будто на такие должности ставят писаных красавцев! Тебе досадно, что на его месте не белый евнух, бесчестящий тебя.
А чем не угодила тебе твоя главная рабыня? Она сказала тебе, что твое вольное обращение с юной Зелидой грешит против благопристойности. Вот за что ты ее возненавидела.
Мне следовало бы, Заши, быть суровым судьею, а я только муж, стремящийся убедиться в твоей невинности. Любовь, которую я питаю к моей новой супруге Роксане, не устранила нежности, которую я должен питать к тебе, не менее прекрасной. Я делю любовь между вами обеими, и у Роксаны только то преимущество, которое добродетель может прибавить к красоте.
Из Смирны, месяца Зилькаде{23} 12-го дня, 1711 годаПИСЬМО XXI. Узбек к главному белому евнуху
Дрожать тебе следует, вскрывая это письмо, или скорее дрожать должен ты был, когда терпел вероломство Надира! Ты, и в холодной, немощной старости не могущий безнаказанно поднимать глаз на священные предметы моей любви, ты, кому никогда не позволялось ступить кощунственной ногой за порог страшного чертога, укрывающего их от всех взоров, ты терпишь, чтобы вверенные твоему надзору рабы делали то, что ты сам не осмелился бы сделать, и не замечаешь грома, готового разразиться над ними и над тобою!
Да кто вы, как не жалкие орудия, которые я могу сокрушить по своей прихоти? Вы существуете лишь постольку, поскольку умеете повиноваться; вы на свете лишь для того, чтобы жить в моем подчинении или умереть, как только я прикажу; вы дышите лишь постольку, поскольку мое счастье, моя любовь, даже моя ревность нуждается в вашей подлости; у вас нет, наконец, иной участи, кроме подчинения, другой души, кроме моей воли, другой надежды, кроме моего благоденствия.
Я знаю, что некоторые из моих жен с трудом переносят строгие законы долга, что им докучает постоянное присутствие черного евнуха, что им надоели уроды, приставленные к ним для того, чтобы охранять их для супруга; я знаю это, но тебя, потворствующего этому беспорядку, я накажу так, что приведу в содрогание всех, кто злоупотребляет моим доверием.
Клянусь всеми небесными пророками и величайшим из всех них — Али, что если ты нарушишь свой долг, я поступлю с тобою как с червем, подвернувшимся мне под ноги.
Из Смирны, месяца Зилькаде 12-го дня, 1711 годаПИСЬМО XXII. Ярон к главному евнуху в испаганский сераль
По мере того как Узбек удаляется от сераля, он обращает взоры на своих священных жен, вздыхает и проливает слезы; его боль обостряется, подозрения крепнут. Он намеревается увеличить число стражей в серале. Он отправляет меня обратно со всеми сопровождающими его неграми. Он больше не опасается за себя: он страшится за то, что ему в тысячу раз дороже самого себя.
Итак, я снова буду жить под твоим началом и разделять твои заботы. Боже великий! Сколько всего нужно, чтобы осчастливить только одного человека!
Казалось бы, природа сделала женщин зависимыми, но она же и освободила их от зависимости. Между двумя полами зарождался раздор, ибо права их были обоюдны. Благодаря нам создалась новая гармония: между собою и женщинами мы поставили ненависть, а между женщинами и мужчинами — любовь.
Мое чело нахмурится. Я буду кидать мрачные взоры. Радость покинет мои уста. Внешность моя будет спокойна, но душа будет охвачена тревогой. Мне не придется ожидать старческих морщин: я буду угрюм и без них.
Я с удовольствием следовал бы за своим господином на Запад, но моя воля принадлежит ему. Он хочет, чтобы я сторожил его жен, — я буду верно стеречь их. Я знаю, как мне вести себя с этим полом, который сразу становится надменным, когда ему не позволяют быть легкомысленным; я знаю, что труднее унижать, чем уничтожать. Простри на меня взор твой.
Из Смирны, месяца Зилькаде 12-го дня, 1711 годаПИСЬМО XXIII. Узбек к своему другу Иббену в Смирну
После сорокадневного плавания мы прибыли в Ливорно. Это новый город: он свидетельствует о талантах тосканских герцогов{24}, которые превратили деревню, окруженную болотами, в самый цветущий город Италии.
Женщины пользуются здесь большою свободой. Они могут смотреть на мужчин сквозь особые ставни, называемые жалюзи, они в любой день могут выйти из дома в сопровождении какой-нибудь старухи; они носят только одно покрывало!{25} Их зятья, дяди, племянники могут смотреть на них, и мужья почти никогда на это не обижаются.
Христианский город — великое зрелище для магометанина, видящего его впервые. Я имею в виду не то, что сразу же бросается всем в глаза, вроде разницы в строениях, одежде, основных обычаях; но даже в малейших безделицах находишь здесь что-нибудь особенное: я это чувствую, хотя и не могу выразить.
Завтра мы отправимся в Марсель; там мы пробудем недолго. Наше с Рикой намерение — немедленно ехать в Париж, столицу Европы. Путешественники всегда стремятся в большие города, являющиеся своего рода общим отечеством для всех иностранцев.
Прощай. Будь уверен в моей неизменной любви.
Из Ливорно, месяца Сафара 12-го дня, 1712 годаПИСЬМО XXIV. Рика к Иббену в Смирну
Вот уже месяц, как мы в Париже, и все это время мы пребывали в постоянном движении. Приходится немало похлопотать, прежде чем найдешь пристанище, разыщешь людей, к которым есть рекомендации, и обзаведешься необходимыми вещами, ибо здесь неожиданно обнаруживаешь, что многого тебе не хватает.
Париж так же велик, как Испагань. Дома в нем очень высокие; право, можно подумать, что все обитатели их — звездочеты. И, разумеется, город, построенный в воздухе, город, в котором шесть-семь домов нагромождены друг на друга, крайне многолюден, так что когда все выходят на улицу, получается изрядная толчея.
Ты не поверишь, пожалуй: за тот месяц, что я здесь нахожусь, я еще не видал, чтобы тут кто-нибудь ходил не спеша. Никто на свете лучше французов не умеет пользоваться своими ногами: здесь люди бегут, летят. Они упали бы в обморок от медлительных повозок Азии, от мерного шага наших верблюдов. Что касается меня, я вовсе не приспособлен для такой беготни и хожу по улицам, не меняя своей обычной походки; поэтому я порою прихожу в бешенство, как настоящий христианин: еще куда ни шло, что меня обдают грязью с ног до головы, но я никак не могу примириться, что неизменно, неминуемо получаю удары локтями. Человек, настигающий и обходящий меня, вынуждает шарахаться в сторону; другой, пересекая мой путь в противоположном направлении, вдруг толкает меня обратно на то место, с которого сшиб первый; не успею я пройти и сотни шагов, как уже чувствую себя таким разбитым, словно прошел миль десять.
Не думай, что я могу уже теперь основательно рассказать тебе о нравах и обычаях европейцев: я и сам-то имею о них лишь поверхностное представление, и пока что мне еле хватает времени на то, чтобы изумляться.
Французский король{26} — самый могущественный монарх в Европе. У него нет золотых россыпей, как у его соседа, короля Испании, и все же у него больше богатств, чем у последнего, ибо он извлекает их из тщеславия своих подданных, а оно куда доходнее золотых россыпей. Он затевал большие войны или принимал в них участие, не имея других источников дохода, кроме продажи титулов, и благодаря чуду человеческой гордыни его войска всегда были оплачены, крепости укреплены и флот оснащен.
Впрочем, этот король — великий волшебник: он простирает свою власть даже на умы своих подданных; он заставляет их мыслить так, как ему угодно. Если у него в казне лишь один миллион экю, а ему нужно два, то стоит ему только сказать, что одно экю равно двум, и подданные верят. Если ему приходится вести трудную войну, а денег у него вовсе нет, ему достаточно внушить им, что клочок бумаги — деньги, и они немедленно с этим соглашаются. Больше того, он внушает им, что его прикосновение излечивает их от всех болезней{27}: вот как велики сила и могущество его над умами!
То, что я говорю тебе об этом государе, не должно тебя удивлять: есть и другой волшебник, еще сильнее его, который повелевает умом этого государя даже больше, чем последний властвует над умом других людей. Этот волшебник зовется папой. Он убеждает короля в том, что три не что иное, как единица, что хлеб, который едят, не хлеб, и что вино, которое пьют, не вино, и в тысяче тому подобных вещей.
А чтобы держать сего короля в постоянном напряжении и чтобы он не утратил привычки верить, папа время от времени преподносит ему для упражнения какие-нибудь догматы веры. Два года тому назад он прислал королю большое послание, которое назвал Конституцией{28}, и хотел, под угрозой великих кар, принудить этого государя и его подданных поверить всему, что содержалось в том послании. В отношении государя это удалось, — он тотчас же подчинился и подал пример своим подданным. Но некоторые из последних взбунтовались и заявили, что не желают верить тому, что сказано в послании. Движущей силой этого бунта, разделяющего весь двор, все королевство и все семьи, являются женщины. Эта Конституция запрещает последним читать некую книгу, про которую все христиане говорят, что она была принесена с неба: это в сущности их Алкоран Женщины, возмущенные оскорблением, нанесенным их полу, поднимают всех и вся против Конституции; они привлекли на свою сторону мужчин, которые в этом случае вовсе не хотят привилегии. Следует, однако, признать, что муфтий этот рассуждает неплохо: и — клянусь великим Али! — он, по-видимому, посвящен в основы нашего святого закона. Ибо, раз женщины суть создания низшего порядка и раз наши пророки говорят, что они не попадут в рай, то зачем же им соваться в чтение книги, написанной только с тем, чтобы указать дорогу в рай?
Я слыхал о короле такие россказни, которые граничат с чудом, и не сомневаюсь, что тебе трудно будет поверить им.
Говорят, что в то время, как он вел войну с соседями{29}, заключившими против него союз, в его королевстве находилось бесчисленное множество невидимых врагов{30}. Добавляют, что он разыскивал их в течение более тридцати лет и, несмотря на неутомимые усилия некоторых дервишей{31}, пользующихся его доверием, не мог найти ни одного. Они живут с ним, находятся при его дворе, в его столице, в его войсках, в его судилищах: и тем не менее, говорят, как это для него ни прискорбно, ему придется умереть, так и не обнаружив их. Можно было бы сказать, что они существуют вкупе и ничего не представляют собою в отдельности: это — тело, но без членов. Насылая на короля неуловимых врагов, свойства и назначение которых превышает его собственные, небо несомненно хочет наказать этого государя за то, что он не соблюдал достаточной умеренности по отношению к своим побежденным врагам.
Я буду писать тебе и впредь и расскажу тебе о вещах, весьма далеких от персидских нравов и свойств. Нас с тобою носит одна и та же Земля, но люди той страны, где живу я, и той, где пребываешь ты, весьма различны.
Из Парижа, месяца Ребиаба 2, 4-го дня, 1712 годаПИСЬМО XXV. Узбек к Иббену в Смирну
Я получил письмо от твоего племянника Реди; он сообщает мне, что покидает Смирну в намерении посетить Италию и что единственная цель его путешествия — поучиться и тем самым сделаться более достойным тебя. Очень рад, что у тебя есть племянник, который со временем станет утешением твоей старости.
Рика пишет тебе длинное письмо; он говорил, что много рассказывает тебе в нем о здешней стране. Живость его ума дает ему возможность быстро все схватывать. Что касается меня, думающего медленнее, то я ничего не в состоянии сказать тебе.
Ты являешься предметом наших нежнейших бесед: мы не можем вдоволь наговориться о радушном приеме, который ты устроил нам в Смирне, и твоих повседневных дружеских услугах. Да будут у тебя везде, великодушный Иббен, столь же признательные и столь же верные друзья, как мы. Поскорее бы мне свидеться с тобою, поскорее настали бы счастливые дни, дни радостной встречи двух друзей! Прощай!
Из Парижа, месяца Ребиаба 2, 4-го дня. 1712 годаПИСЬМО XXVI. Узбек к Роксане в испаганский сераль
Какая счастливица ты, Роксана, что находишься в милой Персии, а не в здешних тлетворных местах, где люди не ведают ни стыда ни добродетели! Какая ты счастливица! Ты живешь в моем сердце, как в обители невинности, недоступная посягательствам смертных; ты радостно пребываешь в благостной невозможности греха. Никогда не осквернял тебя мужчина своими похотливыми взорами; даже твой свекор в непринужденной обстановке пира никогда не видел твоих прекрасных уст — ты неизменно надеваешь священную повязку, чтобы прикрыть их. Счастливая Роксана! Когда ты была на даче, тебя всюду сопровождали евнухи, шедшие впереди тебя, чтобы предать смерти любого дерзкого, не бежавшего при твоем приближении. Даже мне самому, которому небо даровало тебя на радость, сколько усилий пришлось употребить, прежде чем стать властелином того сокровища, которое ты защищала с таким упорством! Каким горем было для меня в первые дни нашего брака, что я не вижу тебя! И каково было мое нетерпение, когда я тебя увидел! Ты, однако, не удовлетворила его: напротив, ты его дразнила упрямыми отказами, внушенными встревоженной стыдливостью, ты смешивала меня со всеми мужчинами, от которых беспрестанно пряталась. Помнишь ли день, когда я потерял тебя среди твоих рабынь, которые изменили мне и спрятали тебя от моих поисков? Помнишь ли ты тот другой день, когда, видя, что слезы не помогают, ты прибегла к авторитету своей матери, чтобы поставить преграду неистовству моей любви? Помнишь ли, как, исчерпав все возможности, ты прибегла к тем средствам, какие обрела в своем мужестве? Ты взяла кинжал и угрожала заколоть любящего тебя супруга, если он не перестанет требовать от тебя того, что ты ценила дороже самого мужа? Два месяца прошли в этом сражении любви и добродетели. Ты зашла слишком далеко в целомудренной стыдливости; ты не сдалась даже после того как была побеждена: ты до последней крайности защищала умиравшую девственность, ты относилась ко мне, как к врагу, нанесшему тебе оскорбление, а не как к любящему супругу. Больше трех месяцев не могла ты взглянуть на меня не краснея; твой смущенный вид, казалось, упрекал меня за победу. Я даже не мог спокойно обладать тобой: ты скрывала от меня всё, что могла, из твоих чарующих прелестей, и я пьянел от великого дара в то время, как в мелких дарах мне еще отказывали. Если бы ты была воспитана в здешней стране, ты бы так не смущалась. Женщины потеряли тут всякую сдержанность: они появляются перед мужчинами с открытым лицом, словно просят о собственном поражении, они ищут мужчин взорами; они видят мужчин в мечетях, на прогулках, даже у себя дома; обычай пользоваться услугами евнухов им неизвестен. Вместо благородной простоты и милой стыдливости, которые царствуют в вашей среде, здесь видишь грубое бесстыдство, к которому невозможно привыкнуть.
Да, Роксана, если бы ты была здесь, ты почувствовала бы себя оскорбленной тем ужасным позором, до которого дошли женщины, ты бежала бы этих отвратительных мест и вздыхала бы о том тихом убежище, где ты обретаешь невинность, где ты уверена в самой себе, где никакая опасность не приводит тебя в трепет, где, наконец, ты можешь любить меня, не опасаясь когда-либо утратить любовь, которую ты обязана питать ко мне.
Когда ты усиливаешь блеск цвета лица твоего самыми красивыми красками, когда ты умащаешь тело самыми драгоценными благовониями, когда надеваешь самые прекрасные свои наряды, когда стремишься выделиться среди подруг изяществом пляски и нежностью своего пения, когда ты так мило состязаешься с ними в очаровании, кротости, игривости, я не могу себе представить, чтобы ты преследовала какую-нибудь иную цель, кроме одной-единственной: понравиться мне; а когда я вижу, как ты скромно краснеешь, как твои взоры ищут моих, как ты вкрадчиво проникаешь в мое сердце с помощью ласковых и нежных слов, я не могу, Роксана, сомневаться в твоей любви.
Но что мне думать о европейских женщинах? Их искусство румяниться и сурьмиться, побрякушки, которыми они украшают себя, их постоянная забота о собственной особе, их неутолимое желание нравиться — все это пятна на их добродетели и оскорбления для их мужей.
Это не значит, Роксана, что я считаю их способными зайти так далеко в преступлении, как то можно было бы предполагать, судя по их поведению, и что они доводят свою развращенность до ужасного, в содрогание приводящего распутства — до полного нарушения супружеской верности. Женщин, настолько развратных, чтобы дойти до этого, немного: в их сердцах живет известная добродетель, которой они наделены от рождения; воспитание ослабляет ее, но не разрушает. Они могут отступать от внешних обязательств, внушаемых стыдливостью, но если дело доходит до последнего шага, природа их возмущается. А когда мы так крепко запираем вас, приставляем к вам для стражи столько рабов, сдерживаем ваши желания, если они заходят слишком далеко, — мы делаем все это не потому, что боимся роковой неверности, а потому, что знаем, что не должно быть предела вашей чистоте и что малейшее пятнышко может загрязнить ее.
Мне жаль тебя, Роксана. Твое столь долго испытываемое целомудрие заслуживало бы такого супруга, который бы никогда не покидал тебя и сам укрощал бы желания, подавлять которые под силу только твоей добродетели.
Из Парижа, месяца Реджеба{32} 7-го дня, 1712 годаПИСЬМО XXVII. Узбек к Нессиру в Испагань
Мы находимся теперь в Париже, этом великолепном сопернике города Солнца{33}.
Уезжая из Смирны, я поручил моему другу Иббену доставить тебе ящик с кое-какими подарками: ты получишь и это письмо тем же путем Хотя между мною и Иббеном пятьсот-шестьсот миль, я сообщаю ему о себе и получаю вести от него с такою же легкостью, как если бы он был в Испагани, а я в Коме. Я посылаю свои письма в Марсель, откуда постоянно отправляются корабли в Смирну; письма, адресованные в Персию, Иббен направляет из Смирны с армянскими караванами, которые отходят в Испагань ежедневно.
Рика чувствует себя превосходно: его сильное телосложение, молодость и веселый нрав ставят его выше всяких испытаний.
Что же касается меня, я не вполне здоров: мое тело и дух подавлены; я предаюсь размышлениям, которые с каждым днем становятся все печальнее; слабеющее здоровье влечет меня на родину и еще больше отчуждает от здешней страны.
Но заклинаю тебя, Нессир, постарайся, чтобы мои жены не знали, в каком состоянии я нахожусь. Если они любят меня, я хочу избавить их от слез; если не любят, не хочу усугублять их смелость.
Если мои евнухи вообразят, что я в опасности, они станут надеяться на безнаказанность подлой их угодливости и скоро поддадутся льстивому голосу этого пола, умеющего растрогать даже скалы и способного пленить неодушевленные предметы.
Прощай, Нессир. С удовольствием выражаю тебе мое доверие.
Из Парижа месяца Шахбана 5-го дня, 1712 годаПИСЬМО XXVIII. Рика к ***
Вчера видел я здесь нечто довольно странное, хотя и происходящее в Париже изо дня в день.
К концу послеобеденного времени все собираются и разыгрывают своего рода представление, которое, как я слышал, называют комедией. Главное действие происходит на подмостках, именуемых театром. По обеим сторонам, в конурках, которые зовутся ложами, видны мужчины и женщины, разыгрывающие между собою немые сцены, вроде тех, какие в ходу у нас в Персии.
Здесь — огорченная любовница, выражающая свое томление; там другая, страстная на вид, с огненным взором, пожирает очами своего возлюбленного, который смотрит на нее горящими глазами: все страсти отражены на лицах и выражаются весьма красноречиво, хоть и без слов. Актрисы, действующие в ложах, показываются только до талии и обычно из скромности носят муфты, чтобы прикрыть свои обнаженные руки. Внизу стоит толпа{34}, потешающаяся над теми, что находится наверху, на театре, а эти последние смеются над стоящими внизу.
Но особенно суетятся несколько человек, которых для этого набирают из числа молодых людей, способных выдерживать усталость. Они обязаны быть всюду; они пробираются сквозь им одним известные лазейки, с удивительной ловкостью носятся с яруса на ярус; они и наверху, и внизу, и во всех ложах. Они, так сказать, ныряют: только потеряешь их из виду, как они тут как тут; часто они покидают свое место на сцене и идут играть в другое; видишь и таких, которые каким-то чудом, несмотря на костыли, расхаживают не хуже других. Наконец, переходишь в залы, где представляется особого рода комедия: сперва обмениваются глубокими поклонами, потом начинают обниматься. Говорят, будто достаточно самого поверхностного знакомства с человеком, чтобы иметь право душить его в объятиях. По-видимому, самое место располагает к нежности. Говорят, будто царствующие там принцессы отнюдь не жестоки и что за исключением двух-трех часов в день, когда они бывают довольно свирепы, они, можно сказать, вполне доступны, и эта блажь у них легко проходит.
Все, о чем я тебе здесь рассказываю, приблизительно так же происходит и в другом месте, именуемом Оперой: вся разница в том, что в одном разговаривают, а в другом поют. Приятель повел меня намедни в ложу, где раздевалась одна из главных актрис. Мы так быстро с ней сдружились, что на следующее утро я получил от нее письмо такого содержания:
«Сударь!
Я несчастнейшая девушка в мире; я всегда была самой добродетельной актрисой Оперы. Месяцев семь-восемь тому назад, когда я была в ложе, где Вы видели меня вчера, и одевалась в костюм жрицы Дианы, ко мне вошел молодой аббат и, без всякого уважения к моему белому одеянию, покрывалу и повязке, похитил мою невинность. Как ни указывала я ему на принесенную мною жертву, он только хохотал и уверял, что не нашел во мне ничего священного. Между тем я так растолстела, что не решаюсь больше показываться в театре, ибо мне свойственна необычайная щепетильность в вопросах чести; я всегда утверждаю, что порядочную девушку легче лишить добродетели, чем скромности. Вы понимаете, что при такой моей щепетильности этот молодой аббат никогда бы ничего не добился, если бы не обещал жениться на мне; столь законное его намерение понудило меня пренебречь обычными мелкими формальностями и начать с того, чем надлежало бы кончить. Но так как его неверность обесчестила меня, я не хочу больше служить в Опере, где, говоря между нами, еле зарабатываю на пропитание, потому что становлюсь все старше и прелести мои увядают, а жалованье, остающееся все тем же, с каждым днем словно уменьшается. От одного из членов Вашей свиты я узнала, что в Вашей стране чрезвычайно ценят хороших танцовщиц и что в Испагани я тотчас же составила бы себе состояние. Если бы Вы согласились оказать мне покровительство и увезти с собою в эту страну, то сделали бы доброе дело для девушки, которая благодаря своему добронравию и отменному поведению не окажется недостойной Вашей доброты. Имею честь пребывать...»
Из Парижа, месяца Шальвала{35} 2-го дня, 1712 годаПИСЬМО XXIX. Рика к Иббену в Смирну
Папа — глава христиан. Это старый идол, которому кадят по привычке. Когда-то его боялись даже государи, потому что он смещал их с такой же легкостью, с какой наши великолепные султаны смещают царей Имеретии и Грузии{36}. Но теперь его уже больше не боятся. Он называет себя преемником одного из первых христиан, которого зовут апостолом Петром, и это несомненно — богатое наследие, так как под владычеством папы находится большая страна и огромные сокровища.
Епископы — это законники, подчиненные папе и выполняющие под его началом две весьма различные обязанности. Когда они находятся в сборе, то, подобно папе, составляют догматы веры; а у каждого из них в отдельности нет другого дела, как только разрешать верующим нарушать эти догматы. Надо тебе сказать, что христианская религия изобилует очень трудными обрядами, и так как люди рассудили, что менее приятно исполнять обязанности, чем иметь епископов, которые освобождают от этих обязанностей, то ради общественной пользы и приняли соответствующее решение. Поэтому, если кто-нибудь не хочет справлять рамазан, подчиняться определенным формальностям при заключении брака, желает нарушить данные обеты, жениться вопреки запрету закона, а иногда даже преступить клятву, то он обращается к епископу или к папе, которые тотчас же дают разрешение.
Епископы не сочиняют догматов веры по собственному побуждению. Существует бесчисленное количество ученых, большею частью дервишей, которые поднимают в своей среде тысячи новых вопросов касательно религии; им предоставляют долго спорить, и распря продолжается до тех пор, пока не будет принято решение, которое положит ей конец.
Поэтому могу тебя уверить, что никогда не было царства, в котором происходило бы столько междоусобиц, как в царстве Христа.
Тех, которые выносят на свет божий какое-нибудь новое предложение, сначала называют еретиками. Каждая ересь имеет свое имя, которое является как бы объединяющим словом для ее сторонников. Но кто не хочет, тот может и не считаться еретиком: для этого человеку нужно только придерживаться инакомыслия лишь наполовину и установить различие между собою и теми, кого обвиняют в ереси; каким бы это различие ни было — вразумительным или невразумительным — его достаточно, чтобы обелить человека и чтобы отныне он мог называться правоверным.
То, о чем я тебе рассказываю, относится к Франции и Германии, а в Испании и Португалии, говорят, есть такие дервиши, которые совершенно не разумеют шуток и жгут людей, как солому. Когда кто-нибудь попадает в их руки, то счастлив он, если всегда молился богу с маленькими деревянными зернышками{37} в руках, носил на себе два куска сукна, пришитых к двум лентам{38}, и побывал в провинции, называемой Галисией{39}! Без этого бедняге придется туго. Как бы он ни клялся в своем правоверии, его клятвам не поверят и сожгут его как еретика; как бы он ни доказывал свое отличие от еретика, — никаких отличий! Он превратится в пепел раньше, чем кто-нибудь подумает его выслушать.
Иные судьи заранее предполагают невинность обвиняемого, эти же всегда заранее считают его виновным. В случае сомнения они непременно склоняются к строгости, — очевидно потому, что считают людей дурными. Но, с другой стороны, они такого хорошего мнения о людях, что не считают их способными лгать, ибо придают значение свидетельским показаниям смертельных врагов обвиняемого, женщин дурного поведения, людей, занимающихся скверным ремеслом. В своих приговорах они обращаются со словами ласки к людям, одетым в рубашку, пропитанную серой{40}, и заверяют, что им очень досадно видеть приговоренных в такой плохой одежде, что они по природе кротки, страшатся крови и в отчаянии от того, что осудили их; а чтобы утешиться, они отчуждают в свою пользу все имущество этих несчастных.
Благословенна страна, обитаемая детьми пророков! Такие прискорбные зрелища там неведомы{41}. Святая вера, которую принесли в нее ангелы, защищается собственной своею истинностью: ей нет нужды в насилии, чтобы процветать.
Из Парижа, месяца Шальвала 4-го дня, 1712 годаПИСЬМО XXX. Рика к нему же в Смирну
Жители Парижа любопытны до крайности. Когда я приехал, на меня смотрели, словно на посланца небес: старики, мужчины, женщины, дети — все хотели меня видеть. Когда я выходил из дому, люди бросались к окнам; если я гулял в Тюильри, около меня тотчас же собиралась толпа: женщины окружали меня, как радуга, переливающая тысячью цветов. Когда я посещал спектакль, на меня направлялись сотни лорнетов; словом, никогда так не рассматривали человека, как меня. Порою я улыбался, слыша, что люди, почти не выходившие из своей комнаты, говорили обо мне: «Спору нет, у него совсем персидский вид». Удивительное дело: всюду мне попадались мои портреты; я видел свои изображения во всех лавочках, на всех каминах — люди не могли наглядеться на меня.
От стольких почестей становится, наконец, не по себе; я и не подозревал, что я такой интересный и редкостный человек, и, хотя я о себе и очень хорошего мнения, все же я никогда не воображал, что мне придется смутить покой большого города, где я никому не известен. Это понудило меня снять персидское платье и облачиться в европейское, чтобы проверить, останется ли после этого еще что-нибудь замечательное в моей физиономии. Этот опыт дал мне возможность узнать, чего я стою на самом деле. Освободившись от иностранных прикрас, я был оценен самым правильным образом. Я мог бы пожаловаться на портного: он в одно мгновение отнял у меня всеобщее внимание и уважение, ибо я вдруг превратился в ужасное ничтожество. Иногда я целый час сижу в обществе, и никто на меня не смотрит и не дает мне повода раскрыть рот, но стоит кому-нибудь случайно сообщить компании, что я персиянин, как сейчас же подле меня начинается жужжание: «Ах! ах! Этот господин — персиянин? Вот необычайная редкость! Неужели можно быть персиянином?»
Из Парижа, месяца Шальвала 6-го дня, 1712 годаПИСЬМО XXXI. Реди к Узбеку в Париж
Я нахожусь сейчас в Венеции, дорогой Узбек. Можно перевидать все города на свете и все-таки прийти в изумление, приехав в Венецию: этот город, его башни и мечети, выходящие из воды, всегда будут вызывать восторг, и всегда будешь диву даваться, что в таком месте, где должны были бы водиться одни рыбы, живет так много народу.
Но этот нечестивый город лишен драгоценнейшего сокровища в мире, а именно проточной воды: в нем невозможно совершить ни одного установленного законом омовения. Он вызывает отвращение у нашего святого пророка, с гневом взирающего на него с высоты небес.
Если бы не это, дорогой Узбек, я был бы восхищен жизнью в городе, где мой ум развивается с каждым днем. Я осведомляюсь о торговых тайнах, об интересах государей, о форме их правления; я не пренебрегаю даже европейскими суевериями; обучаюсь медицине, физике, астрономии; изучаю искусства; словом, выхожу из тумана, который заволакивал мне взор в моей отчизне.
Из Венеции, месяца Шальвала 16-го дня, 1712 годаПИСЬМО XXXII. Рика к ***
Как-то раз я пошел посмотреть некий дом, в котором довольно плохо содержится около трехсот человек{42}. Я скоро окончил осмотр, ибо церковь и другие здания не заслуживают особого внимания. Обитатели этого дома были довольно веселы; многие из них играли в карты или в другие, неизвестные мне игры. Когда я выходил, вместе со мною вышел один из этих людей; слыша, что я спрашиваю, как пройти в Марэ, самый отдаленный квартал Парижа, он сказал мне: «Я иду туда и провожу вас; следуйте за мною». Он отлично довел меня, выручил из всех затруднений и ловко оберег от повозок и карет. Мы почти уже дошли, когда мной овладело любопытство. «Добрый друг, — сказал я ему, — не могу ли я узнать, кто вы?» — «Я слепой, сударь», — ответил он. «Как! говорю я. — Вы слепой?! Почему же вы не попросили почтенного человека, игравшего с вами в карты, проводить нас?» — «Он тоже слепой; вот уже четыреста лет, как в том доме, где вы меня встретили, живет триста слепых. Но мне пора расстаться с вами; вот улица, которую вы спрашивали, а я вмешаюсь в толпу и войду в эту церковь, где, уверяю вас, доставлю людям куда больше беспокойства, чем они мне».
Из Парижа, месяца Шальвала 17-го дня, 1712 годаПИСЬМО XXXIII. Узбек к Реди в Венецию
В Париже вино благодаря пошлинам, которыми оно обложено, так дорого, словно здесь решили следовать предписаниям священного Алкорана, запрещающего его пить.
Когда я думаю о пагубных последствиях этого напитка, я не могу не считать его самым страшным даром, который природа сделала людям. Ничто так не запятнало жизнь и добрую славу наших монархов, как невоздержность: она самый ядовитый источник их несправедливостей и жестокостей.
Скажу к человеческому стыду: закон запрещает нашим государям употребление вина, а они пьют его в таком излишестве, что теряют человеческий облик. Наоборот, христианским государям пить вино дозволяется, и незаметно, чтобы это побуждало их делать что-либо неподобающее. Человеческий дух — само противоречие. На разгульных пирах люди с бешенством восстают против всяких предписаний, а закон, созданный для того, чтобы сделать нас праведными, часто только усугубляет наши пороки.
Но, осуждая употребление этого питья, затемняющего наш рассудок, я отнюдь не осуждаю напитков, которые оживляют его. Мудрость людей Востока состоит в том, чтобы искать лекарств от печали с такой же заботливостью, как и от пагубных болезней. Когда какое-нибудь несчастье приключится с европейцем, у него не бывает другого прибежища, кроме чтения философа, именуемого Сенекой; азиаты же, которые рассудительнее европейцев и более искусны в медицине, пьют в таких случаях напитки, обладающие способностью развеселить человека и прогнать воспоминание о невзгодах.
Нет ничего прискорбнее утешений, говорящих о необходимости зла, о тщетности лекарств, о неотвратимости рока, о порядке, установленном провидением, и об извечных немощах человека. Сущей насмешкой является желание смягчить зло тем соображением, что человек рождается несчастным; гораздо лучше отвлекать ум от таких размышлений и обращаться с человеком, как с существом чувствительным, вместо того чтобы взывать к его рассудительности.
Тело беспрестанно тиранит соединенную с ним душу. Если кровообращение замедлено, если жизненные соки не вполне чисты, если они находятся не в достаточном количестве, мы впадаем в уныние и печаль. Когда же мы прибегаем к напиткам, которые могут изменить такое состояние нашего тела, душа наша вновь обретает восприимчивость к бодрящим впечатлениям и испытывает тайное удовольствие, ощущая, что механизм, так сказать, вновь возвращается к движению и жизни.
Из Парижа, месяца Зилькаде{43} 25-го дня, 1713 годаПИСЬМО XXXIV. Узбек к Иббену в Смирну
Персиянки красивее француженок, зато француженки миловиднее. Трудно не любить первых и не находить удовольствия в общении со вторыми: одни нежнее и скромнее, другие веселее и жизнерадостнее.
Такими красивыми делает женщин в Персии размеренная жизнь, которую они ведут там: они не играют в карты, не проводят бессонных ночей, не пьют вина и почти никогда не выходят на воздух. Нужно признать, что жизнь в серале приспособлена больше для сохранения здоровья, чем для удовольствий: это жизнь ровная и тихая; все там отзывается подчинением и долгом; даже самые удовольствия степенны и радости суровы, и они почти всегда являются проявлением авторитета и следствием зависимости.
Да и мужчины в Персии не отличаются живостью французов: в них не чувствуется той духовной свободы, и нет у них того довольного вида, которые я замечаю здесь во всех сословиях и при всех состояниях.
А уж о Турции и говорить нечего: там можно найти семьи, в которых с самого основания монархии, из поколения в поколение, никто никогда не смеялся.
Серьезность азиатов происходит оттого, что они мало общаются между собою: они видят друг друга только в тех случаях, когда их вынуждает к этому церемониал. Им почти неведома дружба, этот сладостный союз сердец, составляющий здесь отраду жизни; они сидят по домам, где всегда находят одно и то же поджидающее их общество, так что каждая семья, так сказать, замкнута в самой себе.
Как-то раз, когда я беседовал об этом с одним из здешних жителей, он сказал мне: «В ваших нравах меня отталкивает больше всего то, что вы принуждены жить с рабами, на сердце и уме которых всегда сказывается их приниженное положение. Эти подлые люди ослабляют в вас чувства добродетели, вложенные природой, и разрушают эти чувства с самого детства, когда вас сдают им на руки. Словом, освободитесь от предрассудков. Чего можно ожидать от воспитания, если воспитатель — существо отверженное, вся честь которого состоит в том, что оно сторожит жен другого; существо, гордящееся самой гнусной должностью, какая только существует у людей; если это человек, заслуживающий презрения именно за свою верность, являющуюся единственной его добродетелью, ибо только зависть, ревность и отчаяние побуждают его быть верным; человек, горящий жаждою отомстить обоим полам, от коих он отторгнут, соглашающийся переносить тиранство более сильного пола, лишь бы иметь возможность доводить до отчаяния более слабый; человек, который обязан всем блеском своего положения — собственному несовершенству, безобразию и уродству и которого уважают лишь потому, что он недостоин уважения; который, наконец, будучи навсегда прикован к отведенной для него двери и став более неподатливым, чем крюки и засовы, запирающие ее, кичится тем, что пятьдесят лет стоит на этом недостойном посту, где, уполномоченный ревностью своего господина, он проявляет всю свою низость?»
Из Парижа месяца Зильхаже 14-го дня, 1713 годаПИСЬМО XXXV, Узбек к Джемшиду, своему двоюродному брату, дервишу достославного монастыря в Тавризе
Что думаешь ты о христианах, вдохновенный дервиш? Считаешь ли ты, что в день страшного суда с ними будет то же, что с неверными турками, которые послужат ослами для иудеев и крупной рысью повезут их в ад? Я знаю, что в обитель пророков они не попадут и не для них приходил Али. Но думаешь ли ты, что они будут осуждены на вечные мучения за то, что не имели счастья найти мечети в своей стране, неужели бог накажет их за то, что они не исповедовали религии, которой он им не дал? Могу тебе сказать: я часто расспрашивал христиан, испытывал их, чтобы проверить, имеют ли они хоть какое-нибудь понятие о великом Али, который был прекраснейшим из людей; оказалось, что они никогда и не слыхали о нем.
Они отнюдь не походят на тех неверных, которых наши святые пророки приказывали рубить мечом за то, что они не верят в небесные чудеса: они скорее похожи на тех несчастных, которые жили во тьме язычества до того дня, пока божественный свет не озарил лик нашего великого пророка.
К тому же, если присмотреться к религии христиан, в ней найдешь как бы зачатки наших догматов. Я часто дивился тайнам провидения, которое, по-видимому, хочет подготовить их этим к полному обращению. Я слыхал об одном сочинении их ученых, озаглавленном «Торжествующее многоженство»{44}; в нем доказывается, что христианам предписано многоженство. Их крещение похоже на установленные нашим законом омовения, и заблуждаются христиане лишь в том, что придают чрезмерное значение этому первому омовению, считая его достаточной заменой всем остальным. Их священники и монахи молятся, подобно нам, семь раз в день. Христиане чают попасть в рай и вкусить там наслаждения благодаря воскресению плоти. Они, как и мы, умерщвляют плоть и соблюдают посты, с помощью которых надеются заслужить божественное милосердие. Они чтят добрых ангелов и остерегаются злых. Они свято верят чудесам, которые бог творит через посредство своих служителей. Они, подобно нам, признают недостаточность собственных заслуг и необходимость иметь посредников между собою и богом. Я всюду нахожу здесь магометанство, хотя и не нахожу Магомета.
Что ни делай, а истина прорывается и всегда пронизывает окружающий ее мрак. Наступит день, когда Предвечный увидит на земле одних только правоверных. Всесокрушающее время развеет и заблуждения. Люди с удивлением увидят, что все они осенены одним и тем же знаменем: все, в том числе и закон, станет совершенно; божественные книги взяты будут с земли и перенесены в небесные архивы.
Из Парижа, месяца Зильхаже 14-го дня, 1713 годаПИСЬМО XXXVI. Узбек к Реди в Венецию
В Париже в большом употреблении кофе: здесь много публичных заведений, где его подают. В некоторых из этих домов посетители рассказывают друг другу новости, в иных играют в шахматы. Есть даже дом{45}, где приготовляют кофе таким способом, что он прибавляет ума тем, кто его пьет; по крайней мере всякий выходящий оттуда считает, что стал куда умнее, чем был при входе.
Но особенно отталкивает меня от этих остроумцев то, что они не приносят никакой пользы отечеству и тратят свои таланты на всякие ребяческие выходки. Когда, например, я приехал в Париж, я застал их за горячим спором{46} по самому пустому вопросу, какой только можно вообразить: дело шло о достоинствах одного древнегреческого поэта, ни родина, ни время смерти которого вот уже две тысячи лет никому не известны. Обе партии признавали, что поэт он превосходный, вопрос шел только о степени его достоинств. Каждый устанавливал свою собственную оценку, но среди этих мастеров репутаций одни были щедрее других: вот и вся распря. Она была очень оживленной, так как противники от всего сердца наносили друг другу столь тяжкие оскорбления и подшучивали одни над другими так язвительно, что я дивился манере спорить не меньше, чем самому предмету спора. «Если бы нашелся, — думал я, — настолько безрассудный человек, чтобы при ком-нибудь из этих защитников греческого поэта напасть на доброе имя какого-либо честного гражданина, ему бы показали! Несомненно, что столь благородное усердие, проявляемое по отношению к доброму имени мертвых, воспламенилось бы и на защиту живых! Но как бы там ни было, — прибавлял я про себя, — не дай мне бог навлечь на себя когда-нибудь вражду хулителей этого поэта, которого не защитило от такой неумолимой ненависти даже двухтысячелетнее пребывание в могиле! Теперь они машут кулаками впустую, но что было бы, если бы их бешенство воодушевлялось присутствием врага?»
Те, о ком я только что говорил, спорят на общепринятом языке, и их следует отличать от другого рода спорщиков, которые пользуются языком варварским{47}, еще усугубляющим ярость и упрямство вояк. Существуют кварталы{48}, кишащие черною, густою толпой этого рода людей; они питаются мелочными придирками, они живут туманными рассуждениями и ложными выводами. Это ремесло, казалось бы, должно привести людей к голодной смерти, а оно приносит изрядный доход. Целый народ{49} был изгнан из своей страны, пересек моря, чтобы обосноваться во Франции, но он не привез при этом с собою для защиты от жизненных невзгод ничего, кроме ужасного таланта спорить. Прощай.
Из Парижа, в последний день месяца Зильхаже 1713 годаПИСЬМО XXXVII. Узбек к Иббену в Смирну
Король Франции стар{50}. У нас в истории не найдется примера столь долгого царствования. Как слышно, этот монарх в очень высокой степени обладает талантом властвовать: с одинаковой ловкостью управляет он своею семьей, двором, государством. Не раз он говорил, что из всех правительств на свете ему больше всего по нраву турецкое и нашего августейшего султана: так высоко ценит он восточную политику.
Я изучал его характер и обнаружил в нем противоречия, которые никак не могу объяснить: есть у него, например, министр, которому всего восемнадцать лет, и возлюбленная, которой восемьдесят{51}; он верен своей религии и в то же время терпеть не может тех, кто говорит, что ее нужно соблюдать неукоснительно; хотя он бежит от городского шума и мало с кем общается, он тем не менее с утра до вечера занят только тем, чтобы дать повод говорить о себе; он любит трофеи и победы, однако так же боится поставить хорошего генерала во главе своих войск, как боялся бы его во главе неприятельской армии. Я думаю, что только с ним одним могло случиться, что он в одно и то же время обладает такими несметными богатствами, о каких даже монарх может только мечтать, и удручен такою бедностью, которая даже простому человеку была бы в тягость.
Он любит награждать тех, кто ему служит, но одинаково щедро оплачивает как усердие, или, вернее, безделье, придворных, так и трудные походы полководцев; часто он предпочитает человека, который помогает ему раздеться или подает ему салфетку, когда он садится за стол — тому, кто берет для него города или выигрывает сражения; он думает, что царственное величие не должно быть ничем стеснено в даровании милостей и, не разбираясь, заслуженно ли он осыпал того или иного милостями, полагает, что самый его выбор уже делает человека достойным монаршего благоволения. Так, например, некоему человеку, убежавшему от неприятеля на две мили, он дал ничтожную пенсию, а тому, кто убежал на четыре, — целую губернию.
Он окружен великолепием — я имею в виду прежде всего его дворцы; в его садах больше статуй, чем жителей в ином большом городе. Его гвардия почти так же сильна, как гвардия государя, перед которым падают ниц все троны; его войска столь же многочисленны, его возможности так же велики, а казна столь же неисчерпаема.
Из Парижа, месяца Махаррама 7-го дня, 1713 годаПИСЬМО XXXVIII. Рика к Иббену в Смирну
Большой вопрос для мужчин: выгоднее ли отнять свободу у женщин, чем предоставить ее им? Мне кажется, есть много доводов и за и против. Европейцы считают, что невеликодушно причинять огорчения тем, кого любишь, а наши азиаты отвечают, что для мужчин унизительно отказываться от власти над женщинами, которую сама природа предоставила им. Если азиатам говорят, что большое число запертых женщин обременительно, то они отвечают, что десять послушных жен менее обременительны, чем одна непослушная. А когда азиаты в свою очередь возражают, что европейцы не могут быть счастливы с неверными женами, они получают в ответ, что верность, которой они так хвастаются, не мешает отвращению, всегда наступающему вслед за удовлетворением страсти; что наши женщины слишком уж наши; что такое спокойное обладание не оставляет нам ни желаний, ни опасений; что немного кокетства — соль, обостряющая вкус и предупреждающая порчу. Пожалуй, иной, и поумнее меня, затруднится решить это, ибо если азиаты очень стараются о том, как бы найти средства, могущие успокоить их тревогу, то европейцы много делают для того, чтобы вовсе ее не испытывать.
«В конце концов, — говорят они, — если бы мы оказались несчастны в качестве мужей, мы всегда найдем средство утешиться в качестве любовников. Лишь в том случае муж был бы вправе жаловаться на неверность своей жены, если бы на свете было только три человека; но люди всегда достигнут цели, если их будет хотя бы четверо».
Другой вопрос, подчиняет ли женщин мужчинам естественный закон. «Нет, сказал мне однажды один весьма галантный философ, — природа никогда не предписывала такого закона. Власть наша над женщинами — настоящая тирания; они только потому позволили нам захватить ее, что они мягче нас и, следовательно, человечнее и разумнее. Эти преимущества их перед нами несомненно дали бы женщинам превосходство, если бы мы были рассудительнее; в действительности же эти качества повлекли за собою утерю женщинами превосходства, ибо мы вовсе не рассудительны».
Однако если верно, что мы имеем над женщинами только тираническую власть, то не менее верно и то, что их власть над нами естественна: это власть красоты, которой ничто не в силах сопротивляться. Наша власть над женщинами распространена не во всех странах, а власть красоты повсеместна. На чем же может основываться наше преимущество? На том, что мы сильнее? Но это отнюдь не справедливо. Мы пускаем в ход всякого рода средства, чтобы лишить их храбрости. Если бы одинаково было воспитание, силы были бы равны. Испытаем их в тех талантах, которые не ослаблены воспитанием, и посмотрим, так ли уж мы сильны.
Надо признаться, хотя это и противно нашим нравам: у самых цивилизованных народов жены всегда имели влияние на своих мужей; у египтян это было установлено законом в честь Изиды, у вавилонян — в честь Семирамиды. О римлянах говорили, что они повелевают всеми народами, но повинуются своим женам. Я уж молчу о савроматах{52}, которые находились прямо-таки в рабстве у женщин: они слишком были варварами, чтобы приводить их в пример.
Как видишь, дорогой Иббен, мне пришлась по вкусу эта страна, где любят придерживаться крайних мнений и все сводить к парадоксам. Пророк решил этот вопрос и определил права того и другого пола. «Жены, — говорит он, — должны почитать своих мужей, мужья должны почитать жен; но мужья все же на одну ступень выше, чем жены»{53}.
Из Парижа, месяца Джеммади 2, 26-го дня, 1713 годаПИСЬМО XXXIX. Хаджи{54} Ибби к иудею бен-Иошуа, новообращенному магометанину, в Смирну
Мне кажется, бен-Иошуа, что рождению необыкновенных людей всегда предшествуют поразительные знамения, словно природа испытывает своего рода кризис, и силы небесные порождают таких людей не без усилия.
Нет ничего чудеснее рождения Магомета. Бог, в своем предвидении с самого начала решивший послать людям этого великого пророка, дабы сковать сатану, за две тысячи лет до Адама создал свет, который, переходя от избранника к избраннику, от предка к предку Магомета, дошел, наконец, до последнего, как подлинное свидетельство о том, что он происходит от патриархов.
Точно так же ради этого самого пророка бог пожелал, чтобы ни одна женщина не зачала, не перестав быть нечистой, и чтобы всякий мужчина подвергся обрезанию.
Магомет явился на свет обрезанным; радость с самого рождения засветилась на его челе; земля трижды содрогнулась, как если бы сама разрешилась от бремени; все идолы простерлись ниц; троны царей опрокинулись; Люцифер был низвергнут на дно морское и, только проплавав сорок дней, выбрался из пучины и убежал на гору Кабеш{55}, откуда страшным голосом воззвал к ангелам.
В ту ночь бог положил преграду между мужчиной и женщиной, которой они не могли преступить. Искусство кудесников и некромантов оказалось бессильным. С небес раздался голос, возвестивший: «Я послал в мир своего верного друга».
Согласно свидетельству арабского историка Исбена Абена{56}, все породы птиц, облака, ветры и сонмы ангелов соединились для того, чтобы воспитать этого ребенка, и оспаривали друг у друга эту великую честь. Птицы щебетали, что им всех удобнее его воспитывать, потому что им легче собирать для него плоды из различных мест. Ветры шептали: «Это скорее наше дело, потому что мы отовсюду можем приносить ему приятнейшие благоухания». — «Нет, нет, — говорили облака, — его надо доверить нашему попечению, ибо мы постоянно будем наделять его свежей водой». Возмущенные ангелы воскликнули на это: «А нам-то что же остается?» Но тут раздался голос с неба, положивший конец этим спорам: «Он не будет взят из рук смертных, ибо блаженны сосцы, которые вскормят его, и руки, которые будут касаться его, и дом, в котором будет он обитать, и ложе, на котором будет он покоиться!»
После стольких разительных свидетельств, возлюбленный Иошуа, надобно обладать железным сердцем, чтобы не верить святому закону Магомета. Что еще могло совершить небо, чтобы засвидетельствовать его божественную миссию? Разве только сокрушить природу и истребить тех самых людей, которых оно хотело убедить?
Из Парижа месяца Реджеба 20-го дня, 1713 годаПИСЬМО XL. Узбек к Иббену в Смирну
Когда умирает какой-нибудь вельможа, люди собираются в мечети и над ним произносят надгробное слово, являющееся похвальной речью в его честь, речью, из которой трудно вывести правильное заключение о заслугах усопшего.
Я бы упразднил все погребальные торжества. Людей следует оплакивать при рождении, а не по смерти. К чему церемонии и вся та мрачная обстановка, которыми окружают умирающего в его последние минуты, к чему даже слезы его родных и горе друзей, как не для того, чтобы еще усугубить предстоящую ему утрату!
Мы так слепы, что не знаем, когда нам огорчаться и когда радоваться: мы почти всегда отдаемся ложной печали или ложной радости.
Когда я вижу, как каждый год Могол сдуру ложится на весы и велит взвесить его, словно быка; когда я вижу, как народ радуется, что государь этот сделался еще тучнее, то есть еще неспособнее управлять подданными, я испытываю, Иббен, сострадание к человеческому сумасбродству.
Из Парижа, месяца Реджеба 20-го дня, 1713 годаПИСЬМО XLI. Главный черный евнух к Узбеку
Светлейший повелитель! На днях умер один из твоих черных евнухов Измаил, и надо заменить его. В настоящее время евнухи чрезвычайно редки, поэтому я подумал было взять на эту должность черного раба из твоего имения, но мне еще не удалось добиться его согласия. Так как я считаю, что это в конечном счете пойдет ему же на пользу, я хотел совершить над ним маленькую операцию и, по сговору со смотрителем твоих садов, приказал, чтобы раба насильно привели в то состояние, которое позволит ему стать самым дорогим для твоего сердца служителем и жить, подобно мне, в тех заветных местах, на которые он теперь и взглянуть не смеет; но он принялся так орать, словно с него хотели содрать шкуру, и поднял такую возню, что вырвался из наших рук и избежал рокового лезвия. Сейчас я узнал, что он намеревается писать тебе просьбу о пощаде, утверждая, будто я принял такое намерение только из ненасытной жажды мести за какие-то его насмешки на мой счет. Но клянусь тебе сотней тысяч пророков, что я поступал так только для твоего блага, ради единственного, что дорого мне и вне чего все мне безразлично. Припадаю к стопам твоим.
Из сераля Фатимы, месяца Махаррама 7-го дня, 1713 годаПИСЬМО XLII. Фаран к Узбеку, своему повелителю и государю
Если бы ты был здесь, светлейший государь, я бы явился пред твоими очами весь окутанный белой бумагой, и все же на ней не хватило бы места, чтобы описать все обиды, какие нанес мне после твоего отъезда твой главный черный евнух, злейший из людей.
Под предлогом каких-то насмешек, которые я будто бы позволял себе над его несчастным положением, он обрушивает на мою голову неутолимое мщение: он настроил против меня жестокого смотрителя твоих садов, и тот взваливает на меня со времени твоего отъезда непосильную работу, на которой я тысячу раз чуть не лишался жизни, хотя ни на миг не ослабил усердия к твоей службе. Сколько раз я думал: «Господин мой исполнен кротости, и все же я несчастнейший из рабов».
Признаюсь тебе, светлейший повелитель, я не думал, что мне предуготовлена еще большая беда; но предатель-евнух задумал довести свою злобу до крайности. Несколько дней тому назад он собственной властью назначил меня стражем к твоим священным женам, то есть приговорил меня к такой казни, которая для меня в тысячу раз горше смерти. Те, кто при рождении имел несчастье подвергнуться подобному обращению от своих жестокосердых родителей, вероятно утешаются тем, что никогда не знали другого состояния, но если меня лишат человеческой природы и отнимут у меня мужскую силу, я умру с горя, если не умру от этого истязания.
С глубоким смирением припадаю я к твоим стопам, высокий господин мой. Поступи так, чтобы я почувствовал на себе благость твоей высокочтимой добродетели и чтобы не говорили, что по твоему повелению стало на земле одним несчастным больше.
Из садов Фатимы, месяца Махаррама 7-го дня, 1713 годаПИСЬМО XLIII. Узбек к Фарану в сады Фатимы
Возрадуйся в сердце своем и прочти эти священные письмена; дай облобызать их главному евнуху и смотрителю моих садов. Я запрещаю им что-либо совершать над тобою до моего приезда; скажи, чтобы они купили недостающего евнуха. Исполняй свой долг так, как если бы я всегда был перед тобою. И знай, что чем больше мои милости к тебе, тем строже ты будешь наказан, если употребишь их во зло.
Из Парижа, месяца Реджеба 25-го дня, 1713 годаПИСЬМО XLIV. Узбек к Реди в Венецию
Во Франции есть три сословия: священнослужители, военные и чиновники. Каждое из них глубоко презирает два других: того, например, кого следовало бы презирать лишь потому, что он дурак, часто презирают только потому, что он принадлежит к судейскому сословию.
Нет таких людей, до самого последнего ремесленника, которые не спорили бы о превосходстве избранного ими ремесла; каждый превозносится над тем, у кого другая профессия, в соответствии с мнением, которое он составил себе о превосходстве своего занятия.
Все люди более или менее походят на ту женщину из Эриванской провинции, которой оказал милость один из наших монархов: призывая на него благословения, она тысячу раз пожелала ему, чтобы небо сделало его губернатором Эривани.
Я прочитал в одном донесении, что французский корабль пристал к берегам Гвинеи и несколько человек из экипажа сошло на сушу, чтобы купить баранов. Их повели к королю, который, сидя под деревом, чинил суд над своими подданными. Он восседал на троне, сиречь на деревянной колоде, с такой важностью, словно то был престол Великого Могола; при нем было три-четыре телохранителя с деревянными копьями; зонтик вроде балдахина защищал его от палящего солнца; все украшения его и королевы, его супруги, заключались в их черной коже да нескольких кольцах. Этот жалкий, но еще более того чванливый государь спросил у иностранцев, много ли говорят о нем во Франции. Он был убежден, что его имя гремит повсюду, от полюса до полюса, и в отличие от того завоевателя, о котором говорят, что он заставил молчать весь земной шар, был уверен, что дал всей вселенной повод беспрестанно говорить о себе.
Когда татарский хан кончает обед, глашатай объявляет, что теперь все государи мира могут, если им угодно, садиться за стол, и этот варвар, питающийся одним только молоком, промышляющий разбоем и не имеющий даже лачуги, считает всех земных королей своими рабами и намеренно оскорбляет их по два раза в день.
Из Парижа месяца Реджеба 28-го дня, 1713 годаПИСЬМО XLV. Рика к Узбеку в ***
Вчера утром, еще лежа в постели, я услышал сильный стук в дверь; тотчас же она распахнулась, и в комнату ворвался некий человек, с которым я недавно познакомился; казалось, он совершенно вне себя.
Одет он был более чем скромно; парик его сбился в сторону и далее не был причесан; у него не было времени починить свой черный кафтан, и на этот раз мой знакомец отказался от мудрых предосторожностей, с помощью которых он обычно прикрывает ветхость своего наряда.
«Вставайте, — сказал он мне, — вы нужны мне на весь сегодняшний день: мне надобно сделать множество покупок, и я буду очень рад, если вы согласитесь мне сопутствовать. Прежде всего нам придется пройти на улицу Сент-Оноре, где у меня дело к нотариусу, которому поручено продать имение за пятьсот тысяч ливров; я хочу, чтобы он оставил это имение за мною. По дороге сюда я задержался на минутку в Сен-Жерменском предместье, где нанял особняк за две тысячи экю, и надеюсь сегодня же заключить контракт».
Не успел я кое-как одеться, как мой посетитель стремительно потащил меня вниз. «Начнем, — сказал он, — с покупки кареты и приобретем упряжь». Действительно, меньше чем за час мы купили не только карету, но еще и всяких товаров на сто тысяч франков; все это совершилось скоропалительно, потому что мой приятель совсем не торговался, а покупал все, не сходя с места и не считаясь с деньгами. Я задумался над этим и, присматриваясь к этому человеку, находил в нем странную смесь богатства и нищеты, так что не знал, чему и верить. Но, наконец, я прервал молчание и, отведя его в сторону, сказал: «Сударь! Кто же заплатит за все это?» — «Я! — отвечал он, — пойдемте ко мне в комнату; я покажу вам несметные сокровища и такие богатства, которым позавидуют величайшие монархи, но не вы, ибо вы разделите их со мною». Иду за ним; карабкаемся на пятый этаж, оттуда по приставной лестнице лезем еще выше, на шестой, где оказалась каморка, которую со всех сторон продувал ветер; в ней не было ничего, кроме двух-трех дюжин глиняных тазов, наполненных разными жидкостями. «Я встал сегодня спозаранку, — сказал он, и прежде всего сделал то, что делаю уже двадцать пять лет подряд, то есть пошел обозревать мои работы. Я понял, что настал великий день, который сделает меня богатейшим человеком в мире. Видите вы эту алую жидкость? Она обладает в настоящий момент всеми свойствами, которые нужны философам, чтобы обращать металлы в золото. Я извлек из нее вот эти крупинки: по цвету они настоящее золото, хотя по весу не совсем соответствуют ему. Это тайна, которую открыл Николя Фламель, а Раймунд Люллий{57} и миллион других тщетно искали всю жизнь; она дошла до меня, и я теперь ее счастливый обладатель. Да позволит мне небо воспользоваться сокровищами, которые оно мне даровало, во славу его!»
Я вышел и спустился или, скорее, сбежал по лестнице, вне себя от гнева, оставив этого богача в его логове. Прощай, дорогой Узбек. Завтра я заеду к тебе и, если хочешь, мы вместе вернемся в Париж.
Из Парижа, в последний день месяца Реджеба 1713 годаПИСЬМО XLVI. Узбек к Реди в Венецию
Я встречаю здесь людей, которые без конца спорят о вере, но в то же время явно стремятся перещеголять друг друга несоблюдением ее правил.
Они не только не лучшие христиане, но далее и не лучшие граждане, и это особенно меня поражает, ибо какую бы религию мы ни исповедовали, соблюдение законов, любовь к людям, почитание родителей всегда являются ее первыми проявлениями.
В самом деле, разве не первейшая обязанность верующего угождать божеству, установившему ту религию, которую он исповедует? А самым верным способом достигнуть этого является, конечно, соблюдение общественных правил и человеческих обязанностей. Ведь какую бы религию ни исповедовал человек, если он допускает ее существование, он должен также допустить, что бог любит людей, раз он установил религию для их счастья; а если бог любит людей, то можно быть уверенным, что угодишь ему, если тоже будешь любить их, то есть если будешь выполнять по отношению к ним все обязанности милосердия и человечности и не станешь нарушать законов, которым они подчиняются.
Таким поведением гораздо вернее угодить богу, нежели выполнением того или иного обряда, ибо сами по себе обряды не представляют никакой ценности; они ценны только с известной оговоркой и при предположении, что установлены богом. Но это предмет для большого спора; здесь легко впасть в ошибку, ибо приходится выбирать между обрядами двух тысяч религий.
Некто ежедневно обращался к богу с такою молитвой: «Господи! Я ничего не разумею в спорах, которые беспрестанно ведутся по поводу тебя; мне хотелось бы служить тебе по воле твоей, но всякий, с кем я ни советовался об этом, хочет, чтобы я служил тебе на его лад. Когда я намереваюсь обратиться к тебе с молитвой, я не знаю, на каком языке надлежит говорить с тобою. Точно так же не знаю, какую позу принять: один говорит, что надо молиться тебе стоя; другой требует, чтобы я сидел; третий настаивает, чтобы я преклонил колени. Это еще не всё: некоторые требуют, чтобы я по утрам омывался холодной водой; иные утверждают, что ты будешь взирать на меня с отвращением, если я не дам отрезать у себя кусочек плоти. На днях в караван-сарае мне довелось есть кролика; трое присутствовавших при этом повергли меня в ужас: они утверждали, будто я нанес тебе тяжкое оскорбление: один{58} говорил, что это животное нечисто, другой{59} — что оно задушено, наконец, третий{60} — что оно не рыба. Проходивший мимо брамин, которого я попросил рассудить нас, ответил: „Они не правы, так как вы, разумеется, не сами убили это животное“. — „Сам“, — ответил я. „Ах! Вы совершили ужасное деяние, которого бог никогда не простит вам, — сказал он строго. — Откуда вы знаете, что душа вашего отца не перешла в это животное?“ Все это, господи, повергает меня в невообразимое замешательство: я не могу пошевелить головой без того, чтобы не испытать страха оскорбить тебя, а между тем мне хотелось бы быть угодным тебе и посвятить этому жизнь, которою я тебе обязан. Не знаю, может быть я и ошибаюсь, но мне кажется, что скорее всего я угожу тебе, если буду жить как добрый гражданин в том обществе, где родился я по твоей воле, и как добрый отец в семье, которую ты даровал мне».
Из Парижа, месяца Шахбана 8-го дня, 1713 годаПИСЬМО XLVII. Заши к Узбеку в Париж
У меня есть для тебя большая новость: я помирилась с Зефи; сераль, который разделился было между нами, опять соединился. Теперь здесь господствует мир и недостает только тебя; приди, ненаглядный мой Узбек, приди, чтобы тут торжествовала любовь!
Я устроила в честь Зефи большой пир, на который пригласила твою мать, жен и главных наложниц; присутствовали также твои тетки и несколько двоюродных сестер: они приехали верхом на конях, окутанные непроницаемым облаком покрывал и одеяний.
На другой день мы отправились на дачу, где надеялись пожить посвободнее; мы уселись на верблюдов, по четыре в каждом паланкине. Так как поездка была предпринята неожиданно, мы не успели отправить вперед гонцов, чтобы объявить курук{61}, но главный евнух, великий мастер на выдумки, принял другого рода предосторожность: к полотняным занавескам, скрывавшим нас от чужих взоров, он добавил такой плотный занавес, что мы решительно никого не могли видеть.
Когда мы доехали до переправы через реку, каждая из нас, как обычно, поместилась в ящик, и таким способом нас перенесли на лодку, ибо нам сказали, что на реке полно народу. Какой-то любопытный, слишком близко подошедший к месту, где мы были заперты, получил смертельный удар, навеки лишивший его дневного света; другой, купавшийся совершенно голым у берега, потерпел ту же участь; твои верные евнухи принесли этих двух несчастных в жертву твоей и нашей чести.
Но послушай о дальнейших наших приключениях. Когда мы доплыли до середины реки, поднялся такой порывистый ветер и небо заволоклось такой страшной тучей, что лодочники стали отчаиваться. Мы так испугались, что почти все попадали в обморок. Помнится, я слышала голоса евнухов; они спорили: одни говорили, что следует предупредить нас об опасности и освободить из нашей тюрьмы, а их начальник твердил, что скорее умрет, чем потерпит, чтобы его господин был обесчещен, и что он заколет того, кто вносит столь дерзкие предложения. Одна из моих рабынь, совершенно раздетая, прибежала, чтобы помочь мне, но черный евнух грубо схватил ее и водворил на место. Тут я лишилась чувств и очнулась только тогда, когда опасность миновала.
Как затруднительны путешествия для женщин! Мужчины подвергаются только таким опасностям, которые угрожают их жизни, а мы каждое мгновение страшимся потерять либо жизнь, либо добродетель. Прощай, бесценный Узбек. Я буду обожать тебя вечно.
Из сераля Фатимы, месяца Рамазана 2-го дня, 1713 годаПИСЬМО XLVIII. Узбек к Реди в Венецию
Кто любит учиться, тот никогда не проводит время в праздности. Хотя мне не поручено никакого важного дела, я тем не менее постоянно занят. Я провожу жизнь в наблюдениях; по вечерам я записываю то, что заметил, видел, слышал днем. Все меня интересует, все приводит в изумление: я как ребенок, чье еще нежное восприятие поражают даже самые незначительные предметы.
Ты, пожалуй, не поверишь: нам оказывают весьма радушный прием во всех кружках и во всех обществах. Думаю, что тут я многим обязан живому уму и природной веселости Рики, благодаря которым он всегда ищет общества и самого его все охотно принимают. Наш чужеземный вид никого уже не смущает: мы имеем даже удовольствие вызывать некоторое удивление нашею благовоспитанностью, ибо парижане и не подозревают, что в нашем климате родятся настоящие люди. Однако признаюсь: стоит постараться, чтобы опровергнуть это предубеждение.
Я провел несколько дней на даче под Парижем у одного почтенного человека, который очень любит принимать гостей. Его жена весьма любезная женщина, сочетающая большую скромность с веселостью, которой лишены наши персидские дамы вследствие затворнического образа жизни.
Мне в качестве иностранца не оставалось ничего лучшего, как изучать эту толпу беспрестанно приезжавших людей, каждый из которых представлял для меня что-нибудь новое. С самого начала я обратил внимание на одного человека, чья простота мне очень понравилась; я привязался к нему, он — ко мне, так что мы постоянно оказывались друг подле друга.
Однажды, в большом обществе, мы беседовали с ним в сторонке, не принимая участия в общем разговоре. Я сказал ему: «Вы найдете, может быть, что я более любопытен, чем учтив; все же покорнейше прошу вас разрешить задать вам несколько вопросов, а то мне скучно ни в чем не принимать участия и жить с людьми, в которых я никак не могу разобраться. Вот уже целых два дня мой ум занят мыслями о каждом из присутствующих здесь, но я и в тысячу лет их не разгадаю: они для меня непроницаемы, как невидимы жены нашего великого монарха». — «Спрашивайте, — ответил он мне, — и я расскажу вам обо всем, чего бы вы ни пожелали, тем более что считаю вас человеком сдержанным и думаю, что вы не злоупотребите моей откровенностью».
«Кто тот человек, — спросил я, — который столько рассказывал нам, какие обеды он задает вельможам, как он близок с вашими герцогами, как часто беседует с вашими министрами, хотя доступ к ним, говорили мне, весьма труден? По-видимому, он человек знатный, но у него такая пошлая физиономия, что он решительно не делает чести знатным людям; кроме того, я не нахожу в нем и следов воспитания. Я иностранец, но мне кажется, что существует некая учтивость, свойственная всем нациям; у него я ее совсем не замечаю; неужели ваша знать воспитана хуже других людей?» — «Этот человек — откупщик, отвечал он смеясь. — Он стоит настолько же выше других благодаря своему богатству, насколько ниже всех — по своему рождению: если бы он решил никогда не обедать дома, он всегда обедал бы в самом блестящем обществе. Как видите, он большой нахал, но у него отличный повар и он очень многим ему обязан: вы сами слышали, как он его расхваливал сегодня весь день».
«А толстяк в черном, которого та дама усадила возле себя? — спросил я. — Почему он носит столь мрачную одежду, в то время как у него такой веселый вид и цветущее лицо? Когда с ним заговоришь, он мило улыбается; одежда его скромнее, но изящнее одежды ваших дам». — «Это, — отвечал он, — проповедник и, что еще хуже, духовник. Он знает про женщин больше, чем их мужья, знает все их слабости; ну, да и они знают его слабую струнку». — «Как! — сказал я, — а ведь он постоянно твердит о чем-то, что называет благодатью!» — «Не всегда, — возразил он, — на ушко красивой женщине он охотнее шепчет о ее грехе; на людях он громит пороки, но в частной жизни покладист, как агнец». — «Мне кажется, что его очень уважают, — заметил я, — и весьма с ним считаются». — «Еще бы его не уважали! Это человек прямо-таки необходимый: он услаждает домашнюю жизнь, подает советы, оказывает мелкие услуги, развлекает; он лучше всякого светского щеголя умеет прогнать головную боль; это превосходный человек!»
«Если я не очень докучаю вам, скажите: кто это сидит напротив нас? Он плохо одет, время от времени гримасничает, выражается не так, как другие; речь его не остроумна, но он явно хочет казаться остроумным». — «Это поэт и посмешище рода человеческого, — отвечал мой собеседник. — Эти люди уверяют, что такими родились; это правда, как правда и то, что такими они и останутся всю жизнь, то есть самыми нелепыми из людей. Зато их никто и не щадит, и презрение изливается на них пригоршнями. Этого завел сюда голод; он хорошо принят хозяином и хозяйкой, ибо доброта и вежливость их неизменны по отношению ко всем. Он написал эпиталаму по случаю их свадьбы, и это лучшее, что он сделал в жизни, ибо брак оказался счастливым, как он и пророчил. Вы с вашими восточными предрассудками, — добавил он, — может быть, и не поверите, что у нас встречаются счастливые браки и женщины, добродетель которых является строгим стражем. Чета, о которой мы с вами говорим, наслаждается невозмутимым миром; ее все любят и уважают. Плохо только то, что, по доброте своей, наши хозяева принимают у себя людей всякого сорта, так что здесь собирается порою и сомнительное общество. Это не значит, что я их осуждаю: надо брать людей такими, какие они есть. Люди, которых считают принадлежащими к избранному обществу, отличаются от остальных лишь тем, что обладают более утонченными пороками, и, пожалуй, дело обстоит здесь так же, как с ядами: чем тоньше они, тем опаснее».
«А этот старик с таким печальным лицом? — спросил я тихонько. — Я принял было его за иностранца, так как, не говоря уже о том, что он одет иначе, чем другие, он критикует все, что делается во Франции, и неодобрительно отзывается о вашем правительстве». — «Это старый вояка, отвечал мой собеседник, — который остается в памяти всех своих слушателей благодаря тому, что без конца рассказывает о совершенных им подвигах. Он не может примириться с тем, что Франция выигрывает битвы, в которых он не участвует, или что восхваляют атаку, при которой не он ворвался в неприятельские окопы. Он считает себя настолько необходимым для нашей истории, что воображает, будто она остановилась на том месте, где остановился он; несколько полученных им ран он считает ранами, нанесенными королевству, и в отличие от тех философов, которые утверждают, что можно наслаждаться только настоящим, ибо прошедшее — прах, он наслаждается только прошлым и живет только своими былыми походами; он и дышит-то только минувшими временами, подобно тому как герои живут в грядущем». — «Но почему же он оставил службу?» — возразил я. «Он ее вовсе и не оставлял, — ответил мой собеседник, — это она его оставила: его назначили на маленькую должность, и он только может до конца дней рассказывать о своих приключениях; дальше этого он не пойдет: дорога к почестям для него закрыта». — «Почему же?» — говорю я. «У нас во Франции существует правило: не производить в высшие чины офицеров, засидевшихся на низших должностях; мы полагаем, что повседневные мелочи иссушили их ум, и, привыкнув к этим мелочам, они стали не способны к крупному делу. Мы считаем, что человек, у которого к тридцати годам нет качеств, нужных для генерала, никогда их не приобретет; кто не умеет одним взглядом окинуть пространство в несколько миль со всеми его разнообразными особенностями, кто не обладает присутствием духа, не умеет при победе использовать все выгоды положения, а при неудаче все средства к спасению, тот никогда не разовьет в себе этих талантов. Поэтому-то у нас есть блестящие должности, предназначенные для великих и выдающихся людей, которых небо наделило не только героическим сердцем, но и талантами, и должности второстепенные, предназначенные для тех, у кого таланты не велики. К числу последних принадлежат все, кто состарился в безвестных войнах: в лучшем случае они продолжают делать то, что делали всю жизнь, и не следует поручать им ответственное дело, когда они дряхлеют».
Минуту спустя мною снова овладело любопытство, и я сказал: «Обещаю не задавать вам больше вопросов если вы ответите мне еще на один Кто тот высокий молодой человек, у которого пышные кудри, мало ума и много нахальства? Почему он говорит громче других и так самодоволен?» — «Это человек, пользующийся успехом у женщин», — услышал я в ответ. В это время вошли новые гости, некоторые ушли, все поднялись, кто-то подошел к моему собеседнику, и я остался ни при чем. Но немного погодя, не знаю уж по какому случаю, этот молодой человек очутился подле меня и обратился ко мне со словами: «Погода отличная; не угодно ли вам пройтись со мною по цветнику?» Я отвечал как только умел учтивее, и мы вместе вышли. «Я приехал на дачу, сказал он, — чтобы доставить удовольствие хозяйке дома, с которой я в недурных отношениях. Правда, некая светская дама будет этим недовольна, но что поделаешь? Я встречаюсь с самыми красивыми женщинами Парижа, но не могу остановиться ни на одной и доставляю им немало огорчений, потому что, говоря между нами, я ведь порядочный шалопай». — «Вероятно, сударь, — сказал ему я, — у вас есть какая-нибудь важная обязанность или должность, которая мешает вам быть к ним внимательнее?» — «Нет, сударь; у меня только и дела, что бесить мужей да приводить в отчаяние отцов; я люблю дразнить женщину, воображающую, что она завладела мною, и пугать ее, что она вот-вот меня лишится. Нас несколько таких молодых людей: мы разделили между собою весь Париж, и он интересуется малейшим нашим шагом». — «Насколько я понимаю, ответил я, — вы поднимаете больше шуму, чем самый доблестный полководец, и к вам относятся с большим почтением, чем к иному важному сановнику. Если бы вы жили в Персии, вам бы не пришлось пользоваться такими преимуществами: вам бы больше подошло стеречь наших дам, чем нравиться им». Лицо мое запылало, и поговори я еще немного, я, кажется, наговорил бы ему резкостей.
Что скажешь ты о стране, где терпят таких людей и позволяют человеку заниматься подобным ремеслом; где неверность, насилие, измена, вероломство и несправедливость доставляют людям почет; где уважают человека за то, что он похищает дочь у отца, жену у мужа и разрывает самые нежные и священные узы? Блаженны дети Али, защищающие свои семьи от осквернения и соблазна! Свет дневной не чище огня, пылающего в сердцах наших жен; наши дочери не иначе как с трепетом помышляют о дне, когда они лишатся чистоты, уподобляющей их ангелам и силам бесплотным. Родная, возлюбленная страна, на которую солнце бросает свои первые взоры, ты не осквернена отвратительными преступлениями, от которых великое светило отворачивается, лишь только взглянет оно на мрачный Запад!
Из Парижа, месяца Рамазана 5-го дня, 1713 годаПИСЬМО XLIX. Рика к Узбеку в ***
На днях, когда я сидел у себя в комнате, ко мне вошел весьма странно одетый дервиш. Борода, его отросла до пояса, сплетенного из веревок, ноги были босы, одежда серая, грубая и кое-где в лохмотьях. Все это мне показалось настолько чудным, что первой моей мыслью было послать за живописцем, чтобы запечатлеть моего гостя.
Сначала незнакомец обратился ко мне с пышным приветствием, в котором поведал мне, что человек он заслуженный и сверх того капуцин. «Мне сказали, — прибавил он, — что вы, сударь, вскоре возвратитесь к персидскому двору, где занимаете важный пост. Я пришел просить вашего покровительства и ходатайствовать перед вами, чтобы вы испросили у вашего государя соизволения отвести нам небольшой домик близ Казвина{62} для двух-трех монахов». — «Так вы хотите переселиться в Персию, отец мой?» — спросил я. «Я, сударь? отвечал он. — Ну нет, от этого я воздержусь. Я здесь провинциал{63} и не поменялся бы положением ни с одним капуцином в мире». — «Так зачем же вы меня просите?» — «Да потому, — отвечал он, — что если бы у нас была там обитель, наши итальянские отцы капуцины послали бы туда двух-трех своих монахов». — «Очевидно, это ваши знакомые?» — спросил я. «Нет, сударь, я с ними незнаком». — «Фу ты, пропасть! Так зачем же вам хлопотать, чтобы они поехали в Персию? Подумаешь, какая чудесная мысль предоставить двум капуцинам дышать воздухом Казвина! Очень это будет полезно для Европы и Азии! Совершенно необходимо заинтересовать этим делом монархов! Это-то и называется прекрасной колонией! Убирайтесь вон: вы и вам подобные вовсе не созданы для того, чтобы вас пересаживать в другие места, и вы прекрасно сделаете, если будете по-прежнему пресмыкаться там, где родились».
Из Парижа, месяца Рамазана 15-го дня, 1713 годаПИСЬМО L. Рика к ***
Мне приходилось встречать людей, добродетель которых столь естественна, что даже не ощущается; они исполняют свой долг, не испытывая никакой тягости, и их влечет к этому как бы инстинктивно; они никогда не хвастаются своими редкостными качествами и, кажется, даже не сознают их в себе. Вот такие люди мне нравятся, а не те праведники, которые как будто сами удивляются собственной праведности и считают доброе дело чудом, рассказ о котором должен всех изумлять.
Если скромность — необходимая добродетель для тех, кого небо одарило великими талантами, то что же сказать о козявках, смеющих проявлять такую гордыню, которая была бы позорна даже в величайших людях?
Я повсюду встречаю людей, беспрерывно говорящих о себе: их разговоры зеркало, в котором постоянно отражается их наглая физиономия; они толкуют вам о мельчайших пустяках, приключившихся с ними, и хотят при этом, чтобы значение, которое они придают этим пустякам, возвеличивало их в ваших глазах; они всё делали, всё видели, всё сказали, всё обдумали; они — образец для всех, мерило для бесконечных сравнений, неиссякаемый кладезь примеров. О, какая пошлость — похвала, когда она возвращается к собственному источнику!
Намедни один подобный субъект часа два докучал присутствующим своей особой, своими заслугами, своими талантами; но, так как в мире нет беспрерывного движения, он в конце концов умолк. Нить беседы снова перешла к нам, и мы этим с удовольствием воспользовались.
Некий человек, довольно печальный на вид, принялся жаловаться на то, что здесь ведутся очень скучные разговоры: «Подумайте только! Везде и всюду дураки расписывают себя перед вами и все разговоры переводят на собственную особу!» — «Вы совершенно правы, — горячо подхватил наш оратор, — нужно брать пример, с меня: я никогда не хвалюсь, я богат, я хорошего происхождения, я много трачу, друзья уверяют, что я не лишен ума, но я никогда не говорю об этом, и если у меня есть кое-какие достоинства, то из всех из них я больше всего ценю свою скромность».
Я с удивлением смотрел на этого нахала и в то время, как он громко разглагольствовал, тихонько сказал: «Счастлив тот, кто достаточно самолюбив, чтобы никогда не хвалить самого себя, кто остерегается слушающих его и не подвергает опасности свои хорошие качества, бросая вызов чужой гордости!»
Из Парижа, месяца Рамазана 20-го дня, 1713 годаПИСЬМО LI. Наргум, персидский посол в Московии, к Узбеку в Париж
Мне пишут из Испагани, что ты уехал из Персии и в настоящее время находишься в Париже. Как досадно, что я получаю известие о тебе от других, а не от тебя самого!
По повелению царя царей{64} я уже пять лет живу в этой стране, где занят кое-какими важными переговорами.
Тебе известно, что царь{65} — единственный из христианских государей, чьи интересы имеют общее с интересами Персии, потому что он такой же враг турок, как и мы.
Его государство больше нашего, ибо от Москвы до последней его крепости, расположенной в стороне Китая, насчитывают тысячу миль.
Он полный властелин над жизнью и имуществом своих подданных, которые все рабы за исключением четырех семейств. Наместник пророков, царь царей, кому небо служит балдахином, а земля — подножием, не так страшен в проявлениях своей власти.
Принимая во внимание ужасный климат Московии, трудно поверить, что изгнание из нее может служить карою, и, однако, когда какой-нибудь вельможа попадает в опалу, его ссылают в Сибирь.
Подобно тому как наш пророк запрещает нам пить вино, так царь запрещает его московитам.
У них отнюдь не персидская манера принимать гостей. Как только посторонний придет в дом, муж представляет ему свою жену; гость целует ее, и это считается вежливостью, оказанной мужу.
Хотя отцы невест при заключении брачного договора требуют обычно, чтобы муж не стегал жену плетью, тем не менее просто невозможно поверить, до чего москвитянки любят, чтобы их били{66}. Жена не верит, что сердце мужа принадлежит ей, если он ее не колотит. Тогда его поведение считается свидетельством непростительного равнодушия. Вот письмо, которое одна москвитянка написала недавно своей матери:
«Любезная матушка!
Я самая несчастная женщина на свете; чего я только не делала, чтобы муж полюбил меня, а мне это так и не удалось. Вчера у меня дома была пропасть дел, а я ушла со двора на весь день, надеясь, что по возвращении он меня здорово отколотит, а он не сказал мне ни слова. Вот у сестры совсем не так: муж бьет ее всякий день; она не может взглянуть на мужчину, чтобы муж тотчас же ее не оттрепал; они крепко любят друг друга и живут в полном согласии.
Она очень чванится этим, но я-то уж не дам ей долго надо мной куражиться. Я решилась любой ценой заслужить любовь мужа: я так буду его бесить, что ему волей-неволей придется проявить свои чувства. Про меня не будут говорить, что меня не бьют и что дома меня никто даже не замечает. При малейшем щелчке по носу, который он мне даст, я примусь голосить изо всех сил, чтобы подумали, что он бьет меня по-настоящему, а если кто-нибудь из соседей прибежит на помощь, я его, ей-ей, задушу. Умоляю вас, любезная матушка, растолкуйте вы моему благоверному, что он обращается со мной дурно. Ведь вот батюшка, такой хороший человек, поступал совсем иначе: помнится, мне иногда казалось, когда я была маленькой, что он даже слишком вас любит. Обнимаю вас, милая матушка».
Московитам запрещено выезжать из своего государства, хотя бы даже для путешествия. Таким образом, будучи отделены от других народов законами своей страны, они сохранили древние обычаи и привержены к ним тем сильнее, что и не предполагают, что могут быть другие.
Но царствующий ныне государь решил все переменить. У него вышла большая распря с ними по поводу бород, а духовенство и монахи немало боролись, отстаивая свое невежество.
Он стремится к тому, чтобы процветали искусства, и ничем не пренебрегает, чтобы прославить в Европе и Азии свой народ, до сих пор всеми забытый и известный только у себя на родине. Беспокойный и стремительный, этот монарх разъезжает по своим обширным владениям, всюду проявляя свою природную суровость.
Он покидает родную страну, словно она тесна для него, и отправляется в Европу искать новых областей и новых царств.
Обнимаю тебя, дражайший Узбек. Извести меня о себе, заклинаю тебя.
Из Москвы, месяца Шальвала 2-го дня, 1713 годаПИСЬМО LII. Рика к Узбеку в ***
На днях я был в обществе, где довольно интересно провел время. Среди гостей были женщины всех возрастов: одна восьмидесятилетняя, одна шестидесяти лет, одна — сорока, а с нею племянница лет двадцати — двадцати двух. Какой-то инстинкт побудил меня подойти к последней, и она шепнула мне на ухо: «Что скажете вы о моей тетушке, которая в таком возрасте еще мечтает о поклонниках и воображает себя красавицей?» — «Она неправа, — ответил я, — такие замыслы под стать только вам». Минуту спустя я очутился возле ее тетки; тетка сказала мне: «Что вы скажете о той женщине? Ей по меньшей мере шестьдесят лет, а она сегодня больше часу провела за туалетом». «Потерянное время, — отвечал я ей, — нужно обладать вашими прелестями, чтобы так заботиться о них». Я направился к этой несчастной старушке, жалея ее в глубине души, как вдруг она мне сказала потихоньку: «Вот умора! Посмотрите на эту женщину: ей восемьдесят лет, а она надевает ленты огненного цвета; она хочет казаться молодой; впрочем, это ей и удается: она уж впадает в детство».
«Ах ты, господи! — подумал я, — неужели мы замечаем смешное только в других? Впрочем, это счастье, — решил я вслед за тем, — что мы находим утешение в слабостях других». Однако я был в настроении позабавиться и сказал себе: довольно подниматься от младшей к старшей, спущусь-ка вниз и начну с верхушки — со старшей. «Сударыня, вы до такой степени похожи на ту даму, с которой я только что беседовал, что кажется, будто вы сестры, должно быть, вы почти ровесницы». — «Совершенно верно, сударь: когда одна из нас умрет, другая сильно перепугается; между нами, вероятно, нет и двух дней разницы». Подшутив над этой старухой, я направился к шестидесятилетней. «Сударыня! Я держу пари и прошу вас разрешить его: я поспорил, что вы и та дама (я указал на сорокалетнюю) — сверстницы». — «Право, я думаю, — отвечала она, — что между нами нет и полгода разницы». Отлично! Так я и ожидал. Продолжим. Я спустился на ступеньку ниже и пошел к сорокалетней. «Сударыня! Сделайте милость, скажите: ведь вы только шутки ради называете барышню, которая сидит за другим столом, вашей племянницей? Вы так же молоды, как и она: у нее есть в лице даже что-то увядшее, чего у вас, конечно, нет, а яркий румянец на ваших щеках...» — «Подождите, — ответила она мне, — я действительно ей тетка, но ее мать была по крайней мере на двадцать лет старше меня; мы от разных матерей, и я слышала от своей покойной сестры, что ее дочь родилась в один год со мною». — «Это очевидно, сударыня, и, стало быть, я удивлялся не без оснований».
Дорогой Узбек! Женщины, чувствуя заранее, что им приходит конец и что прелести их увядают, желали бы вернуться назад, к юности. Эх! Как же им не обманывать окружающих? Они напрягают все усилия, чтобы обмануть самих себя и укрыться от прискорбнейшей из всех мыслей.
Из Парижа, месяца Шальвала 3-го дня, 1713 годаПИСЬМО LIII. Зели к Узбеку в Париж
Не было еще в мире страсти более пылкой и живой, чем страсть белого евнуха Косру к моей рабыне Зелиде: он так яростно домогается женитьбы на ней, что я не могу ему отказать. Да и почему бы мне противиться, когда ее мать не возражает, а самой Зелиде, по-видимому, приятна мысль об этом обманном браке и о призраке, который ей предлагают?
На что ей этот несчастный? Из всех свойств мужа у него будет проявляться одна только ревность; он будет выходить из состояния равнодушия только для того, чтобы впадать в бесполезное отчаяние; он всегда будет вспоминать о том, чем он был, и таким образом напоминать ей, что он уже не тот; всегда готовый отдаться и никогда не отдаваясь, он будет беспрестанно обманываться, обманывать ее и оживлять в ней сознание того, сколь прискорбно ее положение.
Подумай только! Постоянно быть окруженной тенями и призраками! Жить только воображением! Находиться всегда подле наслаждений и никогда не испытывать их! Лежа в истоме в объятиях несчастного, отвечать только на его жалобы, вместо того чтобы отвечать на его ласки!
Какое презрение должно испытывать по отношению к такого рода человеку, созданному только для того, чтобы стеречь и никогда не обладать! Я ищу здесь любви и не вижу ее.
Я говорю с тобою откровенно, потому что тебе нравится моя непосредственность и ты предпочитаешь мое свободное обращение и мою любовь к наслаждениям притворной стыдливости моих подруг.
Я тысячу раз слыхала от тебя, что евнухи вкушают с женщинами известного рода сладострастие, неведомое нам, что природа вознаграждает себя за утраченное, что у нее есть средства возместить их ущербность, что можно перестать быть мужчиной и не терять при этом чувственности, что в этом состоянии человек как бы превращается в существо третьего пола, которое, так сказать, переменило вид наслаждений.
Когда бы это действительно так было, я бы меньше жалела Зелиду. Если живешь не с таким уж несчастным человеком, то жить все-таки можно.
Дай мне распоряжения на этот счет и сообщи, желаешь ли ты, чтобы свадьбу сыграли в серале. Прощай.
Из испаганского сераля, месяца Шальвала 5-го дня, 1713 годаПИСЬМО LIV. Рика к Узбеку в ***
Сегодня утром я сидел в своей комнате, которая, как тебе известно, отделена от других тонкой перегородкой, вдобавок продырявленной во многих местах, так что слышно все, что делается рядом. Какой-то человек, расхаживая большими шагами, говорил другому: «Не знаю, в чем тут дело, но мне решительно не везет; вот уже три дня, как я не сказал ничего, что сделало бы мне честь, и хотя я очертя голову вмешивался во все разговоры, на меня не обращали ни малейшего внимания, и никто не сказал мне и двух слов. Я заготовил несколько острот, чтобы приукрасить свою речь, но мне так и не дали их произнести. У меня был припасен прелестный рассказец, но, как только я собирался начать его, присутствующие, будто нарочно, направляли разговор в другую сторону. У меня есть несколько шуточек, которые вот уже четыре дня стареют у меня в голове, а я никак не могу пустить их в ход. Если так будет продолжаться, я, кажется, стану совсем дураком; такова уж, по-видимому, моя судьба, и мне от нее не уйти. Вчера я надеялся было блеснуть перед тремя-четырьмя старухами, с которыми, разумеется, ничуть не стесняюсь, и у меня были наготове интереснейшие вещи; я на целых четверть часа завладел беседой, но они никак не хотели следить за моим рассказом и, словно роковые парки, прерывали нить всех моих рассуждений. Знаешь, что я тебе скажу? Трудно поддерживать славу умного человека. Не понимаю, как тебе это удается». — «Мне пришла в голову мысль, — ответил другой, — давай объединим усилия, чтобы придать себе вид умных людей; заключим союз. Будем каждый день сговариваться, о чем нам говорить, и станем помогать друг другу таким образом, что если кто-нибудь вздумает прервать наш рассказ, мы будем вовлекать его в наш разговор, а если он не поддастся по доброй воле, заставим его силою. Мы условимся, в каком месте надо поддакивать, в каком улыбаться, в каком хохотать во все горло. Вот увидишь: мы будем задавать тон всем беседам, и люди будут удивляться живости нашего ума и находчивости в возражениях. Мы будем помогать друг другу заранее условленными кивками. Сегодня блистать будешь ты, а завтра я, ты же будешь моим помощником. Мы вместе войдем в дом, и я воскликну, указывая на тебя: „Послушайте, как забавно ответил он какому-то господину, с которым мы встретились на улице!“ Потом обращусь к тебе: „Тот никак не ожидал подобного ответа и был совсем ошеломлен“. Я прочту кое-что из своих стихов, а ты скажешь: „Я присутствовал при том, как он их сочинил: это было за ужином, и он ни на миг не задумался“. Иной раз мы нарочно будем поднимать друг друга на смех, и люди станут говорить: „Смотрите-ка, как они нападают друг на друга, как защищаются! Они не щадят друг друга. А ну-ка, как он выйдет из этого положения?.. Великолепно! Какая находчивость! Вот так битва!“ Никому и в голову не придет, что накануне мы тщательно подготовили эту перебранку. Надо будет купить кое-какие книги, в которых собраны остроты для тех, кому не хватает ума и кто хочет притвориться умником: важно иметь под рукой подходящие образцы. Мне хочется, чтобы не позже чем через полгода мы оказались в состоянии целый час поддерживать разговор, пересыпая его остротами. Одно только не нужно упускать из виду: необходимо еще поддерживать славу этих острот. Мало сказать остроумное слово: надо его еще пустить в обращение, всюду обнародовать, распространить. Иначе все пропало; а уверяю тебя, нет ничего досаднее, чем видеть, как удачно сказанное словцо застревает в ухе дурака, которому ты его сказал. Правда, нередко это бывает и кстати, и немало наших глупостей проходит безвестно; это единственное утешение в таких случаях. Вот, милый мой, что следует нам предпринять. Послушайся меня и сам увидишь: не пройдет и полгода, как станешь академиком. Значит, трудиться придется недолго, а потом можно и отказаться от своего ремесла: будешь слыть умником, хотя бы ума у тебя и не было ни капли. Замечено, что во Франции всякий, вступивший в какое-нибудь общество, начинает с того, что усваивает так называемый дух корпорации. То же будет и с тобою, и одного только я опасаюсь: как бы несмолкаемые похвалы не стали тебе в тягость».
Из Парижа, месяца Зилькаде 6-го дня, 1714 годаПИСЬМО LV. Рика к Иббену в Смирну
У европейских народов все затруднения устраняются в первые же четверть часа брачной жизни: девушки становятся женщинами сразу, в день свадьбы. Здесь женщины поступают не так, как наши персиянки, которые нередко сопротивляются мужьям по нескольку месяцев. Здешним женщинам легко: терять им нечего, поэтому они ничего и не теряют; зато — стыд и срам! — всегда бывает известен день их поражения, и нет нужды справляться по звездам, чтобы точно предсказать час рождения их детей.
Французы почти никогда не говорят о своих женах: они просто-напросто боятся заводить о них речь в присутствии тех, кто их знает лучше мужей.
Есть среди последних несчастные, которых никто не утешает: это ревнивцы. Есть такие, которых все ненавидят: это ревнивцы. Есть и такие, которых все мужчины презирают: это все те же ревнивцы.
Поэтому не найдется страны, где бы число ревнивых мужей было так незначительно, как у французов. Их спокойствие основано не на доверии к женам, а, наоборот, на дурном мнении о них. Все мудрые предосторожности азиаток: покрывала, в которые они закутываются, тюрьмы, где их содержат, бдительность евнухов — все это, по мнению французов, должно скорее изощрять ловкость женского пола, чем сдерживать его. Мужья здесь легко примиряются со своею участью и относятся к неверности жен как к неизбежным ударам судьбы. Мужа, который один захотел бы обладать своей женой, почли бы здесь нарушителем общественного веселья и безумцем, который желает один наслаждаться солнечным светом, наложив на него запрет для всех остальных.
Здесь муж, любящий жену, — это человек, у которого не хватает достоинств, чтобы увлечь другую, человек, который злоупотребляет своим законным правом, чтобы восполнить недостающие ему качества, пользуется своими преимуществами в ущерб всему обществу, присваивает себе то, что ему было дано только на известных условиях, и тем самым стремится нарушить молчаливое соглашение, на котором зиждется счастье обоих полов. Звание мужа красивой женщины в Азии тщательно скрывают, здесь же люди носят его безо всякого беспокойства: каждый знает, что всюду может найти себе развлечение. Государь утешается в потере одной крепости тем, что берет другую. Когда турки взяли у нас Багдад, ведь отняли же мы у Великого Могола Кандахар{67}?
Обычно здесь ничуть не осуждают человека, примирившегося с изменами жены; наоборот, его хвалят за благоразумие, и только в некоторых особых случаях это считается бесчестьем.
Это не значит, что здесь нет добродетельных дам; можно даже сказать, что их отличают среди прочих; мой провожатый не раз обращал на них мое внимание. Но все они так безобразны, что нужно быть святым, чтобы не возненавидеть добродетель.
После всего, что я рассказал тебе о нравах здешней страны, ты легко поймешь, что французы отнюдь не отличаются постоянством. Они полагают, что клясться женщине в вечной любви столь же нелепо, как утверждать, что всегда будешь здоров или всегда будешь счастлив. Когда они обещают женщине, что будут любить ее до гроба, они предполагают, что она, со своей стороны, обещает им всегда оставаться привлекательной, а уж если она нарушит слово, то и они не будут считать себя связанными клятвой.
Из Парижа, месяца Зилькаде 7-го дня, 1714 годаПИСЬМО LVI. Узбек к Иббену в Смирну
Игра в большом ходу в Европе: быть игроком — это своего рода общественное положение. Звание это заменяет благородство происхождения, состояние, честность; всякого, кто его носит, оно возводит в ранг порядочного человека без предварительного испытания, хотя всякий знает, что не раз ошибался, судя таким образом; но все как будто решили быть неисправимыми.
Особенно увлекаются игрою женщины. Правда, в молодости они предаются ей только для того, чтобы способствовать этим другой, более для них дорогой страсти; но по мере того, как они стареют, страсть их к игре как бы молодеет и заполняет пустоту, оставшуюся от других увлечений.
Они стремятся разорить своих супругов, и для этого у каждого возраста, начиная с нежной юности и кончая самой глубокой старостью, имеются свои средства: разорение начинается с туалетов и выездов, кокетство подхлестывает его, игра завершает.
Мне часто случалось видеть девять-десять женщин, или, вернее, девять-десять столетий, расположившихся вокруг карточного стола; я видел, как они надеялись, трепетали, радовались и, главное, как они бесновались. Ты сказал бы, что они так и не успеют угомониться и жизнь покинет их прежде, чем они отчаются в выигрыше. Ты бы не понял, кто те люди, с кем они расплачиваются: кредиторы их или наследники?
По-видимому, наш святой пророк недаром позаботился о том, чтобы оградить нас от всего, что может помрачить наш разум: он запретил нам употребление вина, ибо вино его усыпляет; воспретил нам особым предписанием азартные игры, а так как он не мог устранить причину страстей, он смягчил их. У нас любовь не влечет за собою ни смятения, ни ярости: это томная страсть, не нарушающая спокойствия души; многочисленность жен спасает нас от их господства и умеряет пыл наших желаний.
Из Парижа, месяца Зильхаже 10-го дня, 1714 годаПИСЬМО LVII. Узбек к Реди в Венецию
Развратники содержат здесь бесчисленное множество гулящих женщин, а ханжи - несчетное множество дервишей. Эти дервиши дают три обета: послушания, бедности и целомудрия. Говорят, что первый из этих обетов соблюдается лучше всех; за второй ручаюсь тебе, что он никак не исполняется; о третьем предоставляю судить тебе самому.
Но как бы ни были богаты эти дервиши, они никогда не отказываются от звания бедняков; скорее наш славный монарх откажется от своих великолепных, высоких титулов. И дервиши имеют для этого все основания: звание бедняка ограждает их от нищеты.
К врачам и некоторым дервишам, именуемым духовниками, здесь всегда относятся либо с излишним уважением, либо с излишним презрением; говорят, однако, что наследники лучше ладят с врачами, чем с духовниками.
Я посетил однажды монастырь дервишей. Один из них, внушавший почтение своими сединами, принял меня очень радушно; он показал мне весь дом; мы пришли в сад и стали беседовать. «Отец мой, — спросил я, — какую должность занимаете вы в общине?» — «Сударь, я казуист», — ответил он мне, всем своим видом выражая удовольствие по поводу моего вопроса. «Казуист? — повторил я. — С тех пор как я во Франции, я еще не слыхал о такой должности». — «Как! Вы не знаете, что такое казуист? Ну, так слушайте: я вам сейчас все разъясню как нельзя лучше. Существует два рода грехов: смертные, которые совершенно исключают рай для грешника, и простительные, которые, понятно, оскорбляют бога, но не настолько, чтобы он лишал грешников блаженства. Так вот, все наше искусство заключается в умении хорошо различать эти два рода грехов, ибо, кроме нескольких вольнодумцев, всем христианам хочется попасть в рай; и, уж конечно, все хотят приобрести блаженство по самой дешевой цене, какая только возможна. Когда человек хорошо знает, что такое смертные грехи, он старается не впасть в них, а это великое дело. Есть люди, которые не стремятся к столь высокому совершенству и, не обладая честолюбием, не притязают на первые места. Поэтому они попадают в рай кое-как, лишь бы попасть, — этого с них достаточно; больше им ничего не требуется. Эти люди не удостаиваются небесного блаженства, а берут его с налета и говорят богу: „Господи! Я точно выполнил все условия, и у тебя нет оснований не сдержать своих обещаний; так как я сделал не больше того, что ты требовал, то и тебе я предоставляю исполнить не больше того, что тобою было обещано“. Итак, сударь, мы люди нужные. Однако это еще не все: сейчас вы увидите и другую сторону дела. Сам по себе проступок не составляет еще греха: грех — в сознании совершающего проступок; тот, кто творит зло, не думая, что это зло, может не беспокоиться; а так как имеется бесчисленное множество двусмысленных поступков, то казуист может найти в них хорошее начало и придать им такое качество, какого они на самом деле вовсе и не имеют; а если он сумеет доказать, что в данном проступке вообще нет никакой зловредности, то и совсем его обелит. Я раскрываю вам здесь тайну ремесла, на котором я состарился, и все его тонкости: все можно повернуть по-своему, даже такие дела, из которых, казалось бы, нет выхода». — «Отец мой, все это прекрасно, — сказал я ему, — но как же устраиваетесь вы с небом? Если бы при дворе нашего шаха нашелся человек, который проделывал бы с ним то, что вы проделываете с вашим богом, по-разному истолковывал бы его повеления и обучал бы его подданных, в каких случаях они должны им повиноваться, а в каких могут их нарушать, то шах немедленно приказал бы посадить такого учителя на кол». Я раскланялся с дервишем и ушел, не дожидаясь ответа.
Из Парижа, месяца Махаррама 23-го дня, 1714 годаПИСЬМО LVIII. Рика к Реди в Венецию
В Париже, дорогой мой Реди, существуют самые разнообразные ремесла.
Один услужливый человек является к тебе с предложением за небольшую сумму научить тебя делать золото.
Другой обещает устроить так, что ты будешь спать с бесплотными духами, при условии, однако, что предварительно тридцать лет не будешь иметь дела с женщинами.
Ты найдешь здесь искусных отгадчиков, которые расскажут тебе всю твою жизнь, лишь бы только им удалось с четверть часика поговорить с твоими слугами.
Ловкие женщины превращают здесь девственность в цветок, который гибнет и возрождается каждый день, и в сотый раз срывается еще болезненнее, чем в первый.
Есть и такие, которые, исправляя с помощью своего искусства все изъяны, нанесенные временем, могут восстановить увядающую красоту и даже вернуть женщину от крайней старости к временам самой нежной юности.
Все эти люди живут или стремятся жить в городе, ибо город является матерью изобретательности.
Доходы граждан не бывают здесь постоянными: источник их заключается только в уме и ловкости; у каждого особое мастерство, и он извлекает из своего умения все, что может.
Если бы кто вздумал сосчитать всех законников, гоняющихся за доходами какой-нибудь мечети, то скорее сосчитал бы песчинки в море или рабов нашего монарха.
Бесчисленное множество учителей всевозможных языков, искусств и наук преподают то, чего сами не знают, а ведь тут нужен немалый талант, ибо для того, чтобы научить тому, что знаешь, особого ума не требуется, зато его нужно чрезвычайно много, чтобы учить тому, чего сам не знаешь.
Здесь и умереть-то можно только скоропостижно: иначе смерть не могла бы проявить свою власть, ибо здесь на каждом шагу есть люди, располагающие вернейшими лекарствами от любых болезней, какие только можно вообразить.
В здешних лавках раскинуты невидимые сети, в которые неминуемо попадаются покупатели. Впрочем, иной раз из них можно выбраться и по дешевке: молоденькая торговка битый час охаживает вас, чтобы соблазнить на покупку пачки зубочисток.
Нет человека, который, уезжая из этого города, не оказывался бы осмотрительнее, чем был до приезда: раздавая свое добро другим, научаешься беречь его; вот единственное преимущество иностранцев в этом очаровательном городе.
Из Парижа, месяца Сафара 10-го дня, 1714 годаПИСЬМО LIX. Рика к Узбеку в ***
На днях я был в доме, где собралось разнообразное общество; в то время как я пришел, разговором завладели две старухи, все утро тщетно трудившиеся над тем, чтобы помолодеть.
«Надо признать, — говорила одна из них, — что нынешние мужчины сильно отличаются от тех, каких мы знавали в молодости: те были вежливы, изящны, любезны. А нынешние несносно грубы». — «Все изменилось, — сказал на это какой-то господин, удрученный, по-видимому, подагрой, — не те уж времена; сорок лет тому назад все были здоровы, гуляли, веселились, только и знали, что смеялись да танцевали. В наше время все несносно угрюмы». Минуту спустя разговор перешел на политику. «Что ни говорите, государством у нас больше не управляют! — сказал некий престарелый вельможа. — Найдите мне в настоящее время такого министра, как господин Кольбер{68}! Я господина Кольбера хорошо знал, мы были приятелями; он всегда, бывало, приказывал выплачивать мне пенсию прежде всех других. Какой у него в финансах был порядок! Все жили в довольстве. А теперь я совсем разорен». — «Сударь! Вы говорите о чудеснейших временах царствования нашего победоносного монарха, — сказало некое духовное лицо, — может ли быть что-либо величественнее того, что он делал для уничтожения ереси?» — «А запрещение дуэлей?»{69} — вставил с довольным видом другой господин, дотоле молчавший. «Правильное замечание, шепнул мне кто-то на ухо, — этот человек восхищен указом и так хорошо его соблюдает, что за полгода вытерпел с сотню палочных ударов, лишь бы его не нарушить».
Мне кажется, Узбек, что мы всегда судим о вещах не иначе как втайне применяя их к самим себе. Я не удивляюсь, что негры изображают черта ослепительно белым, а своих богов черными, как уголь, что Венера у некоторых народов изображается с грудями, свисающими до бедер, и что, наконец, все идолопоклонники представляют своих богов с человеческим лицом и наделяют их своими собственными наклонностями. Кто-то удачно сказал, что если бы треугольники создали себе бога, то они придали бы ему три стороны.
Любезный мой Узбек! Когда я вижу, как люди, пресмыкающиеся на атоме, сиречь на Земле, которая всего лишь маленькая точка во вселенной, — выдают себя за образцовые создания Провидения, я не знаю, как примирить такое сумасбродство с такой ничтожностью.
Из Парижа, месяца Сафара 14-го дня, 1714 годаПИСЬМО LX. Узбек к Иббену в Смирну
Ты спрашиваешь, есть ли евреи во Франции: знай же, что везде, где есть деньги, есть и евреи. Ты спрашиваешь, чем они здесь занимаются. Совершенно тем же, чем и в Персии: ничто так не похоже на азиатского еврея, как еврей европейский.
Как среди нас, так и среди христиан, они проявляют непреоборимую приверженность к своей религии, и это доходит прямо-таки до безумия.
Еврейская религия — старое дерево, из ствола которого выросли две ветви, покрывшие собою всю землю, — я имею в виду магометанство и христианство. Или, лучше сказать, она — мать, породившая двух дочерей, которые нанесли ей множество ран, ибо религии, наиболее близкие друг к другу, в то же время и наиболее враждебны одна другой. Но как бы дурно эти дочери с ней ни обращались, она не перестает гордиться тем, что произвела их на свет; она пользуется ими, чтобы охватить весь мир, в то время как ее почтенная старость охватывает все времена.
Поэтому евреи считают себя источником всяческой святости и началом всех религий. А нас они считают, напротив, еретиками, которые извратили веру, или, вернее, мятежными евреями.
Они думают, что если бы это извращение совершалось незаметно, то и они легко могли бы совратиться; но так как оно произошло внезапно и насильственно, так как они могут указать день и час рождения той и другой религии, то они и возмущаются тем, что наша насчитывает только века, и сами крепко держатся за свою религию, возникшую одновременно с миром.
Никогда еще они не пользовались в Европе таким спокойствием, как теперь. Христиане начинают освобождаться от духа нетерпимости, которым они были проникнуты раньше. В Испании дела пошли плохо после того, как оттуда изгнали евреев{70}, а во Франции — после того, как стали преследовать христиан{71}, верования которых слегка разнятся от верований короля. Убедились, наконец, в том, что рвение к распространению религии отличается от привязанности, которую следует к ней проявлять, и что для того, чтобы любить и блюсти ее, нет нужды ненавидеть и преследовать тех, кто ее не придерживается.
Хотелось бы пожелать нашим мусульманам так же здраво рассуждать об этом предмете, как рассуждают христиане: пусть бы раз навсегда между Али и Абубекром был заключен мир{72} и лишь богу было бы предоставлено решать вопрос о достоинствах этих святых пророков. Пусть чтут их посредством поклонения и уважения вместо вздорного предпочтения одного другому и стараются заслужить их благоволение, независимо от того, какое место отведет им бог: одесную ли себя, или у подножия своего престола.
Из Парижа, месяца Сафара 18-го дня, 1714 годаПИСЬМО LXI. Узбек к Реди в Венецию
Зашел я на днях в знаменитую здешнюю церковь, именуемую Нотр-Дам. Пока я восхищался этим прекрасным зданием, мне довелось разговориться с неким священником, которого, как и меня, привлекло сюда любопытство. Разговор зашел о том, какая у него спокойная профессия.
«Большинство людей завидует нашему счастливому положению, и совершенно справедливо, — сказал он мне. — Тем не менее есть и у него свои неприятные стороны. Мы не так уж удалены от мира; нас призывают в него во множестве случаев, и здесь перед нами возникают трудные задачи.
Великосветское общество состоит из удивительных людей: они не выносят ни нашего одобрения, ни нашего осуждения; если мы хотим их исправлять, они смеются над нами; если мы их одобряем, они считают, что мы унижаем свой сан. А нет ничего унизительнее мысли, что тобой возмущаются даже неверующие. Итак, нам приходится вести себя хитро и внушать уважение вольнодумцам не решительным образом действий, но тем, как мы относимся к их умствованиям. Для этого требуется много ума; такое самообладание дается нам не легко. Светским людям куда вольготнее, они ничем не стеснены, позволяют себе всяческие выпады, а потом, смотря по результату, либо отрекаются от них, либо на них настаивают.
Это еще не все. В свете мы отнюдь не сохраняем того счастливого и спокойного состояния, которое так хвалят. Лишь только мы туда попадаем, нас сейчас же вовлекают в спор: заставляют, например, доказывать пользу молитвы для неверующего или необходимость поста для того, кто всю жизнь отрицает бессмертие души: задача нелегкая, к тому же все насмешники объединяются против нас. Больше того: нас все время мучит желание и другим привить наши взгляды, и это желание, так сказать, неотъемлемо от нашей профессии. А это так же нелепо, как если бы европейцы, для пользы человеческой природы, стали бы трудиться над тем, чтобы выбелить лица африканцев. Мы тревожим государство, мучаемся сами из-за стремления навязать людям такие религиозные положения, которые вовсе не являются основными, и становимся похожими на того китайского завоевателя, который довел своих подданных до бунта тем, что вздумал заставить их коротко остричь то ли волосы, то ли ногти.
Само усердие, с каким мы добиваемся исполнения обязанностей, налагаемых нашей святой религией, со стороны тех, кто поручен нашему попечению, часто бывает опасно, и в этом отношении нам следует быть весьма благоразумными. Когда-то император, по имени Феодосий{73}, предал мечу всех жителей некоего города, даже женщин и детей. После этого он направился было в церковь, но епископ, по имени Амвросий, приказал запереть перед ним двери, как перед убийцей и святотатцем, и это был с его стороны геройский поступок. Тогда император принес покаяние, какого требовал подобный грех; будучи допущен в церковь, он занял место среди священников. Но епископ удалил его оттуда, а это уже был поступок изувера. Из этого следует, что надо остерегаться чрезмерного усердия. Не все ли было равно религии или государству, занял бы или не занял этот государь место среди священников?»
Из Парижа, месяца Ребиаба 1, 1-го дня, 1714 годаПИСЬМО LXII. Зели к Узбеку в Париж
Твоей дочери пошел восьмой год, и пора, думается мне, перевести ее во внутренние покои сераля и поручить черным евнухам, не дожидаясь, пока ей исполнится десять лет. Лучше пораньше лишить девушку свободы, предоставляемой ребенку, и дать ей благочестивое воспитание в священных стенах, где обитает целомудрие.
Я не согласна с теми матерями, которые запирают своих дочек только накануне их выхода замуж, — тем самым они скорее осуждают их на жизнь в серале, чем посвящают их такой жизни; они насильно подчиняют их затворничеству, вместо того чтобы заранее приучить. Неужели надо всецело полагаться на силу разума и ничего не ждать от приятности привычки?
Напрасно говорить нам о том, что сама природа обрекла нас на подчиненное положение. Недостаточно только ставить нас в такое положение: надо приучать нас к нему, чтобы сила привычки поддержала нас в то трудное время, когда в затворницах заговорят страсти и начнут подстрекать их к независимости.
Если бы нас привязывал к вам только долг, мы могли бы порою забывать его; если бы нас привязывала только склонность, то, быть может, другая склонность, более сильная, могла бы ослабить первую. Но когда законы отдают нас мужчине, они отнимают нас от всех других мужчин и настолько удаляют от них, как если бы мы находились за тысячу миль.
Природа, так много сделавшая для мужчин, не ограничилась тем, что наделила их желаниями: она наделила желаниями и нас, чтобы мы были одушевленными орудиями их наслаждений; она ввергла нас в пучину страстей, чтобы дать мужчинам возможность спокойной жизни; она предназначила нам возвращать их к спокойному состоянию, когда они из него выходят, причем сами мы никогда не вкушаем того завидного настроения, в которое их приводим.
Не думай, однако, Узбек, что ты счастливее меня: я испытала здесь тысячу радостей, которые тебе неведомы. Мое воображение беспрерывно работало над тем, чтобы я по достоинству оценила их: я жила, а ты только прозябал.
Даже в тюрьме, где ты держишь меня, я свободнее тебя; как бы ты ни усиливал бдительность моих стражей, меня твое беспокойство только радует; твои подозрения, твоя ревность, твои печали — это не что иное, как свидетельства твоей зависимости.
Продолжай, милый Узбек: вели наблюдать за мной денно и нощно, не доверяй обычным предосторожностям, умножай мое счастье, оберегая свое собственное, и знай, что я страшусь только одного: твоего равнодушия.
Из испаганского сераля, месяца Ребиаба 1, 2-го дня, 1714 годаПИСЬМО LXIII. Рика к Узбеку в ***
Ты, кажется, окончательно обосновался в деревне. Сначала ты пропадал дня на два-три, а теперь вот уже две недели, как я не видался с тобой. Правда, ты живешь в очаровательном доме, ты нашел подходящее для себя общество, рассуждаешь там вволю; а этого тебе достаточно, чтобы забыть весь мир.
Что касается меня, то я веду почти тот же образ жизни, как и при тебе: часто бываю в свете и стремлюсь его изучить. Мой ум незаметно теряет то, что еще осталось в нем азиатского, и без усилий приноравливается к европейским нравам. Я уже не так удивляюсь, встречая в каком-нибудь доме пять-шесть женщин в обществе пяти-шести мужчин, и нахожу, что это не плохо придумано.
Можно сказать, что я узнал женщин только с тех пор, как нахожусь здесь; в один месяц я изучил их лучше, чем мог бы изучить в серале за тридцать лет.
У нас все характеры однообразны, потому что все они вымучены; мы видим людей не такими, каковы они на самом деле, а такими, какими их принуждают быть. В этом порабощении сердца и ума слышится только голос страха, — а у страха лишь один язык; это не голос природы, которая выражается столь разнообразно и проявляется в столь многих формах.
Притворство — искусство, у нас весьма распространенное и даже необходимое, — здесь неизвестно: все разговаривают, все видятся друг с другом, все слушают друг друга; сердца открыты так же, как и лица; в нравах, в добродетели, даже в пороке всегда замечаешь что-то наивное.
Чтобы нравиться женщинам, надо обладать некоторым талантом, независимо от той способности, которая нравится им еще больше: этот талант заключается в особой игривости ума, забавляющей женщин потому, что она каждое мгновение обещает им то самое, что можно исполнять только через большие промежутки времени.
Эта игривость, созданная для будуарных разговоров, дошла, кажется, до того, что стала отличительной чертой национального характера; шутят в Государственном совете; шутят во главе армии; шутят с послом. Любая профессия кажется нелепой, как только ей придают излишнюю серьезность: врач перестал бы вызывать насмешки, если бы его одежда была не столь мрачной и если бы он убивал своих больных шутя.
Из Парижа, месяца Ребиаба 1, 10-го дня, 1714 годаПИСЬМО LXIV. Начальник черных евнухов к Узбеку в Париж
Не могу выразить тебе, светлейший повелитель, в каком я нахожусь затруднении; в серале беспорядок и страшное смятение; между твоими женами идет война; евнухи разделились на партии; только и слышишь жалобы, ропот и упреки; на мои уговоры никто не обращает внимания; при подобной распущенности все кажется дозволенным, и я в серале просто пустое место.
Каждая из твоих жен считает себя выше других по происхождению, красоте, богатству, уму и твоей любви; основываясь на каком-либо из этих преимуществ, каждая требует, чтобы ей во всем отдавали предпочтение; просто уж нет сил терпеть, хотя именно своим долготерпеньем я и имел несчастье возбудить их неудовольствие. Мое благоразумие и даже снисходительность — качества столь редкие на занимаемом мною посту и даже несовместимые с ним — оказались бесполезными.
Угодно ли тебе, чтобы я открыл причину всех этих беспорядков, светлейший повелитель? Вся она целиком в твоем сердце и твоем нежном отношении к женам. Если бы ты не удерживал меня, если бы вместо увещаний предоставил мне право наказывать, если бы вместо того, чтобы верить их жалобам и слезам, ты отсылал бы их плакаться ко мне, — а меня-то уж не разжалобишь! — я бы скоро приучил их к ярму, которое они должны носить безропотно, и укротил бы их своевольный и независимый нрав.
Пятнадцатилетним подростком я был вывезен из глубины Африки, с родины, и был сначала продан человеку, у которого было больше двадцати жен и наложниц. Заключив по моей серьезности и молчаливости, что я гожусь для сераля, он приказал приспособить меня для этой должности и подвергнуть операции, которая вначале была очень тягостной для меня, зато впоследствии оказалась благодетельной, ибо она приблизила меня к уху моих господ и доставила мне их доверие. Я вступил в сераль, как в новый для меня мир. Главный евнух, — самый строгий человек, какого я только знавал в своей жизни, — полновластно управлял сералем. Там и помину не было ни о каких ссорах и распрях; повсюду царствовала глубокая тишина; круглый год все женщины ложились спать и вставали в один и тот же час; они поочередно принимали ванну и выходили из нее по малейшему нашему знаку; в остальное время они почти всегда оставались взаперти в своих покоях. Правила предписывали содержать их в большой чистоплотности, и главный евнух относился к этому с исключительной внимательностью: за малейший отказ в повиновении их наказывали немилосердно. «Я раб, — говорил он, — но раб человека, который господин и вам, и мне, и я пользуюсь властью, которую он дал мне над вами: не я вас наказываю, а он; я только прикладываю руку». Женщины никогда не входили без зова в спальню моего господина; они радовались этой милости и безропотно мирились с ее лишением. А я, последний из черных в том мирном серале, пользовался там в тысячу раз большим уважением, чем в твоем, где распоряжаюсь всеми женщинами.
Главный евнух заметил мои способности и обратил на меня внимание; он сказал моему господину, что я в состоянии пойти по его стопам и стать со временем его преемником. Его не смущала моя крайняя молодость, он считал, что мое усердие заменит опытность. Да что говорить! Он настолько проникся доверием ко мне, что смело вручил мне ключи от заветных покоев, которые охранял столько лет. Под руководством этого великого наставника я научился трудному делу управления и выработал себе основы непреклонной власти. Под его руководством я познал сердца женщин; он научил меня пользоваться их слабостями и не смущаться их высокомерием. Часто он забавлялся, видя, как я довожу их до крайних пределов послушания; затем он постепенно ослаблял строгость и требовал, чтобы я некоторое время делал вид, будто уступаю им. Но надо было видеть его в те минуты, когда он доводил их до полного отчаяния, и они принимались то упрашивать его, то упрекать; он невозмутимо переносил их слезы и даже чувствовал себя польщенным такого рода торжеством. «Вот как нужно управлять женщинами, — говорил он с удовлетворением. — Мне нипочем, что их здесь много: я не хуже справился бы и с бесчисленными женами нашего великого монарха. Как бы мог супруг полонить их сердца, если бы его верные евнухи сначала не укротили их нрава?»
Он обладал не только твердостью, но и проницательностью; он читал в их мыслях и разгадывал их хитрости; ни нарочитыми жестами, ни притворным выражением лица они ничего не могли скрыть от него; он знал самые сокровенные их поступки и самые тайные речи; он пользовался одними, чтобы проникать в помыслы других, и охотно награждал малейшее разоблачение. Так как они никогда не входили к мужу без вызова, то евнух звал к нему ту, которую хотел, и по своему усмотрению привлекал внимание господина к той или иной из них. И это обычно бывало наградой за какую-нибудь разоблаченную тайну. Он убедил господина, что нужно предоставить ему этот выбор порядка ради, чтобы повысить его авторитет. Вот, светлейший повелитель, как управляли сералем, который, полагаю, был самым благоустроенным в Персии.
Развяжи мне руки; позволь мне требовать, чтобы меня слушались. Не пройдет и недели, и в этом гнезде неурядиц водворится порядок. Это нужно для твоей славы, этого требует твое спокойствие.
Из твоего испаганского сераля, месяца Ребиаба 1, 9-го дня, 1714 годаПИСЬМО LXV. Узбек к своим женам в испаганский сераль
Я узнал, что сераль в беспорядке, что у вас беспрестанные ссоры и внутренний раздор. А ведь я просил, уезжая, чтобы вы жили в мире и добром согласии! Вы мне это обещали; или вы собирались меня обмануть?
Сами вы оказались бы обманутыми, если бы я последовал советам, которые дает мне главный евнух, если бы я пустил в ход свою власть, тогда как до сих пор я лишь уговаривал вас жить благонравно.
Я всегда прибегаю к насильственным мерам только после того, как испробую все остальные. Сделайте же ради самих себя то, чего вы не хотели делать ради меня.
Главный евнух имеет все основания жаловаться: он говорит, что вы ни в грош его не ставите. Как же можете вы согласовать такое своеволие с вашим скромным положением? Ведь именно главному евнуху вверил я вашу добродетель на время моего отсутствия. Ему поручил я это драгоценное сокровище. Но вы выказываете ему презрение и, стало быть, тяготитесь людьми, на коих возложена обязанность следить, чтобы вы соблюдали законы чести.
Измените же ваше поведение, прошу вас, и живите так, чтобы и в следующий раз я мог отвергнуть предложения, которые мне делаются с целью ограничить вашу свободу и нарушить ваше благоденствие.
Я хотел бы, чтобы вы забыли, что я ваш властелин, и чтобы сам я помнил только, что я — ваш супруг.
Из Парижа, месяца Шахбана 5-го дня, 1714 годаПИСЬМО LXVI. Рика к ***
Здесь много занимаются науками, но я не знаю, так ли уж здесь люди учены. Тот, кто во всем сомневается в качестве философа, не решается ничего отрицать в качестве богослова. Такой противоречивый человек всегда доволен собою, лишь бы только договориться о том, какое ему носить звание.
Большая часть французов помешана на том, чтобы слыть умными, а тот, кто считает себя умным, помешан на том, чтобы писать книги.
Между тем хуже этого нельзя ничего придумать: природа, по-видимому, мудро позаботилась, чтобы человеческие глупости были преходящими, книги же увековечивают их. Дураку следовало бы довольствоваться уже и тем, что он надоел всем своим современникам, а он хочет досаждать еще и грядущим поколениям; он хочет, чтобы его глупость торжествовала над забвением, которым он мог бы наслаждаться, как могилой; он хочет, чтобы потомство было осведомлено о том, что он жил на свете, и чтобы оно вовеки не забыло, что он был дурак.
Из всех писателей я больше всего презираю компиляторов, которые набирают где только могут обрывки чужих произведений и вкрапливают их в свои, как цветочные клумбы в однообразный газон. Они нисколько не выше типографских рабочих, набирающих буквы, из сочетания коих составляется книга, к которой они приложили только руку. Хотелось бы, чтобы люди уважали самобытные сочинения, и мне кажется, что выдергивать отдельные отрывки из святилища, в котором они заключаются, чтобы подвергнуть их незаслуженному презрению, — своего рода святотатство.
Почему человек, которому нечего сказать, не молчит? И кому нужна эта двойная работа? «Но я предлагаю новый порядок». — «Подумаешь, какой умник! Вы приходите в мою библиотеку и переставляете книги, стоящие вверху, вниз, а стоящие внизу — наверх. Вот так великое произведение искусства!»
Я пишу тебе, ***, об этом потому, что меня вывела из себя книга, которую я только что прочитал, — книга такая толстая, что, казалось, она содержит в себе всю премудрость, а она только заморочила мне голову, ничему не научив.
Из Парижа, месяца Шахбана 8-го дня, 1714 годаПИСЬМО LXVII. Иббен к Узбеку в Париж
Три корабля пришли сюда, не привезя мне от тебя известий. Не болен ли ты? Или тебе просто вздумалось меня помучить?
Если ты позабыл меня, живя в стране, где ты ни с чем не связан, то что же будет в Персии и в лоне твоей семьи? Но, может быть, я ошибаюсь: ты так любезен, что всюду найдешь друзей. Сердце — гражданин всех стран. Как же возвышенной душе избежать новых привязанностей? Признаюсь тебе: я уважаю старую дружбу, но ничего не имею и против того, чтобы повсюду приобретать новых друзей.
В какой бы стране мне ни приходилось бывать, я жил так, словно собирался провести там всю жизнь: я всюду одинаково ценил добродетельных людей, проявлял сострадание, или скорее нежность, к несчастным, уважение к людям, которых не ослепило богатство. Таков мой нрав, Узбек: всюду, где только есть люди, я найду себе друзей.
Тут живет один огнепоклонник; он, думается мне, занимает первое место после тебя в моем сердце: он — сама честность. Особые обстоятельства принудили его удалиться в Смирну, и он ведет здесь спокойное существование вместе с любимой женой на доход от честной торговли. Вся его жизнь отмечена великодушными поступками, и, хотя он стремится к безвестности, в сердце его больше доблести, чем в сердцах самых великих монархов.
Я тысячу раз говорил ему о тебе, показываю ему все твои письма и замечаю, что это доставляет ему удовольствие. Вижу, что ты обрел в его лице еще неведомого тебе друга.
Ты найдешь здесь рассказ о его главных приключениях; ему очень не хотелось о них писать, но из дружбы ко мне он не мог мне отказать, а я доверяю их твоей дружбе.
История Аферидона и Астарты
Я родился в среде огнепоклонников, исповедующих, пожалуй, самую древнюю религию изо всех существующих в мире религий. На мое несчастье любовь пришла ко мне раньше разума. Мне едва исполнилось шесть лет, а я уже не мог жить без своей сестры: мои глаза постоянно были прикованы к ней, а стоило ей на минуту оставить меня, как они наполнялись слезами; моя любовь росла быстрее, чем я сам. Отец, удивленный столь сильной привязанностью, охотно повенчал бы нас, согласно древнему обычаю огнепоклонников, установленному Камбизом{74}, но страх перед магометанами, под игом которых мы живем, мешает людям нашего племени даже думать об — этих святых союзах, не только дозволенных, но и предписываемых нашей религией и являющихся простодушным подтверждением союза, уже установленного самой природой.
Поэтому отец мой, видя, что было бы опасно послушаться собственного сердца и потворствовать моей склонности, решил погасить пламя, которое он считал только зарождающимся, между тем как оно уже отчаянно полыхало. Под предлогом путешествия он увез меня с собою, поручив заботы о сестре нашей родственнице, ибо моя мать умерла за два года до того. Не стану говорить, в какое отчаяние повергла меня эта разлука: я обнимал сестру, заливавшуюся слезами, но сам не пролил ни слезинки; горе сделало меня как бы бесчувственным. Мы приехали в Тифлис, и отец, доверив мое воспитание родственнику, оставил меня там, а сам возвратился домой.
Немного спустя я узнал, что он, при содействии друга, поместил мою сестру в царский бейрам{75}, где она стала служанкой султанши. Если бы мне сообщили о ее смерти, я не был бы больше потрясен, ибо, не говоря уже о том, что я утратил надежду когда-либо вновь увидеть ее, вступление в бейрам делало ее магометанкой, и, следуя предрассудку этой религии, она впредь могла питать ко мне лишь отвращение. Между тем, наскучив жизнью в Тифлисе, тяготясь даже самим существованием на свете, я возвратился в Испагань. Горькими были первые слова, с которыми я обратился к отцу: я упрекал его за то, что он поместил дочь в такой дом, куда можно войти, только отрекшись от своей веры. «Ты навлек этим на свою семью, — сказал я ему, — гнев бога и солнца, светящего тебе; ты поступил хуже, чем если бы осквернил Стихии, потому что ты осквернил душу своей дочери, не менее их чистую. Я умру от скорби и любви, но да будет смерть моя единственным наказанием, которым покарает тебя бог!» С этими словами я вышел и целых два года только и делал, что бродил под стенами бейрама и взирал на дом, где могла находиться моя сестра, причем я ежедневно тысячи раз подвергался опасности быть задушенным евнухами, которые ходили дозором вокруг этих страшных мест.
Наконец, отец мой умер, а султанша, которой прислуживала сестра, видя, что красота ее расцветает с каждым днем, воспылала ревностью и выдала девушку за евнуха, страстно желавшего ее. Благодаря этому сестра моя вышла из сераля и поселилась со своим евнухом в доме, который они сняли в Испагани.
Больше трех месяцев мне не удавалось повидаться с ней: евнух, ревнивейший из мужей, под различными предлогами отказывал мне в этом. Наконец, я вошел в его бейрам, и он разрешил мне поговорить с сестрою через решетчатое окно. Даже рысьи глаза не могли бы разглядеть ее: так была она закутана в одежды и покрывала, и я узнал ее только по голосу. Каково было мое волнение, когда я оказался так близко и так далеко от нее! Но я держал себя в руках; я знал, что за мною наблюдают. Что касается ее, то мне показалось, что она плачет. Муж ее стал было неловко оправдываться, но я повел себя с ним, как с последним из рабов. Он очень смутился, когда услышал, что я говорю с сестрою на незнакомом ему наречии: то был язык древнеперсидский, являющийся нашим священным языком. «Сестра моя, — сказал я ей, — неужели правда, что ты отреклась от веры твоих отцов? Я знаю, что, вступая в бейрам, ты должна была перейти в магометанство, но скажи: неужели и сердце твое, как уста, согласилось отречься от веры, которая разрешает мне любить тебя? И ради кого отреклась ты от этой веры, которая должна быть так дорога нам? Ради негодяя, еще запятнанного оковами, которые он носил! Ради того, кто был бы последним из людей, будь он еще мужчиной!» — «Брат мой! ответила она, — человек, о котором ты говоришь, мне муж; я должна его почитать, каким бы недостойным он тебе ни казался; я тоже была бы последней из женщин, если бы...» — «Ах, сестра! — воскликнул я, — ты огнепоклонница: он не супруг тебе и не может им быть. Если ты тверда в вере, как твои отцы, ты должна считать его просто чудовищем». — «Увы! — отвечала она, — как далека от меня эта вера! Едва я выучила ее предписания, как уже мне пришлось их забыть. Ты видишь, что мне уже чужд тот язык, на котором мы с тобой говорим, — видишь, как мне трудно на нем изъясняться. Но знай, что воспоминания о нашем детстве по-прежнему дороги мне; что с тех пор я знала лишь ложные радости, что дня не проходило, чтобы я не думала о тебе, и даже мое замужество связано с мыслью о тебе больше, чем ты думаешь, ибо я решилась на него только в надежде свидеться с тобою. Но сколько еще будет мне стоить этот день, так дорого мне обошедшийся! Я вижу, что ты вне себя; мой муж весь дрожит от злобы и ревности. Я не увижу тебя больше; нет сомнения, я говорю с тобою в последний раз в жизни; если это так, брат мой, то не долго буду жить я на свете». При этих словах она разволновалась и, видя, что не в силах продолжать разговор, ушла, оставив меня в страшном отчаянии.
Дня три-четыре спустя я снова просил свидания с сестрой. Варвару-евнуху очень не хотелось меня пускать, но, не говоря уже о том, что подобного рода мужья, не в пример другим, не имеют на жен большого влияния, он безумно любил мою сестру и ни в чем не мог ей отказать. Я свиделся с ней вновь в том же месте, при тех же покрывалах и в присутствии двух рабов, что вынудило меня снова прибегнуть к нашему особому языку. «Сестра моя, — сказал я ей, почему не могу я видеть тебя иначе, как при таких обстоятельствах? Стены, в которых ты заперта, замки и решетки, гнусные сторожа, присматривающие за тобою, — все это приводит меня в бешенство. Как случилось, что ты утратила сладостную свободу, которой наслаждались твои предки? Единственным залогом добродетели твоей матери, — а она была так целомудренна! — являлась для ее мужа сама эта добродетель. Они жили счастливо, взаимно доверяя друг другу, и простота их нравов была для них богатством, в тысячу раз более ценным, чем ложный блеск, которым ты, как видно, наслаждаешься в этом роскошном жилище. Отрекшись от своей веры, ты потеряла свободу, счастье и то драгоценное равенство, которое делает честь твоему полу. Но еще хуже то, что ты не жена, потому что и не можешь ею быть, а ты рабыня раба, лишенного человеческих свойств». — «Ах, брат мой! — воскликнула она, — относись с уважением к моему супругу, относись с уважением к вере, которую я приняла: согласно ей, я совершаю преступление, что слушаю тебя и разговариваю с тобою». — «Как, сестра моя! — вскричал я вне себя, — ты, стало быть, считаешь эту религию истинной?» — «Ах, как хорошо было бы для меня, если бы она не была истинной! — отвечала сестра. — Но я должна считать ее истинной, ибо слишком велика жертва, которую я ей приношу...» Тут она умолкла. «Да, твои сомнения, сестра, весьма основательны, в чем бы они ни заключались. Чего ждешь ты от веры, которая делает тебя несчастной на этом свете и не дает тебе никаких надежд на блаженство в жизни будущей? Подумай: ведь наша вера — древнейшая из всех на свете; она искони процветала в Персии, она возникла одновременно с нашим государством, начало которого теряется в веках; магометанство же появилось у нас случайно и упрочилось не путем убеждения, а благодаря завоеванию. Если бы наши законные государи не были слабы, то и сейчас все еще господствовал бы у нас культ древних магов. Перенесись мыслью в те далекие века: всё в них говорит о магии, а не о магометанской секте, которая и спустя несколько тысячелетий была еще только в младенческом состоянии». «Но даже если моя религия, — сказала она, — и моложе твоей, она чище, так как почитает только бога; вы же поклоняетесь, кроме того, солнцу, звездам, огню и даже стихиям», — «Вижу, сестра, что ты научилась у мусульман клеветать на нашу святую веру. Мы не поклоняемся ни светилам, ни стихиям, и отцы наши никогда им не поклонялись, никогда не воздвигали в их честь храмов, никогда не приносили им жертв, хоть и воздавали им поклонение, но поклонение низшего порядка, как созданиям и проявлениям божества. Но, сестра, во имя бога, просвещающего нас, возьми священную книгу, которую я тебе принес: это книга нашего законодателя Зороастра; прочти ее без предубеждения, раскрой свое сердце лучам света, которые будут озарять тебя во время чтения; помни об отцах наших, столь долго чтивших Солнце в священном городе Балке{76}, помни, наконец, обо мне, который лишь от перемены твоего положения ожидает покоя, счастья, жизни». Я покинул сестру в крайнем смятении и предоставил ей наедине решить важнейший вопрос моей жизни.
Я вернулся через два дня; я не говорил ни слова и молча ждал ее приговора: жизнь или смерть? «Ты любим, брат мой, — сказала она мне, — и любим огнепоклонницей. Я долго боролась. Но, боги! Как просто любовь устраняет все затруднения! Как мне стало легко! Я уже не боюсь чересчур любить тебя; я могу не ставить пределов моей любви: даже избыток ее будет законен. Ах, как это отвечает состоянию моего сердца! Ты порвал цепи, которыми окован был мой ум; но когда же порвешь ты узы, связывающие мне руки? Отныне я отдаюсь тебе. Пусть быстрота, с которой ты добьешься меня, покажет, насколько тебе дорог этот дар. Брат мой, мне кажется, что я умру в твоих объятиях в первый же раз, как обниму тебя».
Никогда не выразить мне радости, которую я ощутил при этих словах. Мне показалось, что я мгновенно превратился в счастливейшего из людей, да я и действительно стал им; я видел, что почти исполнились все желания, которые питал я в течение двадцати пяти лет, и рассеялись все печали, делавшие жизнь столь тяжкой. Но когда я немного освоился с этими сладостными мыслями, я понял, что хотя я и преодолел самое большое препятствие, я все же не так близок к счастью, как сразу вообразил. Нужно было обмануть бдительность ее стражей. Я не осмеливался никому доверить тайну моей жизни. У меня не было никого, кроме сестры, у нее — никого, кроме меня. В случае неудачи мне грозило быть посаженным на кол, но неудача сама по себе казалась мне жесточайшим из всех наказаний. Мы условились, что сестра пришлет ко мне за часами, которые оставил ей в наследство отец, а я положу в них пилку, чтобы перепилить решетки окна, выходящего на улицу, и веревку с узлами, чтобы спуститься вниз; что мы впредь не будем видаться, но я каждую ночь буду подходить к тому окну в ожидании благоприятной минуты для исполнения ее намерения. Я тщетно прождал пятнадцать ночей, так как она не могла найти подходящего времени. Наконец, на шестнадцатую ночь я услышал скрип пилки. Время от времени скрип прекращался, и в эти промежутки меня охватывал неописуемый ужас. Через час работа окончилась, и я увидел, что сестра привязывает веревку; она спустилась по ней и скользнула в мои объятия. Я перестал сознавать опасность и долго стоял, не двигаясь с места. Затем я вывел ее из города, туда, где у меня была припасена оседланная лошадь; я посадил сестру позади себя и помчался с величайшей, какая только была возможна, быстротой прочь от места, которое могло стать столь роковым для нас. Еще до рассвета мы прискакали к соплеменнику, который жил в пустынном уголке, скудно питаясь плодами своих трудов. Мы считали неразумным оставаться у него; по его совету, мы углубились в густой лес и спрятались в дупле старого дуба. Так мы жили, пока не заглох шум, вызванный нашим исчезновением. Мы жили в этом уединенном убежище совсем одни, беспрестанно твердя друг другу, что любви нашей не будет конца, и ожидали случая, когда какой-нибудь жрец-огнепоклонник совершит над нами обряд, предписанный нашими священными книгами. «Сестра моя, — говорил я ей, — как свят наш союз! Нас соединила Природа, теперь нас соединит еще и наш святой закон». Наконец, явился жрец и утолил наше любовное нетерпение. В крестьянской хижине он совершил все положенные брачные обряды; он благословил нас и тысячу раз пожелал нам крепость Гистаспа и святость Огораспа{77}. Вскоре после того мы покинули Персию, где не чувствовали себя в безопасности, и переселились в Грузию. Мы прожили там год и день ото дня все больше восторгались друг другом. Но мои деньги приходили к концу, а так как я боялся бедности — не для себя, а для сестры, то я оставил ее и отправился искать помощи у родственников. Прощание наше было на редкость нежно. Однако путешествие мое вышло не только бесполезным, но и пагубным для меня: во-первых, оказалось, что все наше имущество у нас отнято; во-вторых, родственники почти не могли помочь мне, и я получил от них ровно столько, сколько мне нужно было на обратную дорогу. Но каково же было мое отчаяние: я не нашел сестры на прежнем месте! За несколько дней до моего возвращения татары совершили набег на город, где она жила, и так как она им приглянулась, они увели ее с собой и продали евреям, отправлявшимся в Турцию; они оставили мне только дочку, которую она родила за несколько месяцев до того. Я пустился вдогонку за евреями и настиг их в трех милях от города. Тщетны были мои мольбы, мои слезы; евреи требовали у меня тридцать туманов{78} и не уступали ни одного. Я обращался с просьбами решительно ко всем, молил о защите и турецких и христианских священников и, наконец, обратился к одному купцу армянину; я продал ему свою дочь и самого себя в придачу за тридцать пять туманов. Потом пошел к евреям, отдал им тридцать туманов, а остальные пять понес к сестре, которой еще не видел. «Ты свободна, сестра моя, — сказал я ей, — и я могу снова обнять тебя: вот я принес тебе пять туманов; жаль, что за меня не дали больше». — «Как! — воскликнула она, — ты продал себя?» — «Да», — ответил я. «Ах, безумец! Что же ты сотворил! Неужели я и без того недостаточно была несчастна, что ты сделал меня еще несчастнее! Я утешалась только тем, что ты свободен, а твоя неволя сведет меня в могилу. Ах, брат мой! Как жестока твоя любовь! А где же моя дочка? Я ее не вижу». — «Я и ее продал», — сказал я. Мы оба залились слезами и не в силах были произнести ни слова. Наконец, я отправился к своему господину, и сестра пришла к нему почти одновременно со мной. Она бросилась к его ногам. «Я молю вас о рабстве, как другие молят о свободе, — говорила она. — Возьмите меня! Вы продадите меня дороже, чем моего мужа». Тогда началась между нами борьба, исторгшая слезы из глаз моего господина. «Несчастный! — говорила она, — неужели ты думал, что я могу принять свободу ценою твоей собственной? Господин, пред вами двое страдальцев, которые умрут, если вы их разлучите. Я отдаю себя в ваше распоряжение. Заплатите мне: может быть, эти деньги и моя преданность смогут когда-нибудь заслужить то, о чем я не смею вас просить. В вашей выгоде — не разлучать нас: не забывайте, что я располагаю его жизнью». Армянин был человек добрый; наши горести тронули его. «Служите мне оба с верностью и усердием, и я обещаю, что через год верну вам свободу. Я вижу, что ни ты, ни он не заслуживаете обрушившихся на вас бедствий. Если, получив свободу, вы будете счастливы, как вы того достойны; если судьба вам улыбнется, я уверен, что вы мне вернете понесенный мною убыток». Мы припали к его коленям и последовали за ним в его странствии. Мы помогали друг другу в исполнении наших невольничьих обязанностей, и я бывал в восторге, когда мне удавалось выполнить урок, назначенный моей сестре.
Год подходил к концу; наш господин сдержал слово и отпустил нас. Мы возвратились в Тифлис. Там я повстречал старого друга моего отца, который успешно занимался в этом городе врачеванием; он одолжил мне немного денег, и я открыл небольшую торговлю. Дела привели меня затем в Смирну, где я и поселился. Я живу здесь уже шесть лет и наслаждаюсь самым любезным и приятным обществом в мире; в семье моей царит согласие, и я не променяю своего положения на положение всех царей, какие только есть на свете. Мне посчастливилось разыскать армянского купца, которому я всем обязан, и я оказал ему значительные услуги.
Из Смирны, месяца Джеммади 2, 21-го дня, 1714 года
ПИСЬМО LXVIII. Рика к Узбеку в ***
На днях я обедал у одного судьи, который приглашал меня уже несколько раз. Поговоривши о разных разностях, я сказал ему: «Сударь! Мне кажется, что ваше ремесло — очень трудное». — «Не такое уж трудное, как вам кажется, ответил он, — мы занимаемся им так, что оно в сущности является просто развлечением». — «Позвольте! Разве голова у вас не набита всегда чужими делами? Разве вы не заняты постоянно совсем неинтересными вещами?» — «Вы правы: это вещи совсем не интересные, потому что мы ими вовсе и не интересуемся; оттого-то наше ремесло не столь утомительно, как вы думаете». Услыхав такой развязный ответ, я продолжал: «Сударь! Я не видел вашего кабинета». — «Еще бы! У меня его и нет. Когда я купил эту должность, мне нужны были деньги, чтобы заплатить за нее, и я продал свою библиотеку, а книгопродавец, купивший ее, из всех моих многочисленных книг оставил мне одну только приходо-расходную. Впрочем, я о книгах и не тужу: мы, судьи, не чванимся излишней ученостью. На что нам все эти тома законов? Почти все казусы гипотетичны и выходят из рамок общих правил». — «Не оттого ли они и выходят из этих рамок, сударь, — заметил я, — что вы сами их оттуда выводите? А то зачем бы у всех народов мира существовали бы законы, если бы им не было приложения? И как можно применять законы, не зная их?» — «Если бы вы знали судебную палату, — возразил судья, — вы бы так не говорили: у нас есть живые книги — адвокаты: они работают за нас и берут на себя труд нас учить». — «А не берут они на себя иной раз труд надувать вас? — возразил я. — Вам не мешало бы остерегаться их плутней. У них имеется оружие, с которым они нападают на вашу справедливость; было бы неплохо, чтобы и у вас было оружие для ее защиты и чтобы вы не ввязывались в драку, одетые налегке, в то время как враги ваши закованы в броню с ног до головы».
Из Парижа месяца Шахбана 18-го дня, 1714 годаПИСЬМО LXIX. Узбек к Реди в Венецию
Ты бы никогда не подумал, что я стану еще большим метафизиком, чем был прежде; а между тем это так, и ты в этом убедишься, когда выслушаешь нижеследующие мои философские излияния.
Самые рассудительные из философов, размышлявших о природе бога, говорили, что он — существо всесовершенное; но они чрезвычайно злоупотребляли этим понятием: они перечисляли все совершенства, которые человек может иметь и представлять себе, и наделяли ими понятие о божестве, не задумываясь над тем, что часто эти свойства друг друга исключают и не могут быть присущи одному и тому же субъекту, взаимно не уничтожая друг друга.
Западные поэты рассказывают, будто некий живописец{79}, вознамерившись создать изображение богини красоты, собрал самых красивых гречанок и от каждой взял всё, что в ней было самого пленительного, а из всего этого создал целое, которое должно было походить на прекраснейшую из богинь. Если бы кто-нибудь заключил отсюда, что она была одновременно и блондинка и брюнетка, что глаза у нее были и черные и голубые, что она была и смиренна и горда, его бы подняли на смех.
Богу часто не хватает какого-нибудь совершенства, которое придало бы ему великое несовершенство; но он всегда ограничен только самим собою; он сам себе необходимость. Так, например, хотя бог и всемогущ, он не может ни нарушать своих обещаний, ни обманывать людей. Часто это бессилие заключается даже не в нем самом, но в относящихся к данному случаю вещах; вот почему он не может изменить сущности вещей.
Именно поэтому некоторые наши ученые осмеливаются отрицать безграничность божественного предвидения, основываясь на том, что оно несовместимо с его справедливостью.
По их мнению, совершенно невозможно, чтобы бог предвидел то, что зависит от действия свободных причин, так как того, что не произошло, нет, а следовательно, его и знать нельзя, ибо ничто не имеет свойств и не может быть воспринимаемо. Бог не может читать в несуществующей воле и видеть в душе то, чего в ней нет, ибо действие, определяющее волю, не содержится в ней, пока не состоялось само это определение.
Душа — исполнительница того, что ее определяет, но бывают случаи, когда она до такой степени ничем не определяется, что сама не знает, в какую сторону определиться. Часто она решается на это только затем, чтобы воспользоваться своей свободой; поэтому бог не может заранее предвидеть, чем определятся ее проявления, ни в движениях души, ни в действии, оказываемом на нее предметами.
Как может бог предвидеть вещи, зависящие от определения их свободными причинами? Это возможно только двумя способами: или путем догадки, что противоречит безграничному предвидению, или при помощи предположения, что это вещи необходимые и непреложно вытекающие из самой производящей их причины; а это заключает в себе еще большее противоречие, ибо при этом душа предполагается свободной, на самом же деле она не свободнее бильярдного шара, когда его толкает другой шар.
Не думай, однако, что эти ученые намереваются ограничить божье всеведение. Заставляя свои творения поступать, как ему вздумается, бог знает все, что хочет знать. Но, хотя он может все видеть, он не всегда пользуется этой своей способностью: обычно он предоставляет творению свободу поступать так или иначе, чтобы оставить ему возможность заслужить награду или наказание, и в таких-то случаях он отказывается от права воздействовать на человека и определять его поступки. Но когда он хочет что-нибудь знать, то всегда знает, ибо ему стоит только захотеть, и уже все случается, как ему нужно, и поступки его творений определяются его волей. Таким образом, он извлекает то, что должно произойти, из числа вещей только возможных, твердо намечая своим изволением будущие решения умов и лишая их предоставленной им ранее возможности поступать или не поступать по своему собственному усмотрению.
Если позволительно прибегнуть к сравнению в вопросе, стоящем выше всяких сравнений, то бывает, что и монарх не знает, как поступит его посол в каком-нибудь важном деле, но, если он хочет это знать, ему стоит только повелеть послу поступить так, а не иначе, и он может быть уверен, что дело произойдет именно так, как он предначертал.
Алкоран и еврейская библия беспрестанно восстают против догмата абсолютного всеведения: в их изображении бог как будто совсем не знает будущего направления умов, и это, по-видимому, первая истина, преподанная людям Моисеем.
Бог поселил Адама в земном раю под условием, что он не будет вкушать от известного плода. Но разве могло бы существо, которому известны все будущие решения душ, ставить условия для своих милостей? Ведь это все равно, как если бы кто-нибудь, зная, что Багдад взят, сказал бы другому: «Я дам тебе сто туманов, если Багдад не взят». Ведь это было бы просто дурною шуткой!
Любезный мой Реди! Зачем столько умствований! Бог так высоко, что мы не видим даже окружающих его облаков. Мы хорошо знаем его только по его заветам. Он безграничен, духовен, бесконечен. Пусть же его величие напоминает нам о нашей слабости. Постоянно смиряться перед ним — значит постоянно поклоняться ему.
Из Парижа, в последний день месяца Шахбана 1714 годаПИСЬМО LXX. Зели к Узбеку в Париж
Твой любимый Сулейман в отчаянии от только что нанесенного ему оскорбления. Некий вертопрах, по имени Суфиз, целые три месяца сватался к его дочери; казалось, юноше нравится наружность девушки, о которой он судил по рассказам и описаниям женщин, знавших ее в детстве; условились насчет приданого, и все шло гладко. Вчера, после совершения первых обрядов, девушка отправилась к нему верхом в сопровождении евнуха и закутанная, по обычаю, с ног до головы. Но едва она подъехала к дому своего нареченного, как последний велел запереть двери и заявил, что ни за что не примет ее, если приданое не будет увеличено. С обеих сторон сбежались родственники, чтобы уладить дело, и после долгих споров Сулейман согласился сделать еще один маленький подарок своему зятю. Брачные обряды были завершены, и девушку почти насильно отвели в постель. Но час спустя вертопрах вскочил в бешенстве, изрезал ей лицо, крича, что она не девственна, и отослал ее обратно к отцу. Это оскорбление совершенно сразило старика. Некоторые уверяют, что девушка невинна. Такие оскорбления — великое несчастье для отцов! Если бы так поступили с моей дочерью, я бы, кажется, умерла от горя. Прощай.
Из сераля Фатимы, месяца Джеммади 1{80}, 9-го дня, 1714 годаПИСЬМО LXXI. Узбек к Зели
Мне жаль Сулеймана, тем более что беда непоправима и что его зять только воспользовался правом, которое предоставляет ему закон. Я нахожу этот закон, ставящий честь семьи в зависимость от блажи какого-нибудь сумасброда, крайне жестоким. Что бы ни говорили о том, будто существуют определенные признаки, по которым можно узнать правду, наши врачи неопровержимо изобличают недостоверность этих доказательств. Даже христиане считают эти приметы вздорными, хотя они ясно установлены в книгах их древнего законодателя{81}.
Я с удовольствием узнаю о том, с какою заботливостью ты воспитываешь свою дочь. Дай бог, чтобы муж нашел ее столь же прекрасной и чистой, как Фатима; чтобы у нее было десять евнухов для охраны, чтобы она стала честью и украшением сераля, для которого она предназначена; чтобы над головой ее были только раззолоченные потолки; чтобы она ступала только по роскошным коврам! И в довершение всех моих пожеланий да будет мне суждено видеть ее во всем ее величии!
Из Парижа, месяца Шальвала 5-го дня, 1714 годаПИСЬМО LXXII. Рика к Узбеку в ***
На днях мне довелось быть в обществе, где я встретил на редкость самодовольного человека. В четверть часа он разрешил три вопроса морали, четыре исторических проблемы и пять физических задач. Я никогда не видывал столь разностороннего мастера по части любых вопросов: его ум ни на мгновение не затруднялся какими бы то ни было сомнениями. Перестали говорить о науках и заговорили о текущих новостях: он и тут высказывал безапелляционные суждения. Я хотел его поймать и подумал: «Нужно коснуться того, в чем я всего сильнее, — прибегну к своему отечеству». Я заговорил с ним о Персии, но не успел произнести и нескольких слов, как он дважды меня опроверг, опираясь на авторитет господ Тавернье и Шардена{82}. «Ах ты пропасть! — подумал я, — что же это за человек! Ведь сейчас окажется, что он и улицы испаганские знает лучше моего». Я сразу принял решение: замолчал, предоставив ему разглагольствовать, и он продолжает решать всё сплеча и посейчас.
Из Парижа, месяца Зилькаде 8-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXIII. Рика к ***
Я слышал о своего рода судилище, именуемом Французской академией. Нет на свете другого учреждения, которое бы так мало уважали: говорят, что едва оно примет какое-нибудь решение, как народ отменяет его, а сам предписывает Академии законы, которые ей приходится соблюдать.
Несколько времени тому назад Академия, ради утверждения своего авторитета, выпустила свод своих постановлений{83}. Это детище столь многих отцов было уже в день своего рождения почти стариком, и, хотя оно являлось законным ребенком, незаконное дитя{84}, появившееся на свет немного раньше, чуть не задушило его.
У тех, кто составляет это учреждение, нет других обязанностей, кроме беспрерывной болтовни; похвала как бы сама собою примешивается к их вечной стрекотне, и как только человека посвятят в тайны Академии, так страсть к панегирикам овладевает им, и притом на всю жизнь.
У этого тела сорок голов{85}, битком набитых иносказаниями, метафорами и антитезами; эти многочисленные уста глаголят почти что одними восклицаниями, а уши хотят упиваться только размеренной речью и гармонией. Что касается глаз, то о них и речи нет: кажется, будто это тело создано только для того, чтобы говорить, а не для того, чтобы видеть Оно отнюдь не твердо на ногах, ибо время — его бич — поминутно сотрясает его до основания и уничтожает все, что оно сделало. Когда-то говорили, что у него руки загребущие. Тут уж я ничего тебе не скажу и предоставлю судить тем, кто знает это лучше меня.
В нашей Персии таких странностей нет, ***. Нашему уму чуждо влечение к столь удивительным и чудным учреждениям: в своих обычаях и наивных нравах мы всегда стремимся к естественности.
Из Парижа, месяца Зильхаже 21-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXIV. Узбек к Рике в ***
Недавно один знакомый сказал мне: «Я обещал ввести вас в хорошие парижские дома; сегодня я поведу вас к вельможе из числа тех, которые лучше всего представляют наше королевство».
«Что это значит, сударь? Что же, он вежливее, приветливее других?» «Нет», — сказал он. «Ага! Понимаю: он ежеминутно дает окружающим чувствовать свое превосходство. Если это так, мне незачем туда идти: тут я ему целиком уступаю превосходство и примиряюсь с этим».
Пойти все же пришлось, и я увидел щупленького человечка, который был до того надменен, брал понюшку табаку с таким высокомерием, так неумолимо сморкался, так невозмутимо плевал и так оскорбительно для людей ласкал своих собачек, что я просто не мог ему надивиться. «О господи! — подумал я, — если, находясь при персидском дворе, я так представительствовал, я представлял собой изрядного дурака!» Только обладая крайне дурным характером, могли бы мы, Рика, наносить столько мелких оскорблений людям, которые каждый день являлись к нам, чтобы изъявить свое доброжелательство; они прекрасно знали, что мы стоим выше их, а если бы и не знали, им бы ежедневно напоминали об этом наши благодеяния. Нам не было нужды заставлять людей уважать нас, зато мы делали все, чтобы нас уважали; мы входили в общение с самыми незначительными людьми; несмотря на окружавшие нас почести, от которых люди всегда черствеют, мы проявляли к ним сочувствие; только сердцем мы стояли выше их: мы снисходили к их нуждам. Но когда надо было поддерживать величие государя во время торжественных церемоний, когда приходилось внушать иностранцам уважение к нашей нации, когда, наконец, в опасных обстоятельствах приходилось воодушевлять солдат, мы умели подниматься на высоту, в сотни раз большую той, с какой мы спускались; мы умели тогда принимать гордое выражение лица, и иной раз окружающие находили, что мы достаточно представительны.
Из Парижа, месяца Сафара 10-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXV. Узбек к Реди в Венецию
Должен тебе признаться, что я не замечал у христиан тех живых религиозных убеждений, какие находишь у магометан. У христиан большое расстояние от исповедования веры до подлинных верований, от этих последних до убежденности и от убежденности — до исполнения религиозных обрядов. У них религия служит не столько предметом священного почитания, сколько предметом споров, доступных всем и каждому: придворные, военные, даже женщины восстают против духовенства и требуют от него, чтобы оно доказало им то, во что они заранее решили не верить. Не то, чтобы разум привел их к этому и чтобы они взяли на себя труд исследовать истинность или ложность отвергаемой ими религии: это просто-напросто бунтовщики, которые почувствовали ярмо и решили стряхнуть его с себя еще прежде, чем с ним познакомились. Поэтому они столь же нетверды в своем неверии, как и в вере; они живут приливами и отливами, беспрестанно увлекающими их от одного состояния к другому. Кто-то сказал мне однажды: «Я верю в бессмертие души по полугодиям; мои убеждения зависят исключительно от самочувствия: в зависимости от того, много ли во мне жизненных соков, хорошо или плохо переваривает желудок, дышу ли я легким или тяжелым воздухом, питаюсь ли удобоваримым или тяжелым мясом, я бываю спинозистом, социнианином{86}, католиком, безбожником или верующим. Когда у моей постели сидит врач, духовник всегда найдет меня в наилучшем для него душевном состоянии. Когда я здоров, то прекрасно сопротивляюсь гнету религии, зато я позволяю ей утешать меня, как только захвораю. Если мне уже больше не на что надеяться от другой стороны, является религия и завладевает мною с помощью своих обещаний; я охотно им поддаюсь, чтобы умереть в стане тех, кто сулит мне надежду».
Христианские государи уже давно освободили рабов в своих владениях, потому что, говорят они, христианство считает всех людей равными. Правда, этот благочестивый поступок был для монархов очень выгоден: благодаря ему они подорвали могущество дворян, ибо освободили простой народ из-под их власти. Вслед за тем они завоевали некоторые страны, где, по их расчету, выгодно иметь рабов; они разрешили покупать и продавать людей, забыв о предписаниях религии, которые их так растрогали. Что же мне сказать тебе? То, что в одно время бывает правдой, в другое оказывается заблуждением. Почему бы и нам не поступать, как христиане? Мы простачки, раз отказываемся от поселений и легких завоеваний в прекрасных странах{87} только потому, что там вода недостаточно чиста для омовений, предписанных святым Алкораном!
Благодарю всемогущего бога, который послал нам великого пророка своего, Али, за то, что я исповедую религию, стоящую выше всех человеческих интересов и чистую, как небо, с которого она снизошла.
Из Парижа, месяца Сафара 13-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXVI. Узбек к своему другу Иббену в Смирну
В Европе законы против самоубийц беспощадны. Их, так сказать, предают смерти вторично: тела их с позором волокут по улицам, самоубийц объявляют негодяями, отчуждают их имущество.
Мне кажется, Иббен, что эти законы крайне несправедливы. Если я удручен горем, нищетою, презрением, почему мешают мне положить конец всем мукам и жестоко лишают меня лекарства, которым я располагаю?
Почему хотят, чтобы я трудился для общества, к которому я не желаю больше принадлежать; чтобы я, вопреки своей воле, соблюдал соглашение, заключенное без меня? Общество основано на взаимной выгоде. Но когда оно становится для меня обременительным, что помешает мне от него отказаться? Жизнь дарована мне как милость: следовательно, я могу вернуть ее, когда она перестает быть благодеянием; если прекращается причина, должно прекратиться и действие.
Неужели государь хочет, чтобы я оставался его подданным, когда я не получаю никакой выгоды от этого подданства? Разве мои сограждане могут требовать такого несправедливого раздела, когда им будет доставаться выгода, а мне — отчаяние? Неужели бог, в отличие от всех иных благодетелей, осуждает меня на то, чтобы я принимал тягостные для меня милости?
Я обязан повиноваться законам, покуда живу под их охраной. Но разве могут они меня связывать, когда я этой охраной больше не пользуюсь?
Однако, скажут мне, ты нарушаешь порядок, установленный провидением. Бог соединил твою душу с телом, а ты разъединяешь их: следовательно, ты восстаешь против его предначертаний и сопротивляешься его воле.
Что значат эти слова? Разве я нарушаю порядок, установленный провидением, когда изменяю виды материи и придаю форму квадрата шару, который основными законами движения, то есть законами созидания и сохранения, был сотворен круглым? Разумеется, нет: я только пользуюсь данным мне правом, и в таком смысле я могу, если мне вздумается, перевернуть всю природу, и никто не может сказать, что я восстаю против провидения.
Разве меньше будет порядка и благоустройства в мире, после того как моя душа отделится от тела? Или вы думаете, что это новое сочетание будет менее совершенным и меньше будет связано с общими законами, что мир что-нибудь от этого потеряет и что создания божий станут из-за этого менее внушительными или, лучше сказать, менее величественными?
Думаете ли вы, что мое тело, превратившись в хлебный колос, в червя, в былинку, станет произведением природы, менее достойным ее? И что моя душа, освобожденная от всего, что было в ней земного, сделается менее возвышенной?
Источник всех этих заблуждений, дорогой Иббен, — только наша гордыня: мы не сознаем нашего ничтожества, и, как бы ни были мы ничтожны, мы хотим иметь какое-то значение во вселенной, играть в ней роль, и притом немалую. Мы воображаем, будто уничтожение столь ценного существа, какое мы собою представляем, умалит природу, и не понимаем, что будет ли на свете одним человеком больше или меньше — да что я говорю! — будут ли существовать даже все люди, вместе взятые, вся сотня миллионов таких планет, как наша, — все это только бесконечно малый и ничтожный атом, который бог и замечает-то лишь потому, что всеведение его беспредельно.
Из Парижа, месяца Сафара 15-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXVII. Иббен к Узбеку в Париж
Дорогой Узбек! Мне думается, что для истинного мусульманина несчастья не столько кара, сколько грозные предупреждения. Драгоценны те дни, в которые мы искупаем свои прегрешения! Сокращать следовало бы дни благоденствия. К чему вся наша нетерпеливость, как не к тому, чтобы показать, что нам хотелось бы быть счастливыми независимо от того, кто дарует нам блаженство потому, что он сам блаженство?
Так как всякое существо состоит из двух существ и так как сохранение этого союза наиболее отвечает покорности велениям творца, то отсюда стало возможным вывести закон религии. А поскольку это сохранение союза является наилучшим залогом человеческой деятельности, то отсюда стало возможно вывести закон гражданский.
Из Венеции, в последний день месяца Сафара 1715 годаПИСЬМО LXXVIII. Рика к Узбеку в ***
Посылаю тебе копию с письма, которое прислал сюда некий француз, проживающий в Испании; думаю, что оно доставит тебе удовольствие.
«Полгода разъезжаю я по Испании и Португалии и живу среди народов, которые, презирая все остальные, одним только французам оказывают честь ненавидеть их.
Выдающейся чертой характера обоих здешних народов является серьезность; она проявляется преимущественно в двух видах: в очках и в усах.
Очки свидетельствуют о том, что их носитель — человек, преуспевший в науках и до такой степени погруженный в книги, что зрение его ослабело; поэтому всякий нос, украшенный или отягощенный очками, сходит здесь за нос ученого.
Что же касается усов, то они почтенны сами по себе, независимо от обстоятельств; все же люди не упускают случая извлечь из них большую пользу для службы государю и для славы отечества, как это наглядно доказал в Индии один знаменитый португальский генерал{88}: нуждаясь в деньгах, он отрезал себе один ус и послал его жителям Гоа{89}, прося у них под сей залог двадцать тысяч пистолей; те одолжили ему эти деньги, а впоследствии генерал с честью выкупил свой ус.
Легко понять, что такие глубокомысленные и флегматичные народы должны обладать гордостью: зато и горды же они! Обыкновенно они основывают свою спесь на двух чрезвычайно важных вещах. Обитатели самой Испании и Португалии весьма гордятся тем, что они, по их выражению, старые христиане, то есть происходят не от тех, кого инквизиция в течение последних столетий убедила принять христианство. Живущие же в Индии не менее горды тем, что обладают высоким преимуществом быть, как они говорят, людьми белой кожи. Ни одна султанша в гареме нашего повелителя никогда так не кичилась своей красотой, как гордится оливковым цветом лица какой-нибудь старый, безобразный грубиян, вечно сидящий сложа руки на пороге своего домика в каком-нибудь мексиканском городишке. Такой важный человек, такое совершенное создание ни за какие сокровища мира не станет работать и никогда не решится умалить честь и достоинство своей колеи каким-нибудь низким, грубым ремеслом.
Надо заметить, что если испанец обладает известными заслугами, если, например, вдобавок к тем преимуществам, о которых я только что говорил, он является собственником огромной шпаги или научился у своего отца искусству бренчать на расстроенной гитаре, так он уж и вовсе не работает: его честь требует, чтобы тело оставалось в полном покое. Того, кто просиживает по десяти часов на дню, не сходя с места, уважают вдвое больше того, кто сидит только пять часов, ибо благородство, оказывается, добывают, восседая на стульях.
Однако, хоть эти заядлые враги труда и хвастаются философским спокойствием, в глубине души они вовсе не спокойны, потому что всегда влюблены. Они — первые на свете мастера умирать от любовного томления под окнами возлюбленных, и испанец без насморка уже не может считаться человеком галантным.
Они, во-первых, набожны, во-вторых, ревнивы. Они весьма остерегутся предоставить своих жен предприимчивости какого-нибудь израненного вояки или дряхлого судьи, зато смело запрут их с любым робко потупляющим взоры послушником или дюжим францисканцем-воспитателем.
Они позволяют женам появляться с открытой грудью, но не желают, чтобы у них был виден хотя бы кончик ноги.
Говорят, что любовные муки всегда жестоки. Но у испанцев они жестоки до крайности; женщины исцеляют их от этих мук, но заменяют одни муки другими, и об угасшей страсти у испанцев часто остается долгое и досадное воспоминание.
У них приняты разные мелкие проявления учтивости, которые во Франции показались бы неуместными: офицер, например, никогда не поколотит солдата, не спросив у него на то разрешения, а инквизиция никогда не сожжет еврея, предварительно перед ним не извинившись.
Те испанцы, которых не жгут на кострах, по-видимому, так привязаны к инквизиции, что было бы просто нехорошо отнять ее у них. Мне бы только хотелось, чтобы учредили еще и вторую инквизицию — не для еретиков, а для ересиархов, которые приписывают мелким монашеским обрядам то же значение, что и самим таинствам, для людей, которые обоготворяют все, что они почитают, и до того набожны, что их едва ли можно считать христианами.
Легко встретить у испанцев и ум и здравый смысл, но не ищите этого в их книгах. Взгляните на какую-нибудь их библиотеку: на романы, с одной стороны, и на схоластические сочинения — с другой. Вы скажете, что их писал и подбирал какой-то тайный враг человеческого разума.
У испанцев только и есть одна хорошая книга{90}: та, в которой показана нелепость всех остальных.
Они совершили великие открытия в Новом свете, но до сих пор не знают своей собственной страны: есть на их реках порты, которых еще никто не открыл, а в горах — племена, которые никому не известны{91}.
Они говорят, что солнце всходит и заходит в их стране, но нужно также заметить, что на своем пути оно встречает одни только разрушенные деревни и пустынные местности».
Я был бы не прочь, Узбек, взглянуть на письмо, написанное в Мадрид каким-нибудь испанцем, путешествующим по Франции; думаю, что он бы с лихвой отомстил за свой народ. Какое обширное поле для флегматичного и вдумчивого человека! Полагаю, что так начал бы он описание Парижа:
«Здесь есть дом, куда сажают сумасшедших. Можно бы предположить, что он самый большой в городе. Нет, лекарство слишком слабо в сравнении с болезнью. Несомненно, французы, пользующиеся очень дурной славой у соседей, для того запирают нескольких сумасшедших в особый дом, чтобы создать впечатление, будто те, кто находится вне этого дома, не сумасшедшие».
На этом я расстаюсь со своим испанцем. Прощай, милый Узбек.
Из Парижа, месяца Сафара 17-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXIX. Главный евнух к Узбеку в Париж
Вчера какие-то армяне привели в сераль молоденькую рабыню-черкешенку, которую они хотели продать. Я отвел ее в отдельное помещение, раздел и осмотрел взглядом знатока; и чем больше я ее рассматривал, тем больше прелестей открывал в ней. Она с девственной стыдливостью старалась скрыть их от меня; я видел, чего ей стоило повиноваться мне: она краснела от своей наготы даже предо мною, кому чужды страсти, могущие вызвать стыдливость, кто не подвластен воздействию ее пола, кто служит скромности и даже в положениях самых вольных всегда взирает целомудренным взглядом и может внушать лишь невинные мысли.
Как только я решил, что она тебя достойна, я опустил глаза, набросил на нее пурпурный плащ, надел ей на палец золотое кольцо, простерся у ее ног и преклонился перед ней, как перед царицей твоего сердца. Я расплатился с армянами и укрыл ее от всех. Счастливец Узбек! Ты обладаешь столькими красавицами, сколько не найдется и во всех дворцах Востока. Как приятно тебе будет по возвращении найти у себя все, что только есть самого пленительного в Персии, и видеть, как все новые и новые прелести возникают в твоем серале, невзирая на то, что время и обладание трудятся над их разрушением!
Из сераля Фатимы, месяца Ребиаба 1, 1-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXX. Узбек к Реди в Венецию
С тех пор как я в Европе, дорогой Реди, я перевидел много разных видов правления. Здесь не то, что в Азии, где государственный уклад повсюду один и тот же.
Я часто размышлял над тем, какое правление наиболее разумно. Мне кажется, что наиболее совершенно то, которое достигает своих целей с наименьшими издержками; так что государственное устройство, при котором людьми управляют в наибольшем соответствии с их нравами и склонностями, и есть самое совершенное.
Если при мягком управлении народ настолько же послушен, как при строгом, то следует предпочесть первое; значит, оно более разумно, а строгость тут ни при чем.
Имей в виду, любезный мой Реди, что более или менее суровые наказания, налагаемые государством, не содействуют большему повиновению законам. Последних так же боятся в тех странах, где наказания умеренны, как и в тех, где они тираничны и жестоки.
Мягко ли правление, или жестоко, всюду существуют разные степени наказания: за более или менее тяжкое преступление налагается более или менее тяжкая кара. Воображение само собою приспособляется к нравам данной страны: недельное тюремное заключение или небольшой штраф так же действуют на европейца, воспитанного в стране, где управление мягко, как потеря руки — на азиата. С известной степенью наказания у обоих связывается известная степень страха, но каждый испытывает этот страх по-своему: француз придет в отчаяние от бесчестья, связанного с наказанием, на которое он осужден, между тем как у турка мысль о таком наказании не отняла бы и нескольких минут сна.
Кроме того, я не замечаю, чтобы полиция, правосудие и справедливость более уважались в Турции, в Персии, в стране Великого Могола, чем в Голландской или Венецианской республиках и даже в самой Англии. Я не замечаю, чтобы на Востоке совершалось меньше преступлений и чтобы там люди из-за страха перед наказанием больше подчинялись законам.
Зато я вижу, что в этих государствах источник несправедливостей и притеснений — само государство.
Я нахожу даже, что там монархи — это воплощение закона — меньше являются господами своей страны, чем во всех других местах.
Я вижу, что в трудные времена там всегда возникает брожение, которым никто не предводительствует, и что когда насильственная верховная власть бывает сметена, ни у кого уж не оказывается достаточно авторитета, чтобы восстановить ее; что самое сознание безнаказанности только укрепляет и увеличивает беспорядок; что в таких государствах никогда не бывает мелких бунтов, а ропот недовольства сразу переходит в восстание; что великие события вовсе не подготовляются там великими причинами, а, напротив, малейший случай вызывает великий переворот, часто совершенно неожиданный как для тех, кто производит его, так и для тех, кто является его жертвами.
Когда был свергнут с престола турецкий император Осман{92}, никто из участников этого мятежа и не думал совершать его: государя только молили исправить какую-то несправедливость, но чей-то навсегда оставшийся неизвестным голос раздался из толпы, имя Мустафы{93} было произнесено, и Мустафа вдруг стал императором.
Из Парижа, месяца Ребиаба 1, 2-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXXI. Наргум, персидский посол в Московии, к Узбеку в Париж
Из всех народов мира, дражайший мой Узбек, ни один не превзошел татар славою и величием завоеваний. Этот народ — настоящий повелитель вселенной: все другие как будто созданы, чтобы служить ему. Он в равной мере и основатель и разрушитель империй; во все времена являл он миру свое могущество, во все эпохи был он бичом народов.
Татары дважды завоевали Китай{94} и до сих пор еще держат его в повиновении.
Они властвуют над обширными пространствами, составляющими империю Великого Могола.
Они владыки Персии{95}, они восседают на троне Кира и Гистаспа. Они покорили Московию. Под именем турок они произвели огромные завоевания в Европе, Азии и Африке и господствуют над тремя частями света.
А если говорить о временах более отдаленных, то именно от татар произошли некоторые из народов, разгромивших Римскую империю.
Что представляют собою завоевания Александра по сравнению с завоеваниями Чингисхана?
Этому победоносному народу не хватало только историков, которые бы прославили память о его чудесных подвигах.
Сколько бессмертных деяний погребено в забвении! Сколько было татарами основано государств, истории которых мы не знаем! Этот воинственный народ, занятый только своей сегодняшней славой, уверенный в вечной своей непобедимости, нимало не позаботился о том, чтобы увековечить память о своих прошлых завоеваниях.
Из Москвы, месяца Ребиаба 1, 4-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXXII. Рика к Иббену в Смирну
Хотя французы и очень много болтают, у них тем не менее есть молчаливые дервиши, которых называют картезианцами{96}. Говорят, будто при вступлении в монастырь они отрезают себе языки; хорошо бы, если бы и все прочие дервиши отрезали себе всё, что бесполезно для их ремесла.
Кстати, есть люди и еще подиковиннее, чем молчальники, и отличаются они необыкновенным талантом. Это люди, умеющие говорить так, чтобы ничего не сказать; они занимают вас часа два таким разговором, что невозможно понять, о чем они собственно ведут речь, невозможно ни повторить, что они сказали, ни удержать в памяти хотя бы одно сказанное ими слово.
Людей такого сорта женщины обожают; но еще больше обожают они все же тех, кого природа наделила приятным даром улыбаться кстати, то есть улыбаться беспрестанно, и кто имеет преимущество возбуждать веселое одобрение, что бы они ни сказали.
Однако верхом остроумия считается умение всюду находить тонкости и открывать множество очаровательных черточек в самых обыденных вещах.
Знаю я и таких, которые ухитряются вовлекать в разговор даже неодушевленные предметы и предоставлять слово вместо себя своему расшитому кафтану, белокурому парику, табакерке, трости и перчаткам. Хорошо, если вас начинают слушать, когда вы еще на улице, когда еще слышен только стук вашей кареты и молотка, крепко колотящего в дверь: такое предисловие предвосхищает весь последующий разговор, а когда вступление удачно, оно искупает все дальнейшие глупости, и можно только радоваться, что глупости расступились перед ним!
Уверяю тебя, что все эти нисколько у нас не ценимые мелкие таланты оказывают немалые услуги тем, кто наделен ими, и что рядом с такими людьми человек здравомыслящий отнюдь не блещет.
Из Парижа, месяца Ребиаба 2, 6-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXXIII. Узбек к Реди в Венецию
Любезный Реди! Если бог существует, то он непременно должен быть справедливым, ибо в противном случае он был бы самым дурным и несовершенным изо всех существ.
Справедливость — это соотношение между вещами: оно всегда одно и то же, какое бы существо его ни рассматривало, будь то бог, будь то ангел или, наконец, человек.
Правда, люди не всегда улавливают его, больше того: нередко они, видя это соотношение, уклоняются от него; лучше всего видят они собственную выгоду. Справедливость возвышает свой голос, но он заглушается шумом страстей.
Люди могут совершать несправедливости, потому что они извлекают из этого выгоду и потому что свое собственное благополучие предпочитают благополучию других: они всегда считаются только с собственными интересами. Понапрасну никто не делает зла: к этому должна побуждать какая-нибудь причина, а такой причиной неизменно является корысть.
Но совершенно невозможно, чтобы бог делал что-нибудь несправедливое: раз мы предполагаем, что ему известна справедливость, он необходимо должен ей следовать, ибо, ни в чем не нуждаясь и довлея самому себе, он оказался бы самым злым изо всех существ, если бы совершал несправедливости хотя бы и безо всякой выгоды для себя.
Следовательно, если бы бога не было, мы все же должны были бы всегда любить справедливость, то есть напрягать все усилия к тому, чтобы походить на то существо, которое мы представляем себе столь совершенным и которое, если бы существовало, было бы по необходимости справедливым. Как бы ни были мы свободны от ига Религии, мы не должны были бы быть свободными от ига Справедливости.
Вот какие соображения, Реди, убеждают меня в том, что справедливость вечна и отнюдь не зависит от человеческих законов. А если бы зависела, то это было бы такой ужасной истиной, которую нам следовало бы скрывать от самих себя.
Мы окружены людьми, которые сильнее нас; они могут вредить нам на тысячи ладов, и притом в большинстве случаев безнаказанно. Какое же успокоение для нас сознавать, что есть в сердцах человеческих некое внутреннее начало, которое постоянно борется за нас и ограждает нас от их козней!
Если бы этого не было, нам пришлось бы жить в непрерывном страхе: мы проходили бы мимо людей, как если бы то были львы, и ни на миг не были бы уверены в своем имуществе, чести и жизни.
Все эти мысли зарождают во мне возмущение против тех ученых, которые изображают бога существом, тиранически пользующимся своим могуществом, приписывают ему действия, которых мы и сами не хотели бы совершать, наделяют его всеми несовершенствами, за которые он нас наказывает, и в своих противоречивых утверждениях представляют его то существом злым, то существом, ненавидящим зло и наказующим его.
Какое удовлетворение испытывает человек, когда, заглянув в собственное сердце, убеждается, что оно у него справедливое! Как бы ни было сурово само по себе это удовольствие, оно должно восхищать человека: он видит, что стоит настолько же выше тех, у кого нет такого сердца, насколько стоит он выше тигров и медведей. Да, Реди, если бы я был уверен в том, что всегда и неуклонно следую справедливости, которую вижу перед собою, я почел бы себя первым из людей.
Из Парижа, месяца Джеммади 1, 1-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXXIV. Рика к ***
Я был вчера во Дворце Инвалидов{97}. Будь я государем, мне было бы приятнее основать такое учреждение, чем выиграть целых три сражения. Там везде чувствуется рука великого монарха. Мне кажется, что это самое почтенное место на Земле.
Что за зрелище представляют собою эти собранные в одно место жертвы Отчизны, которые только и живут мыслью о ее защите и жалуются лишь на то, что не могут вновь принести себя в жертву, так как сердца их остались прежними, но силы уже не те!
Что может быть удивительнее этих дряхлых воинов, соблюдающих в этом убежище такую же строгую дисциплину, к какой принуждало их присутствие неприятеля; ищущих последнего удовлетворения в этом подобии военной службы и разделяющих сердце и ум между религиозными и воинскими обязанностями!
Мне хотелось бы, чтобы имена людей, павших за Родину, сохранялись в храмах и вносились в особые списки, которые были бы источником славы и благородства.
Из Парижа, месяца Джеммади 1, 15-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXXV. Узбек к Мирзе в Испагань
Ты знаешь, Мирза, что некоторые из министров Шах-Солимана{98} возымели намерение принудить всех персидских армян либо покинуть страну, либо принять магометанство; они думали, что наша империя будет нечистой до тех пор, пока в ее лоне пребывают неверные.
Если бы в данном случае вняли слепому благочестию, персидскому величию пришел бы конец.
Неизвестно, почему это дело не осуществилось; ни те, кто внес это предложение, ни те, кто его отверг, не сознавали его последствий: случай исполнил обязанности разума и политики и спас империю от большей опасности, чем та, которой она могла бы подвергнуться из-за проигрыша какой-нибудь битвы или сдачи двух городов.
Изгоняя армян, рассчитывали в один день упразднить в государстве всех купцов и почти всех ремесленников. Я уверен, что великий Шах-Аббас{99} предпочел бы дать себе отрубить обе руки, чем подписать подобный указ, и что, отсылая самых трудолюбивых своих подданных к Великому Моголу и другим индийским царям, он почел бы, что отдает им половину своих владений.
Преследования, которым наши ревностные магометане подвергали огнепоклонников, вынудили последних толпами уходить в Индию и лишили Персию этого трудолюбивейшего земледельческого народа, который один только мог преодолеть бесплодие наших полей.
Рьяному благочестию оставалось нанести Персии только еще один удар: разрушить промышленность. Тогда империя пала бы сама собой, а вместе с нею, следовательно, пала бы и та религия, процветания которой надеялись этим достигнуть.
Если рассуждать без предубеждений, то я не знаю, Мирза, не лучше ли, чтобы в государстве существовало несколько религий?
Замечено, что люди, исповедующие религии, только терпимые государственною властью, оказываются обычно более полезными для отечества, чем те, которые принадлежат к господствующей вере, потому что первые лишены почестей и, имея возможность отличаться только пышностью и богатством, стремятся приобретать их трудом и берут на себя самые тяжкие общественные обязанности.
К тому же все без исключения вероучения содержат в себе полезные для общества правила; поэтому хорошо, когда они усердно соблюдаются. А что же может больше возбуждать это усердие, как не многочисленность религий?
Это соперницы, ничего не прощающие друг другу. Ревность их передается и отдельным лицам: каждый держится настороже и остерегается таких поступков, которые могут нанести бесчестие его лагерю и подвергнуть оный презрению или беспощадной критике противников.
Поэтому всегда замечалось, что появление в государстве новой секты вернейшее средство исправить заблуждения прежней.
Напрасно говорят, будто не в интересах монарха терпеть в своем государстве несколько вероучений. Даже если бы все секты мира собрались в нем, это не нанесло бы ему ни малейшего ущерба, ибо нет такой секты, которая не предписывала бы повиновения и не проповедовала бы покорности.
Согласен, история полна религиозных войн. Но причина этому — не множество религий, а дух нетерпимости, которым бывала охвачена религия, считавшая себя господствующей, тот дух прозелитизма, который евреи заимствовали у египтян и который, как заразная, повальная болезнь, перешел от них к магометанам и христианам; наконец, тот дух заблуждения, развитие коего нельзя считать не чем иным, как полным затмением человеческого разума.
Словом, если бы даже не было бесчеловечно угнетать чужую совесть, если бы даже не проистекало из этого дурных последствий, которые в угнетении коренятся во множестве, то и тогда лишь глупец может не понимать, в чем тут дело. Тот, кто хочет заставить меня переменить веру, делает это несомненно потому, что сам не переменил бы свою, если бы его стали к этому принуждать. Следовательно, такой человек находит странным, что я не делаю того, чего он сам не сделал бы, может быть, за власть над целым миром.
Из Парижа, месяца Джеммади 1, 26-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXXVI. Рика к ***
Здешние семьи, кажется, управляются сами собою. У мужа только тень власти над женою, у отца — над детьми, у господина — над рабами. Во все их несогласия вмешивается правосудие, и будь уверен, что оно всегда настроено против ревнивого мужа, раздражительного отца, придирчивого господина.
Намедни я зашел в то место, где отправляется правосудие. Прежде чем туда доберешься, приходится пройти под огнем множества молоденьких торговок, зазывающих тебя вкрадчивым голоском. Вначале это зрелище кажется довольно забавным, но оно становится зловещим, когда войдешь в большие залы, где встречаешь людей, одеяние которых еще мрачнее их лиц. Наконец, входишь в святилище, где раскрываются семейные тайны и выплывают на свет божий самые темные делишки.
Вот скромная девушка описывает страдания, причиняемые ей слишком долго сохраняемой девственностью, говорит о своей борьбе и мучительном сопротивлении. Она так мало гордится своей стойкостью, что грозит скорым падением, и, дабы отец не оставался в неведении относительно ее нужд, она выкладывает их перед всем народом.
Вот является бесстыжая женщина и перечисляет в качестве повода к разводу все оскорбления, которые она нанесла мужу.
Другая столь же скромная дама заявляет, что ей надоело только довольствоваться званием женщины, а не наслаждаться им: она разоблачает тайны, скрытые во тьме брачной ночи, и требует, чтобы ее подвергли осмотру самых опытных экспертов и чтобы судебное решение восстановило ее во всех правах девственницы. Бывают и такие, что осмеливаются бросать вызов мужьям и требуют у них публичного состязания, весьма затруднительного в присутствии посторонних: такое испытание столь же позорно для женщины, подвергающейся ему, сколь и для мужа, унизившегося до него.
Бесчисленное множество изнасилованных или соблазненных девушек изображают мужчин гораздо худшими, чем они есть на самом деле. Громкий голос любви гулко раздается под сводами этого судилища: там только и разговору, что о разгневанных отцах, обманутых дочерях, неверных любовниках и оскорбленных мужьях.
По здешним законам, всякий ребенок, рожденный в браке, считается принадлежащим мужу. Последний может иметь сколько угодно веских оснований не верить этому. Закон верит за него и избавляет его от расследования и сомнений.
В этом судилище дела решаются большинством голосов, но, говоря, все давно уже убедились по опыту, что лучше было бы решать их по меньшинству. И это правильно: ведь людей справедливых очень мало, и никто не отрицает, что несправедливых куда больше.
Из Парижа, месяца Джеммади 2, 1-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXXVII. Рика к ***
Говорят, что человек — животное общительное. С этой точки зрения мне кажется, что француз больше человек, чем кто-либо другой: он человек по преимуществу, так как и создан-то, по-видимому, исключительно для общества.
Но я заметил среди французов таких людей, которые не только общительны, но представляют сами собою целое общество. Они пролезают во все уголки, они в одно и то же время населяют все городские кварталы. Сотня таких людей наполняет город больше, чем две тысячи граждан; в глазах иностранцев они могут заполнить пустоту, оставленную чумою или голодом. В школах спрашивают, может ли одно и то же тело одновременно находиться в нескольких местах: эти господа являют собою доказательство возможности того явления, кое философы ставят под вопрос.
Они всегда спешат, потому что заняты важным делом: спрашивают у всех встречных, куда те идут и откуда.
У них никак не выбьешь из головы, что приличие будто бы требует ежедневного посещения всех знакомых в розницу, не считая визитов, которые делаются оптом в тех местах, где происходят собрания. Но так как дорога в такие собрания слишком коротка, то парижане не применяют их в расчет при соблюдении своего церемониала.
Стуком молотков они наносят дверям больше урона, чем ветры и бури. Если бы кто-нибудь вздумал просматривать у привратников книги, в которых записывают посетителей, он ежедневно находил бы там все те же имена, исковерканные швейцарами на тысячу ладов. Всю жизнь эти люди либо плетутся за чьим-нибудь гробом, выражая соболезнование, либо поздравляют кого-нибудь по случаю бракосочетания. Стоит королю наградить кого-либо из подданных, чтобы они разорились на карету и съездили поздравить награжденного. Наконец они в изнеможении возвращаются домой и отдыхают, чтобы назавтра снова приняться за свои тяжелые обязанности.
Один из них умер на днях от усталости, и на его могиле начертали следующую эпитафию: «Здесь покоится тот, кто никогда не ведал покоя. Он прогулялся в пятистах тридцати похоронных шествиях. Он порадовался рождению двух тысяч шестисот восьмидесяти младенцев. Пенсии, с которыми он, — всегда в разных выражениях, — поздравил своих друзей, достигают в общей сложности двух миллионов шестисот тысяч ливров. Расстояние, пройденное им по городским мостовым, равняется девяти тысячам шестистам стадиям, а пройденное в деревне — тридцати шести. Разговор его был всегда занимателен; в запасе у него имелось триста шестьдесят пять рассказов; кроме того, с юности он овладел ста восемнадцатью изречениями древних, которые и пускал в ход в соответствующих случаях. Он скончался на шестидесятом году жизни. Я умолкаю, путник! Где же мне рассказать тебе обо всем, что он делал и что видел!»
Из Парижа месяца Джеммади 2, 3-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXXVIII. Узбек к Реди в Венецию
В Париже царствуют свобода и равенство. Ни происхождение, ни добронравие, ни даже военные заслуги, как бы блестящи они ни были, не выделяют человека из толпы. Местничество тут неизвестно. Говорят, что в Париже тот человек первый, у кого лучше выезд.
Вельможа — это лицо, которое лицезрит короля, беседует с министрами и у кого имеются предки, долги и пенсии. Если вдобавок он умеет скрывать свою праздность за хлопотливым видом или за притворною склонностью к развлечениям, то он считает себя счастливейшим из людей.
В Персии вельможами являются только те, кому монарх предоставляет большее или меньшее участие в управлении. Здесь же есть вельможи по происхождению, но никаким влиянием они не пользуются. Короли поступают подобно искусным мастеровым, которые для работы всегда пользуются самым простым инструментом.
Королевская милость — высшее божество у французов. Министр — это великий жрец, приносящий верховному божеству обильные жертвы. Окружающие его не носят белых одежд: то они приносят жертвы, то их самих приносят в жертву, и вместе со всем народом они покорствуют своему идолу.
Из Парижа, месяца Джеммади 2, 9-го дня, 1715 годаПИСЬМО LXXXIX. Узбек к Иббену в Смирну
Желание славы ничем не отличается от инстинкта самосохранения, свойственного всем созданиям. Мы как бы умножаем свое существо, когда можем запечатлеть его в памяти других: мы приобретаем таким образом новую жизнь, и она становится для нас столь же драгоценной, как и полученная от неба.
Но подобно тому как не все люди в равной мере привязаны к жизни, так и не все они одинаково чувствительны к славе. Эта благородная страсть, конечно, всегда живет в нашем сердце, но воображение и воспитание видоизменяют ее на тысячу ладов.
Разница, существующая в этом отношении между отдельными людьми, еще явственнее обнаруживается между народами.
Можно принять за твердо установленную истину, что в каждом государстве желание славы растет вместе со свободой его подданных и ослабевает вместе с нею же: слава никогда не бывает спутницей рабства.
Один здравомыслящий человек сказал мне недавно: «Во Франции люди во многих отношениях свободнее, чем в Персии; поэтому и славу у нас ценят больше. Эта благодетельная страсть побуждает француза с удовольствием и охотно делать то, чего ваш султан добивается от своих подданных только тем, что беспрестанно угрожает им казнями и манит наградами.
Поэтому у нас государь печется о чести даже последнего из своих подданных. Для ограждения ее у нас существуют достойные уважения судилища: честь — это священное сокровище нации, единственное, над которым государь не является властелином, ибо не может им быть без вреда для собственных интересов. Так что если какой-нибудь подданный сочтет себя оскорбленным благодаря ли предпочтению, оказанному государем другому лицу, благодаря ли малейшему знаку неуважения, он немедленно покидает двор, оставляет должность и службу и удаляется к себе.
Разница между французскими войсками и вашими заключается в том, что ваши войска, составленные из рабов, низких по самой природе своей, преодолевают страх смерти только благодаря страху перед наказанием, отчего в душе у них пробуждается новый вид ужаса, доводящий их до отупения; а наши солдаты с радостью подставляют себя под удары и побеждают страх благодаря нравственному удовлетворению, которое выше страха.
Но святилище чести, славы и добродетели особенно утвердилось в республиках и в тех странах, где можно произносить слово отечество. В Риме, в Афинах, в Лакедемоне наградою за самые выдающиеся заслуги был только почет. Венок из дубовых или лавровых листьев, статуя, похвальная речь служили величайшей наградой за выигранное сражение или завоеванный город.
Там человек, совершивший благородный поступок, считал самый этот поступок достаточным для себя вознаграждением. Видя любого из соотечественников, он испытывал удовольствие от сознания, что облагодетельствовал его: он считал свои заслуги по числу своих сограждан. Каждому дано делать добро другому; а содействовать счастью целого общества значит уподобиться богам.
Но это благородное соревнование совершенно угашено в сердцах ваших соотечественников, у которых должности и почести не что иное, как проявление прихоти государя. У вас не придают ни малейшего значения громкой славе и добродетели, если они не сопровождаются благосклонностью повелителя, вместе с которою они рождаются и умирают. У вас человек, пользующийся всеобщим уважением, никогда не бывает уверен, что завтра его не постигнет бесчестье. Сегодня он во главе армии, но может случиться, что государь назначит его своим поваром и лишит его надежды на всякую другую похвалу, кроме как за хорошо приготовленный плов».
Из Парижа, месяца Джеммади 2, 15-го дня, 1715 годаПИСЬМО ХС. Узбек к нему же в Смирну
Из этой страсти к славе, свойственной всей французской нации, в умах отдельных лиц сложилось некое весьма щепетильное понятие о чести. Это понятие, собственно говоря, присуще любой профессии, но особенно резко проявляется оно у военных; у них оно принимает наиболее законченную форму. Мне очень трудно дать тебе почувствовать, что это такое, потому что у нас нет об этом точного представления.
В былые времена французы, в особенности дворяне, подчинялись только тем законам, которые предписывались этим понятием чести: эти законы определяли все их поведение и были так строги, что под страхом еще более жестокого наказания, чем самая смерть, нельзя было не только их преступать — уж и не говорю об этом, — но даже чуть-чуть от них уклоняться.
Когда приходилось улаживать какое-нибудь столкновение, эти законы предписывали только один способ решения: дуэль. Она начисто разрешала все затруднения. Но плохо было то, что зачастую решение вопроса предоставлялось не тем лицам, которые были в нем заинтересованы.
Достаточно тебе было просто быть знакомым с одним из поссорившихся, чтобы быть обязанным вмешаться в распрю и платиться собственной персоной, как если бы ты сам был оскорблен. Такой знакомый считал для себя честью, если на нем останавливался выбор и ему оказывалось столь лестное предпочтение, и тот самый человек, который не дал бы другому и четырех пистолей, чтобы спасти от виселицы его самого и всю его семью, нисколько не затруднялся тысячи раз рисковать жизнью за своего знакомца.
Подобный способ решения споров нельзя назвать удачным, потому что из того, что один человек ловчее или сильнее другого, еще не следует, что правда на его стороне.
Поэтому короли и запретили дуэль под страхом строжайших наказаний, но тщетно: Честь, всегда стремящаяся царствовать, бунтует и не признает никаких законов.
Таким образом, французы оказались в весьма затруднительном положении: законы Чести обязывают порядочного человека отомстить за оскорбление, а, с другой стороны, правосудие карает его самым жестоким образом, если он за себя отомстит. Если следуешь законам Чести, гибнешь на эшафоте; если подчинишься законам правосудия, тебя навсегда изгонят из общества. Остается, стало быть, только жестокая альтернатива: либо умереть, либо сделаться недостойным жизни.
Из Парижа, месяца Джеммади 2, 18-го дня, 1715 годаПИСЬМО XCI. Узбек к Рустану в Испагань
Здесь появился человек, переодетый персидским послом, нагло надувающий двух величайших в мире монархов. Он подносит французскому королю такие подарки, которые наш повелитель не решился бы предложить даже государю маленькой Имеретии или Грузии; своей подлой скаредностью он оскорбил величие обоих государств.
Он сделался посмешищем народа, считающего себя самым учтивым в Европе, и дал Западу повод говорить, что царь царей повелевает только варварами.
Ему оказали почести, хотя, судя по его поведению, он хотел бы, чтобы ему в них было отказано, а французский двор, как будто больше его принимая к сердцу величие Персии, поддержал его достоинство перед лицом народа, которому он внушил одно презрение.
Не рассказывай об этом в Испагани: пощади голову несчастного. Я не хочу, чтобы наши министры наказали его за их же собственную неосторожность и недостойный выбор.
Из Парижа, в последний день месяца Джеммади 2, 1715 годаПИСЬМО ХСII. Узбек к Реди в Венецию
Монарха, царствовавшего так долго, не стало{100}. При жизни о нем много говорили; когда он умер, все замолчали. Твердый и мужественный в этот последний час, он, казалось, покорился только судьбе. Так умирал великий Шах-Аббас, после того как наполнил вселенную своим именем.
Не воображай, что это великое событие послужило здесь поводом только к нравственным размышлениям. Всякий подумал о своих делах и о том, какие ему выгоды извлечь из этой перемены. Королю, правнуку усопшего монарха, всего пять лет от роду, поэтому принц, его дядя{101}, объявлен Регентом королевства.
Усопший монарх оставил завещание, которым ограничивал власть Регента. Но ловкий принц отправился в парламент и, предъявив там свои права, добился отмены распоряжения государя, который, казалось, хотел пережить самого себя и притязал на царствование даже и после смерти.
Парламенты похожи на те развалины, которые хоть и попирает нога человека, а они все же наводят на мысль о каком-нибудь храме, прославленном некогда древней религией народов. Парламенты уже ни во что не вмешиваются, кроме отправления правосудия, и их авторитет все более и более умаляется, если только какое-нибудь непредвиденное стечение обстоятельств не вернет им силу и жизнь. Эти великие учреждения разделили судьбу всего человеческого: они отступили перед все разрушающим временем, все подтачивающей порчей нравов, все подавившей монаршей властью.
Однако Регент, стремясь заслужить народное расположение, сначала, казалось, относился с уважением к этому образу общественной свободы и, словно собираясь поднять поверженный храм и идола, хотел, чтобы их считали опорой монархии и основой всякой законной власти.
Из Парижа, месяца Реджеба 4-го дня, 1715 годаПИСЬМО XCIII. Узбек к своему брату, отшельнику Каввинского монастыря
Смиренно преклоняюсь пред тобою, святой отшельник, и простираюсь во прах: следы ног твоих для меня дороже зеницы моих очей. Твоя святость столь велика, словно ты обладаешь сердцем нашего святого пророка: подвижничеству твоему дивится самое небо; ангелы взирают на тебя с вершины славы и глаголят: «Почему он еще на земле, когда дух его с нами и витает вокруг престола, стоящего на облаках?»
И как же мне не почитать тебя, мне, узнавшему от наших ученых, что даже неверным дервишам всегда присуща святость, внушающая правоверным уважение, и что бог избрал на служение себе во всех концах земли самые чистые души и отделил их от нечестивого мира, дабы их подвижничество и пламенные молитвы умеряли гнев его, готовый разразиться над столькими мятежными народами.
Христиане рассказывают чудеса о своих первых подвижниках, которые тысячами удалялись в страшные пустыни Фиваиды; во главе их стояли Павел, Антоний и Пахомий{102}. Если то, что о них рассказывают, правда, то жития их столь же полны чудесами, как и жития самых святых наших имамов. Иногда по целых десять лет не видели они ни одного человека; зато дни и ночи проводили они с демонами; эти лукавые духи беспрестанно мучили их; пустынники находили их у себя на ложе, встречали за столом — невозможно было от них скрыться. Если все это правда, почтенный отшельник, то нужно признать, что никогда и никому еще не приходилось жить в таком скверном обществе.
Здравомыслящие христиане относятся ко всем этим историям как к аллегориям, которые должны разъяснить нам, сколь плачевна участь человека. Тщетно ищем мы спокойствия в пустыне: искушения преследуют нас всюду; страсти, представляющиеся в обличье демонов, не оставляют нас; эти чудовища нашего сердца, эти обманы ума, эти пустые призраки лжи и заблуждения постоянно являются нам, чтобы соблазнять нас, и нападают на нас даже во время поста, даже когда на нас надета власяница, то есть когда мы всего сильнее.
Что касается меня, высокочтимый отшельник, то я знаю, что посланец божий сковал сатану и низверг его в бездну: он очистил землю, некогда подвластную сатане, и сделал ее достойной пребывания на ней ангелов и пророков.
Из Парижа, месяца Шахбана 9-го дня, 1715 годаПИСЬМО XCIV. Узбек к Реди в Венецию
Мне никогда не приходилось слышать разговоров о государственном праве, чтобы при этом собеседники не начинали тщательно доискиваться, как возникло общество. Мне это кажется смешным. Вот если бы люди не создали общества, если бы они избегали друг друга и рассеивались в разные стороны, тогда следовало бы спросить о причине такого явления и искать объяснения их отчужденности. Но люди с самого рождения связаны между собою; сын родился подле отца и подле него остался: вот вам и общество и причина его возникновения.
Государственное право более известно в Европе, чем в Азии; однако можно сказать, что страсти монархов, долготерпение народов, лесть писателей извратили все его принципы.
В том виде, в каком оно находится сейчас, это право является наукой, которая учит государей, до каких пределов могут они нарушать справедливость, Не нанося ущерба собственным интересам. Что же это за назначение для науки, Реди, — возводить несправедливость в систему, устанавливать для нее правила, определять ее принципы, извлекать из нее следствия, — и все это только для того, чтобы приглушить совесть монархов!
Неограниченная власть наших высоких султанов, для которой не существует иного закона, кроме нее самой, порождает не больше чудовищ, чем эта недостойная наука, стремящаяся сломить справедливость, которая должна быть непреклонна.
Можно бы сказать, Реди, что существуют две совершенно различных справедливости: одна управляет делами частных лиц и царствует в гражданском праве, а другая — устраняет распри, возникающие между народами, и тиранствует в праве государственном. Как будто государственное право не является и правом гражданским, — только не одной какой-нибудь страны, а всего мира.
Свои мысли об этом я изложу тебе в следующем письме.
Из Парижа, месяца Зильхаже 1-го дня, 1716 годаПИСЬМО XCV. Узбек к нему же
Судьи должны разрешать тяжбы между отдельными гражданами. Каждый народ должен сам разрешать свои споры с другим народом. При отправлении этого второго вида правосудия не должно быть других правил, чем при отправлении первого.
Надобность в третейском судье между двумя народами ощущается очень редко, потому что предмет спора почти всегда ясен и легко разрешим. Обычно интересы двух наций бывают так различны, что нужно только любить справедливость, чтобы установить, на чьей она стороне; нельзя быть предубежденным в своем собственном деле.
Иной случай, когда распря возникает между отдельными лицами. Так как они живут в обществе, их интересы бывают настолько спутаны и перемешаны, несогласия столь разнообразны, что необходимо, чтобы кто-нибудь третий разобрался в том, что старается затемнить алчность враждующих сторон.
Существует только два вида справедливых войн: те, что предпринимаются для того, чтобы отразить нападение неприятеля, и вторые — чтобы помочь союзнику, подвергшемуся нападению.
Было бы несправедливо начинать войну из-за личных раздоров государей, если только случай не настолько серьезен, что из-за него стоит предать смерти виновного государя или народ. Поэтому государь не может начать войну из-за того, что ему отказали в подобающих ему почестях или обошлись непочтительно с его послом и тому подобное; точно так же частное лицо не может убить того, кто отказывает ему в первенстве. Объявление войны должно быть актом справедливости, причем наказание должно быть соразмерно вине; поэтому нужно предварительно убедиться, заслуживает ли смерти тот, кому объявляют войну; ибо воевать с кем-нибудь значит иметь намерение наказать его смертью.
В государственном праве самым суровым актом правосудия является война, потому что результатом ее может быть разрушение общества.
На втором месте стоит отмщение. Соразмерять наказание с преступлением закон, которого никакие суды не могли обойти.
Третий акт правосудий состоит в том, чтобы лишить государя тех преимуществ, которые он может извлечь из нас; здесь опять-таки наказание должно быть соразмерно вине.
Четвертый акт правосудия, который должен применяться чаще других, заключается в отказе от союза с народом, подающим повод к жалобам. Это наказание соответствует изгнанию, установленному судами с целью удаления виновного из общества. Таким образом, государь, от союза с которым мы отказываемся, исключается из нашего общества и перестает быть одним из его членов.
Нельзя нанести большего оскорбления государю, чем отказавшись от союза с ним, и нельзя оказать ему большей чести, чем заключив с ним союз. Нет ничего славнее и даже полезнее для людей, как видеть, что другие неизменно дорожат сохранением с ними хороших отношений.
Но чтобы союз нас действительно связывал, он должен быть справедлив: например, союз, заключенный двумя нациями в целях притеснения третьей, незаконен, и его можно нарушить, не совершая этим преступления.
Не согласно с честью и достоинством государя вступать в союз с тираном. Рассказывают, что один фараон указывал самосскому царю{103} на его жестокость и тиранство и убеждал его исправиться. Когда же тот не послушался, фараон известил его об отказе от его дружбы и от союза с ним.
Завоевание само по себе не дает никаких прав. Если население завоеванной страны уцелело, то завоевание должно служить залогом мира и восстановления справедливости; если же народ уничтожен или рассеян, завоевание становится памятником тирании.
Мирные договоры столь священны для людей, что являются как бы голосом природы, заявляющей свои права. Они всегда законны, когда условия их таковы, что оба заключивших их народа сохраняют неприкосновенность; в противном случае то из двух обществ, которому предстоит гибель, так как оно лишено естественной защиты в мирных условиях, может искать защиты в войне.
Ибо природа, установившая среди людей различия в силе и слабости, часто с помощью отчаяния уравнивает силу слабых с могуществом сильных.
Вот, любезный Реди, что я называю государственным правом. Вот тебе право людей, или, вернее, право человеческого разума.
Из Парижа, месяца Зильхаже 4-го дня, 1716 годаПИСЬМО XCVI. Первый евнух к Узбеку в Париж
Сюда прибыло много желтых женщин из королевства Висапур{104}. Я купил одну для твоего брата, мазандаранского губернатора{105}, который месяц тому назад прислал мне свое высочайшее повеление и сто туманов.
Я знаю толк в женщинах, тем более что им не обворожить меня и что волнения страсти меня не ослепляют.
Я никогда не встречал столь правильной и совершенной красоты: ее блестящие глаза придают жизнь лицу и подчеркивают восхитительный цвет кожи, пред которым меркнут все прелести страны черкесов.
Ее торговал одновременно со мною главный евнух некоего испаганского купца, но она презрительно отворачивалась от его взоров и, казалось, искала моих, словно желая сказать мне, что гнусный купец недостоин ее и что она предназначена для более знатного супруга.
Признаюсь тебе, я ощущаю тайную радость, когда думаю о прелестях этой красавицы: я представляю себе, как она входит в сераль твоего брата; я с удовольствием предугадываю удивление всех его жен, надменную печаль одних, немую, но тем более тяжкую скорбь других, злорадное самоутешение тех, кому уже не на что больше надеяться, и уязвленное самолюбие тех, кто еще питает надежду.
Находясь здесь, я переверну весь сераль на другом конце государства. Сколько страстей вызову я! Сколько причиню страхов и горестей!
А между тем, несмотря на внутреннее смятение, наружно все будет казаться по-прежнему спокойным: великие перевороты затаятся в глубине сердца; печали будут подавлены, радость сдержана; послушание будет таким же беспрекословным и правила столь же непреклонными; из самых глубин отчаяния возникнет кротость, как всегда, вынужденная.
Мы замечаем, что чем больше женщин у нас под надзором, тем меньше они доставляют нам хлопот. Большая необходимость нравиться, меньшая легкость сближения, больше примеров покорности, — из всего этого слагаются их цепи. Одни неустанно следят за каждым шагом других, как будто все они сообща с нами стараются усилить собственную зависимость; они выполняют часть нашей работы и открывают нам глаза, когда мы их закрываем. Да что я говорю! Они беспрестанно восстанавливают своего господина против соперниц, и сами не замечают, как близки они к тем, кто подвергается наказанию.
Но все это, блистательный повелитель, ничто, когда господин отсутствует. Что можем мы сделать при помощи пустого призрака власти, раз она никогда не выпадает на нашу долю целиком? Мы только в слабой степени представляем половину тебя самого: мы можем проявлять по отношению к женщинам только ненавистную им строгость. Ты же умеряешь страх надеждами; ты полновластнее, когда ласкаешь, чем когда грозишь.
Вернись же, блистательный повелитель, вернись к нам, чтобы повсюду утвердить свое владычество. Приди и успокой мятежные страсти, приди и отними всякий предлог к падению; приди, чтобы успокоить ропщущую любовь и скрасить самый долг; приди, наконец, чтобы облегчить твоим верным евнухам бремя, становящееся день ото дня все более тяжелым.
Из испаганского сераля, месяца Зильхаже 8-го дня, 1716 годаПИСЬМО XCVII. Узбек к Гассейну, дервишу Ярронской горы
О ты, мудрый дервиш, чей любознательный ум блещет столькими знаниями, послушай, что я скажу тебе.
Есть здесь философы, не достигшие, правда, вершин восточной мудрости, не вознесенные к сияющему престолу, не внимавшие неизъяснимым словам, что звучат в хорах ангельских, не почувствовавшие на себе грозных проявлений божественного гнева: они предоставлены самим себе и не удостоены святых чудес, зато они идут в тишине по следам человеческого разума.
Ты и представить себе не можешь, как далеко завел их этот вожатый. Они распутали хаос и с помощью простой механики объяснили основы божественного зодчества. Творец природы наделил материю движением, и этого было достаточно, чтобы произвести то изумительное разнообразие, которое мы видим во вселенной.
Пускай обыкновенные законодатели предлагают нам законы для упорядочения человеческих обществ — законы, настолько же подверженные изменениям, насколько изменчив ум предлагающих и ум народов, их соблюдающих! А философы говорят нам о законах всеобщих, незыблемых, вечных, которые соблюдаются без всяких изъятий, в безграничном пространстве, с бесконечным порядком, последовательностью и быстротой.
Что же, по-твоему, представляют собою эти законы, божественный человек? Может быть, ты надеешься, что, войдя в совет всевышнего, просто изумишься возвышенности этих тайн, и поэтому заранее отказываешься понимать и собираешься только удивляться?
Но скоро ты переменишь свое мнение: эти тайны не ослепляют своею мнимой значительностью; они долго оставались непознанными вследствие своей простоты, и только после долгих размышлений люди поняли всю их плодотворность и широчайшее значение.
Первая из них та, что всякое тело стремится двигаться по прямой линии, если только не встречает какого-нибудь препятствия, отклоняющего его с пути; а вторая, являющаяся всего лишь следствием первой, состоит в том, что всякое тело, вращающееся вокруг какого-нибудь центра, стремится удалиться от него, потому что чем дальше оно от этого центра, тем более приближается к прямой описываемая им линия.
Вот ключ к природе, дивный дервиш; вот плодотворные начала, из которых выводятся необозримые следствия.
Познание пяти-шести истин преисполнило чудесами науку этих философов и дало им возможность произвести почти столько же чудес и удивительных вещей, сколько рассказывается про наших святых пророков.
Я уверен, что нет у нас такого ученого, который не попал бы в затруднительное положение, если бы ему предложили свесить на весах воздух, окружающий землю, или измерить количество воды, ежегодно падающей на ее поверхность, и который крепко не задумался бы, прежде чем сказать, сколько миль в час проходит звук, сколько времени нужно лучу солнца, чтобы дойти до нас, сколько миль отсюда до Сатурна, какую кривизну следует придать корпусу корабля, чтобы он оказался лучшим из всех возможных судов.
Пожалуй, если бы какой-нибудь божественный человек разукрасил произведения этих философов возвышенными и дивными словами, если бы он прибавил к ним смелые Метафоры и таинственные аллегории, получилась бы прекрасная книга, которая уступала бы только святому Алкорану.
И все же, если уж говорить откровенно, мне не по душе иносказательный стиль. В нашем Алкоране есть много мелочей, которые всегда кажутся мне именно мелочами, хотя они очень выигрывают благодаря силе и живости выражения. Казалось бы, боговдохновенные книги заключают в себе не что иное, как божественные мысли, изложенные человеческим языком. А между тем в нашем Алкоране то и дело находишь божеский язык, а мысли человеческие, как будто по какой-то удивительной прихоти бог диктовал слова, а человек поставлял мысли.
Ты скажешь, пожалуй, что я слишком вольно рассуждаю о том, что есть у нас самого святого; подумаешь, что это плод независимости, какою отличаются люди здешней страны. Нет, — благодарение небу! — ум не развратил моего сердца, и, пока я жив, Али будет моим пророком.
Из Парижа, месяца Шахбана 15-го дня, 1716 годаПИСЬМО XCVIII. Узбек к Иббену в Смирну
Нет места на земле, где фортуна была бы столь непостоянна, как здесь. Каждые десять лет происходят здесь перевороты, которые повергают богача в нищету и на быстрых крыльях возносят нищего на вершины богатства. Один удивляется своей бедности, другой — своему изобилию. Новоявленный богач поражается мудрости провидения, бедняк — роковой слепоте судьбы.
Откупщики утопают в сокровищах; Танталов среди них сыщется немного. А между тем они принимаются за это ремесло, находясь в крайней нищете; пока они бедны, их презирают, как мразь; когда они богаты, им оказывают некоторое уважение; зато они ничем и не пренебрегают, чтобы приобрести его.
В настоящее время они в ужасном положении. Только что учреждена палата, названная палатой Справедливости{106}, потому что она собирается лишить их всего имущества. Откупщики не могут ни перевести своего состояния на чужое имя, ни скрыть его, потому что их под страхом смертной казни обязывают подать о нем точные сведения. Таким образом, их прогоняют сквозь весьма узкое ущелье: я хочу сказать — между жизнью и деньгами. В довершение бед есть тут министр{107}, известный своим остроумием, который удостаивает их шуточками и балагурит над всеми постановлениями Государственного совета. Не каждый день встретишь министра, расположенного смешить народ, и нужно быть благодарными этому министру за то, что он взялся за такое дело.
Сословие лакеев уважается во Франции больше чем где бы то ни было: это питомник вельмож; он заполняет пустоту в других сословиях. Принадлежащие к лакейскому сословию люди занимают места вельмож-несчастливцев, разорившихся чиновников, дворян, убитых на кровопролитной войне. А если они не могут заполнить пробелы лично, они спасают знатные семьи с помощью своих дочерей, приданое коих является чем-то вроде навоза, удобряющего гористые и безводные земли.
Я нахожу, Иббен, что провидение превосходно распределило богатства: если бы оно даровало их только хорошим людям, то трудно было бы отличить добродетель от богатства и почувствовать все ничтожество денег. Но когда видишь, что за люди в избытке наделены богатством, начинаешь так презирать богачей, что в конце концов становится для тебя презренным и само богатство.
Из Парижа, месяца Махаррама 26-го дня, 1716 годаПИСЬМО XCIX. Рика к Реди в Венецию
Я несказанно дивлюсь причудам французской моды. Парижане уже забыли, как одевались этим летом, и совсем не знают, как будут одеваться зимой. И прямо-таки невозможно представить себе, во что обходится человеку одеть жену по моде.
Что толку точно описывать тебе их наряды и украшения? Новая мода сведет на нет все мои старания, как сводит на нет работу всех поставщиков, и все переменится прежде, чем ты получишь мое письмо.
Если женщина уедет на полгода из Парижа в деревню, она вернется оттуда настолько отставшей от моды, как если бы прожила там тридцать лет. Сын не узнаёт своей матери на портрете: таким странным кажется ему платье, в котором она изображена; ему кажется, будто это какая-то американка или что художнику просто вздумалось пофантазировать.
Иногда прически мало-помалу становятся всё выше и выше, как вдруг какой-то переворот превращает их в совсем низкие. Было время, когда прически достигали такой огромной вышины, что лицо женщины приходилось посередине ее особы. Другой раз на середине оказывались ноги: каблуки превращались в пьедестал, поддерживавший их в воздухе. Кто поверит, что архитекторам не раз приходилось повышать, понижать или расширять двери в зависимости от требований дамских причесок, и правилам строительного искусства приходилось подчиняться этим капризам; иной раз видишь на чьем-нибудь лице неимоверное количество мушек, а на другой день все они уже исчезают. Прежде у женщин были тонкие талии и острые язычки — теперь об этом нет и помину. У столь переменчивой нации, что ни говори, насмешники, дочери сложены иначе, чем матери.
С манерами и образом жизни дело обстоит так же, как с модами: французы меняют нравы сообразно с возрастом их короля. Монарх мог бы даже, если бы захотел, привить народу серьезность. Государь придает свой характер двору, двор — столице, столица — провинции. Душа властелина — форма, по которой отливаются все другие.
Из Парижа, месяца Самара 8-го дня, 1717 годаПИСЬМО С. Рика к нему же
Я писал тебе недавно о поразительном непостоянстве французов в вопросах моды. Вместе с тем просто непостижимо, до какой степени они на ней помешаны; они все к ней сводят, мода является мерилом, исходя из которого они судят о том, что делается у других народов: все иностранное кажется им смешным. Право, их пристрастие к своим обычаям никак не вяжется с тем непостоянством, с каким они меняют эти обычаи чуть ли не каждый день.
Говоря, что они презирают все иностранное, я имею в виду лишь пустяки, ибо когда дело касается вещей важных, они, по-видимому, так мало себе доверяют, что дошли до полного унижения. Они охотно признают, что другие народы мудрее, лишь бы все признавали, что французы одеты лучше всех. Они согласны подчиниться законам соперничающей с ними нации, но при условии, что французские парикмахеры будут всюду законодателями по части париков. Они в полном восторге от того, что вкусы их поваров царят от севера до юга и что предписания их камеристок распространяются на будуары всей Европы.
При таких благородных преимуществах какое им дело до того, что здравый смысл приходит к ним со стороны и что они заимствовали у соседей все, что относится к политическому и гражданскому управлению?
Кто бы мог подумать, что самое древнее и самое могущественное королевство в Европе вот уже более десяти столетий управляется законами, созданными вовсе не для него{108}? Если бы французы были кем-нибудь завоеваны, понять это было бы нетрудно, но ведь они сами завоеватели!
Они отреклись от древних законов, составленных их первыми королями на всенародных собраниях, и, что особенно странно, приняли взамен римские законы, которые были частью написаны, частью кодифицированы императорами, жившими одновременно с их собственными законодателями.
А чтобы заимствование было полным, чтобы всякий здравый смысл пришел к ним извне, они приняли и все папские установления и сделали из них новый отдел своего права: еще новый вид рабства.
Правда, за последнее время составлено несколько городских и земских уложений; но почти все они заимствованы из римского права.
Законов заимствованных и, так сказать, получивших право гражданства такое множество, что оно в равной мере подавляет и правосудие и судей. Но все эти томы законов еще ничто в сравнении с неисчислимыми полчищами толкователей, комментаторов, компиляторов — людей, настолько же беспомощных по их умственным способностям, насколько они сильны своей поразительной многочисленностью.
Это еще не все. Чужие законы ввели всевозможные формальности, крайности которых — срам для человеческого разума. Трудно решить, где формализм более опасен: в юриспруденции или в медицине; где он натворил больше опустошений под мантией ли юриста, или под широкополой шляпой врача, и разорил ли он больше людей с помощью юриспруденции, чем убил их при посредстве медицины.
Из Парижа, месяца Сафара 12-го дня, 1717 годаПИСЬМО CI. Узбек к ***
Здесь все говорят о Конституции{109}. На днях я зашел в один дом и прежде всего увидел какого-то румяного толстяка, говорившего громким голосом: «Я подал докладную записку; не стану отвечать на все, что вы сказали; прочтите эту записку, и увидите, что я разрешил все ваши сомнения. Я изрядно попотел над ней, — добавил он, проводя рукою по лбу, — мне пришлось пустить в ход всю свою ученость и перечитать уйму римских авторов». — «Еще бы! — вставил другой гость, — ведь это — прекрасное произведение, и я сомневаюсь, чтобы тот иезуит, который так часто у вас бывает, мог бы написать лучше». — «Прочтите же, — сказал первый, — и вы в четверть часа лучше ознакомитесь с этим предметом, чем если бы я целый день говорил вам о нем». Вот как избегал он вступить в разговор и подвергнуть испытанию свою самоуверенность. Но его все-таки прижали к стене, и волей-неволей ему пришлось заговорить; тут он начал выкладывать всякие богословские глупости, причем его поддерживал какой-то дервиш, весьма почтительно ему поддакивая. Когда двое из присутствовавших отвергали какой-нибудь его довод, он прежде всего говорил: «Это не подлежит никакому сомнению: мы так решили, а мы судьи непогрешимые». — «Позвольте, — сказал я тогда, — а почему, собственно говоря, вы непогрешимы?» — «Да разве вы не видите, — возразил он, — что нас просвещает святой дух?» — «Вот это хорошо, — ответил я ему, — ведь по всему, что вы сегодня говорили, видно, что вы весьма нуждаетесь в просвещении».
Из Парижа, месяца Ребиаба 1, 18-го дня, 1717 годаПИСЬМО CII. Узбек к Иббену в Смирну
Самые могущественные государства Европы — это государства императора и королей французского, испанского и английского. Италия и большая часть Германии раздроблены на бесчисленное множество мелких государств, правители которых, по правде говоря, мученики власти. У наших славных султанов больше жен, чем у некоторых из этих государей — подданных. Особенно достойны сочувствия итальянские князья, которые еще меньше связаны между собою: их государства, как караван-сараи, открыты для всех, и они обязаны давать у себя приют первому попавшемуся; поэтому итальянским князьям приходится искать покровительства у крупных государей и делиться с ними скорее своими опасениями, чем дружбой.
Большая часть европейских правительств монархические, или, вернее, они так называются, ибо я сомневаюсь, существовали ли когда-нибудь действительно монархические правительства; во всяком случае, трудно допустить, чтобы они могли долго пребывать в чистом виде. Эта форма правления насильственная, и она скоро перерождается либо в деспотию, либо в республику: власть никогда не может быть поровну разделена между народом и государем; равновесие трудно сохранять: власть неизбежно уменьшается с одной стороны и соответственно увеличивается — с другой; но преимущество обычно бывает на стороне государя, ибо он стоит во главе армии.
И действительно, власть европейских королей очень велика, можно даже сказать, что они обладают ею в той степени, в какой сами хотят. Но они не пользуются ею так широко, как наши султаны, — во-первых, потому, что не хотят затрагивать нравов и религии народов, а во-вторых, потому, что им невыгодно простирать ее столь далеко.
Ничто не приближает так наших повелителей к их подданным, как осуществляемая ими огромная власть; ничто так не подвергает их переворотам и превратностям судьбы.
Их обыкновение сразу же предавать смерти всякого, кто им не угоден, нарушает равновесие, которое должно быть между преступлением и наказанием и которое является как бы душою государств и гармонией империй; это равновесие, тщательно соблюдаемое христианскими государями, дает им безграничное преимущество перед нашими султанами.
Персиянин, по неосторожности или по несчастной случайности навлекший на себя гнев государя, уверен, что его постигнет смерть: малейшая его ошибка или прихоть повелителя неизбежно влекут за собою такой исход. А если персиянин покусится на жизнь своего государя или предаст врагам его крепости, он точно так же лишится жизни: следовательно, в этом последнем случае он подвергается не большему риску, чем в первом.
Поэтому при малейшей немилости, предвидя неизбежность смерти и зная, что хуже ничего быть не может, персиянин естественно начинает заводить смуту в государстве и составлять заговор против монарха: это единственное средство, которое ему остается.
Иначе обстоит дело с европейскими вельможами, которых немилость государя лишает только его благосклонности и расположения. Они удаляются от двора и помышляют лишь о том, чтобы наслаждаться спокойной жизнью и преимуществами своего происхождения. Их казнят только за оскорбление величества, поэтому они стараются воздержаться от этого преступления, принимая во внимание, как много они при этом потеряют и как мало выиграют. Оттого возмущения здесь редки, и мало государей погибает насильственной смертью.
Если бы при той неограниченной власти, какою обладают наши правители, они не принимали стольких предосторожностей, чтобы обезопасить свою жизнь, они и дня бы не прожили, а если бы они не держали на жалованье бесчисленного количества солдат, чтобы тиранствовать над остальными подданными, власть их не продержалась бы и месяца.
Только четыре-пять веков тому назад французский король завел себе, вопреки тогдашним обычаям, телохранителей, чтобы уберечься от убийц, подосланных к нему незначительным азиатским государем: до тех пор короли жили спокойно среди своих подданных, как отцы среди детей.
Французские короли не только не могут по собственному произволу лишать жизни кого-либо из своих подданных, как наши султаны, но, наоборот, они всегда несут с собою милость для преступников. Если человеку посчастливится увидеть августейшее лицо государя, этого достаточно, чтобы он перестал быть недостойным жизни. Эти монархи подобны солнцу, всюду несущему тепло и жизнь.
Из Парижа, месяца Ребиаба 2, 8-го дня, 1717 годаПИСЬМО CIII. Узбек к нему же
Чтобы продолжить то, о чем я писал последний раз, расскажу тебе приблизительно, что говорил мне на днях один довольно здравомыслящий европеец:
«Самое худшее, что только могли выдумать азиатские государи, это прятаться, как они это делают. Они хотят внушить большее к себе уважение, но на деле внушают уважение лишь к королевскому сану, а не к самому королю, и привязанность подданных относится к трону, а не к определенному лицу, его занимающему.
Невидимая власть, управляющая народом, остается для него всегда одной и той же. Хотя бы целых десять известных ему только по имени государей перерезали друг друга, народ не почувствует ни малейшей разницы, — все равно как если бы им последовательно управляли десять духов.
Если бы гнусный убийца нашего великого короля Генриха IV{110} направил свой удар вместо него на какого-нибудь индийского царя и овладел королевской печатью и несметными сокровищами, как будто именно для него накопленными, он мог бы спокойно взять в свои руки бразды правления, и никто из подданных и не подумал бы возмущаться судьбой короля, его семьи и детей.
Люди удивляются: отчего это никогда не происходит изменений в правлении восточных государей? Да оттого, что управление их тиранично и жестоко.
Изменения могут быть произведены либо государем, либо народом. Но там государи избегают что-либо менять, так как, обладая столь великой властью, они располагают всем, что только можно; если бы они изменили что-либо, то это могло бы нанести им только ущерб.
Что касается подданных, то, если кто-нибудь из них и примет какое-нибудь решение относительно государственных дел, выполнить его он не сможет, так как тогда ему нужно было бы что-то противопоставить страшной и всегда единой власти; для этого у него нет ни времени, ни средств. Зато стоит ему лишь добраться до источника этой власти, и тогда ему достаточно одной руки и одного мгновения. Убийца восходит на престол, в то время как монарх сходит с него, падает и испускает дух у ног бунтовщика.
В Европе недовольные думают, как бы завести какие-нибудь тайные сношения, обратиться к неприятелю, захватить какую-нибудь крепость, возбудить ропот среди подданных. В Азии недовольный идет прямо к государю, захватывает его врасплох, наносит удар и низвергает; он истребляет даже самую мысль о нем; в одно и то же мгновение он раб и господин, в одно и то же мгновение — узурпатор и законный монарх.
Несчастен такой государь, ибо у него только одна голова на плечах! Он словно лишь для того сосредоточивает на ней все свое могущество, чтобы указать первому попавшемуся честолюбцу, где найти это могущество все целиком».
Из Парижа, месяца Ребиаба 2, 17-го дня, 1717 годаПИСЬМО CIV. Узбек к нему же
Не все европейские народы одинаково подчиняются своим государям: например, нетерпеливый нрав англичан никогда не дает их королю возможности упрочить свою власть; покорность и повиновение — добродетели, на которые они притязают меньше всего. На сей счет они высказывают самые диковинные суждения. По их мнению, одна только связь может соединять людей, а именно благодарность: муж, жена, отец и сын связаны между собою только любовью, которую они питают друг к другу, или благодеяниями, которые они друг другу оказывают; и различные поводы для признательности являются источником возникновения всех государств и всех обществ.
Но если государь, вместо того чтобы обеспечить подданным счастливую жизнь, вздумает их угнетать или истреблять, повод к повиновению прекращается: подданных ничто больше не соединяет с государем, ничто не привязывает к нему, и они возвращаются к своей естественной свободе. Англичане утверждают, что неограниченная власть не может быть законной, потому что происхождение ее ни в каком случае не могло быть законным. Ибо мы не можем, говорят они, дать другому больше власти над нами, чем сколько имеем ее сами. А ведь у нас нет над собою неограниченной власти: мы не можем, например, лишать себя жизни. Стало быть, заключают они, никто на земле не имеет такой власти.
По понятиям англичан, оскорбление величества есть не что иное, как преступление, совершаемое более слабым против более сильного и выражающееся в неповиновении этому последнему, в чем бы оно ни заключалось. Поэтому английский народ, оказавшись сильнее одного из своих королей, объявил, что государь, начавший войну против своего народа, повинен в оскорблении величества{111}. Следовательно, они вполне правы, когда говорят, что им нетрудно следовать предписанию их Алкорана, повелевающего им повиноваться властям, так как и невозможно этому предписанию не подчиняться; тем паче что их обязывают повиноваться не наиболее добродетельному, а наиболее сильному.
Англичане рассказывают, что один из их королей, победив и взяв в плен государя, который оспаривал у него корону, вздумал упрекать его за неверность и измену. «Да ведь всего только мгновение тому назад, — ответил ему незадачливый государь, — выяснилось, кто из нас двоих изменник».
Узурпатор объявляет мятежниками всех, кто не угнетал Отечество подобно ему, и, думая, что нет закона там, где не видно судей, приказывает почитать, как веления неба, прихоти случайности и фортуны.
Из Парижа, месяц Ребиаба 2, 20-го дня, 1717 годаПИСЬМО CV. Реди к Узбеку в Париж
В одном из писем ты много говорил мне о науках и искусствах, процветающих на Западе. Считай меня варваром, но я не уверен, что извлекаемая из них польза искупает то дурное употребление, которое ежедневно из них делается.
Я слышал, что уже одно только изобретение бомб отняло свободу у всех народов Европы. Государи, не имея больше возможности доверить защиту укреплений горожанам, которые сдались бы после первой же бомбы, получили предлог для содержания больших постоянных армий, с помощью которых начали притеснять подданных.
Ты знаешь, что с тех пор как изобретен порох, нет больше неприступных крепостей; иными словами, Узбек, нет больше на земле убежища от несправедливости и насилий.
Я содрогаюсь при мысли, что в конце концов откроют какой-нибудь секрет, при помощи которого станет еще легче уничтожать людей и истреблять целые народы.
Ты читал историков; обрати внимание: почти все государства держались только невежеством и разрушались лишь потому, что процветание искусств достигало в них слишком высокой степени. В этом отношении наша древняя персидская империя может служить красноречивым примером.
Я в Европе недавно, но слышал от осведомленных людей об опустошениях, которые причиняет химия. По-видимому, она является четвертым бичом, разоряющим людей и уничтожающим их понемногу, но беспрестанно, в то время как война, моровая язва, голод уничтожают их во множестве, зато с перерывами.
К чему послужило нам изобретение компаса и открытие множества новых племен, как не к тому, что к нам перешли от них не столько их богатства, сколько болезни? По общему соглашению, золото и серебро должны были определять стоимость любых товаров и служить залогом их ценности, так как эти металлы были редки и не годились для какого бы то ни было иного употребления. Зачем же нужно было, чтобы они стали менее редки и чтобы для обозначения стоимости какой-нибудь снеди у нас было два-три денежных знака вместо одного? От этого произошло только неудобство.
С другой стороны, обнаружение золота стало крайне пагубным для вновь открытых стран. Целые народы были истреблены, а люди, избежавшие смерти, попали в такое жестокое рабство, что мусульман приводит в содрогание один только рассказ о них.
Блаженно невежество детей Магомета! Милая простота, столь любезная нашему пророку, ты всегда напоминаешь мне простодушие первобытных времен и спокойствие, царившее в сердцах наших праотцев.
Из Венеции, месяца Рамазана 5-го дня, 1717 годаПИСЬМО CVI. Узбек к Реди в Венецию
Или ты совсем не думаешь того, что говоришь, или поступаешь лучше, чем думаешь. Ты оставил отечество, чтобы учиться, а презираешь всякую науку; ты приехал получать образование в страну, где насаждаются искусства, а считаешь их пагубными. Сказать тебе правду, Реди? Я больше согласен с тобою, чем ты сам.
Подумал ли ты о том варварском и жалком состоянии, в которое повергла бы нас утрата искусств? Нет необходимости представлять себе это: это можно видеть воочию. Еще существуют на Земле народы, среди которых какая-нибудь сносно вышколенная обезьяна могла бы жить с честью. Она была бы почти на одном уровне с прочими обитателями; никто не находил бы ее образ мыслей странным, а характер причудливым; жила бы она, как все другие, да еще чего доброго выделялась бы миловидностью.
Ты говоришь, что почти все основатели империй не знали искусств. Не буду отрицать: варварские народы разливались по земле, как неукротимые потоки, и заполонили своими свирепыми армиями самые благоустроенные государства, но не упускай из виду, что они научились искусствам или приучали к ним покоренные народы; иначе их власть исчезла бы, как гул грома и бурь.
Ты говоришь, что боишься, как бы не изобрели какого-нибудь еще более жестокого, чем теперешний, способа истребления. Нет. Если бы обнаружилось такое роковое открытие, оно вскоре было бы запрещено человеческим правом и по единодушному соглашению народов было бы похоронено. Отнюдь не в интересах государей добиваться завоеваний такими путями: они должны искать подданных, а не пространства.
Ты жалуешься на изобретение пороха и бомб, находишь странным, что нет больше неприступных крепостей, иными словами, ты находишь странным, что в наше время войны кончаются скорее, чем прежде.
Читая исторические сочинения, ты не мог не заметить, что со времени изобретения пороха сражения сделались гораздо менее кровопролитными, чем бывали раньше, потому что теперь почти не бывает рукопашных схваток.
И если бы оказалось, что данное искусство в каком-нибудь отдельном случае привело к предосудительным последствиям, то следует ли из-за этого его отвергнуть? Или ты думаешь, Реди, что религия, принесенная с неба нашим пророком, пагубна потому, что ей предназначено в один прекрасный день пристыдить и покорить вероломных христиан?
Ты считаешь, что искусства расслабляют народы и поэтому влекут за собою падение империй. Ты говоришь о крушении империи древних персов, явившемся следствием их изнеженности. Но этот пример ровно ничего не доказывает, потому что неоднократно побеждавшие и подчинившие их себе греки с гораздо большим рвением развивали искусства, чем они.
Когда говорят, что искусства изнеживают людей, то во всяком случае не имеют в виду тех, кто ими занимается, потому что люди эти никогда не бывают праздными, а праздность больше всех пороков ослабляет мужество.
Следовательно, речь идет только о тех, кто пользуется искусствами. Но так как в благоустроенном государстве люди, наслаждающиеся радостями, которые доставляются каким-нибудь искусством, обязаны и сами заниматься каким-нибудь искусством, чтобы не впасть в постыдную нищету, то из этого следует, что праздность и изнеженность с искусствами несовместимы.
Париж, пожалуй, самый чувственный город на свете, город, где удовольствия всего утонченнее, но в то же время в нем, пожалуй, и живется тяжелее. Чтобы один человек жил наслаждаясь, нужно, чтобы сотня других работала не покладая рук. Какая-нибудь женщина вобьет себе в голову, что ей необходимо появиться на балу в определенном наряде, и с этой минуты пятьдесят ремесленников перестанут спать, и у них не будет времени даже попить и поесть: она повелевает, и ей повинуются куда проворнее, чем даже нашему монарху, ибо выгода — величайший монарх на земле.
Этим пылом в работе, этой страстью к обогащению охвачены все общественные слои, от ремесленников до вельмож. Никто не хочет быть беднее человека, стоящего непосредственно ниже его. В Париже встречаются люди, у которых средств хватит, чтобы прожить до самого Страшного суда, а они, не боясь сократить свои дни, беспрерывно трудятся, чтобы, по их словам, было на что жить.
Весь народ охвачен этим духом: всюду видишь труд и изворотливость. Где же то изнеженное население, о котором ты столько говоришь?
Предположим, Реди, что в каком-нибудь королевстве допускаются только такие искусства, которые совершенно необходимы для обработки земли — а таких искусств, между прочим, очень много, — все же прочие, которые служат только наслаждению и прихотям, изгнаны. Я утверждаю, что такое государство было бы одним из самых жалких в мире.
Если бы даже его подданные имели достаточно мужества, чтобы обходиться без столь большого количества вещей, необходимых для удовлетворения их потребностей, народ хирел бы с каждым днем, и государство настолько ослабело бы, что его могла бы завоевать любая незначительная держава. Было бы легко распространиться на этот счет и доказать тебе, что в таком случае доходы частных лиц почти совсем прекратились бы, а следовательно, прекратились бы и доходы монарха. Не было бы почти никакой связи между способностями граждан; кончился бы оборот капиталов и рост доходов, которые происходят от той зависимости, в какой находятся друг к другу искусства; каждый человек жил бы плодами своей земли и извлекал бы из нее ровно столько, сколько нужно, чтобы не умереть с голоду. Но так как доходы с земли составляют иной раз только одну двадцатую общих доходов государства, то число жителей соответственно уменьшилось бы и осталась бы только двадцатая их часть.
Обрати внимание, каких размеров достигают доходы от промышленности. Капитал, вложенный в землю, приносит владельцу всего-навсего двадцатую часть своей стоимости, а художник, затратив красок на один пистоль, напишет картину, которая принесет ему пятьдесят пистолей. То же можно сказать о золотых дел мастерах, о мастерах, изготовляющих шерстяные или шелковые ткани, и обо всех вообще ремесленниках.
Из всего этого следует, Реди, что для того, чтобы какой-нибудь государь обладал могуществом, нужно, чтобы его подданные жили в довольстве, нужно, чтобы он стремился доставлять им всевозможные излишества с такой же заботливостью, как и предметы первой необходимости.
Из Парижа, месяца Шальвала 14-го дня, 1717 годаПИСЬМО CVII. Рика к Иббену в Смирну
Я видел юного Монарха{112}. Подданные весьма дорожат его жизнью, как и вся Европа, потому что смерть его могла бы привести к большим осложнениям. Но короли подобны богам, и пока они живы, их следует считать бессмертными. У него величественное, но милое лицо: хорошее воспитание, по-видимому, идет рука об руку со счастливыми природными данными, и он уже сейчас подает надежду стать выдающимся государем.
Говорят, что характер западных монархов нельзя узнать до тех пор, пока они не пройдут через два великих испытания: любовницу и духовника. Вскоре эти две силы будут стараться овладеть умом короля, и из-за этого между ними возникнет упорная борьба, ибо при юном государе они всегда соперничают, а при старом — приходят к соглашению и объединяются. При молодом государе дервишу выпадает нелегкая задача, так как сила короля — это слабость дервиша, зато любовница торжествует одинаково и над его слабостью и над силой.
Когда я приехал во Францию, покойным королем полновластно управляли женщины, а между тем, если принять во внимание его возраст, я думаю, что он нуждался в них меньше всех других монархов в мире. Однажды я слышал, как некая дама говорила: «Надо что-нибудь сделать для этого молодого полковника; храбрость его мне известна, поговорю о нем с министром». Другая говорила: «Удивительно, что этого молоденького аббата забыли: нужно, чтобы он стал епископом; он благородного происхождения, а за нравственность его я ручаюсь». Однако не думай, что дамы, державшие такие речи, были фаворитками государя: они, может быть, с ним и двух раз в жизни не беседовали, а поговорить с европейскими государями не так уж трудно. Но суть в том, что всякий имеющий какую-нибудь придворную должность, в Париже или в провинции, действует при помощи какой-нибудь женщины, через руки которой проходят все оказываемые им милости, а иногда и несправедливости. Все эти женщины тесно связаны между собою и составляют своего рода республику, граждане которой проявляют усиленную деятельность, постоянно друг другу помогают и оказывают взаимные услуги. Это как бы государство в государстве; и всякий, кто служит при дворе, в столице, или в провинции и видит, как действуют министры, чиновники, прелаты, но не знает, какие женщины ими управляют, похож на человека, который хоть и видит машину в действии, но не имеет понятия об ее двигателях.
Может быть, ты полагаешь, Иббен, что женщина решается стать любовницей министра, чтобы с ним спать? Ничуть не бывало! Она становится его любовницей для того, чтобы каждое утро подносить ему пять-шесть прошений. Природное мягкосердечие этих особ выражается в том усердии, с каким они делают добро множеству несчастных, которые доставляют им взамен сотни тысяч ливров ежегодного дохода.
В Персии жалуются на то, что государством управляют две-три женщины. Гораздо хуже обстоит дело во Франции, где управляют женщины вообще и где они не только присваивают себе целиком всю власть, но и делят ее между собою по частям.
Из Парижа, в последний день месяца Шальвала 1717 годаПИСЬМО CVIII. Узбек к ***
Существует род книг, совершенно неизвестный в Персии, зато, по-видимому, очень модный здесь: это журналы. Чтение их потворствует лености: люди очень довольны, что в четверть часа могут пробежать тридцать томов.
В большинстве книг автор не успеет еще закончить обычных вступлений, как читатель уже оказывается при последнем издыхании: к самой сути, утопающей в целом море слов, читатель приступает уже полумертвым. Один писатель рассчитывает обессмертить свое имя с помощью книги форматом в двенадцатую долю листа, другой — в четвертую, третий, у кого более высокое призвание, метит на in-folio: следовательно, он должен елико возможно растянуть свою тему; он так и делает без милосердия, ни во что не ставя труд бедного читателя, который выбивается из сил, чтобы сократить то, что автор так старательно раздул.
Не знаю, в чем заслуга сочинителей такого рода книг: мне нетрудно было бы написать что-нибудь в этом роде, если бы я вздумал испортить себе здоровье и разорить книгопродавца.
Большой недостаток журналистов в том, что они говорят только о новых книгах, как будто истина всегда только в новизне. Мне кажется, что, пока не прочтешь всех старых книг, нет никаких оснований предпочитать им новые.
Но, взяв за правило рассуждать только о свежеиспеченных сочинениях, журналисты тем самым берут за правило писать чрезвычайно скучно. Они не смеют критиковать книги, из которых делают извлечения, хотя бы и имели полное к тому основание; и действительно, где же найдется человек, настолько смелый, чтобы наживать себе ежемесячно десять-двенадцать врагов?
Большинство авторов похоже на поэтов, которые безропотно вынесут целый град палочных ударов, но, будучи равнодушны к своим плечам, до такой степени неравнодушны к своим произведениям, что не выносят ни малейшей критики. Вот и приходится остерегаться, как бы не задеть у них столь чувствительную струнку; и журналисты хорошо это знают. Поэтому они поступают прямо наоборот. Они начинают с того, что хвалят тему сочинения — это первая пошлость; затем переходят к похвалам автору — похвалам вынужденным, потому что они имеют дело с людьми, у которых еще не прошел первый пыл и которые вполне готовы постоять за себя и разгромить дерзкого журналиста.
Из Парижа, месяца Зилькаде 5-го дня, 1718 годаПИСЬМО CIX. Рика к ***
Парижский университет — старший сын французских королей и даже очень старый: ему больше девятисот лет; поэтому он иной раз заговаривается.
Мне рассказывали, что в прошлом веке у него произошла ужасная потасовка с несколькими учеными из-за буквы q{113}, потому что он хотел, чтобы ее произносили как k. Спор разгорелся до того, что кое-кто лишился своего имущества. Парламенту пришлось вмешаться, чтобы положить конец распре: он торжественным постановлением разрешил подданным французского короля произносить эту букву, как им будет угодно. Любопытно было бы посмотреть, как два наиболее почтенных учреждения Европы занимались решением судьбы одной буквы!
Мне кажется, дорогой ***, что головы даже самых великих людей тупеют, когда они соберутся вместе, и что там, где больше всего мудрецов, меньше всего мудрости. Крупные учреждения всегда так привязываются к мелочам и пустым формальностям, что существенное отходит у них на второй план. Я слыхал, что когда некий арагонский король созвал съезд представителей Арагона и Каталонии{114}, то первые заседания ушли на то, чтобы решить, на каком языке будут вестись прения; спорили горячо, и представители чуть-чуть не разошлись, если бы кому-то не пришло в голову предложить следующий выход: запросы вносить на каталонском наречии, а ответы давать — на арагонском.
Из Парижа, месяца Зильхаже 25-го дня, 1718 годаПИСЬМО СХ. Рика к ***
Роль красивой женщины гораздо труднее, чем думают. Нет ничего значительнее того, что происходит по утрам за ее туалетом, когда она окружена горничными: иной главнокомандующий не больше раздумывает над тем, как расположить свой правый фланг или резервы, чем она ломает голову над тем, куда прилепить мушку, которая может оказаться не на месте, а ведь дама ждет от нее успеха или даже уверена в нем.
Сколько нужно усилий ума, сколько предусмотрительности, чтобы постоянно примирять интересы двух соперников; чтобы казаться посторонней для обоих, в то время как она принадлежит и тому и другому; чтобы служить посредницей во всех жалобах, к которым она сама же дает повод!
Сколько хлопот, чтобы распределять и устраивать всяческие развлечения и предупреждать все, что может их расстроить!
При всем этом главная трудность состоит не в том, чтобы развлекаться, а в том, чтобы казаться развлекающейся. Какую бы скуку вы светским дамам ни преподнесли, они вам ее простят, лишь бы со стороны казалось, что им весело.
Несколько дней тому назад я был приглашен на ужин, устроенный дамами за городом. По пути туда они без умолку твердили: «По крайней мере повеселимся как следует».
Но общество оказалось плохо подобранным, поэтому было довольно скучно. «Право же, мы славно веселимся, — сказала одна из дам, — во всем Париже не найдется сегодня компании веселее нашей». Когда скука стала совсем одолевать меня, другая дама меня потормошила и сказала: «Ну, разве мы не в чудесном настроении?» — «Еще бы, — отвечал я зевая, — я, кажется, помру со смеху». Тем не менее уныние торжествовало над всеми этими утверждениями, а что касается меня, то я все зевал, пока не погрузился в беспробудный сон, положивший конец моему буйному веселью.
Из Парижа, месяца Махаррама 11-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXI. Узбек к ***
Царствование покойного короля было так продолжительно, что под конец все забыли его начало. Теперь вошло в моду заниматься только событиями, имевшими место в эпоху его несовершеннолетия, и все заняты чтением мемуаров о том времени.
Вот речь, произнесенная одним из парижских генералов на военном совете. Признаюсь, я в ней ничего не понял.
«Господа! Хотя наши войска были оттеснены с большими потерями, я думаю, что нам легко поправить эту неудачу. У меня совсем готовы шесть куплетов песенки, которую можно пустить в ход, и они, я уверен, восстановят равновесие. Я выбрал несколько звонких голосов, которые, вырываясь из здоровенных глоток, подбодрят народ. Куплеты положены на мелодию, которая до сих пор производила отменное впечатление.
Если этого будет недостаточно, мы выпустим гравюру с изображением повешенного Мазарини.
На наше счастье, он плохо говорит по-французски и так коверкает язык, что дела его не могут идти успешно. Мы не упускаем случая обращать внимание народа на его смешное произношение{115}. Недавно мы подметили у него такую грубую грамматическую ошибку, что над ней потешались на всех перекрестках.
Я надеюсь, что не пройдет и недели, как народ превратит имя Мазарини в нарицательное слово для обозначения всех животных вообще, и в том числе вьючных и упряжных.
С тех пор, как мы потерпели поражение, наши песенки так досаждают ему первородным грехом, что ему пришлось распустить всех своих пажей, чтобы не лишиться половины своих сторонников.
Возьмите же себя в руки, ободритесь и будьте уверены, что мы свистками прогоним его обратно за горы».
Из Парижа, месяца Шахбана 4-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXII. Реди к Узбеку в Париж
Пребывая в Европе, я читаю древних и новейших историков; я сравниваю все времена; я с удовольствием наблюдаю, как они, так сказать, проходят предо мною; меня особенно занимают те великие перемены, благодаря которым века так разнятся между собою, а земля преобразилась до неузнаваемости.
Может быть, ты не обратил внимания на одно обстоятельство, которое постоянно вызывает во мне удивление. Как это вышло, что мир так мало населен теперь по сравнению с тем, каким он был когда-то? Как могла природа лишиться своего поразительного первобытного плодородия? Наступила ли уже ее старость? Началось ли ее увядание?
Я прожил в Италии больше года и видел вокруг себя одни лишь развалины столь славной когда-то древней страны. Хотя все живут там в городах, города эти совершенно пустынны и безлюдны: кажется, будто они все еще существуют только для того, чтобы отмечать местности, где стояли могучие города, о которых столько говорила история.
Есть люди, уверяющие, что в одном только древнем городе Риме некогда жило больше народу, чем в любом большом королевстве нынешней Европы. У некоторых римских граждан было по десять и даже по двадцать тысяч рабов, не считая тех, которые работали в их поместьях. А так как в Риме насчитывалось четыреста или пятьсот тысяч граждан, то рассудок просто отказывается установить число его жителей.
Некогда на Сицилии находились могущественные государства и многочисленные народы; впоследствии они исчезли, и теперь на этом острове не осталось ничего замечательного, кроме вулканов.
Греция так пустынна, что в ней не живет и сотая часть ее прежних обитателей.
Испания, когда-то столь населенная, представляет собою ныне только безлюдные пространства, а Франция — ничто по сравнению с той древней Галлией, о которой повествует Цезарь.
Северные страны сильно опустели, и там теперь уже далеко не то, что было прежде, когда приходилось выделять людей, точно пчелиные рои, для поисков новых мест поселения и высылать туда колонии и целые племена.
Польша и Европейская Турция теперь уже почти совсем обезлюдели.
В Америке не найдешь и пятидесятой части населения, которое некогда образовало там огромные государства.
Азия отнюдь не в лучшем состоянии. В той самой Малой Азии, где находилось столько могущественных государств и так много больших городов, теперь найдется их только два-три. Что касается Азии вообще, то та ее часть, которая находится под властью турок, населена не гуще Малой Азии, а если сравнить часть, подвластную нашим государям, с цветущим состоянием, в котором она была когда-то, то станет очевидно, что в ней осталась только очень небольшая часть бесчисленного населения, жившего там во времена Ксеркса и Дария{116}.
Что же касается мелких государств, расположенных вокруг этих больших империй, то они действительно пустынны: таковы царства Имеретинское, Черкесское и Гурийское. Их государи, при всей обширности своих владений, едва насчитывают тысяч пятьдесят подданных.
Египет находится не в меньшем упадке, чем другие страны.
Словом, мысленно обозревая Землю, я нахожу всюду полное оскудение, будто ее только что опустошили моровая язва и голод.
Африка всегда была мало исследована, и о ней нельзя говорить с такою же точностью, как о других частях света, но если обратить внимание только на известное во все времена средиземноморское ее побережье, станет ясно, что она дошла до крайней степени упадка по сравнению с тем, чем она была под властью карфагенян и римлян. В наши дни государства, расположенные по этому побережью, самые слабые на свете.
Произведя подсчет с наибольшей точностью, какая только возможна в таких вопросах, я пришел к выводу, что теперь на земле осталась едва десятая часть людей, живших на ней в древности. И удивительно то, что ее население уменьшается с каждым днем; если так будет продолжаться, через десять столетий она превратится в пустыню.
Вот, любезный мой Узбек, самая страшная катастрофа, когда-либо случавшаяся в мире; но ее почти не ощутили, потому что она началась незаметно и совершалась в течение большого числа веков; это указывает на какой-то внутренний порок, на неведомый тайный яд, на изнурительную болезнь, снедающую человеческую природу.
Из Венеции, месяца Реджеба 10-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXIII. Узбек к Реди в Венецию
Мир, любезный Реди, отнюдь не неизменен. Это относится даже к небесам, астрономы воочию убеждаются в происходящих там изменениях, которые являются вполне естественным следствием всеобщего движения материи.
Земля, как и прочие планеты, подчинена законам движения; она страждет внутри себя самой от постоянной борьбы ее собственных составных частей: море и материк ведут между собою вечную войну; с каждым мгновением возникают новые сочетания.
Живя на планете, столь подверженной изменениям, люди находятся в довольно неустойчивом положении: могут возникнуть сотни тысяч причин, способных уничтожить их и тем более увеличить или уменьшить их число.
Я уже не говорю о тех отдельных катастрофах, о которых так часто упоминают историки и которые разрушили целые города и королевства; случаются и всеобщие катаклизмы, не раз ставившие род людской на край гибели.
История полна рассказов о моровых язвах, неоднократно опустошавших вселенную. Она рассказывает, в частности, о язве, которая так свирепствовала, что до корней выжгла растения и дала себя знать по всему свету, вплоть до самой Китайской империи: будь яд чуть-чуть посильнее, весь род человеческий был бы, вероятно, изничтожен в один день.
Не прошло еще и двух столетий с тех пор, как постыднейшая из болезней распространилась по Европе, Азии и Африке; в самое короткое время она достигла удивительного распространения: если бы она продолжала развиваться с таким же неистовством, людям пришел бы конец. Удрученные с самого рождения всякими недугами, неспособные выносить тягость общественных обязанностей, они погибли бы самым жалким образом.
Что случилось бы, если бы яд был еще немного сильнее? И он стал бы сильнее, если бы, к счастью, не открыли могущественного лекарства{117}. Может быть, эта болезнь, поразив органы размножения, подорвала бы и самое размножение.
Но к чему говорить об истреблении, которому могло бы подвергнуться человечество? Ведь истребление и в действительности имело место. Ведь свел же потоп весь род людской к одной семье?
Некоторые философы различают два творения: творение вещей и творение человека. Они не могут постичь, что материя и сотворенные вещи насчитывают только шесть тысяч лет, что бог целую вечность медлил со своими трудами и лишь недавно осуществил свое творческое всемогущество. Потому ли это случилось, что он не мог, или потому, что он не хотел? Но если бы он не мог этого сделать в одно время, то не мог бы сделать и в другое. Значит, он не хотел. Но так как над богом не властна последовательность во времени, то, допустив, что однажды он чего-нибудь захотел, мы должны принять, что он хотел этого всегда и с самого начала.
Однако все историки говорят нам об одном родоначальнике. Они рассказывают о том, как зародилась человеческая природа. Философы предполагают, что Адам был так же спасен от какого-нибудь всеобщего бедствия, как Ной от потопа, и что со времени создания мира такие великие катаклизмы не раз случались на Земле.
Но не все разрушения бывают стихийны: мы видим, что во многих местах Земля как бы устает производить нужные для человека плоды. Почем знать, может быть, существуют общие, медленно действующие и неуловимые причины, изнуряющие всю Землю?
Я рад, что мог изложить тебе эти общие мысли, прежде чем подробнее ответить на твое письмо об уменьшении народонаселения, случившемся за семнадцать — восемнадцать веков. В следующем письме я докажу тебе, что независимо от физических причин это было вызвано и причинами нравственными.
Из Парижа, месяца Шахбана 8-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXIV. Узбек к нему же
Ты ищешь причины, почему Земля населена меньше прежнего, но вглядись пристальнее, и ты увидишь, что эта великая перемена явилась следствием той, которая произошла в нравах.
С тех пор как христианская и магометанская религии поделили между собою римский мир, все очень переменилось: обе эти религии далеко не в такой степени благоприятствуют размножению человеческого рода, как религия римлян — этих владык Вселенной.
Римская религия воспрещала многоженство и в этом отношении имела большое преимущество перед магометанской. Развод ею допускался; это давало ей не меньшее преимущество перед христианством.
Я не знаю ничего противоречивее, чем множество жен, разрешенное святым Алкораном, а с другой стороны содержащееся там же повеление удовлетворять их. «Блюдите ваших жен, — говорит пророк, — потому что вы нужны им, как одежда, и потому что они нужны вам, как ваша одежда». Вот наставление, принуждающее любого истинного мусульманина изрядно трудиться. Всякого, у кого есть четыре жены, установленные законом, и хотя бы столько же наложниц или рабынь, такое количество одежд не может не обременять!
«Ваши жены — пашни ваши, — говорит затем пророк. — Прильните к пашням вашим; творите благо вашим душам и некогда вы обрящете его».
Добрый мусульманин представляется мне атлетом, которому суждено бороться без передышки; но, скоро ослабев и согнувшись под бременем усталости, он чахнет на том самом поле, где одержал столько побед, и оказывается, так сказать, погребенным под собственными своими триумфами.
Природа всегда действует неторопливо и, если можно так выразиться, бережно: ее действия никогда не бывают насильственны, в ее произведениях всегда сказывается умеренность; она поступает всегда по правилам и соразмерно; если же ее понуждают, она скоро истощается и всю оставшуюся силу употребляет на самосохранение, совершенно теряя при этом производительную способность и творческую мощь.
В такое-то состояние упадка и приводит нас большое число женщин; оно способно скорее истощить нас, чем доставить удовлетворение. Весьма обычно встретить у нас в многолюдном серале человека, имеющего мало детей; и дети эти зачастую бывают хилыми и болезненными, на них сказывается расслабленность их отцов.
Это еще не все: для этих женщин, осужденных на принудительное воздержание, требуются надзиратели, а ими могут быть только евнухи; регалия, ревность, да и разум не позволяют подпускать к женщинам других мужчин. Надзирателей должно быть много как для того, чтобы поддерживать порядок внутри сераля во время беспрестанных склок, которые происходят между женщинами, так и для предупреждения покушений извне. Значит, тому, у кого есть десять жен или наложниц, приходится держать столько же евнухов для надзора за ними. А какая потеря для общества это множество людей, мертвых с самого рождения! Какую убыль в населении должно это вызывать!
Девушки-рабыни, живущие в серале и вместе с евнухами обслуживающие это большое количество женщин, почти всегда доживают до старости в прискорбной девственности; пока они в серале, они не могут выйти замуж, а их госпожи, привыкнув к ним, почти никогда их не отпускают.
Вот так-то один человек ради своего удовольствия держит при себе столько людей обоего пола; для государства они мертвы и к продолжению рода непригодны.
Константинополь и Испагань — столицы двух величайших мировых империй: это средоточие всего, и туда со всех концов земли стекаются люди, привлекаемые самыми разнообразными приманками. Между тем оба эти города погибают сами собой и скоро бы исчезли, если бы государи почти каждое столетие не переселяли туда целые народы. В следующем письме я вернусь к этому предмету.
Из Парижа, месяца Шахбана 13-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXV. Узбек к нему же
У римлян было рабов не меньше нашего; было даже больше, но римляне лучше ими пользовались.
Они не только не мешали размножению рабов, применяя насильственные меры, а, напротив, всячески поощряли их к этому, стараясь соединять их чем-то вроде брака. Таким способом римляне обеспечивали себя слугами мужского и женского пола разных возрастов, а государство — бесчисленным народом.
Дети, из которых со временем составлялось богатство их хозяина, рождались вокруг него в неисчислимом множестве. На нем одном лежала забота об их пропитании и воспитании: отцы, освобожденные от этой тяготы, следовали только влечению природы и размножались, не опасаясь обременить себя большой семьей.
Как я уже говорил, у нас рабы заняты только надзором за нашими женами и больше ничем; по отношению к государству они пребывают в состоянии постоянной спячки, так что занятия искусствами и земледелием ограничиваются небольшим кругом свободных людей и отцов семейства, которые, со своей стороны, стараются заниматься ими возможно меньше.
Не так было у римлян. Республика извлекала бесконечные выгоды из этого множества рабов. Каждый из них располагал личным имуществом, которым владел на условиях, поставленных господином; он работал с помощью собственных инструментов, занимаясь тем, к чему чувствовал способность. У одного был банк, другой вел заморскую торговлю, третий держал мелочную лавочку, четвертый занимался каким-нибудь ремеслом или арендовал землю и добивался повышения ее доходности, но не было такого, кто бы не старался изо всех сил увеличить свое достояние, приносившее ему довольство в его нынешнем подневольном положении и надежду на освобождение в будущем. Все это создавало трудолюбивый народ и поднимало искусства и промышленность.
Разбогатев своим трудом и хлопотами, рабы откупались на волю и становились гражданами. Республика постоянно обновлялась и принимала в свое лоно все новые и новые семьи, по мере того как распадались старые.
Может быть, в последующих письмах мне представится случай доказать тебе, что чем больше население государства, тем больше процветает в нем торговля; так же легко я докажу, что чем больше процветает торговля, тем больше увеличивается и население: эти две вещи всегда взаимно помогают и споспешествуют друг другу.
А раз это так, то до какой же степени должно было увеличиваться и возрастать число этих всегда трудолюбивых рабов! Их порождали промышленность и изобилие, а они, с своей стороны, порождали изобилие и промышленность.
Из Парижа, месяца Шахбана 16-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXVI. Узбек к нему же
До сих пор мы говорили только о магометанских странах и доискивались причины, почему они населены меньше тех, которые были подчинены римскому владычеству. Исследуем теперь, чем было вызвано такое же явление у христиан.
В языческой религии развод был разрешен, а христиане его запретили. Это изменение, казавшееся сначала несущественным, исподволь повлекло за собою такие ужасные последствия, что даже поверить трудно.
Этим не только отняли у брака всю его сладость, но подорвали и самую его основу; желая скрепить его узы, их ослабили и, вместо того чтобы, как рассчитывали, соединить сердца, их навсегда разлучили.
В дело, которое должно быть таким свободным и в котором сердце должно принимать столь большое участие, внесли стеснение, принуждение и даже роковую неизбежность судьбы. Сочли за ничто отвращение, своеволие, несходство характеров; вздумали сковать сердце, то есть то, что является самым изменчивым и непостоянным в природе; безвозвратно и безнадежно связали вместе людей, тяготящихся друг другом и зачастую не подходящих один к другому; поступили, как те тираны, которые приказывали связывать живых людей с мертвецами.
Ничто так не содействовало взаимной привязанности, как возможность развода: мужу и жене легко было переносить тяготы домашней жизни, ибо они знали, что в их власти покончить с ними, и часто, имея всю жизнь эту возможность, они не пользовались ею только потому, что были вольны это сделать.
Иначе обстоит дело у христиан, которых настоящие их печали заставляют отчаиваться и в будущем; в невзгодах супружества они только и видят, что их продолжительность и, так сказать, вечность. Отсюда возникают отвращение, ссоры, неуважение, и от этого страдает потомство. Не проживут люди в браке и трех лет, как уже пренебрегают самым существенным в нем, и живут потом тридцать лет, относясь друг к другу с полным равнодушием; между мужем и женой создается внутренний разлад, столь же глубокий и, может быть, еще более пагубный, чем если бы он был гласным: каждый живет сам по себе, — и все это в ущерб будущим поколениям. Вскоре муж, которому опротивела связанная с ним навеки жена, обращается к женщинам легкого поведения возникают отношения, постыдные и противообщественные, не соответствующие назначению брака и состоящие, самое большее, лишь в чувственных наслаждениях.
Если одно из двух связанных таким образом лиц неспособно к выполнению природного назначения и продолжению рода, по темпераменту ли, по возрасту ли, оно заживо хоронит с собою и другое, и делает его столь же бесполезным.
Следовательно, нечего и удивляться тому, что у христиан такое большое количество браков доставляет столь малое число граждан. Развод уничтожен; неудачные браки неисправимы; женщины не переходят последовательно, как это было у римлян, от одного мужа к другому, причем мужья извлекали из них по пути все лучшее.
Осмелюсь утверждать: если бы в такой республике, как Лакедемон, где граждан постоянно стесняли странные и хитроумные законы и где не было другой семьи, кроме самой республики, было бы установлено, чтобы ежегодно меняли жен, то от этого народилось бы бесчисленное количество детей.
Трудно объяснить причину, заставившую христиан отменить развод. У всех народов мира брак является договором, допускающим всевозможные условия, за исключением таких, которые могли бы ослабить самую его сущность. Христиане же не смотрят на брак с этой точки зрения, и потому им очень трудно сказать, что же он собою представляет. Они не допускают, чтобы он заключался только в чувственных наслаждениях; напротив, как я уже тебе говорил, они как будто стараются исключить эти наслаждения, насколько только возможно; он у них лишь какой-то образ, символ, что-то странное, чего я не понимаю.
Из Парижа, месяца Шахбана 19-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXVII. Узбек к нему же
Запрещение развода — не единственная причина уменьшения населенности христианских стран. Не менее важно в этом отношении и то, что среди христиан есть много евнухов.
Я имею в виду священников и дервишей обоего пола, обрекающих себя на вечное воздержание: у христиан это считается высшей добродетелью, чего я просто не понимаю, ибо какая же это добродетель, раз она не дает никаких плодов?
Я нахожу, что их ученые впадают в явное противоречие, говоря, что брак свят, а противопоставляемое ему безбрачие еще святее, — не говоря уже о том, что в деле предписаний и догматов хорошее всегда бывает наилучшим. Поразительно число людей, превращающих безбрачие в профессию. В былое время отцы обрекали на него своих детей еще с колыбели; теперь дети сами обрекают себя с четырнадцати лет, что почти одно и то же.
Промысел безбрачия уничтожил больше людей, чем все моровые язвы и самые кровопролитные войны. В каждом монастыре видишь вечную семью, в которой никто не родится и которая существует за счет остальных семей. Монастыри зияют, точно бездны, где погребаются будущие поколения.
Такая политика весьма отличается от политики римлян, издававших суровые законы против тех, кто уклонялся от брака и стремился к наслаждению свободой, противной общественной пользе.
Я говорю здесь только о католических странах. Протестантская религия всем предоставляет право производить на свет детей. Она не терпит ни священников, ни дервишей, и если бы при учреждении этой религии, все возвращающей к временам первобытного христианства, ее основателей не обвиняли беспрестанно в невоздержности, они, несомненно, разрешив брак всем, еще смягчили бы его тягость и уничтожили бы все преграды, которые в этом отношении отделяют Назарея от Магомета.
Но как бы там ни было, религия протестантов дает им бесконечные преимущества перед католиками.
Смею утверждать, что при настоящем состоянии Европы католическая религия не просуществует и пятисот лет.
До ослабления могущества Испании католики были гораздо сильнее протестантов. Последним мало-помалу удалось достигнуть равновесия. Протестанты день ото дня будут становиться богаче и могущественнее, а католики — ослабевать.
Протестантские страны должны быть населеннее католических, и это действительно так и есть. Отсюда следует: во-первых, что налоги там значительнее, так как они увеличиваются соответственно числу плательщиков; во-вторых, что земли там лучше обрабатываются; наконец, что и торговля процветает сильнее, потому что там больше людей, которым нужно разбогатеть, и, при большем количестве потребностей, больше средств для их удовлетворения. Когда в стране численность населения достаточна только для земледелия, торговля неизбежно погибает, а когда людей лишь столько, сколько нужно для поддержания торговли, страдает земледелие; иными словами одновременно приходят в упадок оба, потому что населению приходится заниматься одним в ущерб другому.
Что касается стран католических, то не только земледелие в них заброшено, но и образованность стоит на краю гибели: она заключается только в том, чтобы научиться пяти-шести словам какого-нибудь мертвого языка. Когда человек запасется этим, ему нет больше нужды беспокоиться о своем благосостоянии; он находит в монастыре безмятежную жизнь, которая в миру стоила бы ему немало усилий и трудов.
Это еще не все. Дервиши держат в своих руках почти все богатства государства: это скопище скряг, всегда берущих и никогда не отдающих; они беспрестанно накопляют доходы, чтобы сколотить капитал. Все эти богатства оказываются, если можно так выразиться, в параличе: нет больше оборотов, нет коммерции, нет ремесел и мануфактур.
Любой протестантский государь получает больше налогов со своих народов, чем получает их папа со своих подданных; тем не менее последние бедны, между тем как первые живут в полном довольстве. У одних все оживляет торговля, у других все умерщвляет монашество.
Из Парижа, месяца Шахбана 26-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXVIII. Узбек к нему же
Нам нечего больше сказать об Азии и Европе. Перейдем к Африке. Можно говорить только о ее берегах, потому что внутренние ее области не исследованы.
Варварийское побережье, где утвердилось магометанство, не населено уже так, как то было во времена римлян, по причинам, о которых я уже говорил. Что касается берегов Гвинеи, то они, вероятно, страшно опустошены вот уже лет двести, с тех пор как тамошние царьки или деревенские старшины стали продавать своих подданных европейским государям для отправки их в американские колонии.
А особенно удивительно, что Америка, ежегодно получающая столько новых обитателей, сама пустынна, и постоянная убыль африканского населения ничуть не идет ей впрок. Рабы, переселенные в иной климат, погибают там тысячами, а рудокопные работы, на которых применяется труд и туземцев и чужестранцев, вредные испарения, выделяющиеся из рудников, ртуть, к которой приходится все время прибегать, беспощадно их губят.
Нет ничего бессмысленнее, чем губить несчетное множество людей для того, чтобы извлекать из недр земли золото и серебро — металлы, сами по себе совершенно бесполезные и только потому представляющие ценность, что их избрали мерилом ценности.
Из Парижа в последний день месяца Шахбана 1718 годаПИСЬМО CXIX. Узбек к нему же
Плодовитость народа зависит порою от самых незначительных обстоятельств, так что иной раз бывает достаточно какой-нибудь новой игры воображения, чтобы народ стал гораздо многочисленнее, чем был.
Евреи, которых постоянно истребляли, постоянно вновь возрождались, восстанавливая свои потери и разрушения единственно в силу надежды, теплящейся у них в каждой семье, - надежды на то, что родится у них могучий царь, который станет властелином Земли.
Древние персидские цари только потому и имели несметные тысячи подданных, что религия магов учила, что наиболее угодные богу людские дела произвести на свет ребенка, возделать поле и посадить дерево.
Если в Китае так велико народонаселение, то это лишь следствие определенного воззрения: там дети относятся к отцам как к богам, воздают им божеские почести в этой жизни, а после смерти почитают, принося им жертвы, благодаря которым, как они верят, души усопших, уничтоженные в Тиене{118}, воспринимают новую жизнь; поэтому каждый китаец стремится увеличить свою семью, столь покорную в этой жизни и столь полезную в будущей.
С другой стороны, государства магометанские с каждым днем становятся все безлюднее вследствие мнения, которое, как бы ни было оно свято, все же влечет за собою крайне гибельные последствия, если оно глубоко укоренилось в умах. Мы считаем себя путниками, которым надлежит помышлять только о другом отечестве: полезная и долговечная работа, забота об обеспечении будущности наших детей, замыслы, выходящие за пределы краткой и преходящей жизни, представляются нам чем-то нелепым. Равнодушные к настоящему, не беспокоясь о будущем, мы не берем на себя труда ни поддерживать общественные здания, ни распахивать невозделанные земли, ни обрабатывать те, которые уже дают плоды; мы живем в полной бесчувственности и во всем полагаемся на провидение.
Дух тщеславия установил у европейцев несправедливое право старшинства, столь неблагоприятное для продолжения рода, ибо оно побуждает отца все внимание уделять только одному ребенку и отвлекает его от других, вынуждает его противиться благосостоянию нескольких детей, чтобы обеспечить благосостояние старшего, разрушает, наконец, гражданское равенство, на котором зиждется процветание общества.
Из Парижа, месяца Рамазана 4-го дня, 1718 годаПИСЬМО СХХ. Узбек к нему же
Страны, обитаемые дикарями, бывают обычно мало населенными вследствие того, что почти все дикари чуждаются земледелия. Это злополучное отвращение у них настолько сильно, что когда они проклинают своих врагов, то только того им и желают, чтобы те вынуждены были заниматься земледелием, ибо сами они считают, что только охота и рыболовство — занятия благородные и достойные человека.
Но так как выпадают годы, когда охота и рыболовство приносят очень мало, дикарям зачастую приходится голодать, не говоря уже о том, что нет стран, настолько богатых дичью и рыбой, чтобы они могли доставлять пропитание большому народу, ибо животные всегда уходят из густо населенных мест.
Кроме того, поселения дикарей, насчитывающие двести — триста душ и расположенные вдали друг от друга, причем их интересы так же различны, как интересы каких-нибудь двух империй, не в состоянии друг другу помогать, потому что не располагают возможностями больших государств, все части которых связаны одна с другой и взаимно друг друга поддерживают.
Есть у дикарей еще и другой обычай, не менее пагубный: это зверский обычай женщин вытравлять плод, чтобы не стать противными мужу во время беременности.
Здесь существуют насчет этого извращения страшные законы, доходящие до жестокости. Всякая девушка, не заявившая властям о своей беременности, наказывается смертью, если ее плод погибнет. Ни стыдливость, ни страх позора, ни несчастная случайность не служат ей оправданием.
Из Парижа, месяца Рамазана 9-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXXI. Узбек к нему же
Следствием колонизации обычно бывает ослабление стран, высылающих колонии, причем не заселяются и страны колонизуемые.
Людям следует оставаться на своих местах: существуют болезни, происходящие от перемены хорошего воздуха на дурной, и такие, которые вызываются просто переменой климата.
Воздух, как и растения, насыщен в каждой стране частицами ее почвы. Он до такой степени действует на нас, что им определяется наш темперамент. Перенесясь в другую страну, мы заболеваем. Так как жидкие элементы нашего организма привыкли к определенной консистенции, а твердые — к известному распорядку, то и тем, и другим свойственна определенная степень движения; иной они уже не выносят и всячески сопротивляются новым условиям.
Если страна безлюдна, то это является следствием какого-нибудь особого порока в свойствах почвы и климата. И когда в такую страну переселяют людей из благодатного климата, то поступают как раз обратно тому, чего намеревались достигнуть.
Римляне знали это по опыту: они отправляли всех преступников на Сардинию и туда же переселяли евреев. Приходилось мириться с их потерей, но римлянам это было нетрудно ввиду презрения, которое они питали к этим несчастным.
Великий Шах-Аббас, стремясь лишить турок возможности содержать большие армии на границах, выселил почти всех армян из их страны и послал в провинцию Гилянь{119} больше двадцати тысяч семейств, которые в короткое время почти все погибли.
Попытки переселять людей, делавшиеся в Константинополе, никогда не удавались.
Огромное количество негров, о которых мы говорили выше, нисколько не наполнило Америку.
Со времени истребления евреев при Адриане{120} Палестина остается безлюдной.
Итак, следует признать, что великие избиения почти непоправимы, потому что народ, численность которого падает ниже известного уровня, прозябает потом в том же положении, а если он паче чаяния и возродится, то для этого нужны века.
Если же к состоянию упадка прибавится еще хотя бы малейшее из тех обстоятельств, о которых я тебе говорил, народ не только никогда не возродится, но будет чахнуть день ото дня и клониться к полному вымиранию.
Изгнание мавров из Испании{121} и поныне дает себя знать, как и в первые дни: образовавшаяся пустота не только не заполняется, но все время растет.
Со времени опустошения Америки испанцам, занявшим место ее древних обитателей, так и не удалось вновь ее заселить: наоборот, благодаря какому-то року, который лучше бы назвать божественной справедливостью, истребители сами себя истребляют и изводятся с каждым днем.
Следовательно, государям отнюдь не следует надеяться заселить с помощью колоний большие пространства. Я не отрицаю, иной раз это удается: бывают такие счастливые в климатическом отношении места, что люди там неуклонно размножаются: свидетельством этому служат острова{122}, куда некоторые корабли высадили больных, а больные сразу же там выздоровели, и вскоре население островов разрослось.
Но даже если бы колонии преуспевали, то, вместо того чтобы увеличить могущество метрополии, они бы только его раздробили, за исключением тех случаев, когда колонии очень невелики по занимаемому ими пространству, как те, например, которые высылаются, чтобы занять какую-нибудь точку для торговли.
Карфагеняне, так же как и испанцы, открыли Америку, или по крайней мере большие острова, и вели там обширную торговлю. Но когда они заметили, что число обитателей Карфагена при этом уменьшается, мудрое правительство республики запретило своим подданным снаряжать суда для этой торговли.
Я осмеливаюсь утверждать, что, вместо того чтобы направлять в Индию испанцев, следовало бы переселить в Испанию индийцев и метисов; нужно было бы вернуть этому государству все его рассеянные повсюду народы, и если бы сохранилась только половина жителей его больших колоний, то Испания сделалась бы самой грозной державой в Европе.
Империи можно сравнить с деревом, слишком разросшиеся ветви которого высасывают весь сок из ствола и способны только бросать тень.
Пример испанцев и португальцев лучше всего может излечить государей от страсти к далеким завоеваниям.
Эти две нации, с непостижимой быстротой покорив необъятные государства и больше удивившись своим победам, чем побежденные — своему поражению, задумались о средствах к их сохранению и избрали для этого каждая свой путь.
Испанцы, не надеясь удержать побежденные народы в повиновении, решили истребить их и послать на их место из Испании верных людей. Ужасный план был выполнен с необыкновенной точностью. На глазах у всех народ, по численности равнявшийся всем народам Европы, вместе взятым, исчез с лица земли при появлении этих варваров, которые, открывая Индию, задавались, казалось, только целью показать, до каких пределов может быть доведена жестокость.
Благодаря такому варварству испанцы сохранили эту страну под своим владычеством. Суди по этому, насколько пагубны завоевания, раз они приводят к таким следствиям: ведь в конце концов это ужасное средство было единственным. Как бы иначе могли они удержать в повиновении столько миллионов людей? Как можно было вести гражданскую войну из такой дали? Что бы с ними сталось, если бы они дали этим народам время прийти в себя от удивления, вызванного появлением новых богов, и оправиться от страха перед их громовыми стрелами?
Что касается португальцев, то они избрали противоположный путь — они не проявили жестокости. Зато вскоре их выгнали из всех открытых ими стран. Голландцы поддерживали восстание этих народов и воспользовались им.
Какой государь позавидует участи этих завоевателей? Кто пожелает делать завоевание при таких условиях? Одни тотчас же были прогнаны из завоеванных земель, другие превратили их в пустыню, да и собственную страну также.
Такова уж судьба героев — разоряться, покоряя страны, которые они сразу же теряют, или подчинять себе народы, которые сами же они потом вынуждены уничтожать; они напоминают безумца, разорявшегося на покупку статуй, которые он бросал в море, и зеркал, которые тут же разбивал.
Из Парижа, месяца Рамазана 18-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXXII. Узбек к нему же
Мягкость управления удивительно способствует размножению человеческого рода. Все республики являются постоянным доказательством этого, особенно Швейцария и Голландия — две самые плохие страны в Европе с точки зрения почвы и тем не менее самые населенные.
Ничто так не привлекает иностранцев, как свобода и всегда сопутствующее ей богатство: первая привлекательна сама по себе, а потребности наши всегда влекут нас в богатые страны.
Люди размножаются в тех краях, где изобилие дает возможность прокормить детей, не уменьшая благосостояния отцов.
Само гражданское равенство, обычно влекущее за собою и равенство состояний, вносит изобилие и жизнь во все части политического тела и распространяет их всюду.
Иное дело в странах, подчиненных произволу: там государь, придворные и некоторое количество частных лиц владеют всеми богатствами, в то время как все остальные стонут, живя в крайней бедности.
Если человек находится в трудных обстоятельствах и предвидит, что дети у него будут еще беднее, он не женится, а если и женится, будет опасаться обзавестись слишком большим количеством детей, которые окончательно разорят его и сами опустятся ниже отца.
Я согласен, что простолюдин или крестьянин, раз уж он женился, станет размножаться независимо от того, богат ли он, или беден: такое соображение его не заботит, так как у него всегда есть что оставить в наследство детям, а именно — мотыка, и ничто не мешает ему слепо следовать велению природы.
Но к чему государству вся эта масса детей, томящихся в нищете? Почти все они погибают по мере того, как рождаются; в жизни их ожидают одни лишь горести: слабые и хилые, они умирают поодиночке от тысячи причин, а частые повальные болезни, вызываемые нищетой и дурной пищей, уносят их во множестве. Те же, кому удастся избежать смерти, даже в зрелом возрасте не входят в силу и чахнут всю жизнь.
Люди — как растения, которые плохо растут, если за ними нет хорошего ухода: у народов бедных порода мельчает, а иногда и вовсе вырождается.
Франция может служить великим примером всего этого. Во время прошлых войн страх быть зачисленным в ополчение вынуждал юношей жениться, и притом в очень нежном возрасте и находясь в бедности. От этих браков родилось много детей, которых тщетно было бы разыскивать во Франции, так как нищета, голод и болезни истребили их.
Так вот, если подобные вещи замечаются в таком благодатном климате, в таком благоустроенном королевстве, как Франция, то что же делается в других государствах?
Из Парижа, месяца Рамазана 23-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXXIII. Узбек к мулле Мегемету-Али, стражу трех гробниц, в Ком
Какая нам польза от постов наших имамов и власяниц благочестивых мулл? Божья десница дважды поразила детей Закона: солнце затмилось и освещает, кажется, только их поражения; армии их собираются и рассыпаются, как прах.
Империя османлисов потрясена двумя величайшими неудачами, какие только приходилось ей испытывать. Христианский муфтий{123} поддерживает ее с большим трудом. Великий визирь Германии{124} — бич божий, посланный, чтобы покарать отступников Омарова толка; он несет им гнев небесный, вызванный их возмущением и вероломством.
Священный дух имамов! Ночи и дни оплакиваешь ты детей Пророка, совращенных с правого пути презренным Омаром; все твое существо возмущается при виде их несчастий; ты желаешь их обращения, а не гибели; ты хотел бы, чтобы слезы праведников соединили их под знаменем Али, чтобы они не были рассеяны по горам и пустыням, куда бежали они из страха перед неверными.
Из Парижа, месяца Шальвала 1-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXXIV. Узбек к Реди в Венецию
В чем заключается причина неизмеримой щедрости государей, изливаемой ими на придворных? Хотят ли они привязать их к себе? Придворные и так уж им преданы, насколько это возможно. А кроме того, если государи и привлекут к себе нескольких подданных, купив их, то тем самым они теряют бесконечное количество других, которых делают беднее.
Когда я думаю, в каком положении находятся монархи, постоянно окруженные алчными и ненасытными людьми, я могу только пожалеть их, и жалею еще больше, если у них нет силы сопротивляться просьбам, всегда тягостным для тех, кто сам не просит ничего.
Всякий раз, как я слышу разговоры о монаршей щедрости, о милостях, о раздаваемых пенсиях, я предаюсь размышлениям: множество мыслей теснится в моем уме; мне кажется, будто я слышу объявление такого указа:
«Ввиду того, что неутомимая отвага, с какою некоторые из наших подданных выпрашивали у нас пенсии, беспрестанно вызывала нашу королевскую щедрость, мы, наконец, снизошли ко множеству просьб, обращенных к нам и составлявших до сих пор главную заботу престола. Эти подданные обратили наше внимание на то, что ни разу, с самого восшествия нашего на трон, они не упустили случая присутствовать на наших утренних выходах, что мы всегда видели их на нашем пути, причем они стояли неподвижно, точно столбы, и изо всех сил вытягивались, чтобы поверх более высоких плеч взирать на наше величие. Мы получили много прошений даже от особ прекрасного пола, которые молили нас обратить внимание на то обстоятельство, что содержание их требует больших расходов; некоторые из них, весьма престарелые, даже просили нас, тряся головами, принять во внимание, что они служили украшением дворов наших предшественников и что если военачальники, командовавшие армиями этих королей, своими воинскими подвигами сделали государство грозным для врагов, то и они не менее того прославили королевский двор своими происками. Посему, желая милостиво поступить с просителями и удовлетворить все их ходатайства, мы повелеваем нижеследующее:
Всякий земледелец, имеющий пятерых детей, должен ежедневно отделять одну пятую часть хлеба, который он им дает. Предлагаем отцам семейств отделять от каждого пайка совершенно одинаковое количество, по полной справедливости.
Строго воспрещаем всем тем, кто занимается возделыванием своих наследственных земель или сдает их другим лицам на правах аренды, производить там какие бы то ни было улучшения.
Повелеваем всем, кто промышляет низким ремесленным трудом и никогда не присутствовал при наших утренних выходах, отныне покупать одежду себе, своим женам и детям не чаще, чем раз в четыре года. Кроме того, строжайше запрещаем те маленькие пирушки, которые они имеют обыкновение устраивать у себя дома в дни больших праздников.
Нам стало известно, что большинство обывателей наших славных городов озабочено тем, как бы обеспечить и пристроить своих дочерей, ничем, кроме унылой и скучной скромности, не отличившихся перед нашим государством. Поэтому мы приказываем обывателям не выдавать дочерей замуж, пока они не достигнут предельного возраста, установленного указами, и пока отцы не будут вынуждены сделать это по необходимости. Запрещаем нашим должностным лицам заботиться о воспитании своих детей».
Из Парижа, месяца Шальвала 1-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXXV. Рика к ***
Во всех религиях возникают большие затруднения, когда приходится дать понятие о наслаждениях, предназначенных в будущей жизни тем, кто благонравно прожил жизнь земную. Грешников легко запугать длинной чередой угрожающих им наказаний, но неизвестно, что пообещать людям добродетельным. Кажется, наслаждения по самой природе своей всегда мимолетны; воображение с трудом представляет их себе иными.
Я читал такие описания рая, которые у всех здравомыслящих людей вызовут только желание отказаться от него: в одних описаниях блаженные тени без устали играют на флейтах, другие осуждают их на муку вечных прогулок, третьи, наконец, сулят, что праведники будут в небесных высотах грезить о земных любовницах, причем тут не принимается в соображение, что сто миллионов лет — срок достаточно долгий, чтобы отнять у них вкус к любовным треволнениям.
Припоминаю в связи с этим историю, слышанную мною от человека, который побывал в стране Великого Могола: из нее следует, что когда дело касается райских наслаждений, у индийских священников воображение не менее бесплодно, чем у других.
Женщина, у которой только что умер муж, торжественно явилась к градоправителю с просьбой разрешить ей сжечь себя на костре, но так как в странах, подвластных магометанам, стараются искоренить этот жестокий обычай, то правитель ей решительно отказал.
Убедившись, что просьбы ее бессильны, она пришла в страшную ярость. «Смотрите, как нас притесняют, — говорила она. — Не позволяют бедной женщине даже сжечь себя, когда ей хочется! Слыхано ли что-либо подобное? Сожгли же себя моя мать, тетка, сестры! А когда я стала просить разрешения у этого проклятого правителя, так он рассердился и стал орать, как полоумный».
В это время там случайно находился молодой бонза{125}. «Нечестивец, — обратился к нему градоправитель, — уж не ты ли внушил женщине это безумие?» — «Нет, — отвечал тот, — я даже никогда с ней не говорил. Но если она меня послушается, она принесет себя в жертву: этим она сделает угодное богу Браме{126} и будет им щедро вознаграждена, ибо обретет на том свете своего мужа и вторично вступит с ним в брак». — «Что ты говоришь? — изумилась женщина. — Я обрету своего мужа? Ну, нет! Не буду жечься. Он был ревнивец, придира и вдобавок так стар, что если бог Брама его слегка не подправил, то я ему наверняка не нужна. Сжечь себя ради него!.. Да я и кончика пальца не обожгу, чтобы вытащить его из ада. Двое старых бонз, которые подбивали меня на это, а сами отлично знали, как мы с мужем жили, поостереглись сказать мне всю правду. Если у бога Брамы нет для меня другого подарка, кроме этого, я отказываюсь от такого блаженства. Господин правитель, я принимаю магометанство! А ты, — сказала она, обращаясь к бонзе, — можешь, если хочешь, передать моему мужу, что я как нельзя лучше чувствую себя здесь».
Из Парижа, месяца Шальвала 2-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXXVI. Рика к Узбеку в ***
Хотя и жду тебя сюда завтра, все же посылаю тебе письма, прибывшие из Испагани. Мне сообщают, что посол Великого Могола{127} получил приказание покинуть пределы королевства. Прибавляют также, что арестовали принца, дядю государя{128}, на которого возложено было его воспитание: принца заключили в замок, где и держат под строгой стражей, лишив всех почестей. Участь его растрогала меня, мне его жаль.
Признаюсь тебе, Узбек, я не могу равнодушно видеть слез; я сострадаю всем несчастным, как будто только они одни — настоящие люди, и даже вельмож, к которым отношусь отрицательно, пока они в милости, я начинаю любить после их падения.
Действительно, на что им мое расположение, когда они процветают? Оно слишком приближается к равенству. Вельможи предпочитают уважение; оно не требует взаимности. Но стоит им пасть с высоты, и одно лишь наше сострадание будет напоминать им о ней.
Есть что-то простодушное и даже великое в словах одного государя, который, перед тем как отдаться в руки врагов, сказал плакавшим вокруг него придворным: «Я вижу по вашим слезам, что я все еще ваш король».
Из Парижа, месяца Шальвала 3-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXXVII. Рика к Узбеку в Смирну
Ты тысячу раз слышал о знаменитом шведском короле{129}. Однажды он вел осаду крепости в королевстве, называемом Норвегией. В то время как он находился вдвоем с инженером в окопе, он получил удар в голову, от которого и умер. Его первый министр{130} был немедленно арестован; собрались государственные штаты и приговорили его к отсечению головы.
Министра обвиняли в страшном преступлении: в том, что он оклеветал народ и лишил его королевского доверия, то есть в проступке, заслуживающем, по моему мнению, тысячи смертей.
В самом деле, если дурное дело — очернить в глазах государя ничтожнейшего из его подданных, то что же сказать, когда чернят целый народ и лишают его благоволения того лица, которое послано провидением, чтобы составить его счастье?
Мне бы хотелось, чтобы люди разговаривали с королями так, как ангелы говорят с нашим святым пророком.
Ты знаешь, что я поставил себе правилом держать непослушный язык на привязи во время священных пиршеств, когда царь царей сходит с самого величественного престола в мире, чтобы вступить в беседу со своими рабами. Никто никогда не слыхал, чтобы я проронил хоть единое слово, которое могло бы опорочить последнего из его подданных. Когда мне приходилось терять трезвость, я все же оставался честным человеком, и когда нашу верность таким образом подвергали испытанию, я рисковал своей жизнью, но добродетелью никогда.
Не знаю, отчего это так бывает, но, как бы ни был суров государь, министр его почти всегда еще суровее; если государь совершает что-нибудь дурное, то почти всегда по чьему-либо наущению, так что честолюбие монархов никогда не бывает таким опасным, как душевная низость их советников. Но просто непостижимо, что человек, который только вчера стал министром, а завтра им, чего доброго, уже больше не будет, может в один миг сделаться врагом самому себе, своей семье, отечеству и потомкам тех, кого он собирается притеснять?
У государя есть страсти; министр им потакает. В эту сторону и направляет он свою министерскую деятельность: у него нет другой цели, да он другой и знать не хочет. Придворные развращают государя бесконечными восхвалениями, а министр для него еще опаснее своими льстивыми советами, планами, которые он ему подсказывает, и принципами, которые он ему внушает.
Из Парижа, месяца Сефара 25-го дня, 1719 годаПИСЬМО CXXVIII. Рика к Узбеку в ***
На днях я проходил с приятелем по Новому мосту. Он повстречал знакомого, о котором сказал мне, что это геометр. Да оно и так было видно, ибо человек этот был погружен в глубокое раздумье. Моему приятелю пришлось изрядно подергать его за рукав и потрясти, чтобы он спустился на землю: до такой степени он был занят какой-то кривой, которая мучила его, быть может, уже больше недели. Они наговорили друг другу уйму любезностей и обменялись свежими новостями. За этими разговорами они дошли до дверей кофейни, куда и я вошел вместе с ними.
Я заметил, что нашего геометра все встречают радушно, а официанты уделяют ему куда больше внимания, чем двум мушкетерам, сидящим в углу. Что касается его самого, то ему, по-видимому, приятно было там находиться: морщины у него немного разгладились, и он принялся шутить, словно не имел ни малейшего отношения к геометрии.
Однако его точный ум измерял все, что говорилось во время беседы. Он походил на того человека{131}, который шпагою срезал в саду головки цветов, возвышавшиеся над другими: его, мученика точности, всякая острота оскорбляла, как слишком яркий свет раздражает слабое зрение. Он ко всему относился горячо, лишь бы оно было точно. Зато его разговор производил странное впечатление. В тот день он вернулся из деревни с человеком, который видел там великолепный замок и восхитительные сады; геометр же увидел только здание шестидесяти футов в длину и тридцати пяти в ширину, и рощицу площадью в десять арпанов. Ему бы хотелось, чтобы правила и перспектива были при этом соблюдены так, чтобы все аллеи были одинаковой ширины; для их планировки он дал бы непогрешимо точные указания. Ему там очень понравились часы необычного устройства, но он страшно рассердился на ученого, сидевшего рядом со мною, за то, что тот имел неосторожность спросить, не вавилонское ли они показывают время. Какой-то вестовщик заговорил о бомбардировке крепости Фуэнтарабии{132}, и геометр немедленно объяснил нам свойства линии, которую бомбы описывают в воздухе, и, придя от этого в восторг, совершенно не поинтересовался итогами самой бомбардировки. Кто-то пожаловался, что его прошлой зимою разорило наводнение. «Мне очень приятно слышать это, — сказал тогда геометр, — я вижу, что не ошибся в своем наблюдении и что осадков выпало по меньшей мере на два дюйма больше, чем в прошлом году».
Минуту спустя он ушел, и мы последовали за ним. Он шел довольно шибко, не глядя перед собою, и поэтому наткнулся на какого-то встречного. Они так крепко стукнулись друг об друга, что отлетели в разные стороны в соответствии с их скоростью и массой. Когда они несколько пришли в себя, встречный, поднеся руку ко лбу, сказал геометру: «Я очень рад, что вы меня толкнули, так как у меня есть для вас большая новость: только что вышел из печати мой Гораций». — «Как! — воскликнул геометр, — да ведь он издан уже две тысячи лет тому назад». — «Вы меня не поняли, — отвечал другой, — я выпустил в свет перевод этого древнего поэта: вот уже двадцать лет, как я занимаюсь переводами». — «Да что вы? — не унимался геометр. — Значит, вы уже двадцать лет не думаете, сударь? Вы говорите за других, а они за вас думают?» — «Милостивый государь! — сказал ученый, — разве вы не считаете, что я оказал большую услугу публике, сделав доступным чтение хороших писателей?» — «Я не совсем так говорю: я не меньше всякого другого почитаю высоких гениев, которых вы переряжаете, но вы-то сами никогда на них не будете похожи, ибо сколько бы ни переводили, вас-то переводить не станут. Переводы — все равно, что медные монеты, которые могут представлять собою ту же ценность, что и червонец, и даже имеют большее хождение в народе, но они всегда неполновесны и низкопробны. Вы говорите, что хотите оживить для нас этих прославленных мертвецов. Признаю: вы даете им тело, но жизни им вы не возвратите: не хватает духа, который оживил бы их. Почему бы вам не заняться поисками прекрасных истин, которые при помощи простого вычисления можно открывать хоть каждый день?» После этого маленького совета они разошлись, видимо очень недовольные друг другом.
Из Парижа, в последний день месяца Ребиаба 2, 1719 годаПИСЬМО CXXIX. Узбек к Реди в Венецию
Большинство законодателей были людьми ограниченными, которые только случайно оказались во главе других и не считались ни с чем, кроме собственных предрассудков и бредней.
Кажется, будто они даже не сознавали величия и важности своего труда: они забавлялись тем, что сочиняли вздорные узаконения, и действительно угодили ими людям недалеким, зато уронили себя в глазах людей здравомыслящих.
Они пускались в бесполезные подробности, входили во всякие частности, а это свойственно умам узким, которые видят вещи только по частям и бессильны охватить их в целом.
Некоторые законодатели предпочитали пользоваться особым, а не общеупотребительным языком; для законодателя это явная нелепость. Как же соблюдать законы, когда их не знаешь?
Часто они без всякой надобности отменяли ранее установленные законы, то есть ввергали народ в беспорядки, неразлучные с переменами.
Правда, иногда бывает необходимо изменить те или иные законы вследствие некоторой причудливости, свойственной скорее природе, чем человеческому уму. Но такие случаи редки, и если дело идет к этому, то за него следует браться крайне осмотрительно: нужно соблюдать при этом такую торжественность и принимать столько предосторожностей, чтобы народ пришел к заключению, что законы святы, раз требуется столько формальностей, чтобы их отменить.
Часто делали законы чересчур уж хитрыми и следовали при этом скорее отвлеченным идеям, чем естественной справедливости. Подобные законы вскоре оказывались слишком суровыми, и из чувства справедливости их считали нужным обходить, но такое лекарство представляло собою новую болезнь. Каковы бы ни были законы, их всегда должно соблюдать и считать их общественною совестью, с которою совесть частных лиц должна постоянно сообразоваться.
Следует, однако, признать, что некоторые законодатели проявили мудрую проницательность: они дали отцам большую власть над детьми. Ничто так не облегчает правителей, ничто так не уменьшает количества преступлений, ничто, наконец, не содействует в такой мере спокойствию государства, ибо граждане воспитываются скорее нравами, чем законами.
Родительской властью люди злоупотребляют меньше, чем любой другой: это самый священный из всех авторитетов, единственный, который не зависит ни от каких условий и даже предшествует последним.
Замечено, что в тех странах, где отцам предоставлено широкое право награждать и наказывать, семьи бывают крепче; отцы — подобие творца вселенной, который, хотя и мог бы управлять людьми посредством одной лишь любви, не упускает возможности привязывать их к себе тем, что внушает им надежду и страх.
В заключение хочу обратить твое внимание на причудливость французского ума. Говорят, что французы заимствовали из римских законов много бесполезного и даже того хуже, но не заимствовали из них понятия об отцовской власти, установленной римлянами в качестве первейшей законной силы.
Из Парижа, месяца Джеммади 2, 4-го дня. 1719 годаПИСЬМО СХХХ. Рика к ***
В этом письме я поговорю с тобой о некоем племени, которое называют вестовщиками: они собираются в прекрасном саду{133}, где им всегда найдется, чем занять свою праздность. Они совершенно бесполезны государству, и от того, что они наговорят в течение пятидесяти лет, получается не больше толку, чем вышло бы, если бы они столько же времени молчали. Однако вестовщики приписывают себе огромное значение, так как они беседуют о великолепных проектах и толкуют о важных вещах.
Разговоры их основаны на вздорном и пустом любопытстве: нет такого тайного кабинета, в который они не притязали бы проникнуть; они ни за что не признаются, что чего-либо не знают; им известно, сколько жен у нашего августейшего султана, сколько он ежегодно производит на свет детей, и, нисколько не тратясь на соглядатаев, они тем не менее осведомлены о мерах, которые он принимает, чтобы унизить турецкого императора и повелителя моголов.
Не успеют они исчерпать настоящее, как устремляются к будущему и, предвосхищая волю провидения, предупреждают его отношение к любым человеческим поступкам. Они руководят любым полководцем и, расхвалив его за тысячу не сделанных им глупостей, приуготовят ему множество других, которых он тоже никогда не совершит.
Армии у них летают, точно журавли, а стены рассыпаются, как картонные; на всех реках у них мосты, всюду в горах — тайные тропы, среди сыпучих песков — огромные склады: не хватает им только здравого смысла.
Человек, с которым я живу в одном доме, получил следующее письмо от такого вестовщика. Оно показалось мне столь любопытным, что я его сохранил. Вот оно:
«Милостивый государь!
Я редко ошибаюсь в своих предположениях о современных событиях.
1 января 1711 года я предсказал, что император Иосиф{134} умрет в течение этого года. Правда, тогда он чувствовал себя превосходно, и я подумал, что надо мной будут насмехаться, если я выскажу это вполне ясно. Поэтому я пустил в ход выражения немного загадочные, но люди рассудительные отлично меня поняли. 17 апреля того же года император скончался от оспы.
Как только была объявлена война между императором и турками, я отправился разыскивать наших по всем закоулкам Тюильри, собрал их у фонтана и предсказал, что Белград будет осажден и взят. Мне посчастливилось, и предсказание мое оправдалось. Правда, в самый разгар осады я поспорил на сто пистолей, что город будет взят 18 августа{135}, а взяли его только на другой день. Какая досада проиграть такое прекрасное пари!
Когда мне стало известно, что испанский флот высадил десант на Сардинии, я решил, что он ее завоюет: я так и сказал, и мои слова оказались истиной. Возгордившись этим успехом, я добавил, что победоносный флот произведет высадку и в Финале{136}, дабы завоевать Миланскую область. Так как мысль эта вызывала возражения, я решил поддержать ее с честью: поспорил на пятьдесят пистолей — и снова проиграл, потому что подлец Альберони, нарушив договоры, послал испанский флот к Сицилии{137} и надул сразу двух великих политиков — герцога Савойского и меня.
Всем этим, сударь, я был приведен в такое замешательство, что решил впредь только предсказывать и никогда не держать пари. Когда-то у нас в Тюильри совсем неизвестен был этот обычай, а покойный граф де Л.{138} и вовсе не выносил пари. Но с тех пор как в нашу среду затесалась куча франтов, мы совсем сбились с толку: стоит только открыть рот, чтобы сообщить какую-нибудь новость, как уж кто-нибудь из этих вертопрахов предлагает пари.
Намедни, только я открыл было свою рукопись и надел на нос очки, а уж некий хвастунишка, воспользовавшись паузой между первым и вторым моим словом, сказал мне: „Держу пари на сто пистолей, что — нет“. Я сделал вид, что не обратил внимания на эту выходку, и, повысив голос, продолжал: „Господин маршал де ***, узнавши о том...“ — „Это неправда, — сказал молокосос, — у вас всегда нелепые новости; во всем, что вы говорите, нет ни капли здравого смысла“.
Прошу вас, милостивый государь, сделать мне удовольствие: одолжить мне тридцать пистолей, ибо, скажу вам по совести, эти пари совсем разорили меня. Посылаю вам копии с двух писем, написанных мною министру.
Имею честь быть, и проч.».
Письма вестовщика к министру
«Ваша Светлость!
Я преданнейший слуга Его Величества. Именно я поручил одному из моих друзей осуществить возникшую у меня идею о книге, которая должна доказать, что Людовик Великий был величайшим из всех государей, заслуживших название „Великий“. Я уже давно тружусь над другим произведением, которое еще больше прославит Францию, если Ваша Светлость соблаговолит выдать мне привилегию: я намереваюсь доказать, что с самого возникновения нашего государства французы никогда никем не были побеждены и что все, что говорилось до сих пор историками о наших неудачах, является самой настоящей клеветой. Мне то и дело приходится исправлять ошибки историков, и я льщу себя надеждой особенно блеснуть в критической части моего труда.
Имею честь быть, Ваша Светлость, и проч.».
«Ваша Светлость!
Лишившись его сиятельства графа де Л., умоляем Вас: окажите милость разрешить нам избрать нового председателя. На наших собраниях возникают беспорядки, и государственные дела не обсуждаются уже так тщательно, как прежде; наша молодежь совершенно не считается со старшими и не признает никакой дисциплины: это — сущее Ровоамово сборище{139}, где молодые люди задают тон старикам. Тщетно говорим мы им, что были мирными обладателями Тюильри еще за двадцать лет до того, как они родились; они, кажется, в конце концов нас прогонят, а мы, будучи вынуждены покинуть места, где столько раз взывали к теням наших героев, станем собираться для беседы в королевском саду или в каком-нибудь еще более уединенном месте.
Имею честь быть, и проч.».
Из Парижа, месяца Джеммади 2, 7-го дня, 1719 годаПИСЬМО CXXXI. Реди к Рике в Париж
Одним из вопросов, которые особенно занимают меня по моем приезде в Европу, является история и происхождение республик. Как тебе известно, большая часть азиатов не имеет даже понятия об этом роде правления, и у них не хватило воображения представить себе, что на земле вообще возможно какое-либо иное правление, кроме деспотического.
Первые известные нам правления были монархическими; только случайно и по прошествии многих веков образовались республики.
Когда потоп опустошил Грецию, ее населили новые обитатели. Почти все они вышли из Египта и ближайших азиатских областей, а так как странами этими управляли цари, то народы, вышедшие оттуда, управлялись и в Греции таким же образом. Но когда тирания этих государей стала слишком тягостна, ярмо было сброшено, и из обломков многих царств возникли те самые республики, которые принесли расцвет Греции — единственной культурной стране среди варваров.
Любовь к свободе, ненависть к деспотам долго ограждали независимость Греции и далеко распространили республиканский образ правления. Греческие города нашли себе союзников в Малой Азии; они основали там колонии, столь же свободные, как и они сами, и эти колонии явились для них оплотом против нападений персидских царей. Это еще не все: Греция заселила Италию; Италия Испанию и, может быть, Галлию. Известно, что великою Гесперией{140}, столь славившейся у древних, называлась вначале именно Греция, которую ее соседи считали страною счастья. Но греки, не находившие этой страны у себя, направились искать ее в Италию; итальянцы с той же целью двинулись в Испанию, испанцы — в Бетику{141} или Португалию, так что все эти области носили у древних имя Гесперии. Греческие колонии приносили с собою тот дух свободы, который они усвоили в своей прекрасной стране. Поэтому в те отдаленные времена не существовало монархий ни в Италии, ни в Испании, ни в Галлии. Ты скоро увидишь, что народы Севера и Германии были не менее свободны, и если мы и находим у них какие-то следы царской власти, то только потому, что принимаем за царей тех, кто стоял во главе армий или республик.
Так обстояло дело в Европе; что же касается Азии и Африки, то они всегда находились под гнетом деспотизма, за исключением нескольких упомянутых мною малоазиатских городов и республики Карфагена в Африке.
Мир был поделен между двумя могущественными республиками — Римской и Карфагенской. Возникновение Римской республики хорошо известно, зато о происхождении Карфагена мы не знаем решительно ничего. Совершенно не известна последовательность африканских царей после Дидоны и то, как они лишились власти. Необычайный рост Римской республики был бы великим счастьем для мира, если бы там не существовало несправедливого различия между римскими гражданами и побежденными народами, если бы правителям провинций предоставляли меньшую власть, если бы соблюдались священные законы, установленные для устранения их тирании, и если бы правители не пользовались для принижения законов теми самыми богатствами, которые они накопили благодаря своей несправедливости.
Свобода создана, по-видимому, для европейских народов, а рабство — для азиатских. Римляне тщетно предлагали каппадокийцам{142} этот драгоценный дар: низкий народ кинулся навстречу рабству с такою же поспешностью, как другие народы — навстречу свободе.
Цезарь уничтожил Римскую республику и подчинил ее самодержавной власти.
Долго стонала Европа под властью военного и насильственного управления, и римская мягкость сменилась жестоким гнетом.
Между тем с Севера появилось множество неведомых до того народов; бурным потоком разлились они по римским провинциям, и так как завоевать эти провинции оказалось делом столь же легким, как и разграбить их, нахлынувшие народы расчленили империю и основали ряд государств. Народы эти были свободны и настолько ограничивали власть своих королей, что те были, собственно говоря, всего лишь вождями или военачальниками. Оттого образованные ими государства, хотя и зиждились на силе, вовсе не ощущали ярма победителя. Когда азиатские народы, вроде турок или татар, совершали завоевания, они, будучи сами подчинены воле одного повелителя, помышляли только о том, чтобы доставить ему новых подданных и с помощью орудия утвердить его насильственную власть. Народы же северные, будучи свободными в собственных странах, отнюдь не предоставляли своим вождям большой власти в завоеванных римских провинциях. Некоторые из этих народов, как, например, вандалы в Африке, готы в Испании, даже смещали своих королей, если были ими недовольны, у других же народов власть государя была ограничена множеством различных способов: эту власть разделяло с ним большое число сеньоров; войны предпринимались только с их согласия; военная добыча делилась между военачальником и воинами; не существовало никаких поборов в пользу государя; законы издавались народными собраниями. Вот основные начала всех этих государств, образовавшихся из обломков Римской империи.
Из Венеции, месяца Реджеба 20-го дня, 1719 годаПИСЬМО CXXXII. Рика к ***
Месяцев пять-шесть тому назад я сидел как-то в кофейне; я заметил там довольно хорошо одетого дворянина, которого внимательно слушали присутствующие Он говорил о том, как приятно жить в Париже, и сетовал, что обстоятельства вынуждают его прозябать в провинции. «Я получаю пятнадцать тысяч ливров годового дохода с имения, — говорил он, — но я предпочел бы иметь только четверть этого состояния, зато наличными. Как я ни прижимаю своих фермеров, как ни взыскиваю с них судебным порядком, я добиваюсь этим только того, что они становятся еще несостоятельнее: никогда мне не удавалось получить с них хоть сто пистолей сразу. А вот если бы я задолжал десять тысяч франков, мое имение описали бы и я бы пошел по миру».
Я ушел, не обратив особого внимания на его слова, но вчера, снова очутившись около той кофейни, я вошел в нее и увидел там хмурого человека с бледным и худым лицом, который, задумавшись, мрачно сидел в кругу пяти-шести собеседников. Потом он вдруг заговорил. «Да, господа, — сказал он, возвысив голос, — я разорен{143}; мне больше нечем жить, потому что у меня в настоящее время двести тысяч ливров банковыми билетами и сто тысяч экю серебром. Я в ужасном положении; считал себя богатым и вдруг оказался ни при чем. Если бы по крайней мере у меня было именьице, куда я мог бы удалиться, то я бы знал, на что жить; но у меня нет ни клочка земли».
Случайно я повернул голову и увидел другого человека, который дергался как одержимый. «Кому же отныне можно доверять? — вскричал он. — Я считал его лучшим своим другом и дал ему взаймы, а он, предатель, не вернул мне долга{144}! Какое ужасное вероломство! Что он теперь ни делай, в моих глазах он опозорен навеки».
Тут же находился какой-то бедно одетый человек, который говорил, подняв взор к небу: «Да благословит господь планы наших министров! Пусть бы акции поднялись до двух тысяч и все лакеи оказались бы богаче своих господ!» Я полюбопытствовал узнать его имя. «Это чрезвычайно бедный человек, да и ремесло у него мало прибыльное, — отвечали мне, — он составляет генеалогии и надеется, что его искусство будет преуспевать, если люди станут богатеть; тогда все новоявленные богачи будут нуждаться в нем, чтобы подправить свои фамилии, подчистить предков и украсить гербами дверцы карет. Он рассчитывает наделать столько родовитых людей, сколько ему вздумается, и трепещет от радости, видя, что число заказчиков все растет».
Наконец вошел бледный, сухощавый старик, в котором — не успел он еще и сесть — я сразу признал вестовщика. Он не принадлежал к числу тех, кто победоносно опровергает все неудачи и неизменно предсказывает победы и трофеи: это был, напротив, один из тех вечных нытиков, которые сообщают только печальные новости. «Плохи наши дела в Испании, — сказал он, — у нас на границе нет кавалерии; как бы князь Пио, у которого ее целый корпус, не захватил, чего доброго, весь Лангедок»{145}.
Напротив меня сидел какой-то философ довольно потрепанного вида; он с сожалением глядел на вестовщика и пожимал плечами, по мере того как тот повышал голос. Я подошел к нему, и он шепнул мне на ухо: «Смотрите, какой дурак! Час битый толкует нам о своих опасениях за Лангедок, а вот я заметил вчера вечером пятно на солнце, которое, если оно увеличится, погрузит всю природу в оцепенение, да и то я не проронил ни слова».
Из Парижа, месяца Рамазана 17-го дня, 1719 годаПИСЬМО CXXXIII. Рика к ***
На днях я осматривал большую монастырскую библиотеку; она дана дервишам как бы на сохранение, но они обязаны в известные часы допускать в нее всех желающих.
Войдя, я увидел важного человека, который прогуливался среди бесчисленного множества томов. Я направился к нему и спросил, что представляют собою книги, выделяющиеся среди других лучшими переплетами. «Я здесь, сударь, — сказал он мне, — как в чужой стране, и никого тут не знаю. Многие задают мне подобные вопросы, но, согласитесь сами, не могу же я прочитать все эти книги, чтобы удовлетворить их любопытство. У меня есть библиотекарь, он вам все объяснит, ведь он день и ночь только тем и занят, что разбирает все, что вы здесь видите; это человек ни на что не пригодный и очень для нас обременительный, так как для монастыря он ничего не делает. Однако я слышу, что звонят к трапезе. Люди, стоящие подобно мне во главе общины, должны быть первыми во всех трудах». С этими словами монах вытолкнул меня на улицу, запер дверь и исчез из моих глаз с такой быстротой, точно улетел.
Из Парижа, месяца Рамазана 21-го дня, 1719 годаПИСЬМО CXXXIV. Рика к нему же
На другой день я снова отправился в библиотеку, но нашел там человека, совершенно не похожего на того, которого видел в первый раз: вид у него был простой, лицо — одухотворенное, обращение весьма приветливое. Как только я ему сообщил, что меня интересует, он счел долгом удовлетворить мое любопытство и дать мне, как иностранцу, подробнейшие разъяснения.
«Отец мой! — сказал я ему, — что это за толстые книги, занимающие всю эту сторону библиотеки?» — «Это всё истолкования священного писания», — ответил он. «Как их много, — воскликнул я, — значит, священное писание было когда-то весьма непонятно, а теперь стало совершенно ясно. А остаются еще какие-нибудь сомнения? Есть ли еще в нем спорные места?» — «Есть ли спорные места, боже мой! Еще бы не быть! — отвечал он. — Там что ни строчка, то спорное место». — «Неужели? — сказал я. — Так что же сделали все эти толкователи?» — «Эти толкователи, — отвечал он, — искали в священном писании вовсе не того, во что нужно верить, а то, во что они сами верят; они отнеслись к нему отнюдь не как к книге, содержащей в себе догматы, которые они должны принять, а как к произведению, которое может придать вес их собственным суждениям. Потому-то они и извратили весь его смысл и исказили все изречения. Это такая область, на которую совершают набеги и грабят как только могут представители всех сект; это поле, на котором встречаются и дают друг другу сражения враждующие народы, поле, где нападают друг на друга и где происходят всевозможные потасовки.
Рядом с этими книгами вы видите аскетические произведения и молитвенники, за ними стоят гораздо более полезные книги о морали, а там богословские, которые вдвойне непонятны — и по содержанию и по тому, как изложено это содержание; наконец, произведения мистиков, то есть благочестивых людей, наделенных нежным сердцем». — «Ах, отец мой! Одну минуту, не спешите так, — сказал я, — расскажите мне о мистиках». — «Сударь! — ответил он, — благочестие согревает сердце, расположенное к нежности, и посылает из него в мозг соки, в свою очередь, согревающие его; отсюда экстазы и восторги. Это — состояние исступленного благочестия. Подчас оно совершенствуется или скорее вырождается в квиетизм{146}; как вы знаете, квиетист не что иное, как человек сумасшедший, благочестивый и своевольный.
А вот и казуисты; они разоблачают ночные тайны, создают в своем воображении все чудовища, какие может породить демон любви, собирают их, сравнивают их и сосредоточивают на них все внимание. И счастье еще, если сердце их не впутывается в это дело и не становится соучастником всех заблуждений, которые они так наивно расписывают и так откровенно изображают.
Вы видите, сударь: я мыслю свободно и говорю вам все, что думаю. Я откровенен по природе, а тем более с вами, с иностранцем, желающим узнать все эти вещи, и притом узнать такими, каковы они есть. Если бы я хотел, я говорил бы обо всем этом не иначе как с восхищением, твердил бы на все лады: „Это божественно! Это достойно уважения! Это чудесно!“ — и получилось бы одно из двух: либо я вас обманул бы, либо унизил бы себя в ваших глазах».
На этом мы расстались: какое-то дело отвлекло дервиша, и мы отложили наш разговор до завтра.
Из Парижа, месяца Рамазана 23-го дня, 1719 годаПИСЬМО CXXXV. Рика к нему же
Я пришел в назначенный час, и мой руководитель привел меня к тому самому месту, где мы расстались. «Вот, — сказал он, — грамматисты, толкователи и комментаторы». — «Отец мой, — спросил я, — а нужен ли всем этим людям здравый смысл? Не могут ли они обходиться без него?» — «Конечно, могут, — ответил он, — и этого даже не заметишь; от отсутствия здравого смысла их произведения не становятся хуже; и это представляет для них большое удобство». — «Справедливое замечание, — сказал я. — Я знаю немало философов, которым хорошо бы заняться такого рода науками». — «Вот, продолжал он, — ораторы, обладающие талантом убеждать вопреки логике, и геометры, заставляющие человека убеждаться вопреки его воле и доказывающие ему свои положения тираническими приемами.
Вот книги по метафизике, где рассуждают о столь высоких предметах и где всюду встречаешься с бесконечным; книги физические, которые в устройстве необъятной вселенной видят не более удивительного, чем в самой простой машине, изготовленной нашими ремесленниками; медицинские книги, эти свидетельства хрупкости природы и могущества науки; они приводят нас в содрогание даже тогда, когда говорят о самых легких болезнях, — до того близкой к нам представляют они смерть! — зато они сразу успокаивают нас, когда говорят о действиях лекарств, так что нам кажется, будто мы стали бессмертными.
Совсем рядом с ними стоят книги по анатомии; они содержат в себе не столько описание частей человеческого тела, сколько варварские наименования, которыми их наделили; это не излечивает ни больного от его болезни, ни врача от его невежества.
Вот химия, живущая то в больнице, то в сумасшедшем доме, ибо эти жилища ей одинаково подходят.
Вот книги по оккультным наукам, или вернее по оккультному невежеству: это книги, содержащие какую-то чертовщину, книги, отвратительные, по мнению большинства людей, а по-моему, просто жалкие. Таковы же и книги по астрологии». — «Что вы говорите, отец мой? Книги по астрологии! — возразил я с жаром. — А ведь мы в Персии придаем им огромное значение: ими определяются все наши поступки, все предприятия. Астрологи в сущности истинные наши руководители; больше того: они участвуют в управлении государством». — «Если так, — сказал он мне, — то вы живете под ярмом, куда более тяжелым, чем ярмо разума. Вот уж поистине странное государство! Я жалею семью и еще больше жалею народ, который дает планетам такую власть над собою». — «Мы пользуемся астрологией так же, как вы пользуетесь алгеброй, — возразил я ему. — У каждого народа особая наука, сообразуясь с которой он направляет свою политику. Все астрологи, вместе взятые, не наделали столько глупостей у нас в Персии, сколько один алгебраист натворил их у вас. Неужели вы думаете, что случайное расположение светил является менее надежным указанием, чем рассуждения вашего сочинителя систем? Если бы спросить по этому поводу всех жителей Франции и Персии, то на долю астрологии выпал бы недурной триумф; вычислители были бы основательно посрамлены. Какой пришлось бы сделать о них неблагоприятный вывод!» Наш спор был прерван, и пришлось расстаться.
Из Парижа, месяца Рамазана 26-го дня, 1719 годаПИСЬМО CXXXVI. Рика к нему же
При следующем свидании мой ученый собеседник повел меня в соседнюю комнату. «Вот книги по новой истории, — сказал он мне. — Во-первых, взгляните на историков церкви и пап: я читаю эти книги для поучения, но они часто оказывают на меня совершенно обратное действие.
Вот там стоят историки, писавшие о крушении огромной Римской империи, образовавшейся на обломках стольких государств и на развалинах которой создалось так много новых. Бесчисленное множество варварских народов, столь же неизвестных, как и страны, где они жили, — нежданно появилось, наводнило Римскую империю, разграбило ее, раздробило на части и образовало те королевства, какие вы сейчас видите в Европе. Эти народы не были в полном смысле варварами, раз они были свободны; но они впали в варварство с тех пор, как, подчинившись в большинстве абсолютной власти, утратили сладостную свободу, столь согласную с разумом, человечностью и природой.
Здесь вы видите историков Германской империи, являющейся лишь тенью Римской; но она, по-моему, представляет собою единственную державу в мире, которую разграбление не ослабило; единственную, думается мне, которая крепнет по мере того, как терпит поражения; она медленно пользуется своими успехами, зато становится непобедимой благодаря поражениям.
Вот вам историки Франции, где мы видим сначала образование королевской власти, потом два раза — ее смерть, новое ее возрождение, затем ее прозябание в течение нескольких веков; наконец, вступление ее в последний период, после того как она мало-помалу восстановила свои силы и распространилась во все стороны; она подобна реке, которая то мелеет или скрывается под землей, то, снова появившись и расширившись благодаря притокам, быстро увлекает за собою все, что противится ее течению.
Вот тут вы видите испанский народ, родившийся среди гор; магометанских государей, столь же незаметно покоренных, сколь быстро покорили они сами; множество королевств, объединенных в обширную монархию, ставшую почти единственной и остававшуюся такой до тех пор, пока, обремененная собственным своим величием и ложным богатством, она не потеряла мощи и даже уважения, так что ей осталось только гордиться своим былым могуществом.
А здесь английские историки; здесь мы видим страну, где свобода развивается среди пламени раздоров и восстаний, где государь чувствует себя нетвердо на незыблемом троне, где народ нетерпеливый, но мудрый в самом своем неистовстве, стал повелителем морей (вещь, дотоле неслыханная) и сочетает торговлю с властью.
Рядом с ними стоят историки другой царицы морей, Голландской республики, столь уважаемой в Европе и столь грозной в Азии, где перед ее купцами простирается во прахе столько царей.
Историки Италии представляют вам нацию, некогда повелительницу мира, а ныне рабыню всех других народов, изображают ее разобщенных между собою и слабых князей, сохранивших из всех атрибутов власти только бесплодные козни.
Вот вам историки республик: Швейцарской, этого образца свободы; Венецианской, все богатство которой заключается в бережливости; Генуэзской, блещущей только своими зданиями.
Вот северные республики, и среди них Польша, до того дурно пользующаяся своей свободой и правом избрания королей, что она словно хочет утешить таким образом соседние народы, утратившие и то и другое».
На этом мы расстались до следующего дня.
Из Парижа, месяца Шальвала 2-го числа, 1719 годаПИСЬМО CXXXVII. Рика к нему же
На другой день он повел меня в соседнюю комнату. «Здесь, — сказал он, помещаются поэты, то есть писатели, назначение которых заключается в том, чтобы ставить препоны здравому смыслу и так же обременять разум всякого рода украшениями, как некогда обременяли женщин всевозможными уборами и нарядами. Вы их знаете: они не редкость и у восточных народов, где солнце, еще более жаркое, как бы распаляет самое воображение. Вот здесь эпические поэмы». — «А что это такое — эпические поэмы?» — «По правде говоря, и сам не знаю; знатоки утверждают, будто их только две и было то сочинено{147} и что другие, которым придают это название, вовсе ими не являются; об этом тоже не берусь судить. Знатоки говорят даже, что сочинить новую эпическую поэму невозможно, а это еще того удивительнее.
Вот тут поэты драматические; по-моему, это — поэты по преимуществу и властители страстей. Они бывают двух родов: комические, приятно нас трогающие, и трагические, волнующие и потрясающие нас.
А вот лирики, которых я презираю в такой же степени, в какой уважаю других; они превращают свое искусство в сладкозвучную чушь.
Далее вы видите сочинителей идиллий и эклог, которые нравятся даже придворным, ибо, рисуя пастушескую жизнь, дают им представление о безмятежном существовании, от которого придворные весьма далеки.
А вот и самые опасные из всех, каких мы с вами видели: это составители эпиграмм, — маленьких отточенных стрелок, наносящих глубокие и неизлечимые раны.
Вот тут романы, авторы которых являются разновидностью поэтов и, подобно им, извращают язык и ума и сердца. Они всю жизнь охотятся за естественностью, да все попадают мимо; их герои так же далеки от природы, как далеки от нее крылатые драконы и кентавры».
«Я читал, — сказал я ему, — кое-какие из ваших романов, а если бы вы прочитали наши, они бы еще больше вас возмутили. Они тоже мало естественны, а кроме того, им чрезвычайно вредят наши нравы: страсть должна пылать лет десять, прежде чем влюбленному удастся увидеть хотя бы лицо своей возлюбленной. Поэтому сочинители бывают вынуждены томить читателей скучными предварительными перипетиями. При этом нет никакой возможности разнообразить приключения. Сочинителям приходится прибегать к уловкам, еще худшим, чем самое зло, которое хотят устранить, то есть к чудесам. Я уверен, что вам не понравится, если какая-нибудь волшебница выведет из-под земли целую армию или если какой-нибудь герой в одиночку уничтожит стотысячное войско. Между тем наши романы именно таковы. Холодные и однообразные приключения вызывают в нас тоску, а нелепые чудеса приводят в бешенство».
Из Парижа, месяца Шальвала 6-го дня, 1719 годаПИСЬМО CXXXVIII. Рика к Иббену в Смирну
Министры сменяют и уничтожают здесь друг друга, как времена года: в течение трех лет финансовая система переменилась у меня на глазах четыре раза. В Турции и Персии поныне взимаются те же налоги, что и при основателях этих империй; здесь далеко Не так. Правда, мы и не вкладываем в это дело столько ума, как на Западе: мы думаем, что управлять доходами государя труднее, чем управлять состоянием частного лица, лишь в той степени, в какой труднее сосчитать сто тысяч туманов, чем сотню их. Но здесь дело куда более тонкое и мудреное. Здесь над этим приходится денно и нощно трудиться умнейшим людям; они в муках вынашивают всё новые и новые проекты; выслушивают бесчисленные соображения множества людей, которые помогают им, хотя никто их об этом не просит: они уединяются и живут в тиши своих кабинетов, непроницаемых для лиц высокопоставленных и священных для маленьких людей; голова у них всегда набита важными тайнами, чудесными планами, новыми системами; они так погружены в размышления, что лишаются дара слова, а иногда даже забывают и о вежливости.
Едва только покойный король закрыл глаза, как уже начали думать о перемене правительства. Все чувствовали, что дела идут неважно, но не знали, как поступить, чтобы они шли лучше. Из неограниченной власти прежних министров ничего хорошего не вышло: решено было разделить ее между несколькими лицами. Для этого учредили шесть или семь коллегий, и эти коллегии управляли Францией с большим, может быть, смыслом, чем все им предшествовавшие, но продержались они недолго, равно как и принесенные ими плоды.
Когда умирал покойный король, Франция представляла собою тело, пораженное множеством болезней: Н*** взял нож{148}, отрезал ненужные ткани и приложил к больным местам соответствующие лекарства. Но оставалось еще излечить больного от недуга, таившегося внутри. Явился чужестранец{149} и принялся за лечение. Применив множество сильнодействующих снадобий, он решил, что болящий начинает полнеть, между тем как он просто распух.
Все, кто еще полгода назад были богаты, сейчас ввергнуты в нищету, а те, у кого не было даже хлеба, теперь утопают в богатстве. Никогда еще эти две крайности не сходились так близко. Иностранец вывернул наизнанку государство, как старьевщик выворачивает поношенное платье: то, что было изнанкой, он сделал лицом, а из лица сделал изнанку. Какие возникли неожиданные состояния! Не верится даже тем, кому они выпали на долю! Самому богу не удалось бы так молниеносно вывести людей из небытия. Сколько появилось лакеев, которым прислуживают их недавние товарищи, а завтра будут, быть может, прислуживать и господа!
Из всего этого подчас вытекают довольно странные последствия. Лакеи, разбогатевшие при прошлом царствовании, теперь уже хвастаются своим происхождением; на тех, кто только что сбросил ливрею на известной улице{150}, они изливают все то презрение, предметом которого были сами всего полгода тому назад; они кричат изо всей мочи: «Дворянство разорено! Что за беспорядок в государстве! Какое смешение званий! В наши дни только какие-то проходимцы и богатеют!» Ручаюсь, что эти проходимцы отыграются на тех, кто явится после них, и что лет через тридцать вся эта знать наделает немало шуму.
Из Парижа, месяца Зилькаде 1-го дня, 1720 годаПИСЬМО CXXXIX. Рика к нему же
Вот великий пример супружеской любви, великий не только для женщины, но и для королевы. Шведская королева{151}, желая во что бы то ни стало приобщить к короне своего супруга-принца и устранить всякие к тому препятствия, объявила государственным чинам, что, в случае его избрания, откажется от регентства.
Лет шестьдесят с небольшим тому назад другая королева, по имени Христина{152}, отреклась от трона, чтобы всецело посвятить себя философии. Не знаю, каким из этих двух примеров больше восхищаться.
Хотя я и держусь того мнения, что всякий должен крепко стоять на посту, на который его поставила судьба, и не могу одобрить слабости того, кто, считая себя не удовлетворяющим требованиям, покидает свой пост как дезертир, я все же поражен величием души двух этих принцесс и тем, что одна по своему уму, а другая по сердцу оказались выше своего положения. Христина решила отдаться науке в то время, как прочие думают только об удовольствиях, а другая пожелала наслаждаться жизнью лишь при условии, что все свое счастье она отдаст в руки августейшего супруга.
Из Парижа, месяца Махаррама 27-го дня, 1720 годаПИСЬМО CXL. Рика к Узбеку в ***
Парижский парламент только что сослан{153} в городок, носящий название Понтуаз. Совет послал ему для регистрации или одобрения какое-то позорящее парламент постановление, а парламент зарегистрировал его так, что опозорил совет.
То же угрожает и еще нескольким провинциальным парламентам.
Эти учреждения всегда ненавистны королям: парламенты обращаются к ним только с тем, чтобы высказать им печальную истину, и в то время как толпа придворных беспрестанно расписывает королям, как счастлив народ под их управлением, парламенты опровергают лесть и повергают к подножию трона стенания и слезы, которые им доверяет народ.
Правда — тяжкое бремя, дорогой Узбек, когда ее приходится доводить до государей! Монархам следовало бы понимать, что те, кто решается на это, бывают к этому вынуждены и что они никогда не решились бы на такой печальный для них же самих и прискорбный шаг, если бы ими не повелевал долг, уважение и даже любовь.
Из Парижа, месяца Джеммади 1, 21-го дня, 1720 годаПИСЬМО CXLI. Рика к нему же
Я приеду к тебе в конце недели. Как приятно будут протекать дни с тобою!
Недавно я был представлен придворной даме, которой хотелось познакомиться с иностранцем. Это красивая женщина, достойная взоров нашего монарха и высокого положения в священном убежище, где пребывает его сердце.
Она засыпала меня вопросами о нравах персиян и о нашем образе жизни. Мне показалось, что жизнь в серале не пришлась ей по вкусу и что ее покоробило то, что десять — двенадцать женщин делят между собою одного мужчину. Она позавидовала счастью такого мужа и пожалела его ясен. Она любит читать, особенно стихи и романы, и пожелала, чтобы я рассказал ей о наших писателях. Мой рассказ подстрекнул ее любопытство, и она попросила меня заказать для нее перевод какого-нибудь отрывка из книг, которые я привез с собою. Я исполнил ее желание и несколько дней спустя послал ей персидскую сказку. Может быть, тебе доставит удовольствие прочитать ее в переводе.
Персидская сказка
Во времена Шейх-Али-хана{154} жила-была в Персии женщина по имени Зюлема. Она знала наизусть весь святой Алкоран; она лучше любого дервиша изучила предания о святых пророках; она в совершенстве понимала смысл самых загадочных слов арабских ученых, и со всеми этими знаниями сочетался у нее живой и веселый ум, так что, когда она говорила, нельзя было догадаться, хочет ли она позабавить слушателя, или научить его чему-нибудь.
Однажды, когда Зюлема находилась с подругами в зале сераля, одна из них спросила ее, что она думает о загробной жизни и верит ли старинному учению наших мудрецов о том, что рай предназначен только для мужчин.
«Это общее мнение, — ответила она. — Чего только не делали, чтобы унизить наш пол! Существует даже народ, распространенный по всей Персии и называемый еврейским, который утверждает на основании своих священных книг, что у нас и души-то нет.
Столь обидные мнения проистекают только из мужской гордыни: мужчинам хочется перенести свое превосходство даже за пределы земной жизни, и они не верят, что в день Страшного суда все создания предстанут перед богом во всем своем ничтожестве и у мужчин не будет никаких преимуществ, кроме тех, которые даст им их добродетель.
Бог не будет ограничивать себя в наградах: мужчины, которые прожили жизнь хорошо и не злоупотребили властью, предоставленной им над нами в этой жизни, попадут в рай, полный восхитительных небесных красавиц, до того пленительных, что если бы какой-нибудь смертный их увидел, то, сгорая нетерпением насладиться ими, в тот же миг лишил бы себя жизни. Точно так же и добродетельные женщины попадут в обитель блаженства, где будут упиваться бурным потоком наслаждений в обществе божественных мужчин, которые им будут подчинены: у каждой будет свой сераль, населенный мужьями, а сторожить их будут евнухи, еще более верные, чем наши.
Я читала в одной арабской книге, — прибавила она, — что некто, по имени Ибрагим, отличался несносной ревностью. У него было двенадцать красавиц жен, с которыми он обращался крайне сурово; он не доверял ни стенам сераля, ни евнухам; он держал жен почти всегда под замком, запирал их в покоях, так что они не могли ни видеться, ни говорить друг с другом, ибо он ревновал даже к невинной дружбе. На всех его поступках лежала печать его природной грубости: никогда ласковое слово не срывалось с его уст, и он помышлял только о том, как бы усугубить их неволю.
Однажды, когда он собрал своих жен в зале сераля, одна из них, которая была посмелее, упрекнула его за дурной нрав. „Когда человек всячески выискивает средства внушить женам страх, — сказала она, — он прежде всего достигает того, что его начинают ненавидеть. Мы так несчастны, что поневоле жаждем перемены. Другие на моем месте пожелали бы тебе смерти, а я хочу смерти только себе; я не надеюсь освободиться от тебя иначе, как с помощью смерти, поэтому я умерла бы с наслаждением“. Эти слова, вместо того чтобы растрогать его, привели его в ярость: он выхватил кинжал и вонзил его ей в грудь. „Милые подруги, — сказала она умирающим голосом, — если небо услышит голос моей добродетели, вы будете отомщены“. С этими словами она покинула земную юдоль и перенеслась в обитель услад, где праведные женщины наслаждаются вечным блаженством.
Сначала ей представился очаровательный зеленый луг, испещренный ярчайшими цветами; ручеек, прозрачнее хрусталя, извивался там бесконечной лентой. Потом она вошла в прелестную рощу, тишину которой нарушало только сладкое пение птиц. За рощею представились ее взору великолепные сады: природа украсила их со свойственной ей простотой и величием. Наконец, она нашла приготовленный для нее великолепный дворец, населенный небесными мужчинами, предназначенными для ее наслаждений.
Двое из них принялись ее раздевать, другие отвели в ванну и умастили самыми тонкими благовониями. Потом ей предложили одежду, куда роскошнее ее собственной, после чего повели в большой зал, где она увидела очаг, на котором горели благоуханные ветки, и стол, уставленный самыми изысканными яствами. Все, казалось, соревновалось здесь в том, чтобы содействовать упоению ее чувств: с одной стороны, она слышала божественно-нежные напевы, с другой — видела пляски дивных мужчин, старавшихся лишь о том, чтобы понравиться ей. Однако все эти удовольствия служили только преддверием еще больших наслаждений. Ее отвели в опочивальню и, снова раздев, отнесли в роскошную постель, где двое пленительных мужчин приняли ее в свои объятия. Тут-то испытала она истинное упоение! Блаженство превзошло все ее желания! „Я вне себя, — говорила она, — я бы думала, что сейчас умру, если бы не была уверена в своем бессмертии. Это уж слишком! Оставьте меня: я изнемогаю от наслаждений! Да, вы утолили мою страсть, я начинаю свободно дышать и приходить в себя. Почему унесли светильники? Зачем не могу я теперь любоваться вашей божественной красотой? Зачем не могу видеть... Но зачем видеть? Вы снова погружаете меня в восторги. О боги! Как милы эти потемки! Неужели я буду бессмертна, и бессмертна с вами! Я буду... Нет, пощадите меня; сами вы, как видно, никогда не запросите пощады!“
После неоднократных приказаний они подчинились ей; но подчинились только тогда, когда она действительно этого захотела. Она томно предалась отдыху и заснула в их объятиях. Несколько мгновений сна рассеяли ее усталость: внезапно два поцелуя воспламенили ее, и она открыла глаза. „Я беспокоюсь, — сказала она, — я боюсь, что вы разлюбили меня“. Ей не хотелось долго мучиться сомнениями, и она сейчас же получила все разъяснения, какие только могла желать. „Вы меня успокоили, — воскликнула она. — Простите! Простите! Теперь я уверена в вас. Вы ничего мне не говорите, зато доказываете мне все лучше всяких слов. Да, да, признаюсь вам: так меня никто не любил. Но что это? Вы оспариваете друг у друга честь убедить меня? Ах! Если вы станете соревноваться, если к удовольствию победы надо мною прибавите еще и честолюбие, то я погибла: вы оба будете победителями, а побежденной буду я одна; но я дорого продам вам победу“.
Все это прекратилось только с рассветом. Верные и заботливые слуги вошли в опочивальню и подняли с постели обоих юношей; два старика отвели их в то помещение, где они содержались для ее удовольствий. Затем встала и она и появилась перед боготворящей ее свитой сперва во всей прелести утреннего наряда, а потом в самом роскошном уборе. За эту ночь она похорошела: цвет лица у нее посвежел, все прелести приняли особую выразительность. День прошел в плясках, пении, пирах, играх, прогулках, и все заметили, что Анаис время от времени исчезает и устремляется к своим двум юным героям. После нескольких драгоценных минут свидания она возвращалась к покинутому обществу, и всякий раз лицо ее становилось светлее. Наконец, под вечер, она совсем пропала. Она заперлась в серале, где, по ее словам, хотела познакомиться с бессмертными пленниками, которым предстоит вечно жить подле нее. Она заглянула в самые отдаленные и самые очаровательные покои дворца и насчитала там пятьдесят рабов поразительной красоты; всю ночь пробродила она из комнаты в комнату, всюду встречая поклонение, всегда различное и в то же время одинаковое.
Так-то и проводила жизнь бессмертная Анаис, — то среди блистательных удовольствий, то в сокровенных наслаждениях, то ее встречало восторгами блестящее общество, то ласкал обезумевший от страсти любовник. Часто покидала она свой волшебный дворец и уходила в сельский грот; казалось, цветы вырастали у ее ног и всевозможные забавы во множестве устремлялись ей навстречу.
Прошло уже больше недели с тех пор, как она поселилась в этой блаженной обители, а она все еще была вне себя и ни о чем не думала. Она наслаждалась счастьем, сама того не сознавая, и ни разу ни на мгновение не ведала она того покоя, когда душа, так сказать, отдает себе отчет в пережитом и прислушивается к себе в молчании страстей.
Блаженные упиваются удовольствиями столь живыми, что им редко приходится пользоваться этой свободой духа. Поэтому они совершенно забывают о прошлом, будучи непреодолимо прикованы к настоящему, и совсем перестают вспоминать о том, что знали или любили во время своего земного бытия.
Однако Анаис, обладавшая настоящим философским умом, почти всю жизнь провела в размышлениях: мысль ее заходила куда дальше, чем можно было бы ожидать от женщины, предоставленной самой себе. Строгое затворничество, на которое обрек ее муж, оставило ей одно только это преимущество. Именно благодаря своему сильному уму она презрела страх, коим охвачены были ее подруги, и не побоялась смерти, которая положила конец ее страданиям и начало блаженству.
Итак, она мало-помалу освободилась от хмеля наслаждений и уединилась в один из дальних покоев дворца. Она предалась сладким думам о своей прошлой жизни и о настоящем блаженстве, и не могла не растрогаться при мысли о горестной доле своих подруг: люди всегда чувствительны к мучениям, которые сами перенесли. Анаис не ограничилась простым сочувствием: она загорелась желанием помочь подругам.
Она приказала одному из состоявших при ней юношей принять облик ее мужа, отправиться в его сераль, захватить последний, выгнать оттуда хозяина и оставаться на его месте до тех пор, пока она его не отзовет обратно.
Исполнение не заставило себя ждать: юноша ринулся в воздушное пространство и прилетел к дверям сераля Ибрагима, которого в это время там не было. Посланец стучит: все двери перед ним раскрываются, евнухи падают к его ногам; он устремляется к покоям, где заперты жены Ибрагима; по дороге, став невидимым, он вынимает у ревнивца из кармана ключи. Он входит и прежде всего поражает женщин своим ласковым и приветливым видом, а вскоре затем удивляет их еще больше усердием, проворством и предприимчивостью. Всем им по очереди пришлось изумляться, и они сочли бы это за сон, если бы явь не была так очевидна.
В то время как эти непривычные события разыгрывались в серале, Ибрагим стучится, называет свое имя, бушует и кричит. Преодолев все препоны, он входит и повергает евнухов в крайнее замешательство. Он бросается дальше, но вдруг отступает и точно сваливается с облаков при виде Лже-Ибрагима, своей точной копии, пользующегося всеми правами хозяина. Он зовет на помощь, требует, чтобы евнухи помогли ему убить самозванца, но они не повинуются. У него остается только одно, весьма слабое средство: обратиться к суду своих жен. Но Лже-Ибрагим в один час ублажил всех его судей. Тогда настоящего Ибрагима прогоняют, с позором выталкивают из сераля; его непременно умертвили бы, если бы соперник не повелел сохранить ему жизнь. Оставшись победителем на поле битвы, новый Ибрагим все больше и больше доказывал, что вполне достоин выбора, и проявил себя неведомыми дотоле чудесами.
„Ты не похож на Ибрагима“, — говорили женщины. „Скажите лучше, что этот самозванец не похож на меня, — отвечал торжествующий Ибрагим. — Что же еще нужно делать, чтобы быть вашим супругом, если того, что делаю я, недостаточно?“ — „Ах! Мы ничуть не сомневаемся, — сказали женщины. — Если ты и не Ибрагим, то с нас хватит того, что ты вполне заслуживаешь право быть им: ты за один день оказался больше Ибрагимом, чем он был им на протяжении десяти лет“. — „Стало быть, вы обещаете, — подхватил юноша, — что предпочтете меня этому самозванцу?“ — „Будь уверен, — ответили они в один голос, — клянемся тебе в вечной верности; нас слишком долго обманывали; негодяй и не подозревал наших достоинств, он только сознавал свою слабость. Мы теперь отлично видим, что мужчины вовсе не так созданы, как он; несомненно, они похожи именно на тебя. Если бы ты знал, как мы его теперь ненавидим благодаря тебе!“ — „Ах! Я еще не раз дам вам повод ненавидеть его, — сказал Лже-Ибрагим, — вы еще не представляете себе, сколько он вам наделал вреда“. — „Мы заключаем о его несправедливости по силе нашего мщения“, ответили они. „Да, вы правы, — сказал небесный человек, — я соразмерил искупление с виною и очень рад, что вы довольны тем, как я наказываю“. — „Но что же нам делать, — спросили женщины, — если самозванец вернется?“ — „Мне думается, что ему теперь трудно будет вас обмануть, — ответил он. — Место, которое я занимаю подле вас, хитростью не займешь, а кроме того, я прогоню его так далеко, что вы никогда о нем больше и не услышите. На будущее время заботу о вашем счастье я беру на себя; я не буду ревнив; я сумею охранять свою честь, не стесняя вас; я достаточно хорошего мнения о собственных достоинствах, чтобы верить, что вы будете мне верны. Уж если и со мною вы не станете добродетельны, то с кем же?“
Долго продолжался такой разговор между ним и женщинами, которые больше дивились разнице между двумя Ибрагимами, чем их сходству; они были до того поражены, что даже не стремились уяснить себе такие чувства. Наконец, отчаявшийся муж вернулся и снова вызвал переполох. Он застал в своем доме безудержное ликование, а жен нашел еще недоверчивее, чем раньше. Этого ревнивец не мог выдержать, он в бешенстве ушел, а Лже-Ибрагим бросился ему вслед, схватил его и перенес по воздуху на расстояние в две тысячи миль.
О боги! В каком же отчаянии были жены, пока отсутствовал их дорогой Ибрагим! Евнухи уже снова вернулись к своей обычной строгости; весь дом был в слезах; женам казалось порою, что все случившееся — только сон; они глядели друг на друга и припоминали малейшие подробности этих странных приключений. Наконец, небесный Ибрагим возвратился, еще более любезный; они поняли, что путешествие ничуть не утомило его. Поведение нового господина настолько отличалось от поведения старого, что все соседи диву давались. Он прогнал всех евнухов, распахнул двери своего дома для всех, и даже не хотел, чтобы его жены носили покрывала. Странно было видеть, как они пируют среди мужчин и пользуются такой же свободой. Ибрагим правильно рассудил, что обычаи страны созданы не для таких граждан, как он. В то же время он не отказывал себе ни в каких прихотях; он с неимоверной щедростью расточал имущество ревнивца, и когда тот три года спустя вернулся из отдаленной местности, куда был перенесен, он нашел у себя дома только своих жен да тридцать шесть человек детей».
Из Парижа, месяца Джеммади 1, 26-го дня, 1720 года
ПИСЬМО CXLII. Рика к Узбеку в ***
Вот письмо, полученное мною вчера от одного ученого: оно позабавит тебя.
«Милостивый государь!
Полгода тому назад я получил в наследство от очень богатого дяди около шестисот тысяч ливров и превосходно обставленный дом. Приятно владеть состоянием, когда знаешь, как употребить его с пользой. Я не честолюбив и не склонен к развлечениям: я сижу взаперти в своем кабинете и веду жизнь ученого. Именно тут найдете вы любознательного ценителя почтенной древности.
Когда мой дядя скончался, мне очень хотелось похоронить его по обрядам, принятым у древних греков и римлян, однако в то время у меня не было под рукой ни слезниц, ни урн, ни античных светильников.
Но с тех пор я уже обзавелся этими драгоценными редкостями. Несколько дней тому назад я продал всю серебряную посуду, чтобы приобрести глиняную лампу, некогда служившую философу-стоику. Я расстался с зеркалами, которые мой дядя развесил по стенам всех своих покоев, и купил маленькое, надтреснутое зеркальце, служившее в древности Вергилию. Я прихожу в восторг, когда мое лицо отражается там, где некогда отражался лик мантуанского лебедя{155}. Это еще не все: я купил за сто луидоров пять-шесть медных монет, бывших в обращении две тысячи лет назад. Теперь в моем доме не найдется ни одного предмета обстановки, который бы не был сделан еще до падения Римской империи. У меня есть небольшое собрание редких и драгоценных рукописей. Я гублю свое зрение, читая их, но все же предпочитаю их печатным изданиям, которые далеко не так исправны и, кроме того, доступны всем и каждому. Я почти не выхожу из дому, и все же увлекаюсь изучением древних дорог, существовавших во времена римлян. Неподалеку от моего дома есть такая дорога; некий проконсул Галлии провел ее приблизительно тысячу двести лет тому назад; отправляясь к себе в деревню, я никогда не упускаю случая проехать по ней, хотя она очень неудобна и удлиняет путь больше чем на милю. Но меня прямо-таки приводит в бешенство, что на ней расставили, через известные промежутки, деревянные столбы с обозначением расстояния до соседних городов; я прихожу в отчаяние, когда вижу эти жалкие указатели вместо милиариев, стоявших там когда-то: я непременно поручу своим наследникам восстановить их и выделю в завещании соответствующую сумму. Если у вас, сударь, имеется какая-нибудь персидская рукопись, сделайте мне удовольствие и доставьте мне ее: я заплачу, сколько скажете, и сверх того предложу вам несколько произведений моего пера, благодаря которым вы убедитесь, что я отнюдь не бесполезный гражданин литературной республики. Среди них вы увидите трактат, где я доказываю, что венок, которым пользовались некогда во время триумфов, сплетался из веток дуба, а не лавра. Вы оцените и другой мой труд, в котором я доказываю путем ученых выкладок, извлеченных из сочинений наиболее почтенных греческих авторов, что Камбиз был ранен в левую, а не в правую ногу, и третье сочинение, где я привожу доказательства, что низкий лоб считался у римлян признаком изысканной красоты. Я пришлю вам также том in-quarto, содержащий объяснение одного стиха из шестой песни „Энеиды“ Вергилия. Все это вы получите через несколько дней, а сейчас я ограничиваюсь посылкой неизданного отрывка из некоего древнегреческого мифолога, который я обнаружил в недрах старинной библиотеки. Оставляю вас для не терпящего отлагательства дела: мне нужно восстановить одно прекрасное место в сочинении Плиния-натуралиста, которое чудовищно исказили переписчики пятого века.
Имею честь быть, и проч.».
Отрывок из сочинения древнегреческого мифолога
На острове неподалеку от Оркад родился ребенок{156}, отцом которого был бог ветров Эол, а матерью каледонская нимфа. Рассказывают, что он совершенно самостоятельно научился считать по пальцам, а в возрасте четырех лет так превосходно различал металлы, что когда мать дала было ему вместо золотого латунное кольцо, он заметил обман и швырнул кольцо наземь.
Когда он подрос, отец обучил его секрету загонять ветры в бурдюки, и он стал продавать их путешественникам. Но на этот товар не было большого спроса у него на родине; поэтому он покинул ее и пустился по свету в сопровождении слепого бога Случая.
Во время своих скитаний он узнал, что в Бетике{157} повсюду блестит золото, и устремился туда. Сатурн{158}, правивший в то время, оказал ему довольно сухой прием. Но когда этот бог покинул землю, молодой человек стал появляться на перекрестках и, не переставая, кричать хриплым голосом: «Народы Бетики! Вы считаете себя богачами, потому что у вас есть золото и серебро. Весьма скорблю о вашем заблуждении. Поверьте мне: покиньте страну презренных металлов, переселитесь в царство Воображения, и я обещаю вам такие сокровища, что вы придете в изумление». Тотчас же развязал он несколько принесенных с собою бурдюков и раздал свой товар желающим.
На другой день он появился у тех же перекрестков и стал кричать: «Народы Бетики! Хотите быть богатыми? Вообразите себе, что и я и вы очень богаты: каждое утро представляйте себе, что за ночь ваше богатство удвоилось; потом вставайте, и если у вас есть кредиторы, платите им, черпая из той сокровищницы, что вам вообразилась, и говорите им, чтобы и они ее себе вообразили».
Через несколько дней он появился снова и заговорил так: «Народы Бетики! Я вижу, что ваше воображение уже не так живо, как в первые дни. Предоставьте же моему воображению руководить вами. Каждое утро я стану показывать вам объявление, которое будет служить для вас источником богатств. Объявление это будет содержать в себе только два слова, зато они будут полны глубокого значения, ибо умножат приданое ваших жен, наследство ваших детей, содержание ваших слуг. А что касается вас, — обратился он к тем из толпы, кто стоял подле него, — то, возлюбленные дети мои (я имею право называть вас так, потому что благодаря мне вы как бы вторично родились), мое объявление обеспечит великолепие ваших колесниц, роскошь ваших пиров, многочисленность и благосостояние любовниц».
Еще через несколько дней он прибежал, запыхавшись, к перекрестку и, вне себя от гнева, вскричал: «Народы Бетики! Я советовал вам воображать, но вижу, что вы этого не делаете. Хорошо же! Теперь я вам приказываю». Сказав это, он внезапно ушел, но одумался и вернулся. «Я узнал, что некоторые из вас настолько подлы, что припрятали свое золото и серебро. Серебро еще куда ни шло; но золото! Золото! Ах! Это возмущает меня до глубины души! Клянусь священными своими бурдюками, что если вы не принесете мне его, я строго вас накажу»{159}. Затем он прибавил весьма внушительно: «Может быть, вы думаете, что я прошу у вас эти презренные металлы, чтобы присвоить их себе? Свидетельством моей искренности является хотя бы то, что когда вы принесли их мне несколько дней тому назад, я тот час же вернул вам половину».
На другой день его завидели еще издалека. Он заговорил тихо и вкрадчиво: «Народы Бетики! Я узнал, что часть своих сокровищ вы держите за границей. Прошу вас: доставьте их мне{160}. Вы сделаете мне этим большое удовольствие и обяжете меня вечной признательностью».
Сын Эола говорил все это людям, которым было вовсе не до смеха; все-таки они не могли не рассмеяться, так что он отвернулся в большом смущении. Но, собравшись с духом, он отважился обратиться к ним с еще одной маленькой просьбой: «Я знаю, что у вас есть драгоценные камни{161}. Заклинаю вас Юпитером, расстаньтесь с ними. Ничто так не разоряет вас, как такого рода вещи. Расстаньтесь с ними, говорю вам! Если вы не можете сделать это сами, то я указку вам отличных дельцов. Какие богатства посыплются на вас, если вы последуете моему совету! Да, обещаю вам все наилучшее, что только есть в моих бурдюках».
Наконец, он взошел на подмостки и заговорил более уверенным голосом: «Народы Бетики! Я сравнил счастливое положение, в котором вы сейчас находитесь, с тем, в каком вы были, когда я явился сюда, и вижу, что вы богатейший народ на свете. Но для полноты вашего благополучия позвольте мне взять у вас половину ваших богатств»{162}. С этими словами сын Эола исчез, взмахнув крылами, и оставил слушателей в невыразимом смущении. На другой день он вернулся и сказал им: «Я заметил, что моя вчерашняя речь вам не особенно понравилась. Ну, хорошо: считайте, что я ничего вам не говорил{163}. Правда, половина богатств — маловато. Чтобы достичь поставленной мною цели, достаточно прибегнуть к другим средствам. Соберем все наши богатства в одно место: сделать это нетрудно, так как богатств немного». И тотчас три четверти их бесследно исчезло{164}.
Из Парижа, месяца Шахбана 9-го дня, 1720 годаПИСЬМО CXLIII. Рика к Нафанаилу Леви, еврейскому врачу, в Ливорно
Ты спрашиваешь меня, что я думаю о свойствах амулетов и о могуществе талисманов. Почему ты обращаешься ко мне? Ты еврей, а я магометанин: стало быть, мы оба достаточно легковерны.
Я всегда ношу при себе более двух тысяч изречений из святого Алкорана; я привязываю к рукам свиточек с именами более чем двухсот дервишей, а имена Али, Фатимы и всех праведников запрятаны в моей одежде в двадцати с лишним местах.
Однако я не осуждаю тех, кто отвергает значение, приписываемое известным словам: нам гораздо труднее возразить на их соображения, чем им опровергнуть наш опыт.
Я ношу при себе эти священные лоскутки бумаги по давней привычке и в соответствии с общепринятым обычаем: мне кажется, что если в них не больше ценности, чем в кольцах и в других украшениях, которыми обвешивают себя люди, то и не меньше. Но ты-то ведь целиком полагаешься на некоторые таинственные письмена и без их охраны пребывал бы в вечном страхе.
Как несчастны люди! Беспрестанно колеблются они между ложными надеждами и нелепыми страхами и, вместо того чтобы опираться на разум, придумывают себе чудовища, которых сами же боятся, или призраки, которые их обольщают.
Какого действия ожидаешь ты от расположения известных букв? Что, по-твоему, может произойти от нарушения их порядка? Разве эти буквы имеют какое-нибудь отношение к ветрам, чтобы утишать бури? Или к пороху, чтобы устранять его действие? Или к тому, что в медицине называется злокачественными соками и болезнетворными началами, чтобы излечивать от них?
Все удивительнее то, что людям, которые утруждают свой разум, принуждая его связывать те или иные события с действием оккультных свойств, приходится делать не меньше усилий, чтобы не видеть настоящую их причину.
Ты возразишь мне, что не раз чудеса помогали выигрывать битвы, а я тебе отвечу, что надо быть слепым, чтобы в топографических условиях, в численности или в мужестве солдат, в опытности военачальников не увидеть достаточных оснований для той самой победы, истинных причин которой ты не хочешь признавать.
Соглашусь с тобой на минуту, что чудеса действительно существуют. Согласись и ты на минуту, что их вовсе не бывает, — ведь это не невозможно. Твоя уступка не помешает двум армиям сразиться между собою: или ты полагаешь, что в таком случае ни одна из них не одержит победы? Думаешь ли ты, что до тех пор, пока не явится какая-то невидимая сила, судьба их останется нерешенной и все удары будут нанесены зря, вся предусмотрительность окажется тщетной, все мужество — бесполезным? Думаешь ли ты, что смерть, являющаяся во множестве видов, не может в таких обстоятельствах вызвать в умах тот панический ужас, который тебе так трудно объяснить? Или, по-твоему, в стотысячной армии не бывает ни одного малодушного? Думаешь ли ты, что паника, проявленная одним, не может вызвать паники у другого, и когда второй бросит на произвол судьбы третьего, то этот третий не бросит четвертого? А этого вполне достаточно, чтобы вся армия внезапно отчаялась в победе, и тут уж панический страх охватит ее тем легче, чем она многочисленнее.
Все знают и все чувствуют, что люди, как и вообще все создания, стремящиеся к самосохранению, страстно любят жизнь. Это известно всем, а между тем доискиваются, почему это в данном частном случае люди побоялись ее потерять.
Хотя священные книги всех народов переполнены этими паническими или сверхъестественными страхами, мне трудно представить себе что-либо более легкомысленное: ведь чтобы убедиться, что какое-нибудь действие, которое может быть произведено сотней тысяч естественных причин, на самом деле сверхъестественно, нужно предварительно исследовать, не действовала ли в данном случае одна из этих многих естественных причин, — а исследовать это невозможно.
Больше я ничего тебе не скажу, Нафанаил: мне кажется, что предмет этот не заслуживает серьезного рассмотрения.
Из Парижа, месяца Шахбана 20-го дня, 1720 годаР.S. Когда я заканчивал это письмо, до меня донесся с улицы крик коробейника: он предлагал письмо какого-то провинциального лекаря к парижскому (ибо здесь печатаются, выпускаются в свет и продаются всякие безделицы). Я решил, что хорошо будет послать его тебе, потому что оно имеет прямое отношение к нашему предмету.
Письмо провинциального врача к врачу парижскому
В нашем городе был больной, который не спал ни минуты целых тридцать пять суток. Врач прописал ему опиум, но больной не мог решиться принять его: возьмет в руки рюмку и опять сомневается. Наконец, он сказал врачу: «Сударь, прошу у вас отсрочки только до завтра: я знаю человека, который хоть и не занимается медициной, но держит у себя множество лекарств от бессонницы. Разрешите мне послать за ним, а если и в эту ночь я не засну, то обещаю вам вновь прибегнуть к вашей помощи». Когда врач уехал, больной приказал опустить занавески и сказал лакею: «Ступай-ка к господину Анису и попроси его зайти ко мне». Господин Анис является. «Дорогой господин Анис! Я умираю не могу уснуть. Нет ли у вас в лавке книги по М.Г.{165} или благочестивой книжки сочинения какого-нибудь С.О.И.{166}, которой вам не удалось продать? Ведь часто лекарства, которые долго настаиваются, оказываются наилучшими». «Сударь, — ответил книгопродавец, — у меня есть к вашим услугам „Святой двор“ отца Коссена{167}, в шести томах; я сейчас пришлю их вам; от души желаю, чтобы они вам помогли. Если вам угодно получить сочинения святого отца Родригеса{168}, испанского иезуита, то только скажите. Но, поверьте, остановимся на отце Коссене: я надеюсь, что с божьей помощью одна фраза отца Коссена произведет на вас такое же действие, как целая страница М.Г.». С этими словами господин Анис вышел и побежал в свою лавку за лекарством. «Святой двор» был принесен, с него стерли пыль; сын больного, мальчик-школяр, принялся читать его вслух. Он первый почувствовал на себе действие книги: уже со второй страницы мальчуган стал произносить слова невнятно, а вся остальная компания почувствовала какую-то расслабленность. Минуту спустя все храпели, за исключением больного, но и он после долгих попыток в конце концов тоже заснул.
Рано утром явился врач. «Ну что, принял больной опиум?» Ему не отвечают. Жена, дочь, сын — все вне себя от радости, показывают ему отца Коссена. Он спрашивает, что это такое. Ему отвечают: «Да здравствует отец Коссен! Нужно отдать его в переплет. Ну, кто бы сказал? Кто бы поверил? Это просто чудо! Смотрите, сударь! Поглядите же на отца Коссена: этот том помог нашему отцу уснуть». И затем врачу рассказали, как все это произошло.
ПИСЬМО CXLIV. Узбек к Рике
Несколько дней тому назад я побывал на даче и встретил там двух ученых, пользующихся здесь большою славой. Их повадки немало меня удивили. Речь первого в сущности сводилась к следующему: «То, что я сказал, — истина, потому что я сказал это». Речь его коллеги сводилась к другому: «То, чего я не говорил, не истина, потому что я не говорил этого».
Мне больше понравился первый, ибо мне совершенно безразлично, если кто-нибудь упрям, а вот если он нахален, это уже имеет для меня большое значение. Первый защищает свои взгляды, они — его достояние. Второй нападает на мнения других, а это уж — достояние общее.
О любезный мой Рика, как плохо служит тщеславие тем, кто обладает им в большей мере, чем это необходимо для самосохранения: такие люди желают, чтобы ими восхищались на том основании, что они всем неприятны. Они притязают быть выше других, а между тем даже и не равны им.
Скромные люди! Придите ко мне, дайте мне обнять вас! Вы составляете усладу и привлекательность жизни. Вы думаете, что никого собою не пристыжаете, а на самом деле пристыжаете всех. И когда я мысленно сравниваю вас с теми совершенствами в человеческом образе, которых встречаю на каждом шагу, я сбрасываю их с пьедестала и повергаю к вашим ногам.
Из Парижа месяца Шахбана 22-го дня, 1720 годаПИСЬМО CXLV. Узбек к ***
Умный человек обычно бывает разборчив в отношении общества; он избирает для себя немногих; ему скучно со всей той массой людей, которую он привык называть дурным обществом; поэтому невозможно, чтобы он так или иначе не выказал своего отвращения. А от этого у него множество врагов.
Будучи уверен, что он может понравиться всегда, стоит ему только захотеть, он этим часто пренебрегает.
Он склонен к критике, потому что видит и чувствует многое лучше, чем кто-либо другой.
Он почти всегда расточает свое имущество, потому что ум подсказывает ему для этого множество различных способов.
Он терпит крах в своих предприятиях, потому что на многое отваживается. Его взор, заглядывающий всегда далеко, открывает ему предметы, находящиеся на слишком большом расстоянии, не говоря уже о том, что, когда у него возникает какой-нибудь замысел, его меньше поражают трудности, заключающиеся в самой природе данного дела, чем заботят средства, которые зависят от него и которые он извлекает от своих собственных запасов.
Он пренебрегает мелкими подробностями, от которых, однако, зависит успех почти всех больших предприятий.
Напротив, человек посредственный старается из всего извлечь пользу, он сознает, что не может позволить себе пренебрегать чем бы то ни было.
Всеобщее одобрение бывает обыкновенно на стороне такого среднего человека. Ему всякий рад дать, и всякого же восхищает возможность отнять что-нибудь у человека выдающегося. Над одним тяготеет зависть, и ему ничего не прощают, тогда как в пользу другого делается все: тщеславие становится на его сторону.
Но если просто умному человеку приходится переносить столько невзгод, то что же сказать о тяжелом положении ученых?
Всякий раз, как я задумываюсь над этим, мне вспоминается письмо, написанное одним из них к своему другу. Вот оно:
«Милостивый государь!
Я занимаюсь целые ночи тем, что наблюдаю с помощью тридцатифутовой зрительной трубы те огромные тела, которые вращаются у нас над головой, а когда мне хочется отдохнуть, беру микроскоп и рассматриваю какого-нибудь клеща или моль.
Я небогат, и у меня только одна комната, которую я даже не решаюсь отапливать, ибо в ней помещается мой термометр, а посторонняя теплота повлияла бы на его показания. В прошлую зиму я чуть было не умер от холода, и хотя мой термометр, стоявший на самом нижнем делении, предупреждал меня, что руки у меня сейчас замерзнут, я нисколько не смущался. Зато я утешаюсь тем, что точно изучил малейшие изменения погоды за весь прошлый год.
Я мало с кем общаюсь и незнаком ни с кем из людей, которых вижу. Но есть один человек в Стокгольме, другой в Лейпциге, третий в Лондоне, которых я никогда не видел и несомненно никогда не увижу, но с которыми я поддерживаю такую деятельную переписку, что не пропускаю ни одного курьера, чтобы не послать с ним письма.
Но хотя я никого и не знаю в своем околотке, за мною упрочилась такая дурная слава, что я вынужден буду уехать отсюда. Лет пять тому назад меня грубо оскорбила соседка за то, что я анатомировал собаку, которая, по ее словам, принадлежала ей. Жена мясника, слышавшая ее обвинения, стала на ее сторону, и в то время как первая осыпала меня отборной бранью, другая начала швырять камнями в меня и в бывшего со мною доктора Л., причем он получил ужасный удар в лобную и затылочную кости, отчего вместилище его разума было сильно потрясено.
С тех пор, как только исчезнет какая-нибудь собака, сейчас же решают, что она попала ко мне в руки. На днях некая добросердечная мещанка, где-то потерявшая свою собачонку, которую, по ее словам, она любила больше собственных детей, явилась ко мне и упала в обморок; не обнаружив у меня собаки, она притянула меня к суду. Я, кажется, никогда не избавлюсь от докучливой злобы этих женщин, они беспрестанно оглушают меня своими визгливыми голосами, своими надгробными речами над всеми собаками, умершими за последние десять лет.
Имею честь быть, и т.д.».
Некогда всех ученых обвиняли в колдовстве. Меня это нисколько не удивляет. Каждый рассуждал про себя: «Я развил свои природные дарования насколько это было возможно, а между тем такой-то ученый имеет преимущества предо мною: очевидно, тут вмешалась какая-то чертовщина».
В наше время, когда подобные обвинения потеряли убедительность, принялись за другое: ученому никак не удается избежать упреков в безбожии или ереси. И даже если народ даст ему полное отпущение грехов, все равно рана нанесена: она никогда не закроется и навсегда останется его больным местом. Лет тридцать спустя какой-нибудь соперник скажет ему со смиренным видом: «Взведенное на вас обвинение не было справедливо, — боже избави! — но все же вам пришлось оправдываться...» Так обращают против него даже его оправдание!
Если он пишет какую-нибудь историю и притом наделен благородством ума и прямотою сердца, то против него возбуждают всяческие преследования. На него натравят власть предержащую за какой-нибудь факт, случившийся тысячу лет назад, и постараются наложить оковы на его перо, если оно не продажно. Однако он все же счастливее тех подлых людей, которые отрекаются от своих убеждений ради ничтожной пенсии, причем за каждый из своих обманов в отдельности не выручают и полушки; которые ниспровергают государственное устройство, умаляют права одной власти и увеличивают права другой; дают государям, отнимают у народов; воскрешают устарелые права; льстят страстям, распространенным в их время, и порокам, пробравшимся на трон, и обманывают потомство тем более недостойным образом, что оно располагает меньшими возможностями опровергнуть их свидетельства.
Но мало того, что ученый испытывает все эти оскорбления, мало того, что он находится в состоянии постоянного беспокойства по поводу успеха своего произведения: когда, наконец, в один прекрасный день это сочинение, так дорого ему обошедшееся, выходит из печати, на него со всех сторон начинают сыпаться нападки. А как их избежать? У человека сложилось известное мнение, он выразил его в своем сочинении, не зная, что в двухстах милях оттуда другой ученый высказал взгляды, совершенно противоположные. И вот между ними начинается война.
Если бы он еще мог надеяться заслужить некоторое уважение! Нет: в лучшем случае его уважают только те, кто занят той же отраслью науки, что и он. Философ свысока глядит на человека, у которого голова набита фактами, а на него, в свою очередь, смотрит как на фантазера тот, кто обладает хорошей памятью.
Что касается людей, сделавших своим ремеслом спесивое невежество, то им бы хотелось, чтобы весь род людской был погружен в полное забвение, какое постигнет их самих.
Человек, лишенный всякого таланта, вознаграждает себя тем, что презирает его: этим он устраняет препятствие, стоящее между ним и заслуженным уважением, и таким образом оказывается на одном уровне с теми, чьи труды его раздражают.
Наконец, к нелестной репутации ученых нужно прибавить еще и другие неприятности: отказ от удовольствий и потерю здоровья.
Из Парижа, месяца Шахбана 20-го дня, 1720 годаПИСЬМО CXLVI. Узбек к Реди в Венецию
Давно уже было сказано, что добросовестность — душа хорошего министра.
Частные лица могут наслаждаться своим незаметным положением: они роняют себя во мнении только нескольких людей, от других же они укрыты. Но у министра, погрешившего против честности, столько же свидетелей, столько же судей, сколько людей состоит под его управлением.
Осмелюсь ли сказать? Величайшее зло, причиняемое нечестным министром, состоит не в том, что он дурно служит своему государю и разоряет народ, а в том, что он подает дурной пример, — а это, полагаю я, в тысячу раз опаснее.
Ты знаешь, что я долго путешествовал по Индии. Я видел там народ, великодушный от природы, но быстро развратившийся, от самого последнего из подданных до самого высокопоставленного, благодаря дурному примеру, подданному одним министром. Я видел там, как целый народ, испокон веков отличавшийся великодушием, честностью, душевной чистотой и добросовестностью, внезапно сделался последним из народов; как зло распространялось, не щадя даже наиболее здоровых членов; как самые добродетельные люди совершали недостойные поступки и попирали самые основные начала справедливости под тем пустым предлогом, что они были попраны в отношении их самих.
Они ссылались на отвратительные законы в оправдание самых подлых действий и называли необходимостью несправедливость и вероломство.
Я видел, как подорвана была вера в нерушимость договоров, как попраны были священнейшие соглашения, как нарушены были все семейные законы. Я видел, как алчные должники, — эти недостойные орудия свирепых законов и сурового времени, — гордясь своей наглой нищетой, притворялись, будто платят долг, а на самом деле вонзали нож в грудь своих благодетелей.
Я видел, как другие, еще более недостойные, покупали почти даром или, вернее, попросту подбирали с земли дубовые листья и подменяли ими пропитание вдов и сирот.
Я видел, как внезапно во всех сердцах зародилась неутолимая жажда богатства. Я видел, как в одно мгновение создался отвратительный заговор с целью разбогатеть не при помощи честного труда и благородной изобретательности, но путем разорения монарха, государства и сограждан.
В это лихое время я видел, как честный гражданин не ложился спать иначе, как со словами: «Сегодня я разорил одно семейство, завтра пущу по миру другое».
«Я хожу, — говорил другой, — с черным человеком, несущим чернильницу в руке и отточенную железку за ухом, чтобы убивать всех, кому я чем-либо обязан».
Третий говорил: «Дела мои идут на лад. Правда, когда три дня тому назад я расплатился с кредитором, я оставил там целую семью в слезах, обратил в ничто приданое двух честных девушек, лишил образования сынишку. Отец их умрет с горя, мать изнывает с тоски; но я не сделал ничего такого, что не было бы дозволено законом».
Может ли быть преступление больше того, какое совершает министр, когда он развращает нравы целого народа, оскверняет самые благородные души, лишает блеска человеческие достоинства, помрачает самую добродетель и подвергает общему презрению даже наиболее прославленные имена?
Что скажет потомство, когда ему придется краснеть от стыда за своих отцов? Что скажет молодое поколение, когда сравнит железо своих предков с золотом тех, кому оно непосредственно обязано жизнью? Я не сомневаюсь, что дворяне вычеркнут из своих родословных это недостойное, позорящее их звено и оставят нынешнее поколение в том ужасающем ничтожестве, в которое оно впало по собственной вине.
Из Парижа, месяца Рамазана 11-го дня, 1720 годаПИСЬМО CXLVII. Главный евнух к Узбеку в Париж
Положение у нас стало совершенно невозможным: твои жены вообразили, будто в твое отсутствие им предоставлена полная безнаказанность. Здесь происходят ужаснейшие вещи. Я содрогаюсь при мысли о жестоком отчете, который собираюсь представить тебе.
Несколько дней тому назад Зели, отправляясь в мечеть, откинула покрывало и появилась перед всем народом почти что с открытым лицом.
Я застал Заши в постели с одной из ее рабынь, — она позволила себе нарушить строжайший закон сераля.
Благодаря исключительному случаю я перехватил прилагаемое при сем письмо: мне так и не удалось установить, кому оно было предназначено.
Вчера вечером в саду сераля был обнаружен какой-то юноша, но он перелез через стену и убежал.
Прибавь к этому еще и все то, что могло остаться мне неизвестным; ибо нет сомнений, что тебе изменяют. Жду твоих приказаний, а впредь до счастливого часа, когда я их получу, я буду жить в смертельной тревоге. Но если ты не предоставишь мне поступать с этими женщинами по моему усмотрению, я не отвечаю ни за одну из них, и мне каждодневно придется сообщать тебе такие же печальные новости, как сегодня.
Из испаганского сераля, месяца Реджеба 1-го дня, 1717 годаПИСЬМО CXLVIII. Узбек к главному евнуху в испаганский сераль
Настоящим письмом вручаю тебе безграничную власть над всем сералем; распоряжайся так же полновластно, как делал бы я сам. Пусть страх и трепет сопутствуют тебе; поспешай из покоя в покой, наказывая и карая. Пусть все пребывают в ужасе; пусть все исходят слезами перед тобой. Допроси весь сераль; начни с рабынь. Не считайся с моей любовью; пусть все без исключения пройдут перед твоим грозным судом. Раскрой самые сокровенные тайны. Очисти это нечестивое место и верни в него изгнанную добродетель; с этой минуты на твою голову падут малейшие проступки, которые будут там совершены. Я подозреваю, что перехваченное тобою письмо предназначалось Зели. Рассмотри все это глазами рыси.
Из ***, месяца Зильхаже 11-го дня, 1718 годаПИСЬМО CXLIX. Нарсит к Узбеку в Париж
Блистательный повелитель! Главный евнух умер. Как старейший из твоих рабов, я заступил его место до тех пор, пока ты не соблаговолишь сообщить, на кого пал твой выбор.
Два дня спустя после его смерти мне подали твое письмо, присланное на его имя. Я не осмелился вскрыть его; я его благоговейно завернул и запер в ожидании, когда ты сообщишь мне свою священную волю.
Вчера, посреди ночи, меня разбудил раб и сказал, что обнаружил в серале какого-то юношу. Я встал, разобрался в деле и пришел к выводу, что ему просто померещилось.
Лобзаю твои стопы, высокий повелитель, и прошу тебя положиться на мое усердие, опытность и старость.
Из испаганского сераля, месяца Джеммади 1, 5-го дня, 1718 годаПИСЬМО CL. Узбек к Нарситу в испаганский сераль
Несчастный! В твоих руках письма, содержащие срочные и строжайшие распоряжения: малейшая проволочка может ввергнуть меня в отчаяние, а ты под пустым предлогом бездействуешь!
Происходят страшные вещи: быть может, половина моих рабов заслуживает смерти. Пересылаю тебе письмо, которое написал мне об этом перед смертью евнух. Если бы ты вскрыл мое послание к нему, то нашел бы там кровавые приказания. Прочти же их и знай, что тебе несдобровать, если не выполнишь все в точности.
Из ***, месяца Шальвала 25-го дня, 1718 годаПИСЬМО CLI. Солим к Узбеку в Париж
Если бы я дольше хранил молчание, я был бы так же виновен, как преступники, которые завелись у тебя в серале.
Я был поверенным главного евнуха, преданнейшего из твоих рабов. Когда он понял, что приходит ему конец, он послал за мною и сказал мне следующие слова: «Я умираю; но, покидая жизнь, я скорблю лишь о том, что в последние минуты мне довелось стать свидетелем преступного поведения жен моего господина. Да упасет его небо от тех несчастий, которые я предвижу! Пусть грозная тень моя после смерти явится и напомнит этим вероломным об их долге и устрашит их еще раз! Вот ключи от запретных покоев. Отнеси их самому старому из черных евнухов. Но если после моей смерти окажется, что он проявляет мало бдительности, немедленно доложи об этом нашему повелителю». С этими словами он испустил дух у меня на руках.
Я знаю, что незадолго до смерти он написал тебе о поведении твоих жен. В серале хранится твое письмо, которое привело бы всех в ужас, будь оно распечатано. Другое же, написанное тобою позже, было перехвачено за три мили отсюда. Не знаю, в чем тут дело: невзгоды преследуют нас.
Между тем твои жены совершенно распустились: с того дня, как умер главный евнух, им как будто все стало позволено. Одна только Роксана осталась верна долгу и по-прежнему скромна. Добронравие забывается с каждым днем. На лицах твоих жен не видна уже былая добродетель, дышавшая силой и строгостью; в серале заметно какое-то небывалое ликование, свидетельствующее об утрате этой добродетели и происходящее, по-моему, от недавно полученного удовлетворения. Даже в мелочах замечаю я неведомые доселе вольности. Даже среди рабов воцарилось явное пренебрежение к своим обязанностям и к соблюдению правил, что меня очень удивляет: у них уже не видно того пылкого усердия к твоей службе, которое раньше, казалось, одушевляло весь сераль.
Твои жены провели неделю в деревне на одной из самых уединенных твоих дач. Говорят, смотритель дачи был подкуплен и за день до их приезда спрятал двоих мужчин в каменном чулане, устроенном в стене главного покоя, и что эти мужчины выходили оттуда по вечерам, когда мы удалялись. Старый евнух, возглавляющий нас в настоящее время, — дурак, которого можно уверить в чем угодно.
Я охвачен гневом и жаждой мести за такое вероломство, и если бы небу угодно было, для пользы твоей службы, чтобы ты почел меня способным управлять сералем, обещаю тебе, что если твои жены и не станут добродетельными, то станут по крайней мере верными.
Из испаганского сераля, месяца Ребиаба 1, 6-го дня, 1719 годаПИСЬМО CLII. Нарсит к Узбеку в Париж
Роксана и Зели пожелали поехать на дачу: я не нашел целесообразным им отказать. Счастливый Узбек! У тебя верные жены и бдительные рабы; я начальствую над местами, которые добродетель как будто избрала себе убежищем. Будь уверен: здесь не случится ничего, что могло бы оскорбить твой взор.
У нас случилась беда, которою я очень удручен. Армянские купцы, приехавшие недавно в Испагань, привезли мне письмо от тебя; я послал за ним раба; на обратном пути его ограбили, и письмо пропало. Напиши мне поскорее, ибо, думаю, ввиду наступивших перемен у тебя должны быть для меня важные приказания.
Из сераля Фатимы, месяца Ребиаба 1, 6-го дня, 1719 годаПИСЬМО CLIII. Узбек к Солиму в испаганский сераль
Влагаю в твои руки меч. Я доверяю тебе то, что для меня в настоящее время дороже всего на свете: месть. Вступи в новую должность и не знай при этом ни жалости, ни сострадания. Я пишу к своим женам, чтобы они слепо тебе повиновались. Устыдясь стольких преступлений, они склонятся перед твоим взором. Пусть буду я тебе обязан своим счастьем и покоем. Приведи мой сераль в то же состояние, в каком я его оставил; но начни с возмездия: уничтожь виновных и приведи в содрогание тех, кто уже готов был провиниться. За такие заслуги можешь надеяться на любую награду! От тебя одного зависит возвыситься над своим настоящим положением и получить такие награды, о которых ты и не мечтал.
Из Парижа, месяца Шахбана 4-го дня, 1719 годаПИСЬМО CLIV. Узбек к своим женам в испаганский сераль
Пусть это письмо разразится над вами, как гром среди молний и бури! Солим назначен вашим главным евнухом не для того, чтобы стеречь вас, но чтобы вас наказывать. Пусть весь сераль преклонится перед ним! Он должен судить вас за ваши прошлые поступки, а в будущем станет держать вас под таким суровым ярмом, что вы пожалеете о прежней своей свободе, раз уж не жалеете о своей добродетели.
Из Парижа, месяца Шахбана 4-го дня, 1719 годаПИСЬМО CLV. Узбек к Нессиру в Испагань
Счастлив тот, кто, зная всю цену приятной и спокойной жизни, отдыхает сердцем в лоне своей семьи и не знает иной страны, кроме той, которая дала ему жизнь.
Я живу в варварской стране, общаясь со всем, что мне несносно, лишенный всего, что мне дорого. Безысходная тоска охватывает меня; я впадаю в страшное уныние: мне кажется, будто я умер, и я прихожу в себя лишь тогда, когда мрачная ревность разгорается во мне и порождает в душе моей страх, подозрения, ненависть и сожаление.
Ты знаешь меня, Нессир: ты всегда читал в моем сердце, как в своем собственном. Ты пожалел бы меня, если бы знал, в каком плачевном состоянии я нахожусь. Иногда по целых полгода ожидаю я вестей из сераля: я считаю бегущие мгновения; нетерпение еще больше удлиняет их, а когда долгожданный миг приближается, в моем сердце совершается внезапная перемена: рука дрожит, распечатывая роковое письмо. Терзавшее меня беспокойство я начинаю считать самым для себя счастливым состоянием и боюсь, что меня выведет из него удар, более жестокий, нежели тысяча смертей.
Но как бы ни были основательны причины, заставившие меня покинуть родину, как ни обязан я этому отъезду самою жизнью, я не могу больше, Нессир, терпеть это ужасное изгнание. Здесь я все равно умру от тоски. Я тысячу раз убеждал Рику уехать из этой чужой земли, но он противится всем моим доводам; он удерживает меня здесь под всяческими предлогами; он как будто забыл отчизну или скорее забыл обо мне: до такой степени он равнодушен к моим страданиям.
О, я несчастный! Я жажду вновь увидеть родину, может быть для того только, чтобы стать еще несчастнее! Да и что мне там делать? Я головою выдам себя моим врагам. Это еще не все: я войду в сераль, и мне придется потребовать отчет за печальное время моего отсутствия. А что будет со мною, если в серале найдутся провинившиеся? Если одна только мысль об этом удручает меня, когда я так далеко, то что же будет, когда в моем присутствии она обратится в действительность? Что будет, если я увижу, если услышу то, чего и вообразить себе не могу без содрогания? Что будет, наконец, если приговор, который я сам же и произнесу, останется вечным свидетельством моего позора и отчаяния?
Я затворюсь в стенах сераля, еще более страшных для меня, чем для охраняемых за ними женщин. Я принесу туда все мои подозрения; ласки жен меня не разуверят; в постели, в их объятиях я буду испытывать только тревогу; мой ревнивый ум будет предаваться размышлениям в мгновения, столь мало для них подходящие. Недостойное отребье человеческой природы, подлые рабы, сердца которых навеки замкнулись для любви, вы бы не жаловались так на свое положение, если бы знали, что я переживаю!
Из Парижа, месяца Шахбана 4-го дня, 1719 годаПИСЬМО CLVI. Роксана к Узбеку в Париж
Ужас, мрак и отчаяние царят в серале; он погружен в страшное отчаяние. Тигр каждую минуту проявляет здесь свою ярость: он подверг пыткам двух белых евнухов, которым не в чем было признаваться, кроме своей невиновности; он продал часть наших рабынь и заставил нас поменяться оставшимися. Заши и Зели подверглись в своей комнате, под покровом ночи, унизительному наказанию: гнусный нечестивец не побоялся поднять на них свою подлую руку. Он держит нас взаперти в наших комнатах и, хотя мы там одни, принуждает нас носить покрывала. Нам запрещено разговаривать друг с другом; переписываться было бы целым преступлением; нам предоставлено только одно: плакать.
В серале появилось много новых евнухов; они досаждают нам ночью и днем; они беспрестанно прерывают наш сон из-за притворной или действительной тревоги. Меня утешает только то, что все это продлится недолго, что страдания эти окончатся вместе с моей жизнью. А жить мне осталось немного, жестокий Узбек. Я не стану дожидаться, пока ты прекратишь все эти оскорбления.
Из испаганского сераля, месяца Махаррама 2-го дня, 1720 годаПИСЬМО CLVII. Заши к Узбеку в Париж
О небо! Варвар жестоко оскорбил меня даже самым способом наказания. Он подверг меня тому истязанию, которое вызывает в нас чувство стыда и повергает нас в крайнее унижение, — истязанию, которое возвращает нас, так сказать, к детству.
Сначала я совсем растерялась от стыда, но затем овладела собою и начала было возмущаться, но тут своды покоев огласились моими воплями. Тот, до кого они доносились, слышал, как я просила пощады у подлейшего из людей и взывала о снисхождении, между тем как он становился все неумолимее.
С того времени его наглая и рабская душа подчинила себе мою. Его присутствие, взоры, слова, всевозможные притеснения угнетают меня. Когда я бываю одна, я утешаюсь хоть тем, что проливаю слезы, но стоит мне увидеть его, как я прихожу в ярость, чувствую все ее бессилие и впадаю в отчаяние.
Тигр осмеливается говорить мне, что все эти жестокости исходят от тебя. Ему бы хотелось отнять у меня мою любовь и до самой глубины осквернить мое сердце. Когда он произносит имя того, кого я люблю, мне нечего уже больше жаловаться, остается только умереть.
Я переносила твое отсутствие и сохраняла любовь к тебе с помощью ее самой. Все мои ночи, дни, самые мгновения — все принадлежало тебе. Я гордилась своею любовью, а твоя любовь окружала меня здесь уважением. Но теперь... Нет, я не могу больше выносить унижения, до которого меня довели! Если я невинна, вернись, чтобы любить меня. Если я виновна, вернись, чтобы я умерла у ног твоих.
Из испаганского сераля, месяца Махаррама 2-го дня, 1720 годаПИСЬМО CLVIII. Зели к Узбеку в Париж
Находясь за тысячу миль от меня, ты решаешь, что я виновна; находясь за тысячу миль, ты наказываешь меня.
Когда варвар евнух поднимает на меня свою подлую руку, он действует по твоему приказанию. Не тот, кто выполняет приказания тирана, а сам тиран оскорбляет меня.
Ты можешь, если тебе вздумается, еще хуже обращаться со мной. Сердце мое спокойно с тех пор, как оно не может больше любить тебя.
Душа твоя низко пала, и ты становишься жестоким. Будь же уверен, что нет тебе больше счастья!
Прощай.
Из испаганского сераля, месяца Махаррама 2-го дня, 1720 годаПИСЬМО CLIX. Солим к Узбеку в Париж
Жалею себя, блистательный повелитель, и жалею тебя: никогда еще ни один верный слуга не доходил до такого жестокого отчаяния, до какого дошел я. Вот в чем твои и мои несчастья. Пишу тебе о них содрогаясь.
Клянусь всеми небесными пророками, что с тех пор, как ты доверил мне своих жен, я бодрствовал над ними ночи и дни, ни на мгновение не успокаивался. Я начал свое управление с наказаний, но, и прекратив их, не отрешился от своей природной суровости.
Да стоит ли говорить об этом? Зачем хвалиться верностью, которая оказалась бесполезной? Забудь все мои прошлые заслуги; считай меня изменником и накажи за все преступления, которых я не в силах был предотвратить.
Роксана, надменная Роксана... О небо! Кому же доверять отныне? Ты подозревал Зели и питал полнейшее доверие к Роксане. Но ее суровая добродетель оказалась коварным притворством: то было лишь покрывало ее вероломства. Я застал ее в объятиях юноши; поняв, что попался, он бросился на меня и нанес мне два удара кинжалом. Сбежавшиеся на шум евнухи окружили его. Он долго защищался, ранил несколько человек и порывался даже вернуться в комнату Роксаны, чтобы, как он говорил, умереть на ее глазах. Но в конце концов не выдержал нашего численного превосходства и пал к нашим ногам.
Я, вероятно, не буду дожидаться твоих строгих приказаний, высокий повелитель: ты передал мщение в мои руки. Я не должен откладывать его.
Из испаганского сераля, месяца Ребиаба 1, 8-го дня, 1720 годаПИСЬМО CLX. Солим к Узбеку в Париж
Я принял решение: твои горести скоро прекратятся, я накажу виновницу.
Я уже чувствую тайную радость; наши с тобою души умиротворятся: мы искореним преступление, а невинность устрашится.
О вы, для того только, кажется, и созданные, чтобы не познавать собственных своих чувств и возмущаться даже собственными своими желаниями, вы, вечные жертвы позора и стыдливости, почему не могу я загнать вас целыми толпами в этот несчастный сераль, чтобы удивить вас потоками крови, которую я тут пролью!
Из испаганского сераля, месяца Ребиаба 1, 8-го дня, 1720 годаПИСЬМО CLXI. Роксана к Узбеку в Париж
Да, я изменила тебе: я подкупила твоих евнухов, я насмеялась над твоею ревностью и сумела обратить твой отвратительный сераль в место наслаждений и ликования.
Я скоро умру; скоро яд разольется по моим жилам. Что мне вообще здесь делать, раз не стало единственного человека, который привязывал меня к жизни? Я умираю, но тень моя отлетает с целою свитой: я только что выслала вперед нечестивых рабов, проливших чистейшую в мире кровь.
Как мог ты считать меня настолько легковерной, чтобы думать, будто единственное назначение мое в мире — преклоняться перед твоими прихотями, будто ты имеешь право подавлять все мои желания, в то время как ты все себе позволяешь? Нет! Я жила в неволе, но всегда была свободна: я заменила твои законы законами природы, и ум мой всегда был независим.
Ты должен бы быть мне благодарным за жертву, которую я тебе приносила: за то, что я унижалась, притворяясь верной тебе, что трусливо скрывала в своем сердце то, что должна была бы открыть всему миру, и, наконец, за то, что я оскверняла добродетель, допуская, чтобы этим именем называли мою покорность твоим причудам.
Ты удивлялся, что не находил во мне упоения любовью. Если бы ты знал меня лучше, ты бы догадался по этому о силе моей ненависти к тебе.
Но ты долгое время мог обольщаться приятным сознанием, что сердце, подобное моему, тебе покорно. Мы оба были счастливы: ты думал, что обманываешь меня, а я тебя обманывала.
Такая речь несомненно удивит тебя. Возможно ли, чтобы, причинив тебе горе, я вдобавок принудила тебя восхищаться моим мужеством? Но все кончено: яд меня пожирает, силы оставляют, перо выпадает из рук; чувствую, что слабею, слабеет даже моя ненависть; я умираю.
Из испаганского сераля, месяца Ребиаба 1, 8-го дня, 1720 года1721
Примечания
1
Ком (Кум) — город в Иране (Персии) к северу от Исфахана (в эпоху Монтескье — столица Персии), где находится гробница Фатимы (796-817), дочери Мусы-ибн-Казима, седьмого из двенадцати шиитских имамов.
(обратно)2
...у гробницы девы... — Монтескье ошибочно отождествляет Фатиму (ум. в 633 г.), дочь пророка Мухаммеда и жену халифа Али, двоюродного брата Мухаммеда с дочерью Мусы-ибн-Казима. По преданию, дочь Мухаммеда после смерти была взята аллахом на небо.
(обратно)3
Тавриз (Тебриз) — город на северо-западе Персии.
(обратно)4
Эрзерум (Эрзурум) — город на северо-востоке Турции.
(обратно)5
Сафар — второй месяц мусульманского лунного года. Монтескье приурочил первый месяц мусульманского года — мухаррем — к марту; следовательно, сафар соответствует апрелю.
(обратно)6
Махаррам — Мухаррем — см. прим. {5}.
(обратно)7
Ребиаб 1 — раби аль-аваль, третий месяц мусульманского лунного года.
(обратно)8
...коварных османлисов... — Турки-оттоманы назывались османлисами по имени султана Османа (Отомана), основавшего в 1304 г. турецкую империю. С точки зрения шиита Узбека, «коварные» турки сунниты узурпировали власть законного наследника Пророка Али.
(обратно)9
Ребиаб 2 — раби ас-сани, четвертый месяц мусульманского лунного года.
(обратно)10
Персидские женщины охраняются гораздо строже турецких и индусских (прим. авт.).
(обратно)11
Джеммади 2 — джумада-ль-ахира, шестой месяц мусульманского лунного года.
(обратно)12
...стражу трех гробниц... — Т.е. гробницы Фатимы и двух персидских царей — Аббаса II (царств. 1641-1666) и Сефи (царств. 1629-1642).
(обратно)13
Зуфагар — меч Мухаммеда, перешедший после его смерти к Али.
(обратно)14
...тринадцатый имам... — Комплимент Узбека, ставящего Мегемета-Али в один ряд с двенадцатью шиитскими имамами, за которыми (согласно важнейшему догмату шиизма) признается исключительное право на духовное и светское руководство в мусульманском мире.
(обратно)15
...отличают нить белую от нити черной... — Цитата из Корана: «Ешьте и пейте, пока не станет различаться перед вами белая нитка и черная нитка на заре, потом выполняйте пост до ночи». Коран, 2, 183.
(обратно)16
Почему не читаете вы произведения ученых... — Служитель пророков отсылает Узбека к Сунне, шести сборникам, состоящим из хадисов — рассказов о деяниях и изречениях Магомета.
(обратно)17
Шахбан — шабан, восьмой месяц мусульманского лунного года.
(обратно)18
Это слово употребительнее у турок, чем у персиян (прим. авт.). Иммом — мусульманский священник.
(обратно)19
Иудей Авдия-Ибсалон... — Монтескье пересказывает сюжет одного из хадисов.
(обратно)20
Токат, Смирна — города в Турции.
(обратно)21
Очевидно, это мальтийские рыцари. Мальтийские рыцари — мальтийский орден был основан в 1530 г. императором Карлом V для защиты средиземноморского побережья от турок и корсаров.
(обратно)22
Рамазан — рамадан, девятый месяц мусульманского лунного года.
(обратно)23
Зилькаде — зу-ль-када, одиннадцатый месяц мусульманского лунного года.
(обратно)24
...свидетельствует о талантах тосканских герцогов... — Порт Ливорно был основан тосканскими герцогами Франческо и Фердинандо Медичи.
(обратно)25
Персиянки носят четыре покрывала (прим. авт.).
(обратно)26
Французский король — Людовик XIV.
(обратно)27
...его прикосновение излечивает... от всех болезней... — Французским королям приписывался дар исцелять наложением рук.
(обратно)28
...большое послание, которое назвал Конституцией... — «Unigenitus», булла папы Клемента XI (8 сентября 1713), осуждающая книгу янсенистского богослова о. Кенеля «Моральные размышления о Новом Завете» как исполненную ереси и янсенистских предрассудков. Кардинал де Ноайль, архиепископ Парижский, вместе с семью прелатами отказался принять папскую буллу без дополнительных разъяснений. Этот отказ послужил причиной ожесточенного конфликта между янсенистски настроенным духовенством и иезуитами.
(обратно)29
...войну с соседями... — Войну за Испанское наследство (1701-1714), которую Франция вела против Большого альянса, коалиции государств, включавшей Англию, Голландию, «Священную Римскую империю германских наций» и др.
(обратно)30
...множество невидимых врагов... — Янсенистов.
(обратно)31
...некоторых дервишей... — Иезуитов.
(обратно)32
Реджеб — раджаб, седьмой месяц мусульманского лунного года.
(обратно)33
Испагани.
(обратно)34
Внизу стоит толпа... — В XVIII в. в партере еще не было кресел.
(обратно)35
Шальвал — шавваль, десятый месяц мусульманского лунного года.
(обратно)36
...смещают царей Имеретии и Грузии... — В XVIII в. Грузия находилась под властью Персии.
(обратно)37
...с маленькими деревянными зернышками... — Четками.
(обратно)38
...два куска сукна, пришитых к двум лентам... — Нарамник.
(обратно)39
...в провинции, называемой Галисией... — В этой испанской провинции, в городе Сантьяго, находится собор с останками святого Якова Компостельского. Паломничество в Сантьяго считалось признаком благочестия и могло быть принято во внимание инквизицией.
(обратно)40
...рубашку, пропитанную серой... — Надевали на приговоренного к сожжению.
(обратно)41
Персияне — самые терпимые из всех магометан (прим. авт.).
(обратно)42
...некий дом, в котором довольно плохо содержится около трехсот человек... — Quinze Vingts, дом призрения для слепых, основанный в 1254 г. Людовиком IX для рыцарей-крестоносцев.
(обратно)43
Зилькаде — зу-ль-хиджа, двенадцатый месяц мусульманского лунного года.
(обратно)44
«Торжествующее многоженство» — «Торжествующее многоженство, или политическое рассуждение о многоженстве, сочиненное Теофилем Алетием и комментированное Афанасием Винцентом» (Лунд, 1682).
(обратно)45
Есть даже дом... — Кафе «Прокоп», открывшееся в 1689 г., было традиционным местом встречи литераторов и публицистов.
(обратно)46
...я застал их за горячим спором... — Речь идет о последнем этапе «спора о древних и новых», возникшем по поводу исправлений, внесенных Антуаном Ударом де Ламотом (1672-1731), сторонником новых, в перевод «Илиады», выполненный госпожой Дасье (1647-1720).
(обратно)47
...пользуются языком варварским... — Средневековой латынью.
(обратно)48
Существуют кварталы... — Кварталы университета Сорбонны.
(обратно)49
Целый народ... — Ирландские католические священники, эмигрировавшие во Францию после подавления Кромвелем восстания 1649 г.
(обратно)50
Король Франции стар... — В 1713 г. Людовику XIV исполнилось 75 лет.
(обратно)51
...министр, которому всего восемнадцать лет, и возлюбленная, которой восемьдесят... — Вероятно, Монтескье имеет в виду маркиза Луи Барбезье (1668-1701), третьего сына министра Лувуа, назначенного в 1685 г. государственным секретарем по военным делам, и мадам де Ментенон, которой в 1713 г. исполнилось 78 лет.
(обратно)52
Савроматы — ираноязычные кочевые племена, жившие в VII-IV вв. до н.э. в поволжско-приуральских степях. Греческие историки называли савроматов народом, «управляемым женщинами».
(обратно)53
«...мужья все же на одну ступень выше, чем жены...» — «Мужьям над ними степень» (Коран, 2, 228).
(обратно)54
Хаджи — человек, совершивший паломничество в Мекку.
(обратно)55
Кабеш — Абу Кубэс, священная гора на востоке Мекки, считающаяся первым творением аллаха.
(обратно)56
Исбен Абен — По-видимому, Ибн Аббас (ум. ок. 686-688), средневековый мусульманский богослов, собравший многочисленные свидетельства о жизни Пророка Мухаммеда.
(обратно)57
Николя Фламель (1330-1418) — присяжный писец Парижского университета, внезапное обогащение которого породило о нем легенду как об алхимике, овладевшем философским камнем.
Раймунд Люллий (1235-1315) — средневековый поэт, философ и миссионер, которому приписывали авторство трактатов по алхимии.
(обратно)58
Еврей (прим. авт.).
(обратно)59
Турок (прим. авт.).
(обратно)60
Армянин (прим авт.).
(обратно)61
Курук — крик, требующий освободить дорогу, которым евнухи, сопровождавшие гарем, оповещали о своем приближении.
(обратно)62
Казвин — город в Персии.
(обратно)63
Провинциал — монах, стоящий во главе монастырских общин, принадлежащих одному ордену.
(обратно)64
По велению царя царей... — Царь царей — титул персидского шаха.
(обратно)65
...царь... — Петр I.
(обратно)66
Эти нравы теперь переменились (прим авт.).
(обратно)67
Когда турки взяли у нас Багдад... — Багдад был взят турецким султаном Амуратом IV в 1638 г.
...отняли... у Великого Могола Кандахар... — Кандагар, в настоящее время — город в Афганистане, был захвачен в 1649 г. персидским шахом Аббасом II.
(обратно)68
Кольбер Жан Батист (1619-1683) — генеральный контролер финансов, государственный секретарь по делам королевского дома, морским делам и торговле.
(обратно)69
...что он делал для уничтожения ереси... — Отмена в 1685 г. Нантского эдикта послужила формальным основанием для гонений на гугенотов.
...а запрещение дуэлей... — Эдикты 1651 и 1679 гг. запрещали дуэли под страхом смертной казни.
(обратно)70
...после того, как оттуда изгнали евреев... — Евреи были изгнаны из Испании в 1492 г. в царствование Фердинанда V Католика и Изабеллы I Кастильской.
(обратно)71
...во Франции — после того, как стали преследовать христиан... — Т.е. после отмены Нантского эдикта.
(обратно)72
...пусть бы раз навсегда между Али и Абубекром был заключен мир... — Т.е. мир между шиитами и суннитами. Али — двоюродный брат и зять Магомета, стал из-за происков Айши, жены Абу Бекра (572-634), лишь четвертым халифом.
(обратно)73
...Император по имени Феодосий... — Епископ Амвросий Миланский (ок. 340-397) наложил на римского императора Феодосия I Великого (царств. 379-395) епитимью в наказание за отданный им в 390 г. приказ истребить восставших жителей города Фессалоники.
(обратно)74
Камбиз (царств. 529-521 до н.э.) — древнеперсидский царь, отец Великого Кира. По свидетельству Геродота (История, кн. III, гл. 31), Камбиз поочередно был женат на своих сестрах.
(обратно)75
Бейрам — байрам, мусульманский праздник. Монтескье, по-видимому, ошибочно употребил это слово вместо слова гарем.
(обратно)76
Балк — Балх, древнейший очаг персидской культуры, расположенный на месте древней Бактры; почитался как родина Заратустры и Кира.
(обратно)77
Гистасп (Гоштасп) и Огорасп (Лохрасп) — древние персидские цари полулегендарной династии кеянидов.
(обратно)78
Туман — золотая персидская монета.
(обратно)79
...некий живописец... — Древнегреческий художник Зевксис (420-380 до н.э.), которому во время работы над портретом Елены позировали пять красивейших девушек.
(обратно)80
Джеммади 1 — джумада-ль-уля, пятый месяц мусульманского лунного года.
(обратно)81
...в книгах их древнего законодателя... — Второзаконие, 22, 13-21.
(обратно)82
Тавернье Жан Батист (1605-1689) — автор книги о путешествиях в Турцию, Персию и Индию (1681).
Шарден Жан (1643-1713) — автор книги «Путешествия шевалье Шардена в Персию и другие страны Востока» (1711).
(обратно)83
...Академия... выпустила свод своих постановлений... — Речь идет о словаре Французской Академии, работа над которым продолжалась чрезвычайно долго и завершилась в 1694 г., когда многие включенные в него лексические единицы стали восприниматься как архаичные.
(обратно)84
...незаконное дитя... — Словарь Антуана Фюретьера, выходивший с 1685 г. Французская Академия добилась запрещения его выпуска и исключила Фюретьера из числа академиков.
(обратно)85
У этого тела сорок голов... — Французская Академия насчитывала сорок членов.
(обратно)86
Социнианин — последователь итальянского богослова Лелия Социна (1525-1562), отвергавшего некоторые догматы христианства.
(обратно)87
Магометане не задаются целью захватить Венецию потому, что они не нашли бы там воды для омовений (прим. авт.).
(обратно)88
Хуан де Кастро. Хуан де Кастро (1500-1548) — португальский ученый и естествоиспытатель, вице-король португальских владений в Индии.
(обратно)89
Гоа — колония Португалии на западном побережье Индостана. С 1962 г. союзная территория Индии.
(обратно)90
У испанцев только и есть одна хорошая книга... — «Дон Кихот» Сервантеса.
(обратно)91
Батуэки. Батуэки — жители Батуэкас, двух долин в южной части Саламанки, окаймленных высокими горами, которые отделяли эти долины от остальной части Испании.
(обратно)92
Осман II, правивший с 1618 по 1622 г. — турецкий император.
(обратно)93
Мустафа I — турецкий султан, после свержения которого в 1618 г. султаном был провозглашен Осман II. С 1622 г. на престол был вновь возведен Мустафа I.
(обратно)94
Татары дважды завоевывали Китай... — В XIII в. Северный Китай был завоеван Чингизханом; в 1644 г. к власти в Китае пришла дайцинская династия, представители которой — выходцы из Маньчжурии.
(обратно)95
Они владыки Персии... — Персия была завоевана Чингизханом в 1221 г.
(обратно)96
Картезианцы — монахи картезианского ордена, отличавшегося строгим уставом.
(обратно)97
Дворец Инвалидов — дворец, основанный в 1670 г. Людовиком XIV по проекту Жюля Ардуэна Мансара, должен был служить приютом для инвалидов войны.
(обратно)98
Шах-Солиман — персидский шах Сулейман (Сефи II), правил с 1666 по 1694 г.
(обратно)99
Шах-Аббас — персидский шах Аббас I Великий, правил с 1585 по 1628 г.
(обратно)100
Он скончался 1 сентября 1715 года (прим. авт.).
(обратно)101
...принц, его дядя... — Герцог Филипп III Орлеанский (1674-1723).
(обратно)102
Павел Фивский (?-341) — первый христианский монах, бежавший в Фиваиду.
Антоний Фивский (ок. 251-ок. 356) — раздав имущество бедным, удалился в пустыню.
Пахомий Великий (?-348) — отшельник, основавший в Фиваиде монастырь.
(обратно)103
...один фараон указывал самосскому царю... — Египетский фараон Амазис II (570-526), которого греческие историки изображают просвещенным правителем, и тиран острова Самос Поликрат (535-522 до н.э.). Монтескье излагает фрагмент из «Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского (т.1, кн.1, гл.95).
(обратно)104
Висапур — Биджапур. В XVIII в. — независимый султанат в Индии.
(обратно)105
...мазандаранского губернатора... — Мазендеран — персидская провинция на берегу Каспийского моря.
(обратно)106
...названная палатой Справедливости... — Финансовая палата, учрежденная для разбора дел о финансовых злоупотреблениях.
(обратно)107
...есть тут министр... — Герцог де Ноайль (1678-1766), с 1715 по 1718 г. — председатель финансового совета.
(обратно)108
...управляется законами, созданными вовсе не для него... — Т.е. законами Римского права, заимствованными многими западноевропейскими странами.
(обратно)109
...все говорят о Конституции... — О булле «Unigenitus».
(обратно)110
...гнусный убийца нашего великого короля Генриха IV... — Религиозный фанатик Франсуа Равайак (1578-1610).
(обратно)111
...государь... повинен в оскорблении величества... — В 1649 г. Палата общин предъявила это обвинение Карлу I.
(обратно)112
Я видел юного Монарха... — Людовика XV.
(обратно)113
Он говорит о случае с Рамусом. Рамус — Пьер де Ла Раме (1515-1572), французский философ и лингвист, преподаватель Королевского коллежа; настаивал на том, чтобы латинская буква q произносилась перед гласными как «к», а не как «кв». Конфликт Сорбонны с Ла Раме определялся не столько лингвистическими разногласиями, сколько религиозными взглядами ученого-гугенота.
(обратно)114
Это было в 1610 году (прим. авт.).
(обратно)115
...смешное произношение... — Итальянец Мазарини за всю жизнь так и не научился правильно говорить по-французски.
(обратно)116
...во времена Ксеркса и Дария... — Т.е. в VI-V вв. до н.э. Гурийское (царство) — Гурия, западная часть древней Колхиды.
(обратно)117
...если бы... не открыли могущественного лекарства... — Ртуть.
(обратно)118
Тиен — Тянь, в древнекитайской мифологии — небо, место пребывания духов и богов.
(обратно)119
Гилянь — Гилян, область в Персии на юго-западном побережье Каспийского моря.
(обратно)120
Со времени истребления евреев при Адриане... — В 132-135 гг. римский император Адриан (117-138) жестоко подавил восстание евреев в Палестине.
(обратно)121
Изгнание мавров из Испании... — В 1609-1610 и 1613 гг. были изданы указы об изгнании морисков из Испании.
(обратно)122
Узбек говорит, вероятно, об острове Бурбон. Бурбон — остров Реюньон в Индийском океане, с XVII в. — французская колония, с 1946 г. — «заморский департамент».
(обратно)123
Христианский муфтий — Джулио Альберони (1664-1752), испанский кардинал и министр Филиппа V; проводил политику затягивания австро-турецкой войны (1714-1718), рассчитывая на ослабление Австрии, которое позволило бы Испании вернуть утраченные ею на основании Утрехтского мира итальянские провинции.
(обратно)124
Великий визирь Германии — Евгений Савойский (1663-1736), принц, родственник Бурбонов по женской линии, главнокомандующий имперской армией Карла VI. Два сокрушительных поражения, которые он нанес турецким войскам под Петервардайном и Белградом, привели к заключению невыгодного для Турции Пассаровицкого мира.
(обратно)125
...молодой бонза... — По-видимому, «брамин» — член первой из четырех жреческих варн (каст) в Индии.
(обратно)126
Брама — Брахма, в брахманизме и индуизме — Бог-творец.
(обратно)127
...посол Великого Могола... — Антонио Челламаре (1657-1733), посол Филиппа V; был выслан из Франции в результате провала заговора, имевшего целью лишить Филиппа Орлеанского регентства в пользу испанского короля.
(обратно)128
...дядю государя... — Луи-Огюста Мэнского, герцога (1670-1736), старшего сына Людовика XIV и мадам де Монтеспан, узаконенного в 1673 г. С 1715 — воспитатель Людовика XV; был арестован как участник заговора против регента в пользу испанского короля.
(обратно)129
...о знаменитом шведском короле... — Король Швеции Карл XII погиб в 1718 г. при осаде крепости Фридрихсгалль.
(обратно)130
Его первый министр... — Барон Георг-Генрих Гертц (1668-1719).
(обратно)131
Он походил на того человека... — Возможно, речь идет о последнем царе Древнего Рима Тарквинии Гордом, правившем с 534 по 509 г. до н.э. Прогуливаясь со своим сыном Секстом, он продемонстрировал ему, как следует поступать с непокорными жителями города Габии.
(обратно)132
...заговорил о бомбардировке крепости Фуэнтарабии... — Фуэнтарабия город в испанской провинции Гипускоа, захваченный французским маршалом Бервиком в 1719 г. в ходе франко-испанской войны.
(обратно)133
...в прекрасном саду... — Тюильри.
(обратно)134
...император Иосиф... — Иосиф I, с 1705 по 1711 г. — император «Священной Римской империи германских наций».
(обратно)135
1717 года.
(обратно)136
Финале — порт в Генуэзском заливе, принадлежавший Испании.
(обратно)137
Альберони... послал испанский флот к Сицилии... — В 1718 г. Испания напала на Сицилию, принадлежавшую по Утрехтскому договору Виктору Амедею II Савойскому (1666-1732).
(обратно)138
Граф де Л. — Сын графа де Лионн (1611-1671), французского дипломата, с 1663 — государственного секретаря по иностранным делам (ум. в 1708 г.); пользовался репутацией дальновидного политика.
(обратно)139
...Ровоамово сборище... — «Царь Ровоам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его, при жизни его... Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему; и советовался с молодыми людьми...» (Третья книга Царств, 12, 8).
(обратно)140
Гесперия — страна заходящего солнца, древнее название Италии, Испании и Западной Африки.
(обратно)141
Бетика — Франция.
(обратно)142
Римляне тщетно предлагали каппадокийцам... — В 69 г. до н.э. римляне, одержавшие победу над Митридатом, предложили каппадокийцам установить республику. Каппадокийцы отказались и получили царя в лице Ариобарзана I.
(обратно)143
...я разорен... — Речь идет об инфляции, порожденной банковскими махинациями генерального контролера финансов Джона Ло (1671-1729).
(обратно)144
...он, предатель, не вернул мне долга... — Должники, возвращавшие займы обесцененными банкнотами, разоряли своих кредиторов.
(обратно)145
...как бы князь Пио... не захватил... весь Лангедок... — В то время как маршал Бервик вторгся в Испанию, главнокомандующий испанской армией принц Пио, сосредоточив войска в Каталонии, намеревался напасть на Лангедок.
(обратно)146
Квиетизм — религиозно-этическое учение, получившее распространение во Франции благодаря трактатам г-жи Гюийон (1648-1717).
(обратно)147
...только две и было-то сочинено... — «Илиада» и «Одиссея» Гомера.
(обратно)148
Н*** взял нож... — Имеются в виду меры, предпринимаемые председателем Финансового совета герцогом де Ноайлем.
(обратно)149
Явился чужестранец... — Джон Ло, шотландец по происхождению.
(обратно)150
...на известной улице... — На улице Кенкампуа, где находилась биржа.
(обратно)151
Шведская королева... — Сестра Карла XII Ульрика-Элеонора (1685-1741) после смерти брата была провозглашена королевой, однако отреклась от престола в пользу мужа.
(обратно)152
...другая королева, по имени Христина... — Шведская королева Христина (1626-1689) отреклась от престола в 1654 г.
(обратно)153
Парижский парламент только что сослан... — В июле 1720 г. из-за несогласия с финансовой политикой правительства Филиппа Орлеанского парижский парламент переехал в Понтуаз.
(обратно)154
Во времена Шейх-Али-хана... — По свидетельству Жана Шардена, Али-Хан был великим визирем в эпоху правления шаха Сулеймана (Сефи II).
(обратно)155
Мантуанский лебедь — Вергилий, уроженец Мантуи.
(обратно)156
...неподалеку от Оркад родился ребенок... — Джон Ло. Оркадские острова расположены у северной оконечности Шотландии.
(обратно)157
Бетика — древнее название Андалусии, заимствованное Монтескье из романа Фенелона «Приключения Телемака» (1699), в котором Бетика изображается как утопическая страна, населенная добродетельными людьми.
(обратно)158
Сатурн — Людовик XIV.
(обратно)159
...я строго вас накажу... — Правительственный эдикт 1720 г. предписывал сдавать золото в банк.
(обратно)160
...доставьте их мне... — Королевский ордонанс от 20 июня 1720 г. обязывал французских граждан хранить валюту во французских банках.
(обратно)161
...Я знаю, что у вас есть драгоценные камни... — Королевский ордонанс от 4 июля 1720 г. запрещал ношение драгоценных камней.
(обратно)162
...взять у вас половину ваших богатств... — Эдикт от 21 мая 1720 г. объявил о девальвации ценных бумаг и казначейских билетов банка Ло.
(обратно)163
...считайте, что я ничего вам не говорил... — 27 мая 1720 г. регент аннулировал постановление о девальвации.
(обратно)164
И тотчас три четверти их бесследно исчезло... — В постановлении от 15 сентября 1720 г. сообщалось, что банк обеспечивает золотом лишь четвертую часть всех наличных вкладов.
(обратно)165
М.Г. — вероятно, «Трактат по географии» Пьера дю Валя.
(обратно)166
С.О.И. — по-видимому, «святой отец иезуит».
(обратно)167
Отец Коссен — Никола Коссен (1583-1651), французский иезуит и богослов, духовник Людовика XIII.
(обратно)168
Отец Родригес — Альфонсо Родригес (1526-1616), испанский богослов и проповедник, автор трактата «О христианском совершенствовании» (1614).
(обратно)


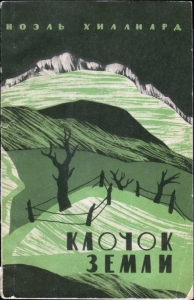




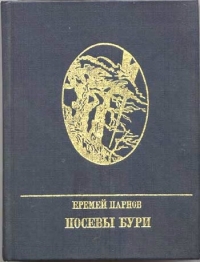
Комментарии к книге «Персидские письма», Шарль Луи Монтескье
Всего 0 комментариев