Элигий Ставский Домой ▪ Все только начинается ▪ Дорога вся белая
Домой
Начало этой истории вспоминаешь с улыбкой. Но тогда смешно не было, потому что в маленькой комнате, казенной и прокуренной, где только серые стены и еще портреты, и как-то сразу же неуютно и холодновато от этой пустоты, на стол пришлось выложить «вещественные доказательства». И были они, если учесть, что рядом граница, не столь уж безобидными: финский нож, крепкий, отличный, вделанный в оленью ножку, шершавую и теплую на ощупь, такой нож, который щелкает, когда его открывают, несколько порошков сульфидина - очень модного в то время лекарства, — восемьсот рублей денег и совершенно уникальный ключ от железнодорожных вагонов, маленький, универсальный, величиной с железный уголок портфеля. Мы выменяли этот ключ в Киеве, на вокзале, у какого-то нищего, пьяного и заикающегося, за пачку папирос. А зачем он нам нужен был, этот ключ, мы не знали сами. Я говорю «мы», потому что в этой истории я был не один.
Нет, я не нарушил границы, я даже не собирался этого делать. И тут совсем незачем говорить, что мне нравятся сухие и пропитанные солнцем леса под Житомиром, где я вырос и где можно было ползать на коленях, собирая в кружку ягоды земляники, и столько их - вертишься на месте, а вокруг все красное, глаза разбегаются, невольно смотришь вперед, а у себя под носом не видишь... Мне дороги поля под Курском, ровные, теплые, покрытые серо-голубым небом и звенящие оттого, что ветер колышет колосья и, точно заколдованные, подобно «раскидаям», прыгают вверх-вниз, вверх-вниз беспечные жаворонки, — я ощущал тепло этих полей своими пятками... и лучшая из рек для меня - Нева, даже если она осенняя и вот такая тяжелая, неповоротливая и до удивления безжалостная, как сейчас, когда я смотрю на нее по утрам и думаю, какой черт вылил в реку мазут, испортил воду...
Был сорок пятый год, весь сияющий, полный надежд и довольно голодноватый. И вся эта очень простая история всего-навсего о муке. О той самой, из которой пекут хлеб.
Были первые месяцы мира. Возвращались домой солдаты. Улицы становились многолюдными, на Кировском мосту по вечерам зажигались фонари, и теперь едва ли можно рассказать, сколько в этих желтых огнях было поэзии, красоты и радости. В нас кипела молодость, мы просыпались и засыпали с улыбкой, у нас было желание обнять всю Землю, и мы решили... увидеть, каков же он - мир.
И я сказал Вильке:
- А потом вернемся. А потом вернемся, Виля. Ну?
Но он не поверил, он посмотрел на меня очень внимательно, а я был готов к этому. Я выдержал его взгляд. А сам знал, что, может быть, не вернусь. Сам уже знал об этом. Вот что творилось в моей голове.
Он усмехнулся:
- Опять? Опять голова набекрень?
- Нет, правда, Виля. Правда.
- Я спрашиваю: опять за свое?
- Нет, Виля.
- А скажем что?
- А мы вернемся. И я вернусь.
- Ладно, посмотрим.
Сказано - сделано. Продали кое-какие вещи: сперва мелочь, потом сапоги, хромовые, высокие, нос уточкой, какую-то статуэтку, найденную в разрушенном доме, несколько тяжелых томов издательства Вольфа, кажется Гоголь, Белинский, Лермонтов, и отправились походить по Украине. Так, от села к селу, от города к городу. Кому покосить, кому поколоть дров... На Украине теплее.
Был Киев... взъерошенный, но какой-то удивительно звонкий, солнечный и в общем-то спокойный и деловой. Были развалины Крещатика. Обломки стен, груды кирпича, перекрученные балки, но, странное дело, то была уже не война, а экспонаты войны, которые уже не давили на сердце, не заставляли опускать голову. В людях жила надежда, предчувствие близкого счастья, покоя. Под каштанами Киева истерзанные войной люди смеялись, как дети. «Будет хорошо! Будет замечательно! Будет лучше! Будет... Будет... Будет...»
Была страна с немазаными хатами, с калеками и нищими в вагонах, с пнями вместо садов, с одинокими черными печами в полях. И как это жутко, если в поле стоит печь — и больше ничего, только холмики рядом. Что здесь было? Кто жил тут? Может быть, хороший дидо, который натягивал по утрам свою суровую рубашку, крепкую и серую, открывал скрипящие ворота клуни и вот постукивал там, мастерил что-то. А рядом был сад, красно-зеленые ветки вишен, янтарные улитки клея на вишнях, колодец с журавлем, и на крыше, на груде хвороста — одноногий аист, и запах молока во дворе... Чего только нельзя представить себе, увидев черную печь в поле...
...Сначала у нас все было просто: в руках палки, в животах звон, и вот так, пешком, километр за километром.
После Киева — Винница.
В Виннице черноглазая спекулянтка наобещала нам золотые горы, и мы работали на нее: продавали на рынке пластмассовые гребешки. Она давала нам каждый день двадцать рублей, и мне нравилось, что она говорит с нами певуче, по-доброму и зубы у нее голубые. И спать нас она укладывала на широкую деревянную кровать, возле которой ставила кринку парного молока. И сама укрывала нас одеялом. И я подумал, что в Виннице жить можно, остаться можно.
Но Вилька сказал:
— Сволочь она. Людей обирает. Пошли.
И мы пошли.
Мы свернули на север и в Фастове мостили дорогу. В Коростыне взялись пасти скот. В Коростышеве копали картошку. И по утрам ели эту картошку со шкварками и кислым неснятым молоком. И всюду нам говорили, что мы «хлопцы гарни, а тут така земля, таке сало, таке жито, таки писни...». Я слушал все это, но Вилька тянул меня дальше. Все дальше, и мы брали свои палки и снова отстукивали километр за километром.
Это, между прочим, не тягомотно, как можно себе вообразить, и теперь не могу вспомнить, по какой именно причине, дойдя до Новоград-Волынского, мы забросили собственный транспорт и выкинули наши палки. Мы стали ездить на крышах вагонов. Дрожали, боялись контролеров, ползали вверх-вниз по крутым железным лестницам, были совсем черными от копоти и пыли. Города теперь мелькали один за другим. Последним в нашем походе был Львов. Помню синий и чистый день, неподвижную листву на деревьях, выложенную на песке белыми камешками надпись: «МЫ ПОБЕДИЛИ», непонятно долгую остановку перед станцией и, наконец, сам вокзал, гулкий, весь забитый людьми, и всюду — на платформе, в буфете, в скверах, на площади — шинели. Было лето. Был август — месяц многих цветов. Но повсюду носился только один запах — потных и продымленных шинелей.
На привокзальной площади мы кинулись в общую свалку. Продавали пиво, наливая его в пол-литровые банки. Нас оттолкнули.
—А ну, хлопцы, — сказал солдат с буденовскими усами, протягивая нам две банки. — Сам расквитаюсь... И у меня был вот такой же, — и вдруг заплакал, кривя и кусая губы, роняя серые слезы.
Когда мы немного отошли, он догнал нас, стал предлагать деньги и серебряный портсигар, плоский, совсем новый.
— Вот у меня бул хлопчик. У девятый класс пошел бы... О таки же волосы черны булы, как у тебя. На гроши. На що они мени? Бул хлопчик. Нема.
Большой рукой он развозил по лицу слезы, потом вдруг схватил меня за грудь, почему-то именно меня, и начал трясти, страшно ругаясь и дыша водкой. Я взял портсигар. Он посмотрел благодарно, отвернулся и пошел пить пиво, повторяя: «Сынку, сынку...»
Я повертел портсигар и протянул Вильке. Он пожал плечами, отвернулся.
Львов понравился нам. Мы увидели красивый город, чем-то непохожий на другие. Старинные здания, молчаливые и загадочные, и каждое с какой-то своей изюминкой, узкие улочки, тенистые и как будто вымытые балконы, и стены, увитые зеленью, крохотные частные магазины, трамваи с открытыми площадками — там можно было курить, никто не обращал на это внимания. Это был очень старый город, и веяло от него тихой и чуть печальной мудростью. Памятник Мицкевичу, красивый, пожалуй не в меру тяжелый, театр, большие гостиницы... Мы бродили по знаменитому кладбищу, где все было тайной и все неподвижно: и серые кресты, и черные плиты, и белые ангелы, и желтые пропеллеры, и бледно-зеленые вязы, и песчаные тропинки, и сам воздух, мутновато-голубой...
И нас испугала могила, на которой стояли горящие свечи, — вокруг никого, поросшие мхом склепы, ржавые ограды, варшавские фотографии на фарфоре, и неожиданно — свечи по краям старой могилы — кто-то зажег их и ушел, — и они спокойно горели, тонкие и печальные, н теплый воздух струился над ними. Земля пахла солнцем.
А город, если смотреть на толпу, резкую и нетерпеливую, напоминал огромный вокзал, откуда люди двигались на Восток — и как можно скорее, и все равно как. И в центре этого вокзала был рынок, а точнее, выражаясь языком того времени, барахолка. И не бедная, не нудная, не привычная, пахнущая нафталином, ржавым железом, сопревшим войлоком, а этакая международная, искрящаяся, сверкающая, лоснящаяся, шуршащая и донельзя щедрая.
— Сто рублей — не деньги...
— Битте, мадам, часики! Отдам задаром!
— Купи аккордеон, будешь играть барыню!
— Вот, пани, кошуля! Эй, пани! Не хочешь за деньги, я так отдам. Для такой пани свою сниму!
— Саксонский фарфор! Лучший в мире! Чашечки, тарелочки, лоханка для борща!
— Есть микроскоп! Есть микроскоп! Мальчику, чтобы не плакал.
— Французские карты с бабами! Сам бы играл, да смотреть не могу.
— Личный костюм Геббельса! К тому же его кальсоны.
— Эй, народ, продаю сам не знаю чего: круглое, блестящее, посередине стрелка.
— Пластинки для граммофона! Танги, фокстроты, веселая музыка!
— Ковер австрийский с оленями! Без оленя не продам!
— Эвона зажигалка с брильянтом! Эвона!
Липкое и тягучее перекатывалось из ряда в ряд ужасно «заграмоничное» слово — «мантель».
Толпа эта, разноцветная, как мозаика: гимнастерки, шинели, кители, пиджаки, рубашки, фуражки, пилотки, шляпы, шлемы... старушки с кружевами на плечах, инвалиды, спекулянты, мелкие и крупные, босоногие дети — вся эта ушастая, глазастая, горланящая громада людей, потная, закопченная солнцем и обсыпанная пылью, точно подхваченная каким-то беспощадным водоворотом, кружилась и кружилась, вытаптывая безумный и долгий танец надежды и мимолетного счастья.
По вертикальной стене носились мотоциклисты, очень отважные люди, которые в такой вот счастливый год могли свернуть себе шею. Рынок требует балагана.
У нас были деньги на обратный билет и еще рублей пятьсот, которые мало что стоили. Вещи не опьяняли нас, а лишь возбуждали любопытство и какую-то смутную жалость к людям. Шика ради мы могли купить поношенный мантель. Конечно, один на двоих. Во всяком случае примерить мантель мы наверняка могли. Вилька натянул, получилось смешно: человек в шерстяной торбе. Оказывается, все эти мантели были с толстых, с пузатых, с громадных. Мы посмеялись, а потом, стоя у теплой нагретой стены, слушали, как трогательно и робко поют итальянские аккордеоны: «Санта Лючия, Санта Лючия...» Очень красивые аккордеоны.
И с ужасным грохотом рядом носились мотоциклисты по отвесной стене, по гладкой, по скользкому холодному колодцу, где не за что ухватиться, где невозможно спастись, круг, еще круг, еще...
И тут же за одну минуту можно было выиграть в «три листика» безумные деньги.
— Только эта карта выигрывает. Эту поднимаешь, ничего не получаешь. Игра проста — от тыщи до ста... Замечай глазами, получай деньгами...
А благородный, весь переливающийся аккордеон задумчиво выводил:
Где ж вы, где ж вы, очи карие... А Россия лучше всех!..Мы стояли и слушали всю эту разнострунную музыку жизни. А потом во все глаза смотрели на лотки, полные теплых душистых пирожков. Мы тоже знали, что такое война. У нас кружилась голова при виде этих пирожков. И мы боялись, что у нас такое вот головокружение останется на всю жизнь, потому что мы были из Ленинграда. Что вам еще к этому добавить? Всего три года назад мы были пацанами в коротеньких штанишках, остроносыми и синими. Ютились за промерзшими стенами, дрожали от грохота бомб и снарядов, и по ночам нам снились такие вот пирожки. А утром пахло инеем, который рос на обоях, и матери, наверняка зная, что умрут, отдавали нам свой хлеб, чтобы мы дожили до ПОБЕДЫ, до СЧАСТЬЯ, до этих лотков с пирожками. И, не споря, не выбирая, мы с Вилькой сразу же нашли, куда нам вложить свой капитал Решили привезти домой муки. Целый мешок белой, настоящей, в которой нет ничего лишнего. Только муки! И целый мешок! Нам хотелось быть взрослыми мужчинами, которые умеют заботиться о своем доме.
— Муки, — сказал Вилька. — Мешок привезем, Генка.
Итак, еще день надо было провести во Львове, хотя нас давно уже ждали дома.
— Правильно, Виля, — сказал я. — Муки привезем.
Я представил, как вхожу в свой дом весь в муке и с мешком на спине, распахиваю дверь... Уже кормилец и уже мужчина! Вот какой я, мама! Ты думаешь, это что? Это — мука! Ну конечно! Вот, я тебе привез!..
В ту ночь мы спали в сквере на главной улице, недалеко от театра, спрятавшись за кустами. Где еще можно было спать, если майоры и полковники укладывались в гостиницах прямо на полу. Мы лежали молча, глядя перед собой, чувствуя, как приподняла нас и заворожила ночь, но еще больше — наша идея. Долго светились окна ресторана «Бристоль», и где-то рядом звучал рояль. Музыка была настоящая, серьезная, и в такую ночь — страшная. Проплыл перед глазами разрушенный Крещатик, появилась черная печь, возник усатый солдат с портсигаром.
— А здорово! — повернулся я к Вильке. — Как думаешь, а сколько дадут на пятьсот рублей?
— Сколько дадут, столько и будет. Спи давай.
Но он сам тоже не спал.
А музыка все лилась и лилась. Она открывала перед нами мир и тут же сжимала нас, мы превращались в карликов, мы становились маленькими и беспомощными, а над нами темнели круглые кроны деревьев, и что-то царапалось и шуршало в траве, и удивительным теплом веяло от земли.
Вилька заснул.
Рояль был отличный. Я почему-то представил себе, что он стоит в большом и пустом зале, где колонны н блестящий паркет, и там сидит тоненькая девушка в белом платье, и она играет, закрыв глаза. Играет и слушает эту музыку, которую как будто выдумывает сама и вот в эту минуту. И она похожа на мою маму. Я поднял голову, хотел узнать, откуда эти звуки. За листьями был виден фонарь и черный, весь уже потухший дом. И на третьем этаже одно окно открыто. Я подумал, что вот бы войти к тот зал, где колонны, и постоять рядом с девушкой. Но только, наверное, это будет смешно: она — и рядом я, рост сто пятьдесят шесть, нос помидором, брови почему-то лохматые. А может, и сама она какая-нибудь отщепенская пани из старой Польши. И что из того, что у нее красивые губы, прямой нос и длинные ресницы, черные и острые, но рояль-то получен от эксплуатации холопов. Мы с Вилькой жить среди колонн не собирались. Мы с ним, для своих лет, были уже люди: у каждого — медаль «За оборону Ленинграда» и медаль «За трудовую доблесть». «Трудовую доблесть» мы получили за сорок третий год. Были всей школой в совхозе «Лесное», пололи, копали, удобряли. И здорово работали, если учесть, что были тощие, как листы фанеры. Почти всех ребят поставили на прополку турнепса и на рассаду капусты. Человек же пять — и мы с Вилькой были среди них, самых выдержанных, волевых, дисциплинированных, — послали собирать клубнику. Я таких красивых ягод никогда не видел— крупные, сочные, шершавые на ощупь и с блестящими боками, красными, желтыми, розовыми, и даже в самую жаркую погоду холодные, а вернее — прохладные. Мы собирали их в крохотные плетеные корзинки, потом складывали полные корзинки на телегу, ровно и осторожно. Приходил директор совхоза, считал корзинки, и телега куда-то уезжала, а нам свои же ребята не верили, что мы не дотрагивались до клубники: не может быть у человека такой воли, тем более у голодного. А мы продолжали собирать клубнику, и никто не догадывался, почему, ползая по грядкам, мы все время насвистывали так, что у нас губы болели. И вот нас-то, пятерых, и наградили медалями «За трудовую доблесть».
Город постепенно затихал, а я все слушал музыку и вспоминал свою жизнь. Сперва лежать было удобно и тепло, но потом стало холодно. Вилька натянул на себя мою ногу, обнял ее покрепче и захрапел. А меня музыка совершенно вдавила в землю, и я начал думать о матери. В январе сорок второго года она упала в коридоре. А слегла она еще в конце декабря, но я не представлял, что ей так плохо. И вот восьмого января — всю блокаду я помнил день за днем — она встала, чтобы пойти в уборную. Только закрыла дверь за собой, и вдруг в коридоре грохот. Я выскочил из-под одеяла, весь — комок ужаса. В коридоре было темно, слабый свет проникал только из фрамуги. Но я все увидел. Мама лежала возле этажерки, раскинув руки, вытянув ноги. Я поднял ее и как мог дотащил до кровати. И вдруг увидел, что глаза у нее стеклянные, и спокойные, и даже безразличные, и очень большие. И первый раз в жизни мой мозг разворотила мысль, что смерть — не выдумка, что это может случиться даже с моей матерью. И ведь она отдавала мне свой хлеб... Я смотрел на нее и видел то, чего не видел еще пять минут назад: нос острый, глаза провалившиеся, и губы и щеки тоже как будто провалившиеся, а вся она серо-зеленая. «Не хорони меня, — сказала она, глядя куда-то вверх, и сказала очень спокойно, как будто выбросила меня из своей жизни. — Не надо тратить сил. Завернешь в простыню, вытащишь во двор и там оставишь...» Я ревел, и целовал ее, и обнимал, и умолял...
...Музыки больше не было, но окно на третьем этаже все еще было открыто. Я тоже кое-как заснул, коченея от холода, прижимаясь к Вильке. Приснился рынок, шум голосов, аккордеоны и та самая старушка в чистеньком белом платочке, которая на плохом русском языке сказала нам, что в самом Львове мука дорогая, надо отъехать немного и купить где-нибудь на селе, там дешевле. Во сне старушка торговала мукой. Она сыпала ее на весы, потом брала в ладони, подбрасывала вверх н смеялась как сумасшедшая. А я собирал муку вместе с землей и сыпал в мешок, чтобы отвезти маме.
Неожиданно мы с Вилькой проснулись от какой-то ругани. Возле нас устроился инвалид, впрочем, нас он, наверное, не видел. Ворочался между кустами, крыл на чем свет стоит свою деревянную ногу и был, по-видимому, пьян. Мы притаились и молчали, потому что спать на улице не полагается. Неожиданно возле инвалида появилась женщина. Теперь они вместе ругали его деревянную ногу, и кусты трещали еще сильнее. Как и следовало ожидать, возле нас вырос милиционер. Поднял всех, и мы пошли к фонарю знакомиться.
— Нельзя так, — сказал милиционер. — Вы знаете, что в городе неспокойно. А то устрою куда полагается.
— Ай, иди ты.. — Инвалид уцепился за женщину и постукал своей деревяшкой в гору, в узкую темную улочку.
— Пошли, — взял меня за руку Вилька.
И мы тоже пошли в ту улочку, испуганные и закоченевшие. Там, выше, не было фонарей, дома сходились и стояли стеной, а все равно было ощущение пустоты. Вокруг — точно после набега: застывшие деревья как будто боялись тишины, вытянулись, оцепенев, стекла в окнах не блестели, от холода била дрожь, и мы все шли и шли в гору, будто завороженные молчаливыми каменными глыбами — от них нельзя было уйти, нельзя было вырваться, а пустое небо никак не хотело белеть, и ночь словно пришла навсегда. Потом раза два где-то бабахнули выстрелы.
— Куда пойдем? — спросил я Вильку.
Мои голос процокал по камням и показался мне чужим. Я искал глазами какую-нибудь скамейку.
— Поедем отсюда куда-нибудь подальше, — сказал он. — Чем дальше, тем дешевле. Это, знаешь, есть такой анекдот: так далеко, что уже бесплатно. Замерз?
— А ты?
Он посмотрел на меня и усмехнулся. Он был на голову выше меня, шире в плечах и здоровее. И, усмехаясь, спросил с едва уловимой ехидцей:
— А может, бросим с этой мукой? Дохлятина ты, дохлятина... Помрешь еще.
Когда открылся вокзал, мы поспали там на полу возле кассы, прижавшись к стене, чтобы нас не раздавила очередь. Вверху были окошечки касс. Запах стоял такой, точно нас накрыли большой портянкой, и стало тепло...
...Билеты мы взяли до Перемышля, как раз согласно тому правилу, что чем дальше, тем дешевле, и не зная, что это уже на той стороне границы. Поезд был обычный: облупленные зеленые вагоны, крутые деревянные лесенки, небольшие окна, на лавках народ очень разный и несколько пограничников, серьезные парни в зеленых фуражках.
Нам хорошо. У нас чемоданчик и, ухарства ради, большая — сто штук — пачка «Казбека». И больше ничего. Мы стоим у окна и, высовываясь из него, изучаем места. Вылетает из-под колес песок, громыхают стрелки, зеленой стеной несется насыпь. Гудок у паровоза красивый и властный. Так вот, мы привезем домой муку. Много муки, белой и чистой. Вот так! Так вот! Вот так! Так вот!
— А могут пустить под откос, — сказал кто-то за спиной. — Даже очень просто. Бандеровцы.
— Бывает.
— Семи смертям не бывать...
Зеленая насыпь то растет, то прыгает вниз. За деревьями белеют хаты. Они не такие красивые, как у Куинджи, но зато живые, теплые, земные. Коза смотрит на поезд, удивленно наклонив голову. Уже целая туча песка несется рядом с вагонами. Солнце висит над тополями, желтое, заходящее, все еще теплое. Гудят возле нас мужские голоса:
—Треба було цей Берлин соби забраты...
— Америка-то она далеко. У них — бомба, вот какая штука.
— Теперь отвоевали. Теперь солдату другая будет жизнь, хорошая...
— Была и у меня колысь жинка... эй, хлопцы, вам кажу: берить сало. Берить, берить. Е на Украини сало и буде...
— Спасибо. Не...
Вилька отказывается от сала, стесняется и краснеет. Мы с утра не ели и не взяли с собой даже кусочка хлеба. Но мы знаем, почем сало.
— Ну, хлопцы!
— Не...
Прижавшись к окну, я чувствую, как похрустывают у меня в пиджаке деньги. Они за подкладкой, чтобы не украли. Эти деньги — на муку. Снова побежали рядом хаты. Рассыпались у леса под высоким белым небом, повернулись перед нами и стали совсем маленькими. В насыпи черная дыра и вода в ней. Это воронка. Потом ржавые обломки вагонов. Колесами вверх сгоревшая платформа. И похожа она почему-то на дохлую собаку, которая лежит на спине.
В лицо бьет теплый ветер, и пахнет он житом. По тропинке идет женщина с корзинкой.
— Далеко отъехали, — подмигивает мне Вилька. Лицо у него черное от пыли и сажи.
Я смотрю, как легко, как непринужденно идет женщина по тропинке, и снова думаю о матери.
— Берить, хлопцы, сало, — просит тот же голос. — Ну чего там, хлопцы.
В конце декабря мама уже не могла ходить в магазин.
Я только позже понял, почему она стала доверять мне карточки. Боялась, что упадет на улице, замерзнет и я останусь без хлеба. Последний раз она ходила в магазин девятнадцатого декабря. А морозы стояли такие, что у нас вся комната была в инее. Мама пришла озабоченная и как мне теперь кажется, какая-то быстрая и резкая, хотя этого совсем не могло быть. Глаза у нее были большие, серые и мягкие. В руке крохотный кулек. Она достала двести граммов сухофруктов, которые давали вместо сахара, и сказала, что под Новый год мы сварим из них суп. А до Нового года было десять дней. И я потихоньку таскал из кулька то сливу, то вишню. Не мог удержаться. И когда под Новый год мама открыла буфет, кулек был пустой. Мы остались без супа. Мама не сказала ни слова. Я же сам только через несколько месяцев, перебирая в памяти все, что случилось этой зимой, почувствовал страшный стыд, готов был провалиться сквозь землю. Как же так, неужели у меня совсем нет выдержки, нет воли? Потом я отомстил самому себе. Я отомстил себе вот той клубникой в совхозе «Лесное».
...Солнце опустилось еще ниже и теперь пряталось за тополя, просовывая сквозь ветки длинные желтые лучи. Я подумал, что уже далеко от Львова и мука здесь, наверное, совсем дешевая. Снова ржавые колеса вагонов. Все те же голоса мужчин за спиной. И неожиданно новый голос, железный и сухой:
— Приготовьте документы...
Я смотрю на Вильку и вижу, что его замечательные глаза, его добрые синие глаза становятся бессмысленными и круглыми, становятся рыбьими.
— Приготовьте документы! — гремит железный голос. — Документы! Государственная граница!
Я смотрю на Вильку. Какая граница?! Здесь высокие тополя, веселое стадо, зеленая и ласковая трава. А куда же едут все остальные? За границу? Вагон стал маленьким, а мы почувствовали себя большими, до несуразности громадными, очень заметными. Здесь, оказывается, полно пограничников. Сидят в каждом купе. Как же это понять? А Перемышль? А наша мука? Теперь нас заберут. Даже ребенок знает, что нельзя находиться возле границы.
Уже через минуту у Вильки лицо подчеркнуто безразличное. Но я вижу, как он начинает покусывать губу, и знаю, что это значит. Куда же это мы заехали? В животе стало холодно.
Я смотрю на Вильку.
Он деловито пошарил по карманам и начал беспечно насвистывать. А глаза — туда-сюда.
— Документы!
Вилька закурил и дал мне папиросу.
Вагон — это, выходит, просто деревянная коробка, в которую напиханы люди, все как на ладони, и никуда не денешься. К тому же такая скорость.
— ДОКУМЕНТЫ!
Теперь гудок у паровоза тревожный и какой-то сам по себе. Кажется, поезд пошел медленней, начал притормаживать. Обычно паровоз гудит перед станцией. Надо еще повернуться и очень спокойно снять с полки наш чемоданчик, где сульфидин, финский нож и большая пачкя «Казбека». И тогда, может быть, мы убежим. Мы стоим себе и дымим. Вилька пожимает плечами, точно ему страшно надоела эта дорога — такая она бессмысленная, — поворачивается и снимает чемоданчик с полки. Десять тысяч глаз смотрят нам в спину, тянут назад, ощупывают нас, кричат, бьют, хватают... Ни с места! Ни шагу. Всё!
На маленькой станции — две дорожки синих рельс, как будто влажных, вспотевших, несколько тополей, высокий старый дуб и белый одноэтажный вокзал. Больше — ничего.
С длинной масленкой в руке прошел по шпалам рабочий. Внимательно оглядел нас и отвернулся. Неожиданно стал слышен стук дятла. Тук-тук-тук... тук. И снова мы почувствовали себя большими и заметными. На мне синий пиджак и серые брюки, волосы ежиком. На Вильке черные брюки, вылинявшая отцовская гимнастерка, светлые волосы мягкими волнами.
— Когда обратный на Львов? — спрашивает Вилька.
Мы только одни стоим на платформе. Вокруг пусто.
Рабочий останавливается.
— Вы сошли с этого? — Он показывает в ту сторону, откуда доносится прощальный, очень знакомый гудок, на этот раз бодрый и независимый.
Я молчу.
— С этого, — отвечает Вилька.
— А зачем приехали?
— Нужно. А буфет на этой станции есть?
Рабочий покачал головой. Глаза у него буравящие и острые.
— Львовский рано утром. А вы знаете, что здесь граница? Сцапают, и попадете в тюрьму.
— Знаем, — певучим своим баритоном, еще не очень окрепшим, неуверенным, говорит Вилька и тянет меня за пиджак, чтобы я не открывал рта.
— Ну-ну, — как-то неопределенно говорит рабочий, говорит это уже на ходу.
На отцовской Вилькиной гимнастерке дырки от орденов и следы от полосок, которыми отмечались ранения. Золотая — за руку, которая осталась где-то у Курска. Слышно, как на станции звонит телефон.
Теперь нам не до муки. Надо куда-нибудь уходить от этого здания подальше, чтобы никому не мозолить глаза, В каком-нибудь овраге переждать ночь, а утром незаметно юркнуть в поезд, который идет на Львов. И чтобы так не везло!
Молча, не глядя друг на друга, мы пересекаем полотно, идем к дубу. Снова слышатся чьи-то шаги. И вдруг Вилька начинает громко и неестественно смеяться.
— А майор-то, майор! — сквозь смех кричит он.
— Какой майор? — Я цепенею от его смеха, смотрю по сторонам, останавливаюсь.
— А полковник-то, полковник!
— Какой полковник?
— Как же мы его теперь найдем? — Вилька смотрит на меня совершенно бешеными глазами, так же неожиданно замолкает и стучит пальцем по лбу.
Возле дуба мы нашли узкую тропинку и побрели по ней. Нам хотелось есть, и мы уже одурели от «Казбека».
Солнце садится, и уже чувствуется, что будет холодный туман, трава начинает темнеть, и синева наверху холодная, и даже розовый свет на западе больше напоминает сияние, чем закат. Открылся небольшой кустарник. Может быть, мы уже перешли границу?
— Купишь с тобой муки, — ворчит Вилька. — И почему ты какой-то непутевый?
Я устраиваюсь под кустом, ломаю ветки, чтобы лечь на них. От папирос во рту горько и сухо.
Вилька подбрасывает мне веток, потом снимает гимнастерку, протягивает.
— Чего сало не брал?
— А ты?
— Ты можешь не каркать?
— Могу.
— Ну какая тут граница? Забрали бы нас уже давно. Лежи себе и помалкивай. И не ори на целый километр, говорю тебе еще раз.
— Не замерзну я и так.
— Бери, я тебе говорю. Схватишь воспаление легких, что мне с тобой делать?
— А если тут ходят с собакой?
— С крокодилом тут ходят. Географию учить надо было лучше. А спичек там еще много?
— Ты же сам хотел до Перемышля.
— Тихо, ведь сказал я тебе уже. Лежи тут как мертвый. Идет кто-то вроде...
Из оврага тянет сыростью. Внизу бежит ручей, коричневый и, наверное, ледяной. По другой стороне оврага прыгают вороны. Я натягиваю Вилькину гимнастерку. Настороженно посматриваю по сторонам. Кусты кажутся взъерошенными, не такими, как бывают на самом деле. И что-то шевелится в них.
— Деньги-то у тебя целы? Ты ведь и потерять можешь, тебе недолго.
Я протягиваю Вильке полу пиджака.
— Вот. Целы.
— Не трясись, — говорит Вилька. — Через три дня будем в Ленинграде. Ездить с тобой — одна каторга, скажу я тебе. И не щелкай портсигаром. Взял зачем-то у этого солдата портсигар. Вот привязался на мою голову. Зачем ты взял этот портсигар?
— А я разве тебе не говорил, что нужно купить буханку хлеба?
— Кто говорил?
— Я.
— Вот и ешь теперь, если говорил.
В небо всегда приятно смотреть, потому что сразу же начинаешь мечтать и мысли приходят большие, светлые, по-настоящему человеческие. Но лучше всего смотреть на небо вечером, вот в такую как раз пору. Тогда оно разное. Заложив руки под голову, я смотрю на небо. Тот край, который прямо передо мной, розовый и белый, и чистота там такая, что хочется протянуть руку и прикоснуться к ней, то как будто небо какой-то другой планеты, где горы из отшлифованного гранита, дороги из белого камня, где деревья все до одного похожи на кипарисы, но только разных цветов — есть оранжевые, как апельсины, есть сиреневые, есть голубые, и вода в реках такая, как бывает тихим и пасмурным утром в море — прозрачная и зеленоватая. Если смотреть точно вверх, небо густо-синее, плотное и глубокое, и можно ясно представить, что там бездна, в которой плавают звезды, огромные и крохотные, там они перемешиваются, взрываются, разлетаются на куски и несутся дальше, становятся все меньше, подобно камню, летящему в глубину колодца, такого колодца, у которого нет дна, и если свесить голову, то уже не удержишься — полетишь вниз, заскользишь, унесешься. Остается еще часть свода. Я перевожу глаза и вижу: медленно расползаясь, теряя свою сочность, синева начинает сереть и оставшийся кусок неба как будто покрыт дымом, сделан из дыма, и скучен, и никому не нужен, — там уже ночь.
Я приподнимаю голову и прислушиваюсь.
— Собака, что ли, лает?
— Нет, это корова лает, — вздохнув, говорит Вилька.
Он лежит вытянувшись, подложив руки под грудь, и смотрит то в землю, то куда-то за кусты. У него острые скулы, впавшие щеки, широкий нос с глубоко вырезанными ноздрями. Он для меня идеал мужской красоты. А сейчас, припавший к земле, тонкий, даже плоский, он напоминает мне солдата, который лежит в засаде, лежит терпеливо, чутко.
— Дворняжка какая-нибудь, — говорю я.
— Нет, честное слово, ужасно противно с тобой ездить, — подчеркнуто громко говорит Вилька и переворачивается на спину. И тоже долго смотрит в небо.
— А если мы перешли границу, — продолжаю я, — подадимся куда-нибудь в Данию.
— Это зачем?
— Или в Португалию.
— Или в Мексику, — со злостью передразнивает Вилька.
— Создадим свою партию, устроим революцию, установим Советскую власть.
Приподнявшись на локте, Вилька смотрит на меня белыми глазами.
— Слушай, ты, может, ненормальный? Прямо не знаю, откуда у тебя это?
— Что?
— Мечтательность какая-то идиотская.
Я ничего не отвечаю Вильке. Но сам полагаю, что мечтательность эта у меня оттого, что я часто думаю о матери, о той зиме, о том кульке сухофруктов. Наверное, от этого.
Когда начинает темнеть, кусты оживают и постепенно придвигаются к нам все ближе. Один куст — человек, другой куст — лошадь, третий — не то верблюд, не то трамвай с поднятой дугой. Слышно, как на дне оврага чисто и звонко бежит вода. Торопится и звенит. Несколько раз доносится грохот проходящего поезда. Стали видны звезды, подмигивающие, холодные, равнодушные. Куст-лошадь повернулся к нам боком, на лошади кто-то сидел.
— Посмотри-ка на свой трактор, — попросил я, дрожа и стуча зубами.
У Вильки были здоровенные круглые часы, шире, чем рука, и не тикали, а скрежетали.
— А ну тебя, — наконец не выдержал Вилька. — То орешь, то щелкаешь своим портсигаром. Вставай, пошли на вокзал, и что будет, то будет. Может, поспим там. Ну давай, давай, а то я уйду один. Надоел ты мне. Нянчусь и нянчусь. Хватит.
Пришлось вставать. Я пощупал свой нос. Это был кусок льда. Такими же были и щеки.
Мы тихо и осторожно раздвигали кусты и шли тихо, время от времени останавливаясь и прислушиваясь.
— Ну вот, теперь кури сколько тебе влезет, — сказал Вилька. — Можешь даже есть эти папиросы. И снимай давай гимнастерку.
В зале ожидания, крохотной квадратной комнате с одним окном и даже без лавки, было человек восемь, как попало одетые, небритые, малоприятные на вид мужчины. Все спали на полу. Под потолком горела небольшая лампочка, светившая тускло и желто. На стене висел плакат: «Береги границу!» Пахло грязной одеждой, чесноком, водочным перегаром. Но зато было тепло. На нас никто не обратил внимания. Мы нашли свободное место, на всякий случай подули на цементный пол, легли и сразу заснули. Нам уже было все равно: задержат нас или нет.
Но и во сне я чувствовал себя виноватым перед Вилькой. Просыпаясь на какие-то секунды, произносил целые монологи, ругал себя и казнил. Это, конечно, я предложил ехать в Перемышль. А Вилька, такой самостоятельный и твердый, зачем-то послушал меня. Но я что-нибудь придумаю. Мы все равно купим муку. Привезем обязательно, что бы ни случилось. Не можем мы приехать без муки. А Вилька еще жалеет меня. Увидел, что я замерз, и привел сюда. Он бы, конечно, выдержал в том овраге, вытерпел... Ну, я что-нибудь придумаю. У нас будет мука. Честное слово... Не такой я и бесполезный, что могу только мечтать. Вилька еще увидит...
Кто-то переполз через меня, бормотал над моим ухом, терся о плечо, двигая к стене, дышал прямо в лицо чем-то кислым, толкал коленями, а может быть, сапогами. И я был только рад этому. Я готов был на то, чтобы подо мной разожгли костер и сожгли меня или растоптали совсем.
Утром в моем кармане не оказалось серебряного портсигара, но деньги были целы.
— Раззява ты, раззява, — безразлично и пренебрежительно сказал Вилька. — Взял у человека такую дорогую вещь. Должен был беречь всю жизнь...
Роса была на траве и на рельсах, за деревьями висел туман, холодный, белый, дуб казался светлым, желтый дрожащий свет лежал на здании вокзала, песчаная насыпь тоже точно посветлела, посветлели и дальние кусты, посветлела и Вилькина гимнастерка, небо расстилалось глупо-синее, и солнце, квадратное, еще жидкое, еще не распалившееся, как-то боком-боком поднималось над землей. Пахло сырой травой, сырыми листьями, просмоленными шпалами. Тополя время от времени вздрагивали от утреннего ветра.
Через десять минут придет поезд и все кончится, если кто-нибудь сейчас не подойдет к нам. Все кончится. Человек пятнадцать мужчин и женщин с мешками и чемоданами стояли на платформе. Все штатские. Мы уже давно ощупали каждого глазами и теперь ждали, кто еще выйдет к поезду. Что, если пограничники, и снова начнется проверка документов?
Донесся уже гудок паровоза, далеко на повороте выросло белое облако, и теперь можно было различить и стук колес. Осталась какая-то минута, и мы уедем.
— Виль, — сказал я. — Ты подожди меня во Львове, а я останусь здесь и куплю муку...
Он посмотрел мне прямо в глаза.
— Можешь... Можешь оставаться здесь навсегда. — И, выхватив у меня чемоданчик, он пошел навстречу поезду, но, пройдя несколько шагов, обернулся: — Иди за мной, я тебе сказал.
Он ничего не понимал и презирал меня. Я видел это по тому, как он наклонил голову, как скривил губы, как смотрел на меня. Он был здорово похож на своего отца: такой же замкнутый, весь кипящий внутри, и такая же глубокая складка на переносице, и рот такой же, прямой и напряженный. Только глаза были материнские, добрые, спокойные, терпеливые.
Я стоял.
— Иди! — крикнул он. — Я бы тебе за этот портсигар голову отвернул. За мной иди.
Платформа кружилась у меня под ногами, она была точно мягкой, точно продавливалась. И я понял, что вот теперь уже точно убегу от Вильки, уйду. Брошусь куда попало, и пусть меня вертит, крутит, швыряет. Я уже ненавидел его зеленую, полинявшую спину, широкую и прямую, с острыми, выступающими лопатками, со светлой полосой от ремня, его новую, подчеркнуто твердую походку, в которой каждый шаг — это целое событие. Я уже не хотел смотреть на Вильку, но мой взгляд прилип к нему.
Вагон был набит демобилизованными. Что набит! Он был начинен, нафарширован крепкими потными телами, гогочущими, ревущими, задорными, беспощадно сильными, жестоко самоуверенными, непоседливыми, верткими, нетерпеливыми, и для остальных было место только в тамбуре, для остальных — это для разных там с корзинками, мешками, тюками, для остальных — это для кепок, картузов, клетчатых хусток, соломенных шляп, скатанных в тугой ком, ухватившихся друг за друга, вбитых в этот тамбур так, что уже никому не просочиться: все на Львов, на Львов, на Восток... Втиснувшись, Вилька все же просочился, продрался к противоположной двери. Я — за ним. Там он встал, прислонившись, как любил, к стене и плечом и головой; он и у доски, когда решал задачку, всегда стоял, откинув голову набок, глядя куда-то перед собой, и вот так же он стоял сейчас, спокойный и независимый, а я был прижат к его гимнастерке, уткнут носом в металлическую холодную пуговицу. Так мы и поехали, молча, не двигаясь, неспособные пошевелить даже ногами, слушая о ценах на доски, кирпич, о вернувшихся и убитых, о невестах и бандеровцах, поехали под аккомпанемент губной гармошки и сиплого, время от времени повторяющегося удивленно-ликующего крика: «Расея, братцы!» — и чувствуя себя в безопасности в живом клубке людей. Но муки у нас не было. Билетов тоже.
— Какие тут билеты?! — сказал кто-то.
— Вчерась баба из поезда вывалилась, — сказал другой. — А кошелка с цыплятами осталась. Вот те и билеты.
Вилька молчал. А я не поднимал головы, чтобы не видеть его лица, его пульсирующих скул. Иногда в открытые двери врывался ветер, и тогда пропадал запах дыма, колбасы, мужского пота. Сквозь ветки тополей, прыгая по ним, как палка по решетчатому забору, просвечивало солнце. Пыльный и дымный его луч упирался в чью-то лысую голову, блестевшую справа от меня.
— А вы, хлопцы, не здешние? — спросил кто-то.
Поезд качнуло. Вилькина грудь поднялась, и с каким-то злорадством я вдруг услышал, как заколотилось его сердце, часто и гулко, забилось подобно ласточке, залетевшей в комнату и затрепетавшей на стекле.
— Были здешние, а теперь: ту-ту, — с улыбкой ответил Вилька.
И еще сильней, почти отчаянно, точно из последних сил забилась ласточка. Вот теперь нас поймают. И все началось из-за того, что Вилька, едва мы сели, спросил: нет ли на следующей станции буфета. Вот из-за чего. И я знал совершенно точно, что он узнавал про буфет ради меня. Эти последние два года он и в школе относился ко мне как-то странно: точно издеваясь, точно снисходительно присматриваясь. Когда бывала контрольная, он всегда решал первый, так легко ему все давалось, но специально сдавал работу после меня. Вставал я, и сразу же вставал он, откидывая назад волосы, и, стуча отцовскими сапогами, у которых нос был уточкой, шел к столу. А потом, и коридоре, прислонясь к стене, спрашивал:
— Решил?
— Решил.
— Врешь, наверное, — и смотрел в таких случаях прямо в глаза и усмехаясь.
И каждый раз мы получали с ним по пятерке. И каждый раз эта история повторялась сначала. И я не мог понять, что все это значило.
— Откуда же вы, если здешние? — снова тот же голос.
Подняв голову, кося глазами, я начал медленно обводить лица: усталое, небритое, безразличное, жесткое, замкнувшееся, весело-беззаботное... но тут же понял, что это опасно: собственный взгляд выдаст меня.
— Скобские мы, — добродушно ответил Вилька и незаметно сжал мою руку. — Псковские.
Несколько человек засмеялись.
— Эй вы там, в тамбуре, подпевай! — крикнули из вагона.
— И таких молоденьких на войну брали, — глядя на Вильку, сокрушенно проговорила женщина в черном шелковом платке с красными цветами и стала рассказывать, что едут солдаты из Польши, не дожидаясь пассажирского садятся на товарный, а их по дороге бандеровцы с угля стаскивают, стреляют и режут.
— То правда, — подтвердил кто-то. — Людям до дому хочется. А тут жди пассажирского.
Вагон летел, громыхая песней, жуткой от силы мужских голосов. Про нас забыли. Но я уже не боялся ни контролеров, ни пограничников. Меня душило от Вилькиного снисходительно-пренебрежительного тона, злила потеря портсигара, мне хотелось зареветь от всей этой истории с Перемышлем. Я понял, что бежать уже нечего. Стиснутый со всех сторон, весь какой-то пустой, раздавленный, я думал над тем, как мне уйти от Вильки, как это сделать.
Из круглого Вилькиного подбородка торчало несколько волосинок. Он уже брился, а я еще нет. И меня это тоже злило. Я, может быть, в чем-то завидовал Вильке, в глубине души, может быть, даже не любил его, а может быть, чувствовал себя бесконечно виноватым и потому злился, распалял самого себя.
Долго не было остановки. От моего носа железная пуговица на Вилькиной гимнастерке стала теплой. Солнце поднялось выше, начало желтеть. Парень лет двадцати пяти, в форме милиционера, но без погон, дымил мне в лицо махоркой. Женщина в черном шелковом платке продолжала набивать тамбур ужасами: разными слухами о бандеровцах. Я решил, что уйду от Вильки во Львове. Он прислонится к стене, будет смотреть с усмешкой, мы разделим деньги и наконец разойдемся в разные стороны для того, чтобы он узнал, что я могу и без него, без его опеки погрызть, как он говорит, эту штуку, которая называется «жизнь». Но все же он в чем-то, наверное, прав, если у меня украли портсигар и я ничего не слышал. Нет, слышал, только не мог открыть глаза. Все равно уйду. Я сам хочу всегда быть прав. Наверное, так устроены люди.
Оборвалась цепочка тополей, солнце брызнуло вовсю. Под ногами заскрежетало, пассажиры задвигались, загудели. Выходить никто не хотел — боялись потерять место. Поезд остановился. А я уже все решил для себя.
— Ну, побежали, — сказал Вилька и начал мною буравить толпу. — А то твои кишки слиплись.
И меня опять обожгло: он сказал только про меня, как будто у него самого кишки гофрированные, как трубки противогаза. Молча и чувствуя, что у меня от обиды нет слов, чтобы обороняться, я стал выбираться из вагона.
Вилька побежал вперед, размахивая чемоданчиком, а я остановился, отойдя совсем недалеко от вагона, чтобы издали посмотреть еще раз, как он бежит, как торопится, но теперь неизвестно ради чего. Эта станция была больше, чем та. Вокзал двухэтажный, слева — что-то вроде рыночной площади. Подъезжая, гудел товарный. Возле двери висел треснувший колокол. Сновали туда-сюда люди с чемоданами и мешками. Вилька уже был далеко, и я уже не смотрел на него, но по-прежнему стоял на месте, точно вкопанный, точно пришпиленный током. Мне вдруг показался холодным и неприветливым этот вокзал, а тело заполнила пустая, оседающая где-то в животе тяжесть, как предчувствие, недоброе, жуткое.
— Ну чего ты? — крикнул Вилька.
И зачем-то я пошел за ним, а не нужно было этого делать. Нужно было дотерпеть до Львова. Оставалось каких-нибудь три-четыре часа. Но я пошел за ним, зная, что ему еще раз хочется насладиться своей щедростью.
Внутри вокзала еще пряталось холодное утро. Рядами стояли пустые, обтертые скамейки, кое-где заплеванные семечками. Свесив голову, прижимая красную фуражку к груди, и от этого похожий на снегиря, спал железнодорожник. На двери буфета висел замок. Было слишком рано. Следом за Вилькой я поплелся обратно, чувствуя еще большее раздражение, чем прежде. А дальше все произошло с невероятной быстротой. Все случилось как гром с ясного неба.
Была спина Вильки, всего в двух шагах был перрон, освещенный солнцем, дощатый, местами сгнивший, и совсем рядом наш поезд, зеленый и теплый, и мне надо было только поднять ногу, чтобы переступить порог вокзала, как вдруг все заслонила фигура в синем штатском костюме. Загорелое лицо, белый отложной воротничок, прямой взгляд, карман оттянут.
— Одну минуту!
— Что такое? — Я смотрел, как легко и спокойно Вилька идет к поезду, а до поезда ему несколько шагов, несколько секунд, а потом — все.
— Вы вчера ехали в ту сторону?
— Ехали. Ну и что? — И тут я почувствовал, что как раз это самое случилось, а поезд сейчас отойдет. Так мне и нужно. Со мной — конец. И это ничего, ничего. Все правильно. Пусть Вилька уедет, а меня посадят. Я был согласен на это. Вилька взялся за ручку нашего вагона и обернулся. Зачем? Зачем?
— Зачем вы ехали в ту сторону?
— Когда?
— Вчера вечером.
— Мы?
Мне хотелось крикнуть Вильке, чтобы он убегал. Мне хотелось, чтобы он растворился.
— Как это — мы?
— Вы, вы.
— У меня уходит поезд. — Я подумал, что все равно не выдам Вильку. Но почему он стоит, а не прячется в вагон?
— Нет, подождите.
— Но ведь уйдет же поезд! Что вам нужно?
Вилька стоял и смотрел на меня, внимательно, оценивающе. Махнул рукой, но робко. И в это время раздался гудок, белый флаг взвился над паровозом, затрепетал и полез выше, выше. Поезд вздрогнул, медленно поплыл. Только бы Вилька встал на подножку, ухватился за ручку и отвернулся, и не смотрел на меня. Только бы Вилька уехал. Больше мне ничего не нужно.
— Но ведь уходит... — Я попытался сделать шаг вперед, но вяло, обреченно. Такая у меня судьба, и я отсижу свои годы. Только бы Вилька... Ему нельзя...
Поезд катился, набирал скорость, блестел окнами, размахивал платками, а Вилька бежал ко мне со всех ног. Подбежал и, чувствуя что-то неладное, вертя глазами, остановился в трех шагах.
— Ну что ты разговариваешь с ним? Что ты с ним говоришь? — кричал он, подходя все ближе и прицеливаясь, чтобы схватить меня за рукав. — Что вам от него нужно? Побежали! Ну что вам нужно?
Еще проплывал рядом хвост поезда. Если кинуться, можно было успеть. Но у меня уже не было ног, я не понимал, что кричит Вилька.
- Ну что вам? Отпустите его... Отпустите...
Так мы остались, а поезд ушел. Было чистое августовское утро, солнечное и уже теплое.
- Пойдемте со мной к капитану, — сказал мужчина строго, но спокойно.
Он шел сзади, а мы деревянно выстукивали вдоль голых стен, по каким-то коридорам, красным от лозунгов, зная, что идти недолго, что все равно придем туда, откуда уже нельзя выйти, и даже сейчас чувствуя, как накапливается в глазах сухая пустота, отупляющая, бесчувственная, мутная, хоронящая краски, звуки, оттенки, музыку, весь человеческим мир с его гордостью и достоинством. Пропало все, были только наши шаги.
- Направо.
Мы так и сделали. Вот чем обернулась моя мечтательность, и вот как мне жилось с ней. И мне и почему-то Вильке.
- Прямо.
Мы пошли прямо, не переваривая это слово, а подчиняясь ему сразу же и беспрекословно.
- Направо.
И мы повернули. Вот что означала сила одного над другим. И потом, сколько я ни старался, я не мог вспомнить, какая краска лежала на стенах тех коридоров - был это цвет неба или цвет травы или цвет осеннего поля. На всем лежал один цвет - страха, однообразный и липкий, нудный и леденящий.
Капитан был похож на июльскую маковку: туловище тонкое, лицо круглое, а зеленая фуражка как будто мала и томно прилеплена к макушке. Рукой он поглаживал щеку.
- Зачем вы переходили границу?
На полу у моих ног лежит солнечный луч. И, не решаясь взобраться на ботинок, ползает синяя мясная муха. В открытое окно доносится запах станции. Паровозный дым, перегретое машинное масло, смола, перемешиваясь, образуют какой-то одуряющий запах, от которого рождаются тоска и сонливость и жалость к самому себе. Товарный полязгивает. В солнечном луче крутится пыль.
- Когда? — удивленно спрашиваю я. Мне хочется крикнуть, что это я виноват во всем, я завез сюда Вильку.
- А вы не знаете когда? Ночью. — У Маковки лицо еще зеленей, чем фуражка, может быть так падает свет. — Вчера ночью туда перешли, а сегодня вернулись. Зачем?
- Мы? Вы что?
- Не мыкать. Говорите правду, — и, перекладывая с места на место финский нож, сульфидин, железнодорожный универсальный ключ, всасывая воздух в больной зуб, Маковка бросает на Вильку злые, раздраженные взгляды. — Где вы были ночью?
Вилька скребет ногтем по столу, на одной ножке которого фиолетовый подтек, напоминающий подвешенную за хвост крысу. Вилька молчит, потому что его оскорбили в этой пустой комнате, обыскали, заставили снять гимнастерку, ощупали всего. Он такой. Теперь будет молчать, если ему не поверили. Мой пиджак тоже распорот, и на столе, россыпью, больше всего красных тридцаток, лежат наши пятьсот рублей.
- И финка, и ключ. Хороши! — И вдруг Маковка чихнул.
Вилька вздрогнул.
- Ночью? — Я наваливаюсь на стол. — Да мы ночевали на станции.
- Нет, вы ушли в сторону границы, а теперь едете во Львов, — наклонив голову набок, Маковка греет ладонью щеку.
Наконец, чуть повернувшись, почти выворачивая глаза, так, чтобы не заметил Маковка, я смотрю на Вильку. У него чуть перекошены губы, какое-то подобие усмешки, серые пятна на щеках и узкий, в одну точку взгляд.
- Не скребите, — опять сказал ему Маковка. — Финка зачем? Ключ? Порошки откуда? Что это за порошки?
Вилька опускает руку, вздохнув так, что плечи его поднимаются, переводит взгляд на окно. В этой своей розовой майке, дырявой от старости н многих стирок - а гимнастерка его валялась на барьере, свешиваясь одним рукавом вниз - загорелый и вмиг похудевший, Вилька никак не похож на шпиона, хотя Маковка больше кричит на него, потому что он ростом выше и кажется взрослее.
- У меня там на станции украли серебряный портсигар, — кричу я. — Мы спали там, у меня украли ночью.
Маковка отодвигает фуражку на затылок, взгляд у него пристальный, твердый.
- Он в пиджаке был. Вот в этом, в правом кармане. А деньги не украли. Плоский, серебряный. Внутри наскребано: «Без ноги, но живой». Мы муку хотели купить. Для того деньги и были зашиты в подкладку, чтобы не украли.
- Так где же вы были ночью?
- Мы на станции ночевали. На станции.
- Спокойно.
- Я правду...
- Нет. Мы видели, что вы пошли к оврагу. Постояли, потом перешли полотно. — Маковка опять всосал воздух. — А потом пошли по тропинке к кустарнику. Так?
- Правильно. Правильно. А потом мы ночевали на станции.
- Врете. С кем связаны? Только честно.
Вилька, вздохнув еще раз, опускает плечи. Он по-прежнему молчит, точно это его не касается, точно он согласен, что приехал сюда специально, чтобы перейти границу. И от его молчания, бесконечного и какого-то обвиняющего, мне еще хуже.
- У меня там на станции портсигар ночью украли, — снова кричу я. — Плоский, серебряный. Написано: «Без ноги, но живой». Мне солдат подарил.
- Зачем вы ходили на ту сторону?
- Мы и не ходили. Мы муку хотели купить. Чем дальше, тем дешевле.
- Какую муку?
- Самую простую. Обыкновенную. Белую. Из которой пекут. Мы хотели привезти в Ленинград. Матери.
- А почему поехали в этом направлении?
- Мы муку хотели купить... Чем дальше, тем дешевле...
Маковка спрятал нож, развернул сульфидин, еще раз понюхал и тоже спрятал в стол. На вид ему было лет двадцать восемь, и был он в самом деле так зелен, точно никогда не ел, не спал, а впитывал в себя какой-то сок прямо из земли. Он сказал, что если мы не связаны ни с какой дрянью, которая еще шныряет по лесам и которую надо выжигать огнем, то это наше счастье, и тогда мы просто получим свои семь лет, потому что нельзя шляться по зоне и валяться в овраге возле самой границы, которую ему доверено охранять.
- Вам понятно? Вот тогда вы научитесь уважать порядок, дряни такие.
- Мы муку хотели купить, — повторил я.
Маковка встал, поправил гимнастерку, протянул Вильке две тридцатки. Немного подумав, протянул еще одну.
- Ну, и эту отраву, — он показал на папиросы. — Пошли.
- Все равно мы убежим, — беспомощно глядя на решетку, на голые стены, сказал я. — Нам через пять дней в школу.
Маковка ключом закрыл дверь камеры. Мы остались один. Здесь не было ни кровати, ни лавки, ни стола, а на большом окне не было стекла, только решетка.
- Ясно? — мрачно выдавил Вилька и аккуратно повесил свою гимнастерку на гвоздь. — Ну и все.
- Сколько нам будет потом - уже по двадцать два? — Я хотел заглянуть Вильке в глаза.
- Угу, — сказал он.
Передо мной была его спина. На майке несколько дырок, одна - большая, как двугривенный, остальные - продолговатые, с растрепанными краями. Тюрьма.
Из окна была видна жизнь, просторная и залитая солнцем. Слева — часть перрона, прямо — что-то вроде рынка, небольшой навес и под ним женщины с кульками и бутылками молока, справа — бегущее по насыпи железнодорожное полотно и край дубового леса. И все это под голубым бескрайним небом, все это с ветром, с голосами, тропинками, по которым можно было уйти далеко, как хотелось, идти очень долго, потом остановиться, полежать на траве, запрокинув голову, вдохнуть запах земли и снова идти куда хочешь.
Вилька просунул сквозь решетку руку. В пальцах краснела тридцатка. Он помахал ею.
За этот час от товарного мало что осталось. Его растащили. Только четыре вагона еще прижимались к паровозу, теперь безмолвному, как будто неживому, пустому и точно брошенному.
— Вудки, пан? — подойдя к окну, улыбаясь только губами, но виновато, робко и стараясь не смотреть внутрь камеры, спросила молоденькая полька. Я подумал, что она похожа на Вилькину мать. Такая же тихая, усталая.
Вилька пожал плечами и тоже улыбнулся, но так криво, что полька опустила глаза.
— Ну и водки, — мрачно сказал Вилька. — Все равно: пусть водки, — и отдал еще одну тридцатку, щедро, как пустую бумажку, никому не нужную.
Полька ушла, и, может быть, навсегда. Вилька сел прямо на пол, прислонился к стене и синими круглыми глазами уставился в потолок.
Наверное, только из-за решетки видно, что люди совсем не умеют жить, не умеют говорить, не знают, как ходить. Странная какая-то лень растеклась по земле. Тот человек, который все время бродил по перрону, надвигая все ниже на лоб старую соломенную шляпу, не знал, куда себя деть. Он просто мучился оттого, что у него были ноги, было время, был он сам. Но ведь он мог спрыгнуть вниз, подойти к той платформе, с которой снимали ящики, и помочь грузчикам, поговорить с ними, посмеяться с ними, потом сесть рядом с ними где-нибудь в тени и выпить молока, прислонясь к стволу дуба. А он все ходил туда-сюда, туда-сюда... На скамейке, возле груды своих кошелок, болтая головой, чтобы видеть одновременно полотно и свои кошелки, которые кто-то мог украсть, хотя никого вокруг не было, сидела и зевала толстая коротконогая женщина, разморенная, расползающаяся на солнце. Она везла во Львов яблоки, чтобы продать их подороже. И только ради этого она сидела тут, изнывала и покрывалась потом. А зачем? Вот она открыла бы корзины и раздала людям яблоки, прямо здесь, на перроне. И ей было бы хорошо, и все бы смеялись, стоя возле нее и похрустывая яблоками. Подошел бы вон тот солдат с вещевым мешком, вон тот, в гимнастерке, облитой водой, и тот старик, у которого был дырявый зонтик. И вышел бы Маковка и тоже съел яблоко.
Вилька сидел неподвижно и, наверное, так же, как я, думал о том, что можно сделать за семь лет.
Подполз, подкравшись тихо и осторожно, пассажирский. И укатил, скрылся за лесом, увез счастье и женщину с кошелками. Выше и выше поднималось солнце, и как-то все тревожнее становилось оттого, что синева неба постепенно растворялась и белела. Те яблоки в кошелках теперь стояли, должно быть, на третьей полке, и тряслись, и качались, и все ближе придвигались к краю.
Пришла наконец полька. Она все же пришла. Посмотрела по сторонам, потом шагнула к окну. Принесла кулек вареных бобов, кружку холодной воды и большую бутылку сухого вина. «Вудки нема». Поулыбалась также виновато и протянула сквозь решетку свою маленькую руку, высыпав на подоконник горстку серебра и несколько скомканных пятерок.
Вилька расстелил на полу газеты. Я отсыпал из кулька чуть-чуть бобов, остальные протянул Вильке. И когда отсыпал, придерживая кулек правой рукой, а левую приставил к газете, чтобы бобы не укатились, и когда заворачивал низ кулька, потому что он отсырел и уже расползался, и когда протягивал кулек Вильке, то все время ощущал на себе его взгляд, пристальный и холодный.
Я держал кулек в руке, а не просто положил его на газету, потому что чувствовал себя виноватым. Я понимал, что означает Вилькин взгляд, и знал, что мне нужно молчать, что бы сейчас ни произошло. И снова, но теперь уже как-то безразлично, думал о том, что те яблоки едут и трясутся, и не мог отогнать от себя эту мысль, какую-то спасительную, отвлекающую. А потом вдруг, сам не ожидая, сказал:
— Наверное, и нас отвезут во Львов. Здесь-то тюрьмы нет.
У Вильки глаза были как острые, обломанные стекла.
— А почему ты взял столько?
Я знал, о чем он говорит, но молчал.
— Почему не больше? — снова спросил он. — А?
— Хватит и этих. Я потом возьму еще.
Он откинул голову назад, скользнул взглядом по моему лицу и, убедившись, видимо, что я есть я и я неисправим, отвернулся. Наверное, проклинал самого себя за то, что связался со мной. Я сжался, но все же верил, что гадости не будет в его словах, в тех словах, которые сейчас обрушатся на меня, точно камни. Этой верой я только и держался. Опустил руку — она затекла — и положил кулек возле Вильки, осторожно, тихо.
— Слушай, — начал он негромко. — Слушай, а почему ты так живешь? Ты можешь сказать — почему? Давай мы поговорим последний раз. Почему я должен тащить тебя домой, а ты всегда обиженный. Из Киева тащить, из Винницы тащить...
У меня голова была набита звуками, которые доносились из окна: стук ящиков, детский плач, шипение маневрового паровоза. И снова мысль про яблоки на третьей полке. Мысль однообразная, без зацепинки, как эти белые, чуть шершавые стены.
— Почему? — Вилька не мог остановиться, наверное, слишком долго он молчал, — Ну почему ты берешь вот столько бобов, хлеба всегда хочешь взять крошку, супа полтарелки? Вечно хочешь взять поменьше, как будто это милостыня. А почему ты не хочешь жить на равной? Для чего тебе это нужно: вечно быть особенным и унижать других. Ставить других в какое-то дурацкое положение. Неужели ты не можешь научиться уважать людей? Или у тебя это уже в крови? И где ты этого набрался? Или ты какой-то искалеченный? Нет, правда, может, ты искалеченный, и у тебя это не пройдет никогда? Почему ты так живешь?
Вилькин голос был далеко. Я жевал бобы и представлял себе, как нас посадят в особый вагон и поезд покатится тихо-тихо. И можно будет спать много суток, вытянувшись на полке, положив под голову ладонь, вслушиваясь в спокойный, мягкий стук колес, бегущих неизвестно куда. Куда-то далеко. Куда-то в тишину. Лежать и плакать. Мешал только Вилькин голос.
— Ведь ты сидишь, — продолжал Вилька, — и тебе так и не терпится сказать, что это ты во всем виноват. Тебе так и хочется быть мучеником и даже сидеть в тюрьме. А ведь это я придумал этот дурацкий Перемышль. И я потянул тебя в этот буфет. И мне противно было слушать, как ты стоял перед этим капитаном, и бил себя в грудь, и еще клялся портсигаром. Ты можешь стать нормальным человеком? Человеком можешь стать? А понять, что мы виноваты наравне, ты можешь, и что мы должны поровну сожрать эти бобы, выпить это вино, истратить наши деньги? Мне надоели твои привычки и надоело, что ты не спишь по ночам, а только все вертишься, и у тебя в башке что-то копошится и копошится. На вот, бери эту кружку и пей. Только всю. Понимаешь, ты — кружку и я — кружку. А если ты искалеченный, тебе надо лечиться или жить где-нибудь среди медведей... Почему ты искалеченный?
Мы выпили на равной это тяжелое, как ртуть, вино. Разливаясь по телу, оно не опьяняло, а как-то оглушало и одуряло, сужая и опуская мир к самым ногам, так, что можно было, не вставая, заглядывать в улицы далеких городов, можно было переставлять с места на место дома в этих городах, вот так же как грузчики переставляют ящики, можно было сажать деревья в этих городах, работать на больших заводах, учиться - и смеяться, смеяться, смеяться, стоя в очереди за мороженым и стараясь держать голову так, чтобы она не опускалась. Стало жарко, душно.
- Обиделся? — спросил Вилька и прислонился к стене. — Ничего, потерпишь. Ешь еще.
По-прежнему лицо у него было серое, глаза как при горячке, а губы двигались, будто сведенные судорогой. Очень ему было плохо. И не от вина, я это знал. А после того, что он наговорил мне, наверное, еще хуже. Но я и сам знал про себя все, что он сказал. Только не знал, что мне с собой делать.
День начал двигаться скачками и то темнел, то был пронизан ярким, слепящим солнцем. И теперь все, что происходило на земле, было связано только с грузчиками, с теми большими продолговатыми ящиками, на которых стояли черные цифры. Казалось невозможным, что платформа с ящиками опустеет. Тогда произойдет что-то непоправимое. Тогда эта платформа будет похожа на брошенный дом. Тогда наступит страшная тишина, потому что на перроне уже никого нет, и нет никого под тем рыночным навесом, и перестал плакать ребенок, и куда-то пропал маневровый паровоз. Можно было подсчитать примерно, что на платформе сто двадцать ящиков. И если грузчиков трое, то на каждого - по сорок. И чтобы снять ящик с платформы, потом перенести его через рельсы и дошагать с ним, держа его перед собой или на спине, до того сарая, откуда иногда доносился голос женщины, нужно минут семь. Минуты на три грузчик исчезал в сарае. Значит, получалось десять минут. Но были еще перекуры, и был обед... Только позднее я понял, что ящики в действительности для меня ничего не значили. Просто было невозможно увидеть перед окном пустыню без единого человека, а заодно я считал время. Часы у Вильки остановились и стояли, как он ни колотил по ним.
Я считал ящики. Считал, когда по первому пути прошел из Польши еще один товарный, с углем, и на кучах угля, черные, вымазанные и улыбающиеся, сидели солдаты и даже офицеры с золотыми погонами, а рядом лежали их вещевые мешки и чемоданы. Они ехали домой. Считал, когда грузчики сели под тополем, развалясь как хотели, и резали большие красные помидоры, считал, незаметно дергая решетку, чтобы узнать, крепкая ли она, и считал даже тогда, когда пришел пограничник, строгий и холодно-вежливый, в сапогах, которые были как зеркало, и увел меня одного «на разговор к начальнику».
- Ну что, будешь говорить? — За эти несколько часов Маковка точно пожелтел. — Поесть-то себе купили?
Он по-прежнему втягивал в себя воздух, держался за щеку, и, наверное, потому я его не боялся.
- Мы муку приехали купить. Вот и все, — ответил я.
- Такой хороший парень, а врешь. — На лице Маковки появилась улыбка. — Врешь.
- Мы муку приехали купить. Нам через пять дней в школу. Разве мы знали...
Наверное, я разговаривал с ним чуть грубо, потому что он вдруг скользнул по моему лицу глазами и задумался. Потом спросил быстро:
- В Ленинграде?
- Сказали же мы.
- В школе?
- Ну да. А сюда приехали муку купить.
Маковка засмеялся:
- А я думал, вы уже убежали. Вот, думаю, мать честная, убегут еще. А потом думаю: куда? — И лицо его снова стало серьезным.
- В Ленинград.
- Мы все проверим, Геннадий, понимаешь? Мы должны это сделать, — и, сев на край стола, так что его колени были у меня перед грудью, он приподнял мою голову за подбородок. — А учишься как?
И тут я почувствовал себя как-то смутно, напряженно, неуверенно, забыл о своем достоинстве. У него были крепкие пальцы, и пахли они табаком.
- С кем живешь, спрашиваю? Отец есть?
- Погиб.
- А мать?
- Умерла во время блокады.
Одно окно было освещено солнцем ослепительно и резко, желтое, все накаляющееся пятно, как будто открытая дверца печи и там жар от хорошо сгоревших березовых поленьев, такой жар, что надо отворачивать лицо, надо закрыть глаза, а потом глотнуть воздух пли впиться зубами в кислое яблоко, от которого онемеют скулы. Есть такие кислые яблоки, как лимон. Даже кислее. Есть такие яблоки.
- А с кем же ты живешь? — донесся голос Маковки.
- А вот с ним. У него и отец и мать. С ними... Давно уже с ними... У них...
Больше я не мог говорить, не мог разжать рта. Меня душило, и меня больше не было. Я похоронил маму четырнадцатого января сорок второго года. Завернул в простыню, положил на саночки и отвез на кладбище. А умерла она девятого, совсем ранним утром, когда окно еще было серым. Пять дней я сидел возле нее, умолял и упрашивал. И складывал возле нее, прямо на подушку, на которой она лежала, квадратные кусочки хлеба. Я сказал ей все лучшие слова, которые были на свете, и даже молился богу, стоя возле нее на коленях. Но бога не было. Он должен был меня услышать. А была только наша комната, холодная, немая коробка, похожая на склеп, два окна, заросшие льдом, старое изъеденное жучком пианино, за которым так часто сидела мама в своем белом, самом любимом платье и, откинув голову, закрыв глаза, играла и вслушивалась в музыку, придуманную ею же самой, был черный вертящийся стул, мы не сожгли его, берегли, была сине-белая высокая кафельная печь, и был далекий грохот от снарядов, рвавшихся где-то на Петроградской. И все на свете было бесполезным и далеким и совершенно ненужным. Мама знала, что умрет. В последнюю ночь - и после этого я боюсь ночей, не хочу, чтобы, они приходили, — она сказала мне: «ПРОЖИВЕШЬ, НИЧЕГО. ВОКРУГ ЛЮДИ», и снова сказала, чтобы я не хоронил ее. Я нашел чистую простыню, широкую, полотняную, расстелил ее на полу. Холодную, чистую, белую, большую, огромную. У мамы пальцы на ногах были тонкие, маленькие. А рост как у девочки. Совсем как у девочки. Мама моя... Мама... И волосы за эти несколько месяцев все до одного поседели... Я вез ее на кладбище целый день. Тянул санки, низенькие, желтые, которые она мне купила перед войной, и боялся обернуться... Мама моя, мама. Так ты... Это ты... По белой улице, по синей улице...
А Вилька жил в одном доме со мной, только площадкой выше. Они взяли меня к себе... На январь у меня еще оставалась мамина карточка, а потом хлеба стали давать больше...
- Ах вы, дряни такие! — Маковка сидел, скрестив руки на груди, и голова его, круглая, несуразно большая, качалась, как от ветра. — А кто отец у него?
- Бухгалтер.
- А мать?
- Санитарка. Ей трудно с нами. Мы хотели купить муку.
Маковка смотрел на меня в упор. Кобура, висевшая у него на бедре, была расстегнута. От нее пахло кожей.
- А если мы пошлем запрос в Ленинград? Ну тогда что? А? Что тогда? — И, положив руки на колени, ожидал, нервно постукивая пальцами. — А, Геннадий?
- Мы не пойдем в тюрьму. Ничего такого не сделали.
Маковка встал. На стене висела карта, закрытая черной шторкой.
- Так вот мы послали. Я жду телеграмму. Дряни вы такие. Можно подумать, что еще на вас у меня есть время. Шпана просто. И вино покупали. Ириски бы ели, — и отвернулся к окну.
Мне показалось, что он думал о чем-то другом. Стоял, покачиваясь, и палил свои фразы без всякой злости, буя-то по инерции. Я молчал.
- Ну, если не семь, так три. Я вам это устрою. И без телеграммы все узнаю. Меня для этого держат на свете.
Я посмотрел на него.
- Да, узнаю, — повторил он, точно разогревая самого себя, открыл дверь и позвал пограничника.
На этот раз мы не пошли по коридорам, а повернули налево, опустившись по трем ступенькам, и оказались в том зале, где стояли скамейки и утром спал железнодорожник. Значит, если выйти из камеры, можно было миновать кабинет Маковки. Для меня это было неожиданностью. И лучше бы я этого не знал. В зале было много людей. Некоторые стояли у кассы, другие бродили от нечего делать. Теперь буфет был открыт. Несколько человек смотрело мне вслед, заметив, что я иду перед пограничником чересчур спокойно, подчеркнуто безразлично. А я краем глаза видел, что в буфете продают булку и копченую селедку, жирную, золотистую. И оттого, что я смотрел на буфет и даже невольно сделал шаг в ту сторону, пограничник вдруг оказался с другой стороны лавки. Если он и был выше меня ростом, то чуть-чуть, и не то казах, не то монгол, коротконогий и медлительный, и мне показалось, неповоротливый. Теперь ему надо было обойти лавку, а мне стоило сделать только один прыжок в сторону, чтобы между нами оказалась еще одна лавка, — и дальше - дверь на перрон, где стояли товарные вагоны, где был дубовый лес и там - тропинки, и ветер, и теплая сухая земля. Мимо старухи с баулом, мимо девочки с голубым бантом, потом за угол и к рыночному навесу, выделывая петли, если он начнет стрелять, падая и вставая, а в лесу прячась за стволами. А вечером или ночью - на товарный и зарыться в уголь... Я остановился.
- Куда? — Загорелое лицо пограничника стало бледнее. — Вперед!
Я стоял и смотрел на пограничника и мимо него. Вилька никогда бы не простил мне этого. А кто у меня еще был на свете?
- Вперед!
- Я и так - вперед.
«Ну и что?» - спросил меня Вилька глазами, сидя все в той же позе под окном с решеткой и прислонившись к стене. Мне нечего ему было сказать.
- Лебедев, пойдем! — приказал пограничник.
Вилька поднялся, внимательно посмотрел на меня и ушел. Замок в двери хрустнул.
Я долго стоял, глядя в окно и ожидая Вильку, прислушиваясь к любому шагу за дверью. Снова синело небо. Прогромыхал еще один пассажирский. С платформы исчезли ящики. И все это выглядело нереально, как во сне. Весь этот день казался каким-то наворотом света, теней, далеких и близких голосов, проваливающихся куда-то паровозов, летающих по воздуху ящиков, поблескивающих хромовых сапог и запыленных туфель, ботинок, сандалий.
- Ничего. Просто он кричал на меня, — сказал, вернувшись, Вилька. — А я молчал.
Он пришел слишком напряженный, собранный, глаза прищурены, и был похож на себя в день экзамена, когда к нему лучше было не приставать.
- Все равно убежим. Не сейчас, так потом. — Достав газету, разгладив ее, он вынул кулек с остатками бобов: — Ешь. Ничего такого. Есть все равно надо.
Мы жевали сухие, мучнистые бобы машинально, не чувствуя вкуса. Потом он сказал задумчиво:
- Что, интересно, дома сейчас делается? Пробки, может, перегорели? Как думаешь? Отцу-то не починить.
- Угу.
Когда вползли сумерки и стали ясно слышны самые далекие звуки, нам было уже совсем нехорошо. Мы вдруг осознали, что вот так могут проходить дни и даже годы, и что на земле есть вещи сильнее и грубее наших чувств и что вот так можно встречать рассветы и закаты, которые все равно будут...
Я свернулся под стеной. Вилька постарался накрыть всего меня пиджаком, отдал мне газету, а сам лег прямо на пол.
- Температура?
- Нет, — я поднял голову. — Ни за что, Виля.
Вилька усмехнулся.
- Ну, хорошо. Вот так бы всегда.
Чинили путь, где-то совсем рядом цокали молотки. Из нашего окна, однако, нельзя было увидеть, где это. Долго, звонко и весело пела на ночь какая-то птица. Почернел даже потолок, стал опускаться ниже. И постепенно растворились, пропали стены. Теперь мы лежали просто на земле, среди земли. Птица все пела, напоминая о жизни. Ночь будет тянуться медленно. И я знал, что Вилька тоже не заснет. К тому же еще что-то скреблось под полом. Потом незаметно забрезжит, все начнет проявляться, как на фотопластинке, все серое станет темнее, резче, наконец возникнет желтый свет, скупой и размазанный, мы всё так же будем лежать на этом полу, прижавшись друг к другу, но все равно вместе. И на следующий день тоже вместе, что бы ни случилось.
И странно, что от этого некрашеного пола почему-то пахло домом. И так же знакомо, понятно, хлопотливо попискивали мыши. И от каких-то едва заметных пятен на стенах казалось, что вот там, справа, висит наша книжная полка, а чуть левее - никелированные ножки кровати. Иногда даже появлялся стол и большой медный чайник на нем, совсем реальный, ощутимый. Можно было встать и выпить воды.
- Спишь? — спросил Вилька и глубоко вздохнул.
- Нет, — ответил я.
- Мыши тут.
- Угу.
Мы сидели в углу, потому что пол оказался холодным, а была уже ночь, но, по-видимому, самое начало ее - звезды начали возникать, кружиться и падать. Обхватив себя руками, но все же чувствуя, как впитывается в нас, проникая все глубже, сероватый холод, а вместе с ним - беспомощность, обида и тоска, уже совсем невыносимая, готовая на все, мы услышали шаги. Ближе. Еще. К нам. Загрохотал ключ, деловито, сухо. И тут же возникла узкая полоска света, стены потеплели; в открытой двери стояла черная головастая тень, держа в вытянутой руке керосиновую лампу. Тень тут же согнулась, подняла что-то с земли и шагнула к нам. Лицо было фантастическим: светящиеся глаза и черные впадины вместо щек. Это от лампы.
- Тут? — Маковка поднял лампу выше, всмотрелся. В другой руке у него была тарелка. — Спите, дряни вы этакие?
Мы из угла наблюдали за ним, сжавшиеся, неподвижные. Молча и все еще осматриваясь, глядя себе под ноги, он поставил лампу на подоконник, выпрямился и, точно не зная, что ему делать с тарелкой, вдруг вздохнул, глубоко и тяжело.
- Холодно?
Мы молчали. Вернее, я поступал так же, как Вилька. А дверь камеры была открыта. И Вилька это видел тоже. Открыта совсем.
- Ну что? — и, глянув вниз, скрестив ноги, Маковкл сел, а тарелку поставил перед нами. — Значит, не спите? Вот, ешьте.
В тарелке был виноград. И тут я понял, что он в чем-то виноват перед нами, ему надо что-то сказать нам, но это трудно, почти невозможно, и что-то ему хочется услышать от нас, и, наверное, он сам не знает, как с нами говорить. Черной горкой высились гроздья винограда.
Мы молчали все трое, не отрывая друг от друга глаз, попеременно вздыхая, — так получалось невольно.
- А рыба там у вас есть, в Неве?
Молчание.
От него пахло кожей, крепко, чисто. И снова мы все трое молчали.
- Голодовка, значит? — Качнувшись назад, вытянув одну ногу, он полез в карман, вытащил что-то, протянул мне. — Твой?
Это был мой портсигар, серебряный, плоский и сейчас теплый, согретый его телом. Я раскрыл портсигар.
- Мой.
Маковка засмеялся, и как-то особенно, по-своему, кругло и раскатисто.
- Вот так надо работать, дряни вы этакие. Граница здесь. Ясно?
Он не успел договорить. Ворвался, сплющив н подбросив куда-то нашу камеру, рев паровоза. Скрежещущий стон тормозов врезался в ночь, разбил ее вдребезги. Какой-то железный стук и грохот заполнил все вокруг. И пол и стены задвигались, и мы поняли, что это ревет состав, и он точно не может остановиться, вгрызается в землю, и что-то там происходит, опасное, очень серьезное. Маковка вздрогнул, выставил неподвижные глаза, повернутые к окну, и какой-то механизм раскручивал его шею так, что она становилась длинней, длинней, потом этот же механизм включил все тело. Маковка вскочил и побежал, на ходу вынимая пистолет. По перрону барабанили каблуки, путано, неритмично. Возникли и остались висеть в воздухе, подобные перепуганным птицам, голоса, а потом крики команды. И, неимоверный в этой темноте, вколачивающий на своем пути все, что ему попадалось - столб, сарай, дерево, человек, — ослепительным молотом сверкнул прожектор, повис, чтобы тут же убить.
- Троих зарезали, — крикнул чей-то голос. — Майор и два солдата с ним.
- А тех? — Это был голос Маковки. — Бандеровцев сколько?
- Десяток.
Поблескивающий, тяжелый, еще медленно катящийся паровоз разматывал ленту дыма, за ним - квадратики вагонов, потом - взгляд налево - темные фигуры, бегущие по углю, по крышам, подпрыгивающие на мотающихся ногах, да и сами эти фигуры плоские и точно складные, еще левей - несущиеся вдоль вагонов зеленые фуражки пограничников, металлические звезды на фуражках, ремешки на фуражках, черный ободок на фуражках, глаза, подбородки...
И это всего через полминуты после тишины, когда, казалось, был слышен шелест дубов. А дверь нашей камеры была открытой.
- Троих резанули, — снова крикнул голос. — Майор и двое солдат с ним. А вещи целы. Кругляк!
Прожектор, чуть покачнувшись, шарахнул по передним вагонам, и вагоны распластались. И тогда, на мгновение оцепенев, уличенные в том, что они есть, угловатые и корявые фигурки стали бесшумно падать вниз, одни сюда, а другие - по ту сторону поезда, и, согнувшись, стараясь втиснуться в собственную тень, почти у самых колес, побежали к лесу, спотыкаясь, вздрагивая, пропадая. А прожектор - за ними. Прожектор - туда же. И туда же за ними - зеленые фуражки. По земле, черные, все ощупывающие, метались тени, и так они суетились, скрещивались и поворачивались то в одну сторону, то в другую, пока по ним не ударил выстрел. Тогда они сразу же бросились вперед. И это не все. Стрекотнула очередь, резко и громко, так что даже дубы присели. Те, что убегали, отстреливались. И потом возле самого леса повисла красная ракета и нехотя и беспомощно падала и падала. Но что было в том лесу дальше, мы не видели.
Дверь не скрипнула. Теперь и Вилька знал, что отсюда можно выйти в зал. Нас колотило, когда мы, прижимаясь к стене, вдавливали себя в нее, когда нащупали первую ступеньку, вторую и, наконец, третью. Убежим. Было темно, и только рассеивающийся свет прожектора проникал в коридор, как будто это был свет белой ночи. Синеватое окно напоминало спящий глаз. У меня во рту была нераскушенная виноградина. Время от времени Вилька дергал меня за руку. Не пускал вперед. А я хотел быть впереди него, хотел идти первым. И плакат на стене тоже был спящим глазом. Очень отчетливо вдруг донесся плач грудного ребенка, голос из другого, спокойного, попятного и нужного нам мира. И мы вдруг поняли, что убежим, убежим, и все будет хорошо. Коридор молчал, а мы уже были в самом конце его. Остался еще один поворот и там - зал. Остановившись, я сделал шаг к другой степе, а потом - шаг вправо, чтобы увидеть зал. И увидел: там горела керосиновая лампа и почему-то на полу возле пустой скамейки сидела женщина и прижимала к себе ребенка, трясла его и озиралась по сторонам. И больше никого.
- Теперь спокойно, — шепнул Вилька. — Идем, как будто ничего.
- А если там, в дверях?
- Все равно ничего. И туда, — он показал глазами в ту сторону, где стоял товарный. — Ну, давай.
Теперь мы слышали стук наших каблуков. Прошли, глядя только перед собой, прямо перед керосиновой лампой, четко освещенные ею, мимо женщины, мимо пустых брошенных скамеек. Прямо перед нами была дверь, и там день от прожектора. Женщина повернулась к нам, оглушительно взмахнула погремушкой. И тогда мы бросились бежать сколько было сил, стараясь ничего не видеть, отталкивая от себя землю, чтобы не упасть на нее, чувствуя рядом друг друга. Синий свет навалился на нас, и начал жечь, и точно расплавил какую-то скорлупу, которая была вокруг наших тел. Мы оказались обнаженными. Нам хотелось спастись, ворваться в ночь. Нам хотелось выстрела, чтобы остановиться, упасть и вернуться назад. Но нам нужно было домой, мы не для того выжили, чтобы исчезнуть. И мы бежали. Ночной воздух пах гарью. И этот товарный будет нашим домом. Очень он стоит далеко, а казалось - близко. Сперва платформа, потом с платформы - вниз. Почему же не было выстрела? Осталось совсем немного: линейка рельсов. Мы никому не нужны, чтобы в нас стрелять. Нужны только дома. Теперь уже шпалы. Вилька подтолкнул меня. Вот под эти колеса, а там - там уже стена ночи. Мы юркнули под вагон, но остановиться уже не могли и бросились дальше. И только выпрямились, чтобы посмотреть вперед, как услышали:
- Стой!
Мы закружились на месте и вдруг кинулись к лесу. За нами погнался топот. А мы бежали в тени вагонов.
- Стой, дряни! Убьют!
Паровоз как черный обрубок, а лес слева.
- Стой!
Не хватало дыхания. В том лесу нас никто не найдет, если ноги еще будут гнуться, если не разорвет изнутри. Мы срезали через кустарник, ощутили запах леса и был я уже возле самых дубов.
Голос сзади догонял:
- Стой, туда нельзя! Нельзя! Стой!
А мы верили, что можно только туда, потому что топот уже бил нас по головам, тащил назад, отнимал силы. Дубы пропустили нас, точно это были ворота. Только бы мы не побежали в разные стороны. И тут, еще не понимая, что происходит, вися в воздухе над канавой и вытянув руки, чтобы схватиться за кусты, мы перестали видеть кусты, лес и все остальное. Мы ослепли. Пламя вырвалось прямо перед нами, и, только грохнувшись на песок, уцепившись за ветки, мы услышали выстрел. В ту же секунду Вилька схватил меня за грудь и закричал, раскрытыми и страшными глазами глядя на меня:
- Не надо! Не надо! Что? Что? — И прижимал меня к земле, а по его лицу катились слезы.
Тогда я начал трясти его. Он замолчал и смотрел на меня, разинув рот, удивленно и бессмысленно. И мы поняли, что живы, что ничего не случилось. Посмотрели назад и увидели, что недалеко от паровоза нелепо, вихляво крутится на одном месте тонкая головастая фигура. Крутится и как будто хочет схватить саму себя, и не может, и раскачивается все больше, как на сильном ветру. И еще грозный и какой-то умоляющий висит в воздухе крик:
- Нельзя туда! Стой! Убьют!
И в этот крик впивается выстрел. И все еще покачиваются возле нас ветки.
- Уууу, — донеслось от паровоза. — Уууу, — неслось почти нечеловеческое, воющее, собачье. Но нет, все же человеческое.
И еще несколько шагов к нам, а потом снова волчком, хватая самого себя. И он упал.
Мы выпустили ветки, и звездное небо упало на нас, когда мы скатились вниз, пустые, немые. И небо все падало, когда к нам прыгнули, ощупали, подняли и повели прямо на свет прожектора. Мы смотрели в ту сторону, где стоял паровоз. Маковки там уже не было. Пусто и тихо, как будто ничего не случилось. И мы шли очень долго, продираясь сквозь свет прожектора и все стараясь посмотреть на паровоз, оглянуться, вернуть время, смотать его, как распустившуюся катушку. А вокруг не было ничего. И нас больше не было. Вот теперь с нами действительно все.
Через полчаса мы стояли в знакомом кабинете, зажатые между стеной и столом, и были согласны на что угодно, лишь бы ничего не видеть и не слышать. А Маковка в болтающейся на одном плече гимнастерке - а другое плечо было забинтовано, и почти вся рука голая и желтая от йода, — прикуривая от лампы неловко и нервно - папироса дрожала у него во рту, — отдавал распоряжения пограничникам. Несколько раз крутил ручку телефона и наконец повернулся к нам, зеленый еще больше, чем прежде.
- Вон отсюда, дряни этакие! — На лице его была боль, оно морщилось. — Кругляк, принеси им паек на три дня.
Пограничник ушел.
— Вы меня поняли — вон! — И, нагнувшись, спрятав на мгновение голову под стол и шумно дыша, он здоровой рукой вытащил из-под стола мешок муки, приподнял его и ногой подтолкнул к нам.
— А денег у вас больше нет. Все на муку истрачены. Нож и ключ я забираю. И вот по этой записке получите во Львове у коменданта билеты до Ленинграда. Дряни, на мою голову. Стыд у вас есть?.. Вон!
Медленно отъезжала от нас станция, рыночный навес, и немые дубы еле светились на утреннем солнце. На перроне стояло несколько пограничников, заслоняя собой ту самую решетку. Мы с Вилькой стояли у окна и не смотрели друг на друга.
Этим утром, гулким и разорванным на части, мы начинали с ним какую-то другую жизнь, молчаливую и суровую. Станция укатила, точно ее не было на земле. Поднялась насыпь, на ней надпись из белого камня: «МИР». Поезд настойчиво рвался вперед. И мы знали, что в этой новой жизни с нами ничего не случится. Все будет хорошо. Только надо на равной. В глаза летела пыль, на лицо садилась сажа. Но нам просто невозможно было посмотреть назад. И назад, и на стоявший у наших ног мешок муки, купленный вовсе не нами, но все же для нас, и не за деньги, а за что-то большее, чему нет цены. И хлеб из этой муки будет и горьким, и настоящим.
Мы молчали.
Все только начинается
Часть 1
Глава первая
Эту неделю мы работали, как звери. Мы выполняли какой-то ответственный заказ. Я вытачивал тонкие медные трубки. Лешка делал резьбу в моих трубках. На доске, которая висела на конторке начальника цеха, где против фамилии писали проценты, — меньше двухсот ни у кого не было. Мастер бегал между станками, подсчитывал и торопил нас. Потом кто-то пустил «утку», что мы делаем новую искусственную планету. В субботу, когда раздался звонок, все ходили с высунутыми языками. Начальник цеха пожал нам руки. Но до аванса оставалось еще два дня.
После работы мы сидели с Лешкой в нашей комнате и думали. Алексей Иванович сказал еще утром, что к нему придет жена. Нам надо было уходить. Не было денег даже на кино. Целый час мы гладили брюки. Тоска была зеленая. Потом пришел наш комсорг Васька Блохин и сказал, что в клуб надо двух человек, в комсомольский патруль. Это нас устраивало.
По дороге выяснилось, что клуб в этот вечер отдали какому-то техникуму. Там бал. Но наши ребята хотят пройти. Надо организовать у дверей порядок.
У дверей и в самом деле была давка. Мы вывели одного пьяного. Уговорили уйти знакомого парня из шестого цеха. Потом нам это надоело. Лешка указал на наши красные повязки, и нас пропустили. На лестнице я заколебался.
— Ты же знаешь Блохина. Будет потом ныть.
— Ерунда, — ответил Лешка. — Что им, жалко пропустить наших ребят? Клуб наш.
— Значит, думаешь, ерунда?
— А ты думаешь, не ерунда?
— Нет, я тоже думаю, что ерунда.
— Ну и все.
Лешка, как всегда, побежал на третий этаж играть в шахматы. Я пошел в зал. Там гремела радиола. Народу было битком. Я заметил наших ребят и девушек. Увидел Нюру. Она тоже увидела меня и подошла.
— Ты чего тут скучаешь?
— Так.
— Пойдем — танго. У тебя танго получается.
— Неохота. Там Лешка. В шахматы играет.
С Нюрой танцевать не хотелось. Она и так никуда не денется.
Я решил, что у нее можно занять денег. Она обязательно достанет.
Ее не было очень долго. Наконец она пришла.
— А вам для чего?
— Пива выпьем, и все.
— А потом потанцуем?
— Какой может быть вопрос.
— Приходи обязательно.
Я пошел наверх. Там был сеанс одновременной игры, и Лешка дожимал какого-то кандидата. Кандидат был совсем молодой. За Лешкиной спиной стояло несколько болельщиков. Я раздвинул их и посмотрел на доску. Кандидат задумался. У него покраснели уши. Он сделал еще несколько ходов и протянул Лешке руку.
— Кто это? — спросил я Лешку на лестнице.
— Из университета.
— Ты его знаешь?
— Слыхал.
В буфете мы взяли по бутылке пива. Потом еще по бутылке.
— Нюрка тут, — сказал я, когда мы сели. — Спрашивала про тебя.
— Врешь, наверное?
— Ждет в зале. Ты сходи, а я еще посижу.
— А ты придешь?
— А куда же я денусь?
Я допил пиво, прошел через гардероб и вошел в зал с другой стороны.
Для меня самое главное — подойти к девушке. После этого все уже идет как по маслу. На этот раз я чувствовал, что способен познакомиться. Снова заиграли танго. Девушек было много. Они сидели на стульях и, когда я подходил, рассеянно смотрели мимо, Я хотел найти какую-нибудь необыкновенную: красивую и с хорошей фигурой. Наконец я увидел ее. Волосы у нее были коричневые, платье черное и совсем узкое.
Я подошел. Она повернула голову и улыбнулась мне, точно мы были знакомы с нею всю жизнь.
— Может быть, я наступлю вам на ногу, но вообще-то танго у меня получается, — сказал я.
— Это не танго, а блюз.
— Ну, значит, я умею танцевать и блюз. Я даже не знал этого.
Она засмеялась. Талия у нее была такая тонкая, что на ней только и укладывалась моя ладонь. От нее пахло какими-то хорошими духами.
— Это у вас «Шипр»? — спросил я.
Она снова рассмеялась. Наверное, я сказал глупость.
— Вот это непосредственность! — сказала она. — Скоро вы спросите: в чем я одета?
— Так, значит, вас зовут Одетта? А мне казалось, что вы Одиллия.
Она посмотрела на меня с интересом.
— Вы любите балет?
— Мне нравится. У нас в прошлое воскресенье был культпоход. Так вы Одиллия?
— Нет. Меня зовут Ира. А вас?
— Александр.
Следующей была мазурка. Я все эти падекатры, гавоты, чардаши и мазурки не танцую. Мне очень не хотелось, чтобы Ира ушла, и я боялся, что ее пригласят. Ее действительно пригласили, но она не пошла. Я подумал, что нравлюсь ей. Жалко, что не было денег. Я мог бы посидеть с ней в буфете. Мы разговаривали еще о театре, потом она заговорила о музыке, о стихах. Я сказал, что музыка — дело хорошее, а стихи — это чепуха. Никто этих поэм не читает, и пишут их, чтобы заработать. Из поэтов мне нравятся только Лермонтов, Пушкин и еще Маяковский. А вообще все поэты лежат у нас в библиотеке нетронутые. Ее опять пригласили. Она опять отказалась.
— А вот это вы знаете? — спросила она. — «Мы — ржавые листья на ржавых дубах... Чуть ветер, чуть север, и мы облетаем. Чей путь мы собою теперь устилаем? Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут? Потопчут ли нас трубачи молодые? Взойдут ли над нами созвездья чужие? Мы — ржавых дубов отлетевший уют...» Нравится?
— Нравится. А кто это? — Я подумал, что она удивительно красивая.
— Багрицкий.
— А мы кто? Мы трубачи или мы листья?
Я поднял голову и увидел Нюру. Она кружилась с Лешкой недалеко от нас. Лешка подмигнул мне.
— А вот это? «Я как-то вынес одеяло и лег в саду, а у плетня она с подругою стояла и говорила про меня... К плетню растерянно приникший, я услыхал в тени ветвей, что с нецелованным парнишкой занятно баловаться ей...» Как?
Я подумал, что эти стихи она прочитала специально.
Мы опять танцевали. На этот раз танго. Я, конечно, попросил, чтобы она поучила меня танцевать. Я всегда просил об этом девушек, с которыми хотел познакомиться. Она сказала, что попробует. Впереди почему-то все сбились в кучу. Поднялся крик. Оказалось, что какой-то парень хватил лишнего и сбивал всех с ног. Меня это возмутило. Я сказал Ире, чтобы она посидела, а я выведу его.
— Зачем?
— Ну, я понимаю так: если люди танцуют, зачем же хулиганить?
— А разве он вам мешает? — Она наклонила голову и посмотрела мне прямо в глаза.
— А чего он толкает?
— Но меня же он не толкает.
— Ну все равно это непорядок. Я его выведу.
Она пожала плечами.
— Это не по-мужски.
— Почему?
— Мало ли что тут произойдет!
Она посмотрела на меня, улыбаясь. У нее были очень хорошие, веселые глаза. Я подумал, что, наверное, она права. Лучше мне быть с ней, чем выворачивать кому-то руки. Я снова увидел Нюру. Она специально танцевала возле нас и рассматривала Иру. Лешки с ней не было. Наверное, она ему что-то сказала и обидела.
— Это ваша знакомая? — спросила Ира.
— Да, это из нашего цеха.
— Вы работаете на заводе? На этом?
— Да. А что?
— А кем?
— Токарем.
— И у вас большой разряд?
— Четвертый.
— Она, наверное, ревнует?
— Откуда я знаю? Мы просто знакомые. Станки рядом.
Неожиданно я увидел, что Нюра совсем некрасивая: маленькая, лицо бесформенное, рот, глаза, нос — просто для порядка. И платье к ней не шло, и туфли были большие, на толстом каблуке, и на руках до самых локтей веснушки.
Мы были где-то посреди зала, и я заметил, что к нам пробирается Лешка. Лицо у него было злое.
— Это товарищ. Я только на минутку, — сказал я Ире.
— Ну конечно. А мне можно пока танцевать?
Я повернулся к Лешке. Показал глазами на Иру.
Он провел рукой по горлу. Я сказал Ире, что сейчас приду. Мы прошли с Лешкой через зал. Лешка рассказал, что какая-то стильная вша украла с нашей спортивной выставки серебряного конькобежца.
— Я видел его. У него галстук с пальмами, — сказал Лешка.
Мы нашли этого парня в вестибюле. Он стоял, облокотившись на перила, и разговаривал с девушкой. Рядом с ним были еще двое, и точно такие же: на головах проборы, галстуки чересчур броские, брюки чересчур узкие, ботинки новые. Рожи розовые и нахальные. Лешка отозвал его. Мы стали подниматься наверх. Втроем. Те двое стали подниматься следом.
— Ну, вы, хлопчики, чего? — спросил в галстуке с пальмами.
— А мы ничего. Мы поговорить, — сказал Лешка. — Мы же свои.
У нас был план: привести его к выставке и там обыскать. Я чуть отстал. Те двое приблизились ко мне.
— А вы чего? — спросил я. — Вы себе идите.
— А он вам зачем? — спросил одни.
— А так, поговорим о том о сем, про погоду...
Один был возле меня очень близко. Он схватил меня за плечо и замахнулся. Я ударил его раньше. Он закрылся руками. Другой кинулся вниз. В галстуке с пальмой повернулся, посмотрел и бросился наверх. Мы с Лешкой за ним. Сзади никто не бежал. Те двое пропали. Мы вбежали на третий этаж. Дверь в противоположном конце коридора была закрыта. «Галстуку» деваться было некуда. Он рванул дверь и так и остался стоять. В коридоре горела одна лампочка и было темно. Мы подошли.
— Ну чего, ребята, на самом-то деле?
— Не придуривайся! — Лешка придвинулся к нему вплотную. — Фигурку брал?
— Да вы что?
— Обыщем.
— Вот эту, что ли? — Он достал из кармана конькобежца. — Так она ж ничья!
— Что значит «ничья»?
Лешка взял у него фигурку и протянул мне.
— Сходи поставь ее, а я тут с ним малость побеседую.
Я побежал и сразу же вернулся.
— Ну, так повтори: чья это? — спрашивал Лешка.
«Галстук» ответил:
— Заводская. Ребята в прошлом году выиграли.
— Не так, — возразил Лешка. — Не выиграли, а завоевали. Повтори!
«Галстук» повторил.
— Теперь тебе ясно?
— Ясно. Все ясно, мальчики. Ну неужели мы из-за пустяка будем ссориться?
— Он ничего не понял, — сказал Лешка. — Как думаешь, Саша?
— Ладно, — сказал я. — Плюнь ты на эту мразь, и пойдем.
И вдруг «Галстук» оттолкнул меня и побежал. Я ударился головой о шкаф, так что в голове у меня загудело, но успел подставить ножку. «Галстук» запутался в собственных ногах, и Лешка пару раз ему врезал. Я добавил. В конце коридора кто-то крикнул:
— А ну стойте!
Мы увидели милиционера, тех двух и еще целую толпу. Разговор был короткий. Меня, Лешку, «Галстука» и того, которому я разбил нос, повели в милицию.
В дежурной комнате милиционер доложил лейтенанту. Лейтенант сказал:
— Вы что же?
— Он украл статуэтку с нашей выставки, — сказал Лешка.
У «Галстука» появился гнусавый голос:
— Статуэтку? Мало того, что вы меня избили, вы еще и лжете.
— А я тоже украл статуэтку? — спросил с разбитым носом.
— Документы, — потребовал лейтенант.
Документов у нас не было. Про комсомольский билет я молчал.
— Какая ложь! — возмущался «Галстук» и подставлял под свет свою рожу. Рожа припухла. — Я в конце концов стерплю, и вы можете меня обыскать, товарищ лейтенант милиции.
— Он украл, — сказал я. — Мы поставили ее на место. Отобрали и поставили.
— Не трещи, — вставил милиционер.
— Фамилия? — спросил лейтенант.
Один раз меня хотели оштрафовать за то, что я прыгнул с подножки трамвая. Тогда я сказал не свою фамилию. А теперь я вовсе не считал, что виноват.
— Кочин, Александр Николаевич.
— Год рождения?
— Тысяча девятьсот сороковой.
— Где родился?
— В Сестрорецке.
— Садись.
Потом спрашивали Лешку. Лешка тоже сказал правду.
— Макаров, Алексей Петрович. Тысяча девятьсот тридцать девятый. В Великих Луках.
Лейтенант составил протокол. Выходило, что мы хулиганы. Набросились на честных людей. Написали, что у «Носа» разбит нос. А «Галстуку» нанесены легкие телесные повреждения. «Галстук» сказал, чтобы в протокол записали, что мы хотели его оклеветать. Этого лейтенант не написал.
Лешка сказал, что протокола мы подписывать не будем.
— Будет хуже, — сказал лейтенант.
Я сказал:
— Ну и пусть.
«Носа» и «Галстука» отпустили. Нас с Лешкой посадили в камеру. Лейтенант сказал:
— Пятнадцать суток обеспечено.
В камере был помост, точно сцена, и на нем спал кто-то. Окошко было высоко, и на окошке решетка. Лампочку повесили экономную. Камеру заперли. Мужчина поднялся.
— За что, малолетки?
— Грабеж, — ответил Лешка. — Комиссионный колупнули.
— Десять лет, — объявил тот и подвинулся к стенке.
Я сидел и думал, что сделать с «Галстуком», а потом думал об Ире. Представил, как кончился вечер, как она ушла и как кто-то пошел ее провожать. У нее были очень хорошие глаза. Я таких еще не видел. И вообще такая девушка мне еще не встречалась. Я решил, что убью «Галстука».
Шишка на голове была здоровая.
Утром нас повели на второй этаж. Милиционер сказал:
— К начальнику.
Начальником был капитан. У него сидели Васька Блохин и Алексей Иванович.
Алексей Иванович сказал:
— Эти ребята не соврут. Я могу ручаться.
Васька Блохин поддержал:
— Нам обидно. Они ведь работают хорошо. Никогда замечаний не было. На доску Почета хотели представить.
Про доску Почета я раньше не слыхал. А насчет замечаний Васька врал. У меня был выговор за стенгазету.
Нас отпустили.
В общежитии Алексей Иванович сказал, что этого от нас он не ожидал.
В среду было комсомольское собрание. Васька Блохин был, как всегда, слишком умный. Я Ваську не любил. Он ездил по туристской путевке за границу и привез оттуда какую-то глупую до ушей улыбку. Раньше у него такой улыбки не было. И теперь он улыбался целыми днями. И на комсомольском собрании он тоже улыбался.
Сперва выступил я и все честно рассказал. Потом пригласили Лешку. Но Лешка и так все слышал. Он сидел возле своего станка, а собрание было возле окна.
Лешка все взял на себя. Он сказал, что бил он, а я его останавливал, и еще сказал, что жалеет, что мало дал. После этого Лешку с комсомольского собрания удалили. Он опять сел у станка. Васька сказал:
— Макаров не член комсомола, и поэтому в его выступлении нет ничего удивительного. С ним еще надо работать. А вот что касается Кочина, то тут дело сложнее...
Он сразу вспомнил про стенгазету и начал сгущать краски. Потом спросил:
— Неужели тебе не понятно, что бить человека нельзя?
Я ответил:
— Ты, Васька, не умничай.
Начались прения.
Женька Семенов поднял руку и сказал, что обеденный перерыв — для обеда и что надо обсуждать не меня, потому что я и так просидел ночь зазря, а надо обсуждать Ваську Блохина.
Юрка Кондратьев тоже выступил:
— Конечно, мы должны показывать пример, на то мы и комсомольцы. А теперь ребята из нашего цеха узнают, что Кочин бьет людей. И если вдуматься во все по-деловому, то надо объявить ему выговор.
Нюра возмутилась:
— Какая несправедливость!..
Валерий Осипов начал так же, как Юрка Кондратьев. Он сказал:
— Конечно, мы должны показывать пример. На то мы и комсомольцы. А теперь посмотрим на Кочина. В прошлом месяце у него выработка сто двадцать процентов. Другие берут с него пример. Пришел в клуб жулик и украл вещь, которая принадлежит заводу, государству, коллективу наших ребят. Кочин не дал украсть вещь. Об этом надо написать в газету. Пусть другие берут с него пример. Я предлагаю объявить ему благодарность.
Валерий был хороший парень.
Васька улыбался.
Встала Нюра. Все затихли. Нюра волновалась. Лицо у нее было красное, возмущенное.
- Я не буду говорить про Кочина. Человека обвинить можно. А как бы поступили вы? Пусть бы он украл, да? Обвинить легче всего Обвинители находятся. Нет, это неправильно! — Она смотрела на Ваську.
Васька спросил ее:
- А как бы поступила ты?
- Так же точно, если хочешь знать.
- И ты бы била?
Нюра смутилась.
- Нет, ну бить бы я не била...
Васька заулыбался. Я понял, что дело оборачивается плохо. Мне объявили выговор, но не в личное дело, а в протокол. Кроме этого меня обязали регулярно посещать политинформации и наладить выпуск комсомольской цеховой газеты «Пламя».
Дома Алексей Иванович сказал, что выговора в протокол мало.
- Всыпать бы вам по первое число, вот тогда было бы понятно.
Я сказал, что и так понятно, но, в общем-то, я неудачник.
Алексеи Иванович засмеялся и сказал, что в кино идет новая картина.
Вечером я пошел с Нюрой в кино. Она обрадовалась, когда я пришел к ним в комнату. Мы шли по коридору, и она сказала, что Васька - карьерист. Я согласился и понял, что Нюра - человек хороший и понимающий. С таким человеком чувствуешь себя надежно.
После кино мы гуляли по парку. Было холодно, с земли поднимался снег и порошил в лицо. Но мы все же гуляли. Нюра спросила:
- Саша, это что за девушка была с тобой?
Я притворился, что не понимаю. Мне интересно было поговорить на эту тему,
- Где?
- На вечере.
- Какая девушка?
- Ну ладно тебе! В черном.
- Симпатичная?
Я знал, что Нюра меня любит. Мне это было приятно. И потому мне хотелось задавать такие вопросы, чтобы она выдавала себя.
- На вкус, на цвет товарища нет, — отрезала Нюра. — А ты на вечере познакомился?
- Нет, я раньше ее знал. В вечерней школе учились вместе.
- И теперь встречаешься?
- Редко.
- Ну и встречайся!
Нюра повернулась и пошла в другую сторону. Я подождал немного и побежал за ней. Снег под ногами скрипел. Я догнал ее. Взял под руку. Она вырвалась. Я засмеялся.
- Да брось ты, Нюра, это я так просто. А ты поверила?
- Скажи: честное слово.
Я решил, что надо поцеловать Нюру, потому что она расстроилась. А расстраивать было непорядочно. Но мы стояли возле фонаря. На нас падал снег. И еще редкие снежинки с дерева. Я заметил, что они падают очень медленно. Появляются вдруг из темноты и опускаются. Это было красиво.
Мы снова подошли к дому. Вошли в тень, и я остановил Нюру возле дерева. Положил ей руки на плечи. Она не сказала ни слова.
- Нюра, правда мороз?
- Правда.
- Ты не замерзла?
- Нет, — ответила она тихо.
Я быстро наклонился и поцеловал ее. Щеки у нее были ледяные, а губы холодные и почему-то твердые. Она посмотрела на меня внимательно. Я молчал.
- Ты что-то хочешь сказать? — спросила она.
- Я, конечно, хочу тебе сказать. Но ведь ты и сама должна понимать.
- Что? — Она подняла глаза.
- Я боюсь, что ты замерзнешь.
- Нет. Мне не холодно.
- Нет. Ты замерзнешь. Пошли.
Мы шли молча. Но теперь я чувствовал, что она спокойна, и это меня радовало.
Аллея была очень красивая. Деревья соединялись в вышине, сплетаясь белыми лохматыми веточками. Стволы были тоже белые. И земля белая. На кустах были шапки снега. Я подумал, что по этой аллее и в такой час, когда никого нет, хорошо было бы погулять с Ирой. Я вспомнил стихи про листья, которые падали с дубов и по которым идут армии с трубами. Я очень ясно представил себе Иру. Она наклоняла голову набок, когда улыбалась. Я решил, что надо ее найти. Надо отпроситься в субботу пораньше и пойти в техникум. С Нюрой, конечно, тоже хорошо. Но Нюра - все же не то.
- Саша, — сказала Нюра и дернула меня за рукав. — Слышишь?
- Что?
- А ведь у тебя через месяц день рождения. Что тебе подарить?
- Фрезу, — сказал я.
Нюра была фрезеровщицей. Она засмеялась:
- Маленькую?
- Большую...
Нюра пошла в общежитие первая, я еще постоял на углу. Ребята, конечно, и так обо всем знали, не все же я решил, что так лучше.
В комнате было темно.
- Ты где был? — спросил Лешка.
- А ты?
- Я к сестренке ездил - дрова поколоть. А ты?
- А я так. В кино ходил.
- С Нюрой?
- С кем?
- С Нюрой, с Нюрой, — сказал Алексей Иванович, — вместе уходили.
Оказывается, он тоже не спал. Я зажег свет.
- Поешь, — сказал Лешка. — Я пирог принес с мясом.
- На подоконнике молоко стоит, — сказал Алексей Иванович.
Лешка спросил:
- Хорошее кино?
- Ничего.
- А на каком ряду сидели?
- На двадцать четвертом, — сказал я.
Пирог был совсем свежий.
- Хороший ряд, — сказал Лешка.
Всю неделю я ждал, пока снова придет суббота.
Мой станок поставили на ремонт, а меня перевели на револьверный, старый и запущенный. Мне до него не хотелось даже дотрагиваться. Я сказал мастеру:
- Вот что со станками делают. За это, наверно, никого не ругают.
- Да, — согласился мастер. — Станочек того...
- Вот напишу об этом в газету, и взгреют кого надо.
- Ладно, работай.
Работать не хотелось. Полдня я проходил по этажам. Выбирал в кладовой рукавицы. Три раза затачивал резец. Постоял возле Лешки. Принес Нюре два латунных листа. Опять пошел в кладовую, обменял рукавицы. Поговорил с мастером.
- А сколько я на нем буду работать?
- Пока твой не сделают.
- Да я на этих штуках не заработаю.
- Кончай их скорей. Другую работу дам.
Я опять пошел в кладовую. Оказалось, что этих болванок хватит на год. После обеда я взялся. Резец не врезался в болванку, а стучал по ней. Стружки не было, а были кусочки, маленькие, раскаленные. Они вылетали фонтаном. Ударяли в лицо и падали на руки. Руки обжигало. Я стряхивал латунь. Полагалось работать в рукавицах и в очках. Но я, конечно, и не думал надевать рукавицы. Тем более что фаску в рукавицах не сделаешь, а если каждый раз снимать их и потом надевать опять, то не останется времени на работу. Очки мне тоже были ни к чему. Сначала я думал, что приспособлюсь. Я вертелся туда-сюда, но дело не двигалось. Потом я плюнул. Сходил, взял кусок жести, вырезал глазок и приспособил его над резцом. Теперь все было хорошо. Я еще думал, как бы одновременно подавать резец и тут же снимать фаску. Но до этого не додумался. Время полетело. Я перестал видеть Лешку, перестал смотреть на Нюру. К концу дня у меня оказалось 103 процента. Я прикинул, что до субботы, наверное, с этими болванками справлюсь.
Каждое утро я подходил к ремонтникам и спрашивал о своем станке. Станок все так и стоял. За него не принимались. Меня это злило.
- Тогда зачем же его остановили?
- По плану.
- А чего же вы его не делаете?
- По плану.
- Идиотство!
Вмешался Васька Блохин. Выключил свой станок, подошел к механику.
- У нас и верно с ремонтом непорядок.
Механик посмотрел на него как на пустое место.
- А тебе что?
- А то, что у нас много разговоров о ремонте.
Механик сунул ему под нос свои чертежи. Показал рукой на шестеренки.
- А ты займись. Рассчитай и завтра принеси.
- У меня своя работа.
- Ты кончаешь во сколько?
- В четыре.
- А мы до восьми торчим.
Васька улыбнулся.
- Вот и плохо. Из ремонтников никто и не ходит в школу. Вот и рассчитывать некому.
- Ну, ладно. Иди.
- Я и пойду.
И Васька пошел, но только не к станку, а к начальнику цеха.
Мой станок за эти дни запылился. И стал он какой-то другой, точно что-то в нем умерло.
На следующий день вечером Васька отдал мне заметки в стенгазету, они были уже отпечатаны на машинке, и сказал:
- Выпускай. Только придумай что-нибудь, чтоб красивее.
Вечером мы с Лешкой и Женькой Семеновым сидели в красном уголке. Женька был шрифтовик. А Лешка пришел заодно со мной. Женька расчертил газету. Открыл краски. Можно было начинать. Я решил, что надо сделать газету хорошую, такую, чтобы всем понравилась.
Дверь открылась. Все обернулись, и я увидел Нюру. Нюра позвала меня. Мне почему-то было неприятно перед ребятами, что она пришла. Я вышел.
- Ну чего?
- Саша, вы тут долго еще будете?
- Долго-недолго. Откуда я знаю?
- Ты обиделся?
- А чего мне обижаться? То один позовет, то другой.
- Хочешь, у меня вот тут хлеб с колбасой?
Она протянула мне пакет. Я разозлился:
- Да брось ты, на самом деле! Что я тебе, маленький, что ли? Выдумала тоже...
Я махнул рукой и хлопнул дверью.
Мы просидели над газетой всю ночь. Утром сходили в душ. Васька сказал, что газета хорошая.
Глава вторая
Мне город нравится, и мне нравится ходить по улицам. Улицы переходят одна в другую, сливаются, и город мне кажется бесконечным и добрым. Город все время изменяется. Он становится лучше. Интересно, каким он будет в двухтысячном году?
Ира слушает меня и улыбается. Мне хочется понравиться ей, но те обычные и проверенные слова, которые я говорил другим девушкам, на этот раз почему-то забылись. Что-то заставляет меня говорить другие слова. Я говорю их, смотрю на Иру и сомневаюсь:
- Это вам неинтересно?
- А дальше?
- Что дальше?
- Я слушаю дальше.
Я взял ее под руку. Тогда, на вечере, она показалась мне высокой. Но сейчас я увидел, что ее шляпка немного выше моего плеча. Я решил, что сегодня ее поцелую.
Прошли мимо моего ремесленного. Оно теперь окрашено в розовый цвет. Под ногами был песок. Я сказал, что этот песок мне нравится тоже. Значит, кто-то заботится о нас, обо всех, кто ходит по этому тротуару. Мы вышли на Невский, и простояли минут пять на углу Невского и Садовой, и слушали, как милиционер уговаривал пешеходов. Он говорил в рупор, и голос его разносился далеко. Мы специально сошли с пешеходной дорожки.
«Граждане. Будьте осторожны на переходах. Вот вы, товарищ с девушкой в зеленой шляпке. Почему вы сошли с пешеходной дорожки? Соблюдайте правила уличного движения». Я сказал, что этот милиционер мне тоже нравится. Ира слушала меня, улыбалась, а потом пожала печами.
- Ну и что?
- Ничего, конечно.
- Вы, оказывается, совсем еще ребенок! — Она посмотрела на меня, наклонив голову. — Я тоже когда-то думала так же. А теперь у меня это прошло.
Я вдруг пожалел, что говорил ей обо всем этом. Наверное, этого не нужно было делать. А нужно было говорить о всяких пустяках. Но я решил, что покажу ей, какой я ребенок. Мне даже лучше, что она так думает. Я спросил:
- А лучше быть взрослым или лучше быть ребенком?
- Лучше ребенком.
- А почему?
Мы сошли с Аничкова моста и пошли дальше по Невскому.
- Потому что ребенок думает, что все на земле необыкновенно. И ему хорошо. Он даже имеет право совсем не думать, и ему все равно хорошо. А на самом деле все так и должно быть: улицу должны посыпать песком, а на перекрестках должны стоять милиционеры. Что же тут особенного?
Она посмотрела на меня, и я понял, что она смеется надо мной.
- Ничего, наверное, — сказал я. — Наверное, ничего особенного. А мы пойдем на танцы?
- А для чего?
Я подумал, что совсем ей не нравлюсь, что ей со мной скучно. Мне, наверное, не нужно было искать ее и ходить в техникум. Я разозлился на самого себя. И я решил выпрыгнуть из себя, сделать все, чтобы ей понравиться.
Мы свернули с Невского и подошли к ее дому. Я не знал, что говорить и что делать. Она тоже молчала. Так мы вошли в парадное. Я решил, что нужно не говорить, а действовать. На лестнице никого не было. На втором этаже я преградил ей дорогу.
- Я почему-то скучал все эти две недели, — сказал я, в упор глядя на нее.
Слова «почему-то», «что-то со мной случилось», «я стал вдруг другой», мне кажется, самые подходящие для разговора с девушками. Я говорю «почему-то», а она уже сама думает: «Почему же? Наверное, я ему нравлюсь?»
Ира остановилась.
- Я должна поверить, что это правда?
- Нет, можно и не верить. Но я хочу вас поцеловать.
Я наклонился и взял ее за руки. Она не сопротивлялась, но отвернулась.
- А знаете, Саша, мне это не нравится. — Лицо у нее стало серьезным.
- Почему?
- Так нельзя. Я рассержусь. Я могу рассердиться. Все придет в свое время. Если нужно, чтобы это пришло.
Эти слова охладили меня. Я чуть было не махнул рукой и не ушел.
- Вы уже рассердились? — спросил я.
- Еще нет, — сказала она спокойно. — Пока еще нет.
В руках у нее был ключ. На лестнице по-прежнему никого не было. Я молчал. Все получилось как-то не так. Мне совсем не хотелось, чтобы она думала обо мне так плохо. Но говорить мне уже было нечего. Мы стояли рядом.
- Пойдемте к нам, — сказала она наконец. — Если, конечно, это вас больше устроит, чем стоять на лестнице.
Она повернулась и, не ожидая ответа, начала подниматься. Я медленно пошел за ней.
Она уже сказала мне, что живет с теткой и что тетка у нее очень умная и ученая. Мы вошли. Ира зажгла свет. Открылась дверь, и вышла какая-то женщина, молодая, с ласковыми, приветливыми глазами, в черном свитере и с золотой цепочкой на шее. Она смотрела на нас и улыбалась. Я не представлял, как надо себя вести.
- Познакомьтесь, — сказала Ира. — Это вот моя тетя.
Я удивился и пожал протянутую руку.
- Александр.
- Ольга Николаевна.
Мы вошли в комнату.
- Знаешь, Оленька... — И Ира громко начала рассказывать, как мы познакомились.
- Что же вы стоите? — спросила тетка.
Я посмотрел вокруг и сел на диван. В комнате все было удобное и уютное. Тетка тоже была красивая, но не такая красивая, как Ира.
- Значит, вы на заводе? — спросила тетка.
Я понимал: в таких случаях надо говорить что-то умное, чтобы произвести впечатление. Но мне почему-то захотелось спать. К тому же, после того что случилось на лестнице, я почувствовал, что ничего, кажется, из нашего знакомства не выйдет. От этого мне захотелось спать еще больше.
- На заводе, — сказал я.
- И вам нравится? — разглядывая меня, спросила тетка.
Эта тетка разговаривала и смотрела на меня как-то странно. Она улыбалась, и мне казалось, что она хочет узнать совсем не то, что спрашивает. А то, что я ей отвечу, она давно уже знает. И я начал задумываться над тем, что же мне отвечать.
- Почему же вы молчите, Саша? — спросила тетка.
Ира стояла у окна и вертела телефонный диск.
- По-моему, токарное дело интересное, — сказал я.
Тетка понимающе кивнула головой, и глаза ее засияли.
- Вы давно уже работаете?
- Скоро пять лет, если с ремесленным.
- И вы сразу учились на токаря?
Я почувствовал, что тетка действительно очень умная и что разговаривает со мной она из любезности. Просто потому, что я пришел с Ирой.
- Сразу, — ответил я.
- Это хорошо.
Я раньше никогда не задумывался, хорошо это или плохо. Но она так произнесла это «хорошо», что я вырос в собственных глазах. Я понял, что совершил в жизни что-то важное.
- Может быть, мы поедим? — сказала Ира, подходя к столу и приподнимая салфетку. — Я ужасно проголодалась. Мы прошли пешком через весь город.
Ира придвинула к столу три стула. Я решил не отказываться. Я тоже хотел есть. К тому же я подумал, что теперь уже все равно, как я буду себя держать в этом доме.
- Салат? — спросила Ира.
- Спасибо, — сказал я. — По правде говоря, мне это непривычно, чтобы за мной ухаживали, я возьму сам.
Тетка подняла голову и сказала:
- Мужчины рождаются неизбалованными. Балуем их мы, женщины. Учти это, Ира.
Я подумал, что тетке лет тридцать пять, и положил себе салата.
- Я начинаю бояться, что ты уже хочешь выдать меня замуж, — сказала Ира. — А я еще совсем необразованная.
Тетка протянула мне бутерброд с маслом.
- Быть женщиной - целая наука. — Она делала еще один бутерброд. — Мужчины грубы и требовательны. А женщина должна вовремя уступить, вовремя настоять, вовремя стать слабой, вовремя защититься.
- Это настоящий бокс, — сказала Ира. — А я ужасно боюсь, когда дерутся.
- А зачем уступать? — сказал я. — Надо на равной.
- А вы думаете, мужчина и женщина равны? — спросила тетка, и она так улыбнулась и так посмотрела на меня, как-то сбоку и как-то загадочно, что я против своей воли сказал не то, что хотел:
- Ну... вообще-то нет...
Тетка снисходительно кивнула мне головой и повернулась к Ире.
- Я знаешь кому завидую?..
У меня в голове пронеслась мысль, что я мог бы влюбиться в эту тетку.
Тетка назвала какое-то имя.
- Вот женщина! Вот у кого надо поучиться! Представляешь, у нее заболел ребенок. И что же ты думаешь? Вечером она оделась, оставила ребенка мужу и пошла на свидание. Вот как надо жить!
- Очень плохо, что об этом знают все, — сказала Ира.
- И знаешь, ведь он ее любит.
- Ребенок? — спросил я.
- Почему ребенок? — просияла тетка. — Муж. А вы бы такую любили? — спросила меня тетка.
- Я бы ее убил, честно-то говоря.
Тетка засмеялась. Ира спросила:
- Шпроты? Вот есть еще шпроты...
Наши руки случайно коснулись. Ира посмотрела на меня и сразу же отвернулась.
Я взял шпроты. Там было немного, и я не стал выкладывать на тарелку.
- Сколько вам лет? — спросила тетка.
- А сколько вы думаете?
Я заметил, как нож в руках у Иры остановился.
- Я думаю... года двадцать три, — сказала тетка, щуря глаза.
Я решил не разубеждать ее.
- Значит, вы на два года старше Иры, — улыбнулась она. — Ох, вы еще совсем молоды! У вас еще все впереди.
Значит, Ире двадцать один. Для меня это было новостью. Я думал, Ире лет восемнадцать.
- Ира, — тетка откинулась на спинку стула, — ведь у нас есть вино. Саша, вы, конечно, выпьете?
Ира встала и пошла на кухню.
- Что же вы не едите, Саша? — спросила тетка, посмотрела на стол и удивилась. — Ничего нет? Ну, я сейчас.
Она тоже ушла на кухню.
Я задумался. Ира, конечно, была совсем не та, что на вечере, и, безусловно, она пригласила меня сюда просто так, из вежливости. Но сегодня она нравилась мне еще больше, чем в первый раз.
Ира принесла бутылку вина и банку рыбных консервов. Я любил рыбные консервы, особенно в томате. Эти были в томате. Тетка принесла тарелочку ветчины и на другой тарелочке пирожные.
- Мы сладкоежки, — сказала тетка. Она села и протянула мне бутылку. — Разливайте. Это - мужское дело.
Я разлил. Сперва тетке, потом Ире, потом себе. И взялся за консервы и ветчину.
- Тост ваш, — сказала тетка и посмотрела на меня так, что я почувствовал себя совершенным остолопом. У нее была такая обворожительная улыбка и такой пронизывающий взгляд, что я обязан был сказать что-то гениальное.
Я взял рюмку и очень медленно начал поднимать ее. Ира тоже подняла рюмку и смотрела на меня. На ум не приходило ничего. Я поднял рюмку еще выше и сказал:
- Выпьем за новый спутник.
- О, — засмеялась тетка, — вы самоуверенны!
Я удивился:
- Почему?
- Впрочем, — смеялась она, — я не знаю ваших способностей. Все возможно. Ире это видней. Я согласна: пусть новый спутник.
Ира улыбнулась. Мы выпили. Я взял бутылку и сразу же налил еще. Потом посмотрел на Иру. Тетка всплеснула руками.
- Мы уже и ветчину съели, и консервы, и пирожные. Вот это аппетит! — И она так расхохоталась, что у нее на глазах появились слезы. — А вы знаете, у нас ведь больше ничего нет... А вы знаете, придется идти в магазин. А вы знаете, вы прямо восхитительны... Это даже оригинально...
Она достала платок и вытерла глаза.
- Мы выпьем так, — сказала Ира.
Тетка не могла успокоиться и нее вытирала глаза.
- Скажите, вам, верно, зарплаты не хватает? Скажите правду?
- Нет, ничего, я укладываюсь, — сказал я. — А вы?
Ира посмотрела на тетку и громко расхохоталась.
- Это редкая способность, — сказала тетка и спрятала платок.
Неожиданно я почувствовал себя как-то лучше.
- Вы, оказывается, колючий, — смеясь, сказала Ира. — Оля всегда говорила мне, что она любит колючих.
Раздался звонок.
- Это, наверное, Игорь, — сказала тетка и пошла открывать.
«К кому это?» - подумал я. Мужчина что-то говорил.
- Это наш друг, — сказала Ира. — Теперь здесь будет весело.
Вошла тетка, и за ней я увидел мужчину лет тридцати. Он был высокий, немного сутулый, с длинным и бледным лицом. Поставил на стол бутылку коньяку и коробку конфет.
- Опять эти варварские обычаи, — сказала тетка. — Познакомьтесь.
Я встал. Он взял мою руку и сказал:
- Рабочий. Уже чувствую по ладони. Все сразу ясно. Давай, кто кого пережмет.
Я согласился. Я пережимал даже Лешку. Мы встали друг против друга, И я изо всех сил стиснул его руку. Он бил по воздуху левой рукой и говорил:
- Еще. Еще. Еще...
Мне хотелось показать себя Ире, но больше уж я не мог. И я отпустил. Начал жать он. Ира с улыбкой следила за нами. Он жал все сильнее. Сначала казалось, что ничего особенного, но потом я почувствовал, что косточки заходят одна за другую. Было больно, но я молчал.
- Молодец! — сказал он, хлопнув меня по плечу. — Вот это по-рабочему. Вот это то, что нужно. Выпьем.
Он налил всем. Тетка смотрела на него с восхищением.
- Сильный он? — спросила меня тетка.
- Он ломовик, — сказала Ира. — Он один раз двумя пальцами так сжал мне руку, что потом пришлось всю неделю по ночам переписывать конспекты левой рукой.
Когда разговорились, оказалось, что он не ломовик, а поэт. Меня это заинтересовало.
- Чепуха! — сказал он. — На самом деле мне надо было быть грузчиком. Ты парень рабочий - и хорошо. Это самое верное дело.
- У тебя опять неприятности? — спросила Ира, придвигая ему блюдце с нарезанным лимоном. — Я не могу дождаться, когда ты станешь модным. Мне хочется, чтобы у меня был знакомый модный поэт.
Он махнул рукой.
Я увидел, что он немножко пьяный. Может быть, даже не немножко. У меня голова тоже кружилась.
- Ох, Игорь, Игорь! — покачала головой тетка. — Разве ты всех перевоюешь? Ты же сам говорил когда-то: не рой яму другому, выроют без тебя.
- Слова, — сказал он. — Это слова. Выпьем.
Мне он нравился. И костюм на нем был хороший. Коричневый, в рубчик. И галстук был очень подходящий. Мы выпили снова.
Я попросил, чтобы он прочитал что-нибудь свое.
- Не могу, — ответил он. — Я вою. Поэты воют. Станет грустно.
- Не ломайся. Ты не великий, — сказала тетка. — Прочти: «Я шел, окутанный метелью...»
- Нет, я хочу что-нибудь другое, — сказала Ира.
Он повернулся ко мне.
- А стихи вообще-то тебе нравятся? Могут нравиться?
Я сказал, что мне нравятся Лермонтов, Пушкин, Маяковский и еще Багрицкий.
Ира улыбнулась.
- Ерунда, — сказал он, поморщившись. — Пушкин - это Гомер. Ты знаешь, кто такой Гомер? Это был такой поэт греческий. Он жил еще за десять веков до нашей эры. И Лермонтов тоже Гомер. У нас своя жизнь. Мы ездим в трамваях, толкаемся в автобусах, глотаем дым и ругаемся на работе. Нам некогда пожрать, некогда подумать. Нам их строчки как лунный свет. Ими можно любоваться, но они не греют.
- Почему? — возразил я. — По-моему, так греют...
- Перестань, Игорь, — сказала тетка. — Я уже это слышала. Я уже это знаю наизусть.
- Это и плохо, что наизусть, — сказал Игорь. — Значит, меня здесь не понимают.
Он опять повернулся ко мне.
- Нам не дано, — засмеялась тетка.
- Нет, — перебила ее Ира. — А мы хотим. Я хочу. Пусть он говорит.
- Обыватель ахает по привычке, — сказал Игорь. — Ах, Пушкин! А мы пошли дальше! И нам нужно писать по-своему. Хотя бы шиворот-навыворот.
Тетка подошла к Игорю и ладонью закрыла ему рот.
- Ты гений. Ты гений. Ты оглушил нас.
Ира смеялась.
- Ага, травля! — закричал Игорь. — И здесь травля. — И он тоже засмеялся. — Ладно. Сделаться революционером мне не дают. Буду нигилистом. Выпьем. Это проще. Иногда нужно выпить.
Мы выпили, и Игорь пересел на диван к тетке. Я слышал, тетка произнесла:
- «Я шел, окутанный метелью...»
И тетка, и Игорь, и Ира, и комната - все было как в тумане. И мне тоже захотелось рассуждать про какую-то метель и про каких-то занесенных людей.
Я взглянул в окно. На улице действительно была метель. К стеклу прилипал снег.
Ира сказала:
- Сейчас нужно быть на улице. На улице хорошо.
Мы сидели совсем рядом, и я чувствовал: ее плечо касается моего. Что-то такое незаметное произошло между нами. Теперь мы уже не были чужими. То, старое, как-то исчезло, словно его не было. Ира наклонила голову и улыбнулась мне.
- Ну, пойдем?
Игорь что-то негромко говорил. Тетка смеялась.
Мы встали и пошли.
На улице было хорошо. Она была вся белая. И точно бесновалась. Машины то летели, то останавливались. Освещенные троллейбусы были как уютные домики. Я сунул руки в карманы. Ира сама взяла меня под руку. Я вдруг почувствовал себя настоящим мужчиной. Это было даже хорошо, что мы шагали молча. Я подумал, что вот так, молча, рядом с ней можно было бы обойти всю землю. Шаг за шагом, все дальше и дальше. Через любую метель. Через заснеженные поля, через разные страны. По горам и пустыням. Всегда вместе.
На углу Ира остановилась. Лицо у нее было мокрое.
- Какой снег! — сказала она, улыбаясь. — Давай мы прокатимся на такси. У меня есть деньги.
Меня обожгло. Она назвала меня на «ты». И это вышло у нее как-то просто, само собой. Мне тоже захотелось проехаться на автомобиле. Мчаться со страшной скоростью, чтобы все расступались. И мне тоже не терпелось сказать ей «ты».
- У тебя есть деньги? Но ведь и у меня тоже есть деньги. Твои деньги не нужны. А куда ты хочешь ехать?
Я специально нажимал на «ты», «твои», «тебя» и искоса смотрел на нее. Она смотрела вдоль улицы и не замечала этих моих слов.
- Я знаешь где люблю? — сказала она. — По Дворцовой набережной, а потом по Кировскому.
Мы взяли такси здесь же, на углу Рубинштейна. Проехали по Невскому, и я взглянул на счетчик. Накрутило уже довольно много. «Ну, пускай столько, ну, пускай вдвое больше - не все ли это равно?» - подумал я. Мне не хотелось, чтобы Ира заметила мой взгляд, и я сказал:
- Едем быстро. Посмотри, впереди ничего не видно. Только желтые огни.
- Да, — сказала она. — Мне почему-то с тобой очень просто. Я не люблю, когда надо умничать. Мне нравится, что ты такой простой.
Мы свернули на набережную. Проехали мимо Зимнего дворца, через Зимнюю канавку. Нас бросило вверх, потом вниз. Я видел лицо Иры сбоку. По ее лицу мелькали огни. Теперь я сам не понимал, как у меня хватило смелости познакомиться с такой красивой девушкой. Ира смотрела вперед. Я подсел к ней ближе и обнял ее за плечи. Она повернулась ко мне, покачала головой и улыбнулась:
- А если без этого.
- Почему?
- Потому что будет все слишком обыкновенно. Не надо.
Я убрал руки, но продолжал сидеть близко к ней. Взлетели на Кировский мост. Город оказался внизу. Мне хотелось что-нибудь говорить.
- Хорошо, что нам попалась «Волга», — сказал я. — Она на ходу мягче.
Я решил показать себя знатоком, хотя на такси разъезжал не часто.
- Мы тоже собирались купить машину, — сказала Ира. — У нас даже была очередь. Но потом Оля решила строить дачу. Она всегда хотела иметь свой дом за городом.
Мы доехали до площади Революции и дальше пошли пешком по парку. Было не так красиво, как в тот вечер, когда мы гуляли с Нюрой. Снег был слишком густой и липкий. Но все-таки было тоже красиво. Памятник «Стерегущему» стоял точно ледяная глыба.
- Тебе понравилась Оля? — спросила Ира.
Я подумал и сказал:
- Да.
- Она очень хорошая. Она спасла меня во время войны. Мои родители погибли, и она взяла меня к себе. Я выросла у нее на руках.
- Вы жили в Ленинграде?
- Да, все время. И я знаю, как ей было трудно. Но она всегда старалась, чтобы мне было лучше.
- Мне она понравилась, — сказал я.
- Мы иногда спорим с ней, но все равно я очень ее люблю. Я обязательно должна что-то сделать в жизни, и для нее тоже сделать что-нибудь. Мне так хочется, чтобы она была счастливой. Тебе, может быть, скучно?
- Нет, — сказал я.
Снег все не переставал. Мы долго шли по аллее молча. Потом я спросил:
- Хороший сегодня вечер, правда?
- Да, — сказала она. — Я люблю зиму. — И засмеялась. — Давай сыграем в снежки. Хочешь?
- Давай.
Она бросала снежки очень смешно. Как-то через голову. Бросала и сама же смеялась. Я обсыпал ее всю. Она была белая, и по лицу ползли струйки. Я отряхивал ее варежкой. Потом мы катались с горки, как дети. Я становился первый, она цеплялась за меня. Один раз мы упали. Потом я спотыкался специально, и мы летели кубарем и смеялись. Нам было весело.
На Петропавловской забили часы. Мы прислушались: было двенадцать. Вечер пролетел как одна минута. В парке стало пусто. Мы вышли на улицу. Снег падал реже и медленней.
- Это хорошо, что ты меня нашел, — сказала Ира. — Значит, мы встретились тогда не просто так.
Я молчал.
- А куда же ты делся тогда, на вечере? Я ведь ждала.
- А там, знаешь, история получилась.
Я рассказал. Ира смеялась.
- И ты сидел в камере?
- Сидел.
- Страшно?
- Скучно.
Незаметно мы дошли до «Великана».
- Я так и подумала, что с тобой что-то случилось, — сказала Ира. — У твоего друга было такое лицо...
- Да все из-за ерунды. Но не мог же я его бросить! Это же нечестно.
- Да, это нечестно. Хороший друг - это, по-моему, очень редко. Его бросать нельзя.
- Лешка, знаешь, замечательный парень! Я тебя познакомлю. А в общем, все это чепуха.
- Нет, — сказала Ира. — Не такая это и чепуха. Все не так просто. Есть много разной грязи. И если до нее дотронешься, она пристает.
- Ну, это, по-моему, необязательно, — сказал я. — Надо с ней бороться - и все.
- Конечно, надо. Но человек тогда разбросается. Вот хорошо разве: ты просидел в камере, тебе объявили выговор? Ты же хотел сделать лучше.
- Да.
- А выходит, что лучше, если бы ты никуда не ходил. В жизни нельзя разбрасываться.
Ира остановилась.
- Ты посади меня, пожалуйста, на «сорок пятый», — сказала она. — Поздно уже.
- Я тебя провожу.
- Зачем? — Она пожала плечами.
- Нет, я провожу.
- Нет, не надо.
- А когда мы встретимся?
- Не знаю даже. Сейчас надо много готовиться к занятиям. Позвони мне.
У Иры нашелся карандаш, и я записал телефон.
Подошел автобус. Я смотрел, как она шла, очень стройная и легкая. Потом села у окна, помахала мне рукой и улыбнулась.
* * *
Возле нашей комнаты стоял бачок с кипяченой водой. Он всегда стоял на табурете, а теперь почему-то был на полу. Табурет исчез. Из комнаты доносились шум и отдельные громкие голоса. Я вспомнил, что сегодня «солдатский день». Каждый год в последнюю субботу февраля к Алексею Ивановичу приходили его солдаты. Во время войны Алексей Иванович был командиром батальона. Мы с Лешкой в такие дни были совершенно лишними. И мы уходили. Но сегодня мне очень хотелось быть среди людей, там, где весело, шумно и празднично. Я открыл дверь. На меня посмотрели и забыли. Я сел на кровать. Другого места не было.
Возле Алексея Ивановича стоял толстяк, лысый и улыбающийся.
- Пусть даже сто лет пройдет, — кричал он, — я все равно не забуду, как вы обстригли меня, как барана!..
Все засмеялись.
- Петя! Петя! — закричал кто-то из угла. — А помнишь, как ты лез к Кате по пожарной лестнице?
Толстый замахал руками и повернулся к Алексею Ивановичу.
- Товарищ капитан, врут. Поверьте. Без всякой совести наговаривают! Кто же будет к законной супруге...
Все снова засмеялись.
Я заметил, что лицо у Алексея Ивановича какое-то молодое и ничего не понимающее. Он поворачивался то в одну, то в другую сторону и, казалось, никого не видел. Потом заметил меня. Подозвал. Посадил рядом.
- Выпей с нами, Александр... вот с ребятами...
Кто-то взял меня за плечи. Я увидел человека с длинным носом и очень светлыми глазами.
- Ну, как работенка?
- Ничего.
- Бреет он вас тут? Здорово? — Он кивнул на Алексея Ивановича.
- Нет, ничего. Нормально.
- А нас ругал ужасно. Самое страшное ругательство у него: «Чиновник!» Помню, один раз мне досталось. Посадил. Ну, правда, я там отдохнул - на «губе». Чернику ел. Но зато увольнительную давал всегда. И ныть отучил.
Он вдруг наклонился и хлопнул по колену соседа:
- Помнишь, как ты в горах дневалил?
Сосед заморгал.
- Там в горах мы Сережку потеряли, — сказал тот, что сидел справа. — Какой был парень! Любимец. Нет у тебя сапог, свои стряхнет с ноги: на! Алексей Иванович, я о Прыткове...
Алексей Иванович повернулся к нам.
- Прыткова нет...
И вдруг стало тише. Совсем тихо.
- В походе все с ног валятся, а он идет впереди, песни орет, — проговорил кто-то.
Алексей Иванович встал. Потом сел. Потом опять встал. Наконец сказал:
- Ребята!.. За павших...
Я тоже поднялся. Они стояли кольцом вокруг стола. Лица у них были суровые. Я представил, как они ходили в атаку, как на них лезли танки...
- За Сережу Прыткова, — сказал Алексей Иванович. — За Толю Коровина...
...Я представил их в касках, в окопе, и рядом рвались снаряды...
- За Ваню Пажиткова...
...И Алексей Иванович лежал на краю окопа и держал в руке автомат...
- За Костю Васильева...
Потом они положили руки друг другу на плечи. Образовалось кольцо. И я был тоже в этом кольце. И все вместе мы пели «Землянку». Я никогда не знал, что эта песня такая сильная и такая страшная. После этого долго никто уже громко не говорил. У всех были мягкие и очень добрые глаза. Потом стало легче.
- Федя! Федя! А ты помнишь, как ты заблудился? — кричал маленький и лысый.
- Где?
Федя встал, и мне показалось, что он чем-то похож на Алексея Ивановича, только ростом пониже и глаза прищуренные, но в плечах тоже широкий. Он был одет, точно пришел в театр: в черном костюме и белой рубашке.
- Где? — снова спросил он, пожал плечами и улыбнулся, щуря глаза.
- Ну, в окопах.
- Да, да, да. Верно. — Он посмотрел на Алексея Ивановича. — Верно.
- Что-то я этого не знаю, — сказал Алексей Иванович.
- Ночью, представляете, забрел в чужие окопы. Грязь в окопах до пояса. Я туда, сюда. Ничего не могу понять. Что за окопы? Свои? Немецкие? Потом вижу колышки березовые. Я так и оцепенел. Березовые колышки ведь у немцев. Ну, думаю, пропал. Выбился из сил, прислонился и заплакал. Ну что мне?.. Двадцать два года. Необстрелянный. Замерз. Приготовился умирать. Сочиняю предсмертную речь и плачу. Слышу, кто-то чавкает по грязи. Я прямо в грязь животом. Не знаю кто: свой или нет. И тут закашлялся. Тот кричит: «Эй, кто там? Стрельну!» А вокруг темнота, хоть глаз коли. Ну, я закричал: «Иди сюда, не стреляй! Свой». Подходит. Вижу, незнакомый. Спрашивает: «Заблудился?» - «Заблудился». — «Ну н я тоже. Покурим давай». Сел так спокойно, вынул кисет. Закурили. Потом пошли вдвоем. Бродили, бродили. Наконец видим развалины Пулковской. Он спрашивает: «Тебе куда?» Я говорю: «Туда». — «А мне в другую сторону. Пока». — «Пока». Ну и разошлись.
Они вспоминали еще и еще. Потом оделись.
- Я догоню, — сказал Алексей Иванович. — Там, смотрите, дверь в коридоре хлопает.
Федя задержался вместе с Алексеем Ивановичем.
- Ну, ты как, в наши края надолго? — спросил Алексей Иванович, доставая со шкафа шапку.
- На год, наверное, — ответил Федя.
- Строить что-нибудь будешь?
- Строить. Верней, перенимать опыт.
- А твои где?
- Может, перевезу. Не знаю еще. Да ведь год пролетит, завертишься - и не заметишь. А им мотаться. Прямо не знаю.
Они вышли. Я остался один. Открыл форточку. Лег на кровать и почувствовал, какой я маленький и бесполезный. Они были очень сильные и смелые, а я ничего не мог вспомнить такого же хорошего и замечательного. А ведь мне тоже хотелось сделать что-то полезное, и настоящее, и достойное.
Я лег спать. Лешку я не ждал. Он ушел к сестренке.
Скрипнула дверь. Я сказал Алексею Ивановичу, чтобы он зажег свет. Алексей Иванович не стал зажигать. Он ворочался очень долго. Спросил:
- Ты не спишь?
- Нет, — ответил я.
Прошел час. Может быть, больше. Алексей Иванович сказал:
- Вот. Теперь всю неделю будет бессонница...
Глава третья
Когда я поступал на завод, наш цех был совсем небольшой. Станков было немного, и те старые, довоенные. Со стен обваливалась штукатурка. А на полу валялись ветошь и стружка. Мне все это не понравилось. Мне хотелось попасть в огромный цех и работать на новом станке, В газетах иногда бывают фотографии знаменитых слесарей, токарей, сталеваров. И мне тоже хотелось прогреметь на весь Союз и хотелось, чтобы меня увидела мама. Но в таком цехе это, конечно, было невозможно. И я понял, что мне не повезло. Я начал курить и часа два-три каждый день проводил в уборной вместе с Женькой Семеновым и Юркой Кондратьевым. Мы сидели на батарее и говорили о чем попало. Из уборной нас выгонял мастер. Потом я стал наблюдать за Лешкой. Лешка работал спокойно, по сторонам не смотрел. Ему давали самую сложную работу, и он зарабатывал лучше других. Я стал завидовать Лешке. Вскоре я подружился с ним. Вечером ходил к нему в комнату, и мы играли в шахматы. Лешка придумал одно приспособление к станку, и мы с ним вдвоем это приспособление сделали.
Алексей Иванович договорился с комендантом, и я переехал в их комнату. Для меня поставили койку. Лешка всегда говорил: «Наш цех». Алексей Иванович тоже говорил: «Наш завод». Постепенно я убедился, что наш цех неплохой. Его стали расширять. Сломали стенку и сделали пристройку. Привезли новые станки. Поставили их в три ровных ряда. Потом цех отремонтировали, и он стал другой, очень светлый, чистый и строгий. Особенно хорошо он выглядел вечером, когда горели не только лампочки возле станков, но и наверху зажигались лампы дневного света. Я иногда выходил во двор и смотрел на наш цех через окно, как бы со стороны. И мне очень нравились ряды станков, серьезные лица ребят, детали на тумбочках. Мне нравилось, что я работаю в этом цехе и могу вот сейчас войти туда и работать вместе со всеми. Никто меня не остановит, не посмотрит удивленно, потому что я свой.
Я сидел и думал обо всем этом на цеховом собрании. Собрание было то тихое, то шумное. Это зависело от выступлений.
Лешка наклонился ко мне и спросил:
– Ты выступать будешь?
Я тоже спросил:
– А ты?
– Я скажу. Надо про технологию... А ты давай про ремонтников.
– Я не знаю...
Нюра подняла руку. Ей дали слово. Она пошла вперед, к столу. Видимо, растерялась.
– Тут спорить нечего, семь часов работать лучше, чем восемь. Тут и говорить нечего. Но надо, чтобы за семь часов мы зарабатывали столько же, сколько за восемь.
– И даже больше, – вставил Алексей Иванович. Он сидел за столом, рядом с начальником цеха.
Нюра не умела выступать. И я не любил, когда она выступала. В жизни она была гораздо умней. А на собраниях краснела и становилась какая-то ожесточенная. Мне казалось, что все это видят и чувствуют себя выше ее и толковей. И мне это было неприятно. Я слушал и боялся, чтобы Нюра не сказала чего-то такого ненужного, никому не интересного.
– Я понимаю так, что все зависит от производительности труда, – говорила Нюра. – И вот ругаются, что из кладовой пропадают фрезы. И еще ругаются, что у некоторых рабочих в тумбочке хранится целый набор фрез. Фрезы никто не ест, и на рынок их тоже не носят. Но иногда придешь в кладовую, а нужной фрезы нет. Вот и ходишь по цеху. Ищешь. А у кого фрезы в тумбочке, тот никогда не ищет. Вот и надо, чтобы не тратить время, чтобы в кладовой были все фрезы.
Мне казалось, что Нюрино выступление совсем пустяковое. И мне хотелось, чтобы она скорее села на место. Я подумал про Иру. Она выступала бы, наверное, спокойно, а может быть, даже не стала выступать. О фрезах и так знают. А теперь на Нюру будет коситься мастер. Даст невыгодную работу. А зачем это? Мастер тоже не виноват. Он хочет, чтобы цех выполнял программу. И этого хотят все. Я подумал, что про ремонтников мне выступать тоже не нужно. Механик злой и со станком будет тянуть. Придется весь месяц работать на револьверном.
Нюра села. Лешка опять нагнулся ко мне:
– Ну давай...
– Давай ты...
– А ты?
– Я после...
Лешка пошел. Я решил, что выступить все-таки надо. Ведь ремонтники мешают не только мне, но всему цеху.
Лешка выступал здорово. Он говорил одинаково и дома и на собрании. Он бы мог, наверное, выступать и на Дворцовой площади. Лешка говорил и постукивал кулаком по столу. Алексей Иванович улыбался, но совсем незаметно Лешка говорил:
– Технология – это раз. Мы работаем не на дядю. Приносят чертеж. Вот, говорят, сделай. А технология? По такой технологии мой дед работал в депо. Стоишь и думаешь. Потом все-таки сделаешь. Технолог доволен. Рабочий сделал. Рабочий придумал свою технологию. А зачем же тогда технолог? За что же ему платят? Может, просто потому, что такая должность есть в цехе? Скажите, я правильно говорю?
– Правильно! – крикнули несколько человек.
Лешка говорил горячо. Я подумал, что при царе Лешка бы стал знаменитым революционером.
– Простои – это два. – И Лешка снова несильно ударил кулаком по столу. – Я не боюсь говорить. Я скажу, пусть придут самые разначальники. У меня такое впечатление, что мы кого-то хотим обмануть, а обманываем сами себя. Про наш цех везде говорят – передовой. А у нас каждый месяц простои. Работаем как попало. Месяц начинается – тишина, цех закрывать можно, а в последних числах вкалываешь, как папа Карло. За пять дней зарабатываем больше, чем за месяц. Какое же это планирование? У нас, бывает, и по две и по три смены люди работают. Раскладушку приносить надо. Какая же после этого производительность? Цех наш, завод наш, и люди тоже наши. Нам детали нужны, продукция, а не проценты к концу месяца.
Лешке аплодировали. Лешка сел, и я увидел, что у него дрожат руки и он весь наэлектризованный. К столу пошел Валерий Осипов. Я не знал: выступать мне или не выступать? Я заметил, что механик сидел в первом ряду. Ребята из его бригады сидели с ним рядом. Лешка пришел в себя и сказал:
– Ну давай, чего же ты?
– Ладно. Ты не торопи. Я и сам.
Я начал составлять в голове свою речь. Мне хотелось, чтобы получилось не очень обидно для ремонтников. После Валерия поднял руку Юрка Кондратьев. Лешка толкнул меня в бок.
– Ну ты чего ждешь?
– Ты на каком станке работаешь? На своем?
– На своем.
– А я на револьверном.
– Ну и скажи...
– А тебе-то чего?
Я хотел поднять руку, но не успел. Пошел Васька Блохин. На этот раз Васька не улыбался. Под спецовкой у него был галстук. И вид у него был солидный. Васька начал про вечернюю школу, а кончил бригадой ремонтников. Он сказал все, что я хотел сказать.
Мы вышли на улицу, и Лешка пожал плечами.
– Ты чего же про свой станок молчал?
– А ты механика знаешь?
– Испугался?
– Надо мне пачкаться с грязью.
– А кто грязь?
– Грязи много.
– А кто за тебя будет пачкаться?
– Как-нибудь без тебя. Понял?
Была оттепель. С крыш капало. Дома стояли белые, вспотевшие. Под ногами было месиво. Мы шли молча, Я решил, что позвоню сейчас Ире. Мне все время хотелось позвонить ей. И я все время откладывал. Возле «Гастронома» стояла машина и лапами загребала снег. Эти лапы были как руки. Лешка отшвырнул ногой комок. У меня у самого был какой-то осадок после этого собрания. Недалеко от общежития нас догнала Нюра.
– Вы что так быстро идете?
Лешка не ответил.
Я сказал:
– Так...
Теперь мы шли трое и тоже молчали. Нюрины боты блестели. У Лешки ботинки были на каучуке. У меня на коже. Я почувствовал, что левая нога промокла. Нюра сказала:
– Мальчики, вам не надо постирать? А то у меня стирка...
Лешка показал на меня.
– Ему надо.
– Да вы не стесняйтесь, я заодно и перестираю.
– Нет, – сказал Лешка, – я сестренке снесу.
Мы прошли телефонную будку. В руке у меня была целая горсть монет.
– Мне тут в магазин надо. На минутку, – сказал я.
– А мы когда сядем с тобой за упоры? – спросил Лешка. – Или не сядем?
– Я же сказал, что сейчас приду...
Автомат был испорчен. Монета вываливалась. Я пошел к другому. Он был за углом. Мне очень хотелось, чтобы Ира была дома. Я решил пригласить ее в кино. В будке стоял военный. Он согнулся над трубкой и закрывал рот ладонью. Я не вытерпел и постучал в стекло. Он приоткрыл дверь и высунул голову.
– У тебя горит?
– Горит.
– Ну, беги дальше. Я долго.
Напротив, в булочной, тоже был автомат. Я пошел туда. Набрал номер. Прогудело три раза. Потом щелкнуло. Монета провалилась. Я услышал голос:
– Слушаю вас...
Я не знал, кто это: Ира или тетка?
– Здравствуйте. Скажите, Иру можно?
– Это ты, Саша?
– Я. Здравствуйте, Ира.
– Ты что же не позвонил в воскресенье? Я уже думала, у тебя опять что-нибудь случилось.
Ира засмеялась. У нее был очень красивый голос. Я представил, как она сидит на диване и разговаривает со мной. Телефон рядом, на тумбочке. Ира улыбается и, наверное, наклонила голову.
– Я хотел, но мне было неудобно. Я, по правде сказать, боялся...
– Ты всегда боишься звонить по телефону девушкам? – спросила она.
В булочной было шумно. Я крепче прижал трубку к уху.
– Что же ты молчишь? А?
– Ира, как ты смотришь, если нам сходить в кино или погулять?
Я боялся, что она не согласится.
– Я не ходила в кино уже, кажется, сто лет. Ты хочешь сегодня?
– Да, мне бы хотелось сегодня.
– Ну, хорошо. Только попозже. У нас сегодня уборка. Но я как-нибудь вырвусь. Давай мы встретимся в десять.
– Давай.
– Ты сегодня был очень храбрый. Правда?
– Может быть. Я не знаю. Куда прийти?
– Хочешь, я приду к «Великану»?
– Хорошо...
– Ну, договорились. Я приду.
Ира повесила трубку первая. Раздались короткие гудки. Все кончилось.
Теперь мне надо было что-то сказать Лешке. Лешка обидится. С этими упорами прямо не везло. Мы уже полмесяца за них не садились.
В комнате у нас была Нюра. Я разделся, повесил пальто в шкаф. Лешка перелистывал книгу. На часах было половина восьмого.
– Возьми, – сказал Лешка Нюре. – Я потом дочитаю.
– Нет, ты читай. Я же все равно сегодня не буду.
– Возьми, у меня другая есть.
Он положил книгу на стол. Это был Джек Лондон. Лешка любил Лондона и мог читать несколько раз подряд. Я сказал:
– Мировые рассказы!
Нюра встала и взяла книгу.
– Ну, так кто же из вас принесет белье? И чего вы ломаетесь каждый раз?
Лешка молчал.
– Прямо в прачечную? – спросил я. – А может быть, мы в стирку отдадим?
– Ой, ну до чего же вы какие-то непонятливые! – сказала Нюра.
Мне не хотелось, чтобы Нюра стирала наше белье, особенно мое. Я собирался поговорить с Нюрой серьезно. Крутить ей мозги было нечестно. А белье все же обязывало. Получался какой-то замкнутый круг. Я выпалил:
– Но ведь другим ребятам ты же не стираешь. Только нам.
У Нюры на губах появилась улыбка. Потом улыбка сошла. Она смотрела на меня и, казалось, видела не меня. Ее лицо стало неподвижное, и все на нем очень ясно обозначалось: глаза, нос, рот, подбородок, завиток волос на лбу. Она вся покраснела. Я почувствовал, что сказал какую-то страшную гадость. Нюра повернулась и ушла.
Лешка посмотрел на меня в упор.
-– Добился?
– Ну и ладно. Мы и сами взрослые.
– Ты извинись сходи.
– Иди сам. Скажи, что я сволочь и негодяй.
Я прошелся вокруг стола раз и другой. Мне было нехорошо, и я не знал, что мне делать. Я обидел Нюру ни за что. Она никогда в жизни не сделала мне ничего плохого. Я чувствовал на себе Лешкин взгляд. Лучше бы мы с ним подрались. Лешка сказал:
– Ты землю-то носом не рой.
– А чем?
– А ты подумай.
– А что ты мне хочешь сказать?
– Все, что сказал.
Я все так и ходил вокруг стола и головы не поднимал. Потом посмотрел на часы. Восемь. Все получалось сложно и запутанно. Оскорблять Нюру было подлостью, сказать ей правду было жестоко. Я собрал и связал в узелок белье. Лешка свое не дал.
На лестнице было темно. Я перевесился через перила, посмотрел вниз и увидел, что в щелку, из дверей прачечной, вырывается свет. Слышен был шум. В бак лилась вода. Я открыл дверь и увидел стенку пара. Потом увидел Нюру. Она сидела в углу и плакала, и вода лилась просто так.
Едва я открыл дверь и увидел Нюру, я понял, что лучше мне было не приходить. Никаких слов, чтобы оправдываться, у меня не было. Но уходить было поздно, Я спросил:
– Нюра, ты обиделась, да?
Нюра не ответила. Теперь я уже видел ее хорошо. Она была в летней старенькой юбке, без блузки. Плечи были голые. На одном плече две лямки и на другом – две лямки. Лицо закрыто платком и руками. Я подошел к ней совсем близко и положил руку на плечо.
– Нюра, я ведь не хотел...
Она сказала сквозь слезы:
– Как тебе только не стыдно?!
Мне было стыдно. И я сам не знал, зачем я ей нагрубил. Плечо ее от пара было мокрым. На мое лицо тоже садилась вода. Я стоял, и стоял, и чувствовал, что не могу сказать ничего вразумительного. Надо было поцеловать Нюру и найти несколько хороших слов.
– Нюра, ну просто мы с Лешкой поругались, и так получилось. Ну неужели же ты не можешь простить? Ты не можешь, да?
Нюра перестала плакать.
– Ну за что только ты мне понравился? Ведь все наши ребята лучше тебя, лучше, лучше, лучше...
Мне от этих ее слов стало легче.
– А я, значит, хуже?
– И хотела бы выкинуть тебя из головы, но не могу...
Мне стало совсем легко.
– А это обязательно – выкидывать?
Она подняла лицо, и я увидел, что глаза у нее совсем не злые, а добрые и ласковые. Я нагнулся к ней:
– Ну, помиримся?
Я поцеловал ее. Она не сопротивлялась. Я заметил, что нос у нее припух и блестел. Губы были очень красные. Ресницы пучками.
– И ты хочешь показать всем, что я тебе безразлична... И получается так, что это я за тобой бегаю.
Я боялся, что опоздаю. Мне надо было уходить.
– Закрыть кран?
– Ты в воскресенье пойдешь в клуб, на вечер?
– Пойду. Знаешь, Нюра, меня там Лешка ждет. Мы над одним предложением работаем. Чертеж надо сделать...
На лестнице я решил, что теперь по крайней мере не надо оправдываться перед Лешкой. Можно было уйти спокойно. Перед дверью нашей комнаты я сделал злое лицо. Рывком открыл дверь. Рывком вынул пальто из шкафа. Я видел, что Лешка развернул лист бумаги и достал готовальню.
– Ты куда? – спросил он.
Я посмотрел на пего как можно более зло.
– Пошло бы оно все к черту: и собрание, и Нюрка, и эти упоры! Надоело все это. И пусть оно все провалится.
– А чего это ты?
– А ничего...
Лешка смотрел на меня удивленно. Я хлопнул дверью изо всей силы.
На улице начало подмораживать. Воздух был свежий и приятный. Снег застывал и крошился под ногами. Люди шли медленно, потому что боялись поскользнуться. Днем город один, а вечером он другой. Днем город большой и необозримый. Вечером он становится меньше и уютнее. Улицы мне кажутся коридорами. Вверху висят лампочки. Неба не видно, и создается впечатление, что над улицей крыша. В окнах горят разноцветные огни. И от этого на улице еще уютнее.
Я купил билеты на двадцать четвертый ряд. Этот ряд самый хороший. Оставалось еще полчаса, и я зашел в парикмахерскую. Очереди не было. Я сел на стул и почувствовал себя независимым.
Мастер спросил:
– Постричь?
Я добавил:
– И побрить...
Мастер извивался н все время спрашивал: «Не беспокоит?» Потом он снял салфетку, стряхнул с плеча волосинки и посмотрел на меня очень красноречиво. «На чай» я ему не дал. Гардеробщица тоже была очень вежливая. Она даже почистила меня щеточкой. И ей я тоже «на чай» не дал. Я ненавижу людей, которые берут «на чай». За гривенник они кланяются до земли. А те, что дают «на чай», мнят из себя мелкую буржуазию. Если к ним подойти на улице и спросить трешку, они наверняка позовут милицию. На самом деле они крохоборы и не уважают других.
У выхода висело зеркало. Я остановился. Ондатровая шапка была мне к лицу.
Было без пяти десять. Потом было без четырех десять. Потом без трех. Потом без двух. Я стоял сперва на одном углу у кинотеатра, а потом на другом. Я не знал, с какой стороны придет Ира, и боялся, что пропущу ее. Было десять. Некоторые девушки издали были похожи на Иру. Когда стрелка остановилась на одной минуте одиннадцатого, у меня внутри что-то сжалось, и я вдруг представит Лешку, который сидит над чертежом, и себя, бегающего около «Великана», обманутого и никому не нужного. Я подумал, что Ира не придет, что, наверное, она с кем–то другим. Мне было обидно. Я почувствовал себя нехорошо. Было две минуты одиннадцатого. Наконец я увидел Иру. Она шла очень быстро и улыбалась. Я сунул руки в карманы.
Ира подошла и, ни слова не говоря, взяла меня под руку. Мы пошли. И я понял, что она не могла не прийти, что она моя и что теперь на земле мы вместе и навсегда.
– Я немного опоздала? – спросила она.
– Нет, – сказал я.
– Ты уже купил билеты?
– Купил.
Она остановилась. Я спросил:
– А тебе не хочется в кино? Если не хочется, не пойдем.
– Может быть, мы и в самом деле не пойдем? Пойдем куда-нибудь, где никого нет. Где есть только деревья, воздух и тишина. Пойдем? И знаешь куда? На Кировские острова!
Она наклонила голову, улыбнулась и посмотрела мне прямо в глаза. Я сказал, что согласен, и повернул к автобусной остановке.
– Только давай продадим билеты.
– Ну, подумаешь...
Мне не хотелось, чтобы она решила, что я дрожу из-за какой-то мелочи. И я сказал, что мы эти билеты выбросим, и все. Или кому-нибудь отдадим.
– Нет, их надо продать. Разве ты миллионер?
Она тянула меня за рукав. Мы вернулись, и я продал билеты.
...На Островах было пусто. Мы пошли к Стрелке и не встретили никого. Слева был город, и только оттуда падал слабый свет. Лунный серп был совсем тонкий. И все же аллея, и деревья, и наглухо забитые ларьки были ясно видны. Откуда-то доносилась музыка. Но она была очень далеко. Мы шли и держались за руки, как дети.
– О чем ты думаешь? – спросила Ира.
– Я не думаю.
– Хорошо здесь?
– Мне нравится.
Я думал о том, что Ира совсем не похожа на других девушек. Она не ломалась и не жеманничала. И она сама предложила пойти в парк, хотя знала, что в парке никого нет. И все у нее выходило естественно и просто. И мне было неприятно, когда я вспомнил, как приставал к ней на лестнице.
– Если идти все время вперед, мы придем в Кронштадт, – сказала Ира.
– Идем вперед, – сказал я.
– Идем, – сказала Ира и засмеялась. – И почему я не родилась мужчиной?
Она произнесла эту фразу так твердо и с такой неожиданной силой, что я подумал, что она об этом и в самом деле жалела.
– А если бы ты была мужчиной, что тогда?
– О, если бы я была мужчиной!.. – Она остановилась. – Я была бы сильной и гордой. И я жила бы так, чтобы передо мной расступались. Я никогда бы не повысила голоса и говорила бы только нужные слова. По утрам я бы выжимала пятипудовую гирю и круглый год купалась в Неве. Я бы ни перед кем не согнулась и делала бы только то, во что верю...
Мы стояли посреди аллеи. Ира была очень красивая. Она могла бы быть артисткой кино.
– Я изучала бы языки и разные специальности. Я стала бы моряком и объездила свет. Ох, как жалко, что я не родилась мужчиной!
Я не мог понять, говорит она серьезно или нет.
– Но языки изучать могут все, – сказал я.
– Конечно, могут, но зачем? Просто от скуки? Для образованности? Глупо.
– А за девушками ты бы ухаживала?
– Ну конечно. – Она улыбнулась. – Обязательно. И за многими. И только за красивыми. Только дураки не понимают, какое это благо на земле – женщина. Просто это благо теперь слишком обесценилось.
– А я тоже дурак?
– Ты? Нет. Но ты еще не мужчина. И наверное, ты не настойчивый. Просто у тебя красивые брови, и глаза тоже...
– Так, значит, я не мужчина? – сказал я с наигранной угрозой. – Ну, хорошо...
Я шагнул к Ире, обнял ее очень крепко, и когда передо мной оказались ее губы, прикоснулся к ним. Она не противилась. Так я не целовался еще никогда. Она отвечала на мой поцелуй, и я постепенно обнимал ее все крепче.
Ее шляпка упала на землю. Я нагнулся с трудом, потому что у меня шумело в голове. Мне очень хотелось взять Иру на руки и кружиться с ней.
Мы пошли дальше. Деревья стояли молчаливые и величественные. Ира сказала:
– Вот ты представляешь, там, в небе, высоко-высоко, летают спутники. И еще выше есть неизвестные звезды и даже миры. А здесь снег, он чуть синий. Правда?
– Нет, он больше серый...
– Ну, пусть серый. И на этих деревьях весной появятся листья. И все здесь придумано так, чтобы нравилось человеку. И вот под этими звездами и мирами идем мы. И нам хорошо. И там, дальше, есть еще много-много земли. Я хотела бы в джунгли.
– Одна?
– Нет.
– А с кем?
– С тобой, если ты будешь смелый.
– Я обязательно буду смелый.
– Давай танцевать!
– Давай. А что?
– Вальс. Тебе какой нравится?
– «Амурские волны».
– Ну, играй!
Я надул щеки и начал подражать духовому оркестру. Мы кружились сперва медленно, а потом все быстрей и быстрей. И с нами кружились кусты, и деревья, и огни на другой стороне Невы, и вся аллея. Я все играл, и у меня не хватало дыхания. А Ира смеялась громко, на весь парк.
Мы остановились, и я снова поцеловал се.
– Ира, помнишь, там, на лестнице, ты сказала, что всему свое время. Значит, время пришло?
Она наклонила голову и улыбнулась.
– Ты очень смешной. Ну что теперь делать? Ведь этого уже не вернешь...
Мы ходили по аллеям долго. И мы исходили весь парк. Огни в городе погасли. Трамваев уже не было видно. Но мы не уходили. Мы постояли еще на Стрелке. Стадион Кирова казался громадной горой. Впереди был залив. Мы не видели далеко, потому что с неба свисала мгла, но мы чувствовали, что впереди простор и очень много воздуха, воды и льда. Ира спросила:
– Так мы пойдем в Кронштадт?
– Конечно, пойдем.
– Сейчас?
– А когда же!
Она вздохнула и покачала головой.
– К сожалению, нам нужно идти домой. Утром идти в булочную, пить чай. Потом тебе на завод, а мне в техникум. И миры, и звезды будут сами по себе.
– Я приду к вам в субботу, – сказал я.
– Приходи, – ответила Ира.
Мы возвращались домой пешком. Ира опять не позволила, чтобы я ее провожал. Разрешила только до Военно-морского музея. Там мы расстались. Я смотрел, как она поднималась по мосту. Потом исчезла.
Утром Лешка не сказал мне ни слова. Я тоже молчал. Я решил, что мужчина и в самом деле не должен произносить лишних слов. Мы шли на работу втроем: я, Лешка и Алексей Иванович. Лешка смотрел себе под ноги. Я смотрел на небо. Солнце взошло, и туч не было. Алексей Иванович поглядывал на нас и тоже молчал.
Мы вошли в цех, и я увидел, что механик и еще двое ребят из его бригады стоят у моего станка. Механик то включал, то выключал станок. Я решил поговорить с ним. Мы отошли в сторону. Я сказал:
– Выступать можно. Блохин на этом живет. В крупные начальники лезет.
– Ну, ты говори сразу, чего хочешь.
– Я бы тоже, конечно, мог выступить...
– А пошел ты!..
Я удержал его за рукав.
– Если кончите раньше...
Он скривился. Я сделал вид, что не вижу. Он махнул рукой и сказал:
– Блохину поставь, а я тебе не компания...
Раздался звонок. Загудело сразу несколько станков. Потом еще и еще. У кого-то станок заревел. Был перегруз. Мне показалось, что у Нюры. У Лешкиного станка стояли начальник цеха и Алексей Иванович. Лешка показывал пальцем в чертеж, Алексей Иванович говорил и, как всегда, размахивал правой рукой и сжимал пальцы в кулак. Начальник цеха качал головой.
Я подошел к Нюре. Лицо у нее было невыспавшееся, глаза маленькие. Мы поздоровались за руку. Я спросил:
– Ну, как стирка?
Нюра посмотрела на меня очень внимательно. Я рассматривал фрезу и трогал ее пальцем.
– Ничего заточена.
– Зачем же ты меня обманул? – спросила Нюра.
– Я?
– Тебя ведь никто не тянул за язык. Сказал, что будешь чертить, а сам куда-то ушел.
Меня передернуло. Не слишком ли уж это много: отдавать ей отчеты! Если так пойдет, то скоро мне нельзя будет пикнуть. Мне всегда были противны девчонки, которые липнут.
– А что, мне нельзя уйти? Да? Что ты мне, жена, что ли?
– Но ведь тебя никто не заставлял врать.
– А я ничего не врал. Хотел чертить, а потом передумал. И вообще, знаешь, нам лучше не разговаривать. Вечно я слышу от тебя выговоры.
Я повернулся и пошел к своему станку. Притащил ящик болванок. Включил станок и начал работать. Латунь вертелась перед глазами желтым кругом, и мне хотелось, чтобы этот круг выскочил из станка и врезался в стену. Не так-то это просто было – говорить только нужные слова и не повышать голоса. Каждый считал, что он может командовать, и получалось так, что везде я виноват и должен оправдываться. Перед Лешкой я виноват. Конечно. Лешка – хороший парень. Лешка – человек, на которого можно положиться. Но если он хочет делать чертеж, то пусть он делает чертеж. Какое мне в конце концов дело! Почему же Лешка должен на меня обижаться, а я должен перед ним оправдываться! Механик, конечно, сволочь. Наверное, мне нужно было выступить на собрании и сказать ему несколько хороших слов. Вот тогда бы все было в порядке. И сегодня он разговаривал бы со мной по-другому. Нюру я жалел. И я же был виноват! Нужно жить не так. Нужно быть сильным и наплевать на них на всех.
Раньше, когда раздавался звонок на обед, я подходил к Лешке, и мы вместе шли в столовую. Сегодня я еще немного поработал после звонка. Потом долго вытирал ветошью руки. Потом долго мыл руки. Потом постоял среди пустого цеха и пошел в столовую.
В кассу очереди уже не было. Стояло только человека три. Лешка сидел вместе с Нюрой, и с ними сидел Васька Блохин. Один стул был свободен, и на нем висела Нюрина косынка. Я рассматривал меню и делал вид, что не замечаю их. У меня почему-то появилось желание тратить деньги. Я выбрал не то, что хотел, а то, что было дороже. Был украинский борщ, но я взял рыбную солянку. Были голубцы, но я попросил индейку под белым соусом. После обеда я всегда пил чай. На этот раз я взял две порции консервированных персиков.
Можно было сесть за колонной, столик там был свободный, но тогда Нюра, Лешка и Васька Блохин не видели бы меня. А мне хотелось показать свою независимость. Я сел в уголок. Ел солянку и смотрел в многотиражку. Солянка была слишком жирная и горячая. Газету я держал невысоко и один раз заметил, что Нюра смотрит в мою сторону, потом в мою сторону посмотрел Лешка. Я взялся за индейку. Порция была маленькая. Лучше бы я взял голубцы. Потом я увидел, что Васька Блохин идет ко мне. Васька взял стул, придвинул и сел рядом.
– Ты чего это обособляешься? – спросил он и улыбнулся.
– Тороплюсь вот.
– На вот тебе заметки. Это к Женскому дню.
Я взял заметки и тут только вспомнил, что в субботу у меня день рождения и к Ире я пойти не смогу. Я решил, что позвоню ей. Мне пришла в голову мысль, что я могу пригласить ее. Но тогда они встретятся с Нюрой, и ничего хорошего не будет.
– У меня есть к тебе одно дело, – сказал Васька.
Он смотрел на меня и ковырял спичкой в зубах. Я увидел, что у него круглые и очень светлые глаза. Я постарался вспомнить, какие глаза у Иры.
– Как ты смотришь, если тебе дать еще одну нагрузку? – спросил Васька.
У Иры были темные глаза, но какие точно, я не мог вспомнить. Нюра и Лешка встали.
– Какую еще нагрузку?
– Понимаешь, у нас теперь много людей ездят за границу...
Нюра и Лешка ушли. У дверей Нюра вспомнила про косынку. Вернулась и взяла.
– И вот в журналах печатаются путевые заметки...
Меня удивило, что я не знал, какие у Иры глаза. Наверное, это оттого, что мы только один раз встретились днем, и то на улице. Я взялся за персики.
– Хочешь? – Я подвинул другой стакан Ваське.
Васька покачал головой.
– Ну и что, что они печатаются?
– А у нас политинформации проходят плохо. Сухо.
– А что, на них танцевать надо?
– На ком?
– На политинформациях.
– Нет. Я и думал, что ты будешь просматривать эти путевые очерки и самые интересные читать на политинформациях.
Васька улыбался, и вид у него был такой, точно он сделал гениальное открытие. Я взял второй стакан с персиками, но все-таки спросил:
– Ты, значит, не будешь?
Васька опять покачал головой.
– А почему это мне и газету и политинформации? Что я, лошадь?
В столовой стало пусто. На раздаче закрыли окно.
– Ну, ты же сможешь. У тебя все же девять классов.
Я наконец покончил с персиками и отодвинул всю посуду в сторону. Нож упал. Васька поднял его.
– Ну, так как? – спросил он.
Я сел поудобнее. Мне захотелось вытянуть ноги. Я вспомнил, как мы бродили с Ирой на Кировских островах, увидел, как мы танцевали в пустой аллее. Васька улыбался, и это было странно. Я сказал:
– В общем, это – хорошее дело, но у меня не будет времени. Я решил в этом году окончить среднюю школу.
Васька удивился.
– Как это? Год уже кончается, а ты решил.
– Ну и что? Экстерном.
Я не шутил. И я придумал это не сейчас. Всю эту ночь я не спал. Лежал, закрыв глаза, и пробовал увидеть себя со стороны. Картина вышла печальная. Я, конечно, не был гордым и независимым, и никто передо мной не расступался. Безусловно, меня нельзя было назвать мужчиной.
Васька хлопнул меня по плечу.
– Сашка, ты верно?
– Как это «верно»? Если сказал, значит – все.
Подошла тетя Клава и взяла посуду.
– Слушай, Сашка, это правильно! И хорошо, что экстерном. А то ведь на эти школы денег уходят горы.
– Ну, я не знаю насчет денег. Просто надо торопиться.
Васька улыбался точь-в-точь как на доске Почета.
– И мы даже можем освободить тебя от газеты. Как-нибудь обойдемся.
– Нет, пока в этом нет надобности.
Васька встал и порылся в карманах. Достал три рубля. Посмотрел на витрину.
– Совсем уже перестраховались. Пива даже не продают. Давай съедим еще по порции персиков. Хочешь?
Васька подошел к буфету и принес два стакана.
Тетя Клава заворчала:
– Что, я за вами целый день убирать буду?
Раздался звонок.
После работы я зашел в библиотеку. Взял учебники по алгебре, геометрии, тригонометрии.
На доске ключа от нашей комнаты не было. Кто-то уже пришел, – наверное, Лешка.
Я подымался медленно и заметил, что на цветах, которые стояли на подоконниках, была пыль. Я снова задумался: приглашать Иру или нет? Наверное, ей наши ребята покажутся слишком простыми.
Я вошел, и Лешка не поднял головы. Он играл сам с собой в шахматы. В центре стояла куча фигур. Я чувствовал, что виноват перед Лешкой, и понимал, что мне надо заговорить первому. Я снял пальто, бросил на тумбочку учебники и сказал:
– Играешь?
Лешка промолчал. Потом отозвался.
– Угу. И тебе письмо.
На столе лежал конверт. Письмо было от мамы. Я разорвал конверт. Письмо было на двух маленьких листочках.
«Сына, дорогой мой, – писала мама. – Что у тебя слышно? Как твои дела на работе? Я слушаю сводки по радио и знаю, что у вас зима теплая. Скоро уже весна. У нас уже пригревает солнышко, и от этого становится, отраднее. Дров у меня теперь хватит. Картошки тоже хватит. Останется даже на семена. Так что весной покупать не буду. В это воскресенье ходила на кладбище. Бабушкина могилка стала совсем маленькая. Хочу заказать небольшой памятник, но все как-то не получается. Надо застеклить веранду и сделать лесенку. Последний раз возвращалась вечером с собрания и упала. Она совсем уже сгнила. Мучает меня моя печка. Видно, когда складывали, допустили изъян. Печень моя тоже иногда дает себя знать. Когда мы молодые, мы совсем не думаем о здоровье, а потом бывает поздно. Обещают мне путевку в Трускавец. Но пока это – только обещание. Сына, не ленись, пиши мне чаще. Не болит ли у тебя горло? Мне очень не понравилось, что ты вырвал зуб. Вырвать просто, а потом без зубов будешь мучиться. Ну, не ругай меня за мои нравоучения. Мне очень хочется, чтобы ты был здоровый и рассудительный. Кланяйся своему другу Леше и Алексею Ивановичу.
Привет тебе от Миши, Люси, Борика и Стасика. Целую тебя. Мама».
Я свернул письмо, положил в конверт. Представил себе два больших тополя перед нашим домиком. Занесенный снегом огород. Крышу, покрытую снегом. Представил маму. Мне очень захотелось обнять ее и сказать: «Мамочка». Я решил, что завтра пошлю телеграмму. Поздравлю ее с Женским днем. Я спрятал письмо в чемодан. Лешка задумчиво смотрел на доску. Я спросил:
– Ну, кто у нас выигрывает?
Лешка пожал плечами, двинул белую пешку и только после этого ответил:
– Пока еще неясно.
Мне не понравился его тон. Я сел за стол и разложил заметки. Их было много. Одна заметка была про Нюру. Я прочел. Выходило, что Нюре надо воздвигнуть памятник. Заметку написал сам Васька. Я подумал: «Что, если все-таки пригласить Иру? Может быть, ничего страшного и не будет?»
Лешка время от времени доставал платок и громко сморкался. У него был насморк. Фигур на доске стало меньше. Лешка раскачивался на стуле.
Я сложил заметки. Потом снова разложил их. Двух листов ватмана для этих заметок не хватило бы. Надо было три листа. Я хотел позвонить Ире, но не знал, что ей сказать.
Положение на доске совсем упростилось. Осталось по королю и по две пешки. Пешки были фланговые. Короли стояли в центре доски. Друг против друга. Я сказал:
– Ничья.
Лешка поднял брови.
– А если король d5?
– Тогда пешка b4.
– Король c6.
Ход был странный, и теперь уже ничья стала совершенно очевидной. Я удивился и ответил:
– Король c4.
Лешка взял своего короля в руку, задумался и спросил:
– Ну, так что с упорами будем делать?
Лешка был замечательный парень! Мы смотрели друг другу в глаза, и мы понимали друг друга.
– Тебе привет от мамы, – сказал я.
– Никак, понимаешь, эта прижимная планка не идет.
– Газету мне Васька опять всучил. Ты поможешь?
– Если хочешь, завтра сделаем.
– Давай.
Лешка сложил шахматы. Достал чертеж. Мне очень хотелось позвонить Ире, но я так и не придумал, что сказать ей, и решил, что сделаю это завтра. Вошел Алексей Иванович.
– Я вам мешать не буду, – сказал он. – Я переоденусь и уйду.
– А вы нам не помешаете, – сказал Лешка.
– Что там у вас, упоры?
– Упоры, – ответил я.
– Ну, правильно, – сказал Алексей Иванович.
Алексей Иванович переоделся и ушел. В дверях он сказал:
– Если будут спрашивать, я на бюро.
Я поставил свой стул рядом с Лешкиным и так же, как он, склонился над чертежом.
Идея упоров была простая. Точность обработки детали надо проверять по нониусу. С нониусом работать плохо. Приходится делать остановки, и на это уходит много времени. Можно убрать нониус и поставить вместо него поперечный упор. Упор не даст снять лишнюю стружку, и с ним можно работать без остановок. Кроме поперечного упора, мы хотели сделать еще и продольный. Упоры применялись уже давно. Но мы решили сделать упоры своей конструкции, обеспечивающие высокий класс точности.
– А что, если поперечный сделать на винтах? – предложил я.
Лешка поднял голову и посмотрел на меня.
– Как это?
Я объяснил. Лешка задумался. Я зажег настольную лампу и выключил общий свет. Лешка смотрел на чертеж и постукивал по столу тупым концом карандаша. Я спросил:
– Ну что, согласен?
Лешка молчал. Вынул из стола тетрадку, вырвал листок и стал делать набросок.
Последние дни у меня на душе было как-то нехорошо. А сейчас стало легче. Мне захотелось рассказать Лешке про школу, про Иру. Но про Иру я рассказать не мог, потому что, кроме Иры, была еще Нюра. Я спросил:
– Ты как, в этом году в институт собираешься?
Лешка посмотрел на меня. По лицу было видно, что он не понял вопроса. Я повторил. Он поднял плечи.
– А куда торопиться?
– У человека должна быть прямая линия. Даром, что ли, у нас институты?
– Даром. Там маменькиных сынков много. А я хочу сам пощупать, что чего стоит.
– А зачем тебе еще щупать?
– Чтобы иметь идею...
– Идея простая: получишь диплом инженера.
– Это не идея. Идея должна быть в голове. В институте ее надо решить.
– Если все щупать, можно разбросаться.
– Где это ты начитался?
– А когда это ты стал такой идейный?
– Мы будем трепаться?
– Нет, мы будем работать. Я решил закончить экстерном среднюю школу.
Лешка рассмеялся. Он протянул мне руку.
– Ну, так бы и говорил.
– Я так и говорю.
Лешка склонился над столом. Лампа освещала только его руки, лоб и глаза, и он был очень похож на настоящего инженера. Я, наверное, тоже был похож на настоящего инженера. Мы просидели над упорами несколько часов. Кое-что у нас вышло, но многое еще не получалось.
Алексей Иванович пришел очень поздно. Мы свернули чертеж и спрятали его за шкаф.
Глава четвертая
Я, конечно, и раньше знал, что дни рождения полагается отмечать. Знал, что так принято. Но до шестнадцати лет весь праздник состоял из материнского напутствия. Мы жили плохо. Отец погиб на войне. Мама говорила, что до войны мы как сыр в масле катались. Отец был инженером на Сестрорецком заводе и был изобретателем. Я помню его отчетливо. Вернее, я помню один эпизод. Кажется, была осень. Он пришел из госпиталя. Я вижу: он стоит в дверях очень высокий, худой, в серой шинели. Мамы не было. Она куда-то ушла. Он поднял меня и подбросил. Потом, не раздеваясь, прямо в шинели, сел на диван. Из вещевого мешка вынул буханку хлеба, несколько кусков вареной свинины и бутылку водки. Был голод, и хлеб и свинина мне врезались в память. Потом он пил. Пил и смотрел на меня. Лицо у него было жесткое и суровое. Потом достал пистолет, и раздался выстрел. Он выстрелил в потолок и ушел. В потолке осталась дырка. Мама иногда садилась на диван и все смотрела и смотрела на эту дырку и плакала. Мы приходили в дом даже тогда, когда одна стена развалилась и потолок едва держался. И мы садились на кирпичи, на мусор и вдвоем смотрели на эту дырку и вдвоем плакали. Мама была совсем худая и молчаливая. И глаза у нее были безразличные. Она говорила, что, наверное, умрет и что после ее смерти я должен сесть на поезд и уехать к бабушке в Проскуров. Только это она и говорила.
Мы уехали к бабушке вдвоем. У бабушки был огород и возле дома сад. Нам стало лучше. Бабушка очень хорошо гадала на картах. Она гадала каждый день и говорила, что отец должен вернуться. Мама перестала думать о смерти. У нее был диплом Института иностранных языков. Но врачи не разрешили ей работать с детьми - расшатаны нервы. Мама устроилась кассиром в какую-то артель.
Война давно окончилась, а отец не возвращался. Но карты твердили свое. В саду был шалаш. И я любил лежать в нем и сквозь прутья смотреть на небо. Я строил военные планы и уничтожал целые государства. У меня были танки и самолеты, и я отнимал отца у врагов. Я тоже верил, что отец найдется. И я бил на улице соседских ребят. Я прославился своими кулаками. И вдруг оказалось, что кто-то видел отца. Не то в Киеве, не то в Виннице. Потом оказалось, что в Виннице был не он, а в Киеве - он. Его видели снова и снова. Но каждый раз в других городах и каждый раз другого: здорового и невредимого; раненного в руку; очень важного и солидного, в машине и с другой женщиной, молодой и красивой. Из всех этих разговоров я вынес только одно: на земле очень много отцов, но моего отца нет и не будет, его убили на войне, убили навсегда. Я чувствовал себя одиноким и заброшенным, и однажды украл у бабушки из сундука пятьдесят рублей и купил на базаре бутылку самогонки. Она была крепкая. Тетка вылила немного на камень и чиркнула спичкой. Самогонка загорелась. Я выпил полбутылки. Куда делось остальное - не знаю. Возвращаться домой было трудно. Улица поднималась к небу. Меня валило назад, а дома валились на меня. Я лег сперва на мостовую, потом передо мной оказалась куча песка. Песок был золотистый, теплый, мягкий и ласковый.
Я отравился и не ел два или три дня. Мать отпоила меня парным молоком. Я не мог смотреть ей в глаза. И я сказал, что сам пробью себе дорогу. Мне не нужно ни помощи, ничего не нужно.
Меня собрали. Бабушка напекла пирогов. Я уехал в Ленинград. Мама должна была приехать позже, когда мне дадут комнату.
Я учился в ремесленном, и раз в месяц мама присылала мне в конверте десять рублей. Вместе с письмом. Эти десятирублевки для меня были самым дорогим в жизни. Я вынимал их из конверта и каждый раз клялся, что сберегу и покажу маме потом, через много лет. Но это не получалось. Я их разменивал и тратил. Я видел, как их кидали в кучу других, точно таких же.
На заводе я перестал чувствовать себя одиноким и забыл, что мне нужно пробивать себе дорогу. Все было очень просто, жизнь получалась сама. И на заводе я впервые узнал, что день рождения - это праздник, и праздник не только для меня и не только мой. У нас в общежитии был такой порядок: в январе устраивали праздник для всех, кто родился в этом месяце, в феврале для тех, кто родился в феврале, и так далее. Придумал это Васька Блохин, и никто против этого не возражал. Получалось весело, интересно, и денег тоже уходило меньше, потому что делали складчину и потому что какие-то деньги давал профсоюз.
И вот пришел мой день. Выходило, правда, не точно: потому, что я родился двенадцатого числа, а не пятого. Но это было не так важно. Ничего от этого не изменилось. Вместе со мной были именинниками Женька Семенов и Люся Захарова, штамповщица из первого цеха.
После работы я сходил в душ. В комнате никого не было. Я был один. Еще совсем недавно в пять часов было темно, а сейчас было полпятого, и солнце еще не садилось. Я устроился у окна и начал бриться. Мне хотелось пойти к Ире, и совсем не хотелось, чтобы сегодня у меня был день рождения. Окна напротив были желтые, розовые и багровые. В них отражалось солнце. Я видел, что по балкону ходят голуби.
Я не пригласил Иру и не позвонил ей. Я раздумывал очень долго. И понял, что не могу пригласить ее. На это было много причин. Мне исполнялось не двадцать четыре года. Про Иру никто не знал. И потом мне совсем не хотелось, чтобы она видела, как я стою перед всеми и отчитываюсь за прожитый год. Это был какой-то дурацкий порядок. Надо было говорить, что ты сделал за этот год и что собираешься делать дальше. Раньше я не задумывался над этим, и мне казалось, что это нормально. Но теперь я отчетливо осознал, что весь этот ритуал просто ковыряние в моих мозгах и что выполнять эту церемонию не согласится ни один настоящий мужчина. Я представил, как буду стоять перед всеми и как Ира будет улыбаться. Я не мог ее пригласить. Но решил, что все же поеду к ней. Просто уйду раньше, и все. Может быть, никто не обратит на это внимания. Разве только Нюра и Лешка. Я спрятал одеколон в тумбочку.
В прошлом году в этот день я не находил себе места. Все время смотрел на часы и бегал по этажам. А сейчас мне хотелось только одного - чтобы скорее все кончилось и чтобы я мог пойти к Ире. Откуда-то взялась муха. Она кружилась медленно и еле держалась в воздухе. По коридору бегали. Я знал, что в красном уголке накрывают на стол. Это было обязанностью девочек. Но в прошлом году я помогал им. Вернее, я помогал Нюре. Я слышал, как из лекционного зала выносили стулья. Это уже было обязанностью ребят. Открылась дверь. Я увидел Женьку Семенова. Он улыбался и, кажется, уже выпил. Ему исполнилось девятнадцать. Одну руку он держал за спиной.
- Ты чего не одеваешься? — спросил он и повернулся так, чтобы я не видел, что у него за спиной.
Я сидел в одной рубашке и в Лешкиных спортивных брюках.
- А что у тебя там?
- Где? — Он смотрел на меня и улыбался. — Где там?
- Ну, в руке.
Он выпрямил руку, и я увидел, что это были грампластинки на рентгеновской пленке. Штук десять, может быть, пятнадцать.
- Ну и что там?
- Товар, — сказал он. — «Караван», «Серенада», «Электрическое танго»...
- Как это - «Электрическое танго»?
- Электроорган.
- А электробарабана нет?
- Да брось ты из себя строить!..
- А я строю?
- А ну тебя!
Он ушел обиженный. Я посмотрел на часы. Было шесть. Даже десять минут седьмого. Хорошо было бы надеть белую рубашку! Черный костюм и белая рубашка - это красиво. У Лешки был черный галстук. Но белой рубашки ни у меня, ни у Лешки не было. Я надел темно-синюю, трикотажную, в белую полоску. Кто-то открыл дверь. Я увидел Лешку.
- Очереди везде, — сказал Лешка, разделся и вынул из кармана две продолговатые коробочки.
- На вот тебе. Ни черта в магазинах нет.
В одной коробочке была авторучка. Красная, китайская. В другой - гибрид карандаша с логарифмической линейкой или логарифмической линейки с карандашом. Я вертел этот карандаш в руках.
Лешка сказал:
- Дважды два берет точно. Большие числа хуже. Лучше было купить настоящую линейку. Ого! Скоро семь.
Я повертел линейку.
- А что я буду с ней делать?
- Я тебя научу.
Я спрятал линейку в чемодан. Авторучку сунул в пиджак. Стрелка была золотая.
По радио пропищал сигнал времени. За дверью раздался смех. Дверь открылась, и вошли Васька Блохин и Нюра. На Нюре было новое платье. Бордовое, юбка гармошкой. Оно шло Нюре.
Васька улыбался. Он встал в позу и поднял руку.
- Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время. За мной! Левой! Левой! Левой!
Нюра рассмеялась. Мы пошли.
В зале был стол, накрытый красной скатертью. Возле стен стояли ребята. Мы вошли, и все захлопали. Люся Захарова шла первая. Женька за ней. Я шел за Женькой. Мы сели, и все продолжали хлопать. На столе стояли цифры из плексигласа: семнадцать, девятнадцать, двадцать.
Наконец стало тихо. Люся сделалась сперва бледной, потом красной.
К столу подошел начальник первого цеха. У него были большие усы, и мы называли его Пушок. Я посмотрел влево и увидел своего начальника цеха и рядом с ним Алексея Ивановича. Женька шепнул мне:
- Сейчас развезет на полчаса.
Начальник первого цеха начал говорить:
- Захарова - работница молодая. Она у нас всего шесть месяцев. Она старается. Она дисциплинированная. Она готовится вступить в комсомол. Ко всякой работе относится серьезно и собирается стать станочницей. Коллектив нашего цеха поручил мне поздравить ее, пожелать счастья. И вот ей подарок...
Все захлопали. Начальник первого цеха сел. Люсе подарили большую коробку мулине.
Люся встала. Ей надо было говорить, но она расплакалась. Она только сказала:
- Спасибо. Я буду стараться...
Люся пришла к нам из детского дома. Я посмотрел на часы. Хорошо еще, что нас было только трое.
- Я скажу сразу про двоих, — начал наш начальник цеха. — Эти ребята в нашем цехе выросли и стали настоящими рабочими. Кочин работает очень чисто. Семенов тоже старается. У Кочина есть изобретательская жилка. Семенову надо следить за своим рабочим местом. У него иногда бывает... Ну, сегодня я об этом не буду. Они оба выпускают газету. Хорошие ребята. Мы в цехе посоветовались и выработали такое пожелание. Мы хотим, чтобы Кочин был поактивнее и смелее, а Семенов чтобы скорей становился взрослым...
Женька не выдержал:
- А я что, маленький?
Народу все прибавлялось. Возле дверей была толкучка, и Лешка взялся наводить порядок. Было душно. К столу подошел Васька Блохин. В руках у него были пакеты. Стало тихо. Многие вытянули шеи, чтобы посмотреть. Васька улыбнулся. Он развернул один пакет. Вынул из бумаги лыжные ботинки и отдал их Женьке. Женька встал, пожал ему руку и поклонился, как артист.
Ребята засмеялись. Женька сел и сказал громко:
- А зима кончается.
Васька не ответил. Из другого пакета он вынул какой-то материал и положил передо мной.
- В честь круглой даты, — сказал он.
Я тоже пожал ему руку. Он нагнулся и показал большой палец:
- Отрез на костюм. Во! — Васька подмигнул мне.
Кто-то крикнул:
- А где же автомобиль «Волга»?
Потом еще:
- Кто зажал «Волгу»? Блохина надо обыскать.
Встал Женька. Постепенно все успокоились. Женька начал говорить:
- Ну чего? Ну, я за этот год повысился на разряд. Занимаюсь в лыжной секции. Норму выполняю. В следующем году хочу получить четвертый разряд.
Вдруг поднялся комендант и спросил:
- А окно в комнате кто разбил? Или я?
- Так мы это стекло вставили, — со злостью ответил Женька.
- А кто вам дал стекло? Ты?
- Или я? — крикнул кто-то.
Комендант насупился.
- Какой Илья?
Все грохнули.
Мне хотелось, чтобы все это скорее кончилось. Женька толкнул меня в бок. Я встал и почему-то невольно посмотрел на Нюру. Потом на Лешку. Потом на Алексея Ивановича. И мне почему-то сделалось тоскливо. И язык стал сухой и неповоротливый. Все смотрели на меня. Я сжал кулаки и взял себя в руки. Отошел от стола и сказал:
- Ничего такого особенного я не сделал. Вместе с Макаровым сделал приспособление для обработки мелких деталей. Вместе с Семеновым выпускаю газету. В этом году думаю экстерном закончить среднюю школу.
Пока я говорил, даже вспотел. Все загудели. Потом немного хлопали. Первая часть вечера кончилась. Надо было идти в красный уголок. Я решил, что пробуду до десяти, а потом возьму на углу такси. Ко мне подошел Лешка.
- Пошли?
За спиной Лешки стояла Нюра. Я не знал, как вести себя с ней. Мы не разговаривали вот уже три дня. Может быть, уже и не нужно мириться? А может быть, надо поговорить всерьез и кончить это раз навсегда?
Нас обступили ребята. Начали щупать материал.
- Трико.
- Это не трико, а бостон.
Раздался крик, и меня подбросили в воздух.
- Раз!
- Два!
Меня подбросили двадцать раз. Я встал на ноги и закачался.
В красном уголке столы стояли буквой «П». Как-то получилось, что за столом мы оказались рядом с Нюрой. Напротив сидела незнакомая девушка с толстыми и очень красивыми косами. Нюра спросила:
- Мы все так и будем?
- Как?
- Ну, вот так?
- Я не знаю.
- Саша, я тоже хочу тебе сделать подарок.
Девушка перекинула косу и задела стакан. Стакан не скатился со стола и не разбился. Мне захотелось напиться. Я посмотрел на стол. Был нарзан, и был лимонад, и много разных пирогов и булочек. Я сказал:
- Мне не нужно подарков. — И увидел бутылку «цинандали». Встал и поставил эту бутылку рядом со своей тарелкой. Нюра сказала:
- Но я хочу. Это мое право делать подарки.
Девочки разносили чай. Я взял бутылку и налил себе. Потом повернулся к Нюре.
- Тебе тоже?
- Сегодня я выпью, — сказала Нюра. — За твое здоровье.
Девушка с косами смотрела на меня. Я показал ей бутылку.
- А вам?
Она покачала головой.
Я спрятал бутылку под стол и вытянул ноги, чтобы не опрокинуть бутылку. Пришел Лешка. Он улыбался. Но, увидев меня вместе с Нюрой, перестал улыбаться. Вчера я ему сказал, что с Нюрой у меня все кончено. Я окликнул его. Он сделал вид, что не слышал, и пошел на другой конец стола. Нюра сказала:
- Я пью за тебя. — Она посмотрела мне прямо в глаза.
Я чокнулся и сказал:
- Нам надо поговорить.
Мы выпили. С другого конца стола раздался голос Васьки Блохина. Он говорил:
- Где-то была бутылка «цинандали».
Девушка с косами смотрела на меня. Потом перевела взгляд на Нюру. Я вынул из-под стола бутылку и быстро налил еще. Нюра отказалась. Девушка спросила:
- Вы всегда так делаете?
- Всегда, — сказал я и поставил бутылку на середину стола.
Кто-то дернул меня за плечо. Я увидел Женьку. Он наклонился ко мне:
- Ты не видел моих пластинок?
- Видел.
- А где они?
- Электрические?
- Они пропали, — сказал он и выбежал из красного уголка.
Там, где сидел Васька Блохин, было шумно. Все время смеялись. На нашем конце стола было тише. Все ели. Пирог был вкусный. Нюра положила мне еще. Я посмотрел на часы. Было двадцать пять минут десятого. Надо было идти, и надо было поговорить с Нюрой. Тянуть дальше было просто невозможно. Я сказал Нюре:
- Пойдем наверх.
Мы шли по лестнице.
- Ты сегодня очень интересный, — сказала Нюра, — даже красивый. Саша, дорогой, ты бы знал, как мне хорошо с тобой! А тебе?
Мне было безразлично. Мне даже было плохо, потому что надо было идти и надо было опять оправдываться перед Лешкой. Нюра ждала, я не знал, что сказать. Мимо нас пробежал Женька.
- Он потерял пластинки, — сказал я.
- Ты не ответил на мой вопрос.
- Нюра, мы должны серьезно поговорить.
Это я произнес уже на площадке нашего этажа. Она взглянула на меня как-то быстро и тревожно.
- Хорошо. Ты будешь здесь? Я сейчас приду.
- Нет, я буду в комнате.
Наша комната была открыта. Алексей Иванович еще утром говорил, что придет поздно, и я удивился, когда увидел его в зале. Я зажег свет и посмотрел в шкаф. Пальто Алексея Ивановича не было. Возле стола стоял один стул. Остальные стулья унесли в красный уголок. Я выдвинул стул из-за стола, чтобы Нюра увидела, куда ей сесть, а сам сел на кровать. Посмотрел на часы. Без десяти десять. Через десять минут я должен был уйти. Во что бы то ни стало. Я представил себе, как поднимусь по лестнице, как позвоню. Ира откроет и спросит: «А почему так поздно?» Она будет в том самом черном платье... Стукнула дверь. Вошла Нюра. В руках у нее были настольные часы. Я не знал, что мне делать. Я не знал, как поступить. Видимо, что-то было на моем лице, потому что Нюра спросила:
- Тебе нехорошо?
- У меня болит зуб, — сказал я и взялся за щеку.
- Это тебе, — сказала Нюра. — Я хочу, чтобы ты был самым лучшим. Я желаю тебе, Сашенька, чтобы ты стал великим изобретателем, чтобы ты окончил школу, чтобы у тебя никогда не было никаких неприятностей и чтобы ты прожил много лет. Теперь я тебя поцелую.
Нюра поставила часы на стол и дотронулась губами до моего виска.
- У тебя очень болит?
Я смотрел на пол.
- Нюра, нам надо поговорить. Ты сядь, пожалуйста.
В эту минуту опять дверь открылась и вбежал Женька.
- А у тебя я их не оставил? — спросил он. — Кто же это мог взять? Такие мировые записи.
Он постоял, потом посмотрел на меня, на Нюру и ушел. Я не смотрел на Нюру. Она села, и я увидел ее ноги. Туфли были все те же: большие, на толстом каблуке, и каблук слоями. Я никогда не видел в магазинах таких туфель. Может быть, она купила их на толкучке. Она опять спросила:
- У тебя очень болит?
- Очень. И я хочу сказать, что... Ты не обидишься?
- Говори.
- Пусть я лучше скажу тебе все, но это будет честно. И, если честно, это лучше.
- Говори.
Все слова перепутались у меня в голове. Я хотел сказать, но не мог. Я ненавидел себя. Она сказала:
- Я знаю, ты хочешь сказать, что не любишь меня. Ты это хочешь сказать?
- Да. Но только не совсем...
Из коридора доносились голоса и музыка. Нюра встала.
- Я это знала, Саша, — сказала она. — Просто мне было очень трудно без тебя. Даже невозможно. Но я привыкну...
И вдруг она разрыдалась. Она плакала навзрыд. Мне стало не по себе. Я взял ее за плечи. Она повернулась ко мне, сложила руки, прижала их к подбородку. Но губы ее дрожали, она кусала их, глаза сужались и были полны слез, а слезы текли по щекам, и в глазах было что-то очень хорошее и светлое, и очень много слез.
- Я больше не буду надоедать тебе, Саша, — выговорила она и вышла из комнаты. Я остался стоять. Раньше я бы побежал за ней. Теперь я стоял посредине комнаты и чувствовал, что внутри у меня образовалась пустота. И точно меня избили или я долго болел. Было пять минут одиннадцатого. Надо было идти. Я достал пальто. Надел пальто и погасил свет. Но не успел выйти, как вошел Лешка. Он спросил:
- Ты куда?
Я взял с тумбочки первую попавшуюся книгу.
- Мне книжку отнести надо.
- Ты играешь в жмурки?
- Я ни во что не играю.
Лешка захлопнул дверь, и мы оказались в темноте. Свет падал только с улицы. Квадрат света лежал на стене, и на Лешкино лицо тоже падал свет. Мы стояли друг против друга, и я видел по его глазам, что он может меня ударить. Я переложил книгу в левую руку. Лешка сказал:
- Что ты сделал?
- А тебе что нужно?
- Что ты с ней сделал? Я встретил ее, она плачет.
- Что хотел, то и сделал.
Я смотрел ему прямо в глаза. Он вышел из полосы света. Но я все равно видел его глаза и видел его лицо. Он сказал:
- Ну вот что, ты кончай эти жмурки или...
- Я стою у тебя на дороге?
- Ты не стоишь, а болтаешься, как... в проруби.
- Отлично. У тебя все?
- Все.
- У меня тоже.
Машина ехала по мосту. В стеклах запутывался и свистел ветер. Рядом в темноте стучал и фыркал паровой копер. Он вбивал сван. Строили новый мост. Возле копра и над рекой раскачивались лампочки. Сколько я ни проезжал здесь, у меня всегда было такое впечатление, что мост строят только этот копер и еще двое рабочих.
Мы догнали троллейбус и тихо поехали за ним. Нам все время мешали другие «Победы», автобусы и троллейбусы. Я чувствовал себя гадко. Понимал, что сделал нехорошо. Но, в общем-то, все это было не так и важно. Важно было только то, что я ехал к Ире и скоро увижу ее. Я откинулся на спинку. Снежинки летели вверх и вниз.
На Невском нас то и дело останавливали автоматические светофоры. Когда мы свернули на улицу Рубинштейна, было уже половина одиннадцатого. Дверь открыла Ира. За ее спиной был яркий свет, она держалась одной рукой за замок и улыбалась, наклонив голову.
- Я знала, что ты придешь. И ты пришел, — сказала она.
Мне вдруг стало легко. Я понял, что не мог не прийти. Даже наш разговор с Лешкой как-то сразу стерся и стал очень далеким и совсем не страшным.
Ира пропустила меня вперед и сама сняла с меня шапку и шарф.
- Я открываю уже третий раз, — сказала она. — Первый раз пришел почтальон, а второй раз мне послышалось.
Я видел в зеркале ее глаза. Они были веселые и смеющиеся. Потом она погасила свет, и глаза пропали. Мне захотелось ее поцеловать. Она взяла меня за руку, и мы пошли.
- У нас гость, — сказала она перед дверью.
Я остановился. В темноте ее лицо было светлым пятном.
- Так, может быть, мы посидим здесь или на кухне? — спросил я.
Она тихо засмеялась и сжала мою руку.
В комнате был полумрак. Горела только лампа на длинной ножке. Она освещала угол справа, где был круглый стол. Стол был накрыт. Я увидел тетку, она сидела вполоборота, и с другой стороны стола - лицо мужчины, повернутое ко мне, внимательное и строгое. Я стоял, ничего не понимая. Я знал этого человека. Видел его у нас на «солдатском вечере». Это был Федя. Тот самый Федя, который рассказывал про чужие окопы.
Лицо у тетки сияло.
- Саша, это вы? — спросила она.
Я не знал, что на это ответить.
- Познакомьтесь, Федор Иванович, — сказала тетка, улыбаясь еще радостней. — Это Ирин друг и энтузиаст токарного дела.
Я стоял посредине комнаты и чувствовал себя как на выставке. Мне казалось, что тетка улыбается как-то по-особенному и она словно похудела и стала тоньше, и в своем черном свитере и в этой позе, чуть подавшись вперед и с поднятой головой, очень похожа на конькобежца, идущего по крутому виражу.
Федя смотрел на меня, прищурив глаза.
- Кажется, мы уже знакомы, — наконец проговорил он. — Если не ошибаюсь, у Алексея Ивановича...
Я кивнул головой. Федя встал и подошел ко мне с протянутой рукой. На нем был тот же темный костюм и та же белая рубашка, и галстук тоже был белый. Я заметил, что с колен у него упала салфетка. Он взял меня за плечо и другой рукой придвинул стул.
- А мы устроимся на тумбочке, — весело сказала Ира, — и тоже будем пить кофе.
Тетка засмеялась.
- Но почему же на тумбочке? — спросил Федя.
Он говорил и смотрел на меня. Теперь он не казался мне таким важным, как у нас на вечере.
- Можно и на тумбочке, — сказал я и сел на диван. — Даже лучше.
Тетка опять засмеялась. Она смотрела на Федю. Ира тоже смотрела на Федю. Федя развел руками и улыбнулся:
- Ну, если лучше...
Ира сняла с тумбочки телефон и поставила его на подоконник.
- Я сейчас, — сказала она. Взяла кофейник и вышла из комнаты. Мне хотелось уйти вместе с ней. Но, наверное, это было неудобно. Я смотрел на дверь и ждал. Иры не было очень долго.
Тетка что-то говорила Феде, сгибаясь над столом. Я чувствовал себя как-то неловко. В комнате было темно, и освещенный угол был точно сцена, на которой шло представление, а я был зрителем. Но я попал сюда незаконно, и меня могли заметить. И тетка не случайно говорила так громко и смеялась так громко. А Федя не пил кофе, а только прикладывал чашку к губам, точно эта чашка была бездонная. Я сидел и чувствовал себя посторонним. И я снова вспомнил о Лешке. Опять получилось так, что я виноват и мне надо будет оправдываться. Я решил, что лучше об этом не думать. Тетка и Федя забыли обо мне. Под ремнем, под брюками, у меня была книга. Я сунул ее туда по дороге, и теперь она мне мешала. Я не мог согнуться. Я расстегнул пиджак и потихоньку начал тащить книгу.
- Может, вам нужен свет? — раздался вдруг голос тетки. — Вы, Саша, не стесняйтесь.
Я отдернул руку и посмотрел в окно.
- Нет, ничего, спасибо, — сказал я.
Тетка отвернулась. Я подождал немного и снова начал тащить книгу. Книга не поддавалась. Краем глаза я видел теткину спину. Тетка говорила:
- Лыжи, охота - и это все? А что еще? Расскажите еще!
Я посмотрел на Федю. Он поставил чашку и улыбнулся.
- Теперь очередь за вами.
Он сидел как-то очень прямо и крепко и смотрел на тетку в упор. Тогда, в общежитии, он показался мне старше. Тетка вертела золотую цепочку на шее. Книга была точно вбита.
- Вы позволяете себе интересоваться одинокими женщинами? Такой занятой человек, — сказала тетка. — А что Ленинград? Ленинград изменился?
Федя откинулся на спинку. Я подумал, что тетка и с ним разговаривает так же странно, как со мной. Спрашивает одно, а отвечать надо совсем другое.
Федя смотрел на тетку прищурив глаза.
- Что же вы молчите? — спросила тетка.
Я тащил книгу сантиметр за сантиметром, но все еще оставался большой кусок. Иры все не было.
- А я представлял себе этот вечер, — проговорил Федор Иванович. Он сидел так же прямо и держал в руке чашку.
Мне не снова захотелось встать и уйти.
- Все было так же, как сейчас, или по-другому? — спросила тетка, улыбаясь.
Федор Иванович поднялся. Я быстро выпрямился, и пиджак у меня встал дыбом. Я положил руки на колени и нажал на книгу локтями. Федор Иванович молчал. Я подумал, что он сейчас уйдет. Возле тетки он казался очень большим. Он стоял, а она смотрела на него, запрокинув голову.
- Вы ожидали чего-нибудь необыкновенного? — сказала тетка. — Но я ничего не изобретаю. Я никого не веду за собой. Я ученый, но я секретарь, ученый секретарь. Переписываю протоколы. Подшиваю бумажки. Все.
Федор Иванович повернул стул, облокотился на спинку и стоял, покачиваясь вместе со стулом.
- Вы разочарованы? — спросила тетка.
Федор Иванович выпрямился, потом сел. Я сунул руку под пиджак и выдернул книгу. Это был Цвейг.
Тетка вертела золотую цепочку на шее.
- Ну, что же вы ничего не говорите? — спросила она. — Скажите что-нибудь.
Тетка засмеялась. Федор Иванович снова встал.
- У меня такое впечатление, что мы говорим по плохому телефону, — сказал он, улыбаясь. — Все говорим и говорим... Как будто очень далеко и плохо слышно.
Тетка молчала.
- А вы помните, Оля, наш старый велосипед? — сказал Федор Иванович. — И ту дорогу, всю в ямах...
Тетка не отвечала. Она перестала улыбаться. Я подумал, что мне лучше уйти. Встал и пошел.
Ира стояла возле газовой плиты. Она услышала мои шаги и повернулась.
- Тебе скучно там?
На ней был маленький белый передничек.
- Ты чем-то недоволен?
Вода в кофейнике кипела, и пар струей бил вверх. Я думал о том, что мне не надо было так разговаривать с Лешкой, а надо было объяснить ему все.
- Это что-нибудь очень серьезное?
- Нет, ничего, — сказал я.
- Совсем ничего?
- Совсем. Просто я немного поспорил с приятелем, когда шел к тебе.
Она улыбнулась. И, когда я подошел ближе, обняла меня. На кухне было лучше.
- А я решила, что-нибудь из-за меня. И даже немножко струсила.
Она прижалась ко мне, и я видел ее волосы, переливающиеся и мягкие. Я подумал, что она самая лучшая на свете. Простая и ненавязчивая. Мне повезло, что я встретил ее. Ира подняла лицо и улыбнулась.
- Ведь самое главное, чтобы мы были вместе. Правда? — тихо сказала она. — И тогда все будет хорошо. А остальное не так и важно. Ты согласен со мной? Есть только ты и я, а больше ничего.
- Да, — ответил я.
Мы стояли обнявшись и молчали. Мне не хотелось уходить отсюда, и, когда Ира сняла с плиты кофейник, я покачал головой. Она улыбнулась и тоже покачала головой.
- Побудем еще здесь, — сказал я.
- Это наш старый знакомый. Когда-то он без ума любил Олю. Оля была очень красивая. Красивее всех в институте. А теперь он какой-то большой начальник.
Когда мы вошли в комнату, Федор Иванович сразу же встал.
- А наш кофе? — спросила Ира. — Неужели вы не выпьете моего кофе?
Федор Иванович посмотрел на часы. Он поднес их совсем близко к глазам, и я подумал, что он, наверное, носит очки. Тетка улыбалась.
- Только одну чашечку, — сказала Ира.
- Заранее знаю, что кофе вкусный. — Федор Иванович протянул тетке руку. — Уже поздно.
- Вы позвоните? — спросила тетка. — Узелок завязывать не нужно?
- Узелок? — переспросил Федор Иванович, рассмеялся и повернулся ко мне. — Передай привет Алексею Ивановичу.
Рука у него была твердая и холодная.
Он быстро вышел из комнаты, прямой и весь какой-то пружинистый. Тетка пошла за ним. У нее была очень красивая юбка, малиновая и узкая. Мы остались с Ирой вдвоем.
- А теперь будем пить кофе мы, — весело сказала Ира и перенесла чашки с тумбочки на стол. — Тебе черный или с молоком?
Ира наливала мне кофе, а я смотрел на нее. Она заметила мой взгляд и улыбнулась.
- О чем ты думаешь? — спросила она.
- Я не знаю, — сказал я.
Она засмеялась.
Мне хотелось сказать ей очень многое. И мне нужны были особые слова: очень простые, очень большие и значительные. Но такие слова не находились.
Я слышал, как хлопнула дверь. Вошла тетка, подняла салфетку и повесила ее на спинку стула. Придвинула к себе этот стул, поставила на стол локти, сплела руки и оперлась на них подбородком.
- Ну и что? — спросила Ира.
- Я что-то устала, — сказала тетка. — Знаешь, тебе все же надо бросить этот техникум и идти к нам. Сейчас столько талантливой молодежи. Тридцатилетние парни получают докторов.
- Оля, — перебила ее Ира, — мы, кажется, договорились.
Я отодвинул от себя чашку и случайно задел рукой сахарницу. Она покачнулась. Два или три кусочка сахара выпало. Тетка повернулась ко мне и неожиданно улыбнулась:
- А вы, Саша, оказывается, знакомы?..
Мне почему-то не хотелось отвечать ей. Я сделал вид, что не понимаю. Поставил сахарницу на место и посмотрел тетке прямо в глаза. У нее под глазами были морщины. И возле ушей почему-то тоже были морщины. Я первый раз видел морщины возле ушей. Тетка улыбнулась.
- ...с Федором Ивановичем, — сказала она.
- Я живу в одной комнате с его бывшим командиром, — ответил я.
Тетка посмотрела на меня с интересом, словно этим командиром был я сам. Я начал привыкать к ее взглядам.
- Вы знаете, Саша, я знакома с ним уже много лет, — проговорила тетка. — Он пришел в институт в самом конце войны. Можно сказать, в одних обмотках. Такой тихонький. Учился и подрабатывал на стройке. — Она посмотрела на меня.
- Оля, мне кажется, это не для нас, — вмешалась Ира.
Тетка повернулась к Ире и вдруг засмеялась.
- Да, это лирика. Давайте пить кофе.
- Мы уже выпили кофе, — сказала Ира.
- У вас много работы, Саша? — спросила тетка.
- Навалом, — ответил я.
Тетка посмотрела на меня пристально. Раздалось сразу же несколько звонков.
- Я открою, — сказала Ира.
Ира ушла. Тетка стучала ложкой по стакану. Мы сидели молча. Потом тетка взглянула на меня как-то снизу и сбоку.
- Она красивая? — спросила тетка. — Она вам нравятся?
Я знал, что скажу что-нибудь не то, и молчал. Тетка ждала. В это время дверь распахнулась настежь, и вошел Игорь.
- Да, — сказал он. Остановился, хлопнул себя по лбу и вышел в коридор. А когда вернулся, в руках у него опять была бутылка коньяку и коробка конфет.
- Пещерные люди, — сказал Игорь. — Трезвые? Ненавижу трезвых.
Он поцеловал тетке руку и хлопнул меня по плечу.
- Ты тоже попал под влияние? Черт с тобой!
Ира зажгла большой свет. В одни миг комната изменилась. На столе появились рюмки.
- Что вы сидите, как в президиуме? — сказал Игорь, наливая мне. — Что у вас тут случилось?
- У Оли болит голова, — сказала Ира.
- Выпьем за голову.
- Нет, я не буду, — сказала тетка, накрывая ладонью свою рюмку. — У меня в самом деле разболелась голова.
Игорь пожал плечами.
- Пить - это не работать, — объявил он. — А потому важно не с кем пьешь, а что пьешь. Выпьем за Казанский собор.
- Хорошо, — сказала тетка. — Я выпью. Но я не хочу за собор. Пусть каждый выпьет за свое.
Ира засмеялась. Игорь поморщился.
- Тайная скорбь. Мы такие загадочные. Нельзя ли напиться проще? Мы ведь не алкоголики.
Тетка промолчала. Все выпили. Игорь налил еще и рассказал про какого-то артиста, который выступал в театре и упал в оркестровую яму. Нам с Ирой было весело. Ира сидела напротив меня. Потом мы сидели рядом. Я смотрел на нее, и у меня было такое чувство, что мы знакомы уже много-много лет. Знакомы всю жизнь. И она мне не просто нравится.
Откуда-то взялась еще одна бутылка коньяку.
- Тебе хватит, — сказала Ира Игорю.
- Мне - да, — согласился он. — У меня все. Завтра я начинаю работать. Я чувствую, что буду работать. Ведь и я тоже должен создать ракету. Каждый должен создать ракету.
- Слова, слова... — сказала тетка. — Ты просто напился.
Игорь протянул тетке рюмку.
- Да, напился, — согласился он. — Я напился. Ну и что же? Я, быть может, очень пьян. Но пойду, просплюсь - и прыгну тоже, прыгну в Тихий океан.
Ира захлопала.
- Игорь, ты роскошь! — Она смеялась и отнимала у Игоря рюмку.
- И он тоже прыгнет. — Игорь протягивал свою рюмку мне. — За него можно? Выпьем за него. Я оставлю его капитаном. В людей надо верить.
Он взял мою руку и поднял вверх. Я посмотрел на него и вдруг увидел, что он совсем не пьяный.
- Я пойду спать, — сказала тетка. — Я не могу так кричать под утро. Прошел целый день.
- Она устала, — сказала Ира.
Тетка ушла. Мы посидели еще немного.
Я возвращался домой, и мне было смешно, потому что ноги меня не слушались. Я думал о том, что Ира - замечательная девушка, а Игорь - настоящий поэт и свой парень. Улицы распахивались передо мной, и мне казалось, что вовсю пахнет весной, хотя шел снег.
Я тихо открыл нашу дверь и лег, не раздеваясь, прямо на одеяло. Алексей Иванович приподнялся и посмотрел на меня. Лешка не проснулся. Я еще слышал, как на улице дворники шаркали лопатами, убирая снег.
Утром мне не хотелось открывать глаза. Я лежал, завернувшись в одеяло, прямо в брюках, лицом к стене. Я слышал: Алексей Иванович одевался. Потом заскрипела кровать, и зашелестели страницы. Лешка читал. Алексей Иванович прошелся по комнате. Наверное, он подошел к зеркалу. Мне нужно было встать раньше, когда они еще спали, и уйти в библиотеку. Теперь я уже опоздал. По воскресеньям в десять часов к нам приходила жена Алексея Ивановича - Сима Власовна с дочкой Леночкой. Сима Власовна была маленькая, веселая и не выговаривала трех букв. Она жила со своими родителями и каждый раз приносила пироги, студень, заливную рыбу и устраивала для всех нас воскресный завтрак. Алексей Иванович с ее родителями не ужился. Ему должны были дать комнату, но он уже два раза уступал свою очередь.
Я решил, что надо держать себя независимо. Я встану, пойду куплю что-нибудь и подарю Симе Власовне к Женскому дню. Заодно надо зайти на почту и дать поздравительную телеграмму маме. Вчера я не успел этого сделать.
Я увидел, как вверху пронесся кусок полотенца, и вслед за этим дверь стукнула. Алексей Иванович ушел. Я встал. Лешка читал, лежа в кровати, лицо его было закрыто книжкой. Я подошел к зеркалу и в зеркале увидел, что Лешка смотрит в потолок и лицо у него мрачное и напряженное. Я понял: он злится.
На улице было солнце, снег блестел, и хотелось не идти, а бежать. Летали голуби, и людей было необычно много. На улице я вздохнул свободнее. Нева была неровная. Весь лед был изломан ледоколом еще в начале зимы. Так он и застыл.
Возле зоопарка уже толпились дети. Я постоял вместе с ними, потолкался у витрины с фотографиями животных.
На почте была очередь. В магазине тоже была очередь. Я купил торт и еще маленькую шоколадку. Все покупали торты. Тортов было мало, и мне достался не очень красивый.
Возле самого общежития я встретил Нюру. Мы кивнули друг другу и прошли мимо, точно чужие.
Сима Власовна уже пришла. Она накрывала на стол. Лешка сидел и молчал. Алексей Иванович стоял возле окна и что-то показывал Леночке. Сима Власовна посмотрела на торт и сказала:
- Сафа! Что же вы наделали! И Лефа тоже купил толт!
Она схватилась за голову и сделала такое лицо, что я не выдержал и засмеялся. Она тоже засмеялась.
Мы сели за стол. Я, как всегда, взялся за студень. Алексей Иванович сказал:
- К студню бы... — и посмотрел на меня. — Неплохо бы...
Я понял, что это шпилька, и промолчал. Остальные тоже молчали, и у нас было как-то невесело. Лешка сидел мрачный. Сима Власовна спросила:
- Между вами пробежала кофка? Да? Скажите мне, а какая она была?
Я не знал, что на это ответить. У Лешки лицо было каменное. Меня выручила Леночка:
- Дядя Саша, вот ученые говорят, что на Марсе есть вода. А воздух там есть?
- На Марсе воздух есть, но меньше, чем на Земле, — ответил я.
- Может, у тебя свадьба скоро? — спросил Алексей Иванович. — Ты бы познакомил нас, что ли.
- С кем?
- А я откуда знаю, с кем? Может, Алексей знает?
Лешка молчал. Сима Власовна сказала:
- Вы куфайте, Сафа. Куфайте.
- Дядя Саша, а если туда прилетят люди, как же они будут дышать?
- Они будут в кислородных масках.
- Или ты, может, нам не доверяешь? — спросил Алексей Иванович.
Сима Власовна засмеялась:
- Какие вы смефные! Не знаю, как это вы будете жить по отдельности!
- Дядя Саша, а люди будут жить на Марсе?
- Будут.
- А она кто же? — спросил Алексей Иванович. — Да ты расскажи нам.
- В техникуме она учится. В полиграфическом, — сказал я.
- Дядя Саша, если Марс заселят, значит, там будут колхозы и, значит, на Марсе будут животные?
Сима Власовна засмеялась. Я сказал:
- Будут.
- Так ты, может, скоро к ней совсем переедешь? — спросил Алексей Иванович.
- Почему перееду? Я никуда не перееду, — сказал я.
- А-а-а, — протянул Алексей Иванович.
От этого «а-а-а» я почему-то почувствовал себя скверно и посмотрел на Лешку. У Лешки лицо было спокойное.
Мы встали из-за стола. Алексей Иванович и Сима Власовна начали собираться. Они хотели пойти в зоопарк. Лешка сел у батареи и опять взялся за Лондона. Я открыл учебник геометрии. На всех страницах были окружности, треугольники и пирамиды.
Алексей Иванович, Сима Власовна и Леночка ушли. Лешка читал. Я перелистывал учебник.
Потом Лешка встал.
- Нам надо решить. — Он кивнул головой на шкаф. За шкафом стояли чертежи. — Мы начинали вместе, и, если я буду дальше один, это будет нечестно.
Я сказал:
- Ты справишься и один. А меня это не греет. Мне надо готовиться к экзаменам.
- Мне ясно, — ответил Лешка.
- Отлично.
Я выдвинул из-под кровати чемодан. Взял тетрадь, ручку, которую мне подарил Лешка. Попробовал. Она была заряжена. Я написал на тетради: «График подготовки к экзаменам». Потом вынул из тумбочки учебники, сунул в карман деньги и пошел в библиотеку. Я выходил, а Лешка доставал чертежи.
Часть 2
Глава первая
Я ходил теперь на работу один. Вставал первый, бежал в душ, потом пил чай и просматривал учебники. Потом полчаса бродил по улицам и смотрел, как оживает город. С Лешкой мы почти не разговаривали. Алексей Иванович поглядывал на нас и молчал.
Я сбежал по лестнице, вышел на улицу и почувствовал, что мороз не настоящий и что днем будет подтаивать. Лед на лужах был тонкий. Я надавил, лед треснул, выступила черная вода. На проспекте Максима Горького солнце било прямо в глаза. Мне казалось, что лучи были теплые.
Каждый раз, когда наступала весна, я думал об Украине. Я шел и видел наш дом, сад и тополя перед домом. Видел себя маленьким и босоногим. Мы сидим на кухне. Бабушка хлопочет у плиты. Возле меня стоит старая плетеная корзина с вишнями. Вишни черные, большие и сочные. Дверь в комнату, как всегда, перекошена и висит на одной петле. Печка дымит. Бабушка открывает дверцу, дует, и у нее текут слезы. Я сижу на сундуке, болтаю ногами, ем потихоньку вишни и смотрю, как Мушка вертится возле доски, на которой лежит мясо, крутит хвостом и поглядывает на меня. Бабушка говорит: «Мушка!» - и Мушка, поджав хвост, идет ко мне.
У проходной я вынимаю пропуск. Прохожу через вертушку, иду через двор, открываю двери цеха. Уже две недели я работаю на своем станке. Он как новый, и на нем сделали дополнительную скорость. Я работаю на своем прежнем месте. Слева от меня Лешка, справа Нюра. Я открываю шкафчик, достаю инструменты, включаю станок. Работа у меня несложная, и от этого время идет медленно. Стружка бежит вниз, и над резцом поднимается серая струйка дыма. Я смотрю на деталь, смотрю на резец, смотрю на часы. Потом слышу голос мастера и знаю, что он стоит возле Нюры. Мастер начинает кричать и стучит штангелем по станку.
- А кто это примет? Кто это возьмет, если здесь у тебя три, а здесь у тебя четыре? Что у нас, детский сад?
- А что, вы не знаете, что фрезу уводит?
- А зачем ты работаешь этой фрезой?
- Так вы увольте меня. Я же просила. Зачем вы меня держите? Или переведите в другой цех.
- Так что, у нас детский сад?
- Я уже это слышала...
Краем глаза я посмотрел на Нюру. Мне стало жалко ее. Я вынул деталь и бросил ее на тумбочку. Деталь была горячая. Взял новую болванку. Болванка была большая. Вполне годилась бы и вполовину тоньше. Вставил и снова подвел резец. Пошла стружка, и край болванки заблестел. Мастер подошел ко мне. Посмотрел на чертеж, взял деталь, промерил, положил на место. Постоял, потом сказал:
- Кочин, как ты смотришь, чтобы поработать вечером?
В семь часов я должен был встретиться с Ирой, и я сказал:
- Я плохо смотрю. Какие вы даете болванки? Вон сколько стружки.
- Эту неделю надо будет поработать.
- Нет. Я готовлюсь к экзаменам.
- Но ты же комсомолец. Ты же должен понимать: это для государства.
- Металл тоже государственный, а болванка вон какая.
- Чему тебя учат?
- А чему? По-моему, рабочий день уменьшается, а не увеличивается. А кроме того, есть закон, и нечего меня уговаривать.
- Ты же мне вчера говорил, что хочешь заработать.
- Я хочу днем, а вечером не хочу.
Мастер открыл рот, потом закрыл. Потом опять открыл и ушел. Я знал, что теперь он меня прижмет.
После обеда ко мне подошел Васька Блохин. Васька улыбался, и у него опять был новый галстук. Глядя на Ваську, я часто думал: почему он всегда такой свежий? Даже вечером у Васьки был такой вид, словно он не работал и целый день не стоял у станка. Года два назад его называли пижоном. Потом это забылось. Все привыкли к тому, что у него светлые рубашки и новые галстуки. Васька спросил:
- Ну, как с учебой? Может, помощь нужна?
Я знал, что Васька пришел не за этим, и решил, что не уступлю все равно.
- Ты сбоку не заезжай. Ты говори сразу.
Васька пожал плечами.
- Ты чего это в бутылку лезешь? — спросил он.
- Ну ладно. Мне некогда. У меня работа.
- Ты, может, думаешь, что ты герой?
- Я так и думаю.
- Ты не особенно. Раз ты в организации, значит, мы за тебя отвечаем. И за твою учебу.
Я вынул деталь и бросил на тумбочку. Она скатилась и упала. Я поднял ее, взял новую и сказал:
- Я пойду за эмульсией. Может, мы по дороге поговорим?
Васька перестал улыбаться. Я смотрел на него, он смотрел на меня.
- Все ребята останутся. Ты можешь уходить. Заставить тебя никто не имеет права. Но только ты подумай об этом.
Васька повернулся и пошел к своему станку.
За пятнадцать минут до звонка я сложил все и начал чистить станок. Ребята продолжали работать. Я вычистил станок, они работали. Я видел, что Лешка наблюдает за мной. Я проходил по цеху, и многие поднимали головы. На доске, где были проценты за вчерашний день, возле моей фамилии было 115. Я работал не хуже других. У самого Васьки было только на пять процентов больше. Я пошел быстрей и толкнул дверь ногой. Она распахнулась, потом захлопнулась, и шум цеха пропал.
В комнате из угла в угол была протянута леска с крючками. На столе тоже были крючки, блесны и еще какие-то приспособления. Посреди стола лежал клубок красных шерстяных ниток. Алексей Иванович готовился к весне. Лешка тоже решил заняться рыбной ловлей. Над кроватью у него висела карта Ленинградской области, а на тумбочке лежали книги, на которых были нарисованы рыбы, глотающие крючки.
Я сходил в душ, переоделся и посмотрел в зеркало. Можно было и не бриться, но я побрился. Потом открыл учебник истории.
История запоминалась легко, и все было понятно.
Каждую минуту могли прийти Лешка и Алексей Иванович. Мне не хотелось встречаться с ними. Я встал и закрыл учебник. Вот уже полмесяца я приходил в комнату только после двенадцати. Приходил, чтобы переспать. Я занимался в библиотеке, или ходил в школу на уроки алгебры, геометрии и тригонометрии, или бывал у Иры.
Я давно уже хотел сходить с Ирой в ресторан. Я представил, как мы идем между столиками и все смотрят на Иру. Я как-то пригласил ее. Она отказалась.
- У меня нет денег, — сказала она.
Я почувствовал себя обиженным и даже оскорбленным.
- Если я предлагаю, значит, у меня есть.
- Ты не обижайся, — сказала Ира, — но я не привыкла пользоваться чужими деньгами.
- Что это значит - чужими? И потом, всегда ведь платит мужчина. Пойдем, и все.
Ира рассмеялась.
- Это в девятнадцатом веке должны были платить мужчины. А у нас это просто пережиток. Тогда были гвардейские офицеры, у которых папы были помещиками. А сейчас мы с тобой равны. Ты платишь, и я плачу. В ресторане дорого.
Я понял, что разговоры ни к чему не приведут.
- Значит, ты совсем не хочешь идти?
- О, у тебя тон собственника!
- Нет, ты скажи.
- Я получу стипендию, и мы пойдем.
И вот сегодня мы должны были пойти в ресторан. Я вышел из троллейбуса, когда на Городской станции часы показывали без двух семь. У памятника Кутузову стояло еще несколько человек. Ира опоздала на десять минут. Я не узнал ее издали. Она пришла в новом пальто. Оно было бежевое и очень нарядное. Шляпка тоже была новая, светло-коричневая, формой напоминающая каску.
- Я задержалась в парикмахерской. Ты не замерз? А куда мы пойдем?
Она взяла меня под руку, и мы пошли по Невскому. Мы выбрали «Восточный». Я хотел пойти в «Кавказский», потому что никогда там не был и мне казалось, что там шикарно и официанты ходят в национальных костюмах и разносят жареных баранов, а кроме того, там все время танцуют лезгинку и играют «Танец с саблями». Но Ира сказала, что там накурено и там сидят толсторожие мужчины, нахальные и объевшиеся, и вообще там кабак.
Мы шли мимо Гостиного, и Ира остановила меня.
- Куда же мы идем? Мы ведь прошли.
Я не хотел признаваться, что не знаю, где «Восточный».
- А ты не хочешь пройтись? Сегодня ведь совсем весна...
Мы дошли до Дворца пионеров и повернули обратно. Было много людей, и воздух был какой-то легкий и теплый.
Швейцар открыл дверь и сказал: «Здравствуйте». Он был огромного роста, широкий в плечах и, наверное, громадной силы. Но левой руки не было. Мы прошли внутрь. Гардеробщик молча поклонился. Он взял наши пальто и положил их на свою руку так, словно они были живые. Слева висело большое зеркало. По всему было видно, что ресторан хороший и дорогой. Неизвестно отчего, я сказал гардеробщику злобно:
- Вот боты тоже не забудьте.
Ира подошла к зеркалу. Я повернулся и не понял, что с ней случилось.
- Ты не замечаешь? — спросила она. — Эх ты! У меня новая прическа!
Теперь я увидел, что у нее новая прическа. Эта прическа была, наверное, самой модной. Волосы лежали как попало и падали на лоб. Лицо у Иры стало какое-то лукавое и слишком из кино.
- Тебе не нравится?
- Старая была лучше. Но ничего, идет.
Она улыбнулась:
- Разве ты еще не убедился, что мне все идет?!
Мы посмеялись, и я снова подумал, что с Ирой хорошо, просто и весело и другой такой нет.
Оказалось, что ресторан двухэтажный. Столики были внизу и вверху. Ира сказала, что на втором этаже лучше. Народу было немного, и было тихо. Я почувствовал себя солидным. Мы поднялись по лесенке и сели за стол. Слева были кабинки. Две пустые, а в той, что была ближе к нам, сидело четверо парней.
Подошел официант, положил на стол карточку. Я протянул карточку Ире, потому что знал, что так полагается.
Официант достал блокнот, опустил голову и застыл, как статуя. Я думал, как бы мне показать, что все это для меня привычно и даже успело надоесть.
Следом за нами пришел высокий лысый мужчина в золотых очках, похожий на академика. С ним была девушка. Она была красивая. Волосы черные, гладко зачесанные и блестящие. Она была похожа на индийскую танцовщицу. Платье на ней было серое и очень нарядное. Они сели за столик рядом.
Я решил, что смотреть на них неудобно, и, пока Ира выбирала, что взять, вертел бокал и рассматривал узор на стекле. Ира сказала:
- Если уж мы пришли в «Восточный», то возьмем шашлык. Ты согласен?
Официант сделал шаг вперед, перегнулся и прошептал. Почему-то именно мне:
- Шашлыков нет... Есть люля...
Для меня было одинаково: и «люля» и «труля». Но я сморщил губы и сказал:
- Ну что ж...
И я постарался, чтобы в моем голосе были одновременно и угроза и раздумье. Это было удачно, потому что я выиграл время, и мне не пришлось ничего говорить. Ира сказала:
- Нет. Тогда мы возьмем цыплят «табака».
Я кивнул головой и сказал:
- Ничего другого не остается. Безобразие!
Мне показалось, что в глазах официанта мелькнул страх, и я подумал, что тон у меня правильный.
- И коньяку.
Ира сказала, что коньяк- это дорого. Лучше взять какого-нибудь хорошего вина и некрепкого. На мой взгляд, говорить при официанте о деньгах было неприлично, и я сказал:
- Не очень похоже, чтобы здесь были хорошие вина.
При этом я рассеянно оглядел потолок, стены, зевнул н только потом посмотрел на официанта и сказал:
- И знаете, мы торопимся.
Мы заказали бутылку крымского портвейна, кофе и мороженое.
Официант ушел. Перед этим он посмотрел на меня так, словно прикидывал, по какому месту трахнуть меня бутылкой. Он ушел, и я забыл о нем. Я подумал, что новая прическа действительно идет Ире и это хорошо, что она сделала новую прическу и выглядит так модно. Снизу донеслась музыка.
Я взглянул на «танцовщицу»: «академик» что-то шептал ей, и она смеялась. Наверное, мне надо было тоже что-то сказать Ире, чтобы она засмеялась. Я подумал и спросил:
- Ну, как у тебя дела?
Ира посмотрела на меня удивленно.
- Какие дела?
- Ну, вообще...
- Я не понимаю тебя, — сказала она.
- А как тетка? — спросил я. — Что слышно у нее?
Ира пожала плечами и рассмеялась.
- Сегодня, например, она идет в театр с Федором Ивановичем. Ты, конечно, помнишь его. А скоро у нее отпуск, она поедет на юг. Что тебя интересует еще?
- Она здорово проведет свой отпуск, — сказал я. — Там уже будет совсем лето.
- Какой вопрос следующий?
- А она поедет одна?
- Я останусь здесь.
Больше я не знал, о чем говорить, но как раз подошел официант. Он принес вино и расставил тарелки. Четверо парней в кабине жевали апельсины. «Академик» и «танцовщица» пили водку. Меня это удивило. Появился еще моряк с девушкой. Видимо, девушка стеснялась. Она сидела нагнув голову и украдкой смотрела по сторонам. Я налил в рюмки Ире и себе одинаково. Она подняла свою рюмку:
- За что же мы выпьем? Может быть, за Олю, раз уж ты вспомнил о ней? За то, чтоб все сбылось.
- А что все? — спросил я.
- Ее желания.
Я согласился. Мы выпили, и появились цыплята. На вид они были очень вкусные, румяные и блестящие. На самом деле они тоже были вкусные. Ира сказала, что их жарят под высоким давлением или совсем без давления. Именно поэтому они такие сочные.
- Их можно жарить в цехе у нас, в штампах, — сказал я. — Двести атмосфер.
Ира засмеялась. Мы ели и пили, и я не заметил, как ресторан наполнился. У меня все плыло перед глазами, и все казалось необыкновенным: и официанты, и «академик», и «танцовщица», и сам воздух вокруг. Один раз я посмотрел на «академика» и увидел, что он нагнулся и, не стесняясь, поцеловал «танцовщицу». Она не смутилась и только кинула на меня взгляд и улыбнулась. Я подумал, что в ресторане, может быть, все целуются, и придвинул свой стул ближе к Ириному. Ира посмотрела на меня.
- Почему же ты не пьешь, Саша? — спросила она.
Глаза у нее были внимательные и спокойные.
- Давай выпьем, — сказал я и отодвинул свой стул на старое место.
«Академик» снова поцеловал «танцовщицу». Я спросил Иру, кто они такие.
- Знакомство на вечер. Людям скучно, и все, — сказала она.
- Так можно? — спросил я.
- А почему же нет? Это их дело. Кому это нужно, чтобы женщина сидела десять, двадцать, тридцать лет и все чего-то ждала и, может быть, ничего не дождалась. И все из-за какой-то ерунды. Из-за предрассудка.
Я посмотрел на нее и спросил:
- И так могут все?
Наши глаза встретились. Я смотрел на нее и ждал. Она поставила рюмку, и я увидел, как у нее сжались губы.
- Что ты хочешь сказать? — спросила она.
- Я?
- Да.
Я проглотил все слова, и у меня их не было. Я не знал, что ответить. Что-то вышло не так. Но дальше было еще хуже. Я начал оправдываться и наговорил глупостей.
- Но как же потом, если замуж? — спросил я.
Ира смотрела на меня в упор. Она презирала меня. Я видел это по ее глазам.
- Умный человек об этом никогда не спросит, а дураки никому не нужны.
Она отодвинула от себя рюмку, поправила волосы, и мы стали чужими. Я понял, что человек делает глупости невольно.
- А почему не спросит? — сказал я. Меня несло, и я не мог остановиться. — Вот я бы спросил.
Она пожала плечами, бросила в сумочку платок и отвернулась.
Надо было что-то предпринимать, но я не представлял что. Ира не смотрела на меня. Из всех сидящих в ресторане она была самая красивая. И вот за это я наговорил ей глупостей.
- Ира, — сказал я.
- Я не хочу с тобой говорить, — ответила она, не поворачиваясь.
Голос у нее был металлический и резкий. Мне стало страшно.
- Ира!
Она смотрела куда-то в сторону.
- Ну, вот здесь немного осталось. Выпьем...
- Пей один.
Я понял, что все бесполезно. Взял бутылку, вылил вино в бокал для пива и выпил целый бокал. «Танцовщица» искоса поглядывала на меня и посылала улыбки. «Академик» говорил слишком громко. И он успел уже смять пиджак. Снизу доносилась мексиканская песня и кто-то смеялся. Я хотел расплатиться, но официанта не было. Я встал, чтобы найти его, и неожиданно увидел Игоря. Он шел к нашему столику. Ира улыбнулась ему. Игорь сел, и сразу же появился официант.
- Вы будете ужинать? — спросил официант Игоря.
- Да. То есть нет. Я зашел просто так. Мне хватит, и я пустой.
- Может быть, коньяку? — сказал я.
- Хорошо, пятьдесят граммов коньяку, — согласился он. — И еще икру. Нет, пожалуй, икру за чужой счет есть не полагается. Вместо икры лимон или кофейных зерен.
Игорь повернулся ко мне и спросил:
- Ты согласен?
- Ты бери больше.
Я подумал, что теперь все будет хорошо. Игорь посмотрел на Иру, потом на меня и сказал:
- По-моему, я успел ко второму акту. В третьем акте один из влюбленных будет стреляться. Или запишется в очередь на автомобиль. Но она не застрелится. Ты это учти. Она запишется на автомобиль.
- Да, — улыбнулась Ира. — Совершенно верно. Стреляться я не собираюсь. Я запишусь на автомобиль.
- Иногда надо застрелиться, — сказал Игорь. — Впрочем, ладно. А кто же будет править, если автомобиль?
Ира усмехнулась.
- Конечно, достойный.
- Выпьем за достойного.
Теперь за нашим столом стало веселее. Я заказывал еще вина. Ира с Игорем разговаривали.
- Я слышала по радио твои последние стихи, — сказала Ира. — Можно подумать, что ты был сталеваром. Почему ты не заходишь к нам?
Я посмотрел на Игоря. Глаза у него были серьезные.
- Разве пришло время сдавать бутылки? Я приду, когда нужно будет сдавать бутылки. Мне нужно работать. Я работаю.
Ира засмеялась.
- Я думала, ты пошел в гору.
Оказалось, что Игорь знаком с «танцовщицей». Он познакомил с ней и нас. Ее звали Марианной, и она умела громко щелкать пальцами.
Когда мы уходили, весь стол был заставлен графинами и тарелками. Ресторан был переполнен. В гардеробе человек десять ожидало, пока освободятся столики. Гардеробщик увидел Игоря и кинулся подавать ему пальто. Игорь дал гардеробщику трешку. Швейцар дотронулся до фуражки, и мы вышли.
- Погуляем, — сказала Ира.
- Кажется, я самый пьяный, — сказал Игорь. — И таким мне идти домой нельзя. У меня мама.
Было около одиннадцати. Я взял Иру под руку, но она отняла свою руку. Потом перешла на другую сторону и взяла под руку Игоря. Я не знал, что делать. Мы свернули на Невский и пошли к Штабу. Игорь рассказывал какой-то смешной случай, Ира смеялась. На меня они не обращали внимания. Получалось так, что я шел не вместе с ними, а только с ними рядом. Мне стало не по себе, и я решил, что начну отставать и уйду. И я начал отставать.
Мне стало жалко себя, и стало обидно и горько. Я брел и представлял себе, как поднимаюсь по лестнице, открываю дверь нашей комнаты Лешка спит. Алексей Иванович читает газету и молчит. Я тоже молчу, ложусь и поворачиваюсь к стенке. И у меня никого на земле нет.
Неожиданно я потерял из виду Иру и Игоря. Я бросился вперед и понял, что не могу уйти.
Оки стояли на углу и ждали меня. У меня отлегло от сердца.
- Мне надоело идти так чинно н важно. Давайте побежим, — сказал Игорь.
- Давайте, — согласилась Ира.
И мы перешли Невский и побежали по улице Герцена. Нам было смешно. Прохожие уступали нам дорогу, и мы пробежали два квартала. Когда мы проходили мимо «Астории», Игорь сказал:
- Снимите шапки. Вот здесь прошла молодость, и на каждом камне мое дыхание. Пощупайте, эти камни теплые.
- Пойдемте на Неву, — сказала Ира. — Река - это все же природа.
Мы обогнули Исаакиевский собор и увидели впереди голубой свет прожекторов и вокруг прожекторов толпу. Шли съемки. Игорь потянул нас туда. Снимали что-то из русской истории.
Мы увидели офицеров с эполетами, затянутых в мундиры, студентов, солдат, карету и виселицу. Кто-то окликнул Игоря. Он пробрался сквозь толпу. Лицо его промелькнуло, ярко освещенное голубым и ослепительным светом. Мужчина в шляпе и в расстегнутом пальто распоряжался и кричал:
- Внимание! Почему такой беспорядок! Каракозов! Начнем все с начала.
Мы стояли чуть в стороне, рядом с виселицей. На нас и на виселицу свет не падал. Я опять взял Иру за руку.
- Ну, если я был не прав... — сказал я.
- Если?
- Нет, без если.
- Я не хочу.
- Ну, Ира, тогда я повешусь.
- Очень хорошо. Здесь как раз удобно.
Я решил, что надо ее рассмешить. Под виселицей стоял табурет. Я подошел, поставил табурет точно под петлю и встал на него. Я хотел посмотреть на Иру, но почувствовал вдруг, что табурет покачнулся. Кто-то толкнул меня. Я полетел вниз и, падая, ударился лицом о табурет. Почувствовал боль, вскочил и увидел Игоря. Подбежала Ира.
- Что у вас случилось? Вы ненормальные, — сказала Ира, становясь между нами.
Я не понимал ничего.
- Что тебе нужно? — спросил я Игоря.
Несколько человек подошло к нам. Ира держала меня за руки. Лицо у меня горело и ныло. Я хотел драться. Игорь молчал.
- Что тебе нужно? — повторил я и сделал шаг в сторону, чтобы не задеть Иру.
Подошло еще несколько человек. Неожиданно нас осветили. Игорь сказал:
- Пойдем отсюда.
- А что тебе от меня нужно?
Игорь нагнулся, поднял мою шапку и протянул мне.
- Просто ты еще щенок. Есть вещи святые. Каракозов был на самом деле. Пойдем отсюда.
Ира взяла меня за руку.
- Я прошу тебя...
Перед нами расступились. Ира протянула мне платок. Я вытер лицо и увидел на платке кровь. Кровь сочилась из губы.
- Я не понимаю, что у вас случилось, — сказала Ира. — Вы просто звери.
- Дай нам поговорить, — сказал Игорь.
Ира посмотрела на меня.
- Хорошо, отойди, — сказал я Ире.
- Дайте мне слово.
- Хорошо.
Она отстала и пошла сзади. Мы шли по набережной, перед нами был мост Лейтенанта Шмидта. Кровь из губы сочилась, и я чувствовал, что губа пухнет и левая щека тоже немного пухнет.
Меня захлестывала обида. Игорь шел наклонив голову. Потом остановился.
- Пойдем выпьем. Пусть она идет домой, — сказал он.
- Что я тебе сделал?
- Лично мне ничего. Просто это не то место, где можно быть идиотом. Пойдем выпьем, я тебе объясню.
Он положил руку мне на плечо. Я мог бы его ударить, но он смотрел мне прямо в глаза. Он всегда мне нравился. Я сбросил его руку.
- Постой здесь, — сказал он. — Я принесу денег, и мы пойдем.
- Нет, — сказал я.
Подошла Ира, посмотрела на нас, взяла под руки, и мы пошли. В воде отражались огни. Вода была черная, и от нее веяло холодом. Левый глаз стал заплывать. Кровь на губе запеклась. Мы шли молча. Мне хотелось, чтобы Игорь ушел. Воздух был синий и свежий. Прошло несколько моряков с девушками. Противоположный берег был едва виден, и дома там только угадывались. Ира просунула руку ко мне в карман и обхватила мою руку.
- Надоело все, — сказал Игорь. — Что-то надо делать. Я пойду.
- Пойдем к нам, — предложила Ира.
- Нет. У вас брать нельзя. У него можно, — он хотел обнять меня, — а у вас нельзя. Я пойду.
- Домой? — спросила Ира.
- Нет, я пойду на вокзал. Посмотрю, как уходят поезда. Мне это помогает.
Он вырвал из блокнота листок, записал свой телефон и сунул мне. Вышел на середину улицы, остановил первую же машину и уехал.
Мы бродили с Ирой по набережной. Потом пошли на Марсово поле. Ира ни разу не вспомнила, что было в ресторане.
Я проводил ее и возле парадного, пока дежурная открывала дверь, поцеловал.
- Иди уж, — сказала Ире дежурная, бренча ключами.
Ира посмотрела на меня и пошла. Дежурная закрыла за ней дверь.
Я возвращался по пустым улицам и держал возле глаза пятак. С ревом проносились грузовики, груженные углем, и машины с хлебом. Мигали на пустых перекрестках светофоры. Часто проезжали свободные такси. Некоторые подъезжали ко мне и притормаживали. Шоферы оборачивались. Но ехать, чтобы скорее попасть в общежитие, мне не хотелось. Опять дверь будет закрыта на крючок, надо стучать, кто-то проснется, и опять надо молчать и терпеть. Лучше было идти и идти. Город лежал пустой, и он принадлежал мне одному.
Утром Алексей Иванович посмотрел на меня, прищурил глаз и сказал:
- Хорош.
Я пошел в душ. Закрыл дверь и посмотрел в зеркало. Вместо левого глаза была видна щелка. Нижняя губа раздулась. На щеке была ссадина. Я сел на табурет и задумался. Можно было пойти в поликлинику, но для этого нужно что-то сочинять. Я махнул рукой, помылся н пошел на работу.
В цехе у моего станка сразу же выстроилась очередь. Ребята смотрели на меня и подмигивали. Больше всего старался Женька Семенов. Он по-прежнему думал, что пластинки взял я. Я молчал. Мне было наплевать.
В тот день, незадолго до звонка, с Нюрой стало плохо. Она выключила станок и села на табурет. К ней подошел мастер. Потом подбежали ребята. Я тоже хотел подойти, но увидел возле нее Лешку и не пошел. Кто-то побежал звонить по телефону. Возле Нюры собрался весь цех. Приехала «скорая помощь». Врач сказал, что это аппендицит. Нюру хотели положить на носилки, но она не легла. Санитары взяли ее под руки и повели к машине. Она была совсем бледная, скорчившаяся и маленькая. Все лицо было покрыто потом, будто дождем. Вместе с ней уехали Лешка и Васька Блохин.
Лешка вернулся ночью. Я лежал в кровати и читал «Поднятую целину». Алексей Иванович что-то писал. Лешка говорил с Алексеем Ивановичем, и я услышал, что операция прошла благополучно.
Несколько дней я не мог показаться на улице. После работы сидел в библиотеке и выходил только, чтобы позвонить Ире. И еще сходил в ателье, заказал костюм. Закройщик повертел перед моим носом сантиметром и сказал:
- Будет готов через два месяца...
Мне нужно было скорее. Мне хотелось к маю. Я вынул бумажник. Он быстро сунул деньги в карман, и мы стали приятелями.
Я шел в общежитие и ругал себя. В марте я не послал маме ни копейки, в апреле тоже не мог послать. В парке было грязно. Земля под ногами расползалась, и я заметил, что на кустах почки уже большие.
Глава вторая
Было воскресенье. Алексей Иванович еще ночью уехал на Красное озеро ловить щук. Он всегда ездил только на Красное озеро. Лешка ушел играть в шахматы. И я остался в комнате один. Я подошел к окну и посмотрел вниз. На улице было солнце. Дети тащили за собой на веревочках игрушки. Автомобили проезжали посредине улицы медленно и осторожно. Голуби не боялись ни людей, ни машин. Клевали пшено и спокойно расхаживали.
Мне казалось, что я не видел Иру уже несколько лет. Но завтра мы могли встретиться. Синяки у меня прошли, и остались только желтые пятна. Одно на щеке и второе возле глаза. Я чувствовал себя все эти дни как-то неуверенно и как будто ждал, что со мной что-то случится. Мне надоело думать и надоело защищаться. Алексей Иванович смотрел на меня осуждающе. Лешка уходил из комнаты, как только мы оставались вдвоем. Мастер выступил против меня на собрании, а кроме того, он давал мне самую плохую работу, и я знал, что в этом месяце получу меньше всех. Васька Блохин перестал со мной здороваться. Васька никогда не был моим другом, и, в общем, он мне был безразличен. Но он не здоровался демонстративно. Вчера, после смены, когда я платил ему взносы, он перелистывал мой билет так, точно этот билет был фальшивый. Я молчал. Он возвратил мне билет, и мы не сказали друг другу ни слова. Я не представлял, что будет дальше. Я хотел только одного: увидеть Иру. Я говорил себе, что все на свете не так и важно. Нужно только, чтобы мы были вместе. И больше ничего.
Из открытой форточки до меня долетали с улицы голоса, смех и гудение машин. Я мог заниматься и в комнате, но решил, что пойду в библиотеку. Я закрыл форточку, достал из чемодана тетрадь, потом заглянул за шкаф. Чертежей я не увидел. Стоял только один чистый лист. Наверно, Лешка все сделал и отнес чертежи в цех. Возможно, он даже начал делать упоры.
По дороге в библиотеку я зашел в зал, чтобы узнать, как дела у нашей команды. Наш завод играл с другим заводом. В каждой команде было по пятнадцать человек. Мне тоже предлагали играть, но только на двенадцатой доске, и я отказался.
Столики стояли двумя рядами. Девять партий уже закончились, и счет был 7:2. Наша команда проигрывала. Одно очко отвоевал Лешка, и две партии были ничейные. Лешка играл на первой доске и победил на двадцать третьем ходу. В дверях стоял Женька Семенов. Когда я вошел, он сказал:
- Собираю на венок.
Наши ребята ходили хмурые. Было тихо, и все разговаривали шепотом. Виктор Баженов, из третьего цеха, спорил с рыжим парнем из другой команды. Они разбирали партию и хватали друг у друга из рук фигуры.
– Нет, ты поставь эту пешку, – говорил парень.
– Ты сам не хватай!
– Вам бы в рюхи играть.
– Подождите, вот футбол начнется.
– Ногами вы можете. Это точно.
Я вмешался и сказал:
– В прошлом году вам сухую сделали?
– В прошлом году у меня рояль был.
– А на лыжах вас тоже что-то не было видно.
– Не было времени, чтобы с вами пачкаться.
– Знаем, как у вас не было времени. В газете читали.
– Не хуже вас как-нибудь работаем.
– Вот там и было написано.
Мы стояли и спорили. Ребят вокруг становилось все больше. Потом нас всех вместе попросили в коридор. Мы вышли в коридор и спорили там. Потом пришел комендант, и все кончилось. Я уже повернулся, чтобы уйти, но меня вдруг окликнул Лешка. Я удивился: не мог понять, что ему нужно. Он сказал, что на пару слов. Он не смотрел на меня, а говорил куда-то в сторону и морщил лоб. Я решил, что разговор будет об упорах. Я не соглашусь, и пусть он продолжает работать один.
Мы прошли немного по коридору.
– У Нюры высокая температура. Ты это знаешь? – сказал Лешка.
– Знаю.
Мы остановились возле окна.
– Ну вот...
Лешка замолчал. Я видел, что он чего-то не договаривает. Одно время мне хотелось, чтобы мы с ним помирились. Но теперь я уже стал привыкать к нашим отношениям. Я так и не понимал, что ему нужно.
– А тебя самого никогда не резали? – спросил он.
– Нет.
– Ну, ладно. А ты чего же в шахматы не играл?
– Слушай, ты говори, что ты хочешь.
Неожиданно перед нами вырос Женька Семенов. Женька сказал, что счет стал 8:2, и убежал. Лешка порылся в карманах. Вынул квадратик бумаги.
– Это тебе.
Я развернул и прочел. Всего несколько слов. Нюра просила, чтобы я зашел к ней. Внизу стояла дата. Записка была написана два дня назад, а Лешка ходил к Нюре каждый день. Значит, он носил записку в кармане. Я решил, что надо пойти к Нюре. Она была больна, и это просто товарищеский долг. Но потом я подумал, что идти все же не следует. Я ничем ей не помогу, и только опять все запутается.
Я взял с подоконника тетрадь и повернулся к Лешке:
– Все?
– Все.
Я хотел идти, но он удержал меня за рукав.
– Если пойдешь к ней, будешь последний подлец. Понял?
Меня взорвало:
– Это не твое дело, и чужих записок не читай! Много на себя берешь!
– Я беру сколько нужно, а могу взять больше и не посмотрю...
– Ты свои советы оставь при себе. А поныть можешь перед Алексеем Ивановичем. У тебя это получается.
Я повернулся и пошел. Я спускался по лестнице и думал о том, что он хороший парень и любит Нюру по-настоящему.
На площадке второго этажа я столкнулся с Васькой Блохиным. Мы налетели друг на друга. У Васьки в руках была сетка с картошкой и бутылка молока.
– Кочин, – сказал он, – завтра после работы – на бюро. Надо человек восемь отправить в подшефный колхоз, и вот твоя кандидатура тоже.
Васька обошел меня и двинулся наверх. Одна картофелина выскочила у него из сетки и покатилась по лестнице. Она прыгала, а я смотрел на нее. Я поднял голову, но Васька уже скрылся. Кто-то подстроил мне эту гадость. Я почувствовал, что вокруг меня пустота. Ира останется здесь, а я уеду. Приезжать по вечерам было невозможно. Колхоз в ста двадцати километрах от Ленинграда. Почему они выбрали меня? В другое время мне мог бы помочь Алексей Иванович. Но теперь, конечно, надеяться было нечего. Я решил, что никуда не поеду. Пусть они делают все что угодно. В крайнем случае они объявят мне выговор.
Я не пошел обедать и весь день просидел в библиотеке. Каждое воскресенье в библиотеке было много людей. Сегодня было очень много. Сзади кто-то все время произносил английские слова. Меня это злило. Я сидел и смотрел на одну и ту же страницу. Справа шумели ребята из девятого цеха. Они делали какой-то чертеж и спорили. Я взял два номера «Крокодила».
Потом сходил и позвонил Ире. Я слышал ее голос и чувствовал себя несчастным. Она хотела встретиться и не понимала, почему я исчез. Мы договорились, что завтра я приду к ней. Голос у нее был мягкий и немножко грустный. О колхозе я не сказал ничего. Я положил трубку так, что звонки внутри аппарата звякнули.
Мне некуда было идти и никуда не хотелось идти. Я снова отправился в библиотеку и снова перелистывал «Крокодил».
Бюро началось сразу же после смены. И на бюро все произошло как-то стремительно и неотвратимо.
Мы сидели в конторке начальника цеха. Подо мной был ящик с деталями. Вверху висел пожелтевший плакат «Семилетку в пять лет». Непонятно, для чего сюда повесили этот плакат и кто должен был его читать. Васька Блохин тоже сидел на ящике с деталями. Юрка Кондратьев устроился на скамейке. Третий член бюро - Инна Лорузанова была больна. Как всегда, на заседании присутствовал начальник цеха. Ом все время зевал и держал руку на телефонной трубке. Кроме меня вызвали еще двоих. Валерий Осипов не отказывался. Женька Семенов тоже согласился.
– Очень хорошо, по крайней мере загар, – заявил он.
Васька Блохин сказал:
– Но, кроме этого, надо будет работать.
Женька кивнул головой.
– Наверное.
Васька сделал запись в протокол, и Женьку отпустили.
– Теперь Кочин, – сказал Васька Блохин. – Ну, ты что нам скажешь?
– Я могу сказать: «А».
Мне было все равно, что сказать. Я знал, что они так или иначе обяжут, а я, несмотря ни на что, не поеду.
– А еще? – спросил Васька.
– А еще могу сказать: «Б».
– Так. А еще!
– Но ведь, в конце концов, вы же знаете, что у меня экзамены! – не выдержал я. – Вам это известно? И почему выбрали меня? На мне свет клином сошелся? Все сошлось клином? Я же не заявлял, что хочу ехать. Существует принцип добровольности или нет? Или существует, когда удобно?
Васька смотрел мне прямо в глаза и вертел в руках вечное перо. У Юрки Кондратьева на лице была усмешка. Мне было ясно, что эта усмешка показывала его превосходство и мою низость. И кроме того, она еще должна была показывать мою обреченность. Юрка Кондратьев был полное ничтожество. Все, что он умел, это смотреть Ваське в рот и повторять за ним слова.
– Тебя же посылает комсомол, – сказал Васька.
– Ты еще не комсомол и не надувайся, – ответил я.
Начальник цеха перестал зевать. Он смотрел на меня серьезно.
Васька встал и произнес речь. Васька сказал про бригады коммунистического труда, про первые субботники, про Николая Мамая и про величайшие задачи, которые перед нами поставила семилетка. Я слушал все очень спокойно. Я умел читать газеты не хуже, чем Васька. И, когда он замолчал, я сказал:
– Ты еще забыл про целину. Теперь давай про целину.
Васька пожал плечами и взглянул на начальника цеха. Юрка Кондратьев перестал писать протокол.
– Это не первый случай, когда Кочин отлынивает от общественного труда, – сказал он.
– Совершенно верно, не первый, – согласился я.
– И нечего тут говорить ему. Это надо говорить настоящим людям, и не таким, как... Ломает из себя дурачка.
– Ладно, – сказал я. – Ясно. Ты сам тоже мало похож на настоящего. Слишком узенький у тебя лоб.
Юрка Кондратьев опешил и потрогал рукой волосы на лбу. Я был доволен.
Васька лишил меня слова, и они начали вспоминать, что, как и когда со мной было. Я. сидел молча и слушал их. Глаза у начальника цеха стали очень внимательные. Один раз зазвонил телефон. Он снял трубку и сказал, что занят. Потом он спросил Ваську:
– А как появилась кандидатура Кочина? Парню и в самом деле надо готовиться к экзаменам. Об этом надо подумать.
Я почувствовал помощь и сказал:
– Они думают потом.
Васька сказал, что послать меня предложил Алексей Иванович.
Для меня это было новостью. Я понял, что дело плохо. Мне уже не хотелось ничего говорить. Начальник цеха тоже замолчал. Он посидел еще немного и вышел. Мне объявили строгий выговор с предупреждением и обязали ехать. Я сказал:
– Нет.
Васька сказал:
– Исключим.
Я сказал:
– Только не ты.
После этого мы разошлись.
Было еще рано, чтобы идти к Ире. Идти в общежитие я сидеть в пустой комнате было просто невозможно. Я вышел из проходной и пошел на Большой. Сам не знал, для чего я туда пошел. Было совсем светло. Я стоял возле витрин и бродил по магазинам. От нечего делать купил себе носки. В универмаге опустил монетку в автомат с одеколоном. Отошел в сторону и посмотрел, как с шипением вылетела струя и повисла в воздухе. В спортивном магазине стояла большая лодка. Я постучал по этой лодке, пощупал ее и пошел смотреть рыболовные крючки. Я разглядывал их долго и внимательно, хотя ничего в них не понимал. Побродил по магазинам еще немного и вышел на Кировский. Незаметно я оказался у памятника «Стерегущему».
Я постоял, вспоминая, как мы гуляли здесь с Ирой и катались с ледяной горки. Я не мог от нее уехать, что бы ни случилось. Решил, что ничего не скажу ей про колхоз и про бюро. Я свернул на мостик и пошел в общежитие через Петропавловскую крепость. В комнате был Алексей Иванович. Он сидел и читал газету. Лешки не было. Лешка был в больнице. Он уходил в больницу сразу же после работы.
Я снял куртку, вынул из шкафа лыжные брюки и взял полотенце, чтобы идти в душ. Алексей Иванович кашлянул.
– Погоди-ка, – сказал он, нагнулся и вытащил из-под кровати резиновые сапоги. – Сорок второй.
Я посмотрел сначала на него, потом на сапоги. Лицо у него было злое.
– Ну, держи, – сказал он.
Я подошел и взял сапоги.
– Ты чего добиваешься? – спросил он.
Я поставил сапоги возле своей кровати и вышел из комнаты. Я спускался по лестнице и спустился этажом ниже: прошел душ. Мне было уже все равно: идти в душ или не идти.
Наступил вечер. Город стал тише, и зажглись огни. Я свернул с Невского, посмотрел вверх и остановился. Все три окна были черные. Освещен весь этаж, а три окна черные. Я взглянул на часы. Было две-три минуты девятого. Ира говорила, что будет ждать меня с полвосьмого.
Я не мог уйти. Поднялся и позвонил. В ответ не раздалось ни одного звука. Я позвонил еще раз. Снизу послышались шаги. Я перегнулся через перила и увидел, что идет какой-то старик. Он прошел мимо, внимательно посмотрев на меня. Я стоял один на площадке.
Передо мной была закрытая дверь, высокая, выкрашенная в коричневый цвет и обитая по краям войлоком. Я прислонился к перилам. Неожиданно услышал какой-то шорох за дверью. Я подошел и позвонил снова.
– Это ты, Саша? – раздался голос Иры.
Я ответил.
Ира была в халате. Одной рукой она придерживала халат, а другой закрывала горло. Шея у нее была забинтована.
– Что случилось, Ира? – спросил я.
Мне казалось, что она бледная. Мы стояли у тумбочки, над которой висело зеркало. Она улыбнулась и сказала, что ей нездоровится. Но это ничего. Я не должен обращать на это внимания.
– Если ты не возражаешь, мы посидим в спальне.
Она ушла, оставив меня одного. Дверь в первую комнату была открыта. На диване лежала теткина малиновая юбка. Скатерть съехала со стола, один край ее был на полу. Лампа на длинной ножке стояла посредине комнаты, и рядом с ней стоял пылесос и валялись щетки. Я повесил пальто и погасил свет.
– Какая-то ерунда, – сказала Ира, когда я вошел. – Раз в год у меня обязательно болит горло. Возьми стул и садись сюда.
Она лежала в кровати. Возле нее, на столике, горела маленькая лампочка в виде совы. В комнате был полумрак. Я взял стул и сел.
– Почему ты пропал? – спросила Ира.
Теперь, когда Ира лежала на подушке, она показалась мне еще бледней. Я не знал, что ответить ей, и спросил, где тетка. Она сказала, что тетка ушла в театр.
– Мы тоже должны обязательно сходить в театр, – улыбнулась она.
– Да, – сказал я. Я думал о том, что через несколько дней мне нужно ехать в колхоз.
– Мы обязательно должны пойти с тобой в театр, – повторила она.
– Да, – сказал я.
– У тебя опять что-то случилось, Саша? Я вижу это по твоему лицу. Ты опять поссорился с приятелем?
Я знал, что у меня дурацкое лицо. Я никогда не мог ничего скрыть. На моем лице было написано все.
Я сказал, что это длинная история. Длинная и скучная.
Ира посмотрела на меня внимательно. На свету волосы у нее были как золотистые паутинки.
– У нас не должно быть секретов, – сказала она. – Мы не должны ничего скрывать друг от друга.
Я начал рассказывать и рассказал Ире все. Я знал, что она меня поймет. Она всегда меня понимала. Она долго молчала. Потом взяла меня за руку. Мне послышался звонок.
– Кто-то звонит, – сказал я. – Надо открыть.
– Нет. Это телефон. Пусть звонит.
Телефон звонил очень долго. Потом он звонил еще несколько раз.
– Если я попрошу тебя сварить кофе, ты сумеешь?
– Я попробую, – сказал я.
Дверь осталась открытой. Я стоял возле плиты и видел, что Ира лежит и смотрит перед собой. Мы пили кофе молча. Я принес еще стул, поставил на него чашки.
– Ну вот. У тебя тоже талант, – сказала Ира. – Кофе вкусный.
Она улыбнулась. Я посмотрел на нее и в эту минуту особенно ясно ощутил, как мне не хочется ехать. Мне представились холодные поля, заброшенные домики, серые и неприветливые. Я буду шагать по этим полям много дней. Где-то очень далеко от Иры. И резиновые сапоги будут вязнуть в грязи.
Я отодвинул стул.
Ира закрылась одеялом и прислонилась к стене.
– Значит, тебе надо уезжать, – сказала она. – И я останусь здесь совсем одна. Одна в этих стенах. Сначала уедешь ты, потом Оля.
Она замолчала. Прижала уголок одеяла к подбородку и смотрела на меня. Потом проговорила:
– Нет, этого не может быть. Я не могу без тебя. Ты ничего не знаешь. Я ведь люблю тебя. Я люблю с того самого первого дня, с того первого вечера. Я почему-то все время ждала белых ночей. Скоро будут белые ночи. Я представляла, как мы бродим с тобой по пустым улицам. И чаще всего видела, как мы стоим возле Кировского моста. Сперва вода становится желтой, потом на воде розовые облака. У меня есть белое платье. Очень красивое.
Я не мог сказать ни одного слова.
Снова зазвонил телефон. И от этого звонка, глухого, далекого и какого-то постороннего, очень ясно почувствовалось, что мы одни и что мы очень близки друг другу. Я видел как блестят Ирины глаза. Видел, как улыбаются ее губы. Мы молчали. Мы только смотрели друг на друга, и наши руки касались. Не нужно было ничего на свете. Только вот так сидеть и держать ее руки. И чтобы вот так же улыбались ее глаза и так же горела вот эта сова. Почему же я должен уезжать? Почему не имею права выбрать сам, что я хочу, а чего не хочу?
Я сказал:
– Мы обязательно пойдем на Неву и будем встречать белые ночи. Никто не может этого запретить.
Ира посмотрела на меня.
– Значит, ты не поедешь? Я не хочу ничего говорить. Ты реши это сам.
– Я съезжу на неделю, чтобы отвязаться от них. Но только на одну неделю. И больше не поеду. Пусть что угодно. Мне все равно.
Ира приподнялась и поцеловала меня.
– Я приеду двадцать пятого, – сказал я.
Мы сидели еще долго. Сперва я должен был уйти через полчаса, потом еще через полчаса. Около двенадцати я оделся и посидел еще немного в пальто. Ира сказала:
– Послезавтра ты уже не позвонишь. И я даже не могу тебя проводить. А может, мне пойти?
– Нет, ничего. Это ведь только на неделю.
Я не разрешил Ире выходить в коридор. Погасил свет и тихо захлопнул дверь.
На лестнице, на первой площадке, я встретил тетку.
– Вы уходите?
– Да, уже поздно, – сказал я.
Она засмеялась.
– Не поздно, а рано. Поздно это для других. Для старых и скучных. Для таких, как я. А вы ведь еще романтик. Ох, как жарко! Вы замечаете, как жарко? В этом году необыкновенная весна.
– Да, – сказал я.
Она улыбнулась, и мы распрощались.
Я вышел и опять посмотрел на их окна. В спальне горел свет. Потом свет зажегся в другой комнате, и по окну промелькнула тень. Я перешел через улицу и постоял еще немного. Мне хотелось снова подняться наверх. Но это было невозможно. Мне надо было уезжать куда-то далеко от этой улицы, от этого дома. Я поднял воротник, повернулся и пошел быстрей и быстрей. Я был счастливый, и я был самый несчастный.
Глава третья
Мы уезжали на следующий день. Нас было двенадцать человек. По перрону бегали женщины с бидонами. Состав был почти пустой. Проводники стояли, прислонившись к вагонам, и лениво смотрели по сторонам. Громко кричали продавщицы мороженого, постукивая по своим голубым ящичкам. День был теплый и тихий. Приближался май. На вокзале пахло краской.
Мы прошли вдоль всего состава и, когда дальше идти было некуда, сели в вагон и заняли два купе.
- Не расходитесь, — сказал Яшка Вартонис. - Кочин, тебя это тоже касается.
Яшка был у нас старшим.
- Меня все касается... Но на остановках закрыто...
Я вышел на платформу. Солнце припекало совсем по-летнему. Пахло раскаленным машинным маслом, паровозным дымом и разогретым асфальтом. Я выпил кружку пива и купил в киоске свежий «Огонек». Потом пошел к вагону и стоял у подножки, пока поезд не тронулся. Из вагона доносился смех.
- Садитесь, — сказала проводница. — Останетесь без ног.
- А ноги нужны?
- Кому как.
Поезд сразу же пошел быстро. Я вошел в купе и увидел, что ребята играют в домино. Я бросил журнал на полку. Почему-то кругом была пыль. Вагон не убирали.
Соседнее купе было пустое. Я пошел туда и открыл окно. Город все не кончался.
Долго тянулись застывшие пассажирские составы. Мы проехали через мост. Поезд пошел еще быстрее. Небо над городом было темное, в серых пятнах. Большие здания теперь встречались редко. Замелькали дачные поселки и дачные платформы. Неслись мимо кусты и поля. Откуда-то появилось шоссе. Машины шли быстро. Почти не отставали от поезда. Но потом вдруг начинали суетиться и в беспорядке сбивались возле шлагбаумов.
На остановках пахло прелой травой, полями и нагретыми шпалами. Поезд останавливался, и никто не торопился. Несколько человек сходило, несколько человек садилось, и поезд трогался.
Неожиданно налетел шум. Рядом понеслись вагоны. Таблички мелькали, и ничего нельзя было прочесть. Я посмотрел на часы. Мы ехали уже два с половиной часа. Через два с половиной часа встречный будет в Ленинграде. Может быть, даже раньше.
Время тянулось очень медленно. Наш поезд останавливался возле каждого столба. Надо было как-то убивать время. Рядом смеялись и стучали косточками ребята. Женька Семенов звал меня уже несколько раз. Я пошел и подсел к ребятам
- Берегитесь Кочина, — сказал Виктор Селицкий. — Он злой.
Смешали косточки, и я взял свои семь штук. На руках была игра.
На станции нас ждал грузовик. Какой-то жалкий, перекошенный и весь в грязи. Шофер пожал всем руки и виновато сказал:
- Маленечко потрясет.
Мы забрались в кузов. Нас кидало от борта к борту. Мотор надрывался, и машина перелезала из ямы в яму. Дороги не было. Но каким-то образом машина шла. Из-под колес вылетала коричневая жижа. Мы прыгали, и вместе с нами прыгали наши вещи.
- Иди вперед, —сказал Яша. —Тут лучше.
Я посмотрел на него и не ответил. Мне было все равно, трясет меня или не трясет. Если бы машина остановилась, мне было бы тоже все равно.
Женька Семенов ударился лбом о кабину и сказал:
- Почти рок-н-ролл. Даже сильнее.
Ребята засмеялись.
Дорога все время шла по полю. Справа виднелась маленькая деревня, какая-то затерянная и вросшая в землю. Потом начался подъем, и стало суше. Впереди чернел лес. Я спросил:
- Скоро?
Яшка ответил:
- Приедем.
Он был из седьмого цеха и ездил сюда уже третий раз. Мне он не понравился еще в Ленинграде. Я ему, наверное, тоже.
В лесу дорога была песчаная. И в лесу мы снова поднимались вверх. Куда-то лезли в небо. Неожиданно лес оборвался. Дорога пошла вниз. Я увидел, что место открылось совсем новое и очень красивое. Под нами было озеро, обросшее соснами. Кое-где на воде еще белел лед. Дальше было еще одно озеро. Все это лежало в котловине. Мы ехали по одной стороне котловины, а напротив, за озерами, примерно на той высоте, на какой находились мы, была деревня. Хорошо были видны дома и большие серые постройки.
- Это наша, — сказал Яшка. — Рыбаки есть? Или есть только любители жареной рыбы?
- Кочин может съесть сырую, — сказал Виктор Селицкий.
Я промолчал.
Мы въехали в деревню, когда солнце садилось в лес, за озеро.
- Пожалуйста, вот сельпо, — сказал Женька.
Нам отвели целый дом. В нем были две большие комнаты. В одной была русская печь и стоял длинный стол, некрашеный и шершавый. В другой комнате были нары. Можно было спать и на нарах. Мы пошли набивать матрацы, а Яшка пошел в правление колхоза.
Вечером опять стучали косточками. Я не мог из-за этого читать. Женька Семенов открыл свой чемодан, и я увидел, что в чемодане у него целая кипа пластинок на рентгеновской пленке. Он хотел закрыть чемодан, но я подставил ногу. Мне хотелось его разозлить. Неизвестно для чего. Просто так.
- «Электрический джаз»?
- Культурная работа на селе.
- А если по шапке?
- Это кто? Может быть, ты? Сними ногу. Сними, я тебе говорю.
- Интересно, какие из них получатся щи?
- Не ломай чемодан...
Подошел Валерий Осипов и плечом оттолкнул меня.
- Эй ты, не очень! Если тебя заставили ехать, так никто не виноват. Чего ты к нему пристал?
Я отшвырнул ногой Женькин чемодан.
- А ты приехал грамоту зарабатывать?
Ребята стояли кружком. Я посмотрел и увидел, что они против меня.
Женька собрал вещи и закрыл чемодан.
- Ясно?
- Как днем.
Я пролежал весь вечер на нарах. Мне хотелось, чтобы обвалилась крыша. Хотелось выйти и заорать на все поле. И даже не с кем было поговорить.
Утром принесли бидон молока. Потом нам этот бидон приносили каждое утро. Чуть свет приходила женщина, растапливала печь и готовила нам. Она стеснялась: прятала глаза, не разговаривала с нами и только Яшке сказала, что зовут ее Полиной.
Нас разбили на две группы. Четырех слесарей послали на ремонт тракторов и машин. Остальные были грубой рабочей силой. Я тоже был грубой рабочей силой. И это было лучше.
Колхоз строил траншеи для силоса и большой коровник. Нам надо было заготовить камни для этого коровника и для траншей. Камни были в яме. Они лежали там уже лет двадцать. Их засыпало землей. Кое-где на этой земле даже выросли кусты. Потом надо было носить камни к коровнику. Двести метров по тропинке вдоль оврага. И по этой тропинке ни телега, ни машина проехать не могли.
Утром мы пришли к яме, сели на край и минут пятнадцать посидели. Над деревней подымалось солнце. Воздух был голубой и прохладный. Озеро блестело. Лес за озером казался синим. Из деревни тянуло свежим тесом и дымом. Внизу, по дороге, ехала телега. Лошадь вязла в грязи, рвалась и шла не прямо, а ступала то влево, то вправо.
Яшка встал.
- Посидим еще, — сказал Женька. — Птички, одуванчики, родная сторона.
Ребята не поднимались. Мне тоже хотелось еще посидеть. Но я спрыгнул в яму и взял лом.
Мы вытащили несколько больших камней.
- Работа для лошадей, — сказал Виктор Селицкий. — Это не напильничком. И в тисочках.
- Бурлаки на Волге, — сказал Женька.
Часа через два мы остались в одних майках. Лица у всех были красные и потные. Ребята работали парами. Я работал один. Самое трудное было вытащить камень из песка. Песок осыпался, и камень уходил все глубже. Я выбирал камни побольше и подкатывал их к носилкам. Потом нашел доску, я видел ее наверху еще утром, и катил камень по доске. Получилось скорей, и было легче.
- Универсальная доска Александра Кочина! — закричал Женька. —Чудо атомного века! Космическая камнетащилка!
Женька смеялся. Но Яшка был умнее. Он пошел в деревню и принес еще две доски.
До обеда мы ни разу не отдохнули. Но когда пошли на обед, то увидели, что почти ничего не сделали. На площадке лежало всего несколько камней. Мы постояли возле этих камней, посмотрели на них и пошли дальше. Никто не сказал ни слова. Я чувствовал, что у меня дрожат ноги, а плечи тяжелые и неподвижные.
- Что-то у нас не так, —сказал Яшка, когда мы вернулись к яме. — Медленно что-то.
После обеда мы сделали еще меньше. Ребята отдыхали всё чаще. Они лезли наверх и сидели там. А я оставался в яме и работал. Руки у меня уже совсем онемели. В пять часов все побросали ломы и лопаты.
- Кончай, — сказал Яшка.
Я смотрел, как они потягиваются и разгибаются на краю ямы.
- Чего ж это вы, добровольцы? Еще же светло.
Яшка повернулся ко мне, пожал плечами и спросил:
- Еще, что ли?
- А чего нам! — закричал Женька. — Кочин амнистию зарабатывает. Пускай зарабатывает.
Мы работали до темноты. Таскали камни молча и ожесточенно. Со мной никто не разговаривал. Они делали вид, что не замечают меня. Потом все пошли на озеро мыться. Я тоже пошел.
Все, кто работал в яме, лежали после ужина на нарах не двигаясь. В домино играли только слесари. Руки и ноги не сгибались. Все тело стало деревянным. Было больно от каждого движения. Но я не ложился. Я достал учебник геометрии и сел у окна. Было четверть одиннадцатого. Ира, наверное, была дома. Я перевернул страницу, хотя не прочел ни строчки. Я заставлял себя сидеть и боялся заснуть. Откуда-то издалека доносился хриплый голос Яшки, хохоток Женьки и совсем сонный голос Валерия Осипова.
- А может быть, лошадь пройдет там? —сказал Яшка.
- Были тут умники, наверное, и почище, — ответил Женька.
- Лошадь - нет. Лошадь как же? Не больше метра, — проговорил Валерий Осипов.
Мне были безразличны все камни на свете. И камни в нашей яме тоже. Если бы за ночь они свалились обратно в яму, ничего бы не случилось. Но что-то, конечно, можно было придумать, чтобы таскать их скорее. Я чувствовал, что совсем засыпаю. Послышалось тарахтение трактора. Потом какой-то окрик и возня. Потом женский голос.
- Чего бьешь? Смотри колесо...
Потом мужской голос:
- Телега-то новая.
Другой мужской голос возразил:
- Старая-то крепче. Доску подложи. Вытянет.
Я открыл глаза и увидел возле окна темные фигуры и лошадь. На дороге застряла телега. Я повернулся и увидел, что Женька храпит, широко открыв рот. Другие ребята тоже спят. Только Яшка лежит, положив руку под голову, и смотрит в потолок. Я спросил:
- Слушай, мы еще доски достать можем?
- Доски? Зачем?
- Тачки сделать. Или найти можно.
- Верно, — сказал Яшка. — А верно...
Я посмотрел в окно. Телега выехала по доске. На телеге были бочки. Я закрыл учебник и спрятал его в чемодан. Разделся, кинул под нары носки.
- Кочин, а ты чего это ходишь, будто тебя петух клюнул? — спросил Яшка.
Я не ответил. Он сказал:
- Ты брось это. Зачем? Ну?
- А ты что, в долг хочешь?
Яшка разозлился, сел и крикнул:
- А вы, там, кончайте со своим домино! Надоело!
Утром опять было солнце. Оно было оранжевое и ослепительное. Когда мы вышли с Виктором Селицким из дому, навстречу нам ехал знакомый грузовик. Он свернул на дорогу и начал спускаться вниз. Может быть, он каждый день ходил на станцию?
На скотном дворе мы нашли две тачки. Нам отдали их. Мы порылись в кузнице и среди обломков плугов, борон и ржавых ободов отыскали хорошее колесо. К обеду у нас было три тачки. Наша была еще ничего, а те две еле дышали.
Ребята работали в яме, а мы с Виктором прокладывали из досок дорогу. Две самых хороших доски опустили в яму.
Вечером испытали дорогу. Каждый отвез по тачке. Доски не прыгали, и с пустой тачкой можно было даже бежать. Трудно было только выезжать из ямы. Доски поднимались круто и прогибались. Нужны были сила и привычка, чтобы удержать тачку в равновесии и чтобы она не полетела вниз. Но это было лучше, чем таскать носилки.
Последнюю тачку повез Женька. Мы положили ему камень. Он застрял наверху, но рывком все же выкатил тачку, развернул на площадке и крикнул:
- Дорога смерти имени Кочина! Ура!
После ужина я забрался на нары вместе со всеми. Снова вынул учебник геометрии. Строчки двоились и расплывались. Руки были тяжелые, и голова тоже была тяжелая. Хотелось только одного - закрыть глаза. Я подумал, что это и хорошо. Три дня прошли незаметно. И хорошо, что здесь совсем тихо. Хорошо, что слесари ушли в кино. И хорошо, что все спят. На ноги прыгнула кошка. Надо было ее согнать. Она свернулась и затихла. Ее все равно надо согнать...
Каждый день яма становилась все глубже и груда камней возле коровника росла. Полдня в яме, полдня на тачке. Так прошла неделя. Пришел последний день. Завтра в это время я должен быть в Ленинграде. И мне стало жалко, что я уезжаю и ребята кончат эту яму без меня.
Я менялся с Женькой. После обеда я был в яме. Рядом со мной работал Яшка. Он был без майки, и я видел его широкую и мокрую спину, осыпанную песком. С другой стороны доски постукивал ломом Виктор Селицкий. Он работал в тельняшке. Мне попался камень весь в острых углах. Я никак не мог за него ухватиться. Два раза он падал обратно в свое гнездо, но потом я все же подцепил его и вытащил. Тачки не было, и я сел на камень. Было тепло. В яме ветра совсем не чувствовалось, и только от земли тянуло сыростью. Я оглянулся и увидел, как мы изрыли всю эту яму. Яшка отгребал лопатой песок. Потом почистил лопатой доску. Вечером мне нужно будет что-то придумать и сказать Яшке, и надо узнать насчет машины.
- Ты куда воду поставил? —-спросил Яшка.
Я показал. Послышались голоса. Женька катил свою тачку, а за ним по доске шел председатель. Женька поехал вниз, а председатель остановился на краю ямы. Ол был щупленький, лицо в оспе, на голове большая кепка.
- И охота вам, хлопцы, работать в городе, — сказал председатель. — У нас-то красота какая! Мы б такую бригаду! Эх! Автомобили б были! «Волга»!
Председатель постоял еще немного и ушел.
Одному мне было не справиться с камнем. Я не мог затащить его в тачку. Подошел Яшка. Мы взялись вдвоем. Повернули камень и приподняли. Шея у Яшки надулась и покраснела. Женька наклонил тачку.
- Еще чуть, — сказал Яшка. — Вниз еще. Ну, давай!
Женька совсем положил тачку на бок. Мы опустили камень, борт затрещал. Мы схватились за тачку и поставили ее.
- Ладно, — сказал Женька. — Хорош.
Он поднял ручки, уперся ногами так, что почти лег на доску, и тачка сдвинулась. Я взял лом, подсунул под другой камень и начал расшатывать его. Подсунул лом еще глубже, наступил на него и ухватился за камень. Что-то заскрежетало надо мной. Я поднял голову и увидел лицо Женьки, испуганное и страшное. Уже на самом выезде из ямы колесо соскочило с доски. Тачка наклонилась. Она висела надо мной, но Женька держал ее. Камень начал поворачиваться и ползти вниз. Я отскочил в сторону, и в ту же секунду тачка рухнула вниз и разлетелась. Женька потерял равновесие, сорвался и упал на спину. Он вскочил и посмотрел на меня. Я стоял и смотрел на него. Он был бледный. Губы совсем белые. Сел прямо на песок и обхватил колени руками. Потом положил голову на колени. Подошел Яшка. За ним подошел Валерий. Я взглянул на камень и не мог понять, как Женька удерживал его в воздухе.
- Цветочки, одуванчики, — сказал Яшка. — Смазать бы тебе разочек.
- Я ее сам починю, — проговорил Женька. — Сейчас встану и починю.
Мы работали, а он еще долго сидел, не поднимая головы. Я спросил его:
- Ну чего?
- Испугался? — спросил он.
- Обрадовался.
- А ну к черту! — заорал он. — Выдумали каждый день работать по двенадцать часов. Ишачить, как утки.
Мы пошли на озеро, а он остался чинить тачку. Колотил топором изо всей силы.
Я помылся, потом сел на лодку. Ребята ушли. Я сорвал тростинку и бил по воде. Тростинка была сухая и сломалась. Я лег и смотрел в небо. Было тихо. Только слышен был стук топора. Мне стало жалко Женьку. Я пошел к яме, и вдвоем мы доделали тачку.
- А ничего мы эту яму. Здорово, — сказал Женька, когда мы шли к дому.
- Чего здорово?
- Ну, быстро. Завтра, наверное, кончим.
- Ну и что?
- Брось ты, Сашка.
Все время стояли теплые дни, и быстро просыхало. Только там, где ездили телеги и машины, надо было прыгать с бугорка на бугорок. Но вдоль канав росла уже молодая трава.
- Месячишка бы два тут, — сказал Женька. — Вечером бы рыбку половить!.. Ты как? Лодки тут есть. Лесочек. Пострелять можно. Тут никто и слова не скажет. Курорт. А зарплата идет.
- Почти Крым. Сыпану из-за этого экзамены. У меня через месяц экзамены.
- В институт пойдешь?
- У тебя гуталин есть? Коричневый?
- Есть. В клуб пойдешь?
- Почти.
Дома был только Яшка. Остальные ребята ушли в клуб. Мы с Женькой сели ужинать. Пришел Виктор Селицкий и принес маленький радиоприемник. Этот приемник стоял в правлении колхоза, и нам его отдали.
Мы поужинали. Чай был уже холодный. Выпили по полкружки и отставили. Яшка писал письмо. Виктор делал антенну.
Женька повертелся и как-то незаметно исчез. Уже два дня он приходил домой после двенадцати. Я видел, Женька покупал в сельпо конфеты и флакон духов.
Можно было поговорить с Яшкой и утром, но мне не хотелось тянуть. Я снял сапоги, сел на нары и полистал учебник, ожидая, пока Яшка кончит писать. Плохо, что тут был еще Виктор. Но Виктор был занят приемником.
На стене у нас появилась полка. На ней стояли книги. Полку сделал Валерий Осипов. Откуда-то взялся половик. На окна повесили занавески.
Виктор натянул провод из угла в угол и включил приемник. Сначала был только шум и свист, но потом он нашел музыку.
Я увидел Яшку возле себя. Он сидел на корточках и открывал чемодан.
Я сказал:
- Мне надо в город съездить.
Он поднял голову и посмотрел на меня, не понимая.
- Насчет экзаменов. И отпуск надо оформить. Полагается на экзамены. Закон такой есть.
Что бы он ни сказал, я все равно бы уехал. Но мне не хотелось, чтобы ребята подумали обо мне плохо. И я старался разговаривать с Яшкой спокойно.
- Ну так поезжай, — сказал он. — Мы же в воскресенье работали. Раз учишься, так чего. Когда думаешь?
- Завтра.
- А вернешься когда?
Я знал, что не вернусь, но сказал:
- А что мне там, детей крестить?
Утром, пока ребята завтракали, я собрал все вещи в чемоданчик. Вошел Женька.
- А ты что все собираешь? — спросил он.
- А тебе что-нибудь нужно?
Машина ходила на станцию не каждый день. В тот день машина не шла. Надо было добраться пешком. До станции было четырнадцать километров.
Мы вышли из дому. Ребята взяли лопаты и ломы.
Я немного прошел с ними. Потом они свернули к озеру и стали спускаться вниз, в нашу яму.
- Сходи за меня в «Великан»! — крикнул Женька.
Рядом с дорогой бежала тропинка. На тропинке было суше. Я вышел из деревни и зашагал по полю. День был пасмурный. Пахло прелой травой, и пахло молоком.
Я немного прошел и остановился. Ребят не было видно. Наверное, они уже спустились в яму. Совсем рядом лежала деревня - знакомая, утренняя, чуть проснувшаяся.
Озеро не блестело. Оно было совсем черное. А солнце поднималось из-за туч тяжело и как-то нехотя.
Глава четвертая
Из всех моих дорог эта была самая длинная. И поезд был самый древний, шаткий и скрипучий. Нужны электрички. На всех дорогах. Мне представлялось, как они несутся, стремительные и легкие. Они не ждут на станциях, а их ждут. Им не нужно стоять на разъездах и пропускать другие поезда. Мы поедем с Ирой на электричке в Петергоф, когда откроются фонтаны. Она будет в белом платье. Мы пройдемся с ней по аллеям. Постоим у залива. А вечером сядем на пароход. Он будет весь освещен и уйдет в море.
Очень долго бежали поля. Но наконец появились большие дома. Небо прояснилось, облака проплывали, и край неба был уже совершенно чистым. Мы въехали в улицы, дома были с двух сторон, колеса застучали по стрелкам.
Толпа хлынула. Мне показалось, что я разучился ходить. Приятно было идти по платформе и чувствовать под ногами твердую землю. И почему-то хотелось идти медленно и спокойно. Смотреть а табличку с надписью: «В город»; в такт шагам повторять одно только слово: «Всё», «Всё», «Всё».
Я вышел на площадь, поставил на землю чемоданчик, положил на него сапоги. Стоял и смотрел. Было много людей. Гудели автобусы. Проходили трамваи. Несколько троллейбусов собралось у остановки.
У города была своя жизнь. Я знал эту жизнь. Этот город был мой. До Ириной улицы было несколько кварталов. И вокруг было сколько угодно телефонов. В каждом магазине и на каждом углу. Я мог позвонить, и через десять минут Ира придет сюда.
Такси подъезжали и уезжали. Город торопился. Мне тоже нужно было торопиться. Я потер брюки, — на них засохла грязь. Куда-то надо было девать чемоданчик и сапоги. Но куда? В общежитие сейчас я идти не мог. Ребята как раз возвращались с работы. Пришлось бы каждому объяснять, почему я приехал. Лучше было прийти после двенадцати. Может быть, Алексей Иванович и Лешка будут еще спать. А утром я что-нибудь придумаю.
На углу продавали фиалки. Я подошел и купил букетик. Он был очень маленький. Я не знал, как его держать.
На вокзале мне не могли разменять рубль. Я разменял его в газетном киоске и пошел к станции метро, чтобы позвонить оттуда. Аппарат щелкнул, и донесся голос Иры. Я слушал и молчал. Несколько раз она повторила: «Алло... Алло...» - а потом сказала раздраженно:
- Нажмите кнопку.
Я бы так и молчал, но я боялся, что она повесит трубку. Она, наверное, только что пришла из техникума. И рядом за круглым столом сидит тетка. Я прикрыл трубку ладонью и сказал басом:
- Это вы?
Она не узнала меня и немного помолчала.
- Кто это говорит?
- Стыдно не узнавать своих друзей.
- Я спрашиваю серьезно. И у меня совсем нет времени, чтобы заниматься болтовней. Я тороплюсь.
- Как вас зовут?
- Меня зовут Ира. Что дальше?
Я слышал ее дыхание и каждую нотку се голоса. Очень ясно видел ее лицо, фигуру и даже жесты. И я чувствовал, что через секунду она повесит трубку. Вот сейчас выпрямится, опустит руку - и раздадутся короткие гудки. Я сказал:
- Вам привет, Ира.
- От кого?
Я снял ладонь и сказал своим обычным голосом:
- Привет, и все.
- Саша, ты?
Подошла женщина и начала стучать по стеклу.
- Ты и в самом деле приехал? — спросила Ира.
Женщина стучала все громче. Потом она открыла дверь. Я потянул дверь к себе.
- Давай встретимся, — сказал я. — Не могу больше говорить. Здесь очередь.
- Приходи вечером к нам. У Оли сегодня день рождения. Алло!
Я не знал, что сказать. Мне совсем не хотелось сидеть весь вечер с теткой. Я приехал не для этого.
- Мне, наверное, неудобно, — сказал я. — Давай встретимся сейчас.
- Что ты говоришь? Как тебе не стыдно?
- Здесь очередь, — сказал я. — Почему ты не можешь сейчас?
- Ну ладно. Давай сейчас.
В конце концов мы договорились, что встретимся через два часа у Казанского. Женщина за стеклом смотрела на меня бешеными глазами. Я повесил трубку, вышел из кабины, снял кепку и раскланялся с ней. Гражданин в шляпе посмотрел на меня, приглядываясь.
Я вышел на площадь и подумал, что ничего, если и день рождения. Ну что в этом страшного? Мы посидим немного, потом уйдем. И самое главное не это. Главное, что я приехал, и теперь мы с Ирой будем вместе.
Я вспомнил про свой костюм. Сел в троллейбус и поехал в ателье. Троллейбус был пустой, а мне хотелось, чтобы он был полный и кто-нибудь кричал: «Товарищ.!!! Продвигайтесь вперед! Имейте же сознание». Но в троллейбусе было тихо и спокойно. Я устроился у окошка и разглядывал прохожих. Шли девушки, нарядные и веселые. Шли женщины с кошелками. Шли мужчины, солидные и мрачные, приветливые и улыбающиеся. И мне казалось, что все лица до одного мне знакомы, со всеми я где-то встречался. Мы пересекали улицы одну за другой. По всем этим улицам я ходил и знал каждый дом, каждую вывеску и каждый магазин. Ехать было хорошо, и смотреть в окно было приятно. Наша деревня и наша яма остались где-то далеко, затерянные среди полей, у каких-то красивых и холодных озер. У моста троллейбус постоял. Потом мягко въехал на мост. Открылась вся набережная, узкая и застроенная дворцами, пляж, Петропавловская крепость. Я был в городе. И я мог походить вокруг крепости, или прогуляться по набережной, или постоять у Кировского моста рядом с рыболовами, или пересесть на трамвай и поехать в другую сторону, или сойти на любой остановке и просто стоять, засунув руки в карманы и надвинув кепку на самые глаза.
Перед тем как идти в ателье, я решил купить галстук. Хороший галстук - это тоже важно. Девушка вынимала коробки с галстуками и прятала их. Мне понравилось, что все девушки в одинаковых синих халатах. Раньше я не замечал, в каких они халатах.
- Какой же вам все-таки нужно? — спросила она. — Дорогой или дешевый?
- Дорогой.
- Посмотрите вот этот. Галстук замечательный!
- А еще?
Вмешалась женщина, которая стояла рядом. Потом еще двое мужчин. Вместе мы выбрали бордовый с поперечными полосками. Мне галстук не очень нравился, но они доказали, что это то, что нужно.
Еще в троллейбусе я начал уверять себя, что мой костюм готов. Не могло случиться, чтобы он не был готов. Появиться в таком виде на дне рождения и рядом с Ирой было просто невозможно. Я сказал себе: «Он готов» - и старался об этом не думать. До ателье я шел медленно, как можно медленнее. Подошел и немного еще постоял у витрин, оценивая костюмы на манекенах. На одном был костюм из такого же материала, как мой. Темно-синий, с тонкой белой полоской. Все было ничего, кроме платочка в кармане. На другом был светло-коричневый спортивный костюм. Все карманы большие. Дальше была еще одна витрина, но мне было некогда.
Я плотно закрыл за собой первую дверь, аккуратно прикрыл вторую и, когда вышел мастер, посмотрел на него так, что он не мог сказать: «Нет». Мастер улыбнулся и сказал: «Да».
Шторы на кабинах были очень красивые: светло-зеленые, бархатные. Я стоял и сразу в трех зеркалах видел, что один рукав морщит. Мастер дергал рукав, нажимал на плечо, но он все равно морщил.
- А я не скрываю, — сказал мастер. — Это же с одной примерки... Но раз пообещал - сделал. А сколько у нас работы? Все хотят к маю...
- Но все же... Вот здесь ничего, а здесь гармошка...
- Нет, это не гармошка.
- Аккордеон?
- У вас веселое настроение. Я понимаю: весна. Выступает левая лопатка. Вот у меня не выступает, а у вас выступает. На мне будет лежать хорошо.
- Теперь я знаю, кому мне отдать свой пиджак. Я все время думал: кому мне его отдать?
- Зайдите через пару дней.
- Мне нужно сегодня или никогда.
Я уже знал, что делать. Я вынул бумажник, и он унес пиджак. Он ушел, а я остался ждать.
Было много людей. Одни ходили из угла в угол, другие перелистывали журналы, и все были раздражены и недовольны. У всех лица были мрачные. Повезло, наверное, только мне одному.
Через полчаса все было готово. Старые брюки и куртку я запихал в чемодан. Сапоги завернул в бумагу и перевязал шпагатом. Встал перед зеркалом и посмотрел на себя внимательно. Галстук был завязан как полагается. Рубашка почти не помялась. Мне нравился человек в зеркале. Он выглядел хорошо. И он был похож на меня. Но в то же время и не похож. Было видно, что он никогда не ходил по колено в грязи и не таскал камни, и его никто не ругал на бюро и никто им не командовал.
- Все девушки в Ленинграде сойдут с ума, — сказал мастер. — По переписи на каждого мужчину падает полторы женщины.
Я надел свой плащ.
- Вас тоже переписывали?
- Конечно. А что?
- Нет, просто так. До свидания.
- Вы на меня не обижаетесь?
- Нет. Подвиньтесь, пожалуйста, — здесь на стуле мои цветы.
Времени оставалось совсем немного. Пришлось брать такси. Но я все равно опоздал. Ира уже стояла возле памятника. Она была в сером плаще и голубом берете и казалась издали совсем маленькой. Я увидел ее и понял, что мог бы проехать не двести, не триста, а много тысяч километров, только бы взглянуть на нее и постоять рядом. Ира заметила меня и быстро пошла навстречу. Мы обнялись прямо на виду у всех. Она поцеловала меня в губы.
- А это ничего, что на нас смотрят? — спросил я.
- Это даже хорошо. Ну пойдем.
- Это фиалки. Тебе.
- Ну пойдем. Я не могу стоять. Скажи, ты скучал? Хоть немножко скучал?
- Это очень важно?
- Очень.
Она тащила меня куда-то, потом взяла под руку, и мы пошли по Невскому в густой толпе, веселой и торопливой. Все кончилось, и наконец мы шли рядом. Я не знал, куда мы идем. Но я так и представлял, что мы встретимся и потом пойдем рядом, ни о чем больше не думая.
- Ты так загорел. Можно подумать, из Сочи. — Она говорила очень быстро и смешно глотала слова. — А что это у тебя за пакет?
Я объяснил. Она засмеялась и сжала мою руку.
- И все это из-за меня. Но куда же мы идем? — Она посмотрела на свои часы, потом на часы на башне бывшей Думы. — У нас еще столько покупок. Оля взяла машину и ждет меня.
Я остановился.
- Ты поедешь с нами, — сказала Ира. — Ну, мы просто убьем время. Покатаемся на машине, и все. Я прошу тебя.
Мы пошли. На автобусной остановке стояла длинная очередь.
- Мне, наверное, надо купить подарок? — сказал я.
Ира смотрела вперед. Автобуса не было.
- Какой ты смешной! — Она повернулась ко мне. — Это прямо счастье, что я встретила именно тебя. Почему я тебя встретила?
- Это я тебя встретил, — сказал я.
-- И на первом же вечере бросил. Но теперь я не позволю тебе этого сделать. Слышишь? И во вторник мы пойдем провожать Олю. Она уезжает в Крым.
Возле дома стоял мужчина и продавал воздушные шары, синие и красные. Он держал их на палке, целое облако шаров. Я подумал, что хорошо бы купить все и выпустить.
Автобус пришел переполненным. Очередь смешалась, и все столпились у дверей. Я оттеснил несколько человек, надавил на военного, который стоял на подножке, и пропустил Иру. Автобус тронулся. Я прыгнул военному на сапог. Я висел, военный висел, дверь не закрывалась.
- Подвинься. Испортишь мне сапоги, — сказал военный.
Я не мог пошевелиться.
- Ладно, все равно разоружаться, — сказал я.
- Ты не упадешь? — спросила Ира.
Военный замолчал. Все бы ничего, но мне мешал чемоданчик.
- Нет. А ты как? — спросил я.
- Если ты упадешь, я упаду с тобой вместе, — сказала Ира.
- Тогда я падаю.
Военный засмеялся.
Мы вышли и быстро зашагали по какой-то улице, тесной от лесов, заваленной битой штукатуркой и мусором. Я подумал, что мне все равно деться некуда, и это даже хорошо, что мы с Ирой вместе и у нас есть какое-то дело.
- Почти марафон, — сказал я. — Можно получить значок.
Мы свернули еще на какую-то улицу, потом еще на какую-то, и я увидел, что у машины, которая стояла впереди, открылась дверца. Потом за стеклом машины увидел лицо тетки. Мне показалось, что она посмотрела на меня удивленно.
- А я уже хотела уехать одна, — сказала тетка.
Я почему-то почувствовал себя неловко. И, как всегда при тетке, не знал: нужно ли мне что-нибудь говорить.
- Нет, мы вдвоем, — сказала Ира. — Ну, что же ты стоишь, Саша?
Я бросил вещи в машину и захлопнул дверцу. Ручка была очень гладкая и холодная. Машина тронулась.
- Открой окно, — сказала Ира. — Мы не шли, а бежали.
- Это я закрыла все стекла, — сказала тетка. — Я почему-то мерзну. Сегодня, наверное, холоднее.
- А мне кажется, теплее, — засмеялась Ира. — Посмотри, как он загорел.
Тетка повернулась. Она сидела впереди, рядом с шофером.
- Я очень рада вас видеть, — проговорила она. — Как хорошо, что вы приехали именно сегодня!
Я молчал и смотрел на тетку. Каждый раз она разглядывала меня так, будто ждала, что в какой-то день я приду совсем непохожий на себя.
- Вы действительно очень загорели, — наконец объявила тетка.
Мне, наверно, надо было улыбаться. Машина остановилась на перекрестке. Потом опять поехала. Тетка повернулась к Ире.
- Мы все же не успеваем. Ведь надо заехать еще за Федей. Интересно, понравятся ему наши?
- Все будет хорошо, — сказала Ира, наклоняясь к тетке. — Я знаю, что все будет хорошо.
Мы остановились у одного магазина, потом у другого, потом у третьего. Ира и тетка выходили и каждый раз возвращались с пакетами и свертками. Я заметил, что тетка была сегодня слишком оживленная и веселая. Все время вертелась и мешала шоферу. Мне хотелось поговорить с Ирой, но Ира без конца разговаривала с теткой. Они вспоминали каких-то знакомых, каких-то приятелей и приятельниц. Я сидел и смотрел в окно. Время тянулось удивительно медленно. На крутых поворотах свертки падали. Я собирал их. Потом опять разглядывал прохожих. Один раз, когда мы стояли где-то на Загородном, к машине подошли двое мальчишек, заглянули внутрь, побарабанили пальцами по стеклу, прямо у меня перед носом, и отошли, строя рожи. И мне стало как-то тоскливо и нехорошо. Я подумал, что мне не нужно было приезжать. Я вспомнил наших ребят. Они уже пришли домой. Сидят и слушают радио или играют в домино.
Ира и тетка вернулись, и мы снова поехали неизвестно куда, мчась по улицам и кружась по переулкам. Я решил, что надо взять себя в руки. Ведь не будем же мы вечно носиться по городу.
- А где твои пакеты? — спросила Ира. — Твои пакеты где? Чемодан и сапоги?
- Вот здесь, внизу, — сказал я. — А почему ты спрашиваешь?
- Я просто вспомнила. Тебе не скучно?
Я хотел ответить, но не успел. Ира опять наклонилась к тетке. Машину тряхнуло.
- У нас будет этот, — сказала тетка. — Помнишь, я тебе говорила? — Тетка улыбнулась: — Саша, вы должны следить за ней. Сейчас красивых женщин воруют. Такая сейчас мода.
Ира рассмеялась. Я не понимал, что здесь смешного. Как будто мне очень нужно сидеть в этой машине и слушать эти разговоры. Словно я приехал сам, а не потому, что мы договорились. Ну, пускай день рождения. Но могла же Ира сказать мне по телефону, что нам лучше встретиться завтра. Почему же она не сказала. Неужели она не понимает, чего мне стоило приехать сюда.
Мы торчали целый час возле большого ателье на проспекте Майорова, и шофер, наверное, успел выспаться. Он спал, положив руки и голову на руль. Потом, когда мы поехали, Ира повернулась ко мне:
- Нам остались только цветы. За цветами - и все. Сегодня я буду пить коньяк. Самый крепкий.
Она смотрела на меня и весело смеялась. Я не понимал, что с ней происходит и что вообще происходит.
- Нельзя ли что-нибудь найти по радио? — спросила тетка.
- Помехи, — ответил шофер.
На этот раз мы ехали не так долго. Перед нами был белый дом с колоннами и возле дома сквер.
- Мы сейчас, — сказала Ира. — Достать цветы - это целая проблема.
Я видел, как Ира и тетка поднялись по лестнице, попробовали одну дверь, другую и вошли. Я сидел и смотрел на часы. Шофер спал. Ни одному человеку не было до меня дела. Но хорошо, что все уже наконец кончилось. Председатель говорил, что мы будем строить коровник. Завтра наши ребята уже не пойдут в яму. Но ведь никто у нас не умеет строить. Зачем же нас тогда посылали? У нас ведь квалифицированные ребята. А камни может таскать любой. Что они, сами не могли перетаскать эти камни?
В больших витринах стояли красивые цветы, белые и чуть розоватые. Иры и тетки не было очень долго. Я потер ноги, они совсем затекли, и решил, что лучше походить, чем сидеть. Открыл дверцу и вышел.
На улице было много воздуха и света. Солнце заходило. Оно освещало деревья в сквере, блестело в окнах. Вырастала первая трава, она была очень зеленая и какая-то светящаяся. Я потянулся и вздохнул. Над большой липой кружилась ворона. Листьев на деревьях еще не было, но что-то такое уже было, как паутина, как бахрома, и голыми деревья не казались. Я подошел к витрине и посмотрел на цветы. Они были удивительно нежные и как будто сейчас проснувшиеся. Ира и тетка все не показывались. Потом какой-то мужчина вынес корзину цветов и поставил в машину. Потом я услышал смех Иры и голос тетки.
- Цветы - это весна! — продекламировала тетка. — Всегда должны быть цветы...
Она спустилась по ступенькам вниз.
- И весна, — добавила Ира.
Она засмеялась. Шофер открыл дверцу.
Я вышел из-за колонны и тоже начал спускаться вниз. И вдруг мотор загудел, дверца хлопнула, и машина поехала. Это произошло совершенно неожиданно. Я стоял, а машина уходила. Они забыли про меня! Я смотрел на машину, смотрел на улицу. Во мне образовалась пустота, холодная и удушливая. Я видел себя очень отчетливо, точно видел другого. Стою на безлюдном тротуаре, плащ мятый, шарф съехал. Стою один, а они уехали. Мне показалось, что машина остановилась. Она остановилась действительно. Я услышал голос Иры:
- Куда же ты подевался, Саша, дорогой?
Машина подъехала. Я стоял.
- Иди же скорей! — сказала Ира. — Какой ты смешной! Потерялся, как Травка.
Мне хотелось сжать зубы. Я шагнул, ничего не видя, и сел рядом с ней.
- Красивые цветы. Правда, Саша? Вы любите цветы? — спросила тетка, улыбаясь.
Я сказал:
- Да.
Мы подпрыгивали на камнях и на рельсах. Мы ехали по каким-то улицам, по набережным, мимо парков. Я смотрел в окно и ничего не видел. Все как-то застыло но мне, и все на земле стало безразличным и страшно далеким. Я ехал вместе с Ирой, но она могла уехать и без меня. Я был ей совершенно не нужен. Машина остановилась, и мелькнуло лицо Федора Ивановича. Тетка стояла на тротуаре и говорила с ним. Я поднял свой чемоданчик и сапоги и старался не смотреть на Иру.
- Я выйду, — сказал я.
- Что ты, Саша! — Ира схватила меня за руку. — Мы все здесь поместимся. Подвинься немножко.
Я повернулся и увидел тетку, она села к нам, а Федор Иванович сел рядом с шофером. Он перегнулся и протянул мне руку.
- Опять встретились. Как дела-то?
Я что-то ответил.
-Такая погода. Такая весна, — проговорила тетка. — Давайте немного прокатимся.
- Ты любишь, Саша, большую скорость? — спросила Ира.
Я сказал:
- Да.
Я не знал, что мне делать. Я ненавидел себя за то, что остался в этой машине. Мне нужно было уйти. И может быть, уйти насовсем. Я бросил наших ребят. Я обманул их. И потом бежал по полю, потому что боялся опоздать на поезд. И все для того, чтобы получилось вот так. Меня возят как вещь.
Машина шла на большой скорости. Мелькали дома и улицы. Мы проехали под мостом. По обеим сторонам стояли огромные мрачные здания, холодные и безразличные. Потом потянулись стройки. Все время по сторонам виднелись громадные черные стены, пустые окна, краны, штабеля блоков и длинные заборы. Очень низко пролетел самолет. Потом шоссе стало совсем пустое.
- Это хорошо, что выдумали автомобили, — сказала тетка. — Приятно чувствовать скорость. Иногда этого хочется.
- Машина - это благо, — сказала Ира. — Словно полет.
Мы ехали куда-то дальше.
- Здесь уже были окопы, — проговорил Федор Иванович. — И вот там - окопы. Здесь кругом окопы. Когда видишь, сколько сделано, начинаешь понимать, что прошло много лет.
- Нет, не прошло никаких лет, — сказала тетка, — Все только начинается. Всегда все только начинается.
Федор Иванович повернулся и посмотрел на нее.
- Я не права? — спросила тетка.
Ира рассмеялась:
- Я согласна. Всегда все только начинается.
Федор Иванович лег плечом на дверь и прислонился головой к стеклу.
- Каждый год наступает весна, и каждый год приходит тепло, — сказала тетка.
Ира тоже что-то говорила о солнце, о весне, о том, что скоро должно быть тепло.
- Женщине нужно тепло всего мира, чтобы она имела что раздавать, — объявила тетка.
- Давайте повернем, — вдруг проговорил Федор Иванович. — Очень далеко.
Я посмотрел на него и почему-то вспомнил «солдатский вечер». И вспомнил, как он рассказывал про чужие окопы. Наверное, в окопах лицо у него было такое же, как сейчас, усталое и суровое.
Тетка замолчала.
Когда машина повернула к городу, впереди все было в дымке и в огнях. Рои и рои огней.
Я чувствовал себя нехорошо. Я был в этой машине посторонним.
Машину подбрасывало. Мы были уже в городе. Трамваи шли быстро и были почти пустые. Мы ехали у самого тротуара. Слишком близко к тротуару. И как-то опасно. Потом нам загородил дорогу какой-то мужчина. К нему подбежала женщина. Мужчина поднял руку. Мы не остановились.
- Невский, — сказал Федор Иванович. — Как будто ничего нового, а все же другой. Невский. Какой сегодня день?
- Среда, — сказала тетка. — Вы думаете о делах? В такой вечер?
В машине стало светло. Мы свернули, и я увидел знакомый подъезд. Ира вышла первая. Она взяла мой чемоданчик и сапоги. Тетка и Федор Иванович сидели в машине. Мы стояли на тротуаре.
- Возьми, пожалуйста, корзину, — сказала Ира. —Я подержу дверь.
Я посмотрел на нее, потом наклонился.
Сперва я был у нее как прицеп, а теперь - просто грузчик. Так ей хотелось. Ну что же. Для этого я и бросил ребят. На лестнице пахло краской. На втором этаже лампочки не было. На перилах сидела кошка, она даже не шевельнулась. Я подумал, что мог бы подниматься по этой лестнице очень долго. На любой этаж. Медленно, шаг за шагом. Ира открывала дверь. Я поставил корзину на перила. На ступеньке лежало десять копеек. Ира открыла дверь. Я опустил корзину на стул. Ира бросила чемоданчик и сапоги и вдруг повернулась и обняла меня.
- Сегодня такой хороший день! — сказала она. — Очень, очень хороший!
Мы стояли близко, совсем рядом. Я посмотрел на нее и подумал, что мне нужно уйти сейчас же. Что-то разделило нас. Откуда-то донеслась музыка: саксофон и ударник. Ира улыбнулась. Улыбка у нее была какая-то очень далекая.
- Раздевайся, — сказала она. —Дай я поухаживаю за тобой.
Я смотрел, как она вешала плащ.
На подоконнике лежал мой Цвейг. Надо было отнести его в библиотеку. На полу лежал новый ковер. Ира сняла туфли.
- Что это нет Оли? — сказала она, потом посмотрела на меня и засмеялась: — Ох, ведь я забыла вынуть мои цветы! — Она, соскочив с дивана, прямо в чулках побежала в коридор.
Голос ее доносился из коридора.
- Они у меня в кармане.
Я вспомнил, как сидел в поезде, смотрел на поля и как покупал цветы. Мне хотелось быть сейчас в нашей яме и таскать камни.
Вбежала Ира. В руках у нее была стопка с водой, и в стопке фиалки. Она поставила стопку на приемник, отошла и посмотрела на цветы со стороны.
- Они еще ничего, — сказала она. — Какой ты молодец, что приехал. Ты скучал там? — Она села возле меня. — Скажи мне. — Она спрыгнула вниз, присела и заглянула мне в лицо. — У тебя, кажется, новый костюм? Он тебе идет.
Она выпрямилась и закружилась посреди комнаты, потом подбежала и поцеловала меня. Я почувствовал ее поцелуй. Хлопнула дверь. Вошла тетка. Я посмотрел на тетку и не понял, что с нею произошло. Что-то случилось у нее с лицом. На лице остались только глаза и губы. Губы яркие и большие.
- Вы сидите? — сказала она. — Нам нужно купить телевизор. У всех есть телевизоры.
Когда тетка говорила, губы, казалось, шевелились сами по себе, независимо от того, хотела этого тетка или нет.
- Ты одна? — спросила Ира. — Что случилось? А где Федор Иванович?
- Вы не знаете, Саша, какой телевизор лучше? — спросила тетка.
Я сказал, что не знаю.
Тетка прошлась по комнате, постояла у зеркала, потом села в кресло и вдруг как-то жалко улыбнулась.
- Ирочка, какие бывают телевизоры? — проговорила она. — Ты же должна знать. Дорогие, дешевые, с большими экранами...
Ира подошла к ней.
- Что случилось, Оля?
- Ничего, — сказала тетка. — Просто у меня сегодня день рождения, и мне тридцать восемь лет...
Она наклонила голову и неожиданно отвернулась.
- Нет! — Ира взяла ее за плечи. — Сегодня тебе можно только смеяться. Посмотри на меня. Ну посмотри. Ведь ничего не случилось. Ведь мы же вместе. Нам еще нужно переодеться...
Тетка медленно поднялась, и они ушли. Я взял Цвейга. Сидел и перелистывал. Кто-то позвонил. В коридоре раздались голоса. Открылась дверь, и вошло несколько женщин и мужчин. Я пересел в уголок, к стеллажу. На Ире было бордовое платье. Тетка была в черном. Все говорили как-то слишком громко. Хвалили весну и все время смеялись.
- Надо открыть окно, — сказала Ира.
Она подошла к окну и начала открывать его, откинув занавеску. Я встал, вышел в коридор, снял свой плащ. Ира что-то говорила. И тоже очень громко. Я застегнул свой плащ, потом увидел на столике свой шарф. Сунул шарф в карман. Взял чемоданчик.
По лестнице разносилась музыка. Все та же пластинка: саксофон и ударник. Где-то наверху была открыта дверь. Я спускался медленно. Лестницы были короткие. Пластинка была бесконечная. Все время одна и та же нота. Потом хлопнула дверь, и я услышал голос Иры. Она звала меня, перегнувшись через перила. Я остановился. Она сбежала вниз, загородила мне дорогу.
- Что случилось? — спросила она. — Ты не имеешь права.
Мы смотрели друг другу в глаза. Мне было трудно смотреть на нее.
- Я не понимаю тебя, — сказала она.
- Я еду обратно, в колхоз.
- Саша, я прошу тебя.
Я покачал головой. Пластинка кончилась, и стало очень тихо. Я переложил чемоданчик и сапоги в одну руку.
- Ты опоздаешь. Тебя ждут, — сказал я.
- Саша!
- Мне надо идти.
- Я ничего не понимаю. Ну, тогда оставь мне адрес. Я напишу тебе. Если хочешь, приеду сама.
- Там от станции далеко. И грязь, — сказал я.
- Ничего. Я сообщу, и ты меня встретишь.
В плаще у меня был карандаш. Я достал его и прямо на стене написал адрес. Ира молча смотрела на меня. Я пошел, она осталась на площадке. С подоконника зашипела кошка. Я махнул чемоданом, кошка сжалась, спрыгнула и побежала вниз.
Было не холодно, но я ходил по улицам и долго не мог согреться. Некоторые улицы были темные и точно заброшенные. Лампы дневного света, тусклые тонкие палочки сверху, тянулись между домами синим унылым рядом. Свет их, какой-то неземной и безжизненный, был похож на свет звезд. Другие улицы были ярко освещены, но там было много людей.
На Неве было лучше. Река лежала спокойная и тихо плескалась. Мосты были огромные и черные. Трамваи взбирались на них с трудом и ехали над водой медленно и робко. Потом съезжали вниз на большой скорости.
В парке аллеи были пустые. Мне хотелось, чтобы что-то случилось. Я не знаю что, но чтобы потом я был разбитый, бесчувственный и неподвижный.
Парк кончился, я пошел дальше. У магазинов сидели сторожа. Посередине улицы ходил милиционер. Людей становилось все меньше. Начал накрапывать дождь. Неожиданно город стал совсем пустой. И так же неожиданно я почувствовал, что город сделан из камня. Улицы из камня, набережные из камня, дома из камня. И среди этих улиц и домов я один.
Я пошел к общежитию. Дождь не переставал. Бумага, в которой были завернуты сапоги, расползлась и висела клочьями. Я сорвал ее и выбросил. Город был неуютный и мрачный, огромный и весь закрывшийся.
Я постоял немного у общежития. Кое-где в окнах еще горел свет. Но наше окно было черное и слепое. Моя кровать стояла пустая. И может быть, на подушке лежало письмо от мамы. Я должен был послать ей деньги. В мае нужно послать больше. Было тихо, и я слышал, как мягко и монотонно стучат капли. Раздались голоса. Несколько человек вышли из-за угла. Это могли быть наши ребята. Мне нельзя было встречаться с нашими ребятами. На этой улице я был дезертиром. Я повернулся, надвинул кепку пониже и пошел дальше.
Сразу же за общежитием мостовая была разворочена. Тротуар тоже был завален песком и глиной. Чистой осталась только полоска асфальта у самых домов. Раз или два я попал в глину, когда перепрыгивал через лужи. Потом до меня донеслись какие-то звуки. Впереди что-то стучало и чавкало. Я подумал, что там рабочие, но подошел ближе и увидел, что возле траншеи стоит насос. Вода била из него струей и стекала по желобку. Насос стоял один. Никого больше на улице не было. Я остановился. Поршень чавкал, и весь насос дрожал и захлебывался. Я подумал, что вот он здесь стоит и работает, а люди сейчас спят в своих тихих квартирах, на удобных кроватях, и никому не нужно мокнуть и лазить в эту канаву.
Подошел дворник, попросил папиросу. Я сказал, что не курю.
- Что это делают?
- Газовый провод, — сказал он, вынул мятую папироску и закурил.
Я понял, что ему скучно одному на пустой улице. Он был старый, маленький, и фартук на нем был почти до земли. Прямо перед нами, в переулке, остановилось такси. Постояло, потом развернулось.
- Теперь здесь не проехать, — сказал я.
- Их тут два было. — Старик показал на насос. — Пьяные в двенадцатом часу шли и спихнули. Я пробовал, только мне не поднять. Тяжело одному.
Я заглянул в траншею. Насос застрял между стенками. Я отнес вещи к дому, и вместе мы вытащили насос. Все было в порядке. Только разорвался провод. Я соединил концы - и насос заработал.
- Иное дело, — сказал дворник.
Я помыл руки в луже и палочкой соскреб глину с брюк. Дворник прошелся со мной до угла. Еще не было трех, а первый поезд уходил в шесть пятнадцать.
Часть 3
Глава первая
До праздника мы трелевали лес. Мы ездили на Сыпучую гору. Она была вся песчаная и обросшая высокими соснами, розовыми и ровными. Было жалко рубить их. Срубленные, они цеплялись за соседние сосны и падали медленно и навсегда.
Мы уходили из деревни утром, а возвращались уже в темноте. В полдень нам привозили обед: два больших черных котла, укутанных соломой. Мы тащили эти котлы на вершину и устраивались там на гладкой, открытой площадке. После обеда мы лежали и смотрели вниз. На земле было холодно, мы лежали на бревнах. Внизу была наша деревня, озера и еще другие озера, которых мы прежде не видели, потому что они были за горой. Было много воздуха, и где-то очень далеко он становился синим. Дни стояли ясные. Солнце припекало. Пахло смолой.
Утром, в четверг, к нашему дому подъехал грузовик. Шофер крикнул:
- Эй! Майские!
Ребята собирались, а я пошел на озеро. Яшка Вартонис дал мне блесну. Я не знал, как на нее ловить. Сел в лодку, отъехал немного от берега, бросал блесну в воду и вытаскивал. Слышно было, как загудел мотор, грузовик развернулся. Потом звук мотора пропал. Я поймал одного окуня. Снял его с крючка, он вырывался и трепетал в руке. Я опустил руку в воду и разжал пальцы. Он постоял секунду, а потом медленно исчез в глубине.
Женька Семенов тоже остался в деревне. Ему понравилась какая-то девушка. Я это знал, но он сказал:
- Люблю природу. Вот честное слово! Ты тоже?
- Я тоже, — ответил я.
Утром мы лежали и слушали Красную площадь и Дворцовую площадь. Наш дом был очень большой, пустой и тихий. Из приемника неслись марши и голоса тысяч людей. Там было весело. Веселей, чем всегда. Я заставлял себя ни о чем не думать. Кто-то оставил на подоконнике круглое зеркальце. От него на потолок падал зайчик. Я смотрел на этот зайчик. Потом сказал Женьке:
- Ну, пойдем хоть куда-нибудь. Нас ведь куда-то приглашали.
- Поспим лучше, — сказал Женька. — Чего тебе?
Я вышел на крыльцо, сел на ступеньку. Все небо вокруг было жарким и чистым. Несколько кур бродило по двору лениво и осторожно. Из-под изгороди вылез петух. Марши доносились и сюда. Солнце било прямо в глаза.
Вечером мы с Женькой пошли в клуб. От Женьки пахло духами. В руке у него была стопка пластинок.
- Кое-что еще есть, — сказал он. — Уберег от пиратов. Опять будешь кидаться?
В клубе было тесно. Танцевали под гармошку и под радиолу. Я встал у дверей и разглядывал всех, кто проходил мимо. Прислушивался к словам и следил за взглядами и улыбками. Мне хотелось отгадывать настоящий смысл слов и улыбок.
Женька куда-то пропал. Раз или два я видел его возле сцены. Потом он пришел со своей девушкой. Она была маленькая, и. щеки у нее были такие же красные, как у Женьки. Она смотрела на Женьку влюбленными глазами. Женька подмигнул мне.
- Почему вы не танцуете? — спросила она меня.
- Я не умею.
- Вам не нравятся наши девушки?
- Нет, они мне нравятся, — сказал я. — Мне нравятся все девушки. Вроде вальс. Пойдемте?
Я подал ей руку, она посмотрела на Женьку, и мы закружились. Я толкался еще больше, чем все остальные. И мы вертелись так, что все перед глазами мелькало и расплывалось.
- Так нельзя, — сказала она.
- Почему?
- У меня все идет в голове.
- Я так и хочу.
- Зачем? — Она засмеялась.
Мы наступали друг другу на ноги.
- Вы очень веселый.
Мы станцевали фокстрот и еще что-то. Женька не выдержал.
- Следующий танец мой, — сказал он и показал на пластинку. — Сейчас я запущу свои.
Парень в украинской рубахе отплясывал на сцене. Женька тоже взобрался на сцену. Нагнулся и что-то зашептал гармонисту. Стало тихо. Послышалось шипение. Потом раздался грохот, ритмичный и нарастающий. Это был электроорган. Середина комнаты начала пустеть. Несколько пар осталось. Но у них ничего не выходило. Они сбивались и смотрели на динамик. Гармонист сидел, наклонив голову набок. Музыка была какая-то нелепая и ненужная в этом клубе. Женька смотрел на меня. Я пожал плечами. И почему-то мне стало совсем тоскливо. Пластинку сняли.
Я пробрался к двери и побрел к озеру. Спускался вниз по узкой песчаной тропинке. Она петляла и лишь в самом конце, неожиданно обрываясь, падала так круто, что можно было только сбежать. Желтая круглая птичка раскачивалась на лозе. Я подошел ближе, она не испугалась. Я прошел рядом, она пищала так же громко и беззаботно. Я сел на край лодки. Вода была тихая, удивительно чистая, ласковая и синяя. Плеснула какая-то рыба. Пронеслись две утки и опустились в камыши. Солнце садилось, но все еще грело. Было так, словно ничего больше на свете не существовало. Существовала только эта старая лодка, тот далекий берег с высокими соснами, те камыши, серые, высохшие, и бескрайнее небо. На озере было хорошо.
До экзаменов оставалось три недели, но я не мог заниматься. Ребята вернулись и целыми вечерами говорили о футболе. Садились в кружок и «болели». «Адмиралтейцу» светило. «Зениту» не светило. В «Адмиралтейце» порядок. В «Зените» одни сапоги.
Я решил переехать. Собирал книги и бросал их в чемодан. В луче солнца прыгали пылинки. Ребята чертили турнирную таблицу. Яшка Вартонис молча наблюдал за мной. Я сложил все, он подошел.
- Ты чего это?
Я показал на книги и на ребят.
- Договорился напротив. Через дорогу. Где зеленое крыльцо.
- Единоличником будешь? Ты, Кочин, смотри!
- А что?
- Мы тут не дачники. Ясно?
Я промолчал.
В доме напротив жил бригадир. Мне отвели отдельную комнату, маленькую, светлую, оклеенную голубыми обоями, всю завешанную фотографиями. Окно выходило в сад. Две яблони стояли совсем рядом. Но двери в комнате не было. Вместо двери висела пестрая ситцевая занавеска.
- Мы уже седьмой год здесь живем, — сказала хозяйка. — Вы-то сами с какой стороны?
- Ленинградский.
Она сняла горшки с цветами, и я разложил на подоконнике свои книги.
- А мы и до войны здесь. Мы здешние.
Она была чуть сгорбленная, чистенькая, с косой, уложенной витками на голове, и, когда говорила, становилась совсем близко, качалась вверх-вниз и смотрела на меня так, словно всегда знала.
- Здесь и сад свой, — сказала она. — Рыба есть. В лес пойдешь, ягодку в рот положишь.
- Озеро хорошее.
- У нас и лодочка есть. Вы не стесняйтесь. Стенка здесь теплая от печки. Посидеть если.
Она поправила половики и ушла. Я открыл окно. За деревьями синело озеро и виднелась яма, из которой мы доставали камни. Я подумал, что живу в этой деревне уже очень давно и, кажется, жил всегда. Где-то рядом загрохотала телега. Потом долго скрипело и визжало колесо, размеренно и тоскливо. Я немного почитал. Было уютно в этой маленькой тихой комнате.
Когда стемнело, пришел бригадир.
- Ну, как тут устроился? — спросил он.
Я знал его. Мы ходили к нему за досками, когда строили тачечную дорогу. Он сел, поправил очки и сразу же сказал, что через несколько лет этот колхоз будет самый богатый во всем районе.
- Коров сколько, видел? Земля подходящая.
Я сказал, что колхоз хороший.
Мы поговорили еще немного, и он ушел. Я снова открыл книгу. Но она так и осталась на той же странице. Я не прочел ни одной строчки.
В этом доме по вечерам собиралось полдеревни. Приходили один за другим и не расходились до поздней ночи. Кто-то жаловался на тракториста, тракторист жаловался на трактор, кто-то спрашивал насчет семян. Начинали вполголоса, а потом кричали. Я смотрел в книгу, смотрел в окно. Я узнал, что трактор нельзя по грязи выводить в поле и что самая доходная утка - пекинская. Отдельная комната мне не помогала. Надо было что-то делать. Я решил уходить за озеро. На другом берегу нашел заброшенный сарай, пустой и наполовину разобранный. Нарубил сучьев, набросал в угол и там занимался. Я читал много, выбирал самое трудное и чувствовал, что запоминаю все как-то необыкновенно легко и сразу. Но в сарае было холодно. После праздника погода испортилась, почти каждый день лил дождь.
Один раз, когда я вернулся с озера, хозяйка остановила меня на кухне. Почему-то не было света. На столе горела керосиновая лампа. Я повесил плащ возле печки, чтобы он подсох.
- Не перестает, — сказала хозяйка. — Конца не видно.
- В апреле было теплее.
- Вы больше не ходите. Застудитесь. Я их теперь выгонять буду. Совсем помешались.
- Нет, мне и так хорошо.
- Прокурено все. Я вам щей налью.
Зажегся свет. Она приставила ладонь к лампе и дунула.
- Вот собрались все и пошли куда-то. Теперь и не знаю, когда придет. А осенью еще хуже. — Она достала из духовки кастрюлю.
Я откинул занавеску и вошел в комнату. На столе была целая тарелка яиц и большой глиняный кувшин с молоком.
Я не стал отказываться от щей. Тарелка со щами дымилась. Щи были вкусные и горячие. Я ел, хозяйка сидела со мной рядом.
- В городе-то щи не так, верно, варят?
- У вас вкуснее.
- Я еще подолью.
- Спасибо. Больше не надо.
- Родные-то есть? Или один?
- Мать. На Украине.
- А невеста?
- Нет, — сказал я. — Вот сюда приехал искать. Здесь у вас много.
Было еще не поздно. Хозяйка постукивала на кухне посудой. Я перелистывал тетради. Сидел и вслушивался в однообразный и бесконечный стук ходиков, смотрел на стену и на фотографии. Потом встал, погасил свет и распахнул окно. Две маленькие яблоньки выглядели одинокими и сиротливыми. Наверное, дождь шел везде - и здесь, и в Ленинграде. Я снова включил свет. Почему-то было тяжело сидеть в темноте и слушать монотонный шум ливня. Что-то безнадежное, равнодушное и невозвратимое было в этом шуме. С подоконника капала вода. Черный ручеек полз дальше и дальше. Я закрыл окно и лег. Хотел заснуть, чтобы не слышать, как шумит дождь. Но не мог. Всю ночь было холодно. Я подумал, что простудился и заболеваю.
На следующее утро мы не пошли в лес. Нам больше не нужно было ездить на Сыпучую гору. Когда я пришел к ребятам, они сидели на крыльце и ждали председателя.
- Кочин идет! — закричал Женька. Каждое утро именно он замечал меня первый. — Братцы, Кочии идет! Где моя баночка под сметану?
Все повернулись в мою сторону и захохотали. Возле Яшки было свободное место. Я сел рядом с ним.
- Слушай, Пифагор. — Женька не унимался. — Я всю ночь думал и не мог решить: могут в треугольнике все углы быть тупые?
- Могут, если первый угол ты.
- До этого я додумался. Один угол - я, второй - ты, а вот насчет третьего я застрял.
- Заткнись.
- А если тебе достанется такой билет?
Когда Женька был один, он никуда не лез и разговаривал нормально, но при ребятах с ним что-то происходило. Он приставал то к одному, то к другому. Но чаще всего ко мне.
Я повернулся к Яшке.
- Когда он обещал прийти?
- Сейчас придет. — Яшка посмотрел на Женьку. — А ты в какой класс ходил?
- В девятый, — ответил Женька.
- Который год?
- Второй.
- На следующий год пойдешь третий?
Все засмеялись.
- Я хожу и бросаю добровольно.
Он покрутился возле нас еще немного и перешел на другую сторону крыльца.
- Вот идет! — крикнул Валерий Осипов.
Председатель сказал, что теперь лесу хватит, что после обеда к нам придут старики, и мы начнем строить. А до обеда надо сломать старый коровник и отобрать хорошие бревна.
Мы прошли по всей деревне. Мимо мастерских, мимо амбаров, перешли через речку и увидели старый коровник. Он стоял окруженный деревьями, длинный, весь замызганный навозом, без ворот и без крыши. На крыше осталось только несколько палок с бурыми космами уцелевшей соломы.
- Уничтожим? — спросил Яшка. — И чтоб его больше не было.
Мы влезли наверх, и коровник затрещал. Мы ломали его и растаскивали со всех сторон сразу. Я распорол о гвоздь свои кеды, поцарапал руку. Я отрывал планки и доски, стаскивал бревна и чувствовал какое-то ожесточение к этому коровнику, так, словно именно он был виноват во всем и мешал мне. Я должен его сломать, не оставить от него ни одной щепки, и тогда все будет хорошо, все пройдет.
Мы снесли этот коровник за три часа. Потом сидели на груде досок и бревен, спокойные и усталые.
После обеда пришли старики. Их было двое. Тихие, неторопливые, с аккуратными маленькими топориками. Поздоровались, выкурили по цигарке, встали и как-то незаметно, без всякого труда обтесали по бревну. Мы смотрели. Потом попробовали тоже. Выходило не так ловко. Топор вертелся в руках и то ударял по бревну плашмя, то вонзался слишком глубоко. Но мне нравилась эта работа: идти вдоль бревна и оставлять за собой липкие и пахучие щепки.
Вечером я не ощущал усталости. Хотелось работать еще. Я пришел домой и почувствовал пустоту. Переложил с одного места на другое книги, посмотрел в окно. Было еще совсем светло. Я решил, что лучше пойти на озеро. Вышел во двор и увидел, что на лавочке сидит бригадир. Он окликнул меня. Мы сели рядом. Сидели и молчали.
Он показал на кеды:
- Не преют?
- Нет, ничего.
Лавочка стояла криво. Я подложил под нее щепку. Над нашими головами медленно проплывала большая туча. Дверь хлева была открыта. Хозяйка доила корову.
- Вы на все лето тут? — спросил бригадир.
- Потом приедут другие. На все лето. Пока не построим.
От мыса, где был песок и куда наши ребята ходили загорать, отошла лодка. Дул ветер, и на озере была рябь. Лодку подбрасывало. Через десять дней мне полагался отпуск.
Лодки уже не было. Она скрылась за поворотом.
Я могу поехать уже в субботу. Нет. В субботу я пойду в клуб. В клуб, на танцы, и больше ничего. Вместе со всеми ребятами. Там будет весело. Бригадир говорил про какую-то краску. Нигде нельзя достать этой краски. Хозяйка вынесла нам молока и хлеба. Я отломил кусок хлеба и увидел, что напротив остановился почтальон. Поставил велосипед и крикнул:
- Телеграмма. Хлопцу телеграмма!
Я поставил кружку на лавку. Подошел, взял карандаш и расписался. Телеграмма была от Иры...
Я стоял и смотрел, как почтальон сел на велосипед и медленно поехал по песчаной дорожке мимо гусей. Гуси не боялись велосипеда. Только гусак вытянул шею и застыл.
Станция была тихая и заброшенная. Несколько раз выходил с фонарем дежурный, и еще какая-то женщина с девочкой сидела на дальней скамейке. На противоположной стороне полотна был лес. Я ходил, потом сидел полулежа, запрокинув голову и глядя в небо, потом снова ходил. Прошел товарный, оставив после себя пустоту и тяжелый железный грохот. Слышно было, как на станции звонил телефон. Воздух был холодный, и, по мере того как светлело, я чувствовал холод все сильней. Справа, на семафоре, ярко горел красный сигнал. Поезд должен был прийти оттуда.
Я посмотрел на часы. Ждать оставалось уже немного. Я встал и пошел к семафору. Платформа кончилась. Красный свет казался сильным только издали. Вблизи он был еле заметен. Я снова посмотрел на часы. У меня было такое чувство, что поезд приходит раньше, чем нужно. Я должен был все обдумать и что-то решить, и у меня не хватало времени. Стало светло. Рассвело как-то сразу. И сразу же встало солнце. Рельсы теперь были видны очень далеко. Они блестели на солнце и казались влажными. Почему-то трудно представить здесь Иру, на этой станции. Прошел дежурный. Я остановил его.
- Ничего не менялось. Расписание старое, — сказал он.
Откуда-то вышли двое мужчин с удочками и зашагали по тропинке, вдоль полотна. Семафор открыли...
Я увидел Иру, едва поезд начал притормаживать.
На ней была желтая кофточка и голубая юбка. Она стояла на площадке последнего вагона. Вагоны проплывали мимо, пустые и запыленные. Я пошел по платформе. Ира тоже заметила меня и подняла руку. Поезд остановился, она спрыгнула вниз. Мне казалось, что расстояние между нами очень большое и я иду слишком медленно и долго и как-то не так, как нужно. Я наткнулся на какие-то мешки, поднял голову и увидел, что Ира стоит рядом. Я не знал, что делать со своими руками. Мы стояли и смотрели друг на друга. Она засмеялась.
- Какой здесь воздух! Ты живешь на даче. Прямо на даче.
- Да, — сказал я.
- А у нас все эти дни были дожди.
Я взял из рук у нее сумку. Мы шли по платформе. Рядом тихо стучали колеса. Поезд уходил. На ступеньке последнего вагона сидел мужчина. Мы прошли по песку мимо ларьков и сараев.
- Я думала, что приеду на рассвете, — сказала Ира. — Приеду и услышу, как просыпается лес. Ты сводишь меня в лес? Завтра утром?
Я смотрел на нее. Она говорила так, точно ничего не случилось и точно мы виделись только вчера.
Я придержал калитку, пружина была очень тугая, и мы вышли на маленькую площадь за вокзалом. На площади не было ни одной машины.
- Почему ты молчишь?
- Ты думала, поезд придет раньше?
- Я хотела увидеть, как встает солнце, и проспала. Я думала, что придет раньше. Мы будем стоять здесь?
- Нет.
- Ты как-то щуришь глаза.
Я вдруг почувствовал усталость. Я представлял себе нашу встречу совсем по-другому. Я подумал, что хорошо бы найти скамейку и сесть. С вечера я договорился с шофером, но он почему-то не приехал. Он должен был стоять возле чайной. Может быть, я устал потому, что не спал? Как же нам отсюда уехать? Надо что-то придумать. Можно выйти на дорогу и идти, пока нас не догонит какой-нибудь грузовик. Но сегодня воскресенье, и может не быть ни одной машины. В воскресенье уехать отсюда трудно. В другой день лучше. Ира улыбалась.
- Ты кого-то ищешь?
- Нет, — сказал я. — Нам надо туда. — Я не смотрел на нее.
Площадь была неожиданно большая. Мы пересекли ее и свернули на какую-то улицу. Солнце начало пригревать, но поселок еще не просыпался. Улица была почти пустая. Я сам не знал, куда мы идем.
- Петухи - это поэтично, — сказала Ира. — Настоящее утро может быть только с петухами. И вот такое солнце!
Мы прошли по шаткому и прогнившему мостику через канаву... Ира стала на край доски и подпрыгнула. Доска затрещала. Я успел протянуть ей руку. Внизу была жидкая грязь. Ира засмеялась.
- Так оттолкнуться и полететь к солнцу, — сказала она. — Расправить руки и лететь быстро и долго. А потом сгореть, как маленькая звезда. Тихо и красиво. Хорошо?
Я посмотрел на нее сбоку. В этой голубой юбке и белых туфлях она была удивительно стройная и легкая. И шла как-то необыкновенно, словно не касаясь земли. Улица была серая от пыли. Дома тоже серые и старые.
- Почему ты так смотришь? — Она повернулась ко мне. — У меня не в порядке волосы? Да?
- Ты загорела.
- Два-три раза ходила на пляж. Но так противно! Сажа и пыль. И лежат прямо друг на друге. Это у вас, на Петропавловской.
Мы забрели в какие-то дворы, прошли по переулкам и снова очутились у вокзала. Было уже не так и рано, но до сих пор не проехала ни одна машина. Шлагбаум даже не открывали.
- Мы почему-то кружим, — сказала Ира. — Вернулись на старое место. Ведь это вокзал?
- Да.
- Ты пришел меня провожать? Я тебе уже надоела? А я-то хотела увидеть зеленые поля, березы и подышать лесным воздухом. Свидание окончено? — Она поднялась на носки и заглянула мне в лицо. — Значит, берез не будет?
Я увидел, что глаза у нее веселые и смеющиеся.
- Они там. — Я махнул рукой.
- А мы?
Я подумал, что если она приехала, значит, она хотела приехать и хотела увидеть меня. Я достал хорошую лодку, и ей, наверное, понравится наше озеро. А завтра мы можем сходить на Сыпучую гору. Нам надо скорее уехать отсюда. Заговорило радио. Я посмотрел на часы. Было шесть. Я вспомнил, что до молокозавода машины идут все время, а там уже не так далеко. Ира, улыбаясь, смотрела на меня.
- У Казанского остановка такси, — сказал я. — А тут Казанского нет.
Она засмеялась. Открыли шлагбаум, и прошел ленинградский автобус. Мы не успели отойти. Нас окутало пылью.
- Сколько здесь? — спросила она, когда автобус проехал.
- Если через поле, по тропинке, четырнадцать.
- Поле и тропинка. И, по-твоему, я поеду на такси. Так ты обо мне думаешь? Так?
- Нет.
- Так?
- Нет.
- Скажи: нет, нет, нет.
- Нет, нет, нет.
- Ты похудел, и тебе это идет.
Она взяла меня под руку.
Мы шли по широкому зеленеющему полю. Мы видели желтую бабочку. Она летела неровно, и казалось, вот-вот упадет и уже не подымется: такая она была слабая. Ира смотрела по сторонам и улыбалась.
- Я хочу босиком, — сказала она. — И хочу, чтобы дождь.
Дорога была пухлая и мягкая. Ира положила туфли в сумку. Я тоже снял свои и завернул в пиджак. Пыль была теплая.
- Ты бегал по лужам?
- Бегал.
- Хорошо?
- Мне нравится в грозу.
- Мне тоже.
Один раз мы отдыхали у разрушенного сарая. Я нашел в сарае охапку старого сена. Собрал его, и мы легли и смотрели в небо, положив руки под голову. Жаворонок взмывал и падал, и несся вперед, и снова взмывал.
- Еще далеко, — сказал я.
- Ну и что же, — сказала она. — Здесь так хорошо!
Я сел и сорвал травинку. Дорога была пустая. Мне хотелось скорее попасть на озеро. Наверное, сперва нужно было пройти весь путь и уже потом сесть и поговорить.
- Ты не хочешь есть? — спросила Ира. — У меня целая сумка всякой еды.
Она приподнялась на локте, поправила волосы и встряхнула их. Я вдруг подумал, что точно такой же жест видел еще у кого-то. У моей матери. Вот так же встряхивала волосы мама. И у мамы волосы раньше были такие же пышные, а теперь они совсем седые.
Я услышал шум мотора, встал и увидел над дорогой белую пыль. Машина шла к нам.
- Можем поехать. По-моему, грузовик.
- Нет, я не хочу. Я уже приехала. Я лежала бы на этом сене целую вечность.
Грузовик, подпрыгивая, проехал мимо. Пыль не дошла до нас. Она осела в кустах.
Ветер покатил розовую обертку от конфеты. Я посмотрел в небо. Жаворонок куда-то пропал.
Тот день был по-настоящему летний. На небе долго не было ни облачка, и солнце грело так, что даже от земли веяло теплом. Было душно, и казалось, что будет гроза. Мы вышли к озеру. Я показал Ире нашу деревню. С того места, где мы стояли, был виден только ее край.
- Мы переедем туда на лодке, — сказал я.
Мы стояли на согнувшемся дереве, оно висело над водой. Прямо под нами плавали маленькие рыбки. Они плавали на солнце, и мы хорошо видели их. Ира бросала в воду крошки. Один раз из глубины появилась большая рыба. Она была неподвижна и едва заметно шевелила плавниками.
- Ее можно схватить, — сказала Ира. — Нагнуться и схватить.
- Она глубоко. Лучше стоять и смотреть.
Ира нагнулась, и рыба пропала. На воде остались круги.
- Это прямо удивительно, какой здесь уголок, — сказала Ира. — Как жаль, что у нас на даче нет такого же озера. Нужно было броситься за этой рыбой. Ты бы меня спас?
- Я бы подумал.
- Тогда я тебя столкну и убегу. Падай.
Она спрыгнула. Дерево закачалось. Мы долго шли вдоль берега, потом между стволов, и, когда остановились, озера уже не было видно. В лесу пахло прелой травой. И мы словно провалились куда-то: так было тихо. Ира собирала цветы: какие-то синие и какие-то желтые, крохотные и чуть распустившиеся. Но цветов было мало. Наверное, их надо было искать где-нибудь на опушке.
- Ты не устала? Может, мы пойдем уже назад? — спросил я.
- Я пьяная от этого воздуха. Пойдем еще дальше.
Мне не хотелось идти дальше. Мы так и не поговорили с ней. Ира должна была сказать мне хоть одно слово. Я ждал, что она заговорит сама. Я видел ее между деревьями, то близко, то далеко от себя. Она заколола голубой цветок в волосы. Неожиданно я потерял ее. Она спряталась за кусты малины. Я прошел мимо этих кустов, не заметив ее. Она сказала обиженно:
- Почему ты не ищешь меня?
Она все же собрала небольшой букет. От деревьев падали тени, и сосны точно светились.
- И вам не жалко рубить эти деревья? — сказала Ира. — Вы варвары. Наверное, у вас есть даже план, и вы выполняете его на триста процентов.
- Немного меньше.
Мы спустились к озеру по крутому, голому склону. У озера было свежее. Я заметил, что погода начинает портиться. Над горизонтом собирались тучи, и по озеру прокатывалась рябь. Тростник волновался и шуршал. Я посмотрел на тучи. Они приближались очень медленно. Дождя могло и не быть. Мы прошли по берегу к тому месту, где стояла лодка. Лодка действительно была совсем новая. За весь день в нее не просочилось ни капли. Ира стояла в лодке.
- Ты все испортил, — сказала она. — Нужен был плот. Мы переехали бы на плоту. Одни. И костер.
Я возился с цепями. Хозяин боялся, что лодку украдут, и я так привязал ее, что теперь сам не понимал, где кончалась одна цепь и начиналась другая. Пришлось разбить одно звено. Я оттолкнул лодку, и мы поплыли.
Уключины не скрипели. Я проверил и смазал их вечером. Я поднимал весла бесшумно и так же тихо опускал их. От весел уплывали круги, и за лодкой тянулась черная гладкая дорожка. Мы выехали из залива, миновали камыш, и перед нами открылось все озеро. Ветер здесь был сильнее. Я дал Ире пиджак. Она накинула пиджак на себя, подобрала ноги, обняла колени руками и улыбнулась. Я хотел заговорить с ней, но не знал, как начать.
- Курс на зюйд, капитан, — сказала она, смеясь.
Я греб прямо на песчаный мыс. Там было солнце. Я хотел скорее выехать из-под высокого берега и плыть по солнцу. Ира улыбалась и смотрела вокруг.
- Все такое, что даже неправдоподобно, — сказала она.
Правое весло ударилось обо что-то. Я не заметил, как лодка отвернула к берегу. Я оттолкнулся веслом от корня и снова повернул лодку к мысу. На середине озера были волны. Ветер дул порывами. Лодку качало. Но теперь мы уже плыли по солнцу.
- Почему ты не замечаешь этой красоты? — спросила Ира. — Ты какой-то бесчувственный. Это же сказочный берег! Эти камни лежат веками. Они такие холодные. И возле них березки. Они действительно точно девушки. Ты северный камень. Тебе это безразлично?
- Я вижу.
- Это надо чувствовать, — сказала она. — Это нельзя только видеть.
- Возможно, — ответил я.
Я старался грести сильнее, чтобы уйти от ветра и от волн. Неужели Ира не понимала, что я не мог забыть того вечера? Нет, я мог забыть, если бы она сказала хоть одно слово. Какое угодно, но так, чтобы я понял. Я старался не смотреть на нее. Мне было тоскливо. Я смотрел на озеро. Весь левый берег был залит солнцем. Он подымался круто. Небо над ним было совершенно чистое. Деревья упирались прямо в синеву, и казалось, что там, дальше, нет ничего, есть только бесконечное небо и высокие сосны. Сосны были вверху, а у самой воды росли березы и какие-то кусты. Дальше стояли осины, а за ними - черемуха. Черемуха цвела, и половина берега была белая. Я никогда раньше не видел столько черемухи. Я посмотрел на березы. Березы были обыкновенные, такие, как всегда. Осины лучше. Даже сейчас, весной, листья у осин красные, и в этой зелени и черемухе они точно горели. Осин было немного, и они росли одна возле другой. Словно островки. И каждый из этих островков имел свой особенный цвет. У осин, мимо которых мы проплывали, листья были желто-розовые, и, казалось, от них шел розовый свет. А осины на повороте были коричнево-красные. Мы плыли близко от берега, и ветра почти не чувствовалось. Я опустил весла в воду. Лодка тихо качалась на волнах. Ира молчала. Я спросил:
- Тогда был хороший вечер?
Она посмотрела на меня, не понимая.
- Тогда, в день рождения, — сказал я.
Она пожала плечами.
- Я прошу тебя, не нужно об этом, — сказала она. — Мне хочется говорить только о солнце, о цветах, об этих березах. Хочешь, я почитаю тебе что-нибудь? Ты о чем-то думаешь?
Я думал о себе и о ней.
- Нет, — сказал я. — Я смотрю, как ветер...
Мы доплыли до поворота. Мы плыли медленно. Ира читала какие-то стихи и что-то говорила о стихах. Я греб и смотрел на берег. Значит, Ира не придала никакого значения тому, что случилось в тот вечер. Значит, она ничего не поняла. Чего же я ждал весь день? И эти полмесяца? Мне хотелось засмеяться. Я поднял весла и с силой послал лодку вперед. Вода зашумела. Ира качнулась и что-то сказала. Я не слышал ее. Я греб изо всех сил. От лодки пошла волна. Ира смеялась. Я хотел ее видеть, я думал о ней, и я не знал ее. Я пускал «леща», и брызги летели в лодку. Просто ей было скучно, и все. А я хотел сказать ей, что не могу без нее. Показались дома. Я круто повернул лодку к берегу и все разгонял ее, разгонял.
- Мы разобьемся, — сказала Ира. — Какой ты сильный!
Мы пронеслись мимо затопленных деревьев. Они были черные и мертвые, но почему-то еще не падали.
Мы были уже возле берега. Я опустил весла и посмотрел на Иру. Мне хотелось сказать ей что-то очень спокойное и равнодушное. И так, чтобы она поняла. Я встал.
- Ты упадешь, — сказала она.
Она смотрела на меня, улыбаясь.
И вдруг я увидел, что на ней только желтая кофточка, а моего пиджака нет. Я повернулся. На носу пиджака тоже не было. Я посмотрел на воду. Посмотрел вокруг лодки и вперед.
- Что тебе дать? — спросила Ира.
Я смотрел на воду. В пиджаке было все, и последняя отцовская фотография, и комсомольский билет. Лодка стукнулась о берег, заскрипела, и мы остановились. На берег выкатилась волна и подвинула лодку еще дальше. Я увидел озеро от одного конца до другого. Это была большая впадина в земле, затопленная водой и обросшая деревьями. Много воды и волны, потому что ветер.
Мне было все равно, глубоко в озере или нет. Я не думал об этом. Я запомнил: мы плыли вдоль берега метрах в двадцати. Течения в озере нет. Нужно все время смотреть на берег и ориентироваться по деревьям. Я расшнуровал ботинки, снял ботинки и снял рубашку.
- Послушай меня, это невозможно, — сказала Ира. — Это - безумие.
Я отъехал от берега. Никогда раньше меня в воде не сводило.
- Когда я прыгну, держи лодку рядом, — сказал я.
- Это надо быть сумасшедшим.
- Когда ты помнишь последний раз, что на тебе был пиджак?
- Я же сказала тебе, что не помню.
Мне всегда было неприятно открывать в воде глаза. Почему-то глаза резало. Я прыгнул вниз головой и почувствовал, что вода очень холодная. Меня обожгло. Я вынырнул и запомнил, что прямо передо мной тропинка на берегу, а возле тропинки черный кружок от костра. Я набрал воздуха и выпрямил руки. Мне казалось, что я опускаюсь очень медленно, просто вишу в воде - и все. Я коснулся дна и понял, что неглубоко. Открыл глаза и не увидел ничего, только какую-то зеленоватую муть. Не вытерпел и закрыл глаза. Меня вытянуло наверх. Тропинка была напротив, но лодки не было. Я повернулся и увидел, что ее несет ветром. Ира стояла в лодке и что-то кричала.
Я выдувал на спирометре шесть с половиной тысяч. Надо заставить себя быть под водой дольше и надо идти по дну. Если не открывать рта, утонуть невозможно. Тонут потому, что глотают воду. Я снова нырнул и на этот раз увидел дно. Увидел песок, несколько камней и какое-то темное пятно, совсем рядом. Я нагнулся, но это была коряга. Я еще мог терпеть и сделал несколько шагов. Потом оттолкнулся как можно сильнее, и над головой быстро посветлело. Я вынырнул, и снова лодки не было, и я услышал голос Иры.
- Перестань! — кричала она. — Неужели ты не понимаешь, что мне хуже, чем тебе?
Тропинка была теперь чуть сзади.
- Подгреби ко мне. Ты слышишь? — крикнул я и лег на спину.
Я дышал и чувствовал, как воздух входит в меня, и чувствовал, что вода стягивает тело. Надо мной было чистое небо. Я смотрел в небо и как-то внезапно ощутил, что вода безжалостна, что ее много, а я лишь щепка среди этой воды. Я нырял еще и еще и, когда почувствовал, что больше не могу, поплыл к лодке. Я плыл лениво. Ухватился за борт лодки, повис. Потом подтянулся и влез в лодку.
- Я прошу тебя, перестань, — сказала Ира. — Я смотрю и не знаю, покажешься ты или нет.
- Лодка все время уходит, — сказал я.
Ира держала полотенце. Я понимал, что нужно встать и обтереться, но я сидел и смотрел на озеро.
- Лодка уходит, и приходится до нее плыть, — повторил я.
- Ты рискуешь жизнью, — сказала Ира. — Оденься. Ты сам не понимаешь, что ты делаешь.
- Если лодка рядом, можно отдохнуть. Ничего не случится.
- Но я не умею грести. Как ты не понимаешь?
Я чувствовал - по мне бегут струйки воды. Самое главное - добраться до камышей. А там, в камышах, полтора метра. Солнце уже наполовину скрылось за деревьями. Я взялся за весла и подогнал лодку к тому месту, где вынырнул последний раз. Здесь, на повороте, волны были большие.
- Я не хочу этого видеть, — сказала Ира. — Мне страшно, понимаешь, мне жутко.
Я уже не думал о том, холодно мне или нет, сведет ногу судорога или не сведет. Я знал: мне нужно нырнуть, достать дно, увидеть дно, пройти по дну, оттолкнуться, схватить воздуха и нырнуть снова. Я только не мог спокойно смотреть на лодку. Ее каждый раз уносило, и мне приходилось тратить время, чтобы плыть к ней и потом возвращаться. У осин я попал в яму. Это была холодная и затягивающая пропасть. Я не достал дна, но остановился, почувствовав, что вода ледяная. Открыл глаза. Вокруг было черно. Я рванулся вверх. Надо мной не было света. Рванулся еще. Вода не кончалась. Воды было много, и уже не было сил, чтобы держать рот закрытым.
Я влез в лодку и сидел, не ощущая ничего, кроме разрывающей пустоты внутри. Мне казалось, что наступили сумерки. Но потом посветлело. Я не слышал, что говорила Ира. Я боялся, что меня вырвет. До камышей было далеко. Но большой камень уже совсем рядом. Я спросил, который час, и посмотрел на камыши.
Я старался сдержать дрожь.
Ира сказала:
- Ты весь синий. Тебе надо одеться.
Она не понимала меня, и я чувствовал, что не могу ничего объяснить ей. Надо было браться за весла и грести снова. Не нужно было ничего говорить. Мне трудно было выпрямиться и поднять руки. Хотелось посидеть еще. Ира наклонилась, и я увидел ее лицо сбоку.
- Это для газет, — сказала она, перекладывая сумку. — Это газетный подвиг. Подвиг ради бумаги. Только ради бумаги.
Я ждал ее слишком долго, и я не хотел верить, что все случилось вот так. Она была очень далеко от меня, хотя мы сидели в одной лодке. И я не выдержал.
- Это не для газет. Я должен отвечать перед ребятами. И у нас нельзя сказать: утопил - и все. Я должен достать, принести, и тогда пусть что угодно.
- Это странная философия.
- Это не странная. Ну, пускай странная, но неужели ты совсем не умеешь грести? Мне же нужно.
Она выпрямилась.
- Почему ты кричишь на меня? Кто тебе дал право кричать на меня?
Мы смотрели друг на друга.
- Я не кричу, — сказал я. — Я объясняю.
- Я не хочу с тобой разговаривать. — Ее лицо побледнело. — Высади меня сейчас же на берег. Высади и делай все что хочешь.
- Но ведь этим веслом так, а этим так, и все. И не надо уметь.
- Я уже сказала, — выговорила она медленно. — Высади меня на берег. Я уезжаю.
Я увидел, что глаза у нее застывшие и холодные.
Я натянул брюки и рубашку. Я греб медленно, и, когда наконец мы оказались на берегу, я понял, что она действительно уедет. В лодке остались цветы. Они были рассыпаны. Я собрал их и протянул ей. Она взяла и, не повернувшись, сказала:
- Спасибо.
Был только этот вечер и эти поля, пустые и точно брошенные, и не хотелось верить, что придет еще завтра.
Мы шли и молчали. Мы шли по старой дороге. Снова поднялся ветер. Он дул в спину, и до нас долго доносился глухой шум озера и шум деревьев. В темноте кусты казались твердыми и круглыми, а дорога была черная. Из-под ног вылетали какие-то птицы и, взлетая, кричали визгливо и неожиданно громко. На горизонте еще была узкая светлая полоса, и я видел Ирин силуэт. Она подняла с земли прутик. Шла очень прямая и размахивала им. Мы шли здесь утром.
Возле леса ремонтировали дорогу. Под ногами шуршала галька. Неподалеку горел костер, и вокруг него сидело несколько человек. Мы молча прошли по лесной дороге. Деревья стояли хмурые и настороженные.
Лес кончился. На краю поля возник слабый свет. Там был поселок. Мы шли быстро и уже подходили к старой березе, от которой начиналась прямая тропинка. Слева вырос сарай. Мы отдыхали возле него утром. Сейчас он был темный и тихий. Ира подошла к березе, она прошла березу, и я окликнул ее. Она не повернулась. Сделала еще несколько шагов и остановилась.
- Я дойду здесь сама. Я найду здесь.
Между нами была береза.
- Я провожу, — сказал я и остановился тоже.
Она не ответила. Мы пошли дальше. Тропинка оборвалась. Поселок был уже рядом. Я догнал ее.
- Ира...
- Не нужно, — сказала она. — Очень хорошая ночь. Пусть все так и останется.
- Мы скоро придем.
- Просто ты очень слабый, — сказала она. — Вот и все. И ты похож в этом на всех остальных. Очень легко дышится. Посмотри, это удивительные звезды. Вот эти, над головой.
Я не запомнил, какие тогда были звезды. Мы пришли и немного постояли на платформе. Ира молчала. Я молчал тоже. Мы стояли на краю платформы, и я почему-то смотрел на Ирины туфли. Они были такие же, как утром, чистые и белые, точно мы не прошли много километров и не бродили полдня но лесу. Подошел поезд. Свет в вагонах был тусклый и желтый.
- Я буду рада твоему звонку, — сказала она, протянув мне руку.
Прежде мы не прощались за руку. Рука у нее была маленькая и холодная. Ира поднялась на площадку. Я хотел остановить ее, но она уже вошла в вагон. Я потерял ее из виду. Проводник что-то крикнул мне. Он кричал, чтобы я отошел от вагона. Поезд тронулся. Он отъезжал медленно, и я видел вещи, людей и пустые коричневые полки. На последнем вагоне горел красный сигнал. Поезда не было, был только этот красный сигнал. Потом не было и сигнала. Я стоял один. Стоял и смотрел в пустоту.
Глава вторая
Я понимал, что мне будет плохо, и старался об этом не думать. Предполагал всякое, вышло самое худшее: меня исключили из комсомола.
Собрание было в клубе. Я шел в клуб, и лил дождь. Дождь лил и во время собрания. Я сидел у окна и видел, как капли бежали по стеклу бесконечными мутными ручейками. Но сейчас светило солнце. Оно заходило на чистом небе, и в той стороне, где был закат, чернели фабричные трубы и ясно был виден высокий портовый кран. Мост Строителей казался каким-то бесформенным и непрочным, Дворцовая набережная точно просвечивалась. На стеклах горел желтый огонь. Я сидел возле Петропавловской крепости на старом деревянном щите, который лежал у самой воды, — на нем, видимо, загорали, — смотрел на мост, на лодки, качающиеся на волнах, на речные трамваи, на огромную неподвижную баржу, черную и тупоносую. Здесь было спокойно и тихо.
Прошел буксир и поднял волну. Волны катились с шумом, и одна, самая большая, дошла до щита. Я не убрал ноги. Вода просочилась в ботинки. Наверное, она попала в дырки для шнурков. На песке остались гнилая щепка и большая сизая капля мазута. Буксир был маленький, весь закопченный. Он подошел к мосту, и я видел, как кочегар нагнул трубу, чтобы она не стукнулась о мост.
Хорошо, что на этом собрании не было Нюры. Нюре дали путевку, и она уехала в санаторий.
Я посмотрел на мост. Буксир ушел. По воде волочилась, рассеиваясь, полоса дыма.
Я ждал этого собрания шесть дней, и мне все уже было безразлично. Но я не ожидал, что им придет в голову выгонять меня из цеха. Это начал Юрка Кондратьев. Он сказал, что невозможно работать, когда рядом есть такие люди, как я. Токарный участок переходит на групповой метод, и никто не согласится простаивать из-за одного. Он стучал по трибуне кулаком и требовал, чтобы я сам сказал, можно меня держать в цехе или нет. То, что он говорил, было несправедливо. Я работал не хуже, чем он, и даже лучше, чем он. Я не думал, что его поддержат. Он спросил:
- А в бригадах коммунистического труда могут быть такие, как ты?
Я молчал.
- И, наверно, все, что мы говорим, для тебя как горох об стену! — сказал он. — И на улице интереснее.
Мне нужно было молчать. Но я сказал:
- То, что ты говоришь, как горох!
- Тебе, видимо, даже нравится, что мы три часа сидим здесь из-за тебя?
- Как в кино, — сказал я. И, кроме этого, я не сказал больше ничего. Но все разозлились.
Я услышал голоса. Рядом стояли парень и девушка. Они пускали камни по воде. Девушка держала туфли в руке, и каждый раз, когда она бросала камень, один туфель падал. Они смеялись.
Меня отстоял Алексей Иванович. И еще Васька Блохин. Меня оставили в цехе.
На волны можно было смотреть не отрываясь. Они набегали спокойно и плавно. Девушка и парень ушли. Солнце село, но все еще было светло. Начинались белые ночи.
- Тебя исключили не за то, что ты потерял билет, — сказал Алексей Иванович, когда мы вышли из клуба. — Тебя исключили за то, что зарываешься.
Волны, набегая, шумели. Я смотрел, как они ползут на песок и пенятся. Я был не виноват. Все вышло как-то само собой. Я не виноват. Я мог встать и крикнуть это во весь голос. Но меня все равно никто не услышал бы. Сейчас никто. Только эти деревья, этот песок и вода. Все было не так просто, чтобы об этом можно было встать и рассказать.
Мне было еще хуже, чем на собрании. Я встал, поднял щепку и бросил ее в воду. Щепку снова выкинуло на берег. Наверное, я был похож на эту щепку. Выброшенный и никому не нужный.
Я поднял голову. На той стороне Невы горели огни. Я не заметил, когда они зажглись. Я подумал, что сюда хорошо приходить по вечерам и смотреть на город. На эти электрические фонари, на мосты, на Биржу, на Адмиралтейство, на громадный купол Исаакиевского собора. В темноте он был еще больше, чем днем. Я видел, как по набережной одна за другой шли машины. Город жил своей жизнью, и никому не было дела до меня.
Я повернулся и пошел по аллее. Деревья стояли темные и неподвижные. Мне некуда было идти и нечего было ждать. Я увидел телефонную будку. Она была свободна. Я хотел уйти, но стоял и смотрел на будку, на круглый блестящий диск, сверкавший за стеклом. Это очень страшно - быть одному и знать, что ты никому не нужен. Я нашел монету и набрал номер. Гудок был знакомый, точно такой, как всегда. Я не знал, зачем звоню. Голос Иры раздался неожиданно.
- Алло! Я слушаю вас.
Я держал трубку в руке. Ира что-то говорила. Я нажал на рычаг. Монета звякнула и почему-то выпала. Я постоял немного, потом вышел. Шел и чувствовал еще большую пустоту, чем прежде. Стало темнее. Я сел на скамейку и смотрел, как вдоль парка идут трамваи. Они шли очень быстро, на мгновение освещали деревья, кусты, скамейки, потом исчезали вдалеке, оставив после себя темноту. Если бы я мог раствориться, или исчезнуть, или спрятаться так, чтобы меня никто не видел! Но я не мог никуда исчезнуть, мне нужно было идти в общежитие. Было уже поздно. Скамейки стояли пустые. Я встал и дошел до Театра Ленинского комсомола. И только потом повернул обратно.
Вахтерша не узнала меня. Она подняла лампу, когда я проходил мимо.
- С какого этажа?
Я сказал, что с четвертого.
Лешка сидел на кровати в одних трусах и читал книгу. Алексея Ивановича не было. Матрац на его кровати был свернут, и прямо на сетке лежали рулоны обоев. Когда я вошел, Лешка отложил книгу. Я заметил, что в комнате очень чисто и пол натерт до блеска. На подоконнике стояла бутылка красного вина. Я снял пиджак, повесил его на спинку стула. Мне очень хотелось выглядеть твердым и спокойным. Лешка поднял голову. Я увидел, что глаза у него внимательные и какие-то настороженные и серьезные. Я понял, что он уже все знает. Мне ничего не нужно было в чемодане, но я нагнулся, достал его и начал перебирать вещи. Сверху лежала логарифмическая линейка. Лешкина линейка. Я сунул ее глубже, на дно, под газету. Закрыл чемодан и ногой толкнул его под кровать.
- Давай, чтоб не стояла, — сказал Лешка.
Он взял с подоконника бутылку и поставил на стол. Я не знал, что сказать. Я понимал все. Лешка был настоящим и верным другом. Он специально купил эту бутылку, не ложился и ждал меня. И может быть, Алексей Иванович тоже ушел специально, чтобы мы были одни.
- Садись давай, — сказал Лешка.
Он открыл бутылку, достал два стакана. Потом вынул из тумбочки свежие огурцы и кусок колбасы.
- В столовой достал, — сказал он. — Только дрянь. Парниковые. Нюра пишет, что у них там есть уже настоящие. Письмо сегодня прислала. Привет тебе. — Он приподнял подушку, достал конверт и протянул мне. — Почитай, если хочешь.
Я покачал головой. Встал и подошел к окну. Я слышал, как Лешка наливал вино в стаканы, передвигал на столе тарелки, нарезал хлеб.
- Никогда этого не покупал, — сказал он. — «Акстафа» какая-то. Ну, давай.
Я не ответил ему.
- Все так и будешь? — спросил Лешка.
Я начал стягивать с себя рубашку.
Лешка молчал. Лешка смотрел куда-то на край стола, волосы у него были взлохмачены, губы сжаты, а лицо стало какое-то квадратное и неподвижное. И весь он был точно застывший и затвердевший, и я видел, как на плечах у него н на руках двигаются бугорки мышц. Я видел все, но я молчал. У меня больше не было слов, и мне хотелось скорей погасить свет. Я раздевался и заставлял себя аккуратно складывать вещи. Лешка сидел все так же. Перед ним стояли два полных стакана. Я лег, отвернулся к стене и сразу же пропал. Меня больше не было. Был маленький человечек, весь расплющенный, избитый, сжавшийся в комок, беспомощный, но еще живой. И этот человечек теперь был тихий, и с ним можно было сделать все.
Ночью весь мир отодвинулся куда-то очень далеко. В комнате было серо. Настольная лампа на этажерке казалась чьей-то головой. Ножка лампы блестела тускло и безжизненно. Блеск этот был холодный и, словно это был чей-то глаз, жестокий и немигающий.
Утром я проснулся другой: злой и сильный. Я был один в комнате. Не вставал и долго смотрел в потолок. На столе все так же стояла бутылка и два полных стакана. Вся стена была залита солнцем. Я посмотрел на бутылку, на стаканы и подумал, что мне наплевать на них всех. И на Ваську Блохина, и на Юрку Кондратьева, и на все собрание. Они хотели выгнать меня из цеха, но у них ничего не получилось. Мне дали отпуск, и я все равно буду сдавать экзамены. Пусть они все даже перевернутся и ходят на головах. Ничего особенного в моей жизни не произошло. Все в порядке. Нужно быть настоящим мужчиной, решительным и совершенно каменным. И нужно улыбаться и не показывать виду.
Мне нельзя было лежать. Мне нужно было двигаться, делать, действовать. На часах было десять, солнце со степы уже опустилось на пол. Я встал и побежал в душ. Отвинтил ручку до конца, постоял под ледяной водой и вытерся полотенцем так, что мне стало жарко. Подгладил свой костюм, завязал у зеркала галстук, достал из чемодана линейку, спрятал ее в карман, закрыл дверь и спустился вниз.
На улице было тепло. Девушки ходили в летних платьях, и в скверике на скамейках сидели старушки. Я шел и насвистывал. Я чувствовал себя чистым, сильным, хорошо одетым. Мне захотелось позавтракать в каком-нибудь дорогом кафе. Я поехал на Невский.
В кафе было уютно и чисто. Официантка подошла ко мне и улыбнулась. На ней был кружевной передник и какие-то модные, красивые туфли.
- В это время у нас всегда бывает пусто, — сказала она.
- Да, — сказал я.
- Особенно сегодня. Сегодня совсем лето. Никому не хочется здесь сидеть.
- Да, день что надо...
Когда она принесла мне счет, мы снова поговорили о погоде. Я дал ей на чай.
Я позавтракал, не пожалев денег, и теперь чувствовал себя не только чистым и сильным, но и совершенно спокойным. Все, что было вчера, теперь казалось чем-то очень далеким и слишком неприятным, чтобы вспоминать о нем. Лучше не вспоминать, тогда видишь солнце, витрины магазинов, яркие афиши и видишь, что рядом идут красивые девушки и смотрят на тебя очень долго и как-то мягко и ласково.
Я решил, что пройду несколько кварталов по Невскому и только потом поеду в школу. Было приятно идти не торопясь, разглядывать прохожих и делать вид, что ты тоже никуда не спешишь. Я смотрел на толпу, на сверкающий шпиль Адмиралтейства и думал о том, что, пока меня не было, Невский стал еще лучше. И он совсем на изменился оттого, что меня выгнали из комсомола. Все осталось на своих местах. Никто от меня не шарахается и пальцами в меня не тычет. Если мне очень захочется, я смогу познакомиться с какой-нибудь девушкой и, может быть, даже сумею понравиться ей. Я шел, рассуждал и уверял себя, что на душе у меня стало совсем спокойно и даже легко. Я переходил Садовую и вдруг рядом услышал скрежет трамвая и чей-то крик. Я выпрямился и увидел, что все вокруг смотрят на меня, что подо мной рельсы, что вагон тормозит, но остановиться уже не может, что лицо у вагоновожатого перекошено, глаза вытаращены, пуговицы у него на куртке металлические, блестящие, начищенные, и вагон красный, новый и очень большой. Я прыгнул вперед, и вагон проехал. Я стоял и молчал. Толпа стала расходиться. Я пошел дальше и неожиданно почувствовал, что мне снова тоскливо и нехорошо. День уже стал не тот, и улица слишком шумная, веселая и какая-то беззаботная.
Школа стояла пустая. Лестница, коридоры и классы - все было брошено и никому теперь не нужно. В канцелярии сидел директор. Весь стол перед ним был завален бумажками. Он сортировал их и раскладывал по папкам.
Я вошел, он кивнул мне. Потом сказал, что школа сегодня выходная, но учительницу он, может быть, вызовет по телефону, она живет рядом.
- А если вы придете завтра?
- Завтра я хотел прийти тоже, — сказал я твердо.
- Ну, хорошо. Хотите - сидите здесь, а хотите - идите в класс.
Я пошел в класс. Парты были маленькие, я не мог влезть ни в одну. Сел верхом на первую парту, достал из кармана линейку и начал изучать ее. Я подумал, что, может быть, в этом классе мне придется писать работу и, может быть, я провалюсь. Если провалюсь, буду сдавать осенью.
Но надо не проваливаться и назло всем получить аттестат с пятерками.
Дверь открылась. Я увидел девушку с пушистыми и светлыми волосами.
- Вы на консультацию? — спросила она и тут же смутилась и покраснела.
Я соскочил с парты. Она закрыла дверь. Я понял, что это учительница. Она была очень молодая.
- Я пришел не в тот день, — сказал я.
- Ничего. — Она положила на стол автоматическую ручку и тетрадь.
- Я вас оторвал от дел?
- Меня зовут Людмила Васильевна, — сказала она. — Что у вас?
Я увидел, что она старается не смотреть на меня и старается говорить строго. Почему-то мне захотелось улыбнуться. Она была очень хорошенькая и, наверное, сама понимала, что строгий тон у нее не получается. Она кусала нижнюю губу и что-то быстро писала в тетради.
- У меня линейка, — сказал я и положил на стол свою линейку. — Экзамены будете принимать вы?
- Нет, будет комиссия.
- И вы тоже?
- Вы совсем не знакомы с линейкой?
- Нет, Людмила Васильевна, — сказал я. — Совсем.
Она взяла линейку и начала объяснять. В ушах у нее были какие-то необыкновенные серьги, маленькие и сверкающие, точно капельки росы, и совсем незаметные, чуть голубоватые. И глаза у нее тоже были голубые.
- Вы слушаете? — спросила она.
- Да, — сказал я. — Линейка служит для возведения в степень, извлечения корня, для того, чтобы умножать и делить.
Она посмотрела на меня внимательно. Мы занимались часа два. Я подумал, что она такая же красивая, как Ира. Я закрыл форточку. Форточка хлопала. Стекло было пыльное, и на нем следы дождя. Мы кончили заниматься, и я, неизвестно для чего, еще раз вытер доску. Доска и так была чистая.
- Но самое главное - упражняться, — сказала она, сворачивая свою тетрадь. — Считайте в любую свободную минуту. В автобусе, в трамвае.
Мы вышли из класса.
- Завтра тоже будете вы? — спросил я.
- Оставьте тряпку, — сказала она. — До свидания!
Я вернулся в класс и положил тряпку. Вышел в коридор. В коридоре уже никого не было.
На улице стало еще жарче. Солнце пекло, и пахло асфальтом. Можно уже было ходить без пиджака. Из-за угла выехал автобус. Я побежал на остановку. Шофер немного обождал меня. Дверь была открыта. Я сел у окна, протянул кондуктору рубль и посмотрел на школу. У подъезда девочки играли в мяч.
- Какой вам билет? — спросила кондуктор.
Я повернулся и посмотрел на свой рубль. Я сам не знал, какой мне нужен билет. И куда я еду. Я вскочил в автобус машинально. Я смотрел на свой рубль, на длинные, покрытые красным лаком ногти. Я был человеком без дома. Меня никто не ждал, и я мог ехать, а мог и не ехать.
- Одну остановку, — сказал я.
Я вышел из автобуса, немного прошел и увидел столовую. Решил, что надо поесть. Можно сидеть, есть, смотреть в окно - и все.
Девушка вынесла подносы. Я взял один, с него потекла вода. Все брали подносы и становились в очередь. В этой столовой официантов не было. Я тоже встал в очередь, и все вместе мы пошли вдоль стойки. Очередь была длинная. Я взглянул на часы. Потом подумал, что могу позвонить Ире. Это даже нужно: позвонить ей, увидеться и выяснить все.
- Какой вам суп? — спросила раздатчица из-за стойки.
- Все равно, — ответил я.
- Следующий, — сказала она.
Очередь двинулась, и я остался без супа. Это разозлило меня, но было поздно.
- Что вам? — спросила другая раздатчица.
Я взял сосиски, компот и зачем-то еще бутылку пива.
Столики были маленькие, но удобные и чистые. Я ел медленно. Потом отодвинул тарелки, сидел и смотрел в окно. Я решил выработать план. Кто-то стоял за моей спиной. В столовой не было мест. Мне пришлось уйти.
Стенка над телефоном была грязно-коричневая и вся исписана номерами. Раздался гудок. Один номер был обведен фиолетовым сердцем с фиолетовой стрелой. Под номером стояло: «Нина». Трубку сняли. Голос был не Ирин. Значит, вернулась тетка. Я сказал быстро и твердо:
- Ирину, пожалуйста.
Тетка не узнала меня. Она и не могла узнать. Я сам не ожидал, что у меня получится такой голос, грубый и требовательный. Тетка сказала, что Иры нет.
- Когда она будет? — спросил я.
Тетка сказала, что через полчаса. Я чувствовал, что она говорила и улыбалась. И слышал еще чей-то мужской голос и смех.
Я вышел из будки. Надо было куда-то деть полчаса. Огляделся и увидел напротив закусочную. Я подумал, что неплохо выпить вина. Даже нужно немного выпить. Пересек улицу и вошел. Вдоль стен тянулись белые автоматы. Несколько человек стояло у буфета. Я обошел автоматы и прочел наклейки. Мне хотелось чего-нибудь покрепче.
- Возьмите «Волжское», — сказала буфетчица. — И недорого. Его все берут.
Вино было холодное, но какое-то горьковатое и неприятное. И чем-то отдавало. Мне казалось, что стакан слишком большой и тонкий. Я пил с трудом. Выпил и постоял у окна. Вино не действовало. Я купил еще один жетон и медленно, по глотку выпил второй стакан. Во рту осталась горечь. На подоконнике стояло блюдце с куском соленого сухаря. Я отодвинул сухарь и поставил на блюдце свой стакан. Посмотрел на часы.
Теперь у телефона была очередь. Я подумал, что опять подойдет тетка. Я не люблю тетку. Она делает вид, что все знает и умнее всех. Если она опять скажет, что Иры нет, я буду звонить каждые тридцать минут. Я вошел и захлопнул дверь посильнее. Диск двигался быстро. Щелчок был слишком громкий и какой-то необычный. К телефону подошла сама Ира, но я почти не слышал ее. Голос был слабый и очень далекий. И почему-то прослушивалась трансляция. Пел хор.
- Да, я! — крикнул я.
Ира что-то ответила. Я слышал ее голос и слышал хор.
- Ничего не слышу. Здесь нет другого телефона!
- Встретимся в десять...
- Нет, сейчас.
Хор звучал очень сильно. Мне казалось, что Ира смеялась.
- У «лягушатника», — сказала она.
- Где?
- «Мороженое», напротив Казанского. Полчаса назад звонил не ты?
- Нет, — соврал я, неизвестно для чего.
- Обожди минутку.
- Я ничего не слышу, — сказал я.
- . . . . . .
- Ничего не слышу.
Я повесил трубку.
Я вышел из будки. Она дойдет до этого «лягушатнике» за пятнадцать минут. Я могу успеть на метро. Но если я не хочу, я могу не успеть. Не садиться в автобус, и не идти в метро. Прийти, и ее там уже не будет. Увидеть улицы, стены и не останавливаться и идти дальше. И потом - все. И словно ее никогда не было. Она спросила: не я ли звонил полчаса назад. Она ждала, что ей позвонит еще кто-то. Мне все равно. Теперь все равно.
Я завернул за угол, пересек площадь и вошел в метро. Хорошо, что свежий воздух, просторно и тихо. Поезд пришел пустой, весь сверкающий и нарядный. Приятно было сидеть и смотреть, как несутся провода и огни, и знать, что ты под землей, а огромный город наверху.
Ира стояла у витрины и рассматривала галстуки.
- Ну, как галстуки? — спросил я, подойдя сзади.
Она обернулась, потом улыбнулась и показала на часы.
- Это первый раз: пятнадцать минут.
- Мы пойдем есть мороженое?
- Ты торопишься?
- Не очень. Но мне хочется зайти куда-нибудь и посидеть.
Она смотрела на меня, словно не понимая, потом повернулась, и мы пошли.
Был только один свободный столик, справа у самого входа.
- Не пойдем туда, — сказала Ира. — По-моему, освобождается в углу.
- Какая разница? — сказал я.
- Как хочешь!
Мы сели за столик у входа. Ира спрятала сумочку за спину, сплела пальцы и положила руки на стекло.
- Тебе нравится здесь?
Мне нравилось. Вокруг все было зеленым: и стены и диваны. Свет был неяркий, и было прохладно.
- Как в холодильнике, — сказал я. — Все замороженное: и пальмы, и официантки.
Над головой Иры работал вентилятор. Волосы ее шевелились. Я встал и выключил вентилятор.
- Он не мешает, — улыбнулась Ира.
- Что тебе взять?
- Я не понимаю тебя. Почему такой тон?
- Ты хорошо выглядишь, — сказал я. — Эй, девушка!
Официантка прошла мимо. Она остановилась у соседнего столика. Где-то справа зашипела пластинка. Это был Ив Монтан. Ира смотрела на меня.
- Это «Дорога олив», — сказал я. — Ты любишь «Дорогу олив»? Мне лично нравится «Дорога олив». Девушка!
- Что с тобой происходит, Саша? — тихо спросила Ира.
- Со мной?
- Ты не должен так разговаривать.
- Что вы будете заказывать? — спросила, подойдя, официантка.
Я повернулся и сказал:
- По двести граммов разного и два крепких коктейля.
- Нет, я крепкий не буду, — сказала Ира. — Простой воды. Минеральной.
Официантка остановилась. Громко выстрелила пробка.
- Пожалуйста, воду тоже, — сказал я.
Ира поглядела на меня пристально. Мы смотрели друг на друга.
- О чем ты думаешь? — спросила она.
- Так... хороший вечер.
Ира улыбнулась.
- Ты думаешь, что я буду пить крепкий коктейль? Ты об этом думаешь?
- Да, примерно.
Я хорошо видел ее лицо. Она молчала. Я смотрел на нее. Она перестала улыбаться и наклонила голову.
- Я понимаю, — проговорила она, — Я все понимаю. Только не нужно этого тона.
Мне показалось, что глаза у нее стали другие. Я никогда раньше не видел у нее таких грустных глаз. Я отвернулся н увидел, что официантка наконец несла наше мороженое, держа на вытянутых руках поднос с вазочками и бокалами. Я встал и помог ей. Нельзя было больше сидеть за пустым столом.
- Скажите, еще будут заводить пластинки? — спросил я. — Вы не можете попросить? Что-нибудь веселое.
Девушка улыбнулась. Она ушла, и снова поставили ту же «Дорогу олив». За соседним столиком громко смеялись.
- Он слишком крепкий, — сказала Ира.
Она смотрела на меня, держа в пальцах соломинку, как папиросу. Коктейль был невкусный. Я не понимал, что в нем хорошего. Ира поставила на середину стола свой пустой бокал.
Я молчал.
Ира смотрела мне прямо в лицо.
- Ты очень плохо обо мне думаешь, Саша, — проговорила она.
У меня было такое ощущение, что все куда-то валится. И я валюсь тоже. И этому не будет конца. Я повернулся. У входа стояла очередь.
- Расскажи мне, что у тебя случилось.
- Ничего не случилось, — ответил я. — Ты будешь что-нибудь еще?
- Уйдем отсюда. Я прошу тебя.
Подошла официантка. Я сказал, что хочу расплатиться.
- Разве нехорошее мороженое? — спросила она. — Мне даже неудобно брать у вас деньги.
- Оно хорошее, — сказал я.
Швейцар открыл нам дверь.
Мы вышли на улицу и пошли в густой толпе.
Я посмотрел на рекламу.
- Это - новое кино? — спросил я.
Она взглянула вверх, на вспыхивающие в темноте буквы. Потом на меня.
- Если бы ты знал, как я боялась за тебя! Я не могла простить себе, что уехала в тот вечер. Ты не должен был отпускать меня. До сих пор вижу твое лицо и это озеро.
Мимо проехал трамвай, и свет замелькал по ее лицу.
- Мы можем успеть на последний сеанс, — сказал я.
- Я каждый день видела эту лодку и тебя в ней. Я не могу простить себе. Я говорю - и чувствую, какими пустыми иногда бывают слова. Ты больше не веришь мне?
- Ты не хочешь в кино?
- Если бы можно было что-то сделать, чтобы ничего этого не было. Ты теперь не веришь мне?
Мы остановились. Мы стояли на перекрестке.
- Скажи мне: мы не будем больше вспоминать об этом? Не будем?
Она искала мои глаза. Я взял ее под руку.
- А зачем это?
Она сжала мою руку.
- Я хочу, чтобы все началось снова. Все, все. Я хочу, чтобы мы встретились. Прямо сейчас, на старом месте. Возле Казанского. Это будет - как первое свидание. Хорошо? Ну, скажи: хорошо.
- Мы пойдем туда? — спросил я.
Она взяла меня за руку и засмеялась.
- Ты пойдешь по этой стороне, а я по той. И когда будет половина, мы встретимся. Хорошо?
Я посмотрел на часы. До половины оставалось десять минут.
Она кивнула головой и снова засмеялась. Повернулась и быстро пошла через улицу. Я смотрел на нее. Она остановилась и крикнула:
- Только нельзя опаздывать!
Она стояла в потоке машин. Я подумал, что сегодня она какая-то непохожая на себя.
Она шла очень быстро. Потом побежала и затерялась в толпе. Раз или два я еще видел ее.
Я шел медленно, и, когда пришел, Ира уже стояла возле памятника. Она была тонкая и стройная, и фигура ее вырисовывалась, как силуэт, на фоне яркого света прожекторов, освещавших собор. Я шел к ней. Она сделала шаг ко мне.
- Здравствуйте, — сказала она. — Я жду вас. Я ждала вас очень долго. Так долго, что вы не можете себе представить.
Она неожиданно обняла меня и прижалась ко мне.
- У вас все хорошо? Да?
- Да.
- Для первого раза я, наверное, позволяю себе слишком много?
- Нет.
- Ты простил меня?
- Нельзя больше об этом говорить. Мы ведь условились.
Она взяла меня за руку, и мы пошли по темным улицам куда-то очень далеко, где было пусто и тихо. Накрапывал дождь. Потом дождь кончился. Мы сидели в каком-то скверике, на влажной и сломанной скамейке. Я рассказал Ире о собрании. Она молчала. Она сидела согнувшись, поставив локти на колени и положив подбородок в раскрытые ладони. Мы были очень близко друг от друга и только вдвоем в мутном и мокром воздухе, безмолвном и неподвижном, пахнущем травой и сиренью. Деревья, кусты и дома, окружавшие нас, были серыми пятнами. Но ветви и листья над головой были ясно видны. Они были черные, и оттуда иногда падали тяжелые холодные капли. Я сидел и смотрел прямо перед собой на газон, на котором белели какие-то крошечные цветы. Ира молчала. Где-то очень далеко проехал трамвай. Я повернулся и увидел, что лицо у Иры закрыто ладонями. Я наклонился ближе и понял, что она плачет. Это было неожиданно, я никогда раньше не думал, что она может плакать. Я не знал, что делать и что сказать. Я встал и присел возле нее на корточки, взял ее за руки. Руки у нее были мокрые.
- Что случилось, Ира? — спросил я.
- Ничего, — сказала она. — Я не могу тебе этого объяснить. Не обращай на меня внимания. Дай я уйду.
Она встала. Я оторвал ее руки от лица. У нее все лицо было в слезах, и она улыбалась.
- Ну, я буду смеяться, если хочешь, — проговорила она. — Это пройдет. Не смотри на меня. Дай мне платок.
Она вытирала лицо, и смеялась, и всхлипывала. Потом взглянула на меня, улыбаясь.
- Уже рассветает, — сказала она. — Сколько сейчас времени?
Я посмотрел на часы. Она поправила волосы, и мы пошли по влажной и хрустящей дорожке к черным железным воротам, которые были открыты настежь и блестели, как новые. Там, впереди, была улица, пустая вся, в сером сумраке и незнакомая.
Мы пошли по этой улице. В парадных спали дворники, и их не будил даже стук наших каблуков.
- Не иди так быстро... Нет, пойдем быстрей. Тебе нужно хоть немного поспать, — сказала она.
- У меня сейчас отпуск.
Мы миновали какую-то площадь, покружились в переулках и оказались возле Кировского театра. Мне совсем не хотелось спать. У ворот стояла машина, груженная большими железными баками с мусором. Она перегораживала дорогу. Мы свернули на мостовую. Двое мужчин вынесли из двора бак.
- Ты знаешь, Саша, я сейчас подумала: а что, если тебе уйти с этого завода?
- Ты думаешь?
- А ты?
- Я не знаю.
- Ты подумай сам.
На улице Дзержинского чинили троллейбусный провод. Рабочий стоял высоко на площадке, поднятой над машиной. Один конец провода спускался на землю. Рабочий торопился. Он что-то кричал шоферу, а шофер медленно подавал машину вперед.
По улице Герцена проехал автобус. Он был большой, неуклюжий и шумный. Какой-то удивительно шумный в это раннее время. Как будто кем-то разбуженный и рассерженный, поднявшийся раньше, чем нужно.
Когда мы подошли к дому Иры, стало совсем светло. Я очень давно не был на этой улице. Я посмотрел вверх и увидел, что в окнах ее квартиры горит свет. Свет горел во всех трех окнах.
- Это Оля. Она всегда забывает, — сказала Ира. — Мне грустно, что ты сейчас уйдешь.
Она повернулась и положила руки мне на плечи. Я смотрел вверх и почему-то очень ясно увидел тетку, которая спит одна в пустой квартире с непогашенными лампочками.
- Я не хочу, чтобы ты уходил.
Я наклонился и поцеловал ее. Мы условились, что встретимся вечером. Она проводила меня до угла. Я прошел целый квартал, повернулся и увидел, что она все еще стоит. Она показывала рукой вверх. Я посмотрел. Края облаков были розовые. Вставало солнце.
У меня не было сна ни в одном глазу. Мысли набегали и сменялись одна другой. Ира, может быть, и права. Если уйти, все станет проще. Мне надо уйти. Я шел быстро. Я чувствовал себя сильным, неутомимым и злым.
Через Дворцовый мост еще не пускали. Мне пришлось ждать минут двадцать, пока его сведут. Я стоял, облокотясь на парапет, и смотрел в воду. Она пенилась у быков и неслась стремительно и бесконечно.
Глава третья
Я хотел уснуть, но не смог. Сходил в душ и часа три просидел за геометрией. Потом почувствовал, что голова больше не работает. Завинтил ручку, встал, подошел к окну и посмотрел на улицу. Часы, которые висели на углу, показывали двадцать минут десятого. Женщина везла тележку с мороженым, и, как всегда, по асфальту бродили голуби. Я был в комнате один. Алексей Иванович работал, а Лешка вместе с сестрой уехал на вокзал за билетами. Лешка уходил в отпуск. Я подумал, что это даже хорошо. Когда он вернется, меня уже здесь не будет. Он войдет и увидит, что меня нет. Им поселят кого-нибудь другого. И он даже не будет знать, где я. Интересно, кого им поселят? Я открыл окно, лег на подоконник и посмотрел вниз. Два года назад я вышел из-за того угла, тащил в общежитие свой чемодан. Под ногами у меня были камни, и вся улица была грязная и горбатая. Тогда не было деревьев, не было газонов. Грузовики, проезжая, громыхали и подпрыгивали. И всегда над улицей висела пыль. На подоконнике у нас тоже была пыль, а если форточку днем забывали закрыть, то пыль лежала даже на столе и на подушках. На середине улицы был желоб для стока воды, там росло несколько травинок. Помню, однажды я стоял и долго смотрел на них. Они были не зелеными, а серыми, такими же, как вся улица, и с трудом пробивались из-под камней. Камни были серые, дома были серые, и вся улица была серая и неуютная.
Напротив общежития тогда был пустырь. Мне говорили, что во время войны на этот пустырь свозили неразорвавшиеся немецкие снаряды. Когда я приехал, на пустыре были камни, битый кирпич, и туда со всей улицы водили собак. Потом на пустыре начали строить дом. Он рос очень быстро. Мне нравилось каждое утро вставать и смотреть, как поднимаются стены, появляются окна и этажи. Я запомнил одну девушку. Она носила синий комбинезон и красную косынку. Я любил лежать и смотреть на нее. Когда я работал во вторую смену, я видел, как в обеденный перерыв к девушке приходила ее мать. Она приходила с узелком, в котором была еда. Становилась возле забора, поднимала голову и кричала:
- Катя! Катерина!
Я иногда помогал ей и страшным голосом кричал из окна:
- Катерина!
Девушка выходила, смотрела на меня, смеялась и грозила кулаком. Потом вместе с матерью она уходила куда-то за сараи, за кирпичи, и я не видел их.
Теперь дом построен, и Катины окна как раз напротив, только выше этажом. Я иногда встречаю ее на улице, здороваюсь, и она всегда смеется.
Я слышал, как стукнула дверь. Повернулся и увидел, что это комендант.
- Кочин, где Макаров? — спросил комендант, оглядывая комнату.
- А где он? — спросил я.
Мне не хотелось разговаривать.
- А кто здесь живет? Ты или я?
Комендант сжал губы, поднял голову и поправил гимнастерку. Я знал, что через секунду он стукнет кулаком по столу. Я слез с подоконника.
- Насчет шахмат? — спросил я.
- Пускай знает, пока шахмат не будет, никуда не поедет. И не подпишу, и не выпущу, — сказал он и стукнул наконец кулаком по учебнику геометрии.
Одна партия шахмат у нас пропала еще полгода назад. Кто-то взял поиграть, и потом мы не нашли их.
- Перепишите на меня, — сказал я, складывая учебники.
Было уже десять. Мне нужно было идти на консультацию. Комендант достал бумажку, и я расписался.
- Алексей Иванович просил для вас книжный шкаф. Можешь прийти вечером, — сказал он на прощание.
Я подумал, что комендант в общем неплохой человек. Только шкаф лично мне теперь уже не нужен.
Я стоял на автобусной остановке, смотрел по сторонам и ни о чем не думал. Был удивительно жаркий день. Над Петропавловской крепостью проплывали редкие облака, мягкие, белые и освещенные изнутри. А вокруг все шло своим чередом: по парку бегали дети, у парка проезжали Трамваи, машина поливала улицу, на углу прохаживался милиционер, у входа в зоосад была толпа, в зоосаде играла музыка, и возле тележки с газированной водой стояла длинная очередь. Подойдет автобус, и я уеду. В жизни нет ничего сложного и запутанного. Все очень просто. Ничего не может случиться необыкновенного и страшного.
Автобус подошел...
На этот раз школа не была пустая. По коридору ходили парни и девушки. Я приоткрыл дверь класса и заглянул. У окна стояла Людмила Васильевна. Все парты были заняты. Людмила Васильевна что-то говорила. Потом увидела меня и сказала:
- Войдите. Можете взять этот стул.
Мне показалось, что она смутилась. Она была в том же самом сером платье.
- Повторите, пожалуйста, вопрос, — сказала она кому-то.
Я сел. Мне нравилось, как она ходит по классу, и нравилось, что цифры, которые она писала, были ровные и строгие. Она не взглянула на меня ни разу, но неожиданно вызвала к доске.
Я взял мел и почувствовал, что все смотрят мне прямо в спину.
- Нет, не от руки, — сказала она. — Для этого есть линейка и циркуль.
Я не мог понять условие задачи и не мог вспомнить ни одной теоремы. Линейка сползала вниз, и линии получались косые. Спина у меня стала мокрая.
- Подумайте, — сказала она.
Я думал о том, что вид у меня, наверное, беспомощный и жалкий.
Людмила Васильевна стояла, повернувшись к окну. Потом она посмотрела на меня. Я молчал. Она улыбнулась, и мне показалось, что глаза у нее растерянные.
- Это задача трудная, — сказала она.
- Нет, почему? Это нормальная задача, — сказал я.
- Вы можете объяснить?
Я посмотрел на чертеж и неожиданно понял, что задача решается. Мне стало ясно все от начала до конца. Я начал объяснять. Она слушала меня и кивала головой.
- Путь простой и очень оригинальный, — улыбнулась она. — Вы решали эту задачу раньше?
- Нет. Мы однажды с приятелем делали расчет, там было похоже, — сказал я и положил мел.
Я не уходил после консультации. Вертел линейку и краем глаза смотрел, как она что-то записывает в своей тетрадке. Она подняла голову. Я встал.
- У вас еще что-нибудь? — спросила она.
- Нет.
- Ну, а как у вас с линейкой?
- С линейкой нормально, Людмила Васильевна.
Она посмотрела на меня и засмеялась. Мы стояли возле двери. И только вдвоем в классе.
- Почему вы так странно произносите мое имя? Вы не принимаете меня всерьез?
У нее были ровные и белые зубы.
- Мне кажется, что нормально, — сказал я.
Она засмеялась.
- У вас все время: «нормально». А кто вы по специальности?
- Токарь.
- Я почему-то так и подумала. Наверное, если бы я работала на заводе, я выбрала бы то же самое. Правда, я мало представляю...
Она посмотрела мне прямо в глаза.
- Это очень просто, — сказал я. — Это станок...
Она снова засмеялась. Мы стояли уже в коридоре.
- Давайте отложим до другого раза. Хорошо?
- Хорошо, — сказал я.
Она повернулась и пошла по коридору. Я смотрел ей вслед. Она зашла в учительскую.
Я вышел на улицу и вдруг почувствовал, что улыбаюсь. Иду и улыбаюсь. Я почувствовал это и засмеялся.
В тот же день, после обеда, я поехал на Выборгскую сторону. Мне почему-то хотелось устроиться на Выборгской стороне. Жара была еще больше, чем утром. Город совсем накалился, и только из дворов тянуло прохладой. На секунду обдавало сырым воздухом, когда близко были ворота. Улицы все время поливали, но это не помогало. Я постоял на углу, почитал газету. Потом решил пройти несколько остановок по парку. В парке было немного лучше. Я шел медленно. Вокруг меня, по дорожке, бегали дети, на скамейках сидели старушки. Я смотрел на этих старушек. Они читали, вязали и просто дремали на солнце. И опять подумал, что в жизни все просто, все идет своим чередом и со мной ничего не может случиться. Хорошо, что пахнет листьями и нагретой землей, хорошо, что лето, и хорошо, что вечером я встречусь с Ирой. Я пошел быстрей.
У Кировского моста я сел на трамвай. Вагон был пустой. Я смотрел в окно, и почему-то у меня было такое чувство, что это не трамвай, а поезд, и мне ехать далеко и долго. Показался Финляндский вокзал. Потом трамвай повернул, и я увидел незнакомые улицы. Я был здесь только один раз. Мы ездили с Нюрой в «Гигант». Там шел «Сорок первый», и Нюра хотела, чтобы я посмотрел этот фильм. Но тогда был вечер, и было темно, я не видел улиц. Трамвай ехал очень быстро. Мне не нравились улицы. Они были старые и какие-то неприветливые, кругом много заборов.
Вошел контролер. Я порылся в брюках, билета не было. Контролер ждал, на меня смотрели. Я не мог вспомнить: покупал ли я билет вообще.
- Я его потерял, — сказал я.
Контролер повернулся к кондуктору.
- Вы не помните, вот этот, в клетчатой рубашке, брал билет?
Я взорвался.
- Что же я, по-вашему, крохобор какой-нибудь? Я вам сказал, что потерял. Могу взять новый, если хотите.
- А вы не шумите. Ведите себя как полагается.
- Ладно, надоели морали. Получите.
- Вам придется заплатить штраф.
- Очень хорошо. Могу даже два.
Я заплатил штраф и сошел на первой же остановке. Меня лихорадило. Я постоял немного на углу, потом увидел милиционера и спросил, как пройти на «Кинап». Он объяснил. Я шел по какой-то узкой и пыльной улице, и все вокруг мне теперь не нравилось еще больше. Было слишком много дыма, грузовиков и закопченных окон.
Через полчаса я ходил по коридору, читал таблички и думал о том, что это не очень сладко - торчать в пустом и незнакомом коридоре перед многими дверьми, за которыми сидят какие-то люди и занимаются своими делами. Но в конце концов у меня тоже были дела. Я нашел нужную дверь. Увидел окно, большой стол и женщину.
- Работа есть? — спросил я.
- Зайдите, — сказала она. — Какая вам нужна работа?
Я сказал. Она смотрела на меня как-то скучно и равнодушно. На ней была красивая белая блузка, но под мышками были круги от пота. Я говорил. Она перелистывала календарь.
- Каждая работа интересная, если ее любить, — сказала она. — Не обязательно в сборочном.
- Мне хотелось бы в сборочный.
Она перелистала календарь, потом опять посмотрела на меня. Она вела себя так, точно я зависел от нее. Мне стало противно.
- А почему вы переходите оттуда? — спросила она. Голос у нее был деревянный.
- Климат, — сказал я. — У меня шаткое здоровье.
У нее на лице ничего не шевельнулось.
- Что-нибудь натворили? Только говорите правду.
После этого мне ничего уже не хотелось говорить. Я спросил:
- А что нужно натворить?
- Выпиваете?
- Выпиваю. А вы?
- Жилплощадь у вас есть?
- А у вас?
- Завод жилплощади не предоставляет. Попробуйте сходить на завод Свердлова.
Я вышел и хлопнул дверью.
Я шел, заложив руки в карманы. В каком-то переулке из-за забора выскочил мяч. Я увидел этот мяч и залепил по нему так, что у меня заныло в колене.
Настроение у меня совсем испортилось. Мне было жарко, надоело ходить по этим улицам. Я чувствовал жалость к самому себе и обиду на весь свет. Я приду на завод Свердлова, и там меня тоже будут допрашивать: что, как и почему? Я что-нибудь совру, скажу им, что на старом месте меня не устраивает зарплата. Но почему я должен оправдываться и врать?
Я остановился и посмотрел на номер дома. Оставалось уже недалеко. Вдоль домов росли какие-то деревца, общипанные и тощие. С грузовика скатывали пивные бочки. Прямо впереди торчала большая труба. И дым почему-то был бурый и желтый.
На заводе Свердлова девушка сказала, что работа есть, но общежитие только для литейного цеха и для строителей. Она говорила это и что-то жевала. Я хотел уйти, но она махнула мне рукой.
- Поговорите с начальником отдела кадров, — сказала она. — Он сейчас придет. Посидите.
И опять я сидел, смотрел в стену и ждал. И как будто мне нужно было что-то особенное, что-то вроде железнодорожного моста или небоскреба. Я смотрел на стену, потом разглядывал стенгазету. Мне захотелось спать.
Человек в темном костюме, наверно, и был начальником отдела кадров. Девушка показывала на него пальцем.
- Значит, надо помочь парню? — сказал он, придвигая телефон.
Меня передернуло от этого - «помочь».
- Сколько же ты хочешь заработать? — спросил он.
- Сколько заработаю. Больше мне не надо.
Он посмотрел на меня внимательно.
- Значит, токарь?
- Я уже сказал, что токарь.
- Так вот, с общежитием... Комсомолец?
Я молчал. Я почувствовал себя загнанным и затравленным.
- Комсомолец? — переспросил он.
- Да... — Я посмотрел на него. — Да... А что, работа только для комсомольцев? Да?
Я встал. Он откинулся на спинку стула, прищурил глаза. Он сказал мне, чтобы я проспался и пришел завтра. Я посмотрел на него, повернулся и пошел. Я подумал, что с меня хватит.
В трамвае меня валило влево и вправо. Был конец рабочего дня, и я еле втиснулся в вагон. Меня толкали и переворачивали. Я не сопротивлялся. Я был точно сваренный. Хотел схватиться за ручку. Ручка все время была впереди. Потом она оказалась надо мной. Я ухватился за нее. Вот теперь я почувствовал, что мне нужно только одно: уснуть. Трамвай ехал медленно. Он почти не ехал. Мы застревали на каждой остановке. Мне казалось, что звонок стучит под самым ухом. Рубашка прилипла к телу. В вагоне пахло машинным маслом и цехом. Я подумал, что снова опоздаю на свидание с Ирой, и закрыл глаза. Ира, конечно, права. Теперь они будут склонять меня на каждом собрании. Звонок стучал, и он был где-то у меня в голове. Какие-то люди за моей спиной тискались и вертелись. Они пролезали вперед. Они уходили, а я оставался. Они не обращали на меня внимания. Я был для них только спиной, от которой можно оттолкнуться, и все. Я открыл глаза. Внизу была Нева. Мы съезжали с Литейного моста. Я увидел набережную, мчащиеся по ней автомобили и баржу с песком посередине реки. Посмотрел на часы и вдруг вспомнил про Лешку. Мне нужно было с ним попрощаться. Нехорошо, если он уедет, и мы не попрощаемся.
Возле «Пассажа» я выпил стакан холодной газированной воды. Вода помогла. Глаза теперь были не такие тяжелые. Я заставлял себя идти быстро. У Казанского росли тюльпаны. Очень много тюльпанов. Пылающий остров среди асфальта и камней. За кустами фонтан.
Я увидел Иру еще с Невского. Так могла стоять только она, очень прямо, неподвижно, но вместе с тем легко и свободно и чуть наклонив голову, словно она смотрела сразу на всех и ни на кого. Ира была в белом платье. Я первый раз видел ее в белом платье. Она пошла мне навстречу.
- Вот теперь я уже не боюсь, — сказала она. — А минуту назад мне вдруг показалось, что ты не придешь. Это смешно, правда?
Мы медленно пошли рядом.
- Это оттого, что я весь день была с тобой.
Мы вышли на Невский. Тротуар был запружен. Теперь солнце било прямо в глаза. Оно жгло. Я не представлял, куда мы идем.
- Я была с тобой каждую минуту, — сказала Ира. — С утра ты занимался, и я видела, как ты сидишь, склонившись над столом. Потом ты был в школе. Потом ты сел в трамвай и поехал ко мне. Ты ехал в трамвае?
- Да.
- И ты должен уже приехать, а тебя нет и нет. И я испугалась.
Я почему-то подумал, что могу рукавом запачкать ее платье, и отпустил ее руку.
- Я угадала? — спросила она, глядя мне в лицо.
Над витринами магазинов висели тенты. Многие разговаривали, стоя под тентами.
- Почти, — сказал я. — Но сейчас я приехал с Выборгской. Посмотрел там, на заводах.
Мы остановились на перекрестке, пропуская машины. Потом поднялись на мост. На небе не было ни одной тучи. Впереди и над нами воздух был желтый. Игла на Адмиралтействе точно плавилась. Я подумал, что если Лешка достанет билет, он уедет сегодня. Я почувствовал на себе взгляд Иры.
- Так что же ты молчишь? Расскажи мне.
- Что? Ничего хорошего. Надо поискать возле нас.
Я посмотрел на часы. Лешка говорил, что у его сестры есть знакомство на вокзале. Она достанет билет, и он уедет. В прошлом году я провожал его, кажется, вечером.
- Конечно, поищи рядом, — сказала Ира. — Я знаю, ты влюблен в свой парк и в Петропавловскую крепость. Почему ты так смотришь? Я говорю это серьезно. Там и в самом деле очень хорошо.
Она улыбнулась. Мы свернули на Дворцовую площадь и пошли к Неве. Отсюда я мог доехать на любом трамвае. Я должен был поговорить с Лешкой. Я был виноват перед ним. Две голубые машины поливали площадь.
- Давай мы погуляем по набережной, — сказала Ира. — А знаешь, я не могла сегодня вообразить твоей комнаты. Ты мне никогда не рассказывал.
Я думал о Лешке.
Мы пошли вдоль Невы. Вода была совершенно синяя. Весь пляж был усыпан телами. Я не представлял, как они жарятся там, на песке.
- Все время хорошие дни, — сказала Ира. — О чем ты думаешь? Ты не выспался?
- Я не спал совсем. Знаешь, Ира, мне нужно идти. Ты не обидишься?
Ира подняла голову.
- А я надела для тебя это платье. Оно нравится тебе?
Она опустила голову и смотрела вниз, на воду.
- Оно, по-моему, очень хорошее, — сказал я.
Мы стояли у парапета. Ира выпрямилась.
- Пойдем, я провожу тебя, — сказала она.
- Не обижайся.
Мы пошли к остановке. Я посмотрел на Иру.
- Я понимаю, ты устал, — сказала она.
- Нет, я не так устал, но мне нужно. Так получается.
Она промолчала. Подошел трамвай. Я сел и видел Иру через стекло. Трамвай выехал на мост.
Наш ключ висел внизу, на доске. На лестничной площадке стоял Женька Семенов с девушкой. Он махнул мне рукой. Я не остановился. Он что-то крикнул мне вслед. Я не понял.
Я распахнул дверь нашей комнаты и увидел, что на Лешкиной кровати простыни нет. Одеяло лежит прямо на матраце. Я заглянул вниз. Там был только большой коричневый чемодан, другого чемодана не было. Лешка уехал. Я подошел к двери и закрыл ее. Повернулся, сел, чтобы снять ботинки, и у себя на подушке увидел листок бумаги. «Сашок, крепко жму твою руку. Лешка». Под листком лежало письмо от мамы.
Я помню, что за окном было серо. Впереди белый квадрат рамы, выцветшая занавеска и в углу, на подоконнике, банка из-под зеленого горошка, в которой мы хранили нитки и пуговицы. Потом красивый автомобиль. Мы едем куда-то с Ирой. Падает снег. И там, за стеной снега, поезд. Я вижу в окне поезда лицо мамы, и рядом в окне - лицо Игоря.
- Неужели ты поедешь в Трускавец? — спрашивает Ира и смеется. — Ведь сейчас зима.
Я вижу заплаканное лицо мамы, но меня не пускают в вагон. Проводница поворачивается, и я вижу - это тетка Иры. Кто-то отталкивает меня. Хватают за руки и за плечи. Поезд трогается. Лицо мамы за стеклом. Паровоз едет прямо на меня. Люди стоят на платформе и смотрят. Я хочу крикнуть, но уже поздно. Я хочу проснуться. Я сажусь и снова вижу нашу комнату. Рядом Алексей Иванович.
Алексей Иванович сказал, чтобы я разделся.
Я встал очень рано. На улице еще было пусто. Положил книги на подоконник и часа полтора читал. Стул скрипел. Я взял другой, чтобы не разбудить Алексея Ивановича. Я видел его лицо, большое, темное, со складкой на переносице и под щекой, короткие, точно обрубленные пальцы, все в черных точках от металла и масла. Потом я видел, как он брился. И, как всегда, резался и натирал подбородок белым бруском квасцов. Мы позавтракали вместе. В бутылке еще осталось молоко. Алексей Иванович встал, надел свою кепку и сказал:
- Ну, пошел.
Я слышал, как он быстро шел по коридору. Потом хлопнула в коридоре дверь.
Я убрал со стола и снова сел к подоконнику. В девять часов я закрыл книгу и спустился вниз. Я решил сходить на «Полиграфмаш» и разузнать, нельзя ли устроиться туда. До «Полиграфмаша» было недалеко.
Ночью, наверное, прошел дождь. Трава на газонах была ярко-зеленая. И было не так душно, как вчера.
До «Полиграфмаша» я мог доехать на автобусе или на троллейбусе. Я пошел пешком. И снова по парку. Это была не прямая дорога. Получался небольшой крюк. Мне так и хотелось. Мне хотелось идти дольше, очень долго, медленно и спокойно. Я опять стоял на углу и читал газету и афишу кино. Потом разглядывал фотографии на витрине у «Великана». У Театра Ленинского комсомола парни катались на велосипедах. Делали крутые виражи, не держась за руль, сидя боком, свесив ноги на одну сторону и даже сидя спиной. В канаве за театром мальчишки ловили колюшку. Я тоже спустился вниз, стоял и смотрел. Я не хотел думать о времени и о том, что мне нужно идти. Вода блестела, она была мутная и темная. Когда кто-нибудь вытаскивал рыбку, поднимался шум и смех. Здесь было хорошо. Мальчик протянул мне палку, леску и попросил:
- Дяденька, завяжите.
Я сел на корточки и стал завязывать. Мальчик сказал:
- Это Колька оторвал. У меня было шесть рыбок, а он забрал себе.
- А где этот Колька?
- Вот этот.
Мы отобрали у Кольки банку, рыбок и кулечек из газеты, в котором были черви. Колька был разбойник, и он не заплакал. С ним я подружился тоже. Он дал мне удочку, я стоял и ловил. И у меня здорово клевало. Здесь было тихо и спокойно. Раздавался смех, светило солнце. И совсем не верилось, что за спиной каменный город. Но все же я должен был идти. Зачем-то я вырос и теперь все время что-нибудь был должен.
На «Полиграфмаше» все было быстро, просто и по-деловому. Мне сказали:
- В инструментальный цех. Хоть сегодня.
- Я хотел бы посмотреть.
- Нашел театр. У нас не смотрят, а работают. Оформляйся и работай.
- Я могу поговорить с начальником цеха или запрещается?
- Выпишите молодому человеку пропуск в одиннадцатый цех.
- Паспорт, — сказала женщина.
Мне сунули бумажку. Вахтерша посмотрела паспорт, и я вышел во двор. Я шел и смотрел вокруг. Корпуса были большие и такие же высокие, как наши. Я поднялся наверх. Потом стоял на площадке, облокотясь на перила. За дверью был шум, стук, голоса, и я слышал, как дробно стучит фреза. Дробно и тяжело. Я открыл дверь. Меня ударило гулом и теплым воздухом. Станки стояли рядами. Несколько токарных были совсем новые. Парень, нагнувшись, замерял деталь. Другой повернулся и посмотрел на меня. Женщина везла тележку. Я отошел к стене. Рядом, на тумбочке, лежал резец, он был сломан, и столбиком стояли блестящие, свежие кольца. Парень не глядя положил еще одно. Кто-то работал с эбонитом. Пахло эбонитом. Мужчина нес шестеренку. Он был рыжий и похож на нашего механика. На стене было написано: «Ленинградцы, дадим семь за пять по производительности труда!» В черной спецовке, наверное, был мастер. Парень положил на тумбочку еще одно кольцо. Я стоял и смотрел. Я тоже мог вот так же подавать ручку и еще быстрее отводить ее, глядя на болванку и на резец. Вот так же, напротив окна, — мой станок. Рядом - Лешкин. А вместо того парня - Васька Блохин. И в углу - Женька Семенов. И все ребята свои. И сейчас они тоже работают. Вечером на доске напишут проценты. Напротив моей фамилии поставят черту. Потом мою фамилию сотрут.
Я увидел, что мастер идет ко мне. Он обошел станок и посмотрел на меня.
- Что скажешь? — спросил он, поднимая голосу.
- Мне к начальнику цеха.
- Я начальник цеха.
- Пропуск подписать. — Я протянул ему пропуск.
- Не слышу! — сказал он.
Хлопнула дверь, и женщина снова выкатила железную тележку. Он взял меня за локоть и отвел в сторону. Из кармана у него торчал карандаш.
- По какому вопросу? — громко спросил он. — В чем дело?
- Нет уже никакого дела. Подпишите пропуск. Нет никакого дела.
Он пожал плечами и вынул карандаш. Я сбежал вниз, прошел по двору и отдал пропуск вахтерше. Вахтерша была в черной шинели и подпоясана ремнем. Она повертела пропуск перед глазами.
- Как фамилия? Кочкин?
- Кочин, — сказал я, нагнулся и показал пальцем.
Я был на площади Льва Толстого, когда стал накрапывать дождь. Туча только надвигалась. Она шла со стороны залива. Потом дождь полил сильными отвесными струями. И сразу же асфальт стал черным, вода побежала из труб и запенилась, кружась над люками. Многие кинулись в парадные и под балконы. Улица разбежалась. Я не побежал. Я шел, и мне нравился этот дождь. Я чувствовал, как намокают волосы, как рубашка и брюки становятся тяжелыми. Я шел прямо по лужам. В парадных смеялись и показывали на меня пальцами. Дождь был теплый. Брюки хлопали по ногам. Стекла в автобусах были мутные. Автобусы проходили вымытые и как будто новые. У самого тротуара бежал желтый ручей. В воде плыли окурки. Из ворот выскочила женщина и поставила под дождь цветы. Дождь лил все так же сильно и прямо. Улица совсем опустела. Я прошел уже много, и мне не было холодно. Мне было легко и свободно. И не хотелось ни о чем думать. Просто я не мог уйти, что бы ни было. Может, они поступили со мной жестоко, но я и сам виноват. Я остаюсь. Они поступили со мной жестоко. Проголосовали и выкинули. Но я не уйду. Я попрошу Алексея Ивановича, чтобы он взял меня к себе, на слесарный участок. Можно и переучиться: две специальности - тоже неплохо. Я вытер лицо рукавом и пошел быстрей. До общежития оставалось меньше квартала.
Я постоял внизу, ожидая, пока с меня хоть немного стечет. Прошли мимо девушки из девятого цеха. Одна спросила:
- Кочин, тебе зонтик не нужен?
Они засмеялись. Шли по лестнице и смеялись.
Форточка в нашей комнате была открыта, и мою тетрадь с записями залило. На двух страницах были большие желто-фиолетовые брызги. Я повесил тетрадь на стул.
Пока я выкручивал брюки, стоя в одних носках на развернутой газете и стараясь, чтобы не текло мимо тарелки, дождь кончился, и комнату осветило солнце. Я завернулся в одеяло, читал и прислушивался к шагам в коридоре. Я ждал Алексея Ивановича. Мне хотелось поговорить с ним сегодня же, чтобы решить все сразу. Если перейти на слесарный, то я уйду от ребят, но все же останусь в цехе. Этот вариант самый хороший. После всего, что случилось, мне тоже не очень приятно работать рядом с ними. Пускай они посмотрят на меня издали. Я им буду улыбаться. Юрке Кондратьеву очень нежно. Утром и вечером. Если только Алексей Иванович возьмет меня. Тогда я ни от кого не буду зависеть. Но если Алексей Иванович не возьмет? Надо поговорить с Алексеем Ивановичем. Мне почему-то стало холодно. Я сложил одеяло вдвое и завернул его вокруг себя еще туже. Это не помогло. Я видел, что на Лешкиной кровати солнце. Встал и перетащил книги туда.
Когда Алексей Иванович пришел, я уже оделся и сидел за столом. Он взял полотенце и ушел. На стуле висела его кепка. Верх ее оттопырился, и по козырьку было видно, что когда-то она была светло-серая и красивая. Я думал, с чего лучше начать. Алексей Иванович вернулся, сел напротив и начал развинчивать свои часы. Это были какие-то старые английские часы со светящимся циферблатом и водонепроницаемые.
- Снова? — спросил я.
Алексей Иванович склонился, и я не видел его лица. Он вынимал шестеренки, раскладывал одну возле другой. Потом начал вставлять обратно. Я решил, что лучше действовать прямо.
- Сейчас на ваш слесарный можно устроиться? — спросил я.
Алексей Иванович возился с пружиной.
- А кого ты хочешь устроить?
- Я сам.
Он поднял голову, посмотрел на меня и вдруг засмеялся.
- А что я сказал? — спросил я.
Алексей Иванович улыбался.
- Вот я все думал, что ты скажешь, — проговорил он. — Ходил и молчал, а теперь наконец сказал.
- А я серьезно.
-- Придавили, значит, тебя?
- Никто не придавил. Хочу перейти - и все.
Он послушал часы, надел их на ремешок, потом на руку. Встал и лег на кровать вытянувшись во весь рост, положив ноги на стул. Я смотрел на него и ждал. Он заложил руки за голову, потянулся.
- Хорошо, — сказал он.
Я не понял, что хорошо.
- Тебе хорошо, — объяснил он. — Двадцать лет. Я бы с тобой поменялся.
Он говорил и смотрел в потолок, потом повернулся ко мне.
- Вот как-то зимой речку форсировали - атака! Я впереди, взвод за мной. Вдруг упал. Лежу в снегу и не знаю: так упал или раненный. И встать не могу. А за мной солдаты. Один споткнулся. А сапоги солдатские знаешь какие? Так сразу и вскочил!.. Ну, утром, это уже на том берегу, сидим мы с котелками и кашу наворачиваем. Я его и спрашиваю: ты что ж это, такой-растакой, по командирской спине ходишь? А? Виноват, отвечает, но так вышло. Не видел. Мы ж на этот берег наступали, и я смотрел на берег. Понял? Это я тебе на всякий случай. Но сейчас не война. С тобой так не поступили. Просто пора уже становиться мужчиной.
Алексей Иванович отодвинул стул и сел.
- Ясно, — сказал я. — Но я ведь не хуже их работаю. Что я, последний? Вот что обидно.
Я знал, что Алексей Иванович понимает меня.
- А ты покажи.
- А я покажу.
Алексей Иванович смотрел на меня серьезно, взял газету. Разговор не получился. Я знал, что он будет читать, а потом заснет. Я взглянул на часы. Был уже седьмой час, Я опаздывал уже на десять минут.
Воздух был свежий и прозрачный в тот вечер после дождя. Мы поехали на Кировские острова. Я помню битком набитый автобус и весело улыбающееся лицо Иры. Она рассказывала мне какую-то смешную историю про свою подругу. Мне почему-то показалось странным, что у нее есть подруга. Я не мог представить себе, какая она: красивая, высокая или некрасивая и маленькая? Ира сидела у открытого окна, я смотрел на нее и видел улицу, прохожих и крыши машин, обгонявших нас.
- Я все равно ждала бы тебя, — сказала Ира, когда мы переходили через мост. — Я бы стояла там весь вечер и всю ночь.
На мосту развевались флаги. Впереди был парк. Мы спустились вниз и пошли по аллее. Нас втянула толпа и потащила с собой. Парк был совсем не тот, что зимой. Было слишком много людей, и от этого пыль, и под ногами и в траве бумажки от мороженого. И зачем-то везде наставили столиков.
И все же я чувствовал себя как-то легче и лучше в этот вечер. Совсем не так, как в последние дни.
- Я люблю приходить сюда, — сказала Ира. — Здесь много цветов. Куда мы пойдем?
Мы прошли по центральной аллее и вышли на Стрелку. На Стрелке тоже была толпа. Все хотели видеть залив. У пристани стояла длинная очередь. Трамвай как раз причалил, и очередь двинулась. Я взял Иру за руку. Она шла легко, смотрела по сторонам и улыбалась.
- Мы пойдем в Кронштадт? — спросил я.
Ира засмеялась.
- Нет, куда-нибудь, где потише и где мы будем только одни.
Мы вышли на Масляный луг, посмотрели, как поднимается пыль над танцующими, и ушли с Масляного луга. До нас доносилась веселая музыка.
- У тебя скоро первый экзамен? — спросила Ира.
- В понедельник.
- Ты боишься?
- Нет. Я не знаю.
- А я боюсь, — сказала она.
Потом мы забрели в какую-то тихую аллею и медленно и молча шли по этой аллее. Пахло зелеными листьями и нагретым песком. Солнце пробивалось вдоль аллеи. Оно освещало нас сзади, и мы видели впереди две смешные и тонкие наши тени. Потом за деревьями мы увидели карусель, качающиеся в вышине лодки и огромное вертящееся колесо. Мы остановились перед веселой, хохочущей толпой. Стояли и смотрели. И мне вдруг тоже захотелось очутиться на качелях и взлетать в синеву вместе с Ирой.
- Ты не боишься вот так, высоко? — спросил я, показывая на лодку.
Ира покачала головой и засмеялась, глядя мне в глаза.
Мы поднялись по ступенькам и забрались в лодку. Я подал Ире руку. Женщина толкнула нашу лодку. Я разгонял лодку стоя. Ира тоже стояла. В воздухе были визг, смех и развевающиеся платья. Наша лодка поднималась все выше. Я подумал, что если хоть на секунду отпустить руки, то можно полететь вниз, на людей, на дорожку, на деревья. Мы взлетали уже высоко и были выше всех.
- У самого облака, — сказал я.
Я взглянул на Иру и увидел, что она бледная.
- Тебе нехорошо?
- Нет, мне хорошо, — сказала она.
Ира улыбалась. Она была очень бледная и улыбалась с трудом. Я видел, что ей плохо. И я начал сдерживать лодку, стараясь в самом низу качнуть ее в другую сторону. Ира закрыла глаза. Я понял, что у нее кружится голова.
- Сядь и держись, — сказал я. — И не закрывай глаза. Открой глаза и не смотри вниз. Мы сейчас остановимся.
Я смотрел на нее. И я почувствовал, как она мне дорога. С ней ничего не должно случиться. Ничего не может случиться. Никогда. Я посмотрел вниз. Наша лодка медленно останавливалась.
- Еще не проходит? — спросил я.
- Нет, — ответила она.
Мы остановились и сошли вниз. Другие лодки качались. Мы вышли на дорожку. Все скамейки, как назло, были заняты.
- Лучше уже? — спросил я.
- Ты напрасно остановил, — сказала Ира. — Это была только минута. Не нужно было останавливать.
Она все еще была бледная. В глубине аллеи стояла пустая скамейка. Половина ее была освещена заходящим солнцем. Мы сели на эту скамейку.
- Ты ужасно смешной, — сказала Ира. — Я бы обязательно удержалась.
Она положила свою руку на мою, и я почувствовал, что ее рука дрожит. Потом ее рука перестала дрожать. И глаза снова стали такие же, как всегда. Мы сидели молча. Воздух между деревьями был желтый и совершенно прозрачный. Впереди был пруд. Возле мостика столкнулось несколько лодок. Одна развернулась, И остальные не могли проехать. Ира засмеялась.
- Я почему-то вспомнила наш первый вечер. Ты показался мне смешным и добродушным. И тогда я не подумала, что у нас что-то может быть. А ты?
Наконец лодки вытянулись в один ряд и поплыли.
- А ты? — повторила Ира. — Ты подумал?
Я повернулся к ней.
- Наверное, я подумал, — сказал я просто.
Мы снова сидели молча. Жара спала, и стало свежее. И уходить не хотелось.
- Ты знаешь, Саша, я рассказала обо всем Оле, — сказала Ира. — И она сказала, чтобы ты уходил оттуда во что бы то ни стало. Ведь теперь они не дадут тебе направления в институт.
Я повернулся и посмотрел на Иру, не понимая. Потом я понял и неожиданно почувствовал злость. Я не просто не любил, я ненавидел тетку. Меня взорвало.
- А зачем об этом надо знать всему городу? — спросил я. — Это не ее дело.
- Я не понимаю тебя, Саша. — Ира смотрела на меня удивленно. — Это ведь твое будущее. Я могу думать о твоем будущем?
- Надо прежде всего спросить у меня, — сказал я. — А она тут ни при чем. Надо узнать у меня. Я никуда не собираюсь уходить. И никуда не уйду. И мне не надо советов.
- Но ты бы сказал мне.
- Вот я и говорю. И я говорю тебе, а ты должна понять.
Я встал. Ира держала меня за руку.
- Пойдем, — сказал я.
- Да, конечно, — ответила Ира. — Только ты успокойся. Ты можешь быть спокойным?
- Да, могу.
Я сел.
- Разве я не права? — спросила Ира. — Я не понимаю тебя.
- Ты права, — сказал я, глядя на пруд. — Ты все знаешь лучше меня. И все уже поняла.
- Ведь это и есть наша слабость: прощать людям и думать о них лучше, чем они есть.
- Дальше.
Я вытянул ноги и положил локти на спинку скамейки. Я не хотел слушать и не хотел отвечать. Я не знал, что мне сделать, чтобы сломать это все старое.
- Иногда надо проявлять решительность. — Ира подсела ко мне ближе. — И это бывает трудно.
- Может быть, — сказал я, глядя на пруд.
- Ты не хочешь слушать?
- Нет, — сказал я. — Не хочу, потому что ты ничего не знаешь. Ты должна прежде спросить у меня. И понять меня.
- Чего я не знаю?
- Ты не знаешь наших ребят.
- Но разве они могут вернуть тебе годы, и окончить за тебя институт, и жить за тебя?
- Ты не знаешь наших ребят. Ты поговори со мной.
- Человек делает свою судьбу сам, а не кто-то.
- Ты не знаешь наших ребят.
- Саша, дорогой, это слова. Но ведь в трудную минуту они бросили тебя. Так всегда. Если что, каждый спасает себя, а слова остаются для собраний.
- Ты не знаешь наших ребят, — повторил я.
Я смотрел на пруд и видел тот берег.
Ира встала.
- Пусть так, — сказала она.
Я тоже встал. Мы молча пошли по дорожке. Я думал о том, что парк скверный, что уже вечер и поздно. Мы подходили к мосту, и уже темнело. Но народ все еще шел нам навстречу. Мы стояли на автобусной остановке. Ира сказала:
- Хорошо. Я убедилась, что мне лучше не говорить с тобой об этом.
- Да, будет лучше, — сказал я. — Если ты не хочешь понять меня.
Мы попрощались у ее дома. Она сказала:
- Я не приглашаю тебя к нам. Я знаю, что ты не пойдешь. Нам осталось встречаться на улице.
- Мне нужно заниматься, — сказал я. — Сейчас нужно заниматься.
- Ты уже не сердишься на меня?
- Нет, — сказал я.
- А завтра ты тоже опоздаешь?
Какие-то парни стояли возле нас и разглядывали ее и меня.
- Нет, — сказал я.
Ира улыбнулась. Я стоял внизу, пока она поднималась по лестнице. Потом перегнулась через перила и махнула рукой. Я отпустил дверь, и она захлопнулась. Я повернулся и быстро пошел по улице. Парни язвили мне вслед.
Весь следующий день я вспоминал наш разговор с Ирой и не знал, что мне делать. Во мне остался какой-то неприятный осадок. Я подумал, что тетка, конечно, права. В институт меня в этом году не пустят. Но я все равно не уйду, даже зная это. Незачем петлять и ловчить, если виноват сам. Я сидел за столом, разложив перед собой книги, и перечитывал Толстого. Я сидел без рубашки, в тренировочных брюках. На улице снова была жара, и я уже два раза ходил в душ и отодвинул стол подальше от окна, чтобы не падало солнце. Я видел, что небо совершенно чистое и не голубое, а какое-то белое и задымленное. Я подумал, что Лешка уже приехал к себе и, наверное, ходит ловить рыбу. Мне хотелось, чтобы Лешка вернулся скорее.
На Петропавловской ударила пушка, и наше стекло, как всегда, задребезжало. Часы у меня шли точно. В половине второго зашел Женька Семенов. Он работал в вечернюю смену. Женька звал меня на пляж. Он был в модной розовой рубашке навыпуск и уже загоревший, с выцветшими бровями и розовым, облупившимся носом. Нос у него блестел. На левой руке поблескивал перстень. Он специально выставлял руку напоказ.
- Все равно завалишь, — сказал он. — На твоем месте я сказал бы «пас».
- Здорово ты нахватался, — ответил я, разглядывая его.
- Космос, — сказал он. — Век небесных тел и век других тел. Преимущественно с пропорциями. Пропорции ты проходишь тоже?
- Ладно, иди.
- Ну, а все же, как у тебя дела?
- Нормально. Иди и закрой дверь.
- Я болею за тебя. Будет потом знакомый директор.
Я встал. Он быстро захлопнул дверь, Я высунулся в окно и видел, как он перешел улицу и потом медленно пошел по другой стороне какой-то новой, плывущей походкой. Он был хороший парень.
Пришел Алексей Иванович. Достал из-за шкафа обои и, не переодевшись, сразу же ушел.
- Приду поздно, — сказал он в дверях. — Или совсем не приду. Слышал?
- Слышу, — ответил я.
Я не смотрел на часы очень долго. А когда снова взглянул, было половина шестого. В шесть мы должны были встретиться с Ирой. Как всегда, у Казанского. Стрелка ползла. Было без четверти шесть. Я сидел и смотрел на часы. Я решил, что никуда не пойду. Стрелка двигалась по циферблату, проходя через одно деление, через второе, через третье. И я не буду звонить ей - ни сегодня, ни завтра. А сейчас мне нужно только одно: заниматься. Было шесть. Люди шли по улицам, куда-то спешили. Ира пришла к памятнику и ждет меня. На ней, может быть, то же самое белое платье. Оно ей идет.
Я спрятал часы в стол и придвинул к себе книги. Строчки вставали перед глазами очень ясные и какие-то твердые. Я выдержал, и назавтра не позвонил Ире, и на следующий день не позвонил тоже.
Я занимался целыми днями и раза два ходил к Петропавловской крепости смотреть на белую ночь и на город, который плавал словно в тумане. Я любил сидеть на том же деревянном щите, на котором я сидел в тот вечер после собрания, и слушать, как шумят, набегая на берег, волны. Здесь всегда было тихо. Город неожиданно умолкал. Он был вдали. Я смотрел на воду, на зеленые огни буксиров, и мне было немного грустно.
В конце недели я остался в комнате совсем один. Алексею Ивановичу дали ордер, и он переезжал в новый дом. В субботу он пришел, чтобы собрать вещи. Я помогал ему.
- Один теперь? — спросил он.
- Один, — сказал я.
Алексей Иванович рассыпал крючки. Мы ползали по полу на четвереньках и собирали их, сдвинув стол и стулья к окну. Потом, когда он уже закрыл чемодан, я нашел в шкафу его гимнастерку. Он завернул гимнастерку в газету и сунул сверток за чехол. Я поднял чемодан. Мне хотелось проводить Алексея Ивановича до улицы. Он оглядел комнату.
- Ну, посидим по обычаю, — сказал он.
Мы сели. Я смотрел на него. Он был усталый и, мне показалось, совсем не радостный.
- Долго вы здесь были, — сказал я. — Жили здесь.
Он не ответил. Мы встали и пошли вниз. На улице мы попрощались. Он пожал мне руку. Я постоял немного, глядя ему вслед. Он был высокий, большой и шел неторопливо, чуть раскачиваясь. Чемодан ему не мешал.
Я поднялся наверх. Комната была пустая. Я посмотрел на вещи, сдвинутые в беспорядке, на оборвавшуюся занавеску и почему-то не почувствовал одиночества. Я начал расставлять вещи по местам. Прибил занавеску. Кровать Алексея Ивановича сложил и поставил к стене, а на Лешкину кровать постелил свежую простыню. Теперь комната была такая же, как прежде, только чуть больше. Я стоял и думал, что сделать с лампочкой: мне казалось, что она висит слишком низко. В дверь постучали.
- Кочин, к телефону! — крикнула какая-то девушка.
Мне никто никогда не звонил. Я понял, что это Ира.
Это первый раз, чтобы меня вызывали к телефону. Я сбежал вниз. Трубка лежала на столе. Звонила Ира.
- Саша, куда же ты пропал? — Она молчала. Мы молчали оба. — Ты эти дни занимался? — спросила она.
Она все же где-то нашла наш телефон.
- Да, — ответил я.
- Я так и поняла. Ты все успел?
- Нет.
- Ты знаешь, я завтра еду на дачу. Я хочу, чтобы ты поехал со мной.
- У меня в понедельник экзамен, — сказал я.
- Это каких-нибудь три часа.
Я хотел говорить медленно и спокойно.
- Но три часа - это тоже...
- Ну, уступи мне. Тебе надо отдохнуть. Я буду ждать тебя у Финляндского. В полчетвертого возле касс. Ну что же ты молчишь?
Я не знал, что сказать.
- Ладно, — ответил я.
Я повесил трубку и пошел наверх.
Мы стояли на ступеньке возле вокзала. Я взглянул на расписание. Электрички шли все время, одна за другой.
- Возьми билеты, — сказала Ира. — Я забыла деньги.
Я вынул деньги.
Мы прошли вдоль всего состава. Все вагоны были забиты, нельзя было даже встать на площадку. Поезд уходил через две минуты. Ворота уже закрыли, и лишь несколько человек бегали по перрону.
Ира остановилась.
- Могу потесниться, — сказал парень с удочкой, обращаясь к Ире.
Удочка была длинная и не влезала в вагон. Парень держал ее перед собой.
Мужчина в белой рубашке и в соломенной шляпе повернулся и засмеялся.
- Для такой девушки надо вагон прицепить.
Моряк соскочил и уступил Ире место. Мы встали на площадку. Моряк повис, ухватившись за ржавый железный прут, защищавший стекло. Поезд загудел и двинулся, быстро набирая скорость. Я посмотрел на Иру. Она улыбалась. Я подумал, что ей нравятся эти разговоры о ней. Моряк подмигнул мне. Поезд качнуло. Под колесами были стрелки.
- Держись, — сказала Ира. — Здесь крутые повороты. Или встань так, как я.
Мне почему-то стало неловко. На нас смотрели. Я нажал и немного потеснился назад. Потом подал моряку руку. Он ухватился другой рукой за дверь и весь оказался в вагоне. Ира смотрела на меня, улыбаясь.
- Я рада, что ты немного подышишь, — сказала она. — У тебя усталый вид.
Ветер, врываясь, шевелил ее волосы.
- Я не решалась позвонить, — сказала она тихо. — Если тебе понравится, мы будем ездить каждое воскресенье. Мне хочется, чтобы тебе понравилось.
Она сжала мою руку. Я смотрел в дверь. Поезд шел очень быстро. Мелькали кусты, деревья и дома.
- Там почти ничего не построено, — сказала Ира. — И удивительно тихо. Тишина и высокие сосны.
Возле нас стояли ребята с туго набитыми зелеными рюкзаками. Седобородый старик держал над головой бидон. Какой-то солидный мужчина с ярко-красным галстуком слушал, наклонив голову. Он топтался, вертелся и всем мешал.
- В таком галстуке ездить нельзя, дяденька, — сказал кто-то за моей спиной. — Поезда будут останавливаться.
Все засмеялись.
Наконец мы приехали. Поезд остановился среди леса. Не было даже платформы. Я спрыгнул и потом поймал Иру. Моряк крикнул что-то, и мы остались одни.
Мы пошли под деревьями, по узкой и мягкой тропинке, протоптанной среди кустиков брусники. Сосны росли редко. Они в самом деле были очень высокие и прямые. Душно пахло лесом. Запах нагретых и преющих трав выстаивался и растворялся в холодном и терпком аромате сосен. Тропинка метнулась в сторону, потом еще раз, и мы очутились на тенистой лесной дороге, виляющей и усыпанной бурыми иглами. Иглы чуть слышно шуршали под ногами. Прямо впереди поднялась большая, тяжелая птица. Неловко захлопала крыльями и промелькнула среди стволов. Она пропала, и опять стало тихо. Здесь было хорошо.
- Иди со мной рядом, — сказала Ира.
Я подумал, что здесь лучше идти и молчать.
- Тебе нравится это место? — спросила она.
- Нравится, — ответил я.
- Нет, я спрашиваю тебя серьезно. — Она повернулась и остановилась. — Ты все еще жалеешь, что я тебя вытянула на эти три часа?
Я промолчал.
Дорога поднималась на холм. Мы шли теперь по солнцу, но жарко не было. Огромная сосна росла на вершине холма. Она была выше всех других, может быть, вдвое, а может быть, втрое. Крона была треугольная, и под белыми, тихо плывущими облаками эта крона была как парус.
- Я сняла бы туфли, — сказала Ира. — Но боюсь, что можно занозить ногу.
- Да, — сказал я.
За холмом лес обрывался. Дальше был поселок. Мы услышали голоса, стук топоров и вой буксующего грузовика. Теперь дорога лежала черная и почему-то вся в лужах.
- Мы посидим там немножко и потом снова побродим по лесу, — сказала Ира. — Видишь, это все только начинается.
Две большие сосны были свалены поперек дороги. Здесь лес вырубали. Обгоревшие пни когда-то тоже были соснами. Поселок еще строился. По обеим сторонам просеки желтели дома. Их было немного. Мы обошли буксовавший грузовик стороной. Из-под колес вылетала грязь. Вся просека была завалена сучьями, обломками досок, щепками и срубленными деревьями. Я смотрел на дома. Они выросли прямо среди леса. Один был наполовину покрыт черепицей. Мужчина стоял на лестнице и колотил топором. Он был в черной жилетке и в шляпе. Женщина поддерживала лестницу внизу. Она была толстая, с красными мясистыми руками. У другого дома пилили доски. На нас никто не обращал внимания. Мне было жаль леса. Жаль, что его рушат и ломают. Я не понимал, для чего эти дома, и не понимал, почему эти люди так суетятся.
- Это главная улица, — сказала Ира.
Мы прошли в самый конец этой главной улицы. Дальше снова был лес. Потом повернули вправо, прыгая через ямы и путаясь в сучьях. Мне надоело идти. И надоело спотыкаться и путаться в сучьях.
- Где же дворец, леди? — спросил я.
Ира засмеялась.
- Сейчас увидишь. Посмотри внимательно, это потом пригодится и нам.
Мы пробрались через кусты, повернули вправо, и среди черных пней я увидел дощатый покосившийся сарайчик, покрытый железом. Рядом были сложены доски. Еще дальше высилась гора сучьев. У дверей сарая стояла вкопанная в землю скамейка.
- Надо было что-то построить, — сказала Ира, открывая замок. — Главное занять участок, а строиться можно долго.
Я сел на скамейку. Внизу валялись две пустые консервные банки.
- Иди сюда, — сказала Ира. — У нас здесь стол и что-то вроде кровати. Оля даже привезла сюда одеяло. Если убрать - почти хижина дяди Тома.
- Нет, я посижу здесь, — сказал я.
Мне было смешно смотреть на этот сарай. Несколько деревьев на участке еще уцелело, но они стояли жалкие и одинокие, точно знали, что им тоже осталось недолго.
- Здесь будет потом красиво, — сказала Ира и потянула меня за руку. — Там есть спиртовка и немецкая стеклянная кофеварка. И прохладно.
Так в самом деле и было: слева, перед окном, стоял накрытый клеенкой стол, заставленный какими-то пахучими пузырьками, словно в парикмахерской, справа, у стенки, кровать с голубым одеялом - просто козлы, на которые были положены доски, стена перед кроватью была закрыта розовыми, приколотыми кнопками обоями, и на этой стене висело большое, овальное, в золотой раме и все в ржавых пятнах зеркало, как выброшенное из музея, а рядом с ним - и тоже приколотая кнопками - фотография, 18 на 24, какого-то важного старика с бородой, крест-накрест перечеркнутая красным карандашом, у старика были такие глаза, словно он хотел мне понравиться.
- Садись прямо сюда, — Ира отбросила угол одеяла. — Когда проведут электричество, можно будет привезти приемник. Так мы будем пить кофе?
Я загнул матрац и сел на доски. Стульев не было. Возле стола стояли два чурбака. Ира заметила мой взгляд.
- Это знаешь кто? Это Хемингуэй, — она пыталась открыть какую-то жестяную банку. — А это - расправа Игоря. — Ты читал Хемингуэя?
Значит, это был писатель. Наверное, иностранный.
- Нет, — сказал я.
- Ой, надо идти за водой, — засмеялась Ира. — Как хорошо, что мы приехали сюда, и никто не придет, и никто нам не нужен.
Она подошла к зеркалу, поправила волосы, потом сняла с платья пояс и чуть отошла, вглядываясь в свое отражение.
- Так тоже хорошо, правда? Я люблю это платье.
Я почувствовал, что здесь холодно. Мне почему-то стало трудно смотреть на Иру. У нее была короткая прическа и расклешенное, без рукавов, наверное, шелковое платье в серую и белую клетку, при этом освещении похожее на мрамор, вокруг шеи - белые бусы. Она вдруг резко повернулась, накинула на меня свой пояс, платье поднялось, и я увидел, что она уже успела здорово загореть. Я даже не представлял, что у нее такие красивые ноги.
- А знаешь, мне иногда казалось, что ты ревнуешь меня к Игорю. Ну что ты молчишь? И ты даже не хочешь меня поцеловать?
Я поднял глаза и неожиданно наткнулся в зеркале на себя. Человек, который уперся в меня взглядом, был чуть ли не жалкий, а волосы торчали как попало.
- Понимаешь, Ира, у меня ведь мало времени, — я снял ее руки со своих плеч и встал.
Она вышла за мной. Здесь было лучше. Я снова сел на скамейку и оперся о нее руками. Скамейка была горячая от солнца. Ира стояла возле сарая и накручивала пояс на руку. Консервная банка была наполовину с водой. Я тронул ее ногой, она опрокинулась, и вода выплеснулась. Последние капли были желтые.
- Как интересно. Кто-то срубил нашу елку. Я только сейчас заметила, — сказала Ира. — Посмотри, совсем свежие щепки. Прошлый раз эта елка была.
Я снова носком ботинка перевернул банку.
- А зачем тебе эта елка? — спросил я. — Ее ведь все равно надо срубить.
- Незачем, конечно. Но ведь кругом столько елок. Зачем же с чужого участка?
Я смотрел на Иру. Она стояла, поправляя волосы. Потом подошла ко мне. Села рядом и обняла меня за плечи. Я молчал. В другой банке тоже была вода.
- Как было бы замечательно, если бы мы вместе могли провести лето! — сказала она. — Нам ведь можно устроиться и здесь.
Я чувствовал щекой ее волосы.
- А может быть, тебе пойти в институт на дневное? Тогда бы у нас было лето. Подумай.
- А что слышно у Игоря? — спросил я. — Он не заходил к вам?
- А почему ты спрашиваешь? Я давно его не видела.
- Я почему-то так и думал.
- Ты не проголодался? Надо бы нам хоть немного помочь Оле.
Мне захотелось встать. Я наступил на банку и вдавил ее в землю.
- Наверное, лучше приезжать сюда осенью, — сказал я. — Осенью все же бывают грибы.
Ира выпрямилась и посмотрела на меня.
- Что ты хочешь сказать?
Я стоял и смотрел ей прямо в лицо.
- Ты знаешь, я давно тебе собирался сказать. Меня в этом году в институт, конечно, не примут. Профессором я, наверное, никогда не буду. Тебя это устраивает?
Я смотрел на нее и чувствовал себя совершенно спокойным.
Она медленно поднялась.
- Какой ты дурак! Ведь я люблю тебя!
Я сорвал с дерева лист.
- А может быть, ты любишь только свою любовь?
- Что ты говоришь? Саша, посмотри в будущее. Будь наконец реалистом.
Мы стояли друг против друга.
— Знаешь, Ира, мы, наверное, устроены по-разному. Тебе в жизни нужно одно, а мне почему-то совсем другое.
Она подошла ко мне близко. Совсем близко.
— Ты больше не любишь меня?
— Я говорю не о том, — сказал я. — Ты опять не понимаешь меня.
Я смял лист и выкинул его.
— Ты хочешь уйти? — Она положила руки мне на плечи. — Саша, ведь у нас все сначала.
Я снял ее руки.
— Я хочу, чтобы мы ушли отсюда.
— Мы пойдем в лес?
— Нет, сначала мы уйдем отсюда. Мы уйдем отсюда. Я хочу, чтобы начиналось так.
Я повернулся. Мы пошли. Было очень тихо. Мы шли по какой-то другой дороге. Напрямик, через кусты и канавы. Лес поредел, и показалось полотно железной дороги. Мы пошли вдоль полотна. Но оно оборвалось. Это была еще не достроенная дорога. Мы снова свернули в лес. Немного прошли и опять увидели рельсы и насыпь. Впереди была станция. Мы шли молча. Ира по одной стороне насыпи, я по другой. Потом вдали послышался шум. Шел поезд. Я остановился. Поезд приближался очень быстро, но недалеко от нас начал тормозить. Как раз начинался подъем. Замелькали вагоны. Это был товарный. Он вез камни и доски. Я стоял, смотрел на доски, на платформы, груженные щебнем, и в просветах между вагонами видел холм, высокие стволы сосен, небо и повернутое ко мне лицо Иры. Состав был очень длинный. Наверное, его пропускали через станцию без остановки.
Ленинград
1959—1960
Дорога вся белая
Глава первая
1
Снова припустило, азартно, звонко. Леонид сел на подоконник, поставил ногу на радиатор и повернулся боком, чтобы видеть улицу от угла до остановки. Пепел стряхивал на газету, которая лежала внизу.
Дождь начался где-то около полуночи. И так и лил. Скакал и дымился над асфальтом и выбивался из водосточных труб ледяным столбом. Ночью Леонид подумал, что дожди - это проливающиеся на землю серенькие никчемные вчерашние дни... Все было потускневшим: и дома, и забор, и пустой грузовик со спустившим колесом, который стоял напротив. Над почерневшими крышами и стенами - ни полоски просвета. Низкое грязное небо. И может быть, потому, что Леонид слишком вслушивался в серое шуршание дождя и теперь даже с каким-то равнодушием поглядывал на опустевшую унылую улицу, он прозевал их. Звонок раздался совершенно неожиданно. Потом еще раз. Он встал, не торопясь пошел, двигаясь в темном коридоре на ощупь, повернул замок, толкнул дверь и на фоне окна, на фоне бегущих вверх черных ступенек и черных перил увидел лицо Зины, злое, посиневшее, и капельку дождя на кончике ее носа.
- Возьми же, — сказала она недовольно.
Он взял у нее из рук чемодан, пропустил их вперед.
- Между прочим, ты мог бы открыть нам и сразу. Мы звоним уже третий раз. — Она отряхнула руки, потом откинула волосы. — Я подумала, что ты уже уехал. От тебя ведь всего можно ждать.
Леонид поставил чемодан в коридоре.
- Взяли бы такси. Зачем было идти по этому дождю?
- Ах, оставь! Не все же такие богатые, как ты!
И когда Леонид включил свет, повернулась к зеркалу и снова стала поправлять волосы. Зеркало висело слишком высоко для нее, и были видны только ее лоб и глаза, раздраженные и поблескивающие.
Леонид вынул из кармана и протянул ей чистый носовой платок. Она взяла, усмехнулась. Леонид видел ее лицо в зеркале.
- Какой ты заботливый. Ты ах какой стал заботливый. Даже удивительно.
Мальчик стоял возле нее и молчал. Леонид осторожно посмотрел на него. Потом присел рядом на корточки.
- Дождь, да? Ты, наверное, замерз? Ты не замерз? А?
Мальчик, не поднимая от пола глаз, покачал головой. Зина платком вытерла ему лицо.
В коридоре остались мокрые следы, запах духов и полоска рассыпанной пудры.
Все трое вошли в комнату - Зина, мальчик и за ними Леонид.
На полу, недалеко от окна, стоял раскрытый чемодан. Рядом валялись разобранные удочки, кожаная папка, журналы, книги, какие-то коробочки, несколько рулонов ватмана.
- Ну вот, — Леонид прикрыл за собой дверь.
Он посмотрел на ворох разбросанных вещей, взглянул на мальчика, заставил себя улыбнуться и почувствовал, что волнуется и что теперь, пожалуй, уверенности в нем еще меньше. Подошел к столу, вынул пачку сигарет, открутил красную полоску и снова взглянул на мальчика. Он не знал, что говорить.
Мальчик пришел как будто на минуту. Остановился у двери, возле стеллажа, облокотившись на полку, одной ногой наступив на гантель. И глаза у него были испуганные и недоверчивые. Зеленый совсем новый шерстяной костюмчик был немного велик для него, на коленях морщился. И шапочка тоже была велика. Помпон свисал набок.
Леонид наконец распечатал пачку, вынул сигарету.
- Садитесь на диван.
Зина стояла среди разбросанных вещей. Волосы у нее развились и теперь висели мокрые и прямые и, казалось, были совершенно черные. Они падали ей на плечи.
- Какой изумительный уголок! — проговорила она, глядя себе под ноги. — Свобода! По-моему, даже обои провоняли табаком.
Она перешагнула через чемодан, как через колючую проволоку, подошла к столу и тоже взяла сигарету.
- Ах, как все это мило! Ну просто чудесно! Куда уж дальше! — Как всегда, сломала несколько спичек, пока прикуривала, наконец затянулась, швырнула коробок на стол, села в кресло, закинув ногу на ногу, посмотрела вокруг. — Можно бросать все на пол, или ты дашь мне пепельницу, дорогой мой?
Леонид нашел пепельницу, протянул ей. Зина поставила пепельницу на ручку кресла и тут же погасила сигарету, смяв ее и скрутив. Леонид почувствовал, что начинает закипать. В нем вызывали какое-то бешенство эти перекрученные сигареты, которые она бросала, едва начав. Странно, она умела ходить как-то особенно. Даже в такой дождь чулки у нее были совершенно чистые.
С тех пор, как они вошли в комнату, сразу же разделив ее так, что у каждого был свой квадрат и даже свой воздух, едва ли прошло больше пяти минут. Но им уже было невозможно находиться вместе.
Мальчик поднял голову и разглядывал книги. Водил пальцем по корешкам. В окно барабанил дождь.
Зина устроилась удобнее, сев в кресло глубже, и ее ноги теперь были на весу. Леонид нагнулся, поднял рулон бумаги. Он решил, что лучше ни о чем не спрашивать, раз она пришла с чемоданом. И думал только о том, как сделать, чтобы она не ездила на вокзал. Впрочем, чемодан ничего не значил. Она еще могла передумать. Даже в последнюю минуту на перроне.
Так молча они посидели еще немного. Мальчик тоже молчал. Зина смотрела в окно.
- Ну и погодка!
- Да, — ответил Леонид.
- Хорошенькое дело, если все лето будет вот такое, — она поморщилась. — Наверное, зарядило на неделю. Да уж меньше, чем на неделю, у нас не бывает. Мне остается только завидовать тебе. По радио передавали, что там уже тепло. У меня теперь иногда бывает время, чтобы слушать радио. — Она произнесла это очень медленно, раздумывая о чем-то другом.
- Что? — переспросил Леонид. — Да, там в такое время погода уже хоть куда.
- Черт возьми, — мучительно-протяжно вырвалось у нее. — Что же мне делать?
Леонид заметил, что на ней новое платье и хорошие туфли, в которых не ходят каждый день и тем более в дождливую погоду. Она запрокинула голову и разглядывала потолок.
Так, подумал он. Сейчас. Погасил сигарету и тоже сел, приготовившись ко всему. Именно сейчас, когда все, кажется, уже решено и пора уезжать, это начнется. У нее так всегда.
- Да, — вдруг совсем отвлеченно сказала она, — я должна тебя поздравить. Ты что-то там изобрел, и про тебя писали в газете. Мелким шрифтом и где-то внизу. Я случайно заметила. Таким шрифтом пишут программу телевидения.
Леонид сдержался. Это было в ее стиле. Он сам знает, что это не слишком большое изобретение. Но все же это была его жизнь и его труд.
- Тебе дадут орден?
- Как тебе сказать, может быть два.
- Теперь дают сразу два?
- Ну, если тебе так хочется...
Здесь он замолчал, чувствуя, что это будет лучше.
Она вздохнула, выпрямилась, и на лице ее появилось выражение какой-то боли и муки, а может быть, это было выражение досады.
- Я не знаю, что мне делать. Что же мне делать? — проговорила сама себе.
Она до сих пор не могла согреться и то обнимала себя руками, то вздрагивала и еще сильнее прижималась к креслу.
Леонид перехватил взгляд, которым Зина посмотрела на мальчика. Оттянул рукав и показал ей часы. Она по-прежнему смотрела на мальчика.
- Не трогай эти книжки, — сказала она ему. — Лучше уж ты ничего здесь не трогай.
Леонид переменил позу и усмехнулся. Наконец, вздохнув, она встала. Подвинула ногой чемодан, шагнула к зеркалу и, повернувшись боком, посмотрела на себя. Коричневое платье плотно обтягивало ее. Все еще стройная, хотя уже и чуть тяжеловатая фигура, и совсем не изменившиеся длинные ровные ноги, шов на чулках, — она гордилась тем, что у нее это получается само собой, — как всегда, посередине. Теперь она повернулась к зеркалу спиной, прогнулась, еще раз взглянула на себя, потом подошла к столу и снова достала из пачки сигарету.
- Боже мой, как я продрогла. Мне не везет, как всегда. Только что здесь были спички. Неужели ты не можешь дать мне рюмку коньяку?
- Коньяку нет.
- Ну хоть чай у тебя можно получить?
Он промолчал и в который раз увидел, что волосы у нее мокрые и прямые, а лицо посиневшее.
- Да, теперь, конечно, у тебя нет для меня коньяку.
- Вообще нет.
- Да, ты стал очень трезвый. Положительный, дальше некуда.
Тяжело покатилась гантель.
- Я хочу в уборную, — прошептал мальчик, переминаясь с ноги на ногу, испуганно глядя на Зину.
Зина задула спичку, повернулась к Леониду.
- Он не достанет там до выключателя. Выполни хотя бы эту обязанность, что ли.
Леонид встал, протянул мальчику руку, и они вышли. Когда он вернулся, Зина стояла к двери спиной и, вся сжавшаяся, сутулая, смотрела в окно.
- Слушай, но неужели нельзя... Зачем ты куришь при нем? — не выдержал он. — Не нужно при нем курить. Ты понимаешь?
Она подняла плечи и засмеялась:
- Боже мой, какая глупость! Именно это для тебя сейчас самое главное?!
Леонид подошел к ней ближе. Он понимал, что говорит совсем не то. И понимал, что никакие слова не помогут. Но у них так получалось всегда: слова произносились только для того, чтобы вызывать друг в друге раздражение.
- Но разве нельзя потерпеть? — Он все же продолжал эту бессмыслицу.
За окном стояло серое и сейчас пустое здание. Там была школа. Дождь лил все с той же силой, и с улицы тянуло сыростью.
- Оставь, пожалуйста. Оставь этот тон, — у нее в голосе была обида. — Я отлично тебя понимаю. Уж я-то тебя как-нибудь знаю. Тебе нужно было подумать об этом по крайней мере семь лет назад, мой дорогой. И хотя бы раз в неделю вытирать с подоконников пыль. — Она достала из-за рукава платок и провела по всему подоконнику. — Вот так. Сам же будешь глотать меньше пыли.
- А сейчас? А сейчас я могу о чем-нибудь думать?
- Да, о самом себе. Это у тебя всегда получалось лучше. Думай о себе.
Открылась дверь. Неслышно вошел мальчик. И так же тихо застыл на прежнем месте, у стеллажа, облокотившись на полку, поставив ногу на гантель.
Зина спрятала платок, повернулась к нему.
- Ну, все?
Мальчик кивнул. Она подошла к нему, поправила и подтянула рейтузы. Потом остановилась посередине комнаты, морща лоб и растирая его пальцами.
- Ох, боже мой, что же мне все-таки делать?
Леонид знал, что на это отвечать не нужно. Он думал о том, что если ничего не выйдет, то пусть не выйдет, потому что это все равно что ходить по болоту, когда вязнешь и вязнешь. В какую сторону ни идешь - результат один.
Теперь в пепельнице лежал еще один смятый и перекрученный окурок.
- Ладно, давай поговорим прямо. Что ты хочешь? — твердо спросил он. — Давай коротко. Решим, и все. А то у нас получаются кошки-мышки, а время идет.
От неожиданности Зина подняла глаза и посмотрела на него в упор, прямо и не мигая. Она стояла, вытянув руки вдоль тела, на щеках ее появился румянец и на всем лице то только ей присущее выражение какой-то муки и отчаяния, которого он не понимал и не мог переносить никогда.
- Ты, кажется, знаешь, чего я хочу. — Вокруг нее были разбросанные вещи. — Ты отлично знаешь, что нужно мне и моему мальчику. Тебе, по-моему, это давно известно. Или до простых человеческих вещей ты самостоятельно дойти не можешь? Тебе понятны только иксы, игреки, твои станки?..
Мальчик уронил книгу и испуганно посмотрел на них.
Леонид отвернулся.
- Мы можем опоздать. Еще надо сложить вещи, — решительно произнес он и нагнулся над чемоданом. — Вот это все как-то запихать.
Он специально не складывал вещи утром. Оставил так, чтобы собрать в последнюю минуту, уже при Зине, тогда не хватит времени, чтобы говорить. Но так не получилось.
- Посмотри, такси там не стоит?
Зина выглянула в окно.
- Какая-то «Волга». Такси.
- Пустая? — Леонид быстро засовывал вещи.
- Свободное.
- Это за мной. Надо уже ехать. Дай мне, пожалуйста, вот тот сверток.
- Папку?
- Нет, вот те книги. И посмотри газ.
- Я положила вам еды на двоих. Там хватит.
- Хорошо.
- Не забудь документы. Какой у вас вагон?
- Так. Сигареты я взял. — Леонид выпрямился, надел пиджак.
Зина посмотрела вокруг.
- Отключи приемник. Забудешь.
- Да. Спасибо.
- И закрой окно. Кажется, все.
Леонид вынес в коридор чемодан и поставил возле двери. Он давно не надевал эти туфли. Они высохли и скрипели. Снял с вешалки плащ. Ему казалось, что теперь самое главное - не останавливаться, выскочить отсюда на улицу и мчаться. Протянул мальчику удочки:
- Ну, держи эти орудия. Ты хочешь стать рыбаком, правда? Настоящим рыбаком? — и улыбнулся мальчику.
Мальчик поднял голову. У него были такие же огромные черные глаза, как у Зины. Но больше на его лице не было ничего от матери.
- Не тяжелые? Донесешь? — Он подмигнул мальчику.
- Да, — тихо ответил мальчик и покачнулся, положив связку удочек на плечо.
Леонид закрыл дверь на все обороты замка.
Дождь не переставал, пустые улицы казались бесконечными и были похожи одна на другую. Черная влажная полоса асфальта, точно лента транспортера, а по обеим сторонам несущиеся мимо стены. Это был хороший и обычный ленинградский дождь, который мог идти и неделю, и месяц, и днем и ночью терпеливо обмывать и мостовые, и афиши, и витрины, и зонтики, и шляпы всех размеров и цветов, и дорожки в парках, и фонари на мостах, и стеклянные будочки с белыми продавщицами и синими милиционерами, и красные ящики-автоматы, и розы на Стрелке, и шпиль на Адмиралтействе. Город был такой же посеревший, как небо. Нева вздулась. Вода казалась тяжелой и неподвижной. Но листья на деревьях зато блестели чисто и сочно, впитывая в себя влагу, лето, жизнь.
Машина все время как-то удачно ныряла под зеленый свет, шла очень быстро, почти нигде не останавливаясь. Леонид поглядывал на часы и смотрел в окно.
До самого вокзала никто не произнес ни слова. Шелест колес и перестук счетчика. И в этой молчаливой гонке под дождем, когда скорость так реальна, что кажется опасной, когда прохожие, чертыхаясь, шарахаются от брызг и впереди только мутный воздух, — в этом молчании и в этой гонке было что-то тревожное. Часы на башне вокзала показывали, что еще оставалось целых двенадцать минут.
Шофер порылся в карманах, выложил всю мелочь на ладонь, позвякал ею и в последний раз холодными оценивающими глазами посмотрел на Зину. Леонид вынес из такси чемоданы. Поставил чемоданы под навес. Зина и мальчик стали рядом и как раз возле большой лужи, в которой прыгала капля, подскакивала и снова падала, прыгала одиноко и бесконечно.
- Я разменяю деньги. Постойте здесь. — Леонид снова быстро пошел к машине, точно обрадовавшись тому, что может уйти. Сел в машину и поехал к ларькам. Когда машина разворачивалась, он заметил, как Зина прижала мальчика к себе, взяла газету и зачем-то накрыла голову.
Возвращаясь, он видел издали, что Зина и мальчик все так же, прижавшись друг к другу, стоят под навесом. Он все оттягивал время, боялся, что в последнюю минуту мальчик заплачет, и шел медленно, подчеркнуто спокойно, не торопясь, словно ему не нужно было уезжать.
- Все? — спросила Зина, беспомощно глядя на него.
Теперь уже оставалось каких-нибудь пять минут. Они медленно прошли через одни двери, через другие, мимо носильщиков, мимо киоска с газетами, потом по перрону и остановились возле вагона. Вокруг было много людей, много шума, толкотни, криков, смеха. Над головами монотонный, слишком спокойный женский голос вещал из репродуктора.
- Хороший поезд, — проговорила Зина.
Леонид взял мальчика за руку, потом кинул на Зину быстрый внимательный взгляд. Она смотрела на поезд, и он увидел, что губы у нее вздрагивают, а глаза застывшие. Она по-прежнему силилась принять какое-то решение, но, видимо, сама понимала, что теперь у нее совсем уже нет времени, и от этого ее растерянность только росла, а решение не приходило. Казалось, людей стало еще больше. Ее толкали. Она точно не замечала этого. Леонид взял ее за локоть и поставил ближе к вагону. Она подчинилась ему. Достала из сумочки платок, начала теребить его.
- Очень красивый поезд. А зачем ты взял книги? У тебя там полчемодана книг.
- Я хочу поработать.
- Неужели тебе нужно столько этих книг? У тебя отпуск точно на месяц?
- Да, я здорово отстал за эти годы. И не нужно... честное слово, не нужно вбивать себе в голову совсем неизвестно что.
- Это скорый?
- Да.
- Хорошо, что скорый. Нет, я верю тебе. Смешно, если бы я не верила тебе.
В глазах у нее были слезы. Она быстро нагнулась, прижала мальчика к себе и начала целовать. Он обвил ее шею, уткнулся в щеку.
- Ты увидишь, что это за мальчик, — сказала Зина, — ты сам увидишь. Ты потом не сможешь без него. Я знаю.
Мальчик не заплакал. Зина подержала его в руках, перегибая, целуя и в губы и в шею, потом опустила на землю.
- Я знаю, ты полюбишь его. Посмотришь.
Леонид поднял мальчика и поставил на ступеньку. Мальчик сам шагнул на площадку. Прошел рабочий, молоточком быстро постучал по колесам. Вверху прыгали светящиеся цифры. И даже, казалось, щелкали, когда прыгали.
Две минуты. Минута.
Леонид повернулся к Зине.
- Не надо сейчас, — сказал он негромко, взял ее за локоть.
- Мы могли бы поехать втроем, — проговорила она, кусая губы, подняла голову и посмотрела ему прямо в лицо.
Леонид увидел лоб с едва намеченными морщинками и большие черные глаза, из которых один был немного светлее. Только они двое и знали это. И на минуту он вдруг почувствовал жалость к ней и подумал, что она все еще такая же красивая и любит его. Надела в такой дождь новое платье и хорошие туфли. А могла и не надевать. Он поймал себя на том, что думает о ней и вспоминает старое. Отвернулся и посмотрел вдоль поезда.
Раздался грохот и звон, очень сильный и неожиданный. Все сдвинулось, поплыло. Зина глядела на мальчика и плакала. Он помахал ей рукой. Леонид вскочил на ступеньку и вместе с мальчиком быстро вошел в вагон. Они встали рядом возле окна и смотрели на бегущую за поездом толпу. Мальчик протирал окно ладонью, потом помахал шапочкой.
Леонид ощущал, как мягко внизу катятся колеса. Осторожно и тихо. У мальчика были пепельные волосы, коротенькие и как будто выжженные. И почему-то две макушки. Леонид положил руки ему на плечи.
2
Вагон выкатился из-под крыши вокзала. Платформа кончилась. Незаметно появилась девушка с подносом, тяжелым, разноцветным, на котором были бутерброды и бутылки с вином.
- Пожалуйста. — Свободной рукой она сняла с подноса салфетку.
И, взглянув на этот поднос, на улыбающееся курносое лицо с густо подведенными глазами, Леонид почувствовал, как он устал.
Вагон качался все так же мягко и тихо. Мимо промчались пустые составы. Горьковато пахло пылью. Мальчик стоял рядом и смотрел в окно, ухватившись руками за опущенную раму.
- Пожалуйста, — лениво и скучно улыбнулась девушка.
Леонид нащупал деньги в кармане, потом взглянул на мальчика. Девушка подождала еще немного и пошла в другой конец вагона. Леонид вынул сигарету, затянулся и тоже повернулся к окну. Потом неловко, неумело снова положил руку мальчику на плечо. Крыши, мост, насыпь, ящики, мешки, паровозы. И долго еще большой город, недостроенные дома, черные краны, торопливый разгон стрелок...
Они молча стояли рядом.
...В последнюю ночь Леонид не мог уснуть. По улице пустили автобусы. Где-то чинили дорогу, поэтому сделали объезд, и вот уже несколько дней автобусы урчали под самым окном, бесконечно и тяжело. Леонид то и дело слышал, как они приближаются, завывая, ближе, еще ближе, рядом, и дом и стекла дрожат, и даже на письменном столе звенит стакан, надетый на бутылку нарзана. И в ушах остаются шипение и беспрерывный гул. Потом все начинается снова. Старый петербургский дом не выдерживал этой тряски.
А может быть, автобусы были совсем ни при чем.
Отбросив одеяло, он зажег свет, сел, окинул глазами комнату. Шел дождь, тихий, как будто осенний. Парни под аркой тихонько играли на гитаре. Где-то далеко жужжали последние трамваи. Леонид встал, шагнул к стеллажу и взял гантель. Поднял один раз, другой, третий, еще раз - и больше не мог. Эту облупившуюся, чуть тронутую ржавчиной гантель, найденную на пустыре, прежде он поднимал совсем легко. И вот теперь она стала тяжелой. Он почувствовал это. Катнул ее на место и усмехнулся. Раньше ему казалось, что где-то к тридцати он станет большим изобретателем и жизнь будет для него стремительной, широкой и ровной дорогой. Но это прошло. Теперь он понимал, что только за много лет и только огромным и терпеливым трудом можно сделать что-то настоящее и, наверное, рядом должен быть друг, надежный и преданный.
Он хотел взять мальчика с собой потому, что вдвоем веселее, и потому, что мальчик ведь должен чему-то научиться и что-то видеть. Так он говорил Зине. Ему надо было что-то говорить. Но на самом деле это было не так. Он с каждым днем ощущал все больше, что ему просто необходим этот маленький человек. Ему страшно это нужно, чтобы маленький человек находился рядом. Почему вдруг он почувствовал это сейчас? Усталость? Потерянные надежды? Единственный способ утвердить себя на земле? Откуда идет это?
Он немного прикрыл окно, чтобы не брызгало на подоконник. Включил свет.
Может быть, он в самом деле устал? Ему нужно всего-навсего отдохнуть, и тогда не будет этих сомнений? Ведь и прежде, и с Зиной, он тоже был одинок. Ей нравилось, как он носит шляпу, как держит себя в компании, как лихо играет на пианино и как отплясывает чарльстон. Она находила, что у него улыбка знаменитого французского киноактера. И больше ничего не нашла и не искала. Всего этого ей было достаточно. И кроме того, не сомневалась, что при его способностях он сделает карьеру. «Тебя же в два счета возведут в начальники, если ты сам захочешь и если я тебя попрошу». И ни разу не спросила, нужно ли ему это, и что у него в голове, и чего он вообще хочет от жизни. А ему постепенно становилось одиноко с ней. Она для него сделалась скучной, раз навсегда узнанной. Ему уже было мало одной ее красоты и улыбок.
Так однажды он ей и сказал. Это было в тот вечер, когда они зашли в «Лакомку», чтобы выпить кофе. Зина выслушала его спокойно.
- Я тебе надоела? Да, я тоже начала замечать, что ты смотришь куда-то мимо меня. Так, милый, ты свободен. Мы живем в двадцатом веке. Ты - в одну сторону, я - в другую. И могу тебе сказать, что у тебя нет никаких обязательств. А я уж как-нибудь вытравлю из себя эту любовь. Хорошо, что ты вовремя предупредил меня. Хуже, если бы нам уже было по тридцать. Что же... я тебя поняла. На такой случай мы могли бы пойти наверх и шикарно посидеть там.
Вверху, как раз над ними, был ресторан, пьяный и шумный.
- Подожди. Это серьезно, Зина. Понимаешь, мы как будто оглохли.
- Сходи к врачу. Сходи к врачу и лечись.
- Зина, мне кажется, мы совсем не понимаем друг друга.
- А что тут понимать? Я уже все поняла. Если ты нашел себе какую-нибудь еще... валяй.
- Я никого не нашел. Вот так мы с тобой и разговариваем. Между прочим, в последнее время именно так. Только так.
- Не пытайся сделать из меня идиотку. Мне, в конце концов, безразлично, кого ты нашел. Могу тебя уверить. Ты свободен.
- Зина, тебе нравится Шишкин?
- При чем здесь Шишкин? Художник?
- Художник. Он тебе нравится?
- Да, могу тебе сказать, что, как всякому нормальному человеку, мне нравится Шишкин. Но при чем здесь этот молодежный диспут? Мне кажется, что ты ничего не выпил, чтобы философствовать.
- А мне, видишь ли, он не нравится. Потому что в живописи Шишкин... он что видел, то и писал. И больше ничего. Как сплетник. — Леонид почувствовал, что его заносит, что его мысли становятся белым туманом, что этот разговор - зря, потому что, видимо, у каждого своя орбита, каждый уже запущен на свою высоту раз и навсегда. — Вот как он писал: видел этот столик - писал, вот эту стену видел - писал, вот этот буфет...
- Шишкин, если я помню, писал сосны.
- Но мне-то нужна именно философия, а не просто сосны. Мне нужен, например, Врубель... А в общем, конечно, Шишкин здесь ни при чем. Он, может быть, и хороший художник.
Зина рвала салфетки и бросала перед собой.
- Ай, перестань выламываться. Оставь это для других девиц. На них это произведет впечатление.
Леонид готов был с размаху ударить по этому столу. Рядом с ней все его мысли обращались в жестяной звон. Слова как побрякушки, как выветрившиеся тряпки. Никакого смысла.
- Чего ты от меня хочешь? — спросила Зина.
Леонид смотрел на гору рваных салфеток.
- Чтобы ты думала о моей жизни... обо мне... серьезно.
- Ты, может быть, еще захочешь, чтобы я вместе с тобой изобретала какой-то там твой прибор. И вообще только о твоих делах и думала?
Надо было смолчать, но он не сдержался.
- Да! Да! И не какой-то... Потому что без своего дела я ничего не значу. Курю, пью, ем, получаю зарплату. А я хочу быть настоящим. И ты о моих делах думай тоже.
- А я тебе, значит, мешаю быть настоящим? — Она рассмеялась. — Хорошо, я не буду. Только тебе нужно было найти предлог поприличней, чтобы устроить этот базар. Закажи лучше вина.
Подошла официантка и смахнула на поднос обрывки салфеток.
Леонид долго сидел молча, что-то рисовал ножом на стекле, потом, не поднимая головы, произнес:
- Видишь ли, мне, в общем-то, кажется: моя личная жизнь - это не главное. Я действительно хочу сделать что-то настоящее. Остальное не так важно. И смеяться над этим не стоит.
Она рассмеялась еще громче.
- Хорошенький вечерок.
Леонид поднял голову. И вдруг услышал в себе необъяснимую тишину. И увидел Зину не рядом за столиком, а далеко, точно приставил к глазам бинокль той его стороной, которая уменьшает.
Кто-то произнес:
- Ваши фирменные булочки черствые.
Еще кто-то:
- Странный порядок, что в кафе нельзя курить. Дикость.
И еще:
- Отличный кофе. Это бразильский?
- Да, кофе отличный.
И стук двери. Смех. Музыка, которая доносилась сверху.
Зина сидела очень далеко от него. Крохотная, узкая фигурка, аккуратная, вся из плавных линий. И совсем даже неплохо по цвету: каштановые волосы, бледно-розовая шерстяная кофточка с большим вырезом. По цвету это мягко, и хорошо смотрится. И здорово, что клипсы белые. Пожалуй, она действительно красивая.
Он повернул бинокль другой стороной. Ему показалось, что она поняла это и потому переменила позу. Положила руки на стол. Леонид спокойно разглядывал ее. Да, очень красивые руки, и вся она красивая. И конечно, понимает это, недаром так эффектно позирует. Ему стало смешно. Глядя на ее руки, он ясно услышал, как она разговаривает с маникюршей:
- Нет, нет, конечно, недлинные.
- Я-то уж видела разные ногти, но ваши просто необыкновенные. И не ломаются?
- Ну что вы! Никогда!
- Поярче?
- Нет, если можно, бледнее.
Леонид перевел бинокль на ее лицо. Это - она. Вот сейчас она поднимет левую бровь. Это наверняка тренировка перед зеркалом. В лице появится что-то лукавое и загадочное. Наверное, вычитала в каком-то романе. Почему же она не поднимает бровь? Ну, пожалуйста. Нет, она должна это сделать.
Зина подняла левую бровь, правая не дрогнула.
Вот так. Вот и все! А теперь она скажет: «Так ты возьмешь вина?»
Зина вздохнула, пожала плечами. Бровь опустилась.
- Так ты что-нибудь закажешь? Или мы так и будем бездарно сидеть здесь?
Когда они вышли, была хорошая теплая ночь. Фонари погасли. Леонид запомнил узкую улицу, всю в зеленых огоньках такси, красные выстрелы светофоров, желтые ленты последних трамваев, размазанные очертания зданий. А от земли все еще поднималась духота дня.
- Холодно. — Зина остановилась. — В кафе нельзя курить, а на улице гасят свет. Можно поломать ноги. В самом деле идиотизм. Возьми же такси.
Леонид вынул бумажник.
- У меня осталось только на обед.
- Ах, боже мой. Ну займешь у кого-нибудь. Какое это имеет значение, если мне холодно. Ты видишь, мне холодно. Возьми такси. Я хочу домой. И сейчас же. Немедленно.
Леонид подумал, что улица похожа на огромный желоб, железный, грохочущий, скользкий, наклоненный так, что остановиться невозможно. Все несется куда-то вниз - вниз, где, может быть, горят фонари и много света. А может быть, там, на дне этой улицы, просто мокрые кочки, которые всхлипывают, если на них встать, и сваленные, набросанные как попало деревья - и больше ничего.
Прошел трамвай.
Это была последняя ночь, когда они шли по городу рядом. Теперь Леонид уже не сомневался, что им действительно нечего делать вместе. Разве что ходить по магазинам, покупать серванты и старинные кресла. И делать вид, что это и есть жизнь, что все хорошо, и на всякий случай улыбаться друг другу. Теперь ему даже казалось странным, что еще недавно они были вместе, что она была нужна ему. Для чего нужна? Если они настолько разные.
Через несколько дней он стал свободен совсем. Ему предложили командировку в Сибирь на три года. Леонид подумал, что ему это как раз подходит. Быстро собрал вещи, оформил документы. Зине позвонил из аэропорта.
- Куда? — спросила она. — Я не слышу. Куда, куда? Впрочем, делай что хочешь, — и повесила трубку.
Перелетая страну из конца в конец, Леонид думал, что в Сибири ему удастся посидеть над книгами, перечитать последние технические журналы и сделать чертежи станка. Главное - сделать чертежи станка. Ничего этого не вышло. И должность, которую ему дали, тоже была не та, на какую он рассчитывал. Но он увлекся работой. Пришлось переезжать с места на место, жить в гостиницах. Новосибирск - Красноярск, Красноярск - Москва, Новосибирск - Свердловск. И вместо того чтобы сидеть над листом ватмана, он ходил по канцеляриям, доставал арматуру, бетон, краны и с вертолета разглядывал бурую, громадную тайгу. Он не успевал читать даже газеты. И он сам забыл о том, что его давнишняя работа не двигается и заброшена. Наконец дошло до того, что в Красноярске пропали наброски первого варианта станка. У Леонида не было времени даже на то, чтобы пожалеть об этой потере. Его уже вызывали в Читу. В Москве, в гостинице «Украина», он встретил Валю Егорову, подругу Зины. Она сказала, что Зина вышла замуж, у нее ребенок. «Копия ты».
- Я??
- Ну да, как две капли.
- А почему ты думаешь, что я?
- А кто же еще? Смешно.
- Мальчик, девочка?
- Мальчик.
И только там, в гостинице «Украина», сидя в большом высоком вестибюле, Леонид понял, что прошло уже два с половиной года, целых два с половиной с тех пор, как он уехал из Ленинграда... И на земле уже есть, живет, дышит его сын. Ошарашенный и удивленный, он просидел в этом вестибюле до ночи.
...Снова бетон, арматура, Нижний Тагил, Новосибирск, Москва... И еще два года этой свистопляски. Леонид стал замкнутым. Даже мрачным. Он попытался хотя бы по месяцам собрать эти пять лет. Что сделано? А в общем-то у него нет даже своего дома. И он может сейчас только вспоминать, какая это радость посидеть над листом ватмана, когда тишина и за окном ночь. И впервые Леонид остро ощутил быстротечность человеческой жизни. Неизмеримо малый свой срок на земле. И одиночество. Это испугало его. Заставило сжаться. Он попытался взять себя в руки. Но это было не так просто. Наконец он вырвался.
Но и в Ленинграде дни летели с той же вызывающей скоростью. Новые люди, работа, от которой он отвык... Он узнал, что Зина развелась и снова собирается замуж. Потом та же Валя Егорова сказала ему, что Зина переменила свое решение за день до свадьбы. «Ты дурак. Она ждет тебя. Такая женщина!» И потому, что Леонид так или иначе был окружен этими разговорами о Зине, намеками, недомолвками и одиночество все чаще хозяйничало в нем, он начал думать о том, что виноват перед ней, что им нужно встретиться, поговорить. Чувство вины росло в нем. Ему даже не терпелось ее увидеть. Он подумал, что, в сущности, наверное, и не было ничего серьезного, что разделяло бы их, пожалуй, и прежде не было, а кроме того, есть человек, которому они нужны оба, и ответственны перед ним оба, — сын. И наконец он решился...
- Да, на Островах, — волнуясь сказал в черную холодную трубку. — Где каток на лугу. На Центральном, на Масляном.
Она пришла в своей беличьей шубке, теперь уже потертой и пожелтевшей. На руке - большая коричневая сумка. День был сверкающий, лыжный. На пустых аллеях лежал мягкий нетронутый снег. Пахло свежим воздухом и соснами. И ветром с залива. Громадного города точно не было рядом... Они быстро взглянули друг на друга. Леонид увидел морщинки, излишек пудры, слишком густо накрашенные ресницы и губы и, ему показалось, во взгляде - больше мягкости и терпения. Она неловко протянула ему узкую в серой перчатке руку.
- Да, давненько я не бывала здесь. А я думала, этот звонок - первоапрельская шутка.
- Ты не узнала моего голоса?
- Нет, просто не ждала.
- Может быть, пойдем в кафе? — Леониду хотелось побродить здесь, среди этой белой тишины, а не сидеть где-то в помещении.
- Мне все равно. Но лучше здесь, на воздухе. В этом году зима почему-то пришла весной.
Аллеи разбегались в разные стороны и, вероятно, где-то за стеной деревьев сплетались в один клубок.
- Ты давно вернулся в Ленинград?
- Скоро год.
Они прошлись немного, нашли возле катка чистую зеленую скамейку и сели.
- Ну так зачем ты меня позвал? — Зина повесила сумку на спинку скамейки, положила руки на колени. — Я слушаю.
Да, это была она и не она.
- Я рад тебя видеть.
- И за целый год не мог вспомнить моего телефона?
Леонид посмотрел вокруг и засмеялся.
- Знаешь, мне пришла в голову чепуха. Я подумал, что по этой аллее хорошо сейчас пробежаться до самого залива или поиграть в снежки.
Зина пожала плечами.
- Это все, что ты хотел мне сказать?
Леонид вытянул ноги, посмотрел на пустой каток, потом на свои лыжные ботинки.
- А может быть, мы не будем вспоминать старое, Зина? А?
- Я думала, ты наконец спросишь меня, как я живу.
- Но я и пришел, чтобы узнать, как ты живешь.
- Странно. — Она усмехнулась. — А ты разве не знаешь? Впрочем, я понимаю, что тебе выгоднее не вспоминать старого. Но ты можешь быть совершенно спокоен - я ничего от тебя не потребую. Ведь ты пришел, чтобы услышать это? Так? Значит, все? Я тебе больше не нужна? — Она сделала движение, точно хотела встать.
Леонид удивленно поднял голову.
- Но, видишь ли, я могу воспринять это только как насмешку, когда мне предлагают прийти сюда, чтобы сыграть в снежки. Или, по-твоему, я ждала от тебя именно этого?
- Но я действительно пришел узнать, как ты живешь, Зина.
- Ну, боже мой, живу... Видишь, и живу, и ращу сына... Ну, обыкновенно. Днем выдаю книги, роюсь в этой пыли, порчу руки, еще неизвестно, как не схватила чахотку, а вечером тоже находится какая-нибудь работа. Что тебя интересует еще?
- Понимаю, что трудно, что ты работаешь.
- Я бы спросила и тебя, как ты живешь, но боюсь, что спрошу еще как-нибудь не так и снова попаду в мещанки. Так что лучше расскажи сам. Я теперь научилась этой мудрости: молчать.
- Но, Зина, я своей рукой набрал твой номер телефона, позвонил тебе и пришел к тебе, значит...
- Я понимаю, что ты позвонил. Кто же еще!
- ...и странно подумать, что я мог забыть старое.
- Так, дорогой мой, ты бы вот с этого и начинал.
- Я понимаю тебя. Но я решил, что лучше начинать с будущего.
- Но ведь я тебе уже сказала. — Она сняла перчатки и растягивала их. — Я никуда не собираюсь идти, жаловаться и чего-то требовать. У меня просто нет на это времени. Так что если ты вбил себе в голову, что я склочница, хищница и еще не знаю кто, можешь оставаться при своем мнении. Теперь меня это уже не интересует. В суд подавать на тебя я не буду. У меня, слава богу, есть родители. Ты хотел рассказать, как живешь. Я слушаю.
Леонид посмотрел на аллею. Смысл разговора потерялся. Снег на деревьях лежал слишком красиво. Точно кто-то прошелся и набросал на ветки сухие шершавые языки пенопласта. Разукрасил парк под зиму и, довольный, удалился отсюда, насвистывая. Ушел. Глядя перед собой, Леонид увидел в конце аллеи городок аттракционов, сейчас пустой, безмолвный, засыпанный снегом. Карусель, тир, «летающие люди», длинный ряд забитых в эту пору досками кривых зеркал. На что же он рассчитывал, когда шел сюда? Чтобы увидеть себя в кривом зеркале? «А у него-то голова?! Огурец! Ха-ха-ха!»
- Так что же ты молчишь?
- Я в самом деле, Зина, очень хотел тебя увидеть.
- Я, как ты понимаешь, тоже. Ты, может быть, скажешь, что даже соскучился? — Она засмеялась.
- Да. Я много о тебе думал с тех пор, как приехал.
- А я, представь себе, с тех пор, как ты уехал. Понимаешь, какая разница?.. Впрочем, ладно.
- Видишь ли, Зина, — у него снова появилась надежда. — Если хочешь, ведь мы с тобой не уличные знакомые, которые... К нам вообще не относится это слово - знакомые. Наверное, мы можем поговорить с тобой открыто, совсем просто, по-человечески.
- Да? — Она улыбнулась и положила перчатки на скамейку. — Ты уверен в этом?
- Да, я так думаю.
- Значит, теперь тебе уже не нужно, чтобы я интересовалась твоими иксами и твоей сложной поэтической натурой? Я всегда хотела с тобой говорить именно о простых, самых обыкновенных человеческих вещах. О жизни.
- Ты меня не поняла.
- Нет, я тебя давно поняла, дорогой мой.
Леонид увидел ее руки. Ногти были все те же, узкие, бледные. И она была та же. И лицо. И голос.
- Я ждала твоего звонка целый год. Мне, как ты понимаешь, не очень сладко.
- Я потому и хотел, чтобы мы встретились. А что ты делаешь вечерами?
- Научилась немного шить. Ну что делаю? Как все... Хожу в кино. Иногда в театр. Лишнего времени у меня, во всяком случае, нет. А как ты?
- Да ничего у меня путевого, если сказать честно, там, в Сибири, не вышло. Потраченное время. Катался из Азии в Европу, из Европы в Азию. И больше ничего. Так что все надо начинать как студенту.
- Но там ведь хорошо платят. Так что особенно жалеть тебе, наверное, не приходится.
- Да, платили прилично. Но так не заметишь, как состаришься.
- Я слышала, некоторые даже рвутся туда. Обеспечивают себя там на полжизни и потом живут здесь, можно сказать, свободно. Но ты не думай, что я посягаю на твои деньги. Я работаю, и мне ничего не нужно.
Леонид подумал, что это опять не о том, опять тупик. А может быть, это он говорит не о том, а она права?
Там, в городке аттракционов, сразу же за кривыми зеркалами были расположены длинные красные стрелы - «летающие люди». Садишься на конец стрелы, и она начинает поднимать тебя вверх, описывая свой полукруг. Все ничего, полет плавный и медленный, но, миновав высшую точку, ты оказываешься вверх ногами. Небо под тобой, деревья вершинами вниз, вода в прудах каким-то образом не выливается, люди приклеены подошвами к земле. Твоя голова вот-вот разлетится от страшного напряжения.
Зина спросила:
- Ну так о чем же мы будем говорить?
Весь фокус, наверное, в том, чтобы внушить себе, что этот перевернутый мир совершенно нормальный. Ведь это как посмотреть. Возможно, все так и должно быть: перевернутые дома и ларьки, скамейки, примагниченные к парочкам. Только так, наверное, и можно уцелеть, если внушить себе, что все это естественно. И ты не будешь замечать, что сам висишь перевернутый. Ведь это как посмотреть. Леонид летел головой вниз и в это время думал, что ему, может быть, стоит пойти на почту и дать в Иркутск телеграмму: «Сообщите возможность вернуться на прежнее место». Из Иркутска ответят: «Телеграфируйте условия». Он: «Согласен любые».
Теперь он услышал Зину.
- А я знала... Я знала, что ты придешь, что ты не железный. Подумай сам, тысячи людей живут вместе и ничего не требуют друг от друга сверхъестественного. Зарабатывают на хлеб, одеваются, растят детей. И ничего, счастливы.
Он хотел сказать: «А я не понимаю счастья, которое только в том, чтобы зарабатывать на хлеб, одеваться, рожать детей». Но сказал:
- Да, возможно, так и есть.
- А ты разве не видишь сам?
- Да, ты, наверное, права. Ведь это как посмотреть. Наверное, можно жить и так.
- Жаль только, что ты не мог понять таких элементарных вещей раньше. — Голос у нее окреп, выровнялся совсем. — Тебе все в жизни доставалось слишком легко, поэтому ты и был таким самоуверенным. Но говорят: лучше поздно, чем никогда. Или тебе все еще не надоело ходить по этим грязным столовым и наживать себе гастрит?
- По столовым? — Леонид попытался понять, о чем она говорит и как это снег мог прилипнуть к веткам снизу. — По каким столовым?
- Не знаю, возможно, ты перешел на рестораны.
Он хотел сказать: «Но какое это имеет значение, где и чем набивать живот? Стоит ли над этим думать». Но сказал:
- Да, в этих столовых и правда жарят на каком-то вонючем масле. На вкус все одинаковое, что ни возьмешь. Ты права. А как у тебя дела?
- Такой еды не пожелала бы своему врагу. Накормят дрянью и еще обругают.
- Да, порядки везде одинаковые. А как у тебя дела с институтом? Ты бросила окончательно?
- Боже мой, академик из меня все равно не получится. Я это уже поняла. А на зарплату это не влияет. И потом у меня просто нет времени бегать с портфельчиком... У меня сын... Ты понимаешь, сын.
- Да... Нет... Дело не в академике... И к чему мы говорим о столовых?.. Это все не то. Это не то, Зина. Я работаю, ты работаешь, все работают...
Деревья закружились, повертелись и снова встали так, как им полагается: макушками вверх. Снег теперь лежал на ветках.
Леонид сидел согнувшись и подошвой расставлял на снегу следы. Он думал о том, что в общем-то все в жизни с ним происходило именно так, как полагается. Все по порядку. До кривых зеркал и «летающих людей» была карусель. Он сел на деревянную разукрашенную лошадку, пришпорил ее каблуками и помчался. Деревья, лица, небо, трава, музыка. Карусель начала тормозить, когда умер отец. Из волшебного круговорота вынырнуло грязное небо, мокрые деревья, экономные тусклые лампочки в коридоре и на кухне. Музыка стала плыть, как на гнутой пластинке. Деревянная разноцветная лошадка уже не бежала сама по себе. Карусель остановилась совсем, когда мать невзначай открыла Леониду правду: его настоящая мать - другая женщина, которая умерла во время родов. Мачеха рассказала ему правду потому, что решила выйти замуж. Деревянная лошадка освободилась для кого-то другого...
- Скажи, Зина...
Зина почувствовала внезапную перемену его тона и удивленно повернулась к нему.
- Скажи, Зина... я хочу спросить... я могу видеть его?
- Его? — в первую секунду она не поняла. — Ах, вот что?! — Она попыталась засмеяться, привстала и запахнула шубу.
Леонид поднял с земли ее перчатки.
- А я думала, что ты действительно пришел ко мне, что тебе нужна я. Ну что ж... Проводи меня. Мне некогда. И я замерзла.
- Хорошо. Но ведь отец у ребенка должен быть?
- Отец? — Зина поправила шарфик, натянула перчатки. — Какой отец? Боже мой, потратила два часа неизвестно куда! Что ты от меня хочешь? Что, собственно, ты хочешь? Я должна была идти к зубному врачу.
- Я хотел сказать, что отец у него должен быть все равно.
- Да, конечно. Но только при одном условии, если этот отец будет моим мужем. Тебе понятно?
Минуту-другую Леонид бессмысленно разглядывал ее профиль, острый и неподвижный. Лицо узкое, вытянутое.
Они сидели по краям зеленой скамейки, вросшей в снег. Напротив в крошечном окошке была видна женщина, которая продавала горячие пышки, обсыпанные сахарной пудрой. И в том же здании находился ресторан. А когда-то прежде там были конюшни, стояли стройные, тонконогие, породистые рысаки. Справа высился большой и сейчас пустой дворец с широкой лестницей и громадными промерзшими залами.
- А как же имя? Ведь у ребенка должно быть настоящее имя, а не чужое.
- Имя? Но ты же сам сделал так, что у него нет настоящего имени. Ты проводишь меня?
- Я хочу, чтобы у него было имя, свое имя.
- Видишь ли, для ребенка это не так важно, как он записан в каких-то бумагах. А если это важно для тебя, ты знаешь, что делать. Я тебе уже сказала.
Леонид посмотрел на пустой заброшенный дворец.
- Но приходить к нему, видеть его я все же могу или...
Зина, не поворачиваясь, глядя куда-то перед собой, покачала головой.
- Почему? — Леонид почти выкрикнул это слово.
- Ему незачем привыкать к тебе, а потом к кому-то другому. Я, как видишь, еще не стара, говорят, котируюсь не меньше, чем прежде, пользуюсь успехом у солидных людей и могу еще выбирать. Мальчик до сих пор ничего не знает, и пусть так останется. Надеюсь, тебе ясно?.. Вот снег пошел...
- Что мне должно быть ясно?
- Очень просто. Я хочу, чтобы его маленькая душа была спокойной. — Она поймала на перчатку снежинку. — У него будет другой отец.
- Но мы же не мертвые, Зина.
Она пожала плечами и сдула снежинку.
- Это что-то новое. Ведь прежде для тебя были важны одни мировые проблемы. Ты хотел быть полезным для общества. А личная жизнь тебя не интересовала. Что ж, продолжай... Я должна позвонить маме, чтобы она забрала сына из садика. У тебя есть две копейки? Где здесь автомат?
- Это все?
- Что все? Зачем ты купил это пальто? Ну перестань, пожалуйста, делать такое зверское лицо. Тебе не идет это пальто. Теперь все ходят в таких. — Она вынула сигарету, закурила, сломав несколько спичек.
- Ты куришь? — Леонид заметил, что у нее дрожат пальцы.
- Что делать? — проговорила она и вдруг заплакала. — Почему? Почему так? Ведь я же люблю тебя. Ты понимаешь, что я до сих пор люблю тебя?
- Да. Но это странная любовь, потому что думаешь ты только о себе. Об одной себе. И даже не хочешь подумать о сыне.
- Не знаю. Можешь считать меня эгоисткой, кем угодно. А кто же еще будет думать обо мне, если не я сама? И, посмотришь, ты еще вернешься ко мне. Я знаю... И выиграла я. У меня есть сын, и я люблю тебя. А ты?.. У тебя нет ничего.
Леонид проводил ее до автобуса.
...Дождь не переставал. Капли целыми пригоршнями кидались на стекло. Гитара звучала по-прежнему. Те парни под аркой, должно быть, и не собирались уходить. Леонид снова зажег свет. Стеллажи, стены, старая, в фунтах, гантель. Пусто, одиноко, тихо. А дальше? И может быть, от этой пустоты, от самого себя он и хочет спрятаться за мальчиком? Может быть, поэтому ему теперь и нужен мальчик? От женщины, которую он никогда не любил? Пройдет эта ночь, и он поедет с мальчиком вместе, как с чужим, не имея права сказать ему даже одного слова правды. Потому что так хочет она. Потому что взамен она требует всей жизни. А мальчик еще слишком мал, чтобы что-то понять. И, кто знает, поймет ли, когда станет взрослым?..
Леонид очень ясно почувствовал, что не представляет, как вести себя с мальчиком. Есть двое взрослых, навсегда разных н несоединимых, и есть мальчик, еще один мозг и еще один характер. И сейчас они совсем чужие. Может быть, он напрасно выпросил у Зины эту поездку?
Он распечатал сигареты и закурил, хотя давно отучил себя курить ночью. Прошелся из угла в угол своей пустой комнаты. Постоял у окна. Потом нагнулся, развернул чертеж, наступил на него коленями. Склонился ниже над ровными, понятными ему линиями. Он будет платить за все работой. Работать как лошадь. И знать только труд. Ведь этим можно заполнить жизнь.
Поставив локти на пол, так, что его шея почти вошла в плечи, закусив большие пальцы сомкнутых рук, он смотрел на чертеж. Вглядывался, стараясь сосредоточиться. Но все равно слышал гудение автобусов, а потом монотонный шум дождя. Так прошла ночь.
Глава вторая
1
Они стояли у окна долго, и оба молчали.
И все так же, не переставая, хлестал дождь. Только теперь уже было видно, что дождь кончается. Очень далеко, над самой землей, тучи начинали белеть, расползаться, и там быстро светлело, и кое-где засветились голубые полоски неба.
Мальчик не часто ездил в поездах, и ему было интересно смотреть в окно. Он видел большой лес, стога сена, белые колышки березовых оград, провода и черных птиц, которые мокли на проводах. Все это двигалось, и он мог бы смотреть и смотреть, но все же ему было как-то не по себе. Было непривычно чувствовать на своем плече тяжелую руку и знать, что за его спиной стоит высокий и чужой мужчина, и больше нет никого. Мальчик старался понять, что с ним происходит. Но не мог. Он знал только, что едет куда-то очень далеко, где тепло, где есть горы и где можно научиться ловить больших рыб. Несколько раз он поднимал голову, но так ничего и не сказал. Потом наконец осмелился:
- А это какие птицы?
- А ты разве не знаешь?
- Всех я еще не знаю. — Он знал, что птицы, которые сидят на столбах, — это вороны.
- Это вороны. — Леонид нагнулся к мальчику. — Это серые вороны, видишь, они серые. А бывают еще совсем черные. Ты слыхал про таких?
- Да, — ответил мальчик, и по его голосу чувствовалось, что он думает о чем-то своем. — Я люблю птиц. А ты любишь птиц?
- Я тоже люблю птиц.
- А там тоже есть птицы? — Он показал в ту сторону, куда шел поезд.
- Да, конечно. Очень много. Ты таких и не видел. Там есть даже орлы.
- Хорошо.
- Ты ведь знаешь орлов?.. Помнишь, ты с мамой ходил в зоопарк? В таких высоких клетках?
Мальчик подумал.
- Нет. Я не помню. А какие они?
Теперь уже две руки лежали на его плечах.
- У тебя плохая память? — Леонид улыбнулся. — У тебя не должна быть плохая память. Я думаю, не должна.
- Неправда.
- Что неправда?
- У меня хорошая память, — тихо сказал мальчик. — Я знаю, что у меня хорошая память. — Он пошевелил плечами, чтобы сбросить руки с себя, и замолчал.
Он обиделся.
Сзади стучали двери и ходили люди. Поезд шел и останавливался. За окном было все так же серо и хмуро, хотя дождь кончился и капли на стекле почти высохли. А те, что не высохли, были совсем маленькие и не мешали смотреть. Мальчик провел ладонью по стеклу. Руки на его плечах лежали неподвижно, но они стали как будто легче. Теперь за окном уже не было птиц, и только бесконечно тянулись провода, зеленые поля и мелькали столбы. Мальчик смотрел в окно и вспоминал город, улицы и дворы, и большой парк, где он бегал один и с другими ребятами. Ему стало скучно и немного тоскливо. И он сказал, но не вслух, а в уме: «Орлы - это птицы. Они живут на скалах». Он повторил это несколько раз и потом сказал громко, не очень громко, но все же так, чтобы можно было услышать:
- Они живут на скалах. — Он водил пальцем по стеклу. — Они самые большие... И живут на скалах... С большими крыльями, — и замолчал, ожидая.
- Ну конечно, — засмеялся Леонид и сдавил плечи мальчика. — Вот видишь, ты вспомнил. Я знал, что ты вспомнишь. Честное слово, я знал.
Мальчик тоже улыбнулся, даже приподнялся на цыпочки.
- У меня хорошая память? Ведь правда хорошая?
- Да, хорошая, — согласился Леонид. — И это очень нужно, чтобы была хорошая. А там ты увидишь, как они летают на воле. И может быть, я покажу тебе, как они охотятся. Это сильные птицы. Ты хотел бы их увидеть?
- Да. Я хотел бы. Очень.
- А может быть, мы пойдем с тобой перекусим?
- А куда?
- Здесь есть вагон-ресторан. Пойдем и возьмем что-нибудь вкусное. Ты хочешь чего-нибудь вкусного?
- Я никогда еще не был в ресторане. Только в кафе.
Мальчик отвернулся наконец от окна и поднял голову. И посмотрел мужчине в глаза. Он почувствовал себя как-то спокойнее. Этот мужчина не был похож на всех остальных. Он разговаривал с ним не так, как взрослые. И наверное, сам не такой уж взрослый, как другие, а просто очень высокий, намного выше и сильнее его.
Они прошли по всему вагону, потом между вагонами, по шатающимся железным листам, под которыми все грохотало, неслось и шумело. И мальчику нравилось, что он шел первый и сам открывал двери, наступая на железные листы и вдыхая запах дыма и дороги, а высокий и сильный мужчина шел за ним следом, спокойно, молча.
- Я не знал, что поезд такой длинный, — прокричал мальчик, и по голосу было слышно, что у него захватывает дух.
- Ну, не такой уж и длинный, — ответил Леонид. — Мы сейчас придем.
- Нет, он длинный, — крикнул мальчик. — Очень длинный.
- Да, пожалуй, длинный, — согласился Леонид. — Теперь я вижу, — он улыбнулся, глядя себе под ноги, — я вижу, что он очень длинный.
Мальчик выбрал самый ближний столик возле окна. Сел удобнее, положил перед собой руки. Ему было непривычно и хорошо сидеть за столиком, на котором стояло много стаканов, красивых, тонких, и видеть, как за окном несется, поворачиваясь, земля.
- Ну, давай теперь выбирать. — Леонид протянул ему меню. — Ты выбирай, а я буду заказывать.
- А что выбирать?
- Что хочешь.
- И надо будет платить?
- Платить буду я. Ты согласен?
- А здесь дорого?
- Ну, сегодня пусть дорого.
- Нет, я не хочу, если дорого. Надо дешево и полезно.
Леонид поморщился. Мальчик не знал, как тут надо себя держать и как ему называть мужчину. Перелистывая меню, смотрел вокруг, на соседние столики и на других людей и старался что-нибудь придумать, но ему ничего не приходило в голову. — Я не умею еще читать, — сказал наконец и положил карточку на стол. — Я люблю гречневую кашу.
- И еще какой-нибудь суп. Хорошо? Суп надо есть обязательно.
- Только немножко. Чуть-чуть. Супу я всегда ем немножко, на донышке.
- И что-нибудь сладкое. Мороженое. Ладно? — Леонид откинулся на спинку стула и огляделся. Ему нравилось сидеть рядом с мальчиком. — Ты уже большой и должен уметь читать.
- Я научусь читать в школе. Когда пойду в школу, тогда научусь.
- А почему же не сейчас? — Леонид поднял брови. — Ведь можно и раньше?
- Я пробовал, только мне трудно. Очень много букв, мне потому трудно.
- Если хочешь, я, пожалуй, тебя научу. — Леонид улыбнулся. — А то такой большой и неграмотный. Ай-ай-ай... Согласен?
- Нет, я хочу в школе. А не хочу, чтобы ты. — У него были длинные ресницы и упрямые губы. — Я хочу как все.
- А разве ты делаешь только то, что легко? А если бывает трудно?
- А я делаю только то, что легко, а не трудно.
- Но ведь ты же мужчина и должен делать не только то, что легко.
- Нет, я еще не мужчина. Я еще мальчик. — Он опустил голову и вытянул губы.
Они ели молча. Мальчик катал в пальцах хлебные шарики, бросал их вниз и, бросая, видел большие черные туфли. Ему не хотелось попадать в туфли. Он бросал мимо. Просто на пол - и все. А потом старался дотянуться ногой до шариков и раздавить их. Он больше всего не хотел дотрагиваться до черных туфель, громадных и блестящих.
- Может быть, ты хочешь мороженого еще? — спросил Леонид.
- Нет, — ответил мальчик, не поднимая глаз. Он смотрел на черные туфли. — Я не хочу.
- Но, может быть, все же хочешь еще? Я знаю, что ты любишь мороженое.
- Нет, не люблю, — глядя под стол, повторил мальчик.
Он облил рукав супом и старался поворачивать руку так, чтобы этого не было видно.
Мальчик снова шел первый, когда они проходили по вагонам. Но теперь ему уже не казалось интересным шагать по грохочущим листам и открывать тяжелые двери. Он чуть не заплакал, когда прищемил пальцы какой-то ручкой. Ему было обидно, и он чувствовал себя одиноким. Ощутил в руке хлебный шарик и бросил его вниз, в какую-то щель, где неслись черные шпалы и песок.
- Какую же ты выберешь полку? — спросил Леонид, когда они пришли в купе. — Ты, наверное, хочешь верхнюю? Когда я был маленьким, я всегда любил верхнюю.
Мальчик не ответил. Забрался на верхнюю полку, положил подбородок на сложенные руки и застыл, глядя в окно. Он старался понять, зачем его отдали и зачем он едет с этим мужчиной. Куда он с ним едет? Пальцы у него засохли от хлеба, он облизывал и вытирал их и злился, потому что хлеб не отставал. Никогда еще в жизни ему не было так плохо. Он не хотел никуда ехать. А сейчас хотел только одного: чтобы этот поезд повернул обратно и снова привез его на платформу, на его улицу, к его дому. Он вытянулся и смотрел на дорогу, которая бежала рядом с поездом. По этой дороге ехали автобусы и автомобили, и по сторонам стояли дома. Очень много домов и очень мало домов. И снова автомобили. Ему хотелось плакать.
- Хочешь, я почитаю тебе? — спросил Леонид. Он так и не мог ничего придумать. — У меня есть хорошая книга. Мировая. Вот посмотри.
Мальчик повернулся и увидел, что мужчина стоит совсем близко и показывает ему толстую книгу. Он любил, когда ему читали вслух.
- Нет, не хочу. Я смотрю в окно.
- Но это интересная книга. Я знаю, тебе понравится. Я взял специально для тебя.
- Я все равно буду смотреть в окно.
Леонид открыл книгу и начал читать. Он читал стоя. А мальчик лежал, согнув ноги, и то приподнимал, то опускал железную крышку пепельницы. Крышка лязгала сухо и громко. Раз... и еще раз... и еще...
- Тебе неинтересно? — Леонид закрыл книгу.
- Я больше не буду. — Мальчик опустил крышку.
Книга была про девочку, про ее отца и про голубую чашку, которую кто-то разбил. Мальчик повернулся на спину и слушал, глядя в потолок на какие-то блестящие металлические палочки. И постепенно забыл обо всем. Он не был злопамятным.
Вагон покачивался.
- А мы тоже пойдем в поход? — спросил он, когда книга кончилась. Мужчина смотрел ему прямо в лицо. - Мы пойдем с тобой вдвоем в поход?
- Конечно, пойдем, если ты хочешь. Хочешь? Хочешь? — Леонид положил руку на полку, на розовый матрац.
- А если вдруг дождь?
- Если дождь, мы разведем костер, сядем и будем греться у костра.
- А если он погаснет? — Мальчик приподнялся на локте. — Ведь если дождь...
Мужчина смотрел на него и улыбался, просто и необидно.
- Почему погаснет? Когда мы пойдем, я тебя научу, чтобы не погас. Хочешь?
- Да. И ловить рыбу научишь?
- Научу.
Засыпая, мальчик чувствовал, как мужчина накрыл его простыней и поправил подушку. Он уже забыл про свою обиду. Ему было приятно лежать под простыней, качаться и ехать куда-то очень далеко.
Когда он заснул, ему снились горы. Он еще никогда не видел гор. Ему было хорошо.
2
Горы были кругом. И совсем близко, и далеко на горизонте, синие и широкие, точно угловатые плечи земли. Там, в горах, где воздух всегда чист, из всех дней лучше пахнут те, которые раскалены, неподвижны и пропитаны солнечной желтизной. Тогда воздух тугой, в нем висит запах сытости и благополучия, запах богатой земли, то здесь, то там запорошенной виноградниками. Их чем-то поливают, кажется купоросом, и бывает, что издали они белеют. Над землей носится синий запах гор и цветов с гор и запах хороших дорог, разомлевших, распластанных и чем-то похожих на песню. Это благодатный край, где все создано для того, чтобы жить. Леса здесь проще, суше и не так ласковы, как в средней полосе, но так же щедры, а тишины в них еще больше, и на каком-нибудь пне под грабом или буком можно просидеть невесть сколько и забыть, что на свете есть грохот и громадные города, гудящие рельсы и коптящие паровозы.
Леонид не видел мальчика и остановился. Мальчик показался из-за куста и снова побежал вперед. Они медленно поднимались на гору. Оба в трусах и майках, а на ногах сандалии. Они уже исходили эту гору, но она все равно им нравилась. Это была даже не гора, а, скорее, круглая зеленая бородавка. «Бородавка», — так сказал мальчик, когда увидел эту гору в первый раз. И правда, подумал Леонид, бородавка.
Мальчик то пропадал, то снова вдруг вырастал между деревьями.
- А вот еще один, — крикнул мальчик. — И вот...
- Ты здорово собираешь грибы, — сказал Леонид, когда мальчик очутился рядом.
Между ними была тропинка, неровная и каменистая. И она тоже взбиралась вверх.
Леонид посмотрел себе под ноги, потом вокруг. Но ничего не увидел. Ему и не хотелось искать. Он просто брел и брел по этому лесу. Смотрел на мальчика, и ему было хорошо. И ноги сами собой шли по сухим старым листьям.
- Знаешь что, — Леонид засмеялся, — просто на твоей стороне больше грибов. Честное слово.
Только они двое и были в этом лесу.
- Тогда ты иди на эту сторону! — крикнул мальчик.
- Нет, я уже был на той стороне. Давай лучше мы будем собирать в одну корзинку. Зачем нам собирать в две? Я даже согласен нести. Не веришь? — Леонид прислонился к стволу. Мальчик не видел его.
Лес разносил их слова и прятал где-то очень далеко, может быть в дуплах дубов.
- Вот ты где. — Мальчик нашел его. — Нет, я не хочу в одну. Я хочу сам.
Его майка была синей от ежевики и никак не отстирывалась, даже хозяйка не могла отстирать.
- В одну лучше. Тогда она сразу у нас будет полная. Я тебе говорю, — Леонид засмеялся. Он был счастлив. Увидел толстый ствол и спрятался снова.
- Нет, а я все равно не хочу, — сказал мальчик. — Я буду один. И ты тоже один. Я тебя вижу. Вот ты стоишь.
- У тебя скверный характер, поверь мне. Ты должен уступить.
- Нет, это ты должен, потому что ты большой.
Они снова пошли вдоль тропинки. Большие желтые пятна солнца лежали под дубами. И лягушки здесь тоже были желтые, похожие на опавшие листья.
- Я в самом деле большой?
- Конечно.
- Ну тогда ладно. Я тебе уступаю.
Мальчик по-прежнему убегал вперед, и Леонид то и дело поднимал голову, чтобы видеть его. Для своих лет мальчик, может быть, и не вырос, но он был очень крепкий, весь сбитый и с сильными ровными ногами, какими-то удивительно неутомимыми. Шел в гору совершенно свободно. Немного валился из стороны в сторону и ставил ноги широко и твердо и очень уверенно. И Леонид подумал, что это у мальчика свое. Походка, наверное, — это то, что не зависит ни от кого. У каждого своя.
Наконец он увидел гриб. Остановился, срезал его и положил в корзину. Теперь он забыл о своих книгах и чертежах, обо всем на свете. Ему хотелось петь в этом лесу. Идти, размахивая корзинкой, и петь во весь голос. Но он стеснялся мальчика. И может быть, не только мальчика, но и себя. Он никогда не знал, что на душе у человека может быть так спокойно и хорошо. Отошел немного в сторону от тропинки и опять потерял мальчика. Поискал глазами между деревьев, прислушался, потом вышел на тропинку и постоял. Почувствовал тревогу и засмеялся.
- О-го-го!..
Голос мальчика донесся откуда-то сверху.
- О-го-го!..
- Ты слишком далеко уходишь!.. Нельзя уходить так далеко!
- О-го-го!..
Они кричали друг другу громко и долго.
Мальчик всегда убегал далеко. Он совсем не боялся леса. И Леониду нравилось это. Мальчик был очень смелым. Человек и должен быть смелым. Особенно если это мальчик.
Чем ближе к вершине, тем реже становился лес. Но воздух оставался все таким же густым и неподвижным. Потом открылось небо, большое, белое, голубое, и луг с высокой травой и цветами. Мальчик стоял на самой вершине.
- Ты ведь можешь заблудиться в лесу! — крикнул Леонид, он шел по высокой траве. — Что ты будешь делать, если заблудишься?
- Я знаю, там внизу дорога.
- И ты совсем не боишься леса?
- Не боюсь.
- Неужели совсем не боишься?
- Я же сказал тебе, что не боюсь.
- Хочешь, я подброшу тебя высоко? Очень высоко. И ты схватишься за небо. Подкину, и ты будешь парить, как птица.
- А человек разве может стать птицей?
- Может, если захочет. Если только очень захочет.
- А как? — Мальчик смотрел на него и щурился от солнца.
- Ну, это ты узнаешь потом, когда станешь побольше.
- А я хочу сейчас.
Леонид нагнулся, поднял его и подбросил так высоко, как мог. Мальчик размахивал в воздухе руками и смеялся.
- А ты чего же свалился обратно? Надо было хвататься за небо.
- А ты подкинь меня еще выше, — попросил мальчик. Он смотрел вверх. — Еще сильнее. А то я не успел.
Леонид снова подбросил его, растопырил руки и крепко поймал и потом, не спуская на землю, повернул к себе.
- Ну так что же ты не хватаешься? — и засмеялся. Он ощущал в своих руках доверчивое и живое тело.
- А там ничего нет. Там пусто.
- В самом деле пусто? — Леонид вдруг прижал мальчика к себе и, сам не понимая как, сам не ожидая этого, поцеловал в горячую и мягкую щеку. Мальчик отстранился от него, и лицо его стало серьезным. И глаза были большие и удивленные.
- Ты разве женщина? — спросил он.
Леонид опустил его на землю. Они легли на траву, и мальчик еще долго и пристально смотрел на мужчину, молчал и не двигался.
- Знаешь, я хочу тебе что-то сказать. — Леонид привстал, опершись на локоть. — Что-то очень важное. Про нас двоих... Про тебя и про меня...
Они лежали высоко. Леонид поднял голову и посмотрел перед собой. Вдохнул всей грудью этот необыкновенный, пьянящий и вольный, как сам простор, воздух. Они лежали так высоко, что отсюда вся земля казалась понятной и доступной. Чего проще: все вокруг люди сделали сами - и эти дороги, и эти крыши, и эти поля. Люди сделали это для себя, чтобы им лучше было жить на земле. И свое счастье люди тоже делают сами, если захотят.
Леонид вытер вспотевшее лицо, широко раскинул ноги, сорвал травинку и подбросил вверх.
- Ну, скажи мне. Ты же хотел что-то сказать. — Мальчик тронул его за руку.
- А тебе хорошо со мной?
- Да.
- Тебе нравится здесь?
- Я бы всегда жил здесь. Почему мы здесь не живем? — Мальчик тоже лег поудобнее, вытянул руки и раскинул ноги. — Ты меня еще поучишь рыбачить?
Леонид кивнул. Мальчик придвинулся к нему ближе.
- А я научу тебя собирать грибы, — пообещал он. — Хочешь?
- Посмотри на горы. Какие они?
- Высокие.
- А еще?
- Каменные.
- А еще?
- Я не знаю.
- Ну, ты не поэт, — Леонид улыбнулся. — Вот давай я сочиню тебе стихи.
-- Сочини, — согласился мальчик. Он ползал по траве и, не вставая, рвал цветы.
- Ну, слушай. Горы, горы, пифагоры, созревают помидоры, по две ножки, по три ножки бегал зайчик по дорожке, у крылечка, у калитки повстречались две улитки, ой-ой-ой, ой-ой-ой, умирает зайчик мой.
Оба хохотали. Потом катались по траве вдвоем, в обнимку, наваливаясь один на другого. Наконец легли отдельно, усталые, ленивые.
- А когда мы приедем, ты будешь приходить к нам? — спросил мальчик. — Я хочу, чтобы ты приходил.
- К вам?
- К нам.
- Ты очень хочешь?
- Очень. Мы с тобой сделаем грузовик. — Он потер плечо. — Мне здесь больно.
- Я тебя придавил?
- Да. Но я не заплачу. Я не маленький. И троллейбус сделаем с карманной батарейкой. А мама нам будет помогать. Хорошо?
Леонид приподнялся. День стал не тот.
- О-о, у тебя уже много цветов, — проговорил он, поправляя на мальчике майку и стряхивая соринки.
- А ты мне кто?
Это было как выстрел. Леонид не ожидал такого вопроса. Мальчик смотрел ему прямо в глаза.
- Я? — Леонид растерялся, встал и посмотрел на мальчика. — Я еще не знаю... Я... рыбак. Я тебе рыбак, — и отвернулся.
Вокруг, теснясь и надвигаясь одна на другую, стояли горы, вечные и холодные. Горы-великаны и горы-чудовища, любопытные и бездушные, то черные, то бледно-желтые, то будто отлитые, то разрезанные и развороченные и так и брошенные и никому не нужные.
Горы тянулись далеко, им не было конца.
- Ну пойдем, — проговорил Леонид. — Уже пора.
Прежде каждый раз они долго стояли рядом и смотрели вниз. Но сегодня ушли с вершины. Леонид первый, а мальчик за ним. Спускались, петляя между деревьями, и молчали.
3
Там, внизу, у подножия горы, была деревня, зеленели молодые сады и совсем рядом - река, неширокая, быстрая и красивая. Река обросла ивой так, что ветки касались воды и подрагивали на воде, а если шли дожди и река поднималась, ветки и кусты оказывались под водой и потом долго еще сохраняли желто-коричневый цвет глины, пока роса и другие дожди не отмывали их. Река была с глинистым дном, но все же чистая, если не выпадал большой дождь в горах. Леонид приезжал сюда потому, что ему нравилась эта деревня, люди в ней, приветливые и недокучливые, нравились эти горы и эта река с крутыми поворотами, ямами и могучими всплесками сомов и сазанов по вечерам, когда на воду начинал садиться туман. И он хорошо знал, что такое для этой реки - дождь. За несколько часов она становилась другой. Поднималась, мутилась и неслась как бешеная, подмывая высокие берега. Неслась так, что даже на легкой двухвесельной лодке нельзя было сделать и метра против течения, невозможно было даже стоять на течении. И тогда вся рыба уходила вниз, к Тиссе, или в саму Тиссу, или в маленькие речки искать чистую воду. О ловле нечего было и думать. Лодку в таких случаях приходилось вытаскивать на берег, чтобы ее не оторвало и не унесло. А иногда даже тащить далеко от берега, потому что вода могла подняться еще выше и разлиться.
Вот уже неделю шли дожди. Лес стоял чужой, погрустневший и черный, земля набухла. Никто не помнил, чтобы в это время были такие дожди, такая погода.
- Да, теперь ловить можно только сетью. — Леонид подошел к окну. — Но ловить сетью - это не рыбалка. Просто грабеж - и все.
Но, глядя в окно, он думал совсем о другом. О мальчике и о себе. За эту дождливую неделю мальчик привязался к нему еще больше.
- Но ведь дождь уже прошел, — несмело возразил мальчик. — Уже два дня нет дождя. Почему же мы никуда не идем? Ведь ты обещал мне.
Было позднее утро. Они только что кончили завтракать.
- А сегодня мы пойдем? — спросил мальчик.
Леонид не повернулся. От дома до реки было двести метров. На берегу, на траве, чернела перевернутая лодка, громоздкая, мертвая и тяжелая, как все мертвое. Старая, вся прогнившая и теперь уже ему ненужная.
- Понимаешь... Это надолго. Видишь ли, река все равно еще большая. Здесь дождь - это ничего. Самое страшное - дождь в горах. А в горах дождь будет идти, — и, сам не зная для чего, Леонид спросил: — А ты бы пошел ловить под дождем?
Для себя он уже все решил и сейчас думал о том, как ему сказать это мягче, спокойнее. С вечера он уложил чемоданы, собрал вещи, расплатился с хозяйкой.
- Пошел, — улыбнулся мальчик. — Я еще больше вырасту от дождя, — и улыбнулся снова, просто и открыто, ничего не подозревая. — А если мы замерзнем, мы разведем костер.
- Так. — Леонид поднял стопку книг. — Значит, ничего у нас не вышло. Будем собираться. Давай-ка поедем домой.
Наступила тишина. Мальчик стоял с мокрой тарелкой в руке, опустив другую руку в тазик с мыльной водой. Глаза его быстро заморгали.
- Совсем? — Тарелка чуть не выскользнула у него.
Он приставил ее ребром к столу, прижал к груди и, казалось, в одну секунду и только сейчас оценил и понял, что все это значит - связанные книги, собранные удочки, его одежда, разложенная на кровати.
- Совсем, — Леонид распахнул дверь, поискал что-то в маленьком коридорчике. — Ничего путёвого из этой затеи не получится, раз такой дождь. Надо уезжать. Ну да, конечно, совсем.
- Нет! — Мальчик подбежал к Леониду, посмотрел на него снизу, схватил за руки. — Ты же говорил, что еще нескоро...
- Что делать? Такая погода. — Леонид бросил на кровать еще какие-то вещи.
- Нет, я хочу здесь. Я еще хочу.
- Но, видишь ли... Я, может, тоже. Но меня ждет работа, а тебя - мама.
- А я хочу с тобой. — Мальчик просил и бродил за ним по комнате. — Я хочу здесь, с тобой.
- Нет, со мной тебе нельзя. — Леонид снял с гвоздя плащ.
- Нет, можно. Ты добрый.
- Все люди добрые. Не мешай мне.
- Все люди?
- Все.
Леонид украдкой взглянул на дверной косяк, где карандашом, синим и красным, были сделаны отметки. Даже удивительно, как быстро мальчик растет. Воздух, что ли? Горный же воздух.
Между нижней отметкой и самой верхней было миллиметров двадцать, не меньше.
- А когда же ты научишь меня ловить рыбу? — спросил мальчик.
- Кажется, я сказал, что тебе нужно делать, — отодвинув тарелки к мальчику, чтобы он поставил их в шкаф, Леонид вышел из комнаты. Спрыгнул с крыльца и, прислонившись к старой груше, уставился на гору.
Все эти дни и сейчас тоже тучи приходили из-за горы. Медленно волочились они по самой вершине, цепляясь за деревья, и потом, перевалив через вершину, точно теряли всякую силу и тяжело оседали на столбы, виноградники и дома. Все было серым и мокрым в каком-то затянувшемся ожидании.
Леонид смотрел на гору, на тучи и думал, что ему, наверное, не нужно было затевать всего этого и приезжать сюда, за тысячу с лишним километров.
Он сорвал спелую грушу, положил ее на крыльцо и пошел к реке. Над оранжевыми горшками, надетыми на изгородь, над грязной желтой дорогой проносились ласточки, то взмывая, то падая и едва не касаясь земли. Леонид и сам не знал, зачем он шел к реке. Дорога размокла под дождем, стала липкой и скользкой. Над зеленым лугом поднимался белый пар, и гуси точно плавали в нем. В канаве шумно бежал горбатый и бурый поток. Он прорывался сквозь серое цементное кольцо, как-то попавшее сюда, и падал вниз к реке. Леонид останавливался, время от времени тряс то одну ногу, то другую, чтобы сбросить прилипшую глину. Потом перешел дорогу возле старого ореха с ободранной телегами корой и сломанным сучком, засохшим и пожелтевшим, и побрел по траве, обходя колючки и желтые лужи. Отсюда уже было видно, как мелко дрожат ветки над водой, и он понял, что река все еще большая. Под навесом, который стоял в конце луга, стучала молотилка.
Через несколько шагов он увидел реку и на ней гладкие, лениво расползающиеся круги от быстрого течения. Обошел лодку и сел на нее. И река и берега были коричневого цвета. Только река, пожалуй, была темнее. По воде неслись щепки, сучья, засохшие коровьи лепешки. Эту грязь река смывала с плавучего моста, который был выше, за поворотом.
Спустившись к реке боком и выставив на всякий случай руку, чтобы не упасть, потому что ноги ползли по этой скользкой круче, Леонид выловил щепку, кружившуюся у берега, и почистил ботинки. Подошва начала отставать. Это были старые, потерявшие свой цвет ботинки, которые он оставлял здесь на зиму. А два года назад он вообще ходил на реку босиком. Натягивал хлопчатобумажные тренировочные брюки и, без рубашки, с удочкой на плече, посвистывая, слонялся вдоль берега. Тогда все на свете выглядело для него проще. Ему казалось, что все еще впереди. Он бросил щепку, выпрямился и снова посмотрел на реку. Но, возможно, вода стала светлее. Немного светлее. У берега это было видно. Особенно там, где вода пробегала над камнями. Большой камень проступал отчетливо. Леонид снова поднялся к лодке. Ему хотелось посидеть здесь. Но он знал, что мальчик его ждет и смотрит в окно. Они уже не могли друг без друга. Все получалось нелепо и жестоко. А потом у каждого останется незаживающий след.
- Ай, ну! — раздался за его спиной голос. — Думал, что конопля стоит. А вижу - человек. Здравствуйте.
На тропинке стоял знакомый рыбак с потрескавшимися старыми палками для «паука», которые он держал на плече.
- Мутная, — улыбнулся он, показывая на реку.
Деревенские почти всегда ловили на «паука». И большей частью ночью, тайком, чтобы никто не видел, потому что ловить «пауком» запрещалось.
- Да вчера была еще мутней.
- Вот оно и лучше. — Рыбак говорил на ломаном украинском, с трудом подбирая слова. — Мутная - рыба не видит. А сегодня видит.
- Правда, — согласился Леонид. — Но я сеткой не ловлю. Только удочкой. Для меня все равно мутная. Плохо.
- Теперь погода будет стоять хорошая. Или не нравится у нас?
- Не то чтобы... Дела дома... Больше нельзя.
- А-а... А то, может, пойдем вместе. Вдруг чего вам на дорогу и словится?
- Нет, спасибо. — Леонид думал о том, что мальчик ждет его и смотрит в окно. И наверное, сейчас видит его на берегу. Теперь им трудно будет отвыкать друг от друга, хотя это нужно.
Рыбак пошел дальше, ступая мягко и осторожно. Палки на его плече постукивали. Леонид еще раз взглянул на реку. Ветка, которую он вчера воткнул, была теперь почти на метр от воды. Значит, ночью вода начала падать. И теперь, Леонид тоже знал это, она будет падать быстро. Он приподнял лодку, перевернул ее, еще раз посмотрел на реку. День все равно пропавший. Как раз бывает, что последний раз и повезет. Может быть, шальной сазан или судак...
- Судака! Судака! Мы поймаем судака! — закричал мальчик.
Он обрадовался. Запрыгал по комнате, сам собрал снасти, как-то ухитрился взять в руки почти все и первый побежал к реке, дожевывая грушу, роняя по дороге то весло, то подсачек.
Теперь надо было как-то стащить лодку вниз. Они поливали глину водой и по скользкой жидкой глине тянули и тянули лодку, пока она сама не съехала в воду. Потом мальчик, весь грязный, мокрый, переложил снасти в лодку.
Выглянуло солнце.
- Какое ты возьмешь весло? — Леонид разглядывал реку. — Вот это тебе, наверное, будет полегче.
- Нет, то. Я хочу большое, чтобы трудно. Я теперь не боюсь, если трудно.
Река стала прозрачной от солнца, но все равно желтая, как будто густая.
- Ну хорошо, возьми то.
Мальчик засмеялся, взял большое весло и положил возле себя на нос лодки. Он еще не научился читать чужие мысли, и ему нравилась река - он не знал, что она опасная, — чистое голубое небо, эта лодка. Он еще не умел морщить лоб и думать о будущем. Щурился, закрываясь от солнца рукой, а другой рукой показывал на бугор из белой глины.
- Мы поедем туда?
- Нет. — Леонид оттолкнулся от берега, и лодка тронулась. — Там слишком сильное течение. Негде встать. Очень плохо. Поедем туда, к повороту. За поворотом тише.
Сначала они двигались в нескольких метрах от берега, но слишком уж медленно. Река старалась развернуть лодку и унести за собой. Им не оставалось ничего другого, как подойти к самому берегу. Леонид толкал лодку, упираясь в самое дно. Это было легче, чем грести. И он видел, как мальчик помогает ему, отталкивая лодку, когда она терлась о дно. Теперь они плыли быстрей. Но только до камней.
На середине пути им пришлось отойти от берега. Кое-как они одолели еще несколько метров и проплыли мимо больших камней и скалы, возле которой когда-то стояла мельница, а теперь остались обломки жернова и под водой редкие сваи, скользкие, зеленые. Место было совсем узкое, и течение поэтому особенно быстрое. Мальчик тоже поднял весло и стоял наготове.
- Осторожно, — предупредил Леонид, — здесь камни, — можем стукнуться. Если стукнемся, упадешь.
Мальчик выпрямился.
- И я могу утонуть?
- Да.
- Нет. — Он снова поднял весло. — Я не утону. Я никогда не утону.
И все же они наскочили на сваю. Их сразу же неудержимо понесло вниз. И Леонид подумал, что, в сущности, это и не лодка, а развалина, страшило какое-то. Вся в дырах, чуть живая, даже и сесть по-настоящему некуда. Разве что - утонуть. И непонятно, почему здесь привыкли пользоваться только одним веслом, при таком-то течении. Обойди хоть все деревни рядом, ни за что не найдешь легкой лодки с уключинами. Такую тяжесть, как эта, легче тащить по-бурлацки, чем плыть в ней. И все потому, что эти лодки служат одной цели: воровать лес. Делают лодки так, чтобы нагрузить леса побольше, и все. А потом строят дешевые дома. Вот зачем такие громоздкие лодки.
С большим трудом Леонид остановил лодку и сразу же повернул к берегу. Мальчик все так же старательно помогал ему.
- А ты все же успел загореть, — заметил Леонид. — Ноги совсем черные.
Мальчик улыбнулся.
- Я всегда загораю быстро, самый первый. Когда приеду, я буду самый вкусный. Потому что поджаристый.
- Ты не устал?
- Нет. Я могу еще долго. А ты?
- Если хочешь, отдохни.
- Нет, отдохни ты.
У него было потное и счастливое лицо. И он радостно охал, когда изо всех сил упирался веслом в берег, чтобы оттолкнуть лодку.
- Ты молодец. Ты будешь сильным, — глядя на него, сказал Леонид.
- Я буду такой, как ты.
Леонид отвернулся. Впереди было большое ровное поле, пустое, ничем не засеянное, едва поросшее травой. За этим полем - синяя линия леса. А здесь, на берегу, паслись свиньи, и на обрыве, свесив ноги вниз, сидел старик и покуривал трубку. Маленькая черная собачонка носилась и лаяла, отгоняя свиней, когда они подходили слишком близко к воде, а старик дремал на солнце, открывая глаза лишь для того, чтобы потянуть трубку.
Они проплыли уже мимо горбатой, скрюченной ивы, наклонившейся над рекой, и теперь им оставалось совсем немного до поворота. Возле этой ивы с удочкой в руке стоял какой-то подросток. Потом Леонид увидел, что это женщина в спортивном костюме. Очевидно, нездешняя. Из-под соломенной шляпы лица не было видно. Она как раз поднимала удочку, и Леонид подумал, что крючок будет пустой. Крючок был пустой.
Они проплыли дальше. Леонид выбрал небольшой залив за поворотом, где течение было всего тише. Река образовывала здесь что-то вроде маленького озера.
- Ну, попробуем. — Он привязал якорь, посильней затянул веревку. — Нас здесь хотя бы не будет сносить.
День совсем прояснился. Было видно, что река постепенно успокаивается. Начинали показываться затопленные коряги и камни. Песок кое-где снова становился желтым. Белые и сытые, по песку бродили гуси. С высокого и крутого берега доносились голоса, и там шевелились желтые сухие цветы кукурузы. Весь противоположный берег был стеной кукурузы.
Мальчик устраивался в лодке. Взял свою удочку и начал разматывать.
- А ты раньше ловил здесь? — спросил он.
- Здесь хорошее место. Есть сазаны... Прежде я всегда ловил здесь. Впрочем, как повезет. — Леонид бросил якорь.
- А ты говорил - там.
- И там тоже. Не нужно разговаривать.
Клева не было. Ни одна рыба не плеснула возле них, и только течение засасывало поплавки.
- А мы какую поймаем рыбу? Судака?
Мальчик забрасывал удочку и тут же поднимал ее. И опять забрасывал так, что леска свистела. Лодка раскачивалась и постепенно становилась поперек течения. Ему нравилось сидеть в лодке, среди воды, забрасывать удочку и вынимать.
- А если мы поймаем, мы не уедем?
Леонид молча переставил ноги. Его поплавок дрожал, но просто оттого, что двигалась лодка. Мальчик прыгал по лодке, и она качалась. Леонид внимательно посмотрел на него. Мальчик размахивал удочкой, и казалось, он был сделан из резины - так дергался и прыгал.
На дне лодки была вода. Ее становилось все больше, и лодка совсем развернулась. Теперь берег был так близко, что Леонид никуда не мог закинуть удочку. Надо было ставить лодку на старое место. Он поднял удочку, положил на край лодки и, ссутулившийся весь, долгим невидящим взглядом смотрел на берег, заваленный хворостом, какой-то черный, безжизненный, колючий, ненужный.
Мальчик уже забыл о своем поплавке. Теперь он был занят гусями, которые с шумом плескались у другого берега, ныряли и выскакивали из воды, гогоча и хлопая крыльями. Он показывал на гусей и весело смеялся. Потом спросил:
- А гуси тоже могут утонуть?
- Они легче воды. — Леонид взял весло, чтобы выровнять лодку.
- А почему они легче?
- Потому что легче.
- А почему?
- Я не понимаю тебя. — Леонид поднял голову. Он сидел, повернувшись боком, двумя руками стиснув весло, опущенное в воду, и думал о том, что ему не нужно было выезжать на реку. — Я не понимаю, кто научил тебя задавать вопросы. Всегда и по всякому поводу. Это, знаешь, какая-то не мужская привычка. И скакать по лодке - тоже не по-мужски. Мы так ничего никогда не поймаем.
Мальчик повернулся и застыл, увидев перед собой жесткие незнакомые глаза.
- Я люблю с тобой ходить в лес. Но ловить с тобой рыбу не люблю. Ты понимаешь?
Мальчик молчал.
- Я спрашиваю: ты понимаешь? — еще тверже повторил Леонид. — Если ты хочешь ловить, так лови. Ты хочешь?
- Да, — тихо ответил мальчик, и губы у него дрогнули. Он почти плакал. — Я не умею.
- Если я тебя взял, ты должен сидеть тихо. Так нельзя вести себя в лодке. Каждую минуту вскакивать, поднимать удочку и пугать рыбу, — Леонид не видел ничего, не видел даже лица мальчика. Он старался поставить лодку на прежнее место и греб так, что вокруг шумела вода. — А научить тебя я, видно, уже не смогу никогда. Не смогу ничему. Теперь уже поздно.
Мальчик двумя руками держался за борт. Весь сжался, а в глазах у него застыли слезы. Он ничего не понимал.
Леонид поставил лодку. Потом, опустив голову, долго снимал свитер, долго и неловко, точно запутался в нем. Глядя на него, мальчик тоже снял свитер, свернул и положил на сухое место. И сидел, застыв, молча и неподвижно.
Минуту-другую оба сидели замкнутые, чужие.
- Ну вот. — Леонид поднял удочку. — Ну вот... — Он подумал, что так нужно было сделать, так лучше для них обоих. — Вот мы и половили. Все. И теперь мы уедем. Ты - к маме. Конец.
Мальчик вздрогнул, прижался к лодке.
Леонид долго выбирал якорь, никак не мог отвязать его и в конце концов вынул нож и рывком отрезал веревку. Мальчик не произнес ни слова. Отвернулся, сел на корточки и стал собирать воду ладонями и выбрасывать ее в реку. Леонид видел его согнутую спину.
Когда они подплывали к дому, солнце уже садилось за гору и старик гнал свиней к деревне. Он просто брел за свиньями, за облаком пыли, которое они поднимали, и помахивал кнутом, а свиней подгоняла собака. И женщина в соломенной шляпе по-прежнему была на реке. Но только в другом месте. И по-прежнему такая же одинокая и лишняя. Она стояла по колено в воде и держала в руке свою маленькую бамбуковую удочку.
Волосы у нее были такого же цвета, как шляпа. Возле нее, на камне, стояли белые, видно только сейчас отмытые от глины туфли.
Теперь не надо было грести. Лодка шла сама собой, подгоняемая течением. Леонид время от времени опускал весло и выравнивал ее. Мальчик по-прежнему сидел молча, отвернувшись, и вычерпывал воду.
- Вот что, — не выдержал Леонид. — Если хочешь, можешь порулить. Возьми весло. Ну, возьми... поучись...
Леонид поднял весло и заметил, что женщина смотрит в их сторону. Теперь он боялся, что мальчик не повернется и не возьмет весла. Он уже жалел о том, что случилось на реке, и сам поднялся, протягивая мальчику весло.
- Порули, если хочешь, а то я устал. Здесь нетрудно. А я устал, честное слово. Возьми весло.
Мальчик перестал собирать воду.
- Ну, возьми, — мягко повторил Леонид.
- Я не умею. — Мальчик повернулся и поднял глаза, полные слез. — Я не умею, — повторил он глухо.
- Я покажу тебе.
Течение было быстрое. Они оба не заметили, как лодка прошла мимо камней и над сваями. Уже виден был белый колышек на берегу, к которому они привязывали лодку. Одинокая женщина, похожая на подростка, осталась где-то сзади.
- А я в самом деле могу утонуть, если упаду? — спросил мальчик. Он спросил это так серьезно, словно все время только об этом и думал. — Если упаду, сразу же утону?
- Ты не упадешь. Ведь мы же вдвоем, правда?
- А если я утону, тебе будет жалко? — Мальчик посмотрел на него.
- Да.
- А почему?
Мальчик ждал.
- Потому что всегда жалко, когда тонет человек, — ответил Леонид не сразу.
- Потому что всегда жалко?
- Да. Потому что всегда жалко.
- Всех?
- Всех.
Они собрали снасти, потом прошли мимо колхозниц, которые замачивали коноплю и бросали на нее камни, и поднялись на берег. Глина уже не была скользкой.
Луг, по которому они шли, высох, и на траву села пыль. Луг был зеленый и серый. Леонид ощущал усталость. Он точно переболел, и ноги плохо слушались его.
- Ну вот, — сказал он и оглянулся.
Мальчик медленно брел в стороне от него, молча и сам по себе.
Этого Леонид и хотел. Теперь пришло самое время уехать.
4
Вечером они лежали под большой периной и молча смотрели, как под потолком летают светлячки. Они спали вместе. Чтобы поработать, Леониду нужно было сперва полежать с мальчиком и дождаться, пока тот заснет. Леонид лежал, закинув руки под голову, и смотрел прямо вверх.
Сегодня было не так много светлячков. Иногда бывало больше. Они летали какими-то странными зигзагами и то гасли, то вспыхивали зеленым живым светом. Порой этот свет, казалось, превращался в какие-то круги, эллипсы и параболы.
Мальчик что-то бормотал и тоже смотрел на потолок. Он лежал и рассуждал с самим собой, как будто рядом никого не было.
- Ты еще не спишь? — спросил Леонид. — Тебе пора спать. Уже очень поздно.
- Нет, — глаза у мальчика были широко открыты, — я еще не хочу. А можно их взять с собой, если спрятать в коробочку? — спросил он.
- Нет. Они погибнут. Они сразу же там умрут.
- А я хотел показать их маме. А мы утром уедем? Да?
Леонид видел, как двигались под потолком светлячки.
- Но ты ведь сказал, что хочешь утром?
- Да. Я не хочу больше здесь.
Леонид опустил руку и поднял сигареты. Сигареты и пепельница были на полу, возле кровати. Он как-то машинально перекладывал их сюда со стола.
- Ты должен спать. Ты ведь обещал мне, что будешь спать. Это слово мужчины?
- Да, — вздохнул мальчик. — Жалко, что мы не поймали большого судака, правда? — Он почему-то всегда говорил именно о судаке. — Нужно было настойчиво. Нужно было как следует разозлиться, и тогда бы мы поймали. Правда?
Это были не его слова, но он постарался произнести их очень твердо, как свои.
Леонид промолчал.
Мальчик повертелся немного, устраиваясь удобней, пробормотал еще что-то и замер. Потом, засыпая, прижался к Леониду и во сне обнял его.
Леонид слышал, как проезжали под окном телеги, грохоча слишком долго, и слишком громко разговаривали люди на телегах. Белый свет дрожал на стенах, когда грузовик фарами осветил комнату. Осветил кружевные занавески, икону в углу и высокую черную спинку кровати. В этот вечер Леонид не встал, чтобы работать. Он ненавидел себя.
5
Ночью снова где-то грохотало. Леонид лежал и вслушивался в этот грохот. Может, это была гроза в горах. А может быть, рвали скалы в каменоломнях и в горах лишь каталось эхо. Потом, ближе к утру, прошли небольшие тучи и немного покрапал дождь. Дождь без ветра. Он упал внезапно и тихо зашуршал в листьях орехов, и мелко и серо застучал по крыше и по ржавому подоконнику. Орехи стояли совсем близко от дома, и от первых же капель в воздухе появился шум, мягкий и теплый. Он пополз к земле и накрыл ее. Он был мутный и невесомый, этот шум. Еще ближе к утру в горах перестало грохотать, и начали петь птицы, чувствуя близость нового дня. И когда дождь кончился, сделалось совсем тихо, и голоса птиц зазвучали громче. И все это было где-то в серой мгле, где река, дорога, и столбы, и орехи на дороге. И большие невысыхающие лужи, мутные и темные. Потом стало белеть. Появилась прозрачная синева, и очень далеко возникла гряда гор, ровных и прочных.
Глава третья
1
К следующему дню погода совсем отстоялась. По горизонту и над горами, тая, проплывали белые, легкие облака. Снова запахло сухим лесом, нагретой землей, запрыгали кузнечики, и над цветами закружились шмели, а над дорогой - пыль. Солнце, едва поднявшись, начало жечь. Река тихо блестела.
Ранним утром, когда Леонид и мальчик проплывали на лодке вдоль кустов, выбирая место, где поставить жерлицы, женщина-подросток окликнула их:
- Вы не знаете, у кого здесь можно купить рыбу?
Отвязывая на рассвете лодку и разглядывая цвет воды, а потом и небо, Леонид вспомнил о ней и был просто уверен, что снова увидит ее на реке. И едва они миновали поворот и подплыли к мельнице, сразу же увидел: она стояла, неловко подняв удочку, и теперь ее мальчишеская тонкая фигура в соломенной шляпе показалась Леониду по-городскому вызывающей на этом сером глинистом берегу, залитом утренним ослепительным солнцем.
Услышав их голоса, она перестала ловить, а только следила за лодкой, медленно поворачивая голову.
- Здесь кто-нибудь продает рыбу? Вы не скажете? — Голос ее вдруг сорвался. Она закашлялась и засмеялась, но увидела, что мужчина повернулся к ней, а потом сильно оттолкнул лодку от противоположного берега.
- Здесь каждый ловит только себе, — крикнул он, выпрямляясь и поднимая весло.
Лодку понесло наискосок по реке, между камнями. Мальчик попытался остановить ее и греб один, но силы у него не хватало, чтобы справиться с течением.
Ожидая, она вошла в воду, заслонившись от солнца рукой, сама не зная, зачем окликнула их, не понимая, почему вдруг сделала это.
Каждый день, разглядывая по утрам горы, сидя у своего окна, она видела, как мужчина и мальчик выбегают на луг и бегут к реке, быстрые и здоровые, и там, на лугу, гоняются друг за другом, прыгают и носятся, распугивая гусей, а потом снова выходят на луг и садятся в лодку. Несколько раз она проходила по берегу, когда этот мрачноватый и диковатый на вид мужчина учил мальчика плавать, а дети, сбежавшись со всей деревни, сидели наверху и смеялись. Потом как-то видела их лодку далеко за мостом, и еще раз очень далеко, у самого леса. Мужчина и мальчик полуголые, загорелые, похожие на каких-то лесных людей, разводили костер.
Она следила за лодкой, которая, вздрагивая, цепляясь за камни, стремительно неслась к ней напрямик через реку. Один раз лодку стукнуло так, что она едва не перевернулась. Мальчик устал и тоже поднял весло, но уже у самого берега.
- И у нас ничего не выходит, — сказал мужчина, поставив ногу на борт, — да и вообще сейчас не ловится. Не та вода, — и он посмотрел вдоль берега, как будто искал что-то на земле.
- Но, может быть, в этой реке и нет рыбы? Странно, что никто из местных не ловит.
Теперь он удерживал лодку на месте, воткнув весло в дно, и она увидела, какие у него большие и сильные руки. Его лицо показалось ей немного угрюмым и неприветливым. И глаза как будто царапающие. На секунду она даже почувствовала неловкость под его жестким взглядом и машинально переложила удочку в другую руку. Потом оперлась на нее, точно не знала, куда деть. Но он уже отвернулся.
И глаза мальчика тоже были твердые.
- Нет, почему же? — Вытерев рукой лицо, Леонид поднял моток спутанной лески. — Рыбы много. Но река капризная. А люди вокруг заняты виноградниками, а не рыбой. Попробуйте ловить в другом месте, — и он нагнулся к мальчику. — Здесь, кажется, нет такого камня, как нам нужно. Придется ехать за поворот.
Мальчик встал и тоже начал разглядывать берег.
- Тогда, может быть, виновата удочка или крючок? — Она засмеялась.
- А тот камень? — спросил мальчик.
Мужчина взглянул.
- Нет, тот слишком велик.
Он продолжал распутывать леску. Ловко и быстро наматывал на пальцы, потянул, но не разорвал. Потянул еще раз, и наконец разорвал, и ответил:
- Крючок, как правило, здесь ни при чем, если только он не ломаный.
Она уже не знала, как ей уйти, и хотела уйти, но невольно сделала шаг к лодке, протягивая ему удочку, словно для того, чтобы оправдаться. Ее спортивные брюки были закручены до колен. Ниже колен остались ровные кружки глины.
Леонид нажал на весло, и лодка двинулась и вползла на берег. Мальчик покачнулся от толчка, уронил черпак и еле успел схватить его.
- Один раз у меня даже что-то поймалось. Но я не вытащила. — Она снова почувствовала себя неловко.
Он все же взял у нее удочку. Но, как ей показалось, не просто нехотя, а даже резко и грубо. Удивленная, она посмотрела на него с любопытством. Он был на целых две головы выше ее. И что-то очень упрямое и мужское было в его глазах, в движениях его губ и в том, как он посмотрел на нее в упор и холодно. И у нее мелькнула мысль, что в этом человеке есть что-то глубоко спрятанное, он что-то скрывает за своей грубостью или что-то хочет скрыть. Она была даже уверена, что это именно так. Да, несомненно, что так. И ей уже стала неинтересна ее удочка, эта река и рыба в этой реке... Она ждала, что он ответит. Вдруг перестала бояться его угрюмого вида.
- Нет, крючок вполне приличный, даже хороший. — Он возвратил ей удочку и повернулся к лодке.
-Я слышала, что вы отдыхаете здесь не первый год.
Нагнувшись, он вынул из воды камень, взвесил его на руке и начал обвязывать веревкой. Мальчик вычерпывал воду из лодки, хотя воды там почти уже не было. Он был босой, непричесанный, в одних трусах, рваных и выпачканных глиной.
- И вам нравится здесь? — спросила она.
- Да как вам сказать. Немного сурово. Но это как для кого. Мне подходит.
- А знаете, мне тоже кажется, что я начинаю привыкать. Горы и река. Я, правда, в этих краях первый раз.
Он кивнул.
- Да, это верно, что здесь есть горы и река.
- И я даже удивлена, что еще существует такое тихое место.
Леонид посмотрел ей в лицо.
- Вам и в самом деле нравится здесь?
- Да... Кажется, да.
- Вы приехали в эту деревню одна?
- Да, одна.
Он усмехнулся.
Она простила его, промолчала, как будто даже не поняла того, что он хотел сказать. Все еще смотрела на мальчика, который и лицом и своей угловатостью был удивительно похож на мужчину. Мальчик вертелся в лодке и теперь начал злиться. Черпал воду из реки и с шумом выливал ее на берег. Белые от солнца брызги разлетались во все стороны, попадали ей на ноги.
- Перестань, — приказал мужчина.
- Мне кажется, что сюда и надо приезжать одной, — она продолжала смотреть на мальчика. — Именно в такое тихое место одной.
Он пожал плечами.
- Это, наверное, бывает по-всякому. Бывает, что лучше одному, но бывает, что одному не лучше.
Она рассмеялась.
- У вас каждый раз так много точек зрения?
Мальчик вышел из лодки, взобрался на берег и потянул мужчину за руку.
- Это ваш сын?
- Это? — Распустив веревку, он положил камень в лодку. — Это мой друг.
И она увидела, как лицо мужчины сразу же сделалось замкнутым и напряженным, а лицо мальчика потемнело, глаза стали растерянными.
- Садись в лодку. Мы сейчас поедем. Иди. Ты меня понял?
Они стояли друг против друга, все еще держась за руки.
Она посмотрела на мужчину внимательно. Потом долго и очень внимательно на мальчика. И неожиданно гак ясно увидела их двоих на этом грязном глинистом берегу: одного - большого, широкоплечего, а другого - совсем маленького, таких похожих, но в чем-то разъединенных, даже чужих. Почувствовала смятение от каких-то неясных догадок и нагнулась к мальчику, глядя в его большие, недоверчивые глаза.
Мальчик отвернулся от нее.
Она нагнулась, еще ниже, села на корточки, спросила негромко и осторожно:
- А что у тебя с пальцем? Покажи мне, пожалуйста. Я - доктор.
Мальчик отдернул руку с забинтованным пальцем, спрятал за спину и еще ниже опустил голову.
- Я желаю вам хорошо порыбачить. — Леонид сунул леску в карман, поднял мальчика за локти и поставил в лодку. — Но в этом месте плохо. Надо ловить там, подальше. Вон возле кустов или на повороте. Там лучше.
...Оставшись на берегу одна, она смотрела, как лодка медленно и с трудом движется между камней. Мужчина и мальчик гребли вместе и молча. И вдруг, как никогда остро, в эту минуту особенно остро, она почувствовала себя маленькой, слабой и никому не нужной. От ее напускной самоуверенности не осталось и следа.
Она и сама не знала, почему выбрала эту деревню с мутной и желтой рекой и с грязной травой, на которую нельзя было даже прилечь, потому что вся она запачкана гусиным пометом. Ей было тоскливо в этой тихой и почти пустой деревне. И к тому же шли дожди. Иногда целыми днями.
Она сняла комнату так, чтобы из окна были видны горы, река и поле перед горами. Но горы были слишком угрюмы, и в них было слишком много застывшего и потому вызывающего. И от этого ей становилось еще хуже, и она не знала, как спрятаться от самой себя.
Она стояла на пустом берегу и чувствовала, что вот-вот заплачет.
Потом какой-то деревенский парнишка принес ей домой забытую удочку.
2
- Судак! — кричал мальчик. — Мы поймали судака!
Размахивая руками, он прыгал, весь потный, красный и счастливый.
Был полдень. Все живое спряталось от зноя, кукурузные листья обвисли и точно завяли, река утомительно блестела, тихая, размеренная. Даже гуси попрятались под деревья. И только большие черные ужи остались лежать на раскаленном песке, растянувшись у самой воды. Леонид подогнал лодку, поставил ее под кусты. Бросил соменка в подсачек и начал собирать снасти.
- Дай я понесу, — сказал мальчик.
- Он еще живой, — ответил Леонид. — Уронишь в воду, и уйдет.
Утром они поехали к лесу, где были большие ямы, а под обрывом - омут. Место хорошее, но очень далеко. Пришлось два километра грести против течения. Но и там не ловилось. Соменок не взял блесну, а зацепился за нее и возле самой лодки чуть не ушел. Леонид держал спиннинг, а мальчик в это время успел опустить подсачек и потом чуть-чуть поднять его над водой. Они оба устали.
- А это самый главный судак? — Мальчик смеялся.
Леонид через плечо взглянул на него.
- Это не судак, а сом, — сказал он. — Вот возьми удочки.
Трехкилограммовый соменок лежал в подсачке, вытаращив черные крошечные глаза. Он не двигался. Усы его безжизненно повисли, и, когда вода в лодке качалась, усы качались тоже. Мальчик стоял над ним нагнувшись и трогал его забинтованным пальцем.
- Это самый большой судак, правда? Это самый главный судак. Мы приедем, и я расскажу маме.
Леонид пожал плечами.
- Это сом. Это сом, а судак белый. Такой серебристый. Ведь я тебе уже объяснял.
Он собрал снасти, вышел из лодки и положил подсачек на траву. Мальчик выскочил следом за ним. Сел, расправил сетку и гладил соменка ладонью.
- Я еще никогда не видел такого большого судака, — говорил он, смеясь и стараясь заглянуть Леониду в глаза. Вот уже несколько дней на душе у него было неспокойно. Он не знал, в чем провинился, и не понимал, почему мужчина не смотрит на него, и не знал, что ему сделать, чтобы все вновь было по-старому. — Мы нальем в корыто воды и пустим его плавать, — сказал он. — Потом положим в таз и привезем маме. А что он ест?
Леонид выбросил на траву удочки и спиннинг, привязал лодку.
- Он уже не ест. И его нельзя привезти маме.
- Дай я его понесу. Можно?
- Возьми удочки.
Мальчик поднялся и покорно взял удочки. Вскинул глаза и спросил:
- Он тяжелый? И он уже не будет плавать? Он тяжелый?
Леонид бросил взгляд на лодку, на противоположный берег, на воду. Поднял подсачек, положил себе на плечо.
- Он тяжелый? — снова спросил мальчик.
- Ну вот, — Леонид переложил подсачек с одного плеча на другое. Взял весла. — Вот теперь у нас будет ужин. Половину зажарим, а половину кому-нибудь отдадим.
Мальчик остановился.
- Нет! — Он подпрыгнул, и схватил сетку рукой. — Нет, не отдадим. Это наш судак. Мы никому его не отдадим.
- Ты оборвешь сетку.
- Нет, нет. Я не хочу. — Он прыгал, тянул сетку вниз. Бинт сполз с его пальца, упал на песок. — Нет, я не хочу. Это я его поймал.
Леонид поддержал подсачек другой рукой и поднял выше.
- Ты разорвешь сетку.
- Нет! — Мальчик тянул и тянул сетку, стараясь схватить рыбу, в глазах его заблестели слезы, и все лицо сморщилось. Он все время держался, все эти дни, и вот теперь не выдержал. — Нет! — кричал он, прыгая и растирая по лицу злые слезы. Он уже не мог допрыгнуть до подсачка, пнул удочки ногой, повернулся и, горько всхлипывая и задыхаясь от слез, пошел в поле. Для него все это тоже было слишком сложно и трудно.
Леонид, пораженный, смотрел на него. Стоял не двигаясь, потом нагнулся, Положил спиннинг, соменка, весла и крикнул:
- Подожди! — и крикнул снова: — Подожди!
Они двигались один за другим по тропинке, вдоль берега. За кустами текла река, мутная и тяжелая. Мальчик всхлипывал. Он шел вперед, не оборачиваясь, не зная куда, а Леонид шел за ним следом.
- Обожди!
- Ты нехороший. Ты нехороший.
Он свернул с тропинки и пошел по траве.
- Постой! Ну постой же!
- Нет. Ты все равно нехороший. Все равно нехороший.
Мальчик не поднимал головы. Кукурузные листья, острые и шершавые, били его по лицу, и он, не останавливаясь, рвал их и бросал на землю.
Мальчик остановился, и Леонид остановился тоже.
- Ты не хочешь со мной дружить?
- Нет. Ты нехороший.
Он наклонил голову, губы у него были вытянуты.
- Но дружить мы можем? — сказал Леонид.
- Я не хочу с тобой дружить.
- А я хочу.
- Нет.
- Я возьму тебя когда-нибудь на Волгу. Там есть вот такие рыбы, — Леонид показал руками. — Мы с тобой можем быть хорошими друзьями на всю жизнь. Даже настоящими друзьями. Ты, я и мама.
- Нет, — отрезал мальчик.
Он повернулся, и они двинулись дальше, теперь уже совсем не разбирая дороги. И деревня, и гора, и кукурузное поле - все было горячим и желтым от солнца.
- Ну хочешь, я отпущу тебя спать на сеновал вместе с ребятами? Ты ведь просил меня. Помнишь? И мы никуда не уедем отсюда.
- Нет. Я все равно буду спать на сеновале, а с тобой я не буду.
- Значит, ты не хочешь мириться?
- Нет.
- Ну, я пошутил. Давай поговорим. Я пошутил, честное слово. Мы никому не отдадим этого сома.
Мальчик остановился снова. Теперь кукурузное поле кончилось. Впереди был луг и болотце с лягушками.
- Ну подумай. — Леонид протянул ему руку. — Почему бы нам, в самом деле, не быть всю жизнь хорошими друзьями. А может быть, даже не просто друзьями, если мы так решим. Разве я тебя обидел? Давай помиримся. Слышишь? Мы ведь с тобой не чужие.
Мальчик смотрел на его руку.
На болотце сел аист, схватил лягушку и улетел. Летел медленно, низко, делая тяжелые взмахи. Большая и только сама себе нужная птица, которая будто приносит людям счастье.
- Тебе было нехорошо со мной?
- Нехорошо. Я больше не поеду с тобой. Я сам поймаю судака.
- Никогда не поедешь?
- Никогда. — Он поднял лицо, на котором была обида и слезы и, может быть, даже ненависть.
3
Теперь они снова стали чужими. В садах синели сливы. Подсыхали нанизанные на нитки грибы. С тяжелых веток срывались яблоки, доставаясь иногда детям, а иногда свиньям. Грузовики увозили с полей капусту и помидоры.
Мальчик спал на сеновале, ел за столом хозяйки, а потом на весь день убегал с деревенскими ребятами копать каких-то необыкновенно толстых червей, искать круглые оранжевые трюфели, или «яйца», как их здесь называли, а всего вероятнее его можно было увидеть на берегу с удочкой в руке. Лодка уже не интересовала его. Да и удочка, наверное, тоже. Он сидел на берегу застывший и смотрел куда-то перед собой. Леонид следил за ним из окна и, если мальчик спускался к реке, выходил из дома и, стараясь быть незамеченным, быстро шел к высокому ореху, который рос у самой воды. Садился под этим деревом так, чтобы его не было видно, и вслушивался в голоса, доносившиеся до него. Он волновался, когда мальчик был возле этой беспощадной сильной реки, которая все так и не успокаивалась, была быстрая, мутная, коричневая от глины и очень опасная даже для взрослого. Жара то и дело загоняла детей в воду. Дети устраивали на высоком берегу скользкие тропинки и голые съезжали вниз, кувыркаясь и плюхаясь в реку, а потом барахтались у берега.
Мальчик так и не научился плавать. И Леонид застывал, если кто-то вдруг начинал громко кричать на берегу.
Комната приняла новый вид. Стол был завален книгами, а на полу белели большие куски ватмана. Все было так, как Леонид и хотел: тишина с утра до вечера. Но он все равно не находил себе места. И сам не понимал, отчего в нем жила тревога и было неспокойно. Он никогда раньше не замечал, что деревня целыми днями пустая и что здесь столько гусей. Сотни, тысячи, может быть. Длинными колоннами они вышагивали от реки к дороге и выщипывали из проезжающих возов колоски пшеницы. Подстерегали возы на обочине и потом, гогоча что есть силы, бежали за ними, вытягивая шеи, размахивая крыльями и совсем не представляя, что такое колеса, вертящиеся, обитые железом, безжалостные, как эта река.
Леонид открывал книги, перелистывал и захлопывал. Брался за одну таблицу, за другую - и бросал. Махнув рукой, закрывал окно на крючок, чтобы ничего не сдуло ветром, шел в лес и бездумно бродил там под дубами. Всюду, даже на открытых местах, виднелись черноголовые боровики. Торчали прямо из травы. Казалось, что этот лес забыт и брошен. Душный воздух, и на полянках - ослепительная зелень. Лежа в траве и глядя в небо, Леонид думал о мальчике, о себе и Зине. Вот теперь ему стало совсем плохо. Теперь он и сам был разорван на части, которые соединить невозможно. Но ведь есть же у него право на счастье, и мальчик тут, наверное, ни при чем, пусть останется с Зиной. А может быть, ради мальчика... А почему нет? Так ведь бывает, что человек приходит в свой дом только для того, чтобы пообедать, почитать газету, посмотреть телевизор, а утром, позавтракав, начинать свои дела. Обыкновенная история. И какое это имеет значение, любит он Зину или нет. А кроме того, в большом городе всегда можно найти, чем занять себя. Друзья, концерт, лыжи. Ну и что из того, что Зина не понимает его, не знает, что ему нужно?.. Нет, но ведь это ложь, ложь в собственном доме. Всю жизнь быть неестественным, обворованным... Что остается? Работа? Но если в городе у него не хватало времени, так почему же сейчас он не идет в тихую, пустую комнату, где разложены книги, где окна выходят в сад и можно работать сколько хочется? Значит, его работа - это тоже не то. Просто когда-то он вбил себе в голову: «Я - изобретатель», а теперь ему жалко прощаться с этой мечтой.
Сперва он выдумал, что рожден для всех и принадлежит людям, всем людям вообще, и все несся за какой-то жар-птицей, не сумев заглянуть в душу ни себе, ни другим. Что же вышло? Теперь всем плохо: и ему, и мальчику, и Зине. А правда одна - мальчик. Мальчик - это не идея, которую можно придумать или опровергнуть... И Леонид снова мысленно возвращался к Зине, входил в дом, садился с ней за стол, говорил с ней. И нет, нет, у них ничего не может быть. Все развалится завтра же. Останется только злость друг на друга. А мальчик не виноват. Но почему они навсегда связаны втроем? Ведь может быть и так: отец и сын. Мальчик должен знать правду. Где же выход? Что ему нужно сделать?..
...Зачеркнуть старое, несоединимое. Взглянуть на вещи реально. Вот где выход. И это совсем просто. Да, конечно. Странно, что он так боялся этой мысли прежде.
Он пошел на почту. Испортил один бланк, а на другом крупными, четкими буквами написал: «Иркутск. Сообщите возможность вернуться через месяц прежнее место постоянно. Кропилин». Расписавшись, поставил жирную точку, про себя сказал: «Все». И в самом деле почувствовал себя обновленным и даже сильным.
После этого, вечером, снова связал все книги, бросил к печке начатые чертежи, попросил у хозяйки утюг и погладил себе рубашку. Размахивал чугунным утюгом, как давным-давно размахивал своей ржавой гантелью, и даже насвистывал. По крайней мере там, в Сибири, у него не будет времени на то, чтобы копаться в самом себе. Он начнет жизнь снова, много не фантазируя, делая то, что от него потребуют. И так день за днем. Всегда. До конца.
Он видел, как мальчик заглянул в окно, но сразу же убежал.
- Значит, не уезжаете еще? — улыбаясь, спросила хозяйка. Она была маленькая, худенькая, всегда в белом платке, завязанном под подбородком. — Пойдете в кино? Сегодня привезут картину.
- Может быть. — Леонид разглядывал рубашку. — Еще не знаю. Но теперь все может быть. Если приду поздно, покормите его.
- А-а-а, — хозяйка засмеялась и погрозила ему пальцем. — Панико в соломенной шляпе. В такой круглой шляпе. Красивая панико. Беленькая.
4
На следующий день - а с утра чуть все не сорвалось, потому что было свежо, но потом ветер стих, — они медленно прошли на виду у всех, кто стоял возле молотилки, гнал корову или сидел на лавке у магазина.
Было еще рано. Но потом они потеряли много времени на берегу, стоя среди скопившихся подвод, женщин и детей. После больших дождей в горах река снова начала разливаться, на этот раз еще сильней. Ночью мост затопило, и мужчины подтягивали трос и готовили новый, чтобы мост не унесло совсем. Так быстро прибывала вода.
Леонид отвязал лодку и держал за цепь, ожидая.
- Но вы в самом деле уверены, что это не риск? — Она смотрела на ревущую воду. Леонид сказал ей, что в том лесу, за рекой, можно насобирать трюфелей. Там есть сторожка, и старый лесник-венгр как-то по-особенному готовит грибы, как их не готовят нигде.
- Когда мы были в лесу и наткнулись на его дом, он принимал нас точно заблудших в пустыне. Достал две буханки хлеба, нарезал какого-то дикого лука и дал по куску копченого, разогретого над костром сала.
Шагнув в лодку, она снова удивилась себе, что так легко согласилась на это путешествие неизвестно куда.
Он пришел к ней два дня назад, вечером. Постучал и остановился на пороге. Принес в сетке сома. Эта рыба так и пропала: она не поджарила ее с вечера, а к утру сом испортился, пришлось выбросить.
- А он там и живет в лесу?
- Он всегда там. И громадная собака.
...В тот вечер, когда он принес ей рыбу и, не сдвинувшись, простоял у косяка, как будто насмешливый, но на самом деле напряженный и замкнутый, они говорили о деревне, о погоде, о чем-то еще совсем незначительном. И ни слова он не произнес о мальчике. И она почувствовала, что о мальчике не должна спрашивать, не должна говорить. Это что-то слишком глубокое и тревожное. А по его лицу поняла, что между ними что-то произошло. И когда поняла это, не знала, как вести себя и как понимать его приход. Потому, растерявшись, и согласилась на эту прогулку в лес.
Лодку сразу же подхватило и понесло по реке, как щепку, а мост трещал под напором воды, и столбы, на которых держался трос, покачивались...
За рекой началось ровное черно-зеленое поле - место для громадного стадиона. Солнце стояло почти в зените, но в поле дышалось свободно. Далеко впереди рос большой вяз.
Они шли прямо на этот вяз. Дорога была пыльная, и, обернувшись, чтобы посмотреть на деревню, она увидела, что за ними по мягкой бархатной полосе тянутся две узкие, четкие борозды.
Она была в этом поле несколько дней назад. Одна. От нечего делать перешла мост и с полкилометра прошла по дороге. Поле показалось ей скучным, пустым и мертвым. Она не увидела ничего интересного и усталая вернулась в деревню. А сейчас день был другой, весь полный движения и звуков. Даже в небо была жизнь. Подняв голову, она заметила птиц, которые кружились высоко над ней. Они были точками в синей бездне; и наверное, потому прежде она их не замечала. Потом, наклонившись, увидела, как прямо у ее ног шмыгают серо-желтые ящерицы, проворные и юркие. И слышала, как гудит и звенит воздух, весь наполненный стрекотом кузнечиков, жужжанием пчел и шмелей. Это поле шевелилось и было живым.
- Странно. — Она засмеялась, глядя по сторонам.
- Что?
- А я подумала, что эти птицы - орлы.
- Так это и есть орлы.
- В самом деле это орлы? — Она снова запрокинула голову.
- Ну конечно. Это - орлы.
- И вот про эту речку я тоже ничего не знала.
Узкая, почти неподвижная река, с коричневой водой и зеленая от водорослей, с обеих сторон заросла кустами. Свод из веток закрывал ее всю. Солнце лишь кое-где прорывалось к воде. Но там, где его лучи проникали сквозь кусты, толща воды становилась прозрачной. Это были темно-желтые столбы, уходящие куда-то очень глубоко, и там, приглядевшись, она заметила неподвижных, точно это были затонувшие палки, щурят. Казалось, если быстро нагнуться, их можно схватить рукой.
- Да, вижу, — сказала она шепотом.
- И вот, — Леонид показал ей взглядом.
- Да...
Рядом что-то тяжело шлепнулось в воду. Как будто с берега скатился камень. Она раздвинула ветки, подняла их и посмотрела.
- Черепаха?! Это может быть?
- Да, здесь тепло. — Леонид сошел с тропинки и пропустил ее вперед. — Мы однажды поставили жерлицы на щук, а вместо щуки попалась большая черепаха.
- Мальчик, наверное, был рад? — Она все смотрела по сторонам, боясь что-нибудь пропустить, удивляясь неумолчному гудению дня.
- Мы пустили ее во двор, но она убежала. Представляете, они, оказывается, бегают, — и в первый раз он засмеялся. В первый раз с тех пор, как она его увидела.
- Такого стрекача дала по винограднику. Даже не думал, честное слово.
- И он ее не догнал?
Леонид неожиданно подумал, что в этой женщине есть что-то такое, чего недостает Зине. И внешность здесь ни при чем. Зина, безусловно, эффектнее. Здесь что-то другое. Ему с этой женщиной просто.
Они подошли до излучины маленькой речки, а потом снова повернули к лесу.
...Дорога обрывалась. Справа виднелись какие-то железные вышки, совсем ржавые, тяжелые, неизвестно как сюда попавшие, а к лесу вела тропинка. Они свернули на тропинку, прошли еще немного и не заметили, как вышли к старой крепости. Вокруг было пусто. Небо. Поле. Лес. Ни души.
- Вы действительно сделаете из меня путешественницу. Я даже не устала. А это что?
Перед ними была крепость, старая разрушенная, с обвалившимися стенами и остатками башни. Они остановились.
- Крепость, — протянув руку, показал Леонид. Ему вдруг пришло в голову, что если крикнуть изо всей силы, эхо, наверное как ошалелое, будет носиться между лесом и этими стенами.
- Старый замок, — повторил он.
Она посмотрела на крепость долгим взглядом. Как-то слишком неожиданно выросли эти камни, безмолвные и тяжелые.
- Так вот, построена неизвестно кем и неизвестно когда. Встаньте-ка так, чтобы эти камни не рухнули на вас. А я вам сейчас открою страшную тайну этих стен. А можете - пожалуй, это даже лучше - сесть на этот пень. Лучше сядьте...
- Хорошо, подчиняюсь, — вторя его неожиданно шутливому тону, согласилась она и села, закрыв юбкой весь пень. И пень стал белым. Ей почему-то показалась мрачной и ненужной эта крепость, каменные обломки чужой жизни. Незаметно взглянув назад, она увидела, что деревня осталась очень далеко. Не было видно ничего, только крохотные пятнышки крыш среди садов да еще церковь, тонкая и маленькая. И отчетливо по всему горизонту были видны громоздящиеся вокруг горы. А ей хотелось идти еще и еще, чтобы не осталось ни реки, ни деревни, ни этого поля...
Леонид снова показал рукой на крепость.
- Так вот. Вы слушаете? Итак, давным-давно, когда в этих реках жили русалки, а в каждом дереве было дупло, полное меда, и виноград и розы сами собой росли повсюду...
Она кивнула ему с улыбкой:
- Я тоже люблю сказки.
- Нет, почему же?.. Это, может быть, правда... Так вот, в этих краях жил старый барон. Он был очень старый, как пень, на котором вы сидите.
- И, конечно, была борода?
- Да, рыжая. А эти леса тогда просто кишели антилопами. Старый барон грабил на больших дорогах и охотился на этих антилоп. И еще он любил одну молодую пастушку. А пастушка его - нет, потому что она любила красивого пастуха. И потому пастушка не захотела выходить за барона замуж.
- Ну и что же дальше? — Она села удобнее и застыла, сложив руки на коленях.
- Тогда старый барон велел подать ему барабан из ста тридцати антилопьих шкур, ударил в этот барабан, и в глухом лесу, в стороне от всех дорог, выросла крепость из камня. Вот эта крепость, куда он заточил девушку, и бедная пастушка через тридцать три года умерла от тоски. Вот какую историю хранит эта крепость любви и страданий.
- И все?
- А что же еще?
- Нет, все было совсем не так. Какие же это любовь и страдания?! Хотите, я расскажу? Но теперь вы садитесь на пень.
Леонид рассмеялся и сел на ее место.
- Вы все перепутали. Все решительно. Барон заточил в эту крепость не девушку, а юношу. И тогда девушка решила во что бы то ни стало спасти своего любимого, освободить его из темницы. Иначе ей незачем жить. И год, и два, и три она искала этот замок. И нашла. И вот однажды, осенней темной ночью, дождавшись, когда кукушка крикнет тридцать три раза, она прошла тропой, проложенной антилопами к замку, перекинула через стену веревку, свитую из виноградных лоз, и спасла юношу. И была свадьба. И русалки доставали мед из деревьев. И барон, глядя на все это, от злости выдернул по волоску свою бороду и умер. А его барабан из ста тридцати шкур лопнул сам собой. Это было слышно на тысячу верст вокруг, и крепость сама собой рухнула. Вот и вся история о любви и страданиях.
- Да? А почему вы считаете, что все было именно так? — и Леонид снова невольно сравнил ее с Зиной. Встал, и они подошли к самой башне, а потом обошли башню.
- А почему вы приехали именно сюда? Обыкновенно останавливаются в Мукачево. Богатый базар. Ресторан. Всегда кино. Ну и вообще, комфорт.
Она сняла шляпу и накрутила резинку на палец. Лес уже был рядом, перед ними.
- А я так и сделала. Но мне и в Москве этот шум надоел. Села в автобус и поехала куда глаза глядят. По дороге мне сказали, что рядом красивое село. А разве похоже, что мне нужно шикарное? Такая деревня не подходит? — и, тряхнув головой, она пригладила волосы.
- Нет, я просто спросил. — Леонид подумал, что день в самом деле хороший. — Многие не любят ездить сюда, потому что нет базара и река слишком быстрая и холодная.
- А мне как раз и нравится, что такая река, а не болото. Да, вот теперь я жалею, что не послушалась вас. Надо было действительно встать на рассвете, — и в этот момент она заметила, что он думает о чем-то своем, а не слушает ее.
Леонид остановился, повернулся и посмотрел на деревню. К нему вдруг вернулся реальный мир. Он подумал о том, что река все время прибывает. Пожалуй, он даже не помнит, чтобы разлив был такой быстрый. И мост снесет наверняка. Сегодня нельзя было уходить так далеко от реки. Но все же на берегу всегда бывают люди.
Она подошла ближе и, подняв голову, взглянула ему в лицо, стараясь понять, что с ним происходит.
Леонид молчал.
- Или вы что-то вспомнили? — Ей стало как-то не по себе уже от одной этой мысли, что надо возвращаться в деревню, где снова все будет не так и где ее ждет пустая, немая комната.
Земля накалялась все больше. Где-то недалеко за деревьями лениво позванивали колокольчиками коровы. Большой вяз был желтым от солнца, прозрачным, а в какие-то секунды становился белым. Они оба посмотрели на этот вяз. Листья висели безжизненно, как украшение.
- Но если вам нужно возвращаться, мы придем сюда в другой раз.
- Да, — сразу же ответил он, вынул сигареты и закурил. — Тут есть другая дорога, короче. Мы сделали крюк. Даже приличный. И кажется, будет дождь.
На голубом небе не видно было ни одного облака.
Возле вяза они вышли на заросшую, едва заметную тропинку. Отсюда старая крепость казалась черной, сожженной.
Леонид шел первый, вглядываясь в кусты, которые росли вдоль реки. Он и сам не знал, действительно ли эта дорога короче. Кусты над рекой издали казались тонкой темной полоской.
- Если хотите, мы можем пойти в лес даже завтра. — Он пошел быстрее.
Она почувствовала, что он старается быть спокойным. Но его спина, в белой, засученной до локтей рубашке, сделалась чересчур прямой, а шея - длинной. Светло-желтые туфли стали серыми от пыли. И ее туфли теперь тоже стали серыми.
- Да, конечно, можно и завтра.
- А почему вы не расскажете мне про свою крепость? — спросил он, не поворачиваясь.
Тропинка сделалась немного шире и теперь почти не петляла. Значит, так действительно было короче. Звон колокольчиков стал стихать.
- Моя крепость простая. Белая комната, инструменты, большой стол - и все. — Она старалась не отставать от него.
- И больше ничего в вашей крепости?
- Больше?.. Нет.
- А почему именно это ваша крепость? Разве другой нет?
- Другой?..
И она почувствовала, что могла бы рассказать ему все, веря, что он поймет каждое слово. Вот если бы они сели там, в тени, прислонившись к стволу того крепкого вяза, она рассказала бы про то, как жила с матерью без отца. Про свою работу на большом заводе рядом с Москвой. В шестнадцать лет за ней ухаживали даже взрослые, и она рано узнала, что такое рабочий клуб, запах табака и винного перегара, и танцы по субботам, когда платье уже перешито и туфли похожи на новые, и потом парни провожают домой. Все уходят, один остается. И где-нибудь за дровяными сараями или на шаткой скамеечке под изрезанной перочинным ножом березой вдруг открывается, что слова - обман, что все это не то, ненастоящее, и совсем непохоже на жизнь в книгах. Другие умели над этим смеяться. А ей хотелось так, как в книгах: большая работа и вокруг люди, которые знают, чему надо посвятить свою жизнь. И она начала избегать вечеринок по субботам и, еще больше, складчин после получки. Остался цех - широкие окна прямо в лес, громадные станки и тяжелые острые листы латуни, ее фотография у ворот, а потом - немножко свежего воздуха, вечернего и уже холодного, грязная топкая улица с желтыми окнами, тепло от плиты, пар от цинкового корыта, глаза, слипающиеся над книгой, и крепкий, из самовара, чай, пахучий и темный, вдвоем с матерью за квадратным столом под низким матерчатым абажуром.
- Значит, о другой крепости вы рассказать не хотите? — не повернувшись, спросил Леонид.
- Нет, почему же?! Ее просто нет.
Она увидела, что его рубашка прилипла к спине, обнажая каждый мускул, и на нее налетело такое чувство, что она была бы способна взять этого человека на руки и унести куда-то очень далеко, где не нужно думать ни о чем тревожном, где спокойно и тихо и где останутся только небо и лес.
- Но ведь так не бывает, — и он снова ускорил шаги.
- Возможно.
Пахло нагретой травой. Солнце было похоже на лампу.
...А потом ее завертела Москва. Библиотеки, стены, выкрашенные масляной краской, собрания. И незаметно пронеслось сразу очень много лет, какая-то полоса, где сильные лампы и вместо лиц только глаза, и день и ночь хочется спать, потому что свет очень яркий. Сперва она решила, что ей хорошо уже потому, что она не принадлежит себе. Думала, что белый халат, слово «доктор» - это все как раз то, чего она хотела, и ничего больше не нужно. Тем более, что у нее такое человеческое дело. Но неожиданно улицы, коридоры, лампы перестали мелькать. Начали медленно останавливаться. И все чаще в ее крохотной комнате на девятом этаже стал слышен стук часов. Она почувствовала тоску и липкое и холодное одиночество. Ощущала свое тело по ночам, и собственный голос казался ей чужим и звенящим в пустоте. И вдруг поняла, что она на земле одна, что те, нужные, годы ушли и не вернутся, а значит, она обворовала себя навсегда, и теперь может представить себе совсем по-другому ту березу, изрезанную перочинным ножом и такую понятную, какой может быть только самая хорошая книга...
И об этом, пожалуй, она рассказала бы ему тоже. Промолчала бы только о том, что ждет сюда, в эту деревню, человека, любовь к которому придумала, а в действительности никогда не любила.
- Вы будете здесь еще долго? — Он по-прежнему шел не оборачиваясь. Почти бежал, глядя вперед.
- Да, — как можно спокойнее ответила она, — да, еще дней двадцать.
Они свернули на другую тропинку. И через стену солнца двинулись дальше. Высоко в небе, набирая высоту, парил орел. Плавный, спокойный круг. И еще круг. И еще. И все ниже к земле.
- Я могу идти и быстрей, — теперь она шла совсем рядом с ним. — Сегодня мне кажется, что я всегда жила в этой деревне, возле этой реки.
- А вы умеете плавать?
- Да. Но кто-то всегда есть на берегу, Теперь уже недалеко. А хотите, мы побежим?
Она взяла его за руку. И только сейчас Леонид понял, что она знает, почему он так спешит. И подумал, что у нее удивительно ровный и тихий голос, который успокаивает.
Они вышли на дорогу. Дорога петляла. Тогда они пошагали через поле напрямик по низкой редкой траве. Земля здесь была твердая, спекшаяся, накаленная. Стадо овец стояло, сбившись в кучу, совсем неподвижно, как будто окаменела. Деревня точно вырастала. Уже отчетливо виднелись дома, кусты, и за кустами угадывался берег. Леонид видел даже столб, на который был накручен трос от плавучего моста.
- Или вы не верите, что я могу бегать? — услышал Леонид и только сейчас почувствовал ее руку в своей. Ладонь у нее была маленькая, гладкая и холодная. На секунду он замедлил шаги.
- Вас кто-нибудь перевезет, если вы подойдете к мосту.
- Ну конечно, — согласилась она.
Леонид повернулся и увидел ее лицо совсем близко. Едва заметная улыбка, а глаза серьезные и спокойные. Он сжал ее руку и побежал напрямик к тому месту, где привязал утром лодку.
Река уже была так близко, что до него доносился глухой шум воды. Он пробежал через стадо коров, которых доили прямо здесь, потому что не могли переправить в деревню, натыкался на этих коров и обегал их, потом пробежал еще немного, увидел высокий берег, кукурузу, затопленный мост и остановился, уже бессильный.
Ничего не случилось...
Мальчик действительно был на берегу у самой воды. Он сидел на большом камне, закинув удочку, и терпеливо смотрел на поплавок. Кричали мужчины, подтягивая трос. Женщины шумно полоскали белье, к мосту тянулись мыльные струи.
Леонид вздохнул. Ему захотелось сесть на землю.
- Ну конечно, ничего и не могло случиться, — услышал Леонид ее голос.
Мальчик был на противоположной стороне, и они хорошо видели его.
Он долго не замечал их. Потом поднял голову и сразу же встал, отвернулся, резко махнул удочкой, спрыгнул вниз и пошел по берегу, не оглядываясь. Стена кукурузы заслонила его, и только удочка покачивалась вверху.
Леонид почувствовал жгучий стыд, а кроме того, злость на самого себя за то, что поехал сюда, за то, что не может распутать этот узел, за то, что бежал по всему этому полю. Повернулся и спросил:
- Вы, наверное, устали?
Она покачала головой. Сейчас, стоя над рекой, она поняла до конца, что творится в душе этого человека, — замкнутого, как будто сурового, но в сущности просто растерянного.
- Мы можем пройтись по тому берегу, — предложила она. — Если у вас еще есть время.
Даже у реки жара была нестерпимой. Леонид подумал, что в Ленинграде, должно быть, скоро начнутся дожди, что уже не так далеко - осень. Да, уже скоро осень.
- Мне нужно почистить лодку, чтобы отдать хозяину, — сказал он.
- Отдать совсем?
- Вам ведь лодка, наверное, не нужна? Если хотите, я могу оставить вам.
Она повернулась к нему, словно ослышалась.
- Вы уже уезжаете?
Он подал ей руку, и они спустились к реке. Сняв туфли, она осторожно шагнула в качающуюся лодку, придерживая юбку. В лодке было немного воды, на дне - слой песка. Песок въелся в смолу. Река в этом месте была неширокой. Когда они переезжали, женщины на берегу смотрели на них, потом опустили головы и снова принялись за свое белье.
Поставив лодку за большим камнем, чтобы ее не сбивало течением, Леонид взялся за черпак.
- Здесь хороший прием, — стоя на камне, она пополоскала ноги, надела туфли, выпрямилась. — Особенно вечером. У моей хозяйки приемник. Если вам захочется, приходите.
Нагнувшись, Леонид начал чистить лодку. Потом украдкой следил, как ее ноги, ощупывая крутую тропинку, осторожно и медленно взбирались на берег. Наконец она поднялась и пошла по самому краю обрыва.
Леонид выбросил ветки, листья, руками собрал прилипшую к борту глину, долго и старательно вытирал лодку тряпкой. Поднял голову, чтобы передохнуть, и увидел, что мальчик сидит наверху, наблюдает за ним. Леонид улыбнулся ему. Сверху посыпались комья глины...
5
Случилось так, что вечером отключили свет. Пришла гроза, и приемник стоял мертвый. Черный, тускло поблескивающий ящик, который был поставлен на высокую, наспех сколоченную тумбочку. В углу темнел громадный шкаф. Край стола с белой скатертью... И больше ничего нельзя было разглядеть в этой комнате с низким потолком и короткими кружевными занавесками.
С вечера без конца звонил колокол. В деревне боялись града. Однажды, в такую как раз пору, град побил кукурузу и виноградники. И молния сожгла дом.
- Если хотите, пойдем туда вместе. Может, так лучше.
Леонид посмотрел в окно. Пустая дорога пенилась. Ее хлестало и било. Напротив покачивался и шумел орех.
- Нет, ничего. Он там с хозяйкой.
- Можно взять лампу. Она, правда, немного течет. Но если чем-то залепить...
- У них есть лампа. И отсюда мне виден дом.
Леонид знал, что стоит ему прийти, как мальчик тут же убежит на сеновал. И будет сидеть там всю ночь.
- Ничего. Он не должен бояться грозы, — Леонид придвинул табуретку ближе к окну.
Гроза начала собираться в небе еще на закате. И готовилась как-то неслышно, проползая по горам, густея и прижимаясь к земле ниже и ниже. Она наливалась. Деревья и те не слышали ее. И только река синела и становилась глубокой и тихой. Воздух сделался неподвижным. Горько и пряно запахло травой. И даже отсюда, из этого крохотного окошка, удивительно ясно стали видны самые далекие поля. Как будто земля распласталась, приготовилась и ждала. Каждый звук точно выстрел. Потом быстро стемнело, и лишь в небе долго белел скрученный, крепкий и лежащий на вершинах гор тяжелый завиток туч, застывший и пока неподвижный. Неожиданно внутри него что-то сдвинулось, начало перемещаться, по небу пошел гул, перекатывающийся, нарастающий, он затерялся в горах, а вслед за этим снова задвигалось прямо над головой, угрожающе и теперь еще ближе, все наполнилось свежестью, и только тогда на деревьях зашелестели листья, и вдруг отчетливо осветились поля и река, и каждый куст, сиротливый и крохотный, и даже самая маленькая травинка, слабая и беспомощная, вцепившаяся в землю. И тогда началось.
Похлопав себя по карману, не отворачиваясь от окна, Леонид достал сигареты. В пачке оставалось еще несколько штук, мягких, наполовину высыпавшихся. Она протянула ему спички, встряхнув коробок. Леонид услышал. Но лица ее не увидел. Только глаза блеснули в темноте.
Снова донесся тревожный и близкий звук колокола.
- Так будет звонить всю ночь? — Кутаясь в шерстяную кофточку, она рукой придерживала ее на груди.
- Если не пройдет. — Леонид затянулся, дым ударился о стекло.
- А это ничего, что мы сидим возле окна?
- Кто знает? Наверное, ничего.
Опять затрещало близко и сильно. Холодный фиолетовый огонь с грохотом ворвался в комнату и в ту же секунду погас, не оставив ничего. Леонид почувствовал, как она вздрогнула, и посмотрел вверх, на черное небо. Потом протянул руку, закрыл окно.
- Десять миллиардов вольт даром.
В его глазах осталась фотография: угол комнаты, там два больших окорока, подвешенные к потолку и завернутые в марлю, ее лицо и улыбка. Он запомнил эту тихую, осторожную улыбку. Губы нервные, чуткие. На мгновение осветились горы. Потом снова из темноты выросло несколько далеких вершин.
- Такое впечатление, что проходит.
- Да, ветер. — Леонид чуть отодвинул горшок с цветком и опять посмотрел на дорогу. По стеклу ползли крупные капли. — А в общем-то даже хорошо. Будет свежее. — Он повернулся, не зная куда стряхнуть пепел.
Она поставила перед ним пустую тарелку. Минуту, другую, а может быть больше, они слушали, как шумят деревья и льет дождь.
Гроза действительно затихала. Уже не рассыпалась по небу и не рвала его, запуталась где-то в горах и постепенно слабела. Теперь гром доносился издалека, приглушенный и каждый раз, казалось, последний. Но докатывался еще один раскат, уже совсем далекий, потом еще один, неясный, едва нарастающий. И свет молний был не синим, а теперь уже теплым и желтым.
Звон колокола, сливаясь с шумом грозы, сначала тревожил, а теперь стал привычным, как будто далеким. Леонид придвинул тарелку ближе, положил на край сигарету. У него появилось странное ощущение, словно в этой темной комнате и среди этой грозы он один. Никого больше нет. И он может сидеть, курить, смотреть на дорогу и думать о чем-то своем. Но если ему захочется, в темноте возникнет ее голос и произнесет что-то простое, понятное, очень нужное. Он положил локти на подоконник, курил и смотрел в черное, мокрое окно. И неожиданно ему пришло в голову, что все очень просто. Он может остаться в этой деревне на всю жизнь. С мальчиком. И больше ему никто не нужен. Да, в деревне. А почему бы нет? Ведь что такое жизнь? Если каждый день думать, что жизнь дана для чего-то необыкновенного, можно наломать таких дров, заварить такую кашу, что уже не расхлебаешь. А жизнь, наверное, это совсем другое: спокойный, терпеливый труд, честность и внимание к чужой боли. Они жили бы хорошо и мирно вдвоем с мальчиком в этой деревне. Мирно и чисто. За окном - дорога, луг, река, ровные поля и синие горы. Здоровый воздух и жизнь, которая всем понятна. Каждый час в труде. Он, пожалуй, здорово привык к этим местам, даже приспособился к этой реке, ему нравится эта дорога, затененная орехами. Он даже сейчас знает, куда себя деть, если остаться. Можно пойти в гараж или чинить дорогу. Ясное дело, здесь надо чинить дорогу. С виду она не очень плохая. Больших ям нет. Но ужасно неровная - что ни метр, то выбоина. Он уже воображал, как будет строить дорогу, мостить ее и выравнивать... В деревне большой совхоз, каждый день в город ходят грузовики, возят сливы, яблоки, помидоры. Разве же можно здесь без хорошей дороги? Грузовики ломаются, стоят, ржавеют. Сейчас эта дорога только для велосипедистов. И то, если ехать под самыми орехами, низко наклонившись, чтобы по лицу не хлестали ветки.
Так он сидел, потеряв время и себя. Сам понимал, что смешно об этом думать. Смешно и нелепо. Но он думал и радовался, что ему никто не мешает. Ему так нравилось: сидеть не двигаясь и грезить о белой дороге. Плохой этой дороги всего два километра, а потом уже асфальтовое шоссе. Вот и нужно эти два километра замостить камнем. За одно лето. Здесь кругом каменоломни. А к осени уже будет готова хорошая дорога вдоль реки, ровная, вся в кустах ежевики. Такая дорога нужна людям. Если хочешь, жми на любой скорости, а хочешь - остановись и в жаркий день ешь ежевику, кисловатую, холодную. Стой внизу, под горой, на самом ветру, который идет от реки. Это красивая белая дорога, построенная для всех...
Ветер изредка еще дергал крышу и шумел в листьях. И еще нет-нет запоздалые капли стучали в стекло, но робко.
Леонид разогнулся. Ему захотелось услышать ее голос.
- А вам действительно нравится эта деревня?
Она промолчала. И только чуть повернулась к нему.
- Знаете, — сказал он громче, — здесь хорошо... у самых гор и у реки - не всегда так стоят деревни. Здесь место редкое. Даже очень редкое. Через год-два будут наезжать, что не пробьешься. Когда я попал сюда в первый раз, всех этих домов у дороги не было. Начиналось дальше, где та улица, которая уходит в гору. Деревня была совсем маленькая, — он отвернулся от окна. — Вы меня слушаете?
- Да. Мне кажется, можно открыть окно снова.
Леонид толкнул раму, она распахнулась. Запахло мокрой землей.
- Дома прежде начинались как раз вон оттуда, где живет милиционер. И тянулись к магазину и в ту сторону, к церкви. Можно даже подсчитать, сколько было домов. А впрочем, зачем? — Он засмеялся.
- Да, тем более что здесь и река и лес.
- Вот именно. И я сразу же решил, что буду приезжать сюда каждое лето. Кстати, и зимой тут тоже интересно. — Он начал говорить еще громче, точно хотел убедить ее в чем-то. — К Новому году - молодое вино. На горах - снег. Наверное, можно брать лыжи. Вы когда-нибудь видели, как делают вино?
- Нет, но я думаю, что это опасно. — В ее голосе появилась улыбка.
- Опасно? Это в том смысле, что можно увлечься?
- Ну конечно.
Леонид усмехнулся.
- Опасно именно это?
Она засмеялась.
- Опасно увлечься.
Он засмеялся тоже, вытянул ноги, крепко уперся руками в подоконник и повернулся к ней.
И вдруг что-то случилось в мире, который их окружал. Что-то нарушилось. Они оба почувствовали это и прислушались. Потом оба вздохнули. Это растаял и унесся куда-то звон колокола. Они остались в тишине. Дождь прошел совсем. Лениво и тонко поскрипывала калитка, и с больших груш, которые стояли у дома, а ветки тянулись над крышей, падали тяжелые капли. И там, под деревьями, наверное, валялось немало сбитых ветром груш, лопнувших, расплющенных.
Леонид нащупал рукой сигареты, зажег спичку и посмотрел на часы.
- Уже, наверное, поздно... Да, незаметно, незаметно - и набежало. — Он встал.
Она тоже встала. Они оказались очень близко друг от друга в ту минуту, когда на дороге вспыхнул свет, зажглись фонари. В комнате стало светлее, и теперь Леонид отчетливо видел ее лицо, и глаза, и губы. Вдруг зашуршал приемник. Он не был выключен. Что-то в нем загудело, и после этого донеслась хриплая музыка.
Леонид, усмехнувшись, взглянул на приемник, потом снова на часы.
- Да, пойду.
Она кивнула, и когда он уже был у двери, спросила:
- А вы не хотите куда-нибудь поехать?
Леонид не понял. Остановился.
- Куда?
- Не знаю. Куда-нибудь. На один день. Где другие горы.
Леонид посмотрел на нее, раздумывая. Ему было удивительно легко и просто с ней. Просто сказать: «нет», и просто сказать: «да».
Она подошла, за его спиной включила свет и, ожидая, встала у двери.
- Иногда хочется уехать куда-то очень далеко. Сесть и уехать. Даже пусть это будет один день. Но все другое... У вас так не бывает?
И вот только в эту минуту Леонид понял, что есть в этой женщине и чего нет в Зине. Эта женщина заполняет его душу покоем. С ней можно оставаться самим собой, и не нужно никаких лишних слов.
Когда он вышел, толкнув калитку ногой, в лицо ему ударил воздух, наполненный росой. Была ночь: круглые копны деревьев на дороге, синие лужи, черное небо в звездах, дома тоже черные, тихие. Ни звука по всей земле, только хруст песка под ботинками и свежий простор. И все же по каким-то неуловимым приметам уже чувствовалось, что где-то рядом, в полях, которые за рекой, начиналось утро, холодное и огромное.
6
Когда грузовик подъехал к дому, хозяйка, стоя у калитки, помахала им рукой. Мальчик вышел тоже. Носком ботинка отшвыривал от себя камешки и смотрел на луг. Взмах ноги - шарк, и еще один камень. Потом снова резкий взмах ноги, пока один камень не угодил в стекло кабины.
Леонид постоял раздумывая, затем все же перекинул ногу через борт и, повернувшись, сказал не то мальчику, не то хозяйке:
- Я вернусь к вечеру.
В кузове стояли ящики с большими, налившимися, спелыми помидорами. Они были словно подобранные, круглые, ровные и сочные. И блестели.
- И еще сюда бы мешок соли, — засмеялся Леонид и сразу же стукнул по крыше кабины, чтобы шофер отъезжал.
- Да, пожалуй. — Она улыбнулась, надвинув шляпу на глаза, и села так, точно давно привыкла сидеть рядом с этими ящиками.
Хозяйка смотрела им вслед, а мальчик стоял отвернувшись и раскачивал изгородь так, что горшки на ней прыгали.
Гуси долго не хотели уходить с дороги. Вразвалку, озираясь и гогоча, бежали перед машиной. Наконец дома и ветхий серый крест с распятием, увешанным засохшими цветами, и виноградники на склоне горы остались позади. Грузовик выехал из деревни.
Перед ними открылись новые поля. Утренняя свежесть прошла, и к полудню снова начало палить сухо и резко. Теперь повсюду возле каменоломен встречались брошенные самосвалы, которые казались белыми под этим солнцем. А рабочие сидели подальше от камней, устроившись в тени деревьев, потому что камни обжигали. Пожалуй, только трава в тенистых местах еще сохраняла прохладу. Горы светились. Воздух над ними курился. Лес на горах выглядел горячим и высохшим. В придорожной зелени и вовсе не ощущалось жизни.
А здесь, в этом прыгающем и грохочущем кузове, был ветер, знойный, но сильный, который не позволял устоять на ногах, бил в лицо, расплющивал и разбрасывал их слова, и пытался сдернуть с нее шляпу.
Леонид крикнул:
- И нас тоже сдует.
Она не услышала, наклонилась к нему:
- Что?
- Я говорю: и нас унесет. Нас, говорю, тоже. — Он засмеялся, потому что не услышал своих слов.
Показал ей руками, как надо держать шляпу. И в эту самую секунду шляпу с нее сорвало. Метнувшись за этой желтой вспорхнувшей птицей, Леонид все же схватил ее, накрыл телом, но на повороте сам покатился к ящикам.
Они смеялись оба, и теперь ветер поднял ее волосы и закрыл лицо. И Леонид увидел, что волосы у нее, оказывается, не короткие, а длинные и густые.
Она подала ему руку, чтобы он встал, а другой рукой держалась за борт.
- Но я ничего... — Она не могла откинуть волосы, и это смешило ее.
- Что? — Теперь Леонид взял ее за локоть, а плечом прижал ящики.
- Ничего не вижу. Если они свалятся, что тогда?
- Я думаю, что томатный сок.
- Я тоже.
- Что?
- Я говорю: хорошо... спасибо. — Она все же села в уголок между ящиками.
Леонид устроился рядом и весело поглядывал на дорогу.
Иногда их обгоняли автобусы, ревущие, ослепительно красные, желтые и серебристые. Эти автобусы настигали их неожиданно. Они оставляли после себя копоть и, завывая, уносясь дальше, напоминали о времени, о больших городах, раскинувшихся где-то за горами.
Возможно, уже была половина пути, когда Леонид вдруг заметил чемодан, положенный между ящиками и накрытый парусиной. Он приподнял парусину.
- Ваш?
Она кивнула.
- Да, мои вещи.
- Все?.. Почему? Вы решили уехать совсем? Значит, вам все же не понравилась эта деревня?
Она снова надела шляпу.
- Я еще не знаю. Но мне показалось, что так будет лучше. Не знаю.
- Не слышу.
- Я сказала, что еще не знаю. Может быть...
Равнина кончилась. Из белого марева на них надвигались, вырастая, сине-белые горы.
7
Если бы ей сказали, что на свете есть такое место, как это, она вряд ли поверила бы, так все здесь было просто и необычно и так ей нравилось. Да это и не было что-то такое, что можно представить себе реально, а только запах, высота и простор. И еще прохлада.
Большая, обросшая деревьями гора, с вершиной, похожей на башню, виднелась из окна. Под этой башней - тонкая серая полоска дороги, на ней - крохотные, медленно карабкающиеся автомобили. Эти автомобили игрушечные, ярко окрашенные. Повсюду пятна солнца. Но сюда оно не проникало.
И сидеть на бочке, на самом краю, сохраняя равновесие, так что иногда приходилось балансировать, вытягивая ноги, ей тоже нравилось. А кроме того, ей казалось, что сегодня все - для нее. Так она сказала себе. И эта гора - для нее, и музыка, и вино, и все остальные бочки, громадные и тяжелые, и бревенчатые коричневые стены, и окошко, полное неба.
Лишь трое стариков сидели в углу, потягивая светлое, прозрачное пиво. Они пили его медленно и смакуя, как это умеют делать только старики. Потом ставили кружки и брались за свои скрипки.
- Панико, — шагнул к ней высокий, широкоплечий старик. Он держал в руке новую гуцулку. — Я купил для своей жены, но могу отдать вам. Теперь у меня не такая жена, но когда-то она тоже была такая, как русская панико.
Леонид налил вина.
- Панико - это значит девушка, — объяснил он.
- О! Это очень красиво. Мне это так нравится - «панико». Называйте меня панико! — И, взяв стакан, она протянула его старику. — А если панико просит что-нибудь, это надо выполнять?
Леонид смотрел на нее, раскачиваясь на бочке, и не мог понять, что с ней вдруг произошло, почему она вдруг здесь такая необыкновенно веселая. И веселая и как будто закрывшаяся от него, ушедшая. Он не узнавал ее.
- Ну, это смотря какая паникА. — Он налил вина себе.
- Нет. — Она взмахнула руками. — Не паникА, а паникО.
Старик закивал головой:
- ПаникО. ПаникО.
- Я панико! Значит, если панико просит, это надо выполнять? Ведь так?
И тогда старик поднял руки.
- Если такая белая панико... Оууу... Даже я, старый партизан из этих гор, из Карпат... Что скажет панико?
- Сыграйте еще что-нибудь. Специально для меня... Ну, что-нибудь ваше. Что вы когда-то играли для своей панико.
- Для моей? — Старик поднял брови, выпил вино, поставил стакан. — Тогда надо танцевать. Мы будем играть, а панико пусть танцует. Хорошо?
- Я - одна? — Она вытянула ноги, чтобы соскользнуть с бочки. — Нет, мы будем танцевать вдвоем.
- С ним? — Старик повернулся к Леониду. — О! Тогда война. Бомба. Америка.
- Нет, только с вами, — и по-мальчишески ловко соскочив с бочки, она встала возле старика. — Мы с вами. Только с вами.
Взмахнув гуцулкой, старик задрал голову.
- Панико знает, что я еще не старый. Она правильно это знает, — и гуцулка полетела в угол.
Все громко рассмеялись.
Вздрогнули смычки, пол пошатнулся, все зазвенело, задвигалось, ожило, и они закружились, притопывая ногами, выбрасывая руки и то обнимаясь, то расходясь. Леонид смотрел на них, крепко обхватив бочку ногами, стараясь сосредоточиться и осознать, что значит весь этот день, который вот-вот оборвется.
Старик не уставал, и они все кружились, смеялись и дурачились, подзадоривая друг друга, а смычки ходили быстрей и быстрей.
- Ну еще, панико! Ай да панико!
И она не уступала старику, вся гибкая и сильная и теперь совсем непохожая на резкого угловатого подростка. Легкое светлое платье облегало ее всю и делало совсем тонкой. И казалось, этот танец ей ничего не стоит, такая она была невесомая. И эта музыка, то грустная и тягучая, то вдруг по-цыгански задорная, бесшабашная, казалось, рождалась от нее самой, от ее движений. Замирала она - и начинала тосковать, грустить и плакать музыка, но вот ее ноги, ее тело наливались радостью - и музыка тут же подхватывала эту радость и зажигала всех. И еще круг вокруг старика, и еще круг... И этому не было конца - ее легкости и фантазии. Но потом, когда скрипки остановились и она взобралась на свою бочку, слишком высокую для нее, запыхавшаяся и раскрасневшаяся, Леонид увидел, что у нее дрожат руки. Она смотрела на него, улыбаясь.
- Я была похожа на панико, на настоящую?
Леонид кивнул.
- Да, панико, конечно. Поэтому мы возьмем еще бутылку вина. Хорошо? Вот такого же.
Он и в самом деле не понимал, что с ней происходит.
А скрипки снова начали петь, но теперь уже тише.
Отдышавшись, она поправила волосы, села удобнее, подвинула на середину стола свой пустой стакан. И когда Леонид налил ей, подняла стакан.
- За что?
И, наклонившись вперед, чуть прищурившись, смотрела на него, ожидая. Леонид молчал. Пахло дубовым лесом, вином, рекой, и, казалось, пахло снегом с далекой вершины. И только сейчас он увидел, какая она на самом деле красивая. Плечи совсем не угловатые, а хрупкие, линии мягкие, глаза большие, серые и глубокие. Он прежде не замечал, что они серые и такие ясные. И она словно спрашивала его о чем-то важном, ее глаза спрашивали. И, глядя в ее глаза, он всем телом почувствовал, что эта гостиница очень высоко, что внизу бездонная отвесная круча, и здесь воздух, который пьянит, и что он не имеет права больше ждать, и что ему надо что-то решить раз навсегда, на всю жизнь. Ему показалось невероятным и неправдоподобным, что у нее такие глаза и такие губы. Он где-то видел их, всегда знал, что они есть. Он взглянул на гору и тоже поднял стакан.
- За встречу, панико!
В окно долетал шум реки, раскатистый, чистый, как это вино, от которого все внутри разгоралось и наливалось светом. Но самой реки отсюда не было видно. Она бежала внизу, за кустами, холодная, быстрая Тисса.
Хлопнула дверь. Старики остановились. В этой тишине чей-то голос звучал слишком громко.
- Так что же, панико, мы пьем?
- Хорошо. Мы выпьем за встречу, но потом я должна поссориться с вами.
- Со мной? — Леонид быстро взглянул ей в лицо и нерешительно покачал головой. — Нет... Мы ведь люди из одной деревни.
Она не пила, смотрела на него, точно разглядывала, как в тот первый раз, когда увидела его на берегу рядом с мальчиком.
Леонид попытался улыбнуться.
- Ну, если ссориться... тогда надо найти подходящий предлог, что ли. Найти предлог и накалять обстановку, — он снова почувствовал, что ему здесь и хорошо и смутно. И подумал, что сейчас неплохо бы взбежать на ту крутую вершину, вскарабкаться туда и постоять вдвоем, когда начнется вечер и солнце коснется земли. И увидеть оттуда всю землю, и реку с черепахами, и даже тот разрушенный замок... Засмеявшись, он сказал ей об этом.
Ее руки неподвижно лежали перед ним.
- Значит, вы туда не хотите? Это уже предлог, чтобы ссориться. Но в таком случае мы возьмем эту бутылку вина и объяснимся там, наверху.
- Только для того, чтобы распить там бутылку вина?
- Нет, чтобы не спускаться с этой вершины до следующего лета. И гуцулку взять потеплее, чтобы не спускаться всю жизнь.
- Вот об этом, пожалуй, я согласна подумать. — Она засмеялась, снова подняла стакан и посмотрела вино на свет.
Они оба понимали, что слова мало что значат. Солнце медленно двигалось по горе. И если оно уходило, лес становился темным, прижатым, как будто это были низкие густые кусты. Зато тут же ослепительно вспыхивала, зажигаясь, другая сторона вершины, и гора, казалось, поворачивалась и становилась ближе.
- Так за встречу?
- Вы обещали мне рассказать про вашу работу. — Она опустила стакан, оплетя его пальцами.
- Ну нет. К чему это я буду вам здесь рассказывать про железо и электричество. Давайте лучше тратить деньги. Мы ведь приехали сюда для этого, кажется.
- Ну, если уж тратить, тогда давайте истратим все, — засмеялась она.
И теперь Леонид тоже поставил свой стакан.
- А вы в самом деле хотите, чтобы я вам рассказал? — Он взглянул на нее пытливо, выжидающе.
- Вы обещали называть меня «панико».
- Хорошо, панико. — И сейчас он ясно почувствовал, что мог бы сесть и всю ночь, не разгибаясь, просидеть над столом. Поставить его вплотную к окну, чтобы время от времени видеть горы, а утром первым делом рассказать ей о том, что у него вышло, а что не получилось. Значит, чертежи и книги он не выдумал. Это то, что с ним всегда. А выдумал, что ему уезжать куда-то в тайгу, все бросить, отказаться от самого себя.
- Так что же? — напомнила она.
По шоссе, которое тянулось далеко за рекой, неправдоподобно медленно ползли миниатюрные заводные автомобили.
Лицо Леонида стало серьезным.
- Видите ли... это было еще в студенческие годы. Мне пришла в голову одна... на первый взгляд не очень-то осуществимая мысль. Ну, попробую объяснить вам попроще.
- Я буду слушать внимательно.
- И дело в том, что с каждым годом... так почему-то вышло, хотя я и пробовал работать, эта мысль мне казалась все более неосуществимой, даже нереальной. Одно время я даже перестал думать об этом. А сейчас я вдруг, кажется, нашел очень простое решение. Даже уверен, что нашел это решение. Речь идет о станке. Сейчас вы поймете. Предположим, эта груша - резец, а наш стол... — Он поднял грушу и рассмеялся. — По-моему, получается лекция на скучную тему.
- Я понимаю так, что вы вернулись к своей прежней работе.
- Да. Но об этом мы еще успеем в другой раз. А почему мы не танцуем? Ведь так мы просидим весь наш день.
Она показала на высокого старика.
- Да, но у него бомба... А если у него бомба...
Леонид взглянул на два полных, невыпитых стакана. И вдруг почувствовал, что теряет ее, что этот день, может быть, их последний.
- А знаете, у меня появилась идея. Честное слово, идея. — Он увидел в углу длинный круглый шест. — Я хочу вам, панико, кое-что предложить. И вы должны согласиться. Мы съездим еще дальше в горы, где сплавляют лес. И вот там мы заберемся на плот. Это не то, совсем не то, что сидеть вот здесь и пить вино, панико, я вам скажу. Там можно перевернуться в два счета. Там нужна смелость и страшная сила. — Он быстро встал и взял шест. — Это - шест. В руках длинный шест. И его надо держать вот так. Все время наготове, и только секунды, чтобы думать. Вода несет. И нельзя зацепиться за камни. А если камень, надо упереться. Надо вот так, изо всей силы, чтобы сдержать плот. Иначе крутанет, брызги - и потом поздно.
- А что же в это время буду делать я?
- Что? То же самое. И у вас шест. Держите. Вот встаньте так.
Она соскочила с бочки, и теперь оба держали этот шест, приставив его к стене.
- Вот так. И теперь вы будете помогать мне. Давайте вместе. И тогда ничего страшного даже на камнях. — Он весь загорелся. — Со мной вы можете быть спокойны, Ну, я убедил вас? Мы ведь приехали в эти края не для того, чтобы сидеть и не двигаться. Мы махнем сейчас в нашу деревню, я тоже снимусь с якоря, а завтра вернемся все втроем и двинемся в любом направлении, куда захотим. Надо чаще сниматься с якоря, панико. — Теперь он следил за выражением ее глаз. — И потом, мы так и не выпили за встречу.
Усевшись на бочку, она посмотрела на шест, потом на белую вершину горы и усмехнулась, и поняла, что наступила та самая минута, когда она властна распорядиться своим счастьем. Именно эта минута, которая, возможно, и приходит к человеку раз в жизни, если вообще ее можно дождаться. Так она сидела вполоборота к нему, чуткая, но и застывшая, вся расслабленная и вся напряженная. Они поедут в далекие леса и к другим рекам, если она захочет. Увидят ровные поля и широкие дороги, если захочет. Затеряются в густой толпе под уличными фонарями, если она этого захочет.
В окно опять ясно донесся шум ревущей Тиссы.
Леонид ждал, глядя на ее полный стакан. Наконец она вздохнула и улыбнулась ему. И улыбка была та же, какую он видел в ту ночь при свете грозы, — осторожная, как зыбь.
- За встречу!
И они медленно выпили до конца это вино, прозрачное и янтарное, в котором был запах орехов, а может быть, и спелой клубники, может быть, запах соснового леса, чистого, бесконечного и просторного.
Кто-то входил, кто-то уходил. Двери теперь хлопали без конца. Почти за всеми столиками сидели люди. Старикам громко аплодировали, их угощали вином, они играли не отдыхая.
Леонид налил снова.
- А теперь за что?
Она повернулась к окну.
- Нет. Вам пора. Вот и весь наш день. Я даже не успела с вами поссориться.
В эту минуту и сюда заглянуло солнце. Бросило свой луч в стену, в криво приклеенный плакат.
- Вы действительно хотите уйти отсюда? – Леонид опустил руку и нащупал край бочки, обитый шершавой ржавой жестью, и жесть была острой. — Мы можем посидеть здесь еще.
- Нет, вам пора.
Леонид слышал ее слова и видел, что вся стена возле них была кривой, покосившейся, древней. И пол здесь тоже был старый, вытоптанный. Да и все вокруг ветхое, неизвестно как сохранившееся на такой высоте, под этим ветром и солнцем. Он встал.
Старики поклонились им, когда они проходили мимо. Потом дверь захлопнулась, скрипки стихли. Перед ними выросли горы, освещенные ярким светом, донесся теперь уже близкий шум реки.
Шум реки все сильнее.
Они шли рядом. Поднявшись немного, стали спускаться по крутой горной тропинке. Прямо перед ними громоздились горы, покрытые белыми взбитыми облаками. Камешки сыпались у них из-под ног и, подпрыгивая, гонясь друг за другом, скатывались по круче. Отсюда виден был поворот реки, низенький домик у самой воды, какая-то часовенка с круглой башней, еще два-три окруженных деревьями домика. Желтое солнце лежало на горах. Все небо было заполнено синим светом, глубоким и мягким, дальние горы точно дымились, над ними струилось тепло, и белая пена крутилась в реке, и видны были даже камни, по которым бежала, уносилась вода. Воздух был пропитан нагретой травой.
Леонид остановился.
Река была у самых его ног. Вода пенилась, и шумела, и силилась сдвинуть и перевернуть камни, и вползти на берег, разлиться еще шире и шуметь у других камней, у самых гор.
Он посмотрел вокруг.
- Это в самом деле другие горы. Может быть, надо приезжать именно сюда?
Подняв руку, она молча показала ему на часы.
- Да, — кивнул Леонид. — Нам нужно еще захватить ваш чемодан. Мы поедем вместе. Я не могу оставить вас здесь, — и, не дожидаясь ответа, он шагнул вперед. — Мы перепрыгнем через эту реку или перейдем по мосту?
- Да, конечно, по мосту. Но только я провожу вас до автобуса, а сама останусь в этой гостинице.
Леонид повернулся к ней. Вода билась о мост, качала его, хотела сорвать, но потом скатывалась вниз и становилась тише, спокойнее, совсем спокойной. Застывала. И мост лишь дрожал.
- Вы останетесь здесь? — Он хотел спросить о чем-то еще, но нагнулся, зачерпнул горсть воды и подбросил вверх. — Можно и так. А мы приедем к вам завтра утром. Можно и так.
Они прошагали по этому длинному узкому мосту с толстым, туго натянутым тросом вместо перил, прошли вдоль берега, поднялись чуть выше и увидели, что автобус уже стоит на шоссе. Несколько человек бежало к автобусу. Теперь гора закрывала солнце, шоссе было черным, а Тисса отсюда казалась даже спокойной и медленной.
- До завтра! — Леонид поставил ногу на ступеньку автобуса. — Мы приедем утренним, самым первым.
Она промолчала. Подняла глаза и смотрела на него. Как будто хотела навсегда запомнить его лицо, эту дорогу, эти горы. Леонид еще видел на пустой дороге ее одинокую фигурку, тонкую, удаляющуюся.
Автобус медленно, тяжело начал взбираться вверх по шоссе.
8
Горы медленно отступали. А потом началась карусель из красок, которая как будто и мешала ему сосредоточиться. Один за другим надвигались маленькие города, и между ними эта дорога. Зеленые улицы. Возле домов - цветы. Огромные букеты перед окнами, розовые, фиолетовые, белые. Потом сразу розовые, фиолетовые и белые - вместе. Вертящиеся разноцветные круги. Оранжевые крыши. Деревья увешаны грушами. Красные стекла. И нет пыли. Полосатый шлагбаум...
Глава четвертая
Мальчик сидел на пыльной дороге и пальцем рисовал на песке буквы. Старательно, не поднимая головы, выводил одну букву за другой. Можно было подумать, что это гусеницы или муравьи проделали такие бороздки. Когда бороздкам уже негде было помещаться, он переползал на другое место. Ладонью разглаживал песок и снова рисовал буквы.
Леонид смотрел на него, стоя в тени большого ореха, потом снова взглянул на дальние горы. Рядом были сложены их чемоданы.
- Так я уезжаю в горы. Ты останешься один?
Мальчик не ответил, точно не слышал.
Утро уже было позднее. А вышли они, когда над рекой еще вился сизоватый туман. И потягивало прохладой. И вот, спустя несколько часов, все еще были недалеко от деревни, у поворота, возле моста, где кончалась грунтовая дорога и начиналась асфальтовая. По шоссе шли грузовики и автобусы. Надо поднять руку, и их подобрала бы любая машина.
- Я спрашиваю тебя последний раз: ты остаешься один? Ты подумал?
Мальчик поднялся.
- Один. — Он облокотился на чемодан, стоял, наклонив голову.
Леонид не ожидал этого. Шагнул к чемоданам, остановился, потом в который раз посмотрел на те дальние горы, синие, высокие. Услышал стук и скрип телеги, которая подъезжала к мосту...
И странное дело: горы сейчас не показались ему настороженными, как прежде. Они были обыкновенными, привычными, а самое главное - реальными. Они просто обступали эту долину, закрывая ее от ветров. Но и все, что было вчера - и скрипка, и гостиница, взобравшаяся на высоту, и пенистая река, и серые глаза, внимательно смотревшие на него, — это все тоже было реальным, не было сном... Все это не было сном.
Телега прогромыхала рядом.
Леонид подумал, что, если идти не торопясь, он сможет и сам донести эти вещи до автобусной остановки. Пусть телега едет дальше. Взглянув снова на горы, перевел глаза на мальчика.
- Значит, не едешь со мной?
- Нет.
- Нет?
- Нет.
Он действительно вырос за этот месяц. И повзрослел. Даже лицо стало другое: строже, как будто острее. А глаза сделались зорче. Стоял все в той же позе, облокотившись на чемодан, загорелый, молчаливый и непроницаемый. Сорвал ветку и покусывал ее. Щеки у него впали, и от этого скулы выступили сильней. С первого взгляда его теперь, наверное, и не узнать, так выцвели брови и волосы. Эта желтая клетчатая рубашка делала его старше. Она была уже старенькая, вылиняла и даже стала узкая в плечах. Карман на рубашке оттопыривался. Поэтому лямка от штанов съехала на бок и рубашка перекосилась. Там, в кармане, завернутая в носовой платок, у него была коробка, набитая светлячками, бабочками и кузнечиками. Из этих штанов он тоже вырос. И они здорово пообтрепались. Кожа на руках у него шелушилась. На коленях были ссадины. А правая сандалия за эти последние дни прорвалась. И оттуда торчал большой палец. Этот палец время от времени поднимался, а то вдруг начинал двигаться вправо-влево.
- А может, помиримся?
- Я буду один.
Леонид усмехнулся, потом засмеялся, глядя на то, как шевелится и живет собственной жизнью этот торчащий палец.
- Ты смешной. Весь грязный. Как же можно одному?
- Я не смешной, — ответил мальчик серьезно. — Я поеду домой. Один. К маме.
- Ну хорошо...
Рядом по-прежнему текла река, знакомая, вся заросшая кустами, мутная.
Они стояли теперь вдвоем в тени большого ореха, корни которого с одной стороны висели над кручей, над рекой. С этого места хорошо было видно, что река упала. Но по кустам нетрудно было угадать, как она бушевала совсем недавно, как высоко стояла вода. Чья-то лодка, наполовину перевернутая, застряла в кустах. Еще хорошо, что она была привязана к дереву.
- Ну хорошо, — повторил он. — Мир. Давай мир. И мы поедем с тобой домой, в Ленинград. Ты согласен? А в те горы мы съездим как-нибудь в другой раз. Ведь мы с тобой мужчины, правда? Мы съездим вдвоем, и больше никого. Согласен?
Мальчик пожал плечами.
- Так мужчины мы или нет?
- Да, — чуть подумав, согласился мальчик. — И больше никого.
Леонид поднял чемоданы. Поставил. Переменил руки. Поднял снова и спросил:
- Мы собрали все, как ты думаешь?
Мальчик внимательно оглядел вещи.
- Все.
Они пошли рядом. Но, сделав несколько шагов, Леонид остановился, поставил вещи и рассмеялся.
- Нет, знаешь, тебе все же надо помыться. А то мы поедем в автобусе, потом в поезде, и что мне скажут люди?
Держась за руки, они спустились к реке. Мальчик нагнулся, зачерпнул воды и, шумно фыркая, растер ее по лицу. Снова зачерпнул и зафыркал еще громче. Леонид смотрел на него, улыбаясь.
- Теперь хорошо? — Мальчик поднял мокрое лицо.
- Еще нет.
- А сейчас?
- Да, пожалуй, — согласился Леонид. — Теперь, кажется, ничего. Ну-ка, иди ко мне.
Он вынул расческу, продул ее, прижал мальчика к себе и начал аккуратно и осторожно расчесывать ему волосы. На лбу получилась ровная челка.
- Так надо? На лоб?
- Так, — подтвердил мальчик.
- Ну вот, даже модно... А честное слово, ты хороший парень. Наверное, самый главный на земле парень. Как думаешь?
Мальчик кивнул головой и рассмеялся, счастливый.
- А потом мы поедем на Волгу? — спросил он. — Ты меня возьмешь?
- Ну конечно. Куда же я теперь без тебя? Мы с тобой все равно должны быть вместе. Понимаешь? Я и ты все равно вместе и навсегда.
Мальчик взял удочки и первый пошел через мост.
Под мостом вода расходилась кругами. Река тускло поблескивала, спокойная, притихшая. Над рекой росли орехи, рядом вилась дорога, пустая в этот знойный час и вся белая от солнца. И кусты на ней от пыли тоже были совсем белыми, жесткими, как будто засохшими. Но на самом деле они были живыми.
Ленинград, 1961
Рядом с героем автор
Все три повести, вошедшие в эту книгу Элигия Ставского, были написаны в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. В литературу тогда входило новое, молодое, послевоенное поколение писателей, активно искавших свою жизненную позицию и обещавших многое. Трудности того времени были в постижении жизни — неустоявшейся и неприметно для глаза, но ощутимо менявшей год от года свое лицо. Эти тридцать послевоенных лет — эпоха, так много переменившая в жизни нашей планеты, как, вероятно, никакая другая. Менялся и самый облик Земли — под воздействием НТР, менялись способы сообщения, скорости, окружающая среда, повседневный быт и сам человек. Не оставались без изменения и представления о ценностях житейских, в том числе духовных. И та молодая литература то гналась вслед моде, прогрессу, подстраиваясь к гигантским шагам НТР, то тревожно оглядывалась и лелеяла страстно свой день вчерашний: военное детство, деревню, которой, как вдруг обнаружилось, нет уже в прежнем виде, природу, с которой может случиться беда, историю, которая была раньше знакома лишь по школьным учебникам.
Не все надежды сбылись и не все обещания исполнились, но как бы то ни было — зрелость пришла. Литературная и житейская. Поколение пятидесятилетних подводит кое-какие итоги. Пора приглядеться к пройденному пути. Для каждого из писателей он был по-своему плодотворен, и веяние времени отразилось в каждой литературной судьбе.
Три повести Элигия Ставского, написанные примерно в одно время, в своем роде как бы три ракурса в попытке определить жизненную позицию героя, рядом с которым все время отчетливо ощущаешь автора. Следует сразу сказать, что в буквальном смысле ни одна из этих повестей не может быть названа автобиографической. Герой и автор — рядом, но не одно лицо. Они даже не всегда принадлежат к одному поколению. И все же их опыт познания жизни, их поиск себя самого, своей жизненной позиции — это в значительной мере и личный авторский опыт. Это и поиск своей литературной позиции. Повести не только связаны между собой, но имеют единую перспективу, не ощущая которой едва ли в полной мере осознаешь их настоящий смысл.
В книге повести следуют не совсем в том порядке, как они были написаны. Первая и наиболее художественно зрелая повесть «Домой» создавалась последней. В книге отдано предпочтение последовательности времени действия. И самый возраст героя — от повести к повести взрослеющего — помогает лучше понять логику созревания мысли.
Тему первой повести можно было бы даже назвать избитой, если бы это могло повториться — личное сознание того, как заканчивается детство.
Герои повести, мальчишки, пережившие войну и блокаду, летом 1945 года из Ленинграда отправляются на Украину — походить и поездить по этой незнакомой и для блокадных мальчишек неожиданно щедрой земле. Война кажется им далеко позади, настроение у всех возбужденно-приподнятое. Даже развалины, увиденные ими в пути, для них не столько память о войне, сколько ее «экспонаты». День вчерашний — история. Три года войны для этих ребят почти равнозначны прожитой жизни. «Три года назад мы были пацанами в коротеньких штанишках, остроносыми и синими. Ютились за промерзшими стенами, дрожали от грохота бомб и снарядов, и по ночам нам снились такие вот пирожки...» Как на «искрящемся» и «лоснящемся», «международном», невиданно щедром львовском базаре.
В повести «Домой» война и блокада — воспоминание, дальний план, представленный в точных и жестоких деталях. Автор сам из тех блокадных мальчишек, один из немногих мальчишек, переживших ту страшную зиму.
На первом плане — случайные и неслучайные встречи, вагонные разговоры; дорога — избыток слепящих и оглушающих впечатлений.
О чем эта повесть? О послевоенном лете на Украине? У самых ее границ... И об этом тоже. Но главное — отношения: мальчишек друг с другом и с прочими густо населяющими повесть людьми. Там, в Ленинграде, мать незадолго до смерти сказала одному из них, обреченно и отрешенно уже: «ПРОЖИВЕШЬ, НИЧЕГО, ВОКРУГ ЛЮДИ».
Вокруг люди... Львовские и деревенские жители, и солдаты, едущие домой, и пограничники, и тот главный из них, сердитый, усталый, несимпатичный, про себя ими названный «Маковкой» за неблагообразную внешность, задержавший их на границе, ведущий долгий допрос. Обиженные подозрением, обруганные мальчишки себя, кажется, мнят чуть ли не героями за то, что, несмотря на растерянность и страх, отказываются говорить, презирают в душе несимпатичного «Маковку», не желают ничем ему помочь. Ночная поездка через границу, ночлег на краю оврага, разговоры о бандитах в вагоне — для ребят пусть жестокая, но все еще игра. Им надо услышать настоящие выстрелы, увидеть настоящую кровь, чтобы понять, как все это серьезно. А пока их мальчишеский гонор, болезненно острое для подростка чувство несправедливости образуют наглухо замкнутый, непробиваемый мир душевный. С абсолютной уверенностью в собственной правоте — в основе всего! «Я сам хочу всегда быть прав» — беспощадное кредо героя повести. До перехода границы. Не только той, настоящей, но и другой, за которой кончилось детство. В желании не поступиться своей правотой есть и душевная чистота, и щепетильная честность блокадника, не одно самолюбие.
Но беспощадна и жизнь, еще не остывшая от войны. Этот опасный и грубый урок заставляет мальчишек понять нечто более важное, чем даже эта своя правота. «Мы вдруг осознали, что... на земле есть вещи сильнее и грубее наших чувств». Для того чтобы это понять и принять, надо было увидеть, как пограничники смерть готовы принять ради их спасения. Жестокий урок показал, что мальчишеская самолюбивая вера в свою непогрешимую правоту может на деле оказаться глупостью, едва не ставшей причиной гибели этого несимпатичного «Маковки», который хотя и ругал их, хотя и не верил им, но бросился, не размышляя, спасать их под бандитские пули. Взрослеют люди, сознав свою связь с другими, свою ответственность не за свою только, но и за чужую жизнь.
Герои повести учатся видеть мир не только своими глазами и чувствовать не только свою правоту...
«Все только начинается» — в своем роде антитеза повести «Домой».
Это повесть пятидесятых годов. И написана несколько раньше других, и первой была напечатана, сначала в журнале «Юность», а вскоре затем вышла отдельной книжкой. Повесть, что называется, типично «молодежная». В пятидесятых—шестидесятых годах это было почти жанровое определение. «Молодежную повесть» отличали и определенный круг проблем, и характерное сюжетное построение, и даже сам тип героя. Как, впрочем, и «антигероя». В большинстве своем эти повести шли к читателю со страниц «Юности». Журнал не просто создавал определенную литературную атмосферу, но во многом определял даже формальный строй своей прозы.
Герой повести Элигия Ставского — молодой рабочий. Время действия — конец пятидесятых годов. Работает Саша на одном из ленинградских заводов. На заводе, и в общежитии, и в заводском клубе он, как говорится, свой парень. Хорошая девушка Нюра, которая трудится в том же цехе, его любит. Но, как он сам чувствует, это все от него не уйдет, а главное — впереди. И главная любовь — впереди. Поворотный момент наступает, когда он встречает девушку из незнакомой ему среды — Иру.
В повести спор не о том, кто хороший, а кто плохой — та девушка или эта. Ира вторгается в жизнь героя с активным, сложившимся, своим отношением к людям. У нее, можно сказать, непререкаемая жизненная позиция, перед которой Саша то и дело пасует. У него твердой позиции, похоже, нет еще. Есть стихийная связь с тем кругом людей, в котором он вырос, в котором живет и в котором себя чувствует как рыба в воде. Насколько эта связь прочная, время покажет. Ира для него привлекательна прежде всего тем, что она «другая». «Я таких еще не видел», — признается он. А ко всему, она одевается изящно, читает красивые стихи, уверенно держится. В ней и вызов есть, и загадка. Когда Александр хочет вмешаться в нормальную клубную свалку и навести порядок, она, глядя прямо в глаза ему, искренне спрашивает: «Зачем?» Зачем вмешиваться в непорядок, который ее лично не задевает? Она даже бросает: «Это не по-мужски».
Еще не однажды она его озадачит своей непонятной взрослостью, спокойным своим превосходством; он рядом с ней догадается, что кое-какие его привычки, манера вести себя с девушками, к примеру, не более как шелуха. На него в доме ее знакомых смотрят не просто со стороны, но вроде и сверху. Здесь отношение к людям такое, к которому он не привык. Ему приоткрывают это на странном примере. Вот женщина, скажем, у которой есть смысл поучиться: у нее заболел ребенок, а она вечером оделась, оставила ребенка мужу и пошла на свидание. Вот так надо жить!
Ира это называет «быть сильным».
«Нужно быть сильным и наплевать на всех», — советует она Саше, когда у того возникают нелады с прежними его друзьями.
Обида и желание показать себя гордым, независимым подсказывают ему почти то же.
Герою повести хочется сделать что-то необыкновенное, чтобы о нем говорили, чтобы перед ним расступались. Что именно — он еще не знает. Только видит, что на заводе жизнь слишком обыкновенная.
«Безусловно, меня нельзя было назвать мужчиной», — размышляет он после встречи с Ирой.
Свою затянувшуюся и тягостную размолвку с друзьями Саша переживает на протяжении всей повести. Попутно он размышляет о разного рода вещах, относящихся к смыслу жизни. Ни одной из возникших проблем он для себя в конце концов так и не решает, но сами проблемы автор повести ставит отчетливо. Пусть даже иногда и декларативно. Он видит героя не изнутри только, но и со стороны. Саша — натура чистая, непосредственная, но не слишком устойчивая к инородным воздействиям. Ничем не оправданные порывы в какую-то необычную жизнь едва не заставляют его пожертвовать старой дружбой и даже собственной добропорядочностью. Он в известный момент сам чувствует себя «дезертиром». И все же он не смог бы, пожалуй, принять позицию Иры, не сломав себя самого. Самый выразительный эпизод повести — сцена на озере, где поступком проверяется Ирина теория «сильного человека».
Способная почувствовать поэзию природы, умеющая видеть красоту, читающая возвышенные стихи девушка оказалась не только не способна хотя бы в малой степени проникнуться чувствами другого человека, но хотя бы заметить его обиду! Оказалось, что и настоящая, смертельная, можно сказать, опасность, угрожающая герою, не в силах ее заставить в буквальном смысле пальцем пошевелить. Она и в этот драматический момент ничего не чувствует, кроме своего страха, своей беспомощности. «Я не умею грести... Я не хочу этого видеть... Мне жутко...» И даже: «Как ты не понимаешь?» И он понял, что просто не в силах ей что-либо объяснить. Ира агрессивно настаивает на своем праве не понимать его. Она потом не жалеет красивых и пустых — он это уже понимает — слов о том, как она за него боялась, как он не должен был ее в таком состоянии отпускать, как она простить себе не могла, что уехала. Он все равно помнил ее «не могу» и «не умею» — равноценные «не хочу».
Изображенная в этой сцене житейская позиция, увы, чрезвычайно реальна и ничуть за двадцать лет не состарилась. Ирины «не могу» и «не будем больше вспоминать об этом» — очаровательно женственная, но при всем том жестокая и опасная сила. Сама Ира хорошо это понимает. Она умеет отстаивать свой, и только свой, интерес. Умеет использовать в других людях то, что считает «слабостью», — готовность прощать, думать лучше о людях, чем они того заслужили. Убеждает Сашу не думать плохо о ней, и ее не смущает двойственность ее поведения: ведь сама же она учит Сашу, что «наша слабость — прощать людям и думать о них лучше, чем они есть». Она-то «сильная» и такой ошибки не сделает. «Человек делает свою судьбу сам», — говорит она, вкладывая в эти слова очень определенный смысл. «Если что, каждый спасает себя, а слова остаются для собраний...»
Как своего рода «антитеза» первой повести здесь проводится мысль о том, что человек должен сметь и уметь видеть мир своими глазами, иначе сказать — иметь и уметь отстаивать собственную позицию в жизни, не навязанную кем-то. Здесь, в сущности, нет никакого противоречия с выраженной в первой повести мыслью о невозможности видеть все лишь сквозь призму собственной «правоты», ибо человек учится видеть своими глазами мир, населенный людьми, ощущая свою связь с ними. Герой повести «Все только начинается» эту свою связь с заводскими друзьями, с заводом, в который уже вложена частица его судьбы, осознает в конце концов очень отчетливо.
Третья повесть «Дорога вся белая» писалась почти одновременно с повестью «Все только начинается». Но герои здесь старше Саши и Иры на семь—восемь лет. Это совсем другие герои, хотя... Нетрудно себе представить, как те же Ира и Александр, успевшие пожениться и разойтись, снова встретились на перепутье и предъявляют счеты друг другу. В существе своей жизненной позиции они мало переменились. Разве что утвердились каждый в своем.
Между тем есть и третий, который хотел бы любить обоих.
«Дорога вся белая» тоже не просто о личном. И эта повесть не лишена социального смысла: речь идет ведь об отношении к жизни — творческом или потребительском. Правда, слова это нынешние, но суть дела они выражают точно.
«С тех пор, как они вошли в комнату, сразу же разделив ее так, что у каждого был свой квадрат и даже свой воздух, едва ли прошло больше пяти минут. Но им уже было невозможно находиться вместе»— такова предельно жесткая экспозиция. Герою с тех пор еще, когда они были вместе, кажется, что всегда было так: «...слова произносились только для того, чтобы вызывать раздражение». Речь идет не о ссоре. Зина — здесь так зовут героиню — настроена, и весьма энергично, на то, чтобы возобновить семейную жизнь, а герой — здесь его зовут Леонидом — готов всеми силами этому сопротивляться, противиться ее агрессивной «слабости». И есть еще мальчик. И Леонид «с каждым днем ощущал все больше, что ему просто необходим этот маленький человек. Ему страшно это нужно, чтобы маленький человек находился рядом». Была ли в этом усталость от жизни, потерянные надежды, страх одиночества или последний способ утвердить себя на земле...
Драматическая житейская ситуация, довольно распространенная, в повести возведена на высоту почти символа. Это отнюдь не история краха одной семьи. Хотя повесть, казалось бы, и об этом. Было время, когда он, герой повести, этой женщиной любовался и видел в ней, можно сказать, идеал женской привлекательности. А ей нравилось, «как он носит шляпу, как держит себя в компании, как лихо играет на пианино и как отплясывает чарльстон». Она у него находила улыбку знаменитого французского киноактера, — он теперь вспоминает об этом с иронией. Она ведь ничего больше в нем не видела и не искала даже. Ну разве что надеялась, что при его способностях он сделает карьеру. Он ее ожидания не вполне оправдал, но беда была все же не в этом, Они по-разному понимали, что значит жить. Ей казалось все просто: «...тысячи людей живут вместе и ничего не требуют друг от друга сверхъестественного. Зарабатывают на хлеб, одеваются, растят детей. И ничего, счастливы...»
Ему же казалось — какое же это счастье? Не все ли равно, где и чем набивать живот? Ему было мучительно ее равнодушие. Общение с ней обессмысливало его жизнь. И его терзали мысли о быстротечности жизни, о том, что надо что-то успеть в ней сделать.
Зина убеждена, что все еще Леонида любит. Ее настоящее насыщено смесью надежд и расчетов. Главный расчет на его слабость: «И, посмотришь, ты еще вернешься ко мне. Я знаю... И выиграла я. У меня есть сын, и я люблю тебя. А ты?.. У тебя нет ничего...»
Странная такая война, именуемая любовью.
Для героя повести путешествие с мальчиком в заброшенную карпатскую деревню, на край света, по существу поиск выхода к миру, к людям, к природе. Было бы правильнее сказать — через природу к людям. Именно природа ему помогает найти утраченные душевные связи. Найти тропинку к душе мальчика, с которым он и знаком-то не был, и не знал, как к нему подойти. Да и с той случайно встреченной на реке женщиной его ненадолго соединяет природа. Ему даже кажется, что в отличие от Зины эта женщина способна на что-то большее, чем те внешние, пустые, бездушные отношения. Зина эффектнее, но зато в этой женщине есть что-то, чего Зине недостает. «Эта женщина заполняет его душу покоем. С ней можно оставаться самим собой, и не нужно никаких лишних слов». И такое ощущение обоюдно. И мальчик душевно привязывается к нему, и эта женщина перестает себя ощущать маленькой и никому не нужной, у нее тоже возникает чувство окрыленности, подъема душевного, и даже поле, казавшееся ей только что скучным, пустым, наполняется жизнью, и небо оживает, и серые развалины превращаются в романтический замок... Все это не просто символика — жизненная реальность. Природа творит это чудо. Она делает душу доступней для истинного общения. В другой ситуации он этой женщины не заметил бы и с мальчиком не нашел бы взаимопонимания. А вот в деревне, на реке...
В повести «Дорога вся белая» впервые выступает на первый план это единство человека с природой. Впоследствии размышления о природе потеснят все другое в творчестве Элигия Ставского. Здесь тема возникает как потребность в общении с природой, как спасение человека в природе, духовная связь с окружающим миром, тогда еще не носившим пугающего названия «экологическая среда». Утерянное было ощущение смысла жизни, просто жизни, приходит к герою здесь, на реке, в деревне. Ему даже кажется, что изменилось что-то в его отношении к жизни, к ее ценностям. «Если каждый день думать, что жизнь дана для чего-то необыкновенного, можно наломать таких дров, заварить такую кашу, что уже не расхлебаешь, — философствует он. — А жизнь, наверное, это совсем другое: спокойный, терпеливый труд, честность и внимание к чужой боли».
Философия очень достойная, только в жизни героя она, увы, ничего пока не изменит. И в деревне он не останется, как хотелось бы, и дорогу здесь не построит, и та женщина, что неприметно вошла в его душу, так же бесследно ее вскоре покинет; они с мальчиком возвратятся в город, где их ждет и все же на что-то надеется Зина. Ни одна проблема не решена.
Спустя двадцать лет мы видим, что поставленные в этих повестях вопросы реальны и нисколько не постарели.
Соотношение внутренней, личной, духовной жизни с общей жизнью людей, с миром, природой, соотношение связей духовных с понятием смысла жизни, водораздел между словесной шелухой и видимостью людских отношений, с одной стороны, и тем настоящим, в чем раскрывается суть истинного человеческого существования, поиски духовности в жизни и в отношении людей друг к другу — это все нас волнует сильней год от года. Эти проблемы по-своему возникают в каждой из трех повестей; меняются ракурс и глубина проникновения в материал. Ни один вопрос не исчерпан.
Вскоре одна из самых реальных, животрепещущих, злободневных проблем поглощает все внимание Элигия Ставского — отношение человека к природе. Не потребность человека в общении с ней, как это было в повести «Дорога вся белая», но насущные нужды самой природы, обоснованная тревога за нее. Появляются одна за другой публицистические статьи Ставского, посвященные волнующим всех острым, важным вопросам, касающимся судьбы Азовского моря, Ладоги... Он — председатель Экологической комиссии при Ленинградском отделении Союза писателей. Единственной в своем роде комиссии. От публицистики путь естественный к прозе художественной. Один за другим создаются несколько вариантов романа «Камыши». Пытаясь найти художественное решение волнующей его проблемы, Ставский приходит к неизбежному выводу, что проблема озера или моря — это в конечном счете тоже прежде всего проблема человеческих отношений.
Намеченные в повестях человеческие конфликты, столкновения характеров находят продолжение в романе. Сущность давно начатого спора наконец-то выходит на первый план.
Вопрос встает грубо прямолинейно: быть ли душе? Чаще слышишь: быть ли озеру? Быть ли реке? Быть ли рыбе в Азовском море? Быть ли Азовскому морю или, скажем. Каспийскому морю? В наше время возможны любые масштабы. Но душа? Это же категория совершенно иная, это нечто, казалось бы, неотъемлемо человеческое. Но так ли? И душа человеческая — природа; она, стало быть, тоже может быть беззащитна и уязвима для потравы. Как лес и воздух, как вода, — о рыбе уж что говорить! И роман Элигия Ставского, разумеется, не о рыбе, не о воде, даже не о такой мало кому известной красе, как лиманы азовские; тем более — не о вынесенных в заглавие камышах. Роман о душе современного человека, подвергнутой всем ускорениям нашего бурного века. Не о каких-то отдельно взятых душевных издержках, нет, постановка вопроса грубее и проще: быть ли душе?
На мой взгляд, это — главная проблема, поднятая в романе «Камыши». Если бы даже автор ставил вопросы менее прямолинейно, ему и тогда бы не обойтись без известного схематизма. Есть в романе и схематизм, и жесткая прямота, и чрезмерность контрастов. Все это было, замечу, и в тех повестях, только менее выражено, скорей даже фрагментарно. В сегодняшней литературе такая рациональная, а стало быть, и неизбежно прямолинейная трактовка некоторых актуальных вопросов жизни уже отвоевала себе все права гражданства, и не всегда целесообразно даже видеть в этом слабость художественную. Как это ни парадоксально звучит, но роман Э. Ставского «Камыши», трактующий о сегодняшнем состоянии такого нематериального, казалось бы, явления, как человеческая душа, по своей природе рационален. В каком-то смысле это закономерно, хотя и содержит в себе неизбежное противоречие: «рацио» (разум) и «душа» — понятия едва ли не противостоящие, как издавна считалось. Впрочем, о противоречиях в романе специального разговора не будет, разве что к слову придется. Сосредоточим внимание на основном.
Что же случилось с душою? В самом деле, что может случиться с природой души человеческой в наш скоростной, неудержимый век, уничтоживший расстояния и готовый, кажется, поглотить уже самое время? Или, может быть, ничего серьезного не случилось? И все тревоги вызваны просто случайным неприятным стечением обстоятельств, скажем личного или неличного плана...
Описанная в романе душевная катастрофа произошла, точнее сказать, готова была произойти с его главным героем — писателем Виктором Галузо, автором книги о войне. Как и герои тех повестей, это отнюдь не автобиографический персонаж, но его опыт душевной жизни, как кажется, авторскому сродни. Вторую книгу — тоже о войне — он вот-вот должен был закончить, но вместо этого в странном смятении уничтожил рукопись, сам же сорвался с насиженного гнезда, оставил жену, квартиру, машину, дачу и улетел самолетом в Ростов к фронтовому другу; в то время хотел улететь, о котором писал в неудавшейся книге «Бессмертие Миуса».
Внешняя канва рассказанных в романе событий довольно проста, хотя и закручена автором в очень тугую пружину детективной фабулы, осложненной двумя лирическими сюжетами (не считая запутанных отношений с женой и полупризрачных воспоминаний об одной девушке, которая должна была стать героиней так и не дописанной книги). Он и к этой девушке тоже летел, помня, впрочем, что ее нет в живых — погибла в боях на Миусе. Строится роман трехпланово: первый план, скажем, действие, происходящее в самолете, некий назойливый тип, сосед, собравшийся в командировку, мимолетный роман с привлекательной стюардессой, которая дает полуобещание, что придет на свидание в Ростове... Второй план — ближайшая ретроспектива: отношения с Олей, женой, воспоминания об оставленном без сожалений домашнем благоденствии, которое, собственно, и привело к тому душенному кризису... Третий план — бессмертие Миуса: фронтовой эпизод, второе рождение, девушка, которая погибла в боях, фронтовая дружба. К другу, спасшему его когда-то, он и летит теперь, с тайной надеждой на второе рождение — творческое, душевное. В этом и внутренний смысл романа.
Внешняя схема душевного, так сказать, драматизма напоминает чем-то «Дорогу всю белую», только все развернуто в плане реальном, детальнее и сложнее. Новая фабула тоже уводит героя в глушь, на лиманы азовские, вовлекает его в «тюлечную войну» рыбоводов и рыболовов, заводит в дебри рыбацких и рыбьих трагедий, в поэтический и тревожный мир невиданной красоты и того земного богатства, о котором болит душа современного человека.
Израненная земля в романе, можно сказать, символически предстает в образе рыбацкого бригадира кривого Прохора, отца привлекательной стюардессы. Да и сама она, рвущаяся в небо, но душою преданная земле, с необычным именем Кама, — тоже символична по-своему. Она — поэтический символ. Но Прохор — истерзанная душа прекрасных и обреченных лиманов, неотразимых и в то же время смертельно опасных. Огромный шрам разделяет лицо Прохора на две несоединимые половины: одна — здоровая, нетронутая; другая — безглазая, позелененная порохом, вся в рубцах. В целое их уже невозможно составить. «И все же они были вместе». И разделить их тоже нельзя было. Так же вот и лиманы. Они и пугали, и восхищали героя своим двуликим обличием. «Я должен был выбрать для себя какое-то одно лицо, — признается писатель Галузо, — либо нормальное, либо безглазое, страшное, не способное ни на какие чувства». Один из этих Прохоров мог убить...
Кто же он, этот «безглазый»? Он — душа мертвая, и в сущности его распознать можно с первой же реплики, в самолете еще: «Я вам сочувствую, батенька. У меня после вчерашнего тоже, знаете, маленько шумит», — это когда у героя романа от давней контузии кровь из ушей! И лицо у соседа, подавшего эту реплику, «большое, как будто помятое».
И потом он будет произносить слова, подозрительно похожие на правду, и все тем же своим снисходительно-панибратским, что иногда называется «дружеским», тоном, как бы доверительно демонстрируя собеседнику, что видит в нем человека, способного правильно все понять. «Для меня, батенька, все реки просто-напросто элементарные водоемы», — сообщает он писателю дружески (к вопросу о Миусе).
А вот о своем противнике по «тюлечной», только для непосвященных бескровной «войне»: «Константин Федорович, видите, хочет бросаться на мельницы. Ах, если бы на мельницы, тогда ладно. А у меня, как говорится, семья. Я ведь тоже по молодости мечтал спасать Азовское море. Все было...» И вслед за тем уже наступательно, хотя и после глубокого вздоха; «Не будет у нас природы! Не будет. Другая задача...» Просто, честно и деловито. С некоторой даже имитацией задушевности.
Потом герой этот, умеющий имитировать задушевность, еще появится в романе много раз, в различных обличиях. Иногда «помятый», а иногда и напротив — «прилизанный и отутюженный», как бы только что вынутый из целлофанового мешка, с лицом серьезным, сосредоточенным, очень предупредительный. По крайней мере, в начале знакомства... В ходе беседы напряженность сменится снисходительно-панибратским «дружелюбием» (дескать, мы-то с вами друг друга понимаем!), а в конце разговора лицо все-таки станет «помятым». Тот ли, другой человек — все они похожи, как снятые с одного и того же конвейера. И беседа как будто не прерывалась. «Писатель, как я, понимаю, Виктор Сергеевич, должен защищать какие-то духовные ценности, говорить людям что-то очень свое, — обращается этот навязчивый собеседник к писателю Галузо. — А что говорить, если, как говорится, все сказано...» И даже интонация не меняется, и это характерное «как говорится»: дескать, истина-то банальная, попробуй не согласиться.
Что защищать? Для чего бросаться на мельницы? Не будет природы. И духовных ценностей тоже не будет. Уже все сказано. Не нужны духовные ценности современному человеку, если подумать. Мешают. Ценят теперь другое — умение пустить пыль в глаза! Какая-нибудь заграничная хорошенькая вещица, зажигалка например, больше скажет о человеке, чем эти, глазом незримые, духовные ценности. «А мораль, честь, совесть... — продолжает свое „собеседник". — В наше время выживает тот, у кого нет ни прошлого, ни традиций, никаких обязательств и кто не скрывает этого. Понимаете, не скрывает, чтобы другие знали и боялись...»
И ведь как похоже на правду. Как «смело»!
Этот герой, иногда «отутюженный», а иногда «помятый», знает немало фраз, для произнесения которых, как он считает, необходимо известное мужество. Тут и «разница скоростей», и любимое всеми «до лампочки». Природа ему, понятное дело, «до лампочки», — он это и не скрывает.
Галузо — бывший фронтовик, и речи «храброго» собеседника на него производят вполне определенное впечатление. Тут даже не о чем спорить.
Однако и «собеседник» со своей стороны тоже делает вывод: для него человек, думающий иначе, — вчерашний день. Он «потерял скорость». Его старинные понятия о нравственности — тормоз, и в нынешней жизни он вряд ли сможет чего-то достигнуть.
Тирада «отутюженного» — по профессии он психолог — излагает в развернутом виде жизненную позицию того не столь уж и отвлеченного, «безглазого» лица, что проглядывает в романе часто и в самых разных обличиях. То в непонятных, пугающих своей неблагообразностью «косарях», везущих писателя Галузо по лиману в своей лодке; то в «слепых» вопросах следователя, ведущего допрос; то в рассуждениях рыбоприемщика Самохина; то в хватке шофера, которого Галузо подрядил ехать до Краснодара; то...
В момент драматической кульминации читателя ошарашат в романе все эти безглазые маски: в каждой проглядывает возможный убийца инспектора рыбнадзора Назарова. Прохор — убийца? Те двое косарей? Или Самохин — в нейлоновой, несминаемой белой рубашке... Самохин, рассуждающий о том, как же прожить по душе: «Вот вы скажите, как тогда, если поверить, что эти лиманы загнутся, накроются? Спиваться? Набивать чемодан деньгами, пока еще можно? Разводить спекулянтов? Что же остается?.. Помирать?» Не сразу и поймешь, кто он, этот Самохин, — демагог или праведник? Тот «психолог» тоже ведь был любитель ставить лобовые вопросы и поражать остротой, чуть ли даже не «смелостью» мысли...
Самохин — франт, фантазер и фразер, демагог и романтик, а все же и живой человек. А вот — Оля, жена писателя Галузо. Она этих камышей и в глаза не видела. Тоже характер живой, а вместе с тем жертва интригующих «подозрений»: может быть, и она — «убийца»? Эта «дева» из Дома кино, «выдрессированная на стук автомобильной дверцы». Оля — предавшая все святое, пустившая «психолога» в свою и в его, любимого, душу, не пожелавшая стать матерью ради призрачных каких-то мечтаний самой поставить пьесу. Эта Олина беготня за «современной пьесой»... «Мне, — замечает герой романа, — казалось чем-то кощунственным ее не освященное ничем, абсолютно ничем желание пробиться в искусство». Оля — развитие и продолжение все того же, еще в повестях намеченного женского типа. Автор словно бы все еще не до конца убежден в ее «слепоте». Похоже, что и герой романа не сразу и не до конца разлюбил ее. Но число аргументов против Оли растет неуклонно. Она — причина душевного кризиса, пережитого писателем Галузо! Ее усилиями — вспомним повесть «Дорога вся белая»! — писатель, герой романа, был увлечен в пустоту, в душевное одиночество, в суету бездумного существования. «Я даже не бунтовал, — признается он, — а смиренно приспосабливался к нашему с Олей укладу и быту, где все заботы сводились к тому, чтобы карабкаться, но неизвестно куда и ради чего».
Трагическое признание героя: «Я вдруг ощутил собственную нереальность. Круг того, что было моей жизнью, бесконечно сужался. И кажется, еще никогда в жизни я не ощущал такого нудящего стыда, вины за себя, а вернее — за эти последние три года, бессмысленные, угарные, бесплодные…» Три года, ей отданные, Оле! Этой модной, не особенно умной и не слишком тактичной, хотя и премиленькой с виду особе, со всеми ее ни на чем не основанными претензиями. Преданной по-своему, но не способной ни понять его, ни вдохновить на что-либо, кроме зарабатывания денег.
Принятое героем решение с Олей расстаться в романе выглядит как бы залогом его возвращения к истинно человеческому, творческому, социально осмысленному существованию. Это своего рода итог преодоления той мучительной инерции равнодушия и нежелания ни во что вмешиваться. Герой вступает в борьбу за лиманы, за доброе имя старика Степанова, за Прохора и Каму, романтика Самохина — за их будущее. Для себя он решил вопрос: быть или не быть?
Писатель Галузо вступает в открытый спор о жизни. В этом нельзя не видеть своего рода завершения начатой повестями полемики о существе «настоящего».
В романе автор ставит вопросы, которые вряд ли могут быть на страницах его решены. Замысел автора шире возможностей избранного сюжета. Поэтому и не обойтись иногда без «резонера» — умного собеседника.
«Очень, конечно, любопытна ваша мысль, что загрязнение природы имеет отношение к душе человеческой, — говорит он, — а значит, наверно, и к любви, и тому подобное. Грязним море — коробим душу, разводим цинизм. Любопытно! Очень! Поразмышляю...»
От имени этого собеседника Элигий Ставский открыто н прямо формулирует суть стоявшей перед ним в ходе работы литературной проблемы.
«По-моему, — говорит он, — самый большой вопрос, на который писатель должен ответить сам себе: верит ли он в жизнь? Ну, то есть верит ли он в человека, в его возможности, в то, что существуют и останутся благородство, честь, любовь, достоинство...» Или же цель его — удивлять читателя брюзжанием и цинизмом? Он высказывает вслух то главное, без чего сегодня уже невозможно писать книги и строить, ловить и разводить рыбу, развивать науки, рожать детей, любоваться природой.
Быть душе! Иначе зачем все это?
Г. Цурикова



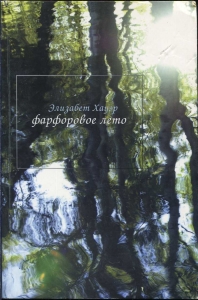


Комментарии к книге «Домой ▪ Все только начинается ▪ Дорога вся белая», Элигий Станиславович Ставский
Всего 0 комментариев