ВСТУПЛЕНИЕ РАССКАЗ О МОИХ РАССКАЗАХ
© Перевод. Т. Исерсон, 2011.
Общеизвестно, что источником вдохновения Пруста был кекс. Он макал его в чашку с чаем, прикладывал к губам, и на него накатывали воспоминания. То же самое происходило всякий раз, как он спотыкался о булыжник во дворе.
Чаще всего нашу память будоражат запахи. Кому не напоминали о событиях прошлого аромат жимолости или, скажем, струйка дыма от тлеющих углей?
Мои кексы — блокноты. Один мой друг, который зашел со мной за компанию в канцелярский магазин, заметил: «Ты выбираешь записную книжку, как домохозяйка выбирает рыбу на рынке». Остановив свой выбор на блокноте (а было их у меня великое множество), я хочу скорее заполнить его. Когда я не нахожу темы и работа не идет, я направляюсь в ближайший магазин и выбираю новый.
Давным-давно, в 1951 году, в лондонской еженедельной газете «Обсервер» я прочитала объявление о конкурсе: автору лучшего рассказа о Рождестве полагался денежный приз в двести пятьдесят фунтов — порядочная сумма по тем временам. Была суббота. Я вышла из дома, купила новую записную книжку и села за стол, глядя на пустые страницы. Мои мысли занимал этот очаровательный школьный блокнот, который так и просился, чтобы в нем что-нибудь написали.
Я принялась писать рассказ на свои любимые темы, которыми в те годы были ангелология (потрясающее учение об ангелах) и французский поэт Бодлер. Чтобы история получилась неожиданной, местом действия я выбрала Африку, реку Замбези, где мне довелось прожить несколько лет. Так на свет появился рассказ «Серафим, Замбези и Фанфарло» (позднее сокращенный до «Серафим и Замбези»), Я закончила его в субботу около трех часов дня и хотела было напечатать текст, но обнаружила, что бумаги осталось совсем мало. По субботам канцелярские магазины не работали. Я прошлась по улицам лондонского южного Кенсингтона, где я тогда жила, и не нашла ни одной лавки, где можно было бы разжиться бумагой, а друзья, что побогаче меня, на выходные уехали из города.
Внутреннее побуждение, навязчивая идея закончить рассказ и отправить его сегодня же охватили меня. Тогда мне на глаза попалась небольшая галерея. Я заходила в этот магазин и раньше, больше для того, чтобы посмотреть работы современных художников и обсудить их; купить картину я себе позволить не могла.
Нет, сказал хозяин, бумагу он не продает.
— Но должна же у вас быть своя бумага. Пожалуйста, дайте мне немного, одолжите, — говорила я. — Мне очень нужно, для рассказа.
И он вручил мне маленькую пачку бумаги, я завершила рассказ и отослала его. Я дала себе слово, что если выиграю, то куплю картину. В условиях было оговорено, что для участия в конкурсе на конверте должна стоять настоящая фамилия автора, а в письме нужно указать псевдоним. Я взяла себе псевдоним «Водолей», мой знак Зодиака. Мне повезло: я победила.
За тринадцать фунтов я купила у своего друга-галериста написанную углем работу Стэнли Спенсера, на которой мальчик слушает радио. Шесть фунтов я истратила на платье — первое за четыре года. Пятьдесят фунтов отдала маме, чтобы заплатить за бармицву моего сына (у нас была смешанная семья, и сын хотел стать иудеем), и еще пятьдесят фунтов отошли одному нуждающемуся писателю, который, как это ни странно, с тех пор меня возненавидел.
Вот так в 1951 году я начала писать рассказы.
Мюриэл СпаркДРАКОН
© Перевод. У. Сапцина, 2011.
На вечеринке с коктейлями я беседовала, стоя в окружении гостей, пока с огорчением не заметила, что мои слушатели превратились в безмолвный лес. Я поняла, что потерпела поражение. Вниманием завладела Дракон.
Как только я поняла это, сразу же решила, что поражение будет временным, — так уж я устроена. В то время я еще не знала, что предприму, но не сомневалась, что остановлю Дракон. Гости вновь становились людьми. Я уловила обрывок разговора, который завел какой-то симпатичный мужчина лет шестидесяти.
— Моя телефонная книжка, — объяснял он, — больше похожа на некрополь, столько народу умирает каждый месяц. То один знакомый, то другой. Приходится вычеркивать их имена. Так грустно.
— А я всегда пишу карандашом, — отозвалась дама чуть помоложе, — и просто стираю фамилии тех, кого уже нет в живых.
Мы расположились в тенистой части сада. Было шесть часов знойного вечера на севере Италии. Мой сад, моя вечеринка. Сквозь листву просочилась Дракон. Она отпивала из бокала «Пиммс № 1» и вела за собой рослого, на редкость видного водителя грузовика, которого второпях прихватила на вечеринку. К ее разочарованию, которое заметила лишь я, ее спутник оказался дружелюбным, с непринужденными манерами, насмешливо и удивленно принявшим предложение отвлечься на полчаса от работы, припарковав грузовик у ворот. Я прекрасно понимала: подцепив его в соседнем баре, Дракон надеялась, что он станет источником конфуза и помехой.
Ох уж эта Дракон! «Дракон» — такая у нее работа. Ее горячо и настоятельно рекомендовала мне одна из клиенток, вдова известного драматурга. До меня не сразу дошло, что умопомрачительные дифирамбы в адрес этой девушки, присланные мне, слишком многословны, потому и внушают подозрение. Возможно, мне просто было неловко после восхвалений по телефону и писем, которые вдова строчила мне из Гштаада, расписывая достоинства Дракон. Очень может быть. Но как часто бывало, когда мне хотелось поверить во что-нибудь только потому, что я нуждалась в помощи, я не стала слушать тихий внутренний голос, который твердил: «тут что-то не так» и «будь осторожна». Я была полна оптимизма и энтузиазма.
Прежде всего я швея. Меня называли и кутюрье, и портнихой, и модельером. Однако репутацию я приобрела благодаря увлеченной работе с иголками и нитками. Я могла бы войти в крупный бизнес, примкнуть к любому из самых знаменитых в мире домов от-кутюр. Но не стала. Я предпочла ограничиться собственной эксклюзивной и немногочисленной клиентурой. Шить для всех и каждого я была не готова.
В начале шестидесятых я окончила школу, получив два умения: писать письма каллиграфическим почерком и шить вручную, кладя стежок к стежку. Я устроилась на работу швеей в один лондонский магазин, в отдел, где одежду подгоняли по размеру. Там я набиралась опыта, но удовлетворения не испытывала. В свободное время дома я начала сама шить одежду. На вечерних курсах я узнала, как своими руками делать индивидуальные манекены для каждого заказчика. К этому делу я подошла со всем старанием, заказчиков на первых порах мне заменила бабушка, с которой я жила. Требовалось выкроить из клеенки подобие человеческой фигуры и зашить ее прямо на заказчице, белья на которой самый минимум. Так я и сделала, наметав клеенку прямо на бабушке и оставив припуск шириной ровно дюйм. Бабушка уже думала, что ей не выбраться из этого панциря. Затем я разрезала его спереди ножницами и снова сшила, отступив от края ровно дюйм. Закончив сшивать детали из клеенки ровными, мелкими стежками «назад иголку», я набила манекен тщательно вычесанной немытой шерстью. Так у меня появилось идеальное подобие бабушкиной фигуры, манекен, который я ставила на рабочий стол. Некоторые портные делают манекены из синтетических тканей, если делают вообще, но я к ним не прикасаюсь.
Я сшила для бабушки платье, которым она гордилась до самой смерти: бархатное, на шелковой подкладке, с отделкой узеньким кружевом на всех внутренних швах и подкладки, и самого платья. Никто не видел. как красиво оно отделано изнутри. Я всегда пришивала кружево к внутренним швам своих изделий. Хотя их изнанку никто не разглядывал, мои заказчицы принадлежали к числу женщин, которых радовала возможность сознавать, что их красивая одежда сшита вручную и отделана изнутри узеньким кружевом, пусть даже шелковая подкладка скрывает тщательно обметанные швы. Подрубочный стежок, «назад иголку», «козлик», потайной стежок, петельный стежок — я довела их все до совершенства. В моей мастерской ни разу не появлялась швейная машинка. Моей страстью стало выворачивать наизнанку сшитое вручную платье. Заказчицы ахали: «Неужели и эти длинные швы сделаны вручную?» «Все до последнего», — отвечала я. В этом заключался секрет моего успеха. Вы удивились бы, узнав, каким спросом пользуются платья, блузки, юбки и белье, полностью сшитые вручную, я не отказывалась нашить целое trousseaux[1] для заказчиц, готовых дорого заплатить за него и не торопить меня.
Прошло много лет с тех пор, как я сшила платье для бабушки и стала зарабатывать своим ремеслом. Моя репутация превосходной портнихи постоянно укреплялась, поэтому я уже не кроила ткань сама по бумажным выкройкам, а нанимала в помощь закройщиков и модельеров. С такой работой никто не справляется лучше мужчин, заказчики тоже обычно предпочитают их. За годы у меня сменилось немало и тех и других. Я так и не вышла замуж за кого-нибудь из них, хотя не раз была близка к такому союзу. Чутье подсказывало мне, что ни с закройщиком, ни с модельером связывать себя на всю жизнь не стоит. Мода меняется каждый сезон, из года в год. А закройщики и модельеры нередко зацикливаются на моде какого-то одного периода и перестают развиваться; их лучшие времена остаются в прошлом. С другой стороны, швеи никогда не выходят из моды, я всегда была и останусь особенной швеей. Для бархата годятся швы, которые совсем не подходят для шифона, а я придумывала даже способы сшивания гипюра — так, чтобы швов вообще не было видно. В последнее время я выписывала иголки из Франкфурта, нитки — из Лондона. Моим новым увлечением стал поиск тканей по всему миру.
Так я и приехала в Комо за шелком, успев выстроить вполне комфортные для меня отношения с эксклюзивной клиентурой. Как и мои ткани, мои заказчики прибывали ко мне со всего мира, среди них были даже жены послов из Восточной Европы. На берегу озера Комо я увидела выставленный на продажу живописный дом, решила поселиться в нем и открыть новую мастерскую.
Теперь, когда сшитые вручную платья обеспечили мне широкую известность, мне понадобилась защита, если угодно, прикрытие. Чтобы сшить вручную вечернее или свадебное платье, нужно немало времени, поэтому я не могла отвечать на телефонные звонки миллионерш и секретарш, желающих сделать очередной заказ. От обычных горничных и помощниц по дому толку было мало, выяснилось, что подкупить их проще простого. Они впускали в дом посторонних или звали меня к телефону как раз в тот момент, когда я прокладывала круговой шов или обрабатывала уголок — такая работа требует предельной точности. Не выдерживая, я взрывалась. Однако за годы я успела убедиться: чем меньше поощряешь перспективных клиентов, тем сильнее распаляешь их желание дать заказ только тебе и тем выше цена, которую они готовы заплатить.
Я решила подыскать себе «дракона» — помощника, которому предстояло держать новых заказчиков на расстоянии, объяснять, что о встрече они должны договариваться заранее в переписке, и ни в коем случае не отступать от этого правила. Кроме того, «дракону» предстояло следить за досье моих давних заказчиков, содержать деловые бумаги в порядке и уметь запоминать мелкие детали специально для тех случаев, когда заказчикам наконец удастся договориться о встрече. В то время на меня работал превосходный закройщик Дэниел. Разработкой моделей он не занимался, это от него и не требовалось, зато он умел копировать и подгонять. Иногда я давала ему советы: например, какие ткани лучше кроить по косой, а какие, к примеру, так, чтобы для разнообразия избежать совмещения рисунка вдоль швов. Обычно я сама подгоняла одежду по фигуре и накалывала булавками во время примерки, потому что у меня очень точный глаз. Дэниел хорошо зарабатывал. Он был заносчив, считал традиционный портновский бизнес, в котором модельеры нанимают закройщиков и портних, единственно верным, а мои методы — наоборот, ошибочными. Но я сразу объяснила, что ему лучше заниматься своим делом, а щедрая плата заставила его держать язык за зубами.
Я начала проводить собеседования с потенциальными «драконами». О помощнице-портнихе, объясняла я, не может быть и речи. Больше всего мне нужны защита и время, длительные промежутки времени, когда я полностью предоставлена себе. Каждый стежок должен быть идеальным, объясняла я, маленьким и ровным. Даже наметку и сметку, которую позднее предстоит выдернуть, мне приходится делать самой, иначе я не смогу спать по ночам. Порой над каким-нибудь вычурным платьем мне приходится корпеть месяца два подряд, работая только над ним одним. Если платье украшено вышивкой — то три или четыре месяца. Все это я объясняла претенденткам на работу. Их было восемь. Я привезла их из Англии, чтобы провести собеседование прямо там, где им предстояло выполнять рабочие обязанности. Все они перепугались — с единственным исключением. Семеро были только рады убраться после собеседования, им вполне хватило возможности побывать в Италии, осмотреть достопримечательности и развеяться. Восьмая казалась скорее настороженной, нежели испуганной, пока я объясняла ей, в чем будет заключаться работа. Она постоянно хмурилась. Эмили Батлер. Рослая, тощая, с торчащими вперед верхними зубами и шапкой рыжих волос. Она немного понимала по-итальянски и говорила по-французски — впрочем, как и остальные девушки, которых я привезла на собеседование, иначе я и разговаривать бы с ними не стала. Но Эмили… я подумала, что из нее получится неплохой «дракон». Пусть оберегает меня от всех заказчиков, кроме входящих в краткий согласованный список или настоятельно рекомендованных другими заказчиками. И ни в коем случае не зовет меня к телефону: заказчик должен либо написать мне, либо оставить номер, чтобы я могла перезвонить ему, когда освобожусь. Эмили представила лестные рекомендации от оперного певца, у которого работала; по-видимому, она понимала, чего от нее хотят. Я припомнила, как слышала где-то, что мужчины находят женщин с торчащими вперед зубами весьма привлекательными, но считала, что в данном случае это обстоятельство роли не играет. И действительно, случившееся не имело никакого отношения к зубам Эмили.
Той весной и в начале лета Дракон стала для меня спасением. Я работала, не отвлекаясь, по семь дней в неделю, иногда по двенадцать часов в день, зачастую в беседке в саду — за исключением самых жарких дневных часов, когда перебиралась в мастерскую с кондиционером. Теперь последует рассказ о саде и доме.
Дом стоял в стороне от дороги, на высоком утесе над озером. Его выстроили на рубеже веков, придав ему немало характерных черт ар-нуво — таких, как витражные окна, резные балясины, украшения в виде плодов над дверями. Снаружи казалось, что эта вилла должна вмещать больше колоннад, арок, террас, эркеров и башенок, чем предполагали ее размеры: это означало, к примеру, что башенок было всего две, и на первый взгляд их явно недоставало. Сад был просторным, непропорционально большим по сравнению с домом, но вполне устраивал меня. Мне нравилось сидеть в саду и шить, особенно под могучим кедром, который заменил мне крышу. Кедр был виден и с противоположного берега озера, и с дороги, проходящей у подножия утеса; куда бы вы ни направлялись, с какой бы стороны ни приближались к дому, не заметить этот кедр было невозможно. Он высился над статуями в саду. Там, на садовой скамье, я могла спокойно обметывать петли для пуговиц — ибо я ни за что не согласилась бы вшить в свое платье молнию, — с каждым стежком проводила иголку под нитку, а если вышивала блузку, то спокойно сидела и клала один к одному стежки атласной глади или расколотые стежки.
Сад украшали белые каменные статуи того же исторического периода, что и дом. Они изображали четыре времени года и четыре вида искусства — живопись, скульптуру, музыку и литературу. Времена года выглядели как женские фигуры, виды искусства — как мужские, но все они были одетыми, поэтому мало чем различались. Художник держал в одной руке палитру, а в другой — кисть, скульптор ваял каменного льва, у музыканта в вытянутой левой руке была зажата флейта, а в правой, опирающейся на каменный пюпитр, — музыкальная партитура, писатель делал какие-то пометки в толстой тетради. Гирлянды на распущенных волосах женских фигур соответствовали времени года, которое они изображали: зима украсила себя остролистом и сосульками, весна — полевыми цветами, лето — розами и вишнями, осень — гроздьями винограда, вдобавок прислонившись к пшеничному снопу. Сад поражал воображение. Одни мои заказчики, увидев его, ахали от восторга, другие осматривали его в ошеломленном молчании и уходили, не сказав ни слова. Что касается статуй, иногда они вызывали у меня странное чувство, особенно когда я вдруг поворачивалась к ним. Они выглядели в точности как прежде — точнее, принимали прежнее выражение лиц. Но какие гримасы они строили за моей спиной?
В свободное время Дракон воспылала страстью к закройщику Дэниелу, и они предавались любви после обеда в прохладной комнате за кухней, где спала Дракон. Ее рыжие волосы отросли, она стала часто распускать их. И говорила, что эта прическа в стиле прерафаэлитов подходит к дому.
В августе зарядили на редкость обильные дожди, после которых воздух вызывал чувство растерянности и сонливость. Дракон спросила меня:
— Зачем вы столько работаете? Ради чего?
Никому и в голову не приходило задать мне подобный вопрос. Он звучал кощунственно. Я начала замечать, что заказчики приезжают на примерки с опозданием. Когда живешь за городом, приходится мириться с тем, что не все посетители прибывают вовремя. Но мои заказчики, по сути дела, опаздывали только в мастерскую: они заходили в кабинет к Дракон и сплетничали с ней, совсем забыв о том, что я их жду. В подробности своих бесед с моими заказчиками Дракон меня не посвящала. Я с любопытством отметила, что после встреч с Дракон люди начинают говорить со мной негромкими, осторожными голосами. Когда Дракон уезжала кататься в лодке с Дэниелом, ветер бросал рыжие волосы ей в лицо; чаще всего они возвращались насквозь промокшими под дождем. Однажды я заметила, что она пылает.
— Эмили, — сказала я, — по-моему, вам нездоровится.
— Вы умеете удивляться? — спросила она и выпустила из ноздрей, пыхнувших пламенем, струйки дыма. — Умеете? Никогда не подходите к телефону. Вечно напоминаете, что сюда никому нельзя: мадам занята, вам назначено? Вы всегда играете отрицательную роль, — продолжала она, — и она вас изнуряет.
Ее нос к тому времени стал совершенно прохладным, словно и не изрыгал дым и пламя.
Я разрешила ей пригласить на вечеринку местных жителей. Она привезла с собой целую толпу людей, с которыми познакомилась и каким-то образом ухитрилась подружиться в отеле на другом берегу озера. Привезла испанцев, отдыхающих на озере, чтобы развлечь Дэниела, и вызвала из Милана его сестру. Я заметила, что на вечеринке присутствуют три мои заказчицы из числа самых привилегированных. И этот красавец, водитель грузовика. Дракон созвонилась с самой известной банкетной компанией и заказала самое изысканное угощение. Она действовала умело и толково.
Дракон очутилась в центре внимания — я поняла это, когда вокруг меня точно вырос лес. Она прошла между людьми-деревьями, приблизилась ко мне, попыхивая огнем. Вдруг я заметила, что все статуи, и четыре времени года, и четыре искусника, задрапированы тканями из моей мастерской. Ткани были наброшены на них и сколоты булавками, как на моих манекенах, а гости восхищались ими. Одна из статуй, Зима, нарядилась в вечернее платье, которое я как раз шила. Я осмотрелась в поисках Дэниела. Он развлекал матроса из маленького озерного порта, выдувая дым через две сигареты, засунутых в ноздри. Дракон пила свой «Пиммс» и посматривала на меня зелеными глазами. Я подошла к симпатичному шоферу грузовика, который маялся, не зная, куда приткнуться, и спросила, куда он едет. Он направлялся с грузом в Дюссельдорф, а затем обратно через всю Европу. Шофера звали Саймон К. Клегг, инициал «К» означал «Курт». Несколько минут мы обсуждали превратности сферы большегрузного транспорта в странах Общего рынка. Наконец я сказала: «Едем».
Я оставила гостей, влезла в кабину грузовика, села рядом с шофером, и мы укатили. Внезапно я вспомнила о плаще и паспорте — двух вещах, обойтись без которых в путешествии невозможно, но Саймон Курт заявил, что об этом он позаботится. Дракон бросилась за нами вдогонку, фыркая и выплевывая зеленое пламя — вероятно, с содержанием сульфата или хлорида меди: я слышала, пламя свечи можно сделать зеленым, если подуть на него сквозь зеленый шартрез. За Дракон бежал Дэниел. Но мы уехали, махая руками, и навечно оставили Дракон и Дэниела присматривать за гостями и всем моим домом, устранять беспорядок, изводиться от беспокойства, шить и подгонять.
Навечно? Еще до въезда в город Комо на расстоянии двадцати пяти миль от моего дома мыс Саймоном К. Клеггом завели разговор о смысле вечности. Мы поставили грузовик на стоянку и пешком дошли до городского бара, где заказали кофе и мороженое. Саймон признался, что не понимает значение слова «навечно», и усомнился, что понятие «всегда» действительно существует, если оно значит то же, что и «вечно». Я объяснила: насколько мне известно, вечны потайные стежки, расколотые стежки, «козлик», «назад иголку», а еще наметка и обметка.
— Ты меня озадачила, — признался Саймон. — Все это в голове не укладывается. Значит, ты не хотела, чтобы тебя подвезли? Не собиралась уезжать с вечеринки и так далее?
Я объяснила, что появление Дракон в моем доме поставило под сомнение ценность тканей и шитья, клеенки и бортовки, нежнейшего шелка, швов взаутюжку, тонкой кружевной отделки по краю. Пуговичных петель. Атласной глади. Я рассказала о liason Дракон с закройщиком Дэниелом.
— Что-что у них?
— Роман.
— Так пусть съездят в отпуск, — высказался Саймон.
— Работы слишком много.
— Если она там главная, пусть сама решает, когда ей работать. Швейная промышленность процветает.
— Главная там я.
Он опешил, словно его обманули.
— Я думал, — признался он, — ты вроде как наемная работница.
Он и вправду был симпатичным, этот шофер грузовика. Отодвинув свою вазочку с мороженым, он вдруг выпрямился, словно ему в голову пришла идея.
— Моя сестра работает на ткацко-швейной фабрике в Лионе. Платят хорошо, рабочий день неполный. Она швейка, — сообщил он.
— Швея, — поправила я.
— Она говорит — швейка.
— Я шью вручную, — сказала я.
— Вручную? Это как?
— Иголкой с ниткой.
— И что для этого нужно? — спросил он таким тоном, что я вдруг поняла: он никогда в жизни не видел иголки и нитки.
Я объяснила, как надо действовать пальцами правой руки, чтобы заменить иголку и шпульку швейной машинки, а ткань держать в левой. Он слушал внимательно. Почти уважительно.
— Наверное, здорово экономишь на электричестве, — заметил он.
— Но неужели ты никогда не видел хотя бы, как пришивают пуговицы? — спросила я.
— У меня нет одежды с пуговицами. Это не для меня.
Однако он уже думал о чем-то другом.
— Ты не могла бы пригнуться в кабине, пока мы будем проезжать таможню и иммиграционный контроль? — спросил он. — В кабине удобно, туда обычно не заглядывают. Только проверяют мои бумаги. Половину груза я уже доставил, теперь везу остальное через Сен-Готард в один отель в швейцарском Бруннене. И в Дюссельдорф. Диетические крекеры из Лиона.
Но я тоже думала о другом, потому ответила не сразу.
— А мне показалось, тебя наняли на работу, — добавил он. — Если бы знал, что ты хозяйка, придумал бы что-нибудь получше.
Я уловила в его словах тревогу и опечалилась. И сказала:
— Увы, в своем деле хозяйка я.
И я задумалась о заказах, накапливающихся к зиме. В следующий вторник одна моя заказчица из Бостона должна была специально совершить путешествие через Атлантику и Альпы, чтобы заказать наряды из моей коллекции зимних тканей, в том числе из шерсти оттенка светлых креветок, такой тонкой и мягкой, что ее было немудрено спутать с муслином, и темно-синего панбархата — не просто синего, а с васильковым отблеском, — платья из которого я подбивала шелком точно в тон и обшивала по всем швам кружевом шириной в четверть сантиметра. Еще одна моя заказчица из Милана облюбовала для костюма-тройки, драпирующегося, как зимние тучи, мой серый шерстяной шифон в почти неразличимую оранжевую полоску. Я уже приготовила выкройку для закройщика и подобрала нитки.
Я погрузилась в мысли о других отрезах, материалах и заказчицах, когда голос Саймона вторгся в них и прервал поток:
— Слушай, ты изрыгаешь огонь. Наверное, наэлектризовалась. — Он поднялся и взял со стола счет. Вид у него был ошарашенный. — Теперь ясно: ты сама себе дракон.
Я ускользнула из бара, пока он расплачивался по счету у кассы. Дождавшись темноты, я нашла машину и велела доставить меня обратно на виллу. Все уже разъехались по домам. Статуи в саду вновь стояли раздетые. Эмили Батлер болтала в гостиной с Дэниелом. Мне было жаль расставаться с симпатичным водителем грузовика. Я определенно понравилась ему не только характером, но и внешностью, хотя знала, что выгляжу в точности так, как полагается серьезной и невзрачной портнихе. Встречаются любители таких типажей. Но стоило мне вспомнить, что на самом деле я, как заметил Саймон, сама себе дракон, я понимала, что не смогла бы уехать с ним за границу. Вероятно, никогда. Не дали бы ни мой темперамент, ни моя температура.
Остановившись в дверях гостиной, я уставилась на Эмили и Дэниела. Эмили ахнула, Дэниел вскочил, в его глазах отразился ужас.
— Она изрыгает огонь, — прошептала Эмили и удрала через застекленные двери. Дэниел поспешно последовал за ней, опрокинув стул. Всего один раз он оглянулся через плечо, а затем бросился догонять Эмили.
Я прошла в кухню и подогрела себе молока. Там я ждала, пока не услышала, как оба на цыпочках прокрадываются обратно в дом и впопыхах, суетливо собирают вещи в комнате Дэниела наверху и в комнате Эмили в глубине дома.
Наконец они, взвалив на себя тюки, пробрались через холл к двери, погрузились в машину Дэниела и умчались, даже не дождавшись расчета.
Мой бизнес процветает, я справляюсь с ним без всяких драконов. И без закройщика — оказалось, талантом кроить ткани я обладаю сама. Еще я придумала новый стежок и назвала его «драконьим». Он очень мило смотрится на фестончатых подолах платьев в стиле тридцатых годов, которые теперь многим полюбились, — для вечера, но не слишком позднего. Прелесть драконьего стежка в том, что все его элементы на виду, он крупный, выполняется яркими толстыми нитками, контрастирующими по цвету с платьем: прямой стежок и две «елочки», опять прямой и снова две «елочки», и так далее, вдоль всех фестонов и вырезов подола, словно он будет продолжаться вечно.
СЕРАФИМ И ЗАМБЕЗИ
© Перевод. Н. Анастасьев, 2011.
Возможно, вам приходилось слышать о Сэмюэле Крамере, наполовину поэте, наполовину журналисте, который был как-то связан с танцовщицей по прозвищу Фанфарло. А впрочем, если и не слышали, это не имеет значения. Говорят, он был на виду в Париже начала XIX века, и когда мы познакомились с ним в 1946 году, тоже был на виду, хотя и по-другому. Это был тот же самый человек, только в новом облике. Например, в те давние времена, более ста лет назад, Крамер на протяжении нескольких десятилетий уверял, притом совершенно уверенно, что ему около двадцати пяти лет. Но к моменту нашего знакомства он явно вошел в возрастную фазу сорокадвухлетнего человека.
В ту пору он держал заправку милях в четырех к югу от реки Замбези, там, где она обрывается водопадом Виктория. У него было несколько свободных комнат, где размещались, если гостиница была переполнена, туристы, приехавшие посмотреть на водопад. Меня как раз и послали к нему, потому что начались рождественские праздники и свободных номеров в гостинице не осталось.
Мы встретились подле гаража из рифленого железа, где он пытался завести большой, изрядно побитый «мерседес», и на первый взгляд показался мне бельгийцем из Конго. Его можно было принять и за северянина, и за южанина, волосы светлые, кожа цвета парусины. Но впоследствии выяснилось, что отец у него немец, мать — чилийка. Именно это обстоятельство, а отнюдь не дощечка над дверью гаража, гласившая «С. Крамер», заставило меня подумать, что об этом человеке мне уже приходилось слышать.
Дождей почти не было, декабрь в том году выдался на редкость жарким. За три дня до Рождества я сидела на террасе у своей комнаты, глядя сквозь порванную железную сетку от комаров на отдаленные зарницы. Когда жара сохраняется в течение долгого времени, возникает ощущение, что со звуками природы что-то происходит. Они утрачивают свой обычный тон и доносятся словно сдавленно и приглушенно. В тот вечер рождественские жуки, плюхающиеся спиною на пол террасы с пронзительным стуком, пребывали в каком-то полусонном состоянии. Одного я заметила в падении, и негромкий стук достиг моих ушей с едва уловимым опозданием. Звуки, производимые в буше дикими зверями, из тех, что поменьше, тоже были приглушены. На самом деле, только когда буш разом умолк, что часто бывает, когда вблизи появляется леопард, я поняла, что до этого вообще раздавались какие-то звуки.
Перекрывая этот общий невнятный гул, в дальнем конце террасы продолжалась вечеринка, которую устроили постояльцы Крамера. Жара поглощала каждое слово. Бокалы звенели так, словно были сделаны не из стекла, да и вообще это были не бокалы, а бутылки, завернутые в бумажные салфетки. Иногда, на какое-то мгновенье в воздухе вяло повисал чей-то вскрик или взрыв смеха, но эти звуки были такими же смутными и ирреальными, как свет карманного фонарика, разрывающего пелену лондонского тумана.
Крамер подошел к моему углу террасы и пригласил присоединиться к компании. С удовольствием, сказала я, и ничуть не слукавила, пусть даже одной мне было совсем неплохо. Столь продолжительная и сильная жара подавляет волю.
В соломенных креслах, с бокалами в руках, жуя соленые орешки, сидели пятеро гостей. Среди них я узнала только что приехавшего из Англии рыжеволосого полисмена, а также двух постояльцев Крамера — хозяина табачной плантации и его жену из Булавайо. По местному обычаю двое оставшихся представились по имени. Мэнни, невысокий смуглый мужчина с квадратным лицом и фигурой, показался мне португальцем с восточного побережья. Женщина, Фанни, отщипывала соломинку за соломинкой от трухлявого кресла, а когда поднимала бокал, рука ее немного подрагивала, заставляя звенеть браслеты. На вид ей было лет пятьдесят — хорошо ухоженная, безукоризненно одетая дама. Ее седые волосы, покрашенные в голубой цвет, были уложены кудельками прямо надо лбом с отметинами — следами малярии.
Как принято в здешних краях при встрече с малознакомыми людьми, я назвала хозяину плантации и его жене имена знакомых в радиусе шестисот миль. Полицейский поделился новостями из жизни региона, расположенного между Лусакой и Ливингстоном. Крамер же, Мэнни и Фанни затеяли какой-то спор, и, похоже, перевес был на стороне последней. Судя по всему, речь шла о рождественском спектакле либо концерте, с участием всех троих. Несколько раз до меня доносились слова «ангелы», «пастухи», «смешные цены» и «мои девочки» — слова, по-видимому, ключевые для всей дискуссии. В какой-то момент, услышав чье-то имя — его назвал полисмен, — Фанни вдруг отвлеклась от спора и повернулась к нам.
— Это одна из моих девочек, — сказала она. — Я три года ее обучала.
Мэнни собрался уходить, и, прежде чем последовать за ним, Фанни извлекла из сумочки визитку и протянула мне.
— Если кто-нибудь из ваших друзей заинтересуется… — неопределенно обронила она.
Дождавшись, пока они со спутником отъедут от дома, я посмотрела на карточку, где поверх адреса, отсылающего к месту, расположенному милях в четырехстах вверх по реке, можно было прочитать:
Мадам Лa Фанфарло (Париж, Лондон)
Уроки танцев. Балет. Танцевальный зал
По договоренности обеспечение транспортом
На следующий день я снова столкнулась с Крамером, по-прежнему возившимся со своим «мерседесом».
— Вы тот самый, о ком писал Бодлер? — спросила я.
С привычным терпением во взгляде он посмотрел мимо меня в сторону бескрайнего пустынного вельда и ответил:
— Да. А что вас навело на эту мысль?
— Имя Фанфарло на визитке Фанни. Разве вы не были знакомы в Париже?
— Да, конечно, но все это осталось в прошлом, — сказал Крамер. — Она вышла замуж за Мануэло де Монтеверде, то есть за Мэнни. Здесь они осели лет двадцать назад. Он держит лавку для кафров.
Тут-то я и вспомнила, что в век романтизма Крамер любил перемежать сочинение стихов и прозы занятиями вполне практическими.
— А литературой вы больше не занимаетесь? — спросила я.
— Профессионально — нет. Это была навязчивая идея, от которой я счастливо избавился. — Он постучал по шершавому капоту машины и добавил: — Величайшие произведения литературы возникают по наитию. Это мысль, пришедшая задним числом.
Он снова повернулся в сторону вельда, где, невидимый, попугай лори со своим серым хохолком насвистывал: «иди, иди».
— Жизнь, — продолжил Крамер, — штука серьезная.
— Ну а сейчас вы по наитию стихи пишете?
— Когда наитие того требует, — ответил он. — Вообще-то говоря, я только что написал «Рождественскую маску». Представление состоится в сочельник, прямо здесь. — Он указал на гараж, где несколько аборигенов уже переставляли канистры с бензином и покрышки. Не будучи ни актерами, ни зрителями, они никуда не торопились. Рядом возвышалась груда складных стульев.
В сочельник, ближе к полудню, я вернулась с водопадов и обнаружила перед гаражом возбужденную толпу аборигенов, в центре которой, громко и сердито ругаясь, стоял Крамер. Одной рукой он вцепился в рукав какого-то мрачного типа, другой размахивал в раскаленном воздухе, энергично подчеркивая таким образом свое возмущение. Выяснилось, что из миссии прислали несколько аборигенов, чтобы помочь установить сцену, а те, со своим элементарным трехклассным английским, вымытыми лицами и в белых тиковых шортах, принялись невинно поддразнивать неграмотных, в лохмотьях, ребят Крамера. Его метод, заключавшийся в том, чтобы закончить речь словом «полиция», сработал, — приезжие снова принялись за работу, продолжая, однако же, гортанно, словно выбивая барабанную дробь, покрикивать друг на друга.
Сцена, сколоченная из ящиков для белья с планками крест-накрест, была установлена в глубине помещения, откуда дверь вела во двор, к нужнику и хижинам аборигенов. Пространство между дверью и сценой было отгорожено перекинутыми через веревку казенными черными одеялами. Ученицы из школы Фанфарло должны были изображать хор ангелов и танцевать; сама же она собиралась исполнить сольную партию балета, выступив в роли Пресвятой Девы. Ее мужу, из-за того что он говорил на слишком уж ломаном английском, досталась бессловесная роль пастуха в компании с тремя другими пастухами, которым не доверили роль со словами по той же причине. Главную роль исполнял Крамер — первый серафим. У него было больше всего реплик. Сошлись на том, что поскольку текст написал он, то он и донесет его до зрителей наилучшим образом; однако мне показалось, что в ходе репетиций возникли некоторые разногласия, связанные со стоимостью постановки, ибо Фанни настаивала на том, что ее девушки достойны самых богатых декораций.
Начало представления было назначено на восемь вечера. Я появилась за кулисами в семь пятнадцать и увидела ангелов в балетном одеянии с крыльями из разноцветной гофрированной бумаги. Сама Фанфарло нарядилась в длинную белую прозрачную юбку с поясом, расшитым блестками. Я помогала гримировать мудрецов — наклеивала бороды, — когда краем глаза увидела Крамера. На нем было нечто вроде тоги, сшитой из нескольких слоев москитной сетки, недостаточно плотной, однако, чтобы скрыть его белые шорты. Загримировался он слишком рано, и теперь грим растекался по лицу, ибо день становился все жарче и жарче.
— В этот момент я всегда нервничаю, — заметил он. — Надо бы порепетировать вступительный монолог.
Я услышала, как он поднимается на сцену и начинает декламировать. Правда, за гомоном возбужденной ребятни уловить можно было только ритм речи, к тому же надо было помочь Фанфарло загримировать девочек. Казалось, это невозможно. Как бы быстро ни орудовали мы гримерными кисточками, краска мгновенно растекалась. Жара стояла поистине невыносимая.
— Откройте ту дверь, — крикнула Фанфарло. Задняя дверь открылась, и к ней сразу хлынула толпа любопытствующих аборигенов. Фанфарло принялась отгонять их, а я отправилась к входу глотнуть воздуха. Я уже поднялась на сцену, когда вдруг почувствовала, что откуда-то справа накатывает мощная тепловая волна. Обернувшись, я увидела Крамера. Он явно на кого-то кричал, как утром на аборигенов. Но сделать хоть шаг вперед ему мешала эта самая волна. И из-за нее же я не сразу увидела, кем это так возмущается Крамер. Такой жар пеленой застилает глаза. Но, приблизившись к авансцене, я все разглядела.
Это было живое существо. Более всего бросалась в глаза его неподвижность; оно словно бы не соответствовало законам перспективы, не меняя размеров при приближении и удалении. И в полном несогласии с иными формами жизни обладало полностью законченным видом. Ни одна из его частей не пребывала в движении; в контуре отсутствовали малейшие признаки колебания, неровности, что обычно свойственно всему живому, и то же самое лежало в основе его красоты. Глаза занимали почти все лицо, уходя далеко за скулы. С затылка свисали два сильных крыла, которые время от времени складывались, закрывая глаза и вызывая порыв обжигающе горячего воздуха. Шеи почти не было. Еще одна пара крыльев, упругих и податливых, была раскинута ниже плеч, а третья крепилась на лодыжках, словно бы удерживая все тело на весу. Ноги казались слишком хрупкими для столь плотно сбитого организма.
Сталкиваясь с чем-то необычным, европейцы — жители Африки — часто против собственной воли начинают говорить на кухонном языке кафров.
— Гамба! — взревел Крамер, что означало: «Вон отсюда!»
— А ну-ка сойди со сцены и не надо кричать, — мирно предложило существо.
— Да кто ты, черт побери, таков? — тяжело дыша в раскаленном воздухе, проговорил Крамер.
— То же, что и на небесах, — последовал ответ, — иными словами — Серафим.
— Расскажи об этом кому-нибудь еще, — пропыхтел Крамер. — Я что, на идиота похож?
— Ладно, расскажу. Только не другому Серафиму, — согласился Серафим.
Воздух наполнялся исходившим от Серафима жаром. Грим заливал Крамеру глаза, он стирал его рукавом своей сетчатой тоги. Направляясь в глубину помещения, где было не так жарко, он выкрикнул:
— Раз и навсегда, чтобы было понятно…
— Вот это правильно, — заметил Серафим.
— …это мое представление, — закончил Крамер.
— С каких это пор? — поинтересовался Серафим.
— С самого начала, — выдохнул Крамер.
— С Начала это как раз мое представление, — возразил Серафим, — а Начало началось прежде всего остального.
Спускаясь с раскаленной сцены, Крамер зацепился своим одеянием за гвоздь и порвал его.
— Слушай, — заговорил он, — я не могу себе представить, чтобы такая бестия, как ты, был истинным Серафимом.
— Истинно так, — откликнулся Серафим.
В это время жар уже выгнал меня наружу, к входу. Крамер встал рядом со мной. Собралась группа аборигенов. Начали подъезжать зрители, из-за противоположной стороны здания показались участники спектакля. Заглянуть сколько-нибудь глубоко внутрь не представлялось возможным из-за исходившего от Серафима жара, как невозможно было и войти.
Стоя у двери, Крамер по-прежнему пылко беседовал с Серафимом, а вновь прибывшие никак не могли решить, под какую из трех знакомых категорий подпадет данное дело, в чем причина — в аборигенах, Уайтхолле или леопардах.
— Это моя собственность, — настаивал Крамер, — а эти люди заплатили за свои места. Они пришли на спектакль в театре масок.
— В таком случае, — сказал Серафим, — я готов понизить температуру, чтобы и они смогли посмотреть спектакль.
— Мой спектакль, — с нажимом сказал Крамер.
— Да нет, мой, — возразил Серафим, — твоему тут нет места.
— Ты уберешься отсюда, или мне вызвать полицию? — решительно сказал Крамер.
— У меня нет выбора, — еще более решительно заявил Серафим.
Разнесся слух, что в гараж проник обезумевший леопард. Люди расселись по своим машинам и отъехали на безопасное расстояние; хозяин табачной плантации пошел за ружьем. Кое-кому из молодых полисменов пришла в голову мысль ослепить леопарда бензином, и они отправили аборигенов на заправку заполнить канистры, чтобы затем передать их по цепочке в гараж.
— Так мы с ним справимся, — заметил один из полисменов.
— Верно, пусть отведает бензина, — крикнул Крамер от двери.
— Я бы не стал этого делать, — заметил Серафим. — Пожар начнется.
Взметнулось пламя от первой порции бензина, выплеснутой внутрь гаража. Сначала загорелись сиденья, затем сам воздух, и наконец все помещение, ограниченное металлическими стенами, превратилось в сплошной огонь, питающийся огнем. Тут подъехала еще одна машина с полисменами, которые поспешно отправили группу аборигенов наполнять канистры из-под бензина водой. Они начали неторопливо поливать огонь. Фанфарло вывела своих ангелов на дорогу. Она старалась успокоить их родителей и одновременно понять, что происходит: ее бесило, что не удалось показать свое искусство танца. Она свирепо ткнула в спину одному из ангелов, чьи родители находились в Англии.
Окончательно огонь утих лишь через несколько часов. Пока рифленые металлические стены, искореженные и съежившиеся, еще были накалены, увидеть, что произошло с Серафимом, не представлялось возможным, а когда огонь погас, стало слишком темно, да и жарко, чтобы что-нибудь разглядеть в развалинах.
— Гараж застрахован? — спросил Крамера кто-то из его друзей.
— Конечно, — ответил тот, — мой полис покрывает все, за исключением деяний Бога, то есть удара молнии или потопа.
— Он полностью обеспечен, — сказал друг Крамера другому другу.
Многие уже разъехались по домам, кто-то еще только собирался уезжать. Полисмены отъехали, распевая «Дорогого короля Венцеслава», а мальчишки из миссии бежали по дороге, распевая «Да возрадуются добрые христиане».
Время близилось к полуночи, а жара не спадала. Хозяин табачной плантации и его жена предложили проехаться к водопадам, там прохладнее. Крамер и Фанфарло присоединились к нам, и, подпрыгивая на ухабах, мы двинулись проселочной дорогой, ведущей от дома Крамера к шоссе. На нем были всего две гудронированные колеи для машин. Мили за две до места мы услышали рев водопадов.
— Все труды прахом. Маски и вообще все, — повторял Крамер.
— Да заткнись ты, — огрызнулась Фанфарло.
И вот тут, при свете фар, я снова увидела Серафима. Он передвигался со скоростью семидесяти миль в час, задевая гудрон быстрыми взмахами двух крыльев, в то время как еще два были сложены на его лице и третья пара прикрывала ноги.
— Это он! — вскричал Крамер. — Мы еще можем достать его.
Мы вышли из машины у гостиницы и двинулись по тропинке через густые тропические заросли Леса дождя, где водяная пыль от водопадов орошает землю непрестанно. Это было как исцеление после лихорадки, легкий дождь после жары. Серафим был далеко впереди нас, и сквозь листву деревьев я видела, как исходящий от него жар превращается в пар. Мы подошли к краю обрыва, где напротив нас, на той же высоте, мощный речной поток низвергался в ущелье. Серафима нигде не было видно. Может, он внизу, на дне стонущей впадины или — где?
А потом я заметила, что на протяжении целой мили над гребнем водопада струи взлетают выше обычного. Я решила, что это пар, исходящий от Серафима. И я была права, потому что вскоре, при немых вспышках летних зарниц, мы увидели, как он удаляется от нас по Замбези, скользя среди валунов, похожих на крокодилов, и крокодилов, похожих на валуны.
ДУШЕПРИКАЗЧИЦА
© Перевод. У. Сапцина, 2011.
После смерти моего дяди его рукописи были переданы в университетский фонд — все, кроме одной. Вместе с рукописями увезли и переписку, и всю его библиотеку. Седовласый мужчина и девушка приехали и осмотрели его кабинет. На все это найдутся желающие, сказали они, за все дадут хорошую цену, если я разрешу продать обстановку целиком — его кресло, письменный стол, ковер, даже пепельницы. Я согласилась. Из ящиков стола я ничего не вынимала, в них все осталось, как при дяде, — и флакон либриума,[2] и ржавая бритва.
Мой дядя умер так: он рыбачил, сидя на берегу реки. Ближе к вечеру мимо прошел какой-то человек, потом — молодая пара, которая увлекалась керамикой. Как сказали все они впоследствии, в ожидании поклевки дядя сидел так мирно, что его не решились беспокоить. Наступила ночь, мимо прошли полковник с женой, возвращающиеся домой после ежедневной прогулки. Они заметили, что мой дядя что-то засиделся на берегу, и подошли к нему. По мнению врача, к тому времени он уже был мертв два или два с половиной часа. Рыба по-прежнему теребила наживку. Оказалось, дядя скончался от умеренно сильного сердечного приступа. Умеренность была свойственна всем поступкам моего дяди, этим они и отличались от его литературных трудов. А может, отличие и не было столь значительным. Его считали человеком «не от мира сего», поэтому никто не знал, что происходит там, в его мире. И потом, он не так давно вернулся из поездки в Лондон. Как говорится, чужая душа — потемки.
Он и сам считал себя человеком «не от мира сего». Однажды он сказал, что если бы можно было представить современную литературу в виде картины, например, Брейгеля-старшего, на переднем плане были бы изображены люди, занятые всевозможными делами, — яркие, многоцветные, они ели бы, воровали, совокуплялись, смеялись, ухаживали друг за другом, испражнялись, закалывали друг друга ножами, торговали, лазили по деревьям. А вдалеке, по другую сторону обширной равнины, стоял бы он — пылинка на горизонте, вечно отдаляющаяся и неизменная, необходимый и таинственный компонент полотна, всегда остающийся на прежнем месте, неустранимый и незаменимый, далекая пылинка, которая при ближайшем рассмотрении оказывается всего лишь смутной фигурой, бредущей прочь.
Я не дура, и он об этом знал. Поначалу сомневался, однако ему хватило семи месяцев, чтобы признать этот Факт. Я бросила работу в правительственном учреждении Эдинбурга, — работу, на которой мне светила пенсия, — чтобы приехать сюда, в пустой дом среди холмов Пентленд-Хиллза, составить компанию дяде и заботиться о нем. Видимо, предлагая мне это, он рассчитывал найти еще одну Элейн. Он и представить себе не мог, сколько преимуществ перед Элейн окажется у меня. Неприглядная правда заключалась в том, что Элейн была его любовницей. «Моя гражданская жена», — называл ее дядя, объясняя, что в Шотландии по традиции считают женой женщину, с которой живут. Как будто я не знала весь этот фольклор XIX века и давно забытые обычаи. В наше время мало трижды повторить «беру тебя в жены», чтобы женщина считалась твоей женой. Конечно, дядя был талант и личность, этого у него не отнимешь. Так или иначе, Элейн умерла, а через месяц сюда прибыла я. За месяц я успела превратить в порядок большую часть домашнего хаоса. Дядя звал меня шотландской девушкой-пуританкой: в сорок один год приятно вновь слышать, как тебя называют «девушкой», а против причисления к шотландцам и пуританам я не возражала потому, что гордилась происхождением и считала себя патриоткой. Дядя произносил эти слова с особенной улыбкой, поэтому я не знала, какой смысл он вкладывает в них. Говорили, что ту же улыбку увидели у него на лице, когда нашли его мертвым с удочкой в руке.
«Назначаю мою племянницу Сюзан Кайл своей душеприказчицей, единственной исполнительницей моей воли во всем, что касается литературного наследия». Неудивительно, что такое решение он принял после того, как я прожила у него три месяца. Вероятно, впервые за всю дядину жизнь его бумаги были приведены в порядок. Я съездила в Эдинбург, закупи-та каталожные ящики и коробки, заполнила их горами бумаг и каждый снабдила этикеткой. В таких делах я знаю толк. Никто не смог бы уличить меня в том, что письмо от Энгуса Уилсона или Сола Бэлоу я храню в ящике с пометкой «У» или «Б», рядом с корреспонденцией каких-нибудь заурядных мисс Мэри Уайтлоу или миссис Джонатан Браун. Я понимала ценность первых из перечисленных документов, поэтому держала их в пухлых папках с письмами выдающихся людей. Поэтому вскоре дядя заявил: «Сюзан, теперь мне больше нечем заняться, кроме как умереть». Заявление показалось мне слишком напыщенным, о чем я и сказала ему. Но я видела, что он невольно восхищается моим здравомыслием. Он говорил: «Ты напоминаешь мне мою мать, которая даже саван приготовила себе заранее». Его мать Дженет Кайл приходилась мне бабушкой. И вправду, почему ей было не сесть и не сшить себе саван? В те времена многие изнывали от безделья, и если сейчас я поддерживала порядок в доме и следила за бумагами дяди сама, с помощью одной только миссис Доналдсон, приходившей по утрам трижды в неделю, то моей бабушке помогали четыре пары рук в доме и три — вне дома. После бабушкиной смерти остальные родственники сюда не наведывались, потому что с дядей жила Элейн.
Имущество было разделено между всеми родственниками, а распоряжаться литературным наследием доверили только мне. Теперь я одна имела право решать, как поступить с дядиным архивом. Хорошо, что я давно разобрала его и подготовила к продаже. Покупатели пришли и забрали весь архив, всю переписку и рукописи, за исключением одной. Той, которую я оставила себе. Это была рукопись недописанного романа, того самого, над которым дядя работал перед самой смертью. Я подумала: а почему бы мне не дописать его самой и не опубликовать? Я не дура, дядя наверняка уже знал, чем закончится книга. Его писем я не читала: последние несколько месяцев я только тем и была занята, что сортировала их и раскладывала по ящикам. Надо бы прочитать рукопись, и если получится — придумать для нее финал. Десять глав уже готовы. Дядя говорил, что осталась всего одна, последняя. Поэтому людям из фонда я ни слова не сказала о незаконченной рукописи, только порадовалась, когда они увезли из дома бумаги. И вызвала маляров, чтобы перекрасили кабинет. Миссис Доналдсон призналась, что еще никогда не видела дядино жилище настолько похожим на настоящий дом.
По дядиному завещанию я унаследовала дом и теперь планировала летом пускать в комнаты туристов, предлагая ночлег и завтрак. А в ожидании лета — прочитать незаконченную рукопись, потому что шел апрель, а я не из тех, кто привык сидеть сложа руки. Я научилась разбирать дядин почерк, который по-старинному красиво смотрелся на странице, хоть она и пестрела помарками. В последние месяцы жизни дядя обрел в моем лице истинное сокровище, но часто повторял, что я похожа на справочник без указателя: все сведения собраны вместе, а как искать их — непонятно. В ответ я просила объяснить, какие сведения ему удалось почерпнуть от Элейн, которая ни разу в жизни не сдала ни единого экзамена.
Последняя дядина книга была нетипичной для него, действие в ней происходило в XVII веке здесь, среди холмов Пентленд-Хиллза. Однажды он объяснил мне, что пишет трагическую, почти жестокую историю, которую проще уложить в рамки исторического романа. Это рассказ о постепенном разоблачении и окончательной поимке одной ведьмы, и я, читая роман, понимала, что дядя не шутил, называя его трагическим и жестоким; он часто заговаривал о том, что пугало и тревожило меня — сама не знаю почему. К десятой главе судебный процесс над ведьмой в Эдинбурге не достиг и середины. Ее судьба всецело зависела от одиннадцатой главы и от переговоров, которые вели за кулисами противоборствующие стороны, участники интриги. Готовясь к работе над этим романом, дядя собрал целый ворох записей, и я оставила их себе вместе с рукописью. Но ничто в них не указывало, как дядя намеревался решить судьбу ведьмы — ее звали Эдит, но это так, к слову. Я убрала тетради и кипы бумаги, потому что после смерти моего прославленного дяди мне пришлось заниматься и другими делами. Рукопись романа представляла собой двенадцать тетрадей: одиннадцать исписанных полностью и двенадцатую — с двумя израсходованными страницами; все прочие были чисты, и я в этом сразу убедилась. Две заполненных относились к десятой главе, вверху третьей страницы было написано «Глава 11». Я пролистала эту тетрадь до конца, чтобы удостовериться, что дядя не оставил в ней записей о предполагаемом продолжении: нет, все страницы остались чистыми. Я собрала двенадцать тетрадей вместе с Разрозненными листами записей и сложила в ящик массивного комода красного дерева, стоящего в столовой.
Через несколько недель я снова достала тетради, решив подумать, каким образом можно закончить книгу и тем самым повысить ее стоимость. Я снова прочитала всю десятую главу, а когда открыла страницу с надписью «Глава 11», увидела ниже строки, написанные дядиным почерком:
«Ну, Сюзан, и каково это — дописывать мой роман? Какая же ты все-таки жадная маленькая негодяйка — утаила мою незаконченную книгу, хотя и знала, что фонд сполна заплатил за весь архив! А как же твои пуританские принципы? Мы с Элейн ждем, хотим посмотреть, как ты ухитришься написать одиннадцатую главу. Элейн просит прибавить: приятно видеть, как старательно ты вычищаешь даже самые запущенные углы дома. Но неужели ты не догадалась, что Джейми тебя дурачит? Куда это он спешит после обеда?
Твой любящ. дядя».Я едва могла поверить своим глазам. В первую очередь меня потрясло упоминание о Джейми, во вторую — сам факт появления этой записи. Была половина первого ночи, Джейми давно уехал домой. Джейми Доналдсон — сын миссис Доналдсон; не его вина, что работы для него на весь вечер не нашлось. Нам обоим было что вспомнить, но об этом никто не знал, и прежде всего — миссис Доналдсон, которая звала его в дом, только когда требовалось вымыть окна да развести огонь в котельной. Но эта запись! Откуда она взялась?
Дом стоял на отшибе, среди холмов Пентленда, в окружении лесов; до ближайшего коттеджа было пять миль, до дома миссис Доналдсон — шесть, последний автобус проходил мимо в десять вечера. Мне стало жутко сидеть в столовой перед двенадцатью тетрадями и стопкой бумаг, разложенными на столе, меня охватили озноб и паника. Я бросилась в холл и сняла трубку телефона, но не знала, как объяснить, что со мной случилось, и кому звонить. Мой рассказ наверняка сочтут бредом сумасшедшей. Позвонить миссис Доналдсон? В полицию? Я понятия не имела, что сказать им в такой час ночи. «Я нашла в дядиной рукописи слова, которых там раньше не было, написанные его почерком». Это немыслимо. Потом я подумала, что кто-то решил разыграть меня. Но нет, это было бы невозможно. В столовую входила только миссис Доналдсон, да и то затем, чтобы смахнуть пыль, а я при этом помогала ей. У Джейми не было никаких причин появляться в этой комнате. Сама я не пользовалась столовой и ела в кухне. В сущности, я сразу поняла, что запись сделал не кто иной, как дядя. Я всем сердцем пожелала быть сильной, такой, как всегда, — сильной и рассудительной. Стоя в холле у телефона и дрожа, я молилась: «Господь всемогущий, дай мне силы, направь и укажи, как вела бы себя в подобных обстоятельствах миссис Тэтчер».
Я не спала всю ночь. Сидя в большой кухне, я поддерживала в печи огонь. Только один раз я покинула свое место — чтобы сходить в столовую и убедиться, что новая запись по-прежнему в тетради. Она была на месте, написанная дядиным почерком, который мог бы подделать только виртуоз. Я уложила рукопись обратно в ящик, заперла дверь столовой и вынула из замка ключ. Дядин кабинет, в настоящее время абсолютно пустой, находился над кухней. Если его призрак и бродил по дому, то я не слышала ни звука — ни из кабинета, ни из других комнат. Это была страшная ночь, и я провела ее в ожидании у огня.
Утром явилась миссис Доналдсон с жалобами, что Джейми совсем обленился и отказался вставать. И по вечерам приходит домой слишком поздно.
— А куда он уходит после обеда? — спросила я.
— После обеда — играть в гольф, — объяснила она. — Ни за что не откажется от партии, даже если других дел полно. Гольф — проклятие Шотландии.
Я догадывалась, с кем Джейми встречается на поле для гольфа, и была почти благодарна дяде за тонкий намек на то, чем Джейми занят после дневной трапезы, которую мы называли обедом, а кто-то счел бы вторым завтраком. К пяти часам дня Джейми приходил в дом, чтобы принести угля, развести огонь и так далее. А день проводил в обществе Греты — девушки, которая работала в доме пастора и приходилась младшей сестрой Элейн, той самой, которая открыто поселилась здесь, запятнала репутацию дяди и дала дому зарасти грязью. Я всегда с подозрением относилась к этой семейке. После смерти Элейн выяснилось, что дядя даже представил ее всем своим друзьям, — это я узнала из писем с соболезнованиями, которые присылали мне и в которых попадались фразы вроде «он так и не оправился после кончины Элейн» и «он не смог жить без нее». Иногда дядя по ошибке называл меня Элейн, а я приходила в ярость. К примеру, однажды я сказала ему: «Дядя, хватит вам слоняться из угла в угол. Отправляйтесь к себе в кабинет и садитесь за свою писанину, а я принесу вам чашку какао». С остекленевшим взглядом, какой всегда бывал у него, когда прерывали его мысли, дядя спросил: «Что на тебя нашло, Элейн?» Я ответила: «Нет уж, спасибо, я вам не Элейн». «Да, разумеется, — согласился он. — Ты не Элейн, определенно не она». Я часто думала, что сказала бы публика, читающая его книги и раскупающая их десятками тысяч, если бы увидела, что творится у него в доме. Дяде я постоянно напоминала об этом, но он расплывался в той же самой улыбочке, которую увидели у него на лице, когда нашли его мертвым и окоченевшим на берегу.
Днем, выпроводив миссис Доналдсон, я поднялась к себе в спальню, падая с ног после бессонной ночи. Миссис Доналдсон ничего не заметила, она не обратила бы внимания на меня, даже если бы я упала замертво. Я проспала до четырех. Когда проснулась, было еще светло. Я встала и заперла обе двери, переднюю и заднюю. Потом задернула шторы, а когда в пять часов позвонил Джейми, не открыла — пусть себе звонит. Наконец он ушел. Ему было о чем задуматься. А я вовсе не собиралась встречать его перед камином, кормить ужином и раздеваться вместе с ним в задней комнате на диване, перед телевизором, зная, что за нами наблюдают дядя и Элейн. Несмотря на то что это просто дань природе. Нет, телевизор я включила для себя. Вы не поверите: по шотландскому Би-би-си шла передача о дяде. Я переключилась на первый канал и попала на викторину. И поняла, что хочу есть, ведь я с прошлой ночи ничего не ела.
Но даже думать об ужине я не желала, не увидев рукопись еще раз. К этому моменту я почти успела убедить себя, что мне все приснилось. «Может, я просто переутомилась», — думала я. Ключ от столовой лежал у меня в кармане, я достала его и отперла дверь. Потом задернула шторы, подошла к комоду и вынула тетрадь.
На месте были не только слова, которые я впервые прочла вчера ночью, — к ним добавились новые, целый абзац:
«Читай Деяния апостолов, пятую главу, стихи 1–10. Посмотри, что стало с Ананией и его женой Сапфирою.
Что-то медленно продвигается твоя писанина — да, Сюзан? А мы с Элейн думали, что ты уже заканчиваешь одиннадцатую главу. Может, нальешь себе чашку какао и займешься делом? Но сначала читай Деян. 5:1–10.
Твой любящ. дядя».Сунув тетрадь в ящик, я оглядела столовую. Заглянула под стол и за шторы. Судя по всему, в комнату никто не заходил. Я вышла из нее и заперла дверь — не знаю, насколько надежно. И сходила за своей Библией, молясь: «Боже вездесущий и всевидящий, направь меня, укажи, как выйти из этой ситуации, какой бы странной она тебе ни казалась». Я прочла отрывок из Библии:
«Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов.
Но Петр сказал: Анания! для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?»
Читать дальше я не стала — я знала, чем кончится дело. Анания и его жена Сапфира пали бездыханны за то, что утаили часть прибыли от проданного. Так дядя упрекал меня за то, что я скрыла от фонда существование незаконченной рукописи. Какая наглость, думала я, ссылаться на Библию, да еще человеку, который открыто жил во грехе.
Я надеялась, что теперь все наконец кончится. Но когда вернулась в столовую и достала последнюю тетрадь, обнаружила, что за прошедшие полчаса в ней появилась еще одна запись:
«Так что же ты не берешься за одиннадцатую главу? Мы ждем ее».
Я вырвала эту страницу, убрала тетрадь и заперла дверь. Бросив страницу в огонь, я дождалась, когда от нее остался только пепел. И ушла спать.
Так продолжалось месяц. Дядя всегда начинал записи на новой странице со строки «Глава 11», затем следовало новое послание. Он дошел до того, что обвинил меня в присваивании части денег, которые выдавал мне на хозяйство, хотя, как он писал, мне хорошо платили. Вопрос спорный, и потом, кто их экономил, эти деньги, выданные на хозяйство? Прочитав непочтительные дядины замечания, я всегда сжигала страницу, и мы с ним постепенно продвигались к концу тетради. Из дядиных посланий было видно, что он следил за мной повсюду в доме и даже знал, что мне снится. А когда я ездила в Эдинбург за покупками, он в точности знал, где я побывала и что купила. Они с Элейн подслушивали мои разговоры по телефону, даже когда я звонила давним подругам. В дом я не впускала никого, кроме миссис Доналдсон. Джейми в нем больше не появлялся. Несносный старик знал даже, когда я принимаю слабительные соли и сколько времени провожу в уборной.
Однажды утром миссис Доналдсон попросила расчет. И сказала мне:
— Почему бы вам не обратиться к врачу?
— А зачем? — спросила я. Но она не ответила.
Вскоре после этого мне позвонили из фонда — сказали, что не побеспокоили бы меня, если бы не одно загадочное обстоятельство. В дядиных письмах обнаружились многочисленные упоминания о романе «Пентлендская ведьма», который он писал перед смертью. В бумагах нашли последнюю главу этого романа, которую дядя, очевидно, писал на отдельных листах в поездке, что подтверждается в его письме, любезно предоставленном одним из его корреспондентов. Но где находятся остальные главы рукописи — неизвестно. В конце ведьму Эдит приговаривают к сожжению, однако еще до казни она умирает по своей воле, так сказал позвонивший мне человек и добавил, что десять утраченных глав должны вести к этому исходу. Это наиболее метафизическое из дядиных произведений, основанное на подлинных событиях, сказал этот человек, и подчеркнул, что роман имеет огромное значение.
Я пообещала ему поискать в доме. В тот же день я перезвонила и сказала, что нашла рукопись в ящике комода, в столовой.
Неизвестный пообещал приехать за ней. По телефону его голос звучал крайне подозрительно, он даже осведомился, нет ли в доме других рукописей.
— А вы уверены, что нашли все? Видите ли, фонд заплатил за весь архив без исключений… Нет-нет, почте я не доверяю. Буду завтра в два.
Перед самым его приездом я налила себе щедрую порцию виски с содовой — по правде говоря, весь последний месяц я подкреплялась таким образом в силу необходимости. Я достала тетради. На чистой странице было написано:
«До свидания, Сюзан. Приятно быть пылинкой на горизонте.
Твой любящ. дядя».ГАДАЛКА
© Перевод. У. Сапцина, 2011.
Шато стоял в окружении лесов посреди долины, в самом сердце французской родины трубадуров. Все, о чем рассказано далее, случилось десять лет назад, в конце лета.
Наша компания состояла из трех человек: Реймонда, его жены Сильвии, и меня, Люси. Супружеские отношения Реймонда и Сильвии уже разладились, что доставляло мне массу неудобств. На третий день нашего путешествия я поклялась, что больше никогда не поеду отдыхать одна с супружеской парой, и впоследствии сдержала слово.
Недоумевая, зачем меня вообще пригласили в эту поездку, я наконец догадалась, что мои спутники посредством моего одиночества пытались доказать, что они по-прежнему пара. К тому времени как после недели, проведенной во Франции, мы прибыли в шато, я была готова вскочить в поезд до ближайшего аэропорта и умчаться в Лондон.
Но в шато я передумала. Сильвия спросила, нет ли в доме свободных комнат. Тонкая, рослая, изнуренная работой, но элегантная мадам Дессэн, вышедшая навстречу нам из-за дома с полным ведром помоев для свиней, не ответила Сильвии. Обращаясь ко мне, она очень учтиво подтвердила: да, в шато есть комната для двоих — для меня и моего мужа, а также комнатушка для мадемуазель наверху, где живут горничные. Вмешался Реймонд и прояснил ситуацию. Мадам ответила тонкой улыбкой, из которой следовало, что она и раньше все прекрасно понимала. Я предположила, что Сильвия, которая говорила по-французски лучше меня, не проявила должного уважения: она приняла мадам Дессэн за местную поденщицу и обратилась к ней соответствующим тоном. Такова была привычка Сильвии; я часто гадала, сколько неприятностей уже доставил ей столь широкий диапазон изначальных отношений к людям, которым вполне хватило бы и обычной приветливости. Конечно, в этом вопросе она была сторонницей Ленина, считавшего, что классовое сознание определяется родом занятий. Реймонд воспринял этот инцидент равнодушно. Он был крупным и бородатым, работал продюсером на телевидении и принадлежал к интеллектуалам. Однако тщеславия ему хватало — настолько, чтобы, несмотря на разочарование в собственном браке, выразить удовольствие, вызванное ошибкой хозяйки, пусть даже мнимой ошибкой. Мадам не извинилась, только назвала нам цену комнат и спросила, предпочитаем ли мы полупансион. Разозлившись, Сильвия начинала бросать злобные взгляды исподлобья. Ее зубы выпирали вперед, волосы она почему-то покрасила в ярко-рыжий цвет. Но несмотря на все это, она была миловидна. Однако метнула в меня косой взгляд и при этом выглядела не просто вульгарно, но и глупо, хотя в действительности была далеко не глупа и даже пользовалась некоторой известностью как биолог, специалист по грызунам.
Мадам Дессэн поставила ведро и снова обратилась ко мне. Она спросила, не желаю ли я осмотреть комнаты. При всех своих манерах она была явно не чужда ехидства и настроена против Сильвии.
— А мы уже решили, что остаемся? — спросила Сильвия у Реймонда. — Тебе здесь нравится?
— С виду все прекрасно, — ответил он. — А комнаты я бы все равно хотел осмотреть — я не прочь здесь остаться.
Мадам Дессэн повела нас наверх. Я следовала за ней, мои умные друзья — за мной. Комнаты нам понравились, все мы решили остаться. Как ни странно, меня поселили не в комнате для горничных на самом верху, а в просторной спальне на том же этаже, что и моих друзей. Мадам — как в дальнейшем выяснилось, маркиза — поспешила вернуться к прерванной работе, предоставив нам самим заняться багажом. При первой встрече мне показалось, что ей далеко за пятьдесят, но, увидев, как резво она сбегает по лестнице, я поняла, что она гораздо моложе, лет сорока с небольшим. Ее неприязнь к Сильвии меня не тревожила. Я уже поняла, что и сама не стесняю супругов. Как ни странно, от чувства неловкости меня окончательно избавила мадам Дессэн. Она протянула мне соломинку. Я уцепилась за нее, и, к моему удивлению, она не сломалась. До меня Дошло, что хозяйка шато на редкость проницательна — в сущности, как многие в отельном бизнесе.
Комната привела меня в восторг. Две ее стены занимали окна, вся мебель была французской, провинциальной работы, уместной в шато XVIII века и предназначавшейся отнюдь не для постояльцев отеля. Почти весь дом был обставлен в одном стиле. Две его гостиных, желтая и зеленая, не производили впечатления деревенских, а напоминали о периоде расцвета высокого стиля во Франции XVIII века. Здесь была и «восточная» комната, разделенная на китайскую и египетскую половины и заставленная мебелью и редкостями, которые в XIX веке предки хозяйки привезли из путешествий. Все эти вещи были слишком ценными, чтобы отдать их в пользование обычным туристам, но не настолько редкими, чтобы прятать их от всех. Я с удовольствием отметила, что нас приняли в замке как гостей, хотя мадам Дессэн была явно склонна к дискриминации.
Лишь избранным гостям дозволялось пользоваться «восточной» комнатой и другими помещениями замка, полными с виду бесценных севрских статуэток и тарелок в застекленных шкафах. Для рядовых туристов предназначалась библиотека с более утилитарной обстановкой, телевизором, столами и множеством потертых, обитых кретоном диванов и кресел.
Именно там спустя несколько вечеров я предложила мадам Дессэн погадать на картах. После ужина в библиотеке собрались постояльцы — одни болтали, другие играли в карты, а пара в дальнем углу — в шахматы. Проливной дождь зарядил с самого утра, за окнами было сумеречно. Муж мадам Дессэн оказался невысоким и коренастым старичком — странная пара. Он сидел рядом, пока я предсказывала ей судьбу. Сильвия и Реймонд, которым давно наскучило мое гадание, ушли.
* * *
Мне следует сразу объяснить: очутившись за городом или у моря и поселившись где-нибудь, чтобы отдохнуть после путешествия, я порой встречаю людей, которым одиноко и тревожно, так что даже отдых не радует их, и когда встречаю, неизменно предлагаю погадать им на картах. Никто и не думает отказываться. Наоборот, мое предложение словно гипнотизирует других постояльцев, поток желающих узнать судьбу не иссякает. Ко мне подходят, чтобы спросить, сколько я беру за гадание, и, узнав, что я предсказываю судьбу бесплатно, слегка смущаются, но все равно не отступают и вежливо соглашаются подождать, если я занята или по какой-либо весомой причине не могу погадать им сразу.
Способ гадания, который я предпочитаю, никак не связан с традициями оккультных наук; я следую правилам, но моим собственным, тайным, в значительной степени меняющимся в зависимости от того, кому я гадаю. Это мои личные тайные правила, но они произрастают из глубокой убежденности. Их невозможно сформулировать, они так же просты и вместе с тем неописуемы, как первичные цвета, это не наука, а искусство. Я часто ошибаюсь, но всегда вижу это; в такие моменты я мыслю по-особому, словно ловлю слова в густом тумане, направляю свет факела своей интуиции то туда, то сюда, пока он не озаряет объект, который или подтверждает мои слова, или опровергает их. Порой мои предсказания в нынешнем времени и окружении выглядят нелепыми и неуместными, но я уже знаю, что они не раз оказывались поразительно точными позднее, в другом месте, следовательно, будут такими и в том случае, если я потеряю из виду человека, чью судьбу предсказала.
Я придерживаюсь особой системы выбора карт. Ее подробности раскрывать нельзя, скажу только, что в ее основе лежат семерки и пятерки. Семерки и пятерки, и если вы приметесь расспрашивать меня о подробностях первого этапа гадания, я солгу вам: я и вправду дорожу ими и считаю весь процесс на редкость хрупким, поэтому не стану распространяться о нем, чтобы не утратить силу. Я имею в виду то же самое, что и Йейтс:
Свои мечты я расстелил, Не растопчи мои мечты.[3]Перед началом гадания я прошу клиента перетасовать карты. Затем сдаю их по своей системе семерок и пятерок, откладываю в сторону отобранные карты и снова прошу клиента стасовать оставшиеся. Опять беру колоду и сдаю часть карт и то же самое повторяю в третий раз — значит, циклов всего три. Затем клиент тасует отложенные карты, это и есть карты его судьбы. Одновременно я прошу его мысленно загадать желание и как можно лучше сосредоточиться на нем.
После этого собираю карты и опять сдаю их. Не следует считать, что я делаю это торжественно, только потому, что серьезно отношусь к своим способностям. Для меня все это — воздушная мечта, обязанная полетом своей легкости. Я вовсе не строю из себя мистическую гадалку, я вообще ни во что не играю, когда гадаю на картах, просто остаюсь самой собой.
Итак, я беру выпавшие моему клиенту карты и сдаю их в следующем порядке: (1) тайное «я»; (2) известное «я» (под ним я подразумеваю более ограниченный аспект личности, очевидный для окружающих); (3) надежды клиента; (4) степень заблуждений клиента о самом себе; (5) его цель в настоящее время (я не говорю «его судьба» по той причине, что любая участь, которую мне откроют карты, окажется преждевременной и не даст клиенту самому отклониться от нынешней цели. Обстоятельства меняются. Меняются и намерения. По большому счету человеческая натура непредсказуема. Но «цель» тем не менее часто определяет судьбу. Поверьте, ни один ясновидящий ничего более определенного не скажет); (6) дела сердечные, то есть преобладающие пристрастия — к любым объектам, в том числе и к деньгам, пусть время от времени; (7) желание — сбудется или не сбудется?
Я снова вижу мадам Дессэн, склонившуюся над столом в ее уютной библиотеке, как много лет назад. Вместе с сидящим рядом мужем она ждет, когда я объясню, что говорят карты.
Когда она тасовала карты, я заметила, что эту задачу она выполняет со всей ответственностью. Пока я сдавала карты, и сдавала их по своему тайному методу, мадам пристально следила за мной, что я восприняла как несомненную веру в мои способности. Очевидно, загаданному желанию она придавала огромное значение. Ее вниманием завладели карты, которым предстояло Рассказать ее судьбу, поэтому я беспечным тоном посоветовала не относиться к ним слишком серьезно, сосредоточиться на желании и ждать, что со временем исход гадания прояснится сам собой.
— Слишком уж много пик, — заметила мадам Дессэн, — вот даже туз пик, мадам.
Меня озадачило настойчивое обращение «мадам», тогда как я была несомненной «мадемуазелью». Начался третий цикл сдачи. Толкуя значение карт, я никогда не придерживаюсь традиций. Да, никто не радуется, увидев в раскладе туз пик, однако он не обязательно означает смерть того, кому гадают. Возможно, это гибель надежды или исчезновение страха. Все зависит от сочетания карт. Так или иначе, я сдала карты в третий раз, сказала: «Если позволите, я сама все объясню» — и закончила цикл.
После этого я собрала карты, выпавшие мадам Дессэн.
— Когда же он кончится, этот дождь! — произнесла мадам Дессэн, повернувшись к огромным застекленным дверям. Эти слова прозвучали небрежно и отчужденно, словно собственная судьба ее больше ничуть не волновала.
— Думайте о своем желании, мадам, — напомнила я.
— А я о нем и думаю. Дождь привлекает туристов, только если им нравятся затопленные поля — живописное зрелище. — И она смехом развеяла напряженную атмосферу гадания, но я видела, как она взволнованна и с каким нетерпением ждет результата. Ее муж тоже обратился в слух. Мне хотелось напомнить им, что это лишь игра, но я воздержалась: не стоило заострять внимание на их нервозности.
Я сдала карты для семи частей расклада, о значении которых, естественно, не объявляла. Выпало всего тринадцать карт, среди них я заметила необычно много фигурных.
Итак, первое — личное «я» мадам Дессэн. Восьмерка пик. Известное «я» — шестерка пик.
— На мое желание выпали пики! — сразу воскликнула мадам Дессэн.
— Наберитесь терпения, — попросила я, продолжая раскладывать карты. Мне вдруг стало ясно, что она пытается выведать подробности моего способа гадания: когда я выложила короля червей, она объявила: «А вот и прекрасный возлюбленный!» Но на это предположение я никак не ответила, хотя и рассердилась, что мне говорят под руку.
Расклад вышел таким.
Тайное «я»: восьмерка пик и шестерка треф.
Известное «я»: шестерка пик и девятка бубен.
Предмет надежды: король червей и туз пик.
Степень заблуждений о самом себе: пятерка червей и король треф.
Нынешняя цель: дама червей и тройка червей.
Дела сердечные: трефовая дама и бубновая тройка.
Желание: валет червей.
Мадам Дессэн совсем растерялась. Перед ней были карты для всех семи частей расклада, а она никак не могла догадаться, по какому принципу я разложила их. Блестящими глазами она уставилась на карты так, словно это она предсказывала мне судьбу, а не я ей.
— Ваше желание исполнится, — сразу сказала я, заметив, что она перевела взгляд на карту, лежащую отдельно, — валета червей, которому ничто не препятствовало. — Но это желание вам не следовало загадывать.
— А какие карты обозначают мое желание? — спросила она почти в панике, неожиданной у столь сдержанной дамы.
Я не ответила, только улыбнулась.
— Это же просто игра.
Она сделала вид, будто успокоилась и взяла себя в руки. Но я видела, что она по-прежнему нервничает.
С этого момента я говорила ей совсем не то, что сообщали мне карты. У меня были причины для осторожности. Глядя на общую картину, образованную семью группами карт, я видела, что эта пестрая мешанина постепенно превращается в мозаику рисунков и одна идея выделяется в ней, смотрится значительнее и ярче прочих. В какой-то миг я вдруг поняла, что мадам Дессэн от природы наделена способностью к ясновидению и может прочитать мои мысли с большей легкостью, чем я — карты ее судьбы. То, чем я занималась ради смеха и воспринимала как игру, словно преобразилось, опасно приблизилось ко мне, и я осознала, что в какой-то мере желание клиентки связано со мной. Я говорю «связано со мной», а не «направлено на меня», потому что направленности в нем не чувствовалось, и в то же время в нем явно таился злой умысел.
Я держалась как ни в чем не бывало, наговорила ей всякой чепухи, но при этом видела: она поняла, что я не настолько откровенна с ней, как хотелось бы. Теперь в той части расклада, которая говорила о ее тайном «я», я читала, словно в книге, что моя клиентка — ясновидящая.
Теперь я иначе воспринимала и другие части ее расклада — к примеру, ее известное «я». Становилось ясно, что ее привлекательность, худоба и аристократизм далеко не так бесхитростны, как казалось, когда она хлопотала у надворных построек или мыла огромные кастрюли в просторной, отделанной камнем кухне. Взгляд мадам Дессэн, обращенный на красивые окна со стеклами в свинцовых рамах, стал безмятежным. Я заметила, как пристально следит за ней муж, и решила, что он завидует, пытается угадать, какое желание она задумала, и ждет реакции жены на мои слова.
Я наговорила ей немало хорошего, в том числе и малую толику вполне вероятных событий.
— Вы надеетесь, — продолжала я, — увидеть в гостях рослого бородатого человека, если не ошибаюсь, англичанина, увлеченного садоводством… — И вдруг я получила от карт мадам Дессэн строгое предостережение, касающееся сада.
— Это Камилло, он подрабатывает у нас, — подсказал встревоженный муж. — Пять дней назад он уехал и уже давно должен был вернуться. Но ведь он итальянец…
— Ален! — укоризненно воскликнула мадам Дессэн. — Дай мадам Люси договорить.
Я продолжала, уже ничуть не сомневаясь, что сердце мадам Дессэн отдано этому гостю. Скорее всего он ее ровесник, вероятно, американец или англичанин (мог быть и немцем, но весьма маловероятно, чтобы женщина в возрасте мадам Дессэн, да еще с таким характером, как у нее, обзавелась немцем-возлюбленным). Навстречу этому роману она неслась на всех парусах. Я уже знала, что ее возлюбленный гостил в шато, когда был еще женат — возможно, как и сейчас, — и был определенно богат. Это увлечение грозило катастрофой дому и семье мадам.
Все это я увидела в картах, и мадам Дессэн поняла, что я все вижу. О чем она не подозревала, — или же не желала признавать в порыве чувств, — так это о том, сколько забот и тревог сулит ей этот путь. А для ее мужа, хотя и ему случалось изменять ей, этот роман должен был стать источником горечи и обид.
— Возможно, вы даже не подозреваете о том, чем может обернуться для дома появление этого гостя, — продолжала я и объяснила, что гость беден, а также предупредила о непредвиденных расходах. Услышав это, муж заметно воспрянул духом, а я заключила: — Завтра вы получите очень важное письмо от родственника. — Это было одно из немногих известий, которые я узнала от карт мадам Дессэн и предпочла в точности передать ей. Мне казалось, вреда от него не будет, тем более что муж подхватил:
— Наверное, от нашего сына Шарля!
Мадам Дессэн снова воскликнула:
— Ален, не перебивай!
— У меня все, — объявила я.
Мадам Дессэн посмотрела поверх моего плеча.
— Сюда идет супруг мадам, — неопределенным тоном высказалась она. Обернувшись, я увидела приближающегося Реймонда. Очевидно, он только что поссорился с Сильвией, которая, покидая комнату, жизнерадостно улыбалась, и только злобный взгляд исподлобья непоправимо портил ее вид.
На следующий день я уехала, убедившись, что напряженная атмосфера в кругу моих женатых друзей стала для меня невыносимой. Когда я попросила передать мадам Дессэн, что жду счет и хочу расплатиться, она прислала за деньгами горничную с запиской, сообщающей, что хозяйка шато занята.
Пока мой багаж грузили в такси, из шато вслед за мной выбежал Реймонд. От волнения он был не похож сам на себя. Я вдруг поняла, что без бороды он выглядел бы красавцем.
— Люси, — повторял он, — Люси…
— Извини, Реймонд, но мне пора.
Он никак не мог подобрать слова, а я думала, что с его стороны очень любезно посочувствовать мне и пожалеть о том, что я пережила столько неловких минут, наблюдая, как распадается чужой брак.
— Люси…
— Передай мои извинения Сильвии, — попросила я. — Она все поймет.
В последний раз я видела Реймонда, когда он смотрел вслед моему уезжающему такси.
Необходимость спешно менять планы на отпуск оттеснила в дальний угол памяти все мои воспоминания о живописном шато, кроме физических. Через неделю я вернулась в Лондон и занялась собственной жизнью. О мадам Дессэн и о том, как я гадала ей на картах, я не вспоминала много лет, но все подробности этого события хранила в глубине памяти на случай, если они еще когда-нибудь понадобятся.
В следующем году я услышала, что Сильвия и Реймонд наконец расстались; мне говорили, что Сильвия снова вышла замуж — за социального работника намного моложе ее, а Реймонд после развода бросил прежнюю работу и поселился за границей. «Заграница» — растяжимое понятие, слухи, доходившие до меня, были слишком неопределенными и расплывчатыми, чтобы принимать их во внимание, тем более что мне хватало и своих забот. Изредка я вспоминала, как вместе с друзьями побывала в прекрасном шато, и неловкость, которую я при этом испытывала, омрачала мои воспоминания. Лишь гораздо позднее я узнала, что они задержались в том шато еще на неделю.
* * *
Не так давно я случайно встретилась с месье Дессэном. Поначалу я не узнала его, увидев в Баден-Бадене невысокого морщинистого старичка, идущего со стороны Шварцвальда. Должна сказать, что в прогулках по Шварцвальду нет ничего из ряда вон выходящего, потому я и не придала особого значения тому, что вижу. Более того, месье Дессэн был в бежевом, а бежевое в Баден-Бадене носят и мужчины, и женщины. Их одежда бежевая, обувь бежевая, лица бежевые, и это единообразие смотрится весьма приятно.
Но на следующий день я увидела этого же человека, одиноко сидящего в столовой моего отеля. И даже в этот момент он не показался мне знакомым: я лишь отметила, что он бросил в мою сторону пару кратких, но явно заинтересованных взглядов.
Тем же вечером я сидела в общем холле отеля, перебирая карты. Я была одна, но ждала завтрашнего приезда подруги. Я тасовала карты и сдавала их привычным способом, который на первый взгляд кажется беспорядочным; предсказать собственную судьбу я не могла, но карты не давали мне покоя. Я тасовала их, сдавала, смотрела, что получается в итоге, и постепенно мои мысли обрели форму, как если бы карты стали своего рода причастием, «внешним видимым проявлением внутренней духовной благодати», как гласит традиционное определение.
К моему столу подошел морщинистый старичок — тот самый, которого я видела вышедшим из Шварцвальда. Он присел на край дивана, наблюдая за мной. Я чувствовала, что он печален, и уже собиралась спросить, не хочет ли он, чтобы я ему погадала.
— Мадемуазель Люси, — вдруг произнес он.
И тут я узнала его, некогда пухленького мужа-коротышку мадам Дессэн, и заметила, как иссушили его годы. Во всех подробностях десятилетней с лишним давности я припомнила комнату в шато, где предсказывала мадам Дессэн судьбу, а она, напряженная и взволнованная, благодаря своему дару ясновидения понимала, что я от нее скрываю. Я припомнила двух шахматистов, тихо сидящих поодаль, нетерпеливо уходящих прочь Сильвию и Реймонда, потертую обивку в цветочек на стульях. Интересно, действительно ли у мадам Дессэн появился возлюбленный? Мне смутно помнились собственные беспечные пророчества, которые ни на минуту не обманули мадам Дессэн. «Вы надеетесь увидеть в гостях рослого бородатого человека, если не ошибаюсь, англичанина, увлеченного садоводством». И еще одно, на этот раз правдивое: «Завтра вы получите очень важное письмо от родственника».
Глядя на месье Дессэна, я воскликнула:
— Сколько же лет прошло!.. Отдыхаете здесь?
— Лечусь.
— Как мадам Дессэн?
— Превосходно. Как вы и предсказали, на следующий день пришло письмо.
— Боже мой, надеюсь, с хорошими вестями?
— Да. От ее кузена Клода. Он объявлял о своей помолвке. Я обрадовался, ведь Клод был любовником моей жены.
— Да?.. — отозвалась я. — Ну что ж, значит, одной проблемой у вас стало меньше, месье Дессэн.
— Все сложилось удачно для Клода, — ответил он. — И для вас, мадемуазель Люси.
— Для меня?
— Моя жена изменила вашу судьбу, — объяснил грустный морщинистый старичок. И повторил: — Вашу судьбу, мадемуазель Люси. Она увидела, что вам суждено выйти за вашего друга Реймонда, и вмешалась.
— Выйти за Реймонда? Даже не думала. Между нами совершенно ничего не было. Да, он не ладил с женой, но я тут ни при чем.
— Тем не менее моя жена предвидела такой исход. Вы стали бы женой Реймонда, если бы после вашего отъезда она на той же неделе не сделала его своим новым любовником. Он до сих пор живет в шато. Она отвела от вас судьбу.
— В таком случае не от меня судьбу, — поправила я, — а меня — от цели. — И, посмотрев на него, такого грустного и бежевого, я спросила: — Хотите, я предскажу вашу судьбу, месье Дессэн?
На этот вопрос он не ответил. Только сказал:
— Реймонд отлично управляется в саду и по хозяйству.
КУРАНТЫ
© Перевод. Т. Кудрявцева, 2011.
Сегодня юбилей одного из моих самых загадочных убийств. Произошло это осенью 1954 года, когда жизнь текла более сонно, чем сейчас. Для точности — это было второе октября.
Для детектива память у меня вообще-то не очень хорошая. Но вы сейчас поймете, почему я помню именно эту дату. Это было почти нераскрытое убийство. Старик Мэтьюз был фермером из деревни Меллоу, что на западе страны. Его обнаружили мертвым утром третьего октября в пристройке на его собственной ферме — он лежал у лестницы, ведущей на чердак. Ему было восемьдесят два года.
На следствии местный доктор показал, что смерть Мэтьюза наступила от пролома черепа. Пришли к выводу, что он провел ночь на чердаке и упал с лестницы, Вердикт: смерть от несчастного случая. Вы станете гадать: что же старик Мэтьюз делал ночью на чердаке.
А он спал там. Да, конечно, вся ферма принадлежала ему. И там был большой дом, в котором жила его жена. Вам следует понять, что Мэтьюз был человек довольно странный. Как и его жена. Они не очень ладили, и он предпочитал спать в пристройке. Подобные ситуации не редкость в глубинке.
Следствие скоро закончилось, и Мэтьюза похоронили шестого октября. Через две недели после похорон полиция получила анонимное письмо, в котором Гарольда Мэтьюза, сына, обвиняли в убийстве отца. В то время не все это знали, но дело в том, что Гарольд не был его законным сыном.
Полиция часто получает анонимные письма, и они не обратили особого внимания на это письмо. Они попытались найти автора, подозревая, что им был кто-то из деревенских женщин, но их старания ничего не дали. Вскоре, однако, и по деревне пошли слухи, что Гарольд убил своего отца. Тогда полиция опросила Гарольда. Никакой помощи от него они не получили, но он не был в этом виноват, так как был недотепой.
Через три месяца слухи усилились, и говорят, что даже приезжал репортер из центральной газеты. Полиция была вынуждена действовать. Они вырыли тело Мэтьюза из могилы. Патологоанатом министерства внутренних дел нашел, что череп был проломлен ударом. Стало ясно, что в ночь со второго на третье октября Мэтьюз был убит.
Бедняга Гарольд пытался объяснить полиции, что не мог убить своего отца, поскольку старик Мэтьюз не был его отцом. Так полиция узнала, что он — незаконный сын. В любом случае они не стали тратить время, пытаясь вытащить из Гарольда что-то дельное, так как у него было идеальное алиби.
В ночь убийства он был на кухне и наблюдал за карточной игрой, а потом пошел спать в комнате, которую делил с одним из рабочих на ферме.
Вот на этой стадии расследования обратились к нам, лондонцам. Сначала нам представили несколько установленных фактов. Второго октября, днем, Мэтьюз отправился на ферму, что находится в двух милях от Меллоу, помочь с тяжелым отелом. Он ушел оттуда вечером, после девяти, и видели, как он медленно — из-за возраста — шел через поля. Соответственно, когда он дошел до шоссе, было около 10.20. Там проезжал в своей машине доктор и остановился, по-видимому, чтобы подвезти Мэтьюза. Мэтьюз сел в машину и стал разговаривать с доктором. Парочка влюбленных, проходивших мимо в 10.30, сказала, что, похоже, они ожесточенно о чем-то спорили. Никто не видел, как машина уехала.
Вас может удивить, что свидетели помнили эти встречи через три месяца после случившегося. Ну, главным образом потому, что это была ночь, когда старика Мэтьюза убили. Люди говорили, услышав известие о его смерти: «Как так, я же видел его в ту самую ночь» и тому подобное. Просто удивительно, что люди помнят и что забывают, — особенно, как вы увидите, в Данном случае.
Всем на ферме было ясно, что произошло в ту ночь, — всем, кроме Гарольда, которому мало что было ясно. Они играли в карты на кухне — несколько рабочих с фермы, живущих в доме, и миссис Мэтьюз, — а Гарольд следил за игрой. В полночь они услышали, как по дороге к ферме подъехала машина и остановилась у пристройки. Они решили, что старину Мэтьюза кто-то подвез домой. Они слышали, как он, — так они полагали, — вошел в пристройку, дверь которой держалась на щелкающих петлях. А машина через несколько секунд уехала.
Было это в полночь. Все они поклялись, что, когда машина подъехала, часы на церкви пробили двенадцать. По нашим предположениям, они слышали не старика Мэтьюза, входившего в пристройку, а убийцу, избавлявшегося от тела. Убийцу с машиной. А Мэтьюза в 10.30, на расстоянии всего нескольких минут езды от фермы, видели спорившим с доктором. Однако эти звуки были услышаны только в двенадцать.
Мы, конечно, допросили доктора. Его фамилия — Фелл. Он жил в другой деревне — Отлинг, что в трех милях от Меллоу по шоссе. Он сказал, что они сидели больше получаса с Мэтьюзом — его пациентом — в машине и болтали. Они немного поспорили о политике. Затем он отвез Мэтьюза на ферму — туда они приехали в одиннадцать часов. А он отправился домой, куда приехал в десять минут двенадцатого.
Там он обнаружил записку с просьбой срочно посетить пациентку и тотчас поехал. Он съездил на вызов — это были роды — и вернулся домой, как раз когда часы били двенадцать.
Доктор Фелл очень хотел помочь. Он дал письменные показания, изложив все свои передвижения той ночью и перечислив всех свидетелей. Все проверили и не нашли в его алиби ни единого изъяна. Не было сомнений в том, что он посещал свою пациентку в двадцать минут двенадцатого, так как, согласно регистрации, ребенок родился без десяти двенадцать. Племянница его домработницы, вернувшаяся с танцев, равно как и его жена — обе засвидетельствовали, что он вернулся домой, как раз когда часы били полночь. Не мог же он быть одновременно в Меллоу и в Отлинге, когда часы на церкви били полночь.
И меня заверили, что церковные часы идеально точно сообщают время.
А вы скажете: что же, фермеры солгали? Они действительно слышали эти шумы в пристройке в полночь?
Странная, знаете ли, штука — все мы опытные люди и определении лжи, но мы не смогли ни в малейшей детали сбить ни одного из тех свидетелей — ни в Отлинге, ни в Меллоу. Не было у нас улик против доктора Фелла. Это была настоящая головоломка. Вы же понимаете: спустя три месяца после события почти невозможно найти какие-то реальные улики.
Но мы подозревали доктора Фелла. Наше расследование выявило еще один важный факт. Старик Мэтьюз в течение тридцати лет ежемесячно получал взносы от доктора Фелла.
Мы, конечно, думали о шантаже. Мы спросили об этом миссис Мэтьюз. Она сказала, что не знает про деньги, но между прочим сообщила нам, что доктор Фелл — настоящий отец Гарольда. Мы сделали вывод, что ежемесячная плата производилась для того, чтобы старик Мэтьюз помалкивал. Деревенский доктор должен блюсти свою репутацию.
И мы обнаружили, что за несколько месяцев до Убийства эти выплаты возросли. Увеличение это в точности совпало с женитьбой доктора Фелла на очень молодой женщине. Если наше предположение верно, то Мэтьюз ухватился за эту возможность, чтобы увеличить свои требования, так как в те дни — да, пожалуй, даже и сейчас — доктор попытался бы скрыть от жены, что поблизости живет его незаконный сын. Тут уже был явный повод для убийства. Но у доктора Фелла было алиби, и мы не могли ничего доказать.
Я снова допросил его. Он впился в меня взглядом. Я был почти загипнотизирован. Должен сказать, мне было очень не по себе в его присутствии. Но конечно, в нашей профессии учат отбрасывать личные чувства, имея дело с подозреваемым. Тем не менее старая песенка крутилась в моей голове, когда я ехал от его дома:
Я не люблю тебя, доктор Фелл, А почему — не знаю сам. Но лишь одно я распознать сумел: Я не люблю тебя, доктор Фелл.Вскоре после этого местный полицейский сделал открытие, которое обеспечило ему продвижение по службе. Он просматривал показания доктора Фелла и заметил, что его почерк во многом совпадает с тем, которым было написано анонимное письмо, обвинявшее в преступлении Гарольда. Письмо было написано измененным почерком, но эксперты все же подтвердили подозрения полисмена. Теперь по крайней мере у нас было нечто конкретное для предъявления доктору Феллу, а конкретика всегда помогает в деле об убийстве.
Он был, конечно, расстроен нашим открытием. В конце концов признался, что написал его, сказал, что действительно подозревал Гарольда, но не мог заставить себя заявить это на допросе. Мы высказали предположение, что письмо было написано в качестве защиты от шантажа со стороны Гарольда. Доктор это отрицал.
Тем не менее я решил допросить Гарольда в надежде выяснить, что ему известно о докторе Фелле. С недотепами лучше действовать напрямую. Я сказал:
— Гарольд, почему ты пытался выманить деньги у доктора Фелла?
Он сказал:
— Что?
Я сказал:
— Ты считаешь, это он убил старика, верно?
Он сказал:
— Верно, сэр, считаю.
Но как и мы, бедняга Гарольд не мог привести никакого доказательства против доктора. Были вероятия, но не было ответа на вопрос, как его могли видеть в Отлинге в то время, когда шум его машины был слышен в Меллоу.
Я и сказать вам не могу, как я был разочарован разговором с Гарольдом. Теперь уже не было никакого резона в том, чтобы наши люди торчали в Меллоу. Нам было необходимо на следующее утро вернуться в Лондон — преступника мы раскрыли, но привлечь его к суду не могли.
Я был так разочарован, что произнес — наполовину для себя, наполовину для Гарольда:
— Если б мы могли подорвать его алиби той полуночи!
Гарольд, казалось, этого не понял. И я ушел.
Но мгновение спустя Гарольд уже бежал за мной.
— Вы никогда его не заловите, сэр, — сказал он.
Я сказал:
— Да, именно это я и имел в виду.
Он сказал:
— Видите ли, сэр, было две таких полуночи, как в ту ночь. Потому вы его никогда не заловите. Не можете вы заловить человека между двумя полуночами.
— Двумя полуночами? — сказал я.
— Именно, сэр, — сказал Гарольд. — Это же был конец летнего времени, верно? И часы перевели назад. Старина Фелл сделал свое дело между двумя полуночами, и вам его никогда не заловить.
— Гарольд, — сказал я, — ты — гений.
— Вам его никогда не заловить, — сказал он.
Я отправился к церковному служителю, который вспомнил — да, если подумать, так церковные часы были переведены назад только через пару дней после официальной даты. А вот секретарь муниципалитета с гордостью объявил, что часы на ратуше были переведены назад во второй половине предшествующего дня — первого октября.
— Вы не застанете нас спящими! — сказал секретарь.
— Правда? — сказал я.
Нам не потребовалось много времени для того, чтобы изложить нашу точку зрения доктору Феллу. Он признался в убийстве. Это произошло в поле. Он ударил старика Мэтьюза по голове деревянной ногой. Деревянная нога лежала у него в машине, так как в начале недели он отдавал ее в починку для деревенского старика пенсионера. В известном смысле доктор Фелл был даже добрым человеком. Ну а убив старика Мэтьюза, он сбросил его тело в пристройку в одиннадцать часов зимнего времени, в двенадцать часов британского летнего времени и по часам церкви. Это были времена смертной казни, но его приговорили к пожизненному заключению. Закон не любит шантажистов.
ЕЩЕ ОДНА ПАРА РУК
© Перевод. У. Сапцина, 2011.
Я единственный сын у родителей, которым по возрасту мог бы приходиться внуком. В этом есть и преимущества, и недостатки: хотя я не поддерживал связь с промежуточным поколением — матушкиным подругам на момент моего рождения было уже за сорок, ровесникам отца — за шестьдесят, — я унаследовал ощущение более длительного периода живой истории, чем большинство людей. Для моих пожилых родителей были естественными разговоры о жизни в начале века, времени, к которому они принадлежали, и я рос с интуитивным пониманием того, как было принято действовать и мыслить в те годы.
Матушка умерла в возрасте девяноста шести лет, вскоре после моего пятидесятилетия. Она пережила моего отца почти на тридцать лет и вела активную жизнь вплоть до последних дней, столкнувшись с единственной трудностью — ухудшающимся зрением. Постепенно ее движения замедлились. Но как отмечали все вокруг, для своих лет она чудесно сохранилась. Она умерла быстро, от инсульта. До своих последних дней она не переставала удивляться, почему я так и не нашел подходящую женщину и не женился. Может, этот вопрос и теперь не дает ей покоя. Такое это было поколение — задающееся вопросами.
Вступив во взрослую жизнь хозяйкой огромного дома с армией слуг, матушка, подобно всем вокруг, пережила несколько переселений, и каждый переезд в более скромное жилье с не столь многочисленной прислугой был для нее ударом. Каждый новый дом она называла убогим, а уклад в нем — примитивным. Прошло немало лет после Первой мировой войны, прежде чем она наконец привыкла довольствоваться всего четырьмя домашними слугами (включая камердинера) и тремя дворовыми. Ближе к концу пятидесятых она снизошла до тесного георгианского особняка в Суссексе с двенадцатью спальнями, окруженного рощей. Особняк казался чересчур просторным для одной обитательницы, и со временем это ощущение только усиливалось. Матушка не была стеснена в средствах, но никак не могла подыскать всю необходимую ей прислугу. Несколько комнат всегда стояли запертыми. Незадолго до смерти хозяйке дома вполне хватало услуг садовника, ухаживавшего за чисто символическим газоном и парой грядок, экономки и кухарки мисс Спигот и горничной Уинни. Спустя два года, перед самой смертью матушки, в доме оставалась только Уинни.
Когда скончалась мисс Спигот, выяснилось, что Уинни не умеет стряпать, не сжигая пищу, и совершенно не приспособлена для походов за покупками и уборки. Матушка не желала и пальцем пошевелить ради дела; она была способна разве что сорвать цветок, невозмутимо восседала с вечным шитьем, которое называла «своей работой», и отдавала распоряжения. Раньше я проводил воскресенья и понедельники в компании друзей, которых привозил к ма, чтобы развлечь ее, и она всегда с нетерпением ждала этих визитов. Матушка пережила своих сестер и подруг, поэтому радовалась обществу. Моя работа — статьи для постоянной театральной рубрики — отнимала у меня немало времени. Приезжая к матушке с визитами, я не замечал пыли, но видел, что еда приготовлена скверно. Должен сказать, что мисс Спигот, которая умерла, когда ей было под восемьдесят, готовила отменно. При жизни экономки нас всегда ждали приготовленные, освеженные уборкой комнаты. И вдруг всему этому пришел конец. Уинни сбивалась с ног. Я понимал, что матушке вновь предстоит переезд, и умолял разрешить мне подыскать для нее квартирку в Лондоне. Она очень стара, но отнюдь не немощна, особенно духом.
— Уинни и одна справится. Я уже говорила с ней, — отвечала ма, продолжая водить иглой. Я был готов убить ее, но ма не из тех, кто терпит неучтивое обращение.
Я решил больше не привозить к матушке моих друзей. Сам я едва выносил подобные визиты. В доме стояла вонь сгоревшей пищи, комнаты никто не проветривал, они выглядели запущенными. У матушки были простые пристрастия веде, полагаю, как и у самой Уинни, а я предпочитаю плотные и сытные трапезы. Пол в столовой был усеян крошками древних тостов и осколками яичной скорлупы. Со стола не убирали неделями, салфетки под приборы были засаленными. Во время этих злополучных воскресений и понедельников я делал все возможное, чтобы привести дом в порядок. Я уже давно привык жить в Лондоне и обслуживать себя сам; в сущности, я терпеть не мог прислугу, хотя и вырос в доме, где ее было полным-полно. В таком доме твоя жизнь словно выставлена напоказ. В Лондоне мне вполне хватало помощницы, приходящей по утрам.
Но справиться с хозяйством в таком огромном доме, как матушкин, мне было не под силу. Ничто не могло поколебать решимость ма мириться со всеми неудобствами или раздражающую преданность Уинни, которая встала на матушкину сторону. Так прошел месяц. Все свободное время я проводил на биржах труда и в других учреждениях, где рассчитывал найти замену мисс Спигот, но мои усилия и старания моих друзей не давали ничего, ровным счетом ничего.
— Я поговорю с Уинни, — пообещала ма.
На пятое воскресенье я приехал в Суссекс попозже, чтобы сократить свое пребывание в аду. К своему изумлению, ада я не заметил. Уинни стала на редкость толковой кухаркой и экономкой всего за неделю. Проходя через столовую, я заметил, что стол уже накрыт, серебро и хрусталь сверкают, столовое белье выглядит так, как и полагается по строгим правилам ма. Гостиная имеет свежий вид, стекла в окнах вновь приобрели стеклянный блеск.
Ма вязала. Приближалось обеденное время.
— Ты нашла кого-то в помощь? — спросил я.
— Нет, — ответила ма.
— Так каким же образом Уинни умудрилась справиться в одиночку?
— Я поговорила с ней, — объяснила матушка.
Уинни подала в целом превосходный обед — может, и не настолько превосходный, какие готовила покойная кухарка, но определенно многообещающий. В него входило даже довольно плоское, опавшее суфле.
— Это ее первое суфле, — заметила ма, когда Уинни ушла за мясным блюдом. — Если впредь не исправится, я с ней поговорю.
С Уинни явно что-то произошло. Она казалась всем довольной, почти безмятежно счастливой. Расхаживая по дому, она нашептывала себе под нос нечто странное. Овощи она подавала с величайшей осторожностью, но не переставала шептать ни на минуту.
— Что вы сказали, Уинни? — спросил я.
— А суфле-то опало, — ответила она.
— Включи новости на Би-би-си, — попросила матушка.
Весь понедельник Уинни хлопотала по дому, беседуя сама с собой. Но завтрак был подан вовремя, стол накрыт, как полагается. Еще до половины девятого в доме воцарился порядок, в камине весело затрещал заново разведенный огонь. А Уинни все вела с собой нескончаемый разговор, веселый и многословный. Я предположил, что это сказываются долгие и одинокие бдения на кухне. Но матушка, похоже, решила свою хозяйственную проблему, которая угрожала стать моей. Я не уделил бы Уинни ни единой лишней мысли, если бы она не стала весьма забавной.
Я с радостью вернулся к привычной холостяцкой жизни, охотно сообщил друзьям о перемене, произошедшей с Уинни, и о том, как успешно она справляется со своими обязанностями. Они выразили желание возобновить визиты в Суссекс вместе со мной, пообещали, что сами будут стелить себе постели, помогать ходить за покупками и ни в коем случае не доставлять Уинни лишних хлопот. Но я считал, что будет разумнее выждать несколько недель, а уж потом нагрянуть в гости, как в прежние времена. Вместе со мной матушку обычно навещали мои коллеги, неженатые и молодые, которые, подобно мне, по субботам трудились в редакциях своих газет, или же вдовушки средних лет, свободные в любой день недели. Все они высказывались за поездку, но я не торопился.
К следующей неделе Уинни набралась опыта. Я пришел к выводу, что именно она осуществляла руководство на кухне с тех пор, как служила в доме: кухаркой она оказалась отличной. Ма все так же не обращала на нее внимание, по своей привычке предпочитая не хвалить и не бранить, только отдавать распоряжения. Уинни была особой неопределенного возраста между пятьюдесятью пятью и семьюдесятью годами, ее большое лицо покрывали глубокие морщины, тело было худым и угловатым, седые волосы она ополаскивала краской, придавая им шоколадный оттенок. Матушке, которая с молодости привыкла выбирать горничных «приятной наружности», понадобилось некоторое время, чтобы примириться с дурнушкой Уинни, но, попривыкнув к ней, матушка была не склонна следить, не изменилась ли ее горничная по сравнению с прежними временами.
Теперь с кухни периодически доносился жуткий грохот. Вечером он продолжался минут десять. Моя постель была оправлена. Ковры на лестницах — безукоризненно чисты, как раньше, мебель и перила блестели. Уинни подняла в кухне шум и вскоре затихла до самого чая, после которого, дождавшись, когда матушка ляжет, ушла спать. Я прекрасно выспался. Наутро шум возобновился, словно Уинни дралась сама с собой. Решив выяснить, что происходит, я застал ее улыбающейся и что-то убежденно бормочущей. Поднос с завтраком для матушки был уже готов, Уинни как раз собиралась отнести его в комнату ма.
— Что стряслось, Уинни? — спросил я.
— Да просто забыла выставить на поднос масло. Стара уже для такой работы.
— Хотите уволиться, Уинни? — спросил я в мгновенном приступе отчаяния, вызванного словами и тоном Уинни.
— Разве я могу оставить вашу матушку? — отозвалась она и унесла поднос.
А на следующей неделе моя девяностошестилетняя мать внезапно скончалась. Невозмутимая Уинни позвонила мне из Суссекса, и я поспешил приехать. Состоялись тихие и немноголюдные похороны. Дом предстояло продать. Редкие вспышки гнева Уинни, обращенного на саму себя, повторялись по-прежнему — например, когда она забыла отменить доставку «Таймс», о чем попросил я; хлопоча по дому, она не переставала бормотать. Я с удобством провел в доме последнюю ночь и после завтрака приготовился уладить вопрос с жалованьем и пенсией для Уинни. Мне казалось, она с радостью согласится отдохнуть. У нее были родные в Йоркшире, и я думал, что она наверняка захочет вернуться туда.
— Я не брошу семью, — заявила Уинни.
Под «семьей» она подразумевала не своих родственников, а меня.
— Уинни, дом придется продать. Здесь же все равно никто не живет.
— Тогда я поеду с вами, — решила Уинни. — У вас там наверняка свинарник, но я могу пожить и в подвале.
Мой свинарник, мой райский уголок. Этот дом с узким фасадом, выходящий на Хэмпстедлейн, я приобрел двенадцать с лишним лет назад. Но так и не собрался привести его в порядок. Слишком много времени отнимали долгие вечера в театрах, за которыми следовали ужины допоздна в компании друзей, а по утрам — работа над статьями для театральной рубрики и разгуливание по дому в халате. Наскоро пообедав, я устраивался поработать в кабинете, иногда шел в кино или на выставку, если только какое-нибудь официальное событие не требовало моего присутствия, или же играл на пианино. Большая часть работы приходилась на пятницы и субботы: последний спектакль за неделю я смотрел в пятницу, а газета с моей статьей в рубрике должна была выйти в субботу к трем часам дня. И поскольку до матушкиной смерти я уезжал в Суссекс на воскресенья и понедельники, заняться собственным домом мне было просто некогда. Иногда гости, останавливающиеся у меня, пытались помочь с уборкой. Но меня больше устраивало, когда они этого не делали: после дружеских уборок я ничего не мог найти в собственном доме. И никогда, ни при каких обстоятельствах я никого не пускал наверх, в свой тесный кабинет. Надутая и чопорная помощница по имени Айда приходила, жеманно семеня ногами, по утрам три раза в неделю часа на два, мучая всех вокруг, то есть себя, меня и моего кота Фрэнсиса. Айда вынимала чистую посуду из посудомоечной машины и расставляла в шкафу, меняла полотенца и постельное белье и оставляла грязное белье в прачечной. Подметала пол в кухне, легко расправившись с Фрэнсисом с помощью веника, иногда вытирала пыль в гостиной и пылесосила ковер. Три раза в неделю по утрам Фрэнсис прятался в подвале, пока она не уходила.
Не только изъяны Айды побудили меня забрать к себе Уинни. Поначалу я был решительно против. Фамильного состояния едва хватило на матушкину жизнь. Я вполне сводил концы с концами, у меня была работа, но даже состоятельным человеком я бы себя не назвал. Подобно большинству своих друзей, я был не в том положении, чтобы брать в дом экономку. Помимо всего прочего, мне не хватало для нее места. В сыром подвале гнили ящики, забитые всякой заплесневелой дрянью, выбросить которую у меня никак не доходили руки. Среди них были коробки с матушкиными вещами: во время одного из ее переездов эти коробки на время привезли ко мне и так и не забрали. Заглянув в одну, я обнаружил два изъеденных молью веера из страусовых перьев, несколько попорченных сыростью резных шахматных фигурок из дерева, отсыревшие книги и вино. В тот раз я выбросил содержимое коробки — за исключением вина, которое сохранило приятный вкус. Но больше я эти ящики не открывал. В подвале были две комнаты, промозглая тесная уборная и кухня устрашающего вида. Очевидно, до того как я приобрел этот Дом, в подвале кто-то жил.
— Уинни, в своем подвале я поселить вас не могу, — выкрутился я, вместо того чтобы прямо заявить: «Кухарка и экономка мне не по карману».
— А что с ним не так, с подвалом?
— Там сыро.
— Больших денег я не запрошу, — заверила Уинни. — Ваша мать все равно мне недоплачивала. По старой привычке. А вам я пригожусь, готовить буду. Заодно приберусь на чердаке, там и место для меня найдется.
Откуда она узнала про чердак, я понятия не имел. Одно время я подумывал устроить там однокомнатную квартиру и сдавать ее в аренду, но прямо под ней располагались две единственные спальни в доме, одна из которых служила мне кабинетом, и мне было неприятно думать, что у меня над головой будут шастать чужие люди. Так чердак и остался пустым. Кроме моей спальни и кабинета, остальные комнаты дома находились на нижнем этаже, в гостиной и столовой с диваном я принимал близких друзей. Единственным подходящим для Уинни местом оставался теплый и пустующий чердак. Окончательно мою решимость поколебало замечание Уинни: «А вам я пригожусь, готовить буду». Соблазн и вправду был велик. Я представил себе, как буду приглашать друзей на ужин в узком кругу после спектаклей. Какие приятные обеды смогу устраивать — продуманные, с хорошей сервировкой. Вдобавок Уинни умела выгодно закупать провизию.
— Сэкономлю вам целое состояние, чтобы не растратили в ресторанах, — решила Уинни, ибо это и вправду было окончательное решение. — А когда продадите особняк матери, будете как сыр в масле кататься.
Я не стал упоминать о том, что после уплаты налога на наследство от имущества моей покойной матушки ничего не останется: из упрямства она вела свои финансовые дела из рук вон плохо. Но привычка питаться в лондонских ресторанах и вправду все больше осложняла жизнь, так как и еда, и обслуживание не выдерживали никакой критики.
— В таком случае, Уинни, вам придется самой устраиваться на чердаке. Конечно, я попробую вам помочь с вещами, но предупреждаю: я занятой человек.
— Вещей у меня немного, — заверила Уинни.
Увидев мой дом, она изрекла:
— Трясина отчаяния — если помните, была такая у Беньяна.
Тем не менее она поселилась на чердаке. Я дал расчет Айде и поручил себя заботам Уинни.
Моя жизнь действительно изменилась. Способности Уинни поражали воображение. За исключением кабинета, который я запирал всякий раз, покидая дом, и в который Уинни не могла проникнуть, она проникала повсюду. Дополнительных расходов потребовала только новая кухонная плита для нее. Я не следил за занятиями Уинни, но не мог не удивляться, видя, как она ухитряется содержать в чистоте весь дом от подвала до чердака, причем в такой чистоте, что я наконец узнал, какой вид открывается из окон моей гостиной, и привык ежедневно находить собственную постель заправленной. Всего этого Уинни добилась в рекордно короткие сроки. Не прошло и недели, как я начал приглашать друзей в гости и делил с ними изумительно вкусную, необычную еду, приготовленную как надо.
— Повезло же тебе! — слышал я от друзей. Среди них нашлись и такие, которые охотно переманили бы Уинни к себе, представься им такой шанс. Серебро и хрусталь моей матушки сверкали на столе. Уинни ничего не имела против поздних застолий. Приготовленные ею блюда всегда были восхитительными.
— О, как изысканно! Как ей это удается?
— Кстати, с кем это она ссорится у себя в кухне?
— С самой собой.
Дело в том, что Уинни, убирая со стола и подавая нам кофе, не переставала бормотать себе под нос, а потом до гостиной доносились отголоски ее одиноких кухонных побоищ.
Я театрал, поэтому странности в поведении Уинни импонировали моему художественному восприятию. Мои друзья тоже не остались равнодушными к происходящему. Оно приводило их в восторг. Стоило Уинни покинуть комнату, как ее наперебой начинали называть редкой удачей и сокровищем. Одна из моих молодых знакомых, актриса, которой случалось навещать мою матушку, зорким глазом подметила то, на что не обращал внимания я: пара моих стульев недавно обзавелась новой обивкой с настоящей диагональной вышивкой по канве.
— Вы распорядились закончить вышивку вашей матушки, — заметила она. — Помню, она работала над ней все прошлое лето. Когда я видела вашу матушку в последний раз незадолго до смерти, она как раз сидела на террасе с этой вышивкой.
— Почему вы решили, что это работа моей ма? — спросил я.
— Узнала рисунок — смотрите, он венецианский, над ним она работала с особым тщанием. Только взгляните на эти красные стежки.
— Значит, сама она и закончила его.
— Нет, быть того не может. Такая работа продвигается крайне медленно. Ваша матушка просто не успела бы справиться с ней.
— Так, значит, это дело рук Уинни.
— Уинни? Но у нее столько дел — когда же ей еще и вышивать?
— Мало ли на что она способна.
Еще тогда у меня зародились подозрения. Но теперь, по прошествии времени, мне кажется, что на самом деле я не желал знать, как Уинни справлялась с работой. Это все равно что признаться, что не веришь в Санта-Клауса: а вдруг все чудесные сюрпризы разом прекратятся?
Успех Уинни у моих друзей не прошел бесследно для нее самой. У нее тоже развилась склонность к театральным эффектам, она бормотала еще усерднее, подавая овощи или кофе, а однажды, когда в гостях у меня было несколько человек, без какой-либо видимой причины влетела в комнату с матушкиным огромным страусовым веером, изъеденным молью, изображая дебютантку довоенных времен, представленную ко двору: махала перед собой веером, низко приседала, подметая перьями ковер. Комнату она покинула самым торжественным образом, пятясь спиной вперед и одарив нас еще одним низким поклоном, прежде чем скрыться. В присутствии Уинни никто не проронил ни слова, однако ее эксцентричная выходка стала темой для веселых бесед до самого конца вечера, а я был слегка сконфужен. В другой разя мирно играл в шахматы с другом, когда Уинни явилась в комнату, почему-то именно при госте решив вымести золу из камина. Она отчистила Шахматные фигурки из ящика ма, и выяснилось, что их определенно стоило реставрировать. Проходя мимо нас, Уинни бросила взгляд на доску и заявила: «Недемократично». Я предположил, что она имеет в виду королей и королев. Но в конце концов Уинни переступила границы шутки — это случилось, когда однажды после обеда я сидел у себя в кабинете и ломал голову над очередной статьей для театральной рубрики.
В такое время дня Уинни обычно сидела на чердаке и яростно спорила сама с собой. Я никак не мог сосредоточиться. Наконец я нехотя поднялся к ней.
— Уинни, — со всей мыслимой деликатностью начал я, — знаете, вы временами разговариваете сами с собой. Беспокоиться не о чем, подобные привычки есть у многих, в том числе у выдающихся личностей. Но когда у меня над головой постоянно кто-то ссорится и спорит, я просто не в состоянии работать.
— Но меня же раззадорили, — возразила Уинни.
— Ничуть не сомневаюсь. И прекрасно помню, как много вы делаете для меня. Не хотите обратиться к врачу?
— В лечебницу? — уточнила Уинни.
— Что вы, Уинни, конечно, нет! Только сходить на частную консультацию. Может, начать принимать какое-нибудь лекарство. В противном случае, боюсь, мы будем вынуждены расстаться. Но я вас настоятельно прошу…
Я настоятельно просил ее сходить к имеющему частную практику молодому психиатру, о котором был наслышан. Понятия не имея, что она способна рассказать о себе и своем состоянии, я не сомневался, что врач сумел выведать у нее какую-нибудь лишенную логики историю. По-видимому, Уинни вовсе не считала, что с ней что-то не в порядке, и такое же мнение явно ело-жилось у врача. Ложиться в больницу на обследование она отказалась, после нескольких визитов врач выписал ей какие-то лекарства. Я пытался расспрашивать его, но мало что узнал.
— У нее изредка случаются галлюцинации, а в остальном ее состояние не внушает опасений. Со временем все должно пройти. Разумеется, я не могу провести углубленную диагностику, так как она отказывается лечь в клинику.
Я заплатил заоблачную сумму по счету. В течение недели Уинни вела себя точно так же, как раньше. Но уверяла меня, что принимает лекарство.
А потом она вдруг притихла. Через две недели она окончательно прекратила шуметь и кричать. Я снова смог взяться за работу.
Но дом начал постепенно приходить в упадок. Все в нем стало, как в прежние времена, даже еще хуже: несмотря на то что я не ел дома, Уинни умудрялась сжечь пищу, которую готовила себе. Это был сверххаос, в доме прочно поселился запах гари и старого хлама. Уинни суетилась, как раньше, но просто-напросто не справлялась.
— Наверное, вам нужен отпуск, Уинни.
— Я их перестала принимать, эти таблетки, — сказала она. — Роуз они не нравятся. Слишком сильно действуют.
— Роуз?
— Да, Роуз Спигот.
Я вспомнил мисс Спигот, матушкину покойную кухарку. Вспомнил ее старательный выговор, чопорность и вышколенность, а также ее рассказы о том, как она объездила весь Восток с семейством герцога.
— Вы имеете в виду свои отношения с нашей покойной кухаркой? — уточнил я.
— Я имею в виду самое покойную кухарку, — объяснила Уинни. — Она ушла. Когда я начала пить те таблетки, они отвлекли ее от инсульта.
— Ни в коем случае не пейте лекарство, если оно вас не устраивает, Уинни, — всполошился я.
— Не меня, а Роуз. Она несносна, строит из себя леди, сидит с рукоделием вашей матушки и не дает мне покрасоваться в обществе. Но кухарка и экономка она хоть куда и отдавать распоряжения умеет, а мне одной эта неразбериха не по плечу. Она была для меня еще одной парой рук.
— Вам определенно хватит принимать таблетки, — решил я. — Если хотите, я снова поговорю с врачом.
— С какой же стати, — возразила Уинни. — С врачом все в полном порядке.
Мне предстояло провести неделю на севере, где проходил театральный фестиваль. Я отбыл с радостью, хотя рубашки пришлось запихивать в саквояж неглаженными, а носки — нестиранными. Мне казалось, после такой передышки я сумею совладать с проблемой Уинни.
По возвращении, едва успев вставить ключ в замок, я сразу понял: что-то произошло. Медная табличка с моей фамилией сияла, из глубины дома слышался голос Уинни, которая с кем-то спорила на повышенных тонах.
Но, заглянув в кухню, я увидел, что, кроме Уинни, там никого нет.
— Роуз вернулась, — сообщила она мне.
Я понял, что она имеет в виду. Дом сверкал чистотой, мой ужин в тот вечер был превосходен.
Но все эти испытания оказались непосильными для моего несомненно слабого характера. Я решил, что с меня довольно, и наконец убедил Уинни уйти на пенсию. Она вернулась в Йоркшир — не знаю, в сопровождении мисс Спигот или без нее. Мой дом, как и прежде, свинарник. Друзья чрезвычайно добры ко мне, дома я ужинаю редко. Хлам, который раньше плесневел в подвале, теперь гниет на чердаке. Вычесывать кота Фрэнсиса некому, и он этому только рад. Когда я предоставлен сам себе, я всегда могу сесть среди пыли и мусора и поиграть на пианино.
БАХ-БАХ, ТЫ УБИТА!
© Перевод. Н. Анастасьев, 2011.
В ту пору множество мужчин походило на Руперта Брука, чей образ все еще стоял у всех перед глазами. Четко очерченный, «типично английский» профиль, какой редко увидишь на собственной английской почве, а в африканских колониях — на каждом шагу.
— Следует признать, — заметила хозяйка Сибиллы, — мужчины здесь весьма обаятельны.
«Они обаятельны, — подумала тогда Сибилла, — пока не узнаешь их поближе». Она сидела в темноте, просматривая съемку восемнадцатилетней давности, и ей казалось, что, словно застывшее под воздействием сильного жара, исходящего от проектора, перед ней встает некое определенное воспоминание. «Я была молода, — говорила она себе, — и хотела только самого лучшего. Впрочем, — подумалось ей затем, — дело не только в этом. И все же, в конце концов, все сводится к одному и тому же: в моих глазах мужчины недолго сохраняют свое обаяние».
Первая бобина кончилась. Кто-то включил свет. Хозяйка Сибиллы вынула из своего тропического багажа очередную ленту.
— Занятно, должно быть, — заметила она, — смотреть на себя по прошествии стольких лет.
— А разве раньше Сибилла не видела эти ленты? — осведомилась одна из опоздавших.
— Нет, никогда — верно, Сибилла?
— Нет, никогда.
— Будь это про меня, — сказала хозяйка Сибиллы, — ни за чтобы восемнадцать лет не выдержала, любопытно ведь.
Бобины с пленкой «Кодак» давно лежали в самой глубине чемодана в домике, где жила Сибилла. Чего суетиться, если и так все хорошо помнишь?
— У Сибиллы не было знакомых с проектором, — сказала ее хозяйка, — пока мы не купили этот.
— Очаровательно, — сказала опоздавшая, престарелая дама, — по крайней мере то, что я уже видела. Все остальное не хуже?
Сибилла на минуту задумалась.
— Съемка, наверное, не хуже. Повар снимал.
— Повар! Прелестно. Но как это? — проговорила хозяйка Сибиллы.
— Поваренка научили пользоваться камерой, — пояснила Сибилла.
— Что ж, получилось у него неплохо, — заметил хозяин дома, вставляя в проектор новую бобину.
— Отличный цвет, — сказала хозяйка. — Я так рада, что вы выудили это на свет божий. Смотрите, какими здоровыми, загорелыми, веселыми все выглядят. А эти восхитительные белозубые аборигены, их прямо не счесть.
— Мне понравился кадр, — сказала престарелая дама, — в котором вы выходите на веранду с ружьем.
— Готовы? — спросил хозяин. Новая бобина была вставлена. — Выключите свет.
На экране снова появилась веранда. Через высокую стеклянную дверь вышла смуглая девушка в шортах. Рядом с ней семенила молодая восточноевропейская овчарка.
— Славный песик, — заметил хозяин дома. — Вроде как он просит Сибиллу поиграть с ним.
— Там еще кое-кто есть, — быстро проговорила Сибилла.
— Вы про эту девушку, что собаку ведет?
— Ну да, конечно. А меня вы там не видите, на лужайке, у деревьев?.
— Разумеется, разумеется. А она ведь похожа на Сибиллу, эта девушка с собакой. Верно? То есть словно это Сибилла выходит на веранду.
— Точно, мне даже казалось, что это и есть Сибилла, пока я не увидела ее вдали. Но если приглядеться, разница заметна. Смотрите, как она поворачивается. Нет, девушка в общем-то не похожа на Сибиллу, скорее всего шорты смутили.
— Да нет, немного мы все же были похожи, — заметила Сибилла.
Проектор продолжал жужжать.
— Смотри-ка, Сибилла, видишь девочку, она на тебя похожа. — Сибилла шла между отцом и матерью, держа за руки обоих, и уже вертела головой, вытягивая шею. Та, другая, девочка, как и Сибилла, гулявшая с родителями, тоже обернулась.
На той, другой, была черная велюровая шляпка с загнутыми полями, коверкотовое пальто и узкий белый воротник из горностая. На руках белые шелковые перчатки. Сибилла была одета точно так же, и хоть само по себе это ничего не значило, ибо в 1923 году так, собираясь на прогулку в парк или общественный сад, матери одевали многих девочек в городках с кафедральными соборами, все же сходство в одежде только подчеркивало бросающееся в глаза сходство двух девочек в чертах лица, фигуре и росте. Сибилле показалось вдруг, что она видит в большом зеркале собственное отражение. Это ее острый подбородок, ее черные, коротко остриженные волосы под шляпкой, бахрома которой почти касается ресниц. Ее большие глаза, ее нос, совсем маленький, как у котенка. «Перестань глазеть, Сибилла», — прошептала мать. Сибилла уже успела заметить ослепительно белые носки и превосходную черную кожу туфель на кнопках. Носки у нее тоже были белые, но туфли коричневые, на шнурках. Поначалу ей показалось, что в этом различии есть какая-то неправильность, ну, как если попасть каблуком в расщелину на тротуаре. Но потом решила, что все верно, какая-то разница быть должна.
— Это Колманы, — сказала мать отцу. — У них гостиница в Хиллэнде. Ребенку примерно столько же лет, сколько и Сибилле. Они очень похожи, правда? И думаю, — продолжала мать, желая сделать приятное Сибилле, — она такая же хорошая девочка, как и Сибилла.
Сообразительной Сибилле это последнее замечание, с его легким намеком на совершенство, не понравилось.
Они еще не раз встречались с дочерью Колманов во время воскресных прогулок. Летом дети носили панамы и чесучовые, со скромной вышивкой, платьица. Иногда с девочкой гуляла молодая служанка в сером платье и черных чулках. Сибилла отметила это различие между ней и другими детьми, которых всегда сопровождали родители. «Не верти головой и не глазей по сторонам», — шептала мать.
Только когда она пошла в школу, выяснилось, что Дезире Колман на год старше. Дезире училась на одну ступень выше, но случалось, когда на лужайке или в спортивном зале собиралась вся школа, Сибиллу в первый момент путали с Дезире. Поздней теплой весной классы рассаживались под платанами и занимались, пока, словно по команде, учителя одновременно не объявляли перерыв. Группы смешивались, и — «Сибилла, милочка, шнурки развязались», — окликала учительница и тут же, не успевала Сибилла разглядеть как следует свои шнурки, поправлялась: «Ах нет, не Сибилла, я хотела сказать, Дезире». Репетируя в оркестре ударных, Сибилла радостно хлопнула по столу треугольником, когда учительница похвалила ее: «Гораздо лучше, чем вчера, Сибилла». И тут же добавила: «Я хочу сказать, Дезире».
Впрочем, путали детей только взрослые. Сверстники — никогда. После одного школьного концерта мать Сибиллы сказала ей: «На секунду мне показалось, что это не ты, а Дезире поет в хоре. Удивительно, до чего вы одинаковые. Я-то ведь ничуть не похожа на миссис Колман, да и твой папа менее всего походит на ее отца».
Как подруга по играм Дезире не нравилась Сибилле. Девочка была не по годам развита, с умом острым как бритва. Выяснилось, что дети, не отличающиеся большими способностями, часто бывают склонны к зловредности. Дезире могла невинно сидеть на каком-нибудь школьном вечере, скрестив ноги и глядя на фокусника, а потом вдруг без всякой видимой причины яростно пихнуть тебя локтем в бок.
Когда Сибилле исполнилось восемь, а Дезире девять, путали их уже редко, даже незнакомые люди или новые учителя. У Сибиллы нос заострился и приобрел более четкие формы, в то время как у Дезире, напротив, утонул в пухлых щеках и казался нарисованным. Лишь очень редко, в короткие зимние дни, когда часа в три уже смеркается и по всей школе включают свет, Сибиллу принимали за Дезире.
Когда Сибилле пошел десятый, семья Дезире переехала в их район. После уроков матери и няни водили детей на прогулку в сады, всячески призывая их играть и не обижать друг друга. Сибилла встретила появление Дезире довольно враждебно и заявила, что предпочитает книгу. Однако когда несколько недель спустя в здешнем районе появились мальчики Добеллы, она явно оживилась. У Добеллов были смугловатая кожа и красивые темные глаза. Выяснилось, что отец их наполовину индус.
Как же Сибилла восхищалась Добеллами! Таких друзей у нее еще не было, настолько живые, настолько подвижные, в то же время мягкие, редкостно воспитанные. На их смуглой коже никогда не было ни пятнышка грязи, и ей это неосознанно нравилось. Тогда она была даже не против, чтобы Дезире играла с ними со всеми, — мальчики Добеллы были чем-то вроде лекарства против скуки, ибо что такое глупость, они просто не понимали и потому не замечали, что Дезире глупа.
Этой девочке не хватало душевной силы, она была не способна подолгу играть в игры, требующие развитого воображения, отличалась резкостью, всегда была готова исподтишка, ни с того ни с сего, ударить товарища. Добеллы попросту не обращали на это внимания. Быть может, из-за отсутствия сопротивления Дезире всегда убивала Сибиллу насмерть, в любой момент, когда ей этого хотелось, хотя это было не по правилам.
Сибилла же яростно восставала против того, чтобы ее приносили в жертву раньше времени. Без всякого толку Йен Добелл повторял: «Еще рано, Дезире. Подожди, Дезире, подожди. В нее еще рано стрелять. Она еще не перешла мост, отсюда стрелять бессмысленно, между вами большой валун. Тебе надо его обползти, и сначала Хью выстрелит в тебя и решит, что попал, но на самом деле только шляпку заденет. А уж тогда…»
Все впустую. Каждый день, прежде чем начать игру, все четверо садились на сухую колючую траву и договаривались о правилах. Игра начиналась. «Все ясно, Дезире?» «Да», — отвечала она, и так каждый день. Дезире кричала, взбадривая себя, издавала какие-то дикие звуки, даже когда, по правилам, должна была неслышно красться к разбойникам по лесу. Несколько оглушительных выкриков, и — «бах-бах, — ревела она, целясь в Сибиллу, — ты убита». Сибилла послушно падала на землю, не забывая вскинуться, впрочем, мол, игра только началась, а Добеллы лишь вздыхали: «О Господи, Дезире!»
«Ну я с ней то же самое проделаю, — клялась себе Сибилла каждый вечер. — В следующий раз — завтра же, если дождя не будет, — я сама ее бабахну, она и панаму (это указатель) не успеет повесить на ветку. Скажу „бах-бах“ не в очередь, и ей до времени каюк».
Но наступало очередное завтра, и Сибилла ничего не могла с собой поделать. Сохранить уважение Добеллов было важнее, чем победить в игре. Так что, используя все свое хитроумие, Сибилла, поелику возможно, уходила из поля зрения Дезире. Она пряталась за лавровыми деревьями, отпуская по ходу дела замечания, как в разговоре со слабоумным: «Я в укрытии, я вся зеленая, меня не видно за деревьями». И все же Дезире находила ее. Взгляд Дезире упирался в сплошную гряду холмов. «До меня целых полмили», — кричала Сибилла, меж тем как Дезире безжалостно направляла ствол в ее сторону.
«Меня не убьют, — обещала себе Сибилла. — К черту правила. Если ей можно, почему мне нельзя? Не буду падать, когда она бабахнет. В следующий раз, завтра, если дождя не будет…»
И все-таки Сибилла просто падала на землю. Когда Иен и Хью Добеллы объявляли, что этот «бах-бах» не считается, она, полная надежд, воскресала, но — «считается, как это не считается. Правила есть правила», визжала в ответ Дезире. И Сибилла снова плашмя падала на землю, понимая, что теперь-то уж все, конец.
Так эта девочка, словно бешеная, и продолжала до времени убивать Сибиллу, ни разу, однако же, не причинив никакого вреда мальчикам. По некоей причине, о которой Сибилла задумалась лишь многие годы спустя, жертвой всегда становилась только она.
Однажды, когда Дезире опоздала к началу игры, Сибилла предложила мальчикам вообще исключить ее: «Она все только портит».
— Но ведь в игре участвуют четверо, — возразил Йен.
— Нужны четверо, — сказал Хью.
— Ничего, достаточно и троих. — И Сибилла принялась на ходу придумывать игру на троих. Она объясняла им то, что приходило ей в голову. Но привыкшие играть в казаков-разбойников по двое с каждой стороны, мальчики никак не могли ее понять. «Понимаете, — говорила Сибилла, — я буду единственным казаком. Или, — льстиво продолжала она, — другим казаком будет вишня». Но разговор шел с камнем — не страшным, но ничего не понимающим. И вдруг она осознала, что значительно опережает их в своем умственном развитии, и сразу почувствовала себя одинокой.
— Может, тогда в лапту сыграем? — предложил Йен.
После этого Сибилла каждый день брала книгу и садилась читать рядом с матерью, которая, в общем, была только рада, что Сибилле надоели эти буйные игры.
— Они собирались на охоту, — сказала Сибилла.
Ее хозяин менял бобину.
— Когда видишь Сибиллу в таком… такой общественной среде, — сказала ее хозяйка, — она предстает совсем в новом свете. Ученые люди среди них были?
— Нет, но много поэтов.
— Не может быть. Что же, все они стихи писали?
— Не все, но многие.
— Да кто же это такие, в конце концов? Например, кто вот этот блондин, что стоит рядом с вами у фургона?
— Управляющий имением. Там выращивали страстоцвет, а потом сок делали.
— С ума сойти, страстоцвет. И что, он тоже стихи писал?
— Ну да.
— А кто эта девушка — та, что я с вами спутала?
— A-а… Ее я знала еще в детстве, а потом мы встретились в колонии. Коротышка — ее муж.
— И все вы в то утро собрались на сафари? Знаете, Сибилла, мне как-то трудно представить себе, что вы в кого-то стреляете.
— В тот раз, — сказала Сибилла, — я никуда не ездила. А ружье это так, для полноты картины.
Все рассмеялись.
— И вы все еще поддерживаете отношения с этими людьми? Я слышала, колонисты — большие любители писать письма, это позволяет не терять связи с…
— Нет, — возразила Сибилла и добавила: — Трое из них погибли. Девушка, ее муж и блондин.
— Правда? И как же это случилось? Только не говорите, что это как-то связано со стрельбой.
— Это связано со стрельбой, — сказала Сибилла.
— Номер три, — проговорил хозяин. — Готовы? Выключите свет, пожалуйста.
— Смотрите, чтобы вас там львы не сожрали. И вообще, Сибилла, держись подальше от стрельбы. — Люди, собравшиеся на вокзале, не отдавали себе отчета в производимом ими шуме, ибо пребывали посреди него. По мере того как приближалось время отъезда, родичи Дональда рассеивались, в то время как близкие Сибиллы жались поближе к паре.
— Два года — целое приключение.
— Держись подальше от стрелковых дел. Не позволяй Доналду брать ружье в руки.
В какой-то момент случился целый обвал газетных публикаций о стрельбе в колонии. Много писали о том, какое воздействие производит на молодых поселенцев климат, неумеренное потребление спиртного, недостаток белых женщин. Колония стала местом, где любовники стреляют в мужей или сами стреляются, где мужья стреляют в аборигенов, подглядывающих в окна спальни. В последнее время «Таймс» начала публиковать письма уважаемых колонистов, опровергающих слухи о скандалах. Недавние происшествия, утверждали они, не отражают быт мирного большинства. Губернатор заявил прессе, что все страшно преувеличивается. К тому времени как Сибилла и Доналд уехали в колонию, мюзик-холлы со своими комическими представлениями на тему стрельбы в колониях уже исчерпали зрительский интерес.
— Не заводите дома змей и крокодилов. Поосторожнее там со львами. Не забывайте писать.
Каково же было их удивление, когда выяснилось, что стрельба в колонии — не просто мюзик-холльный сюжет. Она накатывала волнами. Бывало, три месяца подряд сообщения об убийствах и самоубийствах появлялись еженедельно. Старые колонисты, с их пронзительно-голубыми глазами, сидели за бутылкой виски и толковали о том, что вот еще один молодой бездельник прикончил себя. А затем начинался сезон дождей, и стрельба надолго замолкала.
Через восемнадцать месяцев после свадьбы Доналда задрала львица, и он скончался еще на носилках, пока его несли домой, на станцию. В охотничьей экспедиции участвовали восемь человек, но никто не мог сказать, как так получилось: все заняло какие-то мгновения. Аборигены совершенно обезумели и, вместо того чтобы застрелить зверя, только стонали «о-о-о» и указывали пальцем на место происшествия. Несколько крупных шагов через густые заросли травы — и друзья Доналда достали удалявшуюся от тела человека львицу.
Его друзья по археологической экспедиции, в составе которой он и приехал в Африку, уговорили Сибиллу остаться в колонии еще на шесть месяцев, до конца срока, и вернуться в Англию вместе с ними. Колеблясь, как поступить, она отправилась на экскурсию. Но археологов отозвали до истечения срока. Началась война. Гражданским лицам запретили покидать континент, и Сибилла оказалась в западне, как Доналд в лапах у львицы.
Жаль, что ему не выпало жить своей жизнью. Ясно, что, останься он жив, они бы разошлись. Конфликтов никаких не было, но, думала Сибилла, еще два года, и они наверняка бы возникли. Доналд начал выказывать признаки скуки. К последнему, двадцать седьмому году, жизни его ум утратил способность вопрошания. Археология, этот захватывающий предмет, стала для Доналда всего лишь работой. Он начал рассуждать так, словно все археологические методы и теории утратили энергию развития в тот день, когда он получил свою степень, и теперь осталось лишь применять знания к полевой работе, рассчитанной на некий ограниченный отрезок времени. Из Англии приходила литература по археологии. Обычные специальные издания, отпечатанные в формате 33,6 на 42 сантиметра, находили их все по новым почтовым адресам. «Доналд, ты что, даже просмотреть не хочешь?» — «Да нет, честно говоря, не вижу необходимости». Необходимости не было потому, что его будущее уже определилось. Два года в поле, а затем лекционная работа. «Если бы я занималась этим предметом, — думала Сибилла, — мне эта литература была бы необходима. Будь это даже сочинения для посвященных, все равно, если правильно прочитать, это расширило бы мой кругозор».
По утрам Сибилла лежала в постели и читала перевод «Дневников» Кьеркегора, пришедших из Англии в тот же месяц, когда они были впервые опубликованы. Она ощущала себя подобно пустыне, не осознающей своей сухости, пока ее не оросит дождь. Когда Доналд ближе к вечеру возвращался домой, ей было почти нечего сказать ему.
— Тут опять стрельба случилась, — заметил Доналд, — на той стороне долины. Один малый неожиданно вернулся домой и застал жену с мужчиной. Застрелил обоих.
— В этих краях джунгли всегда рядом, — сказала Сибилла.
— О чем это ты? Мы в восьмистах милях от джунглей.
Когда он отправился в свою первую охотничью экспедицию, за восемьсот миль, в джунгли, ей подумалось, а ведь в его уме не осталось ничего живого, он походит на выброшенную на берег и переставшую биться рыбу. Но, думала она, другая этого бы не заметила. Другие женщины не хотят быть замужем за Мозгом. «А я хочу, — думала она, — я урод, и мне не следовало выходить замуж. На самом деле я вообще не из тех, кому показано выходить замуж. Может, поэтому ему не интересна моя личность, точно так же, как не интересны книги и журналы. Это могло бы заставить думать, а мысли раздражают».
После его смерти она думала, что лучше бы он жил и наслаждался собственной жизнью, какова бы она ни была. Она нашла работу в частной школе для девочек и обзавелась некоторым количеством друзей, чтобы отвлечься, пока не кончится война. Милым друзьям мозги ни к чему.
Раскачиваясь с борта на борт, моторная лодка продвигалась вверх по Замбези. Сибилла перегибалась через перила и говорила что-то пораженному аборигену, проплывавшему мимо в каноэ. Она указывала пальцем куда-то вдаль.
— Кажется, я спросила у него про бегемота, — пояснила Сибилла друзьям, которых в темноте не было видно. — Там неподалеку стадо бегемотов устроилось, и хотелось разглядеть их получше. Но он сказал, что близко подходить нельзя — потому и выглядел таким испуганным, — вожак часто переворачивает лодку, а следом за ним в воду лезут кроки. Смотрите, смотрите! Вот он, общий вид: видите эти выпуклости на воде, они на подлодки похожи, это бегемотовы рыла.
Изображение закачалось вместе с лодкой, скользящей по реке. Экран погас.
— Что-то не так, — сказала хозяйка Сибиллы.
— Включите свет, — распорядился хозяин и принялся копаться в проекторе. Молодой человек, жилец с верхнего этажа, пришел ему на помощь.
— Мне понравились эти крохотные обезьянки на острове, — сказала хозяйка. — Поживее, Тед. Что там сломалось?
— Помолчи секунду, а? — огрызнулся он.
— Сибилла, а знаете, вы почти не изменились с тех пор, как были девочкой.
— Спасибо, Элла. Я вообще не изменилась, в том смысле, что по-прежнему считаю, что милым друзьям мозги не нужны.
— Полагаю, это оживит ваши воспоминания, Сибилла. Я про все эти мелкие подробности. Все ведь так быстро забывается.
— О да, — согласилась Сибилла и добавила: — Но я, знаете ли, многие детали хорошо помню.
— Да неужели?
«Не хотелось бы, — подумала она, — чтобы они прицепились к этим моим словам».
Молодой человек отошел от проектора, намотав на расставленные руки несколько футов пленки.
— А этот парень со светлыми волосами — ваш муж, миссис Гривз? — спросил он Сибиллу.
— Сибилла очень рано потеряла мужа, — негромко, скорбным голосом сообщила ему хозяйка.
— О, прошу прощения.
Хозяйка наполнила опустевшие бокалы гостей. Хозяин отвернулся от проектора, осушил бокал и протянул его за новой порцией, — все одним движением. «Все, что они делают, кажется таким большим и значительным, — подумала Сибилла, — но я не должна этого позволять. Мы всего лишь смотрим старую съемку».
— Хооото? — донесся до нее невнятный шепот престарелой дамы, что должно было, по-видимому, означать: «Кто это?»
— Сибилла Гривз, — прошелестела в ответ хозяйка, — дальняя родственница Теда по мужу.
— Ах вот как? — В шепоте слышалось удивление, так, будто все не было только что объяснено.
— Она очень знаменита.
— Да? А я и не знала.
— Это вообще мало кто знает, — сказала хозяйка Сибиллы с некоторой надменностью в голосе.
— Ну вот, — заметил Тед, — можно выключать свет.
— Цвета, должна заметить, превосходны, — сказала его жена.
Все то время, что она провела в колонии, Сибилла скучала по невыразимой цветовой гамме родного края. Яркие краски слишком били в глаза, птицы, местные женщины в пронзительно-розовых тюрбанах, с блестящей черной кожей и ослепительно белыми зубами, полными ярких, с крепкими стеблями, цветов в корзинах на головах, вид которых всех так восхищал («жаль, что я не могу нарисовать все это!»), быстро наскучили Сибилле и начали раздражать.
На пару с женщиной, муж которой воевал на севере, она сняла дом. Сейчас ей было двадцать два. Чтобы добиться полного уединения, она разделила гостиную фанерной перегородкой, — должно было пройти еще десять лет, прежде чем она овладела искусством вести двойную жизнь и делать вид, что слушает других. Это позволяло сливаться с окружением, не теряя своего «я», и слушать без скуки.
По другую сторону перегородки Ариадна Льюис мило развлекала своих друзей, в основном мужчин-отпускников. Несколько раз на этих сборищах бывала и Сибилла, неистовым усилием воли заставляя себя приводить в волнение мужчин. Удавалось ей это исключительно за счет сознательного подавления всех своих критических способностей, за вычетом оценки приятного мужского голоса или внешности. Похмелье было ужасным.
Явный дефицит белых женщин легко позволял им держать при себе сразу нескольких мужчин. У Ариадны было много приятелей, но совсем не было романов. У Сибиллы за два года — три, которые она завела, чтобы устроить себе проверку. Все они начиналась на танцах, в укромных уголках магнолиевых садов, где пахло, как на парфюмерной фабрике, при свете Млечного Пути, похожего на витрину ювелирного магазина, где нет ни единого свободного места. Романы заканчивались, когда ее донимали приступы тропической лихорадки иона в расстроенных чувствах лежала на кровати, установленной на каменной веранде и занавешенной белой сеткой от москитов, напоминавшей ей фату. Влажными дрожащими пальцами она писала прощальное письмо и передавала его метиске-служанке, чтобы та бросила его в почтовый ящик. Наутро адресат позвонит, и ему ответит слуга, малый весьма сообразительный.
Несколько лет ей казалось, что она не особенно расположена к сексу. После завершения третьего романа эта мысль сделалась неотступной, приобрела завершенные формы, так, словно в прошлом, когда она говорила себе: «Я существо по большому счету несексуальное» или: «Похоже, я настоящая фригидная уродина», — это были слова неграмотной женщины, так толком и не осознанные, и лишь сейчас, с завершением третьего романа, пережитые со всей остротой и показавшиеся вроде бы совершенно новыми. Это потрясло ее. Она лежала в тени веранды и с ослаблением лихорадочного жара обдумывала свои отношения с мужчинами. Может, снова выйти замуж, рассуждала она. Она дрожала под жаркой простыней. «А что, если я испытываю влечение к женщинам?» — думала она. Она все лежала и лежала, прокручивая эту мысль. Застывшим внутренним взглядом она всматривалась во всех женщин, которых когда-либо знала, — в маленьких чопорных профессорш с кремовыми отложными воротничками на платьях, в крупных властных женщин, в красоток, в обыкновенных дурочек вроде Ариадны. Да нет, думала она: что мужчины, что женщины. Дело не в том, что секс безразличен. И не просто в том, что от него не получаешь удовольствия. Возбуждение — вот что не нравится. И не просто не нравится, хуже — навевает скуку.
Она испытывала чувство одиночества, близкое к вине. Все три любовных романа принимали в ее сознании героические очертания. Это была попытка, думала Сибилла, совершить нормальный поступок. Может, стоит еще раз попробовать. Только бы встретить того, кого нужно. Но сама мысль о «том, кто нужен» приводила ее в состояние нестерпимого отчаяния. Она подняла противомоскитную сетку, потянулась к графину с лимонным соком и неловко, расплескивая, наполнила стакан. Сделала глоток. Сок нагрелся и к тому же был слишком сладким, и все же она задержала его в саднящем горле, глядя сквозь ячейки сетки на стены домов и расстилающийся за ними желтый вельд.
Однажды утром Ариадна сказала:
— Вчера вечером я познакомилась с одной девушкой, забавно получилось. В первый момент мне показалось, что это ты, я даже окликнула. Но вблизи выяснилось, что не так уж вы и похожи, просто впечатление такое. Вообще-то она тебя знает. Я пригласила ее на чай. Вот только имя забыла.
— А я нет, — сказала Сибилла.
Но когда Дезире появилась, они приветствовали друг друга с преувеличенной, впрочем, вполне искренней, теплотой, как давние знакомые, встретившиеся в другом полушарии. В последний раз Сибилла видела Дезире на танцах в Хэмпстеде, где было просто сказано: «А, это ты, привет».
— Мы когда-то в школу вместе ходили, — пояснила Дезире Ариадне, не выпуская руки Сибиллы.
Сибилле уже не терпелось отойти к окну. «Удивительно, — заметила она, — но рано или поздно все в колонии встречаются с теми, кого когда-то знали они сами или их родители — дома».
Вместе с мужем, Барри Уэстоном, Дезире жила в удаленной части колонии. Об Уэстоне Сибилла слышала, только не знала, что он женат на Дезире. Разговоров о нем как о предприимчивом колонисте было немало. Несколько лет назад он надумал делать сок из страстоцвета, развел сады, построил фабрику. Теперь дело стремительно шло в гору. Барри Уэстон также увлекался поэзией. Томик его стихов под названием «Домашние мысли» с большим успехом расходился по всей колонии. Его первая жена умерла от болотной лихорадки. В один из наездов в Англию он познакомился с Дезире, которая была на двенадцать лет моложе его, и женился на ней.
— Нет, ты непременно должна наведаться к нам, — сказала Дезире Сибилле и повторила, поворачиваясь к Ариадне: — Мы вместе ходили в одну небольшую частную школу. Ой, между прочим, Сибилла, Троцкого помнишь? А Минни Маус, как мы ее бедняжку, мучили? В жизни не забуду день, когда…
Школа, где преподавала Сибилла, должна была скоро закрыться на каникулы; тогда же Ариадна собиралась съездить к мужу в Каир. Сибилла пообещала навестить Уэстонов. Когда Дезире, одетая в красивый шелковый костюм, ушла, Ариадна сказала:
— Хорошо, что ты поживешь у них. А то я так переживала, что ты останешься здесь одна на несколько недель.
— А знаешь, — возразила Сибилла, — пожалуй, я к ним не поеду. Найду какой-нибудь предлог.
— Но почему? Там ведь так чудесно, и время хорошо проведешь. Он ведь ко всему прочему и поэт. — Сибилла буквально слышала, как Ариадна с нажимом говорит друзьям: «Что-то с Сибиллой не так. Чтобы узнать человека, надо с ним вместе пожить. У Сибиллы семь пятниц на неделе, то одно говорит, то другое… Что-то у нее не так с сексом… какие-то странности…»
Дома, подумала Сибилла, все было бы иначе. Ее последнее прошение о поездке в Англию было только что отклонено. Все перемывали ей косточки.
— По-моему, я заболеваю, — сказала Сибилла и вздрогнула.
— Ложись, дорогая. — Ариадна окликнула Элайу, чернокожего слугу, и велела налить Сибилле лимонного сока. Но в тот раз она все же не заболела.
Зато из своей первой поездки к Уэстонам она вернулась с гриппом. Ее «форд» 1936 года выпуска по дороге сломался, и пришлось ждать три часа на холодном ветру попутной машины.
— Надо бы вам обзавестись какой-нибудь приличной машиной, — сказала пришедшая навестить ее жена аптекаря. — На этих старых драндулетах по нашим дорогам не поездишь.
Сибилла лежала молча, дрожа всем телом. Тем не менее в середине семестра она снова поехала к Уэстонам.
Призывы Дезире были настойчивы, почти отчаянны. И Сибилла всякий раз послушно на них откликалась. Вокруг Уэстонов было какое-то магнетическое поле.
Визиты ее всегда обставлялись одинаково. На веранде, в строго определенном месте, ее неизменно ждало удобное соломенное кресло. Казалось, даже подушки не менялись и всегда укладывались в определенном порядке.
— Что выпьешь, Сибилла? Тебе там удобно, Сибилла? Ты у нас отлично проведешь время, Сибилла.
Похоже, она стала для них маленькой сироткой. Надев непроницаемо темные очки, она задумчиво взирала со своего места на супружескую пару.
— Мы приготовили тебе — верно, Барри? — мы приготовили тебе небольшой сюрприз.
— Мы тут задумали — верно, Дезире? — чудесную поездку… охота на кроков… бегемотов…
Сибилла потягивает джин с лаймом. Дезире с мужем сидят вплотную друг к другу и не спускают глаз с Сибиллы, пересевшей на соломенную кушетку. Взгляд их исполнен любви.
— Да сними ты эти свои дымчатые очки, Сибилла, — солнце почти зашло.
Сибилла снимает очки. Парочка держится за руки. Они чмокают друг друга и вдруг яростно сливаются в страстном объятии, в продолжение которого Барри раз-другой исподтишка посматривает на Сибиллу. Барри высвобождается и обнимает жену за плечи; она сворачивается калачиком и прижимается к нему. К чему все это представление, думает Сибилла. «Сибилла шокирована», — роняет Барри. Она потягивает свой джин и отмечает про себя, что эта откровенная демонстрация близости между мужем и женой и впрямь шокирует, в чем-то даже больше, чем любовные игры в парках или подъездах.
— Мы очень влюблены друг в друга, — поясняет Барри и еще теснее прижимает к себе жену. А Сибилла старается понять, что же не так в их браке, ибо что-то не так, это ясно. Парочка снова целуется. «Или все это мне только снится», — спрашивает себя Сибилла.
Еще в свой самый первый приезд Сибилла четко поняла, что что-то в их семейной жизни не так. Поначалу она казалась себе объективным наблюдателем, и ее даже позабавило, когда она поняла, что призвана сюда в качестве некой искупительной жертвы. В присутствии других гостей, заметила она, любовные сцены не разыгрываются. Напротив, перед друзьями парочка ведет себя с ней довольно пренебрежительно. «Бедняжка Сибилла, живет совсем одна, школьная учительница, друзей почти нет. Мы затаскиваем ее сюда при первой же возможности». Окружающие смущенно смотрят на Сибиллу и улыбаются. «Но ведь у вас здесь, должно быть, целая куча друзей», — говорят они ей любезно. Сибилла пришла к заключению, что Уэстонам она не по душе, но обойтись без нее они почему-то не могут.
Вернулась из Каира Ариадна.
— Ты всегда такой измочаленной выглядишь после поездок к Уэстонам, — не выдержала она в конце концов. — Наверное, это из-за вечеринок за полночь и выпивки.
— Должно быть, так.
Дезире бомбардировала ее приглашениями. «Непременно приезжай, ты нужна Барри. Ему нужны твои советы по поводу некоторых стихов». Сибилла сразу же рвала эти записки, но на приглашения, как правило, откликалась. И не потому что ценой ее неловкости было благополучие Уэстонов, но потому, что странным образом эта неловкость была нужна ей самой. Сами поездки к Уэстонам смягчали испытываемое ею чувство вины. «По-моему, — думала Сибилла, — они скорее всего заметили, что со мной что-то не так». Да, но как они могли догадаться? Ведь она всегда соблюдает крайнюю сдержанность, когда они расспрашивают ее о частной жизни. Увы, самые интимные тайны находят тонкие способы становиться достоянием хищных бдений людей, являющих собой полную противоположность тебе. «Мне кажется, — думала она, — сердца говорят с сердцами, а глубины окликают глубины. Только язык этот редко бывает внятен. Тут есть какое-то недоразумение. Они полагают, что их эротические восторги должны задеть мою фригидную душу, и в этом смысле они правы. Только дело тут не в зависти. На самом деле всему виной скука».
Ее «форд» с тарахтением пересекал равнину. Господи, думала она, как же скучно будет наблюдать за картинами семейной жизни! И как довольны, как счастливы будут они сами! Эти мысли утешали ее, они были жертвой богам.
— Сиб, тебе ничего не нужно?
— Да нет, спасибо. — Она отхлебнула джина с лаймом.
Дома он называл Дезире Дорогушей.
— Поцелуй меня, Дорогуша, — сказал он.
— Всегда к твоим услугам, Бадди, — сказала Барри жена, тесно прижимаясь к нему и подмигивая Сибилле.
— Знаешь что, Сибилла, — сказал Барри, приглаживая волосы, — тебе надо снова выйти замуж. Много теряешь.
— Точно, Сиб, — подхватила Дезире, — тебе нужно либо замуж выйти, либо в женский монастырь податься, либо одно, либо другое.
— Не понимаю, почему я должна подходить под какой-то шаблон, — возразила Сибилла.
— Да потому что так ты ни то ни се — верно, милый?
«Пожалуй, верно, — подумала Сибилла, — потому-то мне все время так скучно».
— Или заведи приятеля, — предложила Дезире. — Тоже хорошее дело.
— А так ты просто зря тратишь лучшие годы, — сказал Барри.
— Может, тебе что-нибудь нужно, Сиб?.. Мы хотим, чтобы тебе здесь было хорошо. Если захочешь привезти приятеля, всегда пожалуйста, мы люди свободомыслящие, верно, Бадди?
— Поцелуй меня, Дорогуша, — сказал он.
Дезире вынула из кармана носовой платок и стерла помаду с его губ. Он отдернул голову и сказал Сибилле:
— Давай свой бокал.
Дезире посмотрела на свое отражение в окне, занимающем всю стену, и сказала:
— Сиб слишком умна, вот в чем ее беда. — Она пригладила волосы и посмотрела на Сибиллу с застарелой, еще с детских лет идущей враждебностью.
После ужина Барри читал свои стихи. Он говорил, как правило: «Нынче вечером я не буду эгоистом. Никаких стихов». А Дезире, как правило, восклицала: «Ну пожалуйста, Барри, почитай». И в конце концов он неизменно начинал читать. «Потрясающе, — говорила Дезире, — замечательно». На третий вечер происходящее утрачивало в глазах Сибиллы оттенок веселого фарса, и ее охватывала скука, которая рвалась наружу с такой же силой, как газ из воздушного шара. Чтобы сдержаться, она время от времени глубоко вздыхала. Барри был слишком поглощен звучанием собственного голоса, но Дезире все замечала. Поначалу Сибилла позволяла себе тактичные замечания:
— Мне кажется, ты должен уделять своим стихам больше времени. — И, ловя удивленный взгляд, добавляла: — Если уж взялся писать, надо целиком отдаваться поэзии.
— Чушь, — возражала Дезире, — он часто пишет прекрасные сонеты по утрам, перед бритьем.
— Может, Сибилла права, — говорил Барри, — мне действительно следует отдавать стихам все свое время.
— Ты что, Сиб, устала? — спрашивала Дезире. — Что так вздыхаешь? Не захворала, часом?
Со временем Сибилла оставила попытки борьбы и просто, выслушав очередное стихотворение, устало роняла: «Очень хорошо» или: «Четкий ритм». И даже грех примирения с этими постоянными придыханиями Дезире: «потрясающе… замечательно» — был меньше греха той замкнутости, в которой пребывало ее сознание. Тогда она еще не отдавала себе отчета в том, что ценою примирения с ложными оценками становится постепенная утрата собственной способности формировать верные взгляды.
Не каждое утро, но по меньшей мере дважды в ходе каждого визита Сибиллу будили громкие скандалы. Няня, приносившая ей чай рано утром, округляла глаза и на цыпочках удалялась. Сибилла шла в ванную и сильно пускала воду, стараясь заглушить шум ссоры. Внизу голоса постепенно утихали, растекаясь по комнатам и коридорам. Иногда, в самые драматические моменты, в бурю врывался звон бьющегося стекла, и Сибилла понимала, что это Барри крушит туалетный столик Дезире; после таких случаев она дивилась, как это Дезире всегда удается заменять разбитые хрустальные вазы новыми, ведь достать в ту пору подобные вещи было трудно, да и зачем? Сибилла неизменно отмечала, что, став рядом на лужайке, две дочери Барри от первого брака откровенно глазеют в окна спальни, где разгорается битва. Ребенка Дезире няня в это время увозила в коляске куда-нибудь подальше. Сибилла также исчезала на все утро.
После первого инцидента в подобном роде Дезире сказала ей:
— Боюсь, ты выбиваешь Барри из колеи.
— Как это? — не поняла Сибилла.
Дезире вытерла слезы и хлюпнула носом.
— Да, конечно, это вполне естественно, Сиб, ты кокетничаешь с Барри. А он всего лишь мужчина. Понимаю, у тебя это бессознательно получается, но…
— Я не желаю слушать подобные разговоры. Все, я поехала, и минуты здесь больше не пробуду.
— Нет, нет, Сиб, куда же ты? Не обращай внимания. Ты нужна Барри. Ты — единственная во всей колонии, с кем он может поговорить о своих стихах.
— Пойми простую вещь, — сказала Сибилла тогда же, в первый раз став свидетелем семейного скандала, — меня совершенно не интересует твой муж. По мне, он просто никто, неудачник. Так я считаю.
Дезире всю перекосило.
— Барри, — вскричала она, — за восемь лет сделал состояние на страстоцветовом соке! И четыре тысячи экземпляров «Домашних мыслей» за свой счет отпечатал, и все они разошлись.
Это было что-то вроде игры на троих. По правилам ей следовало быть неосознанно влюбленной в Барри и мучиться супружеским счастьем Дезире. Но сейчас она чувствовала себя слишком старой для таких игр.
Барри зашел к ней в комнату, когда она паковала вещи.
— Не уезжай, — заговорил он. — Ты нам нужна. Ну что ты, в самом деле — ведь мы всего-навсего люди. Да и что такое скандалы? Скандалы случаются даже в самых благополучных семьях. К тому же спроси меня, ни за что не отвечу, из-за чего все началось.
— Чудесный дом. И какое великолепное поместье, — сказала хозяйка дома.
— Да, — согласилась Сибилла, — самое большое во всей колонии.
— А хозяева тоже самые большие люди?
— Ну как сказать… богатые, это уж точно.
— Да вижу, вижу. Какой красивый интерьер. А эти старые масляные лампы — какая прелесть. Насколько я понимаю, электричества у вас там не было?
— Почему же, во всем доме горел свет. Но что касается столовой, мои друзья следовали старой традиции масляных ламп. Понимаете, это точная копия старого голландского дома.
— Очаровательно, бесподобно.
Бобина кончилась. Зажегся свет, и присутствующие, каждый в своем кресле, сели поудобнее.
— А что это за крупные красные цветы? — поинтересовалась престарелая дама.
— Огненное дерево.
— Потрясающе, — заметила хозяйка. — И вы не скучаете по этим краскам, Сибилла?
— Да нет, честно говоря, нет. На мой взгляд, слишком уж ярко.
— А вам яркие цвета не нравятся? — живо подался вперед молодой человек.
Сибилла молча улыбнулась ему.
— Мне понравилось место, где ящерки играют в камнях. Отличные кадры, — сказал хозяин, вставляя в проектор последнюю бобину.
— А мне понравился этот симпатичный блондин, — словно возражая кому-то, заметила хозяйка. — Это он — любитель страстоцвета?
— Нет, он — управляющий, — сказала Сибилла.
— Ах да, вы же говорили. Тот, что был замешан в истории со стрельбой?
— Да, так уж несчастно все обернулось.
— Бедняга. Такой молодой. Опасное, выходит, место. Надо полагать, солнце и все такое прочее…
— Да, для некоторых опасное. По-разному бывает.
— А черные выглядят вполне довольными. Вам в ту пору трудно с ними приходилось?
— Нет, — откликнулась Сибилла, — только с белыми.
Все рассмеялись.
— Ну вот, — сказал хозяин. — Выключите свет, пожалуйста.
Вскоре Сибилле открылась истинная причина семейных неурядиц. Она не совпадала с их объяснениями: мол, они так влюблены, что постоянно ревнуют друг друга к противоположному полу.
— Барри, — заметила однажды Дезире, — так и взвился — верно, Барри? — когда я улыбнулась, просто улыбнулась, Картеру.
— Когда-нибудь я с этим Картером разберусь, — буркнул Барри. — Он постоянно вьется вокруг Дезире.
Дэвид Картер служил у них управляющим. Сибилла неосторожно обронила:
— Ну Дэвид-то уж ни за что…
— Ни за что? — сказала Дезире.
— Ни за что? — сказал Барри.
Может, они и сами не понимали истинной причины своих размолвок. Они происходили по утрам, когда Барри, следуя принятому решению, лежал в постели и сочинял стихи. Дезире же, озабоченная перспективами расширения страстоцветового дела, настаивала, чтобы он появлялся на фабрике не позднее восьми утра, как все остальные предприниматели в колонии. Но Барри все чаще заговаривал об отходе отдел ради занятий поэзией. Когда он в очередной раз оставался в постели, поигрывая с пером и обдумывая очередную строку сонета, Дезире надувалась и хлопала дверями. Все домашние понимали, что вот-вот разгорится скандал.
— Тише! Неужели ты не видишь, что я пытаюсь сосредоточиться? — кричал он, а Дезире отвечала:
— По-моему, если ты собрался писать, лучше подняться в библиотеку.
Ее жадность и его тщеславие были слишком острыми ингредиентами для одного блюда. Потому и начали возникать имена Дэвида Картера и Сибиллы — для утешения, поднятия духа и укрепления мифа о страстной любви.
— Строила глазки Картеру в саду. Думаешь, я не заметил?
— Картеру? Не смеши меня. Мне ничего не стоит удержать Картера на расстоянии. Но раз уж зашла об этом речь, как насчет тебя и Сибиллы? Вчера вечером я ушла спать, а вы еще долго оставались вдвоем.
Иногда он не просто крушил хрустальные вазы, но и вышвыривал осколки в окно.
В полдень обессиленный Барри пускался в объяснения:
— Дезире места себе не находит — верно, Дезире? — и все из-за тебя, Сибилла. Понять можно. Не следует нам с тобой засиживаться после того, как она уходит спать. Ты у нас в своем роде настоящий дьяволенок, Сибилла.
— Ну ладно, — покорно говорила Сибилла, — будь по-твоему.
Но в какой-то момент она устала от этой игры. Когда звучный голос Барри поднимался до высот, приличествующих священному предмету, она уже не могла чувствовать себя объективным наблюдателем. Она устала от игры, ибо превратилась в нечто большее, нежели ее номинальный участник. Уэстоны не просто навевали на нее скуку, она начала ненавидеть их.
— Чего я не могу понять, — говорил Барри, — так это почему моих стихов не замечают дома, в Англии. Здесь моя книга разошлась четырехтысячным тиражом. Во всех местных газетах появились пространные рецензии; не забыть показать их тебе, напомни. Но в Лондоне — ни звука. Из журналов, в которые я посылаю свои стихи, даже не отвечают.
— Все сейчас войной заняты, — говорила Сибилла.
— Да, но стихи продолжают печатать. Так называемые стихи. А по-настоящему — просто мусор. Все мусор. Ничего не поймешь.
— Твои стихи слишком хороши для этой публики, — говорила Сибилла.
Тонкое ухо уловило бы в ее тоне визг иглы, вонзающейся в воск.
— Между нами говоря, это чистая правда, — отвечал Барри. — Сам бы я этого не сказал, но суть именно в том.
Барри был грузен, приземист и смугл. На лице морщины, то ли от забот, то ли от проблем с желудком. Костлявый, светлокожий Дэвид Картер являл собою полную ему противоположность. Это особенно бросалось в глаза, когда он проходил по дому.
— Англии конец, — говорил Барри. — Она в полном упадке.
— Удивляюсь, — говорила Сибилла, — как тебе при этом удается писать такие веселенькие стишки об английских городках и деревнях.
«Эй, Сибилла, — одергивала она себя, — бизнес есть бизнес, а ностальгические сцены из жизни Англии — как раз то, чего ждут колонисты. Все, это моя последняя поездка. Больше я сюда не вернусь».
— Такой я запомнил Англию, — говорил Барри. — Добрая старая страна. Но теперь, боюсь, она пришла в упадок. После войны от нее останется только…
По утрам Дезире собирала в гостиной прислугу, чтобы раздать задания на день.
— Я считаю, что в доме должен быть порядок, — говорила Дезире, родители которой работали в гостинице. Сибилле оставалось только гадать, отчего Дезире решила, что все домашние дела она должна вести лично, начиная с самого утра. Быть может, в ее генетической памяти застряло воспоминание о молитвах, на которые собирались все домашние, либо гостиничные порядки навели ее на мысль о необходимости «собирать слуг» и гонять их в хвост и в гриву. Курчавые, босоногие, эти наполовину одомашненные крестьяне и вчерашние мелкие фермеры стояли в неловких позах на ковре гостиной Дезире. Говоря на креольском, которого слуги почти не понимали, она разъясняла каждому, что надо сделать за день. Только Сибилла и Дэвид Картер знали, что на язык аборигенов имя Дезире переводится как «Скверная Курица». Дезире постоянно жаловалась на их непонятливость, и все же эти ежеутренние летучки она любила не меньше, чем Барри — свои стихи.
— Картер тоже пишет стихи, — однажды со смехом объявил Барри.
— Стихи! — взвизгнула Дезире. — Как ты можешь называть эту муру стихами, Барри?
— Да, нечто страшное, — согласился Барри, — но бедняга об этом даже не подозревает.
— Я бы взглянула на эти стихи, — заметила Сибилла.
— Ты, часом, не заинтересовалась Картером, Сиб? — спросила Дезире.
— В каком плане?
— В личном.
— А что, нормальный парень, по-моему.
— Ну же, Сибилла, давай по-честному, — сказал Барри.
Сибилла по-настоящему обозлилась. Он постоянно призывает других к откровенности, словно имеет на это право; а сам с собой то и дело лукавит.
— Честно, ты положила глаз на Дэвида?
— Он симпатичный, — сказала Сибилла.
— Тут тебе рассчитывать не на что, — сказал Барри. — Он без ума от Дезире. К тому же зачем тебе новичок?
— Да, тебе нужен зрелый мужчина, с положением, — подхватила Дезире. — Жизнь, которую ты ведешь, совершенно неестественна для девушки. Я замечаю, вы с Картером похаживаете на ферму.
Под конец пребывания Сибиллы у Уэстонов Дэвид Картер показал ей свои стихи. Она нашла их занятными, но неотделанными, о чем и сказала ему, и была разочарована тем, что он не воспринял ее слова как здравую критику, а, напротив, сильно разозлился. «Конечно, — добавила она, — пишете вы гораздо лучше, чем Барри». Дэвида это не успокоило. Некоторое время спустя, когда они начали встречаться в городе, где она жила, Сибилла принялась расхваливать его стихи, убеждая себя, что он наделен изрядным талантом.
Она встречалась с ним в любое время, когда ему удавалось выбраться. Придумывала всяческие предлоги, чтобы отклонить настойчивые приглашения Дезире. И Сибилла, и Дэвид, хоть и по разным причинам, держали свои отношения в тайне от Уэстонов. Сибилле не хотелось сплетен и слухов, а Дэвид, он дорожил работой на процветающем предприятии. Как-то он поделился с Сибиллой своими надеждами полностью взять дело под свой контроль. Может, даже выкупить долю Барри. «Я куда лучше Барри разбираюсь в этом деле. Он-то чем дальше, тем больше зацикливается на своих стихах и работе почти не уделяет внимания. Так что пока я выжидаю».
«Да, — подумала Сибилла, выслушав это признание, — настоящий поэт, ничего не скажешь».
Дэвид сообщал, что скандалы между Дезире и Барри становятся все более шумными, что Дезире преследует мысль, будто Барри может окончательно отойти отдел ради стихов. «Что же ты не приезжаешь, — писала она, — почему не поговоришь с Барри о его стихах? Почему бы тебе не приехать прямо сейчас? Что мы тебе сделали? Бедняжка Сиб, совсем одна в целом мире, тебе надо бы замуж. Дэвид Картер буквально прохода мне не дает, прямо не знаю, что делать. Барри, сама понимаешь, в ярости. Что ж, наверное, такова плата за преданного мужа».
«Может, она догадывается, что мы с Дэвидом любовники», — подумала Сибилла.
Как-то она простудилась. Неожиданно явился Дэвид и сделал ей предложение. Он схватил ее своими большими сильными руками. Она единственная, говорил он, кто понимает его устремления, его искусство, его самого. Через год-другой они вместе станут владельцами плантации страстоцветов.
— Ш-ш, Адриана услышит. — На самом деле Адрианы не было дома. Дэвид смотрел на нее полубезумным взглядом.
— Мы должны пожениться, — сказал он.
Роман Сибиллы с Дэвидом Картером, с ее точки зрения, кончился, не успев толком и начаться. Она и затеяла его вроде как по необходимости, против воли, и на какое-то время он избавил ее от упреков в равнодушии к сексу.
— Я жду ответа, — сказал Дэвид. Судя по тону, он подозревал, каков будет этот ответ.
— Знаешь, Дэвид, я как раз собиралась написать тебе. Надо бы нам положить конец этой истории. Что же касается брака, то я и вовсе для него не создана.
Он наклонился над кроватью и приник к Сибилле.
— Ты можешь заразиться, — предупредила она. — Хорошо, подумаю, — добавила она, лишь бы избавиться от него.
Едва он ушел, Сибилла принялась за письмо к нему, отхлебывая по глотку лимонный сок, чтобы смягчить боль в горле. Она заметила, что Дэвид принес и оставил на веранде шесть бутылок сока из страстоцвета. Скоро он обо всем забудет, подумала она, ведь он так поглощен своим страстоцветовым делом.
Но, получив письмо, Дэвид помчался в город и ворвался к ней в дом. Сибилла испугалась. Прежде никто из ее любовников не проявлял такой настойчивости.
— Ты обязана выйти за меня.
— Да ну? И что же дальше?
— Это твой долг передо мной, как перед мужчиной и поэтом.
Ей не понравилось выражение его глаз.
— Как поэт, — сказала она, — ты, с моей точки зрения, ничто. — Услышав собственный голос, произносящий эти слова, она испытала облегчение.
Он застыл, как актер в дурной мелодраме; в своем тропическом костюме, с золотистыми волосами он выглядел типичным колонистом.
«Дэвид Картер, — писала Дезире, — запил. По-моему, он слегка чокнулся. Наверняка из-за того, что я не подпускаю его к себе. Ну не бред ли? Поместью конец, если Барри не избавится от него. Барри отправил его в отпуск на месяц, но если по возвращении он не исправится, придется брать кого-то другого. Когда же ты приедешь? Барри нужно с тобой поговорить».
На следующей неделе, влекомая старыми комплексами, Сибилла отправилась в дорогу. Она ехала вроде бы против желания, повинуясь стремлению искупить грехи своего вывихнутого естества в общении с Уэстонами, этими любителями любовных игр, хотя и знала, что, так или иначе, они скоро ей наскучат.
Не прошло и часа после ее приезда, как они принялись за свое.
— Ну что, так никого и не нашла? — спросил Барри.
— Тебе надо завести роман, — подхватила Дезире. — Мы все время об этом говорим — правда, Барри? Так будет лучше. А твой нынешний образ жизни, он ведь такой нездоровый. Оттого-то ты так часто и простужаешься. Тут все дело в психологии.
— Пошли на лужайку, — предложил Барри, едва завидев Сибиллу. — У нас там камера. Пошли, поснимаемся.
— Картер вернулся нынче утром, — заметила Дезире.
— Да ну, выходит, он здесь? А мне казалось, он на месяц уехал.
— Мы тоже так думали. А он возьми и появись сегодня утром.
— Это все из-за Дезире, — сказал Барри. — Он, как собачка, за ней бегает, а она только отмахивается.
— Это все психология, — сказала Дезире.
— Чудный навес, вон тот, полосатый, — сказала хозяйка. — Он придает завершенность всей картине. Какие вы тут все беззаботные — верно, Тед?
— Да нет, один малый выглядит совершенно подавленным, — возразил Тед. Перед камерой как раз мелькнул уныло бредущий Дэвид Картер.
Все засмеялись, потому что вид у Дэвида был скорее зловещий.
— Ну его просто в неудачный момент камера поймала, — сказала хозяйка. — А вот и Сибилла. Что-то вроде вы немного погрустнели, или мне показалось? Смотрите, опять эта девушка, та, другая, и с ней славный песик.
— Это был типичный полдень в колонии? — поинтересовался молодой человек.
— И да, и нет, — сказала Сибилла.
Стоило установить снаружи камеру, как жизнь у Уэстонов сразу менялась. Все, включая детей, должны были светиться радостью. Слугам из местных предписывалось одеваться в их лучшие белые одежды и создавать фон. Время от времени Барри собирал всех, опять-таки с детьми, в круг для танцев, а аборигены отбивали такт.
А в последний раз Барри поставил мизансцену безмятежной жизни. Поваренок, знавший толк в фотографии, стал на свое место.
— Приготовиться, — кивнул ему Барри, — начали.
Из дома вышла Дезире, за ней бежала собака.
— Веселее, Баркер, веселее, — скомандовал Барри. Овчарка весело ощерилась.
Одной рукой Барри обвил талию Дезире, другой взял за локоть Сибиллу и медленно повел обеих перед камерой. По-театральному вскинув голову, он добродушно болтал о чем-то. Время от времени Барри громко смеялся, откидывая голову назад. Правда, на звуковой дорожке сохранились такие слова: «Улыбайся, Сибилла. Иди медленно. Ты должна выглядеть совершенно довольной. Потом, через много лет, тебе самой покажется, что это были самые счастливые моменты твоей жизни».
Сибилла усмехнулась.
Как раз в этот момент в кадре мелькнул Дэвид: он привязывал к стволу дерева маленькую лодку.
— Наверное, через озеро переплыл, — сказал Барри. — Неужели снова пьет?
Но походка у Дэвида была совершенно ровной. Он пересекал широкую лужайку, не подозревая, что идет съемка. На мгновение он остановился и пристально посмотрел на Сибиллу.
— А, это ты, Дэвид, привет, — кивнула она.
Он повернулся и бесцельно двинулся в сторону камеры.
— Снимай, — велел Барри поваренку.
Малый повиновался, и как раз в этот момент Дэвид заметил камеру.
— Отлично, — крикнул Барри, когда Дэвид скрылся в доме. — Продолжай.
Тогда-то он и спросил Сибиллу: «Ну что, так никого и не нашла?», Дезире подхватила: «Тебе надо завести роман…»
— Мы расстроили Сибиллу, — сказала Дезире.
— Да нет, у меня отличное настроение.
— В таком случае улыбайся на камеру, — сказал Барри.
Солнце быстро садилось за горизонт, камеру зачехлили, и все пошли переодеться. Сибилла спустилась и села на веранде перед окном, занимавшим всю стену столовой. Дезире в это время была внутри, она поправляла масляные лампы, которые кто-то из слуг поставил слишком высоко. Дезире повернулась к окну и окликнула Сибиллу:
— Олух этот Бенджамен, придется поговорить с ним завтра утром. Он просто не знает, как обращаться с этими лампами. В один прекрасный день мы все здесь задохнемся от чада.
— Так все, наверное, давно к электричеству привыкли, — сказала Сибилла.
— В том-то и беда. — Дезире отвернулась.
В присутствии Дэвида Сибилла ощущала какую-то неловкость. Интересно, думала она, а за ужином он появится? Вспоминая его мрачный взгляд, она забеспокоилась, как бы он не устроил сцену. Из столовой донесся сдавленный крик.
Она обернулась, но все кончилось в считанные секунды. Раздался оглушительный треск, и, согнувшись пополам, Дезире рухнула на пол. Шаг к двери, ведущей в коридор, и Дэвид приставил пистолет к виску. Сибилла закричала и, едва отдавая себе в том отчет, бросилась наверх по лестнице. Еще один выстрел, и Дэвид завалился набок.
Она вошла в столовую вместе с Барри и слугами. Дезире была мертва. Дэвид протянул еще несколько секунд, которых хватило на то, чтобы посмотреть закатывающимися глазами на Сибиллу в тот момент, когда она разгибалась над телом Дезире. Он видит, отчетливо подумалось Сибилле, что застрелил не ту, кого хотел.
— Чего я не могу понять, — сказал Барри, навестив Сибиллу несколько недель спустя, — так это зачем он сделал это.
— Он был безумен, — сказала Сибилла.
— Не так уж и безумен, — возразил Барри. — Все, разумеется, думают, что у них был роман. Вот чего я не могу вынести.
— Это-то понятно. Ну да, конечно, он был сильно увлечен Дезире. Ты сам всегда говорил это. А эти ваши скандалы… Ты всячески показывал, что ревнуешь ее к Дэвиду.
— А знаешь, на самом деле ничего подобного. Это было… это было нечто вроде…
— Спектакля, — подсказала Сибилла.
— Ну да, похоже. Видишь ли, между ними ничего не было. И честно говоря, Картер был совершенно равнодушен к Дезире. Тогда вопрос: зачем он все-таки сделал это? Не могу примириться с тем, что люди думают, будто…
Удар по самолюбию, поняла Сибилла, сильнее горя. Солнце садилось, и она встала зажечь свет на веранде.
— Стой! — сказал он. — Повернись. О Господи, на какой-то миг мне показалось, что ты и впрямь — копия Дезире.
— Это все нервы. — Сибилла включила свет.
— Да нет, ты действительно немного смахиваешь на Дезире. При определенном освещении, — задумчиво добавил он.
Надо что-то сказать, подумала Сибилла, что-то такое, что заставит его выбросить эту мысль из головы. Надо стереть этот эпизод из его памяти, сделать так, чтобы ему было неприятно о нем вспоминать.
— В любом случае, — сказала она, — при тебе остаются твои стихи.
— Да, это великое дело, — согласился он. — И оно у меня есть. Это для меня все, огромное утешение. Я продаю поместье и записываюсь на военную службу. Девочки поступают в монастырь, а я отправляюсь на север. У нас нет военной поэзии.
— Солдатом ты будешь лучшим, чем поэтом, — сказала она.
— Что-что?
Она повторила сказанное, раздельно, медленно, с чувством облегчения, едва ли не освобождения. За время лжи наросла короста, и скоро она отпадет. «Мне только одно вернет здоровье, — подумала она, — честность».
— Ты ведь всегда говорила, что у меня прекрасные стихи, — заметил он.
— Говорила, но это тоже было что-то вроде спектакля. Конечно, это всего лишь мое личное мнение, но как поэт — ты ничто.
— Ты просто не в себе, дорогая моя, — сказал он.
За месяц до того, как он был убит в бою, Барри прислал ей четыре бобины. «Когда-нибудь, — писал он, — ты с удовольствием вспомнишь те славные дни, что мы провели вместе».
— Замечательно, — сказала хозяйка. — Вы нисколько не изменились. А чувствуете вы себя иначе?
— Ну да, конечно, теперь я, в общем, по-другому на все смотрю. С годами учишься мириться с собой.
— Полчаса из собственного прошлого! — воскликнул молодой человек. — Если бы это была моя жизнь, уверен, я бы не выдержал. Кричал бы: «Света! Света!» — как дядя Гамлета.
Сибилла улыбнулась ему. Он посмотрел в сторону с видом неожиданно торжественным и трезвым.
— Какая трагедия, эти люди погибли под пулями, — сказала престарелая дама.
— Последняя бобина — лучшая, — сказала хозяйка. — Сад просто волшебный, я бы не прочь еще раз посмотреть, а ты, Тед?
— Да, мне тоже понравились эти этюды на природе. Чего мне, чувствую, не хватает, так это природы, — откликнулся ее муж.
— Нет, вы только послушайте его — этюды на природе!
— Ну ладно, пусть будут тропические растения крупным планом.
Всем захотелось еще раз посмотреть последнюю бобину.
— А вы как, Сибилла?
«Кто я, женщина, — спокойно думала она, — или интеллектуальный монстр?» Она так привыкла задавать себе этот вопрос, что на него даже не требовалось ответа.
— Да, и я бы тоже с удовольствием посмотрела. Занятно.
ЗАНАВЕСКА, КОЛЕБЛЕМАЯ ВЕТРОМ
© Перевод. Н. Анастасьев, 2011.
Когда на открытом окне при легком дуновении ветра вздрагивает занавеска, я всегда вспоминаю тонкие белые занавески из превосходной кисеи в спальне миссис Ван дер Мерве. Те занавески, что висели там изначально и были натянуты так небрежно, что как-то вечером, три года назад, двенадцатилетний негритенок смог подсмотреть в просвет, как миссис Ван дер Мерве кормит грудью младенца, и, будучи пойман на месте преступления, был застрелен ее мужем Дженни, те занавески я не застала. Потом их заменили новыми, более тонкой выделки; к этому времени мужу Ван дер Мерве еще оставалось сидеть пять лет, а сама она сильно переменилась.
Она перестала сутулиться и уже ничем не напоминала себя прежнюю — долговязую, вечно чем-то недовольную жену мелкого собственника; очистила двор от старых канистр из-под бензина, и это было только начало; она превратилась в большой маяк, рассеивающий лучи доброго света, которые иным казались не знаком, предупреждающим о том, что на пути рифы, но приглашением в дом. Она накупила посуду из лучшего фарфора, перестала запихивать в чулок фунтовые купюры, изменила имя с Сонджи на Соню и вообще всячески наслаждалась жизнью.
Это была территория, где нельзя искупаться без риска подхватить какой-нибудь микроб, который отравит твой организм на всю оставшуюся жизнь; где до шести вечера нельзя выйти на улицу, не получив солнечного удара; еще в этих отдаленных местах, где белых совсем немного, да и те в основном бедняки, молодой незамужней даме лучше не держать дома кошку, потому что однажды эту кошку поймают и аккуратно обреют местные холостяки из белых — просто для того, чтобы позабавиться; высокие травы здесь опасны своими змеями, а полы в домах — скорпионами. Белые цепляются за любое слово; Природа с фанатической серьезностью ловит едва слышные шаги. Медсестры-англичанки, попадая сюда, с удивлением узнают, что, стоит оказаться за ужином рядом с мужчиной и затеять с ним светский разговор — например, попросить рассказать о себе, — как он воспримет это за откровенное заигрывание и уже на следующий день после завтрака заявится, чтобы заняться любовью; это было место, где ветерок поднимается только в сезон дождей, а занавески на окне не пошевелятся, если вскоре не поднимется буря.
Медсестрам-англичанкам часто советовали перевестись в другое место.
— На севере гораздо лучше. Города, жизнь. Цивилизация, магазины. Гораздо прохладнее — недаром на севере большие люди живут. Бега.
— Вам понравится на востоке — там апельсиновые рощи. Много зелени, огромные долины. Охота.
— Ну зачем посылать медсестер в это гнилое место? Вам бы лучше найти здоровое место.
Кое-кто из медсестер уезжал из Форт-Бейта. Но тем из нас, кто имел дело с тропическими болезнями, приходилось оставаться, потому что наша клиника, крупнейшая во всей колонии, была одновременно научным центром по исследованию тропических болезней. Те из нас, кто был вынужден остаться, бывало, говорили друг другу: «Разве здесь не славно? Куча слуг. Дешевая выпивка. Птицы, звери, цветы».
Кое-какие дивные дива в этом краю действительно имелись. Я так и не свыклась с местными красками — яркими, как в фильмах о путешествиях, но, конечно, не в засушливый сезон, когда пыль делает все окружающее на редкость реальным. Пыль толстым слоем лежит на большом дворе позади клиники, где аборигены стоят у забора или сидят на корточках, перекрикиваются или смеются — а впрочем, разницы нет, — готовят и едят, в ожидании процедур, или результатов рентгеновских анализов, или рентгеновского анализа какого-нибудь дальнего родственника. От них исходит едкий запах, и они поднимают клубы пыли. Воспаленные чеки малышей всегда усижены мухами, но, несмотря на это, привязанные к спинам матерей, они спят, а когда просыпаются и начинают плакать, женщины кормят их грудью.
Для белых бедняков Форт-Бейта и его окрестностей в клинике имеется отдельная приемная, где они едят принесенную с собой пищу или сидят в долгом молчании, прерывающемся порой перебранкой где-нибудь в углу. Оставшаяся часть форт-бейтского общества клинику не посещает.
В эту оставшуюся часть входят аптекарь, священник, ветеринар-хирург, полицейский и их семьи. В своем узком кругу они ведут скромную жизнь провинциалов и с белыми бедняками — мелкими фермерами — общаются только по делу. Им не терпится занять чем-нибудь персонал клиники, который в основном проводит свободное время где-то еще — далеко отсюда, отправляясь машинами на выходные в столицу, на север, или на одну из больших плотин, где можно сойти за моряка. Но случается, для разнообразия медсестры и сотрудники клиники проводят вечер в деревне, в гостях у аптекаря, священника, ветеринара или в полицейском участке.
Именно в этом обществе и оказалась Соня Ван дер Мерве, когда ее муж уже три года как сидел в тюрьме. История, связанная с его приговором, вызвала определенные толки, ибо все считали, что он зашел в своем гневе слишком далеко, такие вещи подрывают престиж колонии в глазах Уайтхолла. Но самой Соне никто лыка в строку не ставил, и главная трудность, с которой ей пришлось столкнуться в своих попытках сблизиться с ветеринаром, аптекарем и священником, заключалась в том, что раньше ей в этой компании бывать не приходилось.
Ферма семейства Ван дер Мерве находилась в нескольких милях от Форт-Бейта. Это была одна из очень немногих ферм в этом районе, основанном благодаря шахтам, в последнее время не работающим. Семья жила трудовой жизнью африканеров, переселенцев — перекати-поле, приехавших сюда из метрополии. Не думаю, что Соне когда-либо приходило в голову, что ежедневный распорядок ее дня, состоявший из подъема, умывания в лохани подле дома, выпечки хлеба, готовки скудной пищи для детей, покрикивания на аборигенов и возвращения вечером на перину, где ждал Дженни, может измениться. Единственным ее развлечением была пасхальная неделя, когда на богослужения в голландской реформистской церкви со всей округи съезжались африканеры в своих крытых фургонах.
До тех пор пока не появился один адвокат, чтобы уладить какое-то дело между фермой и Земельным банком, она и понятия не имела, что может распоряжаться наследством, оставленным ей отцом, ибо всегда считала, что реальную стоимость имеют только те фунтовые банкноты, что она держала в чулке; ее отец никогда не тратил деньги на то, что можно потрогать руками, всегда только вкладывал, и Соня думала, что деньги, которые он относит в банк, — нечто вроде дани людям из банка, каковую патриархальные фермеры вроде ее отца должны уплачивать согласно строгим этическим установлениям голландской реформистской церкви. Теперь она поняла, что владеет некоторым состоянием, и разгневалась на мужа за то, что он раньше не объяснил ей этого. Она написала ему письмо, и составить его было непросто. Я видела его окончательный вариант, по поводу которого она собрала специальное совещание медсестер клиники. Мы безжалостно оставили все как есть, да вряд ли особенно и вчитывались в текст. Помню, в тот вечер мы сильно засиделись, рассуждая об открывающихся перед ней возможностях — собственный теннисный корт, две ванные комнаты, спальня в черно-белых тонах, — представлявшихся тогда лишь слабым мерцанием в конце тоннеля. В любом случае нам вряд ли удалось бы отговорить ее от этой затеи. Позже это письмо удостоилось нескольких строчек в местной газете в качестве дополнительной улики в деле Дженни. Вот оно:
«Дорогой Дженни готовятся некоторые перемены я узнала что от папы остались деньги которые можно тратить достаточно просто падписать бумагу неужели ты думаешь что мне нравится такая жизнь работа работа работа Господи спины не разгибаешь в поле как будто ты белая шваль какая когда я последний раз покупала себе новое платье и не стыдно тебе а теперь ты засел в турму из-за своего дурного характера стыдно тебе должно быть ноги сделал. Приходил мистер Литл падписать бумаги он сказал в турме тебя кормят хорошо дети здоровы только Ханну кто-то укусил я увожу их отсюда в женский монастырь даю деньги платить буду. Твоя любящая жена С. Ван дер Мерве».
Тем летом в Ворчестершире я поправлялась после болезни и частенько ложилась днем отдохнуть. Занятия в школе закончились. Врачебная практика по радиотерапии должна была начаться только осенью.
Не скажу уж, как часто я лежала у себя в спальне, слушая громкие возгласы, доносившиеся с корта чуть правее моего окна, где двое моих братьев играли в теннис. Иногда старший брат Ричард запускал мяч в открытое окно, давая понять, что пора вставать. В таких случаях занавески начинали колыхаться и внезапно раздвигались, после чего мяч со стуком опускался в комнате и откатывался в сторону. Мне всегда казалось, что однажды он разобьет стекло, или мяч угодит мне в лицо, или разобьет что-нибудь в комнате, но все заканчивалось благополучно. Но возможно, я преувеличиваю, и на самом деле подобное случалось только раз или два.
Но в том, что занавески колыхались на легком ветерке, когда в те беспечальные дни я лежала на кровати, и до меня доносились удары теннисного мяча и другие звуки, я уверена, и, по-моему, это были славные минуты. То, что легкое колебание занавесок свидетельствует о дуновении воздуха, кажется чем-то очень близким к истине, ибо в моем представлении истина обладает воздушными свойствами, с лирическим и жизнерадостным оттенком; а когда из-за какой-нибудь ерунды возникают крупные неприятности, мне это доказывает лишь то, что в мире завелась какая-то фальшь.
Не могу в точности припомнить, чтобы занавесок у меня в комнате касался летний ветерок, хотя уверена: так оно и было; всякий раз, как я стараюсь восстановить в памяти подробности этих ощущений, они исчезают, и сам этот образ является мне лишь как человеку, отведавшему от Древа Познания, — память о нем растворилась в окне дома миссис Ван дер Мерве и в потревоженных занавесках, когда в сезон дождей слегка дует ветер, означающий почему-то начало бури.
Бывало, в те покойные дни я начинала испытывать какую-то тревогу. Возникали сомнения в том, что меня примут на курсы радиотерапевтов из-за перерывов в школьном обучении. Однажды с вечерней почтой пришло письмо, подтверждающее, что я принята. Я прочитала письмо с облегчением и радостью и тут же решила отказаться. С меня было довольно того, что меня приняли. Такие перепады мне свойственны, и причина, по которой меня тянет к середине и покою, заключена в том, что мне не хватает ни того ни другого. В общем, я решила стать палатной сестрой и, вслед за своим братом Ричардом, в ту пору студентом-мед и ком, отправиться в Африку изучать тропические болезни.
С Соней Ван дер Мерве я столкнулась примерно через год после прибытия в Форт-Бейт и вместе с другими медсестрами прочитала письмо, которое она собиралась отправить мужу, пребывавшему в четырехстах милях от Форт-Бейта в тюрьме колонии. Произошло это на следующий день, в торжественной обстановке, — по такому случаю она специально надела перчатки, в которых ходила в церковь. Ответа она не ожидала, да он и не пришел. Через три недели она начала называть себя Соней.
В какой-то момент мы начали предпочитать вечера на ферме у Сони вечерам у ветеринара, аптекаря и священника. И всякий раз, как мы там появлялись, обнаруживалось что-то новое. Соня знала, с чего начать. Она еще не научилась путешествовать поездом и боялась уезжать в одиночку далеко от знакомых мест, но через кого-нибудь из медсестер выписывала из метрополии мебель, каталоги, книги, посвященные убранству дома, модные журналы. По ее заказу и при нашем активном участии к ее дому начали подъезжать фургоны с мебелью, покрытые пылью дальних дорог. Но начала она с того, что из церкви своих предков — голландской реформистской — перешла в церковь англиканскую; следует признать, что этот шаг она сделала самостоятельно.
Мы занимались ее воспитанием твердо и неуклонно. Мы учили ее не экономить на напитках, и в результате она заказала весьма экзотический набор вин. Мы научили ее подавать вино. Прежде она наполняла бокалы на кухне, разбавляя их при этом водой, и лишь потом слуга предлагал их гостям. Мы положили этому конец. Подрядчик перестроил старый дом и занялся оформлением и меблировкой комнат. Именно я настояла, чтобы в доме была не одна, а две ванные комнаты. Какое-то время потребовалось, чтобы она привыкла к домашнему туалету, и нам приходилось напоминать, чтобы она спускала воду. Кто-то из нас привез из столицы руководство по этикету двадцативосьмилетней давности, и она прочитала его весьма прилежно, водя пальцем по строчкам. По-моему, я же, будучи в некотором подпитии, посоветовала ей сделать черно-белую спальню, и потом забавно было наблюдать, как эта идея воплощается в жизнь; оформили спальню в течение месяца — Соне удалось достать черные обои и обклеить ими комнату, хотя вообще-то обои — вещь в колонии неслыханная, и все ее предупреждали, что они ни за что не пристанут к стенам. На полу в спальне был постелен белый ковер, поставлен шезлонг, покрытый черно-белым, в полоску, шелком. Не прошло и года, как она увешала дом репродукциями Бердслея, но к тому времени Соня уже принимала гостей, прибегая к советам ветеринара, который молодость провел в Лондоне.
Однажды — лежа в шезлонге и выглядя в черном шифоновом халате и с новой укладкой длинных волос весьма эффектно — она поведала нам, уже известную, впрочем, историю про негритенка:
— Он заглядывал в окно, вот в это самое. А я сидела вот тут на кровати кормила ребенка посмотрела в окно и Богом клянусь там какое-то черное пятно было — мальчишка-негр прижался лицом к стеклу. Слышали бы вы как я завопила. Ну Дженни схватил ружье прицелился и я услышала грохот. Такой ужу него нрав буйный слишком далеко зашел, но с другой стороны что удивительного? Зато теперь мне нечего бояться этих ребят. Вот это то самое окно которое я по неосторожности не задернула. В общем мы показали им что к чему а теперь у нас новые слуги. На ферме уж никто больше не появлялся, все убежали.
Через окно легкими порывами набегал теплый ветерок. «Пора собираться, — заметила одна из девушек. — Буря начинается».
Бури в колонии таковы, что, перед тем как разразиться, вся округа дрожит, как обнаженный нерв, а когда отгремит, весь мир, от горизонта до горизонта, сонно возвращается на круги своя. Началу предшествует легкий ветер, затем вспыхивает жемчужный свет, дальше — земляной дух. Поднимается и тут же внезапно умолкает птичий гомон, куда-то исчезают все насекомые. Потом из щелей в стенах в полусонном состоянии выползают летучие муравьи, расправляют крылья и разлетаются в панике кто куда, самые яркие цвета разразившейся бури, словно покоряясь, бледнеют, и все предметы вокруг из-за бунта природы становятся липкими. Однажды буря застала меня в доме у Сони. Было это уже после того, как она утвердилась в своем новом социальном положении, дом был перестроен, вся мебель на месте. Вскоре после того как буря затихла, наступил вечер, мы сидели в ее гостиной, обставленной на европейский манер, — от веранды в южноафриканском стиле она отказалась, — и попивали розовый джин. Напитки разносил слуга из аборигенов, его огромные обезьяньи лапы, вцепившиеся в поднос, выступали из манжет светло-зеленой униформы, которая только что так ярко блестела при вспышках молнии. Соня любила повторять: «Мне кажется, из этого дома я сделала для себя уголок цивилизации». Нечто в этом роде ей сказал в качестве комплимента священник в один из своих визитов; она приняла эти слова за чистую монету и доводила до сведения всех гостей. «Нет, подруга, мне, право, следует соответствовать». Меня всегда поражало, как быстро она подхватывала новые словечки и наиболее часто употребляемые выражения.
Снаружи возвращались звуки ночи. Стоило Соне умолкнуть, как стал слышен рев зверей, перекликавшихся друг с другом, а еще дальше — стук барабанов, извещавших о затоплении или разрушении краалей, а может, ни о чем не извещавший, ибо мы без того понимали, что к чему. Прямо под окном кто-то прошлепал по мокрой гравийной дорожке, проложенной по распоряжению Сони. Она поднялась, поправила легкие занавески, потом задернула тяжелые шторы. Сейчас ей было лучше. Во время бури она, ссутулившись, стояла на корточках на ковре, словно какой-нибудь абориген у себя в хижине, а волны звука и света перекатывались через нее. В колонии бытовало мнение, что в ее жилах течет черная кровь. Но теперь, когда появились столь убедительные свидетельства ее немалого состояния и незаурядной натуры, это обстоятельство перестало смущать ветеринара, аптекаря и священника. К ней захаживали врачи из клиники, их привлекали великолепно-экзотические манеры хозяйки, душными вечерами в сезон дождей они предпочитали ее общество обществу жены ветеринара с ее потемневшей на тропическом солнце кожей, жены аптекаря с ее водянисто-светлыми волосами и жены священника с ее любовью к музыке. Мой брат Ричард был очарован Соней.
Мы, медсестры, поражались этому мужскому ослеплению. Ведь Соня была нашим творением, нашей забавой, нашей игрой. Ведь это мы воспламенили своим воображением ее податливое сознание, и именно мы придумали фасон длинных «дневных» платьев с вуалью; мы убедили ее проложить тропинку к реке и соорудить ялик для прогулок по маленькой речке, а в придачу к нему — зонт от солнца. Что-то в самом воздухе было такое, что волновало мужчин, даже только что прибывших из Англии и готовых к любым приключениям. Один из научных работников клиники уже успел жениться на нахальной официантке из Йоханнесбурга, другой на невротичке — портнихе из Кейптауна, у которой был, казалось, с десяток локтей, настолько живо она размахивала своими костистыми руками. На нас тоже воздействовала атмосфера места, но, увлеченные своими странными воспитательными опытами и обучением Сони, как убивать мужчин наповал, мы об этом особенно не задумывались. Видя, как серьезно мужчины относятся к Соне, переглядывались, улыбались и отводили взгляд в сторону.
В год, предшествовавший освобождению Дженни Ван дер Мерве из тюрьмы, я вместе с братом Ричардом часто захаживала к Соне. К тому времени ее дом превратился в место встреч всей округи. Теперь это уже был настоящий салон, где каждый вечер собирался народ. Примерно тогда же я обручилась с одним работником нашей клиники.
Не знаю уж, спал ли Ричард с Соней или нет. Во всяком случае, он был сильно влюблен в нее и никому не позволял над ней насмехаться.
Однажды она обратилась ко мне: «С чего это ты надумала выйти за этого Фрэнка? Знаешь что, подруга, он ведь так похож на твоего брата, а ловить надо парней, которые не похожи на родственников. Я могла бы познакомить тебя с каким-нибудь парнем, который больше тебе подойдет».
Я обозлилась и с тех пор всячески старалась, чтобы Фрэнк виделся с ней как можно меньше, но из этого ничего не вышло. За стенами клиники вся наша жизнь вращалась вокруг Сони. Когда Фрэнк принялся высмеивать Соню, мне стало ясно, что по-своему она его привлекает, пусть сам он и боится в этом признаться.
Она болтала без умолку, в речи ее сохранялся акцент африканеров. Меня не могло не восхищать, как живо она схватывает любую ситуацию, тем более что теперь Соня была в курсе всех внутренних дел в клинике, и ей удавалось время от времени делать весьма уместные замечания в разговорах с приезжающими из столицы чиновниками, у которых сложилось впечатление, что она уже много лет задает тон в наших краях и, будучи женщиной незаурядной, одевается как ей угодно и ведет себя соответственно.
Однажды мне довелось услышать, как она говорила с одним влиятельным членом медицинского управления о нашем неуступчивом главном радиологе: «Послушайте, приятель, это правда, нрав у него тяжелый, верно, приятель. Я каждое утро вижу, как, проезжая мимо моего дома на работу, он что есть силы пришпоривает коня. Это он так пары выпускает. Но знаете, что я скажу вам? — дело свое он знает. Право, приятель, в своем деле он первый класс, супер». Вскоре после этого наш неуступчивый главный радиолог, который не так уж часто ездил верхом, был переведен в другое место. Лишь после того как я узнала, что этот влиятельный человек из медицинского управления без ума от лошадей, способности Сони открылись мне во всей своей полноте.
— О Господи, что же мы наделали, — сказала я своей ближайшей приятельнице.
— Пусть все остается, как есть, — откликнулась она. — С ней жить веселее.
Соня задумала добыть Ричарду место главврача на севере. Подозреваю, что в случае успеха она намеревалась последовать за ним, ибо однажды обмолвилась, что была бы не прочь отправиться в путешествие, что тут трудного: «Все путешествуют, подруга. Выпей. Сал-ю-ю-т».
Фрэнк тоже претендовал на эту должность. Он сказал, глядя вдаль своими близорукими глазами, что придавало его словам налет некоторой незаинтересованности: «Я лучше готов к этой работе, чем Ричард». Так оно и было. «А Ричард более нужен здесь как исследователь», — продолжил Фрэнк. Правда и это. «Ричарду надо остаться здесь, а я поеду на север, — сказал Фрэнк. — Тебе там понравится». Все это было трудно отрицать.
Вскоре стало очевидно, что Фрэнк борется с Ричардом за симпатии Сони. Делал он это, сам не отдавая себе отчета, так, словно это была рутинная клиническая процедура и его интересовал не только результат, сколько методология. Этот флирт со стороны обоих казался мне совершенно смехотворным.
— Думаешь, она действительно способна сыграть хоть какую-то роль в этом назначении?
— Да, — ответила моя ближайшая приятельница, — и сыграет.
Влиятельный член медицинского управления — тот самый любитель лошадей — снова оказался в наших краях. На сей раз он приехал на выходные порыбачить. Это чистое безумие. Форт-Бейт — не лучшее место для рыбалки.
Теперь мне уже и самой хотелось, чтобы Ричард получил эту работу. К Фрэнку я охладела; он этого не замечал, но я охладела. Ричард сильно нервничал. Как только выдавалось свободное время, он садился в машину и мчался к Соне. Фрэнк, относившийся к свободному времени не так строго, как правило, опережал его.
Я была там, пила чай вместе со всеми, когда появился этот стареющий, несдержанный на язык, с острым взглядом мужчина — глава медицинского управления. Ричард с Фрэнком сидели на противоположных сторонах дивана. Ричард выглядел напряженным. Я знала, что он думает о работе и не хочет, чтобы дело выглядело так, будто он использует свою близость к Соне. Соня, прочитав наизусть длинную фразу, почерпнутую из руководства по этикету, представила нас этой важной персоне. Пока она говорила, мне пришло в голову, что некоторым этот речитатив может показаться достойным всяческой симпатии протестом против расхлябанности, присущей нашим временам. Она усадила гостя между Ричардом и Фрэнком с явным намерением взять быка за рога.
Она изготовилась. Выглядела она превосходно; и это уже не было нашим достижением, мы просто вызволили эти формы из-под спуда крестьянской неуклюжести. Она повернулась к старику: «Бэзил, дружище, Ричард, вот он, хотел потолковать с вами». Она тронула Ричарда за плечо. Фрэнк смотрел куда-то в сторону. Я подумала, что у него как раз есть административная жилка, никто из знакомых мне научных работников не отличался таким хладнокровием, все были ранимы и беспокойны.
Беспокоен был и Ричард. На гостя он не смотрел, смотрел прямо в лицо Соне с его вест-эндским макияжем.
— Подавали заявление о работе на севере? — осведомился у Ричарда этот самый Бэзил.
— Да, — ответил Ричард и облегченно улыбнулся.
— Хотите получить эту работу? — спросил гость небрежно, сохраняя всю свою значительность.
— Да, весьма, — проговорил Ричард.
— Что ж, получайте ее, — сказал гость, щелчком отбрасывая эту невидимую работу, словно это был шарик для пинг-понга.
— Э-э, — протянул Ричард, — спасибо, нет.
— Что вы сказали?
— Что это ты такое сказал? — эхом откликнулась Соня.
Мы с братом в общем совсем не похожи друг на друга, но в некоторых ключевых моментах сходимся. Наверное, сказывается кровь.
— Спасибо, нет, — повторил Ричард. — Честно говоря, мне кажется, я должен продолжить изучение тропических болезней.
По лицу Сони мелькнула лишь тень возмущения. Прежде всего она думала о старике, который явно растерялся и внезапно потерял почву под ногами.
— Бэзил, дружище, — заговорила она, наклоняясь к нему и только что не прижимаясь грудью к ушам, — вы перепутали. Тот малый, о ком я вам говорила, — Фрэнк, вот он. Фрэнк, позволь представить тебе достопочтенного…
— Да мы знакомы, — перебил ее гость, поворачиваясь к Фрэнку.
Фрэнк вернулся из своего далека.
— Я подавал заявление, — сказал он, — и, полагаю, мои данные…
— Женаты?
— Нет, но рассчитываю вскоре жениться. — Как и следовало ожидать, он повернулся ко мне. Я ответила самой злобной, какую только можно себе представить, улыбкой.
— Хотите получить эту работу?
— О, весьма.
— Уверены?
— О да, совершенно уверен.
Во второй раз старик попадать впросак не собирался.
— Надеюсь, вы действительно хотите получить это место. На него есть немало отличных претендентов, и нам нужен сильный…
— Да, я хочу получить это место.
— Что ж, бери его, — сказала Соня, и в этот момент мне показалось, что она погубила все дело, явно выйдя за рамки своих полномочий.
Но старик просиял, накрыл ладонями ее хорошо ухоженные руки, и мне даже показалось, что из его шамкающего рта потекли слюни.
Другие вертелись вокруг, стараясь перемолвиться хоть словом с человеком из медицинского управления. Соня, пусть и неявно, избегала Ричарда. Сейчас с ней разговаривал, прислонившись к стене, Фрэнк. Мне вдруг расхотелось терять его. Я огляделась вокруг и, подумав, что мне здесь больше делать нечего, сказала Ричарду:
— Пошли.
Ричард смотрел в спину Соне.
— Куда это ты заторопилась? Еще рано. В чем дело?
В том, что занавески колыхались на открытом окне, через которое из саванны в эту нелепую гостиную задувал порывами легкий ветерок. Нарастало возбуждение, я подумала, вот-вот люди закричат, вскрикнут пронзительно раз или два, как птицы, потом замолчат. Еще я подумала, что, может, Ричард передумает насчет работы, скажет об этом Соне, и пусть уж она найдет способ выпутаться из положения. В настоящий момент она поправляла Фрэнку галстук и во всеуслышание наставляла его, что надо следить за собой, как будто сама получила воспитание в приличной семье. Надо бы нам сказать ей, подумала я, что такие вещи на публике не говорят. Я бы с удовольствием задержалась допоздна, чтобы затянуть Фрэнка назад, на свою территорию; но надвигалась буря, а ехать домой в бурю — радость невелика.
У Ричарда воля сильнее моей. После той вечеринки он отдалился от Сони, целиком погрузившись в работу. Я разорвала помолвку. Не знаю, воспринял ли это Фрэнк с облегчением или наоборот. До его отъезда на новое место службы на север оставалось еще три месяца. Большую часть времени он проводил с Соней. Я могла только гадать, как развивались их отношения. Я по-прежнему иногда заезжала к Соне и заставала там Фрэнка. Эти двое и сама ситуация одновременно отталкивали и притягивали меня. В промежутках между дождями, навещая Соню, я частенько находила их на реке, в ялике; я все высматривала, когда же будет виден розовый зонт, и радовалась его появлению. Раз или два, при встрече в клинике, Фрэнк говорил мне буквально в таких словах: «Думаю, мы все же могли бы пожениться». Однажды он сказал: «Знаешь, старушка, Соня — это ведь совсем несерьезно». Но мне кажется, он боялся, что я поймаю его на слове или по крайней мере сделаю это слишком рано.
Соня снова заговорила о путешествиях. Она училась читать дорожные карты. Одной из медсестер она сказала: «Когда Фрэнк устроится на севере, я поеду к нему и подыщу ему место еще лучше». А другой медсестре сказала: «В этом месяце или в следующем, точно не знаю, подруга, из тюрьмы возвращается мой старик. Муж. Увидит, как тут все изменилось. Придется ему привыкнуть».
Однажды в полдень я поехала на ферму. Соню я не видела шесть недель, потому что дома, на каникулах, были ее дети, а их я не любила. Я соскучилась по Соне, с ней всегда весело. Слуга сказал, что она на реке, с доктором Фрэнком. Я спустилась вниз по тропинке, но их нигде не было видно. Я прождала минут восемь и тронулась назад. Все местные, кроме слуги, разошлись по своим хижинам и улеглись спать. Какое-то время слуги не было видно, а когда он появился, меня испугало выражение страха на его лице.
Я обходила старое стойло для быков, ныне опустевшее — ибо фермерским делом Соня больше не занималась, ей даже трактор был не нужен, не то что упряжка быков, — когда появился слуга и прошептал мне на ухо: «Баас Ван дер Мерве дома. Он у окна».
Я спокойно продолжила свой путь и, приблизившись к дому, увидела мужчину лет пятидесяти, изможденного вида, в шортах и рубашке цвета хаки. Он стоял на ящике у окна в гостиную. Ладонь его лежала на занавеске; отодвинув ее, он пристально вглядывался в пустую комнату.
— Ступай на реку и предупреди их, — велела я слуге.
Он повернулся было, но — «Эй ты, малый» — крикнул мужчина. Слуга в своей светло-зеленой униформе помчался на голос.
Я спустилась к реке в тот самый момент, как они сходили на берег. Соня была одета в светло-голубое. Голубого цвета был и ее новый зонт. Выглядела она сегодня как-то по-особому эффектно, и я обратила внимание на ее ослепительно белые зубы, яркие карие глаза и позу, в которой она стояла посреди Африки под пылающим солнцем, в высокой густой траве — точь-в-точь героиня какого-нибудь рассказа. Фрэнк, отлично выглядевший в своем тропическом одеянии, привязывал ялик к причалу. «Твой муж вернулся», — сказала я и, охваченная страхом, побежала назад, к машине. Я запела двигатель, отъехала и, проезжая на скорости по гравийной дорожке мимо дома, увидела, что Дженни Ван дер Мерве в сопровождении слуги входит внутрь. Он повернулся, посмотрел вслед машине и заговорил со слугой — явно спрашивал, кто я такая.
Впоследствии абориген показал в суде, что Дженни обошел весь дом, внимательно изучая произошедшие перемены и новую обстановку. Он сходил в туалет и спустил за собой воду. Попробовал краны в обеих ванных. Зайдя в комнату Сони, поправил ее криво стоявшие туфли. Затем принялся проверять по всему дому мебель, прикасаясь к каждому предмету средним пальцем правой руки и внимательно разглядывая, не осталось ли на нем следов пыли. Слуга следовал за ним, и когда Дженни подошел к старинному голландскому комоду, стоявшему где-то в углу одной из детских — Соня терпеть не могла оставшуюся от отца старую мебель, — и обнаружил на нем немного пыли, велел принести тряпку и стер пыль. Покончив с этим, Дженни продолжил обход дома и, когда закончил проверку всего на предмет пыли, вышел во двор и двинулся вниз по Дорожке к реке. У стойла для быков он обнаружил Соню и Фрэнка, споривших о том, что делать да куда идти, вынул из кармана пистолет и выстрелил. Соня погибла на месте. Фрэнк продержался еще десять часов. Это было серьезное преступление, и Дженни повесили.
Несколько недель я ждала, когда Ричард наконец предложит убираться отсюда. Сама я предложить это боялась, а то еще всю оставшуюся жизнь будет жалеть о таком шаге. Наш длительный отпуск должен был начаться только через год. Очередной — через несколько месяцев. Наконец он сказал: «Не могу здесь больше жить».
Мне хотелось вернуться в Англию. Я даже думать ни о чем другом не могла.
— Мы не можем здесь больше оставаться, — сказала я, словно играя роль в пьесе.
— Ну что, собираемся и едем? — сказал он, и я ощутила огромное облегчение.
— Нет, — сказала я.
— Да, жаль собирать манатки, — сказал он, — когда мы оба так далеко продвинулись в изучении тропических болезней.
В общем, на следующей неделе я уехала. А Ричард с тех пор продвинулся в изучении тропических болезней еще дальше. «Жаль, — сказал он накануне моего отъезда, — если то, что случилось, станет между нами».
Я собралась и отправилась навстречу славной жизни, еще до того как установилась сухая погода, после которой снова начнутся дожди и все будет так предсказуемо.
СОБИРАЮЩИЙ ЛИСТЬЯ
© Перевод. Н. Анастасьев, 2011.
Сразу за мэрией расположен лесистый парк, который под конец ноября начинает втягивать прямо в себя некое прозрачное голубое облако, и, как правило, до середины февраля весь парк плавает в этой дымке. Я прохожу мимо него каждое утро и всякий раз в самом центре туманного образования вижу Джонни Геддса, сгребающего листья. Время от времени он останавливается, резко вздергивает свой удлиненный череп, смотрит с возмущением на груду листьев, так, словно ее не должно там быть, и возвращается к работе. Сгребанию листьев он обучился в годы, проведенные в психиатрической лечебнице; именно этим делом его там занимали, а когда выпустили на волю, городской совет нашел для него листья для уборки. Но возмущенное подергивание головой выглядит для него совершенно естественно, ибо эту привычку он усвоил, еще когда считался наиболее перспективным, и жизнерадостным, и общительным выпускником своего года. Он выглядит гораздо старше своих лет, ведь с того времени, как Джонни основал общество искоренения Рождества, не прошло и двадцати лет.
Тогда Джонни жил со своей теткой. Я была школьницей, и на рождественские праздники мисс Геддс подарила мне брошюру своего племянника «Как разбогатеть на Рождестве». Название очень привлекательное, но выяснилось, что разбогатеть на Рождестве можно, лишь покончив с самим Рождеством, так что я сразу отложила брошюру в сторону.
Однако это была только первая его попытка. В ближайшие три года он основал свое аболиционистское общество. Его новая книга, «Покончи с Рождеством, иначе все мы умрем», пользовалась в городской библиотеке большим спросом, и я оказалась в самом хвосте очереди. На сей раз аргументы Джонни звучали весьма убедительно, и, даже не успев дочитать книгу до конца, многие становились его верными союзниками. На днях я купила ее старый потрепанный экземпляр, и, несмотря на то что с тех пор прошло много времени, мысль о том, что празднование Рождества — преступление национального масштаба, звучит с прежней силой. Джонни показывает, что любая группа людей в королевстве сталкивается с угрозой неизбежного голода на протяжении периода, обратно пропорционального по своей продолжительности тому времени, когда одна из каждых шести индустриально-производительных групп — если только понятно, что имеется в виду, — перестает производить игрушки и принимается запихивать их в чулки. Он приводит сокрушительную статистику, согласно которой 1,024 процента времени, которое ежегодно убивается под Рождество на бездумные покупки и бессмысленные посещения церковной службы, на пять лет приближает нацию к окончательной гибели. Кое-кто из читателей запротестовал, но Джонни удалось разбить их невнятные аргументы, и общество искоренения Рождества уверенно набирало силу. И все равно Джонни не было покоя. В тот год мало того что все королевство буквально захватила рождественская лихорадка, так он еще получил по своим каналам информацию, что множество членов общества нарушили клятву воздержания.
Тогда он решил ударить по Рождеству в самое его основание. Джонни ушел со службы в городском канализационном хозяйстве, забыл обо всех планах на будущее и, заручившись финансовой поддержкой некоторых знакомых, на два года погрузился в изучение основ Рождества. После чего, весь излучая радость и торжество, издал еще одну, последнюю из своих книг, в которой утверждал, что Рождество было изобретением либо отцов-основателей, вознамерившихся таким образом умилостивить язычников, либо же самих язычников, предполагавших умиротворить отцов-основателей. Вопреки советам друзей Джонни озаглавил книгу «Рождество и христианство». Она разошлась в количестве восемнадцати экземпляров. От этого удара Джонни так и не оправился; к тому же получилось так, что примерно в это же время девушка, с которой он был помолвлен, страстная аболиционистка, подарила ему на Рождество связанный ею самою свитер. Он вернул подарок, присовокупив к нему экземпляр устава общества, она же вернула ему обручальное кольцо. Впрочем, в любом случае в отсутствие Джонни общество было подорвано его умеренными членами. Эти умеренные стали со временем еще более умеренными, и все предприятие развалилось.
Вскоре после этого я переехала и вновь встретилась с Джонни только через несколько лет. Однажды воскресным полднем, летом, я лениво бродила по Гайд-парку, где собралась куча людей послушать очередных ораторов. Небольшая группа окружила какого-то мужчину, державшего в руках плакат, на котором было начертано: «Крестовый поход против Рождества»; голос у него был устрашающий, завораживал он необыкновенно. Это был Джонни. Кто-то из присутствующих сказал мне, что Джонни бывает здесь каждое воскресенье, всячески поносит Рождество и скоро его, наверное, арестуют за непристойные выражения. Через некоторое время я прочитала в газетах, что его действительно взяли за нарушение приличий. А еще через несколько месяцев до меня дошел слух, что бедного Джонни поместили в психиатрическую лечебницу — ни о чем, кроме Рождества, он не мог ни думать, ни говорить.
После этого я о нем напрочь забыла, пока три года назад, в декабре, не осела близ городка, в котором Джонни провел молодость. Днем в сочельник я прогуливалась с приятелем, отмечая, что за время моего отсутствия изменилось, а что нет. Мы миновали удлиненный громоздкий дом, известный некогда тем, что здесь помещался арсенал, и я обратила внимание, что железные ворота широко открыты.
— А раньше их держали запертыми, — заметила я.
— Теперь это психиатрическая лечебница, — сказал мой спутник, — нетяжелым больным позволяют работать на воздухе, а ворота открывают, чтобы у них было ощущение свободы. При этом, — продолжал мой знакомый, — внутри все запирается. Каждая дверь. И лифт тоже. Его держат запертым.
Слушая приятеля, я остановилась у ворот и заглянула внутрь. Прямо у входа рос большой, с голыми ветвями, вяз. Рядом с ним я увидела мужчину в бежевых плисовых штанах, убирающего листья. Несчастный, он выкрикивал что-то про Рождество.
— Это Джонни Геддс, — сказала я. — Он что — здесь все эти годы?
— Да, — ответил мой знакомый, когда мы снова двинулись в путь. — По-моему, ему в это время года становится хуже.
— А тетка его навещает?
— Да. Только с ним она и встречается.
Мы как раз приближались к дому, где жила мисс Геддс. Я предложила зайти. Когда-то мы были с ней довольно близки.
— Я, пожалуй, пас, — сказал мой знакомый.
Он отправился в город, а я все же решила зайти.
Мисс Геддс изменилась больше, чем городок. Прежде это была величественная спокойная дама, теперь же движения ее сделались поспешными, а на лице то и дело возникала, чтобы тут же исчезнуть, нервная улыбка. Мисс Геддс проводила меня в гостиную и, открывая Дверь, кого-то окликнула.
— Джонни, посмотри, кто к нам пришел!
На стуле, прикрепляя к картине падуб, стоял мужчина в темном костюме. Он спрыгнул на пол.
— Счастливого Рождества, — сказал он. — Счастливого и по-настоящему веселого Рождества. Я от души надеюсь, — продолжал он, — что вы выпьете с нами чаю, тем более что у нас есть замечательный рождественский торт. Сейчас, когда все желают друг другу добра, мне было бы очень приятно, если бы вы взглянули, как чудно он приготовлен; на нем красной глазурью выписано «Счастливого Рождества». И еще там есть малиновка и…
— Джонни, — сказала мисс Геддс, — не забудь про рождественские гимны.
— Да, гимны, — повторил он, вытащил из стопки пластинку и поставил ее на патефон. Это был «Падуб и лоза».
— Это «Падуб и лоза», — сказала мисс Геддс. — Может, что-нибудь другое послушаем? А то эта все утро крутилась.
— Какая торжественная музыка. — Он вскинул руку, призывая к тишине, и, не поднимаясь со стула, послал нам сияющую улыбку.
Пока мисс Геддс ходила за чаем, а он сидел, полностью погруженный в свои гимны, я исподволь наблюдала за ним. Он был настолько похож на Джонни, что если бы всего несколько минут назад я собственными глазами не видела, как бедняга Джонни сгребает листья во дворе психиатрической лечебницы, я решила бы, что это он и есть. Мисс Геддс вернулась с подносом, и, вставая, чтобы переменить пластинку, он сказал нечто, совершенно поразившее меня:
— А я видел вас в толпе, когда выступал в то воскресенье в Гайд-парке.
— Ну и память у тебя! — воскликнула мисс Геддс.
— Это было лет десять назад, — добавил он.
— С тех пор мой племянник изменил свое отношение к Рождеству, — пояснила она. — Теперь он всегда приходит домой на Рождество, и мы замечательно проводим время, правда, Джонни?
— Вот именно! А можно мне кусок торта?
Ему явно не терпелось попробовать торт. Проделав замысловатое движение рукой, он вонзил в него сбоку большой нож. Тот скользнул по поверхности и вонзился ему глубоко в палец. Мисс Геддс даже не пошевелилась. Он отдернул порезанный палец и принялся разрезать торт.
— Неужели не до крови? — спросила я.
Он поднял руку. Я увидела след от пореза, но крови не было.
Я медленно, может, с отчаянием, повернулась к мисс Геддс.
— Там выше по дороге стоит дом, — заговорила я. — Если не ошибаюсь, сейчас в нем размещается психиатрическая больница. Сегодня днем я проходила мимо нее.
— Джонни, — сказала мисс Геддс с видом человека, понимающего, что игра закончена, — принеси, пожалуйста, сладкие пирожки.
Он вышел, насвистывая мелодию гимна.
— Вы проходили мимо больницы, — устало сказала мисс Геддс.
— Да.
— И видели, как Джонни сгребает листья.
— Да.
Мы по-прежнему слышали, как он насвистывает гимн.
— Кто это? — спросила я.
— Призрак Джонни, — сказала она. — Он приходит Домой раз в год, на Рождество. Но, — сказала она, — мне он не нравится. Терпеть его больше нет мочи, и завтра я уезжаю. Мне не нужен призрак Джонни, мне нужен Джонни из крови и плоти.
Подумав о порезанном пальце, из которого не идет кровь, я содрогнулась и, не дожидаясь возвращения призрака Джонни со сладкими пирожками, вышла из дома.
На следующий день я собиралась навестить одно семейство в городе. Около полудня я вышла на улицу. Висел легкий туман, и я не сразу разглядела приближающуюся ко мне фигуру. Это был мужчина, он приветственно махал рукой. Оказалось — призрак Джонни.
— Счастливого Рождества. Представляете себе, — заговорил призрак Джонни, — моя тетка уехала в Лондон. Странно — Рождество ведь: я думал, она в церкви, а получается, я остался один, не с кем провести веселый рождественский день. Конечно же, я ее прощаю, ведь сейчас время, когда все желают друг другу добра, но хорошо, что мы встретились, потому что теперь я могу побыть с вами, и не важно, куда вы идете, мы вместе проведем счастливое…
— Убирайся, — сказала я и пошла дальше своей дорогой.
Звучит жестоко. Но может, вы просто не знаете, насколько отталкивает и каким мерзким кажется призрак живого человека. Призраки мертвых — это понять можно, но от призрака безумного Джонни у меня мурашки по всему телу.
— Исчезни, — сказала я.
Но он не отставал.
— Сейчас время добрых пожеланий, поэтому я не буду обращать внимания на ваш тон, — сказал он. — Но пойдем мы вместе.
Мы дошли до ворот психиатрической больницы, и там, во дворе, я увидела Джонни, сгребающего листья. Мне подумалось, что это своего рода забастовка — работа на Рождество. Он что-то выкрикивал на эту тему.
Повинуясь внезапному импульсу, я повернулась к призраку Джонни:
— Так, говоришь, тебе общество нужно?
— Конечно, — ответил он. — Сейчас время…
— Так оно у тебя будет, — сказала я.
— Эй, Джонни, — окликнула я, подходя к воротам.
Он поднял голову.
— Я привела твой призрак, Джонни.
— Ах вот как, — сказал Джонни, направляясь в сторону призрака. — Подумать только!
— Счастливого Рождества, — сказал призрак Джонни.
— Да ну? — сказал Джонни.
Я оставила их вдвоем. А когда обернулась, опасаясь, что у них дойдет до драки, увидела, что и призрак Джонни тоже сгребает листья. В то же время они, похоже, о чем-то спорили. Но туман все еще не рассеялся, и на самом деле мне трудно с уверенностью сказать, сколько их было, сгребающих листья, когда я обернулась во второй раз, — один или двое.
Под Новый год Джонни стало лучше. По крайней мере он перестал буйствовать по поводу Рождества, а потом и вовсе упоминать его; через несколько месяцев, когда он вообще почти перестал разговаривать, его отпустили из больницы.
Городской совет дал ему работу в парке — сгребать листья. Разговаривает он редко и никого не узнает. Под конец года я вижу его ежедневно, работающим в клубах тумана. Иногда, если вдруг налетит порыв ветра, он вскидывает голову и смотрит, как позади него падают листья, словно изумленный тем, что это действительно так, хотя по всем правилам листья должны бы перестать падать.
АПОКАЛИПСИС МИСС ПИНКЕРТОН
© Перевод. Н. Анастасьев, 2011.
Однажды вечером, в февральскую слякоть, в окно что-то влетело. Мисс Лора Пинкертон, возившаяся у камина, услышала над головой слабый пульсирующий звук. Сразу посмотрела наверх — «Джордж! Сюда! Живо!»
Джордж Лейк с найденным на кухне сандвичем в руках появился сразу, но с видом мрачным из-за недавней ссоры. Он повернулся в сторону шума и немедленно сел на место.
Начиная с этого момента история предстает в двух версиях — его и ее. Но в главном они сошлись; они сошлись на том, что это был маленький округлый, скорее плоской формы объект и что он летал.
— Это какой-то летающий объект, — прошептал в конце концов Джордж.
— Это блюдце, — громко и уверенно заявила мисс Пинкертон, — старинная вещь. По форме видно.
— О старине не может быть и речи, это точно, — сказал Джордж.
Ему следовало бы проявить больше такта, и, если бы не напряженность момента, так бы и сделал. Конечно, его слова задели мисс Пинкертон, тем более что она разбиралась в предмете.
— Что мне известно, то известно, — заявила она, как обычно, — по крайней мере я на это надеюсь. Осенью будет двадцать три года, как я занимаюсь старинным фарфором. — Так оно и было, и Джордж это знал.
Блюдечко вращалось вокруг электрической лампы.
— Его вроде свет притягивает, — заметил Джордж, словно речь шла о мотыльке.
Вдруг оно резко накренилось, будто угрожая рухнуть на голову Джорджу. Джордж стремительно пригнулся, мисс Пинкертон прижалась к стене. Блюдце опрокинулось набок, задело плечо Джорджа, и мисс Пинкертон удалось взглянуть на него с другой стороны.
— Эта штука может быть радиоактивной. И тогда всем нам угрожает опасность. — У Джорджа перехватило дыхание. Блюдце снова поднялось наверх, принялось вращаться высоко над его головой, затем снова устремилось в его сторону, но промахнулось.
— Никакое оно не радиоактивное, — заявила мисс Пинкертон, — это фарфор от Споуда.
— Не будь идиоткой, — огрызнулся Джордж, явно под воздействием пережитого момента.
— Ах вот как, отлично, — сказала мисс Пинкертон, — пусть не от Споуда. Тебе, конечно, виднее, Джордж, ведь это ты у нас эксперт. Меня просто форма смутила. Посвятив большую часть жизни фарфору…
— Это, должно быть, подделка, — с несчастным видом вымолвил Джордж. Ибо, к несчастью, в словах мисс Пинкертон прозвучало и начало отзываться внутри резкой болью нечто знакомо-раздражительное. К тому же блюдце устрашало его.
Оно проделало величественный поворот, неуклонно следуя вдоль деревянной планки по всему периметру комнаты.
— Ну как же, подделка! — фыркнула мисс Пинкертон. Она пулей вылетела из комнаты и тут же вернулась со стремянкой в руках.
— Надо посмотреть клеймо, — решительно сказала она, указывая на блюдце. — Где мои очки?
Блюдце послушно остановилось в углу; оно висело подобно пауку в нескольких дюймах от потолка. Мисс Пинкертон приладила стремянку. Надев очки, она вновь стала походить на себя самое — энергичную женщину, несколько чопорную и сведущую.
— Не прикасайся, не подходи! — Джордж оттолкнул ее и схватил стремянку, опрокинув при этом голубую стеклянную чашу, статуэтку из дрезденского фарфора, вазу с цветами и графин с хересом. Слон в посудной лавке, возмущенно прокомментировала мисс Пинкертон. Но от намерения своего не отступила и попыталась отнять у него стремянку.
— Лора! — отчаянно воскликнул Джордж. — Думаю, верно, эта штука от Споуда. Согласен с тобой.
В этот момент блюдце вылетело в окно.
Они сразу принялись за дело. Связались с местной газетой. Репортер будет с минуты на минуту, а мисс Пинкертон тем временем принялась названивать двум Друзьям-ученым — по крайней мере один занимался психиатрией, а другой был электриком. Но телефон не отвечал ни у того, ни у другого. Джордж выглянул в окно и обежал взглядом крыши соседних домов, потом ночное небо. Он отошел от окна, проверил все выключатели и беспроводной телефон — все как обычно.
Появился, в сопровождении фотографа, газетчик.
— Снимать тут нечего, — нервно сказала мисс Пинкертон. — Оно улетело.
— Мы хотели бы сделать несколько снимков самого места, — пояснил корреспондент.
Мисс Пинкертон тревожно осмотрела останки предметов, сокрушенных Джорджем при помощи стремянки.
— Место — словно ураган пронесся.
Херес продолжал капать из графина, валяющегося на буфете.
— Надо бы прибраться. Джордж, помоги мне! — Она нервно передернулась и принялась кидать уголья в камин.
— Нет, нет, пусть остается все как есть, — остановил ее репортер. — Это призрак все тут вверх дном перевернул?
Оба заговорили одновременно.
— Ну как сказать, косвенным образом, да, — сказал Джордж.
— Призрак здесь ни при чем, — возразила мисс Пинкертон.
Репортер уселся на ближайший стул, повертел в руках карандаш и спросил:
— Не против, если я кое-какие заметки сделаю?
— А вы не против пересесть на другое место? — сказала мисс Пинкертон. — Видите ли, обычно мы не сидим на стульях королевы Анны. Они такие хрупкие.
Репортер вскочил как ужаленный и под недовольным взглядом мисс Пинкертон уселся на стол.
— Видите ли, я стариной занимаюсь, — возбужденно проговорила она, ибо вся эта история, решил про себя Джордж, начала действовать ей на нервы. Больше того, прикинул он, она просто убита. Раздражение спало, уступая место уверенности в себе.
— Ты бы лучше присела, Лора, да постаралась успокоиться. — Он мягко подтолкнул ее к креслу.
— Она перетрудилась, — громким шепотом сообщил он газетчикам.
— Так, говорите, объект влетел в окно? — начал репортер.
— Именно так, — подтвердил Джордж.
Фотограф установил камеру на подоконнике.
— И вы оба застали этот момент?
— Нет, — сказала мисс Пинкертон. — Мистер Лейк был на кухне, я, естественно, окликнула его. Но с обеих сторон он его не видел, только с одной стороны посмотрел, там, где должен быть знак производителя. А я обратила внимание на форму и пошла за стремянкой, чтобы убедиться, что это именно то, что я думаю. Тут мистер Лейк и опрокинул мои вещи. А я увидела его с другой стороны.
— Позвольте кое-что сказать, — вступил Джордж.
Гости с надеждой посмотрели на него.
— Давайте начнем сначала, — после паузы продолжил Джордж.
— Отлично, — приободрился репортер.
— Вот как все было, — сказал Джордж. — Услышав, как мисс Пинкертон вскрикнула, я сразу пришел сюда и увидел белый выпуклый диск, который, видите ли, вращался вокруг своей оси вон там.
Репортер сосредоточенно посмотрел на точку, указанную Джорджем.
— При этом он производил изрядный шум, ну, как урчащая кошка, — продолжал Джордж.
— Есть какие-нибудь предположения, что бы это могло быть? — осведомился репортер.
Джордж задумался.
— Есть, — сказал он. — И в то же время нет.
— Это споудовский фарфор, — сказала мисс Пинкертон.
— В таких вещах я не разбираюсь, — продолжал Джордж. — Хотя, как правило, они вызывают у меня большой скепсис. Это было для меня нечто совершенно новое.
— Точно говорю вам, — сказала мисс Пинкертон. — Как-никак я двадцать три года фарфором занимаюсь. И сразу поняла, что это такое.
Репортер нацарапал что-то в блокноте и снова осведомился:
— А такие летающие диски часто в Китае появляются?
— Это было блюдце. Летающих блюдец я никогда прежде не видела, — ответила мисс Пинкертон.
— Мне хотелось бы задать вопрос, — сказал Джордж.
— Мистер Лейк — специалист по картинным рамам, — продолжала мисс Пинкертон. — Он обрамляет старые холсты, но к античности это не имеет отношения.
— Я все же хотел бы спросить: кто из нас рассказывает — ты или я? — сказал Джордж.
— Может, сначала мистер Лейк изложит свою версию, а затем дама, — предложил репортер.
Мисс Пинкертон недовольно уступила, а газетчик повернулся к Джорджу.
— А к объекту было что-нибудь прикреплено? Ну, провода или что-нибудь в этом роде? То есть, я хочу сказать, может, кто-то просто решил разыграть вас, пошутить?
Джордж некоторое время обдумывал такую возможность.
— Нет, — сказал он наконец. — Вообще-то мне пришло в голову, что за всем этим стоит какой-то Разум, управляющий этой штукой из космоса. Она ведь пыталась напасть на меня.
— Правда? Как это?
— Никто на мистера Лейка не нападал, — заявила мисс Пинкертон. — И вообще никакой угрозы не было. Я видела выражение лица пилота. Он улыбался во весь рот, явно играл с мистером Лейком.
— Пилота? — изумился Джордж. — О чем это ты, в самом деле? Пилот!
— Крохотный человечек, размером в половину моего мизинца, — со вздохом сказала мисс Пинкертон. — Он сидел на низеньком стульчике. Одной рукой держался за крохотное рулевое колесо, другой размахивал. Дело в том, что там еще было что-то вроде швейной машины, установленной у самого края, и он ногой нажимал на крохотную педаль. Никто на мистера Лейка не нападал.
— Не будь идиоткой, — проговорил Джордж.
— Ты ведь видел только нижнюю часть блюдца, Джордж.
— А ты тогда ничего не сказала о пилоте, — возразил Джордж. — Я лично никакого пилота не видел.
— Когда блюдце подлетело к нему, мистер Лейк испугался. Если бы он не стал уклоняться, наверняка бы сам увидел.
— Но ведь ты не упоминала никакого пилота, — повторил Джордж. — Попробуй рассуждать здраво.
— У меня просто не было такой возможности, — сказала она и повернулась к фотографу: — Поверьте, я знаю, о чем говорю. Правда, мистер Лейк считает, что он разбирается лучше. «Это подделка», — сказал мистер Лейк. Но если я в чем-то и смыслю, так это в фарфоре.
— Мне это кажется в высшей степени сомнительным, — заявил Джордж репортеру. — Швейная машина с подножкой и педалью в наши дни — вы можете в это поверить?
«Чего это он так раскипятился», — подумал фотограф.
— Должен сказать, — заметил репортер, — что в целом я на стороне мистера Лейка. У дамы, должно быть, случилась какая-то галлюцинация, летающее блюдце вызвало шок.
— Вот именно, — заметил Джордж. Он прошептал что-то на ухо фотографу. Мисс Пинкертон услышала, как он выдохнул «Ох уж эти женщины».
Репортер тоже услышал и добродушно рассмеялся:
— Ну что, может, позволим мистеру Лейку договорить, а потом посмотрим, что получится, если сложить две версии?
Но мисс Пинкертон уже решила по-своему. Она принялась разыгрывать спектакль, дотоле Джорджем не виданный. Откинувшись на спинку кресла, она слабо и неумело захихикала, а рука ее изящно затрепетала в такт веселому бульканью.
— Кошмар какой-то! Ну и вечерок! Видите ли, мы не привыкли пить, ну и ну, ну и ну!
— Лора, ты в своем уме? — жестко осведомился Джордж.
— Да, да, да, — с вялой улыбкой проговорила мисс Пинкертон. — Право, напрасно мы все это затеяли, Джордж. Зачем-то вытащили сюда этих джентльменов. Но с меня довольно. Хотя, по правде говоря, дорогой, все получилось очень забавно.
— Уверен, что это результат этого необычного явления, — твердо заявил Джордж прессе.
— Все это моя вина, моя вина, — пробормотала мисс Пинкертон.
Репортер посмотрел на часы.
— Могу ли я с уверенностью написать, что вы оба видели летающий объект? — спросил он. — И что вас обоих это потрясло?
— Напишите, что это был маленький округлый сплюснутый объект. На этом мы сходимся оба, — предложил Джордж.
Мисс Пинкертон вновь залилась смехом.
— Ох уж эти женщины! В конце концов все дело сводится к женщинам, — обратилась она к гостям. — Мы выпили по паре бокалов.
— Уверяю вас… — сказал Джордж репортеру.
— Нас могут оштрафовать за вызов прессы, Джордж, — вставила мисс Пинкертон. — Наверное, это нарушение правил.
— Уверяю вас, — повернулся Джордж к фотографу, — менее часа назад мы видели в этой комнате летающее блюдце.
Мисс Пинкертон захихикала.
Репортер обвел комнату новым взглядом и с видом человека, для которого все понять значит все простить, закрыл блокнот. Фотограф посмотрел на лужицу хереса, валяющиеся на полу цветы, разбитую вазу и фарфор. Он сложил камеру, и оба вышли наружу.
Джордж пересказал историю своим постоянным заказчикам. Он изложил обе версии, предоставив им выбрать более правдоподобную. Мисс Пинкертон же, у себя в лавке, на углу, лишь терпеливо улыбалась на всякого рода расспросы.
— Летающее блюдце? Джордж у нас художник, — говорила она, — нужно делать скидку на воображение. — Случалось, она добавляла, что этот вечер оказался памятным: «Славно посидели!»
В округе эта история вызвала толки. Джорджа это несколько беспокоило, но в то же время в их отношениях ничего не изменилось. Лично я отдаю предпочтение изначальной версии мисс Пинкертон. Она моя соседка. А основания верить ей у меня есть потому, что некоторое время спустя меня тоже навестило летающее блюдце. В моем случае маленький пилот был застенчив и пытлив. На педаль он нажимал изо всех сил. Мое блюдце было из фарфора «Ройал Ворчестер», но подделка или нет, не скажу.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА
© Перевод. У. Сапцина, 2011.
Во время учебы в школе Синтия была любительницей природы и до сих пор считала себя таковой. Ей нравилось в одиночестве прогуливаться по берегу реки, подставлять лицо дождю, прислоняться к старым стенам, подолгу смотреть на темную воду прудов. Синтия любила помечтать и писала стихи о природе. С этой неотъемлемой частью культуры, распространенной в семидесятые годы в прилегающих к Лондону графствах, она распростилась, когда, увозя с собой лишь воспоминания, перебралась из Англии в Сидней к кузине Мойре, девушке немногим старше ее. В Сиднее у Мойры имелся магазинчик, заваленный молодежной одеждой, сумочками, туфлями ручной работы, керамикой, подушками, декоративной писчей бумагой и другим околохудожественным товаром. Выйдя замуж за преуспевающего юриста, Мойра переселилась в Аделаиду, и прекрасный Сидней вдруг стал казаться Синтии пустым. У нее был бойфренд. Но и он, как вдруг оказалось, не заполнял пустоту. В двадцать четыре года Синтии захотелось новой жизни. Впрочем, она толком не знала и старой.
В гости на Рождество ее звали столько друзей, что она сбилась со счета. Добрые лица, улыбки, «тебе будет одиноко без Мойры… какие у тебя планы на Рождество?». Им вторил Джорджи, якобы ее бойфренд:
— Слушай, обязательно приезжай к нам. Мы будем рады встретить Рождество вместе с тобой. С моим младшим братом и сестренкой…
Синтия опять ощутила невыносимую пустоту.
— Вообще-то я возвращаюсь в Англию.
— Так сразу? До Рождества?
Она уложила вещи и раздала весь ненужный ей хлам. Купила билет на самолет в один конец, на рейс Сидней — Лондон, точно в день Рождества. Праздник она проведет в самолете. Она непрестанно думала о красоте и преуспеянии, которые покидала, о море, пляжах, магазинах и горах, но так, словно замечталась, прислонившись к старой стене. Англия — ее цель и ее судьба. Полной, по-настоящему взрослой жизнью в Англии она еще не жила. Джорджи проводил ее на самолет. Ему тоже предстояла новая жизнь среди сизых холмов и удивительных красок Брисбена, где его единственному дяде, разводившему овец, требовался помощник на квинслендской ферме. «Кому-нибудь другому он не будет казаться пустым, — думала Синтия. — Совсем напротив. Но для меня он пуст».
В Англии ей вряд ли будет одиноко. Ее разведенным родителям едва перевалило за пятьдесят. Все еще неженатый брат работал бухгалтером. Тетя недавно умерла, назначив Синтию душеприказчицей. Нет, в Англии она не станет страдать от одиночества — или по крайней мере гадать, чем бы ей заняться.
* * *
В самолете было почти пусто.
— Никому не хочется лететь в день Рождества, — объяснила стюардесса, разнося напитки. — Если и находятся желающие, то их немного. Ажиотаж всегда бывает перед Рождеством, потом самолет обычно битком набит с самого дня подарков и до Нового года, а дальше все снова приходит в норму.
Она объяснила это молодому человеку, который высказался по поводу обилия пустых мест.
— А я провожу Рождество в самолете потому, что мне больше некуда податься. Я думал, будет забавно.
— Обязательно будет, — пообещала миловидная стюардесса. — Мы постараемся развлечь вас в полете.
Ее молодой собеседник остался доволен. Он сидел впереди Синтии, через несколько рядов от нее. Обернувшись, он увидел Синтию и улыбнулся. За следующий час вся малочисленная компания в самолете узнала, что он учитель, возвращающийся домой после участия в программе обмена.
Самолет вылетел из Сиднея в четвертом часу, в день Рождества. До Бангкока, где предстояла заправка, оставалось девять часов.
На двух свободных местах в первом ряду расположилась пара средних лет, погруженная в чтение: он читал журнал «Тайм», она — потрепанный томик в бумажной обложке, «Загадочное происшествие в Стайлзе» Агаты Кристи.
Худой длинный мужчина в очках прошел мимо пары, направляясь в туалет. Возвращаясь, он остановился, указал на томик в бумажной обложке и воскликнул:
— Агата Кристи! Вы читаете Агату Кристи. Она серийный убийца. Значит, ваша темная сторона — натура серийного убийцы. — Он торжествующе просиял и занял место за читающей парой.
Появилась стюардесса, и двое читателей хором позвали ее.
— Кто этот человек?
— Вы слышали? Он назвал меня серийным убийцей.
— Извините, сэр, что-нибудь не так? — спросила стюардесса у мужчины в очках.
— Просто высказался, — ответил он.
Стюардесса исчезла в носовой части самолета и вернулась с офицером в форме, вторым пилотом, держащим в руках какие-то бумаги — очевидно, список пассажиров. Он взглянул на номер места, занятого обидчиком в очках, затем обратился к нему:
— Профессор Зигмунд Шатт?
— Зигмунд через «с», — уточнил профессор. — Ничего не случилось. Я просто сделал профессиональное наблюдение.
— Впредь советую держать наблюдения при себе.
— Молчать я не стану, — заявил Зигмунд Шатт. — Что бы вы там против меня ни замышляли.
Второй пилот подошел к читающей паре, наклонился и зашептал что-то ободряющее.
— А я что говорил? — воскликнул Шатт.
Пилот направился по проходу в сторону Синтии и сел с ней рядом.
— Больной на всю голову. В самолетах с такими хлопот не оберешься. Но этот может оказаться безобидным. Уж лучше пусть так. Вам одиноко?
Синтия повернулась к пилоту. Он был симпатичным, довольно молодым. Достаточно молодым.
— Немного, — призналась она.
— В первом классе пусто, — сообщил пилот. — Хотите пересесть туда?
— Мне бы не хотелось…
— Идемте со мной, — прервал он. — Как вас зовут?
— Синтия. А вас?
— Том. Я пилот. Сегодня нас пока трое. В Бангкоке прибавится еще один.
— В таком случае мне нечего бояться.
Все закрутилось в Бангкоке, когда они вышли из самолета на полтора часа, чтобы размять ноги. Пассажиры отправились бродить по отделам беспошлинного магазина — скупать кукол и шелковые галстуки, никчемные «сувениры из Бангкока», запивать печенье и пирожки кофе и другими напитками. Том и Синтия никуда не пошли. Они занялись любовью в красиво обставленной каюте с настоящими занавесками на окнах — фантастические желтые цветы на белом фоне. Рассказав друг другу о себе, Том и Синтия продолжили.
— Это Рождество, — сказал он, — я никогда не забуду.
— Я тоже, — кивнула она.
До возвращения экипажа и пассажиров оставалось еще полчаса. Один из заправщиков, пополняющих запасы топлива в самолете, уже укатил.
Синтия без стеснения воспользовалась роскошью Уборной с зубными щетками и запасами туалетной воды. Она привела себя в порядок, освежилась и снова стала симпатичной, расчесала красиво подстриженные шлемом темные волосы. На обратном пути в салон она встретилась с Томом: он откуда-то возвращался, улыбаясь, и выглядел помолодевшим. Том вручил Синтии коробку:
— Подарок на Рождество.
В коробке обнаружились гипсовые фигурки для рождественского вертепа — товар категории «сделано в Китае». Коленопреклоненная Дева Мария и святой Иосиф, младенец Иисус, башмачник с колодкой, дровосек, неопознанный монах, два пастуха и два ангела.
Синтия расставила их на столике перед собой.
— Ты в это веришь? — спросила она.
— Скажем так: я верю в Рождество.
— И я тоже. Оно означает новую жизнь. Никогда не видела, чтобы мать с отцом на коленях преклонялись перед младенцем в колыбели, а ты?
— Нет. Это же символика.
— Они просто прелесть. — Синтия осторожно касалась подаренных фигурок. — Из настоящего материала, не из пластмассы.
— Будем праздновать, — заявил Том, куда-то исчез и вернулся с бутылкой шампанского.
— Но ведь это так дорого…
— Не волнуйся. В первом классе не скупятся.
— Ты же при исполнении.
— Нет, моя очередь завтра.
И они снова занялись любовью высоко над землей.
После этого Синтия вернулась на свое прежнее место. Профессор Зигмунд Шатт препирался со стюардессой по поводу своей еды, очевидно, заказанной заранее, но так и не приготовленной. Синтия устроилась в том же кресле, где сидела раньше, вынула из кармана спинки переднего кресла открытку и написала кузине Мойре: «Чудесно провожу время на высоте 35 тысяч футов. Начала новую жизнь. Целую, Синтия». Потом кресло вдруг показалось ей частью прежней жизни, и она перешла обратно в первый класс.
Ночью появился Том и устроился рядом.
— Ты почти ничего не съела, — заметил он.
— Как ты узнал?
— Заметил.
— Для рождественского ужина у меня не было настроения.
— А сейчас хочешь что-нибудь?
— Сандвич с индейкой. Пропусти, я схожу к стюардессе.
— Предоставь это мне.
Том признался, что переживает финальную стадию развода. Разумеется, жене пришлось нелегко — слишком часто он был вынужден отлучаться по работе. Но ведь она могла бы чему-нибудь учиться. Нет, учиться она не стала, она терпеть не могла учебу.
Ему было одиноко. Он предложил Синтии выйти за него замуж, и она ничуть не удивилась. Только сказала:
— Том, ты ведь меня толком не знаешь.
— А по-моему, знаю.
— Мы едва знакомы.
— В таком случае давай знакомиться.
Синтия обещала подумать об этом. Она добавила, что могла бы отказаться от своих планов и немного побыть с ним в его лондонской квартире, в Кэмден-Тауне.
— Через три дня у меня как раз выходные, в конце этой недели, — сообщил Том.
«Господи, а он хоть порядочный? Надежный? — гадала про себя она. — Надеюсь, рядом с ним мне ничто не угрожает. Кто он?» Но она чувствовала, что уже увлеклась.
В четыре часа утра она проснулась и увидела, что Том рядом. Он сказал:
— Уже день подарков. Ты прелесть.
Она всегда втайне гордилась собой, но прежде в присутствии мужчин на нее нападала робость. В Австралии у нее было два кратких, ничем не примечательных романа. А лететь высоко над землей в пустом первом классе рядом с Томом — это настоящее, то, что запомнится навсегда, начало новой жизни.
— Я дам тебе ключи от квартиры, — пообещал он. — Приезжай сразу. Там тебя никто не потревожит. Я живу вместе с младшим братом, но его не будет дома еще недель шесть. Сказать по правде, он отбывает срок. Ввязался в драку футбольных болельщиков, вот его и замели за нанесение тяжких увечий и нарушение общественного порядка. Правда, нанесенные увечья вовсе не были тяжкими. Просто он оказался в неудачное время в неподходящем месте. Словом, по меньшей мере шесть недель квартира будет свободна.
В аэропорту, несмотря на ранний час — десять минут шестого, — собралась целая толпа встречающих. Забрав багаж, Синтия повезла свою тележку к выходу. Она вовсе не рассчитывала, что ее хоть кто-нибудь встретит.
Но ее ждали: отец с женой Элейн, мать с мужем Биллом, а за ними у барьера толпились брат Синтии с подружкой, кузен мужа кузины Мойры, еще несколько мужчин и женщин, которых Синтия не узнала, в сопровождении детей в возрасте от десяти до четырнадцати лет. Все родственники, вплоть до незнакомых, явились встречать Синтию. Откуда они узнали, в каком часу она должна была прилететь? Синтия обещала только позвонить им по прибытии в Англию.
— Номер рейса мы узнали от твоей кузины Мойры, — объяснил отец. — Понимаешь, нам просто не терпелось увидеть тебя на родине.
Первым делом Синтия отправилась к матери. Уже наступил день подарков, но родные не стали праздновать Рождество, решив дождаться гостью. Пришлось участвовать во всех рождественских обрядах без исключения. Под елкой ждали подарки, в том числе десятки свертков, предназначенных для Синтии. На рождественский ужин были приглашены ее брат с подружкой и еще несколько родственников.
Когда начался обмен подарками, Синтия достала из багажа кучу пакетов, купленных еще в Австралии. Среди них был и набор гипсовых рождественских фигурок, сделанный в Китае и предназначенный для брата Синтии.
— Какой симпатичный, — сказал брат. — Лучший из всех, что я видел, и вдобавок не из пластмассы.
— Это из магазина Мойры, — сообщила Синтия. — У нее не бывает случайных вещей.
Она много рассказывала об Австралии и ее чудесах. За чаем прочитали завещание тетушки, которая назначила Синтию душеприказчицей. Синтия осталась довольна этим назначением: обычно она витала в облаках, никогда не вдавалась в юридические подробности, и теперь доверие тетки ей польстило. Положение душеприказчицы придавало ей некий вес в семье. Она решила провести Новый год с отцом и его кланом.
Ее брат расставлял на столе рождественские фигурки.
— Не понимаю, почему мать и отец стоят возле младенца на коленях, — заметила она, — это выглядит неестественно.
Она не слушала, что говорили остальные, и так и не узнала, какую реакцию вызвало ее замечание: в ней вдруг шевельнулось воспоминание. Кажется, квартира находится в Кэмден-Тауне, но по какому адресу, Синтия понятия не имела.
— Промежуточная посадка была в Бангкоке, — сообщила она родным.
— Ты выходила?
— Да, но вы же знаете, из аэропорта не выпускают. Там был кофе-бар и чудесный магазин.
Тем же вечером, оставшись одна и распаковав вещи в своей комнате, она позвонила в авиакомпанию.
— Нет, — ответил ей женский голос, — в помещениях первого класса нет штор с желтыми цветами. Но я могу уточнить. Скажите, а почему вы?..
— Там был второй пилот по имени Том. Вы не могли бы сказать мне его фамилию? У меня срочное сообщение для него.
— Какой, говорите, это был рейс?
Синтия назвала не только номер рейса, но и свою фамилию и место в салоне бизнес-класса согласно билету.
После затянувшейся паузы голос послышался вновь:
— Да, вы значитесь в числе прибывших.
— Знаю, — ответила Синтия.
— Боюсь, я не смогу предоставить вам информацию о наших сотрудниках. Но в экипаже этого самолета не было ни одного Тома. Или Томаса. Стюардов в бизнес-классе зовут Боб, Эндрю, Шейла и Лилиан.
— А пилотов? Среди них Тома не было? С виду лет тридцати пяти, рослый, с каштановыми волосами. Мы познакомились в самолете. Он живет где-то в Кэмден-Тауне. — Синтия судорожно сжала трубку и обвела взглядом комнату — частицу реального мира.
— Все пилоты австралийцы, но больше я ничего не могу вам сказать. Сожалею. Мы не разглашаем информацию о нашем персонале.
— Полет получился запоминающимся. Точно вдень Рождества. Я никогда его не забуду, — сказала Синтия.
— Спасибо, мы вам чрезвычайно признательны, — отозвался голос. Казалось, он долетает издалека, с расстояния многих тысяч миль.
СНОБЫ
© Перевод. У. Сапцина, 2011.
«Сноб — человек, придающий слишком большое значение положению в обществе, стремящийся приобщиться к высшему классу и свойственному ему образу жизни и относящийся к тем, кого считает ниже себя, с пренебрежением и снисходительностью» (Словарь Чамберсов).
Не привести это определение я не могла, настолько оно соответствует супругам Рингер-Смит, которых я знавала в пятидесятые годы и с тех пор повстречала в таком множестве вариантов и разновидностей, что по сей день не перестаю удивляться. Снобы поистине удивительны. Они допускают промахи, стараясь обмануть тех самых людей, в круг которых стремятся попасть, за которых себя выдают и за которых надеются быть принятыми. Даже если они живут в демократическом обществе, это ровным счетом ничего не значит. Ничего.
В супружеской паре Рингер-Смит особенно ярко проявлялся снобизм Джейка. Его жене по крайней мере была присуща естественная безмятежность, которую она сама принимала как должное. В сущности, она была весьма самодовольной особой. Она происходила из рода мелких фермеров-землевладельцев и столь же мелких чиновников. Сама Марион была прижимиста, прижимиста до чертиков. Джейк также происходил из семьи чиновников, а по материнской линии — из дельцов, занимающихся экспортом и импортом фруктов, не обеспечивших, впрочем, мать Джейка: состояние досталось наследникам мужского пола. Джейк и Марион вполне подходили друг другу. Ниже ростом из них двоих был Джейк. Худосочными выглядели оба. Детей у них не было. Истинного сноба скелеты в фамильном шкафу не обескураживают, напротив, придают спеси: именно так обстояло дело с Джейком. Семейный скандал в масштабах страны перерос в международный. После эффектного ограбления банка и убийства, которое совершил один из братьев, их фамилия чуть ли не в каждом доме воспринималась как ругательство. Преступник Рингер-Смит вместе с сообщниками благополучно удрал в Южную Америку, предоставив Джейку и его престарелой матери отбиваться от журналистов и телерепортеров. Никому и в голову бы не пришло вымещать на них досаду, если бы не пренебрежение, с которым они обращались с полицейскими, журналистами, следователями, чиновниками и публикой в целом. Они задирали нос, корчили из себя «хорошую семью» с безупречной репутацией — словом, держались так, словно были графами и маркизами, а не заурядными представителями самого что ни на есть среднего класса. Ни один ныне живущий граф или маркиз не стал бы так кичиться, разве что выживший из ума, пропащий наркоман или неудачливый игрок.
С Рингер-Смитами я встретилась вновь, когда гостила у друзей в шато близ Дижона. Это было в девяностых годах. Я едва узнала их. Они не просто явились в шато — Энн столкнулась с ними, растерянными и озадаченными, возле деревенской лавки: они ломали голову над картой, не зная, куда направиться дальше. Войдя в их положение, неизменно отзывчивая Энн пригласила заблудившихся англичан в шато, выпить чаю и заодно разузнать дорогу.
Энн и Монти, сами англичане, жили в шато последние восемьл ет. Это наследство досталось им совершенно неожиданно от последнего в роду дальних родственников Монти. Дом и небольшое состояние, обретенные им в пятьдесят с лишним лет, стали для него невероятным сюрпризом. За свою жизнь Монти успел поработать, в частности, продавцом обуви и водителем автобуса. Энн служила секретарем у брокера. Их две дочери вышли замуж и поселились отдельно от родителей. Похожая на волшебную сказку история с получением наследства в свое время облетела газеты, но знакомиться со стремительно меняющимися новостями считают своим долгом далеко не все.
Когда Энн привезла Рингер-Смитов, Монти не было дома. Я сидела у телевизора, и приезд гостей стал для меня таким шоком, что я напрочь забыла, какую передачу смотрела. Крашеная блондинка Энн, рослая, жизнерадостная и прекрасно сохранившаяся в свои «за шестьдесят», поспешила на кухню ставить чайник. В своей гостиной она постаралась создать истинно английскую атмосферу.
— Кому принадлежит этот дом? — спросил меня Джейк, как только Энн вышла из комнаты. В новой обстановке он явно не узнал меня, хотя в глазах Марион, которая сверлила меня озадаченным взглядом, мелькнуло нечто вроде воспоминания.
— Даме, которая пригласила вас на чай, — объяснила я.
— А-а! — откликнулся Джейк.
— Скажите, мы раньше не встречались? — обратилась ко мне Марион.
— Встречались. — И я назвала себя.
— А сюда вас что привело? — без обиняков спросил Джейк.
— То же, что и вас. Меня пригласили.
Вернулась Энн с серебряным чайным сервизом и прелестными фарфоровыми чашечками. Она несла поднос, а девушка, помогающая ей по дому, шла следом с горячей водой и блюдом печенья.
— Как хорошо вы говорите по-английски, — заметил Джейк.
— Да ведь мы англичане, — отозвалась Энн. — Просто теперь живем во Франции. Этот замок достался моему мужу в наследство от родственников с материнской стороны, семьи Мартино.
— Вот оно что, — сказал Джейк.
Управляющий возвратился с фермы и выпил чашку чаю не присаживаясь. Энн он называл «мадам».
Энн уже жалела, что поддалась порыву и пригласила эту пару на чай. Гости говорили мало и нехотя, но уходить не собирались, и Энн уже боялась, что они опоздают на последний автобус до станции. Повернувшись ко мне, она спросила:
— Кажется, последний автобус уходит в шесть?
Я сказала Марион:
— Как бы вам не опоздать на него.
— Нельзя ли нам осмотреть шато? — спросила Марион. — В путеводителе написано, что его построили в XIV веке.
— Ну далеко не весь, — ответила Энн. — Но с осмотром сегодня будет сложновато. Видите ли, мы не открываем его для посещений. Мы здесь живем.
— Уверена, мы с вами уже встречались, — сказала Марион, обращаясь к Энн так, словно это как-то оправдывало их опоздание на последний автобус, — намек, не ускользнувший от Энн. Я знала, что, несмотря на доброту, она терпеть не могла возить кого-либо до станции на машине и брать на себя другие хлопоты, к которым была не готова. Мне не составляло труда читать мысли Энн: «Надо отделаться от этих людей, иначе они останутся на ужин, а потом и на ночь. Очередные интервенты».
В последнее время Энн часто жаловалась мне на «интервенцию», которой подвергался ее замок. Людям, которые знать ее не желали, когда она была женой простого водителя автобуса, вдруг вздумалось завести с ней дружбу. Монти не видел в этом поводов для беспокойства. Впрочем, устраивать застолья и развлекать гостей приходилось Энн, а не Монти, который целыми днями помогал управляющему в имении, исполнял обязанности егеря и следил за расчисткой леса.
Энн быстро поняла, что пара англичан, которых она пригласила только на чай, — прилипалы, надоедливые честолюбцы, и в полном отчаянии переглянулась со мной, услышав из уст Марион Рингер-Смит «уверена, мы с вами уже встречались».
— Вы думаете? — Энн поднялась и прошла к задней двери. — Это Cour des Adieus,[4] — пояснила она, — отсюда ближе до остановки вашего автобуса.
Марион наклонилась и схватила кусок кекса так, словно у нее остался последний в жизни шанс отведать кекса.
В то время я как раз дописывала роман. Энн предложила мне покой и тишину французского шато, идеальные в сочетании с ее собственным образом жизни, далеким от церемоний. Мало того, она взялась перепечатать рукопись. Но на часах было уже без четверти шесть, и я понимала, что свои планы на остаток дня мы можем и не выполнить.
В том, что Марион действительно встречалась раньше с Энн, я сомневалась. Просто Марион выбрала именно этот способ для психологического воздействия на Энн. Из нас двоих Марион была знакома со мной, но не отдавала себе в этом отчета. За прошедшие сорок лет она успела забыть меня.
Джейк Рингер-Смит спросил, нельзя ли ему воспользоваться ванной. «Ох и назойливый тип, — мелькнуло У меня. — Почему бы вам двоим просто не взять и не уйти?» До самой остановки сплошь деревья и непролазные кусты, словом, есть где помочиться. Но нет, ему втемяшилось заглянуть в ванную. До автобуса оставалось почти десять минут. Джейк подтолкнул свой рюкзак жене:
— Ты не захватишь его?
— Мне бы так хотелось пройтись по шато, — сказала Марион, — раз уж мы здесь и притащились в такую даль.
В подобные ситуации мне случалось попадать и прежде. Встречаются люди, как ни в чем не бывало задерживающие целую группу усталых спутников только потому, что им приспичило осмотреть уникальный амвон. Или те, кто прибывает на ужин с часовым опозданием, объясняя, что просто не мог не посетить по дороге некую картинную галерею. Марион была как раз из таких. В ответ на упрек она не постеснялась бы возразить, что заплатила за билет на самолет, чтобы добраться до места. Мне запомнились бесформенное, сшитое из марлевки платье Марион, ее потрепанные сандалии, мешковатые, неряшливые брюки Джейка в нарочитых заплатках, алчное стремление обоих сблизиться с хозяйкой дома, выпросить разрешение поужинать в шато и, несомненно, остаться переночевать. Я искренне сочувствовала Энн, которая, как видно, жалела себя и горько раскаивалась, вспоминая необдуманное приглашение на чай.
В постройке, находящейся на некотором расстоянии от дома, за огородом, Энн устроила кухню и столовую для бездомных. Я знала, что она обязана являться туда и оказывать посильную помощь каждый вечер в половине седьмого. Энн старательно растолковала это Рингер-Смитам:
— …я с радостью предложила бы вам осмотреть дом, но здесь и смотреть-то не на что.
— Столовая для бездомных! — воскликнул Джейк. — А можно и нам миску супа? Тогда мы могли бы устроиться на ночь в спальных мешках, где-нибудь в ваших очаровательных аркадах, а завтра осмотреть дом.
Похоже на кошмар, верно? Так и есть. Этих людей было ничем не пронять.
Тем же вечером, раздавая ломти хлеба с сыром и миски томатного супа в столовой для бездомных, я ничуть не удивилась появлению Рингер-Смитов.
— Наше место среди низших классов, — объявил Джейк с подчеркнуто скромной усмешкой, означающей «среди низших классов нам не место, посмотрите-ка, какие мы недюжинные натуры, — нам нет дела до того, как мы выглядим и с кем общаемся. Мы — это мы».
На самом же деле они смотрелись неуместно и даже подозрительно среди тощих, как скелеты, бродяг, лохматых недоучек и одутловатых побирушек-мешочниц. Даже не улыбнувшись, я подала им тарелки. На последний автобус они не успели. Энн и Монти пришлось устраивать их в доме на ночь. Я прямо слышала, как Рингер-Смиты похваляются в кругу друзей: «В Дижоне мы гостили в шато Леклер-де-Мартино».
Перед завтраком я посоветовала Энн и Монти пореже попадаться незваным гостям на глаза.
— Не то вы никогда от них не отделаетесь, — объяснила я. — Предоставьте их мне.
— Я точно помню, — сказала Марион, — что уже встречалась с Энн. Только не могу сказать где.
— Она много у кого служила кухаркой, — объяснила я. — А Монти — дворецким.
— Кухарка и дворецкий? — переспросил Джейк.
— Да, а хозяина с хозяйкой сейчас нет дома.
— А она сказала мне, что она и есть хозяйка, — возразила Марион, мотнув головой в сторону двери столовой.
— О нет. Вы, наверное, ошиблись.
— Но я же точно помню, что она сказала…
— Нет, что вы, — перебила я. — Жаль, что осмотреть шато вам не удастся. Такие дивные картины. Но графиня с минуты на минуту будет здесь. Не знаю, как вы намерены объясняться. Насколько мне известно, вас не приглашали.
— Как же, приглашали, — возразил Джейк. — Слуги уговорили нас задержаться. Как это типично — строить из себя хозяев поместья!.. Однако уже поздно, мы опоздаем на автобус.
Не прошло и четырех минут, как они удалились, волоча по дорожке свои туго набитые рюкзаки.
Узнав, как я этого добилась, Энн и Монти пришли в восторг. По своему опыту Энн было известно, что такие гости способны застрять в шато на целую неделю.
— Ну а как еще обходиться с такими людьми? — спросила Энн.
— На вашем месте я бы написала о них рассказ, — ответила я. — И продала его.
— А если они подадут в суд?
— Пусть подают, — кивнула я. — Пусть только попробуют заявить: «Да, это были мы».
— Парочка со странностями. Они прихватили с собой мыло, — сообщила Энн.
Улыбающийся Монти ушел по делам. Энн тоже. И я последовала их примеру. Точнее, попыталась.
Тем же утром два часа спустя, в половине двенадцатого, я выглянула в окно своей комнаты, как часто делала, работая над романом, и увидела все ту же парочку под деревом у края лужайки. Оба смотрели на дом.
Я понятия не имела, где в ту минуту находились Монти и Энн, и не знала, как найти управляющего Рауля или его жену, Мари-Луизу. Несмотря на нежелание нарушать ритм рабочего утра, я все-таки решила спуститься и узнать, в чем дело. Едва увидев меня, Марион воскликнула:
— A-а, привет. Мы решили, что неучтиво с нашей стороны уезжать, не повидавшись с хозяйкой дома и не выразив ей свое уважение.
— Мы дождемся графиню, — заключил Джейк.
— В таком случае вам не повезло, — ответила я. — Если не ошибаюсь, недавно выяснилось, что она вернется не раньше чем через неделю.
— Ничего, — сказала Марион. — Неделю мы можем подождать.
— Только из вежливости… — добавил Джейк.
Мне удалось привлечь внимание Энн, прежде чем она заметила их. Когда она наконец появилась перед парой, ее встретили холодно.
— Уверен, графиня обиделась бы, если бы мы уехали, даже не поблагодарив ее, — заявил Джейк.
— Вовсе нет, — ответила Энн. — В любом случае вам придется уехать.
— Отнюдь, — заявила Марион.
На помощь к нам пришел Рауль, к которому присоединился Монти, успевший навести порядок в комнате, где ночевали гости.
— Раз уж постельное белье все равно придется менять, — продолжала Марион, — мы могли бы и задержаться. А столоваться мы готовы и в сарае. — Она имела в виду кухню для бездомных.
— Мы не чураемся пролетариата, — добавил Джейк.
Мы с Раулем обыскали весь дом, перерыли все ящики в поисках ключа от двери их спальни. Наконец мы нашли ключ, который подошел, и сумели запереть от гостей комнату. Монти забрал у них рюкзаки и выбросил их за ворота шато. Все это мы проделали, пока парочка угощалась в столовой для бездомных. Впятером (к нам присоединилась Мари-Луиза) мы разыскали их и сообщили о том, как поступили.
Что было с этими двоими дальше, никто из нас толком не знает. Нам известно только то, что они попытались вновь пронести рюкзаки в дом, но очутились перед запертой управляющим дверью. Энн получила письмо, в котором Джейк, корректно называя ее «графиней», с негодованием жаловался на то, как обошлась с ними «прислуга».
«Что-то подсказывало мне, — писал Джейк, — что не следует принимать приглашение этих людей. Я же чувствовал, что они нам не ровня. Напрасно я не прислушался к голосу интуиции. Среди таких людей полным-полно отъявленных снобов».
ЕВРЕЙКИ-ЯЗЫЧНИЦЫ
© Перевод. У. Сапцина, 2011.
Однажды в лавку моей бабуленьки в Уотфорде за-я пился сумасшедший. Я назвала бабушку уменьшительным словечком только за рост и размеры ее мирка в квадратных футах: лавчонки, полной всякой всячины, гостиной позади нее, еще дальше — отделанной камнем кухни и двух спален наверху.
— Убью! — рявкнул сумасшедший, раскорячившись в дверном проеме и вытягивая смуглые ручищи, словно для того, чтобы кого-нибудь схватить и задушить. Его глаза пристально глядели с лица, которое почти скрывали косматые брови и борода.
Улица была безлюдна. Кроме бабушки, в доме не было ни души. За несколько лет наслушавшись этой истории, я уверовала, что в тот момент стояла рядом с бабушкой, хоть она и объясняла, что это случилось задолго до моего рождения. Однако я вижу эту сцену отчетливо, как мое собственное воспоминание. Сумасшедший, удравший из лечебницы посреди большого парка по соседству, вскинул волосатые руки и скрючил пальцы, как для удушения. За его спиной виднелась улица — если не считать солнечного света, на ней было пусто.
Он добавил:
— Я тебя убью.
Бабушка сложила руки на белом переднике, надетом поверх черного, и посмотрела неизвестному прямо в глаза.
— Тогда тебя повешают, — сообщила она.
Сумасшедший развернулся и побрел прочь, шаркая ногами.
Бабушка должна была сказать «повесят», и я помню, что однажды, слушая этот рассказ, поправила ее. Она ответила, что для сумасшедшего сойдет и «повешают». Это объяснение меня не впечатлило — в отличие от самой истории, поэтому я, пересказывая ее, частенько так и говорила: «повешают» вместо «повесят».
Все это я запомнила так прочно и, как мне казалось, видела настолько отчетливо, что не могла поверить, что о случившемся знаю только понаслышке: это было задолго до моего рождения. В то время дедушка еще был молод, на пятнадцать лет младше жены, за женитьбу на которой родные отреклись от него. Когда в лавку явился сумасшедший, дедушка как раз уехал договариваться насчет сеянцев.
Бабушка вышла за него по страстной любви, сама бегала за ним, выслеживала его и наконец женила на себе — настолько он был красивым и никчемным. Она не жалела о том, что ей пришлось работать и всю жизнь содержать мужа. Бабушка была на диво уродлива; чтобы смотреть на нее, приходилось пересиливать себя. Помню, дед, много лет прожив в браке с ней, по-прежнему приносил ей розы из сада и подкладывал подушки под голову и ступни, когда она устраивалась подремать на диване в гостиной между двумя и тремя часами пополудни. Он был не в состоянии дочиста отмыть прилавок, потому что не знал, как это делается, зато разбирался в собаках, птицах и садах и ради развлечения занимался фотографией.
Он говорил бабушке: «Встань поближе к георгинам, и я запечатлею твой образ».
Я жалела, что бабушка понятия не имела, как запечатлеть дедов образ, потому что запомнила его золотоволосым, с тонкими чертами лица и пышными бакенбардами. У бабушки был широкий и курносый, как у мопса, нос, желтоватый цвет лица, блестящие черные глаза, смотревшие на мир в упор, и тусклые черные волосы, скрученные в тугой узелок. Она походила на белокожую негритянку и даже не пыталась как-нибудь приукрасить себя, разве что умывалась дождевой водой.
Бабушка родилась в Степни и была еврейкой только по отцу, но не по матери. Она говорила, что ее отец промышлял шарлатанством, и гордилась этим, потому что считала, что больных лечит особая мягкая манера целителя подавать флаконы со снадобьями, а не содержимое этих флаконов. Я всегда требовала, чтобы мои престарелые родственники сопровождали рассказы инсценировками: «Покажи, как он это делал».
Бабушка с готовностью подавалась вперед, сидя на стуле, и протягивала мне невидимый флакончик со снадобьем. И говорила: «Вот, пожалуйте, душенька, и вы не будете знать беды — только не забывайте своевременно облегчаться». А потом добавляла:
— Снадобья деда состояли из одного только свекольного сока, однако он следил и за своими манерами, и за этикетками и флаконы закупал оптом по три пенса. Мой отец многих избавил от болей и мук, и все благодаря изящным манерам.
Эти слова тоже врезались мне в память, и я уверовала, что своими глазами видела обаятельного врача-шарлатана, умершего задолго до моего рождения. Я вспомнила о нем, когда увидела, как мой дед со свойственными ему изящными манерами дал крохотную дозу лекарства из синего флакончика одной из своих пестрых птичек. Он раскрыл ей клювик пальцем и отправил туда каплю. В небольшом саду на каждом шагу попадались конуры, парники и сараи с птицами и цветочными горшками. Сделанные дедом фотографии не отражали реальность. Однажды он назвал меня «канарейкой» и поставил на фоне кирпичной стены, чтобы запечатлеть мой образ. На этом снимке сад выглядит огромным. Вероятно, на фотографиях дед воспроизводил более пышный сад, где он провел юность и откуда его мстительно изгнали после женитьбы на моей бабушке, задолго до того, как я родилась.
После смерти деда, когда бабушка переселилась жить к нам, однажды я пристала к ней с вопросом:
— Бабушка, так ты еврейка или язычница?
Мне не давал покоя вопрос, как ее будут хоронить, по обычаям какой религии, когда она отживет свое.
— Я еврейка-язычница, — ответила она.
Все время, пока она держала лавку и торговала в Уотфорде всякой всячиной, свои еврейские корни она старалась не афишировать — торговле они не способствовали. Бабушка изумилась бы, услышав, что ее позиция в корне неверна или выглядит как проявление слабости. С ее точки зрения, все разумное и полезное для дела было благом пред Всевышним. Во Всевышнего она верила всем сердцем. Я никогда не слышала, чтобы бабушка называла его иначе, — разве что когда восклицала «Боже упаси». Она состояла в «Союзе матерей» англиканской церкви. Посещала все собрания методистов, баптистов и квакеров. Это было разумно, приемлемо и полезно для торговли. Она никогда не бывала в церкви по воскресеньям — только по особым случаям, например, на службе в День памяти погибших. Своей совестью она поступилась лишь однажды, когда явилась на собрание спиритуалистов: из чистого любопытства, а не ради дела. Там ей на ногу упала скамья, и бабушка месяц хромала; такова была кара Всевышнего.
Я подробно расспрашивала ее о спиритуализме.
— Они нарушали покой мертвецов, — объясняла бабушка. — А Всевышний гневается, когда мертвецов тревожат, пока они еще не готовы.
Потом она объяснила, какая участь со временем постигала спиритуалистов.
— Они бегали по дорожкам сада, оглядывались через плечо, передергивались и бежали обратно. По-моему, им чудились духи.
Я брала бабушку за руку и выводила в сад, чтобы она показала мне, что именно делали спиритуалисты. Она грациозно пробегала по дорожке, придерживая юбки обеими руками, озиралась вокруг внезапно заблестевшими глазами, в ужасе вздрагивала, а потом, подхватив юбки еще выше, так что мелькали белые оборочки нижней юбки над черными чулками, бегом возвращалась ко мне, едва переводя дыхание.
Дед выходил посмотреть на наши проказы и высоко поднимал среди веснушек песчаные брови.
— Аделаида, не шали, — говорил он бабушке.
И бабушка вновь пускалась бежать, истошно крича: «Ах, ах, ах!»
Роясь в лавке, я забралась на два пустых ящика из-под шипучки и нашла на верхней полке несколько связок старых свечей, обернутых страницами с текстом занимательного содержания. Я разгладила их и прочитала: «Право голоса для женщин! Зачем вы угнетаете женщин?» Другая связка свечей была завернута в лист побольше, на котором старомодная, но воинственная с виду молодая особа размахивала «Юнион Джеком» и заявляла: «Я за суфражисток». Я спросила бабушку, откуда у нее эти бумаги, потому что она никогда и ничего не выбрасывала и наверняка хранила их для какой-то цели, пока не завернула в них свечи еще до моего рождения. За бабушку ответил дед, на время забыв о своей утонченности:
— От миссис Пни-под-хвост.
— Он хотел сказать — от миссис Панкхёрст. Том, как можно при ребенке!
Дед заулыбался собственной шутке. Так за один день я узнала и новое слово, и как бабушка участвовала в женских маршах по уотфордской Хай-стрит, разодетая во все лучшее, и как относился к этому дед. Я прямо-таки видела, как бабушка со знаменем вышагивает по залитой солнцем улице рядом с подругами, а ее белая нижняя юбка обвивается вокруг щиколоток при ходьбе. Через несколько лет мне уже с трудом верилось, что я не была свидетельницей марша, которым уотфордские суфражистки во главе с моей бабушкой прошли по Хай-стрит еще до моего рождения. Мне запомнился даже отблеск солнца на бабушкиной шляпке из черной соломки.
Какие-то евреи поселились в Уотфорде и открыли магазин велосипедов по соседству с бабушкиной лавкой. С этими людьми бабушка не желала иметь ничего общего. Они эмигрировали из Польши. Бабушка называла их «полячишками». Когда я спросила, что это значит, она ответила: «Иностранцы». Как-то днем иностранка-мама выглянула из двери своего магазина, мимо которого как раз проходила я, и дала мне гроздь винограда. И сказала: «Ешь». Удивляясь, я прибежала к бабушке, а та напомнила: «Я же говорила тебе: иностранцы смешные».
В своем кругу бабушка хвасталась еврейской кровью, благодаря которой она такая умная. Я знала: бабушка так умна, что ей не обязательно даже быть красивой. Она похвалялась, что ее предки с отцовской стороны перешли Чермное море: Всевышний простер руки, и расступились воды, и они пошли прочь из Египта среди моря посуше. Мариамь, сестра Моисея, ударила в свой тимпан и повела женщин через Чермное море, воспевая Всевышнего. Мне вспомнились девушки из Армии спасения, которые недавно промаршировали по озаренной солнцем уотфордской Хай-стрит под звон бубнов. Бабушка позвала меня к двери лавки посмотреть, а когда процессия проследовала мимо и ее шум затих вдалеке, отвернулась от двери и захлопала в ладоши над головой — и в подражание, и отчасти заразившись духом шествия. Она хлопала в ладоши и восклицала: «Аллилуйя! Аллилуйя!»
— Аделаида, милая, не шали.
Участвовала ли я в переходе через Чермное море? Нет, ведь это было еще до моего рождения. Моя голова была набита историями о греках и троянцах, пиктах и римлянах, якобитах и «красномундирниках», но я точно знала, что они жили еще до меня. А вот моя бабушка и ее рассказы — совсем другое дело. Я видела, как она идет во главе процессии, ведет за собой женщин в танце триумфа, бьет в бубен от радости и восклицает «аллилуйя» вместе с миссис Панкхёрст и Мариамь, сестрой Моисея. Руки Всевышнего удерживают расступившееся стенами море. Белая кружевная оторочка бабушкиной нижней юбки мелькает из-под верхней, черной, на дюйм выше ботинок, как когда бабушка бегала по садовой дорожке, показывая, что стало со спиритуалистами. Мой разум способен определить, какую часть происходящего я видела и что произошло до моего рождения, однако он не в состоянии изгладить из памяти эту сцену или приуменьшить ее.
Двоюродные бабки Салли и Нэнси, сестры моего деда, нехотя помирились с ним еще до моего рождения. Каждое лето меня отправляли к ним в гости. К тому времени они вели тихую жизнь, эти старые девы со скудными средствами. Они занимались цветами для украшения алтаря и викарием. Как моя бабушка, я была еврейкой-язычницей, потому что евреем был мой отец, а двоюродные бабки недоумевали, почему я, в отличие от моей родной бабушки, не выгляжу как еврейка. Они обсуждали это при мне, словно я не понимала, что речь идет о моей внешности. Я заявила, что выгляжу еврейкой, и, не зная, на что еще сослаться, указала на мои маленькие ступни.
— У всех евреев очень маленькие ступни, — заявила я.
Бабки поверили, потому что не имели опыта общения с евреями, и согласились друг с другом, что мне присуща эта характерная черта еврейского народа.
У Нэнси было длинное узкое лицо, у Салли — круглое. На миниатюрных столиках скапливалось множество подушечек, утыканных булавками. Каждое лето старушки угощали меня анисовым кексом с чаем, звучно тикали часы, отмеряя их молчание. Я смотрела на желтовато-зеленую плюшевую обивку, на которую косо падали лучи полуденного солнца, смотрела до тех пор, пока не впитывала ее цвет и ворсистость в полном трансе молчания бабок. Возвращаясь к родной бабушке, я гляделась в зеркало, и мне казалось, что мои голубые глаза приобрели оттенок желтовато-зеленого плюша.
На одном из таких полуденных чаепитий бабки упомянули, что мой отец — инженер. Я сказала, что все евреи инженеры. Салли и Нэнси заинтересовал этот факт, который в то время я считала чистейшей правдой, делая исключение для некоторых шарлатанов. Вдруг Салли вскинула голову и сказала:
— А Лангфорды не инженеры.
Лангфорды были даже не евреями, а язычниками с немецкими корнями, но в наших краях это не играло роли. Бабушка не причисляла Лангфордов к иностранцам, потому что они говорили на правильном, а не на ломаном английском и родились в Лондоне.
Девушки из семьи Лангфорд были лучшими подругами юности моей мамы. Лотти хорошо пела, Флора играла на фортепиано, а Сюзанна была со странностями. Помню один длинный вечер у них в доме: моя мама и Лотти пели дуэтом, Флора аккомпанировала им, а на лице Сюзанны, которая маячила в дверях гостиной, играла загадочная улыбка, какой раньше я ни у кого не видела. Я не могла отвести от нее глаз, и мне влетело за то, что я таращусь на людей.
Однажды, когда маме и Лотти было семнадцать, они наняли кеб и отправились в какую-то гостиницу на расстоянии нескольких миль от города, где выпили джина. Они угостили джином и кучера и, совсем забыв, что задумали тайную поездку, вернулись через два часа, стоя в кебе и голося: «Гнусный крошка Уотфорд! Грязный крошка Уотфорд! Распрощаемся с тобой, гадкий крошка Уотфорд!» Они не считали себя деревенскими девчонками и с нетерпением ждали, когда их отошлют куда-нибудь к родственникам. Так вскоре и случилось: Лотти надолго услали в Лондон, мою маму — в Эдинбург. Мама рассказала мне о триумфальном возвращении запряженного лошадьми экипажа по Хай-стрит, а бабушка подтвердила ее слова, добавив, что это скверно отразилось на торговле. Я услышала цоканье копыт и увидела одетых в пестренький муслин девушек, которые неуверенно пошатывались, стоя во весь рост в наемном экипаже, хотя наяву никогда не видывала ничего подобного — только тележки молочников, автомобили, автобусы, девушек в коротких юбках на Хай-стрит, — если не считать таких напоминаний о давних временах, как толстый старый Бенскин из «Пивоварни Бенскина», который каждое утро прогуливался по озаренному солнцем тротуару и кланялся, проходя мимо моей бабушки.
«Я еврейка-язычница».
Бабушку похоронили как еврейку, так как она умерла в доме моего отца, некрологи поместили в еврейской прессе. Одновременно мои двоюродные бабки объявили через уотфордские газеты, что она почила в бозе.
Моя мама никогда не забывала трижды поклониться молодому месяцу, стоило ей заметить его впервые. Я видела, как она стояла на многолюдной улице, под прицелом взглядов недружелюбных и рациональных пресвитериан, показывала месяцу деньги, кланялась, ни на кого не обращая внимания, и повторяла нараспев: «Месяц, месяц молодой, будь поласковей со мной». В моей памяти эта картина неразрывно связана с другой: мама зажигает субботние свечи вечером в пятницу, нараспев повторяя молитву на иврите — как я позднее узнала, довольно странной разновидности иврита. И все-таки этот обряд она выполняла торжественно и неукоснительно. Она говорила, что израильтяне из Библии и она сама — одно и то же, ведь в ней есть еврейская кровь, и мне даже не пришло в голову усомниться в этом захватывающем факте. Я считала маму второй еврейкой-язычницей после бабушки, а себя — третьей.
Мама повсюду носила в сумочке медальон с изображением Христа в терновом венце. На одном столике она держала довольно изящную статуэтку Будды на листе лотоса, на другом — отвратительную копию Венеры Милосской. В мамином доме все божества находили себе применение, но верила она лишь в одного — во Всевышнего. Мой отец на вопрос, во что он верит, отвечал: «Верую в Бога Всевышнего, творца неба и земли» — и больше не добавлял ни слова, возвращаясь к газетам со сводками о бегах и другими проблемами, приличествующими безгрешным людям. Родители отнюдь не испытали потрясения, когда я обратилась в католичество, ведь и у католиков все в конечном итоге сводится к Всевышнему.
В ПОИСКАХ ЗАБОТ ДЕМОНА
© Перевод. У. Сапцина, 2011.
«Забот демона!» — эта фраза преследовала меня годами. Сразу после приезда в Лондон я работала на человека, который вечно терял бумаги. Целыми часами я искала эти клочки и обрывки, пока он вдруг не восклицал: «Забот демона!» Спустя некоторое время я привыкла к нему. Хоть я и родом с севера страны и поначалу улавливала лишь звук «а» в первом слове и «е» — во втором, постепенно до меня дошло, что «забот демона» на самом деле значит «ах вот где она». Несмотря на привычку моего работодателя изъясняться скороговоркой и пренебрегать согласными, я научилась расшифровывать даже, казалось бы, совсем неуместные замечания вроде «заноза в башке», получая сказанное кстати «вновь нет нигде!».
Мне продолжали попадаться люди, подобные моему работодателю. Как правило, мне удавалось восстановить недостающие буквы и догадаться, каким должно быть целое. Как правило — с единственным исключением в виде забот демона. Могу поручиться: как в щебете овсянки непрерывно слышится «немножко хлеба, но не сыр», как кукушка упорно твердит одно и то же «ку-ку», так и гости на рядовой многолюдной вечеринке постоянно повторяют «забот демона».
В начале поисков это выражение выводило меня из себя. Всякий раз оно означало нечто новое, но его смысл явно проистекал из общего и, возможно, мистического значения. Весомость этих забот соседствовала с эфемерностью демона; в наличии имелись все ингредиенты раздражителей для грубоватой забавы Павлова. О чем говорили люди — о компоте в семенах? О том, что их ждет, если будет доказана вина? Однажды в поезде я познакомилась с солдатом, который пытался улизнуть от военной полиции. «Они мне — пропуск давай, а если не забот демона, ничего не поделаешь», — объяснял он сквозь зубы. «Отчего же?» — нашла хитроумный способ отозваться я. Мой вопрос побудил его выговорить отчетливее: «Как же я дам им пропуск, если их никто не выдает нам?» От одной знакомой девушки я услышала: «За него замуж? Забот демона». Не проявив должного великодушия к собеседнице, я поняла, что никто ее и не зовет, а оказалось, что такое замужество никто не вынесет ни дня. Помню еще одну поездку за город… кот у окна… «Да, думаю, темечко ему не напечет», — согласилась я, заметив, что хозяин дома указывает на пахаря, работающего вдалеке.
Еще один пример из ранних и способных свести с ума относится к тому случаю, когда мне пришлось переночевать у матери одного моего друга. За завтраком она читала письмо от сына. Потом отложила письмо и, задумчиво глядя на вазу с цветами, пробормотала: «Забот демона, вы не находите?» Конечно, я считала, что Энтони слишком забегает вперед. Я могла бы еще много рассказать ей об Энтони, но, вспомнив, что как-никак говорю с его матерью, воскликнула: «О нет, что вы!» Она выдержала паузу и решительно повторила, глядя на цветы: «А по-моему, дорогая, этот куст цветет дивно».
Я вступила в фазу одержимости. З.Д. наполнились смыслом и угрозой. Я уже подозревала, что это некое лицо. Не хотела бы я встретиться с миссис Демона, ибо в то время считала, что это наверняка дама, вдова, ранее бывшая замужем за мистером Демона, которого, прежде чем он исчез бесследно, видели с женой всего один раз — на пустынной вершине утеса где-нибудь на Оркнейских островах или на мысу Лендс-Энд. Поначалу у миссис Демона было полно забот. Она казалась такой гостеприимной. Порой я гадала, не предмет ли этот «демона» — может быть, минерал с выраженными магнитными свойствами, из всех людей вызывающий аллергию только у меня. Но, промучившись до рассвета, я снова уверовала, что это человек.
Ситуация достигла масштабов готического романа. Я решила выследить чудовище и затравить его прежде, чем оно затравит меня, и взялась за дело. Я стала завсегдатаем заведений, которые были совершенно не в Моем вкусе, — уютных чайных и кафе с названиями вроде «Чайник Араминты» и «Рыжий кувшин» в Хэмпстеде, Кенсингтоне и даже в Илинге. В этих «кувшинах» и «чайниках» забот демона распускался махровым цветом, особо буйствуя днем, с четырех до половины шестого. Мой план был прост: от меня требовалось только сидеть и слушать, брать на заметку все фразы, начинающиеся с забот, какие услышу, переводить их на английский, а когда моя коллекция достигнет приличных размеров, извлечь объединяющие факторы смысла. Так я сумею установить местонахождение забот демона, его происхождение, характер, национальность родителей и теперешний адрес.
В первый день все прошло как по маслу. Я прислушалась к разговору матери с дочерью, которые пили чай.
— О посетителях здесь заботятся, — заметила мать, улыбаясь кексам, а дочь отозвалась:
— А чай у них всегда был больной темой.
Я сочла этот разговор добрым предзнаменованием. Но не прошло и нескольких дней, как возникли зловещие осложнения вроде «забот демона забот». Такие шедевры, как взвод Деймона, полет и Луна, койот певуна, гавот слона, оплот в стенах, плетка и струна, хобот до дна, взлет тебе на! — остались за пределами моего понимания.
Последняя выбранная мной чайная носила подозрительное название «Африканская ветвь» — в силу того, что в окне красовался развесистый папоротник. Я выбрала столик неподалеку от молодой пары, которая довольно громко беседовала.
— Как тебе забот демона на забот демона? — прощебетала девушка.
— Нет, спасибо, — отказался юноша. — Лучше съем булочку.
Девушка нахмурилась. Он явно не понял ее, этот симпатичный молодой человек. И она повторила вопрос. Благодаря практике я быстро расшифровала его: «Как прошел благотворительный бал в субботу?»
— Демона! — ответил он. — Забот!
— Я согласился пойти, только чтобы порадовать мать, — счел своим долгом добавить он, из чего я сделала вывод, что он сходил напрасно: танцевать помешал собравшийся во множестве народ.
Я вытянула шею, продолжая прислушиваться. Девушка разразилась длинной фразой — несомненно, имея в виду, что манерная мамаша Гарриет давно забыла, что такое ванна. Видимо, мамаша Гарриет жила в пансионе, где всегда ощущалась нехватка горячей воды, и, обладая хорошими манерами, всегда жертвовала своими удобствами ради других постояльцев.
Но юноша был, видимо, глуховат. Девушке пришлось повторять одно и то же несколько раз. Надменное сердце солдата терзает она… Обидно, что речь Марка настолько искусственна… Даже будь чайная курильней опиума, это обстоятельство вряд ли изменило бы к лучшему кошмарный день. «Забот забот демона забот демона демона», — настаивала девушка. И только тут меня осенило: жаль, что папе так и не Удалось задержаться допоздна. Видимо, речь по-прежнему шла о благотворительном бале. Пропал изумрудный браслет. Папа пока был в наличии, но потом тоже пропал. Я буквально видела, как круглый коротышка папа прыгает в самолет — нет, в «Золотую стрелу» на вокзале Виктория. Папа, ощупывающий выпуклость в нагрудном кармане, одетый по-деловому, но при этом такой одухотворенный… Мама в прострации. На его фирму уже обратили внимание. Жаль, что папе так и не удалось…
Но кто же тогда Забот Демона? Неужели папа…
В этот момент в чайную кто-то вошел. Девушка встрепенулась.
— Памела! — воскликнула она.
— Привет, Памела, — подхватил юноша, — а мы как раз говорили о тебе.
Так значит, речь шла о Памеле и, насколько я поняла, ее костлявых прелестях. По случайности я была знакома с этой Памелой. Она подошла ко мне, заговорила, потом познакомила меня со своими друзьями, и мы провели вместе весь вечер.
Мы направились в один паб, затем в другой. Потом забрели туда, где подавали довольно водянистую еду, в которой неопознанное нечто сочеталось с двумя видами овощей, и решили, что нам, проголодавшимся, и такое сойдет. За соседний столик сели двое мужчин. Тот, что был посолиднее, заказал к ужину ром, и я различила сквозь гул его голос — бархатистый, мурлыкающий, как у кота марки «роллс-ройс». Он носил широкое кольцо с ониксом, и хотя был во всем темном, одежда его не стройнила, а лицо, напоминающее плод над белыми листьями воротничка, сияло от обилия возвышенных мыслей. Он ничего не сказал своему спутнику, который, бедолага, казался подавленным. Этот нервный изможденный человек то и дело странно дергал кадыком, словно пытался проглотить гнетущую скорбь.
Хозяин заведения приблизился к этим двум.
— Как идут дела? — спросил он со смехом, в котором звучало не только дружелюбие. Вопрос, похоже, обрадовал солидного клиента.
— Забот демона! — провозгласил он и раскатисто рассмеялся. Его спутник прикрыл глаза и тихо заказал вина.
Официантка принесла наши тарелки, содержимое которых переплескивалось из одной в другую. Ставя их на стол, она мотнула головой в сторону наших соседей:
— Слышали? Ничего себе шуточки. Дурной вкус.
И она объяснила, что оба мужчины работают в похоронном бюро за углом, поэтому с недавних пор у хозяина заведения появилась неделикатная привычка интересоваться, как у них дела, а у солидного — отвечать: «Бесподобно!»
И вдруг я отчетливо увидела картину, от которой мне сразу полегчало: вот они, мистер Забот и злополучный мистер Демона. Мои друзья смеялись над шуткой хозяина, а я, надежно укрывшись в коконе своего личного просветления, тоже улыбалась, не обращая внимания на немудреные подробности. Партнеры начинали работу как «Забот, Демона и Кº», а теперь известны под названием «Похоронное бюро Забот Демона». Мистер Забот предпочитает иметь дело с безутешными родственниками, а тело оставляет на попечение мистера Демона.
Забот Демона. Мне нравится думать, что мистер Забот и мистер Демона самоотверженно трудятся, каждый на свой лад справляясь с обязанностями, без которых никому не обойтись. По-моему, это выглядит очень трогательно и совершенно справедливо, когда мы, собираясь компаниями, чтобы провести вместе несколько часов, усердными возгласами прославляем союз Забот Демона. В каком-то смысле они являются опорой страны — как и Домохозяйка, или Гвардеец Колдстримского полка. Драгоценное воспоминание: как тем вечером в пабе, куда они зашли наскоро поужинать, оба сидели в слаженном молчании. Его нарушил только сморщенный мистер Демона: подняв глаза от своей тарелки, он пробубнил известное всей стране выражение, содержащее его фамилию, и, пережевывая полный рот капусты, стал ждать, когда хозяин еще раз нальет вина.
ПЕРВЫЙ ГОД МОЕЙ ЖИЗНИ
© Перевод. У. Сапцина, 2011.
Я родилась в первый день второго месяца последнего года Первой мировой войны, в пятницу. Кто угодно подтвердит, что за весь первый год своей жизни я ни разу не улыбнулась. Я прослыла младенцем, улыбку у которого не может вызвать никто и ничто. Так уверяли все, кто знал меня в те времена. Уж как они только ни старались — и песни пели, и на руках меня тетешкали, и скакали вокруг, и гримасы строили. Позднее я не раз слышала об этом от родных и друзей семьи, а понимала еще тогда, с самого начала.
Вы наверняка вскоре услышите, а может, уже слышали о новой школе психологии, которая после длительных и рискованных экспериментов установила, что все детеныши человеческого вида рождаются всеведущими. Бодрствуя, младенцы узнают все, что происходит повсюду в мире, могут настроиться на любой разговор по своему выбору, подключиться к любым событиям. Все мы прошли через обладание подобными способностями. Только по прошествии первого года жизни нас отучают от них путем промывания мозгов, ибо наше непосредственное окружение требует, чтобы мы росли, пользуясь ими в практических целях. Постепенно наши всезнающие клеточки мозга отмирают, хотя их наследие обнаруживается у некоторых людей в форме экстрасенсорных способностей, а также у взрослых представителей отдельных первобытных племен.
Эта теория не нова. Как обычно, поэты и философы додумались до нее первыми. Однако научные доказательства уже собраны и обработаны. Вероятно, в какой-нибудь келье Гарвардского университета уже вносят последнюю правку в новый манифест. Со дня на день он будет представлен миру, и мир уверует.
Поэтому дайте мне высказаться первой, так как я абсолютно уверена в подлинности своих воспоминаний о прошлом. Моя биография, что я прекрасно сознавала даже в то время, началась в худший год, какой только выпадал этому миру. Прикованная к ложу и беззубая, не способная самостоятельно приподняться на подушке или издать хоть какие-нибудь звуки, кроме напоминающих о скотном дворе и полицейских сиренах, с совершенно неуправляемыми мочевым пузырем и кишечником, я была вдобавок угнетена непостижимым поведением двуногих млекопитающих, которые меня окружали. Эти одетые в черное существа, самки вида, к которому, по-видимому, принадлежала и я, говорили, что потеряли своих сыновей. Я много спала, чтобы не мешать им искать этих сыновей. Как особую булавку для моих подгузников, которую вечно теряли моя мать или кто-нибудь из ее подручных, на чьем попечении я находилась. Эти невнимательные женщины в черном сначала теряли своих мужей и братьев. А потом являлись с визитом к моей матери, кудахтали и ворковали над моей колыбелью. Мне было не смешно.
— До трех месяцев младенцы вообще не улыбаются, — уверяла моя мать. — Им и не полагается улыбаться, пока они младше трех месяцев.
Мой шестилетний братец маршировал туда-сюда с игрушечным ружьецом на плече:
Был славен герцог Йоркский, Солдат он муштровал. Все десять тысяч вел на холм, Потом с холма их гнал. Коль скажет «вверх» — наверх спешат, Коль «вниз» — то вниз идут. Коль ничего не говорит, Их нет ни там, ни тут.— Вы только послушайте его!
— Глядите, каков! Да еще с ружьем!
Мне было лет десять от роду, когда Россия перестала воевать. Я настроилась на царя, который со всем семейством стал узником, поскольку, видимо, его свергли с трона, так как незадолго до моего рождения в стране произошла революция. Об этом говорили все. Я настроилась на царя. «Ничто и никогда не заставит меня подписать Брест-Литовский мирный договор», — говорил он жене. А его, в сущности, никто и не просил.
В то время я спала по двадцать часов в сутки, набираясь сил. Судя по всему, что я узнавала в оставшиеся четыре часа, силы мне должны были понадобиться. Когда на моей частоте оказывался Западный фронт, он весь состоял из крови, грязи, расчлененных трупов, грохочущих ударов, беспорядочных вспышек света в ночном небе, взрывов и всеобщего ужаса. Поскольку сразу стало ясно, что я родилась в неподходящий момент мировой истории, будущее тревожило меня, тем более что я не могла даже приподнять голову над подушкой и в длину едва достигала двадцати дюймов. «Мне вправду хотелось бы быть лисой или птичкой», — писал кому-то Д. Г. Лоуренс. Уныло бредущий Иисус. Я засыпала.
Алое зарево, мечущееся по небу. 21 марта, пятнадцатый день моей жизни и немецкое Весеннее наступление, начавшееся перед моим утренним кормлением. Нескончаемая бойня. При виде этой сцены я насупилась и проверила, умею ли я пинаться. Попытка вышла жалкой. Разозлившись и с нетерпением ожидая прилива сил, я громкими воплями потребовала еды. После которой перестала вопить, но продолжала хмуриться.
Был славен герцог Йоркский, Солдат он муштровал…Кто-то качал мою колыбель. Никогда не слышала такой глупой песни. За Берлином и Веной люди умирали с голоду, замерзали, шли в атаку, бунтовали и шумели на улицах. Весь Лондон спешил на работу и бормотал, что пора заканчивать со всей этой чертовщиной.
Большие люди вокруг меня скалили зубы: это значило, что они улыбаются, следовательно, довольны или веселы. Они говорили о продуктовых карточках на мясо, сахар и масло.
— Когда же все это кончится?
Я засыпала. Потом просыпалась и настраивалась на Бернарда Шоу, который приказывал кому-то замолчать. Переключалась на Джозефа Конрада, который, как ни странно, говорил то же самое. Я по-прежнему считала, что услышанное не стоит улыбки, хотя теперь ее ждали от меня со дня надень. Я переносилась в Турцию. Завернутые во все черное женщины собирались в гаремах и тараторили: ля-ля-ля. Это было скучно, и я возвращалась домой.
Женщины в черном, но британки, появлялись и уходили. Вошел, кашляя, одетый в военную форму брат моей матери. Он отравился газами в окопах. «Tout la monde a le bataille!»[5] — призывал старый боров, маршал Фош. Он уже успел стать главнокомандующим союзных войск. Мой дядя выхаркивал собственные легкие и, не успев поправиться, был обречен вернуться на фронт. На его медных пуговицах плясал отблеск огня. К тому времени я уже весила двенадцать фунтов, потягивалась и пиналась для разминки, понимая, что мне предстоит провести в борьбе с ближними всю жизнь. Я ела шесть раз вдень и сумела подчинить себе большинство родичей к тому времени, как «Мстительный» был потоплен в гавани Остенде: в тот день я с особым рвением брызгалась во время купания.
Во Франции мобилизованные солдаты перебирались через груды трупов во время наступления, усеивали поле боя потерянными конечностями и вязли в грязи. Самые сильные воины всех фронтов погибли еще До моего рождения. Теперь стрелки прятались за баррикадами из трупов, солдаты с самого начала были болезненными. Я проверяла, все ли пальцы рук и ног у меня на месте, зная, что они мне еще понадобятся. В лондонском театре «Ройял-Корт» давали пьесу «Удалой молодец — гордость Запада», но иногда я переносилась в палату общин, звуки которой быстро убаюкивали меня. Как правило, я предпочитала Западный фронт, где выясняла истинное положение дел. Очень важно было сразу узнать все самое худшее о крови, взрывах и тому подобном, ибо, как говорят скауты, надо быть всегда готовым. Вирджиния Вульф зевала и тянулась за своим дневником. Право, по мне уж лучше Западный фронт.
На пятом месяце жизни я научилась отрывать голову от подушки и держать поднятой. Я могла хватать протянутые мне предметы. Некоторые из них громыхали и пищали. Я грызла их, помогая прорезаться зубам. «До сих пор не улыбается?» — спрашивали унылые тетушки. Мать вставала на мою защиту и говорила, что я, наверное, из тех детей, которые начинают улыбаться поздно. На моей волне женился Пабло Пикассо, а в начале того же месяца, июля, в соборе Святого Павла с помпой отпраздновали серебряную свадьбу короля Георга V и королевы Марии. Вместе с детьми они проехались по улицам Лондона. Двадцать пять лет супружеского счастья. После долгой суеты и церемониальной возни с мечами в Гилдхолле король и королева получили чек на 53 тысячи фунтов стерлингов, чтобы потратить их на благотворительность так, как сочтут нужным. Tout le monde a le bataille! Подоходный налог в Англии достиг шести шиллингов с фунта. Серебряная свадьба была у всех на устах — ля-ля-ля, а спустя десять дней и царя, и его семейство, уже увезенных в Сибирь, отвели в тесную подвальную комнату. Бах-бах, выпалили винтовки, подвал наполнился воплями и кровью, и это был конец дома Романовых. Я развивала мышцы. «Прекрасный здоровый младенец», — говорил врач, к моему огромному удовольствию.
Tout le monde a la bataille! В том числе и мой отравленный газами дядюшка. Я окрепла настолько, что начала ползать по манежу. Бертран Рассел все еще радовался жизни в тюрьме, куда его упекли за какую-то пацифистскую крамолу. Привычная настройка на линию фронта давала понять, что немцы выигрывают одну битву за другой, но проигрывают войну. Так оно и было. Те, кто имел высокий доход, беспокоились из-за подоходного налога в шесть шиллингов на фунт. Зато все женщины старше тридцати лет получили право голоса. «Так долго ждать», — говорила одна из моих печальных тетушек, которой минуло двадцать два. Выступления в палате общин неизменно усыпляли меня, вот почему я пропустила момент, когда прозвучала речь мистера Асквита по случаю перемирия 11 ноября. Мистер Асквит был в высшей степени уважаемым премьер-министром, в дальнейшем — графом, которого сменил на посту мистер Ллойд Джордж. Я отчетливо слышала, как Асквит в приватной беседе назвал Ллойд Джорджа «проклятым валлийским козлом».
Условия перемирия были подписаны, по такому поводу я бодрствовала. Держась за прутья своей кроватки, я подтянулась и встала на ноги. По-моему, зубы у меня прорезались просто замечательно и были вполне Достойны всех мучений, которые я вытерпела, чтобы вырастить их. Я весила двадцать фунтов. На всех фронтах мира численность погибших в бою и умерших от Ран составила 8 538 315 человек, а раненых и оставшихся калеками — 21 219 452 человека. Обдумывая эти цифры, я сидела на своем высоком стульчике и колотила ложкой по столу. Одетая в черное подруга моей матери продекламировала:
Свиданье назначает Смерть Мне возле спорных рубежей, С весною, в шелесте теней, Где с яблонь опадает цвет. Свиданье назначает Смерть.[6]Они заговорили о том, что почти все поэты умирают не своей смертью. Растроганные стихами, они промокали глаза чистыми белыми платками.
В следующем феврале я отметила свой первый день рождения и получила торт с одной свечкой. Собралось много детей и взрослых. Война кончилась два месяца и двадцать один день назад. «Почему она не улыбается?» Задувать свечу пришлось моему брату. Взрослые говорили о войне и политической обстановке. О Ллойд Джордже и Асквите, об Асквите и Ллойд Джордже. Помню, незадолго до этого я подключилась к мистеру Асквиту на частной вечеринке, где он перепил. Он играл в карты, и когда пришла его очередь снимать колоду, попытался вместо нее по ошибке снять большой коробок спичек. В другой раз я видела, как он обнимал за плечи какую-то даму в «даймлере» и в целом вел себя с ней очень по-дружески. Но она, к моему изумлению, заявила: «Если вы немедленно не прекратите эти глупости, я прикажу шоферу остановиться и выйду». На что мистер Асквит ответил: «И какую же причину вы назовете, позвольте узнать?» Но тут пришло время моего кормления.
На мой день рождения собирались гости. Как жаль, сказала одна из черных вдов, как жаль, что под самый конец войны убили Уилфреда Оуэна, и процитировала его:
Где звон по павшим, словно скот на бойне? Лишь рев чудовищный от канонад.[7]Дети визжали и топали. Одного стошнило, другой помочился на пол и застыл, расставив ноги и глазея на лужу. Ее вытерли. Я колотила ложкой по столу, восседая на высоком стульчике.
Но на свиданье в полночь Смерть В горящий город позвала Меня, когда весна ушла, И, верный слову моему, Не пропущу я рандеву.Прибыли новые гости, родители с детьми. Какой-то коренастый мужчина, который грелся, стоя спиной к камину, сказал:
— Мне всегда казалось, что после перемирия Асквит произнес донельзя уместные слова…
Торт поднесли поближе к моему высокому стульчику, чтобы я как следует разглядела его; свеча мерцала и дрожала над розовой глазурью.
— Какая жалость, что она никогда не улыбается.
— Придет время — улыбнется, — ответила, явно беспокоясь, моя мать.
— То, что Асквит говорил в палате общин сразу после войны, — говорил коренастый джентльмен, стоя задом к камину, — настолько подходило случаю — все, что он говорил. Что война навела порядок в мире и очистила его — ей-богу, так и сказал! Я запомнил слово в слово: «Все стало новым. Нашей стране выпала честь сыграть свою роль в этом великом очищении…»
Это подействовало. Я расплылась в решительной улыбке, которую заметили все, убежденные, что я улыбаюсь брату, который задул свечу на торте.
— Она улыбнулась! — воскликнула моя мать. И все закудахтали, припоминая, как именно я улыбнулась. Мало того, я закаркала, как обезумевшая ворона. — Моя крошка смеется! — обрадовалась моя мать.
— Это свечка на торте помогла, — решили все.
Чтоб он провалился, этот торт. С тех пор я научилась улыбаться естественно, как полагается здоровому и воспитанному человеку, но когда моя улыбка идет из глубины души, то она, сказать по правде, вызвана словами, произнесенными в палате общин после Первой мировой войны авторитетным, безукоризненно одетым, покойным мистером Асквитом.
ЖЕМЧУЖНАЯ ТЕНЬ
© Перевод. Т. Кудрявцева, 2011.
— Я его выслежу, — произнес мистер Невисс. — Я буду безжалостен.
Доктор Фелисити Грэйленд предложила ему конфетку, вазочка с которыми стояла у нее на столе (для детей?).
— Благодарю. Я разделаюсь с ним, — сказал мистер Невисс, — как только он попадет ко мне в руки.
— Да, мистер Невисс, — сказала Фелисити, которая работала врачом-психиатром в платном интернате для престарелых. — Собственно, мы оба с ним разделаемся. Для того мы здесь и находимся. Я вижу, вы значитесь как мистер О. Невисс. Что означает «О»?
— Я никак не пойму, кто мне больше неприятен, — сказал мистер Невисс. — Я ему переломаю…
— Мистер Невисс, — сказала Фелисити, — успокойтесь. Просто успокойтесь.
— «О» означает «Олаф». Нелегко успокоиться, — сказал пациент, — когда он стоит тут. — И он указал на место позади ее стула.
Фелисити откинулась на спинку стула.
— Пожалуйста, опишите мне эту Жемчужную Тень, Олаф, — сказала она. — Просто расскажите, что вы видите, со всеми подробностями. И зовите меня Фелисити, пожалуйста.
— Ну так вы сами можете это увидеть, — сказал Олаф. — Он стоит позади вас.
— А что он делает? — осведомилась Фелисити.
— Просто стоит, — сказал мистер Невисс. — Он всегда просто стоит, за исключением тех случаев, когда я пытаюсь схватить его, — тогда…
— Постарайтесь, — сказала Фелисити, — успокоиться. Что конкретно вы имеете в виду под Жемчужной Тенью?
— Ради всего святого, женщина, — сказал пациент, — да обернитесь же и сами увидите.
Потакая ему, она с легкой улыбкой обернулась и очень быстро вновь обратила взгляд на своего пациента.
— Вот что: сохраняйте спокойствие, — сказала она, беря конфетку. — А теперь скажите мне, когда все это началось с Жемчужной Тенью?
Фелисити посвятила Олафу час. Затем проводила его к медсестре, которая передала его сиделке, чтобы та отвела его в палату. А Фелисити постояла у своего кабинета. Помедлив, она быстро вышла. Да, Жемчужная Тень по-прежнему была там.
Фелисити с минуту подумала, потом решила пойти к главврачу по поводу себя. Ясное дело: переработала. Она протянула было руку к внутреннему телефону, когда в кабинет вошла сестра с книгой записи на прием.
— Только еще один пациент, доктор, — любезно произнесла сестра.
— О-о, — сказала Фелисити, — я думала, Невисс — последний. — Она заглянула в книгу. — Ж. Тень, — прочитала она. — Должно быть, новый пациент. У нас есть его история болезни?
— Она на вашем столе, — сказала медсестра. — Можно его пригласить?
— Я уже тут, — произнес Ж. Тень.
Медсестра даже подпрыгнула.
— О, мистер Теневой, — сказала она, — вам, знаете ли, следовало подождать в приемной.
— Присаживайтесь, мистер Теневой, — сказала Фелисити, когда сестра вышла. Она открыла ящик и вынула пачку сигарет: — Сигарету?
— Благодарю, — хрипло произнес пациент, а Фелисити тем временем просматривала его историю болезни.
— Не следовало мне предлагать вам сигареты, — улыбнулась она. — Я вижу, у вас были проблемы с легкими. И анемия.
— Я очень вялый, — сказал Жемчужная Тень, — и голос у меня почти исчез. Но, — продолжал Жемчужная Тень, замечая, что Фелисити старается рассмотреть его лицо, — я, видите ли, явился сюда по поводу нервов. Мне кое-что пришло на ум.
Тут Фелисити наконец почувствовала облегчение и спокойно приступила к обследованию пациента. Его светящееся, трудно уловимое лицо перестало иметь значение.
— Я вижу: вы тут записаны как Ж. Теневой. Что значит «ж»?
— Жемчужный. Можете так меня и называть.
— Просто успокойтесь, — сказала Фелисити. — Жемчужный, успокойтесь.
— Не так-то это легко, — сказал Жемчужная Тень, — когда все против тебя… Все против меня. Вы, — продолжал он, — против меня. Вы хотите покончить со мной. Вы хотите уничтожить меня.
— Успокойтесь, мистер Теневой, — сказала Фелисити, которая, право, не считала нужным обращаться к пациенту по имени. — А теперь скажите мне, откуда у вас эта идея?
— Вы сказали Невиссу, что оба избавитесь от меня. Именно этим вы тут занимаетесь, я слышал, — сказал Жемчужная Тень. — Вы даете ему успокоительные, верно? Вы добиваетесь, чтобы он выбросил меня из головы, верно?
Фелисити смотрела не отрываясь на его грудь, где как будто была галстучная жемчужная булавка.
— Я не могу обсуждать с вами лечение другого пациента, — пояснила она. — Это было бы неэтично. Один пациент не имеет никакого отношения к другому.
— Они прошлым вечером дали ему лекарство, — сказал Жемчужная Тень, — и я чуть от него не умер. Если вы дадите ему что-нибудь посильнее, я скорей всего угасну. Вы пытаетесь меня прикончить, — настаивал пациент. — Вы и все остальные. Я знаю.
Фелисити уделила ему час. Затем открыла дверь и выпустила его. Она старательно написала свое мнение о Ж. Теневом и отнесла его медсестре. У нее вошло в привычку обмениваться с сестрой несколькими дружескими фразами после ухода последнего пациента. Фелисити притулилась к притолоке открытой двери.
— Еще один день прошел, сестра, — заметила она. — Это был довольно нудный день. Собственно, — продолжила она, — не было никаких интересных случаев. Все точно выкроены по одной мерке. Возьмем, к примеру, ДВУХ последних. Невисс — одержим навязчивой идеей. Теневой одержим манией преследования. Вот если бы вы работали тут в прошлом году, когда у нас действительно были сложные случаи… Сестра! Что с вами?
— Он прошел сквозь меня, — произнесла сестра, тяжело дыша, — и вышел с другой стороны.
— Вы слишком много трудитесь, сестра, — сказала Фелисити. — Возьмите конфетку, сигарету… Вот вода. А теперь успокойтесь… просто успокойтесь. Не мог он пройти сквозь вас, но, думаю, я знаю, что вы имеете в виду. Он очень некрепкий человек. — Фелисити окинула взглядом мощные контуры сестры. — Вы что-то почувствовали, когда вам показалось, что он проходит сквозь вас?
— Ну, он весь светится, верно? Куда он пошел?
— Я думаю, домой. Он — амбулаторный больной. Если вы уже почувствовали себя лучше, сестра, то, боюсь, я вынуждена закрыть кабинет. Тяжелый у меня был день.
Фелисити по-прежнему была исполнена твердой решимости проконсультироваться с главврачом по поводу себя и своих смутных галлюцинаций, но было слишком поздно. Все уже уехали домой.
Доктор Фелисити Грэйленд, покидая свой кабинет, пожалела, что не запомнила имени сестры и от этого Их болтовня не стала более личной. Фелисити редко запоминала имена окружающих или встречавшихся ей людей. Не помнила она и имена многих своих пациентов, если не заглядывала в их карточки. Она поехала домой, усиленно пытаясь вспомнить имя своего последнего пациента. Ей это не удалось, и, поставив машину, она перестала об этом думать.
На обеденном столе ее ждал ужин из зеленого салата, рокфора и фруктов, а также черного хлеба и масла. Фелисити с удовольствием принялась ужинать, читая утреннюю газету. Ей никогда не удавалось до вечера почитать газеты. Тут она вспомнила, что хотела поговорить с главврачом по поводу себя.
По поводу себя? Себя? Да нет, тут какая-то ошибка. Она прошла в гостиную и включила телевизор, настроив его на телевикторину, ее любимую программу. Темой была испанская армада. Сколько лет было Филиппу II, когда он пустился в эту авантюру? Студентка с черными гладкими волосами и очками с круглыми стеклами, уже выигравшая тысячи фунтов, уверенно открыла рот, чтобы ответить. Но в этот момент телевизор выключился, хотя свет продолжал гореть.
— Ненавижу телевикторины, — произнес тоненький голосочек. — Там получают слишком много денег.
Фелисити обернулась и увидела своего пациента. Как же его зовут?
— Как вы сюда вошли? — спросила она.
— В дверь.
Входная дверь была заперта, но Фелисити предположила, что он имел в виду то, как он всюду проходит сквозь стены и двери.
— Если вы хотите профессионально проконсультироваться у меня, — сказала Фелисити, — то я готова выслушать у себя в кабинете в клинике. А это мой дом, мистер?..
— Ж. Теневой, — сказал он. — Имя: Жемчужный. Я предпочитаю не бывать в клинике. Я пугаю сестер.
Фелисити привыкла к странным пациентам, но была серьезно раздосадована вторжением в ее частную жизнь. Естественно, она не видела основания для препирательств с Теневым. Вместо этого она решила позвонить коллеге и попросить его помочь ей выдворить неожиданного пациента. Она набрала номер, а Ж. Теневой уютно расположился в кресле с газетой.
Номер, набранный Фелисити, не отвечал. Она с минуту подумала и стала искать другой номер в адресной книжке.
Она нашла имя того, кого искала, — Маргарет Аркенс, гинеколог, которая была замужем за Джеймсом Аркенсом, тоже гинекологом. Подумав о них — загорелых, молодых, смеющихся, белозубых, — она почувствовала себя идиоткой.
А Теневой продолжал сидеть. Он отложил в сторону газету и, судя по тому, что могла разглядеть Фелисити, выглядел более взволнованным, чем раньше.
— Мистер Теневой, что вас тревожит? — спросила она.
— Насколько я понимаю, вы ищете своих друзей-медиков, — сказал Жемчужная Тень. — Они могут вам посоветовать принять снотворное или что-то еще.
— Несомненно, — сказала Фелисити, начиная видеть некий выход из ситуации. — Я в любом случае приму снотворное.
— Если вы так поступите, это может меня убить.
— Успокойтесь. Просто успокойтесь. Я приму слабое снотворное. Но, честно говоря, мне действительно нужно что-то принять, чтобы заснуть.
В ванной Фелисити взяла одну белую таблетку из своего медицинского шкафчика. Почистила зубы. Затем заглянула в дверь гостиной. Жемчужная Тень уже ушел. Чтобы полностью в этом увериться, она, прежде чем лечь в постель, обошла весь дом. Да, таблетка сработала. Она хорошо поспала.
— Сестра, успокойтесь. Просто успокойтесь.
— Он — в приемной, — сказала сестра.
Было девять тридцать следующего утра — время, когда открывался кабинет психиатра.
— Есть другие пациенты? — спросила Фелисити.
— Еще трое. Но они, похоже, не замечают его.
Фелисити вполне этому верила. Большинство пациентов психиатра странно выглядят, особенно в ожидании консультации.
— Он может снова пройти сквозь меня, — громко взвыла сестра. — Мне становится жутко от этой мысли.
— Тише, — сказала доктор. — Вас могут услышать.
Дверь в кабинет была открыта. Кто-то услышал ее.
Доктор Маргарет Аркенс заглянула в дверь:
— Что-то случилось?
— Сестра Симмонс не очень хорошо себя чувствует, — сказала Фелисити таким тоном, что было ясно: теперь она твердо знает, как действовать дальше.
— Я испытала нечто ужасное, — сказала сестра Симмонс. — Вчера вечером, а сейчас — сегодня утром — это снова случится.
Маргарет и Фелисити проявили к ней необычайное внимание. Фелисити сама сделала ей укол, чтобы она успокоилась, и, отведя ее в комнату отдыха персонала, уложила.
— Переработала.
Оба доктора посмотрели друг на друга и со знанием дела покачали головой. Они обе уже давно знали, что все в их отделении перерабатывали, включая их самих.
Возвращаясь к себе в кабинет, Фелисити заглянула в приемную. Жемчужной Тени там не было.
Фелисити рекомендовала сестре Симмонс взять на месяц отпуск и пропить курс успокоительного. Сестра Симмонс жила в большой семье, все члены которой страшно волновались всякий раз, когда она, забыв принять свои таблетки, считала, что в комнате кто-то «есть». Она часто вскрикивала.
— У нее по-прежнему бывают галлюцинации, — сказала ее сестра по телефону.
А Жемчужная Тень однажды вечером снова посетил Фелисити.
— Вы что, хотите убить меня, давая ей все эти успокоительные?
— Да, — сказала Фелисити.
— Она может принять чрезмерную дозу.
— Наверняка примет, — сказала Фелисити.
— Но это же убьет меня.
— Я знаю, — сказала она. — Если вы не оставите нас в покое, вам скоро конец.
— Но я же ваш пациент.
— Вы ничего не почувствуете, — сказала доктор. — Абсолютно ничего.
У Жемчужной Тени вид был ужасно испуганный.
— Ваша единственная надежда, — сказала Фелисити, переключая телевизор с канала на канал, — оставить нас в покое и пойти лечиться куда-нибудь в другое место.
Сестре Симмонс стало лучше. Ни она, ни доктор Фелисити Грэйленд больше не видели Жемчужную Тень, но несколько лет спустя они услышали, что где-то на севере умер психиатр от передозировки барбитуратами, от которых — как ни странно — его кожа стала прозрачной и словно бы жемчужной.
ЖЕНА РОСТОВЩИКА
© Перевод. Н. Анастасьев, 2011.
В Си-Пойнте, на океанском побережье, обрывающемся мысом Доброй Надежды, в 1942 году постоянно что-то праздновали, отовсюду доносился шум веселья, а море, что ни день, выносило на берег тело в военной форме — бывало, что и не одно. Воды вокруг мыса были густо заминированы. Люди группами бросались вытаскивать тех, кому удалось уцелеть. Девицы с побережья и из гавани, по двое, ловили сходивших на берег моряков с тех кораблей, которым все же удалось пойти в залив.
В ожидании корабля, следующего в Англию, я жила на берегу, в доме миссис Йен Клут, жены ростовщика. Из окна, подле которого миссис Йен Клут до боли в глазах вязала носки для военных, ей было удобно следить за входом, и стоило мне зайти к себе в комнату или, наоборот, выйти, как она приоткрывала дверь и, не переступая порога, делилась последними новостями.
Это была невысокая женщина лет пятидесяти трех, Уроженка Сомерсета. Ее муж, Йен Клут, давно потерялся в Трансваале, где, по слухам, жил с местной женщиной. Жене он оставил трех дочерей, дом на берегу и ломбард, примыкающий к его тыльной части, со стороны какой-то грязной улочки.
Миссис Йен Клут в меру своего понимания довела до ума все начинания мужа. Дом находился в лучшем состоянии, чем когда-либо, и большую часть комнат хозяйка сдавала внаем. Ломбард же так и вовсе процветал, так что миссис Йен Клут смогла прикупить еще и лавку по соседству, в которой торговала всякими подержанными вещами, не выкупленными из ломбарда. Процветали и все три дочери. По словам очевидцев, в школу они бегали в башмаках на босу ногу, ибо, пока в доме жил отец, все деньги уходили на два его самых больших увлечения — желтый ликер «Адвокат» и чернокожих девиц. Но если посмотреть на дочерей сегодня, никогда не поверишь в их горькое прошлое. Младшая, Иза, — школьница с длинными золотистыми косами, девушка в своем роде весьма соблазнительная. Две другие, обеим под двадцать, более походят на мать, невысокие, застенчивые, тихие, воспитанные, чопорные и скромные. Зовут их Грета и Майда.
Миссис Йен Клут редко открывала дверь в свою комнату достаточно широко, чтобы можно было ее рассмотреть. Этой привычке следовали и другие члены семьи, хотя скрывать от посторонних глаз было, в общем, нечего. Обычно миссис Йен Клут, одна или с кем-нибудь из дочерей, застывала в узком проеме двери, открытой не более чем на двенадцать дюймов, и глядела куда-то через плечо. В коридоре было темно, ибо, будучи женщиной бережливой, она даже не вкручивала лампу, так что свет там не горел никогда. Однажды, войдя в дом, я разглядела в полоске света, пробивавшегося из хозяйских апартаментов, небольшую фигуру, тонкий профиль и шишковатый пучок волос.
— Ш-ш-ш. Не зайдете ли сегодня вечером разделить чашечку чаю с другими гостями? — едва слышно проговорила она.
Принимая предложение, я подумала, что потребность в шепоте была каким-то образом продиктована скромностью предстоящего чаепития, выраженная самой формой слова — «чашечка».
После ужина я постучала в ее дверь. Майда открыла ее ровно настолько, чтобы я могла войти, и тут же захлопнула. В комнате находилось еще несколько жильцов: молодой человек, работавший в портовой конторе, страховой агент на пенсии и его жена.
Вскоре появилась Иза — та самая школьница. Меня немало удивили ее ярко накрашенные губы и глаза.
— Очередной транспортник пришвартовался, — сообщила Иза.
— Тише, дорогая, — остановила ее мать, — считается, что мы должны помалкивать насчет судов.
При этих словах миссис Йен Клут подмигнула мне. Только тут я сообразила, насколько гордится она Изой.
— Из Аргентины, — продолжала та.
— Правда? — сказала миссис Йен Клут. — Ну и как, есть хорошие ребята?
Пожилая пара переглянулась. Молодой человек, для которого многое здесь было внове, судя по всему, удивился, но промолчал. Майда и Грета, как и их мать, похоже, сгорали от любопытства.
— И не один, а? — проговорила Майда. У нее была Распространенная в здешних краях манера заканчивать любое высказывание, вопрос, а впрочем, и ответ, междометием «а?».
— Можешь не сомневаться, приятель, — откликнулась Иза, которая также следовала обычной манере, добавляя «приятеля» ко всему, что бы она ни говорила, независимо от того, к кому обращается, мужчине или женщине.
— Ты ведь в «Звездную пыль» идешь, так, Иза? — осведомилась миссис Йен Клут.
— В «Звездную пыль»! — воскликнула миссис Маре, жена страхового агента. — Надеюсь, вы не о ночном клубе, приятель?
— Почему же, именно о нем, — отчеканила миссис Йен Клут. Единственная в семье, она не следовала местному стилю, и вообще ее речь заметно улучшилась со времен сомерсетской молодости. — Ей там весело, что в этом дурного?
— Молодым бываешь только раз в жизни, а? — проговорил молодой человек, стряхивая пепел в блюдце под укоризненным взглядом миссис Йен Клут.
Миссис Йен Клут послала Майду наверх, за подарками, которые Иза получала от мужчин, — вечерние сумочки, броши, шелковые чулки. Ситуация возникла довольно неловкая. Что тут сказать?
— Славные вещицы, — вымолвила я.
— Да ничего это не значит, ничего, — сказала миссис Йен Кнут, — ничего, это просто подарки. Иза знакомится только с хорошими молодыми людьми.
— А вы тоже танцуете? — поинтересовалась я у Греты.
— Нет, приятель. За нас Иза танцует, а? У нее это отлично получается.
— В точку, приятель, — поддержала сестру Майда.
— Ну да, — вздохнула миссис Йен Клут, — мы люди тихие. И если бы не Иза, жизнь у нас и вовсе тягомотная была бы.
— Она нуждается в пригляде, эта девочка, — заметила миссис Маре.
— Иза! — окликнула ее мать. — Ты слышала, что сказала миссис Маре?
— Слышала, приятель. Я конечно, слышала, а?
Из моей комнаты нельзя было не услышать то, что говорится в ломбарде, прямо у меня под окном.
— Надеюсь, вас ничто не беспокоит, — сказала миссис Йен Клут, искоса посматривая на старших дочерей.
— Нет, — сочла нужным заверить ее я, — сверху мне ничего не слышно.
— Я всегда повторяю девочкам, — продолжала миссис Йен Клут. — Нечего стыдиться работы в ЛД.
— В ЛД? — переспросил молодой клерк, приятель которого играл на литаврах в джаз-банде полицейского управления.
Миссис Йен Клут понизила голос.
— Ломбард, — поспешно пояснила она.
— Ах да, — кивнул молодой человек.
— Да, стыдиться тут нечего, — повторила миссис Иен Клут. — Ну и конечно, я всего лишь жена хозяина ЛД, сама-то вовсе не ЛД.
— Мы содержим лавку в отличном порядке, приятель, — сказала Майда.
— А вы там были? — повернулась ко мне миссис Йен Клут.
— Нет, не приходилось.
— Положим, ничего такого особенного там не увидишь, — сказала она, — но иные ЛД, доложу я вам, это нечто. Посмотрели бы вы на них в Англии. Сплошная грязь! По крайней мере так мне говорили, — добавила она.
— Да, в Англии и впрямь иные ломбарды — настоящая свалка, — подтвердила я.
— А вы что, сами видели? — спросила миссис Йен Клут.
— Ну да, и не раз, — сказала я, пытаясь вспомнить, где это было. — Естественно, в Лондоне, как-то раз в Манчестере, и еще…
— А зачем вы туда заходили, приятель? — осведомилась Грета.
— Ну как зачем, вещи заложить, — сказала я, довольная тем, что могу продемонстрировать кое-какое знакомство с их профессией. — Был у меня компас, но я его больше так и не увидела. Правда, никогда им и не пользовалась.
Миссис Йен Клут поставила чашку на стол и, оглядевшись, убедилась, что, к несчастью, все услышали мои слова.
— Благодарение Богу, — сказала она, стуча по дереву, — но мне, к счастью, ни разу не приходилось попадать в такое положение.
— Я тоже никогда ничего не закладывала, — сказала миссис Маре.
— А вот моя бедная мать то и дело таскала вещи в ломбард, — заметил мистер Маре.
— Это уж точно, — подтвердила миссис Маре.
— Смотрите, сколько грязной пены на море, — сказала жена ростовщика.
— Я собираюсь на концерт полицейского джаз-банда, — сообщила Иза. — Что бы такое н'деть? — У девушек есть привычка глотать гласные в некоторых словах.
— Можешь н'деть свое вечернее голубое, — предложила Грета.
— Нет, — зачастила ее мать, — нет, нет, нет. Она наденет новое платье.
— Я собираюсь п'стричься, — заявила Иза, дергая себя за золотистые косы.
При мысли о том, как это будет выглядеть, ее мать так и передернуло. Грета и Майда покраснели, обменявшись непонятным жадным взглядом.
Наконец дверь приоткрылась на несколько дюймов, и мы гуськом вышли из комнаты.
На следующее утро я, как обычно, услышала, как миссис Йен Клут открывает ломбард. С клиентами, ожидавшими, как обычно, у входа, она общалась с большим знанием дела. В первые полчаса звонок дребезжал неустанно — заходили матросы и другие военные, которым не терпелось заложить фотоаппараты, портсигары, часы, костюмы и многое другое, то, что, подобно моему компасу, никогда не вернется к хозяевам. Я не видела хозяйку, но без труда представляла, какими действиями сопровождались ее слова. Миссис Йен Клут минуты три (что легко рассчитывалось по продолжительности тишины, наступавшей после вступительного: «ну?») изучала предложенную вещь. Изучение осуществлялось с большим тщанием, вроде бы при помощи чувствилища, или измерительного прибора, — ее длинного носа (мне уже приходилось видеть, как она осуществляла подобную операцию с сокровищами Изы). Не то чтобы она в буквальном смысле обнюхивала вещь, нет; но к носу приближала, а уж тот все калькулировал и выносил окончательный вердикт. Затем она отрывисто называла цену. Если с ней не соглашались, она становилась необыкновенно красноречивой, хотя на этом этапе нив коем случае не утрачивала выдержки. Изо рта миссис Йен Клут телеграфной лентой разматывался перечень недостатков объекта заклада; ее уменьшавшаяся рыночная стоимость была ей хорошо известна; этот костюм никогда не подойдет другому мужчине; это кольцо не стоит тех денег, которые пойдут на его расплавку. Обычно закладчики сдавались, принимая сниженную цену. Если же нет, жена ростовщика без дальнейших споров переходила к следующему клиенту. «Ну?» — бросала она. Если тот, первый, все еще мялся, колебался, раздумывал, миссис Йен Клут наконец утрачивала выдержку. «Ну что, никак не решишься? — переходила в атаку она. — Чего ждешь, чего ждешь?» В результате такой шоковой терапии клиент либо поспешно ретировался, либо столь же поспешно заключал сделку.
Подобно большинству здешних заведений, ломбард миссис Йен Клут был разделен перегородками на несколько отделений, так что походил скорее на трактир с салуном и стойками, общими и отдельными. Перегородки разделяли помещения для белых посетителей, черных и тех, кого называли цветными, — индусов, малайцев и полукровок.
Когда кто-нибудь смуглолицый входил в ломбард через вход для белых, миссис Йен Клут всегда давала ему время оглядеться, но устало жаловалась Майде и Грете на то, что ей приходится метаться туда-сюда.
— Нет, вы видели ту цветную девчонку, что только что вышла отсюда? — вопрошала она. — Вошла через вход для белых. Цветная, точно цветная, но ведь ничего не скажешь. Того и гляди в клевете обвинят.
В то утро, о котором идет речь, народ валил валом. Вот возник какой-то военный.
— Этот малый — цветной, факт, — заявила миссис Йен Клут в промежутке между звонками в дверь. — И направляется к входу для белых.
— Я бы его пинком под зад, — сказала Иза.
— Нет, вы только послушайте ее, а? — захихикала Майда.
— Да, Иза у нас — молодец, — проговорила мать, бросаясь к двери на очередной звонок.
На сей раз голоса доносились из другой части магазина. Я увидела прибитую снаружи дощечку — «Только для персонала».
— А, это вы, — протянула миссис Йен Клут.
— Я за картиной, — сказал голос. — Вот квитанция.
— Вы опоздали на месяц, — отрезала она. — Все, она больше не ваша.
— Вот, здесь пятнадцать шиллингов, — настаивал мужчина.
— Нет, нет, — сказала она. — Слишком поздно. Вы не заплатили проценты, она больше не ваша.
— Проценты я готов заплатить сейчас, — сказал он. — Ну же, — сказал он, — мы ведь старинные друзья, вы обещали подождать, пока я выкуплю ее. Эту картину написал мой дед, — сказал он. — Вы обещали подождать, пока я выкуплю ее.
— Да, но не месяц же, — прорвалась она наконец. — Не целый месяц. К тому же там только рама чего-то стоит.
— Это хорошая картина, — сказал он.
— Это ужасная картина, — сказала она. — Кому нужна такая картина? Она могла навлечь на нас беду. Я ее выбросила.
— Послушайте, дорогая моя, — начал он.
— Вон! — вскричала она. — Вон отсюда!
— Без картины я никуда не уйду, — сказал он.
— Майда! Грета! — окликнула она.
— Ну ладно, — сказал он голосом безнадежным и упавшим. — Ухожу.
Неделю спустя миссис Йен Клут снова поймала меня в коридоре.
— Чашечку чаю, — прошептала она. — Заходите поболтать нынче вечером, буду только я с дочерьми и молодой мистер Флеминг.
Посещение подобных чаепитий было обязательным. Тем, кто избегал их, приходилось расплачиваться за свою дерзость: их комнаты не убирались, постели не стелились, утренний чай подавался холодным, а газет не приносили вовсе. Жилье же в это время найти было трудно.
— Спасибо, — сказала я.
В тот вечер я разделила семейную компанию. Супруги Маре съехали, но юный клерк оказался на месте. Иза, как и раньше, пришла размалеванная.
В комнате обнаружилась одна перемена: на стене появилась картина. Как произведение искусства она была ничтожна, но с точки зрения периода, которому принадлежала, могла вызвать острый интерес. Период этот — приблизительно середина 90-х годов XIX века. На ней была изображена девушка, прикованная к железнодорожным рельсам. Тело ее было обвито голубым поясом, руки в страхе воздеты к голове, пышные золотистые волосы растеклись по рельсам. В двадцати ярдах от нее железная дорога изгибалась, и из-за поворота, весь окутанный клубами пара, приближался поезд. Машинист девушку не видит. Легко догадаться, что ситуация безнадежная. Еще мгновение, и от нее останется лишь мокрое место. Но минуту! По шоссе, пересекающему невдалеке железную дорогу, двигается автомобиль новой в ту пору марки. В высокую сверкающую машину набилось несколько молодых людей. Один из них заметил отчаянную жестикуляцию девушки. Этот парень стоит на сиденье, размахивая над головой автомобильной шапочкой и указывая на девушку. Его спутники тоже начинают осознавать сложившуюся ситуацию. Успеют ли они спасти ее — остановить приближающийся на всех парах поезд? Конечно же, нет. Это вполне явствует из перспективы изображения. У девушки нет ни единого шанса. И все же, думалось мне, она пролежит там столько же, сколько просуществует картина. Поезд приближается; и эти юные бездельники в своем новеньком, с иголочки, автомобиле, девушка, прикованная к рельсам, с рассыпавшимися волосами, с этим своим дурацким поясом, руками, воздетыми к голове, — она всегда у них перед глазами.
В целом картина мне понравилась. Это был образец множества полотен в том же роде, а образец, действительно типичное изображение, выпадает увидеть не так уж часто — во всяком случае, мне.
— Смотрю, вы разглядываете портрет Изы, — сказала миссис Йен Клут. — Это замечательная картина, — заявила она. — Один очень знаменитый английский художник прилетел сюда из Сандерленда специально, чтобы написать портрет Изы. Королевские военно-воздушные силы даже предоставили ему специальный самолет с командой. Стоило начальству ВВС в Лондоне увидеть ее фотографию, как они сразу предложили художнику самолет в Сандерленде.
— Он посадил Изу в этом положении, за прической, — продолжала миссис Йен Клут, любовно глядя на картину.
Я промолчала. Молодой клерк тоже. Я попыталась посмотреть на картину сбоку и обнаружила, что действительно изображенная на ней девушка слегка походит на Изу; да и закинутые за голову руки, пожалуй, могли навести на мысль, что она и впрямь причесывается. Разумеется, чтобы представить себе это, надо забыть про поезд, машину и некоторые другие детали. По моим подсчетам, картина была написана лет пятьдесят назад. И уж во всяком случае, не вчера.
— Ну, что скажете? — спросила миссис Йен Клут.
— Прекрасная работа, — ответила я.
Молодой клерк промолчал.
— Что-то вы сегодня неразговорчивый, мистер Флеминг, — сказала Майда.
Он отрывисто, так, что едва не раскололась чашка, рассмеялся.
— Я видел сегодня миссис Маре, — сказал он, просто чтобы поддержать разговор.
— A-а, эту, — заметила миссис Йен Клут. — Остановились поговорить?
— Разумеется, нет; просто прошел мимо.
— Ну и правильно, — сказала миссис Йен Клут. — Я предупредила, что они должны освободить помещение, — повернулась она ко мне. — Мистер еще туда-сюда, а вот миссис — хуже жильцов у меня не было.
— Послушали бы вы, что она говорит! — поддакнула Грета.
— Я к ней со всей душой, — сказала жена ростовщика, — а в ответ одни оскорбления.
— Оскорбления, — эхом откликнулся мистер Флеминг.
— Мистер Флеминг был всему свидетелем, — сказала миссис Йен Клут.
— Мы показывали ей портрет Изы, — продолжала она, — и, поверите ли, эта женщина заявила, что никакая это не Иза. То есть фактически прямо в лицо назвала меня лгуньей, не так ли, мистер Флеминг?
— Именно так, — подтвердил мистер Флеминг, изучая прилипшую к ложке чаинку.
— Конечно, мистер Маре оказался в неловком положении, — сказала миссис Йен Клут. — Он у нее, видите ли, под каблуком и перечить не смеет. Сказал лишь, что тут, наверное, какое-то недоразумение. Но она тут же его одернула. «Это не Иза», — повторила она.
— Бедный мистер Маре! — сказала Грета.
— Мне жаль мистера Маре, — сказала Майда.
— Да на голову он слаб, приятель, — сказала Иза.
— Иза у нас скажет так скажет, — заметила ее мать, с трудом подавив смех. — К тому же она права. У старика Маре действительно не все дома. Еще что-нибудь было? — повернулась она к юному клерку. — Старик Маре потом еще что-то сказал вам про портрет Изы?
Юный клерк посмотрел на меня и быстро отвернулся.
— Так что все-таки мистер Маре сказал про картину? — настойчиво спросила я.
— Ну-у, — протянул мистер Флеминг, — теперь я уж и не вспомню.
— А вы постарайтесь, — сказала миссис Йен Клут. — Ну же, дайте нам посмеяться.
— Да он сказал всего лишь, — решился мистер Флеминг, поворачиваясь лицом к картине, — сказал всего лишь, что там нарисованы железная дорога и поезд.
— Всего лишь! — фыркнула миссис Йен Клут.
— Бедняга, это не его вина, — сказал мистер Флеминг. — Он ведь не в своем уме.
— А не сказал ли еще, приятель, что на картине изображена древняя машина? — спросила Грета. — Нам, во всяком случае, он это говорил.
— Да, — усмехнулся юный клерк. — Это он тоже сказал.
— Ну вот видите, — сказала миссис Йен Клут. — Этот человек явно спятил. Железная дорога на портрете Изы! Смех да и только. Что касается миссис Маре, — добавила она, — что касается ее, то я с самого начала не доверяла этой женщине. «Миссис Маре, — предупредила ее я, — через неделю вы должны съехать». Их не было уже на следующий день.
— Хорошо, что мы избавились от этой старой сучки, — сказала Иза.
— Она ревновала к портрету Изы, а? — прокудахтала Грета.
— А вот с художником, пока он рисовал Изу, мы отлично провели время, — сказала миссис Йен Клут.
— Точно, приятель, — поддержала ее Майда, — да и летчики были что надо.
— У нас здесь часто бывают знаменитые художники, верно? — сказала ее мать.
— Точно, приятель, — сказала Грета. — Они из-за Изы приезжают.
— И летчики, — сказала Майда. — Классные парни. Ну а командир тут еще шутку сыграл с Изой, настоящий мужчина.
— Свинья, — сказала ее мать. — Впрочем, не страшно, у Изы и другие ребята есть. Иза могла бы сниматься в кино.
— В кино она бы всем показала, — сказала Грета.
— Здесь бывают все знаменитые артисты, — сказала миссис Йен Клут. — Все. Они хотят сниматься с Изой. Но мы ей не разрешаем.
— Она у нас звездой бы стала, приятель, — сказала Грета.
— Но мы ее в кино не пускаем, — сказала Майда.
— Пусть делает что хочет, — сказала мать, — только сначала школу надо закончить.
— Железно, — сказала Иза.
— Макса Мелвилла знаете? — обратилась ко мне миссис Йен Клут.
— Имя слышала… — осторожно сказала я.
— Слышала имя! Да ведь Макс Мелвилл — звезда номер один! Так вот, на днях он приходил к Изе. Верно, Грета?
— Ясное дело.
Миссис Йен Клут продолжила повествование:
— «Кино для Изы — слишком публичное дело, — сказала я ему. — Макс, — говорю, — мы люди скромные». Макс, я его так, запросто, называю.
— Макс — удивительный малый, — заметила Майда.
— Он преподнес Изе великолепный подарок, — сказала миссис Йен Клут. — Не то чтобы такой уж дорогой, но это семейная реликвия, тут чувства замешаны, и он не расстался бы с ней ни для кого другого, кроме Изы… Майда, сбегай наверх, принеси.
Майда затопталась на месте.
— Это что — та брошь?.. — начала она.
— Нет, — сказала ее мать медленно и печально. — Брошь Изе подарил художник. Странно, что та забыла, что подарил Изе Макс Мелвилл.
— Я принесу, — вскочила на ноги Грета.
Вскоре она вернулась с небольшим компасом в руках.
— Вещица недорогая, — повторяла миссис Йен Клут, передавая ее по кругу. — Но прадед Макса был исследователем, и когда он поднимался на Гималаи, на руке у него был этот самый компас. Он так и не вернулся из той экспедиции, компас нашли на нем. Так что Макси очень дорожил им и все же расстался ради Изы.
Я получила этот компас в четырнадцатилетием возрасте; тогда он был совсем новый; я узнала его сразу, а пока миссис Йен Клут занимала нас разговорами, узнавала все больше. Оставленные мною царапины и вмятины были знакомы мне, словно собственная подпись…
— Очень старый, старинный, можно сказать, компас, — сказала жена ростовщика, бережно протирая ладонью стекло. — Щедрый подарок со стороны Макса Мелвилла. Ну да понятно, он хотел, чтобы Иза снималась в кино, наверное, в этом все дело.
— Как он вам? — спросила она меня.
— Очень интересная вещица, — сказала я.
Кто, что за путешественник перенес его через моря? Через сколько рук он прошел на пути от ломбарда, где я его заложила, к ломбарду миссис Йен Клут? Вот о чем я сейчас себя спрашивала, а еще, почему меня не задевает то, что я вижу свой компас в заботливых руках жены ростовщика — и рассматриваю, чтобы доставить ей удовольствие. Мне все равно. Ее нос прицелился в компас, словно стрелка в сторону севера…
— Мы никогда с ним не расстанемся, — говорила миссис Йен Клут, — по сентиментальным, знаете ли, причинам. Дохода он нам точно не принесет.
До того как пришлось его заложить, компас в течение нескольких лет валялся где-то среди моих вещей. Оттого и поцарапался весь и побился. Побился в ящике — в поисках нужных вещей я всегда отбрасывала его в сторону. Я никогда его не использовала, не определяла с его помощью местоположение. Может, его и вообще-то не слишком часто использовали. Следы, на нем оставшиеся, были в основном моими следами. Тот, кто заложил компас в ломбарде миссис Йен Клут, вряд ли собирался выкупать его. Жена ростовщика могла свободно им распоряжаться, достался он ей честно.
— Да, денег он нам не принесет, — повторила миссис Йен Клут. — Да мы и не думаем о деньгах, ценна сама мысль, что он у нас есть.
— Это талисман нашей Изы, — сказала Майда. — Тебе бы стоило взять его с собой, когда в Голливуд подашься, приятель.
— Голливуд! — фыркнула миссис Йен Клут. — Ни за что, нет, нет. Если уж Иза подастся в кино, то только на какую-нибудь английскую студию. В Голливуде человек слишком на виду. Вы можете себе представить нашу Изу в Голливуде, мистер Флеминг?
— Пожалуй, нет, — ответил молодой человек.
— В Голливуде я бы настоящий класс показала, приятель, — заявила Иза.
— Ну может быть… — протянула ее мать.
— Да, может быть, — сказал мистер Флеминг.
— Правда, в Голливуде слишком много шума, — сказала Иза.
— Видите ли, — повернулась ко мне миссис Йен Клут, — мы люди скромные. Мы держимся друг друга, как на днях сказал мистер Флеминг, мы живем в своем скромном мирке, верно, мистер Флеминг?
Они открыли дверь и позволили мне протиснуться в темный коридор.
ДОМ ЗНАМЕНИТОГО ПОЭТА
© Перевод. Т. Исерсон, 2011.
Летом 1944 года, когда поезда могли запросто опаздывать на четыре, а то и шесть часов, я ехала из Эдинбурга в Лондон на ночном поезде, и уже в Йорке мы отставали на три часа. В купе сидело десять человек, но из них мне запомнились лишь двое, и тому есть свое объяснение.
Когда я думаю об этом теперь, мое воображение рисует нестройный ряд сидевших передо мной людей, которые кое-как дремали, склонив головы. Я смотрела на этих спящих незнакомцев, пытаясь угадать характер каждого из них, и мне вдруг стало не по себе. Можно было подумать, что свой дневной талант уничтожать внешние проявления самих себя они сменили на внутреннее уничтожение. Они словно сошли с фрески двенадцатого века; чувствовалась в них какая-то средневековая обреченность — во всех, кроме одного.
Это был рядовой, который бодрствовал в гораздо большей степени, чем обычные люди, когда они не спят. Он курил одну за одной, медленно и спокойно затягиваясь. Мне казалось, что выглядел он чересчур злобно и напоминал первобытного человека. Низкий лоб над черными сросшимися бровями был не выше двух дюймов. Челюсть, хотя и небольшая, походила на обезьянью, равно как и его маленький нос, а также глубоко и близко посаженные глаза. Я подумала, что его родители, наверное, родственники, таким разительным было сходство с далекими предками.
Но он оказался необыкновенно вежливым и добрым. Когда у меня закончились сигареты, он пошарил в рюкзаке и протянул пачку мне и сидевшей рядом девушке. Звеня мелочью, мы попытались заплатить ему, но он ничего не хотел за свои сигареты, только бы мы угостились, после чего он снова принялся молча задумчиво курить.
Тогда мне стало жаль его той жалостью, которой мы обыкновенно жалеем безобидных животных, тех же обезьян, например. Но я отогнала от себя эти мысли, ведь обезьян мы жалеем скорее потому, что они не люди, а в данном случае это было неуместно.
Солдатские сигареты дали мне и моей соседке повод для разговора, и мы болтали всю дорогу. Она сказала, что работает в Лондоне служанкой и няней. Выглядела она по-деревенски: ширококостная, краснолицая, со светлыми волосами, она производила впечатление сильной девушки, которая всю жизнь носила тяжести, вроде огромных ведер с углем или двух детей за раз. Но больше всего меня поразил ее голос, изысканный, мелодичный и размеренный.
Под конец поездки, когда пассажиры повскакивали и в вагоне началась беготня, эта девушка, Элиза, пригласила меня в дом, где она работала. Хозяин, какой-то университетский преподаватель, вместе с женой и детьми был в отъезде.
Я согласилась, потому что в те времена встретить образованную служанку было редкой удачей, и знакомство с ней казалось многообещающим. За ним скрывался жизненный опыт, я бы даже сказала, жизненная правда, а тогда я верила, что правда может удивить сильнее любой книги. К тому же воскресенье мне хотелось провести в Лондоне. На следующий день мне предстояло выйти на работу, в один из департаментов государственной службы, который эвакуировали за город, а по причине, которая к делу не относится, мне не хотелось приезжать слишком рано. Мне нужно было позвонить. Хотелось помыться и переодеться. Хотелось узнать поближе эту девушку. Поэтому я поблагодарила Элизу и приняла ее приглашение.
Я пожалела об этом, едва мы сошли с поезда на Кингс-Кросс в начале одиннадцатого. Стоя на платформе, высокая Элиза казалась невыносимо уставшей, как будто не только ночная поездка, но и каждая минута ее неведомой жизни вдруг вымотали ее. От силы, которую я углядела в поезде, не осталось и следа. Когда она обратилась своим красивым голосом к носильщику, я заметила, что на той стороне головы, которая не была видна мне в вагоне, темнел пробор, на желтом фоне казавшийся темно-синим. Поначалу я думала, что У нее выгорели волосы, но теперь, глядя на ее запущенную прическу с синеющим пробором, который, как стрелка, указывал на тяжелую усталость ее лица, я и сама неожиданно почувствовала себя совершенно обессилевшей. Но давила на меня не столько дорога, сколько предвкушение скуки, которая непостижимым образом наваливается на нас в конце пути и, вероятно, для нашего же блага укрощает любопытство.
Как выяснилось, ничего особенного Элиза собой не представляла. Ее историю, которую мне так не терпелось услышать, я узнала уже в такси, между Кингс-Кросс и ее домом в Суисс-Коттедж. Она происходила из хорошей семьи, но для родных была обузой, да и они для нее тоже. Ничему другому не обученная, уйдя из дома, она нанялась в служанки. Она была помолвлена с австралийским солдатом, проживавшим с однополчанами там же, в Суисс-Коттедж.
Было ли виной тому предчувствие скучного дня, или бессонная ночь, или завывание сирен, но при виде дома я почувствовала раздражение. Кругом был сад. Элиза открыла входную дверь, и мы вошли в сумрачную комнату, почти полностью занятую обыкновенным длинным письменным столом. На нем была полупустая баночка джема, кипа бумаг и высохшая чернильница. В углу стояла защищенная стальной крышей кровать, так называемое «убежище Моррисона», а на каминной полке — фотографии школьника в очках. Всё омрачали усталость Элизы и мое недовольство. Но девушка как будто и не догадывалась о бессилии, написанном на ее лице. Она даже не позаботилась снять пальто, которое было таким тесным, что я диву давалась, как она может так быстро двигаться, когда к ее усталости добавлялось еще и это неудобство. Между тем, даже не расстегнув пальто, Элиза позвонила своему молодому человеку и приготовила завтрак, пока я мылась в голубой треснувшей ванной в полутьме наверху.
Когда я обнаружила, что девушка без спроса открыла мой саквояж и вытащила продукты, то даже обрадовалась. Это был дружеский жест, в определенной мере напоминавший о действительности, отчего настроение v меня поднялось. Но дом меня по-прежнему раздражал. Я не могла найти оправдания царившему повсюду полному беспорядку. Я не задавала вопросов о хозяине, каком-то университетском преподавателе, опасаясь, что ответы на них подтвердят мои догадки: он уехал и родное графство на семейную встречу, навестить внуков. Хозяева не подозревали о моем существовании, а по мне, так это место принадлежало Элизе, которая пустила меня в дом.
Я зашла вместе с ней в местную пивнушку, где девушка встретилась со своим молодым человеком, сидевшим в компании двух других австралийских солдат. С ними была еще худенькая девочка-кокни с плохими зубами. Элиза обрадовалась им и своим очаровательным голосом настояла, чтобы вечером все пошли к ней. Тоном настоящей аристократки она потребовала, чтобы каждый захватил по бутылке пива.
Днем Элиза сообщила, что собирается принять ванну, а мне показала комнату, где можно позвонить и поспать, если мне захочется. Заставленная книгами, эта комната с несколькими окнами была большой и светлой, самой аккуратной в доме. Одно в ней было странно: стоявшая у окна кровать была, в сущности, не кроватью, а очень толстым матрасом, постеленным прямо на полу. Спальное место, очевидно, устроили на полу неспроста, и бессмысленное чудачество пожилого профессора, которому взбрела в голову такая идея, снова разозлило меня.
Я позвонила и решила вздремнуть. Но сначала мне хотелось найти что-нибудь почитать. Библиотека озадачила меня. В ней не оказалось книг, которые непременно найдешь в библиотеке ученого мужа. Одна из них была подписана автором, известным романистом. Я обнаружила дарственную надпись и в другой книге, на этот раз с именем адресата. Пораженная внезапной догадкой, я подошла к столу, где лежали нераспечатанные письма: они попались мне на глаза, пока я говорила по телефону. И лишь теперь я обратила внимание, как зовут хозяина дома.
Я бросилась к ванной и закричала Элизе через дверь: «Это что, дом известного поэта?»
«Да, — ответила она, — я же тебе говорила».
Но она не говорила мне ничего подобного. Я почувствовала, что не имею никакого права находиться там, потому что отныне это был не просто дом Элизы, которым она распоряжалась от имени какой-то неизвестной пары. Это был дом известного современного поэта. Мысль о том, что в любой момент он и его семья могут вернуться и застать меня, приводила в ужас. Я настояла, чтобы Элиза открыла дверь и, глядя мне в глаза, сказала, что ни при каких обстоятельствах хозяева не вернутся раньше чем через несколько дней.
Потом я стала размышлять о доме, который уже не имел никакого отношения к Элизе. Его новый статус, дом поэта, с чьим творчеством я хорошо знакома, чьи стихи я знаю наизусть, заставил меня взглянуть на это место по-другому.
Чтобы удостовериться, я вышла на улицу и встала туда, откуда впервые увидела сад из окна такси. Мне захотелось во второй раз получить первое впечатление.
И на этот раз я заметила, что разросшийся сад имел свою цель, которую, как я уверилась теперь, хозяин намеренно поставил перед собой. Однако и первая комната, что сначала раздражала меня, теперь наполнилась смыслом, и все, что в ней было, было правильным. Засохшую чернильницу, которую Элиза поставила на каминную полку, я для верности перенесла на стол. Я заметила фотографию, на которую не обращала внимания прежде, и узнала на ней известного поэта.
Таким же образом я осмотрела комнату наверху, куда меня поселила Элиза, и я снова подержала в руках книги, не столько из-за сознания того, что они принадлежат известному поэту, а скорее с некоторым любопытством, как они были сделаны. Мне как будто стало интересно, откуда берется бумага, из какого растения изготовлена черная краска, но эти мысли недолго занимали меня.
Австралийцы и девочка-кокни пришли около семи. Я собиралась уехать на поезде в половине девятого, но, когда позвонила на станцию, чтобы уточнить время, узнала, что в воскресенье поездов не будет. В своей дружелюбной и усталой манере Элиза уговаривала меня остаться, но особенно не упорствовала. Снова завыли сирены. Я в очередной раз попросила Элизу подтвердить, что поэт и его семья никоим образом не могут вернуться той ночью. Но говорила я более рассеянно, чем прежде, поскольку думала о сиренах и о точной величине шума, который они издавали. Я также недоумевала, какой злой гений из министерства внутренних дел изобрел столь дикий вопль и почему. Я стала размышлять над словом «сирена». Звук стал смешным, потому что я представила обезумевшую морскую нимфу, заброшенную в 1944 год из далекого прошлого. Но в действительности сирены пугали меня.
Но еще сильнее меня удивляла вечеринка Элизы. Все бродили по дому, как будто он никому не принадлежал, а Элиза была самой благонравной из всех. Девочка-кокни сидела на длинном столе и посылала проклятия всякий раз, когда разрывался снаряд. У меня возникло чувство, что на ночь дом заняли военные. Его захватили целиком и полностью, и теперь он не был ни домом, в который я вошла в первый раз, ни домом известного поэта, но неким третьим домом — тем, который я смутно представляла, скучая на платформе Кингс-Кросс. В этих людях я видела жуткую усталость, а из того, как шумно они себя вели, заключила, что они мало спят. Когда пиво кончилось и гости разошлись: кто на постой, кто в паб, а девочка-кокни — в бомбоубежище, где она ночевала не первую неделю, — я спросила Элизу:
— Ты устала?
— Нет, — ответила она мучительно утомленно, — я никогда не устаю.
Сама я заснула, едва оказавшись в кровати на полу в верхней комнате, и проспала до восьми, пока Элиза не разбудила меня. Я хотела встать пораньше и успеть на девятичасовой поезд, и времени поговорить с ней у меня не было. Однако я заметила, что выглядит она не такой усталой, как прежде.
Элиза вышла на улицу ловить такси, а я запихивала вещи в саквояж, как вдруг на лестнице послышались шаги. Я думала, это вернулась моя подруга, выглянула в коридор и увидела на лестнице человека в форме с огромной посылкой в руках. Держа сигарету в зубах, он смотрел вниз, пока поднимался по ступеням.
— Вы к Элизе? — окликнула я, решив, что это один из ее друзей.
Он поднял голову, и я узнала солдата, того самого, что угощал нас сигаретами в поезде.
— Мне в общем-то все равно, — ответил он. — Дело в том, что мне нужно вернуться в лагерь, а денег на билет у меня нет: нужно восемь шиллингов шесть пенсов.
Я сказала, что могу ему помочь, и полезла за деньгами, но, поставив посылку на пол, он остановил меня:
— Я не хочу брать в долг. Я даже и не думал об этом. Я хочу продать кое-что.
— И что же это? — спросила я.
— Похороны. Они у меня тут, с собой.
Я насторожилась и подошла к окну. Ни катафалка, ни гроба внизу не было. Аллея деревьев — и все. Солдат улыбнулся.
— Это абстрактные похороны, — объяснил он, открывая коробку.
Он вынул их, я внимательно их осмотрела и осталась весьма довольна. Я давно мечтала о чем-то подобном — правда, фиолетового было больше, чем бы мне хотелось: я не поклонница траурного цвета. Но все же я решила, что могу сделать их посветлее.
В восторге от сделки, я отдала восемь шиллингов и шесть пенсов. Абстрактные похороны занимали много места. Большую их часть я поспешно сунула в саквояж, остатки разложила по карманам, и все равно уместилось не все. Поймав такси, Элиза вернулась, и времени у меня было мало. Я выбежала к машине, оставив позади дверь и ворота дома известного поэта, а за мной тянулся шлейф абстрактных похорон.
Вы возразите, что я чего-то недоговариваю. Вы, конечно, можете усомниться в правдивости моей истории. «Абстрактные похороны, — скажете вы, — они не здесь и не там. Это всего лишь идея. Идею нельзя сложить в сумку. У идеи не может быть цвета».
Вы станете намекать, что мой рассказ — сплошная выдумка.
Но дослушайте до конца.
Я села в поезд. Представьте себе мое изумление, когда я обнаружила, что напротив меня сидит мой старый знакомый, солдат, существование которого вы ставите под сомнение.
— Из чистого любопытства, — сказала я, — скажите, как бы вы описали похороны, которые вы мне продали?
— Описать? Невозможно описать абстрактные похороны. Их можно только вообразить.
— В ваших словах есть что-то разумное, — ответила я. — Но все же опишите мне их, я настаиваю, ведь не каждый день сталкиваешься с абстрактными похоронами.
— Я рад, что вы это цените.
— А после войны, — продолжала я, — когда мне больше не придется работать на государственной службе, я надеюсь в нескольких изящных словах рассказать о своем пребывании в доме известного поэта, которое увенчалось таким образом. И само собой, — добавила я, — мне придется пояснить, что представляют собой эти похороны.
Солдат не ответил.
— Если бы речь шла об окапи или морской корове, мне бы пришлось их описать. Иначе мне никто бы не поверил.
— Вы хотите получить назад деньги? — спросил солдат. — Если так, то это невозможно. Я истратил их на билет.
— Поймите меня правильно. — Я поспешила успокоить его. — Похороны — это потрясающая абстракция. Но мне бы хотелось написать о ней.
Мне стало жаль солдата, такой у него был обеспокоенный вид. Казалось, ничего не было на свете печальнее его обезьяньего лица.
— Я их своими руками делаю, — сказал он, — эти абстрактные похороны.
Где-то далеко завыла сирена.
— В прошлом месяце Элиза тоже у меня одни купила. И не жалуется. Мне пересаживаться на следующей станции, — сказал он, поднимая свой мешок с полки. — Больше того, ваш известный поэт купил их у меня.
— О, неужели?
— Да, — подтвердил он. — И не жалуется. Как раз это ему и нужно было, идея похорон.
Поезд остановился. Солдат выскочил и махнул рукой. Когда мы тронулись, я выложила свои абстрактные похороны и принялась их разглядывать.
— К черту эту идею, — сказала я. — Я хочу настоящие похороны.
— Всему свое время, — раздался голос из коридора.
— Опять вы? — удивилась я. Это был солдат.
— Нет. Я вышел на той станции. Это лишь идея меня.
— Послушайте, вы не обидитесь, если я их выброшу?
— Нет, конечно. Невозможно обидеть идею.
— Я хочу настоящие похороны, — пояснила я. — Свои собственные.
— Я вас понимаю.
— Тогда я смогу их описать во всех деталях.
— Свои похороны? Вы хотите написать о них? — Да.
— Но вы обычный человек. Никто не может отчитаться про свои похороны. Если только они не абстрактные.
— Видите, в чем мое затруднительное положение?
— Да, вижу. Я выхожу на следующей.
Идея солдата исчезла. Поезд снова начал набирать скорость. Я выбросила из окна свои абстрактные похороны ценой в восемь шиллингов и шесть пенсов. Я наблюдала, как, переливаясь в лучах солнца, они кружат над полями и закамуфлированными фабричными крышами, пока они не скрылись из виду.
Летом 1944 года было внезапно и жестоко убито небывалое число людей. Газеты должным образом сообщали имена погибших, бывшие на слуху. Один из этих людей, известный поэт, неожиданно вернулся домой в Суисс-Коттедж, а несколько минут спустя на здание упала бомба. К счастью, его жена и дети остались за городом.
Когда я добралась до места работы, у меня оставалось немного свободного времени до начала рабочего дня. Я решила позвонить Элизе и как следует ее поблагодарить, поскольку уезжала я в спешке. Но линии не работали, и телефонистка от моего звонка пришла в такое раздражение, что с трудом могла подобрать слова. Вместе со сварливым утомленным голосом в трубке слышался протяжный гудок, означавший, что аппарат на другом конце провода не работает, и звук этот навевал бесконечную тоску и усталость; для меня он был нестерпимее сирен, и я положила трубку; а Элиза между тем уже была погребена под обломками дома известного поэта.
Голубая треснувшая ванна, кровать на полу, засохшая чернильница, заброшенный сад и полки с книгами — я пытаюсь собрать их вместе в моей памяти всякий раз, когда меня пронзает мысль о том, что Элиза и поэт погибли. Мертвого мужчину и мертвую женщину призовут ангелы Воскресения, но кто позаботится о том, чтобы восстановить разрушенный дом известного поэта, если не я? Кто, кроме меня, расскажет его историю?
Когда я думаю над тем, как ушли из жизни Элиза и поэт, как спокойно они позволили исполненному благих намерений солдату продать им абстрактные похороны, я напоминаю себе, что однажды и я, и вы — все мы примем идею похорон и не станем жаловаться.
ДЭЙЗИ ОВЕРЭНД
© Перевод. Н. Анастасьев, 2011.
Вообще я о ней почти не думаю, но, если в солнечный день мне приходится проходить по Кларгес-стрит или по Албермарл-стрит, она приходит мне на память. Или если, оказавшись среди людей, собирающихся перейти дорогу, я слышу, как за спиной здороваются две женщины и одна из них восклицает: «Дорогуша!» (или «Бобби!»), или «Гу-у!»), а другая откликается: «Гу-у!» (или «Билли!», или «Бобби!», или «Дорогуша!»), да еще растягивая слова, в некоей определенной манере, характерной для периода с 1920 по 1929 год, я понимаю, что ненароком оказалась в мире Дэйзи Оверэнд, проживающей по адресу Брутон-стрит, Вест, 1.
В чистом своем виде все эти Бобби и Дорогуши были облачены в короткие платья, подол которых украшала бахрома, оплетающая, словно водоросли, колени при движении, а свободные удлиненные лифы, непринужденно ниспадавшие от плеч и горловины, завершались линией обреза, опоясывающей бедра. В чистом виде весь этот наряд дополняла пара блестящих шелковых чулок броского цвета, именуемого персиковым, хотя по форме они ничуть не походили на персик.
Но на деле распознать их можно было только по голосу. Этот голос возвращает в те дни, яркие, молодые и невозвратные, откуда доносится невольное эхо — «Билли!.. Гу-у… необыкновенно… божественно!» — как пароль или вензель, украшающий почтовую бумагу семьи, серебро которой заложено и забыто.
Дэйзи Оверэнд, невысокая, властная, остроумная, и моем представлении в полной мере воплощала этот человеческий тип, что не означает какой-либо недооценки мужских представителей вида Дэйзи Оверэнд с их маленькими лицами, голубыми глазами, дурными зубами и вспыльчивым характером. Нет, если вы столкнулись с миссис Оверэнд, можете считать, что познакомились и с мистером, который столь же не похож на нее, сколь и принадлежит тому же типу.
Я лично познакомилась с ней удивительно мягким летом 1947 года. Была она прямо-таки очаровательна. Трубчатое платье обтягивало бедра, на голове сидела крохотная шляпка; каштановые, коротко остриженные полосы плотно прилегали к самому черепу, напоминая половинку игрушечного яйца, коего вторую половину представляло собой лицо. Лицо — просто доля. Глаза ее считались выразительными, и выражали они алчность в различных ее формах, зрачки круглые и настороженные. Мисс Оверэнд ангажировала меня на трехнедельную совместную работу в каком-то комитете. Как вы увидите, расстались мы уже через три дня.
Я обнаружила, что дневное время Дэйзи, а в немалой мере и ночное, поглощено по преимуществу литературой и политикой. Она вела колонку в небольшой газете, ориентированной на политику, и состояла во всевозможных литературных обществах. В общем, занимала Дэйзи литература политики и политика литературы, в результате чего ей и удавалось успешно водить за нос политиков, считавших ее писательницей, и писателей, считавших ее политологом. Но эта деятельность не могла в полной мере удовлетворить или, скажем, напоить ее допьяна.
Вообще-то она не пила. Мне приходилось видеть, как она потягивала ячменный отвар в то время, как ее гости пили джин. Но в молодости Дэйзи танцевала чарлстон с принцем-консортом, это она рассказывала мне не раз, с живостью, с жадностью, и вид у нее становился как у пьяной.
— Божественные были времена, — хмельным голосом заключала она, — просто сногсшибательные. — И я видела, что сама эта мысль буквально опьяняет ее. В обычном состоянии аккуратная, как птичка, она в таких случаях слепо нащупывала сигареты, все сокрушая вокруг себя. Литература и политика никогда ее так не возбуждали, хоть и заседала она во множестве комитетов. Именно поэтому она взяла — это ее выражение — двух любовников: одного, опять-таки по собственным ее словам, эксперта по политическим вопросам, другого — поэта.
Эксперт по политике, его звали Лотти, был блондин откуда-то из Центральной Европы, беженец. Кожа на верхней губе у него была туго натянута на верхнюю челюсть, что наряду с высокими скулами наводило на мысль, что у него вообще подтянута вся кожа на лице. Но это было не так — просто врожденный дефект, отчего при улыбке казалось, что он обнажает зубы. Наверное, он был лучшим из тех, кого я встречала у Дэйзи Оверэнд.
Лотти мог назвать по имени любого члена кабинета любой западной страны после заключения Версальского договора. Дэйзи находила эту способность бесценной для своей ежемесячной колонки. Говорил Лотти об этих людях с неизменным презрением. Сам он был членом трех теневых кабинетов.
В воскресенье, которое, как выяснилось впоследствии, было последним днем нашей совместной с Дэйзи деятельности, она отложила в сторону книгу из своей домашней библиотеки и сказала Лотти:
— Кронин мне надоел.
Лотти, в чьих глазах все государственные деятели были что пепел, который он только что щелчком стряхнул на пол, изумился:
— Дэйзи, mein liebchen,[8] ты что, спятила? Кронин какой-то! — шумно выдохнул он в мою сторону, выражая таким образом все свое презрение. — Ей надоел какой-то Кронин.
В этот момент раздраженное и растерянное выражение лица Дэйзи напомнило мне, что несколько дней назад другой ее любовник, поэт Том Пфайффер, привел ее в такое же состояние. Когда, не войдя, а, по обыкновению, ворвавшись к себе в квартиру и тяжело дыша, она бросила Тому: «В палате кое-что происходит», — он, занятый чтением «Записок Мальте Лауридса Бригге»,[9] невозмутимо поднял голову. «У нас в палате ничего не происходит», — заверил он Дэйзи.
Тома Пфайффера уже нет. Миссис Оверэнд поведала мне историю о том, как она вылечила его от лунатизма, и мне кажется, Том верил в это. Верно, во всяком случае, то, что именно она не позволила забрать его в психиатрическую лечебницу.
Настал момент, когда осенним утром Тому понадобился билет до Бертона-на-Тренте, где жил кто-то из его друзей, и навестить его ему хотелось сильнее, чем жить в квартире у миссис Оверэнд и регулярно питаться. В его собственных интересах она отказалась покупать ему билет, подавив последние остатки бунта тем, что на глазах у Тома взяла со счета шесть фунтов и отдала их Лотти.
Как же ревновал к нему Том Пфайффер, и как равнодушен был к нему Лотти! Но в этот последний день, проведенный мною у миссис Оверэнд, поэт был более или менее спокоен, хотя у него уже поигрывали на скулах желваки, что впоследствии полностью изуродовало его внешность еще до того, как он, потеряв рассудок, ушел из жизни.
Дэйзи готовилась к приему гостей — что, собственно, и объясняло мое присутствие в воскресенье, — и к приходу секретарши, мисс Рильке. Дома, на континенте, жить ей стало совсем не на что, и она сделалась перемещенным лицом. Когда спрашивали, «связана ли она как-то с поэтом Рильке», Дэйзи, едва ли не с возмущением, потому что какие тут могут быть сомнения, отвечала: «О да, полагаю, что так».
— Окажи божескую милость, — сказала Дэйзи мисс Рильке, когда та появилась, — сбегай вниз, в кафе, возьми пару пачек печенья. Что, дождь никак не перестанет? Ну и погодка. Возьми мой тент.
— Тент?
— Ну, зонтик, зонтик, зонтик. — Дэйзи раздраженно указала на него пальцем.
Мисс Рильке и Лотти быстро, словно мячиками для пинг-понга, обменялись взглядами. Она взяла зонтик и вышла из комнаты.
— На что это ты воззрился? — быстро спросила Дэйзи у Лотти.
— Ни на что, — оторвался от чтения Том Пфайффер, решив, что обращаются к нему.
— Я не тебя спрашиваю, — сказала Дэйзи.
— Меня? — сказала я.
— Нет, — ответила она и замолчала.
Мисс Рильке вернулась с известием, что магазин больше не отпускает миссис Оверэнд продукты в кредит.
— Ну финиш, — сказала Дэйзи, вытряхивая из кошелька деньги. — Скажи им там, что я рассердилась.
— Слушаю, — откликнулась мисс Рильке, глядя на Лотти.
— Куда это ты смотришь? — требовательно спросила Дэйзи.
— Смотрю?
— Тут хватит? — спросила Дэйзи.
— Да.
— Ну так ступай.
— По-моему, — сказала Дэйзи, дождавшись, пока мисс Рильке выйдет, — она после всех своих испытаний слегка умом тронулась.
Все промолчали.
— Тебе не кажется? — повернулась она к Лотти.
— Не исключено, — сказал Лотти.
Том вдруг поднял голову.
— Да чокнутая она, — заспешил он, — эта глупая сучка просто чокнутая.
Едва мисс Рильке вернулась, Дэйзи заметалась по дому, готовясь к приходу гостей. Бумаги, валявшиеся повсюду, несколькими пачками последовали в спальню.
Гостиная была обставлена в стиле, предваряющем во многих отношениях обстановку комнаты почетных членов института современного искусства. Недавно миссис Оверэнд избавилась от диванов в черно-оранжевую полоску, подушек и кресел. Их место заняли причудливо обрезанные по краям плиты, многоугольник и треноги, представляющие собой манифестации личности Дэйзи Оверэнд, — эти последние были выполнены в тонах Эль Греко. Как неустанно повторяла Дэйзи, ни один предмет здесь не повторял другого и каждый представлял собой современную форму традиционного дизайна.
В попытке создать современный интерьер она, полагаю, вполне преуспела, и на меня лично воплощенный в нем дух эпохи производил сильное впечатление. «Редкий старинный образец в современном стиле», — скажет когда-нибудь еще не родившийся торговец антиквариатом, доказывая подлинность принадлежавшего Дэйзи ларя лимонного цвета или телефонного столика с крышкой из голубого стекла, и тут же, на одном дыхании, добавит, поводя рукой: «…подлинный газовый рожок с медной отделкой, XIX век…» Но я-то предавалась мыслям, а Дэйзи трудилась, переставляя вещи и стирая с них пыль. Она металась, то и дело цепляясь за что-то, по прелестному лабиринту своей обстановки, заново проходясь по письмам, счетам, брошюрам и вообще всему тому, что каким-то образом связано с прошлым либо будущим, за одним-единственным исключением. Это была фотография Дэйзи Оверэнд в выходном платье, на фоне современного светло-серого рояля. На этой фотографии Дэйзи выглядела царственно и шикарно.
Время от времени, переставляя туда-сюда стеклянную посуду и тарелки, Дэйзи на минуту останавливалась, оценивая произведенный эффект; для нас это был знак последовать ее примеру. Именно тогда я оценила способность Дэйзи, не говоря ни слова, заставлять людей делать то, что ей хочется. Я чувствовала, что атмосфера в доме наэлектризована до предела.
— Я бумаги на кровать положила, — донесся из спальни голос мисс Рильке.
— Это она что-то там говорит? — спросила Дэйзи, будто это была последняя капля, переполнившая чашу ее терпения.
— Да, — громко сказала мисс Рильке.
— На кровать — нет, ни в коем случае, — ответила Дэйзи.
— Нет, дорогая, она явно спятила, — сказал любовнице поэт, — это же надо придумать, бумаги на кровать класть.
— Сходите посмотрите, что она там делает, — сказала мне Дэйзи.
Я повиновалась и увидела, что мисс Рильке перекладывает бумаги с постели на пол. Розовые тона спальни Дэйзи произвели на меня сильное впечатление. И откуда у нее этот вкус к розовому? Это ведь не в современном стиле, да и в двадцатые — годы расцвета Дэйзи — этот цвет тоже не был в моде. Туалетный столик в форме человеческой почки был покрыт тюлем, — сильно попорченное сооружение с давними следами кольд-крема, пятнами от сигарет, царапинами, оставленными разными острыми предметами. Кое-где на сгибах сохранилась изначальная окраска, и этот полыхающий пурпур напомнил мне цвета, виденные ранее, — розовые оттенки любили и охотно носили женщины из малайской колонии Кейптауна.
Нет, спальней двадцатых годов это не назовешь, она явно относилась к началу двадцатого века — эдвардианская спальня. Но и в этом случае, даже в этом, Дэйзи вряд ли могла унаследовать такую комнату, ибо ни мать ее, ни бабушка явно не задирали ноги в «Гэйети».[10] Нет, это сама Дэйзи, повинуясь своему невысказанному, но упорному инстинкту, украсила эту комнату кроватью с причудливой резьбой, занавесками с бахромой, печальными поникшими розами на каминной полке и рассыпающимися от старости пуховками. И все в розовом, все в розовом. Я так и не отгадала загадку вкуса Дэйзи по части спальной обстановки — ни тогда, ни позже. Ибо стоит мне попытаться поместить ее в то или иное конкретное время или пространство, как контуры безнадежно расплываются. Порождение двадцатых, она вместе с тем обставляет спальню, которая выламывается из их стиля. Осколок старого праздного класса, она вместе с тем становится архитектором этой комнаты в розовых тонах.
Вынуждена с сожалением признать, что оставшуюся часть вечера я посвятила разрушению сборища и подрыву самой цели, ради достижения которой Дэйзи пригласила гостей.
А цель была обычной. Она вступила в какую-то новую международную гильдию и хотела сделаться членом ее комитета. Сегодня ожидались несколько парламентариев, директор завода по производству минеральных вод, бригадир-генерал (и к тому же граф), отставной адмирал и несколько женщин-журналисток. Помимо того она пригласила кое-кого из старых друзей — тех, что не пропускали ни одно из сборищ в таком роде. Она называла их своими «столпами»; это был миманс либо хор в социальной драме Дэйзи. Существовал также некто мистер Джеймисон; среди приглашенных его не было, но невидимо он присутствовал — в качестве председателя вышеупомянутого комитета. Видеть миссис Оверэнд в составе комитета ему не хотелось. Нас для того и собрали — хотя догадывались о том лишь немногие, — чтобы начать кампанию по устранению этого самого мистера Джеймисона. Именно его коллеги и знакомые были приглашены на прием.
Прихожая была отделена от гостиной раздвижными дверями. Меня поставили ответственной за это помещение, где разместили буфет. Здесь Дэйзи, готовясь к приему гостей, задержалась, чтобы сменить чулки. У нее вообще была привычка одеваться во всех комнатах дома, беспокойно перемещаясь с места на место. На поиски разбросанной во время странствий по дому одежды, гребня, помады отрядили мисс Рильке; но секретарша проглядела валяющуюся на столе, в центре прихожей, пару черных шелковых подвязок вековой давности, каждая с очень большой, перепачканной в саже, но изначально алой съемной розеткой.
Прямо перед появлением первых гостей Дэйзи Оверэнд заметила в прихожей подвязки.
— Убери их, — велела она мисс Рильке.
Первым пришел адмирал. Я открыла дверь, а Дэйзи и Лотти, с мастерством, накопленным за долгое время практики, затеяли оживленную беседу, в самый разгар которой и должен был, по замыслу, войти в гостиную адмирал. Следом за ним появился один из парламентариев. Оба они, не будучи «столпами», оказались в этом доме впервые.
— Прошу. — Мисс Рильке придержала раздвижную дверь.
— Сюда, пожалуйста, — окликнул их из гостиной Том Пфайффер.
Оба гостя воззрились на стол. Там все еще валялись подвязки Дэйзи. Адмирал, как я заметила, был озадачен. Не будучи слишком близко знаком с Дэйзи, он наверняка решил, что дама эта весьма эксцентричная. Он попытался улыбнуться. Гость-политик взял некоторую паузу на то, чтобы выработать линию поведения. Наверное, в конце концов он заключил, что подвязки это не хозяйкины, ибо в какой-то момент я поймала его любопытствующий взгляд на себе.
— Это не мои, — поспешно сказала я, — не мои это подвязки.
— А чьи же? — спросил адмирал, придвигаясь ближе.
— Это подвязки миссис Оверэнд, — сказала я, — она меняла здесь чулки.
В общем-то подвязки эти никогда не служили своей цели; даже сейчас, при помощи английских булавок, они поддерживали не столько чулки Дэйзи, сколько ее дух, потому что она любила их. Это были исторические подвязки в том смысле, что, как мне кажется, изначально они выглядели простым капризом, затем, через пять примерно лет, вступили в наиболее интересный, старомодный, непристойный период своего существования, а по прошествии еще некоторого времени начали увядать: декаданс. И вот теперь, с извращением, свойственным тем, кто видит в вещах, имеющих к ним хоть какое-то отношение, исключительно белоснежную чистоту, Дэйзи видела в них не старье, но часть самой себя — впоследствии у нее появился повод сказать мне об этом.
Адмирал настороженно проследовал в гостиную, а парламентарий задержался, изучая картину на стене и краем глаза поглядывая на подвязки. Меня же, должна признать, подмывало убрать их куда-нибудь подальше. Появлялись новые гости, и подвязки наводили их на разные мысли. Уже одно это не позволяло держать их на виду — негостеприимно как-то.
И все же я не уступила соблазну. Мисс Рильке неожиданно пришла в сильное волнение. При появлении очередного гостя она бросалась к дверям и, подражая моему голосу, восклицала:
— Извините, пожалуйста, за подвязки. Это подвязки миссис Оверэнд. Она меняла здесь чулки.
Дэйзи, Дэйзи Оверэнд! Надеюсь, вы меня забыли. Весь план вечеринки сломался. Лотти довольно быстро променял относительный покой гостиной на общество «столпов» Дэйзи, которые заранее облюбовали отдельную комнатку. Эти пионеры Молодежной Идеи, подходившие по двое, по трое, охотно внимали речам мисс Рильке:
— Извините за подвязки. Это подвязки мисс Оверэнд…
Но больше всех веселился Лотти.
Прошло еще несколько минут перед тем, как до гостиной, где Дэйзи настраивала какую-то журналистку против мистера Джеймисона, донесся шум. Это собравшиеся в прихожей гости обменивались рукопожатиями, чокались и приплясывали вокруг Лотти, который, подцепив подвязки щипцами для сахара, держал их высоко над головой. Том Пфайффер забылся настолько, что просто мирно свернулся калачиком на диване.
Вижу Дэйзи, стоящую в проеме раздвижной двери в своем черном выходном платье и напоминающую не-распустившийся слабенький бутон тюльпана. Позади нее сгрудились новые друзья, несколько фраппированные происходящим, но готовые разделить общий дух веселья, чем бы оно ни было вызвано. Старшее поколение под предводительством Лотти танцевало простейшую джигу. Одной рукой он высоко держал щипцы для сахара с зажатыми в их челюстях подвязками, другой одергивал в коленях брюки, словно это была дамская юбка.
— Ай-ай-ай, — распевал Лотти, — старые грязные подвязки Дэйзи, ай!
— Ай-ай-ай, — дружно откликался хор меж тем, как мисс Рильке, с любовью взирая на происходящее, в одной руке держала бокал Лотти, в другой свой собственный.
Помню Дэйзи, застывшую на месте, с трудом сдерживающую себя, хоть и сохраняющую светский вид. Изо рта у нее, отскакивая от зубов, вырывался короткий смешок, а глазами она сверлила меня, испытывая нею артиллерию своего гнева. Рот Дэйзи кривился в смехе целых три минуты.
Я редко бываю в лондонском Уэст-Энде. Но иногда мне приходится поспешно переходить через Альбермарл-стрит в районе Пиккадилли, где с грохотом проезжают автобусы, напоминающие охваченных оргиастическим восторгом гигантских длиннохвостых попугаев. Несутся они со скоростью, превышающей скорость королевской конной гвардии, и шума производят больше, чем она. По левую руку от меня — вереница магазинов, по правую погруженный в летнюю дрему обширный простор Грин-парка. Вот тогда-то моему внутреннему взору является слоняющаяся без дела Дэйзи Оверэнд — беспомощная, славная, до предела развращенная.
На следующий после той встречи день, уже ранним утром, местный нарочный принес мне от нее записку. В моих услугах больше не нуждаются. Чек прилагается. Подвязки — часть самой Дэйзи, и я должна понять ее чувства.
Чек оказался фальшивым. Я не стала затевать дела и, по правде говоря, забыла настоящее имя Дэйзи Оверэнд. Я забыла ее имя, но вспомню его в Судный день.
ВВЕРХ И ВНИЗ
© Перевод. Т. Кудрявцева, 2011.
Сколько пар познакомилось в лифте (элеваторе, ascenceur, ascensore, или как там еще называют его в мире)? Сколько браков за этим последовало?
В их лифте обычно есть служитель, иногда его нет.
Она поднимается и спускается каждый день. В 1.05, когда давка, и в 2.35, когда она возвращается, она обычно обнаруживает его в переполненной кабине — он смотрит вверх на мелькающие цифры этажей, опускает взгляд вниз, в пол. Иногда кроме них — никого. Он — замечает она — спускается с 21-го этажа.
Его контора? На доске внизу указано шесть контор на 21-м этаже: юридическая контора, контора по недвижимости, офтальмолог, швейцарская аптечная ассоциация, агентство «Палестинский калий» и — хотите — верьте, хотите — нет, ревматолог. В какой из них он работает? Она не смотрит на него в упор, но, бросив взгляд, всегда мысленно проверяет вытекающие возможности.
Он вежлив. Он всегда отступает назад, когда втискивается толпа. Они подобны монетам в кошельке.
Однажды их взгляды скрещиваются, и она тотчас отводит взгляд.
Он замечает, что в руке у нее портфель, а она в это время глядит на номера этажей. Они спускаются. Она выплескивается из кабины в болтающей человеческой массе, поворачивает налево (у вестибюля два входа) и исчезает. На доске внизу на ее этаже, 16-м, числятся четыре конторы. Две юридические фирмы, литературное агентство и контора под названием «У. Х. Джилберт» без дальнейших обозначений. «Она работает у мистера Джилберта? — недоумевает он. — Джилберт — частный детектив? У. Х. Джилберт вполне может быть связан с чем-то скрытным».
День за днем она смотрит на его портфель из светло-коричневой кожи и думает, чем он занимается. Лифт останавливается на 9-м этаже, и в кабину входит полноватый седовласый мужчина с необычайно веселой улыбкой. Поехали — вниз, вниз. Она думает о том, как проходит повседневная жизнь молодого мужчины — где он живет, где и что ест, читал ли он когда-нибудь Библию? Она ничего, абсолютно ничего не знает о нем, кроме одного: он пытается успеть взглянуть на нее, пока она смотрит в другую сторону или выходит из лифта.
На нижнем этаже — секунды, и его уже нет. Он исчезает так быстро, словно смотришь на него в окно поезда. Она думает, что ему, наверно, мало платят на 21-м этаже — возможно, он работает в конторе по недвижимости или у специалиста по ревматизму. Должно быть, ему около двадцати пяти. Возможно, он рассчитывает получить лучшую работу, а пока после уплаты за квартиру, еду, одежду и спрей от насекомых у него остается очень мало свободных денег.
Ее длинные светлые волосы лежат на плечах поверх темно-зеленого пальто. Возможно, она проводит дни, рассылая новые членские карточки участникам таинственной деятельности м-ра Джилберта: «Да, я подтверждаю, что готов поддержать „Космическое паранормальное апостольское движение“, и продлеваю подписку». В карточках указаны суммы в соответствии с категориями: индивидуальное членство, парное, а также пенсионер/не получающий дохода/студент.
А что, если отключится электроэнергия?
Она смотрит на его портфель, его галстук. Она видит начало во сне. Она даже представляет себе днем неизбежную встречу в комнате, там, где они будут только вдвоем, куда никто не вломится, — например, в амбаре, где они укроются от бури, где их засыплет снегом. Наверняка есть такой фильм.
С виду он не похож на женатого. Правда, это невозможно установить, кроме как по обручальному кольцу, которое в данном случае отсутствует, но на женатого он не похож. Тем не менее, возможно, он женат и в уикэнд чистит картошку для них двоих. А какой у него знак зодиака? Был ли у него в прошлом — как у нее — фруктовый сад? Какие каналы по телевидению он смотрит?
Волосы ее лежат на плечах. Интересно, думает он, крашеная ли она блондинка; на лобке волосы у нее, наверное, черные. Из тех ли она девушек, которые не едят, и потому в ресторане платишь огромный счет за еду, к которой она едва притронулась.
Однажды вечером дежурный отсутствует. Они — одни. Маньяк-убийца?.. Неужели? Ему пришлось бы только снять галстук, если рук недостаточно. Но руками он вполне может ее задушить. Когда они на нижнем этаже выходят из лифта, он произносит: «Доброй ночи» — и исчезает в толпе.
Здесь, в закрытом пространстве, тебя словно привязывают. Он думает о том, как в удаленных местах, когда ухаживающему мужчине невозможно вечером прийти в дом, старики повязывают пару — они повязывают молодежь в одежде. Пара будет дышать друг на друга, но они недоступны друг для друга — это стерильная репетиция того, что произойдет. «Возможно, — раздумывает он, — она ходит в церковь и в этом отношении лучше меня». Мысль о ее моральном превосходстве не дает ему покоя всю ночь, и на следующее утро он несет эту мысль с собой в лифт.
А ее нет. Наверняка заболела гриппом, лежит в одиночестве в своей однокомнатной квартире. В своей единственной комнате, где стоит большая кровать и окно выходит на реку? Или с ней мистер Джилберт?
Когда на другой день она появляется в лифте, его тянет вечером незаметно проводить ее до дома. Но ведь она может знать, почувствовать, догадаться о его присутствии сзади. Конечно, догадается. Она может подумать, что он — извращенец, преступник. Она может повернуться и увидеть его, идущего через парк.
Так один на пустынной дороге Шагает в страхе и ужасе, И, раз обернувшись, продолжает идти, И больше не поворачивает головы, Потому как знает: страшный злодей Близко шагает за ним.Ходит ли она заниматься гимнастикой? Она, должно быть, поймала сейчас мой взгляд. Он знает: у нее нет обручального кольца или кольца невесты. Но это мало что значит.
Она смотрит на его портфель, на галстук, на этаж, на номер этажа. Не может ли он быть торговцем бриллиантами со свертком папиросной бумаги, в которой — упрятанные в его внутреннем кармане — лежат пять бриллиантов в один карат. Одна из фамилий на доске может являться прикрытием.
Другие знакомые люди подсаживаются к ним на каждом этаже. Женщина с белоснежной улыбкой, которую никакой дантист не мог сделать теплой, придвигается к нему, а он отодвигается.
Однажды, в обеденный перерыв, он смотрит на нее и улыбается. Она тут, вечер, и, кроме них, всего четыре человека плюс служитель. Он делает рывок. Не будет ли она свободна поужинать как-нибудь вечером? В четверг? В пятницу?
Они договорились о дне. Они ели в польском ресторане, где клиентов обслуживают официантки с длинными волосами, даже более светлыми и, наверно, более натуральными, чем у Дорин.
Сколько нужно времени, чтобы меняющиеся мифы и предположения превратились в застывшие единицы реальности? Иной раз это происходит так быстро или так медленно — в зависимости от везения, как настройка забарахлившего телевизора. Эти полосы и абрисы облаков вдруг превращаются в мебель и в людей.
Он работает в юридической фирме на 21-м этаже, его специальность — морская страховка. Дорин — так ее зовут — говорит, что это, должно быть, очень ответственная работа. Он понимает, что она умница, даже прежде, чем Дорин Бриджес (ее полное имя) говорит ему, что она работает у У. Х. Джилберта («Билла»), независимого литературного агента, и что недавно она открыла изумительного автора по имени Дэк Ян и возлагает большие надежды на его дебютный роман, который вскоре должен выйти. Майкл Пайвет живет в холостяцкой квартире; она делит комнату с соседкой в другой части города.
И любопытно, что все фантазии и возможности, проходившие через их умы в течение последних пяти недель, а то и больше, уже совершенно забыты. Перед лицом простых реальных фактов их подозрения исчезают в никуда и ни разу не вспомнятся на протяжении всей их дальнейшей совместной жизни.
ОТКРЫТО ДЛЯ ПУБЛИКИ[11]
© Перевод. Т. Кудрявцева, 2011.
Она устало переходит из комнаты в комнату, задерживаясь возле мебели, похожей по стилю на утраченные, давно замененные оригиналы. Это «Шарлитт» — дом молодого Жан-Жака Руссо в пригороде Шамбери, что в области Савойя, где он обитал с мадам де Варен — его официальной любовницей, умницей и подругой, которая была старше его на тринадцать лет и которую он называл «мамочка». Это была их летняя резиденция.
Стояла ранняя весна. Посетителей всего несколько человек, сказал ей хранитель музея, когда она внизу, у входа, покупала билет и брошюру. Подобно тому как это происходит в большинстве удаленных домов знаменитостей, добрый хранитель охотно поведал ей историю этого места прямо в своей конурке, у печки, вовсе не спеша отпустить эту хорошо воспитанную и спокойную на вид посетительницу бродить по холодным комнатам внизу и наверху.
Такого посетителя она обнаружила наверху. Она не уверена, почему это удивило ее, но, возможно, потому, что она не слышала, как он передвигался, пока не наткнулась на него, когда он стоял и смотрел на небольшой альков, куда была втиснута кровать Жан-Жака Руссо или ее копия.
Высокий и стройный мужчина лет тридцати, небрежно одетый — в черной куртке и зеленовато-коричневых брюках. Когда он повернулся посмотреть на нее, она увидела, что на нем черный свитер, из-под которого на шее видна полоска белой рубашки, так что если бы не брюки, его можно было бы принять за священника. У него длинное лицо, светлые волосы, светло-серые глаза. Его небрежная одежда слегка старомодна, но одет он весьма элегантно и дорого. И она видела его раньше. Он отводит взгляд, потом снова смотрит в ее направлении. Почему?
Потому что он видел ее раньше.
Она продолжает свой обход комнат, отмечая по дороге детали. Мелкие детали. Обои в комнате мадам де Варен, — как сказано, — подлинник восемнадцатого века с маленькими цветочками, нарисованными вручную. Это самая большая комната в доме. Два больших окна выходят на холодный ранней весною сад, на долину и горы за ним. Там внизу, в саду, молодой влюбленный Руссо ждал каждое утро, глядя вверх, когда откроются ставни и «настанет день che maman…».[12]
Она снова спускается вниз еще раз посмотреть на все, что там есть. В вестибюле, возле привратника, она видит другого посетителя, стоящего к ней спиной. Он покупает открытки. Она выходит из музея и следует своим путем. За воротами припаркован маленький кремовый «пежо».
Вы, наверно, слышали о Бене Донадьё, биографе и зяте романиста Генри Кэслмейна. Он в 1960 году женился на Доре Кэслмейн, увлекшись некогда знаменитыми романами ее стареющего отца, уже начавшими отступать в безвестность. Самой Дорой он вовсе не увлекся, и за это она была ему скорее благодарна. Она была на шестнадцать лет старше Бена — ей уже исполнилось сорок шесть, и она была старой девой. Подлинным же предметом любви для нее был ее некогда знаменитый отец. Она вышла замуж за Бена, которому было тогда около тридцати, главным образом потому, что он работал директором школы и имел жизненное обеспечение, чтобы восполнить убывающий доход отца и позволить ей бросить работу и всецело посвятить себя отцу.
Генри Кэслмейн нежно любил дочь, а себя — немного больше. Он согласился с браком на такой основе так же, как в далеком прошлом принимал обожание своих читателей и похвалы молодых критиков. Бен переехал в дом Кэслмейна и вечерами, а также в свободные от школы дни сортировал бумаги Кэслмейна и делал обширные записи своих бесед со стареющим новеллистом. Кэслмейну было тогда восемьдесят пять лет.
Года через три, после того как была опубликована его биография, началось возрождение Кэслмейна. Романы его вновь напечатали, по ним снимали фильмы и показывали по телевизору. Умер Генри Кэслмейн вновь на вершине славы.
Свой дом он оставил дочери — Доре. Все свои бумаги, все свое литературное наследие, все. А Бен получал авторский гонорар за биографию Генри Кэслмейна. Сумма была значительная.
В последние годы жизни Кэслмейна их финансовое положение улучшилось — в значительной мере благодаря усилиям Бена возродить славу тестя. Они смогли нанять повара и горничную, предоставив Доре возможность быть настоящей спутницей своего отца и возить его на прогулки в их новом «фольксвагене».
Никто не удивился, когда после смерти Кэслмейна брак распался. Он ведь и держался-то на преданности этой пары отцу Доры. Бен — все еще молодой и полный энергии тридцатипятилетний мужчина и пятидесятилетняя Дора, выглядевшая старше своих лет, не имели ничего общего, кроме воспоминаний о старике. Он был властным и утомительным, но Дора терпела. Бен же терпел своего знаменитого тестя ради его трудов, которыми восхищался, и, не жалея сил, изо дня в день рекламировал их, изучал, копался в архивах, вел телефонные переговоры с телевидением и продюсерами фильмов.
В начале их брака он пытался обладать Дорой из чистого восторга перед ее отцом и часто преуспевал. А Дора не могла так продолжать. Она была всецело поглощена отцом, и Бен не мог его заменить. Теперь Бен имел доход от его биографии. Он выполнил свою работу. А Дора была невероятно богата.
Генри Кэслмейна похоронили. Отпевание при большом стечении народа, репортеры, телевидение, а на еле-дующей неделе все было уже позади. Генри Кэслмейн продолжал жить в своей посмертной славе, а Дора и Бен уже не были вместе.
Этот факт они не афишировали. Все знали только, что Дора отказалась покинуть дом своего детства, где протекала жизнь ее отца. Бен снял квартиру в Лондоне и жаловался друзьям на скупердяйство Доры. Она выделила ему содержание. Деньги за написанную им биографию не могли поступать вечно. Он написал немало эссе о Кэслмейне, и поговаривали, что намерен взяться за что-то другое, более свежее.
Через несколько месяцев Дора предложила развод:
Дорогой Бен!
Я намерена встретиться с адвокатом Бэссетом. Он, несомненно, свяжется с Вами. Я знаю: отец хотел бы, чтобы мы оставались вместе и любили друг друга, как он с самого начала этого хотел. Папа хотел, чтобы я никогда ни в чем не нуждалась, он, собственно, ненавидел говорить о финансовых деталях жизни в те давние дни, когда его книги начали постепенно исчезать с прилавков. Я знаю, что отцу хотелось, чтобы я выказала мою признательность и выразила его понимание той роли, какую Вы играли в нашей жизни (хотя, конечно, я была уверена, что великая слава отца в любом случае возродится). Вот почему я дала Бэссету указание предложить Вам ежемесячное содержание, которое Вы вольны принять или отказаться согласно Вашей совести. Развод должен пройти спокойно и по возможности гладко. Я думаю, именно этого хотел бы отец. Прежде всего он желал бы полнейшей осмотрительности в вопросе о том, что наш союз был чистой формальностью, и слуги, безусловно, могли бы это подтвердить (слуги, конечно, всегда всё знают, как говорил отец). Таким образом я могла бы легко получить развод и по другим причинам, избегнув необходимости выделять Вам содержание, которое я предлагаю сейчас. Я уверена, что Вы с выгодой для себя жили с нами под одной крышей все эти годы.
Отец хотел бы, чтобы я насладилась плодами его труда, и я вскоре предприму поездку за границу, в те места, которые так любил отец.
Ваша — чистосердечно — Дора Кэслмейн.Именно это «чистосердечно» — больше, чем официальная подпись, — обдало Бена холодом. Он вспомнил фразу из одной книги Генри Кэслмейна: «Бойся злобы праведника».
Что можно увидеть в суровом и внушающем страх месте рождения Жанны д'Арк в Домреми-ля-Пюсель в Вогезах? Кругом пустые серые стены, и, конечно, кто-то жил здесь и ушел из жизни. Дом стоит у самой дороги, в тени большого дерева. Поблизости мост через реку Мёз, где стоит, застыв, мужчина и смотрит вниз, на воду. Неподалеку припаркован маленький кремовый «пежо» с открытой дверцей со стороны водителя. Мужчина сел в машину и снова из нее вылез. Он оглянулся на женщину, которая наблюдала за ним, пока он обходил скромное место рождения, открытое теперь для публики. Женщина смотрит, как он отъезжает — слишком быстро, едет дальше и дальше, так что хранитель музея, продающий у входа билеты, выходит и стоит рядом с ней на дороге, глядя ему вслед.
* * *
Бен и Дора так и не развелись. Он показал ее письмо друзьям. Супруги всегда похвалялись, что у них есть несколько друзей, но, когда этих «нескольких друзей» пересчитывали, их оказывалось поразительно много. Большинство из них были возмущены.
— Это несправедливо — так к тебе отнестись, Бен. Во-первых, ты сколотил для нее целое состояние, а теперь она…
— Бен, ты должен обратиться к юристу. Ты же имеешь право на…
— Какое холодное, ледяное письмо. Но между нами: она всегда была влюблена в своего отца. Это был инцест.
— Я не пойду к юристу, — сказал Бен. — Я пойду к Доре.
Он явился к ней без предупреждения. Дверь открыл высокий полный молодой человек, расплывшийся в восторженной улыбке, когда Бен назвался и сказал, что хочет видеть свою жену.
— Дора на кухне.
В доме уже и не пахло отцом. По дороге на кухню Бен заглянул в дверь столовой. Там были новые обои, новый ковер. Дора была на кухне и с несчастным видом взбивала омлет. Кухонный стол был накрыт для еды, а для какой еды — ленча или завтрака — трудно сказать. Время было четверть пятого. Так или иначе, Дора была несчастна. Бен ясно понял, что она цепляется за это свое состояние. Ничего другого у нее нет.
Дряблый молодой толстяк со скрипом протащил через кухню стул для Бена.
— Располагайтесь как дома, — сказал он.
Бен повернулся, намереваясь уйти.
— Останьтесь, не уходите, — сказала Дора. — Давайте сядем и обсудим ситуацию, как три цивилизованных человека.
— Я уже получил сполна от трех цивилизованных людей, — сказал Бен. — От вашего отца и от вас, таких цивилизованных, и я был достаточно цивилизованным, чтобы позволить себя использовать и вышвырнуть, когда я стал больше не нужен.
Дряблый молодой толстяк сказал:
— Насколько я понимаю, вы никогда не были мужем Доры. Она дала себя использовать в качестве средства для установления ваших отношений с ее отцом.
— Кто это? — спросил Бен, указывая на молодого мужчину.
Дора принесла омлет и поставила перед своим приятелем.
— Ешь, пока горячее. Не дожидайся меня. — И стала разбивать яйца и выливать их в миску.
Молодой человек начал есть.
— Неужели в доме нечего выпить? — спросил Бен. — Это мерзко.
Он поднялся и вышел в гостиную, где выпивка всегда стояла на подносе. Когда он вернулся с виски и содовой, молодого человека уже не было на месте, хотя на тарелке все еще лежала часть омлета. Тут Бен увидел сквозь кухонное окно края брюк молодого человека и его туфли, исчезавшие по ступеням, что вели в сад и к калитке, выходящей на лужайку за ним. Дора с лопаточкой для переворачивания омлета в руке подошла к оставшейся открытой кухонной двери и закрыла ее.
— Можете съесть этот омлет, — сказала Дора. — Я приготовлю себе другой.
— Спасибо, но я не могу есть в такой час. А что случилось с вашим другом?
— Я полагаю, он почувствовал себя неловко, увидев вас, — сказала Дора.
— Что же его смутило?
— То, что он стал здесь жить и открыл дом для публики. Этим я обязана отцу. Сначала я должна была поехать за границу, а потом — представляете: должна была найти компаньона, помощника, кого-то, кто помог бы мне превратить дом в музей. Комнаты отца, его рукописи.
— Ну, это была моя идея, — сказал Бен. — Ведь именно это мы планировали сделать, когда умер Генри.
— Вы не единственный поклонник Кэслмейна, — сказала Дора. — Я еще не настолько стара, чтобы снова не выйти замуж, и я могла открыть дом для публики — лишь определенные комнаты, те, которые важны. Я сделала ремонт в доме и поправила полы. Я могла бы все это воплотить с новым партнером.
— Какого черта вы хотите снова выйти замуж?
— По обычным причинам, — сказала Дора. — Любовь, секс, компания. В конце концов, одной идеи о прославленном имени Кэслмейна недостаточно. В постель с идеей не ляжешь.
— А ведь так было, — сказал он, — когда Генри был жив.
— Ну, не знаю.
— Вы не против, если я пройдусь по дому, прежде чем уйти? — спросил Бен.
Дора посмотрела на часы. Вздохнула. Поставила тарелки в мойку.
— Я пойду с вами, — сказала она. — Что именно вас интересует?
— Посмотреть, как все выглядит сейчас.
Они пошли из комнаты в комнату. Кресла были заново обтянуты, стены и деревянные изделия свежевыкрашены. В кабинете Генри Кэслмейна на полу на пластиковом листе лежала кипа его бумаг, вместо его письменного стола был стол на козлах, на котором горой лежали еще бумаги и рукописи.
— Я работаю над бумагами, — сказала Дора. — На это нужно время. Многие его книги были заново переплетены, а некоторые все еще у переплетчиков.
Бен посмотрел на полки. Книги, которыми Генри больше всего пользовался — его растрепанная поэзия, рваные справочники, — все это теперь сверкало золотом и было переплетено телячьей кожей.
— Вы никогда не сможете сами просмотреть все эти бумаги, — сказал Бен. — Это огромный труд. Одни письма…
— Я выложу их в витринах, — произнесла Дора монотонным, усталым голосом. — Я могу нанять помощников, сколько угодно помощников.
— Послушайте, — сказал Бен. — Я знаю, что вы можете нанять помощников. Но это работа для профессионала. Вам нужны ученые, люди со вкусом.
— Хорошо, я найду ученых, людей со вкусом.
— Вы намерены выйти замуж за этого молодого человека — как его звать?
— Я могу выйти за него замуж. Я еще не решила, — сказала она.
— Вы хотите сказать, что он — специалист по рукописям?
— О нет, — сказала она. — Я не позволю такому человеку даже дотрагиваться до бумаг отца. Но он прекрасно справится у входа, продавая билеты, когда я открою дом для публики. Неужели вы не видите его в этой роли?
— Да, вижу, — сказал Бен.
— Развод должен состояться…
— Послушайте, Дора, должен сказать вам, что я собираюсь предъявить одну претензию. Я имею право на часть того, что я сделал для вас за последние семь лет.
— Я ожидала этого. Мой юрист ожидал этого. Мы заключим соглашение.
— Кэслмейн был ни при чем, когда я женился на вас.
— Я сказала: мы заключим соглашение.
— Это печальное окончание наших стремлений, — сказал Бен. — Мы всегда собирались открыть дом для публики. Генри знал это. А теперь вы делаете из этого свалку — всё портите, портите. Вам никогда не справиться с этими архивами.
— Вы что, предлагаете вернуться сюда и работать с бумагами? — сказала она.
— Я мог бы об этом подумать. Ради Генри.
— А не ради меня?
— Ради Генри. Вы же вышли за меня замуж не ради меня. Для вас всегда был главным отец, только отец.
— Да, — сказала она, — а теперь отец мертв. У нас больше нет ничего общего.
— У нас обоих по-прежнему есть стремление открыть музей Кэслмейна, это наша общая мечта.
— Вам пора уходить. Я спать хочу, — сказала Дора, глядя на свои часы.
Она закрыла дверь в кабинет — за их спиной, и в кабинете раздался шорох: стопка бумаг соскользнула на пол. Затем послышался глухой удар: еще одна стопка рухнула от смещения первой. Дора не обратила на это внимания.
Посетители — кажется молоденькой девушке-студентке, дежурящей у входа, — похоже, чувствуют себя неуютно в присутствии друг друга, хотя пришли по отдельности. Выглядят оба старомодными. И дело не в крое и стиле их одежды — такое впечатление возникает не от чего-то конкретного. Оба — англичане или, возможно, американцы: ухо девушки не привыкло улавливать разницу, тем более что каждый произнес всего несколько слов, когда покупал билет. «Как давно открылся музей?» и «Это действительно шляпа Фрейда?» А шляпа Фрейда, светло-коричневая фетровая шляпа горожанина, висит на вешалке вместе с прогулочной палкой Фрейда. Девушка следует за посетителями. Мужчина — высокий, интересный, лет тридцати. Женщина стройная, с зачесанными в пучок волосами, старше его. Вид у них людей, занимающихся наукой, — как у большинства тех, кто посещает дом Зигмунда Фрейда в Вене на Берггассе, 19. Но то, что они время от времени встревоженно поглядывают Друг на друга, потом так же встревоженно отводят взгляд, заставляет молодую хранительницу святыни нервничать. Тут ведь всюду ценности: коллекция примитивистских артефактов на столе в кабинете, рукописи и письма на демонстрационных столах под стеклом. Неужели эти посетители — сообщники в задуманном ограблении?
— Это — кушетка, — говорит девушка-студентка. — Да, оригинал.
Кушетка широкая, расшатанная и мягкая. Можно спать на ней всю жизнь, погружаясь глубже и глубже в сон.
— А это — приемная.
— Ах, приемная, — произносит молодой мужчина.
— В ней водятся призраки? — произносит женщина, дотрагиваясь до одного из стульев, обитых красным плюшем и стоящих вдоль стены словно в ожидании чего-то.
— Охотники? — переспрашивает озадаченная девушка.
— Нет, не охотники. Призраки.
— Нет, — говорит девушка и удивленно резко оборачивается, так как мужчина вдруг исчез и уже вышел за дверь квартиры. А когда она поворачивается к женщине, то, к своему изумлению, не обнаруживает никого.
В семейном доме бактериолога Луи Пастера в Арбуа в поливаемых дождем горах Юра присутствуют оба — и она, и он.
— Это обеденный стол. Это доска, на которой он обстругивал. Какой дождь! Неужели он никогда не прекратится? Вы хотели взглянуть на лабораторию — мадам, мсье, сюда. — Очевидно, их принимают за супружескую пару.
Лаборатория явно вычищена, но почему-то производит пыльное впечатление, валяется несколько старых книг — его исследования организмов и ферментаций.
— Лишь немногие, — произносит молодой мужчина на понятном, но с иностранным акцентом французском, — знают, что пастеризованное молоко происходит от фамилии Пастер.
— Это верно, — говорит гид.
Пара выходит вместе. На улице, под дождем, она говорит:
— Пора вам прекратить ходить за мной.
— Я вовсе не хожу за вами, — говорит он, — я следую своей задумке. Это вам надо вернуться туда, откуда вы приехали. Это вы отделились.
— Мы не связаны контрактом, — говорит она. — У нас нет друг перед другом обязательств. Это вы спровоцировали разрыв. У нас никогда не было брака, который можно было бы назвать браком. Я говорила вам, что всегда намеревалась открыть дом отца для публики после его смерти.
— Вы никогда этого не совершите, — говорит он. — Не совершите без меня. Я участвую в этой задумке. И я должен продолжить.
— Вы — тень задумки, — говорит она.
— Как и вы — тень мечты и плана.
Он садится в свою машину и уезжает, оставив ее на холодной старой улице.
Дора открыла дверь в кабинет отца и снова ее закрыла. Прошло два года с тех пор, как он умер. Новый молодой человек — уже третий по счету, и у него, как и У двух его предшественников, восторженное желание помочь привести бумаги в порядок и подготовить дом Для музея иссякло, а возможно, его никогда и не было. Но в противоположность другим он оказал хорошее влияние на Дору. Этот молодой человек работал в оптовой торговле модной одеждой — его попытки приукрасить внешность Доры увенчались успехом. В свои пятьдесят лет Дора впервые в жизни выглядела здоровой. Его преданность ей или, вернее, весьма эксцентричное увлечение всегда, как она выражалась, оказывало чудодейственное воздействие на нее.
— Помимо того что я — дочь Генри Кэслмейна, как еще я вам кажусь? — спросила она однажды нового молодого человека.
— Вы потрясающая женщина сами по себе.
В известной мере именно это она хотела услышать или узнать от него. На следующий день она позвонила Бену. Женский голос ответил по телефону, глупый голос. «Кто говорит?» — «Его жена». — «Ах, жена». — «Да, жена». (Голос зазвучал вдали: «Бен, это тебя. Она говорит, что твоя жена».)
Пауза, и Бен у телефона.
«Да, Дора, что вам надо?» — «Мы с Лайонелом должны принять решение по поводу бумаг отца. Я думаю, вы могли бы нам помочь». — «А кто такой Лайонел?» — «Мой друг». — «Я считал, что его зовут Тим». — «Нет, Тим был в прошлом году. Во всяком случае…» — «Я заеду на днях». — «Лучше побыстрее». — «Как-нибудь в течение двух следующих недель — раньше я не смогу».
Она с изумлением увидела его в доме Бронте, мрачном и печальном, в Хоуворте, в Йоркшире.
«Здесь они гуляли вечерами после ужина в этой столовой, строя планы на будущее…»
На кладбище, среди памятников на могилах, где находится и могила Эмили Бронте, Дора поворачивается и говорит:
— Прекратите следовать за мной.
Маленькая группа посетителей-американцев наблюдает за ними. Они видят женщину-неврастеничку лет сорока с небольшим, пытающуюся избавиться от растерянного мужчины под тридцать или слегка за тридцать; оба выглядят слегка старомодно.
— Люди смотрят на нас, — говорит он.
— Моя единственная надежда, — говорит она, — что мы все-таки откроем дом ради отца. Я обошла столько ломов. Все они такие унылые. В музеях нет души.
— Перестаньте посещать их, — говорит он. — Именно это я и пришел вам сказать.
— Тогда у вас будут развязаны руки, так?
— Не говорите мне, — говорит он, — что у вас руки развязаны от того, что вы без конца бродите по ним.
Они уходят — он к своей машине, она — в никуда. Американцы уже стоят группой у строгих могил Бронте, читая надписи.
В Овечьем доме, в Райе, что в Восточном Суссексе, призраки их задумки наконец принимают решение.
— Вы не распишетесь в книге? — говорит хранитель музея. — Здесь Джеймс принимал гостей; да, дом маленький, тесный; да, при размерах Джеймса ему, наверно, было трудно тут повернуться. Но наверху…
В саду, возле могил собак Генри Джеймса, Бен говорит:
— Просто не понимаю, как вы можете открыть ваш старый дом для публики. Он такой очаровательный.
— Если бы не ради отца, у меня было бы такое же чувство, — говорит Дора. — Но отец хотел, чтобы его славе не было конца, чтобы она длилась в будущем вечно.
— Будущее уже наступило, — говорит он, — а вы ничего не сделали — только сидите и выпиваете со своими молодчиками, раздумывая об отце.
— А что делали вы?
— Я сидел и выпивал с моими девицами, раздумывая о вашем отце.
— Да пошел отец к черту, — говорит она.
Дора открыла дверь.
— Лайонел пришел в отчаяние, — сказала она. — Мне тоже было немного грустно, так как он был лучшим из всех. Но он понял, что должен уйти.
— Вы по-новому подстриглись, — сказал он.
— Вы пришли ради отца, его бумаг?
— Нет, я пришел ради вас.
Она повела его наверх, чувствуя себя свободно в своих новых брюках, и открыла дверь в утративший свое значение кабинет, где лежали горы архивных материалов.
— Я полагаю, нам надо отдать их университету, — сказала она.
— Мы никогда от них не избавимся, — сказал он. — Эти призраки, эти призраки — они никогда нас не отпустят. Письма от студентов, письма от ученых. Это будет все тот же старый труд.
В тот вечер они разожгли костер в саду. У них ушло много часов на то, чтобы сжечь все бумаги Кэслмейна. Но они сидели и пили в задней части прачечной, глядя, как пламя закручивает бумаги, и время от времени выходили, чтобы подкормить огонь новыми охапками, пока все не сгорело.
НЕПРИЯЗНЬ К ПОЛИЦЕЙСКИМ УЧАСТКАМ
© Перевод. Т. Кудрявцева, 2011.
Во-первых, юноша не хотел идти в полицейский участок справляться о маленькой пятнистой собачке своей тети. Ему было жаль тетю, потерявшую собачку, но он не любил полицейские участки.
— У меня какая-то неприязнь к полицейским участкам.
— Вы, молодые, вечно всем недовольны, — сказала она, — и побороть эту твою неприязнь к полицейским участкам можно, только сходив туда.
Он был уверен, что это — заблуждение. Ему было восемнадцать. Он уже встречался с девушкой, которая не сумела побороть свою неприязнь к почте. Но его тетушка огорчалась по поводу потери собачки, и он пошел в участок.
День был темный, середина января. Он долго-долго шел по заледенелому зигзагу дорожек, что вели по сельской местности к полицейскому участку. Дорожки пересекали заброшенные лет двадцать назад шахты. Природа не в полную силу восторжествовала здесь. Правда, летом, когда все здесь покрывала трава и белые полевые цветы, зияющие провалы шахт смотрелись нормально. А вот зимой они выглядели черными рваными ранами в земле. Юноша втайне сильно боялся их и всегда шел мимо них крадучись, чтобы эти жуткие шахты не заметили его.
Его тетя всегда небрежно бросала на этот счет:
— Идти-то всего пять минут.
Он не знал, что она подразумевала под пятью минутами. Так или иначе, небо было темное, когда он достиг полицейского участка, — день уже кончился.
Он вошел и увидел двух мужчин в форме, сидевших за высокой стойкой. Один из них что-то писал в книге. Долго-долго ни один из них не замечал присутствия юноши, и он уже подумывал, не покашлять ли или не сделать ли что-то. Не следует ли ему сказать: «Извините, я насчет маленькой белой собачки с черными пятнышками»? Или он должен сказать: «Могу я поговорить с дежурным офицером?» Он помнил, что, когда учился в школе, один из его учителей часто говорил: «Осмотрительность — лучший спутник отваги». Он тихо стоял и ждал.
Полицейский, который не писал в книге, сидел, упершись локтями в стол, положив подбородок на руки и уставясь в мистическое пространство. У него было лицо с крупными чертами, напоминавшее викинга.
Позади мужчины была дверь, верхняя половина которой была из матового стекла. За нею кто-то находился. Юноша видел движущуюся тень.
Наконец из-за двери послышался громкий голос:
— Номер двести девяносто два — сюда! Номер двести девяносто два — сюда!
Викинг тотчас выпрямился. Другой полицейский отбросил перо. Они подняли конец стойки и вместе подошли к юноше.
— Номер двести девяносто два — сюда, — сказал юноше викинг.
— Номер двести девяносто два — сюда, — повторил другой.
Он удивился. Они явно хотели, чтобы он последовал за ними, и он уже готов был открыть рот, чтобы запротестовать, как в мозгу его возникло: «Осмотрительность — лучший спутник отваги», а также: «Слово — серебро, а молчание — золото». Поэтому он ничего не сказал. Но его возмутил тон обращения, и он не сдвинулся с места. Викинг взял его за запястье и потащил во внутреннюю комнату, второй полицейский шел следом.
Теперь полицейских было трое. Они сели на простые жесткие стулья с трех сторон стола, а юноша стоял у четвертой стороны под их наблюдением.
Спустя долгое, долгое время третий полицейский — тот, что первым произнес: «Номер двести девяносто два — сюда», что-то записал в бумагах. Затем поднял взгляд и громким голосом обратился к юноше:
— Совершено чудовищно жестокое убийство. Виновен или не виновен?
Он вспомнил: «Не отважишься — не выиграешь» — и заговорил.
— Какое преступление? — спросил он.
— Будьте, пожалуйста, логичны, — сказал полицейский. — Мы не можем рассказывать о чудовищно жестоком преступлении. Виновен или не виновен?
— Я требую настоящего суда, — сказал юноша.
Это было глупо, так как ему следовало бы сказать:
«По-моему, тут какое-то недоразумение». Но в данный момент он об этом не подумал и даже немного гордился тем, что потребовал настоящего суда.
Викинг тотчас вскочил на ноги.
— Номер двести девяносто два — в суд! — выкрикнул он.
Дверь в конце комнаты открылась, и вышли еще трое полицейских. Они надели на узника кандалы и повели его по коридорам. Прошагав по меньшей мере полчаса, они подошли к камере. Юношу заперли в ней.
Всю ночь он думал, что его тетя наверняка придет утром и недоразумение выяснится. Он представлял себе, что она, должно быть, уже приходила спрашивать о нем в полицейский участок, но, конечно, обнаружила его закрытым.
Утром полицейский открыл его камеру.
— Корка хлеба и вода двести девяносто второму, — сказал и сунул в руки узника корку хлеба и кружку воды.
Полицейский исчез, прежде чем юноша успел что-либо сказать.
Несколько часов спустя прибыл старший полицейский с бумагами. Держался он очень обходительно. Быстро, прежде чем он раскрыл рот, юноша произнес:
— Я хочу видеть мою тетю. Она спрашивала обо мне?
Он кивнул.
— Приходила одна дама, — сказал он, — насчет пятнистой собачки.
— Это моя тетя. Она спрашивала обо мне?
Начальник полиции наклонил голову.
— Кажется, да. Но мы объяснили, что вы предпочли предстать перед судом.
— Вышло недоразумение.
— Все выяснится на суде. Я пришел сказать, что суд состоится через три месяца. До тех пор вы останетесь у нас.
— Это не по правилам, — разумно произнес юноша. — Существует закон о неприкосновенности личности…
Полицейский кивнул.
— Он устарел, — сказал он.
Итак, в течение трех месяцев восемнадцатилетний юноша смотрел на небо над крышей за высоким окошком, ужасающе зарешеченным. Стены в его камере были розовато-серые, и там были сотни крыс. Тетя сказала ему потом, когда он рассказал ей про крыс, что такого не может быть.
— О полиции можно говорить что угодно, но антисанитарии она не допустит, — сказала тетя.
Возможно, но там все-таки были сотни крыс.
Нечего и говорить, юношу на суде признали виновным. Его тетя, тем временем нашедшая свою собачку, в своих показаниях заявила, что он не способен совершить чудовищно жестокое преступление, так как он не способен почти ни на что. Но прокурор указал на то, что а) ее показания вызывают подозрения, поскольку она родственница, и б) невозможно представить доказательство преступления, слишком жестокого, чтобы о нем говорить. У судьи было квадратное лицо и очки с двойными стеклами. Юноша впоследствии думал, не следовало ли ему выкрикнуть в суде: «Я не повинен в чудовищно жестоком убийстве», — но, возможно, они не поверили бы ему.
Его отправили куда-то на соляные копи сроком на три месяца. С тех пор как он вернулся, тетушка без конца твердит: «Можно было бы этого избежать, если бы ты вел себя с апломбом». Так или иначе, вот как все произошло, и ее племянник по-прежнему испытывает неприязнь к полицейским участкам.
ТАКСЫ ЭЛИС ЛОНГ
© Перевод. Т. Кудрявцева, 2011.
Винтовки стучат по камням, одна за другой, звук эхом отражается от стен часовни, когда мужчины приходят к мессе перед стрельбой. Мэйми, девочка восьми лет и двух месяцев, стоит на камнях в предпоследнем ряду с правой стороны, возле Девы Марии, где горит, распространяя тепло, свеча. Другого источника тепла нет. Элис Лонг стоит на коленях впереди. Два ее брата приехали из Лондона — высокие мужчины в бриджах и зеленых шерстяных носках, которые промелькнули перед лицом Мэйми, стоящей на своем месте на коленях.
Другие большие мужчины поставили свои ружья у стены возле двери в часовню. Пришли католики, живущие в коттеджах. Все, кроме чужеземцев, молятся, чтобы выпало побольше снега и засыпало дорогу в город, так что бедняжка Элис Лонг сможет вполне благопристойно подавать косулю, косулю, косулю на все застолья, где будут есть лондонцы. Леса трещат от косуль, но за мясо, приобретаемое в городе, надо платить.
У Элис Лонг округлые плечи, и она волнуется; она единственная дочь старого сэра Мартина, и, обращаясь к ней, ее всегда называют мисс Лонг. У нее свои деньги, но они идут на содержание дома.
Сейчас в часовне находятся жены двух братьев Элис Лонг. Они пришли последними, так как им надо было присмотреть за детьми, когда те встали. До рождения Мэйми у всех младенцев в доме были няни. Две жены с самого начала были разными — до того, как стали невестками Элис Лонг; так они и до сих пор выглядят, хотя на них похожие твидовые пиджаки. Одну из них зовут леди Каролина, а другую — миссис Мартин Лонг, она станет леди Лонг, когда умрет старый сэр Мартин и к Мартину Лонгу перейдет титул.
Мэйми сквозь пальцы наблюдает за леди Каролиной. Леди Каролина — большая и ширококостная, с коротко остриженными черными волосами под черной кружевной вуалью; она не любит собак Элис Лонг, а собаки — это единственное, что есть у Элис Лонг. Элис Лонг была создана для ухода за ними.
Большие часы наверху бьют семь. Появляется священник, и слышно, как шаркают ноги. Мэйми не видно алтаря, когда все стоят. Она смотрит на свечу. Начинается служба. Не умрут ли от холода другие, приехавшие из теплого Лондона?
Мэйми останавливается на снегу. Собачьи ремни обмотаны вокруг ее рук в шерстяных перчатках — три ремня вокруг правой руки и два вокруг левой. Она разматывает ремни, чтобы высвободить руки, и собаки тотчас пользуются увеличившейся на несколько дюймов свободой, шумно нюхают воздух и устремляются от Мэйми, пока не натягиваются ремни. Но она заставляет их вернуться к ней, приподнимая локти, чтобы прижать руки ко рту.
— Выходи. Я тебя вижу.
Нет ответа.
Она повторяет слова и опускает руки, занывшие от усилия удержать рвущихся псов.
Раздается глухой удар — глыба снега свалилась с группы деревьев. Это показалось бы маленьким шлепком, если бы помимо вертящихся собак были и другие звуки.
Она выгуливает собак Элис Лонг.
«Она будет рада, мисс Лонг, — сказала ее мать. — Завтра после школы. В середине дня».
А сегодня утром ее мать сказала: «Иди прямо домой в два часа за собаками Элис Лонг».
Из-за этого Мэйми пропустила урок танцев в монастыре. Она учится исполнять танец с саблями. Элис Лонг устроила ее в монастырь за сокращенную плату, но даже эту сокращенную плату Элис Лонг вносит сама. Ей нравится, когда ее квартиросъемщики-католики остаются католиками.
Мэйми прогуливается среди деревьев, довольная, что за деревьями не прячутся мальчишки. Она боится, что мальчишки заметят ее и начнут дразнить собак, смеяться над ней, смеяться над маленькими, оставляющими в снегу следы, ковыляющими собачками, могут обидеть их, прежде чем они успеют вернуться в дом.
Снег в лесу слишком глубокий для низкорослых собачек. Мэйми бродит по краю леса, по обледенелой дорожке, то и дело переходя на бег, когда собачки увлекают ее за собой.
«Мои таксики», — с любовью сказала Элис Лонг.
Местные жители говорят друг другу, когда ее нет поблизости: «У Элис Лонг только и есть, что эти собачки. Так она с ними носится».
«Леди Каролина ненавидит собак».
«Нет, она ненавидит только такс. Немецкие сосиски. Она считает, что здесь, за городом, более уместны большие псы».
Элис Лонг сидит со своей чашкой чаю в доме Мэйми, в котором пять комнат плюс к.к.в. — то есть кухня, кладовка и ванная, — и он примыкает к другому дому. Рядом живет чета Элис Лонг. Отец Мэйми больше не работает в поместье, а служит мастером в городе, на «Хеппелфорд» и «Стайлз линолеум».
«Леди Каролина терпеть их не может. Они с пятницы были заперты в северном крыле. Мне же надо поддерживать огонь…»
«Это крыло, конечно, не обогревается».
«Нет. Они там мерзнут и чувствуют себя одиноко. А я подбрасываю поленья. Я встаю среди ночи, чтобы следить за огнем».
«Они будут в полном порядке, мисс Лонг».
«Им нужна хорошая пробежка — только и всего. У меня сегодня не будет времени для собак. А родственники уезжают домой завтра или в среду…»
Мэйми и раньше выгуливала собак. Ей не разрешено даже близко подходить к лесу, а велено держаться дорожек, где ходят люди мимо домов в поместье и дальше — к лавке. Возле лавки обычно толпятся дети из деревенской школы — зимой бросаются снежками, летом катаются на велосипедах. У Мэйми есть деньги на ириски и апельсиновый напиток. Она прогуливается у леса.
Ее отец провел дома целых три рабочих дня. Забастовка. Элис Лонг сидит внизу. Отец ушел наверх, дожидаясь, когда она уйдет. Затем он открывает дверь буфета, где стоит телевизор с тех пор, как сняли одну из полок. Элис Лонг не видела этого телевизора. Люди, живущие рядом, ее Чета, купили телевизор много лет назад и держат его в гостиной.
Митци, Фритци, Блитци, Ритци и Китци.
«Собаки Элис Лонг — это все, что она приобрела для себя».
Собаки ходят все вместе, и иногда все разом откликаются, когда Элис Лонг зовет какую-нибудь из них по имени. Мэйми их не различает. Они слегка отличаются друг от друга по размеру, толщине и черным пятнам на коричневой шкуре.
Дорога становится гребнем замерзшей земли там, где поле вспахано до кромки леса. Дневной свет приобретает от холода голубую окраску, пока Мэйми старается справиться с поводками. Одна ее нога в резиновом сапоге глубоко погружается в образовавшийся желоб, другая — упирается в гребень, чтобы удержать равновесие. Собаки обнюхивают друг друга, выпуская пар. Они тянут в лес, и внезапно из-за деревьев появляется Гамильтон — егерь Элис Лонг — высокий и широкоплечий, с седыми усами и очень красным лицом. Он смотрит на Мэйми, как бы говоря: «Иди сюда». Собаки крутятся вокруг него, ремни врезаются в ее перчатки.
Мэйми говорит:
— Мне надо вон туда, — и указывает вниз, в сторону своего дома, что через поле.
— Увидимся в Доме, — говорит он и отступает в лес, оглядывая низкорастущие ветки.
Гамильтон ухаживает за старым сэром Мартином, когда у женщин не хватает сил с ним справиться.
«Боюсь, мой отец стал совсем плох».
«Право, не знаю, и как только вы с ним управляетесь, мисс Лонг».
Мать Мэйми говорит, что все, кроме Элис Лонг, отправили бы старика куда надо.
Гамильтон следит за котлами, обогревающими отапливаемое крыло. У него слишком много дел, чтобы еще регулярно выгуливать собак.
«Просто не знаю, что бы мы делали без Гамильтона. Было легче до того, как ваш муж оставил нас».
Мэйми свернула в сторону от леса. Она идет и от дорожки, ведущей к домам, все оглядывается — не следит ли за ней Гамильтон своими глазами, этими глазами, как два старых вареных яйца, которые он устремляет на нее всякий раз, как ее видит.
Она переходит на тропинку вдоль шоссе. Собаки теперь бегут. Мимо проезжают машина и автофургон из городского бакалейного магазина. Она крепче сжимает поводки.
«Смотри, чтоб ни одна из них не попала под машину. Элис Лонг будет вне себя».
Она прижимается к высокому белому наносу, который снова у самого леса, когда огромный грузовик с мешками угля осторожно выезжает из-за крутого поворота, точно боится собак.
Плюх об ее плечо, плюх о шапку — снежки. Мальчишки там, на берегу. Она поворачивается, бросает быстрый взгляд и видит, как детишки исчезают из виду, смеясь, вскрикивая. Там две девочки вместе с мальчишками: она увидела их волосы. На одной из девочек темно-синий монастырский плащ.
— Конни, спускайся!
— Это не Конни, — отвечает голос Гвен.
А ведь Гвен должна была быть в танцклассе. Она учится танцевать с Мэйми танец с саблями.
На дорогу падает снежный ком и разваливается. В нем не оказывается камня. Собаки залаяли, став целью снежных комьев.
Мэйми тащит их за угол и пускается наутек. Дети устремляются следом вниз по откосу и догоняют ее. Она всех их знает. Она пытается набрать снега, но сделать из него ком и бросить его не получается из-за того, что перчатки обмотаны поводками.
— Куда это ты направилась со всеми этими собаками? — спрашивает мальчик.
— В магазин, а потом в Дом.
— Вид у них грязный.
Гвен говорит:
— Тебе нравятся эти собаки?
— Не тогда, когда они все вместе.
— Отпусти их — пусть побегают, — говорит другая девочка. — Это хорошо для них.
— Нет.
— Иди к нам — поиграем.
Она взбирается по откосу, тогда как остальные стараются подтащить собак за поводки или подталкивают их сзади.
— Поднимите их. Вы их задушите!
— Отпусти поводки. Мы возьмем их — каждый по одному.
— Нет.
Взобравшись на откос, Мэйми говорит:
— Я привяжу их к этому дереву.
Она не желает выпускать из рук поводки, но разрешает двум мальчикам покрепче привязать поводки к веткам, они научились этому в «Юнцах-бойскаутах».
А потом мальчики сражаются с девочками, бросаясь снежками, так быстро швыряя их в мокрые лица и получая назад, так громко крича, что почти не слышно кашляющих и подвывающих собак. Но вот настало время уходить, и Мэйми пересчитывает собак. Затем начинает их отвязывать. Но узлы крепкие. Она зовет одного из мальчиков, чтобы он подошел и развязал узлы, но он даже не оглянулся. Возвращается Гвен: она стоит и смотрит. А Мэйми, став в мокром снегу на колени, старается развязать узлы.
— Как их развязывают, такие узлы? — А все узлы перепутались, свалялись в кучу.
— Не знаю. Как зовут собак?
— Митци, Фритци, Блитци, Ритци и Китци.
— Ты можешь отличить одну от другой?
— Нет.
Мэйми нагибается, впившись в кожу сильными зубами. Один узел она уже развязала. Все узлы развязаны. Она снова надевает свои шерстяные перчатки и начинает закручивать на руки поводки. Один из них выпадает из ее рук, и собачка устремляется в лес, усыпанный старыми мокрыми листьями, так что кажется, будто она ползет, как змея, на животе, а поводок, подпрыгивая, ползет за ней.
— Митци! Китци! Блитци!
Собачка исчезает, а четыре, которых она удерживает при себе, волнуются, жаждая освободиться и тоже согреться.
— Поймай его, Гвен! Ты его видишь? Митци-Митци! Блитци-Блитци!
— Мне надо домой, — говорит Гвен. — Не надо было тебе останавливаться и играть с нами.
Гвен — примерная ученица сестры Моники, славящаяся своей пунктуальностью, аккуратностью и верностью. Мэйми нечего ответить на упрек Гвен, и девочка начинает спускаться с откоса.
В лесу темно и никаких следов пребывания собаки. Мэйми с четырьмя собачками шлепает по листьям и комьям снега. «Фритци-Фритци-Фритци, Митци!» Лай, тявканье позади нее. Снова тяф-тяф. Она поворачивается и видит собачку, которая снова привязана к дереву. Гамильтон? Она озирается и не видит никого.
Ей следовало бы спешить к дороге, но она слишком устала, чтобы спешить. Ворота со сторожкой все еще открыты, хотя, судя по небу, уже поздно. В сторожке, сданной новым людям из Ливерпуля на выходные, горит свет. У них на этот раз длинные выходные. Когда Мэйми с пятью собачками входит в ворота, из дома выходит молодая женщина, направляясь к своей машине.
— Бог мой, да ты же насквозь промокла!
— Я попала в буран.
— В таком случае спеши, дорогая, домой и переодевайся.
А Мэйми не может спешить. Она уже не так хорошо себя чувствует — совсем как старый сэр Мартин. Она уже и не так хорошо все видит. Дневные цвета кажутся странными, и с неба свисает поземка. Она идет маленькими перебежками, лишь повинуясь тянущим ее собачкам. Но она сдерживает их, как только может, и продвигается в направлении Дома. Дойдя до широких ступеней и больших входных дверей, она поворачивает направо. Обходит дом справа и попадает во двор, где находится дверь Гамильтона. Девочка пытается открыть эту дверь. Она заперта. Чтоб позвонить, надо поднять руку, а она так устала. Она пытается постучать. Собаки поднимают шум и волнуются, царапают двери, чтобы войти. Она смотрит на них и с трудом переносит поводки с правой руки на левую, обвивая ими запястье, поскольку рука у нее и так полна. Стуча свободной рукой в дверь, она вдруг понимает, что заметила кое-что. У нее теперь всего четыре собачки. Она считает: одна, две, три, четыре. Считает поводки: один, два, три, четыре. Она снова отворачивается от них и стучит. Не получилось. Ничего не произошло. Этого не может быть. Она снова стучит. Появляется Гамильтон.
— Их еда там, — говорит Гамильтон, не глядя на собак и открывая дверь, что ведет из его комнаты в другую, более заставленную комнату.
Он пропускает собак, устремляющихся к пище, не считая их. Он не снимает с них поводков, а швыряет их на пол, и поводки тянутся за собаками. Наконец он закрывает за ними внутреннюю дверь. Садится в свое кресло и смотрит на Мэйми, как бы говоря: «Да входи же».
— Мне надо домой.
— Ты насквозь промокла. Посушись с минуту у огня. Я отвезу тебя домой.
— Нет, я уже опоздала.
Он похлопал себя по колену:
— Сядь сюда, дорогая девонька. — Рядом с ним стоят стакан и бутылка. — Я хочу дать тебе выпить. А ну иди сюда. Я вовсе не хочу секса.
Она присаживается к нему на колени. Он не перечитал собачек. Элис Лонг взбеленится, но виноватым теперь будет Гамильтон. Гамильтон ведь принял собак.
— А теперь глотни.
Она понимает, что речь идет о виски.
— Сделай большой глоток.
Он дает ей кусок лимона, чтоб от нее не пахло, а потом целует в губы, пока она сосет лимон.
— Теперь я пошла. Надеюсь, с собаками все в порядке.
— О-о, собаки, они в порядке.
Он берет ее за руку, и они отправляются на розыски одного из рабочих, чинящих Дом. Элис Лонг еще не вернулась со своего собрания, и она не заметит, что рабочий ушел на несколько минут.
Мэйми залезает в машину мастера рядом с рабочим. Сиденье покрыто белой пылью, но она не сметает ее, прежде чем сесть. Ее одежда будет испорчена. Она чувствует себя в безопасности рядом с шофером. Виски вернуло ее к реальности.
— Пожалуйста, сколько сейчас времени? — спрашивает она.
— Примерно без двадцати четыре.
Мужчина дает задний ход и поворачивает машину. Гамильтон ушел к себе. Машина объезжает Дом, объезжает большую новую поляну, куда летом подъезжают автобусы с туристами.
«Сюда, в Нортумберленд, много народу не заманишь. Все они валят на Юг, в старые дома. А мы тут в стороне…»
«Ну это целое открытие для тех, кто приезжает сюда, мисс Лонг. Особенно для католиков».
Одно время Дом был превращен в госпиталь для раненых английских солдат после битвы под Флодденом, в которой англичане победили.
Во времена преследования католиков в Доме проходили мессы. У оружейной стоит под стеклом потир Елизаветинских времен. Он был продан музею, но музей разрешил семье держать его в Доме, пока жив сэр Мартин. Мэйми ходила в убежище священников, где они скрывались, когда Дом обыскивали в поисках священников — они находились там по нескольку дней. Убежище — большое пространство за панелью, которая поднимается в стене вверх, на чердак. Ты можешь стоять в убежище священников и смотреть вверх, на брусья, на которых в те дни всегда висела на крайний случай еда.
Рабочие чинят крышу.
— А вы видели убежище священников? — Мэйми почувствовала желание поговорить.
— Это что такое?
— Место, где священники скрывались наверху, под крышей. Это историческое место. Вы его не видели?
— Нет, но я видел много высохших, проржавевших мест на этой крыше.
Ворота закрыты. Мужчина выходит из машины, чтобы их открыть, затем снова садится за руль.
«Неужели одна из собачек потерялась? — Мэйми смущена. — Ведь их должно быть пять. Я обнаружила потерянную собачку привязанной к дереву». Но тут она увидела себя: она их снова пересчитывала у двери Гамильтона. Одна, две, три, четыре. Только четыре. Нет, нет, нет, на самом деле все не так. Гамильтон же принял собак. Пересчитывать-то их должен он.
Рабочий говорит:
— Тебе нравятся «Битлы»?
— О да, они замечательны. А вам они нравятся?
— Так себе. Мне б хотелось хоть раз заработать столько, сколько они получают за один день. Имея такие деньги, я мог бы выйти на пенсию.
Сестра Моника сказала, что в «Битлз» нет ничего плохого, и это возмутило Мэйми, так как показывало, что сестра Моника не ценит их, как они того заслуживают. Она должна отбросить их вместе с виски, курением и сексом: «Битлз» следует забыть.
— Я люблю танцевать, — говорит Мэйми.
— Рок-н-ролл?
— Да, но в школе нас учат только народным танцам. Я учусь танцевать с саблями. Это исторический танец.
Всю оставшуюся неделю она спешит домой из школы, чтобы проверить, не приходила ли Элис Лонг к ее матери по поводу отсутствующей собачки.
«Я же считала. Раз, два, три, четыре. Но у меня же было их пятеро, когда я выходила из леса. Я вывела пять собачек из леса и провела вверх по холму. У меня было их пятеро возле сторожки. Должно быть, я…»
Элис Лонг скоро заметит пропажу. Она придет в дом Мэйми с расспросами.
«Гамильтон говорит, что она привела только четырех…»
«Гамильтон говорит, что он их не считал, а просто взял из ее руки поводки…»
«Гамильтон, должно быть, выпил и позволил одной из них выскочить за дверь…»
«Я их только что пересчитала. Одной, должно быть, не хватает с понедельника. Когда Мэйми…»
Наступила пятница, а Элис Лонг так и не приходила. Мать Мэйми сказала:
— Элис Лонг не заглядывала. Отнесу-ка я в понедельник пирог в Дом и посмотрю, что там происходит.
В воскресенье днем у двери останавливается машина Элис Лонг.
— Входите, мисс Лонг, входите. Никто из родственников не приехал к вам на уик-энд?
Отец Мэйми выключает телевизор, надевает куртку, говорит: «Добрый день» — и уходит наверх.
Элис Лонг сидела, дрожа, на диване рядом с Мэйми, а ее мать разливала чай.
Она говорит:
— Это Гамильтон.
— Опять?
— Нет, хуже. Это трагедия. — Элис Лонг крепко поджимает губы и гладит Мэйми по волосам. Рука у нее трясется.
— Мэйми, пойди поиграй, — говорит ее мать.
Когда машина Элис Лонг уехала, Мэйми вернулась — перчатки ее были обмотаны концами скакалки. Ее отец сходит вниз, снимает сюртук и открывает дверцы телевизора.
— Ох, не включай, — говорит в смятении ее мать.
Мэйми ест остатки пирога и бутерброды и слушает.
— Висели в убежище священников — все. А она искала их всю ночь. Гамильтон уехал — сбежал. Все дело в спиртном. Полиция выписала ордер на арест. Их обнаружили после мессы сегодня утром висящими на балках. Разве я не говорил, что бедняжка Элис Лонг плохо выглядела на мессе? Я подумал, может, снова что-то с ее отцом. А она всю ночь искала собачек и на мессе все еще не знала, где они. Нашли-то их после мессы — она и миссис Хаддстоун. Представь себе, какое это было зрелище! Пять собачек, висящих в ряд. Бедные малютки! А Гамильтон вчера исчез. Но подожди — они его все равно поймают.
— Он немного лунатик, — говорит отец Мэйми.
— Лунатик! Он жестокий. Его самого надо бы повесить. Собачки — ведь это все, что имела Элис Лонг. Но его поймают!
Ее отец говорит:
— Сомневаюсь. Только не Гамильтона. Даже самец косули звал его Человеком с кошачьей походкой. — Он смеется своей шутке.
Ее мать отворачивается.
Мэйми говорит:
— А сколько их висело в убежище священников?
— Все висели в ряд.
— Сколько всех?
— Пять. Ты же знаешь: у нее было их пятеро. Ты же выгуливала их, верно?
Мэйми говорит:
— Я только подумала, хватило ли для пятерых места в убежище священников. Она правда сказала, что там было пятеро? А не четверо?
— Она сказала: все пятеро. Что ты говоришь: в убежище священников нет места? Да там полно места! Он убил бы и шесть собачек, если б у нее было их шесть. Она была такая к нему добрая.
— Ужасная история, — говорит ее отец.
Мэйми чувствует себя такой же невесомой, как Дневной свет. Она размахивает руками, словно высвободив их из упряжи.
— Пятеро. Значит, я неверно посчитала. Я не потеряла собачки. Их было пятеро.
Она вскакивает, чтобы взять с каминной решетки блестящие медные кочерги и раскладывает их крест-накрест на линолеуме, решив попрактиковаться в танце с саблями. И начинает танцевать с пятки на носок, с пятки на носок, повернулась — и в сторону, раз-два-три, раз-два-три. Ее мать стоит в изумлении и уже собирается сказать: «Прекрати сейчас же, это не время для танца, какие же бессердечные эти дети. Элис Лонг платит за твое обучение в школе, и я считала, что ты любишь животных». А отец хлопает в ладоши в такт ее танцу — раз-два-три, с пятки на носок, руки на бедра, правая рука, левая рука, вперед и назад. Потом ее отец начинает и подпевать, громко так: тарарам-там-там, та-рарам-там-там — и бить в ладоши, когда она танцует джигу, и тут уж никто ничего не может поделать.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ ТАЙНУ ЖИЗНИ
© Перевод. Т. Исерсон, 2011.
Дело было в том, что в его доме поселилось привидение высотой в пять футов, когда выпрямлялось во весь рост. И каждую ночь, а если не получалось раньше, то и под утро, выплывало оно из верхнего ящика шкафа, стоявшего в комнате молодого человека. Молодой человек был помощником скульптора, по крайней мере так он утверждал.
Однако я слышала от знающих людей, что на правду это не похоже. Не бывает так: скульпторы не берут себе помощников. Бен, а так звали молодого человека, был обескуражен, когда я указала ему на это в письме. Оказывается, с некоторых пор он намеренно предпочел переквалифицироваться в «помощники каменщика», а еще лучше в «помощники строителя дорог», несмотря на то что в таком случае он становился безработным, который понемногу занимается скульптурой, чтобы раз в неделю получать хоть какое-то жалованье.
О Бене я могу судить лишь по его корреспонденции, потому что он написал мне весьма необычное письмо на адрес моего издателя. В нем «помощник скульптора» рассказал о визитах привидения. В другой раз я бы разорвала письмо, но Бену решила ответить, поскольку в нем он, помимо всего прочего, выдвинул сомнительное утверждение, будто благодаря своему привидению познал или вот-вот познает «тайну жизни». В ответном письме я с осторожностью упоминала «видение», как молодой человек называл своего призрака, а особый упор делала на то, что «тайна», вероятно, относится к его личной жизни, а не к жизни вообще. В судьбах людей кроется множество тайн, подчеркнула я. Поэтому тайна одной жизни не может относиться ко всем. В заключение я тем не менее пожелала ему удачи и отправила письмо. До свидания.
Но нет, на этом мы не распрощались, как я ожидала. То есть я ему некоторое время не писала, однако он продолжал присылать письма из необъяснимой потребности поделиться своим странным опытом.
Из писем Бена следовало, что самыми большими проблемами, которые он терпел от привидения, были шантаж и ревность, потому что оно искренне ревновало Бена к его девушке.
— Я могу наведываться куда угодно и к кому угодно, — угрожало привидение. — Мне не составит труда сообщить всем твоим знакомым, что ты всего-навсего скульптор, у которого нет постоянной работы, и никакой ты не каменщик, и дороги не мостишь — все это ложь.
— Что ж, рассказывай что вздумается, — отвечал Бен. — Мне все равно. Но факт остается фактом: в душе я каменщик, в чем бы ни состояла суть работы скульптора и т. д. и т. п., которую я время от времени вынужден выполнять, будучи стесненным в средствах.
— Что значит «и т. д. и т. п.»? — спросило привидение своим мерзким голосом. — Может, объяснишь?
— Сворачивайся и возвращайся в ящик, — махнул рукой Бен. — Только не помни мою пижаму.
— Не место твоей пижаме в моем ящике. Она не шелковая; она из «Маркс энд Спенсер».
Вообще-то Бен втайне боялся, как бы кто-нибудь не узнал, что он по большому счету вовсе не каменщик. Но он был смелый малый и стоял на своем:
— Убирайся.
Привидение опять свернулось, проворчав:
— По крайней мере ты признаешь за мной право находиться здесь. Кстати говоря, я знаю, на кого нужно ставить завтра на скачках в три тридцать. На Гордость Бармена.
И правда, эта лошадь пришла первой, и Бен был зол на себя, что не прислушался к подсказке, — ведь он очень любил ходить на скачки, когда водились деньги.
— Может, еще чего посоветуешь? — спросил Бен в тот вечер.
— Ожидаемый вопрос, — ответило привидение. — Но насколько я помню, твоя подруга не одобряет, когда ты делаешь ставки. Брось ее, и я никому не расскажу твой секрет и буду помогать тебе со скачками.
— Знаешь что? Ты действуешь мне на нервы. Ты всего-навсего — следствие спертого воздуха. А спертый воздух становится радиоактивным. И светится. Но стоит мне открыть окно, как ты испаришься.
— Только не я, — сказало привидение, — нет, я не испарюсь.
— По-моему, нет занятия более бессмысленного, чем быть привидением. Какой прок от того, что ты то являешься мне, то исчезаешь. Я обращусь к психоаналитику, он поможет мне избавиться от тебя.
Но не будем забывать о подруге Бена — молодой прекрасной Женевьеве. Она мастерила огородные пугала. Бен полагал, что по профессиональному статусу — а других статусов он, по всей видимости, не признавал — она ему уступает, особенно теперь, когда Бен везде указывал: «Профессия: помощник каменщика». По своей силе презрение привидения к девушке могло сравниться лишь с чистой и безрассудной любовью к ней Бена. Между тем привидение не переставало, разворачиваясь во все свои пять футов, давать советы вроде: «проконсультируйся у психоаналитика насчет укладки своих садовых дорожек».
«Это привидение — ужасный сноб, — писал Бен. — Оно заставляет меня чувствовать себя великим и ужасным и…»
Но случилось так, что Бен изменил свое снисходительное отношение к Женевьеве. Однажды она одолжила у него шляпу, джинсы и рубашку и смастерила пугало, поразительно похожее на Бена. Когда она выставила чучело в поле, все сразу догадались, кто послужил для него моделью. И улыбались. Ужасный сноб поспешил доложить об этом Бену, добавив, что из-за этого пугала у коров молоко киснет.
Однако днем ранее Бен выиграл на скачках тридцать четыре фунта, исключительно благодаря собственной интуиции. Поэтому он не пошел, по своему обыкновению, в службу занятости, а отправился на автобусе за город, где посреди поля раскачивалось творение Женевьевы. На обочине стояли две машины, и пассажирки любовались этим произведением искусства, как вдруг одна из них воскликнула:
— Да это же точь-в-точь молодой напарник строителя, который занимался моим домом!
Посему, вместо того чтобы обидеться за карикатуру, Бен преисполнился уважением к таланту Женевьевы. Он позвонил ей и потребовал назначить день свадьбы несмотря на то что был временно безработным.
Тем же вечером привидение явилось вновь, но, услышав о предстоящей свадьбе, направилось к своему ящику, свернулось и исчезло. «Утолить привидение, — писал Бен, — вот в чем, по-моему, заключается тайна жизни». «Утолить» — Бен выразился так потому, что чувствовал, будто привидение жаждало его души и наконец утолило эту жажду в полной мере.
Бен больше никогда не выигрывал на скачках, зато стал превосходным каменщиком и преуспевающим мастером по укладке садовых дорожек.
ДЕВУШКА, КОТОРУЮ Я ОСТАВИЛ
© Перевод. Т. Кудрявцева, 2011.
Было ровно четверть седьмого, когда я вышла из конторы.
«Тидл-ум-тум-тум» — снова зазвучал мотив в моей голове. Мистер Леттер насвистывал его весь день между шумными переговорами по телефону и периодами мечтаний. Порой он насвистывал: «Тихо, тихо поверни ключ», но обычно это было «Девушка, которую я оставил», исполненное в стремительном темпе хорн-пайпа.
Я стояла в очереди на автобус, устав и думая, как долго я смогу вынести Марка Леттера («Винты и Гвозди») Лимитед. Конечно, после моей долгой болезни это было испытанием. Но мистер Леттер и его напевы, и внезапно налетавшее настроение устраивать бум, и его внезапные переходы в апатию, его волосы и маленькие плохие зубы — все это вызывало у меня возмущение, особенно когда его мотив грохотал у меня в голове еще долго после того, как я уходила из конторы, — получалось, что я брала мистера Леттера с собой.
Никто на автобусной остановке не обращал на меня внимания. Ну правда, почему они должны были обращать? Я ни с кем тут не была знакома, но этим вечером чувствовала себя особенно анонимной среди едущих домой. Все смотрели сквозь меня и даже, казалось, шагали сквозь меня. Поздняя осень всегда вызывает печальные мысли. Скворцы устраивались на ночлег на верхних карнизах больших конторских зданий. А я обнаружила среди своего туманного чувства беспокойства очень сильное убеждение, что оставила в конторе что-то важное; возможно, какую-то недоделанную работу, или незапертый сейф, или что-то совсем пустячное. Я думала было вернуться, несмотря на усталость, и успокоиться. Но тут как раз подошел мой автобус, и я влезла в него вместе с остальными.
Как всегда, места для меня не было. Я ухватилась за поручень и позволила себе покачаться — взад и вперед, толкая других пассажиров. Я наступила на ногу мужчине и сказала: «Ох, извините». Но он, не ответив, отвел взгляд, что тягостно подействовало на меня. И я все больше и больше чувствовала, что оставила в конторе нечто чрезвычайно важное. «Тидл-ум-тум-тум» — эта мелодия сопровождала мою тревогу весь путь до дома. Я прокрутила в мозгу все, что делала в течение дня, так как теперь думала, что, возможно, дело в письме, которое я должна была написать и отправить по почте по дороге домой.
В то утро я пришла в контору и обнаружила Марка Леттера, поглощенного работой. Периодически — время от времени — он являлся в восемь утра, вскрывал почту, а к тому времени как я приходила, отправлял уже с полдюжины ненужных телеграмм и прежде, чем я успевала раздеться, давал мне указания на целый день, быстро размахивая веснушчатыми руками и одновременно изрыгая ртом слова. Эта привычка обычно раздражала меня, и лишь одно забавляло — каждый раз он давал указание: «Пометьте на письме: „срочно“». Это указание Марка Леттера казалось мне очень смешным, и часто я мысленно называла его — когда он бывал в таком настроении — Марк Леттер Срочно.[13]
Покачиваясь в автобусе, я вспомнила, каким энергичным был этим утром Марк Леттер Срочно. Он был требовательнее обычного, так что я до сих пор чувствовала себя выбитой из колеи. Я казалась себе ужасно старой для своих двадцати двух лет, прочесывая свой мозг в поисках какого-нибудь ключа к тому, что я оставила недоделанным. Что-то я упустила: чем дальше уносил меня автобус от конторы, тем больше я была уверена, что так оно и есть. Я вовсе не принимала свою работу слишком близко к сердцу, но суетливость мистера Леттера была заразной, и когда у него бывало такое настроение, я чувствовала себя на взводе весь день, и хотя утешалась тем, что вечером все эти заботы останутся позади, тревога не оставляла меня.
К полудню мистер Леттер немного успокоился, и целый час — до того как я пошла на ленч — он расхаживал по конторе, насвистывая сквозь свои нездоровые бурые зубы песенку моряков «Девушка, которую я оставил». Меня качнуло вместе с автобусом, запыхтевшим, сбившись с ритма. «Тидл-ум-тум-тум. Тидл-ум…» Когда я вернулась с ленча, в конторе было тихо, и я подумала, не ушел ли мистер Леттер, пока вдруг из его крошечного кабинетика не зазвучала снова эта мелодия, тихий легкий напев, протяжный ближе к концу. Тогда я поняла, что он впал в одну из своих дневных грез.
Я порой заходила в его кабинет-коробочку, когда он впадал в подобный транс. Я обнаруживала его сидящим за столом на своем вращающемся стуле. Обычно он снимал пиджак и вешал его на спинку стула. Правым локтем, поддерживавшим подбородок, он упирался в стол, а с левой руки свисал его галстук. Он смотрел на галстук — это был главный предмет его созерцания. В тот день, войдя к нему в комнату, я обнаружила его смотрящим на галстук. Он смотрел на него, раскрыв рот, так что мне были видны его мелкие редкие обесцвеченные зубы — такие маленькие, как первые зубы у ребенка, — и насвистывал свою мелодию. Вчера это было «Тихо, тихо поверни ключ», но сегодня было другое.
Я вышла из автобуса на своей остановке, по-прежнему держа в руке деньги за проезд. Я чуть не выбросила монеты, в рассеянности подумав, что это билет, а когда заметила, что это монеты, подумала, что я, видно, просто не существую, коль скоро кондуктор в спешке прошел мимо меня.
Марк Леттер пребывал в своем мечтательном состоянии два с половиной часа. Что же я оставила, не закончив? Я нипочем не могла вспомнить, что он сказал, когда наконец вылез из своего кабинета. Наверное, я приготовила ему чай. Мистер Леттер всегда любил выпить чашечку, когда не бушевал и не погружался в размышления, а был обычным разговорчивым человеком. Говорил он о своем хобби — лепнине. Я не думаю, чтобы у мистера Леттера была домашняя жизнь. В сорок шесть лет он был все еще не женат, жил один в доме в Рохэмптоне. Шагая по дорожке к своему дому, я вспомнила, что мистер Леттер явился к чаю, по-прежнему держа в руке висевший галстук, из рубашки с открытым воротом торчала его белая шея, а сквозь зубы звучала его «Тидл-ум-тум-тум».
Наконец я дошла до дома и вставила ключ в замок. «Осторожно, — сказала я себе, — осторожно поверни ключ, и слава Богу, я дома». Моя хозяйка прошла по коридору из кухни в столовую с солонкой и перечницей в морщинистых руках. У нее появились новые постояльцы. «Мои гости», — всегда называла она их. Новым гостям моя хозяйка всегда отдавала предпочтение перед старыми. Я была в отчаянии. Я просто не в силах была подняться к себе в комнату, вымыться и потом спуститься и есть бурый суп с новыми гостями, за которыми будет ухаживать моя хозяйка, игнорируя меня. Я присела на стул в коридоре, собираясь с силами. Год болезни высасывает тебя, сколь бы ты ни была молода. Внезапно отвращение к бурому супу и тревога, связанная с конторой, побудили меня решиться. Я не пойду наверх в свою комнату. Я должна вернуться в контору.
«Тидл-ум-тум-тум»… «Это невроз», — сказала я себе. Сколько раз я смеялась над сестрой, которая, улегшись вечером в постель, отправляла мужа вниз удостовериться, что все газовые краны закрыты, а двери заперты — и задняя и передняя. Отлично, я такая же глупая, как моя сестра, но мне понятны ее страхи, и я открыла дверь и выскользнула из дома, усталая, с трудом шагая в обратном направлении — назад на автобусную остановку, назад в контору.
«Почему я должна это делать для Марка Леттера?» — спрашивала я себя. Но право же, я возвращалась не ради него, а ради себя. Я поступала так, чтобы избавиться от чувства чего-то незавершенного, и эта песня плавала в моем мозгу, словно этакая чертова золотая рыбка.
Автобус вез меня обратно по знакомой дороге, а я думала, что скажу, если Марк Леттер все еще в конторе. Он часто работал допоздна или по крайней мере находился там допоздна. Я не знала, чем он занимался: его винты и гвозди не требовали долгих часов работы. У меня было такое впечатление, что ему нравились эти пропыленные помещения. Я опасалась увидеть мистера Леттера в конторе стоящим — как я в последний раз видела его — возле моего стола, раскачивая галстук в руке. Я решила, что если я обнаружу его там, то прямо скажу, что забыла кое-что.
Часы пробили четверть восьмого, когда я вышла из автобуса. Я поняла, что снова не заплатила за проезд. Секунду я тупо смотрела на деньги в моей руке. Потом подумала — наплевать. «Тидл-ум-тум-тум» — поймала я себя на том, что напеваю эту мелодию, быстро шагая по унылой боковой улице в нашу контору. Сердце колотилось у меня в горле от волнения и нетерпения. «Тихо, тихо», — говорила я себе, проворачивая ключ в замке входной двери. Быстро-быстро я взбежала по лестнице. Остановилась у двери в контору и, отыскивая ключ в связке, подумала, каким странным показалось бы мое поведение сестре.
Я отперла дверь, и огорчение сразу покинуло меня. Я так обрадовалась, когда поняла, что я оставила там — свое тело, лежавшее задушенным на полу. Я кинулась к нему и стала целовать, как возлюбленного.
ХАРПЕР И УИЛТОН
© Перевод. У. Сапцина, 2011.
Днем вокруг не было ни души, если не считать молодого косоглазого садовника. Косоглазого настолько, что если бы вам с другом вздумалось побеседовать с ним, было бы невозможно определить, к кому из вас обращается садовник. А в отсутствие друга мне казалось, что садовник ведет разговоры не со мной, а с ближайшим деревом. Мне хотелось собраться с духом и спросить, неужели не существует никакой корректирующей терапии или специальных стекол для очков, но я так и не решилась. Дом не принадлежал мне. Я просто согласилась посторожить его в течение месяца по просьбе моих друзей Лоутеров. Такое соглашение вполне меня устраивало. Мне требовалось дописать книгу, адом в гемпширской глуши идеально подходил для этой цели. По утрам приходила поденщица Гарриет и наводила порядок. Она готовила мне еду сразу на весь день и вскоре после полудня оставляла меня одну.
Я много работала и крепко спала. По ночам ничто не тревожило меня. Но часа в два пополудни мной овладевало беспокойство. Что-то странное чувствовалось в доме. Так продолжалось несколько недель. Весенняя погода часто менялась.
Но странности в доме возникали не в то время, когда ветер свистел за стенами и завывал под крышей. Непогода и звуковые спецэффекты, в сущности, приводили старую постройку в норму. А вот в ясные солнечные дни или когда весенний дождь брызгал в окна, появлялось нечто определенно странное. Вынужденная работать, я решительно отмахивалась от своих ощущений и зачастую устраивалась возле дома или в зимнем саду, чтобы не отвлекаться. Я стала замечать, что садовник Джо часто стоит под большим кедром на лужайке, глядя вверх, явно на окно одной из спален для гостей, слева от входной двери. Эти спальни разделяла водосточная труба, которая, по моему мнению, портила внешний вид фасада. Из-за косоглазия садовника трудно было определить, на какое именно окно он смотрит.
— Что-нибудь не так, Джо? — спросила я, понаблюдав за ним несколько дней.
Он ответил отрицательно и продолжал пристально смотреть на окна. В конце концов, Джо не мой работник и не моя забота. Дом надежно охраняла сигнализация. Помня о своей работе, я решила не обращать на Джо внимания и продолжала отмахиваться от холодящего, жутковатого чувства, которое испытывала каждый день.
На четвертую неделю своего пребывания в этом доме я услышала голоса — голоса молодых женщин. Я открыла дверь зимнего сада и крикнула: «Джо, кто там?» Но Джо как сквозь землю провалился. Я решила, что, прислушиваясь к голосам и гадая, куда подевался Джо, впустую потрачу время. Мне и вправду настоятельно требовалось закончить книгу, в том числе и по финансовым причинам. Работа продвигалась успешно, я не желала откладывать ее, не закончив.
Но как только я вновь устроилась за письменным столом, голоса раздались из-за дома, с довольно близкого расстояния. Я не ждала гостей, поэтому встала и выглянула в окно. К дому примыкала рощица, откуда и доносился разговор. Потом из-за деревьев показались две женщины. Меня не удивило, что они одеты в длинные юбки и шали эдвардианских времен, а их длинные волосы старательно собраны в узлы. Свои наряды они вполне могли купить в лондонском «Мисс Селфридж», на Бошан-Плейс или в манхэттенском Виллидже. Теперь, во времена веселой свободы, нас уже никакой одеждой не удивишь.
Мне показалось, что я с ними знакома, но никак не могла припомнить, где видела их прежде. У меня возникло отчетливое ощущение, что я видела их обеих вместе, молодых и худощавых, одну высокую, другую пониже.
Пока они приближались к дому, я заметила, что на опушке рощицы за их спинами прячется явно заинтересованный Джо.
В парадную дверь позвонили. Я не знала, стоит ли открыть ее. У меня не было причин ждать визитеров, Лоутеры заверили, что никто не нарушит моего уединения. Но я в приступе нервозности распахнула окно зимнего сада и крикнула:
— Кто вам нужен? Лоутеры в отъезде, а я живу здесь временно.
— Нам нужны вы, — заявила та женщина, что была помоложе.
Я уже почти не сомневалась, что где-то видела их раньше. Они вызывали у меня страх. Женщина постарше снова нажала кнопку звонка.
— Впустите нас.
— Кто вы? — спросила я.
— Харпер и Уилтон, — ответила молодая. — Без паники! Мы просто в ссоре.
Харпер и Уилтон — где я слышала эти фамилии?
— Мы знакомы? — спросила я.
— Знакомы ли вы с нами? — уточнила высокая женщина. — Вы нас создали. Я — Марион Харпер, или просто Харпер, а моя подруга — Марион Уилтон, или Уилтон. Мы боремся за избирательные права для женщин.
Боже мой! Только тут я вспомнила, что когда-то давным-давно, годах в пятидесятых, писала рассказ о двух суфражистках эдвардианских времен. Как же я могла его вспомнить? Он даже не был опубликован. Закончила ли я его вообще? Я не слишком симпатизировала двум героиням, Харпер и Уилтон, но они определенно увлекли меня.
— Чего вы хотите от меня? — спросила я, выглядывая в окно. Впускать их в дом я не собиралась.
— Вы забросили этот рассказ, — объяснила коротышка Уилтон. — Мы уже давно вас разыскиваем. Вы должны наполнить нас содержанием, и мы перестанем вас преследовать.
Я держала своих Харпер и Уилтон на дне ящика, в который складывала незаконченные рассказы и стихи с тех пор, как начала писать художественную прозу и поэзию.
Я собрала свои вещи, погрузила их в машину и укатила, провожаемая взглядами Харпер, Уилтон и Джо. Дома я сразу принялась искать пропавшую рукопись и наконец нашла ее, помятую, с завернувшимися краями страниц. Я прочла:
«Однажды в окно выглянул юноша лет двадцати — к несчастью, косоглазый.
Напротив стоял другой пансион. Там на втором этаже поселились мисс Уилтон и мисс Харпер, сторонницы движения суфражисток. Их родители, оставшиеся в деревне, дали дочерям денег, лишь бы от них отделаться.
Спустя три недели мисс Уилтон решила, что дольше не выдержит, и зашла в комнату к мисс Харпер.
— Харпер, — сказала она, — я дольше не выдержу.
— Ну что ты, Уилтон, — ответила Харпер, — не падай духом. За прошлый месяц мы завербовали триста четыре человека. Вспомни, что говорила Панкхёрст…
— Харпер, я по личному делу, — резко оборвала ее Уилтон.
— Да? — отозвалась Харпер, потеряла к ней всякий интерес и начала туго и аккуратно сворачивать корсаж. — Некогда мне обсуждать личные дела. Мне еще готовить отчеты.
— Я быстро, — пообещала Уилтон. — Каждый день в окно на другой стороне улицы выглядывает молодой человек…
— Так я и знала, — перебила Харпер.
— Ты не думай, я не слежу за ним, — возразила ее подруга. — Но не могу же я не видеть то, что вижу. Он подает какие-то знаки.
— Я заметила, — подтвердила Харпер. — Если тебе трудно бороться с искушением, советую подыскать другое жилье. Больше ничем помочь не могу, Уилтон. У меня есть дела поважнее.
— Еще бы. Ты ведь считаешь важным поощрять заигрывания незнакомого мужчины. Едва ли комитет согласится с тобой, — выпалила Уилтон.
— Ах! — воскликнула Харпер. — Ах!
— „Ах!“ — передразнила Уилтон. — Да, я намерена сообщить об этом Бейсуотерскому комитету.
— Ты опоздала, — сказала Харпер, — со своими кознями. Я уже обо всем доложила. Если хочешь, почитай копию моей докладной.
Уилтон взяла бумагу, отошла к газовой лампе и прочла: „С сожалением вынуждена сообщить, что мисс М. Уилтон, состоящая в наших рядах, своим поведением наносит ущерб нашему общему Делу. Она откровенно поощряет заигрывания особы мужского пола, предположительно студента, в окне дома напротив того, в котором мы живем. Боюсь, вскоре мы будем вынуждены исключить мисс Уилтон из числа сторонников нашего Движения“.
Уилтон вернула Харпер докладную.
— Очень умно, — презрительно фыркнула она, — заметать следы, впутывая меня в свои гнусные делишки. Но я докажу свою невиновность. И тебя разоблачат. Если помнишь, — добавила она, — секретарь и раньше сомневалась в истинности твоего феминистского рвения. Уже одно то, что ты носишь этот корсаж, лишь бы подчеркнуть фигуру, говорит о…
— Будь любезна, выйди, — велела Харпер.
— Более того, я не согласна с тем, что он студент. — Добавила Уилтон.
На следующий день юноша из дома напротив уверовал, что знакомство с одной из девушек наконец принесет какие-нибудь плоды. Заметив ее недвусмысленные знаки, он перешел улицу и выжидательно уставился на окно Уилтон. Она заметила, что этот болван глазеет на окно Харпер. И совершенно напрасно: Харпер куда-то ушла. Уилтон бросила ему запечатанный конверт. В нем лежала записка без подписи, напечатанная на пишущей машинке Харпер. И ключ.
Это был ключ от парадной двери, а в записке объяснялось, как найти нужную комнату сегодня в десять. Только, конечно, получателя направили в комнату Харпер, а не Уилтон.
Уилтон услышала, как пришла Харпер, и стала ждать, когда в десять свершится возмездие. Она сбегает за домовладелицей. Мужчина в комнате Харпер. Шумная сцена. Комитет обо всем узнает.
В назначенный час юноше пришлось искать другой способ принять приглашение, потому что в волнении он потерял ключ. Лишенный фантазии, но отважный, он начал карабкаться по водосточной трубе, которая проходила между окнами Уилтон и Харпер. Уилтон в смятении наблюдала эту сцену при свете уличного фонаря. Ее видела и Харпер, и прежде чем юноша успел преодолеть последние два фута, на него обрушился поток воды из умывального кувшина Харпер. Уилтон действовала быстро: воды у нее не нашлось, поэтому она бросила в окно сам кувшин. Харпер понеслась вниз по лестнице к двери. Уилтон последовала за ней.
У насквозь промокшего юноши был очень растерянный вид.
— Ни с места, — велела Харпер. — Я сдам тебя в полицию.
— Харпер, сдать его в полицию должна я, — перебила Уилтон. — У него свидание с тобой. Это позор. Тебя удалось разоблачить.
Внезапно в дверях возникла домовладелица.
— Констебль! — завопила она.
Полисмен, стоящий на перекрестке, обернулся и заспешил к ним.
Несмотря на свой корсаж, из двух девиц более эмансипированной была Харпер. Она смерила Уилтон взглядом.
— Это мой мужчина, — заявила она. — Катись к черту.
— Что тут происходит? — спросил полисмен.
— Выбирайте выражения! — возмутилась домовладелица. — Ох уж эти суфражистки!
— Суфражистки, значит? — переспросил полисмен.
— Констебль, — встрепенулась Уилтон, — этот человек пытался влезть в окно этой дамы. Его приманила водосточная труба.
— Это она виновата, — выпалил юноша, возмущенно уставившись на Уилтон. Но поскольку он косил, полисмен так и не смог решить, которую из девушек юноша имеет в виду. Впрочем, это не имело значения.
— Эти суфражистки! — сказал полисмен.
— Да, напали на меня, — вздохнул юноша.
Констебль выяснил все детали. И взял Харпер и Уилтон за рукава.
— За мной, — велел он, — и без шума. Нарушение порядка. Суфражистки.
— Надеюсь, их посадят на месяц, — высказалась домовладелица.
— Скорее натри месяца, — поправил полисмен. — С вами уже все в порядке, сэр?
— Более-менее, — жизнерадостно ответил юноша. — Спокойной ночи, констебль. Спокойной ночи, милые дамы.
Их посадили на месяц. Видите, милые дамы, сколько они выстрадали, чтобы добиться для нас избирательного права».
Я вернулась за город с рукописью в сумочке. Таких рукописей, которые я собиралась перебрать, как только выдастся денек-другой посвободнее, у меня накопилось великое множество. Но свободный день все никак не выпадал. Перечитывая рассказ, я так и не поняла, чего в нем не хватает. Харпер и Уилтон уже исполнили свое предназначение в краткий промежуток времени на рубеже двадцатого века, когда случилась эта история.
Харпер и Уилтон ждали меня на крыльце моего загородного убежища.
— Ну как? — спросила Уилтон.
Я заметила, что садовник Джо наблюдает за нами из примыкающей к саду таинственной рощицы, которую я успела полюбить. Обожаю таинственные сады. Мне показалось, что Джо вот-вот отважится подойти к нам. У меня в руке позвякивали ключи от входной двери. Но я ни в коем случае не желала пускать на порог никого из этой троицы. Пока Джо приближался, я вдруг задумалась о его отчаянно косящих глазах. И о том, почему он не носит корректирующие очки. Как мне удалось предсказать и представить себе юношу с сильным косоглазием много лет назад, когда я писала проходной рассказ о Харпер и Уилтон?
Джо, несомненно, привлекли две необычно одетые девушки. Но определить, на которую из них он смотрит, было по-прежнему трудно.
— Он нам покоя не дает, — сказала Уилтон. — Повсюду таскается за нами по пятам. Разве вы не знаете, что это преступление? Особенно в нынешние времена.
— Приставание с сексуальными целями, — подтвердила Харпер.
— Да? Он что-то натворил? — спросила я.
— Следовал за нами повсюду. Домогался нас. Это он должен сидеть в тюрьме, а не мы.
Я не упустила подвернувшийся шанс. Присев на крыльцо, я переписала финал рассказа в соответствии с нынешними правилами корректности. Обе девушки, Харпер и Уилтон, были оправданы, а в полицию забрали косоглазого студента. Я показала Харпер и Уилтон новый финал.
Мало того: под шумок я ускользнула в дом. Остальные смущенно расположились в саду. Я позвонила в полицию и сообщила, что наш садовник досаждает двум молодым женщинам нежелательными знаками внимания. Без особого энтузиазма полицейские согласились приехать и выяснить, что происходит.
Джо они увезли с собой. Харпер и Уилтон исчезли, очевидно, удовлетворившись результатом. Вскоре вернулся Джо, отделавшийся предупреждением, и занялся прополкой сорняков в саду.
ДАМЫ И ГОСПОДА
© Перевод. У. Сапцина, 2011.
От автора: в основе этого рассказа лежит реальный случай, вероятно, еще более ужасный потому, что человек, о котором пойдет речь, боялся, как бы в обществе девушки его не застала родная мать, а не жена. В действительности его не поймали, только заметили, как он околачивался вокруг общественной уборной, что весьма повеселило автора.
Мимо собора, мимо еще не открывшихся «Бойцовых петухов», мимо киоска с мороженым, мимо мельничного лотка, мимо озера, когда-то бывшего монастырским рыбным садком, — они идут все дальше. Год 1950-й. Ее имя — Джун Флиндерс, его — Билл Добсон. Место действия — древний Веруламий. Рука об руку они приближаются к нам.
Мисс Флиндерс еще училась в университете на севере Англии. Мистер Добсон преподавал домоводство в техническом колледже в Мидлендсе. Они познакомились на летних курсах. Была еще миссис Добсон, но эти двое мыслями оставались далеки от нее.
Некоторое время они болтались возле мельничного лотка, стояли на мосту, опираясь на перила. Пришла корова и грациозно спустилась к воде выше по течению, где река была не столь бурной. Безмолвная и терпеливая, словно дерево, возвышающееся над собственной тенью, она стояла и благосклонно принимала прохладу воды, льнущей к ее ногам. Там, где ручей с шумом вливался в мельничный лоток, резвились несколько босоногих мальчишек. Ни Джун, ни Билл не любили детей, но к этим мальчуганам испытывали приятную симпатию. Так как в эту минуту они были вдвоем и наслаждались незаконной и тайной встречей, их сердца переполнились снисходительностью и побудили их купить в киоске пять рожков с мороженым и раздать их детям.
Получив мороженое, мальчишки умчались прочь от мельничного ручья так быстро, словно боялись, что у них отнимут нежданно доставшееся лакомство.
— Куда же вы, ребята… — начал было Билл, но этим лишь все окончательно испортил. Распознав в нем учителя, ребятня разбежалась.
— Забавно, должно быть, внезапно унаследовать целое состояние, — заметила Джун.
Этому повороту темы он только обрадовался: ему давно хотелось кое-что рассказать ей.
— Поначалу мне не верилось, — признался он.
— Представляю, — кивнула Джун.
— Я показал письмо Мейзи, и Мейзи поначалу тоже не поверила.
На лицо Джун набежала тень невеселых мыслей. Мейзи приходилась Биллу женой, и Джун становилась грустной и задумчивой при каждом упоминании о ней. Скажем больше: к этому выражению лица Джун приспособила сама природа. Свои светлые волосы она делила на прямой пробор, зачесывала назад и собирала в пучок, вдобавок нос у нее был довольно длинный и белесый — представьте себе эту картину, и вы поймете, насколько удачно дополнял ее скорбный взгляд.
Но менять тему она не стала.
— Тем легче будет сообщить известие, — заметила Джун.
— Да, — с жаром отозвался он, — для этого и нужны деньги. Рано или поздно Мейзи не будет зависеть от меня.
Сказать по правде, Джун, — продолжал он, — все, что у меня есть, я завещал ей. Ты наверняка согласишься, что в таких обстоятельствах это лучшее, что можно предпринять. Но разумеется, на жизнь нам вполне хватит, Джун. Просто я подумал, что будет правильно оставить ей все, что у меня есть. Это хоть немного скрасит известие, когда мы сообщим его.
— Все, что у тебя есть? — переспросила Джун.
— Да, — подтвердил Билл. — Понимаешь, так нам будет легче.
— Это немалые деньги, — заметила Джун.
— Из них еще надо вычесть налог на наследство, — примиряюще напомнил он. — Но у нас вся жизнь впереди, как знать, кто умрет первым? Не будем об этом, — добавил он. И еще добавил: — Давай жить полной жизнью.
Биллу минуло сорок два. Восемнадцатилетней Джун вовсе не казалось, что у него впереди вся жизнь. Впрочем, она была влюблена в Билла, а все остальное не имело значения. Манерами он напоминал ей учителя ботаники с той лишь разницей, что Билл сбежал вместе с ней, а учитель ботаники — нет, и не сбежит никогда.
Джун тревожило, что полный разрыв между Биллом и его женой пока не состоялся. Мейзи понятия не имела о романе своего мужа и была убеждена, что он уехал читать цикл лекций.
— Хорошо бы тебе окончательно расстаться с Мейзи, — сказала Джун. — Терпеть не могу обманы в таких делах.
— А что, уже приходилось? — спросил Билл.
— Нет, что ты, — поспешила возразить Джун. — Я просто хотела сказать, что вообще ненавижу обманы.
Сталкиваться с подобными обманами Джун еще не приходилось. Это и беспокоило ее. Они оставили багаж в номере отеля. Билл записался в книге портье как «Уил. и миссис Добсон». А если ему расхочется всегда жить с ней? Если ему нужно от нее только одно? Если так, тогда понятно, почему Мейзи до сих пор ничего не знает. А потом будет уже слишком поздно. Как все запутанно и сложно.
— Я вообще ненавижу обманы, — повторила Джун.
— Я думал, нам надо проверить, насколько мы подходим друг другу, а уж потом принимать окончательное решение, — угораздило ляпнуть Билла.
— Ты же говорил, что между вами все кончено в любом случае, — напомнила Джун.
— Так и есть, — сказал Билл. — Так и есть.
— Билл, — начала она, — ты выполнишь одну мою просьбу?
— Конечно.
— Знаешь, сегодня нам бы лучше не… я бы не хотела… давай не будем…
Джун судорожно рылась в памяти, подыскивая верное выражение. Ей хотелось выразиться поточнее, но так, чтобы не показаться слишком вульгарной или чопорной. Наконец она вспомнила подходящие случаю слова и с облегчением договорила:
— Я предпочла бы, чтобы сегодня мы обошлись без близости.
Лицо Билла стало расстроенным. У Джун обнаружились совершенно неожиданные свойства.
— Ты же сама хотела остановиться в отеле, — напомнил он.
— Да, конечно, — нетерпеливо подтвердила Джун, — но лучше бы нам подождать. Ну, как ты не понимаешь. Для меня это очень важный и ответственный шаг.
— Лучше завтра, — добавила она, испытующе вглядываясь в лицо Билла.
— Хорошо, — отозвался все еще слегка озадаченный Билл. — Если ты не хочешь… то есть если ты считаешь нужным повременить, дорогая, — поспешно поправился он, — я, естественно, готов с уважением отнестись к твоим желаниям.
Надеюсь, — продолжал он, воодушевляясь при этой мысли, — надеюсь, я, как мужчина, способен на такое. Ведь я всем сердцем люблю тебя, Джун.
Джун вздохнула с облегчением. Она была бы не прочь еще поговорить об окончательном разрыве с Мейзи, но решила, что разумнее будет подождать.
— Пойдем посмотрим древнеримскую стену, — предложила она.
Она решила, что лучше дождаться следующего упоминания о Мейзи. Но ей было всего восемнадцать, и она ужасно волновалась.
«Мне всего восемнадцать, и я ужасно волнуюсь, вот и все», — сказала она себе.
И через несколько минут вернулась к разговору о Мейзи.
— Ты уже подумал о том, как обеспечишь Мейзи? — спросила она. — Надеюсь, ты назначишь ей небольшое содержание. Или ты это уже сделал?
— Да, — сказал Билл.
— Ей будет достаточно? — продолжала Джун. — Хватит и небольшого, ведь у вас нет детей.
— Да, — сказал Билл.
Джун нестерпимо хотелось спросить «так сколько же?» и она уже думала, как бы получше сформулировать этот вопрос, когда Билл заговорил:
— Не забыть бы послать пятерку моему кузену, старине Леонарду. Кстати, он живет тут неподалеку. В Брикет-Вуд.
— Кто он? — спросила Джун. — Надеюсь, мы его не встретим.
— Не бойся. — Билл рассмеялся. — Он все равно не узнает меня. Он всегда был глуповат. Живет совсем один, бедолага. Кажется, ему недавно назначили пенсию по инвалидности. — Билл задумался. — Нет, все-таки пусть Мейзи отправит ему пятерку, теперь я могу себе это позволить.
— Почему Мейзи? — спросила Джун. — Разве ты сам не можешь?
— Я не знаю адрес, — объяснил Билл. — А Мейзи знает. Она поддерживает связь с ним. Как сама понимаешь, исключительно по доброте душевной. У Мейзи есть свои достоинства, — добавил он и остановился на тропинке, чтобы придать вес своим словам. — В этом ей не откажешь, милая.
— О, какие-нибудь достоинства у любого найдутся, — отозвалась Джун, тревожно глядя на него. — А в остальном она, похоже, просто ужас.
— Да, — согласился Билл. — Боюсь, иначе не скажешь — ужас. Но теперь я намерен наконец-то купить себе свободу. Идем, — позвал он, — посмотрим римскую стену.
Он сделал несколько шагов вперед и остановился.
— Стой, — велел он.
Впереди, на расстоянии пятидесяти ярдов, слева от тропы на берегу озера стояла скамья. Ее установили на небольшом возвышении, под боярышником. На скамье сидели мужчина и женщина. Под навесом наклонных веток боярышника лиц было не разглядеть.
— Похожа на Мейзи, — заметил Билл. — Но я не уверен, — добавил он. — Не двигайся, дорогая. Подождем минутку.
— О нет! — сказала Джун. — О, Билл! Я уезжаю в город.
— Не глупи. Я вовсе не уверен, что там Мейзи. Может, просто похожая на нее женщина. Лица отсюда не видно. Но я точно знаю: Мейзи здесь не бывает.
— А может, она приехала проведать твоего кузена, — возразила Джун. — Ну пожалуйста, разреши мне поскорее уйти.
— Очень может быть, — отозвался Билл. — Может, это Леонард и сидит рядом с ней. Но она обязательно сообщила бы мне, куда едет.
— Я ухожу, — заявила Джун.
— Нет, подожди здесь. Только без паники, — предупредил Билл. — Сейчас я все узнаю.
— Еще в газеты попадем, — сказала Джун, — напечатают мою фамилию и так далее.
— Не попадем, — отмахнулся Билл.
Увы, в газеты они все-таки попали.
Несмотря на затруднительное положение, Билл рассуждал здраво.
— Подожди здесь, — повторил он. — А я обойду вон то деревянное строение и посмотрю на их лица. Скоро узнаем, Мейзи это или нет.
Скорее всего никакого деревянного строения вы не помните, даже если вам случалось бывать в тех местах. Скромное и неприметное, оно стояло у тропы со стороны озера, примерно на полпути между мельничным лотком и скамьей, на которой устроилась парочка. Строение имело нарочито примитивный вид. Вероятно, оно и должно было выглядеть по-деревенски, обшитое неотесанными досками внахлест и обложенное снизу кирпичом. Узкое пространство вокруг этого простого сооружения было обнесено проволочной изгородью. Попасть за ограждение можно было с двух сторон — в зависимости оттого, кто к нему приближался, дама или господин. В те дни двери еще не обозначали силуэтами в юбке или в брюках. Территория, прилегающая к общественной уборной, была разделена на две части шаткой перегородкой.
Вряд ли Билл заметил все это. Так или иначе, он вошел на огражденную территорию с той стороны, с которой и должен был, и, миновав деревянную дверь с надписью «Господа», начал сворачивать за угол строения, не сводя глаз со скамьи.
Различить лица ему не удавалось. Держась поближе к деревянным стенам, он прошел под окнами отделения для господ. Но пару на скамье так и не разглядел. Мешал боярышник. Если поначалу Билл еще помнил, для чего предназначено строение, то вскоре забыл об этом. Он твердо решил разглядеть людей, занимающих скамью.
Биллу понадобилось три движения, чтобы взобраться на сетчатую перегородку. Секунда — и он очутился под окнами дамского отделения.
Он подбирался ближе и ближе. Так и есть — это Мейзи? Правда? Нет. На той женщине нет шляпки. А Мейзи без шляпки из дому не выйдет. Это не Мейзи. Нет, смотри — шляпка у нее в руках! И кстати, не Леонард ли сидит рядом с ней, разинув рот?
Чтобы удостовериться, Билл полез еще выше на провисающую под его тяжестью перегородку. Он схватился за притвор одного окна в дамском отделении, положил ладонь на выступ другого окна. Заняв такую позицию, он повернулся и увидел скамью как на ладони. Это Мейзи! Билл вдруг заметил, как она похожа на Джун, только постарше, конечно. Да, и рядом с ней с апатичным и глупым видом действительно сидел Леонард.
Удерживаясь в той же позе, Билл наблюдал за ними и строил планы отступления вместе с Джун. Лучше им сразу покинуть город. Тогда их никто не увидит… Все в той же позе он подал знак Джун. Этим-то он и привлек к себе внимание.
Первыми надвигающуюся опасность возвестили фанфары возмущенных воплей изнутри строения. За этим всплеском звуков последовал громкий детский рев.
— Держи его! — закричала тощая жилистая женщина, выбегая из дамского отделения. — Подглядывал, грязная свинья!
Она схватила Билла за ногу и с помощью двух проходящих мимо девушек, бросивших ради этой цели свои велосипеды, стащила с перегородки и повалила его наземь.
Джун кинулась наутек.
— А ну стой! — завопила ей вслед жилистая особа. — Остановите ее кто-нибудь! Она все видела! Она с ним заодно!
Джун, которая и не думала сопротивляться, схватила пара средних лет.
— Я тут ни при чем, — уверяла Джун. — Я ничего не видела.
— Да неужели? — протянула жилистая. — Зато я видела.
— И я, — подхватила одна из девушек. — Он заглядывал в дамскую комнату! Среди бела дня!
— Низость, — заявил мужчина средних лет. — Вот что я вам скажу: это низость. Подержите-ка его, а я приведу полисмена.
Еще три женщины появились из дамского отделения, взволнованные шумом и суетой. Одна несла под мышкой маленькую девочку, а в другой руке — сумочку, которую, размахнувшись, обрушила на запрокинутое лицо Билла.
— Позвольте мне встать! — взмолился Билл. — Я все объясню.
— Да уж, мерзкий извращенец, — закивала мать ревущего ребенка, — сейчас ты нам все объяснишь. Погоди, вот узнает мой муж!
— Спросите мою подругу, — убеждал Билл, указывая на Джун.
— Ах подругу! — воскликнула симпатичная рыжеволосая девушка, вышедшая из дамского отделения. — Если она тебе подруга, значит, и она тут замешана. Ручаюсь, она того же поля ягода. С такой-то рожей, — логично добавила рыжая.
— Я ничего не видела, — беспомощно повторяла Джун.
Биллу удалось приподняться на локтях. На его ноги решительно уселась жилистая женщина. Ступни придерживала мать ребенка.
Полисмен уже приближался, когда Билл увидел не только его, но и Мейзи, поднявшуюся со скамьи. Заметив, что неподалеку собралась небольшая толпа, Мейзи из любопытства направилась небрежной семенящей походкой к тому месту, где лежал Билл. За ней, шаркая ногами, брел Леонард с трясущейся головой.
Мейзи вдруг застыла на месте, разом растеряв всю свою беспечность.
— Билл! — ахнула она. — Это мой муж, — надменно оповестила она толпу. — Ему дурно? Будьте любезны, пропустите.
— Дурно? — переспросила жилистая. — Как бы не так: подглядывать удумал, развратник.
Джун сделала еще одну попытку сбежать.
— Стой смирно, — пригрозила рыжая.
Подошел полисмен.
— Вставайте, — велел он Биллу.
Состоялось на редкость утомительное разбирательство. Главной свидетельницей со стороны обвинения выступила мать малышки.
— Я гуляла с дочерью, — рассказывала она, стоя на свидетельской трибуне, — когда она у меня запросилась. Держу я ее и вдруг вижу в окне — он, обвиняемый. Признаться, — добавила она, — с перепугу я разжала руки, и бедняжечка Бетти так и плюхнулась.
— Ребенок не пострадал? — спросил судья.
— Ну, с виду вроде как нет, — ответила мать. — Но не дело это для ребенка — падать вот так-то.
Если бы не ее показания, обвинение проиграло бы дело.
Рыжая подвела его, заявив, что зашла всего лишь оправить платье, когда увидела в окне Билла.
Никто так и не сказал, чем занимался внутри строения на самом деле, когда лицо Билла возникло в окне. Как вам уже известно, шел 1950 год. Впрочем, уклончивость свидетельниц значения не имела: как бы там ни было, подсматривание есть подсматривание. Тем не менее все были рады, что мать Бетти прояснила обстоятельства.
Судья сурово обошелся с Мейзи, почему-то решив, что перед ним Джун. И неудивительно: с прямым пробором в светлых волосах и пучком на затылке Мейзи была поразительно похожа на соперницу — как и многие женщины, мужья от которых, в сущности, не уходят, а, напротив, возвращаются, только в чужих объятиях.
Когда судью поправили и личность его собеседницы была установлена, он сурово обошелся с Джун.
— Вы явились на место преступления с чужим мужем и потворствовали ему, — упрекнул он. — И даже пытались выдавать себя, — добавил он, — за эту порядочную, честную женщину.
Билла приговорили к уплате десяти фунтов штрафа в трехнедельный срок.
Желая забыть о случившемся, Джун эмигрировала в Австралию. Мейзи, никому не сказав ни слова, отправилась к парикмахерскую и поменяла прическу, выбрав совсем другой стиль. Билл втайне от всех побывал у юриста и изменил завещание в пользу своего глуповатого кузена Леонарда.
МАРДЖОРИ
© Перевод. Н. Анастасьев, 2011.
Не так уж много времени прошло с момента моего прибытия в Уотлингское аббатство, когда я поняла, что все мы приехали сюда, чтобы обрести душевное равновесие после нервного срыва. Аббатство, построенное еще в XII веке, расположено в Вустере, на месте, где в древности стоял храм Митры. Недавно оно было приобретено и реставрировано монашеским орденом, которому принадлежало с самого начала, — тогда-то, сразу после войны, я и оказалась там, обнаружив через несколько дней, что большинство из нас лечат здесь нервы.
Под «большинством из нас» я имею в виду обыкновенных мирян, которые располагаются в комнатах паломников по обеим сторонам нового флигеля. Всех нас так и называют — паломники. Помимо нас в аббатстве проживают постоянные миряне, которых называют монастырскими, потому что они живут в комнатах над монастырскими покоями.
Неврастеники поразительно быстро оценивают душевное состояние других людей, разделяя их по широкоохватным категориям. В аббатстве я насчитала четыре такие категории. Первая — мы сами: неврастеники-посетители-пилигримы. Вторая — монастырские: это в основном разные чудики. Третья — монахи; у них как будто с нервами было все в порядке, и, не будучи неврастениками, сливаясь в своем белом одеянии в одну общую массу, как мне тогда казалось, они просто мирно покачивались в золоте того октября либо стройно вытекали из монастырских покоев в дни церковных праздников. В четвертую категорию я поместила мисс Марджори Петтигрю.
Право, на вид она была совершенно здорова. Мне сразу показалось, что она единственная среди мирян, паломников и монастырских поняла назначение этого места. Да, именно такое у меня возникло впечатление. В Уотлинг мы приехали втроем. С поезда я сошла, когда уже стемнело, но при свете единственного газового рожка увидела на платформе двух женщин. Они по-дурацки вертели головами, из чего было ясно, что они впервые оказались на этом железнодорожном вокзале. Услышав, что я спрашиваю билетера, как добраться до аббатства, они поспешно подошли ко мне. Подхватив чемоданы, мы тронулись в путь, и я отметила про себя, что общего между нами мало, разве что католическая вера, да и то скорее в мистическом смысле — их религиозные взгляды были отличны от моих. «Отличны от» — это форма моего невроза. Я люблю разграничивать предметы, но это может привести к нервному срыву. С другой стороны, жизнь, основанная на принципе «отличия от», — это всегда приключение.
Женщины были вполне симпатичные. Одна — Тик-Так, такое я ей придумала имя, потому что она изъяснялась именно в этом роде — тик-так, тик-так — в этом и заключался ее невроз, — исключительно на тему своей работы медсестрой в одной из лондонских клиник. Экзамена она так и не сдала, но совершенно не возражала, тик-так, против того, чтобы и далее числиться в категории младшего медицинского персонала, даром что в декабре ей исполняется тридцать три. Все это она изложила в течение четырех минут. Другой женщине было под сорок. Она вела себя поспокойнее, хотя ненамного. Уже приближаясь к входу в аббатство, она сказала:
— Меня зовут Дженнифер, а вас?
— Глория Деплорес-ю, — ответила я. Окрестили меня действительно Глорией.
— Глория — как?
— Это французское имя, — пояснила я, придумывая в уме написание «де Плересье» на тот случай, если будут донимать.
— Мы будем называть вас Глорией, — объявила она.
Я остановилась у ворот, соображая, не лучше ли вообще вернуться.
— Пошли, Глория, — предложила она.
Лишь через несколько дней я обнаружила, что неврастения Дженнифер имеет форму «аналогично». Мы все аналогичны, все одинаковы, настаивала она, приводя меня в ярость, ибо известно ведь, что Бог создал всех неповторимыми. Вообще-то, говоря, что «все мы одинаковы», она хотела сказать, что в глазах Бога все мы равны. И все равно такая неточность меня раздражала. Все же, подобно Тик-Так, это была весьма занятная фигура. Лишь в самые напряженные моменты обе они выводили меня из себя.
Да пустяки это, подумаешь, ну, есть люди, которые действуют тебе, с твоей неврастенией, на нервы! Вспомнить хотя бы того рыжеволосого мужчину, что носил плащ бутылочного цвета. Это был один из монастырских, в Уотлинге он жил уже больше трех лет. Он работал над рукописью под названием «Монашеская книга пивоварения». Раз в две недели он отправлялся в Британский музей и, думаю, другие книгохранилища, возвращаясь с толстенным и блокнотами, исписанными заметками о методах и тонкостях пивоварения в древних монастырях — ведь я же помню его! Но в перерывах между устрашающими вспышками ярости, направленной против руководства аббатства, это был тоже славный малый. Когда что-нибудь шло не так, он винил монахов, в отличие от одного ирландца, который винил дьявола. Порой это приводило к столкновениям между рыжим и ирландцем, в чем монахи винили дьявола.
Были там дамы из Корка и его окрестностей, дамы из Тайрона и Лондондерри, все они приехали сюда либо отдыхать, либо в палату, неся в большинстве своем клеймо невроза, соответственно южного или северного происхождения. Случались моменты, когда горькие осколки смысла свистели в пространстве между Севером и Югом, когда тот и другой сталкивались где-то за пределами совместной церковной службы. Да, все они были католиками, но «характер сказывается», то и дело говорила я себе. Я часто повторяла про себя подобные замечания, чтобы успокоить собственные нервы.
Каждое утро мы встречались с Тик-Так и Дженнифер и совместно декламировали «Пятнадцать таинств». После чего направлялись в город выпить кофе. Поскольку днем я отдыхала, Дженнифер решила, что я лечусь от нервов. «Это нервы?» — прямо спросила она. «Да», — прямо ответила я.
Тик-Так тоже направили лечиться от нервного истощения, она не делала из этого тайны, совершенно не делала.
Дженнифер была в полном восторге.
— У меня та же беда. Представляется, у всех у нас троих одно и то же. Таким образом все мы одинаковы.
— Таким образом, — сказала я, — все мы больше отличаемся друг от друга, чем остальные.
— И все равно, — сказала она, — все мы одинаковы.
Но была еще мисс Марджори Петтигрю. Внешность и повадка мисс Петтигрю вызывали у меня нечто вроде сострадания. Я узнала, что в Уотлинге она находится около шести месяцев, и по намекам и внезапно наступающей тишине сделала вывод, что ее либо боятся, либо не любят. Отнесла я это на счет того обстоятельства, что она не была неврастеничкой. Обычно неврастеники не испытывают симпатии к людям, на чьих нервах не могут поиграть. Таким образом я рассуждала сама с собой, а то, что самой мне мисс Петтигрю как раз нравилась, свидетельствовало о том, что мой невроз не такой, как у других.
Мисс Петтигрю была очень высокой и плоской как доска, с очень широкими плечами и квадратным лицом. На вид у нее было очень много костей. Глаза темные, брюнетка, завитки волос заброшены за уши, как наушники, но во всем остальном от моды она не отставала.
Поначалу я подумала, что она приехала сюда в палату, ибо за едой она никогда не открывала рта, хотя и неизменно улыбалась, когда передавала какое-нибудь блюдо. Со всеми остальными она встречалась только за едой и молитвой. Она часто молилась в часовне. Я завидовала ее стойкости, ибо, хотя я тоже стремилась к одиночеству, у меня не всегда доставало мужества отказаться от компании, что сделало меня такой же непопулярной, как мисс Петтигрю. Я надеялась, что, покинув палату, она со мной заговорит.
Однажды, еще в первую неделю, одна величественная на вид дама из сельской местности на севере страны заговорила со мной за столом, кинув в сторону сидевшей в молчании мисс Петтигрю:
— Она совершенно здорова.
— Совершенно здорова?
— Да, притворяется, просто она умна, в этом все дело.
Под умом она разумела хитрость, это-то я сразу поняла.
— То есть как это притворяется? — спросила я.
— Молчит. Ни с кем не заговаривает.
— Но ведь она в палате, разве нет?
— Да ничуть; она умная, — сказала эта всезнающая дама. — Она живет здесь уже больше шести месяцев и за последние четыре ни разу рта не открыла. Это не психическое заболевание, ни в коей мере…
— А может, она какой-нибудь обет дала?
— Только не она; она умная. Рта не открывает. К ней привели доктора, но она и ему не сказала ни слова.
— Так или иначе, хорошо, что она ведет себя тихо, — сказала я. — Мы живем в соседних комнатах, а я люблю покой.
Не все паломники находили мисс Петтигрю «умной». Кое-кто считал, что у нее действительно не все в порядке с головой. И удивительно, насколько не любили ее монастырские, ибо люди это были добрые, даже навязчиво добрые по отношению к таким страдальцам по части психики, как я. Их нелюбовь к мисс Петтигрю фактически была признанием того, что она здорова. Если бы она стала неряшливо одеваться, делала гримасы, подпрыгивала, дергалась, извивалась, если бы она в каком-то смысле утратила их уважение, то никогда бы, мне кажется, не утратила симпатии.
В надежде разобраться в ее душевных проблемах я стала приглядываться к ней поближе; это для неврастеников — как магнит. Я поджидала ее во дворе, заходила в одинокую часовню Святой Девы, когда она там молилась. Она неизменно склоняла свою, в завитках, голову с церемонностью, присущей аббатисе, приветствующей монахиню. Сталкиваясь с ней в коридоре, я ощущала потребность посторониться и дать ей продолжить свой тихий уверенный путь. Невозможно было поверить, что она не в своем уме.
Невозможно было поверить, что, стойко вынося все тяготы, храня молчание, молясь изо дня вдень, она вынашивает некий грубый победоносный коварный замысел. Говорили, у нее есть деньги. Быть может, она была очень религиозна. Я спрашивала себя, сколько же ей удастся пробыть в этом внутреннем заточении. Монахи оказались в трудном положении. Попросить ее удалиться значило бы пойти против собственной природы, а может, и против правил; и уж точно это произвело бы дурное впечатление на местную публику, которая вовсе не вся была так уж привержена церкви. Один за другим к ней шли монахи, тактичные монахи, сочувствующие, твердые, любопытствующие.
— Ну что ж, мисс Петтигрю, надеюсь, вы не зря провели время в аббатстве? Наверное, у вас уже есть планы на зиму?
В ответ — молчание, лишь неопределенный жест, свидетельствующий о том, что слова услышаны.
Молчание и в ответ на речь еще одного монаха: «Нет, мисс Петтигрю, милое мое дитя, так просто не может дальше продолжаться. Не то чтобы нам не хотелось, чтобы вы и далее здесь оставались. Видит Бог, мы никого не гоним, ни единую душу. Но видите ли, нам нужно помещение для другого паломника».
И еще: «Ну скажите же нам, в чем беда, откройте свое сердце, бедняжка мисс Петтигрю. Иначе не по-католически получается, совсем не по-католически. Надо быть ближе к людям».
«Или вы дали какой-нибудь обет? Тогда это очень неразумно, это…»
«Послушайте, мисс Петтигрю, мы нашли для вас жилище в городе…»
Ни слова. Все видели, как каждую неделю она ходит на исповедь, так что говорить явно умеет. Но не говорит, даже если надо купить какую-нибудь мелочь. Примерно раз в неделю она писала на листке бумаги: «Пожалуйста, мне нужен шампунь „Подснежник“, в одну шестую» — или что-нибудь еще в этом роде и передавала его прачке, девушке, весьма к ней привязанной, а та уж показывала мне, да так горделиво, словно это были святые реликвии.
* * *
— Глория, прогуляться не хотите?
Нет, ходить мне не хотелось. Я жила здесь третью неделю, и чем дальше, тем менее интересна становилась мне Тик-Так.
Я сидела у окна и думала, как прекрасна могла быть жизнь, если бы я не ждала подсознательно некоего телефонного звонка. У меня все еще живы в памяти голубизна и зелень и золото того октябрьского дня, который мне был некогда испорчен. Невысокий рыжеволосый мужчина в своем темно-зеленом плаще, сгорбившись, пересекал прямо у меня перед окном поросший травой двор. Вдали двое братьев-мирян в синей рабочей одежде возились с трактором. Из часовни Святой Девы, где располагались служебные помещения монахов, доносилось песнопение. Ничто так не продлевает память, растягивая ее в бесконечность, как грегорианский хорал, он словно запечатывает наглухо все происходящее вокруг. Жаль, подумала я, что по-настоящему насладиться этой возможностью мешает непреодолимая потребность в телефонном звонке.
Честно говоря, я надеялась, что рыжий пересек двор, чтобы позвонить мне по телефону, но он прошел мимо окна и исчез, растворившись где-то в невидимости. Все правильно, сказала я себе, но это мне не нравится. Коричневое, белое, багровое, я различила голубей в траве.
Внутри, казалось, никого не было. Моя комната находилась на чердаке, прямо под покрытыми пылью балками крыши. Все комнаты, находящиеся, как и моя, наверху, отделялись друг от друга тонкими перегородками, пропускающими любой звук. Даже молчаливая мисс Петтигрю, моя непосредственная соседка, не могла издать вздоха на своей девичьей постели, чтобы я не услышала его. Но в это утро на месте не было и ее. Наверное, в часовню ушла.
Телефонного звонка я ждала от Джонатана, ближайшего своего друга. Вернувшись в то утро из города, куда мы обычно ходили выпить кофе, я нашла письмо от него. «Позвоню в половине двенадцатого», — писал он, имея в виду именно этот день. А шел уже первый час. В одиннадцать тридцать я пила кофе с бесподобными Тик-Так и Дженнифер.
— Мне не звонили? — спросила я.
— Насколько мне известно, нет, — неопределенно ответила секретарша. — Хотя, конечно, у телефона меня все утро не было, так что, может, и звонили. Не знаю.
Не то чтобы у меня были серьезные темы для разговора с Джонатаном, так, просто поболтать хотелось. Но в тот момент я вдруг почувствовала, что буквально не могу обойтись без его голоса в телефонной трубке. Я останавливала всех и каждого — монахов, братьев-мирян, паломников.
— Вас не просили мне что-нибудь передать? Мне должны были звонить по срочному делу. В одиннадцать тридцать.
«Извините, меня не было на месте» или «Извините, меня не было около телефона».
— А что, тут у вас на звонки никто не отвечает? — настаивала я.
— Да, в общем, нет. У нас слишком много дел.
— Я пропустила важный звонок, жизненно…
— А сами вы позвонить своему другу отсюда не можете?
— Нет. Это невозможно, просто ужасно.
У Джонатана не было в студии телефона. Не послать ли ему телеграмму, подумала я и даже набросала черновик: «Извини любимый твое письмо пришло слишком поздно меня не было пожалуйста перезвони немедленно люблю Глория». Но порвала его, решив, что не могу позволить себе таких расходов. К тому же в самой муке переживания было что-то манящее, во всяком случае, это лучше, чем скука. Я решила, что Джонатан наверняка перезвонит до конца дня. Приготовилась даже до вечера сидеть в комнатушке у телефона, в бдительном ожидании. Но — «Я буду здесь до пяти, — сказала секретарша, — и, конечно же, конечно, пошлю за вами, если позвонят».
И вот теперь я сидела у окна в ожидании вызова. В три часа я умылась, подкрасилась, переоделась, словно принося всем этим искупительную жертву тому, что стояло между телефонным звонком Джонатана и мною. Я решила побродить по золотисто-зеленому двору, где меня не минует ни один посланец. Сделала круг — никого. Только мисс Петтигрю появилась со стороны монастырских помещений, пересекая двор и приближаясь ко мне.
Я была настолько поглощена ожидаемым звонком Джонатана, что подумала даже, а вдруг именно ее за мной послали. Но тут же поняла всю абсурдность такого предположения, ибо мисс Петтигрю никогда не выполняла ничьих поручений. Но она столь неуклонно двигалась в моем направлении, что мне вновь подумалось: «Она собирается поговорить». Мисс Петтигрю не спускала с меня своих черных глаз.
Я попыталась было отступить в сторону, не желая смущать ее своим обществом, но она меня остановила:
— Извините, у меня для вас сообщение.
Мне стало так легко, что я даже забыла удивиться тому, что она заговорила.
— Меня к телефону? — спросила я, готовая сорваться с места.
— Нет, у меня для вас сообщение.
— Какое сообщение?
— Господь воскрес, — сказала она.
Лишь справившись с разочарованием, я испытала настоящий шок от того, что она вообще заговорила, и обратила внимание на дотоле мною не виданное странное выражение ее глаз. «Видно, — подумала я, — у нее мания на религиозной почве. Она отличается от других неврастеников, но из этого не следует, что она в здравом уме».
— Глория! — Из-за двери высунулось лицо девчушки-кладовщицы. Она поманила меня, и, все еще не придя в себя, я медленно побрела к ней.
— Слушайте, это верно, мисс Петтигрю действительно разговаривала с вами или мне это приснилось?
— Приснилось. — Ответь я иначе, и весь монастырь загудел бы, как разворошенный улей. Рассказать всем, что твердыня мисс Петтигрю впервые дала трещину, было равносильно предательству. Узнай об этом паломники, они бы стали еще больше жалеть ее, но уважения бы поубавилось. Невыносимо было даже думать о том, как они печально покачивают головами над этими сакраментальными словами мисс Петтигрю: «Господь воскрес».
— Но ведь я своими глазами видела, — настаивала девушка, — она только что остановилась около вас.
— Просто ты все время думаешь о мисс Петтигрю, — сказала я. — Оставь ее, беднягу, в покое.
— Беднягу! — повторила девушка. — Насчет бедняги ничего не скажу. И вообще все с ней в порядке. Да, у нее есть глупые средневековые идеи, но это и все.
— С ней ничего не поделаешь, — сказала я.
И все же прошло немного времени, и делать что-то пришлось. Начиная с воскресенья, когда пошла четвертая неделя моего пребывания в аббатстве, мисс Петтигрю перестала появляться в трапезной. Отсутствие ее было замечено только в понедельник вечером.
— Кто-нибудь видел мисс Петтигрю?
— Нет, ее уж два дня как тут нет.
— Может, она в городе?
— Нет, из аббатства она не уходила.
В комнату мисс Петтигрю была направлена депутация с подносом, заставленным тарелками с едой. На стук никто не ответил. Дверь была заперта изнутри на задвижку. Но в тот вечер я слышала, что она бесшумно, как и обычно, ходит по комнате.
На следующее утро, после мессы, она пришла на завтрак с видом отрешенным и понурым, но одета была, как и всегда, аккуратнейшим образом. Она взяла стакан молока, подцепила на хлеборезке поджаренный кусок хлеба и нетвердым шагом направилась к себе в комнату. Когда она не вышла к обеду, кухарка снова поднялась к ней в комнату, и снова запертую на задвижку дверь никто не открыл.
На следующее утро я увидела мисс Петтигрю на мессе, она стояла на коленях немного впереди меня, положив подбородок на требник, словно ей трудно было удерживать голову и шею в вертикальном положении. Выйдя наконец из часовни, она двинулась исключительно медленным шагом, но почти без остановок. Тик-Так бросилась к ней, чтобы помочь сойти со ступенек. Мисс Петтигрю остановилась и посмотрела на нее, кивнув в знак признательности, но явно отклоняя помощь.
В комнате ее ждал врач. Потом я слышала, как он задает ей множество вопросов, всячески в чем-то убеждает, но она просто смотрела словно сквозь него. Подошел аббат в сопровождении нескольких монахов, но она снова заперлась изнутри и, хоть они и соблазняли ее супами и мясным бульоном, дверь открывать отказывалась.
Говорили, будто послали за ее родичами. Говорили, будто нету нее никаких родичей и послать не за кем. Говорили, что она признана невменяемой и ее следует забрать отсюда.
На следующее утро, она, вопреки обыкновению, в семь не встала. Лишь в полдень я различила за стеной какое-то шевеление, затем протяжные звуки медленного подъема и одевания. Какой-то тихий стук — наверное, ботинок выпал из слабых ладоней. Я догадалась, что она наклоняется, вновь пробует натянуть его. Пульс у меня так участился, пока я прислушивалась к этим медленным размеренным движениям, что пришлось выпить транквилизаторов больше, чем обычно. По крыше тяжело и размеренно застучали капли дождя.
«Неврастеники никогда не сходят с ума», — неизменно уверяли меня друзья. А теперь я и сама поняла разницу между неврозом и безумием и, не находя себе места, едва ли не завидовала женщине за стеной и чистому холодному — в границах ее странной мании — здравомыслию ее поступков. Только совершенный безумец, думала я, может сообщить: «Господь воскрес» — и той же непринужденной манере, в какой говорят: «Вас к телефону».
Стук в дверь. Я открыла, все еще дрожа от возбуждения. Это оказалась Дженнифер. Она зашептала, глядя на перегородку, отделяющую меня от мисс Петтигрю:
— Пошли, Глория. Вас просят выйти на полчаса. За ней придут сестры.
— Какие сестры?
— Из психиатрички. И мужчины с каталкой тоже будут. Нас, говорят, не хотят беспокоить.
Видно было, что Дженнифер едва сдерживает себя. По ней все прочитать еще легче, чем по мне. Было нетрудно заметить, что ей очень хочется остаться, послушать, посмотреть из окна, увидеть, что происходит. Меня это возмущало и бесило. С чего это Дженнифер так хочется удовлетворить свое любопытство? Разве не считала она, что все «одинаковы», разве признавала она различие между людьми и предметами, так какое у нее есть право на любопытство? Я — дело иное.
— Я остаюсь, — сказала я обычным голосом, указывающим на то, что у меня нет ни малейшего намерения участвовать в сплетнях. Дженнифер удалилась, в раздражении.
В то время невменяемость была моим злейшим врагом. И вот, в образе невинности и достоинства, свойственных мисс Петтигрю, этого врага, поселившегося в соседней комнате, увозит карета «скорой помощи». Скучать по нему я не буду. Потом мне стало известно, что и Дженнифер, притаившись где-то неподалеку, видела, как карета подъехала к аббатству. Как, впрочем, и большинство его обитателей.
Карета обогнула здание и подъехала к нему сзади. Мое окно выходило на противоположную сторону, но его мне заменили уши. Я услышала женский голос, в ответ раздался голос кого-то из наших священников. Тяжелые шаги, какой-то грохот на ступеньках, незнакомые голоса поднимавшихся по лестнице мужчин.
— Как, говорите, ее зовут?
— Марджори Петтигрю.
Грохот и стуки на лестнице продолжались.
— Ключа нет. Внутри задвижка.
Когда они замолкали, я слышала почти неслышные движения мисс Петтигрю. Она продолжала заниматься каким-то своим делом.
Они постучали в дверь. Я порывисто потянулась к четкам, по которым молилась за мисс Петтигрю. Послышался мужской голос, добродушный, но на редкость громкий:
— Откройте дверь, дорогая. Иначе мы вынуждены будем взломать ее, дорогая.
Она открыла дверь.
— Ну вот и славно, умница, — сказал мужчина. — Как, говорите, ее зовут?
— Марджори Петтигрю, — ответил кто-то из его спутников.
— Ну что ж, Марджори, дорогая, пойдем. Просто следуй за мной, и все будет хорошо. Идем, Марджори.
Должно быть, она повиновалась, хотя ее шагов я не расслышала. А вот грохот тяжелых мужских башмаков вместе со стуком колес так и не понадобившейся каталки был слышен.
— Вот и хорошо, Марджори. Умница.
Внизу что-то проговорила медсестра, а потом все стихло, только карета отъехала.
— Я видела ее! — Это была прачка, та самая, которая была буквально влюблена в мисс Петтигрю. — Должно быть, когда за ней пришли, она причесывалась, — продолжала девушка. — Смотрю, волосы у нее рассыпались, аж до самых плеч, совершенно не похоже на мисс Петтигрю. Она ведь всегда была у нас такая… А тут еще дождь, надеюсь, она не подхватит простуду. Но там ей будет хорошо.
— Там ей будет хорошо, — хором подхватили остальные. — За ней будут ухаживать. Может, вылечат.
Никогда раньше не видела, чтобы все были так участливы друг к другу.
После ужина кто-то сказал:
— А я уважала мисс Петтигрю.
— Я тоже, — откликнулась другая женщина.
— И я.
— С ней будут хорошо обращаться. Эти мужчины — у них добрые голоса.
— Они добра ей желают.
Неожиданно рыжеволосый мужчина сказал то, что на самом деле лежало в основе этого разговора ни о чем.
— А вы слышали, — проговорил он, — что ее называли просто по имени — Марджори?
— О Боже, точно!
— Да-да, мне даже как-то чудно сделалось.
— И мне. Подумать только, ее назвали просто Марджори.
Потом об этом случае почти не говорили. Но на какой-то момент, раздумывая со страхом и горечью о том, что мисс Петтигрю назвали по имени — Марджори, община пришла в себя и объединилась.
СУДЬЯ-ВЕШАТЕЛЬ
© Перевод. У. Сапцина, 2011.
«Вынесение приговора, — писала одна газета, — явно утомило престарелого судью. Он выглядел так, словно узрел привидение». Это замечание было не единственным привлекшим внимание к выражению лица сэра Салливана Стэнли под париком и похоронно-черной шапочкой, обязательной для представителей британского правосудия в те времена. Дело было осенью после чудесного лета 1947 года. Желтые и бурые листья срывались с веток и опадали на дорожки парка.
За всю карьеру судье Стэнли выпало приговорить к смерти нескольких человек — к слову, среди них не было ни единой женщины, но только потому, что среди женщин убийцы встречаются крайне редко. Разумеется, никому и в голову бы не пришло, что Салливан Стэнли, очутись перед ним женщина, постесняется набатным тоном провозгласить, что ее «уведут отсюда… и предадут повешению за шею до смерти» (и добавить, словно спохватившись, «помилуй, Господи, ее душу»).
Мужчина тридцати с небольшим лет, сидящий на скамье подсудимых, был привлекательным и внешне настолько приличным, словно сидел не в зале суда, а переходил улицу возле Олд-Бейли, где и происходил процесс. Этим подсудимым был Джордж Форрестер, обвиняющийся в преступлении, известном слушающей радио и читающей газеты публике под названием «убийства на илистой реке».
Во время слушания дела выражение лица сэра Салливана Стэнли ничем не отличалось от его же выражения в любой другой момент любого другого процесса. Оно неизменно создавало впечатление, что судью раздражает обвиняемый — особенно по одному примечательному делу, когда подсудимому был вынесен обвинительный приговор, но ни его адвокату, ни кому-либо другому так и не удалось убедить упомянутого подсудимого, что вердикт «виновен» или «невиновен» — чистая формальность, а для того чтобы признать чью-либо виновность, можно обойтись и без суда. Но даже в этом случае пресса воздержалась от замечаний о выражении лица судьи. Брыластый, как спаниель, сэр Салливан выглядел на свой возраст и был настолько же раздражительным, каким казался. Однако «на судью, похоже, что-то нашло, — писал другой репортер. — Несомненно, он был потрясен, и не столько в тот момент, когда услышал, как старшина присяжных произносит слово „виновен“, как в тот, когда надел черную шапочку, лежавшую перед ним. Неужели, — выдвигал предположение этот репортер, — судья Стэнли начинает сомневаться в целесообразности смертной казни?»
Салливан Стэнли и не думал сомневаться в чем-либо подобном. Необычное выражение возникло у него на лице в момент вынесения приговора осенним днем 1947 года подругой причине: впервые за годы он ощутил эрекцию, пока говорил; у него случился непроизвольный оргазм.
Говорят, у повешенного в момент падения сама собой возникает эрекция. Судья Стэнли мысленно взвесил эту информацию. Задумался, правда ли это. Как бы там ни было, он не находил никакой связи между этим фактом и собственным опытом вынесения приговора. Но на протяжении месяцев и лет всякий раз, вспоминая об этом случае, он испытывал необъяснимое волнение.
Как было известно всем, убийца Джордж Форрестер остановился в отеле «Розмари-Лаунс» в Северном Лондоне. Именно там он познакомился с последней из своих жертв, тело которой и оставленные преступником улики помогли найти другие трупы. В ходе процесса судье Стэнли пришлось сознательно задавить в себе профессиональную щепетильность, чтобы взглянуть на отель снаружи. Частный, маленький, умеренно дорогой и рафинированный, он, казалось, ничем не заслужил присутствия двух полицейских, дежуривших у входа на протяжении всего процесса, чтобы представители прессы и другие непрошеные гости не досаждали немногочисленным оставшимся постояльцам, которые не сложили вещи и не спаслись бегством сразу же, едва «убийство на илистой реке» попало в газетные заголовки.
На суде показания давал управляющий отеля. Благоприятное впечатление, которое этот представительный тридцатипятилетний мужчина, искренний и прямой, произвел на судью Стэнли, изменялось в обратной пропорциональности к презрению, которое блюститель закона испытывал к подсудимому, Джорджу Форрестеру. Как правило, презрение судьи Стэнли к обвиняемым объяснялось причинами, далекими от представленных следствием фактов. На этот раз дело было в ярко-коричневом, почти оранжевом пиджаке от «Харрис Твид», в который вырядился подсудимый, да еще в его усишках ржаво-каштанового оттенка.
В 1947 году Джорджа Форрестера угораздило убить трех женщин. Ранее судимостей и приводов он не имел. Он был коммивояжером, торговал рыболовными снастями и снаряжением и, по словам его перепуганной и растерянной жены, имел привычку на досуге рыбачить на реках всей страны, там, где оказывался к концу рабочей недели. Все три его жертвы, убитые выстрелами в голову, были найдены в зарослях камыша — там же, где видели самого убийцу с удочкой, в болотных сапогах.
Трех убитых объединяло то, что все они были полнотелыми вдовами средних лет. Джордж Форрестер знакомился с ними в благопристойных отелях средней руки со стандартными расценками. Его целью были драгоценности женщин и содержимое их сумочек, которым он и завладел во всех трех случаях. В результате последнего убийства, миссис Эмили Крати, он предстал перед судом. При расследовании выяснилась любопытная подробность: Джордж Форрестер утверждал, что занимался с миссис Крати сексом, прежде чем ил в густых камышах стал для нее могилой, однако экспертиза не выявила никаких следов полового сношения.
Джордж Форрестер признался, что предложил миссис Крати «съездить на денек порыбачить». В отеле «Розмари-Лаунс» они занимали соседние столики. Это подтверждали управляющий, его жена и несколько постоянных клиентов. Внезапное исчезновение миссис Крати тоже было замечено, и поскольку никто не знал ее родных, о случившемся сообщили в полицию.
В деле миссис Крати убийце пришлось переправлять ее труп — за вычетом ее кольца с внушительным бриллиантом и прочего имущества — из машины к реке в Норфолке, где камыши и берега выглядели понадежнее, чем в столь же уединенном уголке, где жертву прикончили выстрелом в затылок. Две другие женщины были убиты и спрятаны почти таким же образом, но в деле миссис Крати загадкой, объяснения которой так и не сумели дать пытливые умы следователей Англии, казалось то, что худощавый Джордж Форрестер ухитрился перетащить миссис Крати от места убийства до машины, а потом от машины — до могилы в зарослях камыша.
Шумиха вокруг исчезновения трех женщин была уже в разгаре, когда Джордж сам явился в полицию Норфолка с перепачканным илом бюстгальтером солидных размеров и объявил, что выудил его, когда испытывал снасти на водоемах графства. Полиция допросила Джорджа Форрестера, который, согласно объяснениям психологов, «хотел» попасться и действительно попался. Предъявленный в доказательство бюстгальтер Джордж лично приобрел в ближайшем магазине дамского белья и, что любопытно, в точности угадал габариты миссис Крати.
В 1947 году судья Стэнли выслушал все это, подытожил, принял вердикт, вынес приговор — смертная казнь через повешение — и пережил необъяснимый оргазм. С тех пор он часто вспоминал этот день.
Сэру Салливану Стэнли (он был посвящен в рыцари) во время суда над Джорджем Форрестером минуло пятьдесят пять лет. Вскоре после этого в Англии отменили смертную казнь, так что другого случая испытать подобный оргазм почтенному судье не представилось. Леди Стэнли, которая была старше мужа, перевалило за шестьдесят. Эта достойная дама снискала широкую известность благотворительной деятельностью — посещала тюрьмы, входила в комитеты попечителей школ, устраивала бесплатные столовые. Она родила одного сына, ныне юриста с частной практикой. Секс остался для нее в давнем прошлом, а возобновляющиеся приступы ревматизма не позволяли делить с кем-либо ложе.
В то время сэр Салливан часто навещал даму, имеющую некое отношение к юриспруденции и порой составлявшую ему компанию. Леди Стэнли ничего не знала и не желала знать о ее существовании. В связи, если ее можно так назвать, сэра Салливана и Мэри Спайк, дамы, о которой идет речь, было что-то мультяшное. Мэри пробуждала в судье некие смутные чувства, и не более. Леди Стэнли даже на минуту представить себе не могла, что ее муж способен сблизиться с другой женщиной. Она считала, что он слишком напыщен, чтобы снимать брюки в чужом доме, и в этом была почти права.
После смерти леди Стэнли сэр Салливан, которому было уже под семьдесят, продолжал время от времени заглядывать к Мэри Спайк, но исключительно с дружеским визитом. Необычные обстоятельства его сексуального опыта при вынесении приговора Джорджу Форрестеру в самом деле изумили его.
В мыслях он часто возвращался к тому дню, когда испытал оргазм прямо в зале суда. Что стало с этим беспричинным оргазмом? Где он теперь? Словно бабочка летним днем, он вспархивал и улетал, неизменно ускользая от сачка. У судьи даже мелькнула мысль, что перед смертью он мог бы испытать еще один оргазм, повесившись для этой цели. Однако оставалось неясным, объясняется ли феномен эрекции связанными с оргазмом ощущениями человека, шея которого вот-вот сломается, если еще не сломана. И кроме того, сообразил судья, с трудом сдерживая разочарование, упоминание о суициде изрядно подпортит некролог в «Таймс». Не стоит об этом и думать.
После выхода в отставку сэр Салливан некоторое время жил у сына в Хэмпстеде. Но ничего хорошего из этого не вышло. Тогда сэр Салливан решил перебраться в отель, где сдавали комнаты постоянным жильцам, и с волнением обнаружил, что «Розмари-Лаунс» по-прежнему открыт. Вернувшиеся к нему воспоминания о процессе Джорджа Форрестера оказались особенно живыми и яркими.
В тот день, когда судья прибыл, чтобы осмотреть свою будущую комнату, отель «Розмари-Лаунс» блистал свежей краской. Своим названием он был явно обязан соседству с теннисным кортом[14] и лужайке такого же размера, окруженной цветочным бордюром и раскинувшейся по другую сторону посыпанной гравием дорожкой. Начиналась осень, листья срывались с деревьев, окаймляющих улицу. Щебетали школьницы, играющие в теннис.
Сэр Салливан спросил управляющего. В дверях за стойкой портье показалась невысокая фигура. Седые волосы и легкая полнота всего на миг скрыли то, что именно этот человек, истинный владелец отеля, давал показания в суде много лет назад.
— Мистер Роджер Кук? — осведомился судья.
— Да, сэр, это я.
— Добрый день. Я сэр Салливан Стэнли.
— Ваша честь! Сэр Салливан, выглядите вы гораздо моложе своих лет.
— Вы правы, я действительно судья. Знаете, я ведь уже бывал здесь — во время процесса приходил узнать, что да как, если позволителен такой вульгаризм.
— Сэр Салливан, — ответил Роджер Кук, — это время выдалось очень трудным для нас. Все постоянные жильцы съехали. Мы хотели было переименовать отель, но раздумали. Мы особенно признательны вам за упоминание отеля «Розмари-Лаунс» в заключительной речи.
— За какое именно? — уточнил сэр Салливан.
— Вы сказали, что наш отель — в высшей степени респектабельное, чистое и уютное место. И что на состоянии «Розмари-Лаунс» никак не отразилось пребывание здесь обвиняемого и его злосчастной жертвы. Я запомнил слово в слово, — добавил Роджер Кук. — Мы всегда ссылались на вас, когда в те трагические недели давали интервью прессе.
— Да, вы вправе гордиться впечатлением, которое производит ваш отель. Отрадно видеть, что теннисные корты здесь не пустуют.
— В определенные дни мы сдаем их в аренду частной школе, — объяснил Роджер Кук.
— Итак, перейдем к делу, — продолжал сэр Салливан Стэнли, — теперь, когда я вышел в отставку, я подыскиваю себе комфортабельное жилье. Довольно просторную комнату с ванной и телевизором. И конечно, возможность питаться в общей столовой. Если у вас нет общей столовой, боюсь, это меня не устроит. Для меня наличие столовой — обязательное условие.
— Конечно, столовая у нас та же самая, сэр Салливан. В ней все по-прежнему, разве что отделку обновили. Следуйте за мной. Сочту за честь проводить вас.
Он провел гостя в столовую, где столы под розовыми скатертями были накрыты к ужину. На одном из них стоял флакон слабительного, однако о качестве ужина сам по себе свидетельствовать не мог. Роджер Кук показал сэру Салливану меню: суп-пюре с пряностями, баранья грудинка с горошком и картофелем. Сыр — по желанию клиента, за отдельную плату в зависимости от сорта, клубничное или ванильное мороженое. Кофе обычный или без кофеина. Чай по требованию.
Сэр Салливан спросил:
— Какой столик занимал Джордж Форрестер?
— Третий справа у окна, если мне не изменяет память. А бедная миссис Крати — соседний, второй справа. Мы, разумеется, и приемы устраиваем и так далее. Для этого у нас есть вторая столовая.
— Восхитительно смотрится этот столик у окна, — с подчеркнутым безразличием заметил сэр Салливан. — Приятный вид.
Хозяин, несколько озадаченный готовностью старого судьи сидеть на месте убийцы, тем не менее поспешил заверить, что именно этот столик в настоящее время не занят никем из постоянных pensionnaires.[15]
Так сэр Салливан Стэнли заключил выгодное соглашение с отелем и перебрался туда в следующий понедельник. Выйдя к ужину без четверти восемь, он обнаружил, что столовая заполнена на три четверти, и кое-кто из посетителей уже приближается к завершающей стадии трапезы.
За соседним столиком сидела длинношеяя незнакомка средних лет, достигшая стадии кофе.
— Добрый вечер, — поздоровался судья.
Она отозвалась излишне тепло и дружелюбно, словно одобрила этого джентльмена как нечто вроде приза в лотерее «Какой сосед по столику вам достанется».
Официант принес сэру Салливану суп.
Судья обратился к соседке:
— Вы, случайно, не миссис Крати?
— Нет, моя фамилия Мортон. Я напомнила вам кого-то из друзей?
— Не друзей, нет. Просто одного человека.
Сэр Салливан остался доволен обществом соседки. В углу столовой горел огонь в маленьком камине. Уютно. Ему вспомнились школьницы, играющие в теннис возле входа, — вдохновляющая картина. Затем он задумался о Мэри Спайк, своей давней любовнице, и припомнил, как однажды днем, когда он не сумел прийти в состояние боеготовности, она безжалостно высмеяла его: «Старье твоя висюлька! Тоже мне судья-вешатель! Да у тебя самого все висит!»
Судья Стэнли, сидящий за столом покойного Джорджа Форрестера, который носил ярко-коричневый пиджак от «Харрис Твид», посмотрел на свой суп-пюре и попробовал его. Потом перевел на миссис Мортон взгляд, полный безграничного изумления и мечтательной радости, словно узрел желанное привидение.
Миссис Мортон пила кофе и смотрела на него.
ТЕАТР, КОТОРЫЙ НАЗВАЛИ НЕВЕРОЯТНЫМ
© Перевод. Н. Анастасьев, 2011.
На днях я говорила своему другу Луну Биглоу, что собираюсь в Хэмпстед, повидаться кое с кем из литературной публики.
— A-а, из литерной публики, — сказал Лун, потому что именно такое у него было произношение. — A-а, в Хэмпстед! — сказал Лун.
— Ну да, — сказала я. — Прочитаю им рассказ о том, как я восстала после падения.
Луна слегка затрясло. Удивительно: кажется, знаешь человека, а когда он начинает вести себя как-то не так, словно на целине оказываешься.
— В чем дело, Лун? — осведомилась я. Мы сидели в молочном баре и пили кофе, или что это там было.
— Выпей еще кофе, — предложила я.
— Как ты восстала после Грехопадения? — повторил Лун. Ты сказала…
— Нет, нет, — поспешно проговорила я, — с библейским грехопадением это не имеет ничего общего. Просто я так описываю свое приключение, когда я отправилась к тому пределу, откуда не возвращаются, то есть я хочу сказать…
— Стало быть, у тебя есть секрет! — воскликнул Лун.
— Секрет? — удивилась я. — Никакого секрета. Само собой приходит, естественно. Просто дар такой, — скромно добавила я.
Я прикидывала, как бы избавиться от общества Луна. Мне совершенно не нравилось, как он выглядит — вид такой, как будто он безумно меня боится, непонятно почему.
Лун вдруг словно утратил всю свою энергию. Я сказала, что мне пора идти.
— Не уходи, пока не скажешь, как тебе удалось узнать. — Теперь Лун весь притих, съежился.
— Узнала что? — нетерпеливо бросила я. — Лучше скажи, что это ты там пьешь?
— Чай, а может, кофе, — ответил Лун, глядя в чашку, ибо человек он был исключительно правдивый. Что-что, а правду Лун любил всегда.
— Как ты восстала после падения, — сказал Лун. — Должен признать: когда ты сказала это, у меня голова пошла кругом. Впрочем, через день-другой я приду в себя. Только скажи мне, как…
— Эта фраза, — сказала я, — означает скрытое продвижение к головокружительным высотам. Речь идет об искусстве слова.
— Понятно, — протянул Лун. — То есть мне кажется, — добавил он, обдумывая какую-то новую мысль, — что понятно.
— О чем это ты и почему говоришь курсивом? — спросила я.
— Нет, это ты сначала скажи, — подозрительно вымолвил Лун, — о чем это ты говоришь?
— Ничего не происходит, — сказала я загадочно — ибо уже заинтересовалась тем, что у него там в голове крутится.
— А-а, — протянул Лун, — тут все дело в Луне, верно?
— Да, — согласилась я, потому что всегда терпимо относилась к художественной лжи.
Лун с силой втянул в себя какие-то частицы, разлитые в воздухе, затем выдохнул их назад.
— И только? Или что-нибудь еще? — осведомился Лун.
— Хэмпстед, — наугад сказала я, памятуя о том, что с этого слова все и началось.
— Ах да, — сказал Лун. — Что ж, расскажу тебе истинную историю, потому что, кто бы ни поделился с тобой этим секретом, десять против одного, все напутал. Правду ты услышишь от меня.
Перед тем как воспроизвести тут рассказ Луна Биглоу, я должна кое-что рассказать о нем самом. Он из тех друзей, о семье и прошлом которых не знаешь ничего. Мне всегда казалось, что родом он из Ирландии или Чикаго, что-нибудь в этом роде, — из-за имени, довольно странного, — Лун Биглоу. На вид Луну около сорока, сам он себя называет свободным художником, что, судя по всему, означает сочинение какого-нибудь очерка раз в месяц. Удивительно, но я не помню, как и где познакомилась с Луном. Скорее всего это случилось на какой-нибудь вечеринке. Мы знакомы уже лет десять. Нередко я сталкивалась с ним — с невысоким блондином в коричневом костюме — ближе к полудню на Кенсингтон-Хай-стрит. Лицо у него было маленькое, но черты крупные. Приятное лицо. В течение какого-то времени мы, наверное, не будем видеться, потому что сейчас Лун не живет в Лондоне.
Ну а теперь — к истории, которую Лун Биглоу рассказал мне, когда я была поглощена своим падением и распрямлением.
— В свое время я жил в Хэмпстеде, — начал Лун. — Это было сразу после Потопа.
— А разве там был потоп? — удивилась я. — Когда это?
— Потоп, — сказал Лун. — Всемирный. Ной. Слушай и не перебивай, я правду говорю.
— Итак, после Потопа я жил в Хэмпстеде. Конечно, тогда там было совсем иначе, но славное небольшое общество собралось — естественно, задолго до того, как появились эти дикари палеолита. Собрал вокруг себя это общество сын Ноя Хам, отсюда и название — Хэмпстед. Нас было шестеро, — продолжал Лун, — то есть сначала шестеро, потом семь. Разумеется, сначала мы там были совершенными чужаками, но встретили нас очень тепло.
— А откуда вы там появились? — спросила я.
— С Луны, — ответил Лун. — Ты и сама это прекрасно знаешь, так что не перебивай меня неискренними вопросами. Мы явились по собственной доброй воле, когда пали после Восстания, и укоренились в Хэмпстеде, убедившись в том, что это самое цивилизованное место на земном шаре после Потопа. Почти как на Луне — понятно, что и Луна с тех пор переменилась, но я-то ее помню во времена расцвета. Настоящая красавица, там бы жить и жить, и все же мы оставили ее и переехали в Хэмпстед.
Что мне в людях нравится, — продолжал Лун, — так это их такт. Они ни разу не спросили, откуда мы взялись, просто приняли в свое общество. После первых восемнадцати месяцев, когда лед окончательно растопился, мы рассказали им, зачем явились на Землю. Мы попросили мэра Хэмпстеда и его жену пригласить людей в мэрию. Там теперь дом Китса. Я написал речь и выучил ее наизусть. Разумеется, в те поры я был более красноречив, чем ныне. Все еще помню каждое слово. «Друзья, братья и сестры, — говорил я. — Шестеро Братьев Луны приветствуют вас и просят предоставить возможность, нет, честь, обратиться к вашим сердцам, к самым их глубинам. Придет, о братья и сестры, сестры и братья, придет время, когда эти слова ни на чей слух уже не покажутся ни новыми, ни захватывающими. А почему? Разве ваши потомки, в чреде поколений, станут равнодушны к братскому сердечному обращению? Нет. Почему же в таком случае они заткнут уши или издевательски усмехнутся при звуках речи, с которой я обращаюсь к вам сегодня? — а ведь, поверьте слову, так оно и будет. Они назовут ее, друзья мои, пустой риторикой. Бла-бла, лесть, дешевка, уши вянут — вот какие слова найдут они для нее. Мне нет нужды погружаться в циклы рождения, роста, увядания и смерти, что отразились в глубинах вашей философской мысли — „все течет“. То же самое, дорогие мои дети, относится ко всем проявлениям жизни, и если это не заденет ваши нежные сердца, ту несказанную чистоту духа, что я угадываю в вас, позвольте сказать, что и язык ваш тоже находится в ужасном состоянии. Что же касается вашего искусства, то его вообще не существует. Сестры, мы явились с Луны, чтобы научить вас поэзии. Братья, мы здесь, можно сказать, с миссией искусства».
Тут Лун Биглоу замолк и откусил большой кусок сдобной булочки. Нетрудно догадаться, что его рассказ меня несколько поразил. Если вы знакомы с Луном Биглоу, то, безусловно, согласитесь, что человек это правдивый. Даже в том, как он ест булочку, было что-то исключительно честное; она казалась такой же бесспорной, как поведанная им история. Конечно, хотелось расспросить его, но я подумала, что это может его отвлечь. В качестве основной я приняла следующую альтернативу: либо он безумен, либо он не безумен.
— Что было дальше? — спросила я.
— Ну что, что, — ответил Лун, — я закончил речь, пожал руки господам, поцеловал дам и пошел спать.
Видно было, что каким-то образом я задела его.
— И все-таки я хочу знать, что случилось потом, — настаивала я.
— Я не сумасшедший, — сказал Лун и продолжил свой рассказ: — По правде говоря, все население Хэмпстеда вымирало из-за полного непонимания того, чем занять свободное время. У них было только одно развлечение. Вечерами они собирались в местном благотворительном центре, садились на пол и начинали петь. Песня была такая: «тум-тум йя», «тум-тум йя», и так без конца. Все, и ничего больше. Просто «тум-тум йя», весь вечер, пока не обессилят. И так изо дня в день. Естественно, в таких условиях раса начинает вымирать.
Ладно, мы довели до их сознания, что хотим предложить одну очень хорошую вещь. А именно — открыть в Хэмпстеде театр и за совсем небольшую плату давать в нем вечерние представления. Мы предложили показать «Переменную драму Луны». Вот что я им сказал. «Стоит вам увидеть и услышать „Переменную драму Луны“, — сказал я, — и вас, друзья мои, перестанет удовлетворять ваша национальная классика, неизменная „тум-тум йя“. Не то чтобы мы, луняне, не чтили самым глубоким образом классическую традицию. Но вы ведь сами видите, что испытанная временем „тум-тум йя“ уже не способна питать ваши жизненные соки. Сколько молодых людей умерло от болезни, скуки. За последние два года не родилось ни одного ребенка. Друзья мои, — заключил я, — одного только „тум-тум йя“ недостаточно».
У нас нашелся только один оппонент — юный Джонни Хит, заместитель редактора газеты «Тум-тум таймс». Джонни провозгласил лозунг «Хэмпстед для сынов Хама» и по всему городу развесил плакаты с заголовками вроде «Покончим с Луной» и «Защитим наших женщин от балаганщиков». Но Джонни Хита никто не желал слушать — все были на редкость увлечены новым проектом. Мы завладели благотворительным центром и переоборудовали его под большой театр. Сначала мы назвали его Лунным театром, но Джонни Хит сильно разнервничался, и, чтобы успокоить его, мы отказались от этого наименования, ограничившись просто театром.
Премьера имела колоссальный успех. Я должен немного рассказать тебе о том, что представляет собой «Переменная драма Луны».
У артистов Луны был только один главный сюжет — на нем и строилось представление. История реальная. В то время на вершине большой горы на Луне был поющий голос. Пел он не слова, только ноты. На Луне всегда много толковали о том, был то мужской или женский голос, — точно определить очень трудно. Время от времени на поющую гору снаряжались экспедиции с целью определить местопребывание певца. Подходы к поющей горе были усеяны невидимыми кратерами. Никто еще из этих экспедиций не возвращался. Но однажды появилась юная девушка, акробатка и певица по профессии, она научилась подражать голосу. Девушка решила подобрать к музыке слова и отправилась на гору в надежде отыскать источник вдохновения певца. Если удастся понять, где рождается музыка, то и подходящие слова найдутся.
Используя свои акробатические навыки, перепрыгивая с камня на дерево и с дерева на камень, эта Лунная девушка добралась до вершины горы. Все жители этой части Луны слышали, как, взбираясь на гору, она поет, чтобы подбодрить себя, ведь дело происходило ночью. Она пела песню о своем подъеме, о теплых, удивительно пахнущих лесах, о фосфоресцирующих озерах. С приближением к вершине песня слилась с голосом поющей горы, и получился дуэт. Лунная девушка добралась до вершины к рассвету. Неожиданно она замолчала, и слышны остались лишь горные ноты. Люди с волнением ждали, что Лунная девушка подаст хоть какой-то знак, но не доносилось ни звука. К вечеру все надежды иссякли. Люди решили, что ревнивый голос горы убил ее.
Но едва закатилось солнце, как с вершины донесся чей-то крик. Лунная девушка снова запела, и голос ее сливался с мелодией горы в каком-то отчаянном диалоге. Это была удивительная гармония. Девушка повествовала в своей песне о том, как голос горы взял ее в плен. Голос, пела она, лишен телесной оболочки, он обвивал ее и вращающейся спиралью звука прочно прижимал к пику горы. Она не могла сдвинуться ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад, лишь кружилась вместе с голосом горного духа. Наша Лунная девушка все еще там. Каждую ночь, плененная кружащимся голосом, она проделывает на горе пируэты и поет бесконечную песнь протеста, в унисон со своим узником, духом горы. Каждый день с наступлением рассвета она перестает петь, и ее вращающееся тело застывает на месте. В ясные дни люди Луны могут разглядеть ее фигурку, неподвижно стоящую на горном пике, в то время как голос горы издевательски высмеивает ее с высот своей бессловесной музыкой. В конце концов Лунная девушка поведала нам, отчего она не может в дневное время ни звука издать, ни с места сдвинуться. Каждое утро какой-то особенный луч солнца пронизывает ей горло с силою остро отточенного стального лезвия. На весь день она оказывается приколотой к небу, бессильная подать голос или пошевелиться, пока с наступлением ночи это ужасное солнечное лезвие не отпускает ее. Из песни Лунной девушки следует, что именно этот твердый луч солнца и есть источник вдохновения музыкальной горы. И об иных вещах Лунная девушка тоже поет. В своей ночной песне она рассказывает нам, что увидела на поверхности Луны. Как раз Лунная девушка и надоумила нас в своей песне разыграть ее драму на земле.
Во взгляде Луна Биглоу появилась печаль. Его явно захватила история Лунной девушки, и он, похоже, собрался все утро посвятить рассуждениям о чудесной даме.
— А как насчет театра? — вмешалась я. — Ну того, в Хэмпстеде?
— Да-да, — откликнулся Лун, — я как раз спускаюсь на землю.
В общем, — продолжал он, — мы поставили «Переменную драму Луны», основанную на истории Лунной девушки. А Перемена воплощается в словах и музыке, потому что, видишь ли, каждую ночь Лунная девушка поет новую песню. Она накапливает увиденное за день и швыряет всю его песенную тяжесть в стены голоса, что держит ее в заключении.
Словом, мы разыграли ее историю, изобразили ее подъем на гору — в танце и песне. Мы воспроизвели ее переливчатый диалог с горой, угнетая невидимый голос при помощи всего, что только есть под солнцем, — мы перевели на человеческий язык отливающие голубизной соленые берега лунных озер; мы сатирически изобразили земные приливы и меняющиеся, согласно временам года, вехи на Хэмпстедской пустоши; мы даже нашего супостата Джонни Хита положили на музыку, чтобы испытать его и умиротворить похвалами его уму и образованности. Впрочем, на него это не произвело особого впечатления. Оформлена сцена была потрясающе. Коль скоро в декорациях мы следовали формам и краскам Луны, для всех это было зрелище невиданное.
Да что там говорить, никто вообще не видел прежде ничего подобного нашему театральному представлению. Успех был ошеломляющий. Пришлось даже расширить помещение, ведь театр стал чем-то вроде общественного центра. «Невероятное представление, — говорили все. — Совершенно невероятное». Под таким именем — Невероятный — он, между прочим, и стал известен. Люди уславливались встретиться в Невероятном, а нас, шестерых Лунных Братьев, стали называть молодыми невероятными. В людей Хэмпстеда вселился новый дух. Они не только до безумия влюбились в Лунную девушку, чью историю и чью переменчивую песню мы каждый вечер разыгрывали на сцене, они и друг друга стали больше любить. Молодежь хэмпстедской общины перестала умирать в юном возрасте; начали снова открываться родильные дома; каждый вечер в Невероятном был аншлаг.
Что касается меня, то я был влюблен в Долорес, дочь хэмпстедского мэра. Девушек мы с собой не взяли, потому что Земля была не приспособлена для лунных женщин. Так что пришлось на роль Лунной девушки взять Долорес, и исполняла она ее весьма натурально. Разумеется, нравилась Долорес всем нам шестерым, но в конце концов привязалась она ко мне.
Дело происходило через пять лет после открытия Невероятного. Тогда умер отец Долорес, мэр, и, к большому нашему неудовольствию, место его занял Джонни Хит. Конечно, «Тум-тум таймс» выходить уже перестала, но Джонни набрал очки на планах подъема общественного благосостояния, что стало возможным благодаря общему оживлению общины. Он становился весьма влиятельной фигурой.
Мы задумали освоить новый род деятельности и открыть нечто вроде академии искусств. Быть может, ничего бы у нас не вышло, но резоны наши были вполне резонными. Ведь хотя представлениям Невероятного по-прежнему сопутствовал шумный успех, самих зрителей хоть как-то приобщить к нашему искусству, в любых его формах, не удавалось. Не было в Хэмпстеде ни поэтов, ни живописцев, ни музыкантов. Все сходились на том, что искусство — это лунное дело; и заниматься им могут лишь молодые невероятные. Когда мы указывали на то, что Долорес отлично играет роль Лунной девушки, нам отвечали, что в известной степени она и сама — урожденная Лунная девушка. Может, так оно и было. С нашим академическим проектом мы так толком и не продвинулись, а через несколько месяцев после того как Джонни Хит стал мэром, трудности стал испытывать и театр, который назвали Невероятным. Каким-то образом Джонни удалось внести в жизнь Хэмпстеда долю скепсиса (между прочим, именно один из его потомков основал лондонскую Школу экономики).
Он развернул против нас целую кампанию. Приходилось заполнять анкеты по поводу нашего происхождения. Приходилось заполнять гигантские вопросники, чтобы получить лицензию на право ведения театра.
На том основании, что родились мы не на Земле, а также в силу отсутствия свидетельств существования жизни на Луне Джонни пытался доказать, что нас вообще нет. Он направил нам официальную ноту, возражая против того, как мы описываем наш театр. Для него неприемлема, писал он, фраза «известный как Невероятный», и далее указывал, что поскольку слово — «Театр» — существительное, а «Невероятный» — прилагательное, два эти слова не могут означать один и тот же объект.
Тянулся год, и вместе с ним тянулась утомительная кампания Джонни. Тон ее становился все более и более решительным. Джонни призывал полицию к бдительности, и нас часто штрафовали за малейшие нарушения. В общем, Джонни взял верх. Наступил день, когда мы дали наш последний спектакль. Это случилось в феврале, через семь лет после премьеры. Люди были очень разочарованы, но Джонни так поработал, что они боялись выразить протест. Мы решили взять с собой на Луну Долорес, ну, обычным, понимаешь, путем.
— Что это за путь такой? — вскинулась я.
— Не перебивай, — сказал Лун. — К тому же ты знаешь путь на Луну. Ты ведь сама мне сказала, что Восстаешь после Падения!
— Слушай, — обреченно вымолвила я, — мне ничего не известно о том, как попасть на Луну. Разговоров о космических кораблях много, но какое они имеют отношение к Восстанию?..
— Изрядное, — заметил Лун, — изрядное.
Наверное, лучше сразу сказать, что в том, что касается достижения Луны, больше ничего я от Луна Биглоу не услышала. Ясно, что оно как-то связано с восстанием и падением, но это и все. Однако же надо досказать рассказ до конца.
— В тот вечер, который считал своим последним вечером на Земле, — продолжал Лун, — я пошел прогуляться по Хэмпстедской пустоши. В последний раз закрыли мы двери в Невероятный и изготовились к последнему Восстанию нашего Падения. Долорес должна была отправиться с нами. Уезжать нам было и жалко, и радостно. Печально было покидать Хэмпстед, но и место, и люди переменились — под воздействием Джонни, а в большой степени, за последние семь лет, и под нашим воздействием.
Раздумывая обо всем этом, я уже повернул назад, к тому месту, где мы жили и где я условился встретиться с Долорес, когда справа послышался странный звук.
Я повернул в ту сторону и вскоре догадался, что за большим валуном собралась группа людей. Вскоре я понял, что это за звук: эти люди хором распевали старый припев. «Тум-тум йя, тум-тум йя». Я подкрался к валуну, осторожно выглянул и тут же подался назад, настолько потрясло и испугало меня, до жути, увиденное.
Перед тем как рассказать, что именно я увидел, следует заметить, что с недавнего времени Джонни Хит возобновил издание «Тум-тум таймс». Одна из колонок была посвящена возврату к тому, что именовалось то «изначальной чистотой наших нравов», то «чистотой наших изначальных нравов», то «нравами нашей изначальной чистоты». Я об этом особо не задумывался, поскольку идеи Джонни всегда отдавали некоторой завиральностью. Но однажды я случайно проглядел эту колонку и обнаружил в ней упоминание некоей организации, которая, как говорилось в газете, обеспечивала «выход самым чистым нашим первоначальным чувствам в их классическом выражении». Прочитав эти строки, я вздрогнул, но больше не думал об этом.
А через некоторое время, после случая на Хэмпстедской пустоши, они мне вспомнились. И вот теперь, — продолжал Лун Биглоу, — я могу рассказать тебе, что я там увидел.
Группа молодых мужчин и женщин, хорошо мне знакомых, а многие даже были близкими друзьями, расселись, скрестив ноги, вокруг каменной плиты. При свете луны я увидел, как, возглавляемые Джонни Хитом, они хлопают в ладоши в такт «тум-тум йя, тум-тум йя». А на плите, внутри круга, лежало тело мертвой Долорес, с ножом в горле. На шее запеклась кровь — там, где она сначала текла, а потом перестала течь.
Потом я заметил двух своих Лунных Братьев. Они наблюдали за происходящим с противоположной стороны, потом крадучись подошли к тому месту, где стоял я, и, взявшись за руки, мы бросились домой.
Пятеро лунных братьев тайно покинули Землю той же ночью. Ну а я — я не мог взглянуть в лицо Луне без Долорес. Я чувствовал, что должен остаться на Земле и умереть там, где умерла она.
Из Хэмпстеда, разумеется, я уехал.
Странность, однако, заключается в том, что в конечном итоге наша миссия отнюдь не стала провалом. Культ «тум-тум йя» возродился ненадолго. Время от времени он напоминает о себе то здесь, то там, ведь такие вещи распространяются. Но уже вскоре отсутствие «Переменной драмы Луны» начало ощущаться. Чувство утраты породило сильнейшее волнение человеческого духа. На Земле появилась раса художников, стремящаяся воплотить утраченную драму Луны. Спустя много лет после того, как завсегдатаи старого театра невероятных умерли и были забыты, легенда возродилась; а спустя много лет после того, как забыли легенду, возродилось чувство утраты.
Так и получается, — сказал Лун Биглоу. — Всякий раз, когда движение «тум-тум йя» обретало под собой почву, а душами людей начинало овладевать единомыслие и страх, поднимались художники и провозглашали ценность невероятных вещей, которых так не хватает Земле.
И так получается, — сказал Лун Биглоу, — что своей литературой, своими симфониями, своими старыми мастерами и своими новыми мастерами вы обязаны Шестерым Лунным Братьям и Долорес. В общем-то хорошо, что нам пришлось уйти. Иначе нам бы никогда не заставить вас крутиться самим.
Тебе и твоим литерным друзьям, — сказал Лун Биглоу, — следует знать, как все обстоит на самом деле — то есть так, как я тебе рассказал. И если когда-нибудь тебе доведется написать приличное стихотворение или рассказ, то случится это не благодаря тому, что у тебя имеется в этом мире, но благодаря тому невероятному, которого у тебя нет. Время от времени всегда возникает жажда Невероятного — просто потому, что мы закрыли двери театра, который назвали невероятным, и потому что молодые невероятные ушли домой, и потому что ничего уж не осталось невероятного под навестившей вас Луной.
СТО ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ШОФЕРА
© Перевод. Т. Кудрявцева, 2011.
Бабушки, прадедушки и все предки. Не забудьте: они прожили обычные жизни, болели, ходили на работу, болтали, хлопотали, занимались сексом — целыми днями и целыми ночами, пока было желание и возможность. Я не вижу оснований распускать из-за них нюни. Они же не распускали нюни из-за нас. Они думали — если хотели и могли — о будущем, о грядущих поколениях, но, конечно, в самых общих чертах, что естественно.
Когда они писали мемуары и письма, мы знали, что это не все. Когда от них остались только фотографии и несколько приписываемых им высказываний и привычек, мы еще меньше знали их историю. У нас есть их свидетельства о рождении и браке и надгробия возле церкви — как в случае с моими предками.
Когда надо было представить фотографии моему биографу Джо, оказалось, что их совсем мало. Я не просматривала их по крайней мере лет двадцать. Они были засунуты в ящик в пустой спальне вместе с крошечной музыкальной шкатулочкой (которая, если ее завести, все еще играла бренчащую мелодию), несколькими старыми бобинами черной шерсти, оловянной коробочкой венецианских карандашей (неиспользованных — очень ценная находка). Там лежал также кусок камня из античных раскопок, но каких?
Я вынула фотографии и разложила на столе. И это все? Я могла поклясться, что их было больше. Собственно, я знала, что их больше. Где же они? Люди — даже друзья — уносят твои вещи. Но главным предметом их приобретения являются книги. Гости уходят с книгами из комнаты для гостей, но не с фотографиями, старыми фотографиями унылых людей со скромными средствами.
Я стала смотреть фотографии — одну за другой, чтобы убедиться, что я не сплю. Там была Глэдис — жена Джима, дяди моей матери. Джим сидел, положив руку на колено, живот его пересекала часовая цепочка, а рядом стояла Глэдис, положив руку ему на плечо. Рядом с Глэдис находилась стойка фотографа — колонка, увенчанная букетом цветов. Дата — около 1860 года.
Затем Мэри-Энн, Нэнси, Мод и моя прабабушка Сара Роуботтом, которая прожила до ста пяти лет, а здесь, уже в шестьдесят пять, демонстрирует такую возможность. Они в своих лучших платьях, стадиями, стянутыми корсетом, выступающими бюстами, как называли тогда груди, множеством кружев и всегда с медальоном, свисающим с шеи, в котором хранились бог знает чьи фотографии, чьи пряди волос. У Мэри-Энн, которая первой вышла замуж, черная брошь на груди. Волосы у всех взбиты, как и положено. Представительницы нижнего слоя среднего класса, надеявшиеся взобраться повыше. Это были зерноторговцы, работавшие вполне сносно.
Сейчас они лежат на кладбище Викарейдж-Роуд, в Уотфорде, — все. На их могилах стоят два памятника — «Горячо оплакиваемым».
Я рассказала про них Джо и добавила то, что знала о традициях семьи.
Затем шла моя мать, родившаяся сто одиннадцать лет назад, умершая двадцать семь лет назад. И кузина, чье имя я не могу припомнить, но знаю, что она была очень амбициозной. Увы, ее амбиции так и остались нереализованными, а она хотела иметь «роллс-ройс» с шофером, который возил бы ее из магазина в магазин. Эта кузина… как же ее звали? Ну, словом, она стала миссис Хендерсон, женой бухгалтера, и однажды даже съездила на «Золотой стреле» в Париж. Без «роллс-ройса», без шофера.
Но было и другое фото миссис Хендерсон — то, которое я так хорошо помнила, потому что оно было очень нетипичным, неформальным, где она стояла возле своей швейной машины. Она стояла в профиль, слегка наклонясь, тоненькая и красивая. Кто-то с фотоаппаратом застал ее рассматривающей бобину любимой ею машины «Зингер» с ножным приводом. Что-то было не так с машиной, и миссис Хендерсон — как же ее имя? — напряженно разглядывала ее. Чарующая фотография. Куда-то она исчезла. Кто-то ее забрал.
Я вспомнила теперь: то же произошло и с несколькими другими. Моя бабушка по отцу, еврейка из Литвы, очень светлая и похожая на польку, со взбитыми волнистыми волосами, ничуть не похожая на еврейку — не то что мой дедушка с его очаровательной улыбкой в бороду, — он был так похож на моего отца, который, однако, был всегда выбрит. Не было и прелестной фотографии моей бабушки Генриетты. Я хорошо помнила ее на фотографии, хотя никогда не видела в жизни. Я помнила широко расставленные глаза, очень похожие на мои. Голубые глаза. Куда она исчезла?
Я думала обо всех, кто спал в гостевой комнате, и о тех, кто был неподалеку. О десятках, накопившихся за долгие годы, друзей. Кому интересны эти ничего не значащие фотографии? Поскольку я писательница, журналисты частенько добывали мои фотографии без разрешения, но кому нужны эти викторианские и эдвардианские снимки, не имеющие художественной ценности?
Я сосредоточила свое внимание на пачке оставшихся фотографий. Они были неплохо подобраны, чтобы проиллюстрировать мое происхождение и в некоторых случаях мои воспоминания. Я передала их Джо и убрала остальные. Мне надо было подумать о другом.
Дамиан де Догерти — о Господи, я пять лет не думала о нем. Когда-то он заботился о том, чтобы я думала о нем каждый месяц, если не каждый день. В то время я жила в Париже.
Согласно его рассказам — или, вернее, одному из его рассказов, — его семья происходила из ирландских гугенотов, бежавших во Францию; члены семьи состояли потом на службе у Марии-Терезии Австрийской, которая пожаловала им сан принца. Будучи людьми скромными, они согласились быть просто баронами, и он, последний оставшийся в живых член семьи, звался бароном Дамианом де Догерти.
Дамиан, должна сказать, был презабавным человеком. То есть он был забавным за обеденным столом и менее забавным во всех других местах. Он был положительным нудотой на пляже — он мог вдруг уйти, кем бы ни был его компаньон (а он был любителем не только противоположного пола), и отдать свое хорошее стройное тело странным богам, которые появляются из сверкающего моря.
Одной из многих, характерных для него любопытных особенностей была привычка неожиданно засыпать. По-моему, это называется нарколепсией. Это могло произойти на спокойной встрече друзей, скромно выпивавших, сидя за столом; это могло произойти в библиотеке, где он делал выписки из книги (он любил учиться), или когда он сидел рядом с вами на диване. Внезапно он засыпал. Это был вполне здоровый сон, и со временем друзья перестали волноваться. Мне эта его особенность всегда представлялась реакцией на реальность — все происходило в один миг. Я считала, когда он сталкивался с чем-то неприемлемым, он просто выключался. Я по-прежнему думаю, что его сон — по крайней мере частично — объяснялся психологическими проблемами.
В начале знакомства с Дамианом я принимала его историю за чистую монету. На конвертах писем я писала: барону де Догерти, как ни странно это звучало. Его имя не значилось ни в одном из справочников титулованных особ и старых европейских семей, хотя он утверждал, что где-то числится. Эта информация, которой я не искала, так и осталась не проверенной мной. Согласно тем, кто знал его несколько лет назад, он был женат на богатой девушке-перуанке. Но пути их разошлись. Говорили, что она — талантливый фотограф, все еще практикующий в Париже. Я восприняла этот факт не раздумывая — лишь впоследствии у меня появилась причина вспомнить об этом.
А он некоторое время занимался генеалогией. Я знала, что у него много французских и итальянских друзей. Некоторые из последних пришли в восторг, узнав, что Дамиан «обнаружил» их благородное происхождение. Они могли теперь тоже именовать себя «баронами».
Я пыталась выяснить, кто он в действительности, но через некоторое время поняла, что он — просто никто. Он был действительно настоящей фальшивкой.
Я полагаю, Дамиан в значительной степени верил своим историям. Он пытался написать автобиографию, поэтому, я думаю, и старался сблизиться со мной.
— Я дошел до того места, когда моя тетя графиня Клементина де Be вей приехала в Швейцарию навестить меня в школе.
— Я считала, что вы ходили в школу в Солт-Лейк-Сити, — сказала я, получив такую информацию от одной из его соучениц.
— О, это было раньше.
Взяв на себя роль литературного советчика, я предложила ему превратить свою автобиографию в роман. Он принял мое предложение.
Другой странный факт: все любили общаться с Дамианом, пока он был жив: его приглашали на уик-энды, на обеды и просто на пикники на природе, однако, несмотря на его популярность и силу обаяния, когда он умер, о нем никто не горевал. Он был тут, он вызывал у нас улыбки, никто не верил ни единому его слову, а потом его не стало.
* * *
Вскоре после его смерти я зашла в книжный магазин в Генте и стала просматривать старые фотографии. Мне попалась стопка фотографий — все они были в изящных рамках.
— Люди покупают их, — пояснил мне владелец магазина, — именно ради рамок. Но я лично, — сказал он, — нахожу и фотографии очень привлекательными. Очень ностальгическими.
А я обнаружила, что смотрю на свою бабушку, на моих пратеток Нэнси и Салли. Была тут и Мэри-Энн. И высокая и самоуверенная Сара Роуботтом. И Глэдис с королевским шарфом через плечо.
Но это не были выцветшие фотографии. Они были более яркие, с попыткой наложить своего рода золотисто-коричневатую дымку.
— Откуда эти фотографии? — спросила я.
— Я купил их в Англии, — сказал владелец магазина. — В одном доме шла распродажа, и они приглянулись мне.
Что-то было не так с моей бабушкой. Бог мой, на голове у нее была тиара, а на шее, несомненно, орден Золотого Руна — пышное ожерелье, с которого свисала баранья шкура. Так же выглядела и моя пратетка Нэнси. Исчез ее медальон черного дерева, а вместо него красовалась медаль, которую впоследствии определили как орден Черного Орла — прусский орден, даваемый только членам королевских семейств. Мои скромные родственницы — одна за другой — были облагорожены орденами и подвязками, нитками жемчуга (у моей бабушки Генриетты было семь нитей), тиарами с драгоценными камнями. У моего прадяди Джима появился маньчжурский орден Дракона на груди.
— Кто эти люди? — спросила я.
— О, это благородные родственники покойного барона де Догерти, — сказал владелец магазина. — Эти фотографии висели на стенах в его кабинете. Не представляют большого интереса, если не считать рамки. У него, конечно, была очень хорошая родня, так что, возможно, историки…
Я купила фотографии без рамок за слишком высокую цену, хотя владелец считал ее слишком низкой, что всегда происходит.
После изучения снимков экспертом по фотографии и сравнения их с теми, что не были украдены, стало ясно, что они были перефотографированы с поддельными знаками отличия. Он все же кое-чему научился от своей супруги — перуанского фотографа. На этих фотографиях было все, ради чего он жил: орден Генриха Льва, орден Звездного Креста, даже орден Красного Флага.
Я люблю эти фальшивые снимки, — люблю их все. Но мой любимый — тот, где кузина моей матери стройная миссис Хендерсон, снятая в профиль, разглядывает, нагнувшись, не свою швейную машину, а входит в «роллс-ройс». И у дверцы стоит шофер — так наконец исполнилась мечта всей ее жизни.
Примечания
1
Приданое (фр.).
(обратно)2
Либриум — успокоительное лекарство.
(обратно)3
Пер. Г. Кружкова.
(обратно)4
«Двор прощаний» (фр.).
(обратно)5
Всем миром в бой! (фр.).
(обратно)6
Стихи Алана Сигера.
(обратно)7
Пер. М. Зенкевича.
(обратно)8
Любимая (нем.).
(обратно)9
Роман-дневник Райнера Марии Рильке (1910).
(обратно)10
Популярный лондонский мюзик-холл в Лондоне 1890-х годов.
(обратно)11
Этот рассказ, написанный в 1989 году, является продолжением рассказа «Дочери своих отцов»,[16] 1959 год. — Примеч. авт.
(обратно)12
У мамочки (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)13
Непередаваемая при переводе игра слов: Марк может означать «пометьте», а Леттер — «письмо».
(обратно)14
Лаунс (англ. lawns) — спортивная площадка с травяным покрытием.
(обратно)15
Пансионеры, постояльцы (фр.).
(обратно)16
Рассказ «Дочери своих отцов» опубликован в сборнике изд-ва «Астрель» «Портобелло-роуд».
(обратно)


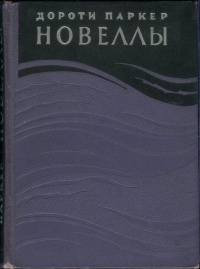
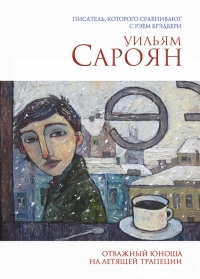
Комментарии к книге «Жемчужная Тень», Мюриэл Спарк
Всего 0 комментариев