Орцион Бартана Купить зимнее время в Цфате. Рассказы
Символика, витающая над реальностью
Уже много лет я внимательно слежу за творчеством Орциона Бартана. Каждое произведение писателя, будь то сборник стихов, книга прозы, критическая статья, становится заметным явлением израильской литературы. Особое место в его творчестве занимают исследования современной ивритской литературы различных направлений, которые смело можно назвать этапными в определении принципов развития ивритской словесности.
Но Бартана прежде всего рассказчик, своеобразный, не вписывающийся ни в одно из общепринятых направлений. И менее всего – в достаточно распространенный в израильской прозе реализм, затрудняюсь сказать, критический или социалистический, реализм с признаками провинциальной психологии, считавшейся новшеством во времена Чехова.
Бартана в своей книге «Восьмидесятые» обозначил ряд писателей, которые, по его мнению, могли бы вытянуть нас из «реалистического болота», таких, как Давид Шахар, Ицхак Авербух-Орпаз, Иорам Канюк. Но беда в том, что позднее часть этих новаторов вернулась в теплое и приятное лоно реализма, забыв свою авангардистскую юность.
Бартана же прокладывает свой собственный путь в жанре новеллы и короткого рассказа, забытого в последние десятилетия.
Бартана сумел ввести материю символизма и фантазии в традиционный мир современной ивритской литературы так, чтобы это не выглядело бледным подражанием научной фантастике со всеми ограничениями жанра.
Рассказы книги «Купить зимнее время в Цфате» (в оригинале – «Красное и другие рассказы». Прим. пер.) ударяют тебя, подобно молоту. Описывают ли они проблему отцов и детей («Я, Цидкияу») или исследуют сложнейшие нюансы отношений между мужчиной и женщиной («Красное») – одна из главных тем рассказов – взросление, шок от раскрытия окружающего мира людей, перипетии молодых пар, любовников на час…
Реакцией на мир, несущий в себе апокалипсическую угрозу истребления человечества, является рассказ «Эдна строит ковчег».
Мир рассказов ограничен стенами, вмешен в достаточно узкое пространство. Это мир домашний с явными признаками клаустрофобии, но он символичен и фантастичен. Именно в напряжении между провинциальностью и лихорадочно витающим в иных мирах сознанием рассказчика, каждый раз нового, и скрыта сила воздействия на читателя.
В рассказе «Один зарезанный гусь» изображен герой, который должен был умереть ребенком и случайно остался жить, благодаря ошибке опекавших его ангелов. Он заходит на рынок, чтобы купить мясо для пикника в День Независимости Израиля, и вдруг его охватывает странное и неотступное желание купить живого гуся у резников. Они же ни за что не хотят продать ему живого гуся. По их жизненному правилу из этого места не может выйти живой гусь. Подспудно, не отдавая себе отчета, герой смутно ощущает собственную судьбу, глядя на гуся в клетке, предназначенного на забой.
Так в каждом рассказе скрыт некий высокий символ, опрокидывающий обыденность окружающей жизни. Иногда этот символ взят из Священного Писания, как царь Цидкияу и стены Иерусалима, Ноев Ковчег. Иногда это простой предмет, животное или птица, обретающие странную мощь, некое новое измерение. Будь то гусь, черепаха в коробке от обуви на подоконнике, цирковая трапеция акробатов, электрическая плитка, пылающая красной накаленной спиралью в темной комнате, квартира, заполненная водой. Все эти символы, как темнота, обрисовывающая фигуру, возникающую в свете фонарика или уличного фонаря, выделяют облик самого рассказчика, его неопровержимое существование. Это тоже герой, которого заедает обыденность, лишает его сил, а порой и желания жить. Поэтому он каждый миг ожидает, ищет освобождения, которое придет неизвестно откуда, и беспрерывно удивляется загадке законов жизни.
Находясь на грани земного и небесного, герои Орциона Бартана не хотят идти на компромисс с понятием «случайности». Они ищут закономерность во всем: в рождении, каждодневном существовании, смерти, а быть может и бессмертии.
Надеюсь, русскоязычный читатель по достоинству оценит и поймет страстный, фантасмагоричный – но до боли понятный каждому, кто знаком с рассказами Чехова, Платонова, Казакова, кто живет в реалиях повседневности мегаполисов – Тель-Авив и его жителей, увиденных проницательным взглядом Орциона Бартана.
Ран Ягил
Вырастить черепаху
В тот полдень, когда я вернулся к машине, у меня все еще болело ухо. И болело сильно. Несмотря на то, что прошло уже несколько дней. Нет ничего особенного в том, что тебе воткнули в ухо палочку, даже если это палочка хрустика из соленого теста. Когда она вошла в мое ухо в пятницу, в танцевальном подвале небольшого клуба в заднем дворе дома на улице Райнес в Тель-Авиве, со всей силой, с которой можно впихнуть ее в ухо, прямо внутрь правого уха, весь мир замер. Мир заледенел от боли и не сдвинулся даже тогда, когда хрустик застрял в ушном канале и сломался. Но мне было двадцать, и я простил ей. Я лишь убедился, что кровь из уха не течет, приложив к нему платок, смоченный водой в туалете, до того узком, что я не смог прикрыть дверь, упершуюся в мою ногу, вышел, закусив губы от боли, но улыбаясь, и пошел провожать ее до дома, вернее, до комнатки в цокольном этаже, которую она снимает у госпожи Пенцовски, на улице Раши, – вход со двора. Мне было двадцать и, обнимая, я старался прижать ее к моему лицу со стороны здорового уха. Это было там, во дворе, у двери, к которой была прикреплена бумажка с криво начертанным карандашом именем «Мэри». Эти несколько небрежно вдавленных в клочок бумаги букв так не подходили к ее черной в обтяжку юбке и черным туфлям, поблескивающем на песке, подсвеченном лунным светом. «Нет у меня желания», – сказала она, как бы не желая разговаривать у двери, рядом с мусорным баком, прислоненным к забору, под ярким огромным оранжевым месяцем, наискось лежащим над задним двором, в проеме между домами, сосредоточенным в себе, почти галопирующим на хребте этого двора, заливающим песок своим сиянием. Море песка под сиянием, переливающееся через край во двор.
«Нет у меня сегодня желания» – повторила она, как бы извиняясь и опуская черную вуаль на лицо, ушедшее совсем в тень, черное пятно во дворе, освещенном лунным светом, под тополем, возвышающимся серой громадой, неким темным знаком около груды пустых ящиков у входа в ее комнату. Так она сказала, словно бы это был еще один вечер, проведенный нами вместе, обычный в череде двух недель, в течение которых мы встречались. После этих слов я мог с ней больше не встречаться, но вернулся к ней через несколько дней. Заткнул ухо ватным тампоном, впихнув его поглубже, чтобы не было видно, довольствуясь лишь одним ухом и обещанием врача, что со временем слух в раненом ухе полностью восстановится, когда залечится рана снаружи, и вернулся в съемную квартиру Мэри. В комнату вел неосвещенный коридорчик, отделяющий ее от остальной части дома. Несмотря на предобеденный час зимнего ясного дня, в комнате царил густой полумрак, и можно было видеть лишь то, что едва обозначалось слабым светом из-за белой простыни, играющей роль занавески на единственном в комнате окне, напротив стены, у которой стояла кровать на железных ножках, аккуратно покрытая бежевым одеялом, натянутость которого лишь подчеркивали подоткнутые рваные края и впадину в форме тела посредине. Очевидно, она только поднялась с постели открыть мне дверь и вернулась в эту свою впадину после того, как закрыла дверь и положила ключ на полочку над кроватью, рядом с недопитой чашкой кофе и пирогом, крошки которого были рассыпаны на подносе и даже на бежевом одеяле. На него уселся и я, рядом с ней, по ее просьбе, ибо единственный ученический стул был завален книгами, на которые были брошены ее трусики. Недолго мы так сидели, ибо она потянула меня на себя, и я замер, прижавшись к ней и слушая постукивание капель из крана о груду немытых тарелок в раковине, играющей роль кухни между вешалкой с ее платьями и стопкой книг. Я переменил положение, чтобы укрыть больное ухо в месте слияния белой шеи с мягким плечом. Но плечо это пожелало удержать меня от стремления подняться к окну, открыть его и дать полдневному свету войти в комнату. И тут я подумал, что хозяйка этих плеч на миг оставила меня. Но она сползла с постели на пол, к моим ногам, чтоб развязать шнурки моих ботинок. Развязывая их одной рукой, другой продолжала разглаживать бежевое одеяло, поправлять, уткнув голову мне в живот и сползая все ниже и ниже. Но ухо продолжало болеть и после того, как мы голыми напряженно двигались в ритме танго под звуки пластинки в тридцать три оборота, которую она решила поставить на громоздкий проигрыватель, стоящий на не менее громоздком радиоприемнике на полу, особенно выделяющемся в этой комнатке два на три метра, по которой она двигалась и возвращалась, длинноволосая, с тонкими сжатыми губами над двумя небольшими холмиками узкой груди, над двумя светлыми пуговичками сосков, так похожих на два светлых глаза, явно не выражающих влечение. И живот ее светился тонкими мягкими волосами в белесой темени паха. И ноги ее голые, длинные, делали шаг ко мне и отступали на шаг, когда она вела меня от стены до стены в танце, поворачиваясь впритык к раковине и – обратно – у небольшого экрана старого телевизора, по которому бежали серые и белые размытые линии да какое-то цветное пятно время от времени проскакивало, окрашивая на миг зеленую пустыню или доброе бледное лицо женщины. Как и ее лицо, которое являло лишь незначительную деталь в ее образе, некий желтоватый шар, опущенный долу, над стройной колонной ее тела, ведущего меня в танце, трущегося об меня, возбуждающегося и смущенного, и вновь ее лицо в повороте танго, в полумраке, между тарелкой с едой, оставленной у кровати, рядом с раскрытой книгой и только стремительность ее и сноровка не позволяла мне споткнуться об ее ноги, не поскользнуться и не сбить полки с книгами у остальных двух стен комнаты.
К чему такое количество книг ей, недавно приехавшей сюда и вскоре покидающей этой место, да и откуда столько книг? Но когда голыми танцуют танго, тяжесть в больном ухе невероятно увеличивается, поди, объясни ей это, когда она ожидает от тебя лишь точности движения в танце, и хрустик, воткнутый ею тогда мне в ухо, вовсе не причина оскандалиться в танго. Тот хрустик в ухо она воткнула просто в шутку, так сказала она, для смеха, чтобы я лучше прислушивался к тому, что она говорит во время танца, в клубе, и она рассказывала мне о своем отце в Йоханнесбурге, возящемся с электрическими проводами в кухне, которую он превратил в лабораторию. «Прекрати, говорила она, оглядываться на своего друга Давида в то время, когда я с тобой. Даже если он твой лучший друг и хочет показать тебе что-то интересное в этом маленьком клубе, я здесь гостья, ты меня принимаешь, так делай это красиво, улыбайся мне, гляди, не отрываясь, на меня, танцуй со мной, только со мной, а то возьму вот хрустик соленый с тарелки на низком столике и воткну со всей силой тебе в ухо». И она продолжала рассказывать мне о своем отце, работающем ночи напролет в кухне, превращенной им в лабораторию для опытов с электричеством: натягивает провода, по которым пропускает ток, под ногами валяются мотки проводов, потом извлекает из шкафа бутылку и напивается, жует тонкие ломти розовой колбасы и все пьет и пьет джин, и коньяк, и просто вино, все, что под рукой, пока не падает на эти мотки, на тонкие железные стержни, на пол, чтобы доползти до кровати, к матери, которая уже давно спит, и она просыпается и начинает на него кричать, зная, что это не поможет, и вытирает кровь с его оцарапанного лица. Не помогает и это, и она вместе с матерью волокут его в ванную, раздевают, обливают холодной водой, приводящей в чувство, но не смывающей с него запах алкоголя, который, кстати, она любит. Потому у нее в комнате есть бутылка, и в холодильнике, тоже стоящем в комнате, которая одновременно и кухня, и спальня, и рабочее место, ну и что, и кого это колышет, кого? Даже когда госпожа Мириам Панцовски стучит в дверь, что-то ей нужно, но говорит она: «Нет, нет, вы не мешаете, продолжайте петь, детки», хотя мы вовсе не поем, а лишь танцуем голышом, но я просто ничего не могу скрыть, ибо одной рукой крепко держу Мэри, а другой должен был почесывать ухо, которое болит, словно бы и не слыхало того, что сказал врач. И почему бы хозяйке не видеть меня голым, любящим ее улицу Раши, пыльные дворы, узкие потрескавшиеся тротуары, ненарушаемый покой, высокие фикусы, разрывающие асфальт, кожуру банана или апельсина под ногами, предобеденную тишину в будний день. К тому же полумрак в комнате не дает возможности что-либо в ней увидеть. По сути, ничего. Именно об этом я с ней препирался, требуя, чтобы комната была хотя бы немного освещена, чтобы лицо ее немного проступало из желтого моха обрамляющих его волос, чтобы книги, набитые строками букв, заполняющие до отказа полки, начали что-то мне говорить, хоть что-нибудь, даже непонятные мне выражения, но не представляли бы просто пятна, лишенные смысла в этом тяжелом полумраке комнаты. Так, танцуя, я препирался с ней, требуя немного приоткрыть окно, даже если это может позволить любому технику, чинящему кондиционер, любому прохожему по тротуару, в двух метрах от нас, не только видеть нас голышом, но даже просунуть голову в окно. «Немного света», – говорю, – я хочу видеть то, что я делаю, как можно весь день сидеть под слабым светом настольной лампы и писать на этих твоих листах?» Я ведь даже не знал, на каком языке она пишет. «Так здорово было снаружи, всю дорогу к тебе, весь Тель-Авив стоит вокруг твоего дома, утром и вечером, весь Тель-Авив у порога твоей комнаты. Тут, на этом месте, изобрели вечность в этом песчаном городе. Все снаружи стоит на своем месте, ясно, в свете дня. А у тебя полутьма. Даже кот, который был у тебя там, не согласился бы здесь жить в этом сумраке, предпочел был сумерки мусорного бака во дворе или пошел бы к морю, к волнам, после пребывания в полутьме этой комнаты. Да, верно, коты не умеют плавать, боятся до смерти воды, но твой кот точно бы сошел с ума от этого сумрачного мира, в котором ему предстояло жить день за днем, метр от кровати к этажерке с книгами, метр от этажерки с книгами до стены, обклеенной рисунками роскошных женщин Августа Климета, этаких искусственных женщин с опущенным книзу взглядом, из-под шляп, над узкими, обтягивающими ноги юбками черного, коричневого, яично-оранжевого цвета, вроде бы поглядывающих на тебя и в то же время отрешенных, скрыто обнаженных в своей прелести роскошными белыми холмами, розовые соски которых дышат радостью, но не дерзки в своей затаенной открытости твоему взгляду». До того я разошелся в красочности описания этого на иврите, забыв на миг, что она-то языком этим не очень владеет. Но она поняла, ибо тут же мне ответила. Нет, сказала она, кот не здесь. Он остался далеко. Ибо нет у нее сил здесь растить животных. Только черепаху она может здесь растить. Черепаха многого не требует, ее можно оставлять надолго, и она ни на что жалуется. Вот она, маленькая черепаха в коробке на подоконнике. Коробка на краешке занавески, она для черепахи жилье, а для занавески тяжесть, не дающая ей взлететь от неожиданного порыва ветра. Не понимаю, о чем она говорит. Ведь окно в комнату всегда закрыто, и никаких порывов ветра здесь быть не может. Даже когда мы бьемся своими телами о стену и доски кровати, даже когда я скачу на ней, не обращая внимания на ее крики подо мной «сумасшедший, сумасшедший», даже тогда мы не создаем никакого ветра, не сдвигаем занавеску ни на йоту своим движением и прерывистым диким дыханием. Занавеска эта неподвижна и коробка прижимает ее края к подоконнику, коробка, в которой выросла черепаха под листьями салата. «Она мало ест, – говорит Мэри, – она должна расти. Она вырастет. Я даю ей много еды. И темнота в комнате ей не мешает. Она со мной с первого дня, как я сюда приехала, и ей со мной хорошо». Она говорит, а я чувствую песок в постели, песок, принесенный сюда мною, и простыня на постели натянута до отказа, а с картины на стене улыбается Юдифь и держит в руках отсеченную голову Олоферна, и длинные курчавые ее волосы смешиваются с курчавыми волосами отсеченной головы, скользят потоком, заполняют комнату, так, что нет уже мне в ней места, даже в ушах моих колотятся ее волосы вместе со словами, которые шепчет мне на ухо Мэри, и все заполняется словами. Только часы на моем запястье показывают, что пора уходить. Только сдвину листья салата, чтобы посмотреть на черепаху, перед тем, как поднимусь над ее попой, раскрытой подо мной двумя половинками своими, как нарисованное сердце на открытках с голубками, и соскользну в брюки, в ботинки, чтобы двинуться отсюда. Только взгляну, что там делает черепаха, всегда на дне коробки, никогда никуда не выходя, как она странствует всю свою жизнь в этой черной коробке из-под обуви, и как она существует там, под пусть воздушно-легкими листьями салата, почти лишенными веса, в тьме. И я подкладываю ей свежие листья салата, слой за слоем и вдруг обнаруживаю, что лежат они на мертвой черепахе, на пустом панцире на дне коробки из-под обуви. И в слабом свете, просачивающемся из-за занавески, можно еще видеть остаточные знаки ее головы и передних маленьких лап, малый ее скелет. Панцирь лежит наискось коробки, чтобы глазами своими, которых нет, она обращена была к окну. Панцирь умершей черепахи. Давно умершей. А снаружи – свет. И я выхожу. Улицы прямы. Тротуары ведут от дома к дома, от двора ко двору, по Тель-Авиву проветриваемых перин, в зимний ясный полдень, и удары соседки по выставленным на балкон подушкам мягко сливаются с жестким стуком молотка сапожника. Еще один ботинок исправлен. Ясный зимний день снаружи, и я иду вдоль дворов, к машине, ожидающей меня на улице Кинг Джордж, мимо старика, возвращающегося из синагоги, бормочущего себе что-то под нос. И дорога к машине становится длинной. Я иду, несу сердце свое плачущее от двора до двора. Мимо перин, выставленных для просушки. Мимо листьев, слетевших с фикусов. И хотя ухо все еще болит, легка поступь ноги моей по тротуару вдоль набирающего темп времени, вдоль потока полдня, который пока еще старается сдержать свой стремительный бег.
Ребенок
Когда проходишь перед фронтоном этого дома, кажется тебе, что построен он явно по произволу – то ли архитектора, то ли подрядчика, то ли комиссии по городскому планированию. Дом воплотил в себе обычную небрежность в проектировании окружавших его строений. Казалось, он был сооружен, чтобы заполнить собой пустое пространство между ними в пустом интервале между ними. Дом украшал балкон, неестественно длинный с одной стороны, а с другой невероятно уменьшен, почти кубик. Четыре окна на фронтоне первого этажа буквально втиснулись впритык одно к другому, а на четвертом последнем этаже, как бы освобожденном от угрозы со стороны граничащих с ним двух домов и вырвавшемся на простор, кто-то позволил себе добавить окно, пятое, на котором жильцы натянули веревки. Каскады стираного тряпья стекали из глубины дома, и снизу невозможно было понять, то ли оно выцвело от солнца, то ли пыль, покрывающая все вокруг, размыла их цвета в это предсумеречное время, упавшее на улицу в центре города. Улицу, которая несмотря на гомон и столпотворение, или благодаря ним, никогда не выглядела центральной, а скорее как дитя без родителей, без возраста, как и машины, те, что проносятся по ней и те, которые никогда не паркуются нормально у края тротуара, а поднимаются двумя колесами на бровку, упираясь бамперами одна в другую. Дитя без возраста, точно как продавцы в киоске, расположенном между зеленщиком, товар которого в ящиках разложен столбами, поддерживающими дом, вдоль тротуара, и полуголыми женщинами-манекенами в витрине магазина одежды. Непонятно, какое чувство они должны вызывать – вожделение или жалость. Эти трое, быть может, отец, мать и сын, стоят в глубине киоска, у прилавка, низенькие, согнутые спинами и тяжелые лицами, и головы их всажены в спины как бы без шеи, так, что похожи все трое друг на друга как близнецы, и никогда никуда они не торопятся, вкладывают, к примеру, баночку колы в явно использованный потертый пластиковый мешочек, и, шевеля губами, высчитывают цену, включая пачку сигарет, тоже впихнутую в мешочек, и один терпеливо поправляет другого, пересчитывая опять, и когда, кажется, двое сошлись в счете, третья, мать, качает отрицательно головой, и опять начинают считать сначала. Сразу же, миновав их, поворачиваешь налево, к входу, ибо ты уже знаешь, что здесь вход, что это именно вход, несмотря на то, что с улицы это выглядит как узкая тропинка, ведущая к мусорным бакам во дворе, и ты проходишь в дверь, которую прорубили неожиданно справа от этой тропы, и становится понятным, что и внутри это здание планировали по тем же особым правилам, что и снаружи, так, что лестничная площадка вовсе не выглядит как лестничная площадка, а как три словно бы пробитых прохода, ведущие один сквозь другой в разные направления, и всегда в них темень, ибо окон здесь нет, а лестничный выключатель, как обычно, не работает, или кто-то решил сэкономить и слегка выкрутил покрытые пылью лампочки, и ты оказываешься в темноте еще до того, как поднялся на первый этаж. Долог путь до четвертого этажа, ты проходишь из дыры в дыру, чуть не споткнешься о девочку, сидящую у закрытой двери, и соседку, что-то кому-то объясняющую в темноте, пока не доберешься до дверей шкафа с электропроводкой всего дома, под самой крышей, а на дверях эти старые полуоборванные призывы голосовать за Бегина, наклеенные друг на друга, у самой железной лесенки, ведущей к рваному отверстию в потолке и к простой деревянной двери, покрытой старой стершейся краской, к которой прикреплен обрывок бумаги, а на нем нацарапано рукой, не привыкшей к ивриту, что здесь живут Анна, которой сейчас дома нет, и Алла, сидящая в своей комнате, которую от входа отделяет лишь дверь на шарнирах, и сидит она на пластиковом стуле у деревянного стола, который обслужил не одно поколение школьников в квартале, пока не оказался здесь, в съемной квартире. На стены комнаты наклеены цветные афиши спектаклей Камерного театра, в котором она работала во время летних каникул секретаршей, выполняя любую подвернувшуюся под руку работу, и оставила место, быть может, в связи с началом занятий, или по другой какой-нибудь причине. На железной койке навалены летние и зимние одеяла, и вентилятор около настольной лампы, слабый свет которой освещает грязный стакан с остатками какого-то высохшего напитка, все же работает на третьей скорости, только скрежещет при наклоне то ли вправо, то ли влево, но эти наклоны никому не нужны, и следует ему придать направление, чтобы дул лишь в сторону хозяйки, ибо через несколько секунд она сбросит одежду и голой присядет на краешек постели, и зад ее, по молодому упругий, погрузится в хлопчатобумажное одеяло, и большие ее груди покажутся еще больше на фоне ее худобы и узких плеч, которые можно прикрыть одной рукой, и она сжимает их так, что груди еще более выделяются. Лицу она пытается придать выражение соблазна, но нос ее еврейский, слишком большой, портит это выражение, и не ясно, печаль в ее серо-голубых столь чуждых глазах истинна, холодна, несмотря на жаркие сумерки хамсина, или это какая-то придуманная ею игра. И пока ты стоишь, смущенный и соображающий, что к чему, она встает и облачается в розовый цветистый халат, снятый ею с гвоздя на стене, халат гимназистки, проходящей по коридору дома из комнаты в туалет, и не ясно, собирается ли она действительно в общий для обитателей этой съемной квартиры туалет, или это просто повод облачиться во что-то, ибо голый вид ее, отраженный в зеркале, подаренном ей в день рождения и тоже висящем на гвозде, смущает ее и заставляет ее делать нечто противоположное тому, что она собиралась сделать. И, быть может, именно эта смущенность и неловкость заставляет ее танцевать перед тобою голышом после того, как она сбросит халат, подтянув зад, чтобы выделить то, что не очень у нее выделено, и без предупреждения склонится и надолго погрузит голову между твоих ног, и ты явно не знаешь, что она там вынюхивает и что пробует. В это время госпожа Тененбаум, глубоко верующая соседка, достаточно бедная, чтобы жить в соседней квартире в полторы комнаты с мужем и двумя дочерьми на пороге зрелости, стучит в дверь и будет это делать долго. И еще через полчаса вернется, и снова будет постукивать время от времени. Алла дверь не откроет, несмотря на то, что утром пила у соседки кофе и одолжила у нее рулон туалетной бумаги перед тем, как ты пришел, ибо время, которое она проводит с тобой в постели, священно, и только оно существует для нее. Достаточно ей железным кривым стержнем закрыть дверь на шарнирах, и комната ее отделяется от остальной части квартиры, куда время от времени приходит вторая квартирантка и ее гости, и никто не будет ей мешать, и сейчас в предсумеречное время это небольшое пространство принадлежит только ей и тебе, и соседская квартира вовсе не связана с тем, что здесь происходит. Два небольших окошка, темных и запертых, видны в стене соседнего дома под пыльной черепичной крышей, с которой так никто и снимает сломанную во время бури антенну. Вероятно, эти окошки в туалет, которые вообще не знают света, но ей, да и ему абсолютно все равно, подсматривает ли там кто-то за ними в постели, и ей все равно, ночь сейчас или утро, ибо никто снаружи не может войти к ней сюда, внутрь. Алла своими руками режет, пилит и склеивает – кровать, ящик, вынутый из стола и стоящий на полу, полный свернутых полотенец и гигиенических пакетов. Точно так же она сотворяет себя, приноравливая глаза к губам, шею – к запаху, идущему от волос, и все это соединяет в одно. Алла женщина сильная. Приехала сюда налегке, почти без ничего, и не нуждается во многом, чтобы остаться. Когда ты, сделав свое дело и отдышавшись, встаешь, закрываешь за собой дверь, чтобы возвратиться к своей жене и дочери, Алла спрашивает, вернешься ли, и знает, что вернешься, ибо она герметизирует все до твоего возвращения, заворачивает твой запах в одеяла, и сверток этот остается на постели до твоего возвращения. Алла режет и хранит, нуждается в минимуме и хранит порядок во всем. Ложечку из пластика хранит вместе с двумя старыми серебряными из разных наборов, ибо все это, в общем-то, ложечки, и у каждой свое назначение, и каждая ждет в ящике своей очереди, точно так же, как и Алла ждет тебя. И когда ты выходишь, она замыкает твой приход, как сразу замкнула дверь за тобой, не проверив, что там, в прихожей, тем более, там темень, и два следующих раза ты поражаешься, выходя от нее, вниз по ступеням, как мгновенно гаснет свет, и ты, словно получив удар в лицо, хотя ведь ты ожидаешь этого, как слепой, шаришь по стенам, и пока ты выходишь наружу, испуганно прыгая со ступеньки на ступеньку, Алла уже омыла все свое тело, и теперь сидит в ночной рубахе, читает на французском книгу и делает отметки на полях, кладет ее на тахту, покрытую колючим войлочным пледом, включает свой старенький компьютер. Она сидит до полуночи перед мерцающим экраном, время от времени берет что-то пожевать из холодильника, ибо жаль ей тратить время на то, чтоб зажечь газ и что-то сварить или подогреть, и в три ночи, не обращая внимания на шум, долетающий с улицы, она гасит настольную лампу, привезенную отцом из другой страны. Завтра она пойдет на работу в школу, и послезавтра, и в последующие дни, и будет продолжать читать книги. Через год или два забеременеет от тебя, уже дважды она пыталась упрашивать об этом. А сейчас ты выходишь наружу, не зная всего этого, и замечаешь, что умеренный свет сумерек, сопровождавший тебя к ней, сменился первым наплывом ночной тьмы, которая еще не совсем сгустилась на крыше киоска «Лото», стоящего в середине тротуара, и в окнах банка все еще преломлено розовое отражение ушедшего дневного света, но женщина в киоске уже зажгла свет, падающий на ее руки и билеты, на губы, что-то считающие, и на лицо молодого человека, стоящего перед ней, первого в очереди за своим счастьем. И переломанный железный столб на твоем пути не мешает добраться до машины в боковой улочке, завести ее и поехать, и в эти мгновения ты так похож на всех окружающих, несмотря на то, что ты это – ты, и нет у тебя сомнения в этом, и на этом ты будешь стоять. И так это происходит день за днем, полдень за полднем. Ты уже потерял им счет. И когда однажды утром ты раскрываешь газету и читаешь, что нашли ка-кую-то девушку на первых месяцах беременности мертвой в районе ее проживания, кто-то, вероятно, сбил ее, ты кладешь газету спокойно на место, где она лежит каждое утро, и к вечеру едешь к ней, как обычно, полицейский, сидящий в ее комнате, приглашает тебя следовать за ним, и даже тогда ты вовсе не пугаешься, ты и вправду не помнишь, вела ли она себя в последнюю вашу встречу не так, как обычно. Ребенок? Тебе нечего сказать по этому поводу. Ты устал, сидя вот так перед следователями в полицейском участке. Желтый свет настольной лампы бьет тебе в лицо, изматывает. Время-то позднее, пора возвращаться домой, в постель.
Роды
«На кой ляд существует твой муж?» – спросила Ирлэ Беллу Бек, завершив этим вопросом традиционный обмен последними новостями.
Женщины стояли у калитки, ведущей во двор дома, в котором жили наши семьи.
Две гордые собой особы, и я, где-то там копошащийся внизу. Огромный живот Беллы подобен косо сползающей горе, но и Ирлэ, маленькая и худая смотрит свысока, на меня – мальчика, растянувшегося на пяти ступенях, ведущих в наш двор и очищающего лезвие перочинного ножичка от грязи. Закончив обмен мнениями, они сближают головы, словно бы хотят втянуть их в плечи. Кажется мне, они хихикают про себя и, пряча головы, хотят сдержать этот рвущийся наружу смех и не могут. Не знаю почему, но я чувствовал, что они что-то задумали. Во всяком случае, с моей позиции подле их ног это совместное стояние явно казалось заговором. Знали они нечто такое, чего я не знал. Проблемой была не Ирлэ и ее семья, живущие напротив нас, к ним я иногда даже заходил одолжить денег, чтобы купить мороженое, когда моих родителей не было дома. Вообще на нашем этаже никаких проблем не было, но на этаже над нами жила семья Бек, и я ни разу не видел, чтоб кто-нибудь остановился у их дверей или кто-либо был приглашен к ним в дом. Поэтому, взбегая на крышу, чтобы осматривать местность, я никогда не останавливался на лестничной площадке их этажа. Да и Шауль, Давид, Бени, Менахем и Иче, пятеро их сыновей, никогда не приглашали друзей к себе в дом. Во дворе мы играли подолгу все вместе, день за днем, но разговоры наши никогда не пересекали порог лестничной площадки, в темноту, тем более не достигали их двери. Это был некий постоянный закон: к Шаулю, Давиду, Бени, Менахему и Иче приятели не приходят.
Но в те послеполуденные часы я думал не об этом. Солнце склонялось к закату. Я уже довольно наигрался. Хватит. Лежал себе во дворе, как одна из наших кошек, Мици, как каждый день, после обеда, весь в пятнах земли, размышляя о ванной, которая ждет меня дома. Игры на улице я уже закончил, а играли мы в «ножичек», втыкая его в землю. У каждого была своя территория, и побеждал тот, кто сумел отвоевать ее у противника, так, что у того не оставалось места даже стоять на одной ноге. В начале игры у каждого было достаточно территории, чтоб лежать на ней. К концу же не было даже клочка для ступни. Не помню, победил ли я или проиграл в тот день. Ведь, по сути, это была как бы цепь игр, когда одна перетекает в другую: стираются все границы и снова ножичком намечаются два прямоугольника, и победитель отсекает у соперника его участок. Конец дня я помню. Небо готовилось к закату. Надвигающийся с запада, розовый небесный свет, открытый во весь простор нашей улицы, слабел. Его отблески упали на меловые камни забора, окружающего наш двор, и на иерусалимский камень ступеней, ведущих с улицы, ступеней, на которых я возлежал у ног Ирлэ и Беллы Бек и отдыхал, готовясь к вечеру.
А они стоят и хихикают, и секретничают, как в женской вечерней молитве. Я прислушиваюсь к ним в вполуха, потому наконец-то сумел уговорить девчонку с последнего, третьего этажа, Ади Миллер, отец которой упал с крыши в прошлую зиму, пытаясь в темноте починить какую-то проводку. Отец рассказал мне об этом, объясняя, что у нас на крыше сильный ветер, ибо дом наш стоит на вершине холма, вот он и сбил отца Ади и потому я должен к ней относиться хорошо.
Отец мой просто не знал, что я хочу к Адн относиться очень хорошо. Когда родители мои уходят, я приглашаю в дом всех ребят из нашего двора, и показываю им альбомы отца. В них – фотографии разных людей со всего мира, одетых в различные одежды, а то почти и неодетых. Я стараюсь объяснить про фотографии каждому, и поэтому впускаю их по одному. И каждый раз я уговариваю Ади быть последней в очереди, чтоб ей объяснить все подольше и получше. В тот день мне удалось убедить ее подняться со мной на крышу после ужина, найти какую-то уловку, хитро отвертеться от мамы и подняться. Мы пробудем там немного времени перед сном, сказал я ей, будет кейф. Оттуда можно подсматривать в окна соседей, можно присесть под бортиком крыши и никто нас не увидит. Можно даже жить в коморке для вывешивания белья и это будет наш маленький дом. Много чего можно там сделать. Так сказал я ей в полдень, когда мы возвращались из школы. Мог ли я знать, возлегая на ступенях в уходящем свете дня и предвкушая вечер, мог ли я знать, что никогда по сей день не встречу Ади Миллер на крыше?
Даже позднее, когда солнце зашло, и тьма легла на землю, и я уже вышел после ужина, умытый и готовый к встрече, чтобы подняться на крышу, не знал я, что встреча эта не состоится никогда. Погруженный в свои мысли и чувства в предвкушении свидания, я медленно поднимался, чтобы ступить на асфальт крыши. Задерживал дыхание от приближающейся радости. Ступенька за ступенькой. Представляя, как мы сидим под бортиком крыши, во мгле, освещенной лишь звездным воинством, и я вглядываюсь в чудное темное место между ее ног, если только сумею убедить ее показать мне… Даже фонарик я захватил с собой. И я сижу, и вглядываюсь, и показываю ей, и парю в мечтах, которые сжимают дыхание. Когда мы устаем, мы через бортик подсматриваем сверху за всеми соседями, которые стоят или ходят за желтыми окнами и кажутся висящими в кругах света как куклы на веревочках. Я вижу их, и Ади видит их, а они нас не видят. Так я размышлял, поднимаясь ступенька за ступенькой, но на втором этаже вынужден был неожиданно поднять голову напротив двери семьи Бек и посмотреть на дверь именно в тот момент, когда особенно торопился на крышу, ибо просто невозможно было пройти мимо, чтобы не кинуть на нее взгляд. Ведь дверь как бы смотрела на меня, и я должен был ей вернуть взгляд. Дверь-то не была закрыта, ну, положим, на треть, но так и тянула заглянуть. Никогда раньше я не видел ее открытой, до того открытой передо мной, что невозможно было не зайти. И я зашел.
Родители учили меня, что, входя, не оставляют дверь открытой, я и закрыл и очутился в узком коридоре, оголенном и освещенном слабой лампочкой, висящей над мой головой, разделенном двумя как бы барьерами, ибо на метр от входа была стена поперек коридора и в ней две ниши, в которых висело много одежды. Показалось мне, что одна из ниш покрашена свежей краской, ибо блестела, несмотря на слабый свет. Но глаза мои были устремлены на поперечную стену, отделяющую прихожую от остальной части квартиры.
Приблизившись к стене-перегородке, я приподнялся и заглянул за нее. Эта стена удерживала внутри дома воду, чтобы она не вырвалась на лестничную площадку.
Все внутри было залито водой от стены до стены. Вода доходила до моих плеч. Я взобрался на перегородку, спрыгнул и вошел в воды салона, точно такого, как у нас, но стол, стулья и газетный столик стояли под водой. Только радиоприемник на этажерке возвышался над водами. Туфли мои наполнились водой и я старался осторожно ступать, чтобы они не соскользнули с ног, штаны и рубашка насквозь промокли, только плечи были сверху. Пол был выстлан плитками, точно так же, как наш, но они были размыты, а углы комнаты были покрыты смолой. На полу были разбросаны камни, в углах комнат стояли вазоны с растениями и были они подобны водным растениям в аквариуме, который, кстати, родители купили мне, ведь, говорили они, рыбы не наносят столько грязи, как собаки и кошки. Я уже стоял посреди этого водного пространства, когда заметил, что в комнатах нет дверей, и там плавали мои приятели, дети семьи Бек, и плавали весьма быстро. Я вовсе не испугался, увидев их, несмотря на то, что не сразу понял, что это за длинные тени, скользят подо мной и вокруг меня. В воде они выглядели гораздо более длинными, хотя не были выше меня, даже Иче и Менахем, которые учились на два класса старше меня, и я немного их побаивался, когда во время наших дворовых игр мы начинали ссориться. Они даже не напрягались, а как бы скользили в каком-то удивительном стиле, как в танце или в мелодии, голова вперед, руки вдоль тела, ноги прижаты одна к другой, и только легкое покачивание боками держало их в воде на весу. Длинные, более темные в воде, проворные, даже жирный Иче скользил в воде рядом со мной, голова вперед, руки вдоль тела, бока извиваются, как равнодушные черви, из комнаты в комнату, от угла до угла. Я заметил, что они не обращают на меня внимания. Очень хотелось присоединиться к ним, плыть, качаться как поплавок, летать в водах. Одежда у меня и так вся была пропитана водой, и штаны, и рубашка, и обувь, оставалось наклонить голову. Но я не знал, как это делают, как в единый миг становятся такими, как они. Не было выхода, и двинулся по полу за ними. Медленно. С трудом поднимая ноги, осторожно волоча их, чтобы туфли не соскользнули с ног. Решил вернуться в кухню, которая была близка к прихожей. В домах моих друзей кухня была самым интересным местом. Но тут, в кухне, я не нашел ничего интересного и, видя, что мною не интересуются, я пошел к ним, если можно назвать движения в воде ходьбой. Я тянул ноги, прижимал их к полу, боролся с сопротивлением вод и так добрался из кухни до детской, и тут я увидел нечто, отличное от нашего дома. В воде, их квартира не казалось больше нашей, те же комнаты, то же расположение, но у них вместо одной большой комнаты, были под поверхностью воды три или четыре небольшие каморки. Они просто обманывали меня, когда говорили, что живут по двое в комнате. Но дружки мои не плыли в их каморки. Все то время, что я пытался достичь их, двигаясь из угла в угол, они скользили между перегородками, не ударяясь ни в притолоки дверей, ни в углы комнат, и несли с собой вещи, не понятные мне, из угла в угол их квартиры. Ныряли, взмывали и опускались в углах комнат между листьями водяных растений. Что они там делали, я не знал, но это было то, о чем я всегда мечтал – быть независимым от ног в этом передвижении с места на место, скользить без всякого усилия. Именно сейчас, когда я должен был быть быстрым и проворным, чтобы успевать за ними, я с трудом волочился с того места, где задерживала меня вода. Так, с трудом я передвигался в теплых этих водах, но не мог добраться до края квартиры, когда они скользили мимо меня, возвращались, напряженно занятые чем-то, что я очень хотел увидеть, несмотря на страх. А еще я хотел увидеть, что происходит с водой на трех балконах, таких же, как в нашей квартире. Ведь на балконах вода должна была открыта, быть может, замаскирована или уменьшена. Но в квартире было множество перегородок, и я с трудом протискивался мимо них, цепляясь за мокрой одеждой, и не мог добраться ни до одного балкона. Обескураженный, я вернулся к стене и направился к входу в другую комнату, но снова остановился. Так и двигался взад-вперед, не в состоянии нигде остановиться. Я уже был готов, не смотря на занятость обитателей квартиры, спросить у них, что, собственно, происходит. Только сейчас я обратил внимание на то, что мы вообще не разговаривали, что все это время не было слышно ни одного голоса. Все это время они плавали под водой, быть может, и пели, когда высовывали головы, чтобы набрать воздуха, но вновь торопливо погружались в воду. Я не слышал ни звука.
Только остановившись после этого бестолкового передвижения в воде, я обратил внимание на то, что они не только не говорят со мной, а даже не следят за мной и не сопровождают меня, вообще не плавают вокруг меня. По сути, они плавали туда и обратно около южной стены их квартиры, граничащей с высокими тополями во дворе нашего дома. К ветвям этих тополей они привязывали всякие коробки, склоняясь с балкона. Так они привязали однажды найденных во дворе кота и черепаху. Животные упали, так как были намеренно небрежно привязаны к дереву. А я, видя это, стоял внизу, ожидая, что они упадут, горя желанием их спасти, но не было у меня мужества взобраться на тополь и прекратить издевательство над животными.
Когда я добрался до входа на балкон, я замер, ибо там, в углу, около окна, в котором видны были темные, как бывает ночью, тополя, на огромном кресле возлежала госпожа Бек, все тело которой было погружено в воду, только плечи и голова снаружи. Она улыбалась, вероятно, мне, обнажая все свои зубы, широкой такой круглой улыбкой. Она улыбалась мне, я уверен, а не мужу ее Реувену, который медленно скользил вокруг нее. Я подумал, что он очищает ее, как очищают рыбу от чешуи. Или сам, как рыба, прыгает на нее, что-то очищая или потроша, она же неподвижна, только улыбается розовым лицом именно мне. А сыновья тоже вертятся рыбами вокруг них, и все что-то приносят, например, простыни, которые тянутся за ними по воде, как огромный веер золотых рыбок, маленькие пеленки и большие подушки, ножницы, клещи, мотки проводов, обвивающие их. «Здравствуй», – сказала она, вероятно, мне, ибо не было в доме другого гостя кроме меня, и только двое, я и она, держали головы над водой. «Здравствуй», – сказала она снова, и это был первый звук голоса, который я услышал в этом доме.
И не знал я, почему будет у меня новый дружок и что за дружок, но в этот миг Реувен высунул голову из воды. Он пел. Быть может потому, что услышал ее говорящей, но как он мог с головой в воде петь? И он вовсе не удивился, увидев меня. Вероятно, видел меня раньше из-под воды. Но, вынув голову из воды, он петь перестал, только так посматривал и то недолго, ибо был чем-то весьма занят и тут же исчез. После вернулся, неся над водой странный на вид поднос, на котором не было пирогов, а были мотки провода и клещи. И тогда, когда они уже все собрались вокруг госпожи Бек, повернув к ней головы в ожидании, как рыбы в моем аквариуме поднимаются стаей к поверхности вод, когда я даю им корм, я не мог больше ее видеть, скрываемой мужем и детьми глубоко в воде и решил, уходить, постепенно пятясь. Не они меня задерживали, а вода стесняла мое движение. И я пятился, не сводя с них глаз и только рукой щупая сзади, чтобы не наткнуться на что-либо спиной, пока не уперся в ту перегородку, которая отделяла квартиру от передней. Я преодолел ее все также, лицом к ним, к югу, к детям, которых уже отсюда не видел, стараясь по возможности отжать воду из одежды и обуви, слить ее обратно, в их комнату, отделиться от них у входа в сухую переднюю. Мокрый, я не остановился, а продолжал пятиться, рукой пытаясь нащупать дверь.
Несмотря на испуг, или, точнее сказать, несмотря на потрясение, охватившее меня, я не забыл правил вежливости и не бросился со всех ног. Вода вытекала из туфель, стекала со штанов, которые, промокнув, до боли сжимали кожу. Пришлось мне оставить мокрые следы у выхода из чужой квартиры. Я открыл дверь, которая теперь была закрыта, и захлопнул ее за спиной. Что я скажу маме о мокрых штанах? Что скажу о туфлях, рубашке? Ведь я не смогу рассказать ей о том, что видел. Я спустился по ступенькам к нашей квартире. Эту дорогу с верхнего этажа до нашей двери я запомнил хорошо. Так же, как я помнил о правилах вежливости. Шел медленно, борясь с мокрой одеждой и обувью. Я все помнил. Только крышу забыл. Начисто. И Ади Миллер, которая, быть может, ждала меня. Я даже забыл взглянуть на часы, которые разбил, поскользнувшись на мокрых ступенях, как ни старался двигаться осторожно. Так, что не знал, который час, сколько времени я пробыл в семье Бек. Жаль, хорошие у меня были часы. Я получил их в подарок на день рождения. Часы «Докса». И тут была действительно возможность проверить, не пропускают ли они воду, как мне было сказано, и чем я гордился. Это также символизировало некое чудовище, выгравированное на задней стенке часов. А может, это вовсе и не было чудовище, а три русалки, взявшись за руки, танцевали, хоровод их был закрыт для посторонних, хвосты их извивались в танце, как волосы их – в воздухе.
Один зарезанный гусь
Ицик заболел именно в тот день, когда ему исполнилось два с половиной года, и в этом можно было увидеть еще один пример бескомпромиссности ангелов. Истинным их намерением было забрать его. Изначально он не должен был тут быть. Он просто не подходил к земной жизни. И дело не только в его носе, кривом мизинце на правой руке; в том, как он при ходьбе волочит ноги, и сколько раз ему об этом говорили, объясняли, предупреждали. Нет, не это было главное, несмотря на то, что дальновидные, а таких всегда хватает, уже по этим признакам могли видеть, что он не жилец. Еще в те годы, близкие Ицика даже вслух выражали подобные мысли, когда надо и не надо, вежливо и невежливо. Короче, всем своим видом Ицик говорил: это не то, я не должен здесь обретаться. Никогда. Ни раньше и ни теперь. Но никто не был готов исправить эти недостатки и взять его таким, какой он есть. Он остался, ибо никто из ангелов не хотел прибрать его. Точка. Если можно было именно здесь в рассказе поставить точку, одну из тех, которые еще будут.
Но я уже сейчас говорю в пользу тех, кто не верит: это и вправду предупреждение.
Болезнь в два с половиной года была очень тяжелой. Несколько раз он находился между жизнью и смертью. Было такое чувство, что кто-то просто не знает, что делать, быть может, пребывает в полном замешательстве, если можно так сказать. Начали и не завершили. Нанесли ему этакий незавершенный удар.
Он болел полгода. Не мог подняться с постели долгие месяцы, до того дня, когда ему исполнилось три года, когда он впервые встал на ноги. И это снова был пример неразберихи в планировании его жизни. Ибо в день, когда он мог уйти в то, что называется небесами, с особой праздничностью, в день, который легко запомнить, легко объяснить и найти в этом смысл, именно в тот день он встал с постели и продолжил свое существование здесь. В малом Тель-Авиве. Я знаю, невелика мудрость, сказать так, малый Тель-Авив, ибо, когда он не был малым или не будет малым. Но это точно так же в отношении Ицика: когда он не был маленьким и когда он больше им не будет, учитывая все, что на него свалилось? Поэтому если мы говорим о нем, как о малом, то это относится и к Тель-Авиву: таков он, есть, несмотря на то, что Ицик никогда о нем так не думал. Например, тогда, когда он направлялся на рынок Кармель, о котором здесь пойдет речь. Между тем, он несколько раз болел и выздоравливал, и всегда болел тяжелыми болезнями: брюшным тифом, дифтеритом, воспалением печени. Заболевал и выздоравливал. Заболевал не в наказание за грехи и выздоравливал не по знаку свыше. Нет, здесь, очевидно, была какая-то неисправность, какой-то недодел.
А он? Он страдал. О, как он страдал, но это потому, что он не должен был здесь быть. И это, я думаю, сказано в достаточно ясной форме. И так он появлялся то там, то здесь. Ну, вы знаете, городские парки, закаты, кинотеатр «Дворец Давида» на улице Дизенгоф, тот самый, у моря. Снова закаты и снова места прогулок. Короче, он совал свои руки с тем самым кривым пальцем то за пазуху, то в трусы какой-либо, которой хотел всунуть свои руки или которой не хотел, но они говорили ему, ну-ка отцепись, брось эти штучки, но он ни за что на это не соглашался. Такой вот типчик, который чувствует, что он как будто в каком-то бою, и должен отличиться и ни в коем случае не отступать с завоеванных позиций, ибо кто знает, когда будет следующая атака и чем она завершится.
И он продолжал так себя вести и тогда, когда чувствовал, что это не то, и нет смысла это делать, и он просто тратит впустую свою жизнь. Но так как он не знал, что и вправду надо делать, он и делал то, что не надо. Такой вот типчик, явно не подходящий этому месту. И тогда было сказано, что, не подходя в одной форме, он не подходит и в другой. А так как он не подходил, то любой его поступок не помогал.
Ночные прогулки. Бесконечный треп с товарищами. Счета, почему и сколько. Все это вообще не помогало никак. Он продолжал останавливаться на улице Дизенгоф, и на улице Арлозоров, Соколов, и улице Четырех сторон света, и Леви Ицхака, и Магарала, и в узких переулочках у моря. Ну, вы знаете, весь этот район к западу от улицы Арлозорова. Место, куда он был выброшен вначале, когда ангелы ошиблись и дали ему возможность быть здесь, но это была лишь их первая ошибка по отношению к Ицику.
А Ицик? Он продолжал останавливаться около домов и, чувствуя приступ дурноты, выворачивать из себя содержимое. Делая это во дворах, если ему удавалось себя немного сдержать, или прямо на тротуар, когда не было сил сдержаться. Да продолжал время от времени падать в обморок, так, просто. Но это не было просто так. Это случалось, когда он вспоминал, откуда явился и чему принадлежит, и это было слишком грозно и велико для него. Ну, а ангелы, спрашиваете вы? Лучше бы вы не спрашивали, ибо я уже вижу неприятную гримасу на своем лице, собираясь ответить вам: когда вы в последний раз полагались на ангелов? И вообще, что собирается сообщить вам мой рассказ, как вы думаете? Быть может, именно это: не стоит полагаться на ангелов. Но, по правде говоря, это неверный ответ. Кто вообще, знает, каково истинное планирование там, что ангелы взаправду делают и куда это все ведет? Может быть, все же, это часть плана, иными словами, все его болезни, все эти приступы тошноты на улицах, пыль, сводки последних известий, террористы, и наши силы и их силы, все-все это часть плана и мы это не понимаем, не видим истинной цели? И Ицик не понимал это, но он чувствовал. Я знаю, не стоит бояться в этой жизни ничего, даже патетической речи. Потому я выпрямляюсь гордо и говорю: Ицик слышал шум ангельских крыльев. Понимаете, без того, чтоб видеть, куда они летят, и потому было ему особенно тяжко. Быть может, именно потому он выворачивал себя на улицах. Ну, иногда, не всегда, конечно.
Я говорю, выворачивал. И это верно, ибо выглядел он сморчком, маленьким и убогим. Он и вправду волочил свои ноги по тротуару, но все же приподнимал высоко голову время от времени. Вот, например, прожигал время с кем-либо или с двумя в прекрасные летние ночи на крыше дома, в котором проживал с родителями, потом спускался домой спать, весь вымазанный крошками извести, покрывавшей крышу. Да, верно, он волочил ноги, вглядывался в иную жизнь, и это верно, но вот ел он вовсе неплохо. До фильма съедал стейк. После фильма – стейк. С множеством острых приправ и жиром, текущим из мяса. Ну и шашлыки на шампурах в Яффо, печень, почки, селезенка, жареный гусь. А улицы всегда полны возможностей. Романтика была именно в этой обжираловке на улице. Разве это не романтика? Потому он и любил «кумзицы», ну, посиделки с дружками на Ярконе, в «Доме ведьмы», или на берегу моря, и в Глилот, и на дюнах в Ришоне. Короче, кумзиц в любом возможном месте. Вблизи от дома, на Ярконе и на берегу моря в Тель-Авиве это можно было делать чаще. В отношении же мяса можно попросить кого-нибудь, Деди или Йонатана, или Ури, желательно того, кто в этом разбирается, принести мясо. Нарезанное эллиптическими ломтями, на которых видны тонкие полосы как на древесном срезе, или на кубики, или свертки молотого мяса, бело-красные, подобно мозаике, где белое это жир. Все это завернуто в плотную, матово-белую бумагу, восковую, которую прокладывают между ломтями и она не впитывает кровь, и затем все следует хорошо-хорошо завернуть в бумагу, все впитывающую, чтобы кровь не пролилась в сумку и не оставила на ней пятна. Каждый сорт мяса на шампурах необходимо завернуть отдельно. И вообще работа с мясом весьма разнообразна и требует знаний. Стейки, к примеру, следует привезти на кумзиц еще слегка замороженными, а вот мясо к шашлыкам следует заранее разморозить, чтобы мясо было мягким и готовым к огню. Ребята делают это, в общем-то, на уровне, когда мы открываем пакеты с мясом у мангала, и нет особых претензий, а если и есть, так это чтобы произвести впечатление на девушек. Эфрат Бенгель, к примеру, любит всякие грубые замечания о том, что все замерзшее должно быть мягким, а все мягкое твердым, и о том, что здесь много крови. Так это длится в течение года, но когда наступает настоящий праздник, Ицик сам покупает мясо. Например, к кумзицу в день Независимости или если он полагает привести на вечеринку особу женского пола, ради которой следует постараться. Такую, что произведет на всех впечатление, и даже звезды будут смотреть на них с раскрытого над костром неба. Но теперь, в этой части рассказа, они глядят на них как на некие образы. Истинное его отношение к ночи я уже упоминал. Это ночи, когда он не может уснуть, ибо много раньше того, как выходишь к звездам, когда еще находишься в закрытой комнате, за каждым пятном в комнате скрывается кто-то. И он знает, что и вправду там стоит кто-то, и это вовсе не детские глупости. И он ничего сделать не может, не позвать этого кого-то, ибо есть у него знание, как того, скрытого, ощутить, но нет знания того, как обратиться к нему. Когда ты знаешь об этом ком-то, ты пришиблен до такой степени, что все слова исчезают у тебя с языка, а приветливое выражение стирается с лица. И это ничем не отличается от болезни. Той, о которой я уже писал.
И когда он хочет, чтобы праздник был настоящим, он сам идет на рынок Кармель с его прилавками, с зеленью, соленьями, и призывами продавцов: подходи, госпожа, и все такое прочее. Ему приятно разгуливать между прилавками. Ицик любит быть здесь. Может, потому, что на рынке Кармель все планы ангелов в отношении Ицика не так уж слышны, ибо уши его полны иным шумом, да и благодаря деловитости, с которой все ведут себя здесь. Все, и торговцы, и женщины, кружащиеся здесь с корзинками, пришли сюда не в игрушки играть, а заниматься делом. Так он идет от прилавка к прилавку, углубляется в узкие переулки, спускающиеся в квартал Керен Атейманим, который мало знаком ему, ибо еще мама говорила ему, что не стоит туда ходить, по спуску переулков, с потоками мусорных вод и крови битых птиц. Так она сказала ему, когда он был еще маленьким. И он иногда слышит ее голос.
На этот раз, решив принести нечто хорошее к костру в день Независимости, он не пошел в мясную лавку на углу улицы Раши рынка Кармель, где обычно покупает мясо. А пошел вглубь переулка, туда, где была бойня, откуда брали мясо все мясники, стоящие вдоль длинного прилавка, у которых он обычно покупал. Конечно, то была не единственная бойня на базаре, где мясники брали товар. В любом случае, зачем покупать у них, когда можно, как говорится, покупать товар у производителя. Там он свежее и там можно выбрать. Бойня недалеко, всего несколько шагов по спуску в переулок, небольшой одноэтажный дом, как и все дома в Керем Атей-маним. Во дворе горы решетчатых ящиков, клеток, одна на другой, ряд над рядом, возвышаются по обе стороны прохода к дому, почти на высоту самого дома, вернее, два ряда, высоких, шириной в один ящик, оставляют лишь узкий проход к бойне, и между ящиками попадаются и металлические, забранные изогнутыми прутьями. В большинстве они пусты и ждут, чтобы их отвезли в птичники наполнить снова. Только в некоторых из них сидят гуси и утки, измазанные грязью, и ждут своей очереди. Сидят, не двигаются, уличный шум не касается их. Быть может, от невероятной усталости и голода, ибо не кормят и не поят их перед убоем несколько дней, чтобы не пачкали дерьмом клетки и грузовики, привозящие их сюда, да и саму бойню, и вообще, чтобы было легче потом чистить их. Из-за усталости они молчаливы, сидят или стоят, понять трудно, один на другом, в невероятной скученности, до того, что невозможно повернуть шею, двинуть головой. Часть из них раньше разгуливала в больших ограждениях, под растянутыми пологами, делающими небо невероятно низким. Но часть просто родилась в клетках, прожила в них всю свою короткую жизнь и прибыла сюда. В клетках они росли сызмальства и теперь, став большими, теснят друг друга в том же узком пространстве между прутьями, и их везут на бойню, чтобы скорее освободить клетки для нового поколения. Ицик испытывает волнение от этого их покорного молчания и терпения. Потому пугает его шум бойни в первый момент, когда он переступает ее порог у входа в первое помещение. Это, по сути, для него и есть бойня, ибо в следующее помещение он не войдет. Ему просто не дадут войти туда. Он и в первое помещение ступил без разрешения. Помещение это, по сути, одна лента конвейера, по которому движутся гуси, по паре в корзине, одна за другой, приближаются к резиновой завесе, чтобы исчезнуть за ней во втором помещении, где их режут. А шум производят двое работников, вынимающих гусей из клеток и пересаживающих их в корзины в последний путь. Пустые клетки они выносят, внося новые, раскрывая их и снова загружая корзины. Шум добавляет машина, ржаво и неприятно скрежеща. Этого достаточно, чтобы напомнить Ицику помещение, примыкающее к кухне в кибуце его дяди, где так же скрежещет конвейер к посудомоечной машине, только вместо тарелок, ложек, ножей и вилок, здесь движутся корзины с гусями.
И тут охватывает его странное желание вырастить гуся. Он вдруг вспомнил голубятню на крыше их дома, которая давно пустует. Взять отсюда одного гуся домой, одного живого гуся, забрать его с этого неумолимого конвейера – вот, оказывается, та цель, которая подсознательно привела его сюда. Это видится ему самым главный в данный миг. И опять, точка. И к чертям кумзиц. Он забыл, зачем пришел сюда. Да и мясо ко всем чертям. Он смотрит на одного из гусей, белого, в пятнах грязи. Выглядит гусь немного больным. Ицик обращается к одному из работников. Я хочу этого гуся, говорит он, да, да, именно этого. Его он спасет, его он снимет с конвейера. Я хочу этого гуся, повторяет он, ибо работник не отвечает, а конвейер продолжает двигаться с гусем. Один из работников спрашивает его: почему именно этого? Этого будет трудно. И вообще трудно их различить после того, как их общиплют и обрежут им голову. Нет, говорит Ицик, я хочу его таким. Таким невозможно, отвечает работник, просто запрещено отдавать гуся необщипаным. И корзина с гусем уже исчезает за резиновой завесой. Я хочу этого гуся не общипанным, я хочу его живым, говорит Ицик. Он уже не настаивает именно на этом гусе, он просто хочет одного живого гуся. Невозможно вынести отсюда живого гуся, говорит второй работник, присоединившийся к беседе, хотя его не спрашивают, но Ицик повторяет и ему, что он хочет одного живого гуся, он пришел сюда купить живого гуся и вырастить его, да, он должен вырастить живого гуся, ему сказали, что здесь единственное место, где можно достать живого гуся, во всяком случае, в этом городе. Достать здесь гуся можно, но живого запрещено, говорят ему оба работника, а Ицик снова слышит шум ангельских крыльев, рядом с ним. Гусь за гусем, парами, сидят упорядоченно, головой в одном направлении, чтобы легче было их резать, они движутся мимо него, пара за парой, как при входе в Ковчег, и жалко Ицику рабочих, гнущих спину с утра до вечера, это же нелегко все время сгибаться и распрямляться, проклиная на чем свет стоит весь мир. И никто о них не заботится. Мерзейшая работа. Прямой путь к ортопеду, к болезненной старости, неуважительной и некрасивой. А затем ходить по улице с горбом, наклоняясь всем телом вперед, как будто торопятся куда-то, как будто есть некая цель впереди. Ну, точно, как сам Ицик ходит. Ходит? Да, как можно это назвать иначе? Он уже вышел из бойни. Нет у него живого гуся. Ничего он не вынес оттуда. И все голоса, что звучали в нем, а они и вправду звучали, опять привели к рвоте и даже головокружению. Вполне возможно, он даже потерял сознание. То, что он этого не помнит, ничего не меняет. Факт, что он встал, и факт, что опять не был реализован изначальный план его существования. Опять не взяли его отсюда. Ни один ангел не согласился взвалить на себя это дело.
Сейчас, когда я пишу рассказ, я мог завершить его так: можно сказать, что ангелы ошибаются. Можно сказать, что мы ошибаемся. Можно сказать, что они вообще не существуют. Эту дискуссию мы уже проходили, точно так же, как рассказ этот можно было назвать рассказом ко дню Независимости. Но, по истинной правде, сейчас, когда я пишу этот рассказ, я еще и внимательно прислушиваюсь к Ицику. Очень внимательно. Не менее внимательно, чем Ицик прислушивается к шуму ангельских крыльев, не менее чем он ощущает их. Даже если ощущение это означает рвоту.
День Независимости
Отец сказал, что голуби всё пачкают. Отец сказал, что голуби хотят свободы. Отец сказал, что надо голубей выпустить. Итамар этого не хотел. Их он только что получил из кибуца, в этом решетчатом ящике, который вынесли на балкон и поставили на скамеечку. Вначале они испугались шума автомашин, несущихся внизу, по улице, и пытались скучиться в дальнем углу ящика, более темном, хотя ящик был настолько мал, что, по сути, не было в нем такого угла. Они просто сели друг на друга в более темной части ящика. Затем спрятали головы под крылья, и продолжали сидеть, раскачиваясь на тонком стержне, которым ящик был проткнут. Даже когда уличный шум усиливался время от времени, они продолжали раскачиваться, и это было похоже на раскачивание людей в синагоге. Отец невзлюбил их с самого начала, не любил их еще до их появления, и в этом Итамар мог убедиться тотчас же, но о том, чтобы взять их к резнику, и речи не могло быть. Даже когда брали к нему кур тети Мириам, в преддверии праздника. А сейчас праздник совсем на носу, как сказала воспитательница Браха в детском саду. И объяснила, что и государство рождается, и у него тоже есть день рождения, хотя Итамар не совсем понял, как это государство наше может быть подобно одной из девочек в саду, у которой тоже день рождения, как и у младшей сестренки Одеда: ее день рождения праздновали вместе с днем рождения самого Одеда. В любом случае государство во много раз больше детского сада, да и сильнее во много раз. Отец почти не разговаривал, придя домой, и голубей тоже не упоминал. Он сидел и писал свои стихи за кухонным столом и был рад, что Итамар возится с голубями на балконе и не мешает ему. Итамар и сидел и поглядывал. Этим он, в основном и занимался. Он следил за двумя голубями в ящике, более крупными, чем все птицы, летающие снаружи, не считая ворон. Голуби не были похожи друг на друга. Один белый, другой серый. Сидели вплотную друг к дружке. Как два удлиненных клубка, без головы. Он видел также траву внизу, во дворе, и большие ветви финиковой пальмы, доходящие до балкона первого этажа, стоящего на столбах, и эвкалипты по ту сторону шоссе. Он сидел и глядел во все глаза. Снаружи все было по отдельности, но в глазах Итамара все сливалось воедино. Только нос чуть мешал, ибо чувствовал гнилой запах влажного хлеба, который Итамар давал голубям, но они к нему не прикасались. Автобусы проезжали внизу, и люди смотрели на его голубей, несмотря на то, что решетчатый ящик стоял в глубине балкона, у стены, и его трудно было разглядеть снизу. Итамар даже не пытался думать о том, что произойдет, если кто-то влезет на балкон, о чем раньше он думал не раз. Он просто обхватил ящик, хотя и знал, что решетка остра и покрыта грязью, и от раны может быть тяжелая болезнь, как и все те, которыми он переболел в младенческом возрасте. Двумя руками обхватил он ящик и показывал язык прохожим. Никому он не отдаст голубей. После обеда он пошел спать, и снились ему эти два голубя, но во сне они оба были белыми, не раскачивались на жердочке, высовывали головы из-под крыла и поглядывали на него малыми своими круглыми глазками. Было жарко, скоро лето, поэтому, когда он встал ото сна, солнце стояло уже высоко, и это чувствовалось на балконе. Голуби все еще покачивались на жердочке, не вынимая голов из-под крыла, и между лежащими на балконе мешками с картошкой, которые послал им дед из кибуца, выползла маленькая бабочка, коричневая из тех, которые ночью вьются вокруг ламп. Она ползла по полу балкона зигзагами, в направлении голубей, но и не убегала от Итамара, сидящего рядом с голубями. Итамар дал ей влезть на ладонь, помня стишок «Иди ко мне, симпатичная бабочка», он даже сказал это и, быть может, именно поэтому та согласилась подняться к нему на ладонь. Браха завтра в садике будет очень довольна, когда он расскажет о бабочке, и все будут рады, даже мальчик и девочка в голубых штанишках на картинке «Иди ко мне, симпатичная бабочка», будут улыбаться Итамару, даже если будут продолжать смотреть на нарисованную желтую бабочку, которая намного больше этой. Но бабочка на картинке летала все время и в то же время не двигалась с места, а эта хотела двигаться дальше, к голубям, и даже могла зайти между досками решетки прямо с ладони Итамара, которая гладила голубей. Этого Итамар допустить не мог. Нельзя мешать голубям, да и нельзя смешивать их с бабочкой. И он оторвал у нее крылья. Сначала одно, потом другое. Бабочка не сделала ничего необычного, но пыталась двигаться более быстро, когда Итамар опустил ее на пол, и Итамар подумал, что теперь она уже не бабочка, а превратилась в муравья, коричневого, большого и жирного. В муравья странного, несчастного, не похожего на себя. Но уже нельзя было вернуть ему крылья, которые остались на полу и чуть измазали пальцы. Тем временем, как муравей, который ищет свою нору, поползла бабочка без крыльев обратно между мешками с картошкой и исчезла. Итамар был очень огорчен тем, что превратил бабочку в муравья, но был уверен, что голуби рады этому, ибо так им никто мешать не будет. И так они смогут летать, хотя все еще продолжали прятать головы под крыльями. Тем временем солнце стало оранжевым, как и мешки на балконе, и доски ящиков, и оранжевое пятно упало на стену поверх голубей, хотя они не могли его увидеть, ибо в ящике уже было темно, и тут неожиданно появился отец и спросил, говорили ли в садике о дне Независимости. Затем он рассказал Итамару о торжественном параде, который пройдет внизу, по их улице, завтра утром, и они рано-рано спустят стулья из кухни на мостовую и поставят их в первый ряд, и он будет сидеть между отцом и матерью, и они увидят все танки и солдат, которые будут шагать длинными рядами. Независимость это свобода делать все, что ты пожелаешь, и никто тебе не говорит, что надо делать, и государства тоже хотят быть свободными, как ребенок, который научился ходить и не хочет, чтобы ему мешали идти туда, куда он хочет, или положили его в постель слишком рано. И голуби тоже хотят быть независимыми, именно так и сказал отец, и они хотят летать в небе, а не быть закрытыми в клетке. Итамар не знал, что ответить. Они тоже хотят радоваться, петь, парить высоко в воздухе так, как лишь они умеют, и мы должны открыть клетку и выпустить их на свободу. Несомненно, они вернутся погостить, если только захотят, в знак благодарности, что мы дали им свободу. И, быть может, после их освобождения Итамар с отцом вместе напишут стихотворение, посвященное голубям, которые улетели на свободу, и его прочтут в садике в день Независимости. А если ящик будет пуст и голуби не захотят вернуться, что тогда будет, спросил Итамар. Не будет ли ящик очень печален и одинок на балконе, как Итамар один в постели ночью? Несколько раз спросил об этом Итамар, но отец не ответил, только и говорил, что голуби любят летать в бескрайнем небе туда, куда желают. Солнце совсем уже стало оранжевым на стене и готовилось ко сну, и пришло время зайти в дом, а внизу, по улице, уже шли ночные люди, и сам Итамар очень устал, и не было у него сил возражать. Он настолько устал, что, в конце концов, согласился приоткрыть решетку, дать голубям поесть и не бояться, что они улетят. Голуби же вообще ничего не поняли, может быть, потому, что так и не вынули голов из-под крыльев, и отец вынужден был позвать мать, чтобы она извлекла их наружу, ибо он вообще не хотел к ним прикасаться. Лишь тогда, когда мать поставила их на край балкона, они взглянули на Итамара. Долго смотрели, не обращая внимания на то, что отец уже теряет терпение. Торопился к писанию стихов на кухне, ибо снаружи было уже темно, только немного света на крышах домов. Итамар сидел и смотрел на голубей, покачивающихся на своих ногах, и это было неожиданным, когда оба голубя одновременно взмыли, как будто договорились между собой, хотя Итамар не слышал их разговаривающими друг с другом, и мать посадила их далеко друг от друга. Вначале летали они кругами над домом, потом удалились и сели на эвкалипт, растущий на площадке напротив, который еще был чуть освещен красными лучами, и Итамар мог предположить, что два белесых пятна это голуби, хотя через мгновение уже ничего нельзя было разглядеть, и он так или иначе должен был войти в дом, поужинать и идти спать, ибо темно, и дети идут спать вместе с солнцем. Но он не мог ночью уснуть. Снова слышал, что мать плачет, а отец ей что-то говорит. Вероятно, она не понимала его, ибо продолжала все время плакать, и отец не переставал ей объяснять, добиваясь, чтобы она поняла, и сердился на ее непонятливость, хотя столько времени он объясняет, намного больше, чем он тратит на объяснения Итамару, и стал кричать, и мать сказала «Тише» и продолжала плакать. И снова Итамар был печален и думал о пустом ящике, там, в темноте, на балконе, и был этот ящик похож на разинутый кричащий рот, хотя ничего не слышно было на балконе. Да и сам Итамар чуть не плакал, но высокий и худой человек в углу комнаты улыбался и говорил, что не стоит плакать, что голубям прекрасно быть независимыми, и Итамару тоже будет прекрасно. Итамар почувствовал каплю, мягко упавшую на лоб, хотя ночной человек никогда не прикасался к Итамару, приходя его проведать, и Итамар тоже улыбнулся в темноте. И затем взмыли оба.
Домовая ведьма
Его домовая ведьма жила на веранде, примыкающей к ванной комнате.
В доме была одна ванная с примыкающей к ней небольшой верандой для стиральной машины, развешивания выстиранного белья для просушки, хранения веревок, гвоздей, бинтов, узлов, трубок, использованных, и таких, время которых лишь придет, обувной мази, зубной пасты, туфель, которых уже не носят, зонтиков, в основном, целых, одежды, которую жаль выбрасывать. И всё это в совсем небольшом помещении – метр от выхода из ванной и до большого окна, которое, исключая короткие периоды проветривания, наглухо закрыто матовым стеклом, пропускающим свет, похожий на молочный порошок. Ширина веранды менее двух метров, включая шкаф, в котором сложены одежды и обувь, и стиральную машину, на которую складывается все, что не вмещается в шкаф.
Из-за белесого света в ванной всегда царит осень. Но ведьма вообще не любит свет. И даже в этих осенних сумерках не появляется. Она предпочитает выходить вечером или ночью, когда спускается тьма. В общем-то, можно зажечь лампочку на веранде, слабый свет которой в двадцать пять ватт сдерживает ее порывы. Но все же света этого недостаточно, чтобы ее утихомирить. Ведьма не терпит воды, хотя странным образом выбрала для жилья балкон ванной, место, полное воды. Поэтому, чтобы пресечь ее попытки выйти оттуда и войти внутрь дома, следует кроме включения света обрызгать водой пол на балконе, а у входа налить воды, которая не даст ей возможность войти в ванную.
Итак, заходя в ванную, главным образом, в вечерние часы, еще до того, как зажигаешь свет, следует открыть кран и побрызгать водой пол. Все эти действия – по своей сути оборонительные. Эту ведьму вообще нельзя застать врасплох. Более того, от нее невозможно избавиться. Включение света и обливание водой – действия, лишь сдерживающие ее активность. Преимущество воды в том, что она остается и в темноте. Но, в общем-то, не только свет и вода, но бдительность не дает ей продвинуться.
Но куда она жаждет продвинуться? Вот вопрос, который остается без ответа и по сей день. Вероятнее всего, в середину квартиры. В кухню, в салон, в спальню, в кабинет. Войти внутрь, во все его дела. Почти неощутимо она крадется вдоль стен. Прижавшись, почти вжавшись в стену. Тайком. Беззвучно. Голова ее протянута вперед, ведь она велика и потому весьма выделяется, обвязана платком. Нос ее искривлен, торчит в воздухе, как носик чайника или недобрый зверек. Как бы идет впереди нее. Со всем своим желанием продвигаться вперед и она ограничена в своих действиях. Потому лишь изредка он видит кончик ее носа, высовывающийся из-за притолоки, как нечто, что находится там, за притолокой. И всегда, когда это случается, и кончик носа возникает, всегда он замечает его, и она тотчас исчезает, скрывается в то место, откуда приходит.
Понятно, что ее ахиллесова пята – зрение. Как только она видна, она тут же исчезает. Потому сила ее увеличивается в ночное время. Ибо чем менее она видна, тем более существует. Потому она и проживает на балконе ванной, месте, мало посещаемом, где постоянно осенне-молочный свет, экономная лампочка. И когда он сидит спиной к двери, у стола, и ест, она возникает. Когда же он ее не видит, не поворачивает головы, несомненно, она стоит за ним во всем своем присутствии, длинноносая, со скрюченной спиной.
Желательно, чтоб этого не случилось. Потому кресло, на котором он сидит во время еды, полуповернуто к столу и к двери кухни. Также нельзя оставлять в доме свободными стулья. На них она отдыхает после долгих дорог, осторожных и медлительных, утомляющих ее, пока она добирается до середины квартиры. Свободный стул – убежище врага. Свободный стул – пятая колонна. Если нечего положить на стул – выхода нет: следует приставить их сиденьем к стене. Присядет лицом к стене и, быть может, окажется в ловушке прежде, чем осознает, что случилось, и можно будет ее отчетливо увидеть, хотя он, в общем-то, не убежден, желает ли этого вправду.
Хуже всего ночью, когда спишь, она остается без присмотра и может вытворять все, чего ее душа желает. Даже подойти к нему. Сколько он себя помнит, годами тренируется спать с одним приоткрытым, как узкая щель, глазом. Это очень трудно подглядывать как бы случайно таким образом, чтобы он и сам не ощущал этого действия и мог немного поспать, отдыхая в процессе бдительности. И он старается, насколько возможно, сделать свой сон легким. Но это имеет свои положительные и отрицательные стороны, ибо чем сон легче, тем лучше он может следить за ней, но если все же уснет, то забудет и вовсе об ее существовании именно в тот момент, когда она приблизится вплотную к нему. Во время сна он беспомощен перед нею, и она может прорваться к нему, но, с другой стороны, он как бы защищен тем, что вообще не знает о ней. В этом промежуточном состоянии сна-бодрствования он спит недостаточно глубоко, чтобы не заметить ее вовсе, но и бодрствует недостаточно, чтобы поймать ее взглядом. Очень трудно пребывать в этих двух ликах сна и взвешивать их недостатки и преимущества. Даже в самом сне сильно ощутимо чувство опасности, и от этого нет панацеи. И так в нем накапливается усталость. Усталость во время бдения и во время сна. И чем больше эти две усталости смешиваются, тем более у него возникает чудесная возможность определить их разницу.
Годы усталости делают его все более желчным, несмотря на то, что ему трудно отказаться от ведьмы. Усиливаются боли в спине, ибо он должен спать лицом к входу и все время на одном боку. Прислоняться головой к стене – дело и вовсе безответственное. И так ночь за ночью он должен спать на одном боку, рука немеет под головой, тело напряжено, и он может в любой миг вскочить, если в этом возникнет необходимость. Можно переставить кровать к другой стене, и это он делает каждые несколько недель, но боли в спине усиливаются, и раз от разу ему труднее перетаскивать кровать. Кажется ему, она становится все тяжелее. Да и спать хотя бы одну ночь на одном боку – дело нелегкое. В общем-то, конечно, есть и другие как бы вторичные способы защиты. Но ей-то они не нипочем: с одной стороны, они недостаточны, с другой – это ведь дополнительные усилия к тем, ежедневным и еженощным, и так изматывающим его. Дело еще в линиях между плитами пола. Когда он ухитряется на них не ступать, шансы, что она идет по его следам, невелики. Каждая линия как некая для нее преграда. Но само ощущение, что она ходит по его следам, носом в пол, приносит ему страдания. Ложась в постель, домашние туфли нужно ставить у края кровати так, чтобы они не пересекали линии между плитами. После того, как он упорядочивает место ночных туфель, – несколько раз вскакивает в постели, спускается и проверяет. Иногда, даже после того, как он уже выбрал себе защитную позу, он спрыгивает, и все начинает с начала. После этого лежит в темноте и знает, что недостаточно правильно расположить туфли, ибо они могут дать лишь частичную защиту.
Ведьма-то его, но это вовсе не говорит о том, что они в доме только вдвоем. Он в доме не одинок. Вовсе нет. Есть и другие члены семьи, как и в других семьях, и отношения его с ними такие же, как и в других семьях. Они помогают друг другу, как в обычных семьях. Но никто из близких по дому не подозревает о присутствии домашней ведьмы, хотя живут они в тех же стенах, Можно сказать, что ведьма как бы принадлежит лишь ему. Быть может, она прикасается и к другим, но личные отношения у нее только с ним. Быть может, остальные тоже что-то знают, но не выдают этого. Следить за ней он не собирается. И так ведь силы его ограничены, да и нет свободного для этого времени. Но связь с ведьмой требует всех его сил.
Со стороны его поведение кажется немного странным. Человек спит лишь на одном боку вне зависимости от того, кто спит с ним рядом. Человек старается не ступать на линии между плитами пола. Человек, не советуясь с близкими, которые явно в большинстве, упрямо перетаскивает кровать от стены к стене. И это несмотря на то, что соседи, и живущие на том же этаже, и даже этажом выше, давно жалуются на шум. Но и к этому он уже привык, как привыкают вообще ко всему. Да и все привыкли. Что, ваши близкие не делают разные странные вещи? И вы, что, не уживаетесь с этим? Так и с ним уживаются. Иногда это немного смешит, иногда это немного страшит. А, в общем, рутина. Верно, не очень приятно каждый день ставить стулья на место, снимать с них вещи и возвращать их в шкафы, но ведь вообще работа по дому не прекращается. К примеру, еда загрязняет тарелки, которые миг назад были чистыми, не говоря уже о кастрюлях, крышках, вилках, половниках, ножах, ложках и ложечках. Да и само приготовление пищи весьма нудно и проблематично, требует учитывать мелкие детали в течение достаточно длительного времени, а результаты могут быть испорчены в течение минут. Потому поставить стулья на место совсем не сложно, хотя и не приближает к решению истинно серьезных проблем. К примеру, быть может, проблема в том, что близкие не отдают себя целиком делам по дому, и не отдавали в прошлом, ведь и он немалую часть себя посвящает ведьме. Но и это в пределах нормы. Ведь люди не посвящают себя целиком близким. Есть карьера, спорт, друзья, домовой комитет, рабочий комитет, есть подруги, любимые животные, телевизионный канал по купле-продаже, государственный аукцион, новости, неожиданности, есть всяческие личные удовольствия, которые не рекламируют. Так у него есть ведьма. К тому же, никто не обратил даже внимания, что он не отдается семье целиком. В общем-то, не обращают внимания. Разве кто-то посвятил себя ему целиком? Да и вообще кто знает, что это такое – отдать себя целиком? Что это вообще само по себе – целиком в человеке? Или в людях? Изначально не обращали внимания. Изначально знали и знают лишь часть его, да и часть эта проявлялась то тут, то там, то иногда, а то слишком часто.
Так продолжалось годами.
Поэтому когда возникает необходимость поменять квартиру после многих лет проживания в этом доме, возникает определенная проблема с ведьмой. Как ее перевезти? Он даже не думает оставить ее в старой квартире. Ведьма может рассердиться, поди, узнай, как отреагирует. Ведь даже в своих заранее известных реакциях, уже привычных, она опасна. Да он и представить себе не может такого – оставить ее в старой квартире. Существует, естественно, возможность, что она перейдет вместе с домашними вещами, из ванной, например. Проблема света, в котором она может обнаружиться при переезде, несерьезна. Вещи ведь складывают в ящики, чемоданы, в коробки, которые привозят с собой грузчики, а во всех этих емкостях кромешная тьма. И в грузовике тьма. Как она устроится в ящике? Это не проблема. Как она входит в шкаф в ванной? Как она выходит оттуда? Никто не ожидает, что он извлечет ее из шкафа и запакует в ящик. Это просто смешно. Точно так же, как она умела устроиться прежде, даже очень недурно, так она и продолжит. Потому он и не думает о проблеме, которая решится сама собой, и, несмотря на беспокойство и страхи, он приступает к перевозке вещей.
Вот и грузовик. Грузят ящик за ящиком. Везут на новую квартиру. Это не так далеко. В такое чудесное утро он решает пройти этот путь пешком. Он не торопится. Когда он приближается к новой квартире, часть ящиков уже перенесена с грузовика, и вскрыта, ибо грузчики нуждаются в этих ящиках для дальнейшей работы. Вещи внесены и в ванную.
Но в новой квартире три ванные. Ведь новая квартира намного более благоустроена. И вот тут начинается беготня. Его и ведьмы. Он бегает из ванной в ванную, льет воду на пол то тут, то там. Дети сердятся. В их ванной только у них есть право лить воду. Делали они это каждый день, обливали друг друга, брызгали на стены, из дверей, Чистя зубы, выплевывали воду на пол. Потому им кажется то, что он делает, злой шуткой, неудачной проказой взрослого за их счет. Да и излишнее вторжение в их дела. И ведьма тоже в смятении, не находит своего места. Кажется, она сразу пребывает во всех трех ванных. Устает. Нос ее высовывается из-за притолоки все с меньшей остротой. Да и прячется она медленней. Он бы и сейчас не сумел ее поймать, ибо хоть исчезновение ее более медленно, но и присутствие ее не часто. Но, главное, ее движения к середине квартиры совсем редки. Да и нет середины в новой квартире, ибо в ней много комнат, и они соединены отдельными блоками. Новая квартира тоже дом, но в ином смысле. Словно несколько домов, связанных один с другим.
Быть может, причина в этом, быть может, в ином, но домашняя ведьма тяжко травмирована. Маршруты ее движений, которые никогда видны не были, но ощущались ясно и четко, уже не существуют. Особо близкие отношения с ней испортились. Исчез порядок взаимоотношений, и страх как-то изменился. А ведьма без страха это вообще дело, лишенное смысла. Она почти не возникает. Тут он может, в конце концов, отдохнуть. Спать лицом к стене. И нет нужды ставить стулья сиденьями к стене. И суета его, которая вначале, казалось, усилилась, ослабевает с каждым днем. Он спит спокойно, ночные туфли разбросаны по комнате, подошвами кверху. Это и в самом деле старение. Совсем он состарился. Абсолютно. Угасает.
Я, Цидкияу
Северный вокзал. Тель-Авив. Понедельник, двадцатое июня тысяча девятьсот восемьдесят четвертого. Пять часов после полудня по летнему времени. Вход на перрон. Сейчас поезд прибудет на станцию. Я, Цидкияу, единственный наследник, осуществляю монархию, стараюсь соответствовать должности. В полном смысле этого слова. Все так, как записано в книге. Северный железнодорожный вокзал Тель-Авива, понедельник, двадцатого июня тысяча девятьсот восемьдесят четвертого, я пришел встретить родителей. В буфете, у входа, за прилавком высится толстенная буфетчица. В этот час, на склоне душного влажного дня, лицо ее, покрытое слоем белесоватого крема, блестит от пота. Она наклоняется вперед, опираясь на два огромных своих локтя, словно бы обращается к редко проходящим мимо нее по перрону. Она и вправду поражает, не видит ни меня, ни других, ничего не просит и ничего не предлагает. Лицо ее приподнято вверх, но она не молится. Так или иначе, никто не внимает ее молитвам. Несмотря на охранника у входа в зал ожидания, бродячий пес с найденным где-то куском колбасы в зубах, прокрадывается внутрь, прячется под одним из стульев у буфетного прилавка, чтобы полакомиться трофеем. Ни один посетитель в этот час не сидит за буфетным прилавком. Хозяин буфета дремлет в углу. Жарко. Огромный чуб тенью лежит на его плече.
Северный железнодорожный вокзал. Тель-Авив. Понедельник, двадцатого июня, тысяча девятьсот восемьдесят четвертого. Четверть шестого. Поезд прибывает на станцию. Совсем мало пассажиров выходит из вагонов. Жидкая шеренга растягивается по перрону. В моем направлении. Родители среди последних. До сих пор я беспокоился, что они не приедут. Теперь-то я могу себе в этом признаться. Я был готов к любым неожиданностям, как будто можно к этому приготовиться. Отец идет впереди матери, катит зеленый чемодан на колесиках, потрепанный и покрытый пылью. Движется отец медленно. Я иду, охваченный тревогой, ему навстречу. Следует ему помочь с чемоданом. У мамы тоже чемодан, красный, без колесиков. И огромная ручная сумка. Ей тоже надо помочь. Все то, что они несут в четырех руках, я могу нести в двух. Я могу взять все их вещи вместе, несмотря на их тяжесть. Я тороплюсь им навстречу. Мне тридцать пять. И, вероятно, кажусь бегущим на фоне их медленных шагов. Я почти мгновенно приближаюсь к ним, несмотря на жару, пот, влажность. Они стары. Они больны. Немного им осталось. Сколько им еще ездить на летний отдых? Сколько им еще возвращаться? Сколько раз мне еще их встречать? Еще один день уходит в небытие и не предвещает ничего хорошего. Тревога моя увеличивается с каждым днем и мне следует ее скрывать. Я стараюсь улыбаться. Я ускоряю шаги к ним, так они мне будут казаться более уверенными. Им не следует знать, что я знаю. Я ускоряю шаги. Я улыбаюсь. Даже слишком. Следует быть осторожным. Я замедляю свои уверенные шаги. Не следует слишком преувеличивать. Они могут почувствовать, что я изменил свой обычно сердитый вид и удивиться – с чего бы это. «Да, папа, да, мама. Надеюсь, вы хорошо провели время». Опять спрошу, как они провели отпуск? Где жили? Были ли какие-то приятные переживания. Надеюсь, что не будет сказано ничего более того, что обычно говорилось при прежних встречах. Стена на месте. Вавилоняне в городе. Ничего не изменилось. Ничего не изменится. Мы выходим из вокзала на автостоянку. Вавилоняне в городе. Я уже сообщил вам, что знаю об этом. Понедельник, двадцатого июня, тысяча девятьсот восемьдесят четвертого. Пять тридцать, и хорошо, что сбрил свои большие усы. Они уже и раньше мешали. В такое время лишние волосы как лишний вес. Прикрытие искусственно, броня только мешает своей тяжестью. Солнце бьет в голову во всю свою силы и все же оно какое-то уже использованное, полинявшее, блеклое. Второсортное солнце в более или менее приличном состоянии. Даже в весьма приличном состоянии по отношению к нам. Жар туманит все предметы. Позади нас грязные запыленные стекла в дверях вокзала. Впереди – скопление таких же грязных автомобилей на стоянке. Мне тридцать пять, в смысле тридцать пять лет мой возраст. Понятие это, в общем, не очень-то понятное, да и пользы от него никакой. Я пытаюсь воспользоваться им, чтобы извлечь из него какое-то решение вопроса – что делать. Ответа нет. Тридцать пять лет я живу с родителями, все более совершенствую себя для реализации плана, все более соглашаюсь его реализовать до конца, не зная, что он собой представляет. Слышал какие-то фрагменты, то там, то тут, главным образом, от отца. Теперь я должен его выполнить собственными силами. В одиночку. Не знаю, что он собой представляет. Знаю лишь, что у закатного солнца, у поезда, возвращающегося на станцию, у медленного движения моих родителей, у болезненного их вида – есть нечто общее, и это – конец. Это как завершить чтение книги, не понимая ее, несмотря на то, что каждая страница была скрупулезно прочитана. Закончить читать книгу и не вспомнить ее. Только помнить, что ничего не понял. Я знаю нечто о моей роли. Это роль трагическая. Кое-что читал о ней. Она, в общем-то, готова. Давно. Утром я сделал завершающие шаги. Я, Цидкиау, открываю двери машины, закрываю двери машины, завожу мотор, медленно двигаюсь с места. Улица Арлозорова забита машинами, этими маленькими коробками, выстроившимися рядами в сторону заката, в сторону моря. Еще немного и влажный туман липкой своей дымкой загрязнит море. На углу улицы Вейцман мы сворачиваем вправо, убегая от прямых солнечных лучей. Тени четырехэтажных домов серы, этакие грязные пятна над грязным шоссе. Тени домов еще более тяжелы от лучей заката. Тяжесть влажности ложится на город тяжестью дождя. И люди убегают от этого в любое укрытие.
Несмотря на то, что день этот особенный, ранним утром я встал как перед обычным днем. Ночью спал, как сплю все ночи, видел те же сны, ту же бестолковость. Как обычно, проснувшись и осознав окружение, первым делом кричу себе: прекрати себя жалеть, выдай из себя нечто более серьезное, чем жалость. И опять, как обычно, впадаю в противоречие с собой. И не в шутку, а достаточно всерьез. После чего с той же серьезностью поцеловал себя в левое плечо. В майке и трусах пошел чистить зубы. «Дорогой мой, я люблю тебя», – сказал я себе в зеркало. Выходя из ванной, продолжал считать. Так я определяю время. Все считаю. Шаги к умывальнику, движения зубной щетки, полоскания рта, шаги обратно к постели. Посчитал. Поглядел на потолок. Я готов. И комнату подготовил. Закрыл жалюзи и окна. Длинными забранными в рамы полотнами отцовских картин прикрыл окна, чтобы полностью изолировать комнату от улицы. Прикрыл рисунки на окнах серыми портьерами. В общем, насколько можно, герметизировал пространство. Закрыл дверь. Сидел в закупоренной комнате десять минут. Полчаса. Час. Ручьи пота покрыли меня, заползли в пах, несмотря на легкую одежду, которую обычно ношу в комнате и в постели. Что ж, это знак, что комната отлично закрыта. Придется еще раз пойти в ванную, смыть пот, но – позор лентяям. Я встал. Перетащил большой баллон с газом на середину комнаты и поставил его за кресло. Я знаю, я знаю, газ, которым пользуются в кухне, не ядовит. Я уже сказал себе об этом. Предупредил себя. Ответил себе, что нет у меня ничего другого. Ничего лучше газа. Всегда знал, что надо довольствоваться тем, что есть. Большим баллоном. И если не будет выхода, воспользуюсь спичкой. Дом закупорен на славу. Дом замер. Дом ждет, когда я вернусь с родителями к вечеру. Я вышел. Все утро сидел в библиотеке, сбежав из мрака квартиры. Тут горит неон, работают кондиционеры. Собак и котов запрещено вводить. И молчание людей. Дома тоже – молчание людей. Но угрозу, исходящую от книг в доме, невозможно вынести. Гораздо легче эту угрозу вынести в библиотеке, в присутствии хотя бы еще одного незнакомца. Это педантичное правило хранить тишину в библиотеке каждый раз удивляет меня заново. Крики и вопли в книгах находятся в полном противоречии этой тишине. Ибо даже задушенные крики в книгах это крики. Молчание людей только усиливает их. Посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. Так или иначе, уже поздно. Вавилоняне прорвались в город. Но никто не видит, никто даже не проявляет признака, что он видит. Я уже забран в оковы. Я выслан. Вокруг меня разрушенное лоно Вавилона. Чужое, незнакомое, не мое место. Жена моя выслана. Дети высланы с нею. Сыновья мои зарезаны. Нет у меня жены, нет сыновей, как и нет усов. Жара изматывает. Нет более ничего. С женой, без жены. С сыновьями, без сыновей. С усами, без усов. Руки мои в оковах. Ноги в оковах. Вавилоняне выкололи мне глаза. Достаточно с меня. Уважительные улыбки не представляют истинного решения. Отдел библиотеки, в котором я сижу этим утром, обслуживает Роза. Стойка, пустые столы, книжные полки, история народа Израиля, Роза, еще один читатель и я. К книгам о Катастрофе я не приближаюсь. Достаточно мне и того, что есть у нас дома. И этой ночью я ворочался в постели. Что толку с того, что усну? Все, что было возможно, я сделал. Все. Больше ждать не буду. Еще двадцать или пятьдесят лет ничего не прибавят и не убавят. Будущий век будет также заражен, как и этот. Надпись начертана на стенах: «Мене, мене, текел, упарсин».
В машине, по дороге домой, спрашиваю отца: как там было в отпуске, который для отца, по сути, поездка на природу, писать картины на открытом воздухе. Я не спрашиваю его о картинах, но он именно так понимает мой вопрос и говорит о них. Он предпочитает картину, открытую пространству, он все еще пытается говорить с окружающим его ландшафтом. «Кисть это как некая струя», – говорит он, – «и я теку вместе с ней». «Куда же ты течешь?» – спрашивает меня. Отец, я не спрашиваю, ибо ты не отвечаешь. Никогда не отвечал. Я не исправляю тебя, говоря, что не текут со струей, более предположительно быть влекомым ею, течь в ней. Что толку? К чему спрашивать теперь, что представляет собой эта твоя струя, которая, по твоему мнению, и моя? Нет открытых картин, отец. Все мы – маленькие картинки. Мать, отец, ребенок – на стене. Как твои рисунки, отец. Повешены на стене. Пока в один из дней их не снимут и не вышвырнут. Я не спрашиваю, что ты рисовал, на сей раз, но я разговариваю. Мы разговариваем всю дорогу. О чем мы разговариваем? Мама, вы работали, экономили, покупали. Сейчас все есть. И сыну. И внукам. И правнукам, которые будут. Династия продолжается. Но выхода нет. Она завершится.
Понедельник, двадцатого июня, тысяча девятьсот восемьдесят четвертого, четверть седьмого вечера, и дом ждет. Всегда. И теперь. Когда мы на пути к нему. Отец рассказывает что-то об отпуске. Лицо его изборождено морщинами. Из-за очков глаза его выглядят маленькими и далекими. Я улыбаюсь. Да, говорю, очевидно. Что-то я говорю. Я слышу себя говорящим, но не слышу, что говорю. Я молился всю ночь. И во сне. Пост и молитвы. Нет у меня выхода и я не трус. «Это все из-за тебя», говорю, или не говорю. Не решаюсь сказать и не говорю. Слишком велика держава, но кто я, чтобы спать? Годы тяжки и были тяжки всегда. Сбежать? Такой как я не сбежит. Да и некуда. «Да, мам, все было в порядке, – говорю, – и дети в полном порядке». Огромные пробки на перекрестках. Очередь порождает очередь. Машина ползет. Хорошо еще, что работает кондиционер. У дома есть место стоянки для каждого жильца. Но сейчас, к вечеру, машин здесь немного. Все уехали, сбежали отсюда. В этот раз я возьму чемоданы. Они не согласны: нечего слишком нагружать сына. Я спорю с ними. Не уступаю. Несу их до двери. Чемоданы старые. Ударяют по ступеням. Шум негромок, стук по перилам. Никто из соседей не выходит. Спят, вероятно, поздним послеобеденным сном, или уже легли спать рано. «Садитесь с дороги, принесу вам что-нибудь попить. После поговорим. Все закрыто здесь из-за комаров». Комната темна, портьеры не мешают, ведь и так темнеет. «Окна закрыты, немного душно от дневной жары. Сейчас я открою их. Отдыхайте». Чайник уже кипит, я добавляю таблетки во все чашки, размешиваю, всем троим. Подношу, согласно забытому этикету три фарфоровые чашки, украшенные голубыми птицами, три одинаковых фарфоровых блюдца, на которых нарисованы те же голубые птицы. Мы сидим втроем. Я знаю, почему они так расслабились, почему они молчат. И я молчу. С большим трудом я открываю балкон. С большим трудом закрываю дверь. Руки мои в оковах, которые не слышны. Мой портрет, который отец нарисовал, когда мне было десять, я поставил в окне, позади других. Покрыл его портьерой, но сделал так, чтобы лицо мое за портьерой глядело на меня. Мальчик с картины смотрит на меня, улыбаясь своими большими глазами. В этой картине отец выразил всю свою любовь ко мне. Мальчик смотрит. Мальчик будет продолжать смотреть. Глаза у меня выколоты. Я должен отдохнуть. Отдохнуть по-настоящему. Отлично отдыхать, нет больше нужды в руках, глазах, нет больше нужды в свете. Я, Цидкияу. Вавилоняне прорвались в город.
Купить зимнее время в Цфате
Цфат одна из четырех святых стран света. Всего несколько километров по воздуху от Тверии, которая тоже святая страна. Цфат находится на карте. Цфат – столица Галилеи в стране Израиля. Цфат расположен на высотах. В горах. Гора Кенаан – вершина Цфата высотой восемьсот метров над уровнем моря – смотрит на гору Мирон. Но я уже давно пришел к выводу, что Цфат это не место. Я осознал это весьма давно. Так же, как понял, что горы Тьмы это не место. Каждый год я основательно готовился к нашей семейной поездке в долгий летний отпуск, вместе с отцом и матерью, в Цфат. Выучивал наизусть номер автобусного билета, чтобы понять, где наше место, впереди, со стороны водителя, около окна, с какой стороны будет солнце во время нашей поездки, ибо ехать долго, и следует остерегаться солнечных лучей. Выбирал лучшие шорты с подтяжками, лучшую рубашку, лучшие носки, чтобы и все, надетое на меня, получало удовольствие от поездки. Старался приподниматься как можно выше у окна, поднимал руки и ноги, чтобы все мои одежды, даже носки, видели этот прекрасный пейзаж. Во время двух остановок в дороге я также отдыхал, чтобы помочь мотору автобуса. Я знал, какие ему предстоят усилия на последнем отрезке дороги, в горах, я помнил это с прошлого года. На крутых поворотах я напрягался вместе с мотором всеми своими силами, задерживал дыхание и давил так, что чуть не наделал в штаны. Никак не мог понять, как сосны и воздух могут держаться на такой высоте, как это они не падают вниз и как воздух над ними не улетает в небо. Уже тогда я осознал, что подъем в Цфат это не просто поездка. Это использование возможности так же, как и подъем в горы Тьмы – использование возможности. Цфат ждет нас, ибо готов нас принять, как и горы Тьмы ждут нас. И каждый год велика была моя радость, когда я чувствовал, что нам удалось увидеть Цфат в конце пути. Радость эту портило то, что через две недели мы должны были покинуть эти высоты, на которые поднимались каждый год, и драгоценное время отпуска тратили на пустяки. В эти поездки я должен был многое еще изучить и понять, но я не убежден, что уже тогда понял то, что я осознаю сейчас.
С взрослением я как бы удалился от Цфата. Уже не еду туда с родителями. С взрослением я потерял много времени. И потеряв много времени, понял: в Цфате можно купить время. Теперь я езжу в Цфат купить время. Для моих родителей. Я поднимаюсь в Цфат. Нет сейчас ни солнца, ни небесной голубизны, ни птиц по дороге, ни рева мотора старого-престарого автобуса компании «Эгед», лишь шум мотора моей машины, когда она напрягается, чтобы, преодолев туманы, въехать в город. Туманы до того густы, что я не нашел бы нужного мне места, если бы не знал этот город, как свои пять пальцев. Дождь хлещет в стекла машины, ветер ударяет в ее борт, почти приподнимая ее в воздух. Если бы можно было увидеть колею в тумане, я бы сказал, что ветер сбивает машину с колеи, но колеи-то не видно, а я знаю дорогу без того, чтобы вглядываться, в поисках колеи. Холод стоит стеной вдоль улиц. Видимость невероятно ограничена. Гора Мерон вообще не видна с улицы. Ручей Амуд тоже не виден. Гора Кенаан также не видна. И когда поднимаюсь в парк вокруг древнего укрепления на самой высокой точке города, дома внизу, вокруг парка, не видны. Небеса не видны. Существует как бы в себе только парк вокруг древнего укрепления. Слои над слоями выпирают из-под земли, из-под корней сосен, большинство которых мертво. Целые миры властителей прошлого прокатились над этим холмом. Я припарковываю машину на изгибе улицы, выхожу, пытаюсь одолеть смесь ветра с дождем, бьющую мне навстречу.
Неимоверно трудно идти в такую погоду, но, пройдя всего несколько шагов, я оказываюсь у одной из лавок времени. Кажется, у лавки Бирнбойма. Я никого не спрашиваю, когда и в какую лавку следует зайти. Не выбираю из того немногого, что есть. Из того немногого, о чем вообще не говорят. Тот, кто знает, – знает. Если бы, к примеру, я спросил бы кого-нибудь на улице, где лавка времени, он бы посмотрел на меня с удивлением: что я вообще тут делаю? Что я тут делаю? Я приехал навестить родителей. А, в общем-то, я приехал купить немного зимнего времени. Для моих родителей. Чтоб у них всегда был достаточный запас.
В восточной части главной улицы, рядом с местом, где было арабское село, недалеко от единственного оставшегося от мечети минарета, стоящего на повороте шоссе над одноэтажными лавками по правую сторону дороги, есть лавочки, в которых можно купить время. Никаких вывесок, кроме жестяных листов с написанными на них именами владельцев. Рабинович, Бирнбаум и так далее. Стены части лавок все еще покрыты голубой известкой, по арабской традиции, перенятой евреями. Вход в лавку высокий, под аркой, внутри темно, свет идет от входа. Я не вижу никакой разницы между лавками и выбираю одну из них, кажется, Бирнбаума, вхожу, заслоняя свет входа, затемняя и без того темную фигуру старухи, сидящей за голым деревянным прилавком, на котором стопка старых газет, вероятно, для обертки. Лица ее не вижу в сумраке, движения ее медлительны и равнодушны. Она не приподнимается мне навстречу, не спрашивает, что мне надо. Что мне надо? Поднялся по дороге в Цфат – купить время. Для родителей. Я знаю, я знаю, время нельзя купить за деньги. Можно обменять имущество на время. У меня много имущества, и привез я его из города в низменности, где проживаю. Я знаю, что летнее имущество, привезенное с низменности, здесь многого не стоит, а зимнего имущества можно привезти сюда немного, не потому, что груженая машина с трудом поднимется на эту высоту, а потому что вне Цфата нет вообще где-либо большого зимнего имущества. Только зимнее имущество здесь может иметь цену, и только его можно обменять на время. В Цфате можно жить всегда, если в нем удается достать время. Цфат это – туман и зима. Потому родители мои живут в Цфате. Вечно. Потому родители мои живут в зиме. Вечно. И время их, время зимнее, может увеличиваться при условии, что отсюда не уходят. Но для вящей гарантии следует время от времени добавлять это зимнее время, следует иметь его немного в запасе. Я и беспокоюсь о родителях, приезжаю прикупить им еще немного зимнего времени, чтобы не убывало оно никогда. В Цфате.
Я выхожу из лавки, загружаю машину временем, еду к дому родителей, в пригород. Как всегда, до момента приезда к дому родителей, я всего лишь пятнадцатилетний подросток. И тогда я вспоминаю, что вообще не собирался сюда ехать. Они взяли меня с собой. Я вовсе не хотел ехать сюда, но и не мог оставаться один. Что будет делать подросток пятнадцати лет один в огромной пустой квартире в Тель-Авиве. Я целую моих родителей. В семье нашей не очень-то целуются. Но я делаю это редко, лишь когда надеваю свое серое колючее пальто из верблюжьей шерсти с капюшоном, тремя огромными пуговицами и тремя петлями, натягивая его на темно-зеленый свитер, кажущийся почти черным: его связала мне мама. Я беру черный зонтик отца и выхожу на центральную улицу поглядеть, что происходит в городе. Я поднимаюсь в гору между небольшими фонарями, отдаленными друг от друга. Идет дождь. Я наклоняю лицо к земле под зонтиком из-за напряженного подъема, но резкий порыв ветра поднимает лицо мое вместе с зонтиком кверху. Люди погружены в себя. Лавки закрыты. Я прохаживаюсь туда и обратно по центральной кольцевой улице, затем возвращаюсь домой. Дом родителей, по сути, подобие летней дачи, которую они купили в Цфате. Три комнаты. Закрытая веранда обращена во двор, вернее на задворки рядом стоящего дома. Кухня закрыта, ванная закрыта. Чертовски холодно. Следует все прогреть. Я вернулся домой. Когда я вышел на прогулку, отец мой занялся зимним временем, которое я привез в большом количестве. И вот вернулся с прогулки, родителей дома нет, а дождь продолжает лить. Родители мои привычны к зимнему времени. Они так же привыкли выходить в дождь. Отлично, что никого дома нет, и я могу привести сюда соседскую девушку с третьего этажа. Как-то, несколько лет назад я сказал ей: давай поспорим, что ты не осмелишься раздеться догола передо мной. Еще как, сказала она, но негде, так вот минута пришла, надо сказать ей, что родителей дома нет. Я только приехал, говорю, и она приходит, абсолютно голая, несмотря на холод, стоит перед зеркалом нашего огромного платяного шкафа, но я не могу к ней прикоснуться, говорит она, ибо помазала между ног какой-то противной мазью, я могу к ней прикоснуться, только если на ней трусики, она очень остерегается даже со своим дружком-солдатом, и ничего не делает без трусиков, а сейчас их на ней нет. Поэтому прикасаться нельзя, только смотреть. Я верю ей или, точнее, предпочитаю верить, и я только смотрю. За окнами сильнейший ливень. И это будет длиться долго. Мы остаемся в комнате, и, войдя в туалет, она возвращается все так же голой. Я хочу продолжать разглядывать ее, ибо ничего иного не могу сделать. Но это чудесно оставаться с нею столько, сколько душа моя пожелает. Никаких ограничений зимнего времени.
Родители возвращаются. Отец идет в свою комнату спать, мама – в свою. По сути, у отца это спальня и кабинет, стоит там старый коричневый стол, привезенный им из Тель-Авива. Жаль его выбрасывать. Мама идет спать в комнату с большим платяным шкафом, который сделал им французский столяр. И тут родители мои спят в отдельных комнатах. Я могу присоединиться к каждому из них. Но я могу спать и в салоне. Я могу уходить и возвращаться. Они спят и не говорят мне, что это или то нельзя делать, как обычно делают, когда не спят. Может, и не знают, что я вышел. Я выхожу опять в том же пальто. Иду в город, в парк, окружающий древнее укрепление сплошным туманом. Наверху остатки стен арабских строений, построенные по-арабски, беспорядочно, с массой глины и небольшим количеством камней разной величины. Стены бугорчаты, основательной толщины и только потому не рушатся. Не вижу арабов, которые были здесь, но их присутствие ощутимо. Под арабскими хаотично разбросанными бугорками и утолщениями начинаются упорядоченные византийские стены. Огромные камни гладко и дочиста оттесаны, четко подогнаны один к другому по величине, словно бы камни в игровой мозаике. Просветы между ними заложены, немногие отверстия темны и молчаливы, полны праха и трав. Сейчас, ночью, несмотря на тишь и пустоту, можно ощутить души, которые обитали здесь, в этих огромных пространствах с высокими арками, большинство которых забито землей. Я ощущаю их, но не вижу их еще и потому, что стою на большой высоте. На вершине сада, около памятника воинам, погибшим в войну за Независимость. Вокруг меня мертво, успокоено стоят сосны. Далеко отсюда, внизу, на спуске еврейского кладбище спит святой Ари, вокруг него могила на могиле. Давным-давно, много поколений назад, перекрыты были подходы к могилам, плотно взявшим в кольцо каждую пядь вокруг могилы Ари. Сейчас живые и мертвые полны покоя, никуда не торопятся. Ари ждет. Вероятно, Мессия ждет тоже. И я избавился от страха перед ужасной тьмой, которой боялся пятнадцатилетним подростком. Вместе с зимним временем набрался мужества. Я медленно спускаюсь от древнего укрепления вниз. На улицах ни одной живой души. Словно завершилось время года, и сейчас – переход от одного времени к другому. В прошлом в одиночестве к утру возвращался из квартала художников после празднования конца летнего сезона в последний день праздника Суккот – в Симхат Тора с переходом в зимнее время и возвращением к будням. Улицы были абсолютно пусты, даже уличные фонари были погашены, заря еще не занималась, а звезды были скрыты за облаками. Все спали. Один я шагал, соединяя старый город с новым, кварталом, где летняя квартира моих родителей. Вот и сейчас шагаю, с удивлением спрашивая себя, и вправду ли я приехал в Цфат проведать родителей и купить им зимнее время. Быть может, я приехал, чтобы соединить новый город со старым? Быть может, и то, и это? Тем временем, я продолжаю идти. Улицы пусты. И небо пусто. Точно так же, как тогда.
Возвращаюсь в дом, сажусь у маминой постели: она лежит одиноко на такой маленькой кровати под огромным платяным шкафом. Я напеваю ей колыбельную, ту самую, которую она напевала мне в детстве. По-русски. Но я-то не понимаю слов, да и не очень помню их, потому напеваю то, что выходит. Она во сне не может поправить меня. Я напеваю, пока не нападает на меня дремота. Назавтра мы просыпаемся, завтракаем, немного читаем утреннюю газету, которую отец берет с собой в парк санатория больничной кассы, где встречается со знакомыми товарищами. Идет дождь, как это обычно здесь бывает, но и отец по зимней своей привычке, словно бы и нет зимы, не прячется от дождя, садится на влажную скамейку, между соснами, хвойный запах которых так полезен для здоровья, читает газету. Но дождь и холод усиливаются, и у отца начинается глубокий кашель. Он вынужден спрятаться под экседрой над входом в санаторий, пока дождь не ослабеет. По дороге сюда я думал, что, сопровождая отца на прогулке, я смогу спокойно задавать ему всяческие вопросы, которые в юности считалось неприличным задавать, или вопросы, в те годы вообще не возникавшие. Хотелось мне тогда спросить его: что ты там делаешь с мамой, когда вы спите каждую ночь в отдельных комнатах? Хотел спросить его: каково твое мнение о соседской девушке, которая мне симпатизирует? Но каждый раз, когда мы усаживаемся на скамейку, я забываю все эти вопросы, и задаю опять те же, о школе, экзаменах, учебе, которую, быть может, и не стоит продолжать. И лишь вернувшись с прогулки, вспоминаю вопросы, которые собирался задать. И каждый раз я сам себе обещаю: в следующий раз обязательно их припомню. Возвращаясь к машине, вспоминаю все, и кажется мне, эти туманы и холод сминают мои вопросы, замораживают их. Они становятся частью этого уверенного в себе места. Я пребываю в смятении, ибо, быть может, все же помнил, что надо спросить и даже спросил, но сейчас, когда я возвращаюсь в низины, я забываю ответы. Это тоже причина вернуться и проведать их вновь, говорю я себе. В следующий раз надо будет непременно припомнить все вопросы и запомнить все ответы. Вот и есть причина еще раз их проведать. Еще и не успел оставить полностью это место, еще и не успел добраться до дома, но я уже знаю, что есть у меня причина вернуться. Есть у меня причина вернуться и купить зимнее время в Цфате.
Под тяжелым покрывалом
Начало было молчаливо. Она ждала у темного входа в библиотеку Сорского, центральную библиотеку Тель-Авивского университета. В этот поздний декабрьский вечер огромное здание замерло в безмолвии, только слышен был шум дождя. Ничего не осталось в этих стенах и воздухе от суеты тысяч входящих и уходящих, снующих здесь в течение дня. Ничего не намекало на нечто особенное, что должно было случиться сегодня поздним вечером.
Тишина помнилась ему лучше суеты. Она шла ему навстречу, чуть прихрамывая от усталости. Нелегкое это дело весь день обслуживать сотни посетителей, требующих книг, а после этого еще оставаться в опустевшей библиотеке – разложить книги по местам. Да и время было позднее. Больше десяти вечера. Трудовой день наконец-то окончен.
Когда они шли к машине, которая в этот час была едва ли не единственной на огромной стоянке, освещенной луной и редкими слабыми фонарями, но все равно остающейся темной, под кронами деревьев, посаженных рядами в квадратных гнездах, так вот, когда они шли к машине, не было никакого намека на то, что это не просто встреча, а нечто иное.
Это виделось ему как еще одно начало еще одной встречи, откровенная цель которой – постель в темной комнате, ну, и параллельная цель – чувство какой-то поддержки, когда сидишь напротив женщины и говоришь, и она излучает покой и удовлетворение, улыбается или просто смотрит на тебя.
Насколько память ему не изменяет и не обманывает, было именно так. Во всяком случае, внешне это выглядело так. По крайней мере, вначале. Начало встречи вело на запад, в места знакомые, между университетом и морем, по песку и щебенке, в Тель-Авив, по которому он кружил все свое детство и юность, короче, в Тель-Авив, где все было ему памятно. Дорога к берегу моря коротка. Потому это начало и было коротким, завершившимся баром в гостинице «Хилтон».
Под сенью скалы можно ощутить присутствие моря, несмотря на то, что здесь, в глубокой, почти закрытой яме бара, открытого лишь шепчущимся парам, замкнутым в своей парности, сделали все, чтобы отдалить море. О чем думать, черт возьми, о чем говорить, когда сидят над коктейлем «Блади Мэри» или чем-то не столь крепким, и над блюдом с калеными фисташками? Вот и взяты в расчет молчание, которое скрывает робость начала встречи. Пусть она чуть отдохнет от усталости рабочего дня.
Отголоски молчания как бы тянулись за ними, когда они встали и направились к машине. Следовало сдержать ту бешеную гонку вдоль прибрежного шоссе, к которой машине не была приспособлена. Она, протестуя против неестественной для нее скорости, дребезжала, разбрызгивая лужи вдоль обочины, высыхающие на капоте под пронизывающим ночным ветром, под светом луны, которая взошла, чтобы обмануть зимнюю ночь, тяжко оседающую влагой над шоссе и окрестностями и полную неожиданными запахами, словно бы предвещающими приближение весны.
Не удивительно, что она не разглядела его тяжелое покрывало, под которым вершилось то, что должно было произойти между ними. Ведь он сидел по другую сторону покрывала.
Возвращение домой этой ночью уже могло быть предвестием будущих событий. Оказалось, что она из Рамат-Гана, из того квартала, где низкие, в два этажа на столбах, дома больше говорили о бедности, чем о скромности.
Весь первый вечер он попусту пытался говорить с ней, сидя в машине около ее дома на боковой раматганской улочке, близкой к Тель-Авиву. Сидел в машине, стесняясь своего профиля, повернутого к ней, ждал, когда она выйдет из машины, и не хотел, чтобы это случилось. Не хотел, чтобы она вышла, но и не хотел, чтобы оставалась, ибо не знал, что случится, если она останется. Понимал, глядя на ее тонкий-тонкий черный свитер, который одновременно и прикрывал и обнажал худые плечи и всю ее, до такой степени, что он мог взять ее в ладонь. Он мог бы весь вечер говорить только об этом свитере, но не сказал ни слова. Он и о себе не сказал ни слова. Да и ей ничего не сказал. Не осмелился думать и не осмелился говорить. Тем временем несколько листьев упало с эвкалипта на крышу машины, и это был единственный шум перед тем, как она сказала: «Я иду спать». Только тогда, в тишине, смятенно и тяжко замершей, одним движением оголил ее плечо из-под рубашки и свитера, поцеловал его, и молчание ее было знаком того, что это ей принято.
На следующий вечер они пошли в кино. На нем была надета новая белая сорочка. На ней – такая же новая белая кофточка. Им казалось, что свежая ткань шуршит при каждом движении привлекая внимание сидящих вокруг. Плечи ее, белеющие во мраке, казались обмякшими, словно требующими защиты, но он долго колебался, пока решился положить руку на ее плечо. Что будет, если она сожмется или, еще хуже, отведет его руку. Положение усугубляется тем, что именно тогда, когда он поднимает руку, экран осветился, и в зале стало светло зрителей. К счастью она не оттолкнула его, но скованность или безразличие, понять было трудно. Еще одна неясность. Пониманию того, что данном случае означает «да», а что «нет», к сожалению, нигде не обучают. Может быть, просто сильнее обнять ее плечи и молчать. Просто видеть эти плечи, нуждающиеся в прикрытии.
Третья встреча не столь важна, как первая. Потому она и не столь ясна, как первая. Лишь завершение ее ясно.
Она вытянулась, голая, насколько это позволили откинутые передние сиденья его машины. Ноги поджаты, спина приподнята. Стеснительность не сдерживает. Он распластался над ней, борясь с чем-то, что, ему кажется, ее стыдом. Все еще ненадежно. Ему следует быть осторожным, но он просто не знает, как, ибо не ясно, наступает ли он на хрустальные бокалы или на осколки стекла. Она не с ним. Глаза ее равнодушно замкнуты. Именно в эти мгновения она думает о матери и отце, которые недавно умерли. Поэтому он снова молчит. Ее подбородок дерзко направлен вверх. Именно подбородок, а не зажмуренные глаза и трогательный курносый нос. Но даже и подбородок не так выделяется сейчас, как это случиться через двадцать-тридцать лет.
К дерзкому ее подбородку, на котором сосредоточено его внимание, он и обращается, возможно, чересчур торопливо, но довольно разборчиво: «Тот, кто будет с тобой первым, получит наслаждение от твоего прекрасного тела, но ему придется постараться, ведь ты чересчур холодна».
Вместо этих слов, он должен был сказать просто: «Я хочу сказать, что мне очень хорошо с тобой, но не знаю, как выразить это словами. И еще я немного боюсь и не знаю, что делать. Не знаю, что я хочу сделать. Я боюсь того, что сделаю. Я боюсь того, что со мной случится, если я не сумею этого сделать или сделаю не так, как нужно. Мне неловко. Мне стыдно. Я напуган тобой и самим собою». Вместо того, чтобы прижаться к ней и любить ее, ему проще думать, что кто-нибудь когда-нибудь докажет ей свою возможность в «буре и натиске». Этот кто-нибудь похож на мифологического героя, некоей книги. Думая об этом, он не может отказаться от задуманного, но и не может продолжить. До сих пор все попытки быть похожим на того мужественного героя, который обязан завершить начатое, оканчивались для него фиаско.
Она не отвечает на его слова и действия. Не открывает глаз. На ее лицо накладывается нечто иное, далекое. Герои сказок надевали панцирь и отплывали за моря и океаны, чтобы спасать и покорять возлюбленных. Он же должен вернуться к папе и маме.
А ее папа и мама уже умерли, их нет. Она останется одна в своем доме.
Глаза она откроет лишь после того, как оденется и уйдет домой – в некую черную дыру в черной ночи, с одинокой верандой на втором этаже двухэтажного строения, подпираемого гигантским кипарисом, растущим во дворе. Кипарис предан веранде: кажется, он приподнял ее с земли на второй этаж и с бесконечной верностью и осторожностью держит ее на весу. Если существуют гномы или тайные ночные привидения, кипарис служит им убежищем в ночи. Ему кажется, что кипарис обладает силой – не важно, злой или доброй, – оберегающей ее жилище. Поэтому он предпочитает не переходить порог ее дома. Он, какое то время скрывается в темноте около уличного фонаря. Потом садится в машину и возвращается домой. Как будто сбегает.
Никого нет рядом во время их свиданий. Безмолвие густо и затхло, как застоявшийся воздух в запертой квартире.
Такова квартира ее родителей, ставшая теперь ее квартирой. И вот они заходят в нее впервые вместе. Квартира напоминает современное подобие кельи монастыря, обитатели которого приняли обет бедности. Светло-кремовые стены освещены обнаженными стоваттными лампочками. Железная вешалка в коридоре, и на ней шляпа отца, повешенная им перед тем, как он отправился в больницу, откуда уже не вернулся. Диван и стол в салоне. Диван и стол в кабинете отца, который стал ее кабинетом, хотя в нем ничего не сдвинуто с места. Спальня родителей стала комнатой брата, который время от времени приезжает в отпуск. На стене черно-белый портрет отца, на губах которого улыбка, правда, не столь заметная, как лысина, явно смирившаяся со всем, что на нее сваливалось.
Когда они лежат вдвоем на диване, выражение его лица не изменяется и таким оно остается и тогда, когда она выгибается под ним, переворачивается, голой встает на колени и сама себе говорит шепотом задумчивого изумления: «Я уже не девственница». Так быстро это все случилось, и не столь чудесно, как он себе представлял несколько недель назад, думая о том, как она перенесет этот первый раз, и точно не с ним, ибо этого он страшился и даже говорил об этом вслух. Уже в машине, по дороге домой, по-еле свершившегося, он понял, что свет в окне ее квартиры просто был обманом. Это был свет отражающего экрана, висящего перед его глазами, который ничего не показывает. Все главное остается за пределами желтоватого свечения оголенных стен. Движения и поступки были обманчивы. Так тонущий пловец со стороны выглядит танцующим, его барахтанье представляется безмолвным танцем а, на самом деле, он беззучно идет ко дну. И сколько бы не тренировать зрение, главного не увидеть.
Дома мать и отец, ни о чем не говорят. Ничего не подозревают. Открывают ли они вообще друг другу свои мысли? Сны их безмолвны, крики в этом доме не слышны. Простыни неприятно шуршат, и это самый сильный шум в родительском доме. Может безмолвие это от внутреннего покоя, но что это за покой? Уже давно ему было ясно, что слезы не испаряются, не исчезают под тяжелым покрывалом. Но тихое дыхание отца слышалось поодаль от постели, как звук приближающегося и усыпляющего поезда, а не поезда удаляющегося.
Она не разрешает поливать цветы на открытой и пустой веранде квартиры ее родителей. «Пусть увянут, – говорит она, – пусть умрут. Я не хочу ничего, что связывает меня с этим домом. Ничего, что заставит меня вернуться сюда и следить за ним». Даже если в словах этих есть смысл, он не может с ним смириться.
Он видит вычищенные до блеска вазоны с цветами на закрытой и ухоженной веранде дома его родителей, где мама возится с ними. Так у него появляется утомительная обязанность в те несколько вечеров в неделю, когда он бывает у нее. На веранде уже лето. Он хватает чайник, наполняет его водой, бежит на веранду и пытается напоить цветы, стараясь опередить ее, бегущую за ним, чтобы вырвать чайник из его рук. А когда он бежит, почти вся вода проливается из чайника, так что не так уж много остается на поливку. Так они занимаются бегом: он впереди, она за ним, по полоске пролитых вод. Через месяц нет уже в двух вазонах желтой высохшей земли, и увядшие ветви вновь вернулись к жизни.
Ко дню рождения он купил ей морскую свинку. Это достаточно малое и нетребовательное животное. Нет, она не будет держать эту мышь ни до конца недели, ни даже на один миг с собой в доме, говорит она: «Возьмешь ее с собой». Никакие объяснения, что это не мышь, а морская свинка, не помогают. Даже в словаре и в книжке, описывающей это существо, черным по белому написано, что она ближе к собаке, чем к мыши, говорит он, пытаясь оправдать свой подарок, а сейчас пятница, вечер, все магазины закрыты, некому ее вернуть. «Нет» и всё. И он возвращается домой с морской свинкой. Он тоже не хочет держать ее в доме, мать ему не позволит, и пытаться не стоит. В воскресенье он идет к продавцу, который с весьма небольшой охотой принимает животное, как подержанный товар.
На этом он решает завершить с ней отношения. Животные это не разменная монета, переходящая от покупателя к продавцу. Тот, кто не может любить жизнь, какая бы она не была, в любом случае, без каких-либо условий, не может, в общем-то, любить и его. «Сожалею, – говорит он ей по телефону, – но я так не могу. Тебе нужен кто-либо другой, более подходящий. Я вернулся в магазин с морской свинкой». Она слышит и молчит, как бы ожидая его слов, и через некоторое время они встречаются снова. Теперь не как любовники, а как друзья. И это возможно. Друзья могут пойти в кино или на дискотеку. Могут и переспать. Почему нет, ведь они преуспели в этом еще до того, как стали товарищами. Это как удачно выполненная работа, продолжающееся как бы на новом уровне. Доводы, сопротивляющиеся такой дружбе, постепенно слабеют, а позже и вовсе не слышны. Покой устанавливается в нем, и он начинает к нему привыкать. Внутреннее безмолвие, к которому примыкает и внешнее. И всякое молчание принимается им с удовлетворением. Время как-то легко проходит. Ему комфортно, и все же как-то неприятно, что нет у нее нового ухажера, такого серьезного, который заменит его. Словно бы у него ничего не купили. Словно бы он остался охранять ее виноградники и после того, как уволился. Ее жизнь осталась все также связанной с его жизнью. И он опять казался себе ребенком, играющим в сторожа, который, говорит: а я ребенок, и я не хочу уже быть сторожем, я лишь хочу пользоваться плодами сада сего.
Когда она рассказала ему во время одной из встреч, что ее познакомили со стариком тридцати двух лет, уж очень старым по ее понятиям, хотя и лектором Еврейского университета, он был очень доволен. Все же нашелся серьезный претендент, на его месте.
Она объясняет, что не желает этого старика, а он все его изъяны оборачивает в преимущества, объясняя, насколько Реувен любит ее, заботится о ней. И постепенно она как бы привыкает. И когда она сама рассказывает, насколько Реувен добр, придерживается традиций, каждую субботу преодолевает километр, чтобы побыть с мамой, что-то щемит ему сердце.
Вот же, удостоилась она настоящей любви, которой он-то и не встретил.
И он остается в стороне. Вот, и по радио, в машине, по дороге к ней домой и обратно, о нем не говорят. И на рекламах кондитерской фабрики «Элит», мимо которой он проезжает по дороге к ней и обратно, не его портрет и не будет никогда его портрета. Он стирается, он скрыт под тяжелым покровом. Нет у него имени и памяти о нем. Так годами они были вместе, а он всегда оставался один. Он всегда один в дороге. В дороге к ее дому и ее постели и обратно к своему дому и к своей постели.
Эти двое успешно делают то, чего он раньше с ней не делал, а нынче не делает и с другими. Труднее всего то, что вопреки всем стараниям, он вообще не знает, что эти двое делают. Знакомая ему квартира становится таинственной и желанной благодаря делам, которые в ней вершатся в тайне от него. Дела эти он даже в воображении представить ясно не может, поэтому никак не может им подражать, взять, так сказать, на вооружение. Также не может уяснить смысл этого тайного дела.
Она едет в Иерусалим, на квартиру к Реувену, посещает его лекции в Еврейском университете. Приятный человек, на голове которого кипа выглядит достойно, даже если он снимает ее, выходя на улицу. Парень в летах, высокий, из тех, кто торопится в больничную кассу около дома матери, пересекает общественный сад, скамьи которого заняты людьми, корзинами, коричневыми конвертами с результатами анализов, не возвещающих ничего хорошего, проходит между ними, высокий как верстовой столб, верный крепкой связи с сиротой из Рамат-Гана.
Чем дальше заходят отношения между ней и Реувеном, он, со стороны, впадает в расстройство, распадается, теряет самого себя, словно что-то его снедает. Чем больше она рассказывает о своих встречах в Иерусалиме, тем чаще он отменяет встречи с другими женщинами и хочет быть с нею. То, что хорошо для другого, должно быть хорошо и для него. Однажды светлой звездной ночью, на скамье сада, что на холме, где они провели немало ночей, он говорит ей: «Я хочу вернуться к тебе. Пошли». Но она не падает в его объятия, как он полагал. «Я хочу услышать, что ты меня любишь настолько, что не можешь без меня. Не просто хочешь вернуться, а не можешь без меня». Так она отвечает. Пальмы вокруг склоняют ветви свои низко, чтобы услышать его ответ, которого нет. Летучие мыши проносятся между ними. До такой степени человек этот не может сказать, а она не требует объяснений. Быть может, если бы он что-то ответил по-иному, она бы и не потребовала разъяснений, но кто может знать, ведь он не дал ей желаемого ответа.
Когда же он спустя две недели готов сказать «Я не могу без тебя», и он говорит, и это на самом деле так, – уже поздно. «Ты не сказал это по своей воле. Не так я хочу. Ты должен захотеть сказать мне это лишь по собственному желанию. Иначе я этого не принимаю. И не это я имела ввиду. Стань передо мной на колени» – говорит она ему в самой решительной и самой неожиданной форме. – «Я хочу, чтобы ты умолял меня об этом. Я хочу, чтобы это пришло из души твоей. Чтобы не мог этого сдержать».
Он умоляет ее в глубине души своей. Чтобы она не услышала. Она и не слышит.
Начало молчаливо. Так и конец молчалив. А продолжение неважно. Туман стоял в тот вечер. Туман становящийся частью окружающих пальм, частью памяти. Туман – часть этого повествования.
Все возможно. Все верно. Кто-то стоит именно на том месте, где он стоит. Кто-то смотрит и не может иначе. Не видит ничего из-за слез. Слезы продолжают греть даже после того, как остыли, после того, как высохли. Неверно говорить, что их нет. Ничего не прибавляется под темным покровом. Ничего не теряется. Каждый укрыт своим покрывалом. Каждый – со своей стороны покрывала. Каждый одинок.
Привет тебе, которая не могла быть. Привет тебе от того, кто не мог быть. Привет от того, кто есть. Привет тому, кто есть.
Красное
Белые полосы тянутся от одного края стены к другому. Группа за группой, квадрат за квадратом. Так что пока одни полосы исчезают в темноте, уже догоняют ее вторые и третьи. Иногда полосы шли сразу же за предыдущей партией, иногда – с коротким темным перерывом. Когда мне кажется, что достаточно и этих, достаточно пугающей меня пытки. Когда выныривает из тьмы следующий красноватый полосатый квадрат и проносится по стене, я опускаю голову на верблюжье колючее одеяло. Это одеяло я раньше не решался стелить на диване в чужой квартире, а сейчас протянул его до подушки. Я опустил голову на монашеское верблюжье одеяло, сотканное из бежевых нитей, щетинистых волокон с мыслью, что сейчас, именно сейчас все в один миг успокоится. Но тут же приподнял голову над одеялом, сел, огляделся, и опять вернулся страх – гонкой полос по тому же маршруту на стене. И вопреки этому, вопреки тьме и вопреки белым в полоску квадратам, которые неслись по стене как некий чуждый и угрожающий знак, вопреки всему этому все это время комната была красной. Весь вечер я мог так лежать, скрючившись от страха в слабой надежде, в углу дивана, пряча голову и выглядывая. Весь вечер, который длился, как целая ночь. Вообще-то он должен был продолжаться больше, чем одна ночь. Вообще-то я должен был продолжать лежать в красноватой комнате, словно бы ее освещал лишь свет электронагревателя. Три раскаленные спирали, одна возле другой, прислоненные к углу, на полу, между креслом и стеной, удаленные от кресла, чтобы слишком не нагревать его, на длину шнура. Позднее, когда похолодало и, быть может, из-за усиливающегося барабанного стука дождя по асбестовой крыше веранды, я поставил электронагреватель на стол, на уровне глаз, чтобы видеть жар. Тогда диван и стена за ним окрасились в настоящий красный цвет, как и лицо мое, которое было, несомненно, красным, хотя я не видел его, ибо в эту ночь были еще иные причины быть ему красным. И не только от электронагревателя или трения о верблюжье одеяло.
Несмотря на то, что у входа в здание, прямо над воротами, стояли подобно стене, два толстых фикуса, покрывающие тенью первый, на столбах, этаж, огни проносящихся мимо машин пробивались сквозь и поверх них, попадая в комнату. Так же, как шорох усиливающегося дождя не забивался шорохом проносящихся по улице шин. И, быть может, я находился в некой точке, где пересекались шум дождя и вспышки проносящихся фар. Ранее, по короткой дороге сюда, перед тем, чтобы войти, я видел, что прохожие мелькают и исчезают, и лишь машины проскальзывают то тут, то там, разбрызгивая веером жидкую грязь. Но теперь я не слышал шороха подошв прохожих, улица была пустынна, как в поздний час ночи, и полна тьмы, разрываемой шумами и всплесками, как в поздние часы, хотя не было поздно. Осталась лишь тьма, самозаполняющаяся дождем и пустотой. Так я обитал в этом доме, фасадом на небольшую и тихую улицу Аль-харизи, а не на шумную улицу Шломо Амелех, и потому находился на этой небольшой улице Аль-харизи, как человек, к которому обращено его же лицо. Именно это изменило ночь в моей красной комнате. Ибо на Шломо Амелех сосредоточилось все движение и суета, а на Аль-харизи были лишь тишина и дождь, разрываемые всплесками. На Аль-харизи были тишина, и дождь, и вход в здание. Ржавый замок на двери, ведущей в лестничный пролет, С ржавым скрипом проворачиваемый изнутри ключ. Темный коридор в квартиру с тремя запертыми дверьми, и только дверь распахнутая – в салон с двумя желтыми креслами с коричневыми пятнами от электронагревателя, со старым странным столом. И диван. И кухня, тоже открытая. Большего мне и не надо было. Все, в чем я нуждался, было там. И если кто-то испугался, если кто-то сбежал в конце вечера оттуда, это не была Пнина, которую я привел сюда в этот вечер, а это был я собственной персоной.
Это я испугался. Это был я, тот, кто решил прекратить. Это был я, бежавший в испуге. И не просто в испуге, но и весьма довольный собой. Совершенно глупое сочетание – испуганный и довольный. И потому-то только я и был виноват.
Ключ я получил несколько дней назад от Рони, который взял его у своей мамы, чтобы полить в квартире цветы. Ей же в свою очередь оставила ключ тетя Эстер, чтобы следить за квартирой, когда тетя уедет в Южную Америку. Ощущение, что я нахожусь на чужой, но безопасной территории, пересилило страх. Я чувствовал себя победителем.
Квартира для «занятий любовью», которую я представлял себе вовсе не такой, не думал о ней так, как думал теперь; не о такой читал в книгах или слышал от приятелей; место, которое до такой степени твое и до такой степени не твое.
Зайти первым. Быстро обойти открытые комнаты, кухню, туалет, ванную, остановиться у трех запертых дверей, чтобы почувствовать страх. Во время этого прохода по чужой территории, тяжесть которой ощущаешь всем существом, навести, хотя бы немного, порядок. Сложить полотенце, которое лежало на раковине, чтобы все выглядело в лучшем виде.
В общем-то, это не был первый визит в квартиру. Но прежние посещения не улучшили моих ощущений. И я вел себя сейчас точно так же. Насколько квартира внутри была убежищем тишины при желтом свете ламп, настолько ужасной была погода снаружи. Входная дверь была слабой преградой между тем, что внутри и что снаружи.
На этот раз я впервые пришел ночью. Но и утренние визиты, которые я успел нанести вместе с разными подругами, не привязали меня к этим стенам. Меня не покидало ощущение внутреннего дискомфорта.
Так, в одно не очень доброе утро, несколько дней назад, когда мама Рони решила постучать в дверь: вероятно, пришла проверить квартиру и услышала внутри голоса, я решил не открывать ей. Это было более чем обоснованное решение, но я не довольствовался запертой дверью, а поспешил вместе с той, кто была со мной, кажется, звали ее Рахели, спрятаться в платяной шкаф. Непонятно лишь, зачем я это сделал, если дверь была заперта, и никто не мог проникнуть внутрь, несмотря на то, что мама Рони пыталась несколько раз всунуть ключ в замочную скважину, в которой изнутри торчал мой ключ. Почему я вдруг решил сидеть с Рахели в шкафу все время, пока мама Рони звонила, уходила, возвращалась, звонила снова и опять пыталась вставить ключ в замок. Быть может, для того, чтобы не слышать эти ржавые скрежещущие звуки, которые и вправду были слабо слышны в закрытом шкафу. Два нагих человека сидят в платяном шкафу, закрыв двери, не разговаривают, ибо речь как бы становится неким мостом между платяным шкафом и входной дверью. И даже когда мы покинули шкаф в полдень, я искал во всех комнатах спрятавшуюся маму Рони, устроившую мне засаду.
Быть может, из-за этого так и не прошедшего страха в то утро я помню голую попку Рахели, а не ее лицо. Красивую, полную, которая достаточно долго восседала на моем лице. Дав преимущество ее заду перед лицом, я сделал то, что сказал мне отец, когда я спросил у него совета, как это дело лучше сделать, как преуспеть, как не расслабиться и не выпасть в осадок где-то на середине. Он сказал: «Ты хочешь преуспеть? Так не думай ни о чем, когда ты это делаешь. Войди в нее и всё. Не думай ни о чём, а если не можешь, то думай о чем-то постороннем». Так я и сделал, сосредоточил свой взгляд на цели и ни на чем другом. Я даже сделал что-то получше, ибо еще и считал. Раз, два, три, четыре, пять, до ста. На сотне остановился, полный удовлетворения. И снова, раз, два, и снова до ста, хотя мог и больше, мог и не останавливаться. И снова до ста, и остановился. И еще, пока она не попросила меня остановиться.
«Хватит, я больше не могу», сказала она, просящим голосом. Но я слышал в ее голосе лишь одно: победа. Моя победа. Я победил. Больше она не была мне нужна. Набираться опыта и побеждать. Потому я думал, что больше ее не увижу после того, как верну домой. И вправду больше ее не видел. Она свое сделала. При выходе я был сверхосторожен. Первым вышел, как разведчик, выходящий во враждебный мир. Проверил, нет ли мамы Рони, не прячется ли она где-то поблизости.
Все это было раньше, когда-то. Теперь всё – красное. Отсвет электронагревателя окрашивает все в красный цвет – голую спину Пнины, ее попу. Какое чудо ее спина, тонкая как бабочка, только что вышедшая из кокона и готовящаяся расправить крылья во весь их размах, медленно-медленно, затем взмахнуть ими и взлететь. Чудной мелодией говорят ее позвонки и рёбра. И электронагреватель со своими спиралями – великий мой союзник, освещает то, что необходимо, скрывая то, в чем нет нужды. В эту ночь я не считаю, не до ста и вообще ни до какой цифры. Теперь я не должен считать. Дождь. Веера воды, раскрываемые колесами проносящихся машин, плещут, как дальние овации, сдержанные, но отчетливо слышные. Теперь я не устаю, и нет необходимости уставать. Лишь делаю само дело. И ничего постороннего. Мы не садимся, чтобы выпить воды. Мы мало говорим. Да она и не может. Лицо ее втиснуто в простыню. Она стонет. Мы бежим, ноздря в ноздрю – в соревновании, в котором не продвигаются ни на йоту, не взбегаем и не спускаемся, несмотря на то, что стрелки движутся. Я знаю, что вот-вот – будет десять, еще чуть-чуть – и одиннадцать. И двенадцать. И еще позже. Но у ночи свои часы. Они продолжаются. Нет нужды говорить шепотом. Никто не услышит. Никто не придет сюда, даже мама Рони больше не явится, тем более в этот поздний час, и все же те редкие слова, которые я произношу, полны мягкой тишины, словно бы кто-то им внимает, словно бы кто-то прижался к двери снаружи и слушает. Мне так удобно и легко. Тишина мой друг. Меньше говорить, больше делать. После этого я прижимаюсь к ее спине, к ногам, таким мягким, несмотря на жесткую, мешающую простыню, вдыхаю запах ее волос и молчу, как и она. Молчу в глубине ее волос. Почти засыпаю, несмотря на, что напряжен. Не могу впасть в дрему здесь, в этой тиши. Тишь эта не для меня, ибо именно здесь, в этой благословенной тиши, я совершил ошибку, которая разбила мне жизнь. Именно здесь я должен был прекратить то, к чему начал привыкать – поворачивать к себе ее спину, считать до ста, и снова, и опять. Тут я должен был остановиться. Тут я должен был повернуть ее к себе лицом. Поднять ее над постелью, над простынею. Сказать ей: «Давай поговорим, мы выходим вместе в единое странствие. Если будем продолжать молчать, странствия будут отдельны у каждого, потому, давай, узнаем друг друга, узнаем дорогу». Я должен был сказать ей: «Давай, сделаемся соучастниками, увидим, что каждый из нас может. Давай, расскажу тебе о первой моей любви в детском садике, спина твоя явилась от нее». Но проще было молчать при красном. Красный цвет любил молчание. Красный цвет, который соединился с нею. Комната была красной, как бывает в колдовстве, а я не мог вынести этого и должен был выйти.
Итак, я молчал. И продолжал в одиночестве мучаться страхом. Повернулся лицом к стене, по которой неслись белые полосы. Тишина была другом на миг и врагом навечно, врагом, от которого исходит угроза. Цветы в вазе на столе продолжали медленно вянуть. Но я видел лишь страх и победу. И я думал, что теперь смогу всегда без того, чтобы считать. Я думал, что теперь смогу всегда без того, чтобы думать о чем-то постороннем. «Пойдем, – обратился я к спине Пнины, к ее волосам, – пойдем, уже поздно, оденемся, и я отвезу тебя домой», и не сказал ничего другого. Я решил, что победил, а после победы можно покинуть поле боя. Но победа моя была полна страха. Я не видел лица, я не говорил с ним. Остался один. Не погасил красное верхним светом. Когда я вжал ноги в туфли, электронагреватель погас. Я проверил, все ли закрыто. За спиной мрак еще более сгустился, задышал холодом. Дождь снаружи прекратился. Мы могли выйти. И вместе мы сошли в наше общее одиночество. Комната осталась сама собой. Прекрасной и одинокой. Комната осталась в красном.
…И любовь тоже
Занимались ли вы любовью на жестком ковре? Тебе было неудобно и ты несколько раз перекатывалась сбоку на бок, и не пытался ухватится, чтобы прекратить это перекатывание, ибо ковер был тверд, почти как пол под ним. В это время Дани сидел в своей комнате, почти рядом с вами, за закрытой дверью. Дверь была, по сути, деревянной рамой, в которую вставлено матовое, молочного цвета стекло с рисунками длинных изгибающихся ветвей, словно бы не от мира сего, и на ветвях разные фантастические птицы. Ты слишком много времени ждал этого мига и до такой степени уже не мог сдерживаться, что был готов ради этого прийти в квартиру Дани даже тогда, когда он в ней находится, хотя и побаивался его, и потому закрыл дверь, разделяющую вас, зная, что Дани лучший твой друг и не откроет двери, если ты его не попросишь об этом. Ты готов был удовлетвориться ковром, за неимением кровати в этой комнате, по сути, проходной. А ковер красного цвета был жесток и груб под тобою еще из-за грязи, комков, накопившихся в нем, ибо все топтали его по дороге в комнату. И, несмотря на все это, несмотря на то, что ты не смог отказаться от этого дела в это утро в этом месте, и, по сути, был сам собой, в том деле, ради которого пришел сюда, ты не был сосредоточен. Что, в общем-то, для тебя обычно. Ты не был сосредоточен. Верно, ты сделал всё, чтобы все выглядело в лучшем виде, как ты это умеешь. Вдавливал пальцы ног в ковер. Двигался вперед и назад в ритме. Делал всё, чтобы это выглядело именно так, что ты только там, весь в деле, более того, что только ты там. И все же сдерживался и думал о других вещах. Ты думал о маме, которая говорит тебе, что на грязном ковре, который все топчут нечистой обувью, не валяются. Ты думал о Дани, сидящем почти рядом, за дверью, быть может, даже лицом к тебе в этот миг, когда вы занимаетесь любовью. Ты на ней, у него в доме, а он за тонкой дверью, за тонким матовым стеклом, сидит, опустив лицо и подавшись вперед, словно бы сосредоточенно вглядывается в вас, словно бы и нет никакого стекла между вами, обе руки на коленях, чтобы уравновесить тело, или одна рука засунута в брюки, и он дрочит ею, подстраиваясь под ваш ритм. Когда Дани волнуется, он не очень-то думает о равновесии, а явно о других вещах. И тогда в нем обнаруживается скрытая до поры до времени мощь. Когда Дани в волнении запускает руку в штаны, то багровеет от больших усилий, главным образом, внутри, а другой рукой удерживает равновесие. Более того, он способен свободной рукой совершать чудеса балансировки и не упасть на дверь, не разбить стекло, несмотря на свои движения, несмотря на то, что он чересчур сильно напрягается, несмотря на то, что он подается вперед в положении намного более опасном, чем человек мыслящий. Но ты настолько не был сосредоточен, что мог одновременно думать о Дани и о том, как он сидит за стеклом, и видеть причудливый рисунок на стекле, всяких пеликанов и цапель, длинные изгибающиеся ветви, водоплавающих птиц, таких тихих в своих невероятных позах, так удобно и свободно устроившихся на стекле, словно бы они на поверхности любимого озера, и это все в то время, когда ты так погружен в дело на ковре, так ищешь равновесия, так ищешь опору. И любви тоже.
Собственно ты и не хотел быть сосредоточенным. Хотел смотреть на стекло. Хотел думать о водоплавающих птицах, которых ты вот в этот миг нашел, в этот миг заметил, еще миг, и ты встанешь, и уйдешь, и оставишь их здесь. И так это длилось, до тех пор, пока ты не кончил. Кончил с трудом. Ибо все время думал о разных вещах. И о Дани, который ждет за матовым стеклом, и о том, что ты мог быть настоящим другом, и хотя бы разок, хотя бы сейчас, предложить ему присоединиться. Но вид его намечающейся лысины, на затылке, которая вдруг окажется так близко от твоего лица, и звуки, издаваемые им, в то время как он лежит рядом с тобой на ковре, не умея владеть собой, да и не желая этого, и еще какая-нибудь глупая улыбка на его лице в разгар дела, улыбка, возникающая у него, когда он доволен собой, зная, что близок к победе, но, не желая выразить открыто, насколько он собой доволен, – все это ты представлял себе, и потому не мог его позвать, хотя знал, насколько он хотел бы присоединиться. К тебе. Или вместо тебя. Или лежать рядом с тобой, когда ты на него смотришь. Или не смотришь.
Потом ты кончил, и вы встали, и почистили ковер, постучали в стекло, и Дани открыл дверь и присоединился к вам, и вы поговорили немного о том, о сем, словно бы ничего особенного не случилось несколько минут назад. И Сигаль не была так взволнована как ты, словно бы и вправду ничего особенного не случилось, или просто она привычна к таким вещам. Ты и так был ограничен во времени, ибо ты всегда организуешь эти встречи с девицами так, чтобы не было слишком много времени для различных мыслей и разговоров, и вы ушли. Про себя ты благодарил Дани за то, что он согласился дать вам войти в то время, когда он дома, и таким образом побеспокоить его и сконфузить, или вообще, просто так ограничить его в собственном его доме, перекрыть ему дорогу внутрь и наружу, хотя, кажется тебе, и он получил удовольствие от всего этого пусть и в иной форме. И хотя ты знал, что встретишься с ним этим же вечером, и вы будете говорить о разном, о чем обычно говорите, и об этом деле тоже, сидя в баре и попивая пиво, ты все же знал, что об этом говорить не будешь. Так что ты мог закрыть для себя эту тему и больше ее не открывать. Так что все снова стало на место, и стало легко, и можно будет, если не будет выхода, все это даже повторить – использовать квартиру Дани точно так же, как и в этот раз. В последующие дни ты, в общем-то, не был озабочен. Все шло обычным путем, и не надо было просить у Дани об одолжении и вообще думать о том, что произошло. Дни проходили, и ты просто забыл или реализовал решение больше об этом не думать. Так что и не предполагалось возвращение к этим мыслям. Потому картина вашего перекатывания с Сигаль на ковре, внезапно всплывшая в твоей памяти через много времени, была весьма неожиданной. Причем, абсолютно внезапно и через несколько лет. И это необычайно удивило тебя.
И вовсе не из-за Дани ты вспомнил об этом случае, и не из-за Момо, того самого, богатого лысого подрядчика с печальным лицом и щеками, свисающими как у пса породы боксер, покрывающими подбородок и часть шеи, изборожденной морщинами. Момо, который дружил с Сигаль, когда ей было шестнадцать, и она какое-то лето подрабатывала в его конторе, чтобы собрать немного карманных денег и провести лето, упорядоченно, а не буйно и бестолково, как говорил ей отец, который был с Момо знаком, был, хотя и не самым важным для Момо другом, и был весьма рад устроить дочери своей работенку. Ты же о Момо не думал, когда обретался с Сигаль в пустых квартирах домов, построенных Момо в разных частях города, на севере и на юге. Квартиры стояли пустыми не потому, что он их не мог продать, а потому, что он их оставлял для себя как некие тайные убежища, куда можно было сбежать и укрыться, вести там иную, параллельную, скрытую жизнь, которая расщеплялась на эти квартиры, как побеги из одного ствола. И вы прокрадывались мимо охранников, восседающих в холлах из мрамора и пластика в эти роскошные здания, поднимались в скоростных лифтах, и гуляли голыми, освещая себе путь свечами по пространствам квартир, в которых все было готово, но отсутствовали салоны – диваны и кресла – три плюс два плюс один. И не было лампочек. И тогда ты не думал о Момо, и о том, что она также и с ним, ибо в моменты высшего наслаждения она выкрикивала твое, а не его имя, и повторяла криком тебе в уши, вжимая до сладостной боли в тебя свои сережки, что ты её, её, её. Не о нем ты думал и не о том, что она кричит, занимаясь любовью с ним. Ибо если ты не только с ней, почему она должна быть только с тобой? И Момо этот выглядел, как отец Сигаль, что не может принести большого ущерба, и если он тоже спит с Сигаль, то это просто еще один путь любви, как просят милости у нее и получают, и это все же нечто другое в сравнении с тем, что между вами. Нечто мягкое и нежное, что удлинит его жизнь. Нет, это вовсе не пришло тебе на ум из-за нее или из-за него. Оно всплыло намного позже, намного позже после того, как Сигаль исчезла с Момо заграницей, словно бы хотела сбежать от тебя, стереть память о тебе по ту сторону гор Тьмы.
Ни Сигаль и ничто внешнее не привели тебя к этим воспоминаниям. Ты осознал тотчас, что картина, вызвавшая их, связана только с тобой, и ты ни в чем не виноват, даже в том, что Сигаль исчезла, сбежала. Нет, новые чувства как бы возникли из самих себя, хотя и были связано с той картиной и Дани, сидящим в то утро за стеклянной дверью, пучившим глаза или, наоборот, сжимающим веки в эти мгновения, когда он уж очень – с вами. Мысль была, что все могло было быть наоборот. Почему бы нет? Ты спрашивал себя? Почему не может быть наоборот? Почему я думал тогда лишь о себе, а не о Дани с Сигаль, и не видел себя, к примеру, с Сигаль и Майей, тогдашней подружкой Дани? Почему я думал так: «Если Дани хочет с Сигаль, то и Сигаль хочет с Дани», а не так: «Если я хочу с Майей, то и она хочет со мной». Зачем же убегать каждый день из дому и так в течение нескольких лет? Зачем убегать от одной, чтобы притворяться с другой, с которой я тоже могу быть короткое время, пока не сконцентрируюсь снова с помощью первой?» И вопрос этот возник, словно звон в ушах, что слышен лишь тебе одному, и весь шум улицы Ибн-Гвироль исчез, растворился в этом звоне. Почему надо бежать от одной к другой, когда можно быть с двумя? Почему нельзя быть всегда с двумя? И это не какая-то авантюра, одноразовое удовлетворение похоти, не побег или метание туда и сюда год за годом? Почему не осесть на якоре? Подобно тому, как ты видел на берегу речки Яркон воды её, текущие в обратную сторону, из моря на сушу, и водоплавающих птиц, которым, как говорится, чирикать на это, и они относятся к Яркону, как нормальному ручью, и ты думал в то утро, у Дани, о том, что у ручья два берега, и дела делают на обоих, и с одного берега можно видеть другой и все, что на нем происходит, и можно, таким образом, одновременно быть на обоих берегах и во всем, что заполняет твое поле зрения и до самого горизонта, и нет никакой ностальгии, и дискомфорта, и прочих бед и неприятностей на душе. Так что следует не оставлять дом, а просто его расширить, внести дом отдыха в обычный жилой, как бы соединив работу и отпуск, пока эти два слова потеряют свой смысл, и останется лишь – жизнь. Просто, останется жизнь. И любовь тоже.
И что интересно, слова эти не возникли тогда, когда ты собирался совершить переворот в своей жизни, а ты говоришь их себе сейчас, когда прошли те дни строительств и покупок, и планы твои долгосрочны экономически и географически. Как и тогда, и сейчас ты напрягаешь зрение и слух, поворачивая голову до боли в шее из-за слишком напряженного угла, более того, всего себя – вглядываясь в сверхотдаленные места, к примеру, в звезды. Даже если никакая весть не приходила, ты все равно готов был услышать любую весть, ты был полон благоговейного страха перед вестями, которые должны были прийти, истинного, сладостного, даже любимого тобой страха, без которого просто жизнь не жизнь. Прошел уже тот промежуточный период, когда ты готовил себя к великим делам, начиная от встреч с инопланетянами, и не просто встреч, а встреч по ту сторону реальности, и кончая возможностью изгнать начальника и дать это место близкому твоему другу Нисиму, а самому занять его место, помощника шефа. Интересно, что говоришь ты все это себе и сегодня, много времени спустя после тех дней, когда мысли твои были по ту сторону жизни, ты писал завещания и вынашивал всяческие планы, как после себя оставить знаки, что ты настолько высок душой, что когда изобретут все чудодейственные лекарства, и не будет у смерти власти, только нужно будет решить, кого увести из ее когтей, тогда придут вернуть тебя из мертвых в живые, ибо такого прекрасного человека, как ты, просто нельзя оставлять со смертью и мертвыми. И сегодня ты говоришь себе те же слова, сегодня, когда ты, в конце концов, с Гилой и Цилой вместе, и прошли дни съемных комнат, беготни из чужих квартир в другие чужие квартиры. Ты с ними двумя в одном доме, в разных комнатах, а иногда и в одной, за одним столом. Или ты сидишь в кресле и пишешь, то, что тебе особенно по душе, на бумаге, положенной на книгу, а Гила моет посуду в кухне, а потом приходит спросить о чем-то вас, и ты поднимаешь голову и смотришь на Цилу, примостившуюся у твоих ног и проверяющую свои работы, и спрашиваешь ее мнение, и она говорит тебе «да» или «нет», и ты готов согласиться и с тем, и с этим, ибо она говорит спокойно, не ущемляя тебя, и Гила заранее согласна с ответом. И затем вы все спите в одной постели, и ты ласкаешь их обеих, подкладываешь руки под их плечи, так, что кровь перестает прибывать к одной из рук, и рука эта засыпает, покалывает, и ты вынужден извлечь ее из-под плеч Цилы, к примеру, и тогда ты высвобождаешь и вторую руку из-под плеч Гилы, чтобы соблюдалось равенство, и все бы себя чувствовали нормально. А когда вы едете куда-нибудь, то часто и преднамеренно – вдвоем. Кто-то остается дома, чтобы двое уехавших соскучились. И когда наступает твоя очередь остаться дома, когда они вдвоем уезжают, в душе устанавливается такое благоденствие, что даже лай Таммуза, вашего пса, не нарушает его. И даже когда ты выводишь его на прогулку, люди на улице тебе вовсе не мешают, ни их взгляды, ни их самые новейшие машины. И даже сексуальные зады девиц в брючках в обтяжку, так что видно, что под брючками ничего нет, а только маленький гигиенический треугольник, лишь выпячивающий то самое легендарное место. Нет, теперь все упорядочилось. Все прекрасно. Ты перестал думать о прежних предпочтениях, о временах, когда лето было самым отличным временем года, а зимой, вечно надо было искать комнату. Теперь каждый день прекрасен. Каждый день. И ты идешь один по улице, намного богаче, чем это допустимо. Теперь ты не должен заниматься любовью за дверью, за которой сидит Дани и пялит глаза. Ты не должен прятаться. Есть у тебя и Гила, и Цила. И ты есть – у себя. Есть у тебя всё. Абсолютно всё. И любовь тоже.
Возвращение
Когда я поднимаю глаза от книги, я вижу, что море пустынно. Отсвет от белых страниц затемняет мне глаза и придает единый оттенок небу и водам, чересчур темно-серый. На несколько мгновений картина замирает, лишенная глубины. Словно бы отвесно нависшие небеса приклеены прямо у моего носа, и все рассказы о дальних странах вообще не существуют. Море пустынно, если не считать женщины, кормящей ребенка, и плотного мужчины, что гуляет вдоль берега, сначала вышагивает на север, затем возвращается. Мужчина не молод, но тело его выпрямлено, живот плоский и твердый, покрытый темными колечками волос, загорелый больше чем я, что особенно заметно в этот ноябрьский день. В будке, возвышающейся над почти пустынным берегом, виден старый спасатель. Когда я лежу на берегу, я время от времени инстинктивно обращаю взгляд на эту спасательную будку без всякой связи со всеми другими, растянувшимися на песке, как я, любопытствуя, смотрит ли он на меня тоже, знает ли он, насколько я таю надежды на его помощь, сообщник ли он мой настолько, насколько я сообщник его? Даже входя в воду, в это кажущееся тихим море, мгновенно обдающее высокой волной, я двигаюсь до места, где еще могу стоять на ногах, касаясь дна, и время от времени продолжаю посылать взгляд на спасателя, поддерживать его, подчеркивать его присутствие. Я и не стесняюсь признаться: я знаю, что море опасно. Я остерегаюсь. Даже акула может сюда доплыть. Я наготове. Но сейчас полдень, и я думаю, что пойду отдохнуть перед тем, как продолжить отложенную работу. Год назад я и представить себе не мог, что смогу провести в рабочий день целый час на пляже, в полдень на стыке осени и зимы. Но этим летом многое для меня изменилось. Вообще-то став внезапно любителем моря, почти не упускавшим возможности прийти к нему, я не так уж радикально изменил свои принципы, одним из которых был: море всегда пустынно. Но все должно быть в меру. И я снова начинаю думать об этом, и снова решаю, что на сегодня хватит. Все должно быть в меру. Это мой новый принцип. Я думаю, что пора уходить, и уже собираюсь встать и искать кратчайший путь наверх, к бетонному барьеру, ведущему от пляжа, в сторону улицы и стоянки. И тут я вижу перед собой дядю Реувена, живущего в Галилее и давным-давно не бывавшего здесь. Странно, я гляжу на его приближение и вижу его ботинки, полные грязи, несмотря на то, что мы на берегу моря и давно не было дождя, ни тут, ни в его Галилее. Или так мне кажется. Лоб его украшен густыми белыми кудрями. Небольшие голубые глаза погружены в размышления. Величавый орлиный нос вдыхает чистый морской воздух. Море, между тем, становится все светлее, его простор, слепит, отражая раскаленное полуденное солнце. Реувен приближается медленно, протаптывая дорогу в песке, вероятно, потому что большая его сумка перегружена, и ему тяжело ее таскать. Воспоминание о больших сэндвичах, которые тетя Яффа готовила ему на рассвете в столовой кибуца перед отъездом в Хайфу на попутном тендере, возникает в моей памяти. Он улыбается знакомой улыбкой. Рони, зовет он меня, как всегда, а не Ронен, как хотели бы мать и отец, ставя ударение на последнем слоге. По сути, нет нужды окликать меня по имени. Достаточно улыбки. Мы так хорошо понимаем друг друга, что я сразу замечаю грязь на его обуви и пот на лбу, удивляющие меня этим ноябрьским днем. На набережную, остались только мы и опустевшее море.
Теперь я вспомнил, что Ривка, сестра Яффы, живет рядом, на улице Яркон, совсем близко, прямо около набережной. Может, он идет к ней или от нее, хотя странно, что он не сообщил мне о приезде в город. Кажется, он всегда сообщал о своем приезде семье и мне в том числе. Как всегда, я сердечно рад ему. Я протягиваю ему руки, несмотря на то, что помню с детства, как он безжалостно сжимал их своими лапищами, закаленными работой в лесах.
«Расскажу тебе о лесных партизанах, то, что никому еще не рассказывал», говорит он мне сейчас, сразу же после встречи, и мы идем рядом. Рассказы о вертолетах, танках, войне, лесах, винтовках, партизанах, которые сражались против всех родов войск и всегда побеждали, памятны мне с детства, но всегда они обрывались на самом интересном месте. То было слишком поздно, то кто-нибудь мешал. И я оставался в середине прерванного рассказа, ощущая ка-кую-то пустоту, лишь зная, что победа была за дядей Реувеном и партизанами, несмотря на то, что тетя Яффа обещала мне, что в следующий раз он продолжит.
Мы усаживаемся на ограду, рядом с известковым утесом, коричневые твидовые штаны дяди тоже слегка покрыты грязью, вероятно, еще с дороги, но эти свисающие со штанин бляшки грязи не могут помешать. Небольшие пещерки в утесе над нами, полны темноты, мусульманское кладбище скрыто садом и зданиями, желтые пятна окон расцветут лишь к вечеру, в эти полдневные часы цветы ослинника, эти ночные свечи, закрыты, и лишь небольшие островки зеленого разбросаны по известняку. Киоск прикрыл жалюзи, и тоже замер. Невыгодно будить целый киоск ради нескольких отдыхающих на пляже в этот осенний день. Несомненно, здесь был праотец Авраам, когда Всевышний попросил его сосчитать песчинки на морском берегу, но дядя Реувен рассказывает лишь о деде Аврааме, которого немцы, будь они прокляты, убили, и партизаны отомстили за него, насколько можно было тогда отомстить. Дядя помог им, несмотря на то, что они не всегда тепло его принимали. Но он был достаточно силен, чтобы заставить этих сволочей, да, да, и они сволочи, принять его. Насколько я знаю, он должен был пройти страшное испытание, и о нем он рассказывает мне сейчас впервые. Сестру свою, тетю Рахель, он послал в соседнее село принести еду от Стефанека, друга деда Авраама, Стефанека, который за два дня до этого выгнал их из своей бани, считая, как он говорил, что место это небезопасно, соседи уже настучали и вот-вот немцы придут их искать. После того, как он послал сестру и остался один в лесу, в тишине, полной птичьего щебета, он снял пояс и пытался затянуть его на своей шее, но пояс порвался. Не было выхода, и он решил использовать для этой цели штаны, все равно без пояса они были бесполезны. Одну штанину он разорвал вдоль, полосу ткани завязал узлом, взобрался на дерево и привязал эту полосу ткани к ветви. Но когда прыгнул с дерева, и эта импровизированная петля оборвалась, а с шеей ничего не случилось. Тогда он взял вторую штанину, опять завязал еще крепче вокруг ветви и снова прыгнул. На этот раз сломалась ветка и сильно ударила его по голове. Лежа, весь побитый, под деревом, услышал сильный плач. Это была тетя Рахель, которая вернулась и нашла его в таком состоянии. Он поднялся, сели они рядом, на земле, между деревьями, сильно плакали, но про себя, чтобы никто их не услышал. «Больше она меня одного не оставляла, – говорит он, – и никуда меня не пускала, ни там, ни здесь. Даже по нужде я должен был идти недалеко от нее, в лесу, а партизаны вообще для меня ничего не значили, ибо все время я был сосредоточен на Рахели, она была со мной везде. Даже после женитьбы на Яффе она была с нами. Даже к сестре Яффы Ривке, которая была одна, и я оставался с ней, Рахель меня сопровождала и находилась в соседней комнате. «Постой, постой, – говорит он, видя, что я начинаю бледнеть и покрываться потом, – я расскажу тебе сейчас все до конца, все, как произошло. Когда Яффа прошла операцию на сердце, я пришел к Ривке взять ее сердце, ибо она всегда говорила Яффе, я с тобой во всем, даже сердце свое отдам тебе, если будет нужно. Это было, когда они еще были совсем маленькими, и Яффа следила за ней по ночам и делала для нее все, да, ты знаешь. Когда же они репатриировались в Израиль, и должны были расстаться, ибо Ривка осталась тут, около моря, а Яффа приехала ко мне в кибуц, обещала ей Ривка сделать для нее всё, даже сердце свое отдать. И когда Яффа была сильно больна, я приехал к Ривке напомнить об ее обещании. «Ты очень сильная, – сказал я ей, – сможешь обойтись и без сердца. Я уже видел, что ты делаешь это отлично, а Яффе необходимо сердце». «Хорошо, – сказала она мне, – дам я вам сердце, но без сердца я могу с тобой сделать то, что всегда хотела, но сердце не давало мне». Так что не осталось у меня выхода, пришлось согласиться и сделать это с ней. Выхожу, и кого я вижу в комнате, у входа? Мою сестру, тетю Рахель. «Обещала я тебе, что никогда не оставлю, и буду следить, чтобы ты не сделал то, что пытался сделать тогда, в лесу», – говорит она. «Рахель, – говорю я ей, – здесь наша страна, здесь все изменилось, здесь ты можешь меня оставить. Что ты так обо мне беспокоишься?» «Нет, – говорит она, – и тогда тоже говорили – наша страна, наша страна, здесь ничего с нами не произойдет, с таким добрыми соседями, с водами, с лесами. И смотри, что с нами случилось. Довольно, больше я ничему не верю. И вообще ты обещал отцу охранять меня перед тем, как мы бежали из гетто. Как ты будешь следить за мной, если я не помогу тебе в этом, и не буду следить и охранять тебя?» И я понял, что ничего не поможет, Рахель будет со мной везде и всегда. И стало мне неловко вернуться внутрь, поцеловать Ривку в лоб перед уходом, только поцеловать, что ей причиталось, хотя она и была без сердца, ибо Рахель бы не сдержалась и вошла бы со мной в комнату, в которой оставалась Ривка, ты понимаешь, без одежды. И покинули мы квартиру вдвоем, и я так оставил Ривку во второй комнате. В эти дни, когда Яффы уже нет, и осталось у меня время для самого себя, и я могу немного поразмышлять, я вспомнил, что оставил у Ривки несколько обещаний в тот день. До того тогда торопился ради Яффы и ради Рахели, что оставил у нее все обещания, не проверив, без всякой ответственности. Я не мог так вот продолжать с этим обещаниями, я не знаю, что с ними случилось с тех пор, потому я решаю пойти и посмотреть. Так вот сейчас я иду к ней, посмотреть». Я с изумлением слушаю рассказ дяди Реувена, стараясь не выдать своего волнения, хотя лицо мое по-прежнему бледно. «Ладно, ладно, – говорю ему, – теперь я понимаю. Когда тети Яффы нет, ты можешь идти к Ривке. Но где тетя Рахель? Ведь по твоим словам она всегда с тобой?» «А что ты думаешь, я делаю на море? – спрашивает он меня. – Почему ты думаешь, море пустынно в последние годы? Знаешь ли ты, чего я только не делал, чтобы сделать море пустынным, чтобы найти достаточно большое место, где можно было оставить тетю Рахель, чтобы она не шла со мной, и я наконец-то получил немного положенного мне одиночества». «Что ж, – говорю я, – теперь я понял все, даже то, почему море пустынно в такой прекрасный осенний день, но что будет со мной?» «С тобой, – говорит он, – ты что, не понимаешь? Ты остался в книге, ты оттуда и не выходишь». Теперь я понимаю, и из уважения к дяде Реувену я расстаюсь с ними и возвращаюсь на то место, которое хотел покинуть. По сути, никогда я и не хотел его покинуть, и, сказать по правде, никогда его и не покидал.
Мелодия возвращается
Капли дождя косо секли по стеклу окна. Низкое тяжелое небо висело над полями. Поезд приближался к Варшаве, и было еще светло.
«Сегодня двадцать первое июня, самый долгий день в году», – сказала Шуламит, а Гидеон не переставал декламировать. Строки стихов выходили из него оборванными, полными сладкой печали. Было абсолютно ясно, что об этом пейзаже писал Альтерман. Именно об этом пейзаже. И если они не видели в окне поезда закат, а лишь мычащих коров на лугу, то лишь потому, что закат был скрыт за мерзкой серостью плотного слоя туч.
Этот несуразный день, протекающий, как слеза мимо городов и лесов за оконным стеклом движущегося поезда, принадлежал им не более чем персонаж детской сказки, – например, Красная шапочка – которую рассказывают каждый вечер заново.
Шуламит вытирала ладонью уголки глаз, даже не пытаясь скрыть, что плачет. Тихие слезы текли по ее щекам, и она вновь погружалась в свои мысли, прислушиваясь к отрывистым строчкам стихов, декламируемых Гидеоном. У стихов была своя мелодия, и она начинала напевать знакомые ей строки, обрывки мотива, известного ей по памяти, не обращая внимания на его недовольство тем, что поющий голос сбивал с ритма его декламацию, память, заставлял забывать слова. Вместе с тем было какое-то успокоение в ритмичных толчках поезда, движущегося от села к селу, от кучки серых домов, стоящих наклонно и как бы обреченно к косо секущему дождю, к другой такой же кучке домов, от одного луга к другому и к третьему, все еще освещенным беловато-грязным светом, несмотря на то, что уже было девять часов вечера. Однообразный пейзаж, окутанный туманом, все же не стершим целиком все очертания, выделялся лишь линиями за серой завесой дождя. И все же было какое-то успокоение. Движение поезда, проносящегося мимо хат, нищенски обнаженных под дождем, и разбросанных между ними коров на лугах, по две – по три, действительно успокаивало. Движение омывало глаза, словно ни домов, ни животных, жующих и тупо вглядывающихся в мир, мелькнувших в мгновение ока, и не существовало.
Лишь утром он все же сказал ей. Они сидели в кафе на площади, в Кракове. Еще раньше он хотел ей сказать, это таилось в нем уже давно. Может, даже слишком давно. Но каждодневная гонка, там, дома, до их приезда сюда, внутренняя гонка, скрытая от глаз, которая существует даже, когда сидят на месте целые дни, ничего не делая, превратилась в рутину, не дававшую возможность сказать. Рутина эта явно желтого цвета, тянется с утра до вечера. И когда ты уже готов открыть рот и, в конце концов, сказать, Хаим Явин или другой диктор телевидения не дают тебе этого сделать своим недержанием речи, скороговоркой, сопровождающей, в общем-то, умеренный выпуск новостей, и, тем не менее, не имеющий к тебе ни малейшего отношения. Он отключен от телезрителей и от интервьюируемых им в студии. В этом словесном агрессивном недержании нет даже малой щели, куда можно прорваться. Тебе кажется, что ты участвуешь, когда на самом деле ты вообще в стороне. Так и бежали жаркие дни, когда он носился по Тель-Авиву с утра до вечера, стараясь так планировать путь, чтобы быть подальше от нее, по галереям под первыми этажами домов улицы Ибн-Гвироль, галереям, напоминающим портики в Испании и Греции, весьма подходящие к нашему климату. Они хранят прохладу в жаркие дни лета, улучшают настроение, несмотря на то, что форма их не меняется от дома к дому, от магазина к магазину в соответствии с характером жильцов или товаров, продающихся в магазинах, а должны были бы меняться, хотя бы формы поддерживающих колонн, и потому к настроению примешивается легкое разочарование, нереализуемое ожидание пешехода.
Но в Кракове было по иному, на что он и рассчитывал. Утром в Кракове их промочил дождь, начавшийся точно по прогнозам СМИ, и все же внезапный и удивляющий своим постоянным шумом, который все усиливался и согнал всю суету с площади, овладев ею безраздельно в течение считанных минут. Он лил с утра, с небольшими перерывами, до самого вечера и смешал все их планы, заставив искать укрытие под зонтом кафе, с которого льется вода, кажется, со всей площади и ее окружения. И в тот миг, когда они схватили стулья и уселись на них до того, как их захватили другие, спасающиеся от дождя, именно в тот миг ему стало ясно, что это тот самый случай, которого он ждал давно. Возможность для начала нового быта. Влажного. Покрытого серым и защищенного от чрезмерных чувств. Быть может, и тонкие в талии девицы, сидящие вокруг, подобно хладнокровным куклам, сдержанным, в узких летних юбочках, которые вовсе не протестуют против дождя, а вообще часть иного мира, быть может, и они будут сообщниками этого нового бытия. Нового пути. И он понял, что пришло время. И отпив апельсинового сока, он сказал ей. Просто сказал ей:
– Эйдан не твой сын.
Так вот, быстро, чуть задержавшись после имени «Эйдан», но, притесняя слов к слову, чтобы не было между ними никакого зазора для вопросов. И так как она ничего не спросила и не бросилась в крик, добавил тут же и о Бетти.
– Он ее сын.
И продолжал, как само собой разумеющееся о том, что Бетти с ним уже восемнадцать лет, почти девятнадцать. А Эйдану уже восемнадцать, и счет здесь прост.
Так они, как части старого, но еще крепкого «лего», которые при правильном пользовании сохраняются надолго, пригнаны одна к другой. Из тех «лего», которые поляки еще продают в киосках для туристов на старой площади города. Игра, которая чем больше стареет, тем больше сохраняется. Все это было ясно всегда, только обрело свое выражение в словах, скользнуло на свое место, обрело удостоверение, в котором, в общем-то, и не было нужды. Да. Бетти с ним. Давно. Верно, не очень-то ощутима. Может, по доброте своей или, может, потому, что не было у нее иного выбора, как согласиться быть такой неощутимой.
– Если пожелаешь остаться со мной, тебе придется смириться с тем, что я женат, – сказал он Бетти давным-давно. И она смирилась. Скрывалась вместе с ним, остерегалась привлекать внимание в местах, где они встречались, больше бывать в ее квартире, меньше вне ее. Теперь же, когда он начал выводить ее из подполья, открывать скрытое, даже частично скрытое от него, рот торопится высказать те немногие слова, которые, в конце концов, можно сказать. Предложения коротки и жестоки:
– Тебе только кажется, что ты родила его.
И так он продолжает говорить ей, Шуламит, а она сидит перед ним, под зонтом, с которого стекает дождь, попивает сок. Ну, а как же с родильным домом, с кроватью за белой смятой ширмой, раздвинутыми ногами, ртом, который с трудом силился дышать и выдавать нечто нечленораздельное, ибо не было сил кричать, и «тужись сильнее, раз, два, три, четыре, расслабься», что со всем этим? Все это что, превратилось в метафору?
– То, что я тебе рассказываю, не отменяет всего, что существует между нами, а просто расширяет его. Надо уметь принять это, – говорит он с погасшей улыбкой, явно менее блестящей, чем небольшая лысина, начинающая поблескивать на его макушке.
– Я могу сказать больше. Мне тоже были открыто кое что. И я решил принять это. Она сказала мне, что не уверена в том, что Эйдан мой сын, и я решил и это принять, и этого Иорама, никчемного человека, с которым она была то время, и, быть может, она с ним и по сей день, и это я принимаю. Мог же я быть с двумя, любить двух, почему же ей это запрещено. А Эйдан? Я еще тогда знал, что он не мой сын, и все равно люблю его в любом случае. Никто его у меня не отберет. Другие дети твои. Все. Насколько я знаю.
Он как бы отвечал на незаданный вопрос, без объяснений, почему это так, а не иначе. Но Шуламит молчала. Не задавала вопросов, продолжала безмолвствовать. Дождь ослабел. Гидеон думал о Иораме, с которым сам себя заставил познакомиться, когда спросил Бетти, кто же этот другой, который может быть отцом Эйдана. И она, вместо ответа, взяла и привела в один из дней Иорама, долговязого мужчину, ростом выше Гидеона, мягкого, как тряпичная кукла, в одежде явно не по размеру, большой даже на его огромном теле, самому себе улыбающегося этакой слабой, не пугающей улыбкой. Гидеон подумал про себя, что с таким он может смириться, хотя и не очень ему удобно, и еще подумал, что лучше бы этот, что сидит перед ним в гостиной Бетти, тянет, как младенец, грейпфрутовый сок из стакана, не действует на нервы даже в своей неловкости, которая сама по себе мягка, вообще бы не существовал. И еще думал тогда про себя: «Если необходимо, чтобы у Эйдана был другой отец, пусть уж будет этот. Он ведь не угрожает». Не было у Гидеона достаточно желания пройти простую и безболезненную медицинскую проверку, действительно ли он отец Эйдана. Или просто не осмелился. Ни тогда, ни после. Дождь ослабел. Пешеходы начали заполнять площадь. Вернулось движение. И только кони, запряженные парами в разукрашенные кареты для туристов, продолжали тихо стоять сплошной линией вдоль одной из сторон площади. Стояли, подобно куклам, лишь изредка поднимая ногу, как танцовщица в поклоне поднимает юбочку, благодаря зрителей. Возвратят ногу на место и опять замрут, присоединяясь к извозчикам, согнувшимся в дреме на облучках.
– Да, я продолжаю быть с тобой, хотя не понимаю, как это не я родила его, если он мой. А если не мой, что случилось с тем, которого родила? Ведь родила же, страдала, кричала, выжимала из себя, – говорила она по пути к лоткам, где уже толкались туристы. И даже не должна была сказать слово о Бетти, ибо, когда они встали, она как бы увидела в его воображении себя, встающей и присоединяющейся к Бетти. Одна светлая, среднего роста, вторая шатенка, высокая и молчаливая. И показалось ему, что вот они идут втроем, правда, неизвестно куда. Но шли они умиротворенно, и Гидеону было ясно, что пожелай он обнять их обеих, ритм всех трех будет единым. С ними не случится то, что бывает с парами, собирающимися танцевать, когда, даже обняв друг друга за талию, двое не могут слиться в движении, и похожи на два горба верблюда, раскачивающиеся в разные стороны.
– Нет проблем, мы можем родить нового ребенка, – это неожиданно вырвалось у него, когда они сблизились в движении, и это тоже не резануло слух, хотя это не было ответом на ее вопрос, кого же она тогда родила, и слова эти на иврите показались странными среди по птичьи щебечущей вокруг польской речи, но были приняты с полнейшим спокойствием. Словно было понятно, что случившееся случилось, и вернуть ничего нельзя. Рожденный ею ребенок исчез. Рожденный ею ребенок не ее. Каким-то образом ребенок соперницы проскользнул и занял место ее сына. И теперь они соединены этой единой тайной, которая реализовалась. Лишь неизвестно, чей это был план и куда он ведет. Да это и неважно было сейчас, ибо все, что следовало сказать, было сказано, и все, что надо было сделать, сделано. И не осталось им ничего, кроме того, чтобы продолжать, если все сказано, если даже не ясно, сказано ли все.
– Что за проклятая страна. И именно здесь совершилось с нами преображение, – прервал он вдруг декламацию, а поезд уже замедлял ход между зданиями в четыре и пять этажей пригорода Варшавы, и понятно было, что еще немного, и поезд остановится на вокзале, и чтение стихов также должно прекратиться.
– Верно, стихи читались обрывками. Пробелы в памяти. А пейзаж остался непрерывным и цельным в отличие от стихов, но зрелищно стихи перед нами, точно так же, как эти низкие деревья под дождем, которые пронеслись мимо, но останутся стоять здесь навеки. Даже если мы не вернемся сюда и вновь не проедем мимо, они будут здесь стоять.
Говорил он тихо, но все для него было в прекрасных стихах, которые он читал, которые никогда не останутся в одиночестве, и всегда ждут его, готовые вновь произнестись. Многое он говорил про себя, глядя на нее, улыбающуюся сквозь слезы. Понятно было, что мелодия, которая была забыта, возвращается, как и дорога перед ними, и еще немного, совсем немного, когда пронесутся мимо них все темные улицы с редкими фонарями, и кроны деревьев, полные влаги, они войдут в гостиницу, каждый в свою постель, чтобы отдохнуть в тишине. Да. Теперь, когда ясно, что мелодия возвращается, можно будет действительно спокойно уснуть.
Обещания
К вечеру июльскую жару ослабили прохладные ветерки, вылизывающие старые отполированные временем камни пустынной площади. Безоблачное небо, окрашенное в красное и сиреневое, нависало над головой так, что между небом и гладкими камнями площади, похожими на маленькие буханки хлеба, почти не осталось зазора. Машина стояла в стороне, как большой темный жук. Целый день они были в дороге, ехали почти без остановок, и теперь, в этом портовом городе оказалось, что у них еще есть немного времени до прихода парома. Они решили прогуляться по переулкам, как говорится, убить время, размять ноги, затекшие после долгого пути и чуть-чуть удовлетворить свое любопытство. Камни, из которых были сложены стены, виднелись сквозь штукатурку. Дома были построены в германском стиле девятнадцатого века, и каменные стены самых старых были забраны в дерево, которое укрепляло и украшало их. Улицы не асфальтированы, а выложены камнем, притертым плотно, но иногда выпадающим. С этого балкона, сказал гид, указывая на высокое здание на площади, держал речь Гитлер, въехавший в город победителем. Гидеон согласился погулять по городу, хотя первым порывом его было тут же покинуть это место. И как можно быстрее. Полуразрушенная площадь с возвышающимся над ней пустым балконом, на которой и следа не осталось от тогдашней толпы возбужденных слушателей, медленно погружалась в темноту, присоединяясь к сумеркам неба, вытесняющим багрянец заката. Все указывало на то, что здесь нечего искать. Несмотря на уважительный покой, с которым опустился на землю вечер, они были чужими здесь, три иностранца, три незваных гостя на чужом празднике, в честь которого уже вспыхнули огни фонарей на улице и кораблике-дискотеке, пришвартованном на реке, рядом с берегом моря. Мемель. Портовый город. Нынче – Клайпеда. История.
И все же ощущение, того, что здесь нечего искать, не нарушило в нем хорошего настроения, которое возникло вместе с ласкающим кожу теплом чужих сумерек и не стерло приветливость с лица девицы, которая, подмигнув, позвала слабым движением головы, не оставляющим никакого сомнения в своих намерениях. Даже сознание того, что она, конечно же, то, проститутка, не отторгло ее привет в виде воздушного поцелуя от поворота улицы, когда он оглянулся. Оставалось, примерно, минут десять, и тут он ощутил потребность, в общем-то, не столь насущную, как говорится, сходить по малой нужде. На всякий случай. Он нашел место во дворике, место, явно безлюдное, и только потянулся к брюкам, как женщина подошла к стоящему рядом с Гидеоном мусорному баку и стала в нем рыться. Так он и стоял спиной к ней, и каждый занимался своим делом. Он напевал какой-то мотив на своем языке, а она что-то недовольно брюзжала, вероятнее всего не в его адрес. Но слишком привлекла его внимание, и он ощутил неловкость. Вначале он как-то и не заметил эту низкорослую нищенку, а обратил на нее внимание, наткнувшись по пути из этого заброшенного двора, суетливо застегивая ширинку. Низкий рост, два мешка, которые она волокла, кривые ноги, все это рисовало этакую округлую тень, вовсе не привлекающую внимание в густеющих сумерках. Ну, еще одна нищенка, которых тут пруд пруди, приближается к лотку, на котором продают чипсы и сосиски, у входа в малую пристань, где швартуется паром, прямо по другую сторону улицы. Только свет лампы над лотком открыл лицо нищенки, неожиданно совсем юной голубоглазой девицы с вздернутым носом и широкой улыбкой, обнаруживающей отсутствие двух передних зубов, что-то лопочущей продавщице.
* * *
Она сидит на высокой трапеции. Думаю на высоте более десяти метров. Отсюда она кажется маленькой. Но я знаю, она действительно миниатюрна. Она смотрит на меня. Ничего не говорит, да ее и не услышишь с такой высоты, только если громко кричать. Наверху темно. Низкие желтые огни не доносят свет до той высоты, на которой она находится. Это не представление. Она не артистка и не зрительница. В этом-то все дело. Она сидит там, потому что я обещал прийти за ней и не пришел. Высота позволяет ей следить за мной. Я не могу сказать, что недоволен тем, что вижу ее. Верно, я не пришел во время и по моей вине она там. Но при всем ее обвиняющем, угрожающем сидении на высоте, хорошо, что она тут, что пришла. Еще немного, и мы встретимся, и будем вместе. Хотя я и не обещал ей ничего, даже того, что мы будем вместе, хорошо, что она тут, ибо мы должны быть вместе. Ничего я ей не обещал, это верно, и она сказала, что ничего от меня не хочет, только, чтобы остался с ней. И мне приятно знать, что она со мной и только этого хочет. Только этого она и просит от меня, и только поэтому взобралась на трапецию. И не стоит спрашивать о трапеции, этакой декорации. Откуда она возникла и почему? И что сейчас будет. Нет нужды спрашивать.
* * *
Нищенка покупает чипсы. Кто платит? У нее свои счеты с продавщицей? Вклад от накоплений, милостыни, собранной за день? Этого он не знает. Но лицо ее очень молодо, полно жизни в свете лампы над лотком, и даже отсутствие двух зубов не умаляет красоты ее улыбки и вообще лица. Осталось еще несколько минут до отхода парома, и он проходит быстрый урок у этой девушки-ребенка-женщины. Вот она опускает свои узлы у лотка, пластиковую корзину, раздутую от груза. Два мешка. Обеими руками обхватывает сосиски. Чипсы не заказывала. «Гидеон, Гидеон, что с тобой будет?» – говорит он себе громким голосом, не спрашивает, несмотря на явный вопросительный знак в конце предложения, которое на иврите звучит весьма странно, и она что-то говорит ему, явно не относясь к незнакомо звучащим словам. Мелодична ее речь, это бормотание. Это не немецкий, а литовский. Когда-то этот город был немецким. Теперь – литовский, и девочка эта из них. Чего вдруг он протягивает ей руку? Почему они пожимают руки друг другу? Рука ее липка. Не от сосисок или чипе, которые она сжимает в другой руке, а от грязи, налипшей за целый день, а может, и за много дней. И при всем при этом руки очень приятны, откуда он это знает? Ведь жмет лишь одну руку. Хочется ему пожать ее обе руки и не отпускать их. Она поднимает к нему свои глаза, столь прекрасные, говоря или бормоча какие-то слова, несомненно, на литовском. Девочка эта из какой-то семьи литовцев ушла на улицу, осталась на ней. Изгнана? Сбежала? Брошена и заброшена? Кто знает и можно ли вообще знать? И лотошница вступает в их как бы разговор, тоже бросая несколько непонятных слов на том же языке. Он улыбается ей, такой симпатичной, с высоты своего роста, поверх нескольких голов, разделяющих их. Не так уж он высок, насколько она низкоросла, что-то у нее с ногами. Он продолжает улыбаться, понимая, что это следует немедленно прекратить. Он внезапно чувствует смущение. Он отдергивает руку от ее руки. Как держать чипсы, купленные им, в руке, загрязненной от ее руки? И вообще, чего это он смущен? Почему отдернул руку? Может, следовало еще подержать ее руку?
* * *
Нельзя ей продолжать сидеть на трапеции. В стене несколько дверей. Следует снять ее оттуда и убраться. Конечно же, двери можно открыть. Если за одной из дверей комната с постелью, отлично. Если тишина будет продолжаться, еще лучше. Я удивляюсь тому, насколько мне все равно, чья там комната, чья постель. Кто придет туда? Кто уйдет отсюда? Мне все равно, пока мы здесь вместе. Чтобы весь этот рассказ продолжал существовать, мне необходимо так немного, так мало важных вещей, за исключением одного: обещания не оставлять ее я не могу нарушить, и не из моральных соображений, а оттого, что она сидит здесь, на трапеции. Это факт, сейчас, здесь. Здесь она сидит. Напротив меня. И не я сделал эту трапецию. И не я привел ее сюда. Нас обоих сюда привели. Я должен продолжать. Вряд ли я огорчен тем, что это факт. Вот я ставлю высокую лестницу на колесах от края помещения к трапеции. Вот я поднимаюсь по ней. Мы сближаемся, еще немного, и коснемся друг друга. Груди ее велики и красивы. Быть может, даже слишком велики. Что-то меня мучает. Когда груди слишком велики и как бы лежат на животе, это выглядит не очень красиво. Что-то в этом гротескное, что-то от анекдотов о бабушках, которые вправляют груди в трусы. Сейчас они красивы. Руки ее нежны, но пальцы коротки, ногти не ухожены. Она их обкусывает. Дурная привычка, но и без нее они испорчены, короткие и квадратные, и тут ничего изменить нельзя. Ноги ее неплохи. Но худы. Очень. Кажется, бедро ее могу охватить несколькими пальцами, как, к примеру, мышцу крепкого мужчины. Не более. Раскладывание ее членов в некую систему, учит меня, насколько тяжело мне принять ее как цельную женщину. Но такова она. Цельная, одна женщина. Особенно сейчас, когда сидит на трапеции и слезы текут из ее глаз. Глаза у нее голубые. Несомненно, голубые. Но немного водянистые. Немного серые, в общем-то. Что она хочет? Никогда не думал, что осуществление моего обещания может облечься в форму помещения со столь высокой трапецией. «Ну, слезай уже. Я жду тебя», – говорю я ей, за неимением слов, более успешных и убеждающих. Я действительно хочу, чтобы она спустилась. Я остаюсь с ней здесь.
* * *
Гидеон молчит, словно онемел. Он не думал, что встретит ее. В общем-то, он и не знает, что скрывается за ее грязной юбкой, рубахой и свитером, и кто знает, сколько еще слоев одежды на ней? Он может представить себе эту грязь. Он может представить себя, моющего ее мочалкой опять и опять, осторожно, чтобы не спугнуть эту малую напуганную зверюшку. Где он ее будет мыть? Как объяснит ей, что он от нее хочет. Нет сомнения, что тело ее с изъяном. Кривизну ее ног он видит даже из-под юбки. И это дело пропащее, тут ничего исправить нельзя. Изъян от рождения? От плохого питания? Какой-то аварии? Несколько голов разделяет их. Она слишком мала в сравнении с ним. Это создает между ними разрыв, глубокий и постоянный. Можно и ошибиться в величине этого разрыва вдобавок к отчужденности и чуждости, что между ними. Он не понимает ни слова из того, что она говорит лотошнице. Может, некоторые слова обращены к нему? Не ясно. Ее заикание приятно его уху. Но, может, оно от какой нервной болезни. Если нет, откуда это легкая судорога, время от времени пробегающая по ее лицу, когда она говорит? Он знает, что не должен ее оставить. Нельзя ему оставлять ее здесь, на чужой площади в этом чуждом обоим вечере. Надо отложить отъезд. Вот истинная цель поездки: привезти его сюда, к этой девушке. Ему надо выяснить, откуда она. Добиться попечительства над ней. Она настолько заброшена, что никто не будет возражать, он в этом уверен. Обрадуются чудаку, который решил это сделать. Может, и посмеются над ним. Но он должен ее взять с собой. Вытащить из этой мерзкой нищеты, когда в половине десятого вечера она стоит с половинкой сосиски в руке, а мешки в руках – все ее имущество. Где она будет спать ночью? Он должен попытаться. Алость ее щек ничуть не хуже алости щек принцессы. Зубы можно исправить. Какой чудный изгиб ее вздернутого носа. Кажется ему, если они начнут учиться языку друг у друга, она все поймет. Так он, во всяком случае, чувствует по выражению ее лица. Не уверен, но все же знает, что надо попытаться. А шофер жмет на клаксон, зовет его. Пришло время подняться на паром. Несомненно, они попросили шофера погудеть ему. Он даже не успевает получить чипсы. Лотошница еще готовит их, а паром вот-вот отойдет. Не знает он, какая поездка ждет его. Видно в этот вечер он останется голодным. Она смотрит на него, оторвавшегося от лотка, в последний миг продавщица сует ему пакетик с чипсами. Видно, что они не все успели зажариться. Пакетик обжигает руки, следует обхватить его двумя руками. Нет возможности пожать ей на прощанье руку. И так, с чипсами, он удаляется. Оборачивается. Она смотрит ему вслед. Улыбка разлита по ее лицу. Долг призывает его не отступать, но он изменяет долгу, теряет свой шанс. Что делать. Машина уже начала медленно подниматься на паром. И он, с пакетиком чипе, бежит вслед за ней.
* * *
Я и не заметил, как она спустилась, но она в моих объятиях. Вблизи я вижу то, что знал и раньше: она менее красива, чем я думал. Что-то далекое, чуждое в ее серых глазах. Мы открываем дверь, приближаемся, рука в руке, через комнату, к постели, скрытой за ширмой. Комната не очень-то меня интересует, и я не осматриваю ее. Кажется, наступает ночь. Вся ночь впереди. Завтра? После этой ночи, после сна, мы совершим, несомненно, что-то доброе. Место не мучает меня. Да и раньше не мучило. Вне сомнения, и трапеция меня сейчас не интересует после того, как она уже сошла с нее. До того, как я начинаю стягивать с нее рубаху, я говорю себе, совсем шепотом, так, что и она не слышит: обещания надо выполнять.
Эдна строит ковчег
Вокруг невысоких холмов, в полдневной жаре месяца Элул, опустившейся на плантации молодых цитрусовых деревьев, и невспаханные поля, тянущиеся на север, к кубикам домов под красными крышами, застывших в палящем мареве на дальней линии горизонта, тут и там расположены кубы высотных зданий, часть из которых еще строится. В спокойном небе ни облачка. Цельное голубое полотно протянуто над землей.
Лишь южнее забора психиатрической больницы, между корпусом и внутренней оградой, на, как бы, нейтральной полосе виден беспорядок, разбросаны строения с вырванными окнами, обломки бетона, следы сооружений чего-то, что, вероятно, было сельскохозяйственной фермой, ныне заброшенной, среди сухих кустов хлопка и репейника, закрывающий от взгляда весь участок. Но за забором, домики больницы словно бы возникают один из другого, как ноты, вырвавшиеся из нотного стана, растут и распространяются с некой избалованной леностью по всему листу, ибо таково пространство этого клочка земли: умеренно возвышающийся холм, без резких склонов. Так и поставил кто-то эти одноэтажные домики на коричневую почву вдоль этого пологого холма, взобраться на который ни составляет труда, ни для человека, ни для животного. Освещенные корпуса поставлены с той же осторожностью, с какой асфальтированные дорожки захватываются травами; они, легко изгибаясь, вьются между домиками, так, что никогда не соскользнут к бугристому пространству песков, которые, и являются настоящей границей места, нейтральной полосой до внешнего забора.
Шаги обитателей заведения и посетителей не потревожат песков, только дикий пырей и полчища висящих на нем улиток, не относятся столь уважительно к ним и ползут, куда их душа пожелает.
Гигантский фикус состоящий из множества стволов, которые соединились в течение многих лет один с другим, и если у дерева есть сны, то все эти стволы, как один сон, переходящий от одного ствола к другому, удлиненный, полный напряжения, выпуклостей и горбатых изгибов, как и сами стволы, которые соединились, поддержанные землей и переплетающимися над почвой корнями. Ибо сны стволов принадлежат этому гигантскому дереву, как и полчища мух, захваченные в коричневые ловушки, висящие, как фонари, оставшиеся от праздника, забытые в низкой гуще ветвей, да и полураздавленные плоды на земле, в тени, где сидит жирная кошка в черно-кричнево-желтых пятнах и ест что-то, что швырнул ей кто-то из посетителей, которые прятались от полдневного жара в тени дерева. Сидят они на скамьях у деревянных столов, на которых остатки пищи и пятна грязи. Сидят, делая вид, что не слышат странные крики и голоса, внезапно, без предупреждения, несущиеся из одного из приземистых зданий и так же внезапно прекращающиеся.
Так живет заведение, повернувшись спиной к домикам с красными крышами, отодвигающимися с годами от горизонта. Словно место это отрезанное от всего мира высоким двойным забором, считает своей и нейтральную полосу между двумя рядами сетчатого забора, с юга, полную железного хлама, который сбрасывали сюда в течение многих лет ржаветь и разлагаться в пекле дня и холоде ночи, следы которой ощутимы даже в жаркий полдень месяца Элул, в клочках бумаги, желтоватой от высохшего кала, в использованных презервативах, еще полных спермы, которые были вышвырнуты через забор или побывали в руках тех, кто проник на эти нейтральные земли и исчез.
Проходя через двойные железные ворота, с электронным управлением, первым делом замечаешь брюхатую водонапорную башню, западнее, на вершине холма, возвышающуюся над всеми зданиями и полускрытую единственным здесь двухэтажным корпусом третьего отделения, в окнах которого развеваются занавески под всегда дующим здесь неизвестно откуда ветром. Следовало бы разобраться с этой водонапорной башней, неизвестно на каком основании обитающей здесь, между низкими бараками, омытыми светом и покоем, и слабыми, но отчетливыми тропинками между навесами из пластика, в этой юдоли скорби, дающей приют больным и нуждающимся в помощи.
Обитателей можно увидеть, идущих цепочкой, с утра до вечера, тянущих ноги, придерживающихся, словно бы вслепую, круглых железных поручней, протянутых с двух сторон вдоль всей длины прогулочных дорожек, позволяющих им двигаться без помощи. Дойдя до края поручней, они оборачиваются и возвращаются по той же тропе. А в тени дерева сидят те, которых высокий и плотный медбрат, один из хозяев этого заведения, в котором он сам и работает, чтобы иметь заработок, и одновременно самому следить за порядком, подкатил на инвалидных колясках по просьбе посетителей.
И Эдна не была бы здесь, если бы не тот же крепкий парень в шортах под белым халатом, в сандалиях, громко стучащих во время ходьбы. По его походке можно было предположить, что время в его руках, и он идет в этом желтом свете, который лежит на всем, исключая центральный вход. Медбрат входит и выходит из него, явно не оценивая каждый свой шаг в сотни шекелей, накапливающихся на счету его семьи, которой принадлежит это место, а направляется без всякой задней мысли к трем детям, играющим в мяч. Высокий подросток с кривой шее, теряющий мяч каждый раз, когда ему швыряют, к радости толстенькой своей сестрички, кричащей: «Снова проиграл, снова потерял очко», и малышки в праздничном платьице, болеющей за старшую и низким голосом ведущей счет. Они приехали к деду, который сидит, и ест, и запах нечистот идет от его шорт цвета хаки, несмотря на предохранительную прокладку под ними. И толстые пальцы его ног в синих сандалиях недвижны под столом, как и его лицо над столом, и трудно вообще понять, вкусна ли ему пища или это просто механическое жевание. Если бы ты не знал, что это внуки пришли проведать деда, в голове могла бы возникнуть мысль, что и дети принадлежат этому месту, как часть его наследия, и будут продолжать игру и после того, как жена старика и дочь, низкорослые и плотные, как и он, встанут и пойдут с ним вдоль двора, туда и обратно, под солнцем, не обращая внимания на ужасный запах, идущий от него, или делая вид, что не обращают внимания, пока не истечет, по их мнению, время визита, и соберут они все в синюю порванную сумку, и кликнут детей визгливыми грудными голосами, и спустятся все вместе по песчаному склону к южным воротам. И когда услышит сестра их голоса по аппарату связи, прикрепленному к воротам, откроет их, и две женщины с тремя детьми исчезнут, как и не были.
Все это не беспокоило Эдну, ибо вкусный обед, завернутый в алюминиевую фольгу, положенный в одноразовые тарелки, извлеченный из корзины, принесенной близкими, стоял перед ней. И она осторожно снимала фольгу пальцами, которые стали такими тонкими после операции, что суставы их белели под коричневой кожей. Снимала, и пробовала понемногу, чавкая беззубым ртом, бормоча что-то ругательное каждый раз, когда мяч падал недалеко от нее, непонятно кому обращенное, подростку с кривой шеей, из рук которого снова выпал мяч, мухам, надоедливо носящимся вокруг нее, взлетающим и садящимся с той же медлительностью, которая присуща всему этому месту, не боящимся слабых костлявых рук, не имеющим сил их прихлопнуть, трясущихся над бумагой, чтобы снять ее с избранной ею тарелки или запахивающих халат над обрубками ног. Она рассказывала, как плакала по телефону, когда звонила им, не появившимся во время, уже было полтретьего, а в трубке лишь был слышен равнодушный голос автоответчика. Прекрасно, что они приехали, но еще больше, чем вкусная еда, которую она может сосать деснами, важны для нее привезенные ей сто шекелей. Еще немного, когда она кончит, есть, они уйдут, и ее вернут в комнату, она будет сидеть и ждать солнца, которое взойдет со стороны степи и ударит в ее матрац. И так она будет сидеть, пока соседка по комнате старуха Берта перестанет пускать слюну, склонит голову набок и задремлет. Тогда Эдна вложит деньги, купюру в пятьдесят, две по двадцать и одну в десять в щель между досками кровати. «Холера на его голову, Авраама. Половину денег забирает, собака». Могла бы она двигаться, сама бы покупала всё, и материалы самые лучшие, более водостойкие, которые и спасут ее отсюда.
Нет. Ее не обманут, ни Авраам, ни жестокая сушь, хамсин. Даже сейчас, в солнечный полдень, в самый разгар дня она знает, что еще немного, совсем немного, придет мгла, и фонари на узких округлых шеях, которые стоят по углам зданий, словно без голов и почти не видны в полдневном свете, вспыхнут в ночи. Ибо ей ясно, как только солнце уйдет с полей и крыш зданий, и жара пойдет на убыль, как пар, пресмыкаясь перед тьмою, охлаждаясь, именно тогда, только тогда можно лучше ощутить начало бурь. Которые еще придут. Еще немного, и они все сметут ужасной своей силой. Капли воды, огромные, как ведра, падут с неба, и потоки коричневой и серой грязи вырвутся со всех сторон, поднимутся выше водонапорной башни. А за нею – воды, которые смоют грязь, болото, сотрут всё, и эти здания, и всех, проживающих в них.
Это ясно Эдне, как в эти часы зноя ясны последующие часы, поле полудня, когда приходит великое одиночество, которое с приходом ночи обнаруживается и выходит из всех углов, и только фонари висят, как костры в воздухе. Костры, которые пытаются изгнать тьму и успокоить, но не могут даже осветить стены больницы, внезапно исчезающие вместе со светом дня и прячущиеся во тьме, которая сходит с высот и стирает все вокруг. Тьму эту невозможно отменить, но как бы она хотела видеть стены, возвращающиеся и возникающие с первым светом утра. Как этот красноватый свет начинает желтеть, ползет по пескам, по травам, пока не доходит до стен и начинает по ним карабкаться, медленно-медленно добирается и до ее окна. И что возникает раньше, хочет она знать, дальние кубики домов или поля? И куда сворачивается и скрывается тьма ночи, где она прячется? Но так и не разу она не выдержала бодрствование всю ночь. Послеполуденные часы до того изматывают, что все становится розовым и сиреневым поверх водонапорной башни, и кусты, которые прикасаются к этому розовому, держат его, и все же оно исчезает и снова приходит тьма. Как она старается, лежа в темноте, не смыкать глаз, а одеяло пусто там, где были ее ноги, и она не смотрит, на ноги, а смотрит в окно, чтобы не упустить момент, когда солнце возвращается, где оно точно возникает, и как это происходит, как принимают его стены зданий, и травы, и колючий репейник, сколько бы она не лежала, как вдруг открывает глаза, а все уже вышли завтракать, сидят, пускают слюну на себя в свете солнца нового дня, размазывают еду по непокрытым столам. И только она, у которой нет ног, должна ждать и кричать в пустой коридор, в котором стоят ночные горшки, звать Авраама или Машу, чтобы пришли взять ее, сволочи. Теперь она вынуждена будет просить их вынуть доски из коробок, иначе как она сможет сойти с этой коляски, безмозгло сделанной коляски министерства здравоохранения, нет у нее даже тормозов. И если поставят ее на высокое место, она полетит вниз, как птица без крыльев, и разобьется.
Руки ее красны и натружены от колес, которые она удерживает, чтобы не подвела ее эта инвалидная коляска, и как она вытащит доски из коробок? Они очень тяжелы, эти коробки, Авраам с трудом тащил их вверх и сложил в шкаф. Но он обязана начать строить свой ковчег, ибо приближается зима и с ней – потоп. Приближается потоп. Это место он сотрет с лица земли. Даже кошку он не пощадит, и не будет, кому бросать ей еду. Холм вернется в свое первоначальное состояние, останутся только поля, пески, заброшенные кусты и больше ничего. И даже эти крепкие заборы не устоят перед силой воды, которая их унесет. Но никто этого не знает и никто об этом не думает. Все эти несчастные, живущие рядом с ней, с трудом поднимающие ноги, пойдут ко дну, как камни, а затем раздутыми будут плавать на поверхности вод. Точно так же, как сейчас, в полуденном зное, они падают на травы, жуют свои языки, и зубные протезы выпадают у них изо рта, и так, полусидя, они дремлют. Это ведь время тяжкого сна, падающего на всех, и каждый валится там, где стоит. Вон этот пришибленный, который все время бросает ей грубые слова, лежит на старой тропе, и голова его на камне, как у пса, и нет медсестры – подвинуть его. Медсестры и медбратья ушли, сидят, верно, в своей комнате, играют во что-то и смотрят телевизор. Только Зельда сидит снаружи, вытащила корыто и стул, и стирает свое белье и развешивает на железный поручень, который рядом с ее комнатой. Белые трусы и огромные лифчики развешаны под солнцем. И тупица-медседстра говорит Зельде, что она в полном порядке, и успокаивает эту несчастную, что все высохнет до вечера. Не с кем говорить. Некому излить свой страх. Некого предупредить. Только она знает и только она строит ковчег. Только она делает то, что возможно, для себя, ибо тогда и она всплывет раздутая, как и они, в великих водах, которые нахлынут. Этого она не хочет, даже думать об этом не желает. Она не даст такому случиться. Она не даст потопу, который придет, чтобы все смыть, захватить и ее. И еще немного, когда вернут ее в комнату, и Берта задремлет, она извлечет одну из коробок и даст Аврааму деньги, чтобы забрал все и начал строить, наконец, строить ковчег. Хватит, нет больше сил. Пусть крадет, сколько хочет. Но пусть уже начнет строить.
Две комнаты
Сразу же после того, как я встретил его на выходе из банка, через много лет, что мы не виделись после окончания университета, где мы общались и вели бесконечные разговоры каждый день, он пошел домой, ведя щенка на поводке, посадил его в постель Тани, которая ждала его, и они сделали это. Я говорю: «Они сделали это», словно это было для них необычным или даже новым делом. Но я знаю, что это не так. Я знаю, что и тогда они это делали. Я знаю, что так это у них было всегда. То есть с тех пор, как они живут вместе. Много лет. Я даже не знаю, с каких пор. Когда я встретил его, стоящего на широком тротуаре улицы Ибн-Гвиироль со щенком, жить ему оставалось недолго. Да и Таня, имя которой я не забыл через столько лет, не была уже столь молодой, несмотря на большую разницу в возрасте между ними. Я помню его посверкивающую лысину в солнце жаркого дня, с горячностью беседующего с профессором Эфрати, еще одним профессором философии, на которого я не обратил тогда внимания, тут же, на тротуаре перед фасадом банка, между идущими во все стороны пешеходами. Сверкание лысины, которое не слабело ни летом, ни зимой, окаймляли растрепанные какие-то печальные вихры серого цвета волос, выпрастывающие сами себя от пота, который прилеплял их к черепу, и все это вместе уже выступало в моих глазах как символ этого человека. Может быть, сверкало-то особое масло, которое он использовал, чтобы распрямить волосы и прилепить их к голове, чтобы они не взбунтовались на ветру, а лежали смирно в одном направлении, которое тогда казалось странным – против ветра. Приглаживание и выпрямление волос в одну сторону, острый и значительный по величине нос, придавали его черепу этакий угол взлета. Взлета лица вверх, не прямо, а по диагонали вверх. Взлета, который как бы лишь стремится к взлету, но ему еще необходима пробежка, разгон до взлета. Тогда я так не думал, просто стоял напротив него и с удовольствием рассматривал его посверкивающую лысину и округлые жесты его рук в воздухе, словно пытающихся поднять то, о чем он говорил, но каждый раз оттягиваемых поводком, которым он, как обычно, был привязан к какому-либо щенку, то Буки, то Муки, волосатому существу серого цвета, так похожему на вихры хозяина. Я вспомнил, что никогда не видел его без какого-либо пса или песика, без которых они никогда не обходились. Только умирал один после многих лет, как говорится, верной службы, в старости, сопровождаемой ветеринарами, лечением, инфузиями, сидением в обнимку, поглаживанием облезающей шкуры, агонией и воем, и вот уже другой ведет его, Иосефа, на поводке по улицам туда, куда ему взбредет. Так, в общем-то, редко вспоминая Иосефа, я мгновенно увязывал его с псом, и видел его влекомым за тонким красным натянутым поводком. Мужчиной он был довольно крупным, поэтому выглядело это немного смешно. Но во всех местах, где я встречал их, даже в университете, что-то в его лице указывало на то, что он не совсем находится с нами. Насколько он погружен в свои дела, какой-то уголок его души тянет его домой. Его и щенка. Сначала был коричневый, потом белесоватый, потом, если память мне не изменяет, желтоватый. Увидев этого, облеченного в шерстяную фуфаечку, облегающую его спинку, несмотря на неимоверную жару, я вспомнил, что так было всегда. Словно псы передавали свои функции по наследству, и каждый из них, чувствуя приближение к потустороннему миру, заботился о достойном преемнике, чтобы супруги никогда не оставались с пустой, сплетенной из соломы конуркой, всегда служившей жильем собачке с тех пор, как они переехали жить на улицу профессора Шора, в солидный район северного Тель-Авива, откуда легко было добираться до университета. Всегда в конурке сидел наследник, щенок обычно смешанной породы, который заботился о том, чтобы хозяева не оставались с пустой конуркой даже на миг. Всегда там виден был такой щенок, в этой плетеной конурке, которая стояла у входа, соединяющего две их комнаты. Точно посредине входа. И если конура сдвигалась с места, всегда кто-либо из них возвращал ее, сдвигая ногой стопку тяжелых книг, на которых конура покоилась. И всегда в конуре сидел песик, не шастал по комнатам, не ковырялся в книгах, валяющихся в каждом углу, сидел спокойный в конуре, спокойный, но полный напряженной собачьей злобы, готовый броситься и сослужить свою службу без стеснения, знающий свое предназначение.
Два человека без Бога. Два человека с собакой. Третий этаж не был для них препятствием, несмотря на то, что эту квартиру они купили не сразу после женитьбы, а гораздо позже, когда они уже не были столь молоды и решили превратить вечную учебу в часть их повседневной жизни. Плитки пола блестящие. Простые, но блестящие. Стены покрыты белой известкой. Всегда чисто. Всегда – покой. Все на своем месте. Почти никого не было, кто мог бы мусорить, за исключением накапливающейся со временем пыли. Пространство, ограниченное потолком на высоте двух метров и шестидесяти сантиметров, содержало в себе чистоту, покой и пыль, рассчитанные на такой объем. Белые стены были лишь фоном, ибо все было заставлено книгами и картинами. Не оригиналами, а репродукциями. Они не были богаты, а израильская живопись их не интересовала. Образование лектора по философии и жены-психолога было широким и прорывалось в далекие области. Широким в пространстве и во времени. Они не нуждались в местных работах. Репродукция же достаточная связь с самыми далекими мечтами их и снами. Даже если бы они сумели приобрести местную живопись в оригиналах, они бы не повесили ее на стены. Фантазиям Тани и Иосефа даже просто белые стены могли дать больше простора, чем просто работы местных художников. Они не знали истории каждой репродукции и даже порой имени автора. Потому я эти имена и не упоминаю. Кто я такой, что знаю и хочу напомнить эти имена, если они их не знали? Важна была их любовь к этим работам, а не исторический фон. Исторические сведения у них были напрочь отключены от их любви к оттенкам ландшафта и ощущению жизни в замерших фигурах. И проходя мимо, они бросали любовные и мягкие взгляды на забранные в рамки репродукции. Взгляды, как бы обращенные к самим себе, и только к самим себе, даже в те редкие случаи, когда у них бывали гости. Они не любили гостей, которые им только мешали. К чему они? Главное, книги. Он отлично знал греческую философию. В подлиннике. Это была одна из его специализаций. В своей радиопередаче один раз в две недели он всегда возвращался к ней, хотя тема бесед была совершенно иной. Книги на всех языках теснились на полках во всю длину стен в обеих комнатах. Когда они были молодыми, один из щенков сгрызал часть какой-либо книги или вовсе ее разрывал на клочки, так что были книги со следами собачьих зубов, книги с частью обложки, ибо клей от переплета был щенку особенно вкусен, и тогда асимметрично обнажалась часть бумаги из-под серой обратной стороны обложки. Это были шрамы давних лет, в новое же время не было этих собачьих баталий и ущерба. Может, потому, что новые щенки не столь нуждались в клее, или, может, получали больше любви от хозяев. В те молодые годы Йосеф не очень то радовался тому, что пес был с ними в постели. Но с годами даже присоединился к Тане и даже нашел этому некие подтверждения в преподаваемом им материале. С годами они научились большей мягкости и любви в отношении к собакам, и те, столь перегруженные любовью и лаской, уже не нуждались в том, что их предшественники. Ну, и, может, пыль, скапливающаяся вопреки уборке, быстро покрывала разницу между книгами, так что и новые и обкусанные, покрываясь пылью, быстро становились похожими одна на другую. Трудно хранить все целым и чистым одновременно. Даже паре, живущей уединенно в скромной квартире на третьем этаже. И так как не было у них, как у большинства людей, разделения на салон со спальней и рабочий кабинет, а обе комнаты составляли как бы одно целое вместе с кухней и ванной, книги в равной мере покрывали пространство обеих комнат. И даже захватили прихожую. Только щенок не читал книг, но и он получал от них пользу, ибо конурка, в которой он спал, стояла на фундаменте из тяжелых книг, который приподнимал ее от пола. Три четыре слоя толстых и тяжелых книг составляли эту основу, подобно камням, на которые другие кладут матрац.
Точно посреди прохода из одной комнаты в другую, чтобы равно принадлежать обеим комнатам. Равно или не равно, но Таня более возилась с собаками. Это не просто приходит по решению, а кристаллизуется с годами. Вначале Таня не любила сидеть на краешке кровати Иосефа, чтобы он не видел ее в обнимку со щенком. И он, который тогда даже бросал взгляд на проходящую соседку, старался не брать щенка на руки. И так он сидел рядом с ее кроватью или на ее кровати и говорил, что получает удовольствие, глядя на нее в обнимку со щенком, или прислонившей к нему голову и даже покусывающей его, так что щенок словно жаловался ему постанывающим лаем. И все же тут не может быть равенства. Оно и не должно быть. Факт. Щенок всегда был самцом. Из смешанной породы небольших по размерам собак. Именно таких любила Таня. Самцов. Держала их за членик, в то время как Йосеф кладет Платона у ножек кровати и приходит к ней подержать щенка вместе с ней, ибо она проводила в постели гораздо больше времени, чем он. «Политея» остается открытой, и философы вместе с Йосефом стоят на карауле, когда она постанывает от удовольствия, и пес карабкается не нее. Пациентов она принимает в холле. Сидят вдвоем, пациент и она, на огромном деревянном столе, почти целиком заполняющем холл, волосы у нее собраны клубком на макушке, взгляд ее синеватых глаз как всегда спокоен, голова склонена на бок, слушает пациента, поддерживает его откровения, еще, еще, желание излить душу. Вокруг уйма бумаг. Если ей необходима книга, она тут же, под рукой. Картотека у края стола.
Лишь Йосеф должен ехать в университет. Они с дальним прицелом выбрали этот район в центре северного Тель-Авива. Такси с улицы Ибн-Гвироль или с улицы Пинкас до университета недорого. Также и до Кирии, в центре, где студия радиосети «Алеф», расстояние небольшое. Квартира их как раз посредине. Дважды в неделю он едет в сторону университета, один раз сюда, а по дороге заходит в продуктовый магазин и покупает все необходимое. Все недостающее можно заказать по телефону, лежа в постели. Если не спит, она читает, или вяжет, или записывает примечания, держа бумагу на колене. Или гладит собаку, главным образом, по краям брюшка, кругообразными движениями. И по вечерам настольная лампа в его комнате бросает круг желтого света на стол. В темноте покойно и приятно. После того, как завершает подготовку к лекции об «Этике» Аристотеля и о мудром умении этого философа коснуться человеческих проблем, которые не решены и сегодня, к примеру, современной науки, генетики, опытов над животными и людьми, а были им подняты столь давным-давно. Завершив свою дневную порцию занятий и чтения, он осторожно, на цыпочках, направляется в ее комнату. Плетеная конурка на входе пуста. Пес спит около нее и ему не мешает легкое ее похрапывание и слабые движения ее тела. Настольная лампа освещает двух комаров, которые уже отведали от жильцов и стали более крупными, двумя пятнами на потолке. Он осторожно, чтобы не разбудить дорогих ему существ, приближает подушку к комарам. Сытые, они ленивы и медлительны. Скорее всего, это самки, уж очень кровожадные. Подушка взлетает и убивает комарих, превращает их в два красных пятна на потолке. Ну что ж, насытились кровью, комарихи мерзкие. И хватит. Йосеф ложится рядом с Таней. Песик между ними не просыпается, как и Таня, когда Йосеф еще одетый, обнимает их обоих. Затем он тихо раздевается. Медленно. Осторожно. Снимает и с Тани тонкий свитер. Два холмика бледных ее грудей улыбаются ему. Кажется ему, они продолжают улыбаться в темноте и тогда, когда он встает, чтобы погасить лампу. Как хорошо, что пса не нужно раздевать. Они прижимаются друг к другу втроем. Таня обнимает его, не просыпаясь, прижимает к себе. Как быстро они учатся, эти псы? Даже зажатый, он ползет медленно к месту скрещения ее бедер, и она поддается удовлетворенно сквозь сон. Когда они засыпают, в конце концов, кажется Иосефу, что комарихи вернулись. Мерзавки, нет им конца, вместо одной уничтоженной прилетают три свежие. Их надоедливое жужжание он слышит, отдыхая немного от своей отдышки, жужжание обманчивое, то удаляющееся, то приближающееся с разных сторон. Кажется, их не три, и не четыре, целые полчища. Он слишком устал, чтобы встать и проверить. Тони облизывает ему щеки. Тони – имя песика, как одна из ласковых кличек Тани. Жаль, что Тони не умеет уничтожать комаров.
Философия или не философия, но Йосеф заболел. Через некоторое время после того, как я его встретил около отделения нашего банка. Посреди лета, а не к его концу, к осени, к новому году. Просто так, посреди лета. Может быть, болезнь была и раньше, но признаки ее внезапно вырвались весьма агрессивно, как это бывает при такой болезни. Так вот, посреди июльской жары. Первый раз, когда это случилось, он упал на стол и оставил красное пятно, ударившись лбом. Придя немного в себя, взял Тони и пошел в ближайшее отделение больничной кассы. Врач, получив результаты анализов, ничего от него не скрыл, выложив их перед ним. Взрослый, серьезный человек, ведущий постоянную передачу по радио. Доктор. Может, профессор, из скромности скрывающий свою степень. Говорили как взрослый с взрослым. Не осталось у него много времени. Жаль, в общем-то, он человек достаточно молодой. Но такое случается и с более молодыми. Конечно, можно надеяться на чудо, но следует быть готовым к худшему. Взвешенные слова врача не облегчили следующих приступов, но как-то смягчили их. Йосеф свыкся с ними. Падений нельзя было избежать, но с ним можно было смириться. И Таня должна сейчас напрягаться, поднимать упавшего Йосефа, тащить его на кровать. Нет смысла вызывать скорую, врача. Она настолько меньше Иосифа, что нет у нее сил, чтобы приподнять его, и она вынуждена тащить его по полу, к кровати, которая, кажется ей за горами. Но она не теряет присутствия духа, обхватывает его, стараясь, чтобы голова его сильно не качалась, пытаясь поддержать коленками, и все же ударяет его. Останавливается передохнуть, но не успокаивается даже, когда ноги его цепляются за книги, стоящие на входе, опрокидывают конуру, и испуганный Тони выскакивает оттуда с плачем, словно бы это он упал. Иосеф не может говорит, только двигает глазами в знак благодарности, старается ей помочь. Может, хочет сказать, что нет нужды в этих усилиях. Она может оставить его на месте, где он упал. Но и этого он сказать не может. Наконец он лежит на своей кровати, отдыхая от путешествия. И Таня тяжело дышит, сидя на краю кровати. И тогда на него вспрыгивает Тони. Несмотря на вентилятор, которого он не любит, Тони знает, что ему делать. Есть у него опыт. Уклоняясь от вентилятора, который обдувает страдающее лицо Иосефа, полный чувств, он начинает облизывать это лицо, которое не реагирует. От этого он в испуге начинает лаять. Но что-то его успокаивает, и он ложится на лицо, прижимается своим животом к нему, и Иосеф с благодарностью успокаивается. И это первый признак того, что он приходит в себя от страшного приступа. Он замирает. Может, засыпает. Только Таня остается сидеть возле него. Странно ей быть у постели Иосефа. Всегда он приходил к ней в постель. Но долг перед больным пересиливает. Она – верная жена. Она будет бороться и с последующими приступами, еще более тяжелыми.
У смерти свой распорядок. Видно, она торопится прийти. Уже в то лето, она приходит мгновенно. Тони сидит печальный в холодной комнате Иосефа, больше не освещаемой по ночам, не обогреваемой в дни короткой осени, которая быстро переходит в зиму с бесконечными ветрами. И эта пустая комната Иосефа давит на Таню, как гиря. Не вижу я больше гуляющими Таню с Тони. Может, они запираются в четырех стенах. Таня закрыла комнату Иосефа, сплетенную из соломы конуру перенесла в свою и все время поворачивается спиной к пустоте комнаты, которая за ней. Постель, конура и стол, и нет нужды вообще больше выходить. Все покупки она заказывает в продуктовом магазине по телефону. Может статься, даже сменила квартиру на меньшую, в другом районе, лишенном воспоминаний и более дешевую.
В конце концов, достаточно и одной комнаты.
Запертая комната
Человек помнит миг освобождения. Я говорю так, как будто это понятно само собой. Разве не ясно, что можно и забыть и об этом? Человек может забыть, если после этого он нуждается в еще одном освобождении, а потом еще в одном… Уже сложно припомнить, в какой последовательности поступали известия об очередном освобождении, как они следовали друг за другом. Попытки привести это в какую-то осмысленную систему, могли свести с ума. Несмотря на то, что я тоже не довольствовался ни первым, ни последующими за ними освобождениями, миг первого я помню хорошо и о нем расскажу.
Квартира на первом этаже четырехэтажного дома, построенного в стиле северного Тель-Авива в пятидесятые годы двадцатого века. Полторы комнаты, холл, закрытая веранда, кухонька и туалет. Квартира на земле с отдельным входом со двора, а не с открытой лестничной клетки общей для всех жильцов.
В течение многих лет я входил в нее и выходил так, чтобы меня никто не видел. Да, полторы комнаты, холл, закрытая веранда. В общем-то, еще комната, запертая, и о ней речь. Но, как говорится, все по порядку. Сначала я ожидал полчаса в приемной. Затем доктор Иаков открывал двери, и я проходил в них. Порой, вместе с родителями, когда мы приходили к Шошане, которая тоже жила в этом доме, на первом этаже на столбах. Но никогда раньше я к ней не заходил. Доктор открывал мне дверь, минуту стоял, невысокий, округлый, одетый в белый халат, и стетоскоп болтался у него на шее.
– Садись, Михаэль, – говорил он и исчезал за стеклянной дверью, которая, как я понял позднее, отделяла приемную от комнаты, где он принимал больных. Два кресла, старые газеты. От скуки я открыл платяной шкаф, встроенный в стену. Обычный платяной шкаф, узкая дверца, окрашенная в светло-кремовый цвет, память иных времен, когда в этой квартире проживали люди. В шкафу было много пустых бутылок от водки. Бутылки разных сортов с наклейками, но без пробок. Узкие и пузатые, квадратные и круглые, и все пустые, покрытые пылью и грязноватые, стояли плотно, от края до края, на всех полках. Закрыл дверцу шкафа. Сел, ощущая тошноту. Взрослеющий и состарившийся юноша двадцати двух лет, в испуге тяжело дышащий, чтобы сбросить внутреннее напряжение, скопившееся в груди, угрожающее вырваться кошачьим криком во время ожидания доктора. Я ждал доктора со своей ужасной тайной. Мне, гению двадцати двух лет, судьбой уготовано было умереть. Мне, знающему всех вокруг, читающему на лбах людей их судьбу, но бессильному им помочь и получить от них помощь. Я сидел в приемной квартиры с отдельным входом со двора, и никто из жильцов дома этого не знал. И Шошана, стареющая и никогда не выходившая замуж, блондинка с волосатыми ногами, чья коса, стыдливо завернута кругами, как у старой русской девы, на затылке, не знала. Коса на голове и у нее и сейчас, когда она принимает мою маму и когда одна в ванной, мастурбирует струей воды из мягкого шланга. Не знают и старики супруги Резник, которые не расстаются и в постели, спят, обнявшись, прижимают багровые лица, полные старческих желтых пятен, одно к другому, и просыпаются, оплетенные паутиной слюны. Все они, и другие жильцы дома, которые были мне знакомы, не знали о моем посещении доктора. И не должны были знать. Это врачебная тайна.
Вдвойне я был связан с этим домом. Мама, которая сопровождала меня к врачу и рассталась со мной на пороге, была подругой юности живущей в доме Шошаны, отец же был другом юности Наоми, второй жены доктора Иакова, которого она звала Валей. Пришел я к нему после сообщения о моей смерти, полученного мной за десять дней до визита к нему в конверте больничной кассы, на котором стояло мое имя, с приглашением немедленно явиться на рентген легких, и это после обычного очередного просвечивания у врача за несколько дней до этого. Я и так близорук, но это был миг, когда у меня потемнело в глазах и это в жаркий солнечный полдень июля. Я сразу понял, что все подозрения, накапливающиеся годами, только и ждали этого мига. Вышла иголка из стога сена. Я избран умереть. И боль в груди, слабость в ногах, когда я поднимался от почтового ящика ступеньку за ступенькой с письмом в руке, были не только от мгновенного испуга, но и от причины, которая принесет мне смерть. Через несколько дней, в такой же влажный жаркий полдень, когда врач-специалист сообщил мне после снимков и анализа крови, что при просвечивании ошиблись, и на снимке у меня ничего нет, я знал, что он лжет. И мне, которому не удалось вырвать у него это ужасное сообщение, оставалось вернуться домой и ждать терпеливо и смиренно своего конца, наполняясь гордостью знающего то, что другие не хотят знать, – знанием о приближающейся смерти. Визит к доктору Иакову был просто развлечением на пути к неотвратимому концу, чтобы еще раз получить долю милосердия перед получением решения суда судьбы, который неминуем.
Валя, старый опытный врач, с круглым брюшком, лет семидесяти или восьмидесяти, разница в десять лет в ту или другую сторона не была столь важной в моих глазах тогда, лысеющий, терпеливость которого ощущалась более всего в неспешной походке, в белом халате, со стетоскопом, с которым никогда не расставался, повел меня из приемной в комнату к северу, освещенную несмотря на пылающий зной снаружи белым холодным светом. В комнате стояли стол, два стула, диван и шкаф со священными книгами. Принял меня традиционным в течение лет ритуалом, пощупав пульс на руки и ноге и смерив давление крови. Он сидел с большим дневником на коленях, черкая в нем что-то, что казалось мне странным, ибо естественнее было, так я думал, положить дневник на стол. Помолчал, поглядел на меня с улыбкой:
– Будешь жить, – сказал. То, что слышалось не очень убедительно из уст врача больничной кассы, здесь было убедительным. Во всяком случае, до пересечения порога квартиры, до момента, когда мы сели в машину.
– Да, мама, он сказал, что у меня ничего нет.
– И он сказал тоже?
И во время этого разговора, в том красноватом свете предвечерья в канун субботы, снова вернулась ко мне уверенность, что судьба моя это судьба одиночки, и только смерть может быть спасением от этого, и ожидания этого конца, ибо только так можно объяснить, почему я не борюсь с такими ужасными трудностями величия, возложенными на плечи одинокого гения.
Войдя в дом, я тут же позвонил доктору Иакову. Хотел услышать его голос. Это был канун субботы, и он уже не принимал, и я мог лишь вернуться к нему в клинику через два дня.
Я стою на пороге смерти, – сказал я ему, стоя на пороге клиники, слабым, но торжествующим голосом. И снова я рассказал ему все, что он уже знал. Я, несомненно, получал удовольствие, рассказывая ему всё снова. Я видел фиолетовые вены на его лысине, которую по сторонам окружали седые редкие волосы. Я видел его щеки, покрытые тонкой сетью красных жилок, скопившиеся за годы складки на его шее. Он снова посадил меня на диван, склонил голову, проверяя мой пульс на ноге. Выслушал дыхание. Я чувствовал себя участником какого-то тайного обряда, отдающим свою судьбу в руки того, кто не только может сказать мне, что будет, но главное, что делать. Он молчал. Затем, как обычно, медленным голосом сказал:
– Ничего у тебя нет. Ничего с тобой не случится. Ты будешь жить. Долго.
Снова помолчал. Довольно долго, хотя я не смотрел на часы. Потом встал и направился к запертой двери, которую я раньше и не заметил, открыл ее, пригласил меня войти вместе с ним движением головы. Он был ниже меня более чем на голову. Но это я себя чувствовал маленьким, низким, идущим за ним. Он открыл запертую дверь комнаты и вошел в нее передо мной. Комната ничем не отличалась от полутора комнат, которые были мне знакомы, или от холла и закрытой веранды. Старая. Выцветшая. Куски извести свисали со стен. Это была не бедность, а заброшенность. Окна не было, потому свет шел от оголенной желтой лампочки. Совсем дряхлый шкаф с полками был прислонен к желтовато-белесоватой стене. Напротив несколько стульев, поставленных один на другой, словно бы кто-то их поднял, намереваясь мыть пол, и так и не опустил. Он высвободил два стула, на один тяжко уселся сам, на другой указал мне. Руки его были, как обычно сложены на дневнике, лежащем на коленях.
– Слово это – детерминизм, – сказал он мне, – все заранее предопределено. Все причинно. Все ведется по порядку – причина и результат. Но вопреки этому ты должен думать, что ты сделаешь то, что хорошо. И чтобы это сделать, проверь сначала, что для тебя – хорошо. Не торопись. Все равно, даже если ты будешь медлить, все будет происходить само собой, по порядку. Твоя приверженность к предыдущим размышлениям, к взвешенности ничего не остановит в цепи причины и результата.
Затем он рассказал то, что затем часто повторял, когда я приходил к нему с идеей быстрого изменения моей жизни. Рассказ о сыне, дочери и жене его, чьи фотографии были развешаны на стенах комнаты. Даже не упоминал их имен. Но даже если и упоминал, я их запомнил лишь как сына, дочь и жену. О дебильной дочери, о сыне, который покончил собой, и первой жене, которую оставил, чтобы перейти в дом второй. С ней он познакомился, когда они уже были в возрасте и не могли иметь детей.
Свою квартиру он оставил под клинику, дабы провести остаток старости в ожидании больных. И перешел жить в квартиру второй жены, принадлежащую на самом деле не ей, а ее родне, а у него право жить в ней, пожизненное право гостя.
– Ведь все, что я сделал, и называется – умереть, – сказал он мне, – люди делают такое в жизни. Они не обязательно должны умереть, чтобы не быть. Они находятся много лет на этой земле не живыми.
Я слушаю и молчу. Не знаю, что сказать. И вдруг слышу себя со стороны, рассказывающего ему то, что никогда никому не рассказывал. Я рассказываю ему о моих обмороках, о том, что время от времени я теряю сознание, о том, как меня мучают кошмары, тело мое сотрясается, и прихожу в сознание со страшной головной болью.
– Перед тем, как кошмар внезапно набрасывается на меня, – говорю ему, – я чувствую нечто иное, другую реальность. Я знаю, что принадлежу другому миру, пришел из другого места. Я чувствую, что был уже там. И я знаю все, что происходит и что случится, и еще разные другие вещи. Но нет у меня никакой возможности выразить их. Что-то мне не хватает. Что-то в моем мышлении. Словно бы это дорога в пустыне. И я должен заставить себя двигаться и выбраться оттуда. Не обязательно сразу, можно и позднее. Свет восходит над пустыней, и нет мгновенной угрозы на горизонте пустыни. Но мне тут нечего делать. Я должен выйти в путь. Но не могу. Не могу, ибо я машина, в которой большой мотор работает внутри слабой системы, в которой все детали, тормоза, трансмиссии, управление, сам корпус, все это мало и слабо, и мотор не может работать во всю силу. Каждый раз, когда его заводишь, он совершает несколько оборотов и выключается. Он не может действовать внутри тела, в которое вмонтирован. Иная жизнь заперта во мне. Фрагменты великого повествования живут во мне. Кто их запирает, что их запирает, этого я не могу знать. Я лишь знаю, что они существуют. Их присутствие существует, и я ничего не могу сделать во имя их, кроме того, что упасть в обморок, мучиться смертным страхом перед жизнью, которой живу. Болезнь моя и кошмар мой, как супружеская пара.
Он смотрит на меня, он снимает одну из семейных фото с полки. Кладет на колени. Не говорит мне ничего. Затем извлекает из кармана пятигрошовую монету.
– Возьми её, – просит он меня, – вложи в коробку, спрячь в ящик стола и извлеки ее, когда тебе будет пятьдесят. Понятие пятьдесят лет не очень понятно. Годы выстраиваются в причинный ряд. Они явно не ясны, лики их стерты. Но сам ряд в будущее выстраивается. И еще много лет передо мной.
– Когда ты откроешь коробку, вспомнишь эту нашу встречу здесь, наедине.
Я слушаю его. Я молчу. Я знаю, хотя и не понимаю. Я знаю, это мое первое освобождение. Наконец-то у меня есть цель, теперь я могу выйти и начать свой путь. Все причинно. Вещь вытекает из вещи. Долгий путь – передо мной. Путь мой из этой комнаты, из этой квартиры, как возвращение сюда через неделю, через год и после. Еще много лет у меня будут встречи с доктором Иаковом. Дневник у него на его коленях. Он продолжает черкать в нем свои предписания. Годами он рассказывает мне то же. Еще и еще раз. И возвращаюсь, чтобы еще раз выслушать его, сидеть в этой закрытой комнате, видеть эти поставленные один на другой стулья, фотографии членов его семьи, висящие на стенах.
За неделю до его смерти я пришел его проведать. В последний раз. Я нашел дверь в квартиру приоткрытой, хотя было позднее время холодного зимнего дня. Он не должен был мне отпирать и я, войдя, увидел его сидящим в кресле в своем белом халате врача, со стетоскопом на шее и дневником на коленях.
– Садись, Даниэль, – сказал он и добавил, – хорошо, что ты сам зашел. Не хотелось мне вставать и открывать дверь, не хотелось опускать ноги со стула. Не хотелось зажигать свет. Пришли ко мне дни без всяких желаний.
После его смерти квартира была продана. Не знаю кому. Думаю, что и запертая комната была продана тоже.
Лестничная клетка
Остался утес, которому нет объяснения. – Легенда пытается объяснить то, чему объяснения нет. Так как основа ее в правде, необходимо, чтобы завершилась она в чем-то, чему нет объяснения.
Франц Кафка «Прометей»Сейчас я сижу и размышляю. Размышляю? Да. Сидеть и размышлять. Больше мне ничего не надо. Я и не жду ничего иного. Можно размышлять во имя самих размышлений. Можно сидеть во имя сидения. Мне так лучше. Я и размышляю, и читаю книгу, зеваю, потягиваюсь, прячу голову в ладони, обнимаю ее руками. Просто сижу. Сколько пожелаю. И как пожелаю. Именно как пожелаю. И мне удобно. Очень удобно. Вот сейчас сижу, и никто мне не мешает. Никто не вмешивается. Не так, как раньше. Никто мне не говорит: «подвинься», «иди», «поди сюда», «сделай это» или «сделай то». И еще я открыла: нигде та ьк нельзя уединиться, как в общественных местах. В любом укромном месте кто-нибудь обязательно сунется со своими требованиями. Иное дело общественное место, тут я не вторгаюсь в одиночество другого человека. Тут я, к примеру, сижу на лестничной клетке нашего многоквартирного дома. Нередко ограничения человека оборачиваются в нечто полезное и необременительное. Факт, что люди иногда должны отказаться от какой-то части себя самих, чтобы достичь других частей самого себя. Вот такое удобное изобретение. Это не квартира моих родителей. Это не квартира Рони или Дова, что когда-то принадлежала их напыщенным родителям это и не квартира Иссера, директора школы, который был в меня влюблен, сажал меня к себе на колени, щипал и бормотал мне в ухо «хорошая девочка, хорошая девочка», Что это такое хорошая девочка? Воспитанная, развитая? Выпестованная всей системой образования? Ключ висит у нее на шее, родители ее работают, а система образования, во главе которой уважаемый ее представитель, директор господин Иссер Браслер, воспитывает и любит. Держит ее в клетке школы и также немного щипает за попку. Ясно, и система должна получать удовольствие. Но почему я говорю о каких-то глупостях, все это минуло. Наследие прошлого, как говорят на правильном иврите. Сейчас я здесь. И отсюда не сдвинусь. Точка. Не точка – линия. Длинная, бесконечная. Идет с тобой туда, куда ты движешься. Линия, которая выходит из-под ступенек и идет себе и идет. Как это удобно, быть с тобой и не двигаться с этого места. Быть с тобой всегда в одном месте и не тянуться за тобой без того, чтобы знать, где ты точно находишься сейчас. Где ты сейчас? Я не знаю, да меня это и не интересует. Женился? Уехал? Перешел жить в другое место? Мне абсолютно все равно. Это твой дом, Рони, и я здесь, на лестничной клетке. Отдыхаю. Жду. Потягиваюсь. Зеваю. И есть у меня все время мира. Ничего не горит. Как я уже сказала, тут я с тобой.
Парень, который жил с родителями и братом Довом всю жизнь в одной комнате. Два парня двадцати семи и двадцати восьми лет, спящие в одной двуспальной кровати, как малые дети. Что поделывает сейчас Дов один в комнате, если Рони уехал? Да какое мое дело. Я не уйду отсюда. Из-за Дова я не покину это место. У него будет все в порядке. Я знаю, что у него будет все в порядке, с того раза, когда мы остались вдвоем, потому что надо было идти в театр, а Дов не мог, ибо должен был готовиться к экзамену, а я вдруг почувствовала себя плохо и сказала Рони: «Бери билеты, иди в театр с родителями». Ему стало стыдно. Неудобно. Можно подумать, человек все годы живет с родителями и не может пойти с ними в театр. Они ушли, как я и думала. Через некоторое время у меня прошло головокружение, и я пошла в ванную, чтобы вымыть лицо, вернулась, а Дов сидел у стола из ДСП, этакой подделки под дерево, сидел и писал своим неразборчивым почерком. Я приблизилась так, что лицо мое почти коснулось бумаг, а он продолжал писать. Колечко моих волос упало ему на лоб, и он его не убрал. Я немного подвинулась, как будто наткнулась на него, а, в общем-то, хотела как соскользнуть на него, увидеть, как он отреагирует. Я и скользнула так, по диагонали, и оказалась у него на коленях. Вначале он как окаменел. Я чувствовала, как колени его упираются мне в попу. Затем он расслабился, мышцы смягчились, а ноги так и остались подо мной, по диагонали. Я не хотела свалиться с его ног, схватилась за его бедро. Положила голову ему на плечо. Волосы его и щетина на лице щекотали меня. Оба молчали. Потом я почувствовала, как рука его начала путешествовать по мне. Я не стала мешать его руке. Рука прошла под моей рубахой, и соски мои напряглись ей навстречу, как будто соски самостоятельны, но так они всегда себя ведут. И пошла за ними, и злилась на себя, что для такого дела, для плоти, я делаю все тихо. Словно это другая внутри меня, которая там всегда еще со времен, когда я была маленькой девочкой, вскакивала во мне, смеясь и делая все, что ей заблагорассудится, а я оставалась в стороне полная изумления. И боли. И в то же время я радовалась, что рука его переходит от соска к соску, ибо я хотела, чтобы рука была там, и всегда считала, что груди самое красивое, что есть у меня, и всегда огорчалась, что для такой красивой части моего тела такое короткое имя «груди». Так я сидела на коленях Дова, и рука его у меня под рубахой, я обняла его голову, и вдруг, удивленно и по-настоящему ощутила его присутствие. Потому что всегда он вел себя так, как будто его нет, и я привыкла к тому, что когда мы с Рони вместе, Дов где-то обретается в углу, он как бы есть, и его как бы нет, как будто он не является частью нашего целого. Он обычно отворачивался лицом к стене и словно бы не дышал, или дыхание его не было слышно из-за поднимаемого нами шума? Я думала о нем время от времени, в объятиях Рони, крича: «Еще, сделай мне больно, еще, еще», и при всем этом чувствовала, что могу обернуться и поцеловать Дова в голову, в его черные, такие красивые волосы, которые почти прилипали к стене в темноте, словно росли из стены. Но в тот вечер руки его гуляли по мне, пока не остановились. Вдруг остановились, и я продолжала молчать. Затем он убрал от меня руки, я сошла с его колен и села на край постели. Мы не разговаривали. Я могла остаться с ним. Знала, что он хочет этого. Но я сошла с его колен, посидела немного сбоку, встала и вышла. Я шла под небом, затянутым белыми облаками с такими коричневыми подпалинами. Несмотря на вечер, свет города как бы шел с неба. Пришла я в свою комнату, которую снимала, села на постель, как будто и не покидала ее, сказала себе: «Рони любит меня и сейчас, как и раньше, даже если знает, что произошло». Не радовалась я этому, но и не печалилась. И так это продолжалось и после, как будто между мной и Довом ничего не произошло. Я оставалось на своем месте, около Рони еще долгие-долгие месяцы, и Дов оставался часто, повернувшись лицом к стене, и больше мы не говорили о том, что произошло в тот вечер, я даже не знала, рассказал ли Дов об этом Рони, что мы делали всё, а, по сути, ничего. И повторяла я себе: «Рони любит меня теперь, как и раньше».
Размышления мои о Боге, и об ангелах небесных, и о сатане, которые там, на небе, совсем запутались. Один вошел в область другого, облекся в его форму, и невозможно узнать, где Бог, и кто сатана, и на чьей стороне ангелы, и я прихожу навести порядок, вернуть каждого на свое место, чтобы был тот, к кому можно обратиться, кого попросить, кого умолять, кого обвинять, перед кем плакать, как я плачу сейчас, тихо, про себя, на этой лестничной клетке, по которой всегда лишь проходила мельком. Лестничная клетка, которая теперь принадлежит лишь мне, и никогда я ее не оставлю. И вот так, плача, я вовсе не уверена, что хочу навести порядок, что я и вправду хочу, чтобы слезы мои дошли до определенного адреса. Я вовсе не уверена, что хочу навести порядок на небе, даже если я могу, хотя и это вовсе не ясно. Может, я лишь хочу размышлять. Только сидеть и размышлять.
Всегда, когда мне хотелось размышлять, я шла на море, которое, по моему, самый большой подарок людям. Брала я с собой складной стульчик, что обычно стоял заброшенный в темном углу, бутылку воды, шляпу, даже ночью брала шляпу, и шла себе, независимо от всех, и никто на улице не обращался ко мне. Идет себе по улице девушка, о которой никто не может сказать, что она некрасива и не привлекает внимание, глаза у нее сильные, острые, не глядят в каком-то определенном направлении, и ясно, что у нее все в порядке, и она идет в какое-то место, навстречу чему-то, ибо иначе, зачем ей складной стульчик и бутылка воды, люди шагают рядом с ней, смотрят на нее или не смотрят, но никто из них не обращается ко мне, не спрашивает, словно бы между нами какой-то барьер. И тогда я сказала себе: запутались ли они там, на небе или нет, доходят ли до них мои мысли или нет, не знаю. Но я знаю, одно: запутались они там или не запутались, меня они охраняют. И мне хорошо и покойно. И даже сейчас, даже если я плачу иногда, когда сижу здесь, я знаю, что они меня охраняют. Все в порядке и так будет всегда, даже если я немного поплачу. Не мешают мне там и не портят мне ничего. Словно Бог, даже если и запутался с ангелами и сатаной, сотворил эту лестничную клетку в шесть дней Творения.
И вот сейчас я сижу и размышляю. Так тихо сижу я. Наконец я остановилась. Люди входят, выходят. Кажется мне, и свет изменился, слабеет, вероятно, время вечернее. Ночью включают свет автоматически, он вспыхивает и гаснет, так мне кажется. Я гляжу на них из-под ступенек, я вижу их, а они меня нет. Они чешутся, они вправляют рубаху в штаны или поправляют юбку. Они что-то бормочут себе, они молчат. Они опускают сумки и вздыхают, набирая в легкие воздух. Снова подымают. Незнакомые мне дети играют в углу, потом поднимаются к себе готовить уроки, есть, спать. Ходят. Все время тишина нарушается, толпа поднимается или пускается и снова тишь. Я могу все это не замечать и даже с легкостью. Мне достаточно книг, которые я принесла с собой, и моих размышлений. Рони, дорогой, хотел, чтобы все было в порядке. Родители его, Двора и Моше, ушли в мир иной, остались лишь их портреты на стене. Но даже после того, как они превратились лишь в портреты, он продолжал говорить с ними. Однажды в шесть утра взял меня на кладбище, посмотреть на две таблички с именами «Моше» и «Двора». Может, хотел таким образом показать им, что мы все еще вместе. Но он устал там и замолк. А Дов продолжал смотреть на нас со стороны и молчать. Может все дело в Михаль. Может Рони думал, что с ней более все в порядке, чем со мной. У девушки все в порядке. Родилась здесь, твердо двумя ногами стоит на земле. Следить будет за их сыном, как полагается. Не знаю. Может, это был протест Рони против того, что я сидела на коленях Дова. Хотя мы ни разу об этом не говорили, он привел Михаль, и я ничего не сказала, кроме того, что «Я тебя не оставлю, никогда не оставлю». И он испугался, хотя я и не намеревалась его испугать каким-либо насилием. Я хотела сказать, что все это глупости. Что глупость то, что у него между ног и у меня между ног, и что люди с этим делают, все это – глупости. Вообще. Можно с этим. Вводят, выводят. Однажды я встретила одного, который даже сделал операцию, вложил такие маленькие железные шарики, чтобы у него крепче стоял. «Нет разницы, – хотела ему сказать, – нет разницы в небе и на земле, и не важно, кто кому ввел. Важно лишь, что мы решаем, что это мы. Мы, и точка. И нет никого более. Даже Бог на небе не выступает против этого решения. Сатана иногда сердится, хочет все испортить. Иногда его попытки успешны, вероятно, потому, что там, на небе, всё смешалось. Но кто упорно продолжает держаться своего выбора, продолжает, потому что так решил, ибо так должно было быть и есть всегда, кто упрям, добивается цели.
Никто не выступает против него. Никто не испортит ему ничего. Просто не сможет испортить.
И я тогда взяла свой складной стульчик, книги и пришла к тебе. Не поднялась наверх проверить, вправду ли ты ушел или нет. Это неважно, если для того, чтобы у тебя все было в порядке с портретами, которые остались на стенах в твоем доме, все в порядке с тем, что они тебе отвечают, ты пошел к Михаль. И это ничего не меняет, ибо я здесь. И здесь останусь. Сидеть. Отдыхать. Я не поднялась в твою квартиру, узнать, что происходит, там ли ты. Осталась внизу. Осталась на лестничной клетке. Открыла свой стульчик, уселась, спряталась под ступеньками. Не хотела никому мешать. И не хотела, чтобы задавали мне лишние вопросы. Я знала, если ты захочешь, придешь. Если захочешь, найдешь меня.
Только дети обратили на меня внимание. Ничего не спрашивали. Точно так, как если бы я сидела на берегу моря. Но ты все не приходил. И была стена. И я видела, что могу в нее войти. Вошла. Со стульчиком. С книгами. Одна прядь, что упала мне на плечи, вышла немного наружу и выделяла меня. Потянула я и прядь эту к себе. И стало приятно. И пришло безмолвие, какого никогда раньше у меня не было. И потоки любви омывали меня со всех сторон. Я одна, но словно бы мы вместе. И я знаю, что и ты будешь. Можно сказать, что я храню тебе место. Ибо не важны те, кто был, и кто не был, не важны те, кто втыкал в меня кусочек плоти, кто целовал меня, кто хотел показать мне, насколько силен, и пользовался для этого всякими искусственными вещами. Я смотрела на них, смотрела своими карими глазами, словно они были разных цветов. Тело было с ними, но оно молчало, так, что вроде и не было с ними. Они приходили и уходили, как будто и не были, но я избрала тебя. Потому я здесь, сижу и размышляю. Читаю. Молчу. Лестничная клетка – чудное место. Это моя тайна и твой дом. Общественное место, где все могут ходить, и никто меня здесь не найдет. Увидят лишь стену, по диагонали, под ступеньками. Фундамент лестницы. Поручень. Колодец. Проход для людей в их квартиры. Общественное место. И я сижу и уже вижу нашу хижину, ручей, закат и восход. И там мы навсегда, и ничего нам не надо. Ни добавить, ни отнять. Я. И ты. И Бог. Бог, который говорит со мной в проеме лестничной клетки.


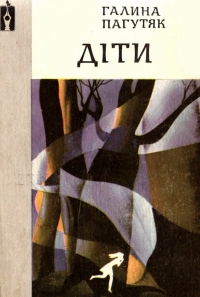




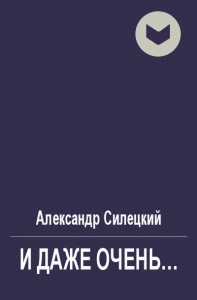
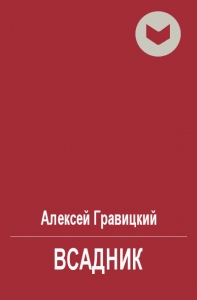
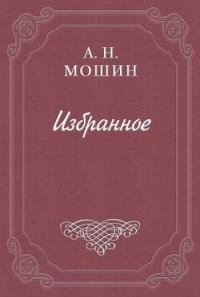
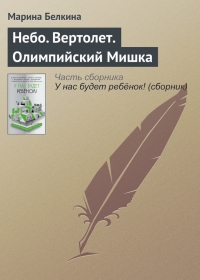

Комментарии к книге «Купить зимнее время в Цфате (сборник)», Орцион Бартана
Всего 0 комментариев