Феликс Евгеньевич Максимов
Духов день
Глава 1
В году одна тысяча семьсот семьдесят первом третий Спас наступил в срок.
На зеленых горах простые холсты не растягивали.
Синие молдаванские сливы, вязкий черемуховый плод, кайсацкий кизил растоптали сапогами на мостовой.
Привозного и своего торга совсем не стало. Пустынно на Москве. Сквозь ясеневые городские рощи встала на полсвета Успенская синева. Высоко-далеко.
Сулемное солнце опрокидывалось в слободы и сады так быстро, словно и не вставало.
Ртуть в старое время отравой не считали, давали играть на блюдечке детям, пусть посмотрят, как вертится, прикоснутся, зла от опасной забавы не видели.
Девичий виноград в Донском монастыре налился кислым соком докрасна. Сам собой распустился по палисадам паслен-бессонник, сорный свирепый цвет. Из львиных следов пророс без спросу. Львиными ногами посетил Москву Господь. Седьмую неделю длились бездождье и засуха. Росли на востоке ярусами немилостивые медоносные облака. Рассеивались впустую в сумерках. По косым улицам писали городскую линию слепые, совсем деревенские плетни. Высокие заборы, посадские ворота, крыши - высоко вырезаны на скатах восьмиконечные кресты от сглаза. Москва по высям крыта тесом, лубом и соломой.
С креста на крест, со стрехи на стреху, с версты на версту просяным семенем растратился август.
Колодцы на перекрестках заколотили досками.
Осы расплодились в подвалах, заселили испод Москвы, зудели на румынские голоса. Кусались. В августе всегда являлись морильщики - ярославцы. Они усыпляли ос особым подкуром, гнезда собирали в мешки про запас. Бумажные перепонки, осами из себя сотканные, нужно разделить, как слюдяные пластинки, в сыворотке вымочить, на пару подержать, распялить всухую, получится осиная грамотка с непростыми письменами. Осиные соты на тонкие дела годятся - если класть под невестину простыню - станет что ни год приносить сыновей.
Больше морильщики не ходят. Забыли нас. Боятся. Неусыпные осы застывали на весу горстями.
В субботу по улице меж Земляным Валом и живым Крымским мостом торопился мальчик-гимназист. Разночинный зябличий сюртучок скинул впопыхах на плечо. Всем такие знакомы - штатские солдатики, родительские сироты государыни. Долгие полы малинового сукна, голубые обшлага, небесный кант, два ряда больших медных пуговиц на груди. На туго причесанной голове - поярковая треуголка. Плясали по соломенному настилу - балясинки - белесые чулки с кострой. Некрасивый. Губы обветрились, треснули заеды в углах. Слизнуть коростку недосуг. Мусолил ситник в кулаке. Укусить недосуг. За пазухой у гимназиста - свернутая ведомость, осиная серая грамотка в семь листов. Пролистать недосуг.
На улице десять ворот - все досыта распахнуты. Выползли из московских плесневых поднорков всякие. Лица наизнанку, съеденные. Стояли по двум сторонам улицы хозяева, бабы, старики, подростки. Ждали. Поджимали пустые рты, насильно кутались в серое. Смотрели вслед. Окликали гимназиста обыденными голосами:
- Дитя, дитя, сколько?
Мальчик летел с прискоком, всем отзывался:
- Шестьсот! Шестьсот!
Люди быстро крестились и говорили про себя:
- Слава Богу.
Накануне тот же гимназист - отвечал "семьсот", а третьего дня - восемьсот.
У него всякий день за пазухой, за обшлагом или за пояском - осиная ведомость - в семь, а то и в десять листов. Отец приказал ему доставлять от старшего брата, письмоводителя в Серпуховской полицейской части, поименную записку о ежедневной городской смертности.
В августе покойников на всей Москве, согласно реестру, вышло восемь тысяч душ. В сентябре хватит за двадцать тысяч, в октябре - восемнадцать, в ноябре, когда подморозило - всего шесть тысяч. Обыватели убирались во дворы. Запирали створы и ставни. Мостовые пустели. Редко по бревнам, по убитой соломе, по ослиным тропкам через открытые ненароком дворы трусил рысцой полицейский, которому вверили досмотр - всюду ли, согласно приказу, разожжены постоянные костры. Всюду.
На минувшее Рождество, фабричный привез на Большой Суконный двор неизвестную женщину с малолетней девочкой - вроде как дочкой, а может падчерицей или приемышком. Сукновал взял их с собой в город из милости, одеты они были по-деревенски, ничего не смыслили. Плакали. Кланялись за корочку.
Женщина жаловалась на сухость во рту, жар и ломоту в суставах, показывала всем, кому ни попадя желваки, набухшие за ушами. Говорила, что тем же Бог наказал подмышками и в стыдном месте.
Девочка посматривала на больную бабу, и на первых порах молчала. Личико и тело у нее были чистые, как яичко. Голова повязана косынкой на церковный лад концами назад. Черная косынка в крупный белый горох. Фабричные жалели их - пускали под кашеваренные навесы, клали спать с собою в семейных бараках у Каменного моста, и, просыпаясь среди ночи - слышали, как девочка бесконечно клянчила:
- Теточка, теточка, пойдем домой...
А баба в ответ:
- Молчи!
Больная часто вставала пить, слонялась у общих бочек близ суконных мастерских. Брала мировые черпаки, хватала руками квашенину из кадушек, помогала другим бабам-суконщицам стряпать, всюду лезла. На четвертый день желваки лопнули и начали гноеточить. Баба бредила, не вставала до вечера.
Соседи не вынесли смрада, сказали, кому следует. Теточку наладили во Введенский госпиталь, но не довезли - умерла по дороге, прямо на телеге. Девочка испугалась покойницы, соскочила с телеги в ночь, и в суматохе ее искать не стали. Никаких бумаг при мертвой не сыскалось, да и фабричный милостивец ничего не мог показать - он сам уже второй день лежал пластом, а за ушами пылко цвели нарывы, края язв в паху перетекали иззелена в трупную чернь.
С 1 января по 9 марта на Софийской набережной умерли 130 человек. Причиной смерти назвали злую лихорадку, хоронили тайно, по ночам, никто ничего не предпринял, сказали сор из избы не выносить.
Заболевшие мастеровые с суконного двора самовольно разбегались, разнося заразу по Москве. Во многих домах стала показываться язва. Лихорадочные больные прятались до последнего, заматывали шеи и заушье тряпицами, противились осмотру, таскались по церквам и питейным. Несколько человек умерли в военном госпитале. Генеральный штаб-доктор Афанасий Шафонский сразу опознал черную язву, переполошился, написал донесение Московскому штат-физику и медицинской конторы члену Риндеру. Немец оскорбился, фыркнул "фот еще!", не бывать тому, чтобы первым признаки мора обнаружил не он, а подчиненный его, к тому же русский. Спустя сутки штат-физик сказал, что черные пятна на телах софийских мастеровых, не чумные карбункулы, а пролежни, насмеялся над Шафонским и дело порешил не тревожным. Шафонский настаивал, что пролежни от долгого бездвижия происходят, а некоторые больные умерли на третьи сутки. Риндер не удостоил ответом. Шафонский приказал на Введенских горах круглосуточно жечь круговые костры из сырых березовых дров, где дегтю больше. С гор покатился валами первый копотный дым, черным жиром осел на стенах. На Москве заговорили разом. Началось. С Земляного вала утробно заматерились холостые пушки. В храмах напропалую забили в колокола - звонари падали от усталости, на колокольни поднимались новые, из мещан, кто горазд балаболить за копейку. Верили, что сотрясение заполошного трезвона очистит воздух от заразы. В Преображенской и Петровской слободе вымирали приходами, ворота и двери были растворены настежь, будто все разом потеряли ключи. В пустые дома и склады, пригибаясь, пролезли псы. Глодали темное, дрались. Тянули зубами посинелые мясные лоскуты с кожей и телесными волосками.
Зачумленная старуха лежала под окном в доме священника, просила ради Бога, воды. Соседи жались по каморам, читали правило ко Святому Причащению, кричали на детей: Кто подойдет к поповскому окну, выгоню на улицу, отдам негодяям!" Старуха стонала, визжала чуть не двое суток, все дивились, откуда силы берутся. Наконец, сосед не вынес воя покликухи, вынул из помела самую обгорелую палку, привязал к черному вонючему концу ковш воды - просунул палку в окно. Старуха, за палку цепляясь, полезла, поползла слизнем, перехватываясь пальцами по горелому шесту из окошка вон, потянула синегнойные губы, до самого конца доползла и схватила завопившего червивыми руками за лицо, потому что мертва была уже неделю. Сосед откричал свое, отряхнул старую наземь с шеста, из ковша лицо ополоснул, потыкал палкой трупную утробу, все равно пропадать.
- На Москве вода сладкая, чистая. Даром. Пей, пока дают, бабинька...
Старуха молчала навзничь. Черная в горох косынка со лба сползла на брови. Отворились золотые глаза. По воровским низам, на горбатых берегах Сетуни и Неглинной, как весной, опушилась верба, не к добру августовский вход Господень в Иерусалим.
На рынках говорили, что чумная хворь вернулась из Турции вместе с русским войском. Мор распространился в Брянске, потом открытым пламенем выплеснулся на Москву. На окраинах руками убивали молдаван и жидов. В страхе и умилении целовали иконы. Муж жену целовал. Жена целовала дитя в темя. Дитя целовало сестер и братьев. Сестры целовали женихов в ушко. Женихи - сестер в груди. Торговцы целовались при сделке. Богомолки целовали поповские персты. Пьяницы целовали друг друга в десна. Рабы целовали барские руки. Троекратно целовались на перекрестках соседи и крестовые сродники. Голубь целовал голубку на чердаке. Долгим целованием по цепи людской и звериной полнилась Москва - уста в уста. Между покупщиками и продавцами раскладывали кольцевые костры, сделали надолбы с углублениями, залитыми бальзамическим уксусом и спиртом, в них опускали расплатные денежки. Поставили на перекрестках чадящие угольные жаровни, в которые валили совками навоз, свиной жир, обувные отопки, кости, перья, конский волос, козьи и коровьи рога. Стоило кому посреди улицы кашлянуть или зашататься - кричали "сумнительный"! и волоком тащили в чумные лазареты по монастырям, что в Симонов, что в Данилов, что в иные особые карантинные дома -где даже деревянные перекрестья в стенах исходили на крик. На первый Спас заколотили протравленными досками лавки, бани, французские магазины на Кузнецком, трактиры, мануфактуры, театры и постоянные балаганы.
У врача Афанасия Шафонского руки покрылись ожогами - день и ночь, кашляя в невыносимом смраде, искал он в аптекарском покое верный состав окуривательного порошка, чтобы пресечь свирепство язвы. Примерял одежду, снятую с умерших, подержав ее на дыму. Узнал, что к переболевшему человеку зараза больше не липнет, но переболевших было мало. Они помогали лекарям, без страха посещали умирающих. Подначальный Шафонскому медик Данила Самойлович входил в чумные бараки, наряженный в алый камзол в напудренный бальный парик. В треуголке с золотым галуном и при шпаге, тем показывая свое презрение к болезни. На красивого доктора смотрела чума через дырочку в сучочке притолоки. Следом за алым камзолом тянулись вниз вороньей цепью черные лекаря, замотанные в рядно по самые глаза, держали впереди себя смрадные черепки с густым дымом и смоляные факелы среди бела дня. Выносили закутанных, валили внахлест на черных дворах, закапывали на Воронцовом Поле - ставили в братском изголове осиновый крест. Дурочка украшала оплечья креста бубенчиками. Грамотный татарин начеканил на медной табличке надпись: Здесь лежит тысяща". Так хоронили по-людски. Всякий боялся выдать заболевших в своем доме, не вывешивали по предписанию на окошки приметные пестрые тряпки, не метили дворовые ворота пепельными крестами, мертвецов валили в колодцы, хоронили в огородах, спускали в подвалы и в Москву-реку или просто, не крестясь, выносили ночью на улицу. Так не по-людски.
Уголь, кизяк, луговые травы, канифоль, сосновые шишки стали жечь на медных листах. Всяк бросал в раскаленное новое снадобье. Искали спасения. Москва волочилась в поганом дыму, давилась сажей, голосила таганским горлом, и вдруг успокоилась, съежилась, точно круглый уголечек-таблетка в кадильнице Иверской часовни - весь жар внутри. До полуночи в Иверской на вечном стоянии стояла черница, мучила сухими пальцами мужские афонские четки. Девочка в косынке черной в белый горох - концы назад завязаны в узел, смотрела ей в затылок, молчала. Через два вечера черница вышла прочь, побрела, сгинула, рыжая, тощая, в зеленом платье с желтыми ячменными колосками по подолу.
Кончилось вечное стояние. Ничего не стало.
Под черненым окладом мечем по щеке сеченной Богородицы треснуло от пустого жара синее грузинское стекло заглавной лампады. Близ иконы гроздями висели перстеньки и непарные серьги, коралловые веточки, янтари прусские в оправе, приношения во здравие. Кто хотел - подходил и брал, как малину дерут, сыпал в потайные карманы, относил барыгам. Барыги продавали втридорога краденое в золотых рядах. Снимали с мертвых одежду, не гнушались затрапезием. Стирали в хвойном отваре, чтобы отбить запах. Село Пушкино вымерло подчистую от купленного на московском торжке кокошника. Город Козелец погибал от кафтана, в котором вернулся к женке беглый мастеровой. Люди бежали сотнями.
Зашевелились на трактах муравьиные дороги.
Удрал в Марфино главнокомандующий граф Салтыков, обер-полицмейстер Юшков тоже бросил пост и бежал в мещанском платье в деревню, бежали и другие градоначальники - с семьями, прислугой и родственниками, бежали купцы, дьяки, полицейские, солдаты, писаря, холуи, господа. Кто верхом, кто в карете, кто в сенных телегах. Пешие беженцы тащили на загорбках мешки с пожитками и малолетних детей. Мальчики на летних волочках-саночках играли в палочки. Трупы, скорчившись, ночевали на обочинах. По Владимирской дороге в осинничках ходили бабы-ягодницы с лукошками и прутиками, ворошили одежду на телах, срезали пуговицы, искали бусы и перстни, денежку найдут - и тут же на зубок.
Столица спохватилась, отсекла Москву бесноватым ломтем от Петербурга насмерть. Протянули Брюсову цепь по Твери, Вышнему Волочку и Бронницам - встали войсковые команды с факелами.
Приезжих пропускали с мытарствами, письма переписывали, бочками лили в колеи уксус, окуривали экипажи и одежду полынью и можжевельником. Оттуда не выпускали никого.
Ничего, все обходились, помолясь, просачивались, как Бог пошлет - по балочкам, по лощинкам, по полосам посевной земли. Сотни тропок, сосновых просек, крутых оврагов прочесывали одуревшие всадники в черных колпаках и клеевых накидках поверх офицерских кафтанов. Золотыми шарами меж конских ушей чудились беглым чумные фонари. Москва осталась без закона.
Гарнизоны не покинули только истинные солдаты и офицеры, которые помнили присягу и цену армейской чести. То же происходило и с полицией - где требовалось десять человек для дозора, теперь с трудом можно было увидеть одного караульного. Ночное кабачество вышло на площади с ножами. Выучили волчьи речи.
Потому что - можно.
Трудный сентябрь выдался, со всех дворов носили трупы, а тут еще и сухая жара и отчаяние и великое бесхлебье.
Чумные костры перемежались пожарами. Достаточно было одного уголька из печи в избе, где лежали мертвые или больные - и выгорали целыми улицами, тушить было некому.
Ранняя осень принесла с востока пустые сероглазые сны. Домоседство стало невыносимо. Обыватели ни свет, ни заря, таскались друг к другу в гости. Собеседники делились сновидениями. Вся Москва смотрела сны, слышала голоса, видела знамения.
Священник церкви всех Святых на Кулишках с амвона рассказал старухам, что фабричному - все на Москве от фабричных - явилась Богородица, Проста-Свята девка.
Будто бы выглянул он в окно, а она стояла, Честнейшая Херувим, топталась босыми стопами у забора - и снег - наяву снега не было, а во сне - был, снег на ее седые волосы сыпался.
Девка - а космы седые... Бесприютная.
Фабричный пригласил Ее в дом - не пошла, но когда он вынес Богородице кусок серого хлеба с солью, она есть не стала, но призналась ему, что Ее образу, выставленному на Варварских воротах Кремля тридцать лет уже никто не пел молебнов и не жертвовал свечей. За преступное забытье Христос хотел наслать на Москву каменный дождь, но Мать в милосердии своем простерлась перед ним, вымолила снисхождение, и Христос заменил каменную кару трехмесячным повсеместным мором.
Без слез заплакала Богородица, завесила лицо волосами и бросила хлеб.
Облизнула соль с пустой ладони.
Москва устыдилась и бросилась на Варварку - просить.
Уцелевшие священники оставили приходы, воздвигли у Варварских ворот аналои, стали служить молебны. К воротам приставили длинные лестницы - ярые молитвенники полезли по ступеням вверх, обмели паутину и копоть, уставили образ Боголюбской Богородицы свечами. Кто спускался после целования - рассказывал, что икона чумной скоропомощницы, на вкус отдает зерновым ладаном и мушкатом и шиповным плодом, да так горько на языке, да так сладко во чреве, что и не описать человеческим языком.
Сверху было видно, как вся проезжая улица перед Варварскими воротами запрудилась черным народом - скорчились на коленях, кланялись лбами в землю, больные умирали прямо в толпе, не могли упасть - со всех сторон подпирали мертвых живые.
Мертвые смотрели вверх, туда, где у ног немоленной иконы острыми язвами метались на ветру свечные огни.
Боголюбская икона вся пряничным золотом, гречишным медом и трудной охрой писана по цареградской доске из горького розового дерева, которое в могиле не гниет, и в воде тонет.
Стояла Богородица, запястье к сердцу приложа, показывала продленную грамоту из агнчей кожи. У красных постолов Ее, еле видимых мысами из подола, остановились на коленях двунадесять апостолов-святителей. Белые церкви остывали у святителей за спиною, перекликались рдяные воскрилия кровель. Медленные соты левкаса на иконной доске: золотце к золотцу, сусаль на сусаль, непалимый цвет на непалимый цвет, как вечерние окошки, как пасхальный огонь. Молитвенное любование. С несказанного облака Сын за всеми нами посматривал, заносил в малый свиток все слова и мысли.
Ослаби. Остави. Прости.
Фабричный уселся близ ворот, ему сколотили еловый ящик с прорезью, чтобы собирать деньги на всемирную свечу. Мастеровой рассказывал всем свой сентябрьский сон:
Да, вот те крест, так и пришла, Боголюбская, седая совсем, вон с тебя ростом, невысокая стать, стояла босичком Христа ради. Зову, зову, а в дом не идет, глаза сухие, северные у Богородицы глаза, с искрой и все смотрит, смотрит...
Насквозь меня смотрит чумная московская Богородица.
Внимательно слушали, записывали, кивали, сыпали в сундук серебро. Вели детей благословить. Фабричный целовал детей в головку. Детские темечки молочком пахнут.
Из Марфина дезертир граф Салтыков, семидесятилетний старик, в свое время славно погромивший пруссаков, писал повинные депеши царице о состоянии дел в гибнущей Москве, не решаясь даже оглядываться на зачумленный город.
Амвросий Зертис-Каменский, митрополит московский и калужский заперся в духовной консистории и писал "Наставление, данное священникам, каким образом около зараженных, больных и умерших поступать". Умолял не допускать скопления и целования икон, последнее в моровую пору весьма смертоносно и способствует сугубому распространению язвы. Наставление пастыря не услышали.
Многие шептали митрополиту, чтобы покинул город, как все люди, и особые дорожные грамоты сулили и беспрепятственный путь из Москвы. Отказывался. Спрашивал: Как оставлю Москву в болезни?. Советчики дивились его твердости.
В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое сентября митрополит Амвросий приказал запечатать самовольную казну, мастерового свезти в сугубый дом и лечить.
Что ж вы творите, у него в заушье волдыри с перепелиное яйцо.
Уберите детей. Ступайте по домам. Спать.
А найденные во всемирном сундуке деньги надобно отнести в Воспитательный дом сиротам. Свечи погасить. Боголюбскую икону снять, отнести в церковь и запереть.
Народ разогнать милостью или силой, впредь не допускать скопления.
Помимо митрополита в Москве остался генерал Павел Еропкин, человек трезвый и бывалый. Он тотчас приехал к Амвросию советоваться.
Засиделся допоздна, нога на ногу, высоким сапогом качал, прихлебывал красную шведскую водку, во всем сомневался. Сказал, что в смутное время скрывать чумную Богородицу опасно, пусть остается, но сундук с деньгами необходимо изъять.
Прощаясь, Еропкин твердо обещал: - Будет кровь.
Послали солдат с подьячими запечатывать ящик для приношений и усмирять неразумных. В ту же ночь москвичи закричали в тысячу глоток:
- Грабят Богородицу! Не дают молиться!
В девятом часу утра бунташные ворвались в Чудов монастырь.
- Грабят Богородицу!
Оборвали серебряные оклады с икон, разбили архиерейский дом.
С присвистом ворвались ребята в погреба купца Птицына, раскололи винные бочки, черпали шапками и колпаками зелье, опивались до смертной блевоты. Тонули в срамном пойле. Насиловали девок и певчих мальчиков прямо в самотечном сусле аглицкого пива пополам с грязью. Растащили митрополичью библиотеку из того дома, где в старое время сиживали постриженные цари. Все оконницы были выбиты, картины изодраны, мебели изломаны в прах, пущены по ветру псалтыри и книги всех художеств надлежащих на разных языках и разные рукописные листы.
На конюшенном дворе все кареты и коляски захватили. Били ломами.
Монастырские служки говорили ворам, что коляски не архиерейские, но чудотворцевы. Воры отвечали со смехом, что чудотворцы в колясках не ездили. Воры сажали служек в расписные коляски, обливали ворванью, поджигали и пускали вниз по Васильевскому спуску, горящих людей в горящих колесницах. Вертелись на пестрых осях колеса. Несло уксусом, мясом и паленым волосом.
Бунташи в беспамятстве бросались на оружие с голыми руками.
- Чернь, стой за веру, бей солдата до смерти!
Литовской погоней по небесам наискось гнала Ксения свои осенние стада: перистые облака, листопад, ненастье, высокое сияние сентября. В красных сапогах вприсядку приплясывала Москва.
До вечера легким порхом кружились над Красной площадью книжные страницы. Перья аистов, черным по белому писанные, осыпались на мостовые.
В Чудовом монастыре все святые образа были оборваны с гвоздей, ризница растащена в щепу. Евангелие, хоть и оставили от стыда на алтаре, но сорвали с него апостолов и унесли, разорвали в куски антимнист, разграбили сосуды, иконы обругали выколотием глаз.
Улицы наводнились людьми, бегущими домой с добычей, кто с виноградными напитками в сулеях и в засаленных шапках, кто с холстинами, кто с юфтей, и у всех глаза соленые, как у седой Боголюбской Богородицы-Чумички.
В татарскую ржавчину перегорали набережные рощи над Москвой-рекой, тянули к небесам голые развилки ветвей. В рощах хорошо убивали. Трое суток продолжались в Кремле ломка и грабеж.
Всюду шатались распьяные мужицкие артели с дрекольем, били докторов и караульных, самовольно распустили Даниловский карантин, освободили сидевших в Розыскном приказе веселых каторжников, больных пустили по домам, кого ноги носили, те поднялись. А кто лежал пластом - тех сжигали заживо, в рот лили ворвань и смолу.
Мелкие писаря со слов погромщиков и мародеров, составляли бумаги с требованиями, чтоб хоронить, как прежде, при церквах, а не на заставах, больных не брать в карантин, лекарям и докторам их не лечить. Доктора-иностранцы все зелейщики и фармазонщики, нарочно пускают в воду ядовитые споры моровой язвы, везде нюхают, рядятся в хари и злоумышляют.
Требовали распечатать бани и полпивные, выдать для смертного избиения всех виновников московской пагубы. Бумаги отсылать было некому - все адресаты выбыли.
Архиерей Амвросий скрылся в Донском монастыре. Приобщился Святых Тайн и смертно затосковал. Просил через посыльных Еропкина, чтобы тот выдал ему пропускной билет за город. Вместо билета Еропкин прислал для охраны пастыря одного офицера конной гвардии.
Стали закладывать для Амвросия лошадей, пока возились, толпа ввалилась в ворота Донского монастыря. Амвросий надел серый мужицкий кафтан и спрятался от Москвы за иконостасом. Бунтовщики выволокли его за щиколотки на двор перед трапезной и лазаретом, чтобы не сквернить святого места кровью.
Пастырь стыдил бесчинных - многие дрогнули, хотели отпустить - вперед протиснулись кабацкие целовальники с дрекольем, один крикнул: Чего смотрите? Он колдун, он нас морочит". Толпа сомкнулась и быстро убила архиерея. Тело с выколотыми глазами бросили остывать на соломе.
Для сбора по всем церквам ударили в набат. Говорил Егорий меж Тверской и Никитской. Откликался Никола у Троицкого моста, и брат его - храм Николы Стрелецкого подпевал. Говорили, перебойным гулом все храмы вокруг Кремля.
Камни содрогнулись, когда на Иване Великом красными утробами гаркнули Медведь, Реут, Вседневный, Лебедь и Семисотенный. Голодные колокола-львы, лобастые Ивановы буйволы, наполнили небо великой бедой.
Бунтари приступили к казармам, полезли из-под горы грудою с каменьями, рогатинами, топорами. Раскольники, фабричные, подьячие, купцы и холопы подняли великий хай, требуя выдать им Еропкина для истерзания на куски.
Им ответили ружья и сабли великолуцкого полка, подковы драгунской конницы и пушечная картечь. Всего-то было две пушки и те на полковом дворе на Пресне найдены нечаянно с потребным снарядом.
Один купецкий боец, из славных, озверясь, бросился на пушку с кулаками - и был разорван залпом напополам.
Генерал Еропкин двое суток не сходил с коня, командовал и был спокоен, потому что начались обычные жатвенные труды: оцепления улиц солдатскими фрунтами, треск стропил, беглая пальба, мерная работа штыками, матерный покрик унтер-офицеров, барабанная дробь, рокот конских копыт по покрытому трупами Боровицкому мосту.
Зачинщиков опохмеляли ударами медных эфесов, вязали сзади руки и бросали в кремлевские погреба.
Со звоном погребли убитого архиепископа Амвросия. Извергов предали анафеме и повесили на месте убийства, куски тел удавленных разнесли по рынкам. Там закоптили и оставили на юру до весны для устрашения.
Секли захваченных на улице малолетних бузотеров, а попа с Кулишек и разносчиков мнимых чудес, сослали на вечные галеры с вырезанием ноздрей. Других - не отличая крестьян от купчишек, и дворян от подьячих - били кнутами и отправили на каторгу в Рогервик.
Калили в угольях клейма. Плотники сколачивали колодки, плахи и виселицы. В Яблонном ряду палачи вырезали скорняжными ножами на лбу приговоренных слово "Вор" и втирали в порезы черный порох ради вечного позора. Дебоширам и грабителям отрубали кисть правой руки, вешали обрубок на шею и возили по площадям на золотарных телегах.
26 сентября в Москву из Петербурга прибыл граф Григорий Орлов.
От самой Царицы он получил чрезвычайные полномочия по усмирению бесноватой Москвы. Его сопровождали четыре лейб-гвардейских полка и целый штат лекарей, взамен побитых. В графском поезде обретались необходимые персоны: австрияк-гастроном, парикмахер, горбатый шут Мирошка верхом на ослике с хлопушкой для мух и дохлой кошкой, костромской мужик, обученный свистать соловьем и роговой оркестр на особом возу - который без продыху, наяривал мазурки, кадрили и чувствительные амурные пиесы.
Орлов грустил - говорили, что Екатерина отправила опостылевшего фаворита на верную гибель. В Петербурге, аккурат после его отъезда велено было готовить ему панихиду, чтобы дважды не тратиться.
На подступах к Москве Орлов при пудре и парадных регалиях, в камзоле залитом - от пол до горла золотым шитьем, ехал в рессорной коляске, расписанной галантными сценами из "Офризы и Лезидора". Дразнил перстнем на мизинце мартышку, не глядя на ухабистую дорогу.
На заставе его верхами встретил Еропкин, с пепельным от бессонницы лицом. Подбитая нога распухла в залубеневшем кровью сапоге. Черт, придется голенище пороть. Генерал зорко взглянул на расфранченного фаворита, дернул черствой щекой, промолчал.
Притащился питерщик по наши души. Пропала Москва. Оставить комментарий
Глава 2
Орлов ответил ему взглядом, и обнаружились под ленивыми веками, на диво цепкие и по-ящеричьи немигучие глаза-медяки.
Граф сгреб мартышку за шкирку, отшвырнул шуту, сразу приказал везти себя в карантинные лазареты для досмотра.
Сам садился к изголовьям больных, пробовал казенную кашу, следил за сожжением одежд и постелей, посещал холодные домы, где сваливали мертвье.
Ввели всеместный учет и перекличку.
Сирот свезли в приют на Таганке, дали по черпаку щей.
Запретили набатный звон, и ключи от колоколен передали в участки.
Колобродам, суеверам и пьяницам ротики рвали, били батогами.
Русак такой зверь - батог любит. Хлебом не корми, дай только батога - гопак спляшет, Москву построит, часы сделает.
Мародеров, уличенных на горячем, напрасной смертью убивали, без суда.
Городу нужны были дрова, гробы, зерно, кирпичи, корпия, известь, дерюга, носилки, деготь, гвозди, упряжные лошади, фуры, спирт, порох, лярд, кожи, багры,
По Московским острогам, погребам, ямам, примерным застенкам и монастырским тюрьмам ржаво залязгали замки, засовы и стреловидные петли.
Третьего октября вывели из-под земли и поставили под солнце колодников, душегубов, разбойников, насильников, барыг и фальшивомонетчиков, всех тех, отпетых, браных в железа, чья душа сплошной слипшийся кровяной колтун. Издавна называли на Москве таких "варравами". Выводя вон, напялили им на головы глухие мешки, чтобы не видело солнце мерзости и зверообразия гниломясых лиц. Шеренгами провели безликое отребье по улицам, под штыками, под храп казенных коней - выстроили в просторном дворе дома Еропкина на Остоженке, где решались все дела по усмирению чумы. Шелестели над головами озолоченные липовые купы, высаженные по краю двора для освежения.
Орлов прошелся вдоль дышащих мешковин, держа руку на эфесе.
Сел на желтый барабан, табачную щепоть в ноздрю тиснул - чревным смрадом смердели варравы.
Указал ногтем на голытьбу - Снять.
Мешки сняли.
Отхаркалась мокротой из бород, зашакалила зубами, выпялила мордовские бельма вся сволочь Москвы на начальничка.
Смертью казнить хочешь?
Пудреный унтер крикнул графскую волю.
Кто хочет отечеству честно послужить - выходи вперед.
Выдадут дегтярную робу, крючья для захватывания тел, смоляные и вощаные балахоны, кожаные маски "рожи" с дырами для глаз и рта, рукавицы чертовой кожи, фуры и казенных лошадей - и айда чистить выморочные дома.
Провиант, водки штоф, все на казенный счет от пуза.
Денег не положено, зато все, что при зачумелых телах обнаружится: монеты, серьги, колечки, пуговицы, бабские бусы и подвески, все после должного пережигания - ваше.
Воронья доля: Бог простит, закон отступится.
Только кресты и образки-нарамники, перекалив, относить в храмы, класть на канон, отдельно.
По жребию каждой артели крючников достанется одно из кладбищ близ застав: Ваганьковское, Даниловское, Дорогомиловское, Пятницкое, Калитниковское, Преображенское и Семеновское.
Кто надорвется, от трупного яда залихорадит или царице-язвице достанется - суди Бог.
Кто жив останется, тому всю прошлую вину отпустят на четыре стороны, а кто отличится усердием, получит землю на окраине для поселения.
Арестанты молчали. Липы тратили на черную землю желтые денежки листьев, слышны были шелесты, блошиные почесы, кашель.
Из шеренги булыжным шагом вышел рослый колодник в серой рубахе и портках.
На щиколотках и запястьях гремели оковы, поручные цепи пропущены через ошейник крестообразно. "Опасен весьма" - шепнул Орлову охранный. Сразу повисли на смазных цепях два солдата - как псы-мордаши на пошатучем медведе, - держи. Сбежит.
Колодник плечи поежил, легко нагнул шею, цепи натянулись, будто конские арканы. Солдатские подошвы зачертили мыслете в пыли, силились устоять.
Молод, стар - у мужиков не поймешь, диким курчавым волосом зарос до глаз, отощал на голодной кутье в застенке. Но верблюжьи мослы костяка под шкурой, витьё больших жил на локтях и кулаках, звериное переносье и сросшиеся окаты бровей, страшили пещерной мощью.
Орлов удивился: - Экий Китоврас...
Волоча на цепях охранных, мужик подошел к приказному столу. Прищурил пройдошливые глаза.
- Меня пиши.
Назвался:
- Григорий Степанов Фролов.
Прочие зашевелились, стали выходить, немногих отказников увели обратно в остроги.
На слепом дворе ударами расковывали кандалы, тянули из общих куч железные "крючья" с пятью когтями, негодные лапы-грабилки, для растаскивания мертвецов. Друг друга теми лапами пугали, как малые.
- Дери женку, дери целку, дери когтем попадью!
Натопили отходную баню - на смертный труд надобно чистым, с прохладой ехать - долго мылись каторжники, окатывались из бадей кипяточком, выходили на воздух голы по пояс - чтоб выветрился тюремный дух.
Поставили в оглобли ледащих желтозубых кляч, отворили широкие красные ворота.
Последние мортусы в телеги вскакивали на ходу, сидели, ноги свеся, колеса вихлялись навеселе.
Возницы сыромятные вожжи над головой раскрутя, пустили коней из последних сил скакать с посвистом.
Катай-валяй, Семеновна! Месяц светит, покойник едет!
Прохожие отворачивались к стенам, крестились.
Так и шпарили по улицам мортусы-загребалы: дегтем мажут, рожи кажут, калеными крюками машут.
На работы шибко катили, с работ вереницы телег скрип-поскрип везли на погосты безымянную мясную кладь.
Росли новые кладбища, без оград, с тесовыми временными часовнями-каплицами над похоронными урвинами. Приказано поспеть до заморозков, земля залубенеет, снегом покроется - ни лом, ни кайло, ни заступ не возьмут.
Лекаря следили, чтобы глубже глубокого сокрыли чуму, пересыпали слои едкой известью, которая горазда христианское мясо белым глодом есть.
По сю пору чума на Ваганьково дремлет, высочилась из косточек, по подземным ручьям проточила земляные пласты, лежит, поджидает. Навсегда засеяна земля на Ваганьковском кладбище язвенными семенами.
Нельзя землю зря бередить, нельзя расширять кладбищенские дорожки, есть такие участки, на которых от века не хоронят, чтобы злой посев не взошел, а если кто по неразумию сунется в гробовую борозду, то опять пойдет чума рыскать по Москве, взимать с малых и старых воронью долю. Раз поправляли на церковном дворе дорожку, где могилки старые, один догадался, сунул в землю щуп - вынул, отнес санитарам. Те чумные споры узнали, приказали работы свернуть, все зарыть-заровнять и место отметить, а догадливому руку отрезали - потому как со щупа болезнь ему в руку перешла. Если бы не отрезали, так и целиком сглодала бы.
Споро работали фурманщики, кто в бега уходил, кого с утра самих под колоду убирали, бывало и дрались смертно за добычу - дележ без кровянки, не дележ.
Очищалось лицо Москвы.
Крючник Григорий Фролов, в Ваганьковской артели числился за старшего.
Шантрапа его слушалась, с первого дня, как тезка-граф окрестил, так и прозвали Гришу - Китоврасом. Тут и там слышно - Гриша то, Гриша се, Гриша Китоврас.
Доверяли ему артельный хлеб резать. Он всегда караваи, не глядя, делил поровну, хоть взвешивай, и водку разливал из баклаги - всегда по машин поясок.
Работал степенно, молча, с плеча, как бревна рубят, таскал носилки, могилы рыл, расчищал завалы и погорелья, в такие погреба за трупами спускался - куда иной бы и под угрозой не сунулся.
Вечерами ходил пешком на Таганку, с битюгами на кулаках силомерничать.
К утру возвращался, похмелялся кислым молоком, коней своих, прежде меж бараками поводивши, запрягал наскоро по-казански, ждал, когда остальные мортусы соберутся.
До света при бараках котлы кипели, рубахи сушились на прожаре, тени метались, выше крыши -наши труды велики.
Китоврас приглаживал коней по шеям большой в шрамах рукой. Скоты к нему мордами тянулись, бодали лбами. Зверь к зверю льнет.
Кони у него лучше всех были. Сам ради скотьего бога, зерном откормил, выхолил, бабки тряпицами обвязывал, копыта маслил, растирал полынными жгутами ребра, разговаривал с ними больше чем с иными людьми. Самоплясные вышли кони - не погостные, а свадебные.
За спиной говорили, что Гришке коней ублажать - дело самое то.
По всей дороге от Москвы до Троице-Сергиевой Лавры, а особенно в Клину, Григория всеми чертями поминали, как первого вора, конокрада, разбойника и убийцу.
В каком селе уродился, кто отец с матерью, чей холоп - никому не ведомо.
Потом и на пыточной кобыле молчал и под паленым веником от семерых отлаивался.
Только три слова говорил:
- Григорий Степанов Фролов.
Потому как хуже нет, если человек свое имя потеряет, имя не гриб - нечаянно не найдешь.
Лет двадцать ему было, когда объявился под Клином, на озорства ходил в одиночку, без товарищей. Угонял возы с товаром, коней забирал, перебивал клейма, богомольцев побогаче раздевал, пускал голяком по лопухам, а если кто противился ему, тем кланялся земно, а потом насмерть резал и по сырым балкам складывал. Врали, что на плече у него черная белка ночевала, которую он у литовского монаха за нечеканный рубль с дырочкой купил на удачу. Пока белка при нем была - никому Григория не поймать стать. Он ее своей тенью кормил, нащиплет, покрошит, тем сыта. Оттого и была у него тень лоскутная.
Пять лет изловить не могли. Наконец, девка-калмычка его опоила, дунула-плюнула, черную белку кочергой зашибла, а Григория солдатам выдала теплого.
В Москве судили за татьбу, ждал каторги. Вел себя не смиренно, в яме подсадного кляузника ночью задавил цепью и на пороге бросил.
Всю чуму и бунташную неделю просидел закованный в карцере Константиновского застенка, думали, с голоду сдохнет.
Не сдох - только голову рассадил о становую балку. Волчьи сны и мысли томили его в одиночестве. Навсегда остался на лбу под волосами след-лысинка.
Никого не простил, девку-калмычку простил, потому что - дура.
После Покрова последние дома чистили, на Яузе.
По утрам утиные лужи подергивались ветвистым ледком.
Застыли в черной воде под стеклянницей листья и сорные травы.
На Яузе мертвая бедность в пустых избах спала по рундукам и лавкам. Иные за столами сидели, головы на руки сронив. В люльках младенцы лежали.
Кого куда маета смертного часования загоняла: один в запечье схоронится, другой в клеть, третий на чердачной лестнице повис, четвертый в сенях поперек порога лежит - рука в троеперстии сложенном закоченела над головой, а личико псы и крысы съели подчистую.
Сильно изгнили обитатели, на крючьях плотские куски повисали. Мортусы работали сменами, даже ночью. Когда выносили, кони от зловония постромки рвали, приседали с визгом и храпом.
Звали Гришу - утешать лошадей. Он, бывало, петушиное слово шепнет - стояли, как пришитые, только зубы скалили и шкурой в пашине дрожали.
На пустых улицах пьяные мортусы говорили тихо, во дворы входили, перекрестясь, и с поклоном испросив прощения у хозяев.
Зачем вы, архары черные, явились, зачем наши души пугаете?
Души наши зимние горностаюшки, в поле гуляли на воле на своей, им буйное жито по пояс, сосны жаровые по колено, гробные травы - по чистый лоб. Клубы берестяные на погосте души наши, платье все по крестам разбросано, реки по лесам разлились. Тоску тоскуют наобортные древеса в золотой воде. У нас хлеб пекут не по-прежнему, у нас крестят лоб не по Божьему.
Когда Китоврас пригибаясь, входил в осевшие двери яузских изб, всегда отмахивался от непрошеных душ, будто мух или голубей ладонью гонял, шептал ласково:
- Кшши, кшши, летите, Божьи, далеко-высоко, не мешайте.
Никто его о том не спрашивал - артельные сами знали: чумные души мошкой вокруг головы вьются, летят на тепло, ищут щелочку, если найдут, не отвяжешься нипочем, затоскуешь или сопьешься.
Иной раз во дворах и живых встречали: одна помешанная все похаживала, собирала в подол щепочки, пруты от метелок, пух-перо, своему сыну на постельку. Были и старики доживавшие рядом со своими семьями. Дети-найденыши, которые от мертвых мамок под крыльцом прятались, жили чем Бог пошлет, как кошки. Страшно, чего она в углу сидит черная и кашу не варит и нам не дает, как ни тормошим. Она днем сидит, а по ночам по избе ходит, ключиками звенит, от нас сахар заперла.
Таких мортусы, не обижая, провожали в приюты.
Работы завершили в канун Казанской Богородицы. На Казанскую всегда дождик идет так положено, печальный бабий праздник.
Поздняя осень смотрит с чердаков еловыми глазами.
Сумерки смыкались над Москвой ладонями. Не успеешь отобедать, а уже темно, собаки подают голоса, огни над водами дрожат. Матушка Казанская по огневым следам вела зиму за руку.
Гриша с кухарем при бараках договорился, выставил артели Ваганьковцев на ужин темного пива и солянки на сковородах с самого жару. Ели тесно, весело.
Сам от потчевания отказался, так, пригубил для уважения, отошел от стола. Шатался по двору смурной, то упряжь на распялках потрогает, то присядет, послушает, как под навесом кони чистое зерно хрупают.
Сон ходил по лавкам в красненькой рубашке, Дрема ходила по трубе, она в белой кисее.
Тоскливо моросило, как сквозь пальцы. Осенние светы через голые развилки сочились.
Все томило в дымные дни, будто дела не окончил, будто рубль в реку обронил или без молитвы встал.
Чудилось Грише, что он не сам по себе, а русского мяса ком, из которого хоть Христос Воскрес, хоть лысый бес - всяк свое вылепить норовит, а ты знай, покряхтывай, покоряйся гончарам да спасибо не забудь.
Плюнул, встал, пошел на Москву без оглядки. Петлял по улицам долго, глядел в землю. Ему уступали дорогу.
Сумерки попутали, выбрел на Яузу, где заклятые избы меж тонко оснеженными пустырями, как гнезда пустые стерегли берега. Всех здесь наперечет знал, и мастерские и сараи. Скольких отсюда на своих руках перетаскал, на погост перевозил. Хлеб в короб, странника в город, а мертвого мертвяка в колоду, в сырую землю.
Шел Гриша, имена, тех, кого знал, про себя поминал.
Кончились домы,встали непролазные заросли. Бузина, купавицы, краснотал.
На том берегу часто колокол звякал.
Сильно рекой пахло.
Сквозь косую морось огонечек мигнул, очертил четвертушку окошка.
Раз.
Другой раз.
Погас.
Нет... Снова.
Быть того не может: набережную улочку излазил Китоврас с закрытыми глазами, жилья на том конце - свят крест- не строено. Место сорное, косое, сарай рыбацкий вон по склону в реку почти сполз, крыша провалилась.
Огонек мигнул.
Поспешил Китоврас прямо через пустырь, раздвигая кусты, потерял шапку.
На пасленовом косогоре стояла хатка, стены черные, крыша лубяная, из трубы грушевое дерево растет, облетело уже все, грушки черные на черенках сморщились, будто колокольчики или кулачки, а окошко озарено медовым светом изнутри.
Еще утром место пусто было.
Гриша перекрестился, заглянул в оконце, рот кулаком прикрыл.
Увидел.
Земляной пол. На полу медный таз стоял до краев налитый червонный водой. В тазу яичные скорлупки плавали счетом дюжина. И в каждой скорлупке - тонкий огарок церковной свечки из чистого воска. Пламеньки в воде дрожали змейками. Колыхались, сталкиваясь, гадальные кораблики. Теплый дух над тазом марил волнообразно.
Над тазом на корточках сидела голая малолетка лет десяти на вид. Грудки совсем еще козьи, кукишки, завязи. Девочка острым коленом подперла скулу за тайными огнями неотрывно.
Ни клочка на теле. Сама белая и чистая, как яичко. Голова повязана черной косынкой в белый горох - концы назад.
Подняла голову и глазами Грише так сделала - зайди.
Зашел. Присел рядом, нагнулся, и ни слова не говоря, сблизили головы и стали вместе смотреть на яичные кораблики. А в тазу - проплывали чудеса, как облака в колодце, дна не видно - во множестве дрожат огоньки. Стайки рыбок вспыхивали серебром и в глубь уходили, вильнув. Приглядишься: под червонными плесами подводные города видны. Кровли, стены зубчатые, короны стрелецких башен, крепостицы, храмы, ряды, терема, каланчи.
Месяц светит под водой. Звездная россыпь над монастырскими горами бисером блестит. В крымских степях нерожденные кони пасутся по колено в усатых колосках. По неведомым дорогам барские кареты торопятся в пропасть. Осенние гуси над полуночными великими водами тянут тоскливые клинья, а по тем водам плоты с огненными бочками на шестах тихо плывут. На каждом плоту - виселица с висельником, отражаются в воде белые рукава.
Сгинули плоты. Улетели гуси. Воды великие вышли из берегов и погасли.
В черноельнике тихий скит вырыт под тремя осиновыми крестами. А в том скиту сама мати огненная пустыня насказанным цветом сияет. Тетерева под елками пляшут. Старец идет по озеру босиком, несет в руке стеклянный колокол, а у того колокола язык человеческий мясной, вместо колокольного висит. И все это в малом тазу Бог весть как помещалось, чудилось и пропадало.
Одна за другой свечи в скорлупках гасли - завивались волосяной тонкости дымки. Съедала мужика и девочку темнота по лоскуту.
Последняя скорлупка посреди таза с огнем тосковала.
Выкатилась из-под фитиля восковая капля.
Малолетка слова не сказала - но Гриша расслышал исподволь:
- Сейчас погаснет. Останусь одна. Навсегда.
Как проснулся Китоврас, в костровой жар кинуло, а руки заледенели. И теми ледяными руками снял с себя Григорий Степанов Фролов соловецкий крест, с которым с детства не расставался, и на шею девочке надел.
Стало темно.
На рассвете по улицам шел Гриша Китоврас, редким знакомым кланялся, нес на руках спящую девочку, завернутую в кафтан, только нос востренький видать.
Вернулся в бараки. Артельные посмотрели и посторонились, с вопросами не приступали.
Китоврас сел в углу, ношу с колен не спускал. Девочка во сне рот приоткрыла, улыбалась, молочные зубы подряд, как горошинки в стручке. Быстро, быстро глаза под веками ходили - смотрела десятый сон.
В тот же день артели мортусов распустили, особо отличившихся наградили за страшную службу, слово с делом не разошлось - наделили землей.
Когда делянки раздавали, Гриша Китоврас себе место на отшибе взял, в Нововаганьковском переулке, что меж Средней и Нижней Пресней пролегал. Место сухое, на высоком холме, на восточном излете Трех Гор, и церковь рядом - Иоанна Предтечи, и мелочные лавки, и склады и речка Пресня под горой. Воду брать, белье полоскать в быстринах, все можно.
Тут и землю под застройку колышками отметили, хватит и на избу и на огород.
С Нововаганьковского далеко и ясно видно Пресню - и большую реку Москву и три малых притока - Пресню, Студенец и Черную грязь, и водяные мельницы и рощи и сады, и россыпи домов. И сам Ваганьковский погост. Все места Китоврасу знакомые. Ну значит так тому и стать, где посеял, там и врасту.
С соседями Китоврас не свойствовал. Сразу прослыл бирюком, такого в гости не зовут, с таким не христосуются, не кумятся. Да, видно, ему того и надо было. Поставил на своей земле временный балаган, стал помаленьку строиться. Бывшие артельные ему, как могли, помогали избу под крышу подводить.
Девочку окрестил у Иоанна Предтечи. Заплатил за требу не торгуясь, сверху на попа посмотрел, так попросил благословения, что попу недосуг стало допытываться, отчего это десятилетнюю крестят. Да и девочка смышленая, все верно отвечала, знала Христову молитву назубок. Во время обряда Китоврас запястье девочки не отпускал, аж костяшки на кулаке побелели. Закончили - увел, не обернувшись на образа. Так поселились на Пресне Гриша Китоврас и Маруся.
Глава 3
Год спустя справляли новоселье в Нововаганьковском переулке. Дом ни мал, ни велик, а в самый раз для бобыля с малолеткой.
Два лицевых оконца весело выглядывали на улицу, буйно цвел под ними палисад, Маруся цветочков клянчила, отчего бы нет? Гриша Китоврас купил рассаду у армянина Макартыча в Пресненских садах, тут и бровки и анютины глазки и бархатцы и петушиный цвет.
Травяной дворик огорожен деревянным забором, встали по своим углам поленица, клеть с курами, дождевая бочка, конура. И для огородных гряд места достало.
После расплаты и новоселья Гриша поклонился в пояс артельным, со всеми распрощался навсегда и запер двери.
Жил с девчонкой в затворе.
Выходил на Пресню редко по делам, всегда один. Все при делах - в новом доме труда много, тут поправить, там огородный дрязг садить, обустраивать мастерскую. Гриша заладился столярничать по мелкому, знал древорезное мастерство.
Особенно славно выходили у него березовые туеса - легкие, ладные, из самолучшей бересты, а на боках-то насечками коники, солнышки, птички, елочки. Ягоды хорошо хранить и мед - порчи не будет. Наделает и продает разносчикам. С того промысла и кормились.
Девчонка все по дому возилась. Пол дощатый еловый ножом прилежно отскабливала до янтарной слезы, мела, стряпала, как большая. Рубашки Грише штопала и вышивала. А ловчее всего крашенки пасхальные расписывала - наткнет деревянное яичко на спицу и пишет волосяной кисточкой узоры клинышками, если веточки - все смородинки, если петушки - все красные, если голубки - все сизые, если девушки - все русалочки.
Пригожие выходили яички - уж она и на подоконники их клала, петельки приделывала и развешивала на суровых ниточках по стенам и на чердачных стропилах.
Много их и все разные, леденцовые писанки. Кто с улицы видел, любовались, просили Гришу продать, отчего такую красоту под замком держит.
Китоврас всякий раз на такие просьбы брови насупливал и наотрез отказывал.
- Все, что от Маруси - не продажное и не дареное.
Соседи поначалу судачили, редко какому любопытнику выпадало счастье в щелочку калитки его чудачества подсмотреть.
Но Гриша Китоврас числился в честных, никому зла не чинил, по пьяному делу не баловался, мужик видный статный, не старый, двадцать пять годов - а на баб и девок глаз не поднимал.
Раз даже, сговорившись с дьяком церкви Иоанна Предтечи поновлял и украшал резьбой перила на хорах и двери - очень складное художество вышло. На двери вырезал Райское дерево. Древо древанское, листья маханские, цветы ангельские, глаза материнские.
На Дереве плоды играли молодильные, на нем ангелы трубили в золоты трубы, на развилках - двенадцать добрых друзей сидели, двунадесять светлых праздников, на вершине Сам-Христос всего Творец и мертвых Животворец, длани возносил - а обе ладони то у Спасителя были правые, потому что не правого у Христа нет.
Дьячок остался доволен, хотел заплатить, но Гриша от денег отказался, но приступил с просьбой: у дьяка на дворе сука-первородка ощенилась, нельзя ли одного щенка взять. Дьяк позволил. Китоврас обстоятельно выбирал кобелика, будто не кабысдохи пресненские, а меделянские собаки. Все на морды смотрел, искал ему одному ведомые приметы. Спрашивал, точно ли сука первый раз принесла. Нашел нужного. Двуглазый кобелек был - над живыми глазами два желтых пятнышка. Китоврас очень благодарил и поселил пса на своем дворе. Стал растить.
Дьяк сокрушался: всем хорош Гриша, до помешался на чумной службе. Втемяшился ему первыш двуглазый, будто лучших нет.
Месяц спустя новый слух прошел.
Как-то раз Гриша притащил в мешке с убойного двора кобылью голову с кровавым отрубом шеи. Кобыла была гнедая, глаза с ресницами синие, в слезу, будто вареные, во лбу проточная звезда.
Голову сварил до кости в дворовом котле.
Мясную выварку вылил собаке, череп зарыл под порогом.
Маруся сидела в сенях, босиком, с жалостью смотрела, как он роет яму, как вешает над дворовыми воротами лезвие косы, как приколачивает к дверям подкову, как втыкает в щелки ветки можжевельника.
Утром выпал снег.
С того кобыльего дня Маруся не переступала порога дома. Если просилась в огород погулять, Гриша Китоврас брал ее на руки и переносил через порог. Сам в огороде возится или с берестяными заготовками, а девчонка под присмотром пирожки из грязи стряпает, а рядом куры сор гребут. Или сядет с подросшим Первышом, песенки ему поет, все не московские, все без слов лисьи песенки.
Летом надерет одуванчиков, их в китоврасовом дворе уйма, сплетет венок, повесит псу на ухо и смеется, и Первыш смеется по-своему, цепью гремит. Когда солнце за Три Горы пряталось, Гриша девочку обратно через порог переносил.
Ужинали.
Если Гриша со двора уходил, Маруся скучала. Заканчивала хлопоты, мотала цветные нитки с клубка на клубок, светлую коску чесала, заплетет-расплетет.
Раз прошел мимо торговец с коробом бабьей радости: сахарными рожками, султанскими стручками, клюковкой сахаристой, ореховым "яролашем".
Маруся, на лавку встала, жалобно окликнула его в науличное окошко:
- Поди сюда! Орешков хочу!
Торгован полез сапогами в палисад, поднял в фортку кулек с орехами, а Маруся ему навстречу потянула белую тощую ручку. На ладони разменные денежки. И пахнут денежки гарью и уксусом. Зачернели, по краям оплавлены.
Тут Гришка Китоврас вернулся, увидел такое дело, в дом чертом вскочил, девчонку поперек живота - хвать и ссадил с лавки.
Вышел сам - свои, обычные, деньги торговцу бросил:
- На и пшел. И впредь не таскайся - убью.
Орехи передал Марусе только из собственных рук. Она их оселком колола, смеялась, курлыкала, как горлинка.
Все ей радость, вылущила из скорлупки нутро, понесла Грише, мириться.
Китоврас сидел за столом, весь - медвежьим горбом, свесил кудлатую башку, кулаком лоб подпер.
Маруся за рукав его дерг-дерг и потянула ладонь. А на ладони - орешек золотой.
- Что ж мне с тобой делать? - спросил Гришка, так уж и быть, пожевал ядрышко. - Христа ради, не ходи со двора без меня, никого в дом не зови. Не ходи без меня на Москву гулять.
- Не пойду больше на Москву гулять - обещала Маруся. На том и поладили.
Дважды в год Гриша Китоврас водил Марусю в церковь Иоанна Предтечи, слушать Всенощную - на Рождество и на Пасху.
Наряжал приглядно, голову ей покрывал косынкой.
А перед выходом повязывал аленькую ленточку одним концом - на ее запястье, другим на свое.
Вел по улице Марусю на аленькой ленточке. Он - то большой, она маленька, расступалась улица, кланялись им - а они в ответ, со светлым праздником.
В храме стояли, поклоны клали, в Причастию приступали, этой аленькой лентой, как нерушимой кровиночкой, воедино связанные.
На шаг от мужиковой привязи девчонка отступить не могла, да и не хотела. Вернутся, он ту аленькую ленточку отвязывал, и за образа про запас прятал.
Девчонке на Рождество пряничного баранчика купит в утешение, себе вина нальет, Первышу мосол из котла кинет - год прожили и Слава Богу.
Дети с гор катались на ледянках, колядовать со звездой бегали, снежные крепостцы строили и рушили на Преснецком льду, а Марусе нельзя. Сиди дома, не гуляй, аленькая лента не велит. Она на заиндевелом оконце подталки продышит, смотрит, печалится.
Небо пресненское синем сине - высоко, не достать - ясный месяц на кресте сидит, птица клест, хвост до самых звезд, крестным клювом на елочке пощелкивает, сосулки на стрехах наросли.
А в доме у Китовраса тепло, жильем пахнет, кашей и печеным хлебом.
Все вещи будто сами выросли, налюбленные, обласканные, прочные: подоконницы и лавочки узорами играют, прялочка расписана, луковые низки на стенах сушатся.
Сиди, Маруся, в лукошке перышки на подушки перебирай, играй с листовой берестой Бывало, развернет свиток и читает неписанные берестяные грамотки - сколько там наших записано?
День проходит, два проходит, третий год и десятый. Слева замуж выдавали, справа - мертвого несли, спереди крестные ходы текли, назади новые домы ставили, росла Пресня, обживалась.
Китоврас Марусю жалел, у мужиков так ведется, слова "люблю" не знают, так и говорят "муж жену, брат сестру, мать сына, свой Иван чужую Марью - жалеют..."
Иной день словом не омолвятся, так только, поднимет голову Гриша скажет, как дочке.
- Маруся...подмести надо.
Или вдвоем гречку на стол перебирают - ядрицу к ядрице, камушки и сор - к сору.
Переглянутся, и смеются, без стыда, и снова за крупу.
Ничего не менялось в доме Китовраса, годовое колесо крутилось ладом, стрекотали соловьиные спицы-месяца, все в свой срок творилось.
Под Василия Великого ведьмы месяц с неба брали рукавицами, на Марью Египетскую жгли снега, играли овраги, на Тихона за весь год у Земли был самый тихий ход, на Исакия змеи скоплялись, ползли поездом на змеиную свадьбу, на Симеона Столпника черт мерял воробьев своей меркой - потому в тот день воробьев никому не видно, одни шкурки воробьиные летают и клюют, у самих воробьев два сердца, две души и все чертовы. На Фрола- Лавра коней не таврили, кормили досыта, ленты в гривы заплетали, аленькие ленты-то, бессмертные. На Авдотью подземные ключи закипали, бабам холсты белить велели.
На Купалу в рощах искали папоротник-кочедыжник, тайнобрачный цвет. Китоврас над охотниками посмеивался, говорил Марусе, что кочедыжник - праздный барский цвет, в полночь золотом манит, девок сисястых сулит, а наутро - кровь и слезы, черный срам.
Мы на барское дело смотреть не станем, Маруся, в мужицких травах есть царь-трава Симтарим, о шести листах. Первый синь, второй червлен, третий желт, четвертый багров. Брать ее нужно сквозь золотую или серебряную гривну. Под корнями той травы - человек, и трава та выросла у него из ребер. Возьми того человека, разрежь грудь и вырви у него сердце, если кому дать сердце того человека, то изгаснет по тебе, если муж жены не любит, возьми голову того человека и поставь против мужа, станет любить больше прежнего, если у которой жены детей нет, печень того человека сварить в молоке и пить его три утра натощак и будет сначала отрок, потом девица.
Маруся взяла Гришкину руку, и строго спросила:
- Где твоя жена?
Китоврас кувшин с молоком уронил, в куски, полилось молоко по половицам.
Сел и рассказал Марусе все, как есть.
Жил Григорий Фролов под Клином, сиротой был сызмала, все наследство - отцовский соловецкий крест. Миром его вырастили, к работам приставили смолоду. Вырос, силу нагулял, в семнадцать лет мужиком сделался - всем на зависть. У сироты возраст год за три идет.
Хоть коня усмирить, хоть дом поставить, хоть лес валить, на все горазд. Взял по великой любви девку в жены.
А все село насмех. Сечкой соломенной в первую же ночь все крыльцо засыпали, в ставни ухватами колотили. До свадьбы девка не цела была. И после к барчуку ужинать повадилась. Наутро косы расплетет и домой волочется, поет бедовые песни, вся расхристанна, на шее - целованные следы.
Стал Григорий попивать, женку поколачивать - зачем нечестная она, зачем пьяна и простоволоса по селу свой позор носит. А она в ответ смеялась:
- Ты, Гриша, сирота, ты, Гриша, смерд, ты, Гриша, пьяница, тебе ли барскими объедками брезговать? - яблочко надкусанное из рукава доставала, подавала с издевкой, мол, сама она - обглодок с барского стола.
А вечером опять в кобедничный сарафан рядилась - и пошла блудить.
Раз Гриша прибил ее под пьяную руку чуть не до смерти, в чем была по морозу, сбежала в соседнее село к матери своей.
Проспался, простил, пошел с похмельной головой забирать жену у тещи.
Теща во дворе на снегу тряпье чистила черной метлой, чудное тряпье - гороховый кафтан с тремя рукавами, на женскую сторону застегнутый, да Гриша от огорчения чертову одежку не заметил.
Теща зятя обласкала, будто не знала ничего, в доме усадила, стала потчевать обедом - да голова трещала с перепою, кусок в горло не лез. Спросил Григорий, нет ли опохмела...
Обрадовалась черная баба, прибаутки загибать стала, наборными серьгами звенеть, что ни серьга - то с медными шелестами утиная лапа:
- Как же нету, когда - на тебе. Как люди говорят: не для зятя, собаки, а для кровного дитяти. Пей, Гриша, да, только смотри не обожгись!
Достала из-за печки стакан мадеры - зажиточна была, много барского добра дочка нагуляла. Подала с поклоном.
А Гришка-дурак, креста не положил, не благословился, махнул стакан досуха.
Хотел порожний поставить на стол, да уронил и в дребезги. Что за диво, будто пальцы срослись. Глянул на руки - мать честная - волчьи лапы косматые с когтями.
Не человек он больше был, а матерый волк с головы до пят стал.
Матернуться хотел Гришка-волк - ан завыл.
Тут женка со двора вбежала, и за ухват, а теща за кочергу - и давай волка наотмашь бить по голове, черная кровь по шерсти вкось хлынула, заметался, в окно махнул, на дворе то его собаки порвали, он - на улицу в пролаз, а и там псы, дрался с ними, еле удрал.
Прибежал в лес, схоронился в овраге, а тут новая беда: окружила его волчья стая и давай чужака за бока пощипывать.
Тут выступил вперед волчий атаман - белый лоб, подошел к Гришке, обнюхались, обернулся атаман - рыкнул на своих, аж пригнулись, хвосты меж ног поджали.
Стали по одному подходить, в длинную морду Гришку лизать - вроде по-своему с ним христосоваться. Приняли.
К вечеру по глубокому снегу пошли волки на промысел, сугробы по брюхо, в шерсть на лапах ледяные катыхи набились. Над головой недреманая луна коровьим оком плыла, сучья голые переплелись - будто костяки из могил поднялись.
Истовым волкам дело привычное, уши наострили, глаза зажгли, сигают, а Гришке-волку страшно и перекреститься нечем и зверьи губы русские слова забыли.
Но стыдно стало перед компанией - не отставал. В ту ночь зарезали волки лошадь, стали брюхо выедать. Гришка присунулся было к лошади, вытащил зубами кишку, а кишка-то дымится, снег под ней от сукровицы подтопился, навозом несет, аж отрыгнул - не идет в душу христианскую кровавый корм. Отошел новый волк в сторону, все б на свете за кусок хлебушка отдал бы в тот миг. Почему волчий хлеб не пекут?
Атаман заметил такое дело, вздохнул, лбом белым Гришку боднул, взрыкнул для строгости и стал показывать, как с убоиной настоящие волки обращаются. Сначала лапу положил на лошадиный бок "гляди, учись", рванул зубами, вырвал кус, бросил в снег, взял снова в зубы, три раза встряхнул и начал есть. Гришка поступил, как научили, и верно - вкусна сырая конятина, слаще кесаретского поросенка. С той ночи стал Гришка понимать волчьи речи, о том, о сем с товарищами толковать.
Три года с волками рыскал молодой, в великую славу по всем лесам вошел, как лихой и ловкий резак. Белолобого атамана на промысле пристрелили, волки общим советом Гришку новым атаманом выбрали - за крепь, за удаль, за веселье.
Где стая гуляла, там корову не найдут, тут овцы-ярочки не досчитаются, ямщицких коней загоняли всем обществом, жрали прямо в оглоблях.
Людей не трогали - все ж помнили, что у Гришки под шкурой русская плоть, честные волки своих-то не едят. Все человеческие помыслы из головы у Гриши вышли.
Стали волки из соседних лесов называть Гришкину стаю - фроловской дюжиной. Уважали.
Раз встал под Крещение лютый мороз и метели, скот заперли, зверье попряталось, одурели волки с голодухи, выбрались на тракт. В полночь приметили - катят под гору щегольские саночки - игрушки, розами расписаны, полость медвежья, не наших лесов медведь - белый.
Поджарый иноходец сквозь пургу соколиным летом летел, рысь машистая, татарская, сам белей пурги. В саночках один возница, весело ему, смеялся на лету, а что не смеяться, сыт, пьян, шубка лисья, шапочка с песца.
У, съем!
А конь-то, конь... Белое золотко.
Екнуло сердце Гришки-волка, залюбовался не по волчьи, по-человечьи, за такого коня душу прозакладать не жаль, ежели бы сгодилась кому душа моя грешная.
Опомнился, кивнул своим - налетай.
Молча расстелились фроловские волки по снегу с двух сторон, первые наискосок, другие сзади насели. Взвизгнул иноходец, засбоил в скок, прянул, будто нож метнули.
Ездок уж не смеялся, кнут выронил, в вожжи впился, губу до крови прокусил - мамку помянул тоненько.
Гришка, на бегу кровь его учуял - улыбнулся по-волчьи.
Махнул и всей тушей ездока с саней в снег сбил - так и покатились оба, волк с человеком в снежный искристый преисподний ад.
Тут узнал Гришка барчука, с которым его женка нечестна была.
Кровь в глаза бросилась, черная шерсть на хребту встала.
Навалился ему лапами на грудь, содрогнулся утробным рыком, желтая пена с клыков на белое горло соперника полилась. Нежное горло, близко, переглатывает. Жилка тикает. Вином и девками пахнет.
Рви, Григорий.
Вдруг под бирючьей шкурой так больно стало, будто на кол напоролся с разбегу или уголь проглотил.
То смертно добела заболел скрытый в волчьем теле соловецкий крестильный крест.
Не тронь, Григорий.
Грех.
И отступился волк, попятился, завыл в голое небо, снега схватил полную пасть и посигал за своими вдогон. Дворянский сын в снегу по пояс на коленях качался, голову охватив. Говорят, вскоре из тех мест навсегда уехал.
Встретил своих волков Гриша - а те роптали, что упустили коня, самые отпетые драться полезли. Тошно стало Гришке, крест болел у него внутри.
Обернулся он на дальние огни, узнал село, в котором его теща, черная сука, жила.
Повел волков задами к тещину двору. Знал, что теща его особых овец содержала - ни у кого такой отары не было - брехали, что руно тех овец в огне не горит.
Поднялись они на крышу зимнего хлева, разломали сверху дыру и в овчарню влезли.
Хлев пустой стоял. Волки-то думали, что порежут стадо во многом множестве и тесноте, нажрутся, а остальных свалят в угол поленицей и по их телам выберутся наверх, им, пострелам, не впервой.
Угодила в западню фроловская дюжина.
Сквозь дыру в крыше снег валил... Не достать.
Пробовали волки грызть стены - пасти раскровянили, стены из сырого кирпича, в дверь телами бились - а дверь то дубовая, железом окована. Землю лапами рыли, но земля до сердца промерзла.
А со двора шаги послышали и бабий голос заглумился:
- Гость у нас, сыночки. Да не один, а с побратимами. Надо бы их угостить досыта.
Как заговорила баба: сухая истома волков наземь осадила, не шелохнуться, пасть не открыть, словно зельем опоили. Сели у стен, словно снулые, и хвосты поджали - нечистая сила их пригвоздила к земле.
Отворилась дверь и вошла Гришкина теща с фонарем и ременной вожжой в руках. За ее спиной с ножами и секачами стояли три ее сына, бойцы да пропойцы - Гришины шурья, уж и рукава закатали и на грудь водки приняли.
Пересчитала теща волчью дюжинку по головам, ухмыльнулась, черной бровью повела:
- Хорошие гости. Нарядные.
Погладила Гришу по башке меж ушами, накинула ему вожжу шею и повела вон из хлева, а сыновьям наказала:
- А вы гостей уважьте, тулупы с них скиньте, чай жарко им в них.
В избе велела Гришке сесть на задние лапы, в передние стакан втиснула, и, помогая, - влила в сухую пасть мадеру.
Грянулся Григорий к ее ногам, протянулся плашмя в человечьем обличьи, хотел завыть - да матернулся.
Слаб был от наваждения, будто кисель. В голове - колокольня, да и только.
Тут услыхал Григорий, как в хлеву страшно кричит волчья дюжина. Принимают лютую смерть от бойцов да пропойц. Уже не разумел он волчьих речей, только визг, да стоны, да скулеж. Глумились шурья над околдованными волками, на них шкуры пластали ножами, тянули долой, заживо, заживо свежевали одного за другим.
Пополз Григорий вон из избы на одних руках - ноги то отнялись. Стал в дверь биться скулой. А теща на лавку присела, ключиками напоказ повертела и захохотала.
- Говорила я тебе, не тронь мою дочь. Ей от меня воля с барами блядовать, с того мы все достаток и покой имеем, а ты, сирота, коровий сын, нам только для закону перед людьми нужен. Смотри, еще раз от нее жалобу услышу - навек волком пущу, Гриша.
Утром вывели шурья Григория на двор. На снегу в рядок все двенадцать лежали, ощерив клыки. Были волки серые боки, стали волки красные мяса с белыми глазами.
Шкуры на плетне развесили, пушными хвостами вниз, кровавой мездрой наружу. Над каждым - своя. Шевелились шкуры, будто волчьи живые души жаловались на каляном февральском ветру.
Гриша обернулся к теще, женке и шурьям.
Ничего не сказал.
Ушел со двора по снежной целине на волю от Бога, от жены и от дома и от барина и сам от себя.
С той зимы стал в одиночку разбойничать.
Да и где товарищей искать? Все мои товарищи на снегу в рядок лежат. Души их на ветру полощутся.
- Предал я, Маруся, фроловскую дюжину.
Рассказал Китоврас девчонке истинную правду, вынес ее вечером во двор под пустые звезды, под наносные облака. Маруся держала его за тяжкую шею, слушала мужицкие жилы, поджимала ножки.
Смотрела, как ноябрь на Пресню наступал по бурым склонам, расстилались московские туманы на семь сторон.
С холма все видно насквозь - как живые огни по всей Пресне рассыпаны там-сям, как сухостой под осенним ветром стоит и стонет, как Ваганьковский погост в листопадах спит и болота кругом и армянская церква в круглой шапке застыла. А на отшибе, к болотам сползало кладбище для некрещеных, самоубийц и безымянных, куда Господь не смотрит. Только Григорий Китоврас навещал на Родительские, клал на бескрестные холмики грушки-дички и постный сахар.
В тот вечер далеко видели Гриша с Марусей.
Распластались для них Вырьи небеса, куда птицы по осени стремятся, кричат высокими голосами, всей Москве невидимо, а им двоим видимо.
Выплывала из болота близ Ваганькова белая кобыла, обегала могилки на кладбище, слушала, наклонив голову к земле, била копытом и по-бабьи кликала над покойниками.
И огоньки от холмиков родились и перебегали на церковный двор. Светло в ноябре, каждую могилку видно, и болотное дно видно, и Бога в небе видно. Господь в ноябре засыпает, руку под голову подстелив. Не помнит нас от усталости.
Видели в ноябре сумрачном стоя, Гриша Китоврас и Маруся Крещеная - вереницу покойников - родителей. Спускались они с зажженными свечами в руках по склону холма с Ваганькова погоста в свои дома на вечерю.
Шли по рощам они один за другим, свечи ладошками закрывали от ветра.
А головы склонили: бабы простоволосы, мужики по бабьи платочками повязаны, на церковный лад.
Шли покойнички и по Предтеченскому переулку и по Нововаганьковскому и по Глубокому, и по Средней Пресне, и Большой и по Нижней.
Гриша их помнил - и того возил в свое время, и сего складывал. Они его помнили тоже.
Летели над головами Китовраса и Маруси двенадцать нагих волков без воя - фроловская дюжина, небесные волки, разлапистые. Прощались с Гришей волки.
Высока высота поднебесная, глубока глубота колодезная, широко раздолье по всей земле, глубоки омуты Днепровские, чуден крест Леванидовский, долги плесы Чевылецкие, высоки горы Сорочинские, темны леса Смоленские, черны грязи Пресненские.
Что ни день, стало Гришке чудиться, чтобы Марусе рассказывать.
Любое влезало в голову и про Хому и про Яремку, за что мыслью зацепится, там, за солдата или за бедного, то за богатого, то за черта, то за попа - и пошло само собой вязаться, то ли байка, то ли быль. А чуть спугнешь - все само собой улетает. Задремал в мастерской, проснулся, пошел домой, и сказал сам себе: "Бродяга ты, Машка. Где твой солдат Яшка?"
И тем же вечером рассказал Марусе про солдата Машку и про кобылу Яшку и как у них дело вышло.
Маруся смеялась, еще просила.
А в другой раз придумал про СатАну, как ходила та СатАна, бегала, красивых девушек хватала да в подземелье таскала.
Откуда что бралось - Китоврас не задумывался, расскажет, забудет, новое с утра сложится.
Трех псов-первышей похоронил за огородом. Новых заводил - всегда от первых пометов, чтоб глаза двойные.
Раз пошел в кабак под воскресение, напился зелий, налил глаза, по улицам шатался, пьяный, к нему подступиться боялись - заломает. Почти забыл, что час ночной, что Маруся ждет. По Пресне всякого страху навел Китоврас. Наутро ввалился в сени. Маруся стояла, к стенке жалась, спать не ложилась - и все лицо в сухих слезных следах.
Свалился Григорий в сенях спьяну досыпать, виновато ему, глаза прятал, угрюмо протянул девчонке шапку. Она посмотрела и ахнула.
Кошку в шапке Гриша принес. Маленькую. Растопырилась в шапке, мявкала, молока хотела.
Уж где такого помойного вылупка нашел - сам потом удивлялся, не помнил.
Кошченка серобока, лобастая, с черным ремнем на хребтике, в полоску. Таких кошек-сардинками называют за расцветку. Бельмишко у кошки-сардинки на левом глазу.
Ну что ж - стали растить пьяный Гришин гостинец. Выросла кошка ласковая, упорная, мурлычная, всюду за Марусей ходила, усы топорщила, вечером верещит, кушать хочет, а уляжется спать круглышом в тепле, мурлы-мурлы, уют наводит.
Назвали кошку не мудро - Серенькая.
Серенькая рассказы Китоврасовы слушала, как человек.
Он всегда так начинал: вечером работает при свете, узор режет или туесок ладит, и не отвлекаясь, скажет:
- Слушай, Маруся, как Море-Окаян в берегах гуляет от Пресни до острова Груманта.
Девчонка не отстает:
- Говори мне Море-Окаян!
И пойдут китоврасовы беседы про глухие чащи, про суземы, про глубокие воды. Море-Окиян, дело виданное, про него всякий слыхал, а есть на свете тайное Море - Окаян. Глубоко то Море под землей, вся Москва на нем стоит, как остров, да что Москва - вся Россия.
Все озера с пучинами, все низовые воды выбиваются из бездны и поглощаются им, все потоки горные, все ключи коломенские, все глотки предсмертные да банные оплески, все слезы утекшие, половодья мартовские, зеленоглазые колодези, все там, на дне сообщаются с морем Окаяном, сливаются в одно. А там всегда шторма осенние крепкие, всегда птицы-покликовицы над бурунами бесятся, ломовые льды громоздятся, свет-рыба, сон-рыба, крест-рыба на отмелях солеными табунами ходят, бьют хвостами, ловцы человеков в челнах на истинный полдень плывут, затопленные русские соборы из глубин колоколят.
Море-Окаян Бог в милости своей для темных душ придумал, чтобы было, куда спасаться от всего, когда самого спасения нет.
Чтобы спасаться, надо водяные окна знать. Через те водяные окна колдуны и разбойники переныривают в море-Окаян, из реки в озеро, из озера хоть в барский пруд, хоть в ковшик воды.
Вот, Маруся, был один такой Стенька Окаянный, ходил, пошаливал.
В Астрахани змеи не кусаются, их Стенька на мизинец заговорил, если б все сбросились, дали ему по денежке он бы и комаров заговорил, а так нет. Многие дела делал. Бедных миловал, с богатыми лютовал.
Заключили Стеньку солдаты в тюрьму, а он взял уголь, нарисовал на стене лодку на сколько хочешь весел, три раза перевернулся на пятке, свистнул, и пошла лодка, в стремный плес.
Стенька на корму вспрыгнул, поминай, как звали. Был да сплыл, а все туда - в Море Окаян.
Маруся радовалась, в ладоши била, и как насядет, спасу нет, уже уголек отыскала - на беленую стену егозит глазенками, просит:
- А давай нарисуем лодку и поплывем далеко-высоко!
- Ну, давай. - соглашается Гриша Китоврас.
Рисовали на печке угольком лодку о десяти веслах.
На носу - немой колокол и разбойничье огневище в подвесной плошке на турецких цепях, змеилось пламя над волжскими водами.
Косой парус в небеса навострен, легка лодочка - легче перышка, добро проконопачена, чумным дегтем смазана, барскими коврами застелена, по бортам вырезаны кукушки ижорские, уключины - святый камень маргарит, который говорит, когда языки умолкнут, а скрепы - золотые гвозди, какими небо к земле прибито. Руль провористый, ясеневый, знай, не зевай, поворачивай, валяй.
На руле, конечно, Маруся, ей, сподручно по детской слабости.
На носу Серенькая сидит, гостей в лодку замывает белой лапкой. На банках - собака да Гриша.
Кобель Первыш сидит, как человек, на пушных окороках, облизывает умную морду лососинным языком, уши остро наставил, сухими желтыми лапами орудует - так что весла в уключинах весело пляшут.
А меж ушей у кобеля-Первыша -церковная свечка поставлена - горит шаром золотым, на ветру не колыхнется. Новогодняя собака-охранительница, все помнит, от всего спасет, в самой злой ночи голос подаст, когда вор к твоему крыльцу подойдет, от непробудного разбудит.
Бережет Пес-гребец заушную свечу, черными подбрылками улыбается.
Белые цапли из камышей метелью вспархивали - прохладным лётом, снежным порохом над великими водами!
Хорошо!
- Плывем, плывем, Гриша! - жарко хохотала Маруся - от всех людей плывем! Налегай на весла! Люби бескорыстно!
Так и плыли вдвоем, пресненских стен не покидая. Спохватились - а за окошками смеркается. Будошник на углу костер раздувает.
Спать пора.
Гриша Марусе особо стелил под окошком.
Ставил в изголовье кружку с водой, клал на дно серебряный крестик.
Вечернее правило прочтут, сам добавит деревянного масла в лампадку синего стекла.
Говорил:
- Спи, Маруся. Забоишься, вставай, меня буди.
Ложились оба под цветной ситец - малая и старый на спину, руки за голову.
Русая коска, борода с проседью.
Серенькая у девочки на груди воркотала дремно, баюкала, топтала белыми лапками. Караулила.
Во сне Гриша Китоврас старел, а Маруся не росла - из года в год оставалась прежней, как в тот день, когда нашел ее
Так и спали. Так и жили. Двадцать лет.
Без остатка к осени.
Москва всякое на свет родит и христово и кесарево.
Не взяла Китовраса пуля-дура, пуля-блядь, не достала драгунская сабля, не стиснула склизкая петля, свинья не съела, Господь не выдал.
На всякого Китовраса есть у Москвы Последний сын.
Вот и родила в срок Мать-Москва, Татьяна Васильевна, последнего сына.
Глава 4
Спи, не слушай, не смотри, не смысли, Маруся: высока высота поднебесная, глубока глубота колодезная, широко раздолье по всей земле, глубоки омуты Днепровские, чуден крест Леванидовский, долги плесы Чевылецкие, высоки горы Сорочинские, темны леса Смоленские, черны грязи Пресненские.
Черны наши грязи от века - не оcушить, не вымостить. Чертово тесто, непролазное, коготок увязнет, всей птахе аминь. Бедовые места - Преснецкие пруды, кто не был, тот будет, кто был, тот не забудет. Средокрестие осени. Зелье горькое октябрь
Четыре пруда один за другим, еще до царя Петра, Кота Галанского, по патриаршему приказу рытые, с плотинами и мучной мельницей, растянулись меж Ваганьковским погостом и Тремя Горами. Весной в побережных рощах злыдни-соловьи над грязями так пели и били росщелком на чет-нечет, что щемило сердце, тянуло к бегству без спасения. Осенью подступали под горло прудов черные железистые воды безымянных подземных рек. Стояли в затонах у плотин голые рыбы - карпы, плотвы, караси, шевелили алыми перьями. Молчали рыбы в последней тоске. По берегам Пресненские пруды обовшивели шалманами, из тех мертвых кабаков, что за Преснецкую заставу навсегда отрыгнула Москва. На жировых грязях кишели избушки, как опарыши. Стены вкривь и вкось, окна бельмасты, образа засалены. Несло бардой прокислой на версту. Горел ежиный жир на угольях в летних цыганских жаровнях. Днем паскуды прятались и отсыпались, о полночь слепые лампы чадили салом на крылечках, скрипицы визжали без ладу, девки задирали нелатаные подолы, а ребята-ворованы уважали ножики на бездорожье. Наперекор Пресне точил топкие бережки ручей Черная Грязь. Над ржавым плесом мостик-горбышек, липовые бревнышки, шаткие перильца перекинул. Ночь, звездами прыщавая Час третий. Посеклись сады, как волосы. Полнолуние в вихрастых облаках текло на убыль. Ржавая летучая кайма проела осеннее сияние. Луна - мертвая княжна. На серебряном блюдце ее - черные смертные пятна проступили: Каин Авеля на вилы поднял. Винный привкус последнего листопада. Пусто на горбатом мостике, хоть в пляс со свистом. Из пустоты, из пятнистой сутеми соткался кабацкий гость.
Осторожные сапожки-стерлядки по колено в тугой обхват змеиным выползом. Каблучки по-женски точеные, острым-острые, с подковками полумесяцами: чтоб издали неширокий шаг чудился. Кафтан голубиный по-мещански скроен, да не по-нашему сшит, талья в рюмочку. В левой ручке качался фонарик с прорезями - туда-сюда, туда-сюда на стальной вензельной цепке. Шелковые цыганские кудри в чернь расточились по плечам нарочными ручейками - не насалены, не напудрены, по ночному обычаю, как у честной девушки. Беспечная треуголочка набекрень на нежное ушко натравлена была. Скользнул, балуясь, по перильцам розовыми узкими пальцами, так близко. Прислонил воровской фонарь к виску. Высветил спелые скулы. Рот с родимой отметиной-лукавинкой аккурат слева над губой. Высокое запястье с косточкой, без привычного кружева в тяжком обшлаге кафтана с желтенькой тесьмой по кайме. Все фонарик замечал. За бревенчатым мостиком огарком притулился последний на Пресне кабак, три ступеньки-булочки. Каблучками чеканил копеечки мальчик, точно козочка на цыпочках. Встрепенулась девка-сторожиха на скамье. В кабак с порога кинулась, без памяти:
- Болванчик идет!
Мамка-хозяйка, на половицу харкнула бурым, таракана плевком убила, по слуху узнала червонные каблучки на крылечке:- Да чтоб его вздуло да разорвало! - и обрушилась мамка на заполошницу - Что встала, сучье мясо? Собери девок, какие не заняты.
Два бритых жихаря не допили, поднялись и под ситцевую занавеску на черную лестницу сиганули шухером. Знали: если встретится по ночному времени Болванчик, удачи в ночном деле не будет, учуют легавые псы. В глаза его Болванчиком не окликали, с первого раза он назвался Кавалером. Вошел мальчик, фонарь потушил. Весь с ног до головы - в ржавой непрохожей грязи. В волосах листок ясеневый застрял, глаза веселы и ласковы, хоть целуй, хоть выколи. Варилось гольё на огне, прели смердным паревом: рубцы, сердца, говяжьи кишки, начиненные ячневой кашей, щековина с ворсом. Всяк за медяк в том котле вылавливал ложкой из накипи. Ела голь по углам свиные горла. Торговля вином и хмельной бузой шла круглосуточно ведерная и чарочная. Опивались до ярости, до белой смерти. Темь да свет в кабаке под балками в испуге пополам блудили. Девка за девку пряталась, тряпьем лицо закрывали: Пусть не меня выберет Болванчик. Боже Святый, Святый крепкий, Святый бессмертный, не меня! - истово молились бляди на Пресненских прудах осенью. Таня беглая, Машка-маханина, Сашенька гулящая, Марфа-расстриженка, Настя нижегородка с лузгой на губе, Алена-хвалёна, из мещанских сирот. Всех вместе сгруди - выйдет: блядь стоглавая, всероссийская. Таких в Москву возами волокли на срамной торг. Дозоры останавливали проезжающих, строго спрашивали: Что везешь?" Умный возчик кому надобно за обшлаг денежку совал, отвечал: С хреном еду, батюшка...". Дрожали девки вповалку под рогожными покрышками. Дозоры посмеивались, потребную денежку считали: Ишь ты, все с Богом едут, один ты - с хреном. Так и езжай с хреном. Так и ехали.
Долго выбирал Кавалер девку. Одну взял за пясти. В глаза заглянул. Как тебя зовут, говори, не бойся. Анна. Хоть по евангельски читай, хоть по-басурмански - справа налево, все одно выходит - попалась. Ласково повел под занавеску дебелую Анну - убивать. Вперед пропустил, вежливый. Напослед обернулся, локон свой длинный, проклятую смоль, как с ведьмы киевской, на палец намотал, прикусил, дразня, и опустил занавесь за собой. Остальные девки выдохнули, посветлели. Спасибо, Господи!
Восемь кабаков на Пресненских прудах всё знали, застыли в бессилии.
Когда впервые пришел каблучками отрочек по распутице на Черную Грязь, выпучились на него все воры да юроды небожии, все шишиги и полуночницы. Агнец в волчарню по доброй воле просится, безоружен, нежен, будто барышня переодетая, по статям невысок, дворянская косточка в чистом мяске сама на ножик хочет. Сел у всех на виду, спросил девочку, спросил водки. Заржали в ответ, застучали шкаликами по липким столешницам. Встал один, припадочный икотник, подошел к незваному гостю, развернул за лицо мясницкой пятерней, притянул к себе, денежки в кармашке пощупал, нож из-под полы показал:
- А вот я те личико попорчу.
- Порти. - с удовольствием ответил Кавалер, потянулся весь ученой кошечкой, лицо запрокинул, горло без кадыка подставил, как царевич в Угличе. Всем телом предложил: режь, не то поцелую.
А на шее черный крест кипарисовый, ерусалимом пахнет, и бусы рябиновые - как четки по гайтану красной горечью нанизаны. Улыбнулся сладко, будто кишеневскую виноградину раздавил в пальцах. Брызнула улыбка вору в лицо.
Поглядел икотник. Понял. Нож убрал. Сплюнул. Отошел.
Больше никто к Кавалеру не совался. По кромешным дорожкам плутал он светлыми ножками. На все тяжкие нарывался, к бессонным столам подсаживался - а вокруг него пустота сухим пузырем вставала, будто в круге зааминенном-закрещенном ходил. Нельзя такое трогать ни лезвием, ни губами, ни молитвой. Воры, бляди и черви такое лунное мясо не едят. Они, как звери, не разумеют, а всей кожей чуют - нельзя такое, нельзя, не то привяжется неудача навечно, носовой хрящ провалит внутрь, иссушит душу, как рыбий хребет, в могильный дерн заживо сведет, а потом и там достанет, пустит костяк на перекрестках плясать. Уж сколько раз девки измаянные просили полюбовников - сил нет, зарежь ты его втихомолку, положи в овраг под листы, никто не сыщет. Трезвели, отталкивали девок суеверные разбойники: ищи дурака. Сама режь. Я жить хочу".
До утра просидела кабацкая мамка у низкого окошка. Квашня квашней. Щека подвязана. Смежила набрякшие глаза. Всяких девок повидала мамка - битых, рваных, сеченых, кусаных, на свече паленых. А таких, как после Кавалера, не видела никогда. В первый раз прикинула на глазок: личико гладкое, лет осьмнадцать, янтарик нецелованный. Так ему дадим, голосом взвоет недопесок, к рассвету пластом ляжет, квасом поить будем, ледяным кипятком отливать от истомы. Нарочно подсудобила Наташу Кострому, которая и так и сяк обучена была всем подмахивать без устали, а подъязычье горячо с перечной щипотой, рыжая коса до крестца поленом висела.
Увел Кавалер Наташу в закут. Все в хохот - Кострома-то вон какая вымахала - его на голову выше, а уж широка - одной ляжкой придавит, второй прихлопнет. Наутро вернул, ручку мамке чмокнул - ушел чистый, звонкий, как сейчас из крещенской иордани вынули. И не стало Наташи. Молчала Кострома у огня. Сохла. Подносила ей мамка воды с медом, хотела насильно поить. Кострома кружку разбила. "Бога ради, уйди, старая дура". Стали с ней девок класть, чтобы стерегли - пруды Преснецкие близко, вдруг утопится. Допытывались, что ж такого Кавалер с ней сотворил. Рассказала Кострома.
Ничего.
Привел в закут. Свет не гасил. Наладилась поцеловать - взглянул хлыстом - берегись, ожгу. Сама отшатнулась, к стене припала Кострома. Сказал догола раздеться и косу распустить. Сел напротив, кафтан скинул, рубаху с плеча сбросил, а плечо то плечо, девки, чистые царские сливочки.
Встала меж ними пустая комната. Уставил мальчик на Кострому бессмертные глаза без просвета. Кострома сперва смеялась над ним, а через час вертелась, будто горячим песком посыпали, тяжкие ноги стискивала, сосцы прятала, а синие глаза, точно черви, глодали ее, голую, без милости. И если б с мужским блудным похотением - то полбеды, но нет, спокоен он был, как зимняя вода в запертом колодце. Приказывал лечь на спину, руки за голову бросить, и смотрел, смотрел, смотрел, впивался пристально с улыбкой, как Господь последним судом судит. А глаза у Кавалера синие с золотым окладом, с ящеричьей татарщинкой по ободкам, ресницами яростными осененные, как у серафима, не такие ли глаза Козельск с визгом резали, не с такими ли глазами грузинская Богородица никогда не спит в Иверской часовне и за нас просит. Если Кострома жмурилась, выходило хуже: по всей ощупи кожи его глаза ласково ползали и в нутро ей будто его глаза зашили - шебаршат крысы. Всю черную грязь познала девка, кричать хотела, потому что она, волочайка, сучка, гноиха перед глазами его - ничто, никто и звать никак. К рассвету изнасиловал ее всю досуха своей красотою, и оставил, как есть, не прикасаясь. Не утопилась, осталась жить Кострома, ела, спала, в окно смотрела, ложилась с каждым, как прежде. Но услышит как по мосту ночью счастливые каблучки стучат - и на чердак бросалась, там темно, кулаки себе грызла в кровь. Только и счастья, что темно, что нет его здесь. На казнь бы пошла, но чтобы снова выбрал ее и посмотрел на свет, как еще никогда и никто.
Так и повелось. В месяц раз или два являлся Кавалер по ночам, уводил новую девку за ситчик. Ни к одной пальцем не прикоснулся, и к себе не подпускал. Мамка за голову хваталась - повадилось лихо, все стадо перепортит, но словами высказать не умела. Всякий раз надеялось честное кабачество, что в последний раз приходил. Иной раз девку отпускал раньше, со всеми садился, чужими опивками не брезговал, просто возьмет из рук у кого хочет штоф и долго пьет напротив.
Яблоко покромсает и берет кислую дольку с ножа губами, не глядя, будто кого другого потчует. Смотрел, как дрались, слушал, как байки травили.
А травили много, всяк свое городил под утро с пьяных глаз. Вот отчего на Москве сорок не бывает? Какую хочешь птицу в рощах повстречать можно, хоть сойку, хоть иволгу, хоть стеклянную птицу-радоницу, которую никто не видел, никто пера ее не ведает, и пера-то у нее нет, а все чешуя рыбьи по собольей спинке, зато все в смертный час услышат ее клекот в левом ухе. А тут на сто сорок верст отъехать надо за три заставы от Москвы, чтобы сорочий треск услышать. То ли потому что заклял сорок крестовым запретом святитель Алексий, когда ведьма Маринка Отрепьева женка от стражи в сорочьей шкуре улетела из Москвы, то ли потому что проклятье бросил благочестивый муж, у которого сороки уворовали с окошка последний кусок сыру на сорок дней пропитание.
Ври больше.
В Симбирске две бабы копали некретимый клад на погосте Николы Лапотного, где красный камень поставлен, а на нем два петуха выбиты и человечья голова с крыльями. Под тем камнем положили деды три котла, первый - с червонцами, второй - с перлами, третий - с безобманным счастьем. А давался клад только тому, кто отродясь на Руси матерно не ругался. Бабы уже две сабли и пистоль откопали, тут над погостом косо свистнула падучая звезда, пополз по камням на карачках Кладохран - весь синий, задом наперед и пуп куриный на лбу.
- Это вы тут младенцев зарываете? Вот я вас, барабанные шкуры!". Бабы-дуры с перепугу такие матюги завернули в три погибели, что все клады Симбирска и на сто верст окрест со стыда сквозь землю провалились без возврата с треском и дымом. А котел со счастьем повис меж небом и землей. Чтобы его достать, нужно лестницу сплести из женской бороды.
Ври больше.
А в Нововаганьковском переулке, живет на отшибе дикий зверь-Китоврас, водит его гулять вдоль по улице раз в год карлица на аленькой ленте. В остальное время ту карлицу держит Китоврас под замком, бережет и любит пуще глаза, а посередь избы бобыльей висит сундук кованый на берестяных цепях, в сундуке кресты сапфирные и неистратные деньги чумной чеканки. Дружно живет Китоврас с Карлой, хлеба не пекут, каши не едят, кулешик не варят, колокольный звон в решето наловят, тем и сыты.
- Ври больше. - подал Кавалер хрустальный свой голосок, от которого зубы в деснах стыли.
- Да вот те крест, - обиделся болтун - сходи, посмотри своими глазами, у любого в приходе у Предтечи спроси Китовраса - покажут.
Заварили свару, есть ли на Пресне на самом деле Китоврас, или брехня все, и Пресня и Китоврасы, болтуну в ухо сунули, чтобы место знал. Тоска заглотная в стаканах заплескалась. Сил не стало в тесноте сидеть. Хлопнула кабацкая дверь, сгинул Кавалер, будто позвали его водяницы плясать. Рассвет над прудами в облаках багряные городища сотворял и рушил. Не шел, бегом бежал Кавалер, вело его не по своей воле любопытными кругалями по пеньям-кореньям, по глинистым склонам Трех Гор.
Рано просыпалась Пресня, в Нововаганьковском уже торговали, отпирали церковные врата, рыжих коней запрягали фурманщики, шли бабы с вальками - белье прать, перекликались. Тому пятачок сунул, у той дитя похвалил, перед старухой ресницы стыдливо опустил - все, что хотел - вызнал Кавалер быстро. Показали ему и дом на отшибе.
С утра Гриша Китоврас на грядах возился в нищей земле, жухлую ботву жег в куче - горький дымок небесной лесенкой сплетался и таял, висел над кровлей никому не ведомый симбирский котелок с безобманным счастьем, а из того котелка сеяла невесомой мороской солью осень на всю Пресню, на всю Москву.
На подоконнике Серенькая белыми лапками пристально умывалась. Молоком томленым из дома тянуло, чугунок дремал в печном вчерашнем жару, краснело молоко от любви. Поперек двора - веревка протянулась наперекосяк, полоскалось на сквозняке платьице ветхое, перелатанное, а латки все грубые, будто солдат суровыми нитками крест-накрест штопал - швы лодочкой выгнулись. А в доме девчонка в лад припевала колокольчиком, собирала на стол, звала завтракать. Вылез из конуры Первыш, спросонок на дыбки взбросился, натянул цепку, поперхнулся брехом со всхлипом. Цыкнул Гриша на пустолая. Глянул на улицу, большие ладони от земли отер. Пуста улица до конца была, как тростник, никто во двор не смотрел.
По обобранным садам напролет торопился Кавалер обратно на Москву, руки закоченели, не надышишь тепла в кулаки, кабаком ладони пахнут, смерть хотелось согреться. Все перед зоркими глазами плясали вкривь и вкось стежки мужицкие на детском платьице и лезвие косы заржавелое, что на воротах торчало, дождями источенное. Не карлица - дочка-Китовраска напевала перелетные лисьи песенки, навевала несметные сны, смешливым язычком щелкала, не дочка - белая баба, белая девка, белая мара наливала белое кобылье молоко в белые бобыльи миски.
Меня к завтраку не позовут.
Да что ж такое, со всех сторон взяло. Остановился Кавалер, отдышаться, припал лбом к яблоне, оскалился, будто от судороги. Лихоманка еженощная вцепилась зубами-спицами в затылок и трясла - а от той трясцы Кавалеру тошно и сладко сделалось. Душа на резцах слезилась и хрустела голландской пресной вафелькой, десна кровили, велели кусать пустоту. Следили за Кавалером Гуси-лебеди сквозь путаницу садовых ветвей когтистыми глазами со всех сторон, будто только сейчас заметили. Огулом напали, туда-сюда завертели телесной слабостью, страстью немыслимой, тоской високосной, всевали неясный помысел, в висок целовали раскаленным прилогом. Захлопали, ошеломили гуси-лебеди железными могильными крыльями, пали с небес сильной воровской стаей, унесли ахнувшую душу далеко-высоко. Смерть хотелось согреться.
А ты сожги их. И посмотри, что выйдет.
Никто не верил, что родит мать-москва, Татьяна Васильевна, на старости лет последнего сына. А она верила. Семь церквей на коленочках исползала, у Чудотворца сына вымаливала и получила. Первый брат старше на двадцать лет. Отцов гроб вынесли, как в дом колыбель поставили, будто из одной доски сколочены. Неслыханное дело: настояла Татьяна Васильевна, чтобы нарекли последыша одним именем со старшим братом. Был первый, и второму быть, тем благодарила она Чудотворца, иного имени для мальчика не мыслила. Что ж поделать - нарекли, домовые попы у бар-князей покупные. Все ездили смотреть: как Христос на батисте баловался княжий рожаненок, Кавалер. Красота его вперед него родилась. Старым письмом царьградскими кистями краса желанная на Москве просияла - будто вОрона на первом снегу застрелили: кудри - смоль, лицом - луна и вода, румянец на щеках вспыхнул брусникой, точно от пощечины.
Старший давно в Петербурге Государыне башмачки поутру лобызал за кофеем, в италийском государстве совет держал, привозил издалека на Москву персидские диковинки да латинские мраморы. И тут навестил, посмотрел на тезку-братца, молча вскинул бровь, удивился. В тот же вечер, не простясь, сорвался с бубенцами в столицу от московских сует. Авось не выживет, слабое семя, мало ли на Москве простуд младенцев из баньки да в ямку.
До десяти годов наряжали Кавалера в жесткую церковную парчу пригожей девочкой.
Мать ему кружевные фантажи и колокольцы серебряные, флакончики-ароматницы с эфесским мушкатом и смирной вплетала в пряди. Опускала лицо в чародейство волос сыновних, дышала его ароматом без памяти. На месте загрызть готова была - так любила.
Няньки-мамки одолевали дитя пленной любовью, водили купать в белую баньку, окатывали любовными теплыми водами, а он плакал, голый, в ладонях голову прятал, гремела в ушах одолень-вода, то не одолень-вода гремела, то теряли маховые перья гуси-лебеди, вихрем кружась над его головою.
Отчего никто их не видел, отчего никто ему не верил, когда он показывал: вот же они гуси-лебеди, всегда, всюду, вполсолнца, вполнеба мое имя продленное выкликают иерихонскими голосами, хотят меня украсть, как мог, без голоса спасался от небес, просил нянек: - Раба возьми на ручки!". Брали, брыкался, бился, не хотел оставаться, но некуда бежать от рабов. Всюду сыщут.
С ног до головы облили гуси-лебеди из котла последнего сына приворотным золотом.
Золото переливалось через края колоколен, и золотое яблоко на шпиле дома в саду видало виды, золотые березняки над старицей Москвы-реки взапуски бежали по склонам, ковши сентябрьской воды золотом остывали в каретных колеях, золотые лисы из леса прибегали лакать золотое змеиное молоко в подполе, золотые грозы на Сухареву площадь орехами некалеными сыпались из бездонных корзин, золото под кожей княжеской кипятком хлынуло вспять. "Хороню я золото, хороню я серебро, чисто золото пропало, все закуржавело." - растащили соседские девочки золото в горсточках, разбежались по рощицам и хоронили золото с пением.
Не для славы - назло дитя вызолотили, чтобы добычу выследить, ослепить и пометить. День и ночь настигала Кавалера с небес пасмурных свистопляска гусей-лебедей.
Вечером целовали мальчика фарисеи в горячий лоб, клали в постылое тепло на бочок, тушили свет, только лампадка в углу подмигивала. Оставляли гусям-лебедям на съедение. Говорил Кавалер: боюсь... Отвечали: молись.
Черная бабка по дому ковыляла на больных ногах. За всеми присматривала. Не велела окон открывать по весне - десятилетиями в тесных погребцах, в тайных комнатах, на лестницах со львами гербовыми, в людских светелках душила пыльная старина. Курили индийскими свечами-монашками для освежения воздуха, на раскаленный кирпич мятную воду лили. Оседал горький пар на тусклом богатстве.
Не велела бабушка ногой на ноге качать - беса тешить. Не велела бабушка смеяться в голос - потом горько плакать будешь. Не велела соль щепотью брать - так Иуда брал. Для солонки можжевеловая ложечка положена с крестом и мертвой головой на коковке.
Бабку все побаивались - и мать Татьяна Васильевна, и дворня, и гости.
Давно бабка отказалась от мирской жизни, надела черное камлотовое платье, в миру исполняла скитское правило, носила вокруг запястья в семь оборотов не четки, а кожаную лестовку, по числу молитв староверские узлы накручены, только по ним и можно на небеса вскарабкаться. А всех остальных, кто сбоку припека, тех ангелы - псаломщики столкнут с небосвода золотыми вилами в зловонный ад.
Приводили Кавалера к целованию руки поутру. Бабкины покои заставлены до потолка ящичками, складнями, ковчежцами, все у бабки святое - и травы сухие палестинские, и косточки угодничиков и даже пяльца святые - Богородичные - на святых пяльцах вышивала она себе сослепу по паучьи гробный покров - и ангелов с вилами и Спаса Немилостивого, Страшный Суд без Прощения. На сундуках дрыхли дуры, дураки, уродливые страннички, калечные горемыки. Безногие игоши на дощечках с колесиками шкандыбались по наборным полам. Всех, кого Бог одолел, сначала пожалуй, а потом руку целуй.
Быстро смекнули дуры с дураками, почем фунт лиха. Вот сидит безручка на ларечке верхом, бинты от сукровицы каляные, перематывает, подходит к ней, всегда сзади, барчонок синеглазенький, белей снегурочки, очи уставит, и горличьим голоском просит: "Ой, покажи..."
К культе рубцованной тянулся - посмотреть. Волю дай все немощи и язвы иссмотрит.
С цыплячьим писком по углам от него прятались горбуньи, под ногами у барчонка не путались. Сглазит. Вот тогда и целовал руку бабушке без препятствий.
Позволяла, щекой только дергала. Укоряла про себя дочь: принесла на посрамление порося-последка мать-москва Татьяна Васильевна, ну что ж, будем растить на свой лад, раз в год и Чудотворец ошибается. Последние времена наступили. По церквам кривославно акафисты поют, попы блудят, к блуду народ нудят. В дедовское время слова "прелесть" как огня открытого боялись, значение ему давали бесовское, а нынче только и слышно по всем местам "друг прелестный приди ко мне на постелю, помилуй-поцелуй, в зеркальце помани заполночь", а тут под боком, своя прелесть завелась.
Иной раз бабка хлестнет внучка по скуле лестовкой, иной раз расскажет сказку, как всегда, сквозь зубы.
Растет, а где - не скажу, скитская клюква или священная малинка, по лесам незнаемым зреет, по овражинам и болотищам. В былое время раскольники брянских лесов давали темному человеку клюкву или малину напоенную некой отравой, кушай, по всей России много опасных ягод растет, на наш век вдосталь. За кушаньем внушали ему учение, вели за ручку в рубленые скиты - сжигаться всем миром, красную смерть ради Христа принимать. Если опоенный человек видел огонь, то с радостью бросался в него, потому что в жгучем пламени ему представлялся рай и ангелы со многими очами и воскрилиями острыми, гусиными, лебедиными. Затаенно мечтал Кавалер о скитской малинке. Ночами ему грезилось оно - полное красномясыми отравленными ягодами с горкой решето первого сбора, льняным платом прикрытое и алым соком пропотевшее - а красные пятна сливались в Спасово лицо, проступали на основе и утке - дуговые бровки, иудейские скулы, нос, борода, запертые глаза. Съешь, мальчик, скитскую малинку-княженику и ступай от всех в огонь-полымя, улыбаясь бессмертно, все отступится от тебя до рассвета - и непутевые гуси-лебеди и бабкины ангелы с вилами и пуховые кормилицы и мать родна, Москва-посадница.
Исполнилось Кавалеру десять лет, вместо подарка укутали внука в кроличью шубку, кушаком алым подпоясали, волосы росным ладаном спрыснули и повезла его черная бабушка к Богу на Кулишки, в Ивановский монастырь на поклонение Покрову Богородицы. Слушали, как монашенки поют на морозе для послушания. Смотрели, как в трапезной грибы сушат, как просфоры пекут, как шерсть прядут на рабочем дворе, чулки и поддевочки из ангоры вяжут. Отбился Кавалер от бабки - скучно монашенки поют, скучно просфоры пекут, скучно шерсть прядут. Не знал Кавалер, что много лет назад черный возок под воинским караулом по тем же улицам повез в Ивановский застенок, бесчеловечную вдову, урода рода человеческого, душу совершенно богоотступную, мучительницу и душегубицу, во святом Крещении Дарью, загубившую сто тридцать восемь душ крестьян и дворовых. Она еще когда в чести была, секла без пощады и ела женские титьки с перцем, открылось дело, присудили ее к вечному заточению.
Сидела Дарья в подземной тюрьме под сводами соборной церкви. Жратву ей подавали на лопате, со свечой, которую гасили, как пожрет, нечего на волчиху Божий свет тратить. Нужду Дарья справляла в горшок, при всех, даже мужики смотрели. А она юбки задирала враскоряку, скалила песьи десна. Нет больше стыда, если уличили в черном деле, если кости замученных в земле голосят, тут уж и поссать в уголку не дадут - будут смотреть всякие за денежку, тоже ведь диво людям: звериха, людоедиха, а как простая баба ссать умеет. Давайте ее палками в бока потыкаем, мы-то знаем, кто Божий, кто негожий.
К старости стала она жирна и уродлива - душа на лицо вылезла. Говорили, что в застенке как-то раз в безлунную ночь к ней пьяный солдат сунулся, на спор. Стонала под ним узница, вертелась, как молодая, иное вспоминала. Все брюхо ей солдат медными пуговицами изодрал. Одетым тешился, кафтана не скинул, казенный кафтан, провоняет ведь тюрьмой, отвечать придется. Терпела Дарья. Хоть кто-то полюбил ее сегодня. На безлюбье и то радость.
Затяжелела с того дня от солдата. Маялась по застенку на коленочках супоросая. В положенный срок без повитухи разродилась, а куда дитя девала - так про то, миленький, по-русски и вымолвить нельзя. Ну ладно, подойди, скажу на ушко, съела Дарья поросенка своего и косточки обсосала.
Снег валил над Ивановскими звонницами, били серобокие галки на крестах стальными голосами, и увидел Кавалер, как с гоготом клубится народ над полукруглым окошком за церковью, что вровень с фундаментом в залубенелую землю вросло. Торговал Дарьей солдат-треух серый, ремни крест накрест на груди, отдергивал зеленую занавесочку от окошка - продуха. Пятачки в коробе звякали: навались, честной народ, смотреть на преступницу. Копи слюну, московские, надобно напоследок ей в лицо плюнуть, на счастье, на здоровье. Дарья утрется, а вам - польза. Стал со всеми и Кавалер.
Опушили летучие снега кроличью шубку. Пятачок в кулачке согрелся. Во рту - сухо, будто ржаных сухарей с солью погрыз, а попить не дают. Слышал, впереди поплевывали и на каждое смачное "тьфу", тайно вздрагивал и свою сухую щечку меховым рукавом отирал. Толкнули в свой черед барчонка в спину к смрадной дыре. Завозилось в преисподней живое тесто, в пенной коросте, в мерзости человеческой. Очи синие в зенки сизые окунулись. Будто ангел новгородский, черногривый в застенок заглянул сквозь решетку ржавую с робостью, без осуждения. Белое, алое, смоляное, лисье, снежное, запестрело у Дарьи в глазах. Закрылась рукавом. Ждала плевка. Черная бабка к внуку подоспела, сдавила плечики:
- Плюй, внучек, все плюют. На счастье.
Вывернулся Кавалер из бабкиных пальцев, укусил ее до крови, стал собой дыру закрывать, зеленую занавеску вкось потянул. По толпе шепот пошел. Бабка лестовкой пригрозила - а внук сказал вяло, будто с той стороны калинова моста, бескровным голосом:
- Пошла вон, сука. Не позволю Москве в меня плевать.
Бабка закрестилась, крикнула приказ, налетели ловкие холуи, уволокли окаянного в покойный возок. Заколотили колеса под гору. Ни жив, ни мертв сидел малый грешник на скамье, ждал лютого наказания. Бабка молча перелистывала свои четки, придумывала кары. Желтые огни мерцали по-татарски вслед, снегопад застил все на свете.
А дома ждала беда.
Глава 5
Беда спасла Кавалера от бабкиной мести. Посетила крепкий двор скучная дочка смерти - болезнь, Оспа Ивановна.
Сама мать Татьяна Васильевна в постели свечой горела, сына к себе не подпускала, в струпьях корявых по самые брови - на последнем издыхании просила бабку: красоту его сохрани, если он обезобразится, мне в могиле покоя не будет. Бабка прикрикивала на дочь без милости: Нашла о чем думать, дура, полдома в лежку лежат, сама в гроб глядит, а туда же, все об исчадье своем. На том свете за каждую оспинку воздадут жемчужинкой, а его краса - ему самому и людям пагубное зелье"
Все на себя взяла бабка двужильная. Докторов с порога выставила. Здоровым девкам приказала печь блины и пироги, семенила на двор, кланялась, закликала льстиво:
- Воспа Ивановна, пожалуйте к нам доброту нашу кушать, цукарным вином запивать!
Приказала оспенных парить в бане, сама прижигала струпья муравьиной водкой, готовила пепельную присыпку с ладаном. Ей-то что, с малолетства вся, как песок после дождя, рябенька, к ней хворь не липла.
Кавалера держали взаперти, выпускали в залу вечером ужинать. Света не вносили. Бабкин блюдолиз, Данилушка-пустосвят, совал в дверь брюзглую рожу, скороговорничал:
- Розан белый, маков цвет, мамка сдохла али нет?.
Не плакал. Строго возражал пустосвяту, соболиные брови сдвигал:
- Моя мать никогда не умрет.
Тяжелы стали гуси-лебеди на подъем, спали по углам, как ручные, голову под крыло завернув. За дробным переплетом оконцев по старому обычаю слюдяных, сыпали тесные облака на Москву из просини пепельные оспенные перья.
На Вербное дали Кавалеру денежку, поставили в круглом покое с медным глобусом и книгами, привели девчонку из портомойни, одногодку. Сказали целовать ее в лицо с любовью и денежку взамен ей отдать. У одногодки и лица-то не было - струп на струпе, расчесалась докрасна. Куда целовал не помнил, шершавенько на губах, горячо, мокро. Потом больную умыли, давали в чашке мутные обмывки,"с лица воду пить". Купили Кавалеру оспицу за медные деньги. Скоро уложили в постель. Бабка детские запястья крепко накрест к постели привязала, чтоб лица не касался, обойдется отродье без Божьего жемчуга. Рвался из пут, потом устал. Когда мать, еще слабую, после болезни принес на руках к сыновнему ложу дюжий гайдук - обезображенная недугом Татьяна Васильевна только руками всплеснула. Чистый, как рождественский снежок, как белый хлебушек, ни вереда, ни выболинки на личике - так бы съела.
- Господь меня крепко поцеловал. И здесь. И тут. И вот тут - показывала матушка уродства свои, привлекала за плечи дитя печали, любовалась сама в себя, как в прямое круглое зеркало.
Пасхальной полночью открыл глаза Кавалер в пустынной спальне своей под привычное хлопанье крыльев под потолком, увидел в изголовье Желтый Глазок.
Лампадка погасла. Лаяли на Москве псы.
Желтый глазок, будто янтарь обточенный, недреманный с этого дня стерег горючие сны. Черное пятнышко-щелка поперек. Спросил Кавалер у гостя полнощного:"кто ты есть"? Хотел в ладошку поймать - прошил насквозь. Мигнул Желтый Глазок и ярче засветился, иголочкой в сердце вошел. Смолкли пархатые разверстые крылья, рухнули на сизые пойменные луга гуси-лебеди и один за другим с кликом издохли. Все хорошо устроено на земле. Они не достанут тебя. Спи. Не бойся. Я с тобой навсегда. Хозяйский глазок - смотрОк.
Никогда больше Кавалер не жаловался челяди на ночные томления и мечтания. Просыпался свежий и розовый - не сам по себе спал, а под присмотром.
Стали замечать домашние, что как лампадку не заправляй - к утру деревянное масло иссякало до донышка. Сначала грешили на то, что дитя балуется, выливает святое из стеклянницы. Потом старшая мамка догадалась, прикрепила к лампадной цепке паутинку - и не захочешь, порвешь, если стронешь. А наутро лампадка суха, чуть не вылизана, паутинка цела, а дитя играет на ковре резными сердоликами и гранатовыми яблоками, смеется над всеми в голос.
И раньше-то опасались, а теперь и вовсе затряслись, даже если переодевали или купали - после него руки мыли тайком и творили Иисусову молитву от асмодейской порчи. Наплели по кухням да по службам колдовских сплетен. Матери и бабке, без уговора, не доносили - нельзя крепостную тайну вслух.
Французов выписали, научили Кавалера грамоте, вежеству, реверансам, танцеванию и обхождению с дамским полом, как положено по сословию. Так вышколили - будто узорный ключик в спину вставили, всем на радость. Наставляли всегда руки держать чуть приподнятыми, чтобы кисти не порозовели и кровяные жилки не проступили, не дай Бог. До того нежен и деликатен вырос, что кушанья слишком холодного или горячего не принимал, только чуть теплое, как младенцу кашица. Слегка просквозит, поволнуется - и готово дело - ахнул и опрокинулся в расслабленный обморок на вощеные узорчатые паркеты. Сквозь густые ресницы подсматривал, как слуги суетятся. Всегда носили за ним в венецейском флаконе масло горького апельсина в смеси с гераневым два к одному - оживлять от помрачения. Ни в чем жизнь отказа не давала - так все думали - и зеркала на серебре льстивы, всякого сладостно приукрасят.
Отзывалась серебряная амальгама зеркал расщепленному звучанию клавикордов, без конца менялись царственные позы танцоров, в сусали, атласе и гарусе на паркетных наборных "елочках".
Водили Кавалера в большие дома, где на всех порядочных людях - хорошие кружева.
Угасали любезные беседы в салонах, если Кавалер соглашался петь. Словно цветные хрустали печально перекатывал в холодных ладонях. Не девушка, не юноша, а дитя мертвое стоит на пороге в ноябре и поет вслепую, свысока накликивает на нас высокие снега, бессолницу, непрощеное воскресение. Альтист с флейтистом холодели под ливреями, вторя лазоревому бесстрастному голосу.
"Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь
Миленький его дружочек
Отлетел надолго прочь..."
В семнадцать лет повезли представлять в столицу, никто не сомневался в успехе.
Святки расплескались на семь верст. На Неве бочки с дегтем горели чадно, хлестали матросы перцовку, ладили по стуже полозья парусных буеров. Катали господ по ловкому льду чухонцы на северных оленях. Снежное серебро искрами высекало на северном ветру письмена. Кавалер держался тихоней и умницей. С царедворцами не смешивался, выносил на люди свою красоту, отстраненно, в дрожащие праздничные светы, завитой в три голубиных локона, с пучком и бантом из травчатого бархата. Нацелила стекла престарелая Государыня на гостя. Опустила руки. Щелчком подозвала способную старуху-Перекусихину, наперсницу и сводню.
"- Как он хорош. Настоящая куколка. Чьих будет".
Сводня титул прочитала по складам.
-Московский? Что ж, не все еще на Москве перемерли...
Старший брат Кавалера в кои-то веки под локоть взял:
- Выше голову, болван. Улыбайся. На твое мясо смотрит.
Подивилась Государыня, загляделась в глаза зиатские до озноба. Все, что надо, поняла:
- Что ж его раньше не возили?
- Отроду слаб здоровьем.. Да и зелен еще.
- Вот тебе мое последнее слово: Отказать. Мы здесь - а он - вон там, подале. Пусть на Москве свое малохолие лелеет. Спаси Бог от такого цветочка ягод вкусить"
- За что государыня? - осведомилась Перекусихина. Екатерина по спине сводню хлопнула, свинцовой любезностью припугнула:
- Каприз у меня, душа моя. От старости. Исполняй сей момент".
Захлопнул Санкт-Петербург перед московским сыном казенные двери на семь замков с подзвоном.
Тут и наступило молодцу безвременье великое. Таясь ото всех, за полночь переодевался и покидал дремлющий дом. На больших улицах по темному времени ставили рогатки, а при них маялись сторожа из обывателей, с грановитыми дубинками, самопалами и трещотками. Иной раз в двух шагах прошмыгивал - щурились в сумрак, что там? Кошка в отбросах шарит или колокольный ман в красной мертвецкой шапке тащится - не по нашу ли душу.
Ходил бы Кавалер на Разгуляй, где питейные домы, да опасно - вотчина в двух шагах, вдруг знакомый попадется, осрамит. А глухая Пресня - ему по росту место, без огня. До сих пор на выселках волки сторожей жрут по зимним месяцам. Называл про себя, стесняясь, ночные прогулки - "тайным пированием".
Напелся с тех пор Кавалер- пустоцвет "голубочка" по пресненским кабакам, досыта навалялся в Черных грязях. Особое удовольствие находил в том, что одинаково чувствительно звучала прелестная песня, что в тараканьих каморах, что в штофных гостиных, щекотала в горле, душу стеклянными клещами наружу тащила. Челядь все замечала, да помалкивала, крепко помнили паутинку на лампадке. Чьему голосу госпожа Татьяна Васильевна поверит, если рядом людскую правду поставить и возлюбленного сына?
Осенью настигла Пресня Кавалера, рысью, ястребицей, сцапала в лицо, крест сорвала, теперь не отпустит, не смилуется, не простит. Шатаясь, еле добрался до дома, в ворота приоткрытые нырнул, кафтан давно сбросил, нес в оцепенелых пальцах узлом добычу.
Встали над харитоньевским садом постылые с детства палаты. На восток и запад четырехскатные крыши ощерились флюгарками и луковками, стены сложены были из добрых кирпичей, цвета бычьей крови, старого сафьяна, ржи оружейной, по восемнадцать фунтов каждый. Кладовые битком набиты съестным и носильным. В погребах выписные фряжские вина, и русские ставленые и шипучие меды, морсы ягодные на Муромский лад. Образ Бориса и Глеба в тимпане мерещился, стерегли святые невеселую землю. Чего только в ранний час по пространному двору не сновало и башкиры и черемисы, и карлики и гайдуки чуть не саженного роста, был и арап, ходивший за садом. Вели собак, несли клетки с фазанами и курами Шелестели укутанные в рогожу черемухи, черноплодье, орешники, малинники.
В саду копаный пруд в форме сердца остывал, серебристые ивы по бережкам купали плети. Черные столетние рыбицы ночевали в донных травах, а в щеках у рыбиц - татарские серьги с вензелем, горело у рыбиц в глазах ханское пламя, если в мертвой воде плескалось солнце.
Кавалер наклонился над прудом, сорвал осоку, изрезался, стал с яростью оттирать сапоги от пресненской грязи. Пусто в пруду - по осени выловили рыбиц и пустили зимовать в дубовые мореные бочки в подвале - в вечной тьме и слизи на дне, устланном папоротником. В голове Кавалера коломенские колокола гудели, дымчатые голуби под стеклянным колпаком непробудно ворковали рядом, что-то будет, что-то будет.
Угол бедного Китоврасова двора, платьице мужскими руками латаное, полуголые ясени пресненские колыхнулось, почудились исподволь в полынной воде.
Разбил Кавалер отражение слабым кулаком, не оборачиваясь пошел на крыльцо.
Сожги их. Сожги. Сожги.
А дома мать-москва Татьяна Васильевна, с ума сходила. Впервые своими глазами увидела васильковую спальню сына пустой. Дворня глаза прятала, радовалась про себя - застукали. В столовую приказала Татьяна Васильевна блудного сына впустить для объяснений. Вошел, как был, в грязи, едва узнала. Спросить не успела, где ходил без спроса. В рубахе легкой - простудится... Поклонился с порога. В руках узлом - замаранный кафтан. "Яблоков вам принес, матушка, из Преснецкого сада. Сладкие".
Раскатились плоды по французской скатерти, поплыл коришневый яблочный дух - мать растаяла, целовала сына в горячий висок с гулящей жилкой. Кавалер улыбался на коленях, прильнув алой щекой к материнскому подолу, в шутку лбом "бодал", как теля, и смотрел снизу вверх - озорно и чисто, с живучей искоркой. Отпустила с милостью Татьяна Васильевна, отсыпаться.
За дверью девчонка в закуте мела, как велено. Кавалер взглянул на нее сверху вниз и протянул ей яблоко на ладони. Без мысли, просто вспомнил, как в Китоврасовом доме ее сверстница пела лисью песенку от радости. Уронила малолетка веник, по стене спиной распласталась и с ревом бросилась в потемки под лестницу. Никогда никого из них не оскорбил, на розги не послал, волосьев не рвал, не доносил матери, голоса не повысил. Испугалась яблока раба. Кавалер от обиды хотел раздавить яблоко в кулаке, видел на Пресне, так все мужчины делают, силу показывают, но узкие пальцы зря скользнули по воску. Впустую заплясало твердое яблоко по ступенькам вниз - скок-поскок. Самое вкусное яблоко в Преснецком саду. Последнее. С родинкой.
Неясные тоскливые сутки в кольцо завивались. По сотне раз на дню из угла в угол маялся Кавалер. Все забросил, все приелось.
"Дался мне Китоврас. Если б Китоврас, так ведь - варнак, острожник неклейменый, лихородный смерд, черная кость, бобыль, бабья проруха, малолетку растлил, на чумные копеечки живет. Что за вздор мне его жечь. И в мыслях не сожгу. Не проси..." - сам себя заговаривал, а потом подступит одурь под сердце, и не своей волей, ясным днем шел Кавалер на Пресню, смотрел издали в жалкий двор Гриши Китовраса, как в могилу.
Все мерзило его навыворот. Обустроились, черви земные, пузыри болотные, затеяли подколодное житье, морковки эти недоубранные, капустный лист, щами из дома несет, двор чисто метен, песочком с речки Пресни посыпан, можжевельные веточки на дверных косяках повсюду... Нехитрая резьба на воротцах. Стружка и скруты бересты на пороге мастерской. Пес Первыш с черными губами. Чуть что - брешет, полошит Нововаганьковский переулок. Убить надо. Отравленный кус из моих рук не возьмет, похитрей надо обойтись.
Быстрым шагом шел назад, чтобы не примелькаться, не дай Господи. Пьяным прикидывался. Запретил себе о них вспоминать. Запретил себе дорогу на Пресненский вал. Скулы заострились. Глаза с подтекой поутру - будто спьяну, под языком - медная окись. Лакомства опреснели. Вино с пряностями не кружило голову. Сковала грудь обручами лихорадка - причудница, она сама о себе говорила:
прихочу, причужаю всего, пить и есть хочу, а когда - не хочу, избавления всякого бегаю, ненавижу человека, сны разные навожу, отвращаю, отговариваю, сама являюсь женским образом, плясовица, представница и угодница царя Ирода, усекнула главу Иоанна Предтечи и принесла перед царем на блюде.
Встревожились о нем - нешто в карты проигрался или влюбился?
От лихорадки бабка приказала растереть шею ужовым жиром и подала вместо ужина краюху хлеба, густо посыпанную печной золой. Сама удивилась, как впился внук зубами в пепельный хлеб, как захрустела окалина на зубах и глаза от такого дымного корма вовсе безумны стали.
Через два часа Кавалер стонал бессловно, всплывал и не мог всплыть из медянистой сонной одури. Будто датская собака навалилась на грудь во сне и вздохнуть не дает и наждачным языком в лицо лижет. Мерз под черно-бурыми мехами, метался на складках простыней, как чеканная буква на каленом докрасна листе. Рвал с груди ворот долгой ночной рубахи китайского шелка, все напросвет, мокрые волосы лозами шею опутали. Кожа натягивалась на утробе и звенела изнутри, точно обожженная глина. Есть такая болезнь при которой дыхание медом пахнет и болезнь эта смертельна.
Не мог ладонями утробу обвести, намертво были заняты праздные руки ночной работой - стиснуты на груди крестом. Колени ко лбу примыкал и снова протягивался. Молил невесть кого: "Разбуди!" Никого не было рядом. Всех, кто крещен, кто дышит, еще с вечера прогнал от себя барчук, неверные слуги на ларях вповалку дрыхли на людской половине, смотрели десятый сон. У бронзового колокольчика с петухом загодя вырван язык.
Бесы колесом приступали к спящему, бесы в очах визжали: Сожги мужика, сожги! В час последней прелести вспомнил Кавалер сквозь сон:
"Есть на свете мед с багульника или с дурман-травы. Ночные пчелы его в час несвятой, неархангельский, собирают по ярам, где цветет в темноте погибельным цветом то что не сеяно. Собирают тягость ночные пчелы острыми хоботами, относят в ульи, копят в сотах, до поздней осени. Кто того меда отведает, пропал с головой. Затоскует, будет его водить как пьяного, днем. О полночи - явятся страхи бесовского действа, хоть в склепе запирай, порченый все запоры сорвет, побежит от жилья по голубым лугам гулять шатко и валко, и медвяную сыть пуще своей души искать по сырым логовищам. Где найдет проклятую колоду, там и станет глотать отраву горстями ненасытно, с воском и детвой вперемешку. Ночные пчелы его не тронут, весь рой соберется тучей вокруг его головы, загудит колыбельным гулом. Угощайся, для тебя мед вызревал. Так и будет жрать, пока из глаз не хлынет, пока не околеет от сладострастия, черным медом налитой от чрева до глотки. Багульное зелье меня бы исцелило с первого глотка, жил бы в забытье и довольстве, как прежде - мечталось Кавалеру - "только бы разок отведал, а там - всегда успею остановиться".
Даром сладость не дается. - отвечали быстрые сны. А чем заплатить, все знают и ты знаешь.
Кавалер сухо кашлял спросонок.
Пусто смотрел в близкий потолок, расписанный райскими золотыми павами по смертной русской синеве. Проступали на переносье не сведенные огуречным соком веснушки.
Являлся малахитовый лакей. Предлагал шоколаду с корицей на серебряном подносе с вязью. Кавалер улыбался, ласкал пальцами лисьи меха, мучил строчную отрочку. Оставлял на краю блюдца отмоклую коричную палочку.
Представлял, как бродит окрест бессовестный рассвет. Дома на Басманной, на северо-востоке от палат насквозь стояли. Бабы-холстинницы хлебы ставили, на длинных лопатах в самопечный жар. Лавочник отмыкал ставни. Молочное младеня в тростниковой колыске гулило, молока просило, смотри, смотри, как кулачки жмет, хочет имя свое поймать и не может, тянется к огню и плачет от ожога.
На Москве всегда все жгут: ночные костры для будочников и нищих зимой, мусор и сухую траву весной, тополиный пух - летом, опавшие листья - осенью.
Палят обрезанные сучья деревьев, топят бани, чадят кухонные трубы, в барских домах разожжены для радования и уюта изразцовые печи, пышут кузнечные горны, на дворах под сухими навесами лежат полосы уральского железа.
Горят в праздничные и викторийные дни сотни тысяч шкаликов иллюминации.
Горят купола и кресты - золотые голуби о четырех крылах, горят пчелиными тысячными огоньками свечи в глубинах церквей, за приотворенными окованными дверьми.
Горит на солнце жестяное кружево дымников, и флюгарок, пунцовыми цветами распалены малеванные лица баб на морозе. Румянец - по всей щеке, брови - сажей, губы - вишеньем ржавым цветут. Горит в печном устье ржаной хлеб с закалом, откликается звоном нелуженая самоварная медь - меди колокольной. Горит ярое железо в конских пастях на всем скаку, левая кольцом, права еле дух переводит, а коренная на всех рысях с пеной у рта. Кнут ожигает рыжие бока пристяжной, визжит пристяжная, частит по-волчьи в припрыжку, хорошо пущено! Свистит жиган на кОзлах, на шапке - цыганское золото зажжено. На воре шапка горит.
В октябре волнами зажигались винным и медвяным рощи на монастырских склонах над Яузой и по Москве-Реке. Алая рябина посулила суровую зиму. Скворцы клюют грозди. Их перекличка в дрожащем воздухе жестока и нежна:
- Жги- жги! Жги-жги!
Теплые надышанные жильем, воздухи трепещут над крышами точно над пожарищем.
Остановился прекрасный всадник, перекреститься у трех церквей - а на склоне играют дети-приемыши в платочках из девичьей обители. Бегут парами, ширят круги, хохочут, перекличкой дразня водящего
"Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Стой подоле, гляди в поле,
Едут там трубачи,
Да едят калачи,
Погляди на небо,
Звезды горят,
Журавли кричат,
Раз-два не воронь.
Беги, как огонь!"
Всадник сухими губами шевелит, учит считалочку-закличку наизусть, не сводит врожденной лживой синевы с крестов. Прохожие дивятся - какой набожный.
Красная кирпичная кладка водонапорных башен, складов и домов изнутри напоена тяжелым горением. Вспыхивают снегирьи грудки на снегу. Красное, скарлатное, пестрообразное - из огня да в полымя - перекличка мясных и ягодных рядов, на крючьях туши с ободранной кожей, сочное мясо распялено, вырваны черева, оскалены свиные головы, мертвые быки распахнули святые глаза, под лавками псы спущенную кровь лижут. Битые зайцы в кровавых шерстяных чулочках на голой кости пляшут корчами вповал на продажу. Кто старой веры держится, зайчатину не покупает и не ест. Слепорожденное мясо, заячий бочок, как и красная смертная одежда - запретное, нельзя вкушать, нельзя надевать по старому закону. Кого в красном похоронят - тот в могиле сгорит замертво.
У церкви Григория Неокесарийского на Полянке остановился прекрасный всадник, оставил коня на попечение попрошайке, дал грош, вошел, обнажив голову под расписные своды.
Горел Григорий Неокесарийский - снаружи куполами, колоколами и изразцами печатными, алозолотными, где в мураве радужные звери резвятся и цветы и червецы багряные и дива двухголовые и бухвостые, морские и сухопутные Страшного Господа хвалят всяким дыханием. Изнутри горел храм повседневным ярым воском и сусальной теснотой иконостаса, отовсюду смотрели глаза милостивые, с детства знакомые. Так светло стало, что хоть сейчас - вон бежать, единственную радость возвещать встречным-поперечным.
Где, если не здесь, утешения от еженощного ужаса искать, где, если не доме Твоем, попросить, со всей сладостью унижения: Останови меня, Бог!".
Днем народу мало. Служба час как окончилась. Холодно и глубоко меж колоннами. Шаркал алтарник, соскребал с пола натекший воск. Кавалер опустил голову, в пальцах замучал купленную рублевую свечу с золотой вязью молитвы, самую дорогую, какая на лотке была - для великих праздников. Успокоился. Вспомнил нужное, произнес еле слышно, со скромностью:
"Многомилостеве, нетленне, нескверне безгрешне Господи, очисти мя непотребного Твоего раба Николая от всякой скверны плотския и душевная и от невнимания и уныния моего, прибывшую ми нечистоту со инеми всеми беззаконии моими, и яви мя нескверне Владыко за благость Христа Твоего и освяти мя нашествием Пресвятаго Твоего Духа. Яко да возобнув от мглы нечистых привидений диавольских и всякия скверны, сподоблюсь чистою совестью отверстии скверныя мои и нечистыя уста и воспевать Всесвятое Имя Твое Отца и Сына и... и..."
Кольнуло под лопаткой. Стожарное сияние разрослось слева - поневоле отвлекся Кавалер от молитвы и посмотрел во все глаза: десятки тонких свечей расцветали на каноне - в родительскую память оставили их незажженными, и алтарник с молитвой теперь одну за другой затепливал их долгой лучинкой, чтобы не пропали жертвы прихожан. Как шибко и дружно горели церковные свечи, потрескивали фитильками, возносились теплом, огонь к огню тянулся, передавался, потел воск каплями, беременел потеками огонь...
Сколько огня у Тебя Господи, поделись со мной...
Осень дождливая, сырость непрестанная. Нет, нет от простого соломенного жгута кровля не займется, а надо чтобы не погасло, чтобы разом полыхнуло, полстены и стрехи, и дранка и пакля в щелях, негасимое горючее зелье надо отыскать.
Где искать я знаю."
Зачарованно любовался Кавалер на церковные свечи. Упала к ногам рублевая свеча, покатилась.
Ветры-вихоречки, ветер Моисей, ветер Лука, ветер Федор, ветер Анна, ветер Татиана, ветер Катерина. Дуйте и бейте по всему белому свету, распалите и присушите медным припоем душу нетленную к телу тленному, молоком досыта кормленному, и несите меня от вечера до восхода Чигирь звезды, в воду сроните - вода высохнет, на землю сроните - земля сгорит, на скота сроните - скот подохнет, на могилу к покойнику сроните, костьё в могиле запрядает. Чтобы одну думу думал, одно дело делал, чтобы не мог дня дневать, часа часовать, ни едой отъестся, ни питьем отпиться, ни гулянкой загулять, ни в бане отпариться. Чтобы одно похотение сквозь семьдесят костей, сквозь буйную голову, сквозь ретивое сердце, сквозь ясны очи, сквозь ручные жилы по мой век, по мою напрасную смерть - Смородину, пока все желанное не исполню дотла...
На церковном дворе перекрестился Кавалер, и, не медля, поехал исполнять задуманное дело.
Глава 6
Месяца китовраса шестопятого числа в нелепый час, происходило на Москве колобродное гулевание и великий торг.
На Сухаревой площади расхваливали книгоноши писаные и печатные книги да лубки срамные и Божественные.
Живой Град Ерусалим и шута Гоноса-Красного носа, и Пригожую Блинницу, и Еруслана Лазаревича, и как баба на ухвате скачет, хочет царя скинуть, а дед бабу крестом крестИт, да из пушки пердит. И Аптеку Духовную, и Киноварный Цвет, какого на всем свете нет.
Таганка мышеловными котенками-алабрысами торговала, певчих птах и вяхирей навязывала, да ручных лисенят, да ежиков, да ужиков, лесным живьем не брезговала.
Детки у папаши щегла клянчили "купи-купи", а папаша отнекивался, отнекивался, да купил. А птах таганский с секретом: щегол-гоностарь, весь год в клетке под платом скачет-молчит. Наступает Страстная пятница, всетрепетный день, когда в храмах огня не теплят, так повиснет гоностарь на жердочке и чудной смертью обомрет, а в Светлое воскресение - гляди - встрепенулся живунок, поет-веселится, Христа славит красным голосом. Пока жив гоностарь - всей Москве стоять и цвести непалимой купиной.
Хороша штучка, да последняя!
И на отшибе хорошества вдосталь было. Торговались, плясали под ручку, пировали под солнцем на скатертях, в кучах червонных листьев барахтались с хохотом, четыре мужика поворачивали круг липовый на крестовине-вороте. Проплывали на потешном кругу девушки с ухажерами верхом на белых утицах, рыбах дивьих, конях морских, петухах индейских в сапожках малиновых. Скрипела ось карусельная, бусы рассыпались на легком ветру, алые и белые сочетались на лету рукава. Последние дни солнце к Москве оборотясь лицом стояло. Отцветали в просини высокие зоркие дни девичьей осени-синицы.
Щедруха-Москва, овощная, скоромная, пестрядинная, бондарная, холстомерная, ягодная. Всякий день - сегодня.
Глаза у Москвы лазоревы, злы от веселья, веселы от злости.
На Москве жизнь привольная, всем на зависть, всякого товару явного и тайного-навалом.
По лесам окрест кедры, кипарисы да винограды никем не видимы расцветают, гуляет по московским лесам Душа чистая, лента аленькая в русой коске, ест считанную малинку-златенику с ладони, по дубравам прохлаждается ножками точеными, позолоченными.
В моих садах незримых, незнаемых, несказанных всяких птиц преисполнено и украшено: пернатых и краснопевных сиринов и попугаев и страфукамилов.
Мимо едут люди, не видят сада, птиц не чуют, разве кони ржанием приветствуют красоту сокрытую. Нашими слезами плачет Душа чистая - на Москву дожди точит туманные.
Торг ревёт, всё за деньги берет.
Давай подходи, и других приводи, и Мишки и Тишки, и Варушки и Анюшки, приценись, удивись!
Нет, богата Москва, пишет по белому льну одномедной патокой повесть о роскошном житии и веселии.
Да, утешьтесь, никто на Москве не работает! Все москвичи жрут задаром маковые калачи, волошские орешки попусту щелкают, да яхонты-бисеры, как шелуху плюют, алмазы-смарагды у нас на Москве глухие петухи не клюют, и народец не мрет, а из пальца родится, спаси Богородица! Торги многолюдные, реки многорыбные, огороды плодородные.
А что не в клетях, то на лотках.
Мостового белого стука зачерпывай из кадки, пробуй. Шубы сомовьи на манер собольих, льдом горячим подбитые - примеряй на зиму. Девичья снятого молока да тучных куриных титек пожалте - вразлив и на развес. Кошачье воркотание на продажу есть - хоть крупное, хоть мелкое. Вежливое журавлиное ступание - товар редкий, по пятницам. А тележного скрипу, солнечного блеску, да нищеты человечьей золотничок впридачу малым ребятам покупают для утешения. Да все что ни схвати - есть, хоть возами бери, по десять аршин лягушиной икры с Поклонной горы, хоть сафьяна турецкого с моста Замоскворецкого, в лукошке курочку-хохлатку, в окошке - девкину мохнатку, неношену, сладку.
Навязывал мне плут - Макарка со Швивой Горки из-под полы товар особого манеру, не для христьянской веры, а потребный холостому кавалеру. Глянул под полу - думал, что помру, полна пола лисьими яйцами нового урожаю. Врал на духу Макарка, что яйца лисьи, толчены, коли их с вином пьют, распаляют похоть человеческую к совокуплению женскому. Десять копеек не трата, да я не польстился, дальше пошел.
Есть за Пресненскими валами, за Грузинскими долами, переулок не мал не велик, а так себе, впору. Средний Трехгорный, а иные именуют его Заворотным, а иные - Семиветреным. Дворы открытые, склады на изнанке, лавки налицо, все отпертые, веселые лавки.
Издавна по царской воле селились здесь шуты гороховые и пустошники, мастера празднеств, дети матушки Масленицы-Перетряхи, плясовицы семигрешной, блинницы-анафемы.
Тут и мастерские масок и разных машкерадных ухищрений, где петушиные перья да стеклярусы на клею выкладывают прихотными узорами на павлиний глаз, иномирные очи прорезывают в харях скарамушьих, готовят лисоватые лицедейства и три погибели не наши.
Поодаль фокусных дел мастаки-морочилы предлагали свое пропащее волшебство с порога ворохом.
Игрушки детские, ряженые куколки, побрякушки, хлопушки, летающие птички на ниточке, бегающие мышки, лягушки на гармошке и морские жители и пузыри-визгуны, тещины языки, китайские хвосты...Ай, какие хвосты плели сироты из крашеного мочала - и не хочешь, залюбуешься.
Всем сиротам Пресня - кормилица. Обучали ничьих детей по празднотворным дворам серебряному, медному и оловянному ремеслу, часовой хитрости, и даже епонскому лаковому делу. Для девочек намечали женские занятия: шить потешную одежку из лоскутов, свистульки лепить и расписывать, цветы вертеть бумажные, цукаты и леденцы варить - все, что празднику потребно.
В давние годы, когда нежную к нам мать Екатерину на Москве короновали, в пустошной слободе все торжественные колесницы и чудеса для процессий готовили - и вола крылатого из пяти воловьих шкур шили, и человека на нем сидящего - а у человека того - в груди окно прорезано было - чтобы помыслы тайные видеть, а в руках - жезл с малым домиком, что вкруг своей оси поворачивался, знаменуя непостоянство, а в том домике гишпанский карла плясал с фонариком на носу. "Свет несу, а сам не вижу". Весь Парнас с музами и Золотой век снабдили слобожане масками, костюмами, причудами и гирляндами.
На склоне ближе к излучине реки Пресни стояла опасная мастерская под пожарными древами, под рябинами октябрьскими. Листва осыпалась, а ярые грозди горели ожогами на охальном ветру - будто целовали, ягоды, ягоды в губы горькие падали. Упаси Господь, если кто из работников искру сронит или стружку оставит - всей Пресне гибнуть красной смертью. Привыкли мастеровые - огневары есть на обед холодное, и с вечерней зарей работу шабашить - нельзя в мастерской ни лучины, ни свечи, ни лампады держать.
В опасных котлах творили горючие смеси немцы да белые литвины, стержни бенгальские макали в застывающее гремучее варево.
Москва от копеечной свечи сгорела, а от трехгорного зелья весь мир займется и вспыхнет. И пойдет забава по весям и по городам и ночь станет днем. Ах ты, ночь, где твоя дочь?
Дочь моя на чужом поле огонь-полымя острым серпом жнет, звезды булгарские хвостатые в подол собирает, белые волосы молоньями по плечам текут, и те звезды горят и журавли кричат, так кричат, что души не слышно.
На склоне стояли склады мастеров фейерверков и иллюминаций, то, что на весь свет дает радость и тьму разгоняет, и новогодний снег шутихами и заревами красит.
В Государевы дни триумфальные храмины городили, украшенные фейерверочными фигурами. Количества пускаемых ракет, бураков и римских свечей и звездочтецам не вызнать было.
Большие ракеты рассыпались в воздухе звездочками, страстоцветами, швермерами и серебром огненного дождя.
Старый фейерверкер - глава всего дела, такие составы знал, что и на воде горели. Умел для увеселения мастерить фугасы фигурные - то киты, то дельфины, то бабы-рыбы, фараонки водоблудницы, или селезни да лебеди, которые быстро вертелись, извергали огненные фонтаны и, наконец, с громким треском разрывались, источаясь над водами последним огнем.
Хранились на почетном месте выписки из "Огненной книги" Марка Грека. Все понамешано в котле - польская соль, каменное масло, смола, и жженая известь, сказано: возьми одну часть канифоли, одну часть серы, три части сажи с чертовой рожи, шесть частей селитры истолки вместе в пудру и раствори в льняном или лавровом масле ангельского отжима. А напоследок - добавь толику тайного недобра, белой зависти да одно горчичное семечко. С одной искры выйдет горевание вспыльчивое, огненное, ревущее.
- Продай, мастер, своего состава туесок. Для увеселения сердца.
Удивился фейерверкер просьбе, и на покупателя взглянул в прищур. Камзол лакейский, с чужого будто плеча. С тела и на лицо - мякота бабья, хоть за щечку ущипни, молоко с кровью. Глаза блудные от невинности. За ушко заправлена рябиновая кисть для баловства - походя сорвал на дворе.
- Из какого дома будешь? - спросил фейерверкер. - Писаную грамоту от хозяина имеешь?
Промолчал покупатель, протянул в кошеле такую писаную грамоту, что пересчитав ее, фейерверкер только крякнул, усы огладил и стал нелюбопытен, только оглянулся - не следят ли за сделкой глаза завидущие.
Туесок принял - свежий, новокупленный, так бересточкой пахнет томительно по-лесному. Наполнил до краев тягучей жижей, притертой крышкой плотно покрыл и дал необходимые наставления, как по кубарям и плошкам для иллюминации разливать.
Товар отменный, на воде горит, на ветру не гаснет, только песку и мокрому войлоку покоряется, а если и тому не покорится, тут уж надо обносить пожар иконою Богоматери Непалимой Купины, и тропарь петь с упованием:
"Иже в купине, огнем горящей и несгораемой показавый Моисеови Пречистую Твою Матерь, Христе Боже, огнь Божества неопальне во чреве приимшую. Теми молитвами от пламени страстей избави нас и от огненных запалений град Твой сохрани." - всякий мастер-огневар Непалимую Купину назубок знает -и вечером и утром поют, чтоб чего не вышло.
Покупатель поклонился, и ушел за рябины-горемыки, а на боках тяжкого туеска - все лошадки да солнышки, да берестяные занозки. Невмоготу было идти молодому, огнь Божества во чреве черным зельем взбучился, наружу просился - роди меня, под горло душил.
Полдела исполнено - полдела осталось.
Солнышко в Черные Грязи подковой свалилось и погасло.
Протянулось марево над прудами.
На поле Преснецком за ручьем горющим торчал кабачище, а в том кабачище кислое сусло и жабье масло и пакость и легкость и смерть недалеко. Не родила нас мама - выплюнула яма.
Вали Москва-град, поблаговестим горе в малые чарки, позвоним в полведришки пивишка, в срамоте раскручинимся, подеремся-помиримся, стрезва - раб, во хмелю - блуд, с похмелья - гроб.
Пробирались дураки по кривобоинам, растрясти кошельки, расчадить табаки, не один дурак у матки, не один глоток у пьянки, не один щупак у блядки, раз, еще раз, расподмахивать горазд.
Попы и дьяки дароносицы и псалтири пропили, философы - афеисты и фармазоны умные свитки и таблицы пропили, служилые люди - вострые сабли да пороховницы пропили, тати и разбойницы доли наворованные и закон воровской пропили, холопы лапотки-отопочки да барина-собаку пропили.
Пропили русские царя-царевича и Христа Спасителя, пропили татары бритые веру муслимскую, пропили жиды субботние огни да молоко с мясом порознь, пропили поляки гонор шляхетский да павлиньи перья на шапке, пропили немцы басманную слободку да часы с репетицией, матка пропила грудных выродков, жених невесту пропил, невеста свою плистовочку пропила - нам ли не пропить вслед за ними, все что любо-дорого нажито на пустой Москве.
Бубенная стукота созывала пьющих на шальное дурачество, на мордоквасные пляски, на блевоту, на бормоту, на сухоту, на нечистую воду.
Посередь кабака сидели со вчерашнего вечерка, кабацкие самобраты: Курёха Кувырок, Омельян Бехмет, Мартынко Гробыляка, поп безместный, по всем застенкам известный. Прибился к их столу Наумко Журба - ничей мужичонко, опивков клянчил, корочку ржаную в горьку водочку макал.
Гнали его самобраты, под душу каленым кулаком били, а ему ничего, встряхивался, и, как мертвяк на перекрестке, меж корчемных столов маячил.
Девки им брезговали и за деньги, мало того, что Журба - чужеброд, мало того, что вор-иуда, ханыга-лыга, и вонь от него, как от козла конюшенного, - а тут еще нос и переносье сапожком провалились. Сильно гноила носовая язва, в пазухах чуть не черви кипели.
Сухотка хребетная восьмой год его сушила, мутила разум, толкала к зверствам.
Подхватил Журба дурную хворь в своей Калуге у подруги. Себя забыл, пешком в Москву пришатнулся, опивался, да все не до смерти.
Все что ни наворует по мелочи, все что ни наклянчит - пропивал в кабаке с увечьями.
Язвы на стопах показывал, вся подошва отмяклая, как сырный срез, дырами изъедена. Кто Журбу турнет, кто нальет, так и жил еще один день.
Зенки у Журбы лубяные, хайло котлом, руки-ироды.
И на разбой и на мокрое дело горазд был Журба, да кто же из честных господ воров такую мразь в долю возьмет?
Переглянулись Курёха Кувырок, Омельян Бехмет, Мартынко Гробыляка, поп безместный, оловянными кружками дружно стукнули и сказали: Не возьмем. Поди, Журба, вон!"
Крепко боялись его безносья да лютой силы с беснованием, когда Журба столы крушил, бочки разметывал, стекло грыз. Мертвый живого - хватает, голодный сытого - заживо ест, больной - здорового проклянет.
Скверно на Пресне, кто только не таскается. Весело у нас, все в закладе ломбардейском за хмельную нашу жизнь: перстни отцовские наследные, кресты дедовские, и рукавицы и ноговицы и портки и башмаки.
А в тот вечер - все казни египетские на Пресню хлынули, дым коромыслом, грязь по брусам повисла, сибирским воем выла голытьба, милок-шевелилок за спелые места, где тесно и кисло, прилюдно мацали. Плясали по-двое, щека к щеке, пятками в пол били.
Наливай да пей, все равно нехорошо!
Наумко Журба один вприсядку ломался, гнусавил песни, искал с кем бы задраться.
Кавалер в кабак явился засветло. От девок отмахнулся. Ждал.
Мамка кабацкая, от кутерьмы упарилась, присела на лавку, воды из бачка черпнула ковшиком в кружку - жарко.
Тут же присоседился мальчик синеокий, уселся грязной мамке на пухлые колени, сытым задком поерзал, угнездился, так на живом-то сидеть мягче, чем на лавочке еловой.
Замерла старая мамка, как мясной стул. А Кавалер у нее кружку с водой забрал, охватил обеими ладошками, и стал пить внимательно, как дети малые молоко из плошки прихлебывают - матери на умиление, отцу на хваление.
Не видали еще на Черных Грязях, чтобы пацанок на коленях у старой бабы сидел, будто девка на колке.
Кавалер поверх кружки на Журбу поглядывал с баловством, любопытством и ласкою.
Купился Наумко Журба.
Навис над Кавалером, кружку из рук махом выбил - раздрызгалась водица по стене хлестом, вывернулась мамка из под всадника, да от греха подальше за бочку схоронилась.
Взял Наумко Журба Кавалера за ворот, притянул близко к провалине на лице, сгреб пятерней послушливые кудри. Вдохнул медвяную чистоту дырами, чесноком отрыгнул.
- Скажи, чтобы штоф поставили, да пожрать дали, горячего. А ты, чиста-сучка, для меня песни петь будешь, а потом, чиста-сучка, ты со мной спать пойдешь.
Бубны да скрипицы затихли, осели за столами лупилы да пропойцы, в кружках донышко высохло, пошел черт по бочкам, месяц кукишем в окне скособочился.
Ну как опять запоет Кавалер для Наумко Журбы "Сизого голубочка", вынет душу истошно, будто колдуны след вынимают.
Куда податься, коли дальше Пресни все одно не убежишь, глубже Пресни не зароешься, выше Пресни не взлетишь.
По знаку Кавалера принесли Журбе-гнидняку штоф зеленой да закусь соленую, чтобы жажду растравить. Ел, пил, гулял калужанин за чужой платеж.
В полночь осушил штоф Журба и по столешнице ладонью хлопнул:
- Сыт-пьян. Теперь пой для меня. Знаю я тебя, чистотела-соловейку, дважды твоего "Голубочка" слышал, еще желаю.
Смежил веки Кавалер, ресницы персиянские тень отбросили на нежность, румянец по скулам свадебной кровью расплылся, руки на груди сложил, ни дать ни взять, куколка вертепная - плачевная мать Рахиля, вот-вот вылетит из уст заветный голубочек, утешительно крылами захлопочет, чистоту на черные грязи наведет. Запел Кавалер душевно, будто девочка-кликушка хлебушка вымаливает у мачехи жестокой.
"На окошечке пиздушечка
пивушечко варИт,
Под окошечком хуюшечко
на цыпочках стоит..."
Вскочил Журба, лавку повалил, обомлел, как облитый. Зенки выпятил, крест под рубахой ловил, забыл, что пропил позавчера.
Обещал шепотом:
- Убью!
Но тут - наступил на него Кавалер. Шаг за шагом, в черный угол загнал Журбу, точно ножиком - одним взглядом плясовым - в душу шилом.
- Вот тебе помои - умойся.
Отступил Журба, крест накрест обмахнулся. Поднялись вороны над прудами, заметались спросонок, без крика.
- Вот тебе рогожа - утрись.
Скорчился Журба, закрыл полой безносье свое от чистоты хищной. Надрезанный хлеб на столе ближнем в одночасье зачерствел, будто неделю лежал, вино скисло, четвертка яблока почернела на блюдечке и сморщилась.
- Вот тебе лопата - помолись.
Наяву увидел Журба-костолом, что все, что у него в нутре горело сухоткою, все постыдство и беззаконие кромешное - перед ним снаружи встало в мальчике порченом. Заглянул Журба, в очи богородичные, гадючьи, ущербные. И отпала ягодка от сахарного деревца, отломилась веточка от кудрявой яблони. То не молодца губит пагуба. Это я с тобой разговариваю.
- Вот тебе веревка - удавись.
Сказал Кавалер и глянул снизу вверх на гнилого вора, калужанина, будто оловом топленым залил от стоп до маковки.
- Веселы мои песни, Журба?
- Веселы.
- Любо со мной век коротать?
- Любо.
- Ныне же будешь со мною. - по-евангельски обещал Кавалер разбойнику злому и за дальний стол усадил Наумко Журбу, под образа, как почетного человека.
Кавалер потчевал добычу польским изюмным пряничком. Кусал Журба, хоть сыт был. Кавалер зелья хмельного саморучно плеснул. Хлебал Журба, хоть пьян был. Помнил Кавалер - если лесного зверя хлебом соленым приманю, да с ножа покормлю - мой навеки будет. Помнил Журба-если хлеба соленого с ножа губами возьму - твой навеки буду.
До раннего утра - очи в очи посиживали Кавалер с Журбой, на дощатом столе руки через платок сочетали, меж ними - сулеи да кружки расставлены, кости свинцом залитые в россыпь да карты крапленые вверх рубашкой, плошка сальная чадила.
Искусно плел беседу ласковую Кавалер. Названый братец сквозь дым да чарочный звон чудился, червонным злосчастием очаровывал:
...Неразлучные мы теперь с тобою, вор-чужебес, Наумко Журба. Не бьют, не мучают нагих-босых, из раю не выгонят хромых-уродливых, вон и Сам-Христос оправдал разбойника, Богородица по мукам хаживала по колено в полыме. Кто твои, Журба, жалобы, хоть раз выслушал? Кто тебе Журба хоть раз приветное слово молвил? Кто твои язвы да смрад, Журба, утолил и вытерпел? Оба-два мы с тобою пропащие, вор да князь, один за другого Христу взмолимся - люди ославят, а Он не оставит.
Хоть кинься от меня в птицы воздушные, я пером в крыле твоем левом сделаюсь. Хоть в синее море пойдешь рыбою, а я с тобой поплыву, по сторону по правую в пучину веселую. Хоть в степи прорастешь ковыль-травой, я к тебе приступлю с острой косой, взмахну - поляжешь."
Разговоры то все о Пресне, да о смородине сами собой лились, будто колыбельные. Журба слушал речи друга миловидного. Заворожен, обаян, усмирен навсегда.
"А неспроста Пресня у подола Москвы раскинулась заставами, а неспроста на холмах отцветают осенние барские бессмертнички, да чертополох, да волчьи ягодки.
Это для незваных, Журба, Господь последние сады насадил окрест, в них после смертной муки, отдохнем и опомнимся от житья собачьего, набродимся вдосталь по зарослям сорным рука об руку, без слова, без мысли, без искуса.
Как помрешь, Журба, ты к столу праведных не садись, хлебушек белый в солонку не макай - из грешных слез в раю соль вываривают, наше мясо праведники на золоте делят, наше осуждение - им в наслаждение.
Ты притворись, что заблудился на Пресне в трех горах - вот судьи-Шемяки и бесогоны с мракобесами отступятся от твоей души навсегда. Ты дождись меня, Журба, во плетях, во терниях, в колокольнях, да голубятнях, будем вместе коротать безвремение московское.
Дикая смородина по садам болит, на три цвета гроздочки налились - белей белого, черней черного, красней красного.
Белая смородина зимой зреет, когда по пьяному делу в сугроб провалишься, да так и застынешь до весенней половодицы. Когда мать младенца во сне задавит нечаянно молочной грудью. Когда каменщик или иконописец с лесов сорвется вдребезги. Когда невеста целочкой помрет за день до свадьбы, из папоротника нецветного вьют ей венок, кладут в белом холсте в новый угол кладбища.
Вот такая смородина белая, младшая сестра.
А черная смородина, она в ноябре выпадает, как первые грязи оснежатся - и приступает тоска, поутру проснулся молодец, краткий день промаялся, а о полночи веревку свил или вожжу отстегнул, на чердаке через балку перекинул петлю и айда плясать на весу, без креста, без памяти.
Высота, легота - на дворе от немоготы житейской лютая трава. Вот такая смородина черная, средняя сестра.
На полслове замолчал Кавалер, карты потискал тасовочкой, ловкими пальцами стал на досках малый домик городить - дунь-рассыплется, стены - вальты, дверки - шестеры, крыша - некозырный туз-бардадым. Алые узоры на рубашке карточной словно червецы расползлись. Не вытерпел Журба, утер безносье каляным рукавом гунки кабацкой, а сам просит - не отстает:
- Говори мне Красную Смородину!
Бережно поднес Кавалер, к тузу бубновому плошку сальную с фитильком. Запалил с четырех концов. Покорежились стены домика карточного, завертелись в огне и рассыпались, теряя масти и крап шулерской, завоняли гарью ошметья черные.
Красная смородина - в керженском срубе, когда солдатская команда двери рубит, хочет снаружи никоново троеперстие силой навязать, печать антиеву на лице и десницу каленым железом поставить, а внутри многолюдный вопль стоит "поджигайся, кто в Христа верует!"
Вот такая она, смородина красная, старшая сестра. Слаще ее нет, кто вкусил - тот спасен. После смородины красной болезнь твоя, Журба, сойдет, как вода, недоля да голод не потревожат, не будешь знать ни страха, ни греха, ни покаяния.
А у меня красной смородины, Журба, полны горсти.
Сцапал Кавалер Журбу за кулаки драные, как из могилы Хвать-Похвать живое мясо ловит.
Покривились уста розовые, Кавалер оскалился в броске, да зубами щелкнул пред лицом - гам! Съем!
И всплыла из оскала голая улыбка, будто мертвяк из проруби.
Шарахнулся Журба от жути и тоски. Сжался в ком. Захорошело Кавалеру от чужого страха, мураши спину обожгли, зажеманился, аж кафтан на три пуговки расстегнул, глаза в истоме талой влагой налились. Без промедления все замыслы, как на исповеди с ясной сухостью рассказал, черному делу научил, в подельники залучил. Велел наказ повторить трижды, как азбуку. Встречу назначил. Швырнул Журбе кошель и откланялся, как не гостил.
Слишком поздно подошли к калужанину Курёха Кувырок, Омельян Бехмет и Мартынко Гробыляка, поп безместный, сказали:
- Уноси ноги, калуга - друга, покуда цел, нашел с кем тары-бары растабаривать, нечто заросли глаза - не видишь, кто тебе руки золотит?
Быком заревел калужанин, деньги рассыпал и из кабака сломя голову выбежал.
Взмахнули из-за плетня кресты Ваганьковского погоста да маковки убогого дома. Иди к нам, иди к нам, не ходи, не ходи.
Твердо решил Журба покинуть Пресню, от Москвы в бега удариться, а там - тайными путями, куда Бог укажет, хоть в схроны смоленские, где беглые холопы озоруют, хоть в город Елец, который всем ворам отец, странничать хотел, по святым обителям. Надели Христос по миру идти, головой трясти. Лишь бы подале от старшей сестры, красной смородины.
Орешину вывернул с комлем, как на посох опираясь, поволокся в тряпье по колеям рыжих, колесами размозжена дорога глиноземная. Стояла у обочины осинка - дрожинка, брезгливо роняла с тонких веточек остатнюю ржавь. Замер Журба, шмякнул посох в слякоть. Не осинка - давешний друг простоволосый продрог на ветру вполоборота, тонок, одинок, манит к себе ладонью холеной - иди - не ходи! Зачурался Наумко, стал по буеракам да хлябищам шарахаться, но куда ни выбредал, во что не вперял глаза кровью заросшие: напускала маны и мороки остуда земная, текли по низам пары болотные, мерещилось нежное, тесное, жаркое, водила осень по горлу перышком, чертила письмена щекотные по живой коже.
Сто шагов от Пресни сделал Журба, а уж как под ярмом хрипел, будто стиснуло грудь сыромятным ремнем и назад тянуло без отпуска, издевкой язвило - иди, не ходи.
Лужица в колее зыблется, а в ней клок небес лазоревых с золотым ободком зрачка укоризной ласковой отражен. В глинистой расступице средь следов собачьих да вороньего поскока - узкого сапожка след впечатан щучкой, как ни рыскай, другого нет, будто нарочно сделано.
На дурной версте, мосток Ваганьковский, по которому живые ходят, а мертвых носят, а на том мостке цыганенок сидел горюном, на пальце леска намотана, удил на гнутый гвоздок карасиков. Подошел Журба цыганенка черномазого поучить - обрадовался: нехристь, а живая душа, не ложная морока, тьфу через плечо. - Дуромеля, разве ж в ручьишке сточном рыба есть? - Есть. - отвечал цыганок бесстрасно, в мутную воду глядя. На сыром ветру чертобесие волосни нечесаной курчавилось. "- Ты на пруды, к мельницам иди" - Иди. " "- Тут всякие шатаются, а ты мал еще, один не ходи..." - Не ходи." Обернул к себе Журба ребенка-нехристя -я с ним по-божьему, а он мне затылок без уважения кажет! - а личико чистое, смеется мальчик, как водица ключевая дрожит, и зубешками мелкими на калужанина - клац! Съем!
Насмерть бежал Журба. Пена изо рта исторглась. Упал крестом безвыходно. Вздыбились над ним Три Горы Пресни-мачехи, неминучей. Зашумели склоны голыми вербами-ведьмами. Звездной сыпью по желтым листам выступили первые капли дождя. Обвело Журбу мёртвой рукой - день напролет бежал, а назад вернулся.
Троедождие обложное пало молотами, все заволокло набело и пропало.
Глава 7
Тридцатого сентября, в день мученика Зиновия и сестры его Зиновии волки по окраинам Пресни ходили на больных лапах, как детки, никого не трогали, пили воду.
Утром бабы болтали, что дело к мору, голоду или к войне. Сыта, здорова, мирна Пресня. Пироги пекли по-домашнему - пахло капустной поджаркой горячо и печально.
- Не хочу волков, говорила Маруся, тянула за полы Гришу Китовраса, - Скажи про синичку.
Зиновий с Зиновией ознобом по улицам ходили незримо, сыпали дожди из прорехи ризы церковной.
Запотевали окна изнутри, детские пальцы на патине чертили рожицы.
- Ну про синичку, так про синичку - соглашался Китоврас,
усаживал девочку на лавку, серым платком козьего пуха щипаного укутывал, трогал сухими губами висок, простыла не дай Господи? В дождевой бочке вода подернулась первым ледком. Разбивал Китоврас его, чтобы набрать в ковш хрусткое льдистое сальце.
Знала свое младенчество зима, зеленью медяной подернулись оковки ворот, осела от кислой сырости дверь, как всегда осенью.
Сильной проседью борода Китовраса на груди серебрилась.
- На Зиновью - Зину, Маруся, Маринька, марево, горе ты мое, знай: у синичек свой праздник есть, немного зинька-синица ест-пьет, а весело живет.
- Как мы? - спрашивала Маруся, нахохлясь.
- Да. И за синичку, птичью сестричку свои святые молятся.
Вечерними обычными делами занимался Китоврас.
Вышел на двор, покормил пса-первыша одонками от ужина, дно пирога смачное, в масле пряженое положил - пусть погрызет. Пес цепкой громыхнул к колену приластился, провел Китоврас ладонью по песьей спине, смахнул о портки осевшую желтую шерсть. Линяет.
Запер на два оборота ворота уличные.
Вернулся в дом. Маруся сидела как прежде, послушная. Скучно кошку Серенькую тискала под пузичко. Серенькая-старуха топорщилась, но позволяла, чуяла подусниками да белыми пуховыми лапочками, что не можется девочке.
Протянула Маруся Серинькую Грише за шкирку, болталась Серенькая, мурчала утробкой, улыбалась.
- Смотри какая! Кошка-матрёшка. Котка. Котофейка. Совсем моя.
- Твоя, - ответил Китоврас, сел, усталые плечи размял, раздул бедняцкую лампу - вспыхнуло за тусклым немецким стеклом, расточился кругом свет пасечный, октябрьский, будто фонарь с ворванью.
Остывая, гончарным звоном отзывалась печь, наработалась, напекла Грише с Марусей подовых пирогов - сама не ест, а всех кормит.
На остатках жара погрел Китоврас водицы в тазу, напустил в кувшин лимонной мятки да горчичного порошка. Разул Марусю, поставил ножки попарить, сказал терпеть, всю мокроту из груди вытянет, потом чулки теплые, что баба-церковница подарила натянуть и спать.
Поджимала пальцы в теплой воде Маруся, морщилась - вот-вот заплачет. Серенькая строго смотрела, на половице скобленой сидя, хвост вокруг задка обернула.
- Ну-ка, рёва-не реви - сказал Китоврас, - на меня смотри, да на Серенькую. Знаешь, откуда кошки повелись? Из мешка!
- Хочу про мешок! - отвлеклась Маруся - и слезы то повысохли и пальчики в тазу распустила.
Тяжело улыбнулся Григорий Китоврас, слова подобрал, да и занял дитя больное баечкой:
- Инок обитал на горе сербиянской, звали Саввой, скоту первый милостивец, в его честь мы особый летний пост-савицу держим, не едим ничего, что на четырех ногах ходит. Слепых исцелял, мертвых из тлена животворил, у черта солнце отнял, чтобы всем светило на радость, пиры в деревнях по осени устраивал - сама Богородица Пирогощая его вино вкушала и хвалила. Знаешь, Маруся, когда Богородица в Египет бежала, у ней молоко в грудях иссохло от потрясения и жажды, а Савва ее вином из меха напоил, пожалел женщину, и в землю молоко пьяное брызнуло, возрадовался Младенец и насытился. За услугу Богородица Савве явила чудо: с тех пор Савва мановением рук тучами градобитными повелевал и жеребят на ножки ставил. Вот вернулся Савва в свой монастырь, а там страда -в амбары зерно золотой жилой текло с омолота, а мыши то зерно портили и гадили.
Нашел Савва мешок пустой, встряхнул и взмолился - избави Бог от мышиной потравы.
Тут в мешке зашевелилось, да загуркало, да выкатилась из мешка кошаточка, будто клубочек, умыла морду, распушилась и пошла мышей душить!
- Серенькая? - спросила Маруся и щекой к плечу Китоврасову приткнулась.
- Серенькая, - согласился Китоврас, - Так и сберегли урожай. А Богородица кошке-полосатке положила на лоб первую букву имени Своего. Угадай, какую: Аз, Буки, Веди, Глаголь, Добро, Есть, Живете, Земля, Иже, Како, Люди, Мыслете...
- Мыслете! - кричала Маруся-угадка.
Поводила Серенькая крутолобьем, показывала Богородицыну буковку "М" полосками на пепельной шерсти меж ушек замшевых.
Китоврас промокал Марусины стопы распаренные чистой суконкой.
- Скажи, с кем Серенькая ходит дружить?
Чуть задумался Китоврас, ответил:
- Ходит дружить Серенькая на дальний двор, навещает курочку-однокрылку.
А Маруся баловалась, болтала ногами, не хотела чулочков колючих. Но как услышала про черную курочку, продела ножку в скатку чулка, по обыкновению переспросила:
- Почему курочка однокрылка?
Пришлось рассказать.
Не жил, не был поп несчастный, Аввакум, погнали его пешего в страшные земли, с женкой Марковной и детушками, а была у них курочка, собой черненька, по два яичка на день приносила ребятам малым Божьим повелением. Была та курочка одушевлена, протопопово семейство кормила, а с ними кашку сосновую из котла клевала, а рыбки подадут, так и рыбку клевала. А не просто так курочка протопопу досталась. Раз у важной боярыни куры все переслепли и мереть стали, прислала кур в решете боярыня протопопу - чтобы помолился, гонимый. Пел молебен Аввакум, воду святил, в лесу корыто куркам сделал, кормил с руки моченой корочкой, вылечил Божьим словом, отослал назад боярыне, а та на радостях, оставила черненькую курочку, однокрылку, какую не жалко калечину, на прокорм Аввакумовым деткам. Тяжкий путь выпал изгнанникам, радовала однокрылка детей яичками, было чем крапивные щи забелить. А стражи-собаки той радости стерпеть не могли да и затоптали курочку яловыми сапогами. Как на разум приходит, жалею ту курочку, как человека оплакиваю.
- Умерла курочка?
- Нет, Маруся. Аввакум в срубе сгорел до косточек, не осталось в России никого живого, правые и виноватые не уцелели, а однокрылка, черненькая курочка протопопа Аввакума по сю пору жива. Вот к ней наша кошка Серенькая по ночам гостевать ходит.
Маруся снова хватала кошку под микитки, крутила, как ветошку, шаловливо.
- Покажи мне курочку!
Щурилась старая кошка. Помалкивала. Облизывалась.
Спать пора.
Гриша Марусе особо постелил под окошком, как всегда.
Поставил в изголовье кружку с водой, положил на дно серебряный крестик, как всегда.
Вечернее правило прочли, добавил Китоврас деревянного масла в лампадку синего стекла, как всегда.
Сказал:
- Спи, Маруся. Забоишься, вставай, меня буди.
Легли оба под цветной ситец - малая и старый на спину, руки за голову заломили, как всегда.
Серенькая у девочки на груди пристроилась, навевала дремоту воркотанием, как всегда.
Первыш в конуре спал на соломе, стукал об пол задней ногой. Бежит, бежит во сне, убежать не может, как всегда.
Черная курочка-ночь покрыла одним крылом дом в Нововаганьковском переулке, у подножия Предтечи.
Бродил по окраинам октябрь с воровским фонарем, воды подмывали берега, меняя их облик, полнились подвалы земной сыростью. Замерли лопасти речных мельниц. Ненастье минуло, впитались дожди в дерево обжитое, в промоины трехгорные, в желоба, да кувшины, да в кадушки с мочеными яблоками.
Ни огня на Пресне.
Скользко поднимались полуночники-чужаки по косогору, от реки Пресни, падали, изгадились, друг другу руку подавали, чуть поклажу не потеряли.
Прыснули две тени - одна сермяжная косая сажень, вторая - фасониста, рюмочкой препоясана, невесть в чем душа держится.
Задышали на вершине холма, хорошо, как хорошо! Дошли.
Стрёмно дышала осень бочкой винной, прелью лиственной, черноземом, хмелем да миндалем.
Водостоки раззявились жестью и вспенились раструбы брагой октября. Щебетал последний дождь на кровлях, низко к крестам и наготе ветвей опустились лобастые войлочные небеса.
Фомка кривая - воровская подружка - сбила напрочь засов.
Скрипнула настежь воротина.
Тявкнул Первыш с хрипом.
"Чужой!"
Нож в пёсий подгрудок по рукоять прыгнул с проворотом. Журба пёсью морду вывернул, только хрустнуло. Ловкое дело, не вякнул - из ноздрей поплыло черное.
Положил сторожевой Первыш выворотную морду на лапы. Издох.
Перекрестился с испуга наоборот Наумко Журба, туесок стиснул, снял крышку и черным вязким облил стены и дверь - так щедро, будто кропил.
Полилось жирное варево потеками.
В воротах Кавалер с потайным фонарем в клетушке стоял. Качался с носка на каблучок.
Жгут соломенный вынул из-под полы, запалил куклу на фонарном фитиле и бросил высоко и метко.
Огонь на Пресне.
Тягость свинцового сна беспокойна, а во сне черные лисы за красными лисами колесом сплелись, с треском, сполохами лоскутными.
Угадывала Маруся сквозь сон голос колеса бесноватого, косточки в мясе стонали, светлая коска на ситце перепуталась. Пленный Зверь Китоврас во сне Ерусалим посетил, голову повесил, вели его соломоновы слуги по соломе, трескались ребра, Китоврас поворачивал тулово влево.
Навалилась дурнота на грудную кость - сладкая тоска - быстрые Марусины сны - Серенькая уснула всем весом - давит меня! Брысь! Брысь! - забоялась во сне Маруся.
Села в постели Маруся, метнулась Серенькая с плеча, заскакала боком, шерстку на спинке встопорщила.
Веселый свет повсюду плясал.
Текла из-под пола ярь. Лисы, лисы, красные, черные по половицам колесили - не во сне.
Вцепилась Маруся в коску, ступила на половицу шерстяным чулочком - провалилась половица искрами, кислый чад задушил кашлем, затлел мысок чулка. Из-под двери ползло волнами угарное, черное, большое, сладкое, смертное, само не свое.
На лавке навзничь умирал Китоврас от угара - метался во сне по Ерусалиму - горела солома, и Соломоновы слуги заживо горели, и несло от Писания горелым пером и костью горелой смердели небеса тростниковые.
По тлеющей гари побежала Маруся к двери, толкнула и отшатнулась - стала кружиться, в приплясе била по занявшемуся подолу ладонями - колоколом белой детской рубахи раздувала жар.
Пламенем двери занавесились, в сенях ревело и рвалось, аленькой лентой опутало Марусю со всех сторон, выбежать бы ей, покатиться с плачем по мокрой осенней земле, по листикам, но поднялась у порога страшная кобылья голова-сторожиха и пустые глаза ее с треском горели, не пускали наружу.
Затрясла Гришу Китовраса Маруся, в скулы целовала, по скулам била, бороду драла, кричала имя в дыму.
Открыл темные глаза Китоврас и просто встал из одури смертной.
Огонь на Пресне.
Бежали с ревом люди с окрестных дворов, в чем были, с чем попало.
Кричал Иоанн Предтеча несчастье в пять малых колоколов.
- Огонь! Огонь! - кривлялся Журба безносый в палисаде, туесок пустой не отпускал.
Встали люди перед поджигателем.
Замерли. Не могли прикоснуться. Оглашенные изошли.
Вся Пресня деревянная - порыв ветра - и наступит нам всем красная смородина до рассвета.
Мужики с Пресненских берегов песок волокли на покрывалах, кидали ведрами воду - а от воды еще пуще вспыхивало.
Дело начали женщины.
Молча повалили женщины Наумку Журбу и наотмашь щеку вырвали, зубы блеснули из кроветочной человечины.
Потом и остальные набросились. Месили сухотку ногами. На мокрые куски растаскивали, в пасть головню сунули, забили в самое горло, запекся язык.
Новые и новые голоса к Китоврасову дому со всех концов стекались для самосуда и свидетельства.
В незыблемом оке, в тени колокольни посреди Нововаганьковского переулка стоял Кавалер - руки раскинул, в пустоту над собою смотрел. Слушал, как рвали руками Наумку Журбу на хрящи, как баграми обрушивали внешнюю кровлю, как потреск хворостный Пресню на крепость испытывал искорками.
Как во сне обегала толпа Кавалера, незримого всем. Оземь колотились на бегу их босые пяты - от тяготы плотской рокотом сотрясалась земля, которую Господь не остановил.
Взял Китоврас Марусю на руки. Закрыл плоской большой ладонью затылок, коску эту светлую, незаросший родничок. Лицо к груди притиснул тесно-тесно.
И ступил на костровые половицы босиком.
Под лавкой переминалась лапками серенькая кошка, хозяевами позабытая, воркотала горлышком то ли в страхе, то ли в тоске. Забивалась тесней в угол старуха, сгорбилась, топтала, топтала белыми лапками, просила у нас спасения, милости людской выпытывала, щурила больной бельмоватый глаз.
По щелке по сквозняку доползло до кошки пламя и пошло по шерсти.
Стала кошка рыжая. Закричала.
Лопались в пекле яички - писанки по стенам.
Смолкли свидетели, спрятали лица в широкие рукава.
Вывалился Григорий Фролов из горящей двери, с Марусей на руках.
Горел Китоврас, за спиной его балки ухали, в праздничную россыпь, в преисподнюю.
Портки горели и рубаха. И борода вспыхнула и брови и ресницы. И ладонь горела и пузырилась волдырями, скворча. Правая ладонь, что Марусину головку берегла.
Уставил осенние звериные глаза на Кавалера и впервые увидел его с ног до головы.
Кавалер оступился, попятился и бросился прочь, обе руки крест накрест на свинцовом горле стиснул и сгинул к Московским заставам, будто коросту сорвали.
Восемь шагов по Пресне сделал Китоврас в пламени, бросил Марусю и упал ничком в перегной огородный навсегда.
Как тушили одеялами живое пламя. Как женщины принимали в кровавые руки Марусю, как расчесывали, рвали гребешками обгоревшую косу, как валяли на черноземе, чтобы тление потушить. Как жевали подорожник и на ожоги плевали кашицу. Как грудную клетку поджигателя да кусок хребта с позвонками нашел на пожарище будочник и не опознал за человеческие.
О том мы спрашивать не будем, мы по домам пойдем, досыпать.
Три дня от ожогов мучался без памяти Григорий Китоврас.
Маруся до последнего его правую руку держала, а в полдень выпустила. Была синица в горсти - открыла горсть Маруся - и выпорхнула синица в московскую осень.
Протянулся и преставился в чужом доме у Предтеченского дьячка человек Китоврас.
Никого не подпустила к телу Маруся. Сама обмыла жасминовым мыльцем, сама обмылки выплеснула за окно.
Пеленала Маруся мертвеца, как младенца, свивальником от стоп до кадыка мужицкого и пела колыбельную, его руку правую в правой руке держа:
"Баю-люли, баю. Спи,
Угомон тебя возьми,
Успокойся, ангел мой
Богородица с тобо-ой,
Никола Милостивый,
Тебя вырастила,
На ноги поставила,
Тебя жить заставила..."
Наутро выпал снег.
Маруся своими руками уложила Китовраса в гроб.
Маруся сильная. Все вынесла.
На рассвете повезла Гришу в санях-волоках на Ваганьково песок сторожить.
Поставила в оглобли кобылу гнедую, глаза с ресницами синие, в слезу, будто вареные, во лбу проточная звезда. Не держал Гриша Китоврас лошади - откуда взяла Маруся кобылу гнедую, неужто из-под порога выкопала.
Ранние прохожие по углам шухарились - ехали по Пресне дровни с домовиной, а правила молоденькая девка, встряхивала вожжами. Из-под косынки черной в белую горошину выпала на плечо коса седая.
Сани погребальные опушились инеем, млечный путь Китовраса и Маруси отмечали нестойкие заморозки, свистели полозья по первопутку под гору, в гору, через мост заветный, калиновый.
Большое солнце поднималось нехотя над Средней Пресней.
Поп спросонок прочел, что положено. Три опухлые богаделки пропели "Житейское море".
Ждала белая девка у ограды Ваганькова кладбища. Не было страшно. Чернела яма.
Заступы в насыпи остыли. Крышка прислонена к холму.
Галки в развилках точили железные клювы.
Под покровом лежал Китоврас, подбородок подвязан тряпицей, но сам преображенный, огнем не тронутый, серебро бороды сочилось на ключицы, будто Никола из Мир Ликийских задремал, руки на груди скрепил в покое.
Крест накрест насыпали на покров пресненскую горькую землю - предали с молитвой.
Заколотили гвоздями тесовую дешевую крышку.
- Зарывать что ли? - спросил работник.
- Успеешь... - отозвалась Маруся.
Подошла к ящику. Села на корточки, сильно потерлась щекой о закраинку гроба, обняла изголовие, а руки детские, в цыпках.
Сорок сороков ваганьковских птиц - фрр - спустились Марусе на плечи со всех концов, забили крылами невыносимыми
- Кшши! Кшши! Гриша! - машет, хохочет сквозь слезы Маруся.
Снегирья, синичья осенняя красногрудая сила над Марусей сиянием встала. Все птицы, что на кладбище кормились пасхальными крошками - слетелись Китовраса провожать.
Поп с богаделками окарачь поползли, могильщик заживо сиганул в урвину.
На глазах преобразилась Маруся.
Стало ясно, что не была Маруся человеком. Перед всеми открылась Чумная Мара.
Коска светлая с косынкой к девичьим ногам сползла, голая голова открылась,
Платье белое несшитое враспашку, грудь оплощала, крест меж ключиц ударился, глаза - винные ягоды в пол-лица - девка не девка, отрок не отрок.
Попятилась Маруся, руками колыхнула, в погостном снегу, в снегирях, так и сгинула над Китоврасом, рассеялась скорбью.
Когда вернулись похоронщики, а с ними и пристав для храбрости - мертвое тело Григория наспех закидали землей и забыли.
Десять лет на Ваганьковском кладбище не поселялись птицы - зиньки-синички и трясогузки и снегири и заряночки и клесты в землю с Марусей ушли.
Так и уснула мара - Белая Девка, Чума-Маруся там, в земле, близ Китовраса. У Китовраса впотьмах волосы и ногти растут, плоть омылилась, гробная крышка провалилась, лица нет, пальцы желтые вкруг иконы именной сплелись - изгнил белый платочек, которым покойник покаянные слезы утирает, а Маруся его и таким любит по сей день - навеки запястья аленькой лентой повиты, окованы, спутаны.
А кем Маруся, княжна Ваганьковская в людях была, почему крещена, отчего тосковала по мужику, почему Москве не мстила, нам не ведомо.
Извилиста река Пресня, разлилась по осени.
В стремнине бился кораблик из скорлупы яичной - а внутри мерцал огарок родительской свечки.
Далеко-высоко уплыл холодный кораблик в подземные струи, в море Окаян.
Снегопады Пресню рушником холщовым утешили к Рождеству. Надежно запорошили поземки пожарище до весны
... В доме у Харитонья в переулке, явился, как всегда малахитовый лакей, принес рассветное лакомство на серебряном блюде.
Кавалер из чернобурых мехов выпростался нагишом. Спал по-детски.
Улыбался, свободный от прелести, два часа назад с Пресни вернулся.
Уронил лакей серебро, перекрестился.
Потому что обновилось лицо Кавалера после убийства, никем не уличенного, как старинные иконы в монастырях обновляются - чуть не мироточит.
Убил князь мужика. Успокоился.
Вот и все на сей день.
Глава 8
"Князь Роман жену терял, тело белое терзал, схоронил на отмели, да на той реке на Смородине. Так душа новопреставленная со зверьми кочевать пошла, а те звери смирные, а те звери вещие, мохнолапые да чуносые, от Адама заповедные, ненареченные.
Босиком душа спешит, молоком звериный след белит, во слезах тропы не видит.
Слетались на плоть птицы разные, сползались на плоть гады подколодные, гробовые жужелки, хищные бронзовки, бросались на плоть щучки да окушки.
Взялся с неба сизый орличек, вырвал из плеча руку белую, руку правую, обручальную. Золотым перстнем прельстился, белым мясом соблазнился. Понес орлик руку правую княгини Романовны по-над семью холмами, по-над сорока сороками колоколенок белокаменных, по-над торгашными рядами, по-над садами и грядицами, по-над баньками, по-над гулянками, по-над крестным ходом, по-над черным народом, по-над Сухаревой Башней, по-над теремами красными, по-над острогами страшными.
А в дозоре млад стрелец на Кутафье башенке увидал вора, самопал турецкий вскинул, стрелил в сизого орла - хлебнул зелья из горлА.
Уронил добычу орлик. Завертелись пух-перо. Всю Москву заволокло.
Спрашивала дочерь младшая, молода княжна Анна Романовна:
- Тятя, тятя, где моя родимая мати?"
Солгал князь Роман:
- Молчи, дочь, ночь-полночь ушла мамка гулевать, рвет на кручах молочай, заюшек да ласочек в силочки ловит, дергачей да куличков во сети несет, журавлей в небеси пасет."
Спрашивала дочерь младшая Анна Романовна:
- Ночь-полночь минула, солнышко красное колесом взыграло, облака по леву, да по праву руку размело светило ясное, тятя, тятя, где моя родимая мати?
Солгал князь Роман:
- Молчи, дочь. Мамка твоя на ячменном навьем поле жнет усатый колосок. Стоит немую рыбью заутреню во холодной храмине. Ржаной каравай без ножа режет. Левой ручкой с крыши машет. Ты ищи меня, дочка в сточном желобочке, во хвощах, во облачках. Во прохладном саду, я сама тебя найду. Поцелую, обойму, за собою уведу."
Ходит-бродит Аннушка, во прохладном саду, рвет волчец и лебеду.
Ищет-ищет матушку. Выкликает имечко, не разведать ей вовек, как Роман жену терял..."
Так у ворот Свято-Андрониева монастыря, что на Яузе, на высоком бережку пели уродливые, да небогие под скрипицы, сопелки, да малоросские лиры, клянчили грошика да горбушечку.
Белы врата монастырские, красной медью окованы, и богатые и бедные с поклоном входят, выходят с чистым сердцем.
- Зачем князь Роман жену терял? Зачем дочери кровной солгал? - тревожилась девочка - молодая Анна Шереметьева, графинюшка-виноградушка, за батюшкину руку цеплялась, смотрела доверчиво, уродливых грошиками оделяла, не брезговала - скакали звонкие в жестянки.
Закашлялся батюшка, Борис Андреевич, Шереметьев младший, старшОму не чета, помял шапку щипаного соболя, шапку не вседневную, поминальную.
Как дочке черное дело объяснить? И не хочется, а надо, без отцова слова еще и в мечтания ударится, а не душеполезно дочери отцова сладкая ложь. Вырастет, сама узнает, уж лучше из моих уст.
- Видишь ли, Аннушка, люди праведные, старинные, вместо "убить" говорили "терять", чтобы злодейству не соучаствовать. Убил князь Роман жену безвинную, и солгал дочке, чтоб матушку век не сыскала, сплел небылицу, душегуб, а правду орел выронил, горькую правду, ручку правую с золотым кольцом. Песня старая, ты ее Аннушка, в голову не бери. А правда, как бы ни сокрыта была - всегда откроется.
- Не хочу чтоб такие песни на свете пелись - топнула ножкой Аннушка, лобик набычила, взглядом ожгла, - пусть веселое поют, скажи им батюшка.
Попросил Борис Шереметьев уродливых песельников от дочкина сердца.
Затянули привратные лазари веселое. Как жених-комара воевати шёл. Как лиса лапотки плела, да царску грамоту нашла. Как барашки-круторожки в дудочки играли. Как пчелушки Божии, крылышки малые четверокрестные, носики вострые, сами пестрые, с поля идут, гудут, гудут, медок несут. А пуще зашлись песельники нищие про журавлей.
"Курли, курли, курли,
Летят летят, журавли
Курли-си, курли - си
По Руси, по Руси.
Да с высоты, с высоты,
Журавли летят в домы!"
Прихлопывала в такт ладошками Анна - молода душа, печаль рассеяла, сыпались пятачки щедро.
Но видел батюшка, что ей в душу правая ручка обручальная, тут уж ничего не поделаешь.
Вольно было дочерь младшую, пуще глаза возлюбленную, в апреле капельном, вести на матушкину могилу в лоне Свято-Андрониевом, в день Иосифа Песнопевца, когда впервые звучит голосок сверчка запечного, когда с небес плакучих журавлиный клич тревожит и живых и мертвых.
Семь лет исполнилось Анне, когда матушку Наталию с церковным пением навзнич из дому вынесли, да ее след хвойными лапами по двору замели.
Шли следом за матушкой старшие братья - все пятеро мал-мала-меньше, без шапок шли, больше плакать не могли. Апрель звонкой синевой горел. Сквозь солнце снег с дождем колкий сыпался, батюшка без ума покойнице светлое лицо своей шапкой закрывал, пока не оттащил друг семейный за плечи. А снег на лицо Наталии новопреставленной падал колкой моросью и не таял.
Младшую Анну на похороны не взяли, рано ей - поставила ее нянька-смоленка на подоконник, научила помахать матушке на память белым платом в окошко - чтобы последний путь лебяжьим пухом устелить. Махала Анна белым платом, и все озиралась на няньку:
- Скоро ли маму назад понесут?
Крестилась смоленка, лицо прятала под концы платка.
- Вот затрубит Михайла в золоту трубу с колокольни Ивановой, тогда и понесут назад.
- А когда затрубит?
- Скоро, барышня. В свою пору. Надо ждать.
Уронила Анна из окошка белый матушкин платок, вымок батистовый лоскут в подталой луже у подножия Шереметьевского крепкого дома на Якиманке. Так и попрощалась с матушкой.
Не сгорел в скорби отец. Терпел один. Сынов и дочку младшую на ноги ставил, всему, что знал учил, ничего не жалел, осталась от Натальюшки светлая память, как по канве заповедный узор вышитый. Пусть не ранит детей шереметьевских злой апрель, злой день Иосифа Песнопевца, шесть детей осиротивший. Умудрил Бог вдовца Бориса. Пятеро сыновей и дочь - шестая - вкруг батюшки, как плющи обвились. Нежности, разума, хлебосольства, богобоязни, не кичливой простоты, всего от отца набирались.
Борис Шереметьев растил дочь особым ладом. Не теремную заточницу, не вышивальщицу да сплетницу, а хозяйку, доброму человеку добрую жену. Помнил, что без материнского призора девочка взрослеет, по иностранным городам и весям российским искал для нее наставниц некорыстных и простых, учителей честных, пусть обучат житейскому и грамоте и языкам и обхождению.
Мечтал Борис, что еще блеснет Анна в Петербурге, так как еще никогда и никому не выпадало. К воле дочерней прислушивался, но своеволия вздорного ласково не позволял.
Весельем, чистотой и любовью крепок младший дом Шереметьевский, на Якиманке на две стороны улицы протянувшийся - слева хоромы, справа - потешные сады, стеклянные оранжереи, канареечные домики в аптекарском огороде с целебными пахучими травами - от всех болезней, от тоски полуночной, от думы полдневной скверной. Только от смерти в саду не было трав.
Устав домашний Анна измлада выучила на зубок.
Жили запросто, по-дедовски.
Дом от века, будто линии на ладошке, родной, все запахи его, все зеркальца да померанцы в анфиладах, намоленные образа в домовой церкви... Где какая половица певуча, где печная вьюшка с голландским вензельком, где на притолоке розы и звери маслом писаны - все знала Анна, все любила весело.
По осени каштаны в жару пекли с щелком щегольим.
С братьями во дворе в салки бегали. Хороши братья у Аннушки, пуще всех краше - сама Аннушка - дитя кудрявое, то тиха, то шаловлива, как придется на душу. Свои игры тайком от братьев затевала, убегала в сад, плела шалашики из некошенной травы, садилась внутри на корточках, на колени голову клала, думала. А сквозь щели шалашика - небо синее, как из колодезя, звездами сахаристое, облаками перистыми выстланное, уже из дому кличут к ужину протяжно, а ей тихо и укромно, все ждет, когда же своя пора настанет и Михайла затрубит.
На улицу смотрела в угловое окошко, на подоконнике примостясь. Ходили по улице простые девочки, продавали прохожим ленты, букеты да конфекты.
- А ко мне девочки не ходят. Нет у нас на дворе девочек и не будет.
Завел батюшка семь кошек сиамских. Днем по комнатам расхаживали кошки, как хозяюшки, а ночью привязывали их к семиножному стулу. Каждая кошка знала свое место. Чуть смеркнется, сами бегут, спинки да шейки к шлейкам протягивают, не фырчат, не возятся, на подушках мостятся. К каждой кошке особая девка приставлена была. Сам Борис Шереметьев, нарекал кошек по дням недели, чтоб не перепутать.
Басом жаловались кошачьи девки:
- Барин, Середа с Субботкой поцарапались, в кладовке погром учинили, Вторник с Воскресением в белье плюх наделали, а Понедельник в вашей перине дыру вырыл, натащил клочков, гнездо вьет, неровен час снесется, галчонков выведет. Никакого сладу нет.
Анна маленькая над докладами кошатниц хохотала в голос. Борис Шереметьев только руками разводил, весело объяснял дочке:
- Надо ж и мне, Анна, почудасить на старости лет. У каждого барина своя фантазия, полагается, чтобы обо мне говорили на Москве, пусть хоть кошек моих поминают.
Мастерила Анна из шелковинки да пуха "мышку" - носилась с кошками батюшкиными по скользкому паркету босиком. Шаркали вслед за ней, не поспевая няни, мамы, барские барыни и сенные девки, кто на отсыпе чаю, кофе, перцу и круп состоял, кто на домашней работе и на кухне трудился - а радостно было глядеть, как куролесит с кошурками барышня-шалунья.
Хорошо поставлен дом: спальни, кабинеты, столовая, детская, девичья, каморы и закуты.
Все уютно, потолки низкие под теплыми сводами. Печи по углам муравленые, обои штофные с петушками, с венецейскими разводами и гримасами - все тканое в серебряный накат. Помнил старый барин Шереметьев Страх Божий да Воеводство.
Повседневно по правую руку отцову садился обедать приходский поп Мирон Иоаннович, учитель из бедных, астроном, хоть и выпивоха. Приживалы разночинные, цирюльник, домашний аптекарь, просители из лапотников. Под лавками шуты гоношились, карлы домашние в шелковых радужных париках, со львиными буклями, в жупанах с плеча чужого по колено утопали. Карлы правду про господ писклявыми голосами говорили, им за то мазали братья Аннушкины губы горчицей.
По леву руку батюшки - няньки, дети, гувернер-немец, фехтовальщик, мадамка, и семь песочных кошек в черных чулочках на низенькой лавочке - симеоны неделькой названные.
Ели без важности щи, разварной говяжий край с огурчиками, пироги с грибами, узвар да серый хлеб.
Беседовали за едой интересно и обстоятельно.
После трапезы, помолясь, почитывал Борис печатные ведомости и отписки из деревень, уходил в кабинет письма писать, отряжал человека за палочкой сургуча в лавку. Мальчиков отсылали на уроки, старшие в гарнизон ехали верхами.
Тепло и тихо становилось в шереметьевском доме. Пахло березовыми дровами да вареным кофием.
Послеобеденный сон царствовал - почивали мамы и няни в детской на рундуках и скамьях ковровых, дворецкий, истопник, казначейский писарь, форейтора и псари - на войлоках в служебном крыле.
Анна поливала в комнате своей на окошке бергамотовое деревце отстоянной коломенской водой. Карликовое деревце - ровесница, посажено матушкой-покойницей в поливной горшок, аккурат в год, когда родилась Аннушка, последняя. Бабка повивальная удивлялась - и в кого такая черноброва да строптива удалась, чистая татарочка. Ввечеру горели сальные свечи, восковые ставили к праздникам.
Все известно было наперед.
Выходила Анна подышать на черный двор, где конский навоз в соломе птицы клевали, куда едва доносился гул большой Москвы, Якиманки тороватой, торговой, говорливой.
А в людской прихожей старые лакеи на пансионном отдыхе сидели и вязали чулки, пили из глиняных бутылей осенние наливки. Крутились меж квасных, огуречных и яблочных кадей прикормленные собачки. Прокрадывалась Анна в сени - осклабливались старики, козьи морды куксили, ночные колпаки с перхотных голов стягивали - уважение оказывали.
И в тот день поливала десятилетняя Анна Шереметьева матушкино деревце.
Вздрогнула, когда подошел сзади батюшка, поцеловал в макушку.
- Ну что ж, Аннушка, сговорили мы тебя с ровесником, помолись, икону поцелуй. Матушку, Наталию Андреевну приснопамятную назови.
Обхватила Анна отца за пояс, припала щекой к поле кафтана.
- Боюсь.
- Молчи, дочь... - начал было Борис Шереметьев, да осекся - и так молчала.
В десять лет и шесть месяцев Анну Шереметьеву с Якиманки сговорили с Кавалером Харитоньевским. Пуговка в петельку. Крючочек к вилочке. Младшая к младшему.
Он без отца, она без матери - ударила родня по рукам.
Со старшим братом кавалеровым договаривался батюшка - брат-то у самой Императрицы в фаворе числился, да и младший отличался красотой и кротостью - ему прямая дорога в Петербург - белой скатерью, туда и Анне взлететь, просиять на болотах чухонских новой лебедью, королевишной.
Поникло бергамотовое деревце.
Поклонилась Аннушка в лице земное, как учили.
- Хорошо, батюшка.
Привезли суженого в воскресный день. Шел, будто невесело танцевал, вел его дядька угрюмый за плечико.
Нареченная в зеркальном зальце стояла без памяти - руки по сторонам развела, будто завод кончился. Мадамка догадалась, тиснула ей сложенный веер.
Десять лет обоим - немецкие марципановые куколки с камина спрыгнули - он да она, злато-серебро.
Одежка новая, к случаю наспех шитая, в подмышках жмет. Страшно.
Обоим кудри темные напудрили, лица стерли, новые написали по чистому румянами да белилами, навели художество на хорошество, букли взбили, научили что друг другу говорить.
Анну впервые в китов ус до хрипа затянули, жесткие подкрылки юбки навесили по бокам - будто корзинка пасхальная, или барыня-на-вате, которой горшки с пуховой кашей согревают. Стыдно.
Встретились, все слова порастеряли.
Кавалер в пол уставился. Аннушка на него.
Разве бывают такими мальчики? Меня ростом ниже, руки снежные, с легкими шрамами, чуть к груди приподняты, шея высокая, с жилкой, рот маленький, будто улыбнуться хотел, а не позволили. Только отметинка над губой, будто нарочно, клеймит Бог шельму.
Зачем мне такого любить?
Полна зала большими людьми, дворня с ног сбилась, все свечи зажжены, парадные комнаты, где хрусталь, софы атласные, антики, позолота, бархат, инкрустации - сегодня отперты и расчехлены, пыль в глаза пускаем, передохнуть не даем, у вас купец, у нас - товар, у вас - Содом, у нас - Гоморра.
Токай янтарный в горке рюмочной предлагали гостям лакеи в шелку. Торт цукатный с вавилонами на липовых досках вынесли четверо.
Читали старшие по писаному приданое, бранились, торговались, зудели голоса высоко под потолком, будто шершни, скороговоркою:
"...Табакерка белая черепаховая насечена золотом. Шестьдесят рублев. Шесть ниток жемчуга, счетом двести двадцать четыре зерна. Четыреста рублев. Крест бриллиантовый с красным камнем. Крест алмазный розовый, в нем шесть камней и осыпан мелкими камнями. Сто пятьдесят рублев. Табакерка, зеркало, яичко, зубочистка на шелке, коробочка серебрянная, да календарный футлярец с финифтью. Весу одного золота шестьдесят шесть золотников. Двести рублев. Перстень большой в золоте с волосами батюшкиными; печатка яхонтовая в золоте к нему в пару. Двести пять рублев."
Час прошел, другой, забыли о детях в пылу хмельном.
Стояли дети, потерянные, губы кривили, плакать нельзя, красота слезами смажется, переминались в тесных туфлях.
- Почему на меня не смотришь? - шепнула Анна.
- Нельзя, - ответил Кавалер и манжетом лицо закрыл. Просияло лицо сквозь кружево и сгинуло. Много лет спустя не могла припомнить Анна, чтобы он хоть раз на нее прямо посмотрел, все в угол, да на ноги, будто в первый раз.
А взрослые друг у друга роспись приданого отнимали, разгулялось токайское в жилах, раскраснелись сватьи да нужные старушонки, мужчины пуговицы расстегнули, свесили сальные волосы, родственницы деревенские по лавками, как гусыни надулись, с невестиной стороны шипели "у, татарва", с жениховой отлаивались "у, деревня!". Берендеи старые кривыми пальцами грозили - сшиблась родня с родней, пошла брань да раздор, друг другу гербовые расписки под нос тыкали.
И батюшка, как не свой, и старший братец, как прохожий молодец.
Мадамка Аннина с дядькой Кавалеровым уж давно на дармовщинку клюкнули, заели семужкой, да в уголку щупались да хихикали, даром, что она - французинка, а он - калмык скуластый.
Бубнил простуженный казначей дробно, будто над покойником:
"...Юбка парчовая золотная по красной земле с кружевом серебряным. Сто рублев. Двенадцать пар чулков шелковых. Двадцать четыре рубля. Три дюжины сорочек немецких дамских. Сто двадцать рублев. Русского полотна штука. Пятьдесят рублев. Восемь простынок рижских, средних и больших, тридцать рублев. Ниток голландских четыре дюжины мотков. Четыре рубля. Шкатулка ореховая из Амстердаму, в оправе медной, с выдвижными ящиками и музыкой. Сто рублев. Да еще сверх того денег три тысячи рублев..."
Ласково взял Кавалер Аннушку за пясти и увел вон из зальца.
Тайком пробирались дети по дому, в задние комнаты, где никого и ничего нет.
Дальняя камора, теплая диванная, в нишах на лежанках подушки накинуты, накалена докрасна приземистая печка. Часики настольные с гречанками бронзовыми тонко вызванивали четверти.
Здесь сели порознь, стали руки дыханием отогревать, мышка в углу плинтуса грызла, на камине изразцы голубоватые дымные потрескивали гончарно и нежно.
Пылью пахло, розмариновым курением и кислыми яблоками. Один шандал пятирогий, чудо-деревцем догорал на окошке. К концу свечное пламя высоко взметнулось, каждую щелку видно, за цветным окном тесного переплета лепетал дождь новорожденный, сумерки на цыпочках по половичкам крались.
Кавалер тихо дышал, будто и не дышал вовсе. Смотрел в угол запечный неотрывно.
Не выдержала Анна одиночества, да жесткости платяной, шмурыгнула носом, уронила чужой веер и личико в коленки уткнула. Ничего не хочу, никого не вижу. Мне и так хорошо.
Робко подергал ее Кавалер за рукав.
- Пойдем смотреть - и в угол потянул, будто было там что невиданное.
Пошла.
Вместе на пол в углу голова к голове легли, щека горячая - к щеке холодной. Дышали дети.
Молча показал Кавалер на гвоздь, в паркетную доску вбитый, видно расшаталась доска, так и решили ее укрепить.
- Гвоздь. - сказала Анна. И шляпку холодную, круглую с насчекой потрогала мизинцем.
- Не простой гвоздь - ответил Кавалер - Пятый Гвоздь. Пять гвоздей выковали палачи римлянские, два - в ладони, два в ступни, пятый - в сердце Христово неповинное. В ночь перед казнью крестной очнулся Пятый Гвоздь, не захотел крови Христовой пить и взмолился Господу.
- Господи, не хочу я больше быть Твоим гвоздем. Останови меня, Бог.
Удивился Господь, молитве гвоздя, руками развел.
- Ничего не могу Я поделать, если гвоздь гвоздем быть не хочет. Будь по твоему, не будешь ты гвоздем, а станешь круглым столом. Утром все четыре гвоздя злодеи вбили, а пятый забыли. Вот тебе, Анна - круглый стол.
Присмотрелась Анна, угловой тонкой пылью и паркетными мастиками дыша, и впрямь, не шляпка гвоздя, а будто столик кукольный. Клонило Анну в сон, и хотелось Кавалера по щеке погладить. Подумала и провела вслепую пальцами от скулы к губам, а он только глаза прикрыл и зашептал быстро:
- И с тех пор сидят за круглым столом, за Пятым Гвоздем друг против друга Маленькая Большая Женщина и Маленький Большой Мужчина, а меж ними - чарочка чеканная из Златоуста и свеча венчальная. Видишь?
- Вижу, - ответила Анна, слезилось ей, лучились последние свечные отблески, и точно - сидели за круглым столом Мужчина и Женщина. Оба в парче, в турецком золоте да стеклярусе, в кистях киноварных, будто рождественские золоченые орешки и фонарики. Он при шпаге с узорным эфесом, орденские звезды на груди - самоцветы, диаманты да финифть. Она в фижмах, в малинских кружевах, прическа башенкой, как прабабки нашивали. В ушах и у нее и у него - жемчужные серьги-капельки дрожали. Грудь и у него и у нее бугорками припухла. Смотрят мимо, улыбаются наедине Дама с Кавалером, лунной водой полны манные ладони. Никогда не встретятся, не расстанутся вовек.
Когда нашли детей, спали оба, в углу свернувшись. Сплели пальцы, где нареченный, где нареченная, не разберешь с первого взгляда.
Оплыли огарки в шандальных чашках, на подоконник накапал чистый воск.
А в пустой зале, где на полу осколки да объедки деваха в совок заметала, дочитал роспись казначей пьяненький ни для кого:
"...Даем сверх того вотчину в Пензенском уезде, село Дмитриевское, в ней мужеска полу пятьсот душ с помещиковым двором и с винным заводом и с мельницами, с которой вотчины и с оных заводов получается в год доходу безобманного шестьсот рублев."
С той поры Аннушка часто ложилась на пол в диванной, пристально смотрела на гвоздь в запечье, проверяла - гвоздь, как гвоздь. Кованый грибок. Шляпка холодная. Все пропало. Нет стола, нет Мужчины и Женщины. А когда редко привозили в гости Кавалера - вот он - и стол именинный, и застольник с застольницей, как китайские рыбки, из песочка золотого сотканы, пересмеиваются сквозь сон. Братьям рассказать не решалась, еще на смех поднимут, будто под сердце ей родинкой пятый гвоздик своевольный вбили - и щекотно, будто ссадина, и тепло, будто лампада страстная простого стекла.
Батюшка Борис Шереметьев, нарадоваться на дочку не мог, смирнехонька стала, кошек не будоражит, с братьями не егозит, приняла душа отцову волю, все справлялась о суженом, когда снова привезут.
Не о суженом скучала Анна. О подружке единственной. О Кавалере.
Сумрачная подружка, девочка чудесная, как в зеркале муранском, волнистом, в полночь при воровской свече отраженная. По осени грезится невзначай девочка, сестричка тайная, всегда издалека, никому о ней рассказывать нельзя - иначе рассеется, осядет, да растает, как снегурка, сквозь пальчики утечет молоком. Обо всем с ней можно побеседовать смутными окольными словами, а она в ответ протянет холодные пальцы, сплетет с твоими и слушает, слушает, никому секрет не выдаст. Льется локон на висок, над губой - лукавинка, нарядили в шутку мальчиком, поставили в пару, полонезы и гавоты жужжал под сурдинку на хОрах крепостной оркестр.
Учинял для дочери батюшка детские вечера, чтобы училась Анна гостеприимству и вежеству, братья, что помладше, крепыши, горлопаны, носились взапуски, девчонки по углам из себя корчили всякое, в дамки метили, в нос по-французски лопотали мартышечки. Веселье коромыслом, орехи в меду, игры русские, в бочоночки, в фанты, в "кого люблю, того не знаю".
- Что велено сему фанту?
- Велено жить долго, и нас, грешных поминать!
Хорохорились мальчики, манерничали девочки. Подружка Аннина не чванилась и не кривлялась. Мерещилась печально.
Зажмуривалась Анна, вспоминала, когда ей еще "так" было, как с ним. И вспомнила.
В сочельник, когда до первой звезды не вкушают, запирали Анну - малолетку в музыкальной комнате, за окнами синева зимняя сугробная, московская, полоска света из-под двери. На нотном столике, поджав ноги, сидела Анна, маялась, гадала - родится Христос в нынешнем году или передумает. Под ложечкой с голоду сосало, угостила нянька с вечера морковным пирогом - а больше Христос не велел. И ожидание, предвкушение, канун праздника, так, что на хребтике детском неокрепшем пушок дыбом топорщился и дышать страшно. В больших комнатах наряжали елку до потолка. Нарочно надели домашние мягкие туфли, чтобы не топтать, волхвование зимнее не спугнуть. Паче праздника - навечерие, трепет ожидания, присказка.
Так же и в тот год было, когда Иосиф Песнопевец матушку в мешке унес. В сочельном покое заперли Анну, не давали смотреть. А в большой комнате обряжали матушку в смертный холст, мыли добела, повивали лоб выпуклый молитвенной лентою, отбивали можжевеловым дымом тленный запах.
Наряжали елочку, обряжали матушку.
Вот так было Анне с подружкой суженой, с Кавалером, всегда - тайна, преображение, канун светлый, несбыточный, предсонье сердоликовое...
Где канун, там и праздник. Где праздник, там и будний день. Годы шли, как заведено.
Уже не дети, а недоросли со щеголихами встречались на шереметьевских вечерах. Московские барышни завидовали Анне и тайком и по-белому. Счастливая, все ей открыто - и батюшка ее не в строгой узде держит, и замуж пойдет за желанного, и жених на Москве - из завидных, многие по нему вздыхают. Даже на Святочной неделе никогда не гадала о суженом Анна, ни по зеркалу, ни по гребешку, ни по черной курочке.
Незрелые юноши, напомаженные и разодетые по последней моде, выступали по паркетным "елочкам", словно аистята голенастые, в сопровождении французских гувернеров трехтысячных, всегда под мухою, чернявых да носатых, которые следили за поведением дебютантов, приличные темы для бесед подсказывали, да на каждый шаг шипели "так негоже", да "вот эдак извольте поступать".
Читали вслух полезную книгу "Грациан или Придворный человек", еще при веселой императрице Елисавет писанную, обменивались советами житейскими, лживыми:
"Когда ты в компании, думай, что в шахматы играешь. Благодарность скорому забвению подлежит и весьма тягостна. Шутками наибольшие правды выведаны"
Кавалер к обстоятельным советам был равнодушен, лишь с одним согласился:
"Больного места никогда никому не кажи".
Четырнадцатое рождество встречала Анна. К зимнему домашнему празднику устраивал всякий раз батюшка удивление гостям - то живого арапа в чалме кумачевой на осляти посадит волхва изображать, то прикажет на голые ветки яблонь и груш садовых оранжерейные плоды серебряной проволокой прикрутить - не могли угадать ни гости, ни домашние, что на сей раз барин выдумает.
И верно - послал всех по разным тропам в олений гай, что за оградой якиманского дома, искать настоящее Рождество. Пробирались притихшие по-двое, морозный наст скрипел под каблуками, извилистые тропки назойливые кружева плели - и света домашнего уже не различить. Подобрав юбки, шла Аннушка, хмурилась - с утра нездоровилось, сводило бедра, все сердило, за что ни возьмись. Хорошо, что рядом подружка верная, безответная исповедница. Вел ее Кавалер под локоток, в хрусткую темноту, где снега искристые, где Москва досыта, до смерти спит, все никак не выспится.
Вдруг затеплились меж стволов печальные светочи. Лунное парное маревце над сугробами поплыло, ширилось сияние - золотые копья ограды выявились. Анна вскрикнула. Остановилась.
Неужто погост, а на погосте свечки кладовухи горят, и стоят в белом до полу Те Самые.
И матушка с ними без лица.
Да воскреснет Бог и расточатся врази его.
Оттолкнула подружка Анну назад, за спину. Выступили ловкие жилы на ладони - уронил Кавалер перчатку в снег.
- Я один пойду. Посмотрю. Стой здесь. - будто замок лязгнул, с хрипотцей, разве так подружки разговаривают?
Лихо скинул разузоренный тяжкий кафтан на яблоневый сук, в рубахе да жилете длиннополом, посигал сапогами по целине, придерживая эфес бальной испанской шпаги.
Стояла Анна в снегу слепая, будто обокрали ее и оставили.
Подвело низ живота меж бедренных косточек, затянула мутная подлая боль. Мутороно, Господи. Кто со мной сегодня?
Скрипнули ворота, заскребли по наледи.
- Анна, Анна! Мы нашли Рождество! - крикнул Кавалер счастливый, взмахнул рукой - вся куафера мудреная по плечам рассыпалась - над губами парОк взлетел.
А за его спиной, за высокими сквозными воротами, икарийскими крыльями - пригорок пленного оленьего гая вздыбился. На белом пригорке - глазом не осилить красоту, расставлены домики снежные, с маковками да флюгарками, с окошками и крылатыми крылечками - мельницы, церковки, палаты, гостиный двор. Не сосчитать - сколько, вся Москва из снега выстроена и в каждом домике горела рождественская свеча, тонким светом, янтарем- яхонтом полнились наливные снега. Свет невечерний.
Без сердца вошла в ворота Анна. Ни слова не говоря, погуляли между снежными домиками, узнавали. Вот Белый Город, вот башни - Набатная, Водовзводная, Благовещенская, Кутафья, вот Константино-Еленинская, вот Безымянные - две сестры, вот Боровицкая с мостом и воротами. Успенская звонница, Чудов монастырь и Вознесенский и много, много иных, всей красоты на Москве и не расчислишь.
Так и странствовали подростки в Москве снеговой по пояс, стеснялись поступи великанской. А весной все растает.
Холодно. И горячего выпить хотелось, в горле першило.
Добрели до вершины холма, где перед беседкой Венериной папенькин кобель Любезный погребен под колонной. Опушка гая маячила за решеткой. Круглый летний стол под ивами поставлен. Лавки заиндевели. Сели друг напротив друга - Анна и Кавалер. Глазами не встретились. Кавалер нашелся, вынул из сапога высокого плоскую венгерскую флягу с кистями. Сначала сам отхлебнул. Любезно подал Анне. Она бесстрастно пригубила - и ожгло губы едкой перцовкой, точно прачечным ключевым кипятком.
Как во сне скверном, простудном, поняла Анна: нет и не было никакой подружки, сама, дура, нагадала ее, намечтала, наколдовала, как на пяльцах незримых вышила по своей прихоти фальшивым золотцем да серебрушкой.
Есть мужчина. Кавалер, он на погост идти не боится, и от Тех Самых и от мертвой мамы сбережет. И воскреснет Бог и расточатся врази его.
Сковала нёбо полынная тошнота, крепко сжала круглые колени Анна, поежила плечико, первая звезда над головой остекленела, маленькой Богородицей босоногой.
Уже все ей старухи нашептали, как оно бывает, но не могла понять Анна, как так можно... Церковные венцы над головой шафера держат, рушником запястья вяжут, вкруг алтаря обводят. Внезапно свет пиршественный гасят, и даже батюшка, перекрестив, оставляет одну.
А потом в темноте чужое, мясное, твердое, идет в целое в тесное, в кровяное и надо будет кричать сквозь зубы, в постельную изголовицу ногтями впиваться. Наутро простыни развернут - покажут родне невестины пятна, а потом и на балкон вывесят белье, будто для просушки, пусть все смотрят и головой кивают: Добро. Соблюдали целку до венца".
Будто угадал Кавалер обычные мысли.
Так чуднО головой покачал, обещал: "Быть нельзя, Анна"
Балуясь, встряхнул ивовую ветвь над бедовой цыганской своей головой и осыпался снег бисером сонным из Самарканда-города. Занавесь прихотливая, снежная, сыпучая разделила Анну и Кавалера.
Когда очнулась Анна Шереметьева - никого на том конце круглого стола не было. Только цепочка следов щучьей чешуйкой по холму вниз чернела, торопился мужчина исчезнуть, не попрощался.
В одиночку вернулась Анна домой. Не на своих ногах добралась до детского запечного угла.
Посмотрела на Пятый Гвоздь. Прикусила большой палец. Как же это может быть? Сволочи.
Раззявилась из паркетины свежая дырка. Сосновой смолой и воском тянуло из пустоты.
Сурово кликнула Аннушка девку,
- Здесь был гвоздь, отвечай, куда дели!
Забожилась девка с перепугу:
- Не браните, барышня! Давно выдернули клещами, очень гвоздок подметать мешал, ей-Богу!
- Пошла вон, - устало простила Анна. Одна у печки присела на корточках.
Неможется. Господи, когда ж это кончится, все опостылело, ломит голову, что со мной?
Сунулась под четыре крахмальные голландские юбки. Провела меж стыдными губами пальцем, будто себя зарезала посередине, и молча увидела, как по ладони впервые алый кровяной мазок взрослыми сгустками расплылся. Прижалась звенящим виском к краю печки и спать захотела.
Под веками ласково красный снег рассыпался завесой. Месячная ночь.
Хорошо, Господи. Надёжно. Все, как Ты хочешь, началось.
Глава 9
Иисус Христос у ворот стоит, с хлебом, с солью, со скатертью, со скотинкою-животинкою, слава Дево, слава, радуйся! Летит сокол с башенки, соколинка с высоких палат, сизые крыла сочетают, птицей четвероглазой становятся, единой плотью вдвоем. Идет Смерть по нашей улице, несет иглу острую, в зубах молочных кольцо обручальное, за пазухой блин горячий, Христу кланяется,в окна пальцем грозит, соколов в подол берет, швы распарывает, тело рвет на лоскуты, никого не милует - кому вынет, тому сбудется, кому сбудется, тому не минуется.
Созрела пресненская осень, пожарный урожай никем не знаемый собрали, холостая зима к Москве семихолмной посваталась, Иван Великий с поклонным подарком пришел к Сухаревой башенке - все сломанное срослось, все задолженное - выплакалось, все обещанное в тонком сне привиделось.
Жимолость, черемуха, верба и персидская сирень закричали без цвета и листвы по садам, обнажились до костей алые кустарники. Вороны взлетели над колокольнями и повисли в высоте снеговой крест на крест с охриплым граем.
Тяжеловозные колеса в расступице завертелись, жернова мельничные мололи медленно и перемалывали все, на ноги поднимались новые чужие дети, хлыстовские полосы рассвета на востоке восставляли из праха три города, а четвертому не бывать.
Приезжали к Анне чаевничать случайные подружки, желчно хвалили мебельную обивку и наряды, зеркало туалетное ливонской работы, да горностаевый палантин с хвостиками, женихов последний подарок.
Уж такие милостивые и добросовестные советчицы, что и копеечку задолженную вернут и мушку полудохлую в форточку с нравоучением отпустят, и мураша раздавленного оплачут, но взамен будут знать, кто Божий, кто не Божий, кому в раю духовные канты петь, кому в аду черным смрадом опозорят, кто в пустоте и бесславии трын-травой из собственных костей прорастет, кого и Господь за трапезой отрыгнет, не помилует.
Повзрослела Анна, стала неулыбчива, рассеянно каштановую косу против желтого оконного света заплетала, подруг слушала вполуха, что они там мяукали, хрустели бисквитами, сдобные патрикеевны замоскворецкие, отцветшие до срока сплетницы, сводни и грязнобайки.
Слишком рано поняла Анна неладное. И не хотела слушать, а слышала.
Трепались о Кавалере, все, кому не лень было губы разомкнуть.
Всколыхнулась зыбуха, болотная, деревенская зырянская грязная дюжина - Москва-теснина, угрофинская Макошь. Заковыляли весело мертвые переулки, собачьи площадки, разгуляи и сетуньские станы хитровывихнутые, светелки шерстопрядные, сраные теремки, христорадные просвирные пекаренки, кладовки затхлые да девичьи комнаты, что лет двести в полусне пыльном простояли.
Бороды псивые, царским топором не дорубленные, затопорщились; червивые скуфьи монашенок мирских полиняли. Паучихи, постницы, сухопарые сидодомицы загоношились, забулькали масляными голосами. Любит Москва с пылу-жару сплетенку, язык не лопатка, разведает, где кисло, где сладко, кто с кем на сеновале сговорился, кто потом дитя качал, кто о том молчал.
Околесицу несли москвички-лисички, как язвенную заразу с целованием, от крыльца к крыльцу.
За кого ты замуж собралась, Анна, Анна, опомнись, не плачь, охолони, откажись, на "нет" суда нет. Слепа ты, Анна, молода-зелена, где он твой Кавалер, кому ручку целует, на кого персидскую бирюзу очей своих тратит?
Нет его больше среди люда крещеного, и память о нем непристойна, прислуга врет, что по щучьему велению, обновилось лицо его, будто старая кожа сошла в одну ночь, прославилась северным сиянием по всей Москве красота беспокойная.
Не смотрит под ноги Кавалер,по-людски не кланяется свысока старшим, нам-то, посторонним, на него засматриваться боязно - а каково тебе будет, на рассвете с ним одну подушку делить? Господь человека в последние времена преисподней красотой карает, ты не выдержишь с ним, рудой истечешь, черной сухотой иссохнешь, как головешка, а он переступит, он дальше пойдет, на тебя, Анна, не оглянется.
Отказала подружкам от дома Анна. Велела рабе комнатной каждой сплетнице напоследок подарить полотенце из приданого сундука.
Утрись, Москва.
Не поверю, пока сама не увижу. А сама увижу - не поверю.
Глубокие придворные реверансы разучивала Анна перед ростовым зеркалом в материнской спальне, где со смертного дня белье не перестилали и не проветривали. Даже собачонку фарфоровую с ночного столика не убрали, вот протрубит Михайла, вернется матушка, что ей скажем? Что юбки и безделушки ее по неимущим роздали, что лишний стул от стола отодвинули, блюдце и столовый прибор в людскую отдали. Как же мы тогда перед мертвой матушкой оправдаемся?
Пресненской осенью постарели в шереметьевском доме стекла оконные, посуда повседневная и праздничные хрустали, будто сглазили.
Чертила Анна в одиночестве ногтем отображение свое по домашней тонкой пыли на зеркале - брови, скулы, зрачки, окоем подбородка, излуку невеселого рта.
Без умысла ставила точку над верхней губой слева.
Будто и не себя очерчивала. Отвернувшись отчаянно, всей ладонью смахивала нарисованный образ.
- Снег! Первый снег! - с утра перекликались домочадцы на дворе, поздравляли друг друга с первой порошей в этом году, козьего пуха варежками хлопали по плечам, шоркали по наледи скребки дворницкие, так зима началась.
- Слава Богу. - самой себе сказала Анна, не просыпаясь в двуоконной девичьей комнате, на груди - фамильный образок, руки сложены, как у отпетой, близорука стала, как подросла, снежная слепота застила малахитовые незоркие глаза.
- Дожили. Если снег, значит - чисто. Ночью будет светло.
Всю осень да ползимы не виделась Анна с Кавалером.
Быстро отпраздновали Рождество, не запомнила ни подарков, ни иллюминации, ни хвойного запаха, ни желтого цитруса на белом столе. Покатился фрукт заморский и упал с угла, кислым соком в очи брызнул, старший брат по скатерти вино разлил - будто по всей Москве Рождество в красном кафтане из Красных ворот по красным дорогам босиком побежало и на заставах остыло. Рождество в одежке рыжей - суждено пожарное лето.
Святки!
Бессовская неделя грянула в россыпь, разгорелась, как спирт. И нищий кубышку разбил, чтобы отпраздновать. Жженкой, гвоздикой, ванилью, арабским кофием и картежным пуншем со всех дворянских хором понесло.
Сытного кесаретского поросенка Москва съела, обсосала косточки. Скорый пост закончился, жирное разговение с жару понесли на сковородах.
Полосатые версты замело наискось. На северном ветру город горел ледяным огнем, чистым сечением золоченых звезд колядных. Паперти опустели, пасеки монастырские в сон беспросветный впали, на Красных воротах праздничный базар лотки расставил, торговали дотемна пустяками.
Солнце два часа в день прожигало пустоту небосклона. Народился Сын Господень, в облаках несли подарки халдеи-волочебнички, в небесах фонарь держал им в правой ручке Отец.
Снегопады сменялись просинью хрусальной.
Себя не помнили московские обыватели, маскарады устраивали, рядились мужчины в женское, женщины в мужское, коза в медведя, медведь в козу, стелили овсяную солому под скатерти на счастье, коровам в хлевах на окраинах сухие венки из бессмертников и вереска повязывали, чтобы доились, чтобы телят от сосцов не отталкивали.
Верный признак - если матушка-корова ударила первенца рогами и молока сосать не дала - суждена война или разлука. Не суеверствуй, Москва, пестрая коровушка, не пророчь беды, слышишь, брешут псы из подворотен, рысаки строптиво ступают по Тверским досточкам, островом ты стала, град безмолвный, град холодный, сорвали с тебя венец свадебный, столичный, спасибо - так голове легче, не дай Господи, назад тебя, Москва, царстовать позовут, как мы тогда перед тобой оправдаемся?
На кухне господ Шереметьевых взвар кислосладкий варили из инжира, пальчиков финикийских и райских яблок. Ромом сдабривали сладость горькую.
Посулили Анне на Святочной неделе скороспелое веселье невестино, обещался жених быть, а батюшка со свекровью будущей улыбались, довольно Вам, ровесникам, по холостой воле ходить, уж и венчание заказали, икону к случаю в Андрониевом монатыре зограф болгарский пишет для вас - Пророчицу Анну, Христоприемницу, чадолюбицу, и Николу из Мир Ликийских, на одной доске, щека к щеке, ладонь к ладони. Византийской темномедовой живописи.
Анна-пророчица у очага дитя нянчила и в окно на дорогу выглядывала - не идет ли единственный, в снегу по пояс, седой до срока, пути не знает, варежки потерял.
А Никола странников и грешников безвозвратных берег, к теплу и спасению выводил на ровный северный наст.
Поедем Анна, кататься. Чем еще заняться на червонной Москве, если целоваться недосуг.
Прадеды с прабабками святочное катание благословили, в Орловском Нескучном саду, в Сокольниках, в Царицыне, проклятом месте, по предместьям да выгонам.
Много соблазнов на Святки - на все поглазеть охота, народец непутевый на улицы повылез, легкий товар повынес, пьяненькие шатались по деревянным мостовым, красные носы, бубенцы, ленты, грешнички на морозе, постным маслом политые, раскаление и балагурство.
Пряничники, сбитенщики, старухи-плясуньи, питейные шатры, увенчанные зелеными кудрявыми елками и потешными двухвостыми флагами, ледяные горы Воробьевы, клюква в сахаре, что угодно для души.
Швейцарец в женской шляпке показывал пляски курьезных мосек, француз- пройдоха привез с острова Мартиник дикого человека, и брал за смотрение целковый.
В палатке у храма Ивана Воина палатку француз поставил - дотемна толпились раззявы - в полутьме не то мужик, не то еловая шишка, и все то бродил сутуло, все то вздыхал, кашлял. Сырой курятинкой в пере, бывало, пообедает, и снова из угла в угол мается. Все ему не то, ему бы обратно на свой Мартиник, но нельзя, надо людям московским смех и любопытство делать.
На Тверскую стравуса доставили прямоходом из Африки, бегал стравус скорее лошади, на бегу булыгы ногой ловил и назад кидал, глотал залпом железо, разного рода деньги и горячие угли, у латиниста Еременки из Воспитательного дома на спор ужрал карманный хронометр с репетицией и по сей день не отдал. Маленький безрукий человек Павло Выкрутас, карла Черниговский, зубами кисть держал и картины на снегу рисовал, да так верно, что всяк свою персону узнавал. Снег не таял, только горел на сухом морозном солнце, карла плакал, рисовал Москву, зубы стискивал, а рядом вращала свои колеса судьбоносные, неумолимыми письменами испещренные Настоящая Машина Оракул.
Кричал сорванец-зазывала против ветра, что в Мещанской улице ученая лошадь Машка своим искусством поражает, до пяти считает и всегда угадает, чья жена не чиста сей ночью была.
Весело.
Санки беговые, двухместные запряжены были чубарой парой рысачков-катырей, вскачь не ходят, рысью машут, как полотно меряют, на крупе клеймеца затейливые выжжены - коня от коня не отличишь-близнецы, головы высокими перьевыми султанами украшены.
Санки внутри шерстяным бархатом обиты, отделаны пышно, с бронзы, с янтаря балтийского, оба полоза летучих сходились высоко и радостно. У кого - голова Горгонеи Медузы слепая, у кого - амур с колчаном, у кого - медведь с ушами сквозными для пропуска вожжей.
А на наших санках, Аннушка, краше всех - птица Сирин, исполненная очей, золотые мокрые власы по плечам, груди круглые полны зимним молоком, венец остробрамский на челе, крылья стоцветные раскинуты, в устах продух сделан со струнами - для ветра.
Взвизгнул возница, хлестом бросил санки в лёт, полетели санки на Москву, завыла эолова арфа в устах диво-птицы, да так, что снега с высот древесных осыпались звездопадом, солнцем зрение пронзено, кони приложили уши, озлились, стали змеями, кровь в щеки бросилась, сжались добела кулаки - быстро, слишком быстро земля из под ног ушла.
Припекло сердце под ребрами, теперь только кричать, только лететь, ни о чем не думать, во мглу, в святки, в скрип насаленных салазок, в московскую стоглазую пустоту.
Бросили Анне и Кавалеру на плечи шубы розового камчатского соболя и темной бурмитской белки, грели руки молодым одинаковые муфты-маньки, пуфы из подпушки ангорской козочки.
Сам Кавалер чубарой парой по легкому льду правил. На запятках егерь держал по ветру факел-негасимку, и в два пальца присвистывал.
Птица Сирин выла по-вдовьи, оглядывалась на ездоков Москва и крестилась в страхе.
Оцепенела Анна на мягкой барской скамье.
Не узнавала Анна Кавалера.
Перекрасила пресненская осень жениха, переломала, как паяца бескостного, изнутри выгрызла.
Не солгали сплетницы - нечистая красота пятнами на его лице проступила, из поддельных румян - собственная кровяная краснота на скулах расцвела. Дурной гость посетил шереметьевский дом, чулки шелковые со стрелками, башмаки на розовых каблуках с большими пряжками, имел при себе лорнет, по нескольку золотых табакерок с анакреонскими непристойными миниатюрами, на пальцах множество перстней, в руках - трость, иначе на женских каблуках да по вощеному паркету не удержаться было. Сукин сын.
Парик распудренный, наглая шпажонка с золочеными изяществами - не оружие, а привеска дамская, сердоликовые брелочки на часах, французский камзолец тесный со златошвейством, на одежде - золота, что у миторополита на ризе, без парадных галунов, моя душа, душа чистая, в свет и не покажешься. А на крепостной вышивке все хмель да вьюнки, ветряные мельнички да зодиаки. Сукин сын. Говорил развязно, будто загодя отталкивал, будь умницей, Анна Шереметьева, разуй глаза, не ходи за меня, Москва зря не оговорит.
Закинул ногу на ногу, развалился в креслах, почти лежал, сделай это другой - невежливо вышло бы, а Кавалеру все к лицу, в каждом жесте грация да прелесть читалась. Улыбался. Сукин сын.
Говорил сладостные слова.
- Есть такое лакомство, голубушка, в Париже называют его Roti a l"imperatrice .
Возьми лучшую мясистую оливку, вынь из нее косточку, а на место ее положи кусочек анчоуса, начини оливкой жаворонка, испеки, заложи в жирную перепелку, перепелку в куропатку, куропатку в каплуна, каплуна - в поросенка, изжарь поросенка до румяна. И все оболочки выбрось псам. Оливочка, напитанная соками земными и снадобьями и есть истинный деликат, не многим достается, вот так я и хочу жить, не жить, а в ы ж а т ь, досуха выжать, до седьмого пота...
И так кругло говорил - будто маслинку изысканную меж пальчиками тискал, пока масло не брызнет в уста.
Летели санки-бегунки в Кусково припеваючи под бичем.
Привставал Кавалер, опасно вожжи на запястье наматывал, лихачил на поворотах, останови нас, Господи.
Пруды замерзли, до весны не вскроются. Ельник зеленью сквозь снега благовестил опечаленно. Конские следы серповидные все тропки в лесу отметили грош-копеечками. Красный голландский домик черепичные скаты над гладью ледяной склонил, белогрудые девки сфинксы-привратницы, эллинка безголовая в колоннаде.
Огни, огни дневные цепью китайской на липовой аллее расточительно горели.
На большом пруду каток расчистили и залили. Посреди катка - ивовый насыпной островок. Скамьи по краям с гнутыми покойными спинками.
Одними глазами спрашивал Кавалер на лету - Марья Моревна, якиманская королевна, хочешь буду с тобой всегда, закую босые ножки в алый сафьян, проведу иранской хной, что ценится по тыще на золотник, по твои бровям, поведу под белы руки, лебедушку, суженую, ряженую, в порфирные анфилады, и будут обдувать нас тяжелые имперские снега, под которыми и родного лица не различишь. Сведу тебя за руку из саней на неверный лед, под стопы брошу хорасанский ковер с именем Пророка, унизана упряжь чудо-коней бубенцами из волшебной страны Гюлистан. Хочешь - сбудется. Взамен - откажись.
Сорвались лошади в смертельный галоп и стали, еле дыша, струнными ножками в перебор, смертный снег взрыли.
Здесь.
Острый конек амстердамский, на скамье сидя, примеряла Анна к белому мягкому сапожку равнодушно. Кавалер, как всегда, отворачиваясь, затягивал ремешки на голени невестиной. На треуголке яшмовая застежка тлела волчьим оком.
Чертили муэдзинские узоры красивые конькобежцы рука об руку. Много фигурок на льду резвилось - красные, синие, зеленые, долговязые тени на катке перепутались стрекозами. Кто падал, оскользнувшись, кто в снежки с озорством баловался, молодым смехом наполнили Кусково пары -шерочки с моншерочками, снег испестрили, яблоки зимние грызли, лёд лезвиями изрезали, в гроте целовались, смяли под мехом малые груди сверху вниз.
Далеким хором колоколен напоминала о себе Москва.
Оранжевое несносное небо над кованой оградой металось, громоздило вековечные вьючные облака, молчало в кровоточивости вечерней.
На острове белели фартухи холуев расторопных, дичь жарили на корице и гвоздике вместо дров, на пылком морозе расставили таганцы, варили пунш и глинтвейн.
Накаталась досыта Анна, закружилась голова, и близко померещилась черная подледная водица, Анна обронила муфту и в общей веренице потеряла спутника. Еле-еле сама сняла коньки, побрела на остров.
И нашла Кавалера, там, у жаровен.
Стоял он на ровном убитом снегу, простоволосый, закраснелся лицом. Жирно горела жаровня, шипели на угольном пылу мясные куски. И пепельные хлопья летели ворохом в небо.
А Кавалер эти пепельные хлопья ловил в ладонь и скалился от удовольствия.
Глаза лубяные, оловянные, пустые без отсвета. Когтистые глаза, наизнаку вывернутые. Смотрит - будто только свое видит. Пепельные хлопья - хвать-похвать. Пальцы будто жвалы паучьи - тесно смыкались щипцами акушерскими.
Испугалась Анна, отшатнулась. Окликнула его по имени. Не услышал. Хапал пепел. Отошла прочь Анна, будто запрещенное подслушала, отерла чуть не до крови глазетовым подолом лицо, не мешала ему пепел ловить, застыла в тошном оцепенинии. Небеса на снег повернулись - посыпался мягко из высоты снежный - высеребрило карминную пелерину Аннушки, колпаки лакейские, конскую сбрую, вороньи гнезда в пустом саду.
Дома под утро заснула Анна.
Увидела.
Золотая ограда, а узоры все грустные, райские глаза да больное виноградие.
За оградой - зеленый сад. Полутемно в саду - все заросло, без хозяйского взора: мшаники, плевелы, грибы слизневые, ползучие ядовитые муравы и ночные цветы-дурманы.
Еле-еле пробивалось солнце сквозь густую резную листву.
На лысых валунах сидели змеи и ящерицы, пили солнце, раскрыв пасти, и грелись. Знала Анна, что солнце красное сосать - перед Господом преступление.
Бродила Анна по сонному саду босиком, без пояса, в посконной рубашке до земли, как мужичка, тосковала, искала пропажу, а найти не могла. Раздвигала рогатым прутиком мокрые травы, висячие лозы, крапивицу могильную в рост. Пахло в ответ так, уж и не поймешь чем, сладко и жутко, не садовые ароматы - а будто франты душатся - привозными снадобьями, дотошно знакомый запах.
Большая пропажа у Анны во сне. Одна надежда - на рогатый яблочный прутик, может быть воду искала, давно батюшка хотел новый колодец рыть, старые то все повысохли, лягушиной икрой запакостились.
Бросила бы все Анна, бежала бы из сада без души, а нельзя - на воротах башкир сторожил в войлочной шапке, и у башкира - нож в сапоге, а рожа косая. Одним глазом башкир дозорничал, вторым - спал.
Ограда высока, узоры частые - не перелезть, не протиснуться. Зелень так растет и растет на глазах -как наяву не бывает - тут усик завился, тут отросток землю вспорол, там почка лопнула, а прямо - кусты стеной поднялись - колючие - и все смородина, гроздями перепуталась - манили из темноты зеленой духовитой ягоды - красные, белые, черные.
Жестоко жаждала Анна, на языке плохой желчный налет, смородина в рот так и просится, щекотно даже - взять бы красную гроздь, окунуть в губы, да сорвать круглые ягоды, раздавить кисленькие, вынуть вон пустую веточку с черешками.
Но нельзя ягоду брать - в колючих лозах сидели звери.
Орел подстреленный, телец заколотый, лев курчавенький, медный лоб, будто не живой, а из плюша нарочно сшитый. Смотрели звери на Аннушку, молча, не мигали. У зверей под армянскими древними излуками бровей мерцали глаза человеческие.
Анна во сне силилась вспомнить - чьи глаза и не могла.
Шаг. Другой. Просвет. Вынрнула Анна из орешника и обмерла - лужок круглый перед ней открылся, проплешинка, напоследок солнцем залитая.
За оградой, за земляным раскатом сада текла кольцом замкнутая безобразная Яуза, несла коромыслами мосты горбоносые, на вязком чугунном плесе плыли краснобокие яблоки - подавилась яблоками Яуза.
А на том берегу Андрониев монастырь по колено в живом городе тонул, солнечные маковицы с крестами ослепили Анну.
Знакомое место - вся родня в подполе холодном у пят Андрония от века лежит и матушка.
Нет, не лежала матушка, встала, на костяных ногах полезла на колокольню, на голове голой - косынка черная в белый горох, какую никогда матушка не повязывала. К крестовому оплечью примостилась покойница и махала ручкой - остерегись, не ходи по саду, не смотри, дочка!
Пошла и посмотрела.
На травке гусиной лежала белая рука - от локотка отсеченная, пальчики маленькие, девичьи, и на безымянном - свадебный перстенек. Ногти посинели. На отрубе - косой скол кости торчал.
Рогатый прутик в руках у Анны так и завертелся, как живой петрушка, ёкнул и указал находку. Бери. Твоё.
Бросила Анна прутик, подняла с травы холодную руку. Свининкой сырой пахнет. Не крикнула, только щеку внутри прикусила. Понесла. Заблудилась в саду босая, в двух руках третью руку убаюкивала, завернув в полу рубахи - ноги заголились до срама, а ей что - поет, теперь нет стыда - Анна во сне с ума сошла, черным ртом ухмылялась, баю-баюшки, гули-люлюшки.
Взглянула на мертвую руку и улыбнулась. То не мертвая рука на руках ее гнила. То спросонок поплакивал и гулил сын - первенец. На руках у Анны - младенец без пелен баловался. Желанное, негаданное дитя. Чернобровый и горький - в мать, в отца - одержимый, нежный и счастливый. Сызмала в глазницах - синева москворецкая, крымское золото, невского ледостава петропавловское лезвие. Последний сын. Никому не отдам.
В полдень вошла Анна в батюшкин кабинет. Села напротив. И сказала, спокойно, без страсти, как гвоздь ладонью забила.
- Не пойду за него.
Взвился батюшка, Борис Шереметьев, по столешнице кулаком постучал- дурит девка-супротивница, уж все сговорено, все слажено, выкуп приготовлен, кони кормлены, сыченым медом поены, венцы позолочены, наряд подвенечный булавками сколот по талии, а тут - здравствуйте, пожалуйста, выскочила неурочная девичья причуда.
Позор на всю Москву, меж семействами вечная ссора и раздор, и думать не моги, сумасбродка, прокляну.
Молчала Анна. Улыбалась, как усталая роженица, после.
Зеленоватые глазища, виноградные, не закрыла, не отвела, скулы бронзовые ожесточились, откуда бы такие - рассеннно в пылу ссоры подумал батюшка - ах, да, мы же все при ордынской крови, кровь на кровь - брань да смерть, не сольется орда с ордой, выйдет смертное дело, уродилась Анна в мать - нравная и мудрая. Уж давно про себя жалел Борис о сговоре, и женишка-то в стилице не приветили, сызмала в молодом червоточина, и брата старшего, слышно, из фавора турнули, да и родня чванная, скупая да злопамятная.
А ведь права девка. Если бы кричала, слезы точила, ножкой топала, не поверил бы.
Встала Анна. Плечи в сетчатую шаль тесно укутала, концы на груди стиснула. В дверях обернулась и отсекла пресным голосом:
- На косе удавлюсь.
Бояре, а зачем пришли? Молодые, а зачем пришли? Бояре, нам невеста нужна, молодые, нам невеста нужна! Бояре, а какая вам мила, молодые, а какая вам мила? Бояре, нам вот эта мила, молодые, нам вот эта мила. Бояре, она дурочка у нас, молодые, она дурочка у нас. Бояре, а мы плеточкой ее, молодые, а мы плеточкой ее. Бояре, а мы пряничком ее, молодые, а мы пряничком ее. Бояре, у ней зубки болят, молодые, у ней зубки болят. Бояре, не валяйте дурака, отдавайте нам невесту навсегда.
Ранним утром снарядили на вороньем дворе крытый возок, неказистую калмыцкую кибиточку. Поставили в оглобли конька пузатого мужицкой породы, такого бородатенького мохнаяка - который везет не шибко, да увозит далеко.
Как от пожара бежала из Москвы Анна Шереметьева, не следила, какое барахло в скатки да баулы сонные барские барыни укладывали.
Куда Господь пошлет, туда и поеду - в Тверь, в Саратов, в Рязань, в Чухлому, лишь бы подальше от Харитоньева переулка.
Отец и братья средние торопливо провожали, крестили мелко, придумывали, как свадебный отказ преподать несбывшимся сродникам, Анна стояла в сенях, грызла на добрую дорогу черствую просфору.
Села на скамью, резко полог задернула.
Лоб горячий сдавила пальцами. Ёкнул конек селезенкой, тронул рсцой с места, взвизгнули смазные оси, замесили ободья расступицу вселенскую.
Пророчица Анна и Николай Чудотворец на двойной доске запеклись недописанные. Отступил зограф болгарский. Уронил кисти, устал и заснул на сквозняке.
Вся Москва вслед Анне Шереметьевой из лабазов, да келеек девичьими и бабьими голосами запричитала, расстелила стон:
- Ду - ура!
Глава 10
Пошли девОчки завивать веночки. Кто венков не вьет, того матка умрет, а кто вить будет, тот жить будет!
- Ай, русалочки, русалочки, умильные русалочки, правду молвите, какой мерой лен да пшеничка уродятся? По колено, или по пояс?
- По пояс, кума, по пояс, как на жирном погосте.
- Хорошо, хорошо, мои русалочки, нате вам шмат сальца человечьего, подсластитесь напоследок, тем, что плохо лежит!"
Вместо человечьего клали на межах сало поросячье, русалки близоруки - дай-то Бог ошибутся угощением.
С обманными песнями и наговорами по луговинам подмосковным голубым бродили пьяные русальщики, весну хоронили, таскали высоко на оглобле конский череп, взнузданный и расписанный в четыре основных лубочных колера: красным, желтым, зеленым, синим.
Всем известно, что опасны маревные непрочные дни раннего лета, когда травы силу набирают, когда по старым дорогам богомольцы бредут к Сергию, когда петров крест цветет и по сырым оврагам о полночи чудится переливами смех и рукоплеск мертвых девиц-омутниц. Услышит небывалое дело конный или пеший, опрометью побежит, нахлестывает коня без жалости, надвигает шапку на лоб, из последних сил спасает мясо православное.
Но скоро поймет беглец, что как ни рвет жилы, как ни задыхается конь по горло в черном травостое - а все на месте стоит, будто муха в меду увязла - ни тпру, ни ну. Утром только шапку окровавленную найдут на обочине. Покачают головами чужие люди, шапку похоронят, как голову, там же, у обочины глинистой, вечным умолчанием почтят - мол, был прохожий человек, да сплыл, а имя ему Бог веси. На грядущее лето вырастет в овраге черная Папороть Бессердешная. Поделом тебе, беглец - не любо - не слушай. Мало ли кто на поле где лен-конопель, гречиха - ржица, хмель да овес, в сумерки босиком носится, в ладоши хлопает и кличет по-кукушечьи "Ух, ух, соломенный дух! Меня мати породила, некрещену положила!".
Земляника белыми крестиками цвела под Москвой.
В черностойных сырых лесах близ Сапожка и Ряжска, русалки водились целыми гнездами, в Туровском бору нагие русалки скакали верхом на турах и оленях никакой боярин-охотник не смел тронуть нечистую ездовую скотину, потому что везде найдут мертвые девки нарушителя, и мольбу не выслушают, а стальными глазами прильнут к замочным скважинам, окна облепят белесыми ладонями снаружи. после полуночи в горницу проникнут болотным паром и выпьют врага изнутри, через нос, глаза и уши, как гусиное яйцо сквозь скорлупу. Наутро только кожа да кости под постельным пологом валяются, а под носовым хрящиком последняя кровь запеклась мармеладью. Баю-бай.
Русалки восходят из вод на Светлое христово воскресение, когда вокруг церкви обносят Плащаницу.
Тогда не зевай, ключарь, прикрывай двери храма поплотнее, иначе русалки набегут на церковных свечках греться, и крестом не выгонишь, только и останется, что церковь проклятую заколотить и оставить всем ветрам на потребу, иконостас безглазый истлеет, в алтаре вороны насрут.
Все дни у Господа в рукаве страшны, но страшней прочих
Духов День
Вот тут-то русальное шутовство большую силу набирает.
До Духова дня русалки живут в водах и пустых местах, а на Духов день выползают на косые берега, и цепляясь волосами за сучья бурелома качаются, будто на качелях с мертвецким стеклистым клекотом, бессмысленном в смерти:
- Рели - рели! Гутеньки - гутеньки!
Твердыми холодными губами тпрукают, языки проглатывают, беснуются умильные русалочки.
Есть смельчаки - ловят русалок за волосы, волокут в избу, нет живой жены, так нам и мертвая годна. Мертвая жена никому не в тягость, ест мало, все больше питается телесным паром ловца и скоро бесследно истаивают вдвоем. Вот так и стоят по всей России заколоченные крест-накрест досками выеденные избы, никто в них не селится, только на Духов день теплятся в пустоте мертвые огоньки и слышно далеко, страшно и нежно:
-Рели - рели, гутеньки - гутеньки!
Нельзя бросать в воду скорлупу от выеденного яйца: крошечные русалки - мавочки построят себе из скорлупки большой корабль и будут на нем плавать, малявки, притворно глаза слезить, в водоворотах колыхаться, баловаться.
Опасно строить дом на месте где зарыто тело нелюбимого выблядка или иное скотское мертвородье, не будет вам по ночам покоя, возьмется пустота по ночам летать, милости просить, а разве есть милости хоть малость у божьих людей?
Встретится на молодом сенокосе, где горький молочай и медуница и клевер-кашка расцвели голая русалка и спросит:
- Какую траву несешь?
- Полынь.
- Прячься под тын! - крикнет русалка и мимо пробежит, простоволосая, голобедрая, мокрая.
- Какую траву несешь?
- Петрушку.
- Ах, ты моя душка! - крикнет русалка и защекочет до смерти пепельными пальцами без ногтей, уволочет на плече далеко - высоко.
Ей мужское тело не тяжело. Она сильная. Она все вынесет.
Брехня.
Русалки на русскую волю выходят редко.
И все они.
Очень стары.
...Москва выстроена, вся, как есть навырост, заподлицо тесаны сундуки, особняки и сараи. Будто спросонок замыслили Москву, раскидали садовыми и монастырскими узорами окрест. Встал город на семи грехах, да на болоте, в нем хлеба не молотят, горькие слезы да объедки со всей России прячет Москва от века в боярские рукава.
Оглянуться не успели робкие постояльцы и веселые переселенцы, а Москва уже заматерела по-волчьи, украсилась оскалами улиц, закипела многолюдьем, заскрипели черные возы по святой дороге: сквозь Неглинные, Львиные, Курятные, Воскресенские ворота, и дале, через Яузские овражины, до Ростокинских царицыных акведуков. Вне России Москва - бесприданница. Вне Москвы Россия - безглавица.
Помнит Москва, что стоит у колен ее розовая звонница Преподобного Сергия, где бессмертная истинная Пасха живет. Сквозь сон повторяет Христово Имя Новый Иерусалим, там чудотворная вода сквозь медный крест течет от полноты вечности.
Уводит навсегда торговцев и каторжан стальная Троицкая дорога под рассыпными российскими косыми дождями над парными пажитями, над осиновыми перекрестками - росстанями.
Тесна Москва, ни жива, ни мертва, спустя рукава, вдовая невеста, на реке-Смородине обноски стирает под Каменным мостом, вальком лупит, бьет с носка. Тесна Москва, но прекрасна, как оставить ее, посоветуй.
И в преисподней настигнет Москва многоглагольным колоколием, скрипом ставень и дверных петель, женским смехом и запьянцовской песней в красный день на улице, дробной тревогой конских копыт по полуночным мостовым, тяжелым плеском осенней воды в пресненских горьких колодцах.
Большое ненастье в пасмурном саване ступало по сугробам босиком. Касьян немилостивый, високосный пустосвят, вёл по сугробам медвежьи и волчьи свои стада на Москву. Нет спасения, Москва-тоска.
Везли дрова на богатые улицы черные подводы, много тепла надобно в лихие февральские дни, до великого поста душа испачкаться успеет. Привязан был город к небесам печными дымами - незыблем земной жернов, далека от земли любовь, как Господня птица. А Господних птиц не увидишь. И туманны Его холмы.
...Вдребезги разбилась о самшитовую столешницу богемская хрустальная рюмочка.
- Сучка! Волочайка якиманская! До Государыни дойду! - гневалась в краснопером холодном доме у Харитонья мать-москва, Татьяна Васильевна, в каленом гневе себя забыла, изволила посуду колотить.
- Подай, раба, хрупкое!
Била об пол в бешенстве.
Трепетные руки челядинки-калмычки протягивали Татьяне Васильевне блюдечки с эмалью. Приживалки и собачонки напичкались по-тихому под мебеля пыльные.
Упаси Бог пикнуть, пока с барыни запальный гонор не сойдет - молчи, раб, бока да чуприна целее будут.
Как смели последнему сыну свадебный отказ подсунуть после сговора! С кем враждовать вздумали, давно ли в смердах ходили, давно ли у жидов червонцы клянчили!
Сучка! Волочайка Якиманская!
С чего начала, тем и закончила, замахнулась гневная Татьяна Васильевна фарфоровым сливочником.
Кавалер перехватил материнское запястье - холодны ладони его были, как обычно. И так тверды, что ахнула мать от первой боли, в кресло рухнула. Уронила сливочник на жесткий подол - покатилась посудинка невредимая.
А Кавалер сказал матери ласково, будто воровской нож из рукава вынул:
- Стыдно, матушка. На безлюбье свадьбе не бывать. Анна свое счастье решила. Суди Бог. О ней напрасного слова не позволю ни псу, ни кесарю, ни Господу.
За голым столом остывала мать-москва Татьяна Васильевна, смотрела на осколки под ногами, на последнего сына. И заплакала - уж это средство всегда помогало.
Впустую.
Потому что пока всхлипывала, пока растирала больное запястье, попрекала судьбу, сына, неверную невесту седыми волосами и оспенными щербинами и старостью и злосчастием, замер Кавалер спиной к ней у окна, будто ничто на свете его не касалось - ни отказ, ни любовь, ни раздор, ни материнские пресные слезы.
Оснежилось окно снаружи - свежо, метельно на улице. Бродят москвичи веселые, красноносые в косматых полушубках.
Кавалер чертил мизинцем отображение свое на запотевшем от дыхания стекле, лишь последнюю точку поставить не решался, будто и не себя видел в поплывших чертах, вспоминал непамятное:
Испугалась Татьяна Васильевна. Попросила:
- Ступай спать. Как же мы теперь будем с тобою... - опустила рябые дряблые руки мать, потянулась поцеловать - как укусить, но ослабела, переспросила, без надежды: - Скажи мне, что, как прежде, счастливо?
Всей ладонью смахнул Кавалер нарисованный образ. Поклонился и вышел.
Через левое плечо плевали слуги, а про себя над свадебным отказом посмеивались - спаслась Аннушка от аспида, ай, ловка, молодайка, нам бы так, хоть бы его простуда прибрала или лошади зашибли, то-то на поминках господских наплясались бы холопья.
Перекреститься недосуг и расплакаться подсудно. СолИ посолоней, Москва, все вынесет последний сын, хребет не переломится, крестец не треснет, знай, испытывай на крепость.
Потянулись напрасные дни.
Ржавую слезную корку нанес на городские снега февраль. В древесных развилках снегири горели на рассвете, красногрудые спорщики.
Давили наст сапоги да опорки, санные пути замаслились пасмурной оттепелью, убиенными быками склонились над Москвой монастырских стен контрфорсы.
Предсмертно на рассвете.
Солнце не всходит - только встал, а уж насупились в низкие свинцовые оконца старинных волковых палат крысиные сумерки.
На паперти спьяну замерз юродивый Андрюша, опоили на чужой свадьбе, да в сугроб вывалили из саней. Хоронили юродивого богаделка да будочник, увязалась за тесовым гробом рыжая Андрюшина собачка. Завило метелью место погребенное, украли на растопку мирового костра именную дощечку и забыли юрода назавтра.
... Проснувшись в полдень или немного позже, холил Кавалер лицо свое парижскими соками, с вечера натирал густо кисти рук тайными мазями, надевал перчатки - так и спал в них, чтобы отменную белизну рук сохранить в целости.
С пустыми глазами проводил Кавалер за туалетом по нескольку часов, румяня губы и щеки, чистя зубы, подсурьмливая брови, и налепливая мушки, согласно пришпиленному к краю зеркала шутовскому лубочному реестру.
Брал щипцами вырезанные из бархата мушки одну за одной из фарфоровой мушницы, ставил на телесный клей.
Всякая мушка свое значение имела, будто глухонемой язык.
Большая, у правого глаза - тиран, крошечка на подбородке - "люблю да не вижу", на мочке уха - нерушимая девственность, на виске - бесплодные слезы, среди левой щеки - отрада, слева над губою, - "арапчонок" - признак ласкового плута, прихотливого безопасного любовника, беспросветной прелести.
Последнюю Кавалер ставить не смел, ронял щипчики со звоном на подзеркальный столик - с той стороны зеркала вставало перед ним его собственное лицо во всем бесстыдстве, благородстве и невинности.
Зачем фальшивой меткой безобразиться, если есть своя чертовщинка, что создана из вещества того же, что наши сны, отродинка, которую стерпеть нельзя, а деться некуда, еще в материнской утробе отмечен был Кавалер, о чем еще мечтать ему было.
По пояс купался Кавалер в женоподобии своем, отбивал телесные запахи ароматами из полусотни флакончиков. Знал, что лицо истлеет, имя забудут, на могилу плюнут, врастет в московский перегной голый череп, но и на пустоглазом костяке до Господнего суда останется на верхней челюсти слева черная точка, будто острым грифелем ранили.
Последняя памятка: жил-был, грешил-каялся на небелом свете Кавалер, гулял певчими каблучками по семихолмию, кузнечным да пекарным воздухом большой Москвы вовсю дышал, в дерзости бесовской и человеческой сам по себе научился смеяться, а потом сгинул, не без следа. Вот же он твой родимый шрам - напоследок, на лицо.
Кавалер капризно опускал пальцы в драгоценную скляницу с помадой из сорочки нерожденного ягненка и лилейного выпота, стоила фальшивая красота дворянская не одну сотню мужицких "душек".
Ласково, как девушек - "душками" называл Кавалер по завещанию отцовскому преданных ему крестьян безымянных.
Безголосое дело, простая и продажная российская судьба, паслен черный, отрава пустохлебная и дворянину и смерду едина участь - мертворожденная сестра-близнец с косой острухой.
Кряхтели живые русские душки, безропотно волокли гнилые лапти на невольничьи торги, а Кавалеру горя было мало - новую порцию красоты костяной ложечкой зачерпывал.
В месяц по паре склянок притираний изводил, не думая о стоимости.
Бросал кистью на высокие скулы сухие румяна из кармина с тальком пережженным и растертым в пылкий порошок. Помнил напутствие вычитанное из "Золотой книги любви и волокитства"
"Юноша, для игры употребляй алую красу для возвышения живости глаз своих".
Лакей - куаффер угадывал, какую пудру выбрать на сей день по нечаянной морщине на лбу, по жесту расслабленной на подлокотнике, как болотная лилея, кисти руки, по учащенному дыханию.
Всякого сорта пудра была к услугам харитоньевского девственника - розовая, палевая, ванильная, ночной ирис, виолет и мильфлер.
В нежнейший прах добавляли амбру, или держали крахмалец по нескольку суток под свежими цветами жасмина, меняя их каждый день.
Закончив, Кавалер садился в маленькую манерную каретку "дьябль", то на колесах, то на полозьях и ехал вскачь из дома в дом.
Кумир кокеток, прельстивый лжец, мучитель и проказник - так в великой глупости и слепоте называли его.
Именно голодные немолодые женщины ввели Кавалера в моду, тщеславного, властолюбивого несносного, но нежного при всяком тайном случае неприкасаемого мальчика.
Заманивали наперебой на галантные вечера, на музыку и ужины с сюрпризами, одна перед другой, шурша шелками и тафтяными подолами, хвалились: "Нынче у меня обещал быть!".
Сорокалетние корсетные подруги передавали Кавалера от одной к другой, рекомендовали, как пикантный сырный десерт, без него вечер не вечер, стол не яств, а гроб стоит.
В беседе с московскими женщинками Кавалер был волен до наглости, скор на бесстыдство, лжив до честности. За правдивую ложь женщинки по-кошачьи дрались царапками, улещивали золоченого гостя, как умели. Саживали на лучшие кресла, сгоняя шлепком с бархатных подушек то мосек слюнявых, то мужей близоруких, и в ответ на салонные кавалеровы дерзости млели и звали его заглазно и в очи "резвым ребенком".
Воркуя, кормили из рук ванильными вафлями и пастилой, наливали новомодного игристого вина в лилейный бокал, подталкивали на галантный суд незрелых дочек - крепко помнили, что свободен отныне лакомый подарок, авось хоть на какую Таньку прыщавую или Софочку малокровную, бровь вскинет, улыбку подарит, скажет вальяжно: В жены беру".
Бровь вскидывал, улыбки дарил, но когда матери под румянами бледнели до синевы, выгибали поясницы и про себя подначивали, тормошили дочек невзначай: "Ну же, ну, выбери!". Кавалер брезгливо откусывал вафельку крученую, скупым глоточком запивал и помалкивал. Разве только присядет вполоборота за клавикорды, переберет лады, как настройщик, оглянется на веерный табун белотелых московских невест и замурлычет никому:
"Ах, когда б я прежде знала,
Что любовь родит беды,
Веселясь бы не встречала
Полуночныя звезды,
Не лила б от всех украдкой
Золотого я кольца
Не могла б надежде сладкой
Видеть милого льстеца..."
...Пригорюнившись бы стала
На дороге я большой
Возопила б возрыдала:
Добры люди, как мне быть,
Я неверного любила
Научите не любить..."
И чудилось флердоранжевым девочкам и увядшим подругам, что за всех них - одним горлом распевается пересмешник, всегда на соль-диез.
Он не помнил о вечно спускающих чулках, нарезавших бедра, о растрескавшихся от жеманных ужимок белилах на лице и плечах, о птичьей походке на французских шатких каблучках, о склеившихся башенных прическах, о блохах и опрелостях от дорогого кружевного бельишка, от которого наутро только красная боль, сыпь да стыдоба и ванны с чередой, пока не видит никто.
Но не забывал об ином, что ему наугад известно было: выкидыши, бели, горчичные ванны невтерпеж, адюльтеры с тисканьем под гнилыми от дождя покрышками дорожных карет. Излечивал тростниковым голосом своим даже те ночи, которым и названия в человеческой речи нет, когда лежишь, навзничь дура дурой, выпроставшись из нестиранной простыни, рядом супружник сопит и смердит, а ты воешь в черноту, как сука, бесстыдно и бесслезно. Луну с небес залпом сняли, третий час пополуночи, могильное время, завтра сорок пять исполнится, пальцы побелели в замок на груди от бессилия и старости,
Расторопные люди зажигали многорогие шандалы, вносили торжественную чашу-раковину наутилус с пуншем, открывали господа первую фигуру павлиньего полонеза по анфиладам комнат. Здесь все одинаковы - подростки и старики, выбеленные до фарфоровой глазури, с красными пятнами на скулах, ни возраста, ни болезни, ни изъяна - одно любезное воровство. Плыли над головами триумфальные плафоны - розовые мяса олимпийских богов в лазоревых небесах, морские старики верхом на рыбохвостых конях, колесницы и голубиные стаи.
Черный карлик-гобби важно скакал впереди полонеза, тряс аршинным горбом, стрелял красным языком, как змейка, возил сухим смычком по расстроенной скрипице, пристроенной к зобатой шее, никогда не оглядывался карлик назад, на блестящих пряничных танцоров.
Вот уж и подали к крыльцу зимние заиндевелые повозки - разъезд гостей, успеть поцеловать в щеку и по домам, спать без сновидений, помолясь рассеянно, вечернее молитвенное правило сократив от плясовой усталости.
Являлся Кавалер всегда с опозданием, не извиняясь, пугал и привлекал вышколенным до приторного приятствия лицом. В полукреслах развалясь, болтал пригожий бездельник:
- Всем известно, что дамским господам на веселых вечерах потребно.
- И что же нам потребно? - спрашивали бабочки парчовые, лукаво затеняли расписные личики полумасками на тросточках.
- Непринужденные экивоки и благопристойное похабство.
- Ах, где это слыхано, чтобы было благопристойное похабство?
- Не слыхано? Значит я его таким сделаю, - спокойно отвечал Кавалер
Теснились женщины, развертывали гремучие вуалехвостые подолы, краснели, обыскивали гостя быстрыми пальцами - не прикасаясь ласками.
То одна, то другая из полумглы выплывала, как вырезной силуэт, вся насквозь, как парусник.
- Скажите о ней сейчас же - жарко шептала на ухо соперница и завистница - На что она похожа?
- На незаведенные часы - вперив в несчастную стылые глаза подледной рыбы, говорил Кавалер.
- Почему?
- Ее пружина заржавела двадцать лет назад, даже из корысти никакой лунатик или часовой мастер не вставит ключ в скважину.
Вскрикивала ославленная, заливалась живым кумачом из-под румян, того гляди веером по щекам отхлещет, но опомнившись, сама протискивалась сквозь толпу гарпий и подлащивалась, подругу милую ненавидя:
- А о ней, что скажете?
- Ничего особенного. Примерная жена, нежнейшая мать. В одиночестве причудлива, только муж и милый друг за порог, она на софу ляжет, сметанки спросит, нежности сметанкой помажет и собачку кличет: Азорка, полижи!".
- Ах, дрянь! - влюбленно сокрушалась нетрезвых лет женщина, ноготь на большом пальце прикусывала, смотрела свысока вполоборота, напустив в глаза поволоку беспорочную.
Подолгу щебетал Кавалер о парижском искусстве "Eveiller le chat qui dort", о всех способах пальчиком разбудить кошечку, которая спит. Искусство это деликатно, милые мои, и особой дерзости и беглости пальцев требует, может быть применимо и стоя и сидя, на балу и в гостиной, в присутствии мужа и малого ребенка - ангельское баловство, не в осуждение, а в наслаждение, дабы время провести в нимфейной усладе. Обнажал руку до предплечья, и в сгиб полного локтя погружал мизинец, сдерживая улыбку. Слушал, как женщины дышат, но если одна, не вытерпев, руку протягивала - отстранялся - и такую личину строил, что почти наяву слышалось, как лязгают железные засовы. Щелк-пощелк, не тронь меня.
Много ухищрений от пресыщения придумано, взять хоть яблоки любовные, этакие шарики из пахучих смол, которые для пущей сладости жеманницы в нужное место глубоко вкладывали, у скромницы - нарцисс, у чаровницы - розовое масло, у львицы - удушливая амбра, горячечной самочки аромат.
- Не такие ли яблоки? Отведайте? - лукавили дамы в ответ на его ленивые слова, быстро оглядывались, загораживали платьями кресло. Юбки - одна, вторая... четвертая, будто занавесь на театре поднимались оборками, а под ними: золотые выползы подвязок, телесное кружевце, атласные банты, серебряные бубенчики с прорезью, и розовая полоска голой, как из бани распаренной толщинки на ляжке. Кавалер смотрел на представление без страсти, за молодость и холодность, многие тайны ему поверяли, какие и под пытками не выведаешь.
Плел, бывало, Кавалер, небылицы красавице о каком ни есть любовном приключении сроду небывалом, и вдруг прерывался, бросал вскользь любой, которая подвернется:
- А кстати, сударыня, ведь я влюблен в вас до беспамятства.
Попалась.
После этого несколько дней они были друг в друга до гроба влюблены.
Встречались тайно напоказ, сиживали вместе в залах, она перебирала на манжете вельможные кружева, старалась добраться до плоти, но плоть ускользала, как ртуть, из-под пальцев, пустые обещания да язвительное острословие - вот и вся награда, а после, разлетевшись порознь и не вспоминали, как называли друг друга в декабрьской бесплодной страсти.
Сановные старики и благонамеренные клуши терпеть Кавалера не могли, в своем кругу за зеленым сукном ломберных столов судачили, поводили хоботами:
"Проклятое дитя, кудрявый Керубин, будто таз с розовой водой и негодными обмылками, а не живой человек, мы уж знаем и подлинную и подноготную. Ишь ты, душистый автомат, ходячий косметик, арабская кондитерская"
- Он черноволос, но в сравнении с его душой кажется блондинкою. - каламбурили мудрые старики.
Молодые пытались подражать, перенимали ужимки и гримасы, но выходило смешное обезьянство, во французских лавках заказывали костюмы под него.
Раз даже Кавалер вместо себя послал в гостиную лакея Прошку, наряженного по моде, а сам в лакейском облике ему с усмешкой прислуживал, никто подмены не заметил, пока Прошка, на барских харчах рассиропившись, рот холуйский не разинул. То-то было хохоту. Сильно веселилось общество.
Все дни расчислены были, как мешок, под завязку.
В понедельник в английскую комедию, во вторник бываем во французской, в среду в маскарад, в четверг в концерт, в пятницу смотрим русский спектакль, в субботу за город кавалькадами.
- А вы заметили, как с ноября лицо его изменилось. Грешный цвет дает пышный плод.
Враз все обрыдло.
Больше Кавалер ни в салонах, ни в Пресненских кабачищах не показывался.
Потому что в душно топленых палатах Харитоньева дома легла всерьез умирать среди христарадников, калек, погорельцев и карликов черная бессмертная бабка.
Глава 11
Потому что в душно натопленых палатах Харитоньева дома всерьез легла умирать среди христарадников, калек, погорельцев и карликов черная бессмертная бабка.
Когда водянисто онемели лодыжки и заскорузлые мозольные стопы, когда три душегрейки озноба не унимали, стала бить икота и проваливаться рот, приказала бабка по старой вере постель из опочивальни вынести.
Нельзя божьим людям отходить на кровати, на пухе да пере, а как Спаситель родился в крови, на соломе, на жестких половицах, посреди скотских копыт и грязи. Вся грязь земная на небесах алмазами воздается.
Так и божьим людям надлежит из яслей в смерть родиться.
Соломы с конного двора принесли, бросили охапку на пол. Легла бабка, переодевшись в чистое, сама себе подвязала челюсти церковной затрапезной косынкой, черной в белый горох, отказалась от телесной укрепы, только тряпицу со зверобойным отваром сосала беззубыми деснами раз в день, чтобы успеть покаяться и напутственное слово услышать.
По слову бабки всесильной привели в спальную горницу всякого скота, набились в княжеское убожество смертное куры, козы, телята, поросята, по углам гадили, чавкали из колоды хлебное крошево да отрубную тюрю, блеяли, клохтали, пачкали наборные полы, как в хлеву.
В козьих орешках, в свином кале култыхались блаженные, гнусавили акафисты.
Окна завесили белым льном изнутри, зажгли избяные лучины и масляные коптилки, на подоконниках расставили плошки с водой, чтобы было где душе омыться напоследок, все замки на сундуках и складнях отомкнули, развязали узлы, ходила челядь в войлоке, прикладывала палец к губам: Тс-с... отходит!
А тело на соломе в коросте и скотском помете металось.
Тяжело уходила старая княгиня, иной раз с площадной бранью бросалась, кусала за ноги сиделок, плевала в глаза, носовой хрящ заострился по-коршуньи, вытекал из ноздри желтый гной. Бредила.
Попа не велела пускать - он по новой вере служит, никонианин, не хочу его.
Боялись бессмертной смерти домашние, мать в комнате с мигренью заперлась,
На третий день открыла бабка костяные глаза. Облизнула обметанные губы.
Обычный четверг волочился за окнами. Ясным голосом приказала позвать внука.
- Пусть читает мне день и ночь отреченные книги. Иначе не уйду. Являться начну. В изголовье встану. Замучаю.
Позвали.
Вошел в хлевный смрад Кавалер.
Сел к свету на низкий табурет, откинул за спину волосы. Посмотрел на бабку, взял ее ладонь в свои миндальные руки, погладил. Страшные руки у бабки - все в закрутах синюшных жил, в рыжих звездчатых пятнах.
Тянулась из старушечьего рта по морщине ржавая слюна.
Сгребла всей горстью из последних сил бабка неубранный локон Кавалера, рванула больно, будто в могилу за собой тянула, завела старую песню:
- Пришел, выблядок? Ишь, послушный! На беду тебя в подоле приволокли, на беду в купели не утопили, сколько раз я тебя в печь хотела снести из колыбели, пока молочный был. Не взяла греха на душу, слаба была. А теперь уж не наверстаю. Сделай милость, внучек, пойди да сам головой в горящую печь вломись, облегчи Москву".
- Тише, тише, бабушка, - ответил Кавалер и глазами по смрадной комнате поискал.
Как дети, кричали козы, запутавшиеся в бахроме и тряпье. Плакали, сморкались в тряпицу блаженные.
Запустила бабка свободную руку под подол, заголилась до пупа, бедра сухие раздвинула, раскрыла двумя пальцами красный срам. Завертелась в охальном бреду.
- Иди в печь, горячо в печи!
- Тише, тише, бабушка, - ответил Кавалер и руку ее из грязи убрал, положил жабьей лапкой на плоскую грудь, юбку оправил до щиколоток. - Я тебе читать буду. Ты лежи и слушай. Покажи твои книги, я их открою.
Впервые бабку на "ты" назвал, как на сердце пришлось. Сухо дыша пастью, указала бабка на сундук в изголовье.
Как и все, был тяжелый венецейский ларец настежь открыт, там и держала старая от руки писанные книги, страшные книги, немые, переплетенные в телячью кожу, без вензелей, как старые мастера умели делать богобоязненно.
- Хорошо будешь читать, сучий сын - прохрипела бабка - все книги тебе отпишу. Они, как ты, отреченные, авось, через них лютой смертью сдохнешь!
- Тише, тише, тише - заклинал Кавалер и едва мокрый рот старухе не зажал, но сдержался.
Отреченными книгами именовались издревле волшебные, чародейные, гадательные и божественные, от никонианской церкви возбраняемые книги и писания, привезенные на Русь из Царь-града или с Запада, от раскола кафолического.
Только бабкина смерть тот сундук отперла, на цыпочках по углам хоронилась смерть, скалилась в лицо клыкастым остовом землеройки.
Скисшим молоком разливался московский свет из-за смертного холста, затянувшего узкие окна.
Кавалер торопливо и жадно, как вор, перебирал переплеты. Знал, что при Алексее Михайловиче, отце Петровом, отреченные книги истреблялись беспощадно, сжигались на площадях московских возами, только отчаянные головы хоронили старописьменные тома по глухим местам, а тут на тебе - задарма в руки плывет сокровище, во время вздумала бабка часовать.
"Астролог или Звездочтец" - двенадцать звёзд, которым безумные люди верующие волхвуют, ищут чинов получение и уроков житие, о влиянии планет на счастие новорожденных младенцев, а также на судьбы целых народов и общественное благоденствие: будет мир или война, урожай или голод, повсеместное здравие или моровая язва.
Вот "Рафли" или "Аристотелевы врата" - неподъемная книга-тяжеловес, где медицина сопряжена с движением светил, вот "Громовник", предзнаменование погодное, о будущих урожаях и повальных болезнях, "Колядник", что содержал приметы на какие дни приходится Рождество Христово, ""Аще будет Рождество Христово в среду - зима велика и тепла, весна дождева, жатва добра, пшеницы помалу, вина много, женам мор, старым пагуба". "Мысленник", где собраны сказания о создании мира и человека, "Волховник" - сборник суеверных примет, "еже есть се: храм трещит, ухозвон, воронограй, куроклик, огня печного бучение, песий вой на всякий час, птичье чаровье, по полету птиц толкование, "Путник" - "книга, в ней же есть написано о встречах добрых или злых". "Сносудец" о прельстительных образах, являемых во сне.
Закричала бабка, как ворона подбитая горлом " Агхр-ха!"
Выгнулась дугой.
Успокоив насильно сухостой старухиного тела, открыл Кавалер бесценную книгу с середины, переламывая мокрую бабкину смерть, прочитал чистым девическим голосом:
- Если месяц март золотым ободом вкруг светила окружен - воды много будет. Месяц апрель окружен - война будет.... Месяц июнь окружен - зверям смерть будет. Месяц ноябрь окружен - глад будет. Месяц январь окружен - морозов много будет. Месяц февраль окружен - сильные цари и князи сражаются от востока до запада".
Спросил, присев на корточки у колен полутрупа:
- Что ты хочешь слышать, бабушка?
Сама выбрала старуха из многих отреченных книг одну. Самую тонкую. Указала негнущимся перстом.
Пресекшимся голосом прочел Кавалер заглавие:
- Хождение Богородицы по мукам.
Сутки читал Кавалер от корки до корки отреченную книгу над умирающей, прерывался лишь на то, чтобы отхлебнуть стоялой воды из кувшина, да отойти по нужде - чьи-то расторопные руки меняли лучины и масло в лампах, доливали в кувшин воду, клали на дно серебряный крестик.
Когда бабка обмаралась последней черной жижей - очищалось тело, готовилось ко гробу, Кавалер сам отмыл от дряни ее ноги и ягодицы, и снова взялся за книгу, некоторые страницы, уж наизусть заучил во всем их ужасе, мучали киноварью прорисованные буквицы трубным гласом, но когда заканчивал, бабка шелестела неумолимо:
- Сызнова, внучек, сызнова.
Хотела Богородица увидеть, как мучаются души человеческие. А всех мук не исчислить, тут и железное дерево, с железными ветвями и сучьями, а на вершине его железные крюки, а на них множество мужей и жен, нацеплены за языки, тут и муж, за ноги подвешенный в коптильне за края ногтей, и огненные столы и горящие на нем многие души, и жена, за зубы на колу висящая, чья утроба червями кипяща и поедаема, и реки кровавые, в которых захлебываются и смерти второй чают, и "Господи помилуй" испекшимся языком не выговорить. Змеи трехглавые пожирают тех, кого отроду мать и отец крепкими словами прокляли. Нет такой муки, издевательства, поругания, белокаленой боли, которую бы по Божьему милосердию, в кромешном аду не выдумали сторожевые ангелы. Пошли по колено ангелы, по сусекам поскребли, выпекли любовный белый хлеб из нашей костной муки, царю на стол подали. Да, Государь, жуй, глотай, нахваливай, мы еще напечем, муки много, год урожайный, таково наше ремесло Божье, тебе угождать.
Но плакала Богородица, спрашивала грешников: - Что вы сделали, несчастные, окаянные, как попали вы сюда, недостойные? Тогда мученики сказали Богородице : "О благодатная, мы никогда света не видели, не можем смотреть наверх".
Впился Кавалер ногтями в мякоть ладони, когда подали сзади кувшин осклизлый, оскалил зубы, и попросил:
- Водки.
Помедлили, но подали зеленую сулею. Он пил из горла, без вкуса и хмеля, и, охрипнув, читал, борясь с чугунным сном, налившим виски дополна:
- ....И сказал Ей архистратиг Михаил : "Пойдем, пресвятая, я покажу тебе огненное озеро, где мучается род христианский". Богородица увидела и услышала их плач и вопль, а самих грешников не было видно, и спросила: "В чем грех тех, кто здесь находится?". И сказал ей Михаил: "Это те, что крестились и крест поминали, а творили дьявольские дела и не успевали покаяться, из-за этого они так мучаются здесь". И сказала Пресвятая архистратигу: "Единственную молитву обращаю к тебе, чтобы и я могла войти и мучиться с христианами, потому что они назвались чадами Сына моего". Но сказал архистратиг: "Будь в раю"....
Осекся Кавалер, вполголоса слова Богородицы перечел, будто впервые. Ожёг глотку последний глоток зелья, покатилась пустая сулея.
На последнем издыхании теплился промасленный фитилек. Спали по углам скоты и уродцы вперемешку теснехонько.
- Что же, Она хотела с нами остаться в проклятии? Одной из нас? Она - и не с ними, за царским столом, а с нами... В реке сукровичной, на столах пыточных, в гробах свинцовых, во всем, что милостивцы господни для нас придумали. Она хотела, чтобы ее, чистую, с нами черви ели, не хотела свысока на нас смотреть и радоваться тому, что спасена... Она нас не судила? Не кляла? Не плюнула? Не отвернулась? Бабушка, бабушка, слышишь, как хорошо...
Блудное сияние за оконными занавесями разливалось неумолимо в последней белизне.
Лежала бабка с открытыми глазами, лицо обтянулось по черепу, как барабанная шкура, дышала чуднО, как никогда раньше, будто трудную работу совершала, как нарочно: Хы-гы, хы-гы, хы-гы..."
Язык обметанный вывалился.
- Ба...бушка... - по слогам шепнул Кавалер и вспотевший лоб ее потрогал.
Вдруг села старуха, пальцем на него прицелилась и с ненавистью сатанинской затвердила в такт равновесному отходному дыханию:
- Ты. Ты. Ты. Ты.... - откинулась на полуслове, протянулась на соломе во весь рост.
Уронил отреченную книгу Кавалер и растерялся. Заснула?
Неверен огонек, выпил почти все маслице и сократился кружок светлый - того гляди остынет...
В сиянии смутном снизу вверх выступило лицо, будто умным скульптором сильно вылепленное. Тяжелый лоб, с круглыми залысинами, скулы и провалы ласковых глаз. Челюсть мужская, красивая, надежная. И за приятным этим лицом некстати взгромоздился горб, словно улиткин дом.
Сказал собеседник Кавалеру два слова:
- Царствие Небесное.
- Отмучилась? - без веры, спросил Кавалер, сам не зная, с кем говорит.
- Она давно умерла, - ответил собеседник - и протянул ниоткуда миску с водой и чистую тряпицу, - не бойся. Умой ее личико и сам все увидишь.
Покорно взял Кавалер приношение, сел рядом со старухой, и медленно выжав влагу в миску, стал отирать лицо бабкино. И под руками его, искаженные мукой черты разгладились и сырой гипсовой белизной залились ото лба до подбородка. Это смерть свое милосердное искусство навела, раскрылась бабушка в красоте последней, как отреченная книга, отступила скверна и ненависть.
Легко закрыл глаза новопреставленной Кавалер, припал щекой спелой ко впалой ее щеке. Язык на место убрал. Поцеловал в губы. Рукавом, отер слезы, он сам не заметил, что плачет, оттого и плакал, не боясь справедливого стороннего осуждения.
И наконец рассмотрел Кавалер с кем разговаривал в тяжелый час.
Сидел напротив него, скорчившись над истратным светом, черный горбатый карла.
Подбородком в колено уперся. Огромный горб безобразил его, словно Господь Бог его подвыпив творил, а протрезвел, ахнул, скомкал в кулаке. Но потом пожалел и шмякнул как попало наземь - живи по милости Моей, разрешаю.
Одурев от бессонницы, пытался вспомнить Кавалер, как же раньше, среди бабкиных потешнников не замечал его, да разве заметишь в толпе юродиков еще одного карлу - мало их что ли под ногами болтается, как кошки, все на один салтык.
Черный карла ростом с дитя семилетнее, ручки-ножки скручены недугом врожденным до нелепости, а лицо мудрое, мужское, тяжелое и прекрасное в зрелости своей. С такой лаской и тоской смотрел карла, что сердце падало. Повторил не пискляво, а сливовым ласковым баском:
- Царствие Небесное.
- Я надеюсь... - отозвался Кавалер, на покойницу указывая.
- Ты не понял - усмехнулся карла - Царствие Небесное, это меня так зовут. Возьми меня на руки, я окна открою, пока все спят.
Безропотно Кавалер, чужой плоти гнушавшийся, поднял карлу под мышки, понес от окна к окну, удивляясь, как же по-детски легко тельце уродца. Черный карла деловито снимал с оконных рам холсты, отпирал щеколды - и вступило в спальню постылое бессолнечное утро и свежий масленичный сквозняк.
- Батюшку надо... И способных женщин... Обмыть, нарядить... - вспомнил Кавалер.
- Всех уже пригласили, не беспокойся, - ответил Царствие Небесное - Ты свободен.
Когда освободили окна, карла снова уселся напротив на стопку книг, и засмотрелся Кавалер в карие глаза Царствия Небесного - никогда прежде не было ему так спокойно.
Будто по-писаному ведал Кавалер, Царствие Небесное понапрасну судить не будет, спокойная ласка и вечное верное дружество во взгляде Царствия Небесного крещенской иорданью застыло.
Спросил Царствие Небесное.
- Хочешь ли ты, чтобы я остался в твоем доме?
- Да, - не раздумывая позволил Кавалер Царствию Небесному.
- Возьми свои книги, иди, читай их, сколько сможешь. Берегись себя, но ничего не бойся. Твои яды в тебе. А я буду приходить к тебе в сумерках и беседовать. Ответь снова: хочешь ли ты, чтобы я остался в твоем доме?
- Да. Приходи и беседуй. Вот и славно, -но, опомнившись, крепко сдавил Кавалер щипком свою пышную щеку с высохшим слезным следом, будто прочь с костей сорвать хотел, посмотрел отчаянно на Царствие Небесное:
- Скажи мне, почему со всех сторон говорят, что изменилось лицо мое с ноября. Да и сам я чую, что неспроста расцвел, что со мной, отчего наказал меня Господь красотой, как проказой?
- Тебе лучше знать, - ответил Царствие Небесное, и как обезьяна, горб почесал, подобрал с половицы опорожненную сулею. - Можно ли в эту малую емкость бочку перелить? Нельзя. Так и в тебя Господь красоту на десятерых потребную влить хочет. Будешь хорошеть с каждым днем, но потом треснешь по швам от излишка.
Брезгливо содрогнулся Кавалер, отвернулся от Царствия Небесного.
- Что ты мелешь? Разве "хорошо" бывает "слишком"?
- В свой срок узнАешь. Это Божья шутка. Есть у меня для тебя подарок, только ответь сперва: хочешь ли ты, чтобы я остался в твоем доме?
- Хочу, и недоверчиво встряхнул карлу за плечи Кавалер, - зачем все время спрашиваешь?
- Больше не стану - осклабил резцы Царствие Небесное. - Трижды ты разрешил мне. С меня довольно по уговору. Держи подарок. Он будет тебя любить. Подобное к подобному льнет.
Сунулся черный карла в угол - бросил на колени Кавалеру дар. Живое забилось в страхе.
- Зверёк... - удивился Кавалер и, не веря подарку, обрадовался.
То был живой белоснежный хорек-фретка, таких итальянцы называют фурро, на мордочке черная маска, глаза - бусинки с алым отливом, лапочки внимательные, спинка гибкая и податливая, шерсть взъерошена, когда Кавалер, боясь испугать, прикоснулся к нему, встопорщился зверь, кольцом свился, "не тронь меня!"
Помнил Кавалер, что старинные люди придумали, мол, белый хорек фурро или горностайка - зверь не простой, паче жизни ценит чистоту шкуры своей, и ловят его жестокие особым образом. Нельзя драгоценную шкуру попортить выстрелом, а выслеживают ловцы те тропы, по которым горностай ходит к проточным ручьям пить и разливают на тех тропах зловонную навозную жижу. И гонят его трещотками и колотушками в самую грязь. Видит малый зверь, что по грязной дороге гонят его и противится участи, понуро поворачивается и самовольно в руки убийц идет, чтобы остаться чистым.
- Спасибо тебе, Царствие Небесное, - вполголоса поблагодарил Кавалер и лаской зверька дареного успокоил, тот застыл, уснул, часто-часто дышал под ладонью.
Ничего не ответил Царствие Небесное, глумливо красный стручок языка показал и - фук - потушил лампу. В сумерках сереньких погасло и рассеялось лицо карлика, но остался на миг в воздухе зоркий желтый глазок. Черное пятнышко-щелка зрачка поперек янтарика. Мигнул и скрылся. Так черный карла по имени Царствие Небесное, трижды приглашенный советчик и насмешник попрощался до поры.
Бессильно у образа древнего повисла пустая досуха лампадка.
Зашипел в масле фитилек и засмердело гарью. В той гаревой вони открылась Кавалеру такая сладость, что не снилась никому на Москве.
Паленый голубочек в глубине голубой подо лбом крылами забил. Почудился юноше в пресненском смраде угарном и копоти большой яблоневый цвет, бело-розовая пыльца, благоухание, которого и рай бы не выдержал во аде своем. Убийца.
Опрокинулся Кавалер на солому от усталости. В полдень нашли люди Кавалера спящего в обнимку с мертвой старухой. Отнесли сонного барчонка в высокую спальню. Не смог проснуться Кавалер, только зверька от себя не отпускал, хотели забрать - да хорь-дьяволенок кусался, так и отступились.
Хромой февраль горло Москвы стиснул скользкими оттепельными пальцами и засмеялся навзрыд простудными капелями, неурочными паводками.
Там, где яблоневый цвет, там и пожар. Пожар отреченных книг, пожар души последнего сына.
Встречай, Москва, раз построена.
Путались безымянные переулки, обрушивались вороны и серые галки стаями на пустыри. Все дороги заново перестелили бесы кругалями - ни одна на старое место не приводила. Ничего не различить в сумерках городских и телесных, пока красного петуха не пустили.
И стал свет.
Глава 12
...И стал свет.
Истекала в строгости и трезвости Средокрестная неделя Великого Поста.
Давно собрали и сожгли весь сор и скверну, обмели швабрами паутину с потолков, даже перед лачугами навели робкую чистоту.
Псы-побродяги и те говели, не сыщешь в отбросах ветчинной шкурки или рыбьего хребта. Московские псы поджали животы к хребтам, на луну не выли, вежливо ждали разговин.
Нищие просили на папертях без песен. Угрюмо переговаривались за работой мастеровые в полуподвалах, впроголодь коротали оттепели.
По утрам сугубые молитвенники пили в людских и господских комнатах морковный кипяток вприкуску с ржаными сухарями. Одевались в затрапезное, вкушали с надколотой посуды, ради постной скорби.
Кислым солодом, укропным рассолом и маревыми водами несло с проталин и вражков, на вербные заросли садились хохлатые пролетные птахи-свиристели.
Пьянственные дома, балаганы и мясные лавки остыли и опустели.
Оседали по ночам с материнским коровьим вздохом почернелые снеговые горбы в подворотнях.
Обнажался лживый суглинок на окольных трактах.
В стволах встрепенулись застылые соки, у корней прихотливо протаяли до тесной земли круглые бочажинки, деревья обступили в полусне безмужнее брачное ложе Москвы, заслонили постылые ласточкины хвосты бойничных выступов кремлевского посада.
Зверствовал Кремль, красными кирпичами богохульствовал, громоздил гребешком крепостные стены по земляным накатам. Смягчали кремлевское зверство рассветные главицы монастырей.
Назло сухопарым постникам всплывала над замоскворецкими кровлями в заклинаниях прославленная белорукая Чигирь-звезда, блудячая планида, мати месячному нарождению, предсказывала человекам счастие или несчастие. Грозное знаменье язычницы - течной весны.
Бессолнечные полдни, но сияние на весь свет расплескалось такой силы, как грезится перед казнью или ссылкой.
Кроткая охрана, свет крестопоклонный, являлся перед глазами, будто первое голое слово.
Бывает ли голым слово?
Голым, как игла. Голым, как луна. Голым, как Бог?
"- Нас луна поедает, мы к ней после смерти влекомы... Мы подобны овцам Луны, она чистит наше стадо, питает и стрижет, сохраняя для своих целей, но когда проголодается, то убивает нас тысячами и десятками тысяч, без милости, - медленно повторил Кавалер полюбившуюся строку из "Лунника".
О многом говорила ему книга: о ночах месячных и безлунных, о затмениях и погодных кругах, толковала лунные пятна, влияние тела луны на отливы и женские регулы, на заживление ран и бред безумцев. Были и дельные советы: в лунную ночь, в лесу густом или кровля к кровле застроенном месте легко уйти от преследования, вступив в тень и затаившись - оптическая причуда полнолуния сделает человека безликим невидимкой. Большое подспорье ворам, тайным любовникам и шпионам. Учил "Лунник" в соответствии с фазами младшего ночного светила смешивать целебные масла и афродизиаки, варить ядовитые зелья и находить стороны света в пустынной местности.
Кавалер перевернул страницу и отложил книгу на подоконник. На тяжелом лицевом переплете в старые времена выжег палач по красной испанской коже слово "В.О.Р.Ъ".
Протер покрасневшие от чтения веки, улыбнулся. Точно горсть соли бросили в глаза, всякое начало тяжело.
В нагоревшую светильню спустился с потолка домовый паук и сгорел в миг, зашипев, как волосы.
Кавалер и не заметил, как щедро и споро наступила в Москве весна.
Полтора месяца провалились в прорезь сухого поста и одиночества.
Те дни Кавалер и постом назвать не мог, потому что учили его: постные дни - это борение со страстями, а разве есть борение у того, кто не жаждет и не голоден, и не помнит ничего, кроме шелеста книжных страниц.
Миновали книги отреченные, вслед за ними пришел черед иных.
Скрепя сердце, отписал Кавалер чванливому старшему брату, чтобы недостающие сочинения из загородной библиотеки прислал в Харитоньев переулок по списку.
Скаред петербургский помялся, но просьбу исполнил.
Посетовал только: Вконец очумел ты, братец, вздумал читать, как попович. Позоришь семейство, что в свете скажут? Все господа, как люди, делом заняты, а наш - стыдно и вымолвить, как дни проводит - читает...
Наступило время навигацких и фортификационных трудов, космографий, дипломатических протоколов.
В те дни Кавалер нечаянно узнал, что один раз на чертеж крепостцы или редута взглянув, после по памяти, способен начертить увиденное один в один, не сверяясь с книгой.
Множество точно исчерканных листков под скамьями в спальне шуршали, как листья-паданцы.
Книги.
Лукавый Маккьявель-тосканец. "Весь Свет" натурфилософа Абросимова, античные сочинения и медицинские атласы, описание ядов и противоядий, книжицы, как выжить в бесплодных местах, какими травами в одиночку скрытый недуг побороть, как отделить в беседе ложь от правды, по содроганию лицевых мускулов и мелким жестам собеседника, и как свои мысли никому не выдать, как завлечь нежную женщину и усыпить бдительность опасного мужчины.
Штудировал Кавалер святоотеческие светлые мысли и римских богословов человекоугодные словеса, и четьи-минеи, и толкование Библейское и светские витийства.
Те места, что постигнуть по слабости ума и молодости не мог, выписывал Кавалер на листы, потом спрашивал у Царствия Небесного.
Черный карла на диво разумен и образован оказался.
Приходил беседовать в сумерки, как обещал.
Садился на край постели, желтый левый глазОк его в темноте отблескивал, обещал прощение без напоминания.
Горбун терпеливо объяснял юноше темные места, никогда не высмеивал и не судил попусту.
Иной раз сам строго спрашивал - но не как учитель ученика пытает с ерничеством и кичливой жестокостью, как отец с того света сына пестует во сне, прежде чем выпустить без кормчего в стремнину жития.
Советовал иные книги, выписывал названия, куда придется, хоть на полотняные лоскуты, острым ногтем обмакнутым в чернильницу, хоть на пыль на подоконнике - к утру развеется, но запомнится, а в дальнейшем пригодится.
- Где ты учился грамотной мудрости? - спрашивал Кавалер.
- Везде понемногу, - равнодушно отвечал карлик, - буквы выучил, когда читала покойница вслух "Деяния", сначала повторял за ней, стал по книге следить, сложил буквы в слова, а там уж - сам. Мне без грамоты нельзя, я от века приставлен к сундуку с отреченными книгами. Сундук тот мне мать и батька - меня не родили, я на дне от сырости завелся.
Беззвучно посмеивался карла в кулак своей незабавной шутке.
В полдень стучалась мать, назойливо спрашивала.
- Что же ты, как заточник греческий? Сходил бы на люди, развеялся. Отчего обедать не вышел? Остыло все.
- Потом. Я скоро, - отмахивался Кавалер. Запоздало жалел мать, но оторваться от занятий своих был не в силах, до изнеможения, до сухости и горечи во рту читал и был счастлив, как никогда прежде.
Белый хорек-фурро обвивал бескостным тельцем, как зимний воротник, шею Кавалера. Подремывал вполглаза.
Кратко отдыхая от чтения и записей, Кавалер приказывал принести в решете живых не обсохших однодневных цыпленков и сам кормил фурро.
Вьюном из дремы выскальзывал остромордый смышленый зверь, бросался и с хрустом прокусывал птичий черепок, грациозно выпивал мозг, смаковал, играл с уцелевшими птенцами на половицах, а потом убивал их одного за другим ради забавы, капризно трогал носом трупики и снова карабкался по тяжким складкам кнжяеского рукава.
Читать не мешал, каждый вдох и выдох сторожил с нежностью.
Кавалер хотел проверить, правда ли написана в бестиариях: мол, прежде чем убить, горностай или хорь завораживает жертву прелестным охотничьим танцем, и та, не в силах отвести глаз от плясуна, умирает в восторге.
Так и не смог подсмотреть горностаевой пляски.
А имени своему фурро Кавалер не давал, чтобы не унижать властью, приучил зверька отзываться на щелчок пальцев и пристальный взгляд.
Когда смеркалось, снова и снова навещал Царствие Небесное, садился в изголовье, навевал колыбельные слова:
- Ад вначале сладок. Смотри: вот бесовство. Ты не можешь увидеть себя, ты не можешь ответить Господу, что сделал. Пустосуды скажут: ты - мертвая душа, вот он - твой ад, туда и дорога. И нет тебе из преисподней исхода, чем боле времени проходит, тем глубже вязнешь, сначала по лядвея, потом по сосцы, чуть погодя по кадык, и выше лба, тут-то тебе молодцу и славу поют. Омут сперва лучезарен, омут манит, но только нырни с головой, конец - безысходен омут, он давно искал тебя, рыкал трясинным нутром, чтобы поглотить. Но ты пустосудов не слушай, иначе сойдешь с ума. Помни: кто упал и встал, тот крепче, не изведавших падения.
- Кто упал и встал, тот крепче не изведавших паденья. - накрепко, как по прописям выводил, повторял Кавалер и ловил тощую руку Царствия Небесного, но ускользал Царствие от рукопожатия и сухо-сухо целовал в середину белого лба, шептал на ухо:
- Слушай! Те святые, что были убийцами и злодеями, изрывали себя по куску и бросали заживо псам, а остановиться не могли, бежали от людских поселений, несли свою скверну за пазухой. Убить себя нельзя, самоубийство грех сугубый, значит, спасаться придется иначе. Но то святые. Совета у меня не спрашивай. Иди, пока живой. Зверь-то, дарёнка мой, тебя любит?
- Любит... - отзывался Кавалер небывалым для него словом. Ему очень хотелось спать. И горбун по имени Царствие Небесное, соскользнув с постели, отступал, приложив к губам костистый палец.
Ранней весной одолели Кавалера знойные сновидения.
В них он по-скотски отдавался единственному человеку - самому себе.
Упирался локтями и коленями в податливые перины, бился запястьями в резное изголовье, закусывал нижнюю губу, с гадливым ужасом осязал хрусткое вторжение снаружи, под копчик. Властно вторгалась ладонь насильника куда надо, и по-сучьи прогибал Кавалер поясницу. Белорыбицей бился Кавалер в соитии, как человечину с кровью грыз, обнаженный, изуродованный содомским мужским натиском себя самого - двойника, луноликого, полного, как и он сам до краев липовым медом и колотым хрусталем.
- Оставь, сволочь! Я ребенка хочу... Хочу быть отцом наконец... - просил Кавалер самого себя, но взамен наложники кусались, рвали друг друга ногтями в исступлении торжествующего бесплодия, сливались, как две бальзамные тягостные капли, перетекали друг в друга, как огородные слизни без костей.
Во сне спальня весело горела, трескались искрами балки потолка в такт самосоитию, шипела и дулась пузырями краска на образах и десюдепортах.
Среди пожара и кропотливой муки не было человеческого утоления похоти, извержения семени, что и скоту и господину доступно.
Оба самодовольных тела были заперты сами в себе и друг в друге, от алчности великой все копили внутри, задыхались от неутоленной злобы и скорби в замкнутом змеином кольце, распадалась душа в подвздошье, одна на двоих.
Опускаясь в скотство високосных снов, Кавалер знал, что двойника нельзя оставить в живых, как бы ни были остры, тесны и сладки его болезненные ласки.
Иногда Кавалер успевал первым, в последней судороге насилия.
Иногда двойник ломал ему шею с капустным хрустом станового, в основании шеи позвонка
На рассвете Кавалер не знал - кто из преисподних близнецов сегодня очнулся в постели один.
- Страшен сон, да милостив Бог, - хрипло проговаривал детский оберег юноша, лениво поворачивался с боку на бок и ронял слишком белую руку на немецкий столик при кровати, в вазу с турецкими сладостями, нашаривал рядом наощупь стакан с водой и табакерку.
Враз вспомнив похотное видение, садился, скорчившись, точно зародыш, на горячей постели, больно стукался лбом в колени. Долго сидел в пустой комнате.
Наутро, коченея от стыда, Кавалер, искал срамные улики излияния семени на простыне, но холостые сновидения не марали белья. Он оставался чистым.
В оконную четвертушку проникал украдкой пресноводный жиденький рассвет. Становились ясны окованные медными стрелками мебельные углы и складки драпировок.
В час шестой Кавалер без милосердия тискал бока и грудь трусливыми пальцами.
Тело его всякий день менялось к лучшему, как воск на жару, уже провожали его изумленными взглядами домашние и прохожие: Батюшки, а молодой - то наш до тошноты хорош, дальше уж некуда, а поди ж ты...
По утрам маялся с тесной отупевшей до похмельного звона головой, не выносил громких звуков и запаха человеческого тела от прислуги, только к полудню приказывал нагреть бадью воды. Всех выгонял, битый час оттирался мочальной скруткой и пемзой, чтобы ни следа позорного не осталось на золотистой коже, докрасна, докрасна, пусть мясо с костей слезет. Готов был Кавалер обварить всего себя с ног до головы крутым кипятком, лишь бы никогда больше не видеть во сне манерного изголовья постели с трубящими тритонами и виноградными гроздьями, кафли угловой печи, где на изразцах голландские рыбаки ловят селедку, а Купидо усмиряет льва любовными тенетами. Вся обстановка: стол, печка и постель, свидетели еженощного падения и кромешной крысиной пытки совокупления.
С каждым днем, как дрожжевая опара, поднималась в утробе Кавалера алчба, аппетиты и бесстыдные страсти раздирали изнутри невыносимыми снами и нелегкой явью.
Если бы в кровоточивые нечистые ночи сорокадневного великого поста, спросили Кавалера с небес:
- Чего ты хочешь?
Ответил бы, без рассудка:
- Хочу всего. И больше. И сверх того еще чуть-чуть.
Сам себя уверял Кавалер, что скоромные видения происходят от привычки плотно ужинать перед сном, зарекался, но к вечеру забывал зарок, задремывал сытым и снова видел напротив собственное лицо. Отверстые губы - укус змеиный, щеки, будто крапивой нахлестаны. Страшно, Господи, разве не слышишь моей тишины?
Никому, ни духовнику, ни Царствию Небесному, Кавалер о сонной напасти не рассказывал.
Умница.
Когда невмоготу становилось читать и от домашних запахов всерьез мутило, как от постного масла, Кавалер все бросал, и без устали и цели бродил по весенней гулкой Москве, где людно, где торги и работы сочетаются говором барабанным, звоном колокольным, тревога к вечеру томится в переулках.
Тиснув зябкие руки в рукава шубки-шельмовки из тигриного меха, рассекал пригожий гуляка торговые ряды от Никольской улицы до Ильинской, вставали перед пустыми от тоски глазами торговые ряды, Ножевой, Шапочный, Суконный, Сундучный. Зеркальный, Хрустальный и Скобяной. Торговали всем на свете вперемешку: хер голландский, мыло казанское, гарлемские капли, обстоятельные лакейские шинели.
Пробегал с неистовым воплем молодчик с кадушкой на голове, не разобрать было, что за товар у него под сальной тряпкой: моченые яблочки для сухоядного дня, бычьи почки для азиятцев, что поста не блюдут, или никчемный персидский бальзам-клопомор в пузыречках.
Уже не было смысла в бесконечном кружении по городу, но даже смотреть в сторону Пресни Кавалер не решался, щурясь против сильного лесного солнца - а только такое солнце львом или фавном вступало в московские оголенные сады.
Чудилось Кавалеру: каждый встречный знает о том, что сделал он, вот же, вот, скалит зубы, моргает подплывшим от пьянства глазом, или двое шушукаются на углу, сейчас вся улица обернется и гневно указав пальцами, завопит, призовет к русскому самосуду-рукосую:
- Рвите его, православные! Он на Пресне Китовраса с Марусей заживо сжёг, он у царя со стола хлеб украл!
Приступят со всех концов московские обыватели и разорвут заживо ногтями и зубами. Плотские куски, неразжеванные хрящи и медные пуговицы втопчут в навозную жижу.
А потом отпускало и понимал Кавалер - никто не знает о содеянном и не разведает правду вовек. Не горела на виске каинова печать, не шарахались от него дети и кошки в смертной тоске. Раз на Трубной площади гадала ему египтянка - молодая, но уже уродливая, с динарами и лентами в косах, в лоскутном, как ведется у фараонова племени, тряпье. Все ласкала ладонь, приговаривала гортанно: Богатый будешь, счастливый будешь..." Ляжку жирную показывала из-под юбки, на счастье. Кавалер дал ей рубль. Затряслась вся, схватила, как сорока, и за щеку сунула. Не погнушалась. Значит и вещунья, чертова сестра, фараонка - не знает ничего. Тогда Кавалер молча прижал ее к стене, и больно вырвал из левой косы аленькую ленту. Очень ему та аленькая лента приглянулась. А раз приглянулась - значит моё. Отдай.
Цыганка заголосила, монету выронила из карзубого рта в талый снег, а он, не обернувшись, зашагал прочь, рассеянно обматывая аленькую краденую ленту вокруг своего запястья. И от атласного ее прикосновения ноги у него подкосились, ласково и смертно свело ягодицы и бедра - еле устоял. Выше нет наслаждения, чем всеобщее неведение.
Все знают, что я сделал.
Никто не знает, что я сделал.
Нет никакой мзды, никакого урона, ни воздаяния, ни попрека, а даже если бы и были - шлюхи, кошки, псы, бродяги беглые пройди-светы, звонари да юродцы, кто их слушать будет, если князь солжет чистым голосом.
Что ж ты, Господи, медлишь, я ведь даже не захворал, не помрачилось личико чирьем, кудри грузинские не поседели, а на чужой боли, на пепелище чужого убитого и сломанного дома, на обиде невыплаканной поднялся, расцвел, что ячменный колос на жирной могильной насыпи, а Тебе все мало.
Мало...
Мало ли мужичья на Москве по пьяному делу горит!
Уголек на пол из печурки вывалился, лучина в паклю обломила горящий конец, и вся недолга - пошел большой пал, порхнула русская душка в рай, мясо на костях испеклось и отпало ломтями от остова.
Да рано или поздно сам сгорел бы Китоврас, от огня или от вина, моей вины тут на бровный волосок, на куриный голосок. Почитай уж сколько месяцев пальцы холеные паленым не пахнут. К любому холую из Харитоньева переулка, приступи с ножом к горлу, да спроси - где молодой хозяин был в ту заветную ночь, на колени упадет, закрестится, как мельница:
- Спал без просыпу, как у Христа за пазухой.
Подал Ты мне, Господи, убийство без убийства, так подай вдобавок блуд без блуда.
Аленькую ленту Кавалер бережно хранил в потайной каморке за спальней, закладывал в молитвенник, иногда доставал и гладил, наматывал на пальцы то так, то эдак, колыбелькой для кошки, любовался алым молитвенным переливом на сгибах.
Он не знал, что тем же вечером, фараонка кухонным ножом оскверненную косу, не расплетая, отрезала под корень, концы до вони, до ожоговых пузырей, опалила головешкой, а рубль утопила в сточной канаве. И сама никому не могла объяснить - почему сделала так, а не иначе, словно подсказали ей на левое ухо.
Сродники ее, темноглазые конские барышники, воровки-шутовки и лудильщики на сорок дней объявили ее нечистой, назначили пить и есть из песьей миски и ходить к светлой обедне, не пропуская ни одного дня.
Бродил Кавалер с пристальным опасным зверьком на левом плече по немощеным уличным дебрям. Змеенышем приподнимал голову хорек, стрелял черными булавочками глаз, скалил млечные резцы.
Дряхлой, горбатой, крутолобой медведицей след в след косолапо преследовала Кавалера Москва.
Тянулись гусиной стаей все Спасо-Наливковские, Подколокольные, Петроверигские, Богородица с грошиками, и Богородица с Неупиваемой чашей, митрополичьи белотканного камня палаты, Иван Воин и Параскева Пятница, пряха с исколотым спицами древним деревянным лицом - это её нерадивые девки, которые по пятницам вяжут и ткут, изуродовали. А что уж говорить о заклятой, нежно памятной церкви Григория Неокесарийского, веселая церковь, Кавалером излюбленная, пожаром изразцов исполненная. Бычьей кровью налиты изразцы изнутри, как порченное яйцо, из которого птенцу вылупиться не под силу.
Творил те изразцы мастер по прозвищу Полубес, он к чужой жене ходил, скосил лужок, замесил блудную кровь чужой женки в изразцы. Выпек Полубес свои изразцы в калачном гончарном жару, и по истечении срока, взошел на колокольню, перекрестился на четыре конца Москвы, как поджег, разбежался кратко и грянулся вниз головой, насмерть.
Запылали хохотом над лихой смертью мастера муравленые, малиновые, каленые изразцы-кровавики.
Выплясывали навстречу Кавалеру Старые толмачи и Грузины, сливались в единый городской кулак, спекались каплей олова в горниле без памяти.
И не помнил молодой, то ли бегством занят был, то ли бесцельной гульбой. Он на юру людском оставался одиноким, под сердце входила кругосветная московская прохлада, запах горячего пунша и печеного лука из приличного трактира. Слышался девичий смех, щелканье орехов. Купеческие сынки - полумальчики в шалевых поддевках и желтых петушиных сапожках провожали раскосыми от зависти зенками тигриную шельмовочку на одно плечико и котовью издевательскую походку прохожего.
Всё случилось в ординарную среду.
На пороге кабинета-конторочки, где обычно читал у цветного окна-фонаря, поймала Кавалера мать-москва. Выпростала руку с оспинками из-под шали, преградила дорогу, облокотясь о дверной косяк. Давно уже сын от рук отбился, гневалась исподволь Татьяна Васильевна, всевластная хозяйка Харитоньева дома.
Сказала грубо, в нос, по весеннему времени мучила ее простуда, надуло волчью глотку:
- Куда тебя несет, сын? Не пущу на Москву. Переоденься. Гостья у нас. - помедлила и прибавила с насмешкой - Дорогая гостья.
Глава 13
Покорился без сопротивления.
Сидели в столовой обе-две, хозяйка и гостья на низких креслах, попивали зверобойный и ромашковый чаек вприкуску с клюквенным сахаром, постничали напоказ.
Лакей козлиным тенорком младшего сыночка объявил. Заулыбались бабоньки.
Про себя называл Кавалер нечастых посетительниц "мамашиными старухами" и в глаза им не смотрел, много их, чертовых перечниц, таскается к матушке на дармовые прянички.
Склонился в дверях масленичной куклой, улыбнулся без приязни.
Звякнула японская чашечка о блюдце. Тявкнула болонская собачонка в лукошке.
Куриная сухая лапка в желтой перчатке - муаретке до локтя - так что вены, оплетшие лучевые кости, выступили под тканевой канвой - обвела острый раздвоенный подбородок.
Великодушно, зардевшись оспенным жадным лицом от чайного жара молвила мать-москва.
- Ну что же ты... Подойди к ручке. Вы уж не обессудьте, Любовь Андреевна, он у нас скромник, каких мало. Всего дичится.
- Скро-омник - эхом отозвалась дорогая гостья, и снова по-мусульмански обмела костяной подбородок ладонью. Желчный чехол перчатки подразнил - и за ним не разобрал Кавалер лица.
Только траурная лиловая кайма на табачном пышном платье всколыхнулась на краю зрения, да скуластый черепный угол лица из под слоя белил - и то-желтый, как лимонная цедра - нешто переболела старуха желтухой или другой печеночной хворью - рассеянно подумал Кавалер.
Выпросталась из табачного шелка долгопалая рука - для дежурного поцелуя.
- ЦелУю ручки Ваши ангельские - заученно бросил Кавалер и поцеловал горячий песчаный воздух над костяшками старухиных пальцев.
До вечера просидел в гостиной, пил мутный чай из японских скорлупок, и слушал, как матушка мелким бесом перед гостьей рассыпается.
- Любовь Андреевна то, Любовь Андреевна сё...
Сквозь полусон чинного чаепития слышалось Кавалеру искаженное отчество. Не "Андреевна", а "Патрикеевна".
Эка невидаль - Любовь.
Любовь Андреевна-Патрикеевна, несет меня лиса за дальние леса, мерзнет, мерзнет волчий хвост.
Вера, Надежда, Любовь, у мать их, Софья....
Досадно, досадно. Ускользало лицо гостьи. Только желтая сетчатая перчатка, да бугорчатая кость на запястье глаза мозолили.
Из пустой беседы понял Кавалер, что гостья, матушкина девичья знакомица, почти ровесница, жила без печали в Петербурге, купалась в роскоши, пока не захворал муж богоданный. Продуло его после бани, перхал-перхал, да и слег. Недели не промаялся, сердечный, убрался в могилу безвременно, а уж такой молодой был, бравый, четвертый по счету, или пятый, на старости лет и не упомнишь.
Разменяла честная вдова Любовь Андреевна шестой десяток, и пять лет сверх того, бездетна, безупречна, как снежная куча.
- Еще чаю? - соболезновала Татьяна Васильевна.
- Соблаговолите - по-старинному отзывалась Любовь Андреевна, а зрачки ее, точно вязальные крючки - всё замечали и не хочешь - зацепишься.
В иссохшей левой мочке гостьи играла ювелирными гранями тяжкая серьга-флиртовка, на тонкой цепочке, филигранная вещица, будто узорная капля из переплетенных нитей красного аравийского золота.
- Негоже к трауру носить серьгу, пусть и одинарную - ласково попеняла Татьяна Васильевна.
- Ох, что вы, душенька, разве можно, без ведома осуждать - возразила Любовь, расторопно подал ей блюдечко черный лакей-эфиоп в белом нитяном парике, гостья угостила сдобой, размоченной в сливках свою моську.
В правой руке Любови Андреевны скучал сложенный веер, такой же тошнотворно желтый, как и перчатки ее.
Тут же выяснилось, зачем у Любови обновка в левом ухе, тяжеловесная сережка-ковчежец.
Как помирал четвертый муженек, шибко убивалась Любовь Андреевна, кусочка не ела, росинки не пригубила, от одра болезни не отступала.
Горючие слезы проливала в изголовье супружника, сутками несла дозор, смачивала губы лимонным соком, стерегла последнее дыхание, а как отмучился, бедолага, тут-то самое любопытное дело совершилось.
В умопомрачении попросила Любовь Андреевна фельдшера-немца отсечь у покойника первую фалангу мизинца за большие деньги.
Немец-нехристь послушался и отсек скальпелем.
В серебряной кастрюльке, где бывало, яички перепелиные для завтрака кипятили, выварила Любовь Андреевна мужнино мясцо до основы и заключила в капсулу филигранной сережки-реликвария хрупенькую косточку и толику могильной земли, ради вечной памяти.
В страшный день, когда Михайла вострубит в золоту трубу, отдаст пучина и земля покойничков, станут в великой смуте кости воскресные собирать, вот тут-то муж женину заботу оценит - и не захочет, а отыщет супругу, непристойно ведь беспалому на суд тащиться.
- То-то мы с ним вдосталь нарадуемся, то-то нацелуемся после разлуки, а с той серьгой меня и похоронят, я уж в духовной все подробно расписала.
Умилялась вдовьему подвигу мать-москва Татьяна Васильевна. Сама из чайничка подливала гостье травяной взвар. Радовалась, что петербурженка важная надолго решила гостить, пока траур не выветрится табачным духом в фортку.
Любовь Андреевна указательным пальцем щелкнула по серьге погребальной и ощерилась.
Кавалер глаза в паркет потупил, чтобы матушкины оспины не видеть, не быть соглядатаем при встрече записных сплетниц.
- Скро-омник - нараспев повторила Любовь Андреевна, облизнула дёсна - повезло Вам с сыном, милочка. Вот ведь какой, будто на бахче под солнцем вызрел. Рассахарный с подтреском... Спать хочу. Пусть меня проводят в постелю.
- Немедленно - участливо закивала хозяйка.
Зашелестело мимо табачное платье. Обернулась в дверях Любовь.
Раскрылся с острым треском в правой руке веер. Мимолетно затенил лицо.
Вздрогнул Кавалер, будто оплеуху отвесили.
Потому что не простой веер в руках вдовы. Запестрел разворот китайского шелка из Запретного города. Пестрядь, пестрядь, мильфлер рисунчатый, а поверх - намалеваны на веере глаза с ресницами. И там, где должны быть зрачки - слюдяные окошки насквозь проделаны.
Поманили за теми окошками подлинные глаза старухи - мертвые, белые, как половинки вареных перепелиных яиц.
Со смехом вполоборота, будто в танце, заговорила Любовь Андреевна:
- Вы слыхали, милочка, старину?
- Не слыхала - матушка куснула кусок сахара, скривилась - болели зубки.
- Так послушайте. Люди говорят, в неделю после Троицы русалкам дана воля замучивать человека до смерти щекоткой, а чтобы любопытники понимали, отчего умер этот человек, на голову ему надевают венок из осоки и кувшинок, руки связывают березовой веточкой. Труп не гниет, пока до него не дотронется рука человека, каждую ночь вокруг него нагие русалки пляшут, хороводятся. Души у них, еретиц, нет. Совесть три года назад в бутылке задохлась, а туда же - понимают красоту. Не берите в голову, до Троицы еще далеко, всякое может приключиться.
Звучно уронил Кавалер чашку на паркет, поскакали осколки возле туфель с бантами.
Отвернулся, уставился в ледяное иглистое окно.
Матушка притворно отмахнулась:
- И зачем Вы, Любовь Андреевна, на ночь глядя, страсти говорите! Зря только мальчика напугали.
Не услышала гостья хозяйский упрек, пошла вверх по лесенке за лакеем с шандалом, не отнимая веера с фальшивыми глазами от глаз живых. Кажется карих. Или серых с петербуржской тусклой искрой.
За слюдяными мутными окошками не угадать было радужки.
- Ну что ты держался увальнем, без вежества, посуду бил, глаза прятал - по-доброму упрекнула мать-москва Кавалера напоследок - Ступай к себе и впредь не делай глупостей. Известна Любовь Андреевна чистотой беспорочной, обо всех говорят, о ней молчок. Честная женщина, свой хрусталь до преклонных годов сберегла, всем бы так себя соблюдать - был бы крепкий порядок.
И не заметила, что как от огня открытого, шарахнулся сын в темный простенок Харитоньева дома, и спокойной ночи не пожелал, а как остался один, к стене притиснулся и больные виски сдавил пальцами, приласкал по кругу, так, что собственные кости сквозь кожу почуял.
Последняя райская услада, в глубинах плоти лелеемая, осталась у Кавалера. Никто о ней не знал - ни сном, ни духом: ни мать родная, ни Царствие Небесное, ни книги отреченные.
В закутке спальни поджидала округлая дверь, в обычные дни занавешенная веселым отрезом бухарской ткани.
Та дверь вела в потайную комнату, пустой закром. Строгое прямоугольное зеркало царствовало в пустоте. Фасонной резьбы фестоны на зеркальном венце, оправа вылощена, похожа на крышку старинного музыкального инструмента, узкие балясинки-елочки по кайме, точный скупой орнамент, и волнистые пятнышки чернети на зеркальном верхе, там где черной рейкой плащаница серебряной амальгамы разделена на краткий чердак и долгий испод.
Полуночное зеркало, гадательное, с неверной горбинкой, подобие казни и улыбки.
В ту ночь Кавалер остановился перед зеркалом. Провел в темноте по надбровьям. Настороженно улыбнулся, будто украл и был пойман с поличным врасплох.
Поставил на столик увесистый пятирогий шандал каслинского ажурного литья, одну за другой затеплил от печной щепки церковного воска свечи.
Совиные крылья простерла над Москвой Страстная пятница. Тьма была по всей земле до часа девятого.
Или, Или, лама савафхани.
Церковным светом озаренный молча, спустил Кавалер сорочку до пояса. Остался перед зеркалом полуобнаженным, обманывая себя, что ниже пояса у него ничего нет.
Слава Богу, меня никто не видит.
Наискось провел ногтем с розовой лункой от пупочной впадины до сосца. Залюбовался. Живот, как у сытой девоньки, гладкий, окатистый, груди припухли, дремал меж ними кипарисовый иерусалимский крест на крученом вдвое кожаном гайтане.
Кавалер поднял крест к губам, поцеловал кротко и благодарно:
- Свете тихий, блюди девство мое в целости, если такую красоту в мир пустил вслепую, береги меня на краю. Аминь.
В такие ночи, перед зеркалом, в одиночку тесного рукоблудия себе не позволял, как никогда в жизни не осквернялся обычным юношеским баловством. Никогда ни во сне, ни наяву не касался того, что ниже пояса.
Проводил щекой по плечу вниз, насколько сил доставало, сердце сбоило, млело под ребрами.
В паху все тихо. Уд не волохнется, да к чему, когда вся плоть ото лба до пят в пылкой медовухе яровой похоти кипело, все тело срамным удом стало, трепещет от натуги, мочи нет совладать, жилы напружены золотой кровью.
Кавалер прикусывал нижнюю губу изнутри. Сам перед собой в гробном покрове зеркала небывалым облаком зыбился, блядская улыбка с губ туманным молоком плыла, будто из певчего клюва горлинки.
...Мир в блуде валяется, за окошками человечьи мураши в общей куче копошатся, друг на дружку лезут, волокитствуют, чуть их любовная припека за горло возьмет - уже готовы, сволочи, мотню в портках бередят, баб на спину валят, по потным местам мышами шарят. Спустя девять месяцев орут бабы, колыбельное мясо титьку беззубым ртом теребит, канитель сызнова повторяется, первородный грех свой детям передают с молоком материнским.
А Кавалеру - иное суждено.
Он отродясь себя поставил выше похотной слюны, отшатнулся от собачьих свадеб, от трясучей случки, от мужской малофьи да бабьих месяцов, от залуп да сикилей, от всего, что стыдно-стыдно-стыдно. Отчего руки поверх одеяла в замок держать надо, как нянюшки строго наказывали.
Коли будешь воробушка ручками под одеялом будоражить, черные раки наползут с Яузы, в омут из постельки утащат клешнями бородавчатыми.
Люди, люди, мураши тошные, кишат, плодятся и размножаются, как велено Господом, живут чревобесно и пьянственно, в слепоте, в грязце, в брусничной блевотине...
А Кавалеру довольно было в зеркальной каморе запереться, окошко фламандским шпалером изнутри завесить и ноготком по живому жемчугу кожи извилисто провести, меж ключицами тронуть ямку, землянику-ягодинку сосца двумя пальцами сдавить.
Опрокидывался затылком в преображенские тихие воды-иордани, с деревами, небесами, частыми звездами, в бездымном пламени безблудного блуда плыл навзничь в белокипенную мглу, где не женятся и не выходят замуж.
Настигала жара от стоп до макушки, полет, очарование, сила святогорова, в зеркале - пятирогий свет, колкие мурашки ползли по разветвленным волоконцам под слишком тонкой девической кожей, напруживалась и билась кровь в жилах, истомчивая нежность копилась в подбрюшье, томное давление которое невозможно вынести крещеному человеку.
Не утерпел Кавалер, ноздрями капризными вздрогнул, и в предплечье зубами впился, потянул в себя по-упыриному нежную кожу - тут же заалел на теплом снегу подсоса алый круговой след самохвального поцелуя.
Колени подломились, едва успел ладонью на подзеркальник опереться, навалился без памяти, обрушил свечи.
Долго ли так пробыл?
Долго.
В пылу тайной услады заполночь не заметил Кавалер, что забыл запереть вторую дверь, ту, что выходила в людской коридор.
Скрипнули петли - просочился в щель скупой свет. Песочными часами тень опрокинулась внутрь каморы.
Шевельнулось в тесноте табачное платье, осиновыми листьями оборки зашептали.
За игрой у зеркала подсматривала Любовь Андреевна. Ласкала узкими пальцами косяк. Следила, как по хребту меж лопаток Кавалера не торопясь сползала и тратилась капля пота.
Улыбалась Любовь, как сомнамбула.
Продленнно вытягивала пустынные губы осиным жалом. Про себя спрашивала:
Отчего у тебя такое тело?
Почему у тебя девичья грудь, плечи отрочи, очи княжеские золоченые, соколиные волосы всегда пьяным вином влажны, в жилах твоих черная кровь бежит. От меня ей не убежать, потому что я пришла и пожелала.
А проведи языком по плечу - небось кожа холодна да солоновата.
Дай мне, вороненок, то, что дома не знаешь.
Лампаду оливанную с Афон-горы сняли и в тебе затеплили на погибель. По своей воле живешь, по своей, не по Божьей. Так и сдохнешь, плевком на моей ладони.
Отчего у тебя такое тело, Кавалер?
Видела Любовь, как надломился юноша в игривой муке, как зеркало повторило очерк плеча, как попадали из чашечек свечи.
Отступила прочь до поры.
Ключик глубоко засел в скважине. Бесполезный ключ, который Кавалер позабыл повернуть, совершая перед зеркалом чистый, как спирт, блуд без блуда.
Стучали в дверь кулачком.
Кавалер очнулся, поежился, батистовый рукав на меченое плечо бросил, сделал как было.
Хлебнул походя из черпачка кипяченой воды, смочил горло и ключицы.
Вышел, улыбаясь.
Стучал в незапертую по рассеянности дверь Царствие Небесное.
- Тебе чего? Почему не спишь? - спросил Кавалер, склонившись над карликом. Разбойничья полночь Страстей Христовых ночной колдовской бабочкой под сводами крыльями многоочитыми копошилась.
- Почему не сплю? - переспросил Царствие Небесное. И вдруг выкинул юродскую штуку, каких не видано было раньше, перекувырнулся, горбом о половицы стукнулся, заелозил по-дурацки и что-то с полу зубами подхватил.
Сквозь зубы, потрясая находкой, в ладоши захлопал и задушенно заблажил:
- Мамка! Мамка перчатку забыла, а я подобрал! Ку-ку-ри-ку! Дери женку, дери целку, дери когтем попадью!
Как запасной язык, торчала из кривых зубов карлика забытая на паркетной елочке желтая перчатка-сеточка.
- Мамке находку снесу! Даст халвишки сладкой, за ушком почешет! - прогнусил юродивый горбун и на четвереньках, вздев гузно поскакал в исподнюю темноту.
Кавалер, широко распахнув глаза, прикусил щекотную кожу на костяшке мизинного пальца.
И, пошатнувшись, ушел спать.
В шестом часу ночи старая дама шла по лунным половицам Харитоньевского дома.
Лукавую босую поступь запоминали веера лестничных пролетов, бессонные балясины балконов, косые двери боярских светелок.
В правой руке старая дама наотмашь несла кусок старого сала.
Оттолкнула от себя единственную дверь.
Протянула в проем сало. Поцокала языком, щелкнула пальцами, пристально взглянула снизу вверх.
Кавалер спал, запахнувшись одеялом с головой.
Белый зверек - фретка, учуял запах сала. Встал на краю постели столбиком.
Спрыгнул и доверчиво бросился на приманку.
Старая дама подразнила, прихотливо взмахнула рукой, поддалась - на, бери, не бойся.
И когда хорек впился в сало зубками, Любовь Андреевна перехватила фретку за шкирку.
Одним движением - хруп-похруп - сломала зверька от горла пополам.
Сначала хребет, потом шейку.
Теплый трупик сунула в оборки подола и ушла.
Спокойной ночи.
В дальней стороне, в Твери, в Саратове, в Рязани, в Чухломе, где ивняки да черемухи над безымянными реками-сиротами клонятся, где белые колонны русских неброских усадеб восстают над болотными туманами... Там, вдали, в домовой церкви венчалась невесть с кем московская беглянка, молодая душа Анна Шереметьева.
Красивый ей жених выпал, кавалергард в отставке, пшеничные бачки, косая сажень в плечах, жеребец, умница.
Правую руку Анны покрыла чужая рука.
Бережно натянул муженек стоеросовый на первую фалангу дутого золота колечко.
На безлюдный проход церкви обернулась из-под вуали Анна.
Уронила венчальное кольцо. Велико было.
Поскакал по холодному полу перстень. Шафер хмельной кинулся золотое кольцо ловить - и поймал и вернул. Возгласил деревенский батюшка тенором.
- Венчается раба...
Согласна ли раба?
- Согласна - без души откликнулась Анна. И в тот день заставила себя не смотреть на московскую глинистую разъезжую дорогу.
И ела и пила с веселием, дурочка.
Как звали молодожена, не помнила.
Илья, Анатолий, Михаил?
А когда пришел срок, разъехались свадебные гости. Легла на спину. Закрыла лицо простыней и раздвинула ноги.
Узкая полоска соснового леса вставала зазубринами за овсяным полем.
Согласна ли раба?
Согласна.
- Нас луна поедает, мы к ней после смерти влекомы.
Глава 14
...Свет мои орешки-щелканцы! Вы рано цвели, а поздно выросли. Я, молода, догадлива была, пяльцы взяла, в посиделки пошла. Мне не шьется, не прядется, в посиделках не сидится, веретено из рук валится, бесы рыжие кружат подо мной, вьюжат надо мной, кажут рожи, говорят со мной привередливо:
- Молодая ты голубушка, белая, румяная, чернобровая, как тебе не соскучиться, со старым мужем живучи, на старого мужа глядючи?
Пойду я, молода, в черный лес, нарву я, молода, хмелю ярого, наварю пива горького, напою мужа допьяна, положу мужа спать в холоде, что на погребе, зажгу огнем-полымем, закричу громким голосом: Ко мне, соседи, соседушки, недальние, ближние, моего мужа гром убил, старого молоньей сожгло, а меня Бог помиловал, с кроватки свалилась, рукавом защитилась!"
Не услышат меня недальние, не проснутся соседушки ближние, старый муж в огне не горит, старый муж пивом-брагой брезгует.
Пойду гулять по высоким горам, да покрай моря окаянного, и по тем, по хорошим по зеленым лугам.
... Так ходила-гуляла девушка и копала коренья, зелья лютые, так и мыла кореньица девушка в синем море, так сушила кореньица девушка в муравленой печи.
Растирала коренья девушка в серебряном кубце, разводила те коренья медом сахарным, и хотела извести своего недруга.
Невзначай извела друга милого.
Причитала девушка, как монашенка, причитаючи, по щекам секла, молоко кобылье в рот лила, говорила мертвому живые слова:
- Ты хозяин мой счастливый и ласковый, дворянин-душа, отецкий сын, ты вздохни, поднимись, разомкни навстречь руки нежные, погляди на меня, друг, по-прежнему.
Ты по-прежнему отхлебни вина. Полномерные груди-яблоки ты, как встарь, сожми, губы терпкие языком терзай, кобелем борзым сучье мясо жри, коростелем вспорхни над просекой, горностаем меж ног скользни, просочись в нутро черным семенем, улыбнись, проснись, поцелуй в висок
И окликни меня по имени.
Нет, не жаль молодца похмельного. Жаль убитого, жаль напрасного. На свою беду синеглазого.
Кто окликнет меня по имени?"
Анна Шереметьева присела у окна, отдернула занавесь.
Между рамами скопился прошлогодний вздор: паучатина, мотки разноцветной шерсти, лепестки шиповника, пижма и душица для чистоты.
Окна тусклые, левая половинка треснула, а заменить недосуг.
Ненастье за окном исподволь наклонило сады - и ничего не различить было на сто верст окрест, знай, одно: постылые сосняки, осинники, хлева, амбары, балочка, пруд с мостками, где люди стирают серые холсты, на перекрестке за лесопильней заброшенная почтовая станция - кому она нужна, разве ездят в такую глушь живые люди?
Глинистая торная дорога протекала в головах захолустья.
Косые дожди, клеверное марево луговины, дальняя дорога за оврагом. До самой Москвы.
-Мос - ква. - сухими губами сказала Анна, чтобы не забыть.
На черном крыльце, что выглядывало на птичий двор, мужнин дебелый холоп дразнил поваренка:
- Хошь, малой, покажу Москву?
- Ага... - поваренок доверчиво задрал голову, потянулся - а сам-то маленький, что грибок. Веснушками обсыпаны щеки.
Холоп примерился - и хвать поваренка за уши. Вздернул до хруста, мальчишка - ну визжать, а холоп смеялся и приговаривал:
- Смотри Москву, высоко видать!
Господи, всякий день одно и то же.
Счастье.
Супруг Анны сыграл с гостями три пульки в рокамболь, вышел на крыльцо, проводил собутыльников восвояси, троекратно расцеловался у разъезда со всякими, звал к обеду назавтра. В зале хлопали створы складных ломберных столов - дворня затеяла уборку.
В дальней комнате-ларе часы с хрипотцей отбили четверть девятого.
Толстая баба с пустым ведром потащилась босиком по садовой тропе - то ли за водой, то ли с капустных гряд обирать слизней - мокропогодие, много дряни развелось, того гляди, всю рассаду потравят.
Мальчики повели купать борзых собак - Фортунку и Арбатку. Псы на ошейниках висли, гарцевали, горбатили холеные спины, рыжая шерсть вилась по ветру, опадали беспокойные рёбра.
Шершавые шаги шаркали по вощеному полу. Хныкал поваренок, скорчившись под стеной птичника, утирал соплю кулаком.
Мышь точила в углу. Поточила и затихла.
Остывшими глазами молилась Анна Шереметьева на дальнюю дорогу.
Колеи глубокие, непроезжие, рыжие, ложные.
Там за полем, за пойменным лугом, всего в ласточкином полете от большого дома - перекресток с обветшалой деревянной божницей, у шестнадцатой версты. А та верста вся растрескалась, поросла вьюнком. На перекрестке после полудня, пока супруг, отобедав, без души дремал, стояла Анна, прислонясь к полосатому столбу, смотрела на Москву, но видела ржавый бузинный куст у обочины и молчала. Заворачивала дорога, как в гадательных зеркалах со свечой - всегда налево, как ни заклинай, как ни гляди.
А вдруг издали конские копыта размесят на скаку глинистые пласты.
Ближе, ближе, ближе...
А вдруг вырвется из-за поворота всадник простоволосый, весь забрызганный дорожным дрязгом, лошадь безмастная, всадник бедовый, только острые локти да локоны грузинские по ветру бьются. Перекошены конские челюсти, кипит в оскале железо жесткого мундштука, белкИ глаз лошадиных опасно высверкивают, седло татарское серебряными бляшками украшено, во лбу у коня - белый полумесяц.
Гессенские сапоги отворотами под колено, у самого всадника глаза - бесшабашная финская синева, мартовский лед с подталком и небо над ним - шестью крыльями кучевых облаков нараспашку.
- Он окликнет меня по имени. - самой себе говорила Анна - и тут же обещала - А я не закричу, прокушу губу до крови, и только один шаг сделаю.
Один шаг к Москве-матери.
Шелестела бузина, далеко перекликались люди, Анна слушала их голоса, опускала голову, пора домой.
Скоро проснется муж послеобеденный, спросит о ней, что ему ответят?
Возвращалась одна через овсяное поле.
Оглядывалась через плечо. Старела с каждым шагом.
По ярмарочным дням тянулись по дороге торговые возы, затянутые холстинами - то ли горшки везут продавать, то ли молочных поросят и курей на соломе.
По будним дням, каторжники месили могильные колеи тракта безразмерными бахилами, прикованные по шестеро кандалами к одному железному шесту. Обращали лица, Россией обглоданные, к Анне, стоявшей у столба, будто часовой солдат.
Кандальники скалили десна, показывали расчесанные рубцы от выжженных клейм, хрящи переносья, а сами ноздри вырваны. Косые шрамы на щеках - от края губы по десне чуть не до скулы распорото.
Государственное слово и дело калечит навечно. Каторжане клянчили хлеба. Горбушки и мелкие монеты Анна оставляла для них на камне поодаль. Брали. Благодарили барыню.
Уходили.
Анна оставалась.
Снова и снова куталась в шаль, считала сутки.
Шла по привычной дороге через овсяное поле, как обычно.
Торопливо били копыта в глухонемую землю.
Анна застывала на полшаге на усадебной лестнице, оборачивалась через плечо, как волчица.
Управляющий без седла - 'охлюпкой' на пузатой кобыле трюхал из города, издалека видно было: отпраздновал бабкины крестины, еле держался.
Будет его женка ухватом по горбу колотить и голосить: На кой ляд за тебя пошла, на кой ляд жисть мою сгубил, ирод пьяный'. И дети по углам заревут и друг за друга попрячутся.
За завтраком - как пить дать, супруг, яйцо вареное расколупывая ложкой, расскажет для смеха байку, как управляющего женка колотила, на порог не пустила, да как он заполночь на морковных грядках спьяну заплутал, а заплутавши, в колодец сблевал.
И так всякий день творилось
Счастье.
Вот и сегодня слушала она, у окна сидя, как в обеденной буднично бряцали столовыми ножами-ложками, накрывали позднюю трапезу для господ. Из шалаша летней кухни несло горелым, сытным, грешневым - запах домашнего предательства. Простая радость уездного супружества - покушали вкусно и баиньки мягко.
Анна ощупала взрослыми пальцами высокие скулы свои, уронила руку в тайный карман подола, нащупала игрушку, вынула - но даже не посмотрела на нее, лишь чуть-чуть сжала в кулаке.
Привычная игрушка, во всех хороших домах такую сыскать можно было - мячик из перьев. Пять лет назад тайно мальчик девочке передал из руки в руку, велел никому не говорить о подарке. Анна не вытерпела, проболталась братьям, те подняли насмех - тоже, невидаль, грошевая забава, нищие нищим на Вербном базаре продают, скуп на подарки твой Кавалер, как и дедки-бабки его татарские, у них-то у кого пара овец да халат, тот и князь. От нищенского товара на руках выскакивают цыпки и бородавки, ни на что базарная мелочь непригодна, разве кошкам батюшкиным швырнуть, пусть утащат к себе, потешатся.
Аннушка братьев не послушалась, прятала мячик под подушку, боялась, что если и вправду кто ночью утащит.
Годы прошли. Всё забыла.
Сама не ведала, как в суматохе отъезда из Москвы безделушка сама по себе ей в руку прыгнула, и пригрелась, будто так и надо.
Легкий помпон, перья радужные - крашеные, чуть сильнее сожми - и конец.
Дремало на широком подоле Анны Шереметьевой начатое и брошенное рукоделие. Пяльцы с канвой, да мешочек с бисером. И закопченная спица, ею муж чубуки чистил, отдал Аннушке - чтоб протерла суконкой до блеска табакурную снасть.
Анна послушная. Она протерла спицу дочиста.
Супруг сзади подошел, как он думал, незаметно. Пахнуло от него перцовкой и мужским мускусным пОтом. Кафтан сизый с венгерскими желтыми кунтушами, бачки пшеничные, даже на взгляд - колючие. Хорош. Все стати при нем - навыкате чугунный лоб, беспрекословная косая сажень в плечах, бычья мотня в узких панталонах, руки загребущие, под такого какая бы не легла?
Ухватил супруг Анну - одной ладонью под груди, другой под ягодицы - крепко накрепко. Теплыми губами сильно поцеловал сзади в шею, будто гусеница волосатая поползла.
Анна выронила от испуга перед супружеской лаской перьевой мячик из светлой ладони.
Поскакал пестрый мячик по половице.
Обернулась из объятий. Увидела. Поняла. Улыбнулась.
Взяла с колен до блеска натертую спицу.
Встала, стряхнула на пол и пяльцы и бисер.
И воткнула мужу спицу в левый глаз.
Всем телом навалилась на резком выдохе - протолкнула острие вглубь, чтобы наверняка.
Мужчина упал на колени, облился алым масляным по скуле - обе ладони к лицу вздернул, замычал, в колени Анны воткнулся лбом.
Анна смотрела без мысли на небыструю смерть.
Вздрогнула и очнулась от краткой дремы Анна Шереметьева у окна-фонарика.
Нежный муж поцеловал ее сзади в шею, пощекотал ногтем за ушком, спросил:
- Задремала, душенька? Что во сне привиделось?
- Пчела.- ответила Анна.
+ + +
...Кавалер перебросил из ладони в ладонь мячик из перьев.
Бог весть, как затесалась игрушка среди мелочей на столике, с прошлого ли Вербного, с Прощеного ли воскресения. Вот тут, сбоку, остался след мелких зубов и перышки выпали.
Бывало горностаюшко, гордый князюшко, забавлялся кругляшком ловче кошки.
Бывало, да минуло.
Истекал май месяц, годовая вдова, пора хворей и сглазов.
В мае свадеб не играют и детей не крестят, иначе весь век молодым да новокрестам суждено маяться.
Счастья не будет.
Несмотря на черемуховые заморозки, Кавалер приказывал не запирать окно в спальне - на
три пальца продушина в сад.
Нагуляется зверь, юркнет в лазею, придет на грудь дремать.
Кавалер в поисках своего зверя обошел все окрестности. Обещал дворовым рубль, если беглеца сыщут и вернут в Харитоньев переулок хоть живым, хоть мертвым.
Сапожников мальчишка, малоумный, повадился носить слепых котят, а один раз - приволок из ловушки крысу с перебитым хребтом.
- Не ваши?
Кавалер откупался мелочью. Наконец, приказал докучного дурака гнать взашей, чтоб мертвечину не таскал, не язвил душу.
Стал думать, что зверя разорвали собаки.
Таскаются псы по Москве десятинными стаями. Играют свадьбы на пустырях. Пьяных по ночам рвут. Кошек рвут. Гуся, козленка, дитя - могут запросто задавить. По жаре бесятся.
Зверь им на один укус достался.
Хоть бы косточки от зверя найти. Если завернуть в платок, в саду рассадить, сладкой водой поливать, вырастет яблонька, кто ни проедет мимо - залюбуется. Яблоки высоко висят. Никому не достать, ни Одноглазке - сестре, ни Двуглазке-сестре, ни Трехглазке, старшей, недреманной суке.
Спи глазок, спи, другой.
Кавалер мало спал. Неотступно думал про Зверя и про собак.
То тут, то там, по дворам гулко и одиноко, как из колодезя, взбрехивали псы.
Кавалер сжимал кулаки. Ненавидел.
Бить, убивать собак. Вот что надо.
После обедни увязался за ним от церкви старый кобель.
Пригибался, льстил, хвостом вертел. Кавалер не стерпел, от сердца дал ему под вздутое брюхо каблуком - аж ухнула песья утроба, как барабан.
Завизжал пёс, зажаловался.
Многолюдие загалдело. Бабы, которые посмелей, осудили:
- Лютое дитятко. Нашел кого обидеть - беззубого!
Пёс уж не визжал, смотрел с укоризной, кашлял, капал слюной.
Кавалер купил у бабы румяный пирог, швырнул псу наотмашь, чтоб люди не срамили.
Кобель пирог понюхал, не взял, и поплелся восвояси.
Нищие на торжке близ храма его привечали, называли Мишкой. Ученый. Пиво пил из черепка. Через подставленный локоть прыгал и под сопелку выл на все лады.
Он моего зверя не жрал. Очень старый, такие не могут.
Отчего моим пирогом побрезговал?
Гордый?
Или паленое почуял?
Как со мной пировать, так все гордые, так все чуют.
Бабы у церкви похохатывали, руки в боки. Одна, востроноска, кобыла, глазами 'так' повела, задразнила:
- Что, молодой, не жрет кобель собачью долю? Не по нраву Мишке барские коврижки!
Какая такая собачья доля?
Вспомнил. Прежде времен Господь покарал грешников за жадность и блуд. Градобитие и голодомор, ни былинки не выросло.
Ни мужской брани, ни клику женскому, ни плачу младенческому Бог не внял, не смягчился.
Тогда вышла на голое поле белая сука, подняла голову, сказала прямо в небо:
- Что ж ты, Господи, делаешь? Не могу я Твоей доброты перенесть.
- Отчего не можешь? - спросил Бог.
- Очень есть хочу, - ответила белая сука и живот поджала - Хлебушка бы.
- А что ты мне дашь взамен? - спросил Бог.
- Душу бессмертную дам, - сказала белая сука.
- На, ешь, - сказал Бог и с неба бросил белой суке краюху - черствей кремня.
В тот же миг Бог вырвал у белой суки из-под ребер душу.
Белая сука взяла ломоть в зубы, но сама не ела, отнесла хозяину и хозяйке и перед ними положила.
Хозяйка размочила хлеб в кипятке, свернула из ситца рожок, накормила детей тюрей, белую суку похвалила. А раньше-то - что ни день била по голове.
И отпустил Бог грешникам великую вину. Плодитесь, ешьте собачью долю.
Но с тех пор Он отнял у скотов речь, чтоб не смели, души не имеющие, за хозяев молиться, Божье сердце истощать.
Так и повелось, едим собачий хлеб и благодарим.
А псы - белой суки дети, все сидят и в небо воют. Что ни день просят для нас хлеба насущного.
Кавалер на баб глянул - те умолкли и попятились. Он быстро подобрал кобелиный пирог из слякоти, сжевал вместе с уличной дрянью половину и прочь пошел. Зажал в кулаке объедок - сквозь пальцы выдавилась капустная начинка.
Еле успел свернуть на задворки мастерской, упал, скорчился, оперся на руку, дорогой воротник рванул. Полчаса душа горлом шла.
Мастеровой вышел на двор помочиться, промолчал - мало ли пьяных шляется.
Кавалер сам поднялся, по стенке. Ополоснул лицо и рот в конской колоде. Лихорадило.
Дома ничего не заметили, занимался, как обычно, повторял немецкие и французские артикли и спряжения (думал о собаках) Читал Цезареву 'Галльскую войну' (думал о собаках), после повторял за танцмейстером фигуры менуэта, польского и контрданса, но скоро сбился, заплелся красными каблуками (думал о собаках). Судорога свела икру, пока разминал - порвал ногтями чулок и кожу - еле отняли руку, сам не смог. Отослал учителя раньше срока, сказавшись больным.
Морщась, дохромал до двери на лестницу, толкнул карельской березы створу, и отпрянул: прыгнула на него с рыком из темноты белая сука-сатана, лязгнула клыками. Пасть. Смрад. Укус в лицо.
На крик прибежали снизу любопытники, теснили друг друга к перилам, Кавалер, к косяку привалившись плечом, махнул рукой.
- Вон пошли. Померещилось.
С тогда дня извелся Кавалер. Ни обеда, ни ужина до конца не досиживал - все чудилась в тарелке грязная начинка, собачья доля.
Зажав рот, вскакивал Кавалер из-за стола, не слушая, как мать зовет его в ужасе, еле успевал в отхожее выбежать, чтобы прилюдно не опозориться.
Раз за разом Кавалер один в людском нужнике разжимал зубы, извергал желчь поневоле.
После поднимался по темным ступеням к себе и если встречал живое, то закрывал лицо домашней перчаткой, скомканной в мокрой левой руке.
Приказывал принести лимонной воды с ледника, сосал кислый цитрус и выплевывал волокна в блюдце, проглотить был не в силах ни крошки.
Подолгу лежал один, пережидал тесный комок под кадыком.
За все время всего раз осмелился взглянуть в свое тайное зеркало, перед которым в прежние дни не раз предавался сладости той любви, что греки именовали "Нарциссом", а либертены парижские - "партией в солитер".
Взглянул и шарахнулся. Отражение покривилось. Кожа посерела, глаза запали, на скулах румянец рдел отдельно, как щипок.
Давило изнутри под лоб и в глаза, голубые молоты били в голове.
Чуть вставал, уже садился. А если тянуло с кухни съестным духом - тут же чудился горностай в бесноватом пёсьем кольце, тут уж готово дело, пошла душа в отхожее лисиц драть.
После приступа Кавалеру становилось легче. Любо-дорого: пуст внутри, как тростниковая свирель, чище чистого, выполоскан до последней складочки желудочного мешка, в голове легко, будто северным ветром всего насквозь выдуло на все четыре стороны. Сквозняк в костях, как у птицы небесной. Люблю себя таким. Расцеловал бы в губы, ежели бы можно было самого себя целовать. Нашел в классной комнате пыльную коробочку, где батюшка-покойник хранил оптические закопченные стекла, изволил в молодости наблюдать затмение солнца, с тех пор сохранили. Не доверяя зеркалам, Кавалер подносил неровные осколки в грубой елисаветинской оправе к губам - воображал в истоме, то ли диск затменного солнца целует, то ли самого себя взасос. Беспамятство. На верхнем этаже оконная створка хлопала. Слышно шёл дождь.
Псы в Москве. Повсюду рысцой в сумерках трусят псы.
Сотрясаются, оскаленные рыком псы. Хвосты крючком, уши торчком. Страшно.
Кавалер скрывал недуг, спохватились поздно, когда уж куска просфоры проглотить не мог.
Пригласили немца - тот помял живот барича костяными пальцами, поцокал, как бурундук, мекал-бекал. Разве французские припарки применить, да бросить кровь, авось оклемается, а не оклемается, на все Божья воля.
Отворили жилу на сгибе локтя, ударила темная руда из крестового разреза в подставленный цирюльный таз.
Растеклось по краям мясное пойло, как с бойни, живая влага, которую обычно на белый свет не кажут.
Крови видеть не мог. Замычал. Унесли, расплескивая на паркет.
Мать склонилась, поиграла воротом рубашки, отерла мокрую грудь:
- Легчает?
...Легчает мне, час от часу легчает, разве вы не видите, все отойдите, все оставьте, дверь на три засова заприте за собой.
Давай, рябая девка, Танька, Лизка, как тебя там, беги на крылечко, погляди, не пишут ли мне словечко, не дышит ли неровно по мне сердечко, не вскипел ли сургуч на печати. Утоли моя печали.
Анна.
А теперь справа налево прочти ее имя. По жидовски прочти, по - муслимски пропой, да по русски сожги дотла.
Как псы, горностая разорвавшие, проступали из подлобного бреда пращуры.
Будто на развороте вертепной книги - фигурки государей, ангелов и разбойников из кружева и золотой фольги.
Кипели в телесной тесноте крови древние, царского разврата золотоордынцы.
Москва сулила то отцеубийство то цареубийство, глинка-багрянец на косогорах обнажилась, трава не расти, у мраморных девок в барских садах месяца начались, по ляжкам изнутри красное потекло. Кровью капали освежеванные боровы, поворачиваясь на мясницких крюках, кровью на закате рдели полосы облаков, напарывались тучи бычьими сычугами на каланчи и острые крестики.
По всей Москве - бесстыдный мясоед.
Визжа, оборачивались на скаку казанские мурзы, любовно брали за горло русские города.
Молоденькие татарские княжата, узкобедрые, как девственницы, бешеные от нежности, въезжали в царские врата церквей на горбоносых лошадях.
На образах потёками конская моча, кумыс и причастное вино. Воробьи под куполом пёстрым порхом кружили. Роняли помет на трупы.
Чужаки рвали дань, хлебали кобылью кровь с молоком, добивали раненых, лили расплавленный свинец в рот мученикам.
Пировали, в угаре, на реке Калке и трещали хребтины побежденных под пиршественными досками, когда сотрапезники ломали пресные лепешки, ели горькие травы и конину с невыточенной кровью.
А потом щепкой из межзубной щели доставали кровавое волокно.
Ехали на торговый майдан душу тешить, мясо русское за ноги вешать.
В шатрах на подушки откинувшись, слушали, как сладко поют для них духовные канты слепые монастырские отроки. Отрубленные головы на шестах прикусывали языки. Качались в очах небесных бунчуки с конскими хвостами.
Плыли над посадами дымогарные облака.
По темным дорогам от Москвы ли, от Козельска, пробирались погорельцы с пожитками.
Ревели на ветру тульские и валдайские чащи - трущобища.
На сильных лосиных ногах по всему свету любовным гоном металась весна
Красила невыносимыми колерами кирпичи Харитоньевского дома.
В тяжелом недуге оцепенел на постели младший сын. Прислугу обули в войлок. Заказали сорокоуст по семи монастырям.
Приступал из полутьмы лекарь-табачник, пытался разжать кулаки и зубы, уложить, напоить овсяным отваром - тщетно.
'Так-так'... 'Так-так'... - качал головой немец и удалялся.
Ай-я, ай-ла, православная кровь залила брови, не сблевать, не смыть, голубой крови. Серый пёс-соловей на рябинушке свищет, душу мою ищет, а все ворота на Москве безохранные, а все попы в монастырях безобразные, а все клады на Москве некретимые, а все девки на Москве невредимые, а все реки на Москве - кипяченые, а все мальчики на Москве заключенные. Воет мать сыра Москва на груди. Кистени да топоры впереди
Чур меня, чур-чура, сквозь татарщину немчура.
Кобылья пена хлопьями летела в лицо, строгие удила рвали отвороты губ.
С грохотом по кругу бродили по России одичавшие табуны.
Остроги и крепости стояли незыблемо, обомшели частоколы с пугачевщины, заржавели пушки, обвисли знамена.
По всей земле мир и в человеках благоволение.
Кавалер просил в бреду седлать коня.
Тут же видел себя всадником. Издали скачет, припал к лошадиной шее. В сон клонило русского отрока, а надо было в комок собраться, коленями онемевшими сжать ходкие бока, невесть куда под откос успеть с вестями.
Крепость совсем близко.
'Кто шепнул на всю Русь - "Измена!".'
Я шепнул на всю Русь.
- Измена.
Не успел вестник доскакать до крепости.
Ночь-полночь настигал всадника лютый враг, раскосый двойник на караковой лошади, замахивался, бил по шее наотмашь кривой крымской саблей, рассекал жилу до шейного позвонка.
Кровавый пузырь на губах лопнул. Навзничь, затылком на руки убийцы упал вестник.
Вздрогнул ровесник - ордынец, впервые потянулся ко лбу двоеперстием, как неверный, осенил крестом безусое лицо, убаюкивая убитого на руках.
Всхлипнул, когда вошла меж лопаток короткая стрелка. Из темноты стреляли, а кто - Бог весть.
Так рядом голова к голове и легли мальчики - крымчак и русский, обнялись, черные кудри с русыми сплелись, как речная трава. Сукровица смешалась. Весело спать на Руси мальчикам.
До утра утаптывали мокрую траву оседланные лошади - белая кобыла, жеребец караковый. Переплетались шеями, теплом из ноздрей обменивались. Пустые стремена гулко били в ребра.
Перетерлись подпруги, лошади порознь уходили в степь. Таяли ковыли под копытами. Таяли облака.
Родила белая кобыла пегого жеребенка по весне.
Поковылял за матерью. Горячий послед остывал на родильном месте.
Крепость не устояла. Сожгли набегом.
На соломе две бабы рожали в один час - одна русская, другая татарочка - казанка.
От одного ли рожали, от двоих, кто вспомнит.
Темная тощая большая страна стояла, как Богородица, в головах, крестила вслед.
Обернулась старушка-Богородица к постели Кавалера, и увидел он, что правый глаз ее вытек на щеку.
Закричал.
В осинники на краю большой Москвы безъязыкие пастухи выгнали стада.
Пусть порезвятся, покуражатся, по молодой хмельной траве овцы и говяда.
Ревели быки имя, наливая алым глаза. Блеяли тонкорунные ярки имя в самое небо. Били по слогам имя белые рыбы в омутах, кровенили бока о талый лед.
Обманы и банные дымы плыли над холмами.
Анна. Анна. Анна.
Она.
Разве не почтовые бубенцы под дождем соловьят, разве не жеребцы-киргизы в тройной упряжке скалят на рыси рысьи зубы, разве не везут письмо для меня?
Нет для вас письма, барин.
Вам пишут. Надо ждать.
Спутницы детства - павлиноглазые птицы - колпалицы, симурги - высоко, не достать.
Вереницами птиц по сусальному золоту расписан был потолок спальни. Снижались птицы, хлопали серповидными крылами. Глухота от их клёкота.
Прихватив изнутри рукав шутовской куртки - черной в белый горох- карлик по имени Царствие Небесное, докрасна отер пот с виска Кавалера.
Кавалер потянулся запястье его перехватить - и не поймал, ужом ускользнул Царствие Небесное.
Распахнул окно пошире. Сел на подоконник, обхватив колено, заболтал ногой на ветру. В осьмушку стекла снаружи ударился майский жук.
Только что прошел дождь, водостоки рокотали последними потоками, до одури багульником и можжевеловым дымком пахнуло из щели.
Кавалер, остывая от трехдневного бреда, ясно выговорил:
- Бить, убивать собак.
Царствие Небесное наморщил лоб, оценил взглядом, и скорчил моську такую - дело ясное, что дело темное.
Выдохнул через мясные губы. Головой покачал:
- Тоже дело: собак убивать. Нечем коту развлечься, так он яйца себе лижет. А зачем, скажи на милость тебе собак бить?
- Как зачем? - Кавалер забыл о слабости, сбросил одеяло, сел в чем мать родила, уставился на карлика и все, как есть, взахлеб выложил и про то, как зверя псы порвали, и про кобеля Мишку и про собачий пирог.
Царствие Небесное нюхал табак, слушал Кавалера в пол-уха.
Помедлил и ответил:
- Собаки капустные пироги не едят. Хоть битые, хоть не битые. А паче того прикормленные. Горностая моего, даренку, больше не ищи. Лесной зверь - вот в лес и ушёл, к своим. А мы пойдем сейчас на Москву гулять. Не то взаперти прокиснешь.
- Я не могу встать.
- Выпей воды. - карлик подал кружку, Кавалер его послушался, в голове прояснилось, но снова сомнение взяло.
- Да кто же меня выпустит? Меня в три глаза холуи стерегут. Весь дом переполошим.
- А, болтай кому другому. Тебе засовы не помеха. Глаза отведешь, в окошко прыгнешь. Долго ли умеючи. - отмахнулся Царствие Небесное, и, не глядя, швырнул Кавалеру скомканную рубаху. - а заметят пропажу, скажешь, что не в уме был, ничего не помнишь, потянуло на Божий свет.
Так и пошли.
Холостые ливни выхлестали Москву по скулам крест накрест.
Большие сады переваливались с забора на забор ярой бузиной. Мокрые гривы древесных крон наклонились над прудами, рвали ветреную прохладу, как голодные.
Мордвины вразнос торговали ранним щавелем, приходили под утро к кухонному крыльцу, вываливали травный товар из мешков.
Из окна в окно мерно ударял звук капустных сечек - рубили сочный кислый хрящевой щавель, варили зеленые щи.
Кто побогаче, забелял трапезу половиной крутого яйца или ржаной мукой с отрубями. Дешево и сердито.
Зеленая масляная вода катила под мостами на Яузе и Неглинной. Гнили затоны. В сумерках гурчали натужными жёлтыми голосами речные лягушки, карабкались друг на друга, любились в тесноте.
Лодочники чистили длинными крюками пруды, освобождали полную воду от лягушиной икры и плАвника.
Кавалер и Царствие Небесное шли по Кузнецкому мосту, где издавна поставлены сладострастные французские лавки-галантереи: муранский бисер, атласные ленты, веера, притирания, пудры всех оттенков, от простой солдатской до радужной, карнавальной.
Знакомые щелкоперы с Кавалером раскланивались - и долго смотрели вслед, запоминали походку, как на людях держится, как наряжен, да насколько один конец кружевного шарфа ниже другого свесился с капризного девичьего плеча.
Никто не удивлялся тому, что рядом с пригожим господином ковылял кольченогий горбун-недоросток в куцем куртейке и треугольной шляпе с петушиным пером.
По Москве толки шли, что Кавалер берет с собой на люди урода, чтобы красоту свою оттенять в выгодном свете.
Причуда жестокосердия и гордыни. Он может себе это позволить.
К вечеру в подворотни, на крылечки лавок и питейных домов повыползли простые людишки, распластались, лежали поперек дороги, мудя чесали, кушали из сулеек ядреную водочку, так от века повелось, поздней весной и летом - любил московский люд поваляться поперек улицы, на других посмотреть, небо покоптить. Все ж таки, Боже мой, до весны дожили.
Людно на Кузнецком. Торговали на углу баранками с маком и с таком. Хитрые воробьи за бубличником скакали бочком и поклевывали.
Торговец ароматными водами расставил на свежеструганной скамье синие флаконы - весело преломлялось солнце в их гранях, притертые пробки вынимал из горлышек, давал богачам нюхать - толпились вокруг любезницы и бездельники, ссорились и много о себе понимали.
Прошагала кляча - ребра да брюхо - запряжена в бочку с водой, а в бочке дыры проделаны - чтоб лилась вода на деревянные мостовые, прибивала пыль.
Вёл клячу мальчонка, а второй - с метлой, размазывал влагу вослед.
Задрала кляча репицу, трудно уронила котяхи из-под хвоста.
Кавалер дернул плечом, опять под горло подступил ненавистный мякиш собачьего хлеба.
Заозирался - есть ли место, куда отойти по черной нужде через рот. Ненавидел себя за это. Есть ли большее унижение, чем каждодневная рвота.
Ласково, по крестильному имени, как мамка, окликнул Кавалера Царствие Небесное.
Обернулся Кавалер.
Царствие Небесное в ответ замахнулся короткой рукой - и метко влепил в скулу Кавалеру дымящееся конское яблоко.
Навозными брызгами залепило левый глаз.
Прохожие заржали.
Серная желтизна застила глаза. Раб на господина руку поднял.
Убью.
Всего четыре слова сказал Царствие Небесное, отирая руки:
- Это могла быть пуля.
Кавалер ощупал битое место, словно искал раздробленные свинцом кости, обнаженные щечные жилы, выщербленный осколок развороченной глазницы. Наклонился к Царствию Небесному.
Шепнул:
- Пуля? Не хочу. Научи.
- Уверен? - усмехнулся Царствие Небесное, - Ну будь по-твоему. Научу. Только ты мне сперва сам скажи - чего хочешь, а иначе учение не впрок пойдет, будто княжичу собачья доля.
Кавалер задумался азартно, в очах лукавинка заиграла, сдвинул, балуясь, треуголку Царствию небесному на нос.
- Чего хочу, того не знаю. Чего не знаю, того не хочу. Вот что: хочу истинной правды.
- Добро.
Черный карла снизу дернул Кавалера за полу в переулок, подале от людского глаза.
Плутали, как русаки. Кавалер сам не разумел, как удержался на кисельных после болезни ногах. Потешился игрой слов: по левую руку мелькнул Кисельный переулок.
Земля из под ног весело плыла, тянуло из нищенских щелей березовым дегтем и резким весенним запахом - крапивкой, щавелем, таловодьем, так свет пахнет, смех и грех, когда восемнадцать лет дерзко задели по лбу облаком с пылу с жару.
Отдышались на задворках малого храма - четыре горчичные главки, византийские венцы, вразнобой дребезжали колокольчики, вещали общую вечерю.
Разве колокольщик был пьян? Ишь, как дергался на колоколенке в такт, будто куколка спустя-рукава.
Колокола жалобно ябедничали трезвоном "был пьян, был пьян, распьяным-пьяно-пьянЫй".
Белый храм, то ли Вознесение Словущее, то ли Никола, то ли Варвара, много таких по Москве построено. Ладно поставлен Божий дом, на заднем дворе погост, пригорок огорожен был кирпичной стеной с жестяными крестиками, земля подавалась под шагами, точно войлок. Жирная, хлебная земля, хоть сейчас ложкой зачерпывай да ешь. В полную силу поднялась молодая трава, там и сям разбежались желтики мать-и-мачехи.
Среди травы - серые каменные гробы и плиты.
То виноградные грозди на камне вытесаны, то серафимы, то адамовы главы с перекрещенным костьем, то лестницы, по которым кроткие душеньки карабкаются в небеса, то крыловидные жены, склонившиеся над урнами. На купецких надгробиях старинная вязь, достойная псалмопевцев старого обряда. "Жития ему было..." 'Девица Лазарева, жития ей было беспорочного'.
Имена стерты временем, цифири житейской не прочесть.
По указу Государыни, с чумной годины при церквах не велено было хоронить, вот и сделались старые кладбища пристанищем для картежников и заговорщиков.
Сумеречный час - последний луч уже купола обласкал и ослабел - на западе.
Родственники не посещали забытые могилы - да и кто помнит мертвых спустя тридцать лет, только на ближней к стене плите церковные служки сжалились, раскрошили на помин крашеное луковой шелухой и цветным ситцем яичко.
На поваленной плите присели друг против друга Кавалер и Царствие Небесное. Молодой дышал, как запаленная лошадь, раздернул на шее шарф, раскидал кудри по плечам, пухлый рот приоткрыл, как прилежный школяр.
А Царствию Небесному - хоть бы хны - и не запотел на бегу, разве крест нательный из под одежки выбился набок.
Заговорил с расстановкой, сощурив левый желтый глазок:
- Хочешь истинной правды? Изволь. Правда, что ты осенью на Пресне неповинного мужика и малолетку его спящими в дому сжёг. А чтобы самому не погореть, на кровное дело подбил сухотника. Правда, что тайком от матушки к гулящим на Черные грязи бегал. Правда, что девок, волочаек бедовых, глазами ел ночи напролет. Правда, что невесту, свою, Анну Шереметьеву, безумными словами отпугнул, чтоб не маралась о твое мясо. Правда, что сам с собой во сне блудишь по-содомски. По вкусу ли правда тебе, Кавалер?
Кавалер промолчал. Сорвал былинку. Пожевал. Кисленько. Белое лицо. Незыблемое. Произнес без изумления:
- Вздор.
А сам - стрелкой - глазами повел - одни ли на храмовом погосте. Одни. Серые камни. Трава зелена. Земля нагрелась за день, теперь отдыхает. Осколки кирпича у стены - влажные еще - взять один острый. Прямо в руку просится. Вон под стеной псы прокопали дыру. Легкое дело- осколок поднять, с маху по виску, и тело карличье закатить чурбачком в отдушину. Забросать дерном. И домой. Ужинать.
Кавалер не выдержал и, сам того не желая спросил у карлика (терять-то нечего)
- А если и правда. Ножки у тебя коротенькие, жидкие, как у комара, как ты мог за мной, молодым, угнаться с Харитонья на Пресню?
Царствие Небесное тронул Кавалера за рукав. Кивнул.
- Хорошо лицо держишь. Руки не дрожат, не вскинулся. Только на камни глазами не коси. Знаю, хочешь меня убить. Значит, и могилу мне собаки выкопали? Ты выбрал дурное место. Палым листом заложишь, через неделю завоняю - откроют. - Царствие Небесное мимоходом перебил мысли преступного воспитанника своего, продолжил монотонно, точно сквозь сон. - Еще чего вздумал. Утопить? Москва-река мелкая могила. Всплыву под мостом, готовая улика. Ты проворонил, а я заметил: пока мы сюда шли, нас и прачка видела и торгаши. Вся правда на твоем лице красным титлом написана. Что случись, от семерых не отлаешься. Лоб пасмурный, глаза пустые, с отблеском, ладони вспотели, рот дергается. Куда такое годится? Мигом на правёж поставят. Учись безмятежности, чтобы по твоим чертам никто не мог прочесть свою последнюю судьбу. Но не для того я тебя на погост позвал. Не любо - не слушай.
Всю осень шаг в шаг я следил за тобой от дома отчего до Пресни. Но не шел, а ехал...
- Как? - чуть не вскрикнул Кавалер, но сдержался, взглянул с приятной любезностью.
- На собаке, - карлик ухо о колено почесал, чулок поддернул, и мудрое мужское лицо его довольной краской залилось. - Есть у меня, пятый год как, ученая ездовая собака. Тебе по пояс в холке будет. Черная, как уголь. И уши висят. Так-то она по городу самовольно бегает, сама по себе кормится, то на свалках, то в поварнях. Но, как выйдет нужда - всегда рядом. Я ее приучил, слушается меня, как новостриженка строгую игуменью. Поначалу то люди говорили, привозят за деньги издалека маленьких лошадок. Дети их любят, они послушные, мохноногие. Я стал копейки откладывать, думал, куплю такую и всюду, куда надо доеду, а потом поразмыслил и решил: с заморской кобылой мороки не обрешься, где ставить, чем кормить, да и заметно. Вот что я тебе скажу, милый: лучше простой московской суки на всем свете не сыскать.
Днем-то она возится невесть где, по пустырям, да по свалках со своим братом окусывается, а ночью свистни раз - она тут как тут. А что случись, я с моей суки ездовой сковырнусь и в темноте укроюсь, а она, знай, трусит мимо. Кто помыслит дурное? Мало ли псова мяса шляется на Москве.
Вот, бывало, я напялю, красный машкерадный кафтанишко, возьму в ручку фонарь, оседлаю собаку и только ты тайком со двора - я за тобой верхом.
А ты и не видишь ничего, не чуешь, идешь, бедрами играешь, думаешь, сам черт не брат, а я за тобой через всю Москву еду на собаке.
- Как же тебя на заставах сторожа не останавливали...
Засмеялся Царствие Небесное.
- Да вот сколько ни езжу по ночам - никто не окликнул. Видят - красный карлик верхом на черной собаке трусит. А в руках фонарь четырехгранный, им удобно лицо снизу вверх подсвечивать. На голове - мертвецкий колпак с немым колокольцем, а язык-то у бубенца вырван, чтобы лишнего не болтал.
Что ты, братец, мне сторожа - верь совести - дорогу уступают.
Был случай - взбрело пошалить, пришпорил я суку, подъехал к сторожу сзади, фонариком покачал и говорю: Земеля, одолжи понюшку табаку по-хорошему.
А сторож глаза под лоб закатил - и брык - замертво. Малохольный народ в сторожа идет.
На Пресне я среди сброда затесывался, под столами сидел, потом с мамкой договорился - на скрипице пиликал, петухом пел и на голове ходил - в кабаке людно и дымно, не выследишь.
Когда ты Журбе о смородине байки плел, залюбовался тобой. Подумал, если выживешь на паленом деле, всему, что знаю научу.
Да только зря ты силы тратил. Не то грех, что мужика с малолеткой убил. А то грех, что бессмысленно. Ты способен на большее
Мужика с девкой жалко - черное дело. Но таких мужиков с девочками да со старухами дурные попы по деревням в амбар загоняют и жгут без милосердия, да еще и Христа приплетают, чтоб их ханжество и мракобесие оправдал.
Китоврасов с Марусями по России десятки гибнут, но ханжи и кликуши слюной брызжут, когда не по "божьей" воле убили. Христолюбийцы, налево и направо сальными словами, перевраннной пластырью, духовными песнями, смоляными головнями, батогами и поцелуйными ярлыками убивают много - все во имя Бога.
Я твой грех не обеляю. Ты ведал, что творил. Сколько тебе жизни отпущено, столько на плечах своих мертвецов будешь таскать. И не жалуйся, что хомут тяжел - сам его выбрал.
Истинную правду я для тебя припас напоследок: навьи люди никого не судят.
Кавалер вспомнил: бывало, чуть не на неделю пропадал из дома карлик Царствие Небесное -а потом возвращался, и как ни в чем ни бывало возился с гурьбой себе подобных на паркете в тот час, когда на парадном обеде зажигали в шандалах все свечи, вносили главное блюдо, обставленное искристыми индийскими огнями и хохотали, кривлялись, языками дразнили гостей карлики. Хлопали в ладоши, кувыркаясь перед золочеными туфельками близорукой знати.
- Где ты был, Царствие Небесное, куда ездил верхом на черной суке? По каким дворам, по каким затворным светлицам, улаживал делишки, о чем договаривался. Кто ты? Кто вы?
- Мы - Навьи люди, - вечерним баском, будто шмель на мятном медуничном лугу, повторил Царствие Небесное.
И верно - на голос его из-за каменных фальшивых гробов, из-за плит, из-за ржавого ведра брошенного в крапиву монашками, поднялись в сумерках неясные головки. Маленькие люди- мужчины, женщины, стриженные под горшок и в скобку, Мелькали там и тут меж могильных камней невестины косы, бабий повойник, шапка рыбацкая с заправленной за ленту на тулье ложкой, лисьи хвосты на плечах, дурацкие колпаки, соломенные парики.
Показывались и таяли карлики.
Шуркали в траве, перебегали от гроба к гробу на цыпочках.
Перекликались птичьими шелестящими голосами.
- Навьи?
- Навьи!
- Навьи...
- Люди, - закончил за них Царствие Небесное, оглядывая свысока свой незримый сумрачный народец. - Слуги все знают о господах, а мы все знаем и о господах и о слугах.
Проникаем везде-нигде.
Кавалер озирался, уже не скрываясь. На вечернем погосте он был один - с прямой спиной, красивый и высокорослый, хотя бы по сравнению с потайными плясунами меж могильными плитами.
Кладбище заполнилось карликами - одни как дети, другие, как Царствие Небесное - мужская голова на скрученном торсе.
Будто птахи в скворечные дыры прятались тонкие духи, ничьи дети, навья вереница: горбатенькие, в покойницких туфельках, -скорлупы грецкого ореха нашиты на вороты, ручки скрючены в перчатках из белочки, в ежовых ноговицах или босиком скользили они, будто дымные сны, и было их много. И не было ни одного.
- Впервые о навьях писали в Полоцкой летописи, списки ее и в московских монастырях есть - Царствие Небесное точно диктовал, внятно и медленно - Самих навьих людей никто не видел, только следы их детских ног, да крохотные подковы лошадок в палисаде замечали в смертном страхе. Вслед за следами пришла в Полоцк большая болезнь.
Незримые всаднички язвили по дворам старцев и детей. Не вспомнили полочане, что накануне князь велел повесить на воротах карлицу и карлу, которые, как люди, обвенчались в церкви против воли потешного двора. Когда тела сняли с позора, болезнь отступила. А мы, навьи люди. Карлики боярские, усадебные и дворцовые с тех пор остались.
Маленькие головы снова кивнули над плитами, мигнули и сгинули.
Царствие Небесное потерся двухдневной щетиной о девичью узкую ладошку Кавалера.
- Будь с нами. Я всему научу тебя.
Кавалер отнял руку, озлобился:
- Нечему меня учить, смерд!
- Всё так, - Царствие Небесное стал загибать пальцы - Сам посуди: Верхом ты ездишь скверно. Для охоты да карусели, чтобы перед мамзелями погарцевать еще так-сяк, а на деле - не взыщи. Стреляешь того хуже, как баба стоя ссыт. - по спелому животу под поясом хлопнул Кавалера - тот и охнуть не успел, - Распустился. На что ты сейчас годен? Девок на Пресне очами стращать? У мамкиной руки голубенком прикидываться? Спящих мужиков на Пресне жечь?
- Что же мне делать?
- Поутру скажи, чтобы коня седлали не простого - андалузийского, долгогривенького, того, что справа от дверей в деннике стоит. Он хоть и строптив, а учён, для нашего дела сгодится. Возьми его и скачи в Царицино село. За кирпичный мост на первую лужайку над ярами. Там и свидимся. А до той поры я с тобой разговаривать не стану.
Как болвашка, кувырнулся назад через голову Царствие Небесное - упал в траву высокую и потерялся. А с ним исчезли Навьи люди. Погост опустел.
Кавалер бросился было искать - тихо. Чисто. Мертвые спят. Ворота храма заперли на три оборота ключа. Гроб плывет, мертвец ревет, ладан дышит, свечки горят.
На умытом небе над Москвой, из розовой полосы на западе - встали три сестры - звезды.
В эту ночь все собаки на Москве молчали. Положили головы на лапы. Мерещились в собачьих зрачках восточные граничные огни.
Сполохами посетила небеса сухая гроза.
Смилостивилась, не разразилась.
Сон-трава на погостах и обочинах поднялась в рост.
Белые кони окунали гривы в незацветший юношеский кипрей
Все окна Москвы были распахнуты.
Спали на сквозняке слободские и посадские люди. Разметались барские простыни. Отвернулся к стене голый любовник. Женщина во сне забормотала, прихватила пальцами сосок и затихла.
В Филях таборные народы жгли костры. Босые цыганки мыли ковры на отмелях Москвы-реки, соленый песок оседал на запястьях и щиколотках. Говорили весну серебряные цыганские погремцы.
Плыли ковры по течению, обновлялись, как образа, узоры.
Цыганки бежали следом, ловили ковры ясеневыми тростями, смеялись, плескали друг другу в лицо чистую ночную воду.
Их окна в окно, от двери к двери крались на цыпочках карлики, навьи люди.
Остывали в палисадах детские следы.
Карлик юркал в подпол. Карлица сигала через низкий подоконник, задрав подолы до исподнего. Задела о гвоздок бисерной браслеткой, разорвала - с растерянным стуком посыпался по половицам красный бисер.
Красными сполохами на истинном востоке настигал Москву дробный сильный рассвет.
Навьи люди сраму не имут. И другим не дают.
Кавалер спокойно спал остаток ночи. Московские пасынки - псы стерегли изголовье.
Грыз в щепу край кормушки долгогривый андалузский жеребец.
Острым копытом ударил в пол.
Ночь ничья.
Глава 15
Любовь
С черным зеркалом в руке коротала день старуха Любовь Андреевна.
При полуденном свете горела на столе свеча в желтой плошке цареградской поливы - пламя незримо, только вокруг фитиля синева и дрожание воздуха.
В чистый воск свечи подмешаны были индийские травки, любовные порошки и зерна, густые запахи женских ложесн, секрет виверры, смолы из саркофагов Карфагена.
Больше всех благовоний Любовь Андреевна ценила тяжелое сандаловое масло. Лет двадцать тому назад числилась в первых модницах, все столичные платья и шали, перчатки и платки пропитывала по швам тленным ароматом.
В те годы она выписала через голландскую компанию китайского раба.
Нарядила в синий шелк с драконами и зеркальными карпами и скуфейку с вышитым золотцем ирисами и фениксами.
Дала туфли без пяток, велела семенить. Косу залакировала сама, намертво. По Царскосельским тропинкам таскал китаеза за хозяйкой кувшин померанцевой воды, опахала и собачонок на подушках.
Любовь Андреевна и ее распудренные аманты над китаезой посмеивались, тормошили, как тряпочного, раб на все скалился и кланялся.
Говорили в свете, что китайский бесёнок по ночам впрыскивает Любови Андреевне сандаловое масло под кожу через просверленные ежиные иголки. Ради благоухания красавица будто бы и боль терпела и опухоли, но конечно же, все врали.
Круглое венерино зеркало на ручке - будто вырезанное и украденное лицо.
За распахнутыми наотмашь окнами испуганно и просторно расцветала Москва - золотой бухарский виноградник на восточном ветру.
Любовь Андреевна подносила к лицу зеркало - и стекло отзывалось яростной старостью.
Всматривалась, как хирург, узким стальным взглядом в неприкрашенное лицо, будто в обескровленную рану.
Вот черствая морщина на лбу, вот "вороньи лапки" в углах глаз, вот по скулам и переносью лиловые жилки и жабьи пятнышки прижизненного распада.
Распустила шнуры лифа, открыла груди, сморщенные мошны, все досуха высосано, опростано.
Ручной джунгарский фазан важно ходил по подоконнику, распускал хвост-лиру, топорщилась на шее золотая гривна оперения, клевал пшено и красовался, как мальчик в красных сапожках.
Нынче в суп его.
На легком ветру по флорентийской столешнице с шахматным узором катался взад-вперед мячик из крашеных воробьиных перьев.
Овлекаясь от зеркала, Любовь Андреевна, останавливала его прикосновением и отпускала. Снова маялась беспокойная игрушка, торопила невесть в какие края, впустую томила воспоминаниями, рябила в глазах узором.
Старуха оттянула темную кожу на скуле вниз, обозначила близкий череп.
Улыбнулась. Рот кошельком. День за днем Любовь Андреевна пестовала свою старость в черном зеркальце, как младенца.
Старость - волнистый нож, неотразимое оружие, требует то чистки, то смазки, то заточки. Глаз да глаз - тут бинтуй, здесь подтягивай, там румяна расшлепай по щекам и размажь поярче.
Глинтвейна и мороженого уже нельзя - горячо-холодно, зубы крошатся. Расцветала Любовь слоновым гнилостным цветком в зеркале, и рада была себе такой, какая есть - от темечка до цыпочек. Зря сатирики зубоскалят, рисуют быдлу на потребу жалкую старую кокетку перед зеркалом. Если бы знали осмеятели правду, отступили бы, трижды перекрестясь.
Есть у старости власть, воровство и сноровка.
Будто не своими пальцами Любовь Андреевна придавила сухой сосок с волосками вокруг.
Провела с пристрастием от ключицы до впадины ребер.
Вспоминала, как перед ростовым зеркалом золотился, будто монетка в фонтане, юноша, увлеченный полуночной игрой в самого себя.
Любовь Андреевна все его жемчужные движения затвердила наизусть, как азбуку.
Месяцами настраивала свои старые руки, разминала запястья, пропускала мячик из перьев между узловатыми пальцами на семь ладов - добивалась клавесинной гибкости.
Училась, как девочка, полуоткрыв от прилежности рот, точечному птичьему удару, ласковой пытке. Пусть жилы и кости звучат верно.
Ловить, так ловить, единожды - наверняка.
За один сезон прикончу мальчишку. Все что пожелаю - получу. Пока не наскучит.
Снова и снова вызывала в памяти образы: кроткий поворот головы, персиковый рисунок плеча, мановение ладони в полусне, греческие складки шелковой сорочки на груди, кипарисовый крест меж ключиц, звериные от невинности глаза, китайскую родинку над губой - последнюю прихоть породы.
Кабы со своей пушечкой играл Кавалер перед зеркалом, предавался подростковой однорукой страсти под одеялом, так это дело виданное, скучное, всякий мужчина на малакию падок в осьмнадцать лет, но то, что подсмотрела она в ту дальнюю, зимнюю ночь запомнила надолго.
Дистиллированная страсть, прекрасная в бесплодии и ясности жеста - никогда ниже пояса, такого бывалая Любовь Андреевна еще не встречала наяву.
Все перепробовала по молодости. И с мужчинами и с женщинами и с каретными далматинскими собаками. По двое-по трое-по семеро на послеполуденных атласах, в гостиницах ли за границей, или в губернской глухомани, куда в пору разлива рек никому нет проезда. Как отходили талые воды - спешный разъезд. Гайдуки на запятках, дождик в покрышку рыдвана барабанит, мятный поцелуй в щеку, не глядя.
- Пади! Пади!
Потешные ракеты над черными регулярными парками рассыпались с треском.
Флиртовали в руках желтые веера, корейский рисунок, стрекозиный треск развернутой основы.
Кокетка медленно прикусывала средний палец, глядя на фейерверк. Задирала хрусткие юбки. Сидя на корточках, прогнувшись, ждала, когда снова дадут залп и осветится сад сатанинской сабельной пляской огней. Знала, что подглядывают.
Утром по стеклу беседки снаружи ползет улитка, тянет слизистый искрящийся на солнце след. Тела лениво размыкаются в полусне. В углах рта - поцелуйная соль. Будто бы в насмешку создал Господь сияние утра - чтобы наши грехи под судным солнцем рассматривать.
С девичества Любовь Андреевна мечтала о страстной неприкосновенности, по-монашески гнушалась обычного, но ложилась на подушки, искала в альковной грязце драгоценный дар безблудия, как ученая сучка - черные трюфеля, но увидела желаннное только в старости.
И пожелала Кавалера остро - как беременная селедочки.
Издали подглядывала за его одинокими играми, смаковала, сдабривала как гурман - каперсами, голодные деликатесы воспоминаний.
Тело Кавалера в памяти ее, как железный брус в кузнице раскалялось, становилось ковким и податливым изнутри.
Кавалер рассеивался в жарком рассветном тумане над брусничниками, над просеками, над осушенными болотами, над вдовыми реками,
Плоть вспыхивала на солнце золотой пудрой, прежде чем отчалить в мучнистое небытие, где мяса и костей нет - одно воспаленное сияние, пасечное марево цветущих лип, донниковый мед, пыльца на солнце, лисий грибной дождь. Продленные капли летят сквозь белый свет, никого не хотят.
Юношеский орешник зацвел, не пора ли оборвать до срока?
И за столом Любовь Андреевна предпочитала все незрелое: зеленые вязкие яблоки, весеннюю петрушку, молодой чеснок, мясо вырезанного из овечьей утробы ягненка, трехдневных цыплят.
То и мило, что родилось, а не налилось, не достигло, не раздобрело в земной беременности и зрелости.
В истоме своеблудия оборачивался к Любови Андреевне Кавалер, шептал, как детскую закличку - веснянку:
"Есть на мне, есть во мне, нагни меня белого, ломи меня целого, снаружи горько, внутри сладко"
Загадка на слух грешна, а отгадка - лесной орешек.
Я мала была, горя не было. Вырастать стала, горе прибыло.
Как замуж вышла я за старого, за смердящего, за ревнивого, он ложился спать ко мне спиной.
Промеж нас спала змея лютая, в головах у нас - сугроб снега.
Ты взойди туча грозная, ты езжай на шлях Илия пророк.
Убей ты змею лютую, растопи сугроб снегу, распечатай мне место женское, поперек дорог уложи меня. Пусть ебут меня все проезжие, все прохожие-богомольники, мужики и псы, жеребцы, быки.
Лишь бы не земля, не земля могильная, старым мужем при церкви купленая.
В изголовье лопата воткнута, поп кричит псалмы и акафисты, попадья кутью на меду варИт, а поповский сын, лет пятнадцати, оборотным крестом осенит и предаст земле.
Глиной мокрой мне забросают грудь. И оставят в могильной ямине. Как подкидыша - мамка грешница.
По домам пойдут жрать да пьянствовать.
Пусть закроет глаза Всеблагой Господь.
Кружевца свои я сама сплету, постоянные нити спутаю, отреченный узор придумаю, привяжу к себе молодого кружевом. Его телом могилу выстелю.
Многорукая рукодельница, я желаю его без устали, а желанное - получу сполна, получу сполна - расточу за час.
Поднося зеркало к глазам, будто кабинетный автомат, Любовь Андреевна свободной рукой перебирала широкие кружевные ленты, которые вперемешку лежали в лукошке перед нею на столике - голубые, палевые, фиалковые, черные с брюссельской искоркой.
Затеняла кружевными лентами слишком зоркие и сильные для старухи глаза. Сползало
кружевное плетение по сухой коже и скалилась Любовь, как раздавленная колесом кошка. Ей было весело.
Будто соломенной сечкой и кострой пересыпали суставы, на языке спросонок кислый налет, куриная слепота посещает к вечеру.
Вот сейчас бы протянулась на остывальной доске, сама бы себе подвязала челюсть, отказалась бы от воды и дыхания, баю-бай, баю-бай, хоть сейчас помирай, поплачем, повоем, а потом зароем...
Но вспоминала в минуты старческой слабости Любовь Андреевна вспоминала яблонный
овал лица Кавалера против зимнего домашнего света.
Как разгорались нецелованные щеки костровой страстью, будто дурман-цвета наелся и наутро умрет. Как руно цыганское с отливом ронял на отроческие груди.
Тем и жила старуха еще один день, шевелилась, как щука в зацветшем омуте, следила издали, не прикасалась.
- Я всё знаю, - вслух сказала Любовь Андреевна.
Свечка затрещала, старуха сняла нагар ледяными пальцами и не обожглась - только сильнее проявились ароматы пропитанного воска.
И правда, все, что могла, узнала о Кавалере Любовь Андреевна.
После того, как в красном доме у Харитонья погостила, не поленилась - посетила все паучиные гнезда, салоны известных на Москве кокеток и вертихвосток.
Бисквитными вечерами, между музыкой и шарадами, вызнавала подлинную и подноготную.
Развратницы грустнели, конфузились, теребили тесьму на манжетах и веерах, но все как есть на духу выкладывали внимательной конфидентке.
Нет, ни с кем не сблизился, только обещания раздавал. Многие лгали, что под ним леживали, но дальше лжи дело не шло. Многие пытались прельстить его, кто подвязкой, кто фальшивыми локонами, кто бесплодием и нимфической ненасытностью, но так ничего и не добились.
У лжи тоненькие ножки, ушки на макушке, а детушек ложь не родит.
Любовь Андреевна сочувствовала набожным московским шлюшкам, на плюшевых оттоманках попивала горький кофий вприглядку.
Вызнала все тайные Кавалеровы привычки.
Острой и горячей пищи не терпит.
От чувствительной музыки изволит плакать, но не любит, чтобы на него смотрели, когда плачет.
Прикосновений, даже дружеских не выносит, руку протянешь к нему - отдернется с вежливой улыбкой, будто обожгли.
Паче всех земных цветов отмечает пекинский жасмин, черногорский шиповник и салернский базилик - где заметит, оторвет веточку и за ухо заправит.
Если похоронная процессия навстречу катит, бледнеет, будто его самого хоронят.
Если простоволосые девки с парнями на улице целуются за орешек или дешевое колечко, задумчиво нежнеет, будто его самого поцеловали, но сам не ведает зачем люди целуются, будто монастырская пансионерка.
Катает шарики из хлебного мякиша по салфетке. Ест и пьет мало, с приверединкой, все больше лакомится.
Если на скатерти бахрома - как заскучавшее дитя плетет из бахромы косицы.
Смеется негромко, будто взаймы, но если рассмешат когда смеется - глаза блестят от ярости и радости, будто соблазнили его и бросили пьяного на снегу остывать.
Прекрасный собеседник, осенью и весной оживлен, остроумен к месту и вежлив.
На злодейство и любострастие способен, как и все, но истинную сладость находит в отрицании страсти и бесплодном томлении, в муке флиртования и полутонов, будто на картинах итальянцев, где золото с чернотой борются.
Никогда ни с кем телесно возбужден не был - ниже пояса выше колена - мертвая вода, но чувствен дьявольски.
Тяжелой одежды и тугих воротников не выносит, если шарф на шею повязывает, то слабо, по-либертенски.
Любит, когда монастырские дисканты поют надгробное рыдание
"Ныне отпущаеши".
В постные дни ездит слушать пение в серпуховские обители.
Не пренебрегает и основными московскими монастырями - Успенским, Даниловым, Андрониевым, и особенно - Симоновым, где отчитывают порченых В Симоновом чудо на чуде -у царских врат прямо из плит растет греческая смоковница, круглый год цветет, но не плодоносит. Отроки в Пасхальную ночь бросают в нее камни - сам Христос бесплодную смоковницу проклял. А под монастырской стеной лежит каменная лягушка - и с каждым годом на вершок уходит под землю, то не лягушка, а сам сатана роет землю, хочет, чтобы дрогнули и упали стены. Порченые кричат и корчатся. Большие господа ездят смотреть на чудеса - с ночи занимают места.
В свете сплетничали, что по двунадесятым праздникам, Кавалер сам поет на клиросе, закрыв лицо льняным рукавом.
Молодые богомолки, стоя перед иконостасом, туго сжимают ляжки и глядят вверх, забывают молитвы. Влага наполняет прорезные коричневые цветы под бугорками лобка. Содрогаются в плотских глубях нежные неносившие маточки. Не ведают молельщицы, кто поет, но алчут увидеть его, как волки - полную луну.
Скользят ладони под пояски и передники. Узкие средние пальцы своей цели достигают.
Девчонки выплевывают причастие, бьются в судорогах, едва услышат Херувимскую Песнь.
Даже по испытанному сборнику Петра Могилы, святые отцы келейники, не в силах отчитать девушек от бесстыжего его голоса. Только начнут читать - а перед глазами девушки - взмахнет певчий белым рукавом - и не слышит оглашенная, как шепчут монахи спасительное слово заскорузлыми губами.
Как сорные розы цветут, как девки бесятся - так на синих вечерних куполах русских соборов сама собой золотыми созвездиями проступает весна-преступница.
Оставив болтливых развратниц, Любовь Андреевна съездила к записным сластолюбцам, из тех, что как лягушки до мошек, охочи до прехорошеньких кантонистиков, певчих, форейторов, парикмахеров и лавочных мальчиков без мест.
Любовь Андреевна по старому опыту знала - педерасты малости не упустят, сплетники и пролазы, хуже женского пола.
Едва упомянула в разговоре имя Кавалера, сластолюбцы заахали, отмахнулись, застонали на все голоса:
- И не говорите, милый друг, Любовь Андреевна! И думать не могите! Собака на сене! Сам не гам и другому не дам! Растомит попусту, всю душу растравит - а после и коленочку пожать не позволит и отцовского лобзания в щечку не терпит. Танталова мука!
Значит, не ошиблась. Девствен, как из матушкиной утробы вытек, хранит его беспробудное сияние молодости.
Любовь Андреевна подышала на зеркальце, поймала солнышко - пустила на стену живой "зайчик", заметалось золотое пятно по штофным лиловым обоям.
Семь смертных грехов бродят у тебя в крови, Кавалер. Смертоносная закваска исподволь разрывает пышное и нежное тело, как соединенные листы новой книги разрезают почтовым ножом, как ногтями потрошат апельсин, слой за слоем срывают цедру, пока не брызнет сок.
Звездный блуд, похоть-плохоть, на расстоянии тепла меж алыми напросвет кончиками пальцев. Все это губит исподволь, точит изнутри черной мышкой, мыльным пузырем на тростинке растет, выше радуги. Знаю, ты не можешь дышать, только вдох, вдох, вдох, а выдоха нет.
Знать бы, что за гибель тебя постигнет воистину. Семеро хитрецов стерегут на перекрестке, с малолетства впрыснули в каверну утробы свои коварные яды.
Смертные грехи пучат и рвут по швам тела.
Кто от злости лопнет, как горшок в жару, кто от зависти позеленеет и треснет.
Один запухнет отеками, как березовый гриб от лени и чревоугодия.
Другой спесью нальется, как винный бурдюк, и ахнуть не успеет - задушит и разорвет его гордыня, как лягушку, надутую через соломинку в зад.
Жадность до ласки, до похвал, до изысканных развлечений от глотки до паха распахивает и вываливает скруты кишок, фаршированные красным перцем и порохом.
Семь Симеонов знают свое смертное ремесло. Я - восьмая - помогу семерым твоим грехам.
Под моими пальцами бутон кровью лопнет. Проткну ноготком тугое, упругое, молодое и отступлю, чтобы не забрызгало парчовые туфельки.
Который месяц я ношу тебя, как матушка, которая в утробе из слепого сгустка лепила твои глаза и ладони, и перепелиное горлышко и сумрак волос и неповторимый узор морщинок на стопах и хрящики.
Из меня тянется и капает слизью родовойд, который собака и волчиха, не моргнув, съест, а роженица побрезгует.
Почему не я родила тебя, Кавалер, не подарила тебе опасное строгое материнство?
Могла бы купать тебя, кормить из рожка, класть в постель рядом с собою, твои первые шаги принять, удержать, ежели пошатнешься.
Иди ко мне, нерожденный. Жестоко накажу.
Любовь Андреевна поднялась из продавленного полукресла, перед распахнутым окном бесстыдно сбросила утреннее муслиновое платье, широкополое, как халат в больнице для безумных, осталась голая, на прохладе праздновала старость свою.
Щелкали в саду ножницы, садовник обхаживал измученный садовый куст, придавал форму куба, шара, лебедя или сидящего льва живым прутьям.
Пахло, как на лесопильне в жаркий день, пряным древесным соком.
Любовь Андреевна достала из под стола горбатый ларчик, откинула крышку, осмотрела ювелирную внутренность.
Спрятанная в ларчике музыка сыграла и осеклась, на внутренней стороне крышки по-русски начертаны были киноварью дурашливые слова "Ах, у етих дам веселости, забавы..."
На синем бархате в желобках дремали галантные принадлежности: паучьи серебряные щипчики для выщипывания бровей и лишних волосков в паху, стеклянный годмише с мягкими ремешками, чтобы на женские бедра пристегивать.
Полая внутри игрушка заполнялась в оны дни теплым молоком с медом, игра любви и волокитства вершилась своим чередом, столько отверстий просверлил в человеческом теле Господь для наслаждения. Любовь Андреевна криво улыбнулась, срамную игрушку пощупала - мерзкий маскарад, на выброс.
В особой ячейке ожидали своей очереди вручную скатанные конфекты, шоколадные бомбошки, напичканные шпанскими мушками - кантаридами, сильнейшими эротическими ядами, которые для вящей страсти хорошо подмешивать в кушанье или питье, принимать с розовой водой или кусочками рахат-лукума. Одна доза любого мужчину превратит в скотину, как и Цирцее не снилось. Четыре дозы - смерть.
Шпанскому причастию свой срок.
Сама тебе в губы вложу лакомство, не поморщишься, не оттолкнешь. И сама решу - одну или четыре. А то и шесть. Полнокровный ты, милый мой, выдержишь.
Чванился ручной фазан, хлопал радужными крыльями.
Клокотал в горле перламутровый крик.
Как была, голая, Любовь Андреевна поймала мячик из воробьиных перьев щипчиками, положила в середку тлеющего расплывшегося огарка.
Мячик скорчился в огне, затрещал, засмердел, скукожился , как султанский финик.
Пещерными ноздрями старуха с жадностью вдыхала вонь горящих перьев.
Переступила по полу голенастыми ногами, как ночная кобыла.
Сожженный мячик, лопнул сбоку, осыпался хлопьями жирной копоти на столешницу.
Любовь Андреевна с треском захлопнула срамной ларец. Накинула на желтые кости кипенные ткани, закрыла лицо веером со слюдяными вставными глазами.
Дернула гарусную полоску звонка.
Позвала в гостиную соглядатаев.
Верные воры, в душу без мыла пролезут, на всякую дырочку у них имелась отмычка. Оба-два злыдня, один черноглазый бедрастый, второй - шестопалый.
Первый в Тифлисе родился, по острогам с малолетства, за коровьи очи и пристрастие к особым тюремным услугам прозвали его Тамаркой, второй шестопалый, псковский обыватель, к шестому пальцу что плохо лежит - прилипало.
Фартовые парни.
Тамарка и Шестерка, старинные приспешники Любови, в свое время из каких только ям не выволакивала плутов московская барыня.
Брала на поруки, платила баснословные выкупы, всем ей обязаны. Ноги мыть и воду пить будут, если что.
Встали перед Любовью Андреевной холуята, поясницы прогнули, ждали приказа.
Выложила "лицом" вниз перед ними овальный - с ладонь портрет Кавалера Любовь Андреевна. Сказала все - имя, дом, сродников,
- Мне надобно знать, где этот человек бывает, по каким делам пропадает из дому тишком, с кем мне, сам того не ведая, изменяет, мыслью, словом, делом и не исполением долга.
За правду - озолочу, за ложь - сгною. Задаток у ключницы возьмете. И на каждого полштофа зверобоя всякий день. Гуляй душа, пока я добра.
Кивнули наемные и без лишних слов вышли на свет.
Не впервой работа холуям. Трудно ли мамке падаль принести, коли пожелала. Очень почитали Тамарка с Шестеркой Любовь Андреевну, на именины ставили вскладчину в храме пудовую свечу.
Переглянулись злыдни, размяли, хрустнув суставами, бледные руки, будто корневища из погреба.
На конюшне для соглядатаев оседлали первых лошадей.
Остроносые сапоги жёстко легли в стремена.
Хлестко пали плети на окатистые конские бока.
С места в галоп прянули всадники, разметали скоком солому и опилки на скотском дворе.
Тополиное лето поплыло над Москвой. Заволокло Москву молоком.
Перекосилось в небесах порченное июньское солнце.
Голову на руки уронила Любовь Андреевна, размазала лбом пепел по столешнице.
Хотела плакать и не могла.
- Не я. Ты, молодой, меня заставил на крайнее дело пойти. Так и знай.
В тот же день фазана снесли по приказу хозяйки на кухню.
- Прррррр!...- застрекотал убоец, завертел птицу, хряснул на колоду и одним ударом секача снес голову.
Побежал безголовый фазан, поволок радужный хвост.
Затоптался на пороге.
Кровяным горлом прокричал зорю.
Глава 16
Царицыно село
Лягу, не благословясь, встану, не перекрестясь, крест под пяту положу, отца-мать приворожу.
Возвращайтесь, батька с маткой, тем путем, каким на погост везли!
Бабы пива наварили, монашки оладьев напекли, слепцы постелили черемисские ковры, вологодские холсты, соловецкие кресты в головах, да калачик с водочкой в ногах.
Вот тебе, матка, коклюшки да прясло, плети да пряди, ко мне приди.
Вот тебе батька, топор да вожжа, руби да езжай, ко мне спешай.
В умирашки играть, пировать, почивать, беседовать, уж пожалуйте.
Посиротствуем, поюродствуем, по папертям со свечами настоимся за копеечку, всем гостенькам доставим радости, не пустым ковшом обнесем погост, до седьмой звезды прогуляемся.
На телесное не оглянемся, покатаемся, поваляемся, от сырой земли отчураемся.
Не осталось в России земли не вспаханной, вся поделена, размежевана, поросла быльем да татарником, не досталось нам ни полгрядочки.
Торопись, сестра, распаши погост, посолонь бреди под Стожарами, по колено в грязи, по темя - в облаках, рукава - на росстанях, подолы на пристанях.
А я в ту гряду негниющее брошу семечко.
Перелетные огоньки в бороздах кружат, от лесных болот тянет падымок, будет день погож, урожай хорош, голова в кустах, вся земля в крестах.
Конь в урвину скок, конь в другую скок, девка косами трясет, на загорбке гроб несет. В косе монетки, в гробу - кукушка, во лбу - Москва.
На погосте коростельки - "дерг-дерг", на погосте разнотравье да мох, на погосте водит девка - пахарка доброезжего коня, на нетканой ленточке.
Так пойду я по теплой пашенке, потревожу родительские косточки, перемою каждую непочатой водой колодезной, приложу, как созданы, костку к костке, хрящик к хрящику, перевью пенькой и покрою их остовы одеждой праздничной.
Вместе и ляжем мы на дурман-траве: справа батюшка, слева матушка, посредине я - их рожёный сын.
В головах у матушки - чаша с молоком, в головах у батюшки - ковш дегтя, в головах моих костер-нодья. С правой руки соскребаю плоть, из мизинца левого источаю кровь, свиваю из тряпки куколку величиною с перст, ту куколку валяю во плоти и крови, кладу в огонь, сгребаю золу, и развею ту золу по ветру, надвое разделя, заметаю наши следы золой, от живых, от злых, от прозорливых.
Взойду я поутру на Фаворскую гору. Узрю леса и вражки, села и медные прииски, колодцы и поскотины, и святу-девку птицу Сирина, что немолчно поет, никому не дает.
Уши есть, слушай.
Спаси мою душу.
Стану будить усопших.
Встаньте убитые, разбудите повешенных. Встаньте повешенные, разбудите с дерева падших. Встаньте с дерева падшие, разбудите в чаще заблудших. Встаньте в чаще заблудшие, разбудите зверем поеденных. Встаньте, зверем поеденные, разбудите топором порубленных. Встаньте, топором порубленные, разбудите безымянных.
Пришел к вам Ничего-человек, принес вам честной обед, русский поминок, белой лебеди яйцо. Кушайте, пируйте, мертвыми ртами, если встали. А есть не хотите, так прочь летите.
Фррр! На небо! Я с вами.
Стариком родился, младенцем помру
Лечу, кручу, запутать хочу.
Чур моя дума, чур мое тело, чур моя кровь.
Хорошие люди шептали: приди на могильник на солнечном закате или как волки не видят в ночь, к мертвецу непокаянному, ляг в головах, поздоровайся, а имени не знаешь, зови, коли мужик лежит - Иваном, а коли баба, так просто бабой или сестричкой, а если наверняка хочешь - так маткой. Имени у женщины по смерти нет, одна матка, что в теле не истлевает, к ней и взывай.
Копай землю глубоко к ногам, чтобы рука в яму вошла по плечо, положи яйцо, говоря: Вот тебе гостинец, земеля, а за то встань ты и мне пособи горе выгоревать, врага извести, девку ночью растрясти, или Господи прости.
Есть навья косточка, мелкая, на ступне или запястье, вроде бобочка, у комля пальца, где проходит сухожилие для сгиба перста. Та косточка причиняет беды и смертельные хвори, в трупе не гниет,
А родилась косточка оттого, что Адам, прародитель наш, в Навий день, с пьяных глаз через забор перелез и ушибся.
Навья косточка в живом мясе шибко болит, в Бога верить не велит. Зажми ту косточку меж зубами и говори мысленно: Ты вставай, Иван, князь Ваганьковский! Ты беги, Иван, по большим лугам. Ковыляй, Иван, по смоленским болотинам, по мещерским корежинам, по керженским чащобищам. Он такой Иван - лубяны глаза, царь Костян, Хлоптун, ненасытный пёс, костяной колпак.
Зря ли я тебя поднял, спящего, из-под тесной могильной насыпи?
Ты глодай, Иван, плоть крещеную.
Исполняй, Иван, прихоть барскую.
Не ослабь, Иван, моего врага.
Не оставь, Иван, мою милую.
Не прости, Иван, меня, грешного.
Сторож на Рогожской заставе рассказывал, что в канун Тихонова дня, когда солнце тихо за валы заходит, поднимаются по валам отрочки в церквотканых рубахах до полу, а в руках у них - свечи царские, а за пазухой - слезы сладкие, очи зоркие повязаны туго натуго черным венчиком с молитвой, имя Спасово для них зорче зрения, слаще сладости, крепче крепости. Спереди то отрочки - отрочки, а сзади - отроковицы, из затылочной кости у них другое лицо растет - девичье, а спины и вовсе нет - две утробы, две грудины, спереди гладко, сзади бугорками. В четыре-то глаза слепота их зорче. Где пройдут отрочки - там живоцвет растет, а тлетворный плод расточается, что повенчано - разлучается. Сквозь запоры, замки, заслоны проникают в домы честные отрочки, стоят в головах у спящих до заутрени, задирают до срама рубахи белые, навевают нам сны подолами в лоб. Не простые сны - беспробудные, валаамские.
Под утро отрочки тушат свечи и бредут в обратный путь. Кто с порожними руками, кто - с уловом - с овечкой белой или пегонькой - то не овечка, а душа отошедшая, помраченная. Несут отрочки души на полынные лужки, на стригальные дворы, на Забыть-реку водопойную, где секира при корени, а день при вечери.
Мимо сторожки проходят отрочки, каждый мечет свечу погасшую - к утру сторож огарки выгребает, на свечной двор относит, отливают свечи поминальные заново, чтоб стада московские не скудели год от года, чтоб лицо земли обновлялось, старое в землю, новое в мир.
Как душа с телом расставалась, не простилась, воротилась: Ты прости-прощай, тело белое. Как тебе, земле, в землю идти, а как вам, костям, во гробе лежать? А как мне, душе, злой ответ держать? Как в Забыть-реке перевоз искать? Как стоят у Забыть- реки души грешные, беззаконные, они вопят и кричат, перевоза хотят.
Перевозчик пьян, челночок с дырой, вброд не перейти, вплавь не одолеть, душа моя дикой уточкой по воде крылами плещет, человечьим голосом плачет, родителей кличет, откликаются ей родители с того берега:
- Как спешить мне тропой родительской?
- За горушки, мой свет, за красные. За облацы, мой свет, за тесные. К красну солнышку на приберегушку, к светлу месяцу на приглядочку, за частые звезды подвосточные на иное безвестное живленьицо....
Навьи проводы, навья косточка, навья свадебка
Все твоё - моё,
Все моё - твоё.
Помин-не аминь .
Навьё - не моё.
Ё-моё.
+++
До света осыпались на пустынную Москву последние росы. Поседели черемуховые грозди в Немецкой слободе. Грачи-чернецы спорили на замшелой крыше конюшни Харитоньева дома. Перемежались нежные желтые голоса птиц. Утренний печной дым горчил по холодку, нанизывался на развилки ветвей и кованые вензелями цыганские дымники. На сеннике дремал старший конюший, свет косо падал на щетину его, кулак расцарапанный подо лбом сжался. Веки морщились, рисовали десятый сон.
Узкий сапожок Кавалера метко ударил холопа под ребра, тот вскочил, рыгнул, залупал опухшими зенками.
Спросонок обманывало зрение - в сиянии - тонко вырезался ненавистный образ молодого хозяина, умыт до перламутровой бледности, аж на расстоянии - прохладно, по-купальному, волосы небрежно гайтаном перехвачены, гадючья прядка черно приласкалась к щеке, ворот распахнут, будто спьяну или с кулачной драки.
Кавалер глазами показал на второй от входа денник, где дышал и кланялся белый андалузский жеребец, грива волной - в опилки.
Кормушка погрызена была в щепы, сразу видно, злой зверь. Тысячный. Старший брат на прошлого Флора-Лавра для себя покупал, велел беречь, пока не заберет с обозом в Архангельское.
Для блезиру конь куплен, не под работу - поставят его в зверинце, где со всего света собраны барсы да гиены, камелопарды и ангорские козы, будет красоваться жеребец господам в диковинку, кобылам на кровное покрытие. Уж и возни с ним было - не то что с прочими - мягкой щеткой чистили, с кошмы считанным зерном кормили, чтобы шею тянул, пойло возили издалека - со Студенецкого ручья. Там вода сладкая, сочится через пять пресненских слоев: торфяной, угольный, песчаный, самокаменный и ледяной. От той намоленной воды у коней каждая жилка играет на свой лад в живости и крепости, счастливы и сыты кони, поенные и омытые студенецкой водой.
Конюшие дрожали над андалузским конем, как над первенцем. Так про себя и прозвали его, чтобы не сглазить. Испанское то имя и не выговорить, рта не перекрестивши.
- Седлай Первенца - приказал Кавалер оторопевшему конюшему, губы дрогнули в улыбке, но сдержался, прикусил нижнюю, лукаво оледенил лицо, нахмурился по-взрослому- хотя озорство в глазах дурило, теплило изнутри костровым отблеском, будто черные вьюнки баламутили солнечный затон - Приказываю.
- Никак нельзя - заблажил конюшенный раб, вот матушке скажу ябеду, посадит под замок. Без матушкиного слова со двора не пущу! Да и матушкиной воли мало - пишите в Петербург. Первенец не в вашей воле - ваш старший брат мне его доверил, головой, сказал, отвечаю.
- Ну, будет, будет, - сдался Кавалер, отмахнулся ленивой ладонью, - Я против старшего брата не пойду. Может я, Павлуша, проверял, как ты господскую волю чтишь. Похвальная стойкость. Ну хоть побыть здесь, посмотреть на Первенца позволишь? А то я рано встал, не спится.
- Отчего нет. За погляд денег не берут, - заворчал холоп, успокоился, привалился к столбу сенника, глаза куриной пленкой подернул, обратно тянуло, в дрему.
Кавалер прошелся, шурша сапожками по устланному соломой полу меж денниками. Рассеянно расстегнул-застегнул пуговицы безрукавного кафтана.
Под потолком перепархивали птицы, мутились от пыли пролазные солнечные лучи, еще не отперли ставни, настырное сияние слепило сквозь щели.
В пустом станке на рогоже валялись инструменты - ножи копытные, ножницы, скребницы, Непорядок, с вечера не убрали, пьяницы.
Кавалер лишь на миг наклонился над рогожей, открыл денник Первенца, встал, пряча руку за спиной, ласково заговорил с лошадью, так что слов холоп не разобрал, но от греха подошел ближе.
- Хорош... Правда хорош, Павлуша. А что же так дрожат над ним, не пойму? И получше его у нас бывало, стояли.
- Такого больше на Москве нет. - нехотя отозвался холоп - ему особая ценность - грива. Вон какая, что косы у невесты - сызмала не стригут красоту. Уже до бабок доросла, втроем расчесываем. Такого в работу не ставят - в гриве весь вид..
- Суета... И чего только братец не выдумает, чтобы истинного зверя в работу не пустить. Вот весь он в этом. Питерщик. Выжига с причудами. Ему все диковинки подавай. Это же лошадь, а не собачонка, не девка для амуров. Ему жарко. Жарко тебе, тяжко? Застоялся, бедный. - будто во сне протянул Кавалер, пропустил меж пальцев длинную белую челку Первенца, тот задышал сытным хлебным духом, потянулся к ласковому гостю, захлопал мягкими губами.
Кавалер трижды щелкнул ножницами - волнистые пряди гривы отвалились под ноги андалузу. Тот, зафыркал, вздыбил, замотал освобожденной головой, снова потянулся, скалясь, к веселому стригалю.
Ножницы продолжили жатвенную пляску. Белыми клоками разлеталась по деннику драгоценная грива. Конюх припал задницей к стене, по лбу потекло, как в бане, замычал.
Кавалер приобнял его за левое плечо, тесно потерся зардевшейся щекой о мужицкую щетину.
- Павлушенька, душенька... Ты сор подмети, а матери ни-че-го-шеньки не говори. Брат тебе Первенца поручал и гриву его доверил? Посмотри, разве этот на него похож? Нисколько. Совсем другой конь. Куцый конь. Собак кормить. Вот что, седлай мне Куцего. Я тебе на первый раз заплачу.
Вложил холопу в потную ладонь рубль.
- А на второй раз... - юноша разомкнул ножницы, приставил лезвия конюху под кадык - ай, холодно, и закончил -
- А на второй раз - зарежу.
Что делать подневольному - поседлал. Отпер задние ворота, через которые коновала пускают и кузнеца. Только отскочить успел - гулко пробили дробь плясовые копыта, махнула несрезанная прядь челки, Кавалер в седле пригнулся, хлопнули на ветру рукава в конокрадовой радости.
Холоп рублишко выронил, зашарил пятерней в опилках.
Бубнил под нос:
- Какой я тебе Павлушка! Ильей меня крестили. От прости Господи, от шило в жопе... От бешеная косточка. Конь застоялся, дай Бог - заартачится, шею себе свернет. Тьфу. Помяни Боже царя Давида и всю кротость его... Где же он... А, вот, нашел... Не уйдешь!
- и с теми словами раб прикусил найденную монету, одобрил, просветлел лицом и по ляжкам себя звучно охлопал:
- Месяц гулять буду. Ай, сукин сын!
С того дня Илья Мясной, дворовый человек, седлал Первенца ежеутренне без приказа. Второго раза не ждал.
Кавалер гнал андалузского жеребца через по тесным предместным удлчкам, поросшим муравой и зеленым по весне кипреем, на задворки рынков и богаделен, махал через лотки с красногорлыми горшками-глечиками, пересыпанными сеченной соломой, через стриженные ограды полицейских парков и китайские мостики над ночной зеркальной черноты прудами, через проходные отдушины где наперерез сушилось убогое белье и дети играли в "журавли", взявшись за руки. Через скрытые в бездорожье кладбища, с одинаковыми крестами - домовинками.
Махнула Москва по леву руку и пропала.
Велика Москва кажется, а пришпоришь хорошую лошадь - глядь и сгинули дома и храмы, заплясали непроходимые заросли, рассыпались по кратким просекам черные деревеньки - одна от другой остояла на колокольный звон.
Бондарные, гончарные, кузнечные, сыромятные, волкогонные, заставные. И народ на иной лад кроен, злой народ, голодный, не по-московски выговаривает, не по московски колодцы роют, тесто месят и детей родят, все на свой лад, без указа.
Будто и не строили ее, эту Москву, нам на радость и горе. Камня на камень не валили, тесовые стены не рубили. Да и Бог с ней, с Москвой, чадно, людно, скучно.
Тесна последняя одежка всаднику. Москва на плечах, да под мышками - по швам трещит, износилась, пообтерхалась, в белый свет на добрые люди стыдно показаться.
Трудными колеями расстелилась в голубых колокольчиках и пожарном кипрее старинная Каширская дорога - издавна по ней гонцы трубили скороспешную почту. Жаловались местные - то посевы травят солдаты на постое, то все нутро избяное дотла сжигают нужные государству люди, то девок заполночь в баню тащат... Разорение.
По осени из Орла, Тулы и Ельца купцы гнали тяжелобокие скотские гурты на убой. В незапамятные времена, от Ивана Калиты езживали по Каширской дороге незваные золотоордынские гости, играли с храпом на тракте табуны рыжих степных лошадей, стонали от грабежей и поборов беспросветные села и хутора.
Да и позже много творилось на Каширке разбоя, конокрадства и татьбы. Лихие людишки от души обижали население.
А население, помолясь, приспосабливалось.
Вот, скажем, сожгут набегом одну деревню, а уже новая встала - за мхами, за болотцами, часовню срубили, новую дорожку отсочили от большого шляха, опять лыко режут, лапти и корзины вяжут. Опять колокол звонит - пусть и не важный, не столичный, так - било на березе, кому не лень, тот ударит - отгонит волков от поскотины, разбудит девок, чтоб на покос несли простоквашу и лепешки, не отлынивали. А спокойнее всего жилось зимой - когда все подступы к деревням заметало по горло пешеходу.
Одна за другой отбегали тайные дороги от Каширского шляха, плутовали протоптанные стежки, здесь тупик, там - валежина, а объезд - Бог весть, в обход крутых оврагов - отсюда идет поговорка "семь загибов на версту", да если по правде - загибов, оврагов, орешников и мшаников по окрестностям куда больше семи, кто ездил - не забудет.
Без возврата уводит Каширка - хочешь в Рязань, хочешь - на Дон, много беглых и богомольцев месит ее проклятые вязкие глиноземы. Басовито зудели над неосушными бочажинами оводы и слепни, горстями расточились по лесным подмосковным крепям птичьи голоса, песчаный звон ключевых вод, клекот ручьев по круглым камушкам, четыре верховых ветра-именника и пять ветров низовых, безымянных.
По березникам и соснякам на всхолмиях меж светом древесным и небесным зыбко мелькал всадник, будто взмахивал кто белым платком на невозвратную дорожку. С Богом!
Обвальные ливни-облавы торопились вослед всаднику, заново сотворенная земля плескалась в голубином календарном молоке, веселели из не-высока новостроенные колокольни, глубокой синевой с отливом ходили под грибным дождем конские покатые бока. И на луговинах нетоптанных хищные травы разом бросились в рост, яростные ростки прогрызали землю, и насекомым стрекотом отзывались овражины, крестила упрямые всхолмия тень парящего коршуна.
На крутой сухопарой шее андалуза искромсанная грива курчавилась кольцами, с волосами всадника перепутались пряди, как аспид с гадиной на змеиной майской свадьбе. Кавалер опасно скорчился, припал к лошадиной шее.
Кровавым ртом окликал краденый жеребец лютую молодость. Играло в конских губах стальное грызло.
Вывели белого погулять - вот и баловал галопом по лугам да перелескам.
Только и воли было Кавалеру, что лицо запрокинуть в высоту, и с голодным хохотом умываться из пригоршни дождевой водой, до ломоты в голове.
Гуляй, молодой, никто не оговорит огульно, пока копыта в холмовой лоб колотят, пока медным гулом отзываются стоеросовые ельники, где творится о полночи совиное кровопийство, где старая хвоя десятки лет устилает покойные схроны, где не оставляет следов ни глухариный ток, ни человечья печаль, ни чуткая волчья побежка.
Погоняй, не стой.
Мимо Фроловского яма, Беляево и Шайдрово, мимо Хохловки и Орехово, прямо на Черную грязь.
А за Орехово обрывался Московский уезд и начинался Подольский.
Черная монашка, топала в мужицких сапогах по просеке, несла за долгие ноги битую курицу. Из шейного куриного отруба капала кровь, марала красным мертвые перья.
Задумалась монашка, отгоняла зеленой веткой осатанелое комарье, неловко поправляла тыльной стороной ладони край смирного плата.
Вышла на дорогу и еле отшатнулась от веселого всадника, шлепнула куру оземь, села в слякоть. Порывом налетного ветра сорвало с русой головы могильный черный покров. И стало видно, что постриженка совсем молода. От испуга суеверно пробормотала:
"Белая лошадь - горе не мое...", но тут же перекрестилась.
И заплакала о своем всухую на пустой дороге. Зачем куда-то идет, к чьему столу несет еще теплую куру, кого в гости игуменья ждет на скоромное?
А мне, дуре, кого прикажете ждать...
Душно парило над тележными колеями.
Тесно и радостно сердцу.
Иссяк ливень, развалились надвое столовидные многопарусные облака, открылось колодезное небо, обдало сибирской синевой
С дальней Оки и Москвы-реки веяло тетеревиным густолесьем, утренними заморозками, ржавыми болотами, сиротскими первоцветами, цинготной травой.
Кавалер на полном скаку бросил поводья и стремена, коленями в коня впился, хлебал горькоту из плоской фляжки, тискал обратно в высокий сапог, не глядя.
Тропа сузилась. С крышки божницы, искореженной еще мартовским ненастьем, сорвалась ворона, захлопала лохматыми крыльями у обочины, почти не боялась человека.
Нерасцветшая липовая ветка низко нависла над дорогой впереди, набрякла от дождя, кропилом. Кавалер примерился, крепче конские бока стиснул.
Славно будет, пригнувшись, задеть теменем низовую листву, чтобы разлетелись брызги, вспыхнули монистами, напугали Куцего.
Авось, вздурит кровный, понесет.
Мешать не стану, только пуще подхлестну. Весело мне, сегодня, весело!
Что на ветке чернеется? Гнездо сорочье что ли?
Не успел подумать, как уже вздрогнула над головой пограничная липовая лапа, уронила темный свой плод кувырком прямо на круп жеребца.
Боком засбоил белый, заржал, мучаясь, горбоносой головой замотал.
Не в лад молотами забили в глинища копыта. По колено окрасились бабки влажным ржавьем.
Две крепкие руки намертво стиснули плечи Кавалера.
Над ухом раздался знакомый сливовый голос:
- Поводья лови, болван. Завалимся, пить дать. Срамота.
- Царствие Небесное? - спросил, не веря, Кавалер, перевел белого на рысцу, а там и на шаг. Косился Куцый, отфыркивался, дёргал шкурой. Но смирился.
Только тогда карлик прочно стоявший на крупе позади всадника, отозвался с усмешкой:
- Я тебя давно ждал. Так и знал, что будешь скотину зря гонять по колдобинам. Сбавь лихогонство. Девок тут нет по тебе ахать. Здесь развилка - не прозевай, бери правее. Я покажу дорогу, а ты запоминай. Сейчас башни откроются, правь прямо на них.
Крепко застегнуты были медные пуговицы на старинном кафтане карлика, как влитая сидела треуголка на большой голове, и сам он был весь плотный, ладный, коричневый, как боровик.
Кавалер обернулся через плечо и отчего-то подумал о нём:
-Табачный человечек...
В отдалении блеснуло широкое рытое озерце и вздыбился над ним гребень лесистого склона, в древесных купах белая корона крыши, да кусок башенной кладки цвета старой крови, кантемирова хоромина, первая сторожиха Царицына дворца.
Многих столбовых да сиятельных принимала подмосковная вотчина, да не многих выносила. А кого вынесла, тот счастлив не был, Стрешнев запил горькую и сыновей не оставил, Голицын-хват угодил в Сибирь от Петрова гнева. А землю жаловал Петр молдаванину Кантемиру. Угодил чужак, точно бирюк в угольную яму, дурным кровоточным глазом стращал людишек.
Дочку свою, незаконную рожёнку, Яну, в дубовое дупло по злобе заключил - кричала она о полночи, стучала кулачками в дубовый луб, никто не вызволил, так и померла девка от жажды.
Душа ее изо рта выпорхнула. С тех пор белая кукушка- падчерица денно и нощно считала смертные часы под окном жестокого батюшки.
На шесть лет Кантемир был лишен Причастия, стоял при вратах с оглашенными, просвиры с теплотой не вкушал.
По голосу кукушки предсказывал проезжим судьбу, гадал родословие по облакам бегущим, ворожил на гнилой воде, злом исцелял злое, ел жидовские опресноки. До того одерзел молдавский князь, что с лесной медведицей свадьбу сыграл в бане.
Пару беглый поп Кудлат за большие деньги по старому канону окрутил, и сам про то всем рассказывал, а поп Кудлат врать не станет, если пьяный.
Медведицу Яной нарек, не глядя в святцы.
Жених по церковному молитвослову читал венчальные ответы, а невеста все "рры" да "рры".
Недолго поп Кудлат по шинкам да завалинкам сплетничал - нашли его бабы хворостинницы на княжьем острове, с головы волосы с кожей сорваны, уд срамной вырван, вонзен в рану струк мадьярского красного перца, а вокруг попа весь суглинок косолапыми следами истоптан.
Кривое место. В ельниках и сосняках попадались грибникам и скотникам круглые могильники - Бог весть кто их насыпал, поросли ровной травой-болиголовом, и ни птичьих следов, ни беличьих погрызков, а подойдешь близко, присядешь отдохнуть, так в сон и клонит, так и манит навеки, и зимой те курганы дышат - тонкий на них снег лежит, по вечерам синие искры бегут по снегу - спать нельзя, затянет.
Овражные туманы, белая водка, медвежьи ласки, да порченый можжевельник, навевающий осеннюю бессонницу, свели на нет Кантемиров род. Нет у кукушки Яны детей, только жалобы.
С кантемировой поры распутные девки передавали друг другу тайное средство - сваляй вечером земляной колобок из-под корени кукушкина дуба, да, не запивая, съешь, а потом всю ночь блуди хоть с быком - наутро не понесешь материнского бремени.
Как помер последний молдаванин, без братовщины и сыновщины, завалили его лютой грязью чужие люди, на крест напялили баранью молдаванскую шапку. Наутро пророс крест сухими турецкими лозами, по осени оскалились лозы красными стрюками жгучего перца. Одинокое дело.
В 1775 году глянулись пригожие угодья Императрице Екатерине. Созвали зодчих и рабочих, швырнули большие деньги, копошились мурашами на строительстве, там леса просекали, здесь отворяли жилы подземных вод, питали пруды.
Мастера рубили беседки, возводили галереи и воздушные театры.
По расхлябанным дорогам тяглом волокли итальянские мраморы, кирпичи лепные фигурные запекали на месте. Сочиняли удивления и забавы: разные фигуры, водометы позолоту листовую, малахитовые плиты с Уральских страшных демидовских копей, орлов и богинь, тепличные драгоценные деревца все, что для великолепия потребно - всё валили в обилии на черные грязи Царицына села.
Двенадцать лет городили невидаль на славу. Важное предприятие, не для протопопицы старались - самой Государыне угодить не шуточное дело.
Возвели дворец с кавалерскими корпусами, воздушные мосты, галереи, каскады пустили по склонам, гроты и пещерки для стыдной любовной тайности. Греческие руины нагромоздили, как в первых домах принято, вычурные беседки нарекли именами "Миловида", "Езопка", "Хижина", в той хижине положено было отшельника завести, чтобы пейзаж украшал сединами, даже старика нужного нашли в деревне - тот, ханжа, за каждодневные харчи и водочку согласился господ радовать косматым рылом, в дерюгу наряжаться и про банные дни до гроба забыть.
Все чертежи Екатерина сама просматривала и сильно хвалила, на груди зодчих-искусников сами собой просились орденские атласные ленты, алмазные пуговки, явная доля высокой милости.
Еще краска не просохла на манерных китайских купальнях, что на островках ивовых хоронились, а уже готовили для хозяйки грядущей фейерверки и театральные представления.
Ждали грозную матушку. И дождались.
Приехала, огляделась. Всем хорош новый дом, многостекольный, обильный, богатством ломится, а жизни нет. Как трубы ни трубили, как ни кричали виваты, как ни пели кантаты, а не заглушить было печального клича белой кукушечки Яны, да сухого костного щелканья перечных стручков.
И ногой не ступила разумница- Екатерина на черную грязь.
Отвернулась. Махнула рукавом:
- Все, что построено, снести. Каприз у меня такой. Исполнить сей момент.
И не переночевала даже, укутала по старушечьи плечи в мех, велела ехать прочь. Нечего тут околачиваться - порченый ночлег.
Пугало безглазьем здание, будто красный кирпичный катафалк с монашескими свечами-колоннами по бокам. Заросло, насупилось, испоганилось дворцовое нутро. Поросли камни девичьим виноградом, вьюнком и шиповником. Блестело на солнце битое стекло. Ящерки порскали по каменным ступеням сухих каскадов.
Страшны дома людьми оставленные, пуще их страшны недостроенные, нерожденки.
Остались от императрицыной мудрой придури пять зеркальных прудов: Ореховский, Лазаревский, Верхний Хохловский, Шапиловский и Царевоборисовский. Ходили в заиленных глубинах аршинные щуки, голубые карпы и острорылые осетры с золотыми серьгами в щековинах. В затонах любовно цвели кувшинки и малые лилейки. Стерегли лодочные бухты телорез и рогоз. А по ивовым берегам, насколько хватало глаза ощетинились чащобой фруктовые сады с оранжереями, откуда везли на Москву редкие яблоки, сливы, померанцы, и прочий райский товар к барскому столу.
Туда и направил прекрасного всадника карлик по имени Царствие Небесное.
Так запутана была садовая крепь, что с непривычки и заблудиться можно было средь солнечных пятен и дурмана раннего цветения - белыми волнами подпевали ветру цветущие ветви в крылатом целомудрии своем - голова кружилась у всадника.
Кавалер, путал яблонный цвет с облаками, смеялся, болтал с карликом невпопад, будто пьяный, и вправду, ударил хмель в голову. Белая лошадь, белый свирельный цвет, рубаха белая, рукава - притворы владимирской северной церкви, пречистая белизна в дальнозорких глазах, как на крестинах.
- Скоро доедем? - спрашивал Кавалер, а про себя молился, чтобы не скоро...
Царствие Небесное устал стоять, почесал горб, присел на круп, с одной стороны, как паяц с райка, свесил ноги в тупоносых башмаках, кивнул, заметив знакомую излуку самого потайного царицынского пруда, куда лишние люди не наведывались. Вынул из-за ленты на тулье треуголки длинную голландскую трубочку - без табака погрыз холодный чубук.
- Уже на месте, сынок. Гляди в оба.
Андалузский конь почуял жилье, заплясал, бочкОм, как стригунок на первом выгоне.
Поскакал, дурашливо задрав хвост на берег, покрытый большим лесом.
Распахнулся перед гостем, как на ладони, птичий базар - фазаньи клетки под плакучими ивами, прудок, оканчивающийся плотиной. Плавали и гоготали на пруду лебеди, черные гуси, пеликаны, юркие нырки- воды не видать было от пернатой толчеи.
Журавли и цапли в зарослях раскланивались, как вельможи, павлины с павами в особой загородке прохаживались с криком.
А за птичьими угодьями купалась под садовым солнцем крохотная деревенька, как во сне - все домики ладные обновки
ставни резные, заборы низенькие, ворота - разве отрок, не пригнувшись. пройдет, даже церковь и та низехонька, куполки синие со звездами. У привратных столбов улыбались вырезанные из дерева кудрявые львы и такое диковинное зверье, которому и названия нет - то щучий хвост, то бараний рог, то глаз лукавый, то хребет рысий, то перо золотое, то крученый хвост с раздвоенной кисточкой. Улочки меж домами метены были дочиста, трубы дымили, несло печеным хлебом. Белые козы без привязи били рога в рога у ближнего дома. С
С брехом преследовали белого Первенца дворняги. И народ во дворах мелькал не простой. А все, как Царствие Небесное - карлики. Девки махонькие с пустыми ведерками трусили к колодцу, только ножки босые мелькали под юбчонками, два корешка - братья с виду, пилили на козлах бревнышко, три горбуна волокли тележку с птичьим кормом на рабочие дворы. Увидев Царствие Небесное, сняли шапки, поклонились, тот им ответил, переглянулись, покосились на большого человека без приязни.
Пред воротами богатого дома - пятистенка у самой плотины Царствие Небесное сказал коня осадить. Сам дом - чуть больше хуторной баньки, а все как надо - и крылечки и конек и окошки с дорогим стеклом.
Вместо воротных столбов были искусно вырезаны и раскрашены деревянные пузатые паны с цветочными горшками вместо шапок.
Залилась из подворотни собака - и послышался женский спор, одна помоложе, другая постарше "Хочу..." "...Ишь какая, перекорка... Поди в клеть!" "а я все равно хочу смотреть!", "Кыш, кому говорят!"
Кавалер спешился, повод в кулаке скомкал, оробел, озираясь. Выкатилась из ворот навстречу Царствию Небесному баба-кубышка в семь платков закутанная, страшная с лица, вся в шишках, обычному человеку едва выше пояса. Одета нелепо, кофта зеленая, юбка красная, алый супружеский наголовник.
Голова кочаном, чуть шея не ломится, тельце тщедушное, а глаза добрые, от ласки подслеповатые.
Торопилась - жиловатые руки по локоть в тесте, седые пряди из-под платка выбились.
- Ксения Петрова, жена моя, - назвал карлицу Царствие Небесное, тронул женку в плечо лбом, на Кавалера кивнул:
- Я его в науку беру с нынешнего дня, Аксиньюшка. Привечать будем, как родного сына. Чтоб все чин чином, слышишь?
Сконфузилась карлица, неловко вытерла руки о передник, пробормотала:
- Не готово ничего. Хлеб поставить не успела. Разве квасу шиповного изволите? С холода принесу, поправитесь.
- А нам сытое брюхо ни к чему. - Тащи, что есть. Жди к ужину. - и едва карлица скрылась в доме, Царствие Небесное с усмешкой спросил Кавалера
- Что плечи сгорбил?
- Совестно быть рослым... - растерянно отозвался Кавалер, не знал куда деваться, стоя посреди маленькой деревни. - А где вторая женщина? Спряталась?
Царствие Небесное насупился, закусил пустую трубку свою.
- Нет на дворе второй, понял? Мне и одной с головой хватает. Всюду тебе бабы мерещатся. Нашел время. Ты выпрямись. Все только начинается. Дальше, обещаю, тебе будет хуже. Хотя четверть дела ты уже одолел - добыл коня, какого я тебе сказал. Трудно было?
- Нет... - Кавалер охлопал андалуза по мокрой шее, - а почему именно он, разве у нас коней мало?
- А это зверь правильный - Царствие Небесное вынул из кармана сухарь, протянул Первенцу с ладони, скормил в хруп - У него на родине такие в бычьих ристалищах играют, боевым танцам обучены, не хуже иных двуногих шаркунов, Первенец тебе в работе будет подспорьем. И телом от шпажного удара укроет, и каприольным прыжком противника с ног собьет, из перестрелки вынесет, от лесного пожара умчит. Хороший конь, что хороший нож - умелую руку веселит.
Вернулась Ксения, подала заплечный мешок, нанизала Царствию Небесному на запястье гуцульский невиданный на Москве кувшин - калач с дырой посреди для держания в конном походе. Кавалер наладился было поцеловать хозяйке руку - та попятилась, руки спрятала, покраснела, что бурак
- Да что Вы... Мы непривычные.
- Пошли - одернул церемонии карлик - Полно бабиться. Коня в поводу поведешь, и так запалил почти.
Под птичий гомон, под пискливые, на тон выше человечьего голоса рабочих карликов, Царствие Небесное и Кавалер покинули чуднУю деревеньку.
Остановились на укромной поляне, подальше от садов и птичников.
Солнце поднялось высоко, припекло. Укоротились тени Кавалера и его коня.
Царствие Небесное смешно примостился на пне, как болотный черт, ножку детскую на ножку закинул и покачал тяжелым немецким башмаком.
- Разувайся. И рубаху снимай.
- Как? Догола по пояс? Помилуй, солнце жесткое, веснушками закидает, как свинопаса...
- Вот напасть-то .... - пожалел карлик - а придется. Ой, смотри, за спиной! Берегись!
Кавалер махом обернулся, а карлик подкатился ему под ноги, подсек, и грянулся княжич в травостой, как тюфяк оземь брюхом, щеку ссадил о камень, прикусил язык.
Расседланный Первенец звякнул уздечкой, охлестнулся хвостом злорадно - не все тебе меня гонять, сам попрыгай, братец.
Царствие Небесное отряхнулся, помог Кавалеру подняться. Тот зло легкую кровянку сплюнул. Захолонуло от обиды сердце. Но карлик не дал и слова вымолвить.
- А ты напрасно не покупайся. Смотри, как это вышло. Показываю медленно, а потом повторим.
- Черт с тобой. - Кавалер сорвал сапоги, рубаху через голову скинул, думал ослепить урода холеной белизной тела - Ну, показывай!
И мига не прошло - а снова грянулся в мокрую траву ничком, будто лезвием косы подсекли щиколотки, будто табунщик повалил степного жеребца - холостить.
Если бы не биение крови в висках от позора - то расслышал бы Кавалер, как в болотистых зарослях по краям полянки хохочет в ладошку девушка.
Снова вскинулся Кавалер, весь в потеках зеленого травяного сока, пелена желтая в глазах, и злость и радость и азарт резью из под низа живота ожгли, растрепались космы, как у ведьмы или бляди.
- Еще раз!
- Изволь, - пожал плечами Царствие Небесное.
Так и познал княжич из Харитоньева переулка азы преисподнего ада не напрасной работы Царствия Небесного.
Глава 17 Сиротство и отчество.
...И аз раб Божий имярек заговариваю заговорь на белом снегу, на черном шелку, на яром воску, на седьмом ветру от пушечных ядр, от самопалов, от аркабузных свинчатых пулек, и от всякого оружия грозящего, ратного и крестьянского. Святой Государь Тихон, утиши и отведи от сердца моего всякую стрелу и злодеяние и татарское и крымское и ногайское и турское и литовское и черемисское и чуваское и немецкое и черкасское и русское и всех нечистых родов. И от порчеников, урочников, злых завидников, словеников, травников.
Все стрелы слепы, а моя зорка, все стрелы дремлЮт, а моя не спит, все стрелы - белы, моя - ворона, все стрелы - в женах, моя - девушка.
Можжевельный лук согнул лютый враг, вложил костяную стрелу на медные проволоки, высек глаз-алмаз на наконечнике, подстрелил на ясном небе первую звезду, не звезду стрелил - в меня целился.
Полети, стрела костяная, в сырой бор, в сырую хонгу, в скрипучее дерево, в Тулу, в Паневеж, в Голубец Лихой, в Кострому, в Тотьму, и на остров Грумант Медведицын. Полюби меня, князя белого, отклони свой путь от моей груди, от тельцА, от стрельца, от молодца.
Мак с песком смешал с наговорами, порошу глаза смерти чаянной пригоршней доброю, заметаю след рукавом в овраг, не возьмешь живьем до последнего, как исполнится то что писано, во животной книге Божией, и не раньше днем и не позже.
Распадись, стрела смертная, последняя, древко - в дерево шумящее, а древо сломись бурею, перо - в птицу летящую, а птица улети в небо, а клей стрельный - в рыбью кость, а рыба - уплыви в море, ляг под Латырь камень и не попадайся ни в сети, ни на крючья, ни в гарпунный бой. Стой, стрела, не лети ко мне, не бери меня, пожалей меня, старого смерть клонит, молодого смерть любит, так лети стрела сквозь стопы Христа Спасителя, лети сквозь слезу девицы Марии, Божьей рожницы, сквозь крыло и лунное чело Михаила Архангела, сквозь дубовый лист и горчичный цвет Троицы Живоначальницы, разве можешь их пронзить стрела язвица, так меня не язви, не рань, не бей... Буди мне милость, а телу крепость, а челу - мудрость. Есть железный Бог, есть Покров тугой златотканный великоустюжский, есть трава виктора, что в огне стоит и не рушится. Там, где смерть моя до поры была - расцветает сад, со древами да кипарисными, и со грушкою со зеленою, и с вишеньей цареградскою. Все во саде есть - пойло пьяное, постель мягкая, грехи тяжкие, грехи смертные, полюбовники миловидные, молода жена плодовитая и Дарей-река дарованная, и Шат-река шатовитая, и Сион-гора православная, только смерти нет бездыханныя.
Белый снег сошёл, черный шелк истлел, ярый воск сгорел, что осталось мне, в моем сиротстве, в тяжком сиротстве природительском?
- Слово данное несказанное изначальное. На помин душе -
хлеб, соль, вода, чабрец, свинец, водка, полынь
Аминь.
С того дня Кавалер уезжал из дома спозаранку, возвращался затемно, усталый, как с покоса, лесом и дымом пропахший до последнего лоскута.
Иной раз в синяках и ссадинах, как от кабацкого мордобоя.
Врал матери уклончиво, на упреки прикормленной дворни рявкал "Без вас разберусь!"
хлебал на ходу застоялую воду из дождевых дворовых бочек.
Весь чумазый, рваный, точно цыган или углежог, еле брел по коридорам и продушинам Харитоньева дома, чтобы не раздеваясь на постель рухнуть, протянуть налитое ломотой тело.
А утром - след простыл.
Мать только губы покусывала, не пытала расспросами, не перечила.
Что поделать, из нежного цвета - кислое яблочко, из милого дитяти репей-недоросль.
Вошел в возраст, жить бы да радоваться, но на пути лихо на лихе лихом погоняет: и двадцати лет не исполнилось, а уже из столицы изгнан, невеста отказ поднесла, люди за дело ославили. Кровь волнуется, бьет в голову, ей выход потребен.
Верно влюбился, а того хуже по отпетым девками пошел с удалым компанством картежников и выпивох, как положено вельможному юноше.
Если смолоду не перебесится, то в старости зачудит.
Не век же ему над книгами спину корчить, мхом обрастать. Главное, чтоб ночью его в Басманной слободе не порезали или на Хитровке не ограбили, если Божьим попущением занесет. Впрочем, пусть его. Порежут - заживет, как на собаке.
Старший что ли по молодости не хабалил? Таковы уж дети, в муках рожаем, молоком поим, на ноги ставим, а на втором десятке молока-то мало, крови материнской подавай ковшиками.
Мать-москва Ирина Михайловна сама от себя прятала правду: ненаглядный сын, последыш, братнин тёзка, надёжа в старости - не удался. Ни с чем пирожок.
Не в коня корм, не в породу честь, был ненаглядный жизненочек, стал лешачий подменный подкидыш, был у Николы вымолыш - а стал - постылый выкидыш.
Как смеет он пахнуть, как мужчина, а не как дитя молочное, как смеет засыпать без моего поцелуя, как смеет к обеду не являться, а явится, как смеет не жрать, что даю?
Ежели щенки благородные с изъяном рождались, Ирина Михайловна,скрепя сердце приказывала их в поганой лохани топить, чтобы псарню не портили.
Все у Харитонья в переулке первое должно быть: Псы, чтоб на подбор - шерстинка к шерстинке, чутье десятиверстное. Кони - чтоб на подбор дьяволы, пасти жаркие, костяк прочный, морды ярые змеиные, и чтоб с одного прыжка киргизскую степь перелетали.
Сыновья чтоб на подбор - столичные господа, иным московским не чета, ежели свадьба, так с морской царевной, ежели похороны - так чтоб могила всех выше и пышней была, а кутьи до сороковин хватило на всю нищую братию.
Не годится к нашему высокому столу яблочко с поклевом или родинкой. Дурную траву с поля в огонь.
Мать откладывала ссору. Завтра ему выскажу все, что думаю, завтра...
Да только сама Ирина Михайловна осталась в вечном скучном "вчера".
Не удержать ей было последнего сына, который в то лето сошел с ума.
А меж тем у дальнего пруда Царствие Небесное часами заставлял Кавалера работать.
Учил стрелять из пистоля и ножи метать в дерево стоячее и плаху катящуюся. Учил лицо держать, если больно. Показывал, как при слабости телесной, сильного супротивника одолеть хитрой обводкой, играючи.
Мал карлик, горбат, как буква "веди", а здорового парня укладывал раз за разом, то носом в землю, то затылком о корень. Разбежится меленько и дробно, прыгнет - и двумя ногами в грудину - хрясь, как ядро.
И плакал Кавалер и матерился, а Царствие Небесное оставался спокоен, знай, одно повторял:
- Сызнова, сынок. Сызнова.
Семь раз возненавидел Кавалер укромную полянку, семь раз полюбил, когда отдохнуть давал ему карлик и занимал долгими рассказами.
Не только телесно гонял Царствие Небесное Кавалера в хвост и в гриву, но и воспитывал в нем особое лицедейство, для будущей пользы.
- Ежели хочешь человеку по сердцу прийтись - помни, нет ничего прочней первого взгляда. При первой встрече, как к беседе приступите, следи, как собеседник дышит и старайся в такт с ним попадать, будто дуэтом играешь, нотка в нотку дыши, грудь в грудь. Потихоньку его жесты и повадки перенимай, но без обезьянства, и больше слушай, чем в уши дуй. Если собеседник твой человек богатый и чванный, много прислуги держит - прежде всего вызнай, какими ароматами его женка или полюбовница умащает тело, и манеру эту перейми, а если дуралей самого себя превыше Бога ценит, то придется его притиранием смердеть, сам того не понимая потянется к тебе, позже и ответить не сможет, чем ты ему глянулся.
Нужно уметь и болезни разыгрывать и здоровье при болезни выказывать. С вором на офенском языке говорить. С никонианином тремя перстами креститься и табаки нюхать, с матерью-келейницей читать старопечатное письмо, каноны толковать, что ни слово - то голубь, что ни слово - то белый. С женщинами женщиной быть, а если припрет, так и с мужчинами представляться в женском обличье.
Иной мужчина в пыточной того не скажет, что на бабьи колени голову склонив, болтает. Только здесь особая сноровка нужна, чтобы не ряженым гузноблудом показаться, а истинной женщиной - с головы до пят, будто иным тебя и не рожали, и пахнуть по-бабьи, и улыбаться и даже прядку на виске поправлять, округлым жестом, будто с завлекательным стеснением, и раз в месяц несносной быть, а после похотливой и нежной, напросвет золотой, как токайское вино.
Ну да тебя Бог не обделил, щедрой рукой вылепил: лицо улыбчивое безусое и маленькие руки и стопы, и покатые плечи и бедра полные, как у девки-сливочницы, что в довольстве и любовной праздности весело живет.
С одной стороны повезло тебе - на смазливую приятность и медовое обхождение любой дурак клюнет, хоть в юбке будь, хоть в портках.
Но с другой стороны, лицо твое - твой крест. За девицу сойдешь, и шлюшкой и схимницей и пригожей поварихой представишься, а вот выйти на люди стариком колченогим или быдлом рязанским - тут придется обезобразиться на совесть, так чтобы чужая шкура приросла намертво. Высшее искусство - это когда пять свидетелей тебя по разному опишут, и ни один верные приметы не запомнит"
Царствие Небесное водил Кавалера в кабаки и на базары, слушать и запоминать выговор галичан и ярославцев, новгородцев и владимирцев, татарскую и жидовскую божбу, польский "чокающий" гонорливый и мягкий говорок, потом оставлял, переодев в подворотне, среди отребья - а теперь, сынок, сходи за своего.
"Сегодня соври, что пскопской, завтра плети, что черниговский - и пусть псковитяне и черниговцы тебя за своего примут с первого слова.
А не примут - бока намнут за вранье. Выкручивайся, Господень попугай. Потом спасибо скажешь. Не раз тебе пригодится оборотничество."
Порой обман удавался, а если раскрывали - били смертным боем или гнались, еле живой уходил Кавалер от возмущенного уличного общества.
В один из дней и вовсе смешно вышло - вырядил настырный карлик подопечного девкой-цыганкой, пустил шататься по Тверской, приставать к прохожим.
Но прежде заставил походку и осанку изменить, десять цыганских слов выучить и речь ими ловко пересыпать, да всеми женскими ужимками и заигрышами не брезговать.
Долго бродила босая цыганочка по дощатой мостовой, праздные зеваки московские на белозубку чернокудрую заглядевшись, едва шеи не посворачивали, как гусаки из клеток.
Резво плясали монетки в петушином переднике. Падка Москва-зевака на диковинки.
У лавки ароматника остановился знакомый рыдван, еще бабкин, безрессорный.
Кавалер вздрогнул - признал экипаж и кучера и коней с орловского завода дарёных. А бежать некуда, уже заметили, золоченый лакей с запяток слез, строго поманил:
- Поди сюда, стерва. Хозяйка гадать желает. Без обману.
Отдернулась шторка - пол-лица густо набеленого увидела перепуганная цыганочка, следом выпросталась из розового кружева узкая рука с голубыми венками и старыми оспинками.
- Не бойся, милая, расскажи, что минуло, что грядёт?
Сам не помнил Кавалер, что плел госпоже шепотом, все, как есть выложил - и про двух сыновей - старшего и младшего, и про неудачи и тревоги материнские, и про невесту неверную и про царицу немилостивую и про сухую лампадку и про пересуды дворни - дама в бархатном рыдване слышно поскрипывала зубами.
Вот с грядущим туманно вышло, только и смог сказать Кавалер, что по руке ничего задаром не видит, кроме большого удивления, дальней дороги и казенного дома.
От страха барыня одарила гадальщицу расточительно. Вынула из уха серьгу, золотую с дымчатой топазовой каплей.
Кинула, не глядя, как завороженная, а для острастки велела кучеру немытой чертовке по хребту кнутом втянуть - зачем так много знает, смущает душу. Увернулась пёстрая паскудница из-под кнута, как угорелая кошка, и сбежала.
Еле отдышался под чужим забором Кавалер, отер подолом юбки сажу с лица, показал Царствию Небесному добычу. Карлик языком щелкнул:
- Добро. Если мать родная не признала, значит кое-чему научился.
- А признала бы, что тогда?
- Убила бы, - обрадовал карла и наконец то не спеша набил свою трубочку, придавил табак желтым большим пальцем, из дворницкого костра взял уголек и запыхал всласть.
...С мартовского половодья стояла на лугу над Царевоборисовским прудом лужа. По теплому времени лужа густо заросла ряской, дикие колоски стрелками выросли по кайме, верхи обжили стрекозы и бабочки-капустницы, а глуби - лягушки и жуки-вертячки. Не дай Бог вступить в топкие берега - провалишься по колено в рыжую глину - сапог увязнет, так всей птице пропасть. Посреди травяной хляби скучало черное незаросшее оконце, кивали в нём отражения сырых липовых крон и даровым золотом полные облака.
Дышала на камушке мокрым горлом мать всех лягушек - вся в коричневых бородавках, с глазами немигучими. Сонный покой. Тростники. Осока.
Надвое раскроили лужу на оголтелом галопе конские копыта. Веерами взметнулись брызги - и стал белый андалузийский конь от бабок до брюха - мокрый, голубой, круглый, как аметист. Взлетел, поджимая пашину, зубами ляскнул и вынес всадника из хляби - Кавалер сжался в ком на конской спине, всем телом зажмурился.
Удержался.
На свободе без седла и узды гонял жеребца Кавалер, как было велено Царствием Небесным, между вкопанных в землю прутьев - лавировал конь, как корабль на трудном рейде, и было светло и весело в высоте. Первый час дня отбили новые куранты на колокольне дальней церкви Живоносного Источника, стеклянным звоном отмечены были четверти.
Издали доносился соловьиным переплеском призрачный отзвук времени. Медоносные травы вспотели к полудню сытными сахарными соками. Густо и мерно жужжали пчелы над монастырским цветением.
Царствие Небесное, по обыкновению бесстрастно, следил за трудами воспитанника, сидя верхом на обрубке бревна.
В этот день карлик учил Кавалера владеть лошадью, как собственным телом, лениво, неявно, властвовать ртутной плотью ездового зверя. Все вышколенные напоказ трюки и курбеты меркли перед простой наукой Царевоборисовского луга.
Кавалер учился без видимых усилий править конским скоком, будто с младенчества вплавлена была человечина в конину. Сопрягался всадник с мышечными волокнами зверя, хрящи в хрящи, сухожилия в сухожилия, суставы в суставы прорастали, сердца бились в тон, неразлучные и в битве и на охоте, и в гибельной погоне.
Взмылился Первенец, кривил рот, прижимал уши, задом бил, хорохорился.
Отравленным полотном прикипела рубаха к плечам всадника, щедрые волосы немилосердно стянуты были на затылке ремешком. Обветрились на воле персикового колера щеки.
Плыл над луговинами прудовый влажный зной раннего лета. В суховейном трепете двоился белый всадник, будто спутанный с изнанки рисунок вышивки.
Лошадь заартачилась, сбила грудью оструганный ореховый колышек. Кавалер уже не видел ничего, кроме змеиной млечной шеи, спасительного пучка волос на холке, зеленой каши обступившего луговину молодого леса. Над стылыми разбитыми оконцами великой лужи тесно толклось комарье.
- Сызнова... - рассеянно повторил Царствие Небесное, но всадник кубарем слетел с конской спины, прокатился по сырой мураве - зеленые и рыжие полосы замарали рубаху.
Неоседланный Куцый без ноши заскакал развеселым козелком, хватил сдуру куст осота, и запрокинув угловатую голову, удрал в березняк - кормиться гусиной травкой.
- Не могу больше... - хрипло выговорил Кавалер, зачерпнул в горячую горсть глинистой нечистой воды и быстро выпил, обливая подбородок. Так и стоял на карачках, разрывалась грудь от черного верхнего дыхания. Закашлялся и сорвал ремешок с волос - затенил лицо прядями, точно плакальщица.
- Ну, будет на сегодня, - сжалился карлик. Потрепал ученика по вспотевшей холке, по мудрому, по звериному - Ты дыши и слушай меня.
И Кавалер дышал и слушал.
"Вот тебе мой совет, запомни, как "оченаш": в твоем темном доме хлеба крошки в рот не бери. Ни глотка воды, ни куска сахару, ни масла жирного, ни рыбицы шматок. Всё что ни поднесут - исподтишка собакам швыряй, в себя не смей.
Испорченный у вас дом, всюду порча просочилась - каждодневно не барские разносолы, не мозговые мослы, не взвары медовые подают на стол, а чистую порчу. Змея черная вам муки намолола, мертвецы в квашню нассали, старухи набормотали заговор на смерть.
Есть и пить будешь только у нас, в Царицине, нашу навью еду будешь крестить, хлеб насущный с нами, с навьем, делить и глодать. Дома не ешь. Понял? Только из наших рук"
И вправду Царствие Небесное кормил Кавалера кровяным мясом и царицынским кореньем, и огородной снедью, приготовленной Аксиньей Петровой, женой карлика, чтобы злей и сильней становился ученик.
Кавалер научился хитрить, тайком угощение матушкино в рукав тискал, от перемены блюд отворачивался, занимал дур и дураков застольной болтовней, а сам все всматривался в осьмистекольное летящее окно нового зала - за которым, дробясь, взлетала и падало заполошное московское лето. Красное лето, до сладкой боли на полголовы.
Все время тянуло из дома в Царицыно.
....Снова и снова в час отдыха на Царевоборисовском пруду замирал от радости, когда Царствие Небесное неспешно разламывал краюху черного тминного хлеба и лупил о камень каленое яичко, делился с учеником полдником и говорил отеческие слова, от которых радовалось сердце и прояснялось в глазах
- Хорошие у тебя глаза, молодой, - нельстиво хвалил Царствие Небесное, крепко ласкал Кавалера от лба по переносью и скулам, - Такие глаза ворожея не отведет, светский прах не запорошит... Гляди в оба, берегись, чтоб не выжгли".
Однажды выдался столь знойный и маревный день, что занятия пришлось прервать на половине. Утомленного коня Царствие Небесное велел по брюхо завести в копанный пруд и Кавалер полными ладонями обливал конские бока, густо ронял капли, будто в колодец, сам улыбаясь, млел, стоя по бедра в гулкой ключевой воде.
Царствие Небесное отвернулся - жара его не брала, так и сидел в своем коричневом кафтанце застегнутый от паха до горла на медные пуговицы, начищенные мелом добела.
И завел тяжелый разговор:
- Вот что: я задурил тебе голову. Наставник из меня, как из козьего говна - пуля. Дело не в учении, а в тебе самом.
Вечно я при тебе быть не смогу, но крепко помни: ты на безумие падок. Учись пресекать черные мысли на корню. Как начнешь думать о скверных вещах - ну там, собак бить, или руки мыть что ни час, или чуть потрапезничаешь - блевать, или мужиков на Пресне жечь, мало ли что взбредет в больную голову, ты ни минуты не мешкай, седлай коня, и в чем есть езжай галопом до пота, куда глаза не глядят. В леса, на поляны, в места глухие нехоженые езжай. А там, что угодно делай. Хоть ножи кидай, как я учил, хоть пляши до упада, коня отпустишь - так беги, пока не свалишься. Весь лишний пар с потом и телесной ломотой выйдет. Если совсем под горло подкатит тоска, возьми нож и полосни по руке - да не там, где жилы, а по тыльной стороне и в рану деревенской соли горсть вотри - то-то заорешь, по земле покатишься. А большая придурь с малой болью выйдет, как высосанный яд. Много есть способов - одним я тебя научу, до других сам дойдешь. Только водки не пей и не сиди у окна сиднем. Праздные руки и пьяные глаза дьявол всегда найдет чем занять. Жеребец застоится месяц в деннике - выпусти его - взбесится. Так и ты. Опаснее всего для тебя осень и весна, осенью природное умирание бередит душу, весной - пробуждение морочит, шагу не сделаешь, не смешавшись. Вот помню, на Москве брехали, что деда твоего, в дряхлости, пришлось на привязи держать, чтобы на домашних не бросался. А сестрица матери твоей, тетка Наталия, по сю пору в Спасском имении на четвереньках бегает, ворчит по ночам, как росомаха, кормит ее отставной солдат с пики сырой козлятиной. Сама нечесана, немыта, имени крестильного не помнит, груди ногтями в кровь изорвала, если не доглядеть - сбежит на люди, может младенца, как свинья, заесть, или первому пьяному шуту отдаться в канаве. А ведь по молодости в баснословных невестах числилась, спальню заказала из фиолетового дерева, разумница, книжница, а поди ж ты, с ума попятилась на старости лет...
- Знаю - оборвал карлика Кавалер... - Десять лет уже к тетке в гости не ездили, дома о ней говорить запрещено.
- Родословие у вас старинное, тысячелетнее, столько свирепых кровей понамешено и истощилось от времени, что не мне тебе рассказывать и не тебе слушать. Куда ни плюнь - князь князей, султан султанов. Какую сказку Шахерезады не открой - встречаются ваши давние, еще некрещеные имена, от Египта до Индии процаревали, в крови с розовой водой с ног до головы выкупались. Тут и ногайцы, крымчаки, а русачья наша бешеная порода к вашей раскосой привита накрепко,
Сколько на ковровых подушках вы чужих женок насильно перепортили, скольких из вас сажали на кол в Карасубазаре, скольких безоружных вы с визгом рубили в куски, сколько тайных плодов стравили ваши женки в сухие колодцы. В семиярусной башне казанская царица-мужеубийца смывала свою красоту конским молоком и смертными грехами, а как скончалась прекрасной смертью, на надгробие ее алый шиповник с млечной черемухой осыпались и разрушаться стала башня, покосилась. Расселись по перекрытиям и завыли казанские коты, тихо потекли красные грязные воды и продолжился род, пробился сквозь смуты, измены и лютые войны.
И оливковое дерево, сколь ни живуче, вырождается в дичок, вот и у вас в каждом поколении появляется детка с червоточинкой. Мозги с лысинкой. Ветхая кровь на чудачества и лихачества горазда. Но ты своей крови не бойся, просто помни об опасности и держи свои фантазии в строгой узде".
Захрапел андалузец, запринимал - крест накрест точеными ножками взбил воду. Кавалер прикрикнул - что за шалости! - зверь вызмеил шею, замер, будто нарочно. На широкой шее билась глубокая жила.
Кавалер опечаленно голову склонил, защемило в груди, так и хотелось карлика обнять, в самое темечко ему шепнуть:
- Батюшка...
Но сдержался. Только спросил:
- Зачем ты на меня такого тратишь время? Чего от меня хочешь?
Разбежались морщинки по надежному, живому лицу Царствия Небесного.
- Стара барыня петербургская, Императрикс Российская, так понимай, скоро помрет. Вот тогда озорные пойдут дела. Скоморошество, татьба, машкерады и страшный дележ всероссийский. Завертится Питер, Москва поддакнет, такие хляби всколыхнутся, знай, вычерпывай. Придет твое время, молодой.
Не вечно же тебе, Кавалер, в Харитоньевом доме за бабьими хвостами сидеть.
Тебе многое дано, пуще того спросится. Я готовлю тебя к большому ледоходу. А в полынье, знай, греби саженками, да уворачивайся, чтоб глыбищей башку не сшибло.
Но ты - шалый, ты счастливый, ты выплывешь. Потом еще мою науку вспомнишь добром. Что смотришь? Сызнова, сынок, кому говорю..."
Но не подчинился Кавалер на этот раз, вышел из воды, сел по-турецки рядом с Царствием Небесным на мостках, поймал его руку - залубеневшую от возраста, жилистую, но не поцеловал - так держал, как голодный хлеб на ладони держит прежде чем поделиться.
Заглянул карлику в глаза. Стало хорошо. И тихонько сказал Кавалер Царствию Небесному:
- Вырос я безотцовщиной. Сам знаешь, как мою колыбель в дом поставили, отцов гроб со двора вынесли. Долгие годы искал тебя, в сновидениях ли, в потаенных мечтах, как дети отца ищут утром на Рождество, когда в окнах белым бело и яблоки между рамами так пахнут... И хвоя, и алые ленты и корка цитронная и кухаркины пироги. А отец там, близко, толкни дверь и увидишь батюшку. Стоит он, большой, медведюшка, голова в потолок, смеется... Хвать в охапку и поднимет к лицу и поцелует не по матерински и по плечу хлопнет, скажет: "Смотри, сынок, снег выпал...
Пойдем на ледяные горы кататься с хохотом, будем покупать глупости на сочельном базаре, вороных запряжем в летучие санки и вдвоем поскачем под снежный свист, в гости цыганской рысью. Сызмала хотел небывалого. Завидовал дальней родне - вот стоит, пыжится чужой мальчик, только ему скажешь поперек слово - а он - к отцу бежит жаловаться. И я бы побежал, да не к кому. Толкал дверь, а за ней - никого. Отцов портрет овальный в пыльной раме скучает, только в родительскую субботу велят затеплить свечу перед образом страстотерпца Бориса. В годовщину дозволено на могилу уронить гиацинт. И на Пасху яичко раскрошить и хлебец изюмный подать нищему на помин души.
Няньки приговаривали: мать твоя - из живого мяса, а отец твой - лежачий камень, под него вода не течет.
До тех пор, как не заговорил ты со мной, невдомек было, как такое на земле творится, что мать живая, а отец мой - камень. И с недавнего дня, ожил мой камень, потеплел телесно, почудилось что сиротство отступило, отчество началось...
И теперь говоришь мне, что наставник из тебя дурной.
Неужели ты лгал мне все эти дни?"
- Лгал, - кивнул Царствие Небесное и улыбнулся, сморщил дубленую щеку. Медленно наползла с востока тесная дождевая туча - косой тенью по пригорку мазнула - низовой ветер зарябил пруд ознобными волнами.
- Я лгал, а ты - верил. Не завелся я от сырости в сундуке с отреченными книгами, не учился грамоте вместе с твоей бабкой-покойницей. Все было по другому. Я родился в большом доме, в Санкт-Петербурге, третьим сыном записан.
По роду племени не ниже тебя стоял, в бархатную книгу род мой записан, в Готский альманах золочеными буквами врезан. А Готский альманах, это, брат, такая крепкая книга, что плевком не перешибешь, читать не перечитать. Замешивают чернила на розовой турецкой воде и заносят в реестр всех, кто не просто так из мамки выпал, а все сиятельные, да влиятельные, чтоб им пусто было.
Не шутка - дипломатический и статистический ежегодник, саксен-готский министр Вильгельм фон Ротенберг основал, выполнил желание герцогини Дорофеи, поклонницы Вольтера и всего французского.
Сначала печатали на разворотах сцены из амуретных романов, гравированные на стали лучшими граверами, потом внесли перечень царственных особ и должностных лиц, читай, холуят титулованных. Ну и нас не забыли. На предпоследней странице.
Сестер и братьев у меня было много, мать с рук не спускала, сама грудью кормила, из деревни баб молочных не брала, отец в темечко целовал и щекотал пяточку.
До шести лет меня любили без запроса, ни в чем отказу не знал, рожок для кормления и тот из серебра отлили, стул детский со спинкой и перильцами заказывали в Роттердаме из африканского дерева, а на крышке амуров написал домашний художник.
А потом вышла оказия - нянька приложила меня после бани спиной на высокий порог. Только хрустнуло. Полгода не ходил. Икры и ляжки высохли. Лекари по дому нетопырями метались. Кормили тюрей жеваной из платка. Плохо-бедно выжил. Но начал горб расти, лекаря сказали родителям, что таким и останусь. Голова большая, тельце махонько. Братья с прямой спиной на борзых арабцах скакали, серых зайцев, уточек болотных из ружьев били, сестры в церкви пели нежными голосами, кружева плели, замуж вышли, детей родили. А я в дальней комнате сидел, книги читал, горб растил.
Мать перед сном целовала в лоб. Отец обо мне молчал. Зайдет вечером, потреплет по волосам, новые книги в картонном ящике принесет и на дверь оглянется - как бы не увидела дворня, как он с уродом вечера коротает.
Гостям меня не показывали, приносили с общего стола от морковного пирога горелое дно или ветчинки краешек - пусть уродец попразднует, нас добрым словом помянет.
На двунадесятые и кавалерские праздники ходил ко мне поп из Исаакиевского собора, вёл духовные беседы, мол, терпи, коль Бог убил.
Исполнилось мне шестнадцать лет, пришла пора выбирать.
Или до старости в чуланах со своим горбом и чирьями хорониться, слушать оханье и сплетни родни, или на большую воду одному выплывать саженками.
Выбрал, не раздумывая.
Украл у кухарки сахарную голову в синей бумажке, черного хлеба и соли в тряпочке, перекрестился, и вон из дома.
В шесть утра, по стылым питерским мостовым, в чем был поковылял, только книги в скатертном узелке волок на горбу. Старуха к ранней обедне ковыляла, у Сампсониева собора, разахалась надо мной, сунула медную деньгу. Ну я от рукава оторочку отпорол, сунул за обшлаг пятак - первое мое подаяние.
Ночевал по подвалам в Коломне, потом в Лавре на подворье к нищим прибился Лазаря петь. А после нанялся в шуты к одному приезжему барину-выскочке, оттуда и во дворец пробрался. Барин-то мой с прошением к Императрице на аудиенцию пробился, выпросил деревеньку в триста душ, и укатил в свой Саратов, а меня в Зимнем под лестницей забыл вместе с левретной собачкой. Я не будь дурак, прибился к паркетным шаркунам и дурачкам. Хорошо умел кувыркаться и петухом горланить. Книги свои прятал в дворницкой, а потом выпросил у маскарадной комиссии, есть и такая, в Петербурге, увеселениями дворцовыми ведает, разрешение читать по ночам, пробирался в библиотеку с огарком свечным на полах шляпы и читал запоем тайные фолианты, за каждый можно было уездный город купить. Много слушал, много запоминал, многое совершил.
И как-то раз, на Святки увидел тебя, как ступаешь ты по половице, будто русалка Невская, щепетной походкой, и серьги в топазовых мочках ушей подрагивают, бисером рукава камзола заплаканы и на пряжках жемчуга речные поблескивают. Много вас, недопесков бисерных, по паркетам хаживало, но такие глаза дикарские, как у рыси или рысака призового у тебя одного были.
Я сразу тебя отметил, и не удивился, когда отдалила тебя Императрица от ложа от харчей дворцовых, от орденских лент за теплые любовные ночи полученных...
Умна старуха. Живуча, а и ей конец придет.
Тебе не на атласных подушках суждено валяться, не у колен подагрических мурчать, не белым мясом старость ублажать, а свою тропу по суглинкам протаптывать, вгрызаться в русские мослы молодыми резцами. В тот день подумал я, что, не урони меня тогда чухонка криворукая, был бы я ... на твоем месте. C прямой спиной, с очами огненными, как у царицы цариц Томар.
Оставил я свои дела на преемника, итальяшку Базиля - тот еще смышленей и уродливей меня, а сам поехал на перекладных в Москву, свои дела улаживать, а между тем не спускал с тебя глаз. Затесался в кучу ваших домашних шутов, по темным углам шугался - дело привычное. Большие люди навьих людей никогда не замечают всерьез. А уж дальше ты сам знаешь, как вышло.
Не грусти, Кавалер, валет козырный. Выпущу я тебя в жизнь, все передам, что накопил.
Если сорвешься, помни, как я тебе говорил: Сызнова, сынок, сызнова...
- Сызнова, батюшка... - отозвался Кавалер, сорвал былинку, тиснул меж зубами, завалился на спину, руки под тяжелую голову подложил крест накрест. Скосил дерзкое синеглазье на карлика.
- Если лгать больше не будешь, скажи мне, откуда вы взялись, навьи люди?
- Хочешь байку, княжич, на десерт?
- Хочу... - отозвался Кавалер разморенный, потерся о серые мостки живой щекой, повторил с озорством нараспев
- Чего хочу, того не знаю...
- Ну так и быть, - согласился карлик, - ты же, почитай, теперь совсем наш, душа горбатая, тело прямое. Хватит тебя за дурака держать.
И вдруг вскинулся, бока подпер, весь стал как буква "фита", фофаном, горбунком.
Каркнул Царствие Небесное раешным голосом зачин брачной здравицы
- ...Здравствуйте, женившись, дурак и дура...."
Глава 18. Навьи люди.
..."Здравствуйте, женившись, дурак и дура,
Еще блядка дочка, тота и фигура!
Теперь-то время вам повеселиться,
Теперь-то всячески поезжанам
должно беситься:
Квасник дурак и Буженинова блядка
Сошлись любовью, но любовь их гадка.
Плешницы, волочайки и скверные бляди!
Ах, вижу, как вы теперь ради!
Гремите, гудите, брянчите, скачите,
Шалите, кричите, пляшите!"
Свадебный поезд тянулся петлями по Петербургским улицам. Морозный парОк повисал над конскими пастями, куролесили в снежной крупке ошалевшие шуты, вертели лоскутными полотнищами, танцорки в пекинских шелках откалывали антраша, шевелили мускулистыми ножками в розовых трико на движущихся платформах итальянские лицедеи.
Парчовые шулера тасовали веерами крапленые карты с пятью мастями. Ревели до икоты верблюды, шишковатые морды запакостились желтой пеной, кровавые ноздри разили рваным мясом.
Китайские маски, кривомордые, проказные сменяли, мельтеша, одна другую. На разрыв брякали горсти медных колокольцев на посохах кувыркачих поезжан. Бурлили медные котлы с вареным мясом, поварята поддавали жару, ражие повара с ножами швыряли в плошки дармовую кипучую жратву. Раскаленный пылкий жир бараньих курдюков прыскал на жадные руки обжор.
Арапы в карминных шальварах глотали огненные языки. Кивали мишурные султаны на лошадиных головах, цокали по торцовым мостовым шипованные подковы. Остро несло мускусом и потешным порохом. По ходу поезда с треском распахивались окна от первых до чердачных этажей, вываливались из подвалов и с балконов обыватели в халатах, визжали навзрыд кружевные жены, в чем были выскакивали на мороз бездельники и зеваки. Крикнул косоротый дворник на углу "Даром наливают!!!" - и валом повалил народ на невский лёд к котлам. Глотали полынную водку, наливали глаза белым казенным вином, выли, дрались, целовались.
На перекрестках лоскутные румяные девки - "Дуньки" с выпученными зенками, хлестали себя по щекам от азарта, ввинчивали в стойкий морозный воздух острый визг, орали на бегу, задирали нижние юбки, теряли башмачные отопки в талом от русопятого бегства снегу.
- Е-едут!!! Едут молодые!!! Ай, стра-ашно! Ай, хорошо!"
Сто пятьдесят пар всякого российского сброда составляли свадебный поезд, черемисы, башкиры, татарва, самоеды, чуваши, карельская чухна, мордва косолапая, все в парадных нарядах своего племени. На остановках подавали бегом каждому народу свойственное кушанье - кому жирную шурпу, кому тушеные бараньи кишки, кому ржаные калитки с ежевикой и голубикой, кому прогорклый китовый жир и тухлую тюленину из мясных ям, вырытых в вечной мерзлоте.
Катились вприскочку по корявым наледям разузоренные санки, не просто так санки - а рыбы круглоротые, хрящеваторукие, шеперые, в изумрудно-золотой чешуе диковинные звери, птицы райские и адские. Запрягали шутовские экипажи кем попало - тут и хорькали мохнатые олени-северяки, голубоглазые хаски в упряжках тянули плоские нарты, трусили дикие свиньи в красной сбруе на кормленых телесах, поспевали за ними горбатые волы, винторогие козлы и ангорские козы. Даже прирученные тамбовские и костромские волки кашляли, путаясь в постромках, бежали вразнобой, скашивая глаза и в кровь разбивая лапы, вываливали на поворотах пьяное компанство в сугробы.
Со времен Петровских кощунственных всепьянейших-всешутейших соборов и карличьих свадеб не видал Петербург такого развеселого густого бесовства, вот и распялил воблые глаза на позорище.
Понеслись наискось запертые узорными оградами сады, прямоходные проспекты и линии желтых зданий вослед свадебному поезду в суматохе и предсмертном балаганстве.
Били в колокола спросонок распатланные попы. Горланили певчие наряженные турками, лешими и марсельскими ворами величальные песни жениху и невесте.
Пьяные блевали в подворотнях и, опроставшись, рта не отерев, бросались в общую костлявую петербургскую пляску. От свадебного тесного пляса таяли прочные снега, сапоги, амстердамские тупоносые башмаки и лапотки из предместий месили слякоть, бурую от кровушки и винища."
Строгая госпожа - зима 1739 года, бранчливая, нетрезвая, удачливая, в уссурийских харзовых мехах от пят до горлового отруба, скакала без головы по Петербургским крышам.
Солнце выливалось на крышные скаты, как яйцо.
Отрубленная голова вполнеба наклоняла круглый лоб.
Загодя хмурые работники выехали на Неву и каналы и на малые реки, какие почище, на Смоленку да Фонтанку, топить и крушить лёд. Резали льдины на большие плиты, волокли на полозьях по муравьиному вереницей, укладывали плиты друг на друга, заливали водой, и крутой мороз сплавлял глыбы воедино.
Приглашенные зодчие - француз-скульптор, датчанин- инженер и русаки - умельцы обтесывали ледяное мясцо, укладывали согласно чертежам паз в паз холодные глыбины. Строили ажурную галерею кругом крыши, высекали ледяные балясины и статуи.
Вывели напоказ голубое от стужи крыльцо с резным фронтоном, разделили дом на покои, в каждой половине по две светелки. Окна застеклили тонкими стылыми пластинами, в которых маревно и тошнотно множились раскосый рассвет и малосольные сумерки.
К привратным столбам призрачного дома выкатили шесть ледяных пушек и две широкогорлые мортиры. Приставили к орудиям кирасиров в железных шапках и раз в два часа краснорожие солдаты по команде давали залп и примкнув ружьецо с длинным штыком к голенищу гаркали "Виват!". Столь браво рявкали артиллеристы, что у женки чиновника Дворянкина из восьмого нумера на Литейном проспекте случились преждевременные роды. На радость и в тягость одуревшему отцу чиновница разрешилась тройней - и все младенцы выскочили из нее на руки спешной повитухе не запросто, а с лошадиными зубами и кручеными вороными усами, как у венгерских гусар. Ради праздника поднесли отцу водки штоф, тульский пряник с монограммой и торжественный паспорт рогоносца с каллиграфическими вензелями.
Большие снега засорились сорными оспинами хлопушечных конфетти.
Напоследок мастера навели красоту, взгромоздили на античные постаменты двух ледяных мертвых рыб - дельфинов с раздвоенными хвостами и раздутыми человеческими лицами. С помощью насосов причудливые морские рыбы выбрасывали из челюстей красно-черные фонтаны горящей нефти. Алозолотные отблески гуляли по лощеным телам статуй голубых и ленивых, пронизаны морозными иглами, по голым колоннам ледяного дома в сумерках напросвет.
Будто снежный подсвечник, рождественским апельсиновым светом сиял Ледяной Дом в бесцветном Петербурге.
По правую руку от дельфинов залили скоротечной водой ледяного слона в натуральную величину с запрокинутым хоботом в виде латинской буквы "S". На спине у слона возвышалась беседка с душными сандаловыми курильницами по краям, а на загорбке зверя помещался, скрестив ноги, ледяной персиянский человек, слоновщик-поводырь в чалме с крашеными клюквенным соком извилистыми губищами.
Слон сей был внутри пуст и столь хитро создан, что ночью к великому удивлению публики извергал из хоботного раструба нефтяную самопальную струю. Шарахались полукругом и ахали в сотни глоток косматые пьяные толпы. Девушки прятали личики на груди офицеров, рвались из оглобель саврасые городские лошади.
Мастера торопились - обрабатывали накаленными резцами и хитрыми инструментами, вроде криводушных шильцев и рубаночков стеклистую студеную обстановку дома. Слуги в белых нитяных чулках принесли ледовые овальные зеркала, туалет для молодой боярышни, секретер для молодого барина с выдвижными ящичками.
Зажгли восковые свечи в хитроумных шандалах с литыми виноградными гроздями на ножках, подивились перламутровой колдовской игре света - русские мастера перекрестились справа налево, кафолики - слева направо, не приведи Бог никому в ледяной халупе горе горевать на потеху Государыне.
В ледяной камин навалили ледяные дрова, в буфете - поставце расставили ледяную утварь - сервизы, немецкие толстоногие рюмочки, полоскательницы, блюда, розетки, пузатые богемские графины - все из невского льда, тронь - прикипают обмороженные пальцы. На ломберном столе веером высекли ледяную колоду карт. Посадили на приступке ледяного кота-мурлыку с сердоликовыми глазами. В будке на дворе поселили ледяного кобеля с подпалинами, ржавчиной наводили натуральную масть, будто вылез наполовину, чтобы обрехать прохожего, да так и застыл, потягиваясь.
С особым благочинием, распевая продленные моления, поместили в красному углу ледяные иконы, выполненные из цветного льда витражным манером. Налились изнутри волчьим сиянием милосердные лики святых - ко всякой человеческой мольбе холодны были, так материал требовал - даже оклады ледяные.
С ледяными глазами обмороженная Влахернская Богоматерь принимала близко к сердцу ледяного Младенца.
Ледяные дрова замешивали из морозного теста с нефтью и поджигали соломой. Застелили постель зимним бельем, пожелали заснуть беспросыпно в хрустком инее.
Радуйтесь, новобрачные!
Наспех протопили ледовую баню. Огонь и лед, смешиваясь, дразнили обмерший Петербург.
Охотники-смельчаки лезли париться, с гиком, красные, распаренные вылетали на лёд, катались в искристом, хохотали, хватали с серебряного подноса в руках вышколенного казачка стопки с водкой - маслянистой с послевкусием можжевелья от пылкого мороза.
На Большой Морской торговали привезенными из пригородов живыми елками и печеными яблоками, целые леса рождественских елок ощетинились на проезжей части, гуляющие парочки угощались с пылу с жару кушаньем.
Барышни откусывали от яблока в картонной промасленной бумажке и смеялась, кутая нацелованные щеки в кроличий мех. Шалопаи играли в прятки в елочном лесу, прятались от мамушек любовницы с волокитами за колкими праздничными лапами.
Валил крупный снег. В волшебном фонаре сменялись хрупкие картинки на цветном стекле. Погуливал по Петербургу хромой январь - голодарь в рваном арлекинском колпаке, пускал шутихи из клыкастой пасти.
Боролись на крепких ветрах языки пламени, ледяные пластины, огранка тающих диамантов, смертное последнее сияние над черной дремлющей рекой с прорубленными живорыбными садками и полыньями.
Лёд иссечен был лезвиями гарлемских коньков, чадили плошки на треногах, пугая резкими сполохами близко подошедших к воздушным пузырям рыб-сомнамбул.
Новобрачных во главе свадебного поезда везли полуголыми в железной клетке на спине живого и настоящего слона.
Элефанта подарил императрице Анне персидский шах, и теперь топал слонище покорно, одетыми в цепи колоннадными внимательными ногами по питерским мостовым в соломенных лаптях, которые при надобности меняли, чтобы диковинная скотина не застудилась, потому как она больших денег стоила.
Молодожены тесно жались друг к другу, на ухабах стукались лбами в прутья клетки, глухо плакали в кулаки. Один раз молодой выпросил у шалых поезжан глоток водки и корку хлеба - пососать. Ему кинули ради забавы подачку, но промазали - стопка разбилась о клетку, только осколками лоб посекло.
Жених дуркин, Михаил Алексеевич Голицын сызмала прослыл блажным, забавлял оплывшую от дремы, грузную императрицу, кувыркался препотешно, балагурил бесталанно, лупил по фальшивым горбам гишпанских лилипутов тростью с хлопушкой из высушенного овечьего желудка с фасолинами.
Зарабатывал юродством дорогие побрякушки, шутейные орденские ленты и нешуточные деревни с крепостными душонками, не задаром задницей полировал наборные паркеты Зимнего дворца.
Женат был уже почитай четыре раза, последнюю жену, Машеньку Хвостову, схоронил небрежно и улизнул в Италию, бросив детей, Алешку и Елену, на попечение обществу.
Колобродил царский шут невесть где, представлялся надежным и важным человеком. И надо же было ему встретить дочь трактирщика, черноглазую Лючию.
Споткнулась жизнь. Сон потерял, измотался, накушался пресной поленты и черствых пирогов для спешных гостей, а Лючия подавала и посмеивалась.
Отец ее с трубкой бездельничал в лавровом саду. Отказывался отдавать дочь, пока жених не примет католичество. Разок всего взглянула Лючия из-под черного кружева, и сбросил Голицын крест отцовский, константинопольский, окрутился с итальянской девкой римским манером, изменил исконной вере.
На свадьбе плясали чужие девки с просмоленными, как бунты корабельных канатов, пучками волос, визжали, трясли красным муслином восьмирядных юбок. Обещали обманное счастье новобрачным
А ведь молода была Лючия, как зеленый фисташковый орешек, на двадцать лет от мужниного возраста отстала, но расцвела в его руках, повеселела, родила дочку. Девочка, Франческа, спустя два года первые слова лопотала то по-русски, то по-итальянски.
И прежний шут Царицын, предмет светских издевательств, разогнул плечи, будто вырос, улыбался открыто, сам варил девочке кашу на козьем молоке, не жалел, что впервые отважился на самостоятельный шаг, переменил веру по настоянию страсти.
Вился дикий виноград по оконным рамам, чёрные козочки щипали траву на заднем дворе, коновязь не пустовала, трактир принимал проезжих. День за днем катилась семейная жизнь и вдруг уронил Голицын глиняную обливную плошку с пахтой, отказался от обеда, люто затосковал по России.
Стал чахнуть, ослабел, глаза слезились. Лючия стала собирать скатерные узлы. Готовила дочку в дальнюю дорогу, не хотела вдоветь до срока.
Вместе с Лючией, дочкой и ничтожным скарбом Голицын пересек граничные рогатки. Покривилась Россия вслед вернувшемуся отступнику: Поехали Домны на старые говны". Поперек горла встали верстовые полосатые столбы.
Дома уж никто из прежних любезников и дразнителей не поминал ни добром, ни лихом царского шута. Голицын зажил тихо и чинно на Москве, в Немецкой слободе, опасаясь царского гнева.
Но шила в мешке не удержал. Донесли умники, куда следует.
Лючия дичилась, боялась выходить в лавки, плакала.
Михаил Голицын переодел ее в мужскую одежду, но не уберег - подсмотрели пакостники, как ледяной земляничной водой обмывает мальчик - девица крепкие, как кизиловые ягодки, груди с сосцами.
И это донесли. Не помиловали, сволочи.
Не смыть щелоком римского креста с груди.
Рассвирепела императрица Анна, растрясла мосек с постели. Каблучком топнула, закраснелась. Не терпела она вероотступничества, ни в коем разе. Давно ли смертью казнила смоленского купца Боруха Лейбова, а с ним на одном эшафоте обращенного им в жидовскую веру капитан-лейтенанта Александра Возницына, давно ли сожгла на Красной площади двух немецких проповедников учения Якоба Беме, и на утренней заре выставила их горелые головы с лопнувшими глазами на пиках рядом с Василием Блаженным на потеху московскому торгованию. Давно ли типографии и книжные склады с римскими и греческими противными Православию сочинениями жгла руками опоенного быдла?
Размахнулась Анна гневная правой рученькой и ударила государственными когтями.
Глянула царская воля в слободской московский двор жестяными совиными глазами. Ночью прискакали кузнечики-всадники в придворных треуголках набекрень, потащили мужа нагишом за волосья "не бунтуй, не бунтуй", под детский крик и куриное клохтание из драночной пристроечки.
Лючия молчала, не просила за мужа.
Знала, что не вернется. На рассвете пошла по Москве с черным ртом, дочку Франческу, как дикарка, волокла в подвесном мешке из занавеси на животе.
Уклонилась от взглядов любопытных обывателей, да так и сгинула без вести.
Любила всевластная Анна Иоанновна женить против воли своих холопов и шутов.
Веселую свадьбу заварила - дурака и отступница Голицина решила окрутить с калмычкой Авдотьей Бужениновой, приживалкой и дуркой, малорослой горбуньей, которая издавна за Голицыным по блистательным дворцовым лестницам таскалась и плакала втихаря.
На тебе, скуластая дурка, охапку счастья с барского плеча, да впредь не жалуйся.
Авдотья и не жаловалась, только цеплялась щуплыми смуглыми ручками за плечи нежданного жениха и улыбалась, когда в лицо ей девчонки лавочные швыряли замерзшие бумажные цветы.
Колченогая чернавка, острословица, придурочная потешница привычна была ко всему - и к мытью и к катанью.
Анна Иоанновна любила, когда калмычка чесала ей перед сном пятки, а ежели чесала нерадиво - била в лицо той же пяточкой с желтым натоптышем.
Калмычка утиралась, весело трепалась, так и прыскала пословицами, прибаутками и закличками незапамятных времен.
Никто доподлинно не знал, как величать по фамилии карлицу - знали только, что до страсти обожает она буженинку, драться готова за кусочек с жирком, вечно они голодные, придворные карлики, кормятся, как воробьи ошметьями и затрапезными крохами.
Так и прозвали в глаза Авдотью - Бужениновой.
Остроумию Государыни рукоплескали соглядатаи и блюстители нравов.
Так его, впредь не балуй, Голицын - сукин сын, не женись на итальянской девке, а миром и ладом ступай под венец с крещеной калмычкой, тут тебе и царская тяжелая милость и торжество Православия полной пригоршней и нам, верноподданным, дармовое угощение и всемирный праздник.
Грянул великий день и колоннады и халупы и слоны и фантазийные санки и дудари с золотыми трубами и весь Петербург напоказ колотился в железной клетке.
Как ни бойся, как ни бейся, играем, государственную насильную свадьбу.
Общая наша участь.
Это для нас всех персидский слон трубит бархатным хоботом, нашим жиром человеческим горит ворвань в чугунных треногах. Это про нас говорят барабаны, выстроен ледяной дом нам в примерное наказание. Это нам с верхушки елочной истошное счастье обещано - неотвязное, всероссийское, нас достойное.
Вот накатит ночь и на ледяных простынях застынут мужчина и женщина. Придут с утра клеветники и пустошные щеголи - смотреть на диковину, то-то удивятся брачной ночи.
Леденит безлюбье.
Подуй мне на руки, пальцы заколели, не разогнуть, не сложить троеперстием, с твоими - не переплести.
Очень веселились и бесились званые и незваные на брачном пиру Михаила и Авдотьи.
Расставлены "покоем" были ломящиеся жратвой столы. Рассаживались кто во что горазд, без чванства, мозг из косточек высасывали, ломали с хрустом жареных курей, мазало сало по кружевным манжетам, в обширные рты текло, винтом завиваясь, молодое крымское вино из кувшинов, бокалы все перебили, и хрупали каблуками по осколочкам.
Пьяный в лоск Василь Кириллович Тредиаковский, литературный теоретик, карманный поэт Анна Иоанновны, подбоченясь, председательствовал за столом.
Умел Василь Кириллович уважить императорскую власть, глотка луженая, утроба поджарая, скакал по столу, губил фарфоровую сервировку и горланил без стыда срамные опусы на публику, потому как все оплачено из казны.
"Здравствуйте, женившись, дурак и дура,
Еще блядка дочка, тота и фигура!
Теперь-то время вам повеселиться!....
Квасник дурак и Буженинова блядка
Сошлись любовью, но любовь их гадка. ..."
Рёготом, клёкотом и великим хохотанием встречали виршеплета свадебные гости, такие рожи, что вспомнишь на сон грядущий и сплюнешь.
Очень хорошим и полезным человеком слыл беглый астраханский попович Тредиаковский, слагал оды, помпезные песни, мадригалы и позорные стихи, умел ввернуть эпитеты вроде "каплеросный" и "златомудрый", кропал любовные элегии и пастушьи песенки для придворных нужд, никакой работы не чурался, если платили господа по рублю за пламенную строчку.
"Мир, обилие, счастье полно
Всегда будет у нас довольно;
Радуйтесь, человеки.
Вовеки!
Торжествуйте вси российски народы:
У нас идут златые годы.
Восприимем с радости полные стаканы,
Восплещем громко и руками,
Заскачем весело ногами
Мы, верные гражданы!"
А не просто так выкомаривался перед грозной темноликой Императрицей Василь Кириллович. Не ради кокетства прилаживал на переносье полумаску венецейского бархата с носом Панталоне. Не зря клонилась на кружевную манишку большая, как у филина, голова.
Ничем Тредиаковский, заслуженный пиит Зимнего Дворца не отличался от ползающих в винной барде Анниных шутов.
Накануне его своими ручками избил по морде трижды за день начальник празднеств кабинет-министр Волынский: зачем, службу не желает понимать и протокол спьяну путает.
Поэт в России, если не с битой мордой - и не поэт вовсе а так себе дерьмо-человек.
Тростевыми масками скрывал Тредиаковский следы от высочайших оплеушин на скулах, орал заученно со стеклянными глазами рифмованные опусы во славу и бесчестие брату своему, Михаилу отступнику и Авдотье - калмычке.
Устал скоро, охрип, попросился до ветру, долго стоял на набережной, скалился против ветра, смотрел, не мигая, налитыми глазами на преисподнее сияние потешного дома на Невском льду.
Подневольных любовников так ни куска и не перехвативших на жирном пиру, свалили на ледяную кроватку, в чем мать родила, а чтобы из Ледяного дома не вздумали бежать, приставили охрану в двадцать рыл с позументами, прочный караул, табачные носы по ветру.
Как оставили их одних, калмычка Авдотья встала на колени перед ледяными образами, молилась долго. Потом прикрикнула на всхлипывающего от холода, голода и неправды слабого мужа.
Вышла, как есть, невеличка, к караульным. Торговать, так торговать.
Оголила женское место, дала пощупать - соскучились ведь мальчики без ласки, хорошие серьги из ушей вырвала и за потешку да золотишко выкупила у солдат бараний полушубок и флажку водки.
Растерла мужа водкой, закутала в теплое, и сама отхлебнула хмельного, не поморщившись. Сказала странным, хрипловатым голосом, как ребенку говорят, а не как мужу:
-Ну, Мишенька, ложись. Будем греться.
Голицын зубами клацал, клацал, да заснул, перебирал во сне тощими ногами, как собака.
Авдотья не спала, протянулась на спине, думала.
Обвела во сне тяжелые, как березовые грибы, безобразные бока свои, посмотрела на обезьяньи уродливые руки, усмехнулась с небрежней жесткостью, заговорила мысленно с Государыней.
- Сама себя обманула, матушка. Вот думала я, прокоротаю век свой в дурах, а помру - стащат меня в убогий дом, а оттуда во рвы. Ан по иному карты выпали - не дурой мне, а княгиней помирать. Прозван Квасником - а в камер-пажах выслужился. Губошлеп, юбочник да пьяница? Так что ж, среди твоих кобелей таких мало? Зато - князь, не хвост собачий, и капиталец при нем, и приданое у меня, не щепа, не солома. А что я лицом - выродинка, так и то не велика беда. Ты сама, матушка, прямых зеркал чураешься, страшна и губаста, как медведица, даром что в парчу и перлы разубрана. Лёд то по весне осядет и растает, а я останусь, подснежница.
Я детей рожу. А ты - бесплодна. Я свободной буду и богатой. А ты - в гробу скиснешь квашней. А что мёрзнем, что твой вельможный сброд глаза пялит - так не впервой. Служба у нас такая, привычные мы.
Орали за стенами Ледяного дома пьяные. Визжала зашибленная санным полозом собака.
Заворочался, заблажил во сне "молодой", рассеянно провела рукой Авдотья по сальным его волосам.
- Спи, Миша, спи. Это птички летят, колокольчики звенят.
Подтаял от лампадного и свечного жара лик Влахернской Богородицы - полились из миндальных глаз самоцветные пустячные слезы.
В ту чернобрачную ночь поклялась Авдотья Голицина, что не оставит прежних братьев и сестер своих в беде. БОльшую часть денег, которыми располагала решила отдать на тайные нужды верным людям: пусть живут уродцы, приживалы, еретники, акробаты, карлики, юроды, припеваючи, имеют пристанища, неведомые соглядатаям и льстецам. Пусть друг друга держатся изгои для вечной помощи, как отдельный от всех народ. Меж живыми людьми - люди навьи, мёртвые, которые срама не имут и везде проникают, незримые, как воздух.
"Не хочет Россия прямых, пусть терпит горбатых за мои медные и серебряные деньги, я беспородная княгиня, я все могу, придите и едите от меня все...
- в полубезумии от холода бормотала калмыцкая ледяная княгиня, проваливаясь в валяную дрему.
Авдотья Голицына умерла через два года вторыми родами в подмосковном имении Архангельском. А там голуби-вяхири гурлят, ясени шелестят и серебряные липы, хорошо умирать и спать без просыпу под соснами над старицей Москвы-реки у белой церкви.
Сам Голицын проскрипел до девяноста лет и погребен был в селе Братовщина, на древнем паломничьем тракте, ведущем к Троице-Сергиевской Лавре. Женат был уже по пятому разу и дети несчитанные народились от девочки моложе князя на сорок пять лет.
Вряд ли в предсмертном бреду, вспомнил он кареглазую Лючию и калмыцкую царевну-лягушку Авдотью Буженинову.
Но именно она, Голицина-Буженинова положила начало тайным поселениям Навьих людей, жители их - придворные и барские карлики и дурачки, разбросанные прихотью по всей России.
Будто чудь белоглазая, в легендах, тихо уходили они кто на отдых, кто на лечение, кто на вечную жизнь в крохотные деревни с камышовыми крышами. Были они приписаны к глухим садам, малым селам, где для маленьких людей всегда находилось посильное ремесло, помощь и утешение.
С годами окрепли Навьи люди, стали сметливее, умнее, незаметнее, научились и торговать и пускать деньги в рост, немало среди них было и образованных и крепких духом мужей и жен. По "длинному уху" с легкостью и быстротой передавались новости из дома в дом, из города в город, из поселения в поселение. Были подкупленные врачи и чиновники из больших людей, которые за взятку на чью угодно руку работать будут.
Порой грозной силой считались приписанные к дворам или безместные карлики. Сила их была во всепроникающей осведомленности, на маленьких людей и господа и холопья обращали внимание не более чем на кошку или птичку в клетке. Не стеснялись ни о тайных делах говорить, ни блудить, ни подделывать государственные бумаги - мало ли что за умалишенный в углу копошится, да кочетком кричит.
Невдомек потом в каземате свергнутому временщику или казнокраду, кто его до сумы или до тюрьмы за немалую мзду довел, все тайны тайному недоброжелателю продал.
Но такими способами Навьи Люди пользовались редко. Нужна им была не власть, не почести, а лишь спокойная жизнь, без надзорного глаза и царевой воли.
И законы свои были, и мировой суд, и церкви при деревнях, чаще всего Навьи Люди выбирали себе места отдаленные от людских поселений, то садовые хозяйства, то охотничьи угодья.
Торговали с миром неоткрыто, через подставных лиц, и где хранили нажитые и завещанные в общину богатства - лишним людям не сказывали.
Смертью никого из членов общины не казнили, самым страшным наказанием было изгнание навек, называли его "отторжением" и боялись, пуще антонова огня.
Из наиболее уважаемых членов общины избирали сходом карличьего пастыря, за ним всегда было последнее слово, таким и был в нынешнее время Царствие Небесное.
Каторжная должность, доложу вам, а не мед с пряниками - все знать, всюду успевать и держать в памяти тысячи мелочей, будто счетный бисер в коробушке. Быть бОльшим мужчиной, чем само слово "мужчина" и не бояться ни смерти, ни позора, но честь свою и чужие жизни неусыпно хранить.
В наоборотном мирке, зыбком, тайнодельном, с мерцающими границами жили Навьи Люди, как истинное навье, мертвецы от мира, подземные жители, заживо, всепроникающие, не вкушающие хлеба живых рослых людей.
Много кочевали из поселения в поселение. Кто немощен был или уставал от людских издевательств уходил в тайные места навсегда, обзаводился хозяйством, дом и двор ставили ему всем миром.
Другие служили в барских усадьбах, ошивались при монастырях, слушали, потешничали, заводили и поддерживали связи. Для летучей почвы держали почтовые голубятни, учили уличных собак.
Женщины - карлицы, особенно на возрасте, считавшие непристойным уже для себя скоморошество, если не желали выходить замуж, оставались сиделицами при тайных приютах для уродливых детей и слабоумных, которых среди карликов было немало С большой нежностью и ответственностью ухаживали обездоленные за обездоленными.
Лучше всего карликам удавались мелкие ремесла, требующие внимания - резьба по дереву, вышивание, финифть, работы садовые и оранжерейные, уход за диковинными зверями, которых в том же Царицине держали на потеху немало, от одних заморских птиц все берега прудовые пестры и веселы были.
Имелись и выучившиеся за границей искусные врачи, каллиграфы и составители ядов и лекарственных снадобий.
А иной раз и иконописцы и великие молитвенники, которые принимали убогое монашество в обычных монастырях, но долго среди грубости послушников и монахов не выдерживали, уходили в пустыню, по одиночке, жили и молились в лесах.
Многие из Навьих людей ходили к таким малым старцам, никому не известным в наружном мире, за советом, благословением и исцелением.
Так и жили поживали тайно на Москве карлики богадельные, кладбищенские, дворцовые дворовые, патриаршьи, монастырские, церковные.
Рассеялись по улицам и переулкам в Кремле и Китае, Белом и земляном городах. Рядские торговые люди им то горбушку то оладью кидали, а то брали в кнуты, да в пинки. Все они были для близорукой вечно занятой Москвы на одно лицо - ну кто заметит в заботах каждодневных, что один уродец как в воду канул, а на его месте на церковной паперти другой колченог сидит.
А если и замечали странное большие люди, то Москва - сплетница и кружевница. Всякий случвй обрастал небылицами, и такую маланью на постном масле плели, что и на решете бабка не нагадает правду и архивист-крючкотвор не выведает чистоты.
А Навьим Людям слухи да вздорности московские, стариковские только на руку былы. Вот ввалится мужик в кабак, шапку об пол - нате!, на все четыре стороны - вот те крест!
Божится, что своими глазами на тракте, близ Царицина видел на закат тысячеголовоый табун.
Грохотом прокатились призрачные кони-лошади, машистые, огненные, все иноходцы, как на подбор, все кровные, сухие, вылощенные. А табунщика не видно...
Чьи такие? На солончаках ли соли лизали, горьким ли полынным молоком вспоили их крылатые рыжие матки, каких русские всадники не седлают, крест наперсный не велит бесовских коней арканить. А за рыжей конной лавой - галопом скакалвороной жеребец, весь в мыле, злой, как Вельзевул. Глаза с кровяными нитками скосил, а как мимо пролетел - длинной гривой по глазам мужика - хлысть, а вся грива -то в тугие косички заплетена, какие человечьими руками не заплетены.
И на спине его вогнутой от долгого бега голый мохнатый карлик катался с гиканьем, будто заклятой шерсти клуб.
Кто заплел жеребячью волосину в косицы наговорные? Ясное дело, карлики из - под Царицинского моста, каких часто бабы в зарослях видят. Юркие шустряки с ноготок - так в осенних листьях и шмыгают. Опасные.
Страшные дела, последние времена. Скоро на Москве весь племенной молодняк будет в косицы нерасплетные запутан ручонками шайтанских человечков. Перебесятся взбесятся кони, поубивают хозяев, и станут жить на пустой Москве одни кони вольные да царицинские карлики.
Верят и не верят вралю, а все же по Царицинским лесам ходят с оглядкой. Чуть что под мостом шоркнет - бабы лукошки швыряют и с визгом - бежать...
А мужики для храбрости глаза водкой зальют, ветошь на батожье зажгут и шляются по оврагам ищут норы, в которых мохнатые карлики живут. Тычут во все кротовины и дупла: ого-го, мы уж нечистую силу вытурим!
А присвистнет белка на развилке или Царствие Небесное, к своим возвращаясь, в ладоши хлопнет - так все бахвалы и силачи удирают, портки теряя, к жилью, колья и факелы побросают, смех и грех.
"... Видишь ли, сынок. Так у нас от века повелось, что как мужчина-карлик в возраст входит должен он взять себе в жены полюбившуюся женщину, из карлиц. Все честь честью и сватовство и венчание и брачные заигрыши.
С тех пор муж за жену держит жесткий ответ, любит, бережет,кормить и содержит в здравии и в болезни, и в горе и в радости...
Да, ты прав, не перебивай, дети у нас рождаются редко. Еще Петр, Государь-кустарь, великий флотоводец и бородоруб, на окраине Питера-города, завел от скуки карличью ферму, хотел, как кроликов или коз выводить маленьких людей, но из затеи ничего не вышло. Так пустозвонства ради,
чтобы ассамблеи оживить заварили пару-тройку карличьих свадеб, поиздевались, согнали нашего брата в золотые хоромы, а сами ржали от пьянства и скудоумия над нашими слезами, драками и шалостями.
Я научу тебя навье карличье племя безошибочно различать.
Посмотри на меня: голова крупная, черты соответственны возрасту, голос басовит, волосы на груди и руках растут. Что тело малое - так это лишь следствие ушиба от небрежности. Хребет у меня засох, а все остальное, как и положено мужчине на пятом десятке. Если какая большая женщина согласилась бы мое семя принять, то родилось бы здоровое дитя и внуки у нас были бы с прямой спиной. И женщина с подобным мне обликом, способна дитя зачать выносить, но не родить. Разве что утробу ей разрежут и дитя вынут, ценой ее жизни. Редко кто из навьих женщин на такое идет. Есть у нас на кладбище почетная могила, Таисьи Черной, женщины сильной, мужественной и нежной, которая жизнью за рождение сына заплатила.
Таисия зачала дитя в браке с подобным мне мужчиной, но родами умерла, истекла кровью, когда взрезали, а сын ее вырос здоровым человеком с прямым станом и хорошего росту.... Перед родами Таисия обещала ребенка Господу, сейчас принял он схиму в Спасо-Преображенском монастыре на Соловецких островах, большую будущность обещают ему.
Как вошел он в возраст, я все ему написал о том, как родила его Таисья, как плакала, беременная, что не сможет посмотреть в глаза первенцу, как хоронили мы ее всем Царицыным... Я ничего не скрыл от него, но поклялся он вечно о том молчать.
Но много доброго для Навьих людей уже сейчас совершает.
Но есть среди нас другие. Их больше - черты лица и кожные покровы у них мягкие, сложение детское, голоса птичьи, и в старости - будто морщинистые девочки и мальчики. Такими они из материнской утробы вышли, такими и в землю сойдут, и бесплодны они, как малые дети, у женщин кровей месячных нет...В молодости мы девушек такой породы бережем пуще глаза от светских развратников, потому что желанно им,сволочам, развлечене. И то, подумай: с виду, как малолеточка, а по уму, будто взрослая женщина, хрупкая и маленькая, заглядение, в ладошке, будто янтарное яичко катается, растлителю самая сласть: по закону не с дитем миловидным балуется, а взрослую позорит...
И таких Навьи Люди в жены берут, и такие замуж выходят, но детей принимают из наших приютов и лазаретов, воспитывают, как своих, передают им свое прозвание, а дети в старости или немощи о них заботятся"
- Как же так... спросил пораженный Кавалер у Царствия Небесного, - я слышал, что карлики к большим людям питают ненависть и зависть, что они похотливы и жадны...
Царствие Небесное аж присвистнул, улыбнулся, выстукивая трубочку о мостки - уже пять кучек пепла остывали на досках - рассказ вышел долгий.
- Зависть? Что ты, сынок... Было бы чему завидовать. Хребту прямому? Выездам раззолоченным? Миллионным состояниям? Фунт дыма. Пшютство и химера.
Вельможа в России сегодня вельможа, а завтра - пшел вон, собака, скажите спасибо, что Петр, которого в Ораниенбауме Орлов придушил, как обезьянку, "Слово и дело Государево" отменил - все же не каждая башка падать стала, а через одну. Не за каждый чох или извет или против Государя умысел или татьбу, не за всякую печатную и рукописную крамолу вас тащат в Разбойный приказ или Канцелярию тайного розыска.
Да глупее и наивнее, чем большие господа - москвари да питерщики, у которых я в свое время служил, видеть не приходилось. Ты ему сказку про белого бычка расскажешь, на скрипочку кошачьи кишки натянешь, попиликаешь - он и смеется, большой дурень, в ладошки хлопает "Еще! Еще!". А жена его, на утреннем одевании или в ванной, и так повернется и эдак, то зад выставит, то перед, девки бегают, вода кипит, щипцы завивочные калятся, от пудры моськи расчихались. А миленький дружок то и нейдет. Один я в углу сижу, щепочку строгаю и пускаю слюни. А она с тошного горя, да с бабьей недоласки, оголится, да показывает мысок, дразнится. Да разве сравнится такая дылда мясистая и ее мохнота междуножная с нашими строгими Навьими женщинами? Я ни на балерину италийскую, ни на фаворитку выхоленную ни на иную дурищу пудреную, неверную да манерную, мою Аксиньюшку не променяю. Не одна похабница титулованная передо мной голым гузном вертела.
Я лицо рукавом закрою - мол, стыдно мне, а она и рада, хохочет - оконфузила юрода. Нет зависти, сынок. Одна жалость, будто к детям неухоженным и малоумным."
Кавалер неудобно скорчился, обхватил колени и даже шея нежная и уши алым залились - и стыдно и смеяться хочется, аж внутри щекотно, признался сдавленно:
-... Они и мне показывали... При всех.
Царствие Небесное не удивился:
-Вот потому-то я с тобой начистоту и разговариваю. И в науку взял. И к Навьим Людям привел... Доверился.
Кавалер вскинулся, губу вздернул заносчиво, по-песьи обнажил сахарный клычок, вечернюю прядь завитую отдул от виска.
- Зря.
- Что "зря"?
Зря доверился. А вот предам. Назло предам, по прихоти. Я порченый, я так хочу. Сейчас поеду, куда следует, и все как на духу выложу. Ишь ты, обжились. Нет в России навьей земли - вся царская да господская. И налоги небось не платите, и законы свои придумывали, и попы у вас, чай, не синодские. Разве не знаешь, каков я...
Глава 19.
Мавка
- Зря доверился. А вот предам. Назло предам, по прихоти. Я порченый, я так хочу. Сейчас поеду, куда следует, и все как на духу выложу. Ишь ты, обжились. Нет в России навьей земли - вся царская да господская. И налоги небось не платите, и законы свои придумывали, и попы у вас, чай, не синодские. Разве не знаешь, каков я...
- Вижу, батюшка, каков ты! Хорош! - живо откликнулся Царствие Небесное, незаметно вперед подался, рукой шевельнул, будто играючи, и с коротким криком кувырнулся Кавалер в мелкую илистую воду пруда - порскнули мальки в торфяную глубь.
Царствие Небесное переждал степенно, пока воспитанник его отругается, да отфыркается, и заговорил скорбной скороговоркой (а углы рта подергивались от затаенного хохота):
- Ох, ошибся я, ох, проштрафился. Жили ладком, попивали молоко, хлебушек ели, на Святой говели. А пришел большой барчук, всем нам - каюк. Незадача какая - предаст он нас. Не ты первый, мальчик, не ты последний. И гнали нас с огнями и кобелей науськивали, и поселения жгли и скотинку резали. Под Тулой пятнадцать лет тому назад озорники спящую Навью деревню на корню порезали и разорили. Мы еле потом выходили уцелевших. Передавали от поселка к поселку, заново строились - от Литвы до Москвы живут теперь счастливо те, кто в ту ночь от разбойных ножей в лопухи утек.
Предать - твоя воля. Да только у нас везде свои люди имеются. Я о твоем предательстве сразу узнаю, успеем уйти. У нас весь скарб легкий, а к беглой жизни мы привыкли.
Только потом, о полночи, не вздрагивай, не вскрикивай, не обессудь, смерть - сука борзая, быстрая. Прокусит кадык, не охнешь. Смерть - карлица, искусница, рукодельница, когти у нее серебряные, глаза стеклянные, всевидящие. Спица ли в сердце воткнется невзначай, шею ли скрутит чужая рука, придавит ли мягкой подушкой. Смотри, за ужином вина не пей и сладкого не ешь. А то проспишь аккурат до архангеловой трубы. Приползет лесной аспид, капнет ядом в бокал, готово дело.
Берегись: враг во полунощи.
Если предашь - сгинешь до срока. Это - моя воля. Я и тех озорников тульских нашел. Каждого. Кого во сне, кого во хмелю, но смертной пеной давясь, каждый из них знал, за что умирает. А с зачинщиками особо вышло - двое их было - Федот Умник и Егорушка-Залёт. Федот говном кровавым исходил три дня и три ночи, так и изошел до смерти, Егорушка Залет корчился и Богородицу честил блядословием, зачем быстро помереть не дает. Из дома его вынесли - смраден был, бросили в курятнике, там и кончился. Ты крепко понял меня, сынок?
Кавалер хмуро кивнул, на сухое место выкарабкался. Сказал с последней тоской:
- Я же не бахвалюсь, отец... Ты сам говорил - темно у меня внутри. Мысли в голову лезут по осени, не отмахнуться от них, липкие, неотвязные гуси-лебеди, стоит зазеваться - налетят, похитят, разорвут на части, только белые перья наземь опадут и каждое перо не просто так - в старой моей крови. Ты один знаешь, что я на Пресне сделал огонь в прошлом году. А что если выдам вас, не по своей воле, а по кровяной прихоти - затмит глаза и разум и сделаю недозволенное. Предам.
- Не предашь - отрезал Царствие Небесное. Тревожно заглянул в глаза Кавалера, крепкой мужской рукой сдавил до боли плечо - Кавалер вытерпел львиную хватку, не вскрикнул, только спросил.
- Наверняка знаешь?
- Крепче твоего сердца.
Вот что. - хлопнув по колену завершил Царствие Небесное - Мокрому дождь не страшен. Ты сегодня наработался и наслушался довольно, давай-ка обратно в пруд - переплыви раза два, три, смой всю мысленную коросту и пустые тревоги, потом выбирайся, ужинать пойдем, Аксиньюшка сегодня пироги затеяла, заждалась нас. Сядем, выпьем, поговорим.
Медленно бродил по вечернему лугу андалузский конь Первенец, пофыркивал, пасся, обхлестывался панским пышным хвостом от слепней и мокрецов - шаг за шагом - тупу-туп, отходил, тонул в раннем царицинском мареве-тумане.
Колдовские рыжие кони далеко-далеко на тракте татарским дробным галопом копытили суглинки. Отзывалась по-женски большая хозяйка - земля.
Странно и нежно живой душе в сумрачном лесу. То ветка надломится и хрупнет, то блуждающий огонек в глухой балочке зажжется, то зашумят кроны дубовые и липовые в безветрии, то тяжким зудом овевая лоб пролетит ночная мохнатая бабочка-бражник с черепом меж крыльев.
Дергачи-куропяточки стрекотали в стоялых травах тревожным, как на пожаре, надрывным скрежетом.
Последние резкие и дикие лучи заката протянулись над прудами. Тесными облачками повисли над рукотворными водоемами безвредные комары-толкачики - сулили назавтра вёдро, безветрие и солнцепек...
Царствие Небесное сунул трубочку свою за ленту на шляпе, и поковылял проведать лошадь, пока плескается молодой приемыш.
Кавалер в одной рубахе и штанах саженками проплыл по пруду, запутался в жестких скользких водорослях, без света оржавевших. Потом нехотя нырнул, наглотался холодной воды, оттолкнулся от вязкого дна, и враз устал, сомлел и перестал бороться.
Распустил руки и ноги, позабыл о теле и всплыл лицом кверху, будто и не бывал никогда живым.
Затих на поверхности. Медленно и ясно плеснула за плечом рыбешка. Всплыли лениво и развились волосы, буфами белесыми вздулся шелк сорочки. Невесома и таинственна стала под одеждой золотистая от усталости плоть. В водяном окоеме без выражения и смысла колыхалось лицо.
Кавалер вздохнул и закрыл миндальные глаза, но по-обыкновению, настороженно подсматривал из-под ресниц, не доверял вечеру. Отчего так дивно и много шумят большие деревья, отчего сердце не в шутку щемит, отчего дикие утки, посвистывая маховыми перьями, летят с гомоном над беспокойными водами, зелеными лесами и кладбищенскими обрывами.
Отчего искорки закатные шаловливыми угольями играют на черной ряби, а водомерные паучки крест-накрест метят водное зеркало. Чудятся у виска нечаянные русалочьи колокольчики.
Нет... Послышалось.
Высоко в синей темнеющей незримости небес трубили стрижи.
Кавалер вяло шевельнул рукой. Так невпопад, странно, странно, будто не моя ладонь оделась водянистыми искорками, онемела, не слушается.
Что-то должно случится.
Так легко стало шее... Будто примета невысказанная - меня повесят, меня повесят...
Что такое?
Ощупал горло, стараясь не нарушить блаженства и невесомости, перешла слепая рука на грудь и коротко ахнул Кавалер - грех: смыло крест кипарисовый во время купания. Перетерся гайтан.
А разве теперь сыщешь реликвию в тинистой хляби.
Сразу стало холодно в беспокойной ртутной от вечерней неги воде. Снизу бил ледяной ключ, леденил поясницу и лопатки.
Кавалер распахнул васильковые глаза во всю ширь и больше, будто ударили его под затылок кривым метким ножом.
Пропал.
Без креста.
И тут же увидел юноша, то, что видеть нельзя.
Низко нависала над водой с островка насыпного ветка размахровой вековой липы. Машистая и мшистая, совиное логово.
Только рысям да бесам на такой гнезда вить - ведьмовская лапа.
Сухие старушечьи развилки грозили из густой молодой листвы.
Верхом на крепяной древесине - что все развилки ветви держала, сидела мертвая белая мавка, бесстыдно задрав подол.
Простоволосая, маленькая, ростом с девочку лет двенадцати.
В белой детской рубашонке в которой отроковиц в гроб кладут, от горловины до подола расшита была вороньими следочками страшная одежка - красной ниточкой, бузинными крестиками.
На шее - будто запекшийся порез - рябиновые прошлогодние бусы - даже на взгляд - горче гадючьего яда.
Болтала мавка пятками.
Налетел стыдный ветер - взмахнул и растрепал сияющим ореолом легкие, как опушка одуванного цветка, белые-белые волосы, будто вплетены в них были гагачьего пуха перышки, хрустальные колокольчики и лейденские капельки. Обломишь у такой капельки хрупенький "хвостик" и разлетится вся капелька в серебряный прах, будто душа выходящая.
На солнечном пятнышке умещалась мавка. Навстречу синему сильному взгляду Кавалера она открыла дивные невечерние глаз. Отблеск последнее солнца показал юноше, что глаза у мавки на ветке темно-багровые, будто старое вино с осадком в хрустале напросвет.
А в белой ручке чудной девочки наотлет болтался на рваном гайтане краденый кипарисовый крест.
Круглое личико мавки сморщилось от щедрого девичьего смеха, заиграли щечки, и, не удержавшись, мертвая марочка показала Кавалеру язык.
Тут уже не выдержал Кавалер, шарахнул в плеск по воде руками и ногами, захлебнулся. Взлетели и повисли на секунду крупные брызги. Мавка, купаясь в тыквенном рыжем солнце и брызгах, вскинулась, потянулась лотосными руками - такими тонкими в цыганских рукавах от локтя расклешенных. То ли заплакала, то ли засмеялась, всем горлом ловя брызги подожженные в полете, как поцелуи.
Сорвалась зрелым яблоком с липовой ветки - канула в воду рядом, без плеска, забили белые ножки в кипени подола.
Молодой пловец вильнул от нее, как белуга, сильной спиной вниз, в потаенную глубь и еле добарахтался до берега, с криком, с полным горлом неживой воды.
- Батюшка!!!
Царствие Небесное появился из осоки, застегивая пряжку на голландских широких штанах, выслушал сбивчивый рассказ Кавалера, сплюнул, обратно тиснул нож в охотничьи ножны на тисненом поясе.
Кавалера била крупная дрожь, он часто и тяжко сглатывал, тянул руку к обескрещенной груди, так и не смог выбрести из воды на глинистый скользкий берег, топтался по колено в прибрежном плесе.
- Мавка почудилась? Дело бывалое, - посочувствовал Царствие Небесное, с привычной уже серьезной насмешкой в голосе. - Не к добру. Хана тебе. Помрёшь, как пить дать... И часа не пройдет, иссохнешь и сдохнешь. А в красные сапожки ее ножки были обуты?
- Н-нет... Не было красных... босая она была... - еле вымолвил Кавалер.
- Еще хуже, - опечалился карлик, как бабка- вещунья и сказочница подпер щеку корявой ладонью -
- Кабы ты сапожки с нее снял, так бы и спасся, всюду бы стала она за тобой бегать, плакать под окном: верни сапожки, навек твоя буду". А теперь точно заказывай панихиду. Тебе какой гроб милей: голубой али беленький? Я одного мастера знаю из Петроверигского переулка, такие ящички делает, сам бы лег, да денег надо. А ты у мамушки попросишь, уж разве она сыну гроба лилейного пожалеет.
Запомни, которые мавки босые, те самые опасные. Ты моему слову верь, я брехать не стану. Много пожил, много видел... - тут Царствию Небесному Кавалера наскучило мучить, он резко обернулся и крикнул в прудовые заросли:
- Рузька! Поди сюда. Покажись. Да крест чужой не потеряй, княжеская вещь, не помойная.
И тихим голосом прибавил, подавая руку оторопевшему Кавалеру:
- Полно тебе голову морочить. Никакая это не мавка. Мавок не бывает, что ты как маленький. Помнишь, в первый день ты у меня спрашивал есть ли на дворе моем вторая женщина? Так я не солгал тебе. Второй женщины не было. Это дочка моя единственная - Рузя. Она еще не в возрасте. Оттого дури в голове не меньше, чем у тебя. Береженка моя. Егоза. Давно уже за тобой следит, любопытная она, как кошурка. Да подними голову - вон она идет.
- Какая белая... - только и смог прошептать Кавалер...
И вправду, противосолонь спускалась по зеленому холмику, бережно ступая по скользким пеньям-кореньям - девочка.
Сама кроха, в мокрой насквозь белой рубахе, с алыми следочками и кониками. Виден был, когда боком поворачивалась, малый горбик на холке, но изьян ее не портил, а разве что прибавлял милоты.
Рузя держала промокший подол подале от бедер - чтоб не просвечивали ляжки под мокрой тканью - скромничала перед отцом.
Кавалер уже раскусил розыгрыш, выпрямился, сделал такое лицо, будто на все наплевать, перекинул отягощенные влагой волосы через плечо, стал выжимать скрут прямо на траву.
Снежная девочка, не дойдя десяток шагов, остановилась, с белых волос текло прямо на босые ножки.
Застеснялась, протянула мокрый крест, не подходя ближе. Переминалась в глинке ножками, будто строптивый несмышленый олешек.
- Ну вот еще вздумала дичиться, будто в кувшине растили... Людей что ли не видела. - пожурил незлобно Царствие Небесное и пальцами щелкнул, подманивая дикарку
-Рузька! Подойди. Не укусит.
Кавалер отряхнулся, рубаха пятнами липла к телу, посмотрел из-под ладони, солнце било в лицо:
- А вот укушу.
- А вот не боюсь!- горличкой щебетнула Рузя, ловко бросила крест и удрала в кусты. Хрустнули малинники и все стихло.
Кавалер сердился, возился с узелком гайтана, повязывая на шею потерянный было оберег. Сердился и когда лошадь ловил и когда обтирал пучком травы взмокшую от дневной работы спину Первенца.
Сердился, когда вёл андалуза по Царицинским колдобинам и зарослям болиголова и пастушьей сумки.
Сердился, когда Аксинья Петрова, жена Царствия Небесного вынесла капустные и рыбные пироги на еловой доске. И ели, отмахивая комаров всей семьей на дворовом столе с приплавленными разновысокими огарками домашних свечей. Пригласили на пироги соседей пригласили, потому что четверым все вкусное съесть не было возможно.
Царствие Небесное ворчал:
- Ну вот, Ксеньюшка, напекла на Маланьину свадьбу. Куда девать...
Сама Аксинья Петрова в неизменной своей алой юбке и зеленой кофте, присаживалась к краю стола, кивала, с любезностью привечала гостей. Показывался из расстегнутого рукава полный материнский локоть измаранный мучной коркой. Хозяйка умаялась днем, вымешивая тесто и крутясь у печки.
Теперь размякла, подобрела.
Ксения слегка пригубила из низкой стопочки красной водки. От одного ее присутствия так тепло и хорошо становилось, что и говорить было незачем, все с полуулыбки друг друга понимали и пировали дотемна, хвалили ксеньины пироги, угощались первоваренной бражкой.
Рузя, переодевшаяся в сухое, заплела волосы в белые сугробные косы и тихо-мирно сидела на краешке лавочки. Пощипывала крайний кривоватый пирожок с припеком и лишь изредка тянула за хвост толстенного ленивого, как архиерей, белого котищу, пришедшего на свет и вкусный запах с поленицы мягкими лапочками.
Кот разевал розовый рот и противным мявом изумлял окрестности.
Царствие Небесное стучал кулаком по лавке, грозил:
- Рузька, выдеру.
- Да полно... - унимала мужа Ксения, ластилась к старой его щеке своей старой щекой.
Царствие Небесное обнимал жену за плечо, угощал лучшими кусочками и не хмелел даже с четвертой рюмки.
Среди карликов-горбачей и зобатых уродов Кавалер был счастлив.
Но сердился на Рузю, неизвестно почему, даже не смотрел в ее сторону. Отказался заночевать, хотя постелили ему в саду под кривой серенькой яблоней.
Хлевное тепло поднималось от земли и всю ночь перекликались с жаром певчие птицы над папоротными болотинами.
Двое карликов задремали прямо за столом. Разобрали супругов крикливые маленькие жены по родным избам.
В третьем часу ночи Кавалер оседлал недовольного Первенца, пора и честь знать, домой ехать.
Ксения Петрова в алой юбке шла по росе вечерней с фонарем, светила гостю, провожая до тракта.
Весь вечер волновалась маленькая женщина, несколько раз спрашивала на ушко Царствие Небесное
- Зачем ему дочку показал?
- Не моя воля. Что мне ее, на цепь посадить? Сама вышла, - отвечал Царствие, свинчивая с горлышка голубоватого стекла бутылки притертую пробку - Не бойся, Ксеньюшка. Не тронет нашу девку московский князь. Всем, что ни есть, клянусь. Сам видел - он ниже пояса почитай - мертвое тело.
- Все они мертвое тело, пока до жаркого дела не дошло - горько возражала Аксинья Петрова, но успокоилась.
Кавалер на прощание все же поцеловал Ксении руку, попрощался со всем вежеством, прыгнул в крепкое седло, поддал Первенца шенкелями. Заскакал андалуз, разбрызгивая весенние грязи на белое брюхо.
Сердился Кавалер на Рузю до третьего поворота дороги.
У часовни, на развилке дороги, перед тесаной статуей Параскевы Пятницы у источника, горел пучок деревенских самодельных свечей. Здесь всадник остановился попить воды из рытой купели, к медной полосе на берегу прикован был ковшик на цепи.
Наклонился. Цепь звякнула о нательный, теперь прочно привязанный кипарисовый крест в медном же окладе-нарамнике.
Фыркнул и переступил Первенец, да так сильно и ясно прозвучал всей конской плотью, что то ли спьяну, то ли смолоду захотелось обнять его за шею.
Приникнув к волшебной лошажьей шее, Кавалер перестал сердиться, будто отрезали лишнее единым махом разбойничьего казанского ножа.
И в этот миг нащупал он в косо стриженой гриве Первенца заплетенные девичьими пальчиками лукавые ведовские косички.
В четыре ряда плела, не поленилась. Не как нечисть плетет наузы на погибель, а талисман конский на медное переливчатое счастье-пересмешник.
Хотите меня в полон взять, в узилище, так не в сети крепкие укутайте, не железами сковывайте, а оберните мои пясти ее волоском с гребня, не сорваться мне с прочной привязи.
Попытался Кавалер распутать тугие косички, заплетенные карлицей и не смог, пожалел.
Значит, подпустил ее конь, не шарахнулся. Доверился.
Замешкался у источника, послушал соловьиный щелк, и вдруг застыдился, заторопил белого коника
- Гайда, Куцый, айда!
Рвался без стремян сквозь птичью зарничную ночь всадник под россыпью звездной, приникал к теплой шее жеребца.
Бульдились в колеях влюбленные лягухи, сильно и страстно пахло распахнутое влагалище земли, ворочались русские пласты в родовой весенней муке и радости.
И всадник радовался, голубел, растворяясь исподволь в черемуховой подмосковной ночи. Чечетка бепечальной скачки гулко отдавалась от стен складов и купеческих заборов.
Наконец, Кавалер перевел коня с собачьего на манежный ровный галоп, опрокинулся навзничь, затылком на полный круп белой лошади, заломил руки и улыбнулся, вычисляя из многих белую полярную, как Рузины волосы, звезду-путеводницу под охраной Малой и Большой Медведиц.
Да так и не нашел нужную звезду, глаза слипались.
Конь с врачебной точностью ступал по беспределице московских улиц. Он помнил копытами дорогу от Царицина до Большого Харитоньевского переулка.
Бросились прямо в лицо Кавалеру густые московские созвездия.
Пернатые ночные кулички, вспархивали со многих вод, от ровной конской побежки.
Во рту привкус крови, каленого железа и черной
Сторожа далеко на Чистых прудах кричали : Слууушай... Слууушай..." Плескала в кожемятных канавах голая любовная вода
Шутя, окликало Кавалера по имени алым злым московским голосом:
Счастье.
Глава 20. Рузя
... А вот небылицы в лицах показывают, мир всякое брешет, а брань на вороту не виснет, грешники пишут большие книги шутам на съедение.
Если невмоготу, а до страсти хочется, и тут щекота и там свербота, и тесные сны, и охи-вздохи и то и сё, так разные способы есть, как утолиться.
Бывает, молодец ловит и колет голубя, достает из него сало и на сале месит тесто, печет из него калачик или кокурку, невзначай девицу угощает на вечерках, следит, чтобы укусила, прожевала, проглотила и так посмотрела, будто еще хочет. "Еще хочешь?". "Хочу, милый, хочу, не могу!". А он не дает, бормочет, болвашка, приворот
"Как голубка с голубком топчутся, как голубка с голубком живут ладком, так бы и со мной жила раба Божия"
А уж иной кобель подоспел, побойчей, позлей, поудачливей... Увел девку в круговой пляс, и уже не раба она и не Божия, а чужая суженая.
Так и сиди с голубиным калачиком, зачерствел поди гостинец, а то-то же, поделом, не зевай, попусту не хаживай, не чужой кусок не облизывайся.
Ты сядь со мной рядышком, я тебе всёшеньки-всё на ушко нашепчу.
Высоко голуби крылами бьют. Тесто не поднимается. Калачи в печах сгорели.
Не печалуйся, на всякое дело наговаривают: и на вынутый след и на гребешок и на волосы и на церковный порог и на колодезное ведро и на девкины черевички, а парням - на пояс или на перстень. А всем без разбору на банный веник и пряники. Такие пряники, раз в год пекут, с анисом и с духами, а на доске пряничной осетра вырезают - государь над рыбами, на царских свадьбах и в больших монастырях такие пряники вкушают.
Да, нет, что ты, глупый, в монастырях не женятся и замуж не выходят, я так к слову сказала...
Раз не хочешь наговаривать на пряник, так не надо, от них зубки болят.
Тогда я тебе скажу средство крепчайшее, соломонову мудрость, нерушимую тайность, ты с одного раза запоминай, хорошо? Повторять нельзя - помрешь. Хочешь слушать? Ну вот. Ты ничего не пеки, голубя не бей, пусть летит. Сорочку с веревки не тащи, могильной земли не трогай, а ты пойди вина купи. Сладкого вина, изюмного. Чтобы с коринкой, я с коринкой люблю. А ты, какое любишь? Чтоб сладкое или горькое... Горькое?
Ладно, так и быть, бери горькое.
Нет. Давай так. Это я горького вина куплю. Есть у нас сосед, косой курляндец, у него своя винокурня. Он злое вино гонит, от одних паров куры у него на дворе мрут. И утки. И поросенки. Он поросенков завел, а все передохли спьяну, нанюхались.
Очень злое вино. Если поджечь - так вспыхнет, и будет гореть негасимо, пока не выгорит до донца.
Так вот, я у него вина куплю, в склянке.
Надо не торгуясь брать, какую цену назовет, такую и дам, даже если он, сквалыга, непомерно заломит.
А после я с тем вином в церковь пойду, и закажу по тебе, по живому, поминальный сорокоуст, а поп спросит, как поминать, а я скажу "как убиенного... новопреставленного".
И попу первый глоток из скляницы дам отхлебнуть. Он не откажется, он все знает, пьяница. Ой, страшно мне будет про тебя такое говорить, но я вытерплю...
Так вот, после я на три дня и три ночи замолчу и есть ничего не буду, а сяду в уголок и буду о тебе думать.
Накануне в бане попарюсь и выйду чистая-чистая.
Волос не заплету. Расчешу рыбьим хребтом и на северном ветру высушу. Как стемнеет, буду венки плести, наощупь. Так полагается. Выплету голыми руками смородинный, ольховый, ивовый и ветляной.
Смородинный - на лоб, ольховый на праву руку, ивовый - на левую, а ветляной - самый большой, на пояс.
Пойду босиком на восток, через заднее крыльцо, в подымное окно, под гнилое бойное дерево, пойду не дорогой, а стороной, мышьей норой, собачьей тропой, балочкой беличьей, лощинкой лосиной. А заблужусь, отыщу, путь по звездочкам, я ученая, ты не бойся за меня.
Меня поначалу бесы попутают, они сильные, они хитрые.
Вот я иду, иду дубравинкой, а за дубравинкой стоит пустая мельница...
За мельницей - клеверное поле, а посреди него торчит куст терновой, а в том кусту сидит толстая баба, сатанина угодница. И скажет мне толстая баба, сатанина угодница:
- Стой-постой! Отрекись, прохожая девушка от Христа Пастыря, от русского имени, от креста, от Поста, от Воскресения, отступись от отца с матерью, я за то тебе выну из под подола копченый свиной язык. Всех тот язык прельстит, всяк к тебе прибежит и тебя собой покроет, как первоснежье голую земельку.
А я бабу не послушаю. Я ей кукиш покажу и дальше побегу.
А медный крестик в кулаке. А венки шуршат, а в склянке твое вино плещется, и, кабы не запрещено было от Бога, я бы возмогла на всю вселенную вскричать твое имя.
Приду я до света на тройную росстань, а там - Змей-Солнцеворот лежит и спит, пламя в утробе копит.
Кольцами вкруг литовского креста обвился в семь оборотов. Вся трава вокруг его лежбища повыжжена... Чешуя блестит. Линяет Змей - Солнцеворот, старую шкуру сбрасывает, в новую облачается. Тяжело ему, жарко, язык раздвоенный вывалил... а у него язык ядовитый... жало.
У, страшно.
Я перед ним сяду, как курочка, и буду говорить:
"Тише, тише, дедушка Змей - Солнцеворот, пошевелись, посмотри на меня. Вот шла я с горы на гору, с волости на волость, шла-приустала, легла - приуснулась, немного спалось, а много виделось.
Змей меня послушает, дохнет жаром, волосы мои размечет и чревом застонет и крыльями меня всю-всю-всю овеет:
- Жарко, мне, девушка, недосуг твой сон разгадывать, недосуг тебя обихаживать.
Снаряжаюсь я по четвергам ненедельным зажигать горы и долы и быстрые реки плотогонные и важенку с олешками и скопу со скопятами и корову с телятами и княгиню с княжатами и болотные воды со ржавчиной и белую рыбицу на желтом песке.
Все пожгу в уголья багряные, белым пеплом по степи развею. Пешему ходу не будет, конному скоку не будет, колосьям росту не будет.
Огонь во мне кипит. Душно, мне девушка... Водицы дай, не то съем.
Я заробею до озноба, подам ему стеклянницу от курляндца и скажу:
- Дедушка Змей-Солнцеворот, принесла я тебе русский рукомой. Глинка закаленная, обливная, четыре носика, медная цепка, а внутри - свежа вода Белозерская. Испей, охолони, побалуйся, помяни моего милого, охрани его от нутряной скорби, от напрасной смерти, от тоски-чаровницы, от живца, от мертвеца, от речника, от сухопутника, от меня, дуры, убереги...
Обману его, а так надо.
Змей хлебнет зелья, вскинется вихорем, налетит, ударит грудью, крыльями восплещет.
А у него их шесть, а у него их восемь, а у него их дюжина, и все красные-страшные-пестрообразные. Древа полягут, камни истают, вскипят колодези, горящие табуны на гари вырвутся. Я вскочу, я закричу вверх:
- Не жги важенку с олешками, не жги скопу со скопятами, не жги корову с телятами, не жги княгиню с княжатами, а жги его, ненаглядного, в сердце, в легкие, в пот, в кровь, в печень, в кости, в жилы, в мозг, в мысли, в слух, в кудри черные, в очи синие, в руки крепкие, в ноги беглые. Разожги сухоту, муку, жалость, заботу, печаль и попечение обо мне... на веки вечные, на ночи брачные... Скажи ему, пусть накормит мою душу, вернет назад мое сердце, ну, пожалуйста, дедушка Змей-Солнцеворот..."
Змей меня послушается.
Змей полетит по всей России, и по всем заморским странам, закличет, засвищет, отыщет окошко за которым ты спишь, дохнет хоботами и сожжет тебя дотла...
Вот. Держи. Змей-Солнцеворот оставил тебе последний глоток. Он до дна не пьет, потому что не крещеный, его Егорий убивал, да не выдюжил, только раз, копием ударил, а добить не смог, пожалел, потому что святой-великомученик. Змей от стыда в полесские болота ушел, зализал рану, живет тысячу лет, нам девушкам в помощь.
- ... А если и после этого не полюблю тебя?
- Я тебя с того дня полюблю. С меня будет довольно. Смотри, у меня скляница с собой. Выпей за мое здоровье. Ты ведь любишь горькое. Не бойся, я не умею ворожить. Пей вволю.
- Ну раз так, твое здоровье, Рузя... -, согласился Кавалер, хлебнул зелья, едва не закашлялся
- Черт бы побрал курляндца, крепкий хренодёр сварил... не дохнуть, не сдохнуть.
Он выронил сулею на камни - кокнула, разлетелась вдребезги хрупкая склянка - от звона вмльнула в трещину ящерка, а Рузя засмеялась.
- На счастье бьется? Правда?
- Твоя правда - Кавалер улыбнулся, поднял битое горлышко, удобно легло в руку. Вспомнил, как Царствие Небесное учил его обращаться с кабацкими бутылками. Как правильно бить бутылки об угол стола или дверной косяк, чтобы получить стеклянное разбойничье оружие - оставляющее страшные шрамы от "брабантского приема".
Кавалер повел восьмеркой бутылочную розочку, дерзко блеснули осколки.
Сладко было оттого что так легко идет рука - смертоносным будет удар. Если в полную силу. И так. И вот так, с прокрутом. Оп-па...
Рузя отшатнулась, поджала коленки.
- Зачем так?
- Ну... На всякий случай. Мало что за сволочь сунется. Берегись: враг во полунощи.
- Ты поешь с чужого голоса. Смотри, сейчас костер потухнет, на чем будем горбушки жарить?
- Я хвороста чертову кучу принес, подбрось сама... И вовсе не с чужого голоса. Меня, между прочим, твой отец учит хорошо убивать.
- Нашли дело. Брось стекляшку, порежешься. На сегодня тебя отец отпустил, так что ж пугаешь?
- А что, скажешь на Москве сволочи мало?
- Не знаю... Я на Москве никогда не была. Только в малолетстве. Но я ничего не помню.
Они сидели друг против друга у еле живого костерка в осиннике за церковью Навьей деревни.
Колокол нудно бил часы : бон-н...Бом-м...
- У нас колокола гулкие... Малые, но с голосом. Отец в Туле заказывал, на пушкарском дворе. Страсть как дорого вышло, а весь праздничный набор теперь на колокольне. Слышишь, как гудит... прямо в груди. Не хуже, чем в больших храмах.
- Слышу.
- Хорошо.
Рузя раздувала слабое пламя, потом устала, замахала на чадный костер подолом - и помогло, пламя зализало хворостины, сильно выплеснулось рыжим. Защелкал на угольях печеный хлеб.
Кавалер пожадничал, выхватил одну ржаную горбушку до срока, обжегся, перекинул, шипя, с ладони на ладонь.
Укусил, глядя из под волос. На щеке остался угольный мазок.
Заговорил, не прожевав:
- Вкусно... Дымом пахнет. И соли не надо, можно золой посыпать. Как так, Москву не помнишь, расскажи.
- Да что рассказывать, - Рузя покрутила в ладошке прутик с хлебом, но не ела, печалилась - Мне отец сказал, что я сидела в клетке. На Девичьем поле. Это где такое, Девичье поле? Там что одни девки растут? Есть же поля овсяные и ржаные, а тут глупость какая - Девичье поле...
- Ничего там не растет, все давно вытоптали. Там и девки и женки и парни и старики гуляют. На святки и летом, в веселые праздники, там ставят балаганы, а в них показывают потехи. Шуты гороховые на проволоке пляшут, и огонь глотают и на головах ходят... Я года два тому назад туда на Масленой с Мишкой Шуваловым ездил, и с Антонием из Шереметьева дома, с меньшим. Смотрели, как медведи пляшут. Напились на морозе страсть как, я дома врал, что заболел...
- Что еще за Мишка с Антонием? - недоверчиво спросила Рузя...
- Да Антошка Шереметьев, кто ж его на Москве не знает! Тополь киевский, красавец, голова золотая, в гвардейские его прочили, а он по моряцкому делу пошел. Он младший брат моей ... - тут Кавалер осекся, на зубах горелый хлеб хрустнул, закончил с трудом, - не бери в голову. Дружки мои. Им теперь со мной запрещено видеться.
- Почему? - не отставала Рузя.
Кавалер поворошил головешки. Дёрнул плечом.
- Вот уж не ведаю, ей-богу... Фантазия такая на Москве. Говорят, нехорошо со мной водится, кого хочешь замараю.
Мишка Шувалов в Голландию уехал, с братом, в русском посланничестве теперь в юнкерах по тайным делам бегает, зимой писал, что женился. На беглой французинке, которая нашу веру приняла. Живут счастливо. Она ребеночка ждет.
Антошка в Навигацкой школе зубрит науки, днюет и ночует на Сухаревке, ему теперь не до меня.
- А чей он брат, повтори?
- Вот что, Рузька, ты меня не сбивай. Мы не о том говорим... Что еще за клетка на Девичьем поле?
Рузя недовольно вздохнула, но ответила:
- Я сидела в клетке. Я была вся грязная, ползала в соплях и говорить не могла. Мне было три года. Я ничего не умела делать. Меня показывали людям вместе со зверями. С такими же, как я. Там был белый кролик с красными глазами, белая коза, тоже с красными... и такой же котенок... Белый. А глаза красные. Он еще и глухой был. Все белые коты глухие. Они не потому глухие, что больные, а потому что не хотят никого слушать. Чтобы на меня посмотреть люди давали хозяину пятачки.
Отец меня купил за три рубля. А я в котенка вцепилась - так и увезли нас вместе. Ты моего кота видел. Его Тишей зовут. Тихоном Иоанновичем. Он старый уже, он меня маленькую помнит. Только он строгий. В руки редко кому дается. На поленице спит и все видит. Ты его не обижай, ладно?
- Не буду. А что же, с тех пор тебя отец на Москву не возил?
- Нет. Он обещал, вот я выйду замуж, так будет день, меня жених на Москву повезет верхом на гишпанской лошади. Будут бить колокола и барабаны, холопы поставят на всех улицах столы для гостей, а в Новодевичьем монастыре за меня будут молиться белые монахини. Ты на Москве живешь, скажи мне, бывают белые монахини?
- Бывают. У них белые клобуки, а колокола все малиновые. Они тебя любят, молятся всечасно, - соврал Кавалер, как она и хотела.
Рузя повеселела, залюбоваться можно было на нее, невеличка, белым-белая, как яичко, спиной к солнцу сидела - сияли вкруг головы невесомые волосы.
Горбик скрадывался просторной рубахой. Опоясываться она не любила, так и струился сарафан тонкого тканья вокруг тела по воле по своей.
- Моя мать была полячка, пленная. А отец из сибирской стороны. Пермяк. Из Беармии Счастливой. - Рузя прижмурилась и сказала наизусть, будто прочитала по книге по складам
- Бе-ар - мия есть огромная земля к юго-востоку от Белого моря.... Населенные места граничат с лап-ланд-ца-ми... Вот так. Мой отец был колодником. Его угнали дальше, а мать родила меня в тюрьме и так долго плакала, что я получилась белая. А маленькая я, оттого что мама голодала.
Чуть я родилась, окрепла, меня у матери отняли и отдали на Девичье поле показывать. Нет, я ничего не смыслила. Редко снятся носатые рожи, будто из воска слеплены или из войлока валяны. Все в шишках, щеки отвисли. Толпятся за прутьями и гогочут... Так много их. Воняют пивом и навозом, нечем от них дышать.
Белый козленок кричит, его тычут тростью, у него кровь под хвостом, ноги отнялись. Бьется на соломе, а на морде желтая пена. Я тоже кричу, когда такое снится.
- Не надо больше смотреть такие сны, - честно попросил Кавалер, тронул Рузю за плечико - карлица тут же прильнула к ладони щекой, и с затаенной радостью Кавалер уловил, что пахнет от нее лимонной мяткой и карамелью.
- А я и не смотрю. У меня были сны ненастные, а стали погожие. Как тебя отец привел к нам в Царицино, я плохого не вижу.
- И наяву не выдумывай лишнего. Знаешь, у меня есть старший брат, частый гость в Италии. Так, что я не вру, слушай: в итальянской стране есть Белая Гора, там даже скворцы и земляника - белыми родятся. В окрестных деревнях рождаются белые люди с красными глазами, никто их не держит за диковинку. Мало ли, что на свете бывает, не всех же за три рубля продавать.
Рузя, конечно же, услышала вовсе не то, что стоило слушать:
- У тебя и брат есть? Ну, раз мы стали друг друга спрашивать, ты мне ответь, чем ты живешь. А то мне отец про тебя молчком, я спрошу, а он "брысь под лавку" и весь сказ.
Кавалер смутился, не правду же говорить. Забалагурил с кривой улыбкой.
- Я у Бога сирота, отворяю ворота, ключиком, замочиком, шелковым пла-то-чи-ком!
Живу при барском доме, в учение меня отдали за резвость, вот и все. Тебе неинтересно дальше.
- А я у батюшки журавлей пасу.
Кавалер лишний раз Рузе в глаза заглянул, пригнувшись. Не шутит ли белая карлица?
- Морочишь... Я слышал от баб поговорку, когда грозятся они на базаре
"Погоди, будешь на том свете журавлей пасти!". Так что ли?
- Дуры твои бабы, - серьезно ответила Рузя. - Они просто так, а я взаправду журавлей пасу. Без обмана. Каждую весну и раннее лето. Хочешь, покажу. У тебя есть нож, вот и срежь мне хворостинку. Не толстую, не тонкую, а в самый раз...
Идем на дальние пруды. В заросли.... Ну что ты стоишь, пошли! Огонь можно оставить, это мое кострище, я сама кирпичами выкладывала, мне батюшка ненужные кирпичи отдал, когда печку чинили.
Пошли.
Пока продирались сквозь частый травостой, пока искали лещину с прутьями, Кавалер весь исцарапался, оставил добрую часть пенного кружевного ворота на коряжинах, провалился по колено в гнусную трясинку. То и дело плюхался в хляби, оттирал сапожное голенище бересткой и говорил черные слова.
А Рузе все было ни почем, скакала, как куличек по кочкам, находила по привычным вешкам тропку и болтала:
- Пока нож у тебя не затупился, срежь для меня прядь волос. Вот эту, слева. Тебе ведь не жалко, вон их сколько. А потом срежешь у меня, вот эту, справа. Ну, давай.
Кавалер присел на горелое бревно, отер запястьем вспотевшее переносье.
Нудным хором гудели над головой кровососы-комары, близко болота, вот их тлетворное дыхание, у самого горла.
Мало с Царствием Небесным набил мозолей сапогами, так еще и с этой козой-дерезой изволь по трясинам колобродить.
Кавалер строптиво фыркнул, заговорил зло:
- На кой черт тебе сдалось мое волосье? Колдовать собралась? Мне нужные люди советовали, что волосы с гребня и стриженые ногти надо сжигать. А то потом дурного не оберешься. Нечем будет по райской лестнице карабкаться, нечем будет место в раю выкупать - ангелы, говорят, все безволосые, людским волосам завидуют, берут на заставах в мытарствах человеческие волосы на парики...
Только мои волосы я никому не дам остричь, пока живой. Мой урожай пусть чужие руки не трогают.
Рузя топнула босой ножкой - из под болотных трав порскнула сонная водица.
- Я же тебе говорила, что не умею ворожить. Подари просто так. Разве тебя каждый день учат журавлей пасти?
- Ладно, - Кавалер вынул из поясных ножен казацкий нож, с ясным кровотоком и клеймом - сам точил недавно, Царствие Небесное учил оружие держать в порядке. Взмахнул, не глядя и подал Рузе тяжелую витую прядь, в локоть длинной.
Девочка кивнула. Приняла.
- А теперь мою. Вот отсюда, с виска... Только я зажмурюсь, а то страшно.
- Я быстро. Не бойся.
В Рузиной ладони смешались две пряди - прямые и кудри, одна невесома, как сон, вторая тяжела, как деготь.
Белая овечка с черной встретились.
Рузя благодарно кивнула, спрятала подарок за пазуху.
- Щекотно теперь. А хворостинку нашел? Мы уже пришли. Только здесь нужно говорить тихо.
Деревянные сваи были вбиты в края заболоченного птичьего пруда, как гнилые зубы в десна.
Густо и сильно дремали пологие берега в зарослях осоки и пушицы.
Кавалеру почудилось - будто нарочно клубы травяные по зарослям рассыпались.
И вправду, были свиты из речных трав большие гнезда. На страже, одноного, по колено в воде застыли большие белые с рыжиной птицы. Клювы меченосные, головы голые, красные. А ноги долгие и сухие как голодные годы.
- Журавлины долги ноги не найдут пути дороги - шепнула Рузя, поманила к камышовому шалашу - единственное что здесь выстроено было человеческими руками.
- Здесь сегодня другая женщина ночует, я завтра буду не спать. Вон то гнездо свободное, мать с отцом лягушек ушли ловить... Там можно посмотреть, только руками не трогай, иначе оставишь свой запах, журавлей с яиц спугнешь. Обидятся, не вернутся. Они русского духа не любят, так понимай.
Рузя встала на корточки, расшевелила привядшую осоку, и показались наяву два оливкового отлива крупных яйца, вроде гусиных, только в частый крап.
Нахмурилась.
-Ну вот, наклевыш... Проглядели, - она обернулась к шалашу, зашипела гневно:
- Дашка!
- Аюшки... - сонно отозвался шалаш, выползла на карачках опухлая спросонок карлица в зеленом тряпье, зазевала, увидев чужого юношу, застеснялась, прикрылась шалью.
- Я тебе что говорила? Спать нельзя, следить надо. Вот теперь что нам делать, на пятом гнезде яйцо наклюнулось, неровен час дитя будет, а ты десятый сон смотришь...
- Я глаз не сомкнула, барышня... - запищала карлица. Кавалер лишний раз порадовался, что у Рузи голос не так противен - будто кошку душат,
- Да разве уследишь, лето такое спорое... Все не ко времени в рост тянется.
- Лето у нее спорое... - сердилась Рузя, отняла у Кавалера хворостинку, - Иди домой, я сама справлюсь. Засоня!
Не дыша, Рузя перевернула второе яйцо кончиком прута и ахнула
- И тут наклев! Ну, будет нам сегодня жарко.
Нерадивая карлица Дашка покатилась себе через осоки, даже не обернувшись.
- Теперь нужно ждать целые часы. Ты если хочешь, уходи, я посижу одна. Огня зажигать нельзя, дыма журавли не любят, думают, тайга горит... Они на воле в тайге живут, клюкву едят, стебли осоки, лягушек, плавунцов. Это здесь мы их, как домашних, держим.
Рузя заботливо прикрыла гнездо соломой - ее полно валялось вокруг журавлиной кладки.
Кавалер медлил. Уходить не хотел.
- Как же ты тут одна? Замерзнешь, вон все руки в цыпках. Скоро смеркнется, холодно от воды. Не поеду я сегодня никуда, обойдутся без меня. Перетопчутся. На, держи...
Кавалер укутал Рузю кафтаном - девчонка в рукавах утонула, сразу пригрелась, съежилась. Понюхала обшлага одной ноздрей, как дикий зверек.
- Тобой пахнет. Пошли в шалаш, шептаться.
Шептались долго.
Бледная кровянистая заря пала на лесные щербатые кроны, обещала ночь. Побежала по прудам зябкая золотистая рябь - то вставала над лугами старая луна, щелкали и присвистывали в густостое безымянные птахи.
Рузя прихлебывала из закопченного котелка холодную травяную заварку с первого зверобоя.
- Я уже приноровилась. По наклеву вижу, когда родится. Птенцы трудно освобождаются от скорлуп, дольше, чем человечьи дети. Здесь много редких птиц. Даже такие есть - у них под носом мешки для рыбы висят. А в цветочной оранжерее еще такие живут - что ты увидишь - обомлеешь. Птицы розовые, как кровь напросвет, вроде аистов, только носы кривые, когда мы их в особую жару выпускаем на вольную воду, так в глазах красно, будто цыганки на заре алыми платками машут. Наших птиц в барские дома за золотые деньги продают, а журавли - те среди птиц - первые цари. У нас один птичий пастырь был, вдовец, из Трансильвании, так он рассказывал, что у них в краю водятся журавли - поджигатели. Живут, как аисты, на крышах, на зиму улетают, так их гнездо никто не смеет разорять, потому что вернется журавль с юга, увидит потраву и обязательно отомстит хозяину, подберет из костра головешку, сбросит на солому и всю хату от крыши до венца спалит. Всегда ночью.
У нашего вдовца по осени старший сын чинил крышу и случайно сбросил гнездо, а журавли вернулись и пожгли и дом и поветь с хлевом.
Детки погорели и скотина.
А мужик по дальним странам странствовать пошел, перед птицами грех замаливать. Птицы его полюбили. Пастырь о прошлом годе от старости помер. Я сама видела, что наши журавлики к его кресту прилетают и кладут камни. Чествуют.
Но у нас таких журавлей нет, это другие, сибирские. С ними возни больше чем с остальными. Им пастушки требуются. Они страшно родятся...
- Все у тебя страшное, - усмехнулся Кавалер, - смешная ты, Рузька, городишь бредни, глазища таращишь, пугаешь, а не страшно ни капельки.
Но тревожно ёкнуло сердце, Кавалер пересадил девчонку с холодного тростникового пола на колени, Рузя завозилась, устраиваясь. Совсем легонькая, как соломенная кукла-кострома.
- Я не пугаю. Дело такое: там, в тайге, журавлихи кладут два яйца. Только с голодухи - одно, но это бывает редко. Сначала одно яйцо вываливается, мы его зовем "первенцем" или "старшуком". Чуть погодя - второе, мы его зовем "последышем", оно поменьше крап реденький... Ты тоже научишься отличать, если захочешь. Первым вылупляется старший, а чуть погодя - младший, как и положено.
- Ну и что?
- А ты не перебивай. Старший ждет, когда появится младший. Долго ждет. Обсыхает, крепнет. Мать или отец, кто у гнезда окажется, те уходят, чтобы не смотреть. Потому что как только младший из яйца выйдет, старший должен его убить. Ему так Бог велел, они родятся братоубийцами. Иначе в тайге родителям не выкормить двоих, только один получит от матушки корм и обогрев. Должен выжить самый сильный, самый ловкий, самый жестокий. Первая пища победителя - расклеванное тело брата.
Но здесь, в Царицыном селе, все не так. Мы, карлики, журавлей холим и подкармливаем, врагов у них нет, нам нужно сохранить весь выводок. Для того здесь в шалаше и посажены журавлиные пастушки.
Братья-журавли друг друга убивают только первый час по рождении, а потом ничего, терпят... Мы подстерегаем боевое время и разгоняем их хворостинками, так, чтобы не покалечить.
- А... Всегда ли - старший младшего? Хоть один раз на десяток гнезд, разве не бывает наоборот?
- Разберешь у них, кто старший, кто младший, когда драться начали, - пожала плечами Рузя, - я думаю, кто поспел, тот и смел. Кто о первородстве будет помнить, когда череп раскроят.
- А что же матери с отцами, так и смотрят на убийство в бессилии? - спросил Кавалер, сухо в горле стало, горячо так под кадыком, что не тронь...
- Отец и мать уходят, я же тебе сказала. Так Бог придумал, Он добрый, бережет материнское сердце - каково ей из двоих любимых выбирать одного. Подожди, я послушаю...
Рузя выползла наполовину из шалаша - жадно слушала, впивала полночь. Заботливой ручкой заправила легкие пряди за уши. Поёжилась от прохлады.
- Скорей! Пора...
Прянула в млечные сумерки китайской тенью-гимнасткой, Кавалер еле успел вслед за ней.
В пятом гнезде сражались два птенца - нелепые, будто Нюрнбергские заводные уродцы, крылья клешневатые, глазницы впалые, все в слизи - а к смертной драке приучены добрым Богом с рождения.
С виду драка - просто возня в грязи, пуху и осколках зеленоватой скорлупы.
Рузя положила меж ними хворостинку, развела по краям гнезда, заговорила глубоко и зыбко, будто во сне, старинную закличку журавлиных пастушек:
"- Каин Авеля не бей... Авель Каина не кляни... Не завидуй, не ратоборствуй, а смиряйся и покорствуй... Помяни царя Давида и всю кротость его..."
Кавалеру казалось, что протянулись часы. Ни разу не отступившись, не склонив ясной янтарной головы, стояла на страже у гнезда журавлиная пастушка Рузя с хворостинкой, отгоняла сужденную журавлям матушку-смерть.
Птенцы утомились, старший запищал от голода.
По всему пруду огромные птицы заплескали белыми размашистыми крылами. Поднялся ветер, попятились в овраги сырые плаксивые туманы.
Светало. Белые птицы с кликом приветствовали сосновое солнце Царицына, высвистывали ясными маховыми перьями свое имя "Стерх! Стерх! Стерх!"
- Теперь они не убьют друг друга... Устали. Спать хотят. Отойдем. Сейчас мать придет их кормить, вон она ждет - та с рыжим ожерелком, самая ближняя к нам. Но прежде нужно сделать дело. У меня пальцы затекли, переломи хворостину.
Хрустнуло. Кавалер в молчании подал Рузе обломки. Девушка разняла надвое свою срезанную вечером прядь, перевязала хворостный крест и воткнула в "головах" пятого гнезда.
Будто маленькая могила или колыбель навечно отмечена была в росных травах снежными руками карличьей дочери.
Рузя сделала крестовое дело.
Полуночники отступили от креста, светлеющие подмосковные сумерки очертили их двойные кружевные тени на полегшей журавлиной осоке и зацветших черничниках.
Пробирались к шляху без дороги, вымокли по пояс, Рузя болтала пустой корзинкой - забрала из шалаша, сказала, что для хозяйства.
Непутевые краденые тропки в сильных травах и папороти вывели на открытое место.
Все окрест поникло, все замерло, потонуло, как Китеж, в голубином глубоком тумане. Сизая низина отпревала за ночь, готовилась к долгому дню на болотах.
Берестяной клубок тумана завился кубарем, пошел на прохожих не по-хорошему.
Рузя прижалась к Кавалеру, слушала, как мерно тукает большое сердце под батистовой рубахой.
- Это колдун... Куриный бог, Иван - коровий сын! Не дыши. Он наши души выпьет, если будем шуметь.
- Не бойся, - нарочным баском отозвался Кавалер, - У меня души вовсе нет. А твою душу никому не отдам.
Юноша узкой рукой закрыл светлые Рузины глаза.
Вздрогнули веки, защекотали изнутри чашечку ладони девичьи реснички.
- Расскажи мне про твою душу... Пока нам кажется всякое, - попросила Рузя и притихла в руках его.
- Душа у меня сроду была маленькая...
-Как я?
- Как ты. Только вроде птички - ну перепелка или воробейка, хрен их разберет. Тельце как у птахи, а головка гладкая, как у девочки, она пела хорошо - заслушаешься. Смешно. Птичка-девочка. Я младенцем мою душу на пеленки выкашлял вместе с маткиным молоком. Годы шли, а она в окошко билась и пела истошно. Просила "пусти, пусти"...
- Ты пустил её?
- Конечно, пустил. Она попрыгала по подоконнику, просо поклевала, перышки распушила, душа. Доброе слово душе скажи - оживет. А я стоял, смотрел, то ли птичка, то ли девочка - хап - и схватил душу в кулак... Просто, чтобы посмотреть, зачем она, пигалица, такая, живет...
Да только кулак у меня крепок. Я мужчина. Чуть сдавил, а она - - писк - ... И сдохла.
Я горевал, снес ее в сад, зарыл под репейником. С тех пор репей засох. На том месте ничего не растет, будто землю засыпали солью.
Рузя вырвалась, глянула, окунула глаза в глаза несказанные. То ли крикнула, то ли приказала ответить:
-Скажи! Ты видишь, то, что я вижу?
-Вижу... - солгал Кавалер.
И вдруг увидел.
Мрела заря - полевица. Гасила языком пресные звезды. Завлекала розовыми полосами.
Поперек рассвета представился колдун.
Колдун привязал к левой ноге святую икону, шепнул слово и поехал-поплыл-полетел по полевым травам, как на лыже, на одной ноге, на липовой доске.
С пойменных лугов покатил колдун на деревенские поля. Во ржи оставил проклятый прожин, собирал в суму змей, чтобы вытопить из них жир, отлить красную гадючью свечу, а потом сгноить на корню урожай и сельских первенцев. Хотел иконный колдун высосать досуха рассветный избяной дым.
Редко на беду брехали из подворотен кудлатые собаки вслед летуну.
Колдун не заметил Рузю и Кавалера.
Миновало зло.
Рассеялась по лугам новолунная ночь, сверкнула на травяных загибинках пылкая роса.
Высоко гаркал ворон, век вековал в одиночестве.
Еле видны были в сорняках серые лбы следовых камней, с докрестных времен наваленных кругалями.
Так, по следовым камням, продрогнув, вошли в овраг девочка и юноша.
Высоко и сыро разносились с овражных верхов златоустные голоса - вроде как литургию служили на лесном воздухе. Красиво и согласно пели, монастырской сладости хор, все моления невеселые, усыпительные, а слов не разобрать, опасно пролились с небес мимо сердца.
- Монашки поют? - сонно спроси Кавалер - чудо, что-то я про здешние скиты ничего не слышал. Что там наверху?
Рузя поморщилась, будто гнилое понюхала.
- Это не скиты, а пасека. Купцы бортничают. Бога - атые. Хи - итрые.
- С каких это пор купцы заделались пасечниками, да еще в глуши на отшибе. И церковные песни, ни свет, ни заря горланят?
- Ну, ладно, не купцы, а скупцы - нетерпеливо поправилась Рузя и нахмурилась - вот непонятливый.
Плетет девка небылицы. Ну, изволь. Кавалер в тон ей пошутил:
- Значит скупые они, меда даром не дают?
Рузя уставилась на него, как на помешанного. Внятно пояснила, будто маленькому:
- Мед я сама у них беру. По средам. И воск для церкви. И пергу для стариков.
- Воруешь?
- Сами дают. И еще кланяются. Помогают донести туеса. До птичников, дальше я не позволяю. Попробовали бы они не дать. Их отец живо отсюда турнет, а куда скупцам деваться - под кнуты да на тракт. Довольно и того, что мы их терпим. -
Рузя осеклась, отступила к крапивникам. Молодая крапивка еле-еле опушилась, зацвела мелкими белыми бурунцами. Рузя стала молча рвать стебли руками, складывала зелень в корзинку.
Будничным голосом повела разговор:
- Снесу матери. Будут летние щи. С яйцом. Ты, поди, такого и в рот не берешь. Баловень.
Кавалер опешил. Отвернулся. Промолчал - пусть знает, что обидела.
Рузя сама подошла, потянула за рукав. Посмотрела снизу вверх смышлеными глазами. Ай, стерва, разве бывают такие глаза, ореховые в багрец, как у звериньки.
- Не сердись. Я тебе скажу, а ты накрепко запомни. Странно, что тебя отец сразу не предупредил. Значит так: на пасеку ни в коем случае не ходи. Тебе там делать нечего. Мне и маме можно - нас не тронут. А тебе - нельзя. Почему, я не знаю. Я боюсь.
Кавалер, смеясь, отмахнулся, подхватил корзинку на локоть, да и саму хозяйку на забыл, играючи подбросил на плечо.
Возвращались сырой овражной тропой под низкими ветками, сильно несло от земли прелью, сокровенный запах, навечно запомнился...
Рузя по ходу раздвигала ветки, нагибалась. Приникала к голове.
И - раз - сухо коснулась губами, как укусила, там, где волосы Кавалера разделялись.
Не было этого. Померещилось.
Вот и хорошо.
- Ты похож на лошадь. Не обижайся, - шепнула Рузя, - На большую лошадь, шелковую, черногривую, так осторожно ступаешь, все шаги слышно. Только хвоя глушит поступь, да ельник на ветру ревет. Погода стихнет к полудню. ПАрит.
А мне высоко и весело с тебя на свет глядеть...
И барабаны и колокола гремят и молятся белые монашки, как обещано...
- Значит на шею села. Объездила. Шалишь, девушка... Да, ладно, утром ссориться грех. Держись крепче, сейчас в рысь поднимусь, удила закушу. - Кавалер прикинул на глазок расстояние до деревянной лестницы высеченной Навьими людьми в обрывистом подъеме оврага, и, встряхнув карлицу на плече нетяжело побежал, прикрываясь от рябиновых и бузинных хлестких ветвей.
Крикнул на бегу:
- Рузя, что за имя? Польское что ли...
- Русское! - взахлеб смеясь, ответила Рузя в такт скачке, - Марией! Крестили... Ма-руськой! А. Рузей! Рузалией! Батя! Назвал. Для. Себя. Еще, Еще, беги!
Кавалер осекся нога за ногу, чуть лбом в перила не влетел. Остановился, задышал, как , встал, не дыша. Мягко снял девочку с плеча, подал корзинку. Сказал сухо, в глаза не глядя.
- Иди домой.
- Ты чего?...
- Я кому сказал. Мария.
Зажмурился, чтобы не слышать, как заколотили босые ножки по лестнице вверх. Только на нижней ступеньке остался привядший снопик нежгучей крапивы.
Кавалер кружными путями вышел к леваде на околице Навьей деревни У плетеной ограды подремывал андалуз-Первенец, поджав заднюю ногу, тонул по брюхо в туманном молоке.
Навалив локти на плетень, лениво болтали два больших, будто ватных мужика в коричневых послушнических полукафтаньях.
У одного поверх одежды, как заноза, некстати висел восьмиконечный медный крест старинного литья.
Кавалер так устал с бессонной ночи, что даже не насторожился - что это большие люди делают на задках Навьего села... А село просыпалось, лениво копались маленькие обыватели, потянулся печной дух. Молочник запрягал в телегу рогатого и злого спросонок ангорского козла. Распахивали по всей деревне с треском драночные ставни. Заспанные крошечные женщины раздували жаровни в шалашах летних кухонь.
Кавалер прошел мимо зевак, едва не задев самокрестного мужика плечом. Снял седло с вешальца, завозился с подпругами. Конь зафыркал, придавил хозяина теплым боком, Кавалер недовольно оттолкнул его:
- Прими... Ч-черт.
- Добрый жеребчик, щедрый жеребчик... - сказал на зевке один соглядатай, мелко перекрестил копилочный рот.
В ответ закивало безусое с отвислыми щеками личико товарища.
- Чистой крови, заметь, жеребчик. Жалко, нехолощенный. - откликнулся второй, таким голосом, будто щегол пискнул.
- Поберегись - остерег Кавалер, махнул на лету венгерской крученой нагайкой, андалуз махнул без разбега через плетень, пробарабанил по дороге и канул.
Мужики в тон ему, переглянулись, попятились.
Сгинули.
Только последний, без креста, замешкался, воровато оглянулся и поволок по мокрой траве кожаный мешок доверху полный змеями, гадюками, медяницами, полозами, которых собирали колдовские руки по волчьим балкам Царицына Села.
Глава 21 Бог.
А я нынче, братие, очень скорбен и болен,
Подходила, братие, под меня мутная вода
Подползала, братие, под меня лютая змея,
Уж не мог я, братие, от ней сторониться.
Закричал я, братие, самым громким голосом
Вы подайте, братие, мне стеклянный нож
Змее голову отсеку, Бога-Духа привлеку.
Убелю, убелю, тело с душкой разделю.
Слушай: вот что случится с тобой:
...Однажды ты поедешь верхом в лесной перелог. День выберешь для прогулки теплый, пасмурный. Заповедье. Небеса низкие. Облака перистые. На бересте чернеют письмена вогульские. Муравники насыпаны выше пояса. Кроны шелестят высоко-высоко. Белка по стволу - шорк!. Куница белку в шейный хрящ - кусь!. Ветка валежника - крак!. Камыши шевелятся - шуу-шуу!
Птицы онемели, как перед грозой. Всех птиц большой соломенный человек - Птичич, заманил в мешок, чтобы не мешали. Птичич лукавый, у него есть дудочка о семи дырочках.
Марит, пАрит, в дрёму тянет, ты уж не едешь, а плывешь, не дорогой, стороною.
Мёдом веки налились. Один шажок, другой, мимо бурелома, по елани, по гати, через болото бекасиное с дыхальцами-окнами. Мшшаники, лишайники, ольшаники...
Вдруг - удар в спину, будто камнем. И холод могильный под левой лопаткой. Глотай холод, не бойся. Вот так. Медленнее. Хорошо.
Началось.
Ты поднимешь голову и увидишь прямо над собой трех воронов.
Один ворон с белой головой, второй - пестрый, третий - чернец.
Они парят, кружатся, все ниже и ниже...
Ты заглядишься и упадешь из седла в параличе. Лошадь закличет по-человечьи и ускачет далече.
Первый ворон скажет:
- Мы его нашли.
Второй ворон скажет
- Мы его унесем на север.
Третий ворон промолчит.
Сядет тебе на грудь красными лапками и выклюет глаза двумя ударами клюва, как вареные бобы.
Оставит так. Раскинься. Без дыхания. Остынь. Закостеней.
В полночь придут ступнями назад голые псиглавцы кожа-да-кости, принесут доску, на которой рубят мясо, распорют на тебе одежду железными ногтями.
Возложат твое тело нагишом на доску для рубки мяса и взвалят на плечи. Понесут без дороги.
На север.
Слепой, ты все увидишь сквозь кровяную пелену.
В суставы вопьются ости ячменных усатых колосков. Во рту засолонеет от вороньей крови.
Весь ты наполнишься вороньей кровью, как киргизский бурдюк. Польется кровь воронья изо рта на горло, с горла на грудь.
Застынет сосулькой воронья кровь в паху и ослабнет.
Ты увидишь соленую Иргиз-реку с костяными мостами. Ты увидишь бурунами пьяное Окаян-море.
Ты увидишь морских змеев и белобрюхих китов, и черных касаток, и нерпичьи пятнистые лежбища и птичьи базары на голых клыкастых скалах.
Ты увидишь пловучие глыбы льда и круглые острова с яблонями.
Между стволами девки-яблонницы пляшут во сне с яблоками в ладонях, с яблоками на головах, с яблоками между ног.
С яблоневым цветом в глазницах.
А у тебя глаз нет.
Ты увидишь, как рассекает свирепое небо птица Гаганица, стеклянные ножки, снизу русская орлица-громница, сверху - верная жена в рысьей шапке с медными подвесками, а глаза у птицы раскосые, два глаза мужских, два женских.
А у тебя глаз нет.
Ты увидишь, как в таежных озерах щуки-людоеды ходят кругами, шире челнока, плещут выше озерных трав.
Глаза они не закрывают никогда, даже когда бьют их промышленники острогами.
А у тебя глаз нет.
Ты увидишь воду болезней, которая кипит ржавой рудой на болотах, а хляби топкие, пробежать по ним может только паук-волосяник.
Кровавая клюква рассыпана меж кочками. Кислая.
На мшаных плешках посреди топей поставлены дома кожаные, а в них живут мужчины, у них головы назад свернуты, тела хворостные, они любят плясать и петь, едят белый мох и кузнечиков, солнца не видят, в луну не верят. У них глаза на ладонях.
А у тебя глаз нет.
Женщины в тех краях были да вышли все, превратились в железные можжевельники и горное эхо меж кряжами.
Скачут по ущельям каменные бараны пятирогие, а рога внутри пустые, с отверстиями, чтобы ветер в них тоскливо выл, они вестники скорой смерти, берегись.
Зубы у баранов голодные, глаза - оба левые.
А у тебя глаз нет
Ты увидишь, как мастера натягивают на алтайские пяльцы кожу пегого бычка, на трех травах кормленного, в трех ключах вспоенного. Сохнет кожа, расправляется, звучит, как мычит. То не кожа звучит, то мотыльки духи-келеты, с мизинец ростом, лица - сырое мясо, пляшут на бычачине. А играют им музыку чернолицые сухотники в тряпье, собранном возле мертвых тел. Полны леса их топотом и лепетом. Ловят человеческие души в сети волосяные, катаются до рассвета на росомашьих и человечьих черепах.
Глаза плясунов бусинами в осоке заблудились, вызрели по пустошам желтой морошкой.
А у тебя глаз нет.
Ты увидишь, как на костяных санях-розвальнях Сам-Большой с амурских сопок нападает на стойбища. Полозья у саней медные, запряжены в сани лоси сохатые. За плечами у Сам-Большого железный сундук, швыряет Сам-Большой в дымовые отверстия дары - что ни дар, то чудо: проказа, скорбут, синие свищи, выкидыши, бешенство, богохульство, братоубийство, ложь, измена, раздор, кровосмешение, кликушество и юродство.
Визжа, бегут по склонам голые люди, разметались волосы горящие, трещит человечье сало, крошатся кости в живом мясе. Где упадут беглецы, там и врастут по грудь в мерзлоту. Лижут кровь изюбри и кабарги, вместо соли.
Сам-Большой в плаще из перьев филина, глаз у него один - на левом кулаке, как летняя лампа.
А у тебя глаз нет.
В самом сердце Сибиир-Земли ты увидишь древо Марину, ино говоря Черноклен.
Корни у него - там. А крона - вон где!
Колышутся в косматых ветвях полярные сполохи, иглистыми завесами сияют и рассеиваются.
Слева - солнцестояние, справа - полнолуние.
По всему стволу титьки женские, как грибы-чаги наросли, молоком полны.
На ветвях гнезда. В гнездах - души. Синички, кукушки, кулички, пуночки, снегири.
Туда смотри, замечай. На все четыре стороны.
В гнездах на полночь птицы-радужницы, пересмешницы, перевертни. Дует ветер сиверко.
В гнездах на полдень - птицы - юродицы, крестоносицы, злодеицы. Дует ветер обедник.
В гнездах на утро - птицы - ветреницы, полюбовницы, утешницы. Дует ветер утренник.
В гнездах на вечер - птицы-человечицы. Дует ветер - повечор.
Голосят птицы от голода, просят рыбной муки, кедровых орехов, оленьего молока, христорадости.
Две кобылицы - белая и саврасая, прилетают по небу, кормят птенцов - одна - кумысом на милость, вторая - кровью на беззаконие.
А под древом котел кипит в сугробе, не на огне, на стуже лунной. В котле бурлит вода талая, кора дубовая, собачья кровь, глина белая, смола каменная, У котла баба - сторожиха в бобровой шапке, в камышовой шубе до пят мешает варево сушеной медвежьей лапой. На груди - медное зеркало. Косы черные, якутские, моржовым жиром смазаны, до пизды висят. Вся одежа расшита колокольцами из надкрылков жука-хруща, бисерными увяслицами, собольими хвостиками, бусами баргузинскими, в ушных мочках болтаются серьги из костей журавля.
Положат тебя перед ней псиглавцы и во льды уйдут. Возьмет баба стеклянный нож с роговой ручкой, наклонится и рассечет твое тело на девяносто и девять кусков, разбросает по липовой доске мясо и кости, позовет со всего света погибельных зверей.
Идут погибельные звери по метелям, головы в облаках, крылья лебединые легки, ноги воловьи трудны.
Зверь Анфим. Зверь Асык. Зверь Безвер. Зверь Палеолог.
Идут издали. Несут огни во рту негасимые.
Лихим пламенем, огнями блудящими будут тебя палить три дня и три ночи. Выжгут все земное и некрепкое.
Разбросают куски по всему свету - голову в Кижи, голени в чащи Керженецкие, пясти на Колым-реку, локти в Колывань, тулово в Галицкое озеро, сердце и черную печень на Преснецкие горы, уд и ятра на плесы Астраханские, остальное Бог весть без креста, за Урал.
Звери лягут спать - головы на лапы.
Огни потухнут. Уляжется вьюга.
Зашипит в котле варево и прольется на весь свет.
Наступит весна.
Побредет баба-сторожиха по весям и градам, соберет тебя в подол, как был - от маковки до пят. Нарядит, как куклу поморскую во все новое, ненадеванное.
Выдолбит лодку-колыбель из цельного бревна, выстелит ее чернобурами с искрой, берестой свежей, чистым льном в головах. Уложит в лодку новую плоть, гладкую, как воск.
Помедлит и вложит плевком глаза твои во впадины.
Левый ночной, правый дневной.
Хорошие глаза. Заглядение. Похлопает баба по карманам на шубе, прищурится, что забыла?
А вот что.
Вынет мотки ниток на тресковой кости, возьмет цыганскую сапожную иглу, послюнив проденет крашеную ягодным соком суровую нить в иглу и прошьет насквозь щеки твои по живому, и так и сяк и узорами - а узоры - все солнышки, да елочки, да коники, вышьет твое лицо заново, так и будешь век вековать с шитой рожей. Выступит по стежкам брусничная кровь.
А баба наляжет грудями на корму, дыхнет, оттолкнет долбленку от подмытого берега
- Прощева-ай, дитятко.
Повлечет тебя ладно скроенного, крепко сшитого, великая попутная река с облаками и холмами и капищами, поплывут за осадчивыми бортами иконные доски новгородские, кверху ликами златыми, оливанными, муравленными...
Пущены на воду иконы позабытые, во снах являются, беспокоятся от старости.
Плывут иконы. Поют.
Сваи мостовые над головой смыкаются. Кличет в вышине ястреб-перепелятник. Возвращаются ласточки-береговушки. А ты плывешь в тишине и души не чаешь.
Зори теснят друг друга - вечерняя - утреннюю.
Югом пахнет.
Последний снег на лицо сыплется и не тает.
Первый снег всякий замечает, всякий ему радуется, а кто последний снегопад помнит?
Вот ты один и помни его.
Пасмурно в половине дня. Чисто и пусто.
Завертит лодку на порогах, разобьет о камни, выбросит тело на отмель, где волки лакают воду.
Понесет по весне заемной русской землей, прелью речной, низкими телесными облаками.
Вздохнет тело, воткнет нож в гнилой пень, снимет пояс и нательный крест и кувырком через нож перекинется, грянется оземь и встанет на четыре кости.
Зверьком, подлиском, соболем порскнет в лес.
Очнешься ты, вскрикнешь.
Лошадь переступит, отряхнет гриву от хвои, пожует удила.
Муторно тебе, зябко. Глаза болят. Сам не свой.
Часа не продлилось лесное гуляние.
Три ворона кружатся над твоей новой головой.
Молчат.
- Что ты делаешь?
- Вижу.
- Что ты делаешь?
- Слышу.
Так слушай: вот что случится с тобой...
+ + +
- А... Ты что шепчешь, сумасшедшая?... - спросил Кавалер, еще дремным растомленным голосом.
Спросонок отяжелела голова. За час садовая тень отошла, он так и спал на солнцепеке в саду. Сквозь веки солнце просачивалось алым течением, чудился жаркий вишневый Рузин шепот, навевающий кошмары и волшебства.
Пошевелил рукой по траве, поискал, чтобы поймать шептунью-негодницу... Пусто. Трава щекочется. Но ведь она рядом, шепчет, шепчет страшно и сердечно...
- "Ты слушай, слушай, вот что с тобой случится..."
- Рузя? Ну, хватит... Мало того, что разбудила....
- Всюду тебе Рузька мерещится... Клином свет сошелся. Хорош гусь. Разлегся, тоже, нашел место. Голову напечет - крапивной водой отливать не буду. Ну, вставай, вставай.
- услышав скрипучее ворчание Аксиньи Петровой, Кавалер очнулся окончательно - и вскочил, как ошпаренный. Сад купался в зрелом послеполуденном сиянии, истончились сквозные тени - не Рузин шепот гулял над взлохмаченной головой Кавалера, нет, то шумела рябиновая ветка, полная щебета и порха и перелетного шелеста молодой зелени.
Аксинья Петрова переваливалась на коротеньких ножках, подвернув подол, вынимала холстины и рубахи из корзины, развешивала сушить, упарилась вся со стиркой, назло затеяла труды в знойный день.
Кавалер еще утром по холодку приехал, но Царствия Небесного не застал дома, а Рузя еще спала.
Зато матушка Рузина тут же пристегнула Кавалера к домашней работе. И воды ей для стирки из бочки натаскай чертову прорву, и грядки прополи, и еще на крыше ветка сухостойная лежит, вчера ветрило, вот и обломилась, а убрать некому, вот ты слазай и убери.
Лестницу за сараем возьмешь.
Стоило одну службу исправить, так у карлицы находилось новых дел пяток, только поворачивайся. Ксения и не стеснялась:
- Раз уж такую орясину, как ты, наш большак пустил на двор- я ему слова поперек не скажу. Ему виднее. Я - баба, уж знаю свое кривое веретено и в мужчинские хитрости не лезу. Но коли тебе сегодня делать нечего, поработай, чай, не переломишься.
Кавалер не противился, исполнял бабину волю верно и почтительно, только про себя посмеивался: надо же, неугомонная, задает службу, будто младшему бесу у колдуна на побегушках. Изводит мелкими трудами, хорошо еще, что не заставляет вервие из песка плести, лунный свет решетом ловить, или четыре пуда ржи собрать по зернышку с каждого двора за одну ночь.
Разве что на прополке Кавалер не сдержался, выдернул из грядки за хвост редиску, обтряс землю, хрупнул.
Сочно, хоть и не завязался корень до конца, с одного боку красный, с другого бледный. Оглянулся по-быстрому и огрызок с ботвой в Рузино окошко метнул - звучно стукнуло о стеклянную четвертку. Может, выйдет.
Ксения тут же на огороде выросла, руки в боки. Застыдила:
- Ты что тут воду мутишь, знаки подаешь? Сказано тебе - спит она. Ишь ты, уже все окна выучил, кот казанский. Постыдился бы так-то к девушке...с редиской.
- Я просто... Я не так...
- Не так, да эдак. Не просто, а с вывертом. И не такие хлыщи нас улещивали, да пустых щей похлебали и вон пошли. - насупилась карлица, но сменила гнев на милость, сгребла выполотое сорье в передник.
Вздохнула.
- Девка в доме - хуже пожару. Ночей не сплю. Чуть шоркнет половица, вскидываюсь - ушла, пришла, не знаю... Отец ее по лесу одну пускает. Ночь-полночь, это все равно. А там и буреломье, и трясина ближе к Чудову селу, а за Преображенским скитом, говорят, медвежьи логова. И беглые люди шалят. Она ж дитя, пигалица... Была б моя воля, со двора бы шагу не ступила одна. Да с кем ей здесь водиться, одни старики, да уроды. Скучно ей. А теперь и вовсе сладу нет. Чуть поест, а больше раскрошит, и к вам на поляну бегом. Я ее в сенях бывало, поймаю за рукав "куда полетела?", а она так ручки к груди приложит, дикая вся, нечесаная, в волосья зверобой да тысячелист натискала, как блажная, бусы на шею навертела... И скороговоркой мне, матери - ты только подумай - ма-те-ри! так и выпаливает, так и частит: "Пусти, мама, пусти, надоба у меня...Не могу дома...Свят-крест не могу!". А какие у нее надобы, каких дома не бывает?
Кавалер отер потный лоб запястьем, присел на пустую гряду. Скорчил сострадательную мину - мать все-таки.
- Плохо дело... - вспомнил некстати прописную цитату - Непочтение дочернее печально.
А вы что же?
- А-ай - махнула рукой карлица - А что я? Пускаю... Раз не пустила, так она извелась вся... Все у нее из рук валится. Дала ей рогульку и пряжу - клубки мотать, все нити оборвала да перепутала. Заглядываю - плачет. Да не в голос, для себя. Отпустила. Куда деваться. Я ж не тигра лютая, не коршуница. И что она там, у вас нашла,за уши не оттащишь. Вот что, ты ее не береди своими редисками. Не мани на улицу. Оставь.
Кавалер снова смиренно взялся за тяпку, посмотрел на ботву, пытаясь отделить посадки от сорняков. Тюкнул пару раз по разморенной теплом плодородной земле. Сказал "так", между прочим.
- Я слыхал, что дневной сон вреден. Особенно барышням.
- Ой, да какая ж она барышня! - обиделась Аксинья Петрова. - Она же невинная у нас. Ты думай, что болтаешь, это у вас на Москве - барышни. А наши все девицы. А что днем она спит. - Аксинья подошла ближе, взглянула снизу вверх, красивая в уродстве своем: -
- так это ее дело. Ей на полное солнце выходить нельзя. Она от блеску слепнет, как сова. И личико краснеет, нельзя ей. Зато ночью - в любую тьму в бисерную иглу шелковинку вденет. Вот как. Да что ж ты делаешь, стоеросина! Ты куда моркву дерешь! В мае только садили!
- Да не написано же, что морква - испугался Кавалер... - Вы мне сами сказали, кудрявое драть...
- Грамотный... - прищурилась Аксинья. - Вот оно как. Да уж, кудрявое драть дело не лишнее. Мало, видать, драли. Ты ступай, молочка попей, вон я под лопухами кувшин поставила, остынь. Я сама дополю. А то ты мне все хозяйство потравишь.
- Не надо... Я справлюсь. Вы устали.
Но Аксинья так посмотрела, что Кавалер подчинился, отошел в тень, любовался исподтишка, как ладно и споро работает карлица.
Не оборачиваясь, Аксинья крикнула:
- Попил? И ладно. Дров наколи. Там на двор плахи привезли, колоть некому, а варить надо и баню топить. Да Господи, что ты стоишь, козлята в огород налезли! Гони их хворостью! - и закричала через плетень к соседу:
- Онисим! Не спи! Козленки лезут! Сколько я тебе говорила! Сейчас кобеля напущу!
Кавалер ретировался на сенной и дровяной дворик на задках дома Царствия Небесного, оставил хозяйку и соседа лаяться из-за козленков, и до обеденного времени махал колуном на солнцепеке, сухо и ясно трескались сухие дрова надвое, начетверо.
Далеко и монотонно бил колокол за рекой.
Ведь всего на минутку отошел Кавалер на траву, под деревья отдохнуть и надо же - уснул...
Теперь, наяву полоскались по саду белые простиранные холсты.
Рузины долгополые сарафаны белые с красной вышивкой наполнялись ветром, как полдневные призраки.
Кавалер, слушая вполуха Ксеньины жалобы, заломил руки над головой, потянулся в хруст и зевнул.
Ксения приговаривала под нос:
- Один вот тоже, спал до обеда... Тот самый, что козлят к нам пускает. Онисим. Ему в ухо чувырла возьми да и заползи из соломы. С тех пор так у него в голове и завелась пустяковина.
Чувырла-то в нем ворочается, точит мозги, вот он с ума рехнулся. Мало того, что горбат да крив на левый глаз, и на плеши полтора волоса, а туда же, как вечер, на нашем заборе виснет. Все Рузьку высматривает. Совсем сбесился, по ночам в ставке шапкой лягушек ловит. Как есть без порток. Тьфу. Все лягвы у него по плошкам сидят, мотылем кормит. Говорит, я их по науке выращу, заколю спицей, шкурки обдеру, отдам на тонкую выделку, сошью вашей Рузьке лягушиные чулочки с пятнышками, будет раскрасавица по моде. Тут-то я ее - хвать! и засватаю. На Кузнецком мосту, говорит и княгинюшки и графинюшки в лягушиных чулочках расхаживают - первейшее дело для красоты. А я уж и не знаю, верить, али нет... Он в хороших домах шутействовал, может и не врет... Вот ты, московский гость, может знаешь, как у вас там, красота делается?
- Я к женскому полу не пристрастен. Рано еще... Солнышко не взошло. Неневестный я- заскромничал Кавалер и помог Ксении поднять на высоту бельевую веревку на рогатке.
- Ах-ты, божечки, на - тебе овечка чистая... - всплеснула руками Аксинья, головой покачала, не веря ни на грош - Что ж тебя еще на небо не вознесли заживо, холостая душка?
- Грехи долу тянут, - отозвался Кавалер. - Работу дайте, хозяйка, руки горят.
- Воды принеси.
- Да все утро таскал, куда еще?
- А ты не перечь, мне для стирки нужно было, там любая поганая таль сгодится, а теперь для питья, да умывания... Наш дворовый колодец запакостился, ржавчиной отдает, надо бы к мастеру сходить, да все недосуг. Ты сходи на родники, знаешь куда?
- Знаю... Рузя показала. Это где часовня Параскевы?
- Точно. У Пятницы. Там вода сладкая Не пожалеешь. - Аксинья вынесла на крыльцо деревянные окованные ведра.
Кавалер оттолкнул коленом калитку, пошел по глинистому проселку, болтая ведрами в обеих руках.
Обступил его сильный лес, закарабкались по холмам сосны и осинники, пронизанные солнцем и винным гулевым ветром.
В лесную глушь вклинивались последние бедные дворы Навьей деревни, ставОк с мостками, застывали над прудовыми травами стрекозы, лень и золотая благость разлилась окрест. Переплелись с лозами вьюнка старые плетни крайних домов, накренились под тяжестью зарослей ограды. На кольях торчали пугала и сушились горшки.
В неприметной логовинке у подножия источенной древесным червем статуи Параскевы, Кавалер вдоволь напился ледянистой зуболомной воды, набрал полные ведра, не спеша поднялся к деревне, переплескивая воду на босые ноги.
И замер от истошного крика:
- Куда! Куда! Ирод! Завалишь! Господи!
Катила под гору по обрывистым колеям вихляя колесами, полубарская обшарпанная бричка, запряженная соловой парой.
Пассажир на скамье трясся, как квашня, хватался за борта, лошади ошалело закинули головы, скакали с засекой, дышло задралось, а возница кулем сидел на кОзлах, бросил вожжи и только гикал да махал рукавами.
Голову сломят, как пить дать.
Кавалер бросил ведра - одно так и покатилось с холма в заросли, бросился наперерез, захватил лошадь прямо под удила, повис, потащило его по глине, шваркнуло в крапиву, ожгло ладони...
Лошади круто повернули, правая захрипела, повалилась, ногами забила и вломилась вся повозка в плетень, только с квохтанием разлетелись из смородья сорные куры.
Помогло. Встали, слава Богу.
На излете крутилось вздетое над глинистой хлябью колесо.
Кавалер выдрался из колючего малинника, злой, как чертовин, встряхнул возницу за потный загривок:
- Ты что, одурел? Жить надоело?
- Бээээ... - подал мужик бараний голос и зенки вывернул бельмами, Кавалер заглянул ему в лицо и отшатнулся - так дыхнул балбес сивухой, что и не пивши - охмелеешь.
Чудной мужик, мяклый, как утопленник, а брови сросшиеся на переносье, жирные, как гусеницы или крыла ночной бабочки - мохначки. И косы - как у бабы - жирные, черные, в четыре пряди витые, на грудь свисали - но оттого женовидным его не делали, а страшным. Видно было что слиплись волосья в вечные колтуны, намазывал их пропойца то ли кислым молоком, то ли бычачьей кровью. Журкали вокруг толстых кос зеленоватые мухи-жигалки. Вот морок, где я такие косы видел... - подумал было Кавалер, а пьяница то ли целоваться полез, то ли драться, пришлось его поддых пинком угостить, скорчился.
Ну, с пьяного проку мало.
Кавалер обратился к перепуганному пассажиру:
- Да он же пьяней пива. Далеко с таким уедете? Я и верхами по этой круче шажком спускаюсь, а вы-то куда, на гужах, да груженый... Хорошо хоть никого не зашибли и сами шею не свернули.
Пассажир скособочился, дрожал крупно, с перепугу сонный и мокрый. Не поймешь по нему - какого чину - сюртук не по погоде теплый, серого диконького сукна, по вороту вышиты пчелки золотые, будто тонкое ожерелье, какое девочки пальчиками в монастырях вышивают, горькими слезами красят нитки.
На коленях у проезжего - скомканный белый платок, в лице ни кровинки, гладкие щеки висят, ворса не видно, а по летам - никак не меньше сорока. Разбежались "лапками" морщины вокруг глаз, по-бабьи прорезались впадины у носа и губ, налился желтым салом второй, будто подложный подбородок.
Стрижен по-мужицки, под горшок, но ни в волосах, ни в глазах блеску нет, все мертвенно, будто выцвел на солнце или прогорк, как масло в горшке. Глаза близорукие. Мигал часто.
Обомлел что ли от переполоха?
- Эй... дядя... - мягко окликнул его Кавалер.
- У тебя на руках кровь. - как через войлок, глухо и тонко отозвался сюртучник. От голоса его птичьего, чуть придушенного, мурашки по шее ползли. Был бы зверем лесным Кавалер, наставил бы черную шерсть по хребту, взрыкнул - беда идет, отворяй ворота.
- Нет! - крикнул Кавалер, кровь от лица отлила, побелел под загаром пятнами. Опомнился - взглянул на ладони. Не соврал пассажир - и вправду постромками кожу сорвало, да еще и колуном на Ксеньином дворе намозолил.
Ах, дрянное дело, испортил руки, ежели матери придет нужда в люди вывозить, то придется перед светом перчатки напялить и врать, что причуда от нежности. Разговоры пойдут.
Ну и пусть.
- Бог тебя послал. Кабы не ты, погибли бы или искалечились. - сюртучник неуклюже выволок тело из накренившегося возка, перебили копытами кони от облегчения.
- Ах, пьяница! Ай, паскуда! и наладился грузняк таскать возницу за косы.
Кавалер рассмеялся, глядя, как они месятся в расступице
Потрепал за храп усмиренную лошадь, взял под уздцы, прицокнул - налегла пара и выволокла бричку на сухое место вместе с грузом - под сидением много навалено было добра, зашитого в рогожи. Пьяница повалился в лужу, как мертвый.
- Вот и славно, езжайте с Богом... - пожелал Кавалер, но сюртучник поймал его за локоть, заговорил жалобно:
- Сынок... Не в службу, а в дружбу, сядь на козлы, довези до пасеки, тут близехонько, я дорогу покажу, я сам править не в силах, взгляни, что за руки у меня... взгляни...
Подсунул под нос правую и левую руку с короткими оплывшими пальцами - на безымянном и указательном одни фаланги растопырились, остальные, будто молотом расплющены, ногти слезли, заросли желтым морщистым мясом, как вареные курьи пупки.
Кавалер гадливо отмахнулся:
- Ладно... Верю. - вместе они втащили в бричку спящего возницу, покидали пустые ведра туда же.
Проезжий улыбнулся - растеклось лицо морщинами и жировиками, как гадальный воск в чашке.
Протянул безобразную руку для пожатия, да сначала ошибся - тылом подал, будто длань для поцелуя священнослужителю, но тут же опомнился, выворотил клешню, поскромничал и назвался:
- Кондратий. Бог.
- Кто?
- Бог.
Кавалер удивления не выказал, перебрал вожжи и тихонько тронул коней.
- И ты Бог. И я Бог. Всё- Бог. - продолжил Кондратий, все тем же, журчащим, тленным голосом, только теперь не страх навевали его слова, чудилась в ней сладкое желанное учительство. - А ты из каких будешь, чем промышляешь, как зовут?
Вот прилип.
Кавалер с виду спокоен был, а зароились сомнения, вспомнил, что Рузя говорила о пасеке, "нельзя, не ходи", так и разожгло азартом, сидел, как на иголках. И кто они такие, что так вольно разъезжают по навьей деревне. Отозвался не сразу, применил науку Царствия Небесного - вот и случай проверить оборотничество:
- Зовут зовуткой, величают уткой. А сам я из московских. Прасольский сын. - весело заврался Кавалер - Отец у меня по селам и поместьям скупает убоину, рыбу соленую на Волге, да и щетиной и пенькой не гнушается. Братьев у меня - трое - кто женился, кто в солдатах трубит. Батюшка человек статочный, дом у нас на Зацепе, каменный. А уж как в Тобольске основал батюшка артель пушную - так деньги текут, девать некуда, второй дом ставим, в Дорогомилове.
- Большие люди... Сыновей в шелка рядят. Прасолы русские - оценил Кондратий и вдруг быстро выпалил на кантюжном языке: Проначишь трафилку...?
- Проначишь и хруст! - не поперхнувшись, закончил Кавалер прасольскую поговорку, мол "копейку проиграешь, рубль упустишь" и лишний раз помянул во здравие Царствие Небесное - не зря гонял по говорам, теперь за своего сойду, пожалуй. А хитер Кондратий, на слове ловит.
- Утаил имя, ну что ж, дело привычное. На Москве прасолов не много, Обряндин Ефим не родня тебе?
- Дядька двоюродный. - нашелся Кавалер - всё купечество друг другу родня.
- А мне похвастаться нечем, - сокрушенно сказал Кондратий - Я всего-то пасечник. Пчелками кормлюсь. Вот ездили в город, иконы покупали и верхи для колод, у нас колоды не простые, сам увидишь. А этот, пёс, пока я торговался с резчиком и в иконной беседовал, налил глаза вином. У кресненького на именинах гулял.
- Какой же крёстный у него... Вон косы выпустил. Он что у вас, калмык? - спросил Кавалер.
- Зачем калмык. Славянин, только по-своему, - запутал беседу Кондратий, - вон у ольхи поваленной поворот, а там и прямая дорога.
Пнул товарища мягким сапожком под брюхо.
- Марко, не спи, баранья голова!
- Бээээ - блеял пьянь из-под скамьи.
- Проспится, змей, - в три шеи выгоню, - вздохнул пасечник. - Бог долго терпит, да бьет больно. Только я не так себе Бог, я Бог отходчивый... В ноги бросится - прощу.
Кавалер только фыркнул, вот чудит дядя, голову напекло. Кони от вольности и тепла заиграли, вошли в спорую рысь.
Птичьим гомоном полнилась лесная тесная дорога, низко и яростно опушились цветом орешники. Высоко краснели стволы корабельных сосен.
Просветом поманила просека, а за просекой - хутор не хутор, не поймешь, но крыши добрые, новокрытые. Петушиный крик, звон колодезной цепи, тесный бабий постук скалки по мучному столу - домашние богатые звуки.
Потянулся из новых слег вырубленный прочный частокол. Кони оскалились, захорькали, повеселели - почуяли родное жилье.
У высоких ворот с маковкой-венчиком Кондратий сказал остановиться.
Уже выбежали из ворот двое - вроде служки или дьячки по виду, щенки еще, патлы лохмы, веснушки по щекам, приняли коней, выпрягли. Утащили на тулупе пьяницу - отливать водой.
Кавалер помог Кондратию сойти наземь, принял так и не получившееся прежде рукопожатие. Бледные руки у Бога, но то была не бледность старика, больного или трупа - будто отсутствовало под кожей что-то важное. Да и сама кожа приставала к мускулам не столь прочно, гуляла складками, будто сама собой сползти хотела. Остался у Кавалера вялый холодок от его ладони, несмотря на ссадины, он быстро отер руку.
Не скрывая любопытства, взглянул в распахнутые ворота...
Сад за воротами. Раскидистый. Синеют за деревьями дали еловые - на вершине холма раскинулось хозяйство, весь свет обозреть можно. А в прогалах меж деревьями стояли таяли в яблонной лени церковки. Ростом по пояс. Все как положено - маковки, синие, со звездами золотыми, крылечки, оконницы. И сами церковки - будто домики на четырех ногах - свайках поднялись.
И крестики, крестики, крестики, куда глаза глядят. Почему-то страшно. Глухой гул окатил волной. Будто подземные монахи исподволь поют, не разжимая губ.
- Что это? Кладбище? - прошептал Кавалер и не отстранился, почуяв на плече мяклую руку Кондратия. Пасечник возразил с терпением:
- Нет, что ты... Это наша пасека. Помоги-ка распороть узлы. Натрудились они, бедные, без божьего света.
Кавалер, как заговоренный, достал нож из ножен, распорол поперек поданные холстяные скатки.
Глянули из-под грубого рядна новые лики. Кондратий, перекрестясь быстро и невнятно перечислял.
- Это Егорий на коне. Он Змия борет. Это Илия, его живым вознесли на колеснице. Это Зосима и Савватий, соловецкие Угодники. Наши первые заступники. Надо знать у кого брать. Я у Луки из Стрешнева беру, он по-старому пишет, даром, что полуслепой, а колера не путает. Иконы, сынок, не покупают, будь хоть князь, хоть пасечник, хоть прасол. Грех это, христопродавство. На пятьдесят хрустов поменял всю московскую красоту.
Так жарко и ясно сияли иконы на подмосковном солнце, что Кавалер от радости затаил дыхание, с места двинуться не мог.
Тем Кондратий и воспользовался, приблизился так, что жаром повеяло от ватной кулемы тела, обласкал быстро от пояса до горла, будто обыскал. Заговорил, будто реченька журчит, ласково, как со строптивой лошадью.
- Устал ты, прасольский сын. Умаялся, голубчик. Взойди на двор, водицы вынесем. Там - тенек, прохлада, разговоры долгие... Пойдешь по доброй воле?
- Пойду. Пить хочется, - хрипло сказал Кавалер.
- У нас всякая жажда утоляется. - обещал Кондратий, сгреб иконы под мышку - забренчали писанные доски, будто сухие плашки. - Ну, что встал...
- Вдруг пчелы закусают.
- Пчелы только сугубых грешников жалят, дорогой мой. Вот шершней, ос, да слепней дьявол на лик земной наплевал, а пчелка - божья труженица. Наши пчелы смирные им и подкура не надо - все даром отдают, не скупятся.
Кавалер шел за Кондратием шаг в шаг, только голову вело от этого мужеженского завлекательного и надежного голоса.
У воротного столба Кондратий вдруг сжался, как кот перед прыжком и придавил Кавалера за горло - юноша безвольно ткнулся затылком в теплое резное дерево.
Всплыло над ним, заслоняя солнце благостное лисье лицо пчелиного человека. Заплясали золотистые остроносые пчелки на вышивке вкруг ворота.
- А ведь ты - мой. Кем бы ты ни был - мой навеки. Мне тебя Бог отдал. Веришь?
- Не знаю...
- Молодец, ангельчик ты мой, дорогая душа... В незнании - сладость. Бог простоту без хитрости любит, - и отпустил гостя пасечник, не ударил, а поцеловал в лоб. И руки повел в заключенный забором пасечный сад, где уже застилали прислужники уличные столы белыми кружевными скатертями, тащили из пекарской пристройки теплые хлебы в рушниках и черные кувшины малоросского лощения, с молоком и сыром.
Всяк перед Кондратием поклоны бил молчаливые поклоны. На кружевную скатерть, прижатую ножевым оселком, чтобы не улетела, свалил пасечник иконы и усадил гостя напротив себя на только что струганную еловую скамью. Взял его руки в свои, подул на ссадины. Окунул глаза мертвые в глаза синие.
- Ну вот и свиделись, познакомились... Прасольский сын. Навсегда?
- Навсегда...
Глава 22. Крылья белые.
Навсегда, детушки, навсегда, милые.
Навсегда я к вам пришел тяп-тяпком под белым платком.
Голодали вы - напитал вас пшенной кашею, бедовали вы - одарил копеечкой, захворали вы - исцелил немочи, ослабели вы - укрепил я вас словом и делом Государевым.
Ради вас похождения и многие страды принял Бог Кондрат на российских перепутках, и в аду люди живут, не тужат, во щи свининку ложат с солью, с перцем, с собачьим сердцем, , а в раю жить-то весело, только некому.
Все сбылось, как писано, все исполнилось, как речено.
Ждали цветиков - нате вам виноградие, ждали чуда - нате вам в решете перья,
ждали гибели - нате вам воскресение, ждали грошика - вот алтын - деньга, неразменная.
Навсегда мое скоро кончится, столбы красные подломятся, колесо во пламени по холмам покатится, станут бабы выть, станут ноздри рвать, реки вспять пойдут, соль утратит вкус, мощи вынесут на попрание, ничего в чести не останется.
Русь обносится, забеснуется, не опомнится, не оглянется на дитя свое, на подкидыша, он в меже лежит, его псы лижут.
Попадья с поповной младенца ест, кости мечут в рожь, хвалят кушанье.
Поп поповича заманил в овин, заблудил содом и по-псиному и по-рачьему и по бычьему, и по Ветхому, по Новому.
Государя холопы предали. Холопье голодомором вымерло. Мир на клир пошел, клир на мир восстал. Хорошо земле, сгибли грешники, города во прах, торжища на кладбище, мир земле легко носить, ей легко цвести, ей легко рожать, не распаханной, не гороженной, не размеченной, не калеченной.
Черный петел топчет курку, курка петухом поет.
Ку-ка-ре-ку! Истину реку!
Единожды пришел, нищим был - распяли жиды и римляне.
Дважды пришел, государем был - удавили меня в Ораниенбауме блудной женки кобели, картежники вельможные.
Трижды пришел, разбойником был - на Москве казнили Пугача лютой казнью, разъяли крючьями начетверо.
Четырежды пришел и живу средь вас вечно.
Я - то Бог Кондрат, мне сам черт не брат.
А вы против меня кто?
Вы - мои труды, кто из вас Иуда?
Дураку Завет не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Плачьте, детушки, в голос, милые. О грехах сугубых, о мерзостях. О прелестях и о дерзостях. О скоморошестве, о деторожестве. Мать Обида - плачея, живя на кладбище всех оплачет. Всем обиды хватит.
Вот мои Страды-Похождения братьям радостным в утешение.
Родился я под городком Орлом, где что ни двор, то мурло, где чуть что - за горло.
В те годы еще царь Петр последние годы царствовал, уже не лютовал, успокоился.
Приписан я был к крестьянскому сословию. Сызмлада пристану к мамке: что, да как да зачем, да почему, а она меня ухватом в лоб. "Поди вон, тля".
Сама зобата, что ни год брюхата, она родит, плоды мрут, мы их носим в отхожее место, а ночью ей батька вдует нового, она утром плачет, ничего не хочет. Пол из земли убитой, а мы по земле ползаем в дерьме, орем. Много нас, все село - Селивановка, ну и мы таковы отродясь, Селивановы жители.
Вырос я, не смог, поехал батька на базар торговать пенькой, я на сани приладился, а как глаза отвели от меня, так ушел от жилья.
Никто и не заметил утраты - братья вечером лишнюю плошку толокна съели и спать повалились.
Стал я путешествовать по Орловщине и во Мценске и в Знаменске, и в Корсакове отличился любопытством и трудолюбием.
В церквах ночевал. Дьячку луковицу поднесу или цыпленка краденого, он меня в книжку тычет носом, учи, коль хочешь "Аз... Буки... Веди...".
Я за науку на дьячка дрова колол, сено ворошил и за женкой его окоренок ночной выносил, а грамоте обучился. За два года все Писание Святое от доски до доски наизусть выучил.
И вошло мне в голову мечтание, будто заноза под душу, окаянен стал, ни пить ни есть, ни спать не мог, все по улицам слонялся без дела, ворон считал, зачем они такие, вороны, глазок черный, перо серое, смысла нету, а летают. Стал водочку попивать, добрых людей побивать - зачем летать не хотят, от лени вся тяжесть, от бессмыслия. Ушел я в город Ливны, стал плотничать помаленьку, научился избы рубить, амбары, сараи.
Скамьи да столы на заказ делал, и лари и поставцы. В воскресение грешил работой - резал игрушки детские, раздавал сиротам, иной раз возьму кряж, вырублю человека - а потом одним топором придам ему черты кого ни есть из горожан, поставлю при воротах - все смеются. Раз пришел вздор - самого себя вырезал, как есть, выставил к остальным, так проезжий полячок купил у меня за большие деньги того болвана и в Краков увез.
А деньги мы с артелью пропили.
Лучше всех удавались мне птицы - не простые птицы, заговорные на великое счастие, есть хитрость одна, тельце той птицы из липовой чурки нужно уметь за семь ударов высечь, иначе не будет счастья, а просто деревяшка. А потом уж баловался, мастерил крылья сквозные узорчатые и хвост веерком.
День за днем, работа ладилась, но вот ставим дом, а я думаю: взойдут молодые на новоселье, станут детей рожать, заскотинятся, освинеют, мужу на зиму тулуп, женке бусы да белочку на воротник подавай, а там внуки, а там оброки, и лодку конопатить надо, и куму долг вернуть, и коптильню подновить, и на торг свезти а там скука смертная... Никто лететь не хотел со мной. На смех поднимали. Ослепли что ли - вы рыла-то от земли поднимите, гляньте, вон - колокольня на площади верхушкой облака ловит, птицы носятся, пух тополиный, дожди косые...
Разве не для высокого лёта человека из утробы на муку мамка родит, первого, пятого, сотого?
Свел я знакомство с Ливенским попом Андроном, крепкий человек, всем хорош, только водочку любил. Так под водочку и побратались с ним. И поведал я ему о летании.
Поп Андрон по сторонам оглянулся, чтоб доносчики не подслушали, опрокинул полштофа за раз и по плечу меня хлопнул:
- Лети, чертов сын. А я тебе тайно помогу.
Поселил меня в подклети. Попадье сказал, что дальний родственник приехал гостевать, пусть не лезет. Вместе со мной доски на колокольню по ночам таскал, разрешил поставить там настил для летания, и мастерскую обставил, кожи мы с ним сами в рядах покупали и потребные для каркаса рейки. И огарки свечные из церкви все мои были, хоть всю ночь напролет работай, никто на высоте не заметит. Приносил мне поп Андрон книги печатные, из церковной вивлиофики, а там все сказано про разное, как звезды ходят и как бабы родят, и как солнце светит, и как львы деревянные на цареградском престоле лапы поднимали и чревно рыкали.
Очень я таких львов хотел для архиерейского кресла в церкви сделать, уж и трубы нашел и позолоту, но поп Андрон сказал, что жирно будет архиерею львов мастерить.
Зато сделал я безногому барину самобеглую коляску с прикрасами, тот купил за большие деньги, нахвалиться не мог, всюду, где хотел, разъезжал правил рычагами, женился, говорят, на молоденькой барышне.
За те деньги и справили мы с попом Андроном крылья мои. Я не глуп был, хоть и молод, шею ломать не хотел, водочку бросил почти, бродил окрест по Кальмиусскому и Муравскому шляху, готовил полет. Отмечал места, где коршуны парят, искал по высотам воздушные течения, подбрасывал семена одуванчика и перышки, пусть летят, а я в тетратку зарисую, по каким дугам они летят. И так весело мне становилось от их легкости, что походил я на безумца, аж приплясывал. За стрекозами следил - как они зависают над водами и уносятся.
Легче всего пушинки мои взлетали там, где река Сосна в реку Ливенку впадала - а мне то и радость - ведь именно туда моя колокольня глядела.
Раз после дождя подошла ко мне девка - гусепаска, Алёнка, сказала:
- Блажной, а блажной, погадай мне на перышках.
А я ей отвечаю:
- Я не гадаю, я летаю.
А она мне целое решето перышков назавтра принесла и отдала запросто. Стала со мной перышки пускать. От гусака подохлого, она мне крыло подарила. Я крыло это сгибал-разгибал, и решил, что нельзя его как у птицы делать, нужно чтобы прочно были скрепы запаяны и ремни затянуты, чтобы ловили крылья ветер, как в орлином парении.
Я рассказал Аленке про летание.
Она про летание, не хуже попа Андрона поняла, зарозовела вся, подолом прикрылась:
- А склепай, Кондрат, железного орла, улети со мной в тридевятое государство, там мы детей родим, а наши дети летать будут, и мы с ними полетим до старости.
Вышел грех. Спал я с ней ясным днем. Катались в обнимку на рассыпанных перышках, убежало под гору решето. Обещала ждать. Встала, одевалась, плыли у нее над головою тополиные пушки - горели на солнце. А я в тетратку записывал, как они летят.
А на Первый Спас, на бабьи Прощевины, все грехи бабьи отпускаются, какие ни есть, я решил лететь.
Поп Андрон мне на посошок налил красного, повесил на шею на цепке наперсный крест самоцветный, поцеловал в обе брыли и сказал:
- Лети, Кондрат.
Как крестный ход пройдет, колокола грянут, так ты - давай.... Или если хочешь, я за тебя полечу, я поп такой, мне терять нечего.
Отказался я, решил, сам полечу.
Пошел крестный ход, закачались хоругви, сверху все видно, ничего не страшно. Пристегнул я на плечи лямки, крылья по доскам проволок, жилы и упружины проверил - хорошо. Перекрестился. Прыгнул.
Никого не слышал, слышал только, как завизжала Аленка в толпе и упала на руки чужие.
Никого не видел, видел только, как поп Андрон сел и лицо пятернями закрыл, а потом рясу подобрал, и побежал, как мальчик по площади, в небо перстом тыча, заревел
- Глядиии! Мой плотник летит!
Подняли меня ветры и повлекли.... С волны на волну, с глотка на глоток.
Кровли, древеса, сады, кресты, заборы, луга, озера, реки - все закувыркалось. И вдруг - ничего не стало, одно небо глотком ледяным. Стаю голубиную мальчик гонял шестом с крыши - так я сквозь них летел и различал каждое перышко - они серебром отливают, вы такого не видели, как клинки татарские блещут, так становится стая по ветру. И лечу я и кричу и слезы по щекам хлещут, крылья мои - вольные, вот оно летание великое. Вот она молитва полетная. И крылья мои гудели, и ветры ловили в ладони голые, и от солнца заболела голова, потому что солнце вровень со мной летело, хотело проглотить, но помиловало меня светило, обласкало. Земля приблизилась во стремлении, река сабельным лезвием полоснула. Ай, как близко.
И упал я на овечьи холмы... Не больно упал. Даже ногами по траве пробежал, и крылья в камыши свалил. Только рейки хрупнули, да перепонки кожаные треснули, и покатился я в овсы кубарем, во рту соль и песок захрустели.
Лежал навзничь. Смотрел, как скачет на лошадях солдатская команда, уже успели. Очень били меня. Крестом по губам. Говорили - украл крест.
И по дороге били. И в городе били. И в темнице били шибко.
Попа Андрона, как подельника, привели, таскали за бороду. Мастерскую мою на колокольне разорили и пожгли.
Долго мы с Андроном ждали суда, расстригли Андрона, отправили на каторгу, а меня по городу водили на показ, с барабаном. Вывели на рынок, спросили у жителей:
- Скажите, видел ли кто его летание?
Все божатся
- Нет, барин, видеть не видели, слыхом не слыхивали, человеку на крыльях летать никак невозможно.
И только Аленка вышла вперед, подбоченилась и говорит:
- Я видала. Летал.
Ее было в кнуты, а палач плюнул, говорит, не стану сечь - брюхатая она.
Отпустили Аленку, а она пошла по городу, животом вперед и всем кричала:
- Летал он! Я видела!
Меня заковали, обрили полголовы и увели из Ливен ночью, вышло мне общее хождение на пруте с сорока грешниками, убийцами и мошенниками, кто без ноги, кто без руки, кто с волчьей глоткой, прозвали меня "лётчиком", поили на стоянках запаренным смородиновым листом. А кандалы лязгали, с ума сводили.
Теребили меня каторжане:
- Расскажи, как летал!
А я молчу, помню...
Как в последнюю ночь увязалась за нашей партией Аленка, подбежала, сунула мне узел с пирогами.
Плакала.
Гладила лицо, приговаривала,
- Буду ждать. Сына рожу. Будет летать. Далеко. А дочка будет, с мужем улетит отсюда, никому их не догнать.
Так и осталась в Ливнах, голодать. Никогда более не видел ее.
А случай представился, ушел я в бега. По борам сырым, по скитам глухим, по углам медвежьим, можжевеловым западенкам, божьим именем пробирался.
И понял я в бегах, бедуя да голодуя, что летание истинное не на крыльях самодельных, а внутри.
Внутри лететь нужно, так чтобы ничего не жалеть, как мореход земли оставленной не жалеет. Как охотник-промысловик белку в глаз бьет на лету, и не жалеет. Как татарин-коновал, мясную кобылу на глазах у сосунка режет. Как мать рожает и в муке ни себя ни дитя не жалеет.
Так летать надо.
Бывал я в Туле.
Есть в Туле монастырь Воздвиженья. Заплатил я служке, взошел на колокольню, одной рукой во все колокола позвонил - а другой рукой приманил к себе моих детушек.
Вы пойдите, мои детушки, ко мне на корабль, выходите из темного леса, от лютых змей, бегите вы, мои детушки, от своих отцов и матерей от жен и детей, а возьмите себе только одни души, плачущие в теле вашем. Там где ликованием наслаждаются верные праведные и преподобные и богоносные и мученики и мученицы и пророки и пророчицы и учителя и апостолы.
Так на мой жалостный призыв и тульский благовест некоторые из моих детушек стали от вечного сна пробуждаться, и головы из гробов поднимать. Со дна речного выплыли, из чащобы вышли зверьми обглоданные, с кладбищ потащились, друг за друга держась, как слепцы.
Да тут солдаты и сторожа подоспели, личико мне раскровенили и секли на рынке за дебош... так и помешали всеобщему воскресению из мертвых.
Покойнички мне потом часто являлись, плевали, бранились, почто зря разбередил, как теперь до конца времени шляться бездомными.
Один только человек меня благодарил. Поздний сын, у него от моего колоколия мать с погоста вернулась, четвертый год пошел, как зарыли ее, а она взяла и притащилась домой, слепая, за стены мертвой рукой хватаясь, зеленый подол глиной вымаран, тленом тронуто лицо, платок белый в кулаке, такая голодная.
Сын ее в доме поселил, кормил с ложки, на руках носил, а когда мир справедливый ему в окошко кричал "опомнись, похорони ее!", он из окна нож метал, огрызался:
- Не подходи, она за хлебом пришла. Она моя мама".
Так и сожгли их обоих без суда - мертвую мать и живого сына, чтобы не мутили обчество, не мозолили глаза любовью взаимной, что крепче лютой смерти.
Еле ушел я в нищенском образе, и часто переменял на себе платье, чтобы и покойничков блудячих и сыщиков хитроумных накрепко запутать.
Однажды, не пивши, не евши, сидел в падежной яме, да тогда же принесли к яме не совсем убитую собаку, бросили прямо на меня, и сверху кидали в нее камнями, а я там в яме прикинулся рогожкой, собаку отпихивал, и говорил:
- Вот как ты не умела хозяину служить, так и я терплю побои с тобой на пару.
Выбили собаке глаз, кричала собака. А я с ней затаился, спиной прикрыл - в меня все камни летели. Ночью вышел из ямы, собаку вытащил, назвал Марфой, в память сестры Евангельской, так и таскалась за мной всюду Марфа одноглазая, очень меня любила, побирались мы. В деревне Лягушкино мальчики на нас напали, меня избили, а Марфу в пруду утопили. Я мальчиков толкал, когда топили, кричал: Что же вы, что же вы..." А они меня в грязь мордой. Так и остался я один. Марфу мертвую выловил и зарыл и пошел дальше.
Знал на свете три неволи, каторгу, голод и любовь, одна мне воля в памяти была - крылья мои белые, лебединые.
Говорил я слова по селам. Сам из себя говорил, о летании, о том, что не распяли меня, а вот он я, здесь, рядом и люблю всякого и любого милую, и мне верили, и давали где хлебушка, где какой блинок, говорили: ешь, потом не будет. Я молча ел хлеб. А в селе Тихване пел я нищенские стихи на ярманке, поймали меня служилые люди, потащили на расправу, а я вырвался в рожь. Сзади кричат "Бежал! Бежал!" а уж негде взять, видно, где я бежал, там рожь шаталась а меня совсем с головою видно не было, так высоки колосы встали. Солдаты говорили меж собою : Как быть? Пешком не угонишься, а верхом - рожь помнем, барин заругает. Ну, Бог с ним, авось нас командир бить за него не станет.
Сидел я во ржи восемь суток, Богу молился, от труда сего утомился, прилег и уснул, когда же проснулся - глядь - в головах волк лежит и на меня глядит глазами. А я ему говорю - пошел ты, волк, на свое место. Или смотри, или сожри.
Волк кашлянул и пошел от меня.
А в другой раз я нанялся овец пасти, а мой волк прямо на стадо вышел - я его запомнил - белолобый и хвоста до половины нет.
Я влез на дерево и кричу,
-Стой, волк, стереги овец!
- и на древе сидел, крестом благословлял на четыре стороны, а волк за меня весь день овец пас - ни одну не тронул, со мной ел горький хлебушек, как я осмелел и слез, лизаться сунулся. Так мы и пасли все лето скот - он волк, я человек.
Раз пришел я на двор к богатому человеку Василию, прозванному Пшеничным, хотел на малое время себя успокоить, а у него имение большое, тридцать душ семья, ну я у него скот лечил успешно, спал, где положат, детей грамоте учил. Был там на дворе пьянюшка, приживал, очень меня полюбил, ходил за мной, трогал за полы, говорил:
- Ты, Кондрат, Бог.
А я ему:
- Да что ты. Что ты. Отстань.
Пьянюшка сядет в уголок и скулит:
- Нет, ты Бог. Ты и меня простишь и его простишь, -
и высоко так пальчиком кажет, и дрогну я, хоть и зной летний на дворе, дрогну, оттого, что знаю, он про царя говорит. А наутро прискакал глашатай из большого города, крикнул, что помер государь Петр Алексеевич и всем велено плакать.
Все плакали. А я в слове ходил. Громко говорил, что плакать не о ком не надобно, а надо бы свои дома строить, детей растить, женок целовать, жаворонков печь, а потом - летать. Потому что если Бог с вами, кто против вас выступит, кто летать помешает. Мало ли что кот в Питере помер, скоро вся Россия полетит с севера на юг, с запада на восток, все летать будем, без страха и корысти.
И так многие дни я ходил по дворам и все в слове был и многие уверовали и захотели летать. Раз собрал я верных на дворе Пшеничного, стал им говорить.
А Василько Пшеничный за спиной у меня возьми да крикни "Слово и дело!". Зря я его свиней лечил от копытницы.
Поскакали по улицам всаднички, стали зычно кричать, по дворам шуровать, меня искать.
Один пьянюшка нашелся, закатал меня в пеньковый сноп, и сам на огороде след протоптал. Пришли к хозяину с обыском, искали везде, напали на сноп, а пьянюшка руками машет, кричит:
- Господа, пойдите-ка сюда, вот и след виден, где он бежал!"
И на огород кажет. Ему было поверили, да один солдатик-пруссак, умен был, взял да проткнул сноп шпажонкой - из снопа то моя кровь и выхлесталась. Тут и разметали пеньку и взяли меня в оковы видимые. И погнали на правежь в который раз.
Великий допрос чинили, и рот мне драли и в ушах моих смотрели и под носом глядели и говорили:
"Глядите везде, у него наверняка есть какая-нибудь отрава".
Отдан был особый приказ, чтобы жалобные бабы и монахи, что в съезжую избу арештантам милостыньку носят, не смели ко мне близко подходить и в глаза смотреть, чтобы я на кого не дунул и не прельстил словами.
Говорили:
- Он всякого может прельстить, вон по всем дворам заразу разнес, холопья летанием бредят, закон не понимают.
И тюремщики кормили меня с опаской, отворачиваясь и подавали мне хлеб на шестике, а хлебово в длинной на полтора аршина ложке.
В городе Торопце меня на воротах распинали, да начальник приказал зря не куражиться, гвозди отодрать и квасом отлить от беспамятства, в Галиче на темечко горячий сургуч лили, а в селище Сосновке под Моршанском на меня багряную рубашку дегтем пропитанную напялили и в подземелье посадили, давали на неделю кувшин воды и чашку крупы. Так я ту воду по горсти в день пил и крупу сухую жевал.
Говорили мне:
- Сказывай добром, что ты не Бог никакой, а так.
А я в ответ молчу.
Сыро было под сводами, водица из стен сочилась, то не водица текла, то слезы моих детушек ко мне в узилище проникали и обжигали мне ноги, а я спрашивал: Слезы, чьи вы? И мне сказывали слезы - чьи они. Когда кувшин опустел, я слезы с камней слизывал и тем выжил.
И многие годы томился я в заключении там и сям, не знал уже день или десять лет, иной раз выведут на прогулку, ведут по каменному мешку, а вижу, как за углом волочатся по полу белые крылья - невесть за чьими плечами, уже не мои, чужие крылья, обшарпанные.... Плохие крылья.
Годы дознания вышли, погнали меня в Иркутск за суесловие. Везли со строгим конвоем: наголо шпаги, у мужиков у деревенских было в руках дреколие, одни бабы встречали и провожали меня от деревни к деревне, парного молока давали.
Ноги мои сковали, руками прикован я был по обеим сторонам телеги и за шею меня к колоде придавили. Злой нечистому наказывал:
- Смотрите, не упустите его, такого как он уж давно не было и долго не будет, он самого царя обманет своим летанием..."
В ту пору Пугачева везли, и его конвой на дороге с нашим конвоем встретился. Его провожали на смерть с целым полком, везли в железной клети. И случилось так, что и у его и у моей телеги ободья хрустнули, надолго встали мы, засуетились конвойные, приказы закричали, поскакали в деревню за мастерами, а мы смотрели друг на друга неотрывно - я из ошейника, Пугач из-за решети.
Он на красных крыльях полететь хотел. Лихие крылья за ним как заплещут багряницей, как засвищут - выше леса, выше колоколенок. Пожары занялись, вихри завились.
Я на белых крыльях полететь хотел. Сложились белые крылья покровом и стала тихость по всей земле, улеглись пожары, устали вихри, развиднелись небеса.
Тут починили телеги, развезли нас по сторонам.
Так и свиделись мы.
В Иркутске я бил на щебень каменья, на солеварне руки изгубил, пальцы выгнили и отпали. И лес валил и дорогу скрозь болото строил со всеми по бедра в воде сутками.
Чем только не промышлял, какие только боли не отведал. Только одно дело закончим, а уж опять гонят по пеньям-кореньям во чужую сторону.
Намыкался, намаялся. Наелся полбы казенной, напился воды протухлой, трижды с голоду опухал, трижды исходил кровяной водой.
Отвели меня спустя годы на поселение, за послушание. Стал жить. Избенка у меня на сваях была поставлена посередь озера. До берега тянулись мостки длинные, по утрам туман. Лодку построил. Сети сплел.
Рыбку ловил, вялил и ел.
С другими поселянами не знался, много они водочки пили и блядословили, и табаки курили и девок позорили.
Стала ко мне девка захаживать, бедовая, все с солдатами по шалашам валялась, блудом промышляла. Я ей хлебца давал, от пьяных прятал, если ломились, я ее под лавку затолкаю, тряпьем завалю и говорю: Идите с Богом, не бывала здесь Акулька, у лодочников ищите".
Акулина меня за то благодарила, брала рубахи мои стирать. Подметала. Рыбку со мной ела. Раз как то приволокнулась ко мне, села к очагу, и говорит:
- А, Кондрат.... Тяжела я. Думаю к бабе надобной пойти. Дай мне рыбки кукан, мне заплатить нечем, а у тебя уж больно засол хорош и червей не бывает. Все хвалят. Дай рыбки. Надо мне младенца стравить.
Я пошел в сушильню, снял ей рыбки, принес, а она косы рвет и кричать не кричит, только губы корчит.
- От кого тяжела? - спрашиваю.
- От мужика, знамо дело - отвечает.
Ну я ее по голове погладил, говорю:
- Значит и от меня. Живи тут. Рожай.
- Врешь!
А я божусь - мол не вру. А баба то осатанилась, встала в рост и орет:
- Делом докажи, что не врешь или глаза вырву!
Взял я рыбок воблых кукан, размахнулся в сердцах да в озеро и бросил
- На, тебе!
И плесь-плесь - ожили мои рыбки, хвостами заиграли - по воде раз-раз-раз заметались и в глубину - нырь. Только круги по воде разошлись и утишились.
Девка так на мостки и обрушилась, платок с волос сволокла и заплакала. Поверила.
Постелил ей в сенях, мошку выкурил можжевеловым дымом, и сам лег на пороге.
Так и не пошла Акулина к бабке, осталась у меня, бремя терпеть.
Месяц прожили. Она с утра тошнилась, просила кислой капусты. Носил ей из поселка.
Осень настала. На рассвете гуси дикие в синеве клином тянулись вдаль. Кликали голосами. Тесно мне становилось. Гусей не видать самих - только крылья белые в небесах.
Акулина утром выйдет, понесет ведро выплескивать, а живот большой, я у ней ведро заберу, сам несу. Листья в черные воды осыпаются. Из поселка дымы синие поднимаются.
Псы брешут. Паутина на окошке блестит - за одну ночь выплел мизгирь узоры.
Рожала Акулина с трудностью. Народила мертвого мальчика. В чистое полотенце его завернула, бусами опутала, положила в корзинку ягодную, сама ногтями нору вырыла на берегу и схоронила. Тем же вечером взяла у меня рыбки и сухарей, овчину, платок пуховый и валенки. Ушла.
- Ежели ты Бог, рыбицу сушеную оживляешь, зачем к сыну моему смерть допустил?
Ходил я на бережок, там лес ивовый, бугорок еле виден, поставил в ногах крест с покрышкой, как полагается. Ложился, дырочку в земле проковыряю - слушаю, как смеется дитя под толщей, забавляется, прохлаждается. Хотел его оживить, белые крылья за спиной чуял - и мог бы... Да только спрашиваю в дырочку земляную:
- Ты жить хочешь?
А дитятко мертвое хохочет, кричит в ответ из под земли:
- Не хочу, батюшка! Жить-то ску-шно!
Остался я один зимовать. Озеро ледком затянулось, рыба под лед в продушья легла, дремать.
В ноябре снега припустили - заволокло все поселение. Время глухое - до весны от начальства вестовые не прискачут, каторжан в цепях не пригонят.
Раз сидел я у костровины, грел руки.
И подумал.
- А если я Бог, почто тут сижу?
И недели не прошло, как утек я с поселения. На верную смерть.
Глава 23 Крылья алые
Плутал по рекам. Шел по реке Черный Иркут. Шел по Ангаре. Шел по Тунгуске.
А льды черные, а звезды висят близко. Сполохи над лесами. Каменистые осыпи.
Лягу ничком на лед.
А поземку ветром низовым сдуло - черно подо мной и глубоко... Течение под ледяной крышкой скорое... Чарования мне чудились.
Вижу - лица всплывают, разные и пятернями с той стороны льда скользят, так и мелькают в бурунах подледных клобуки иноческие, бабьи повойники, треухи солдатские, шапки мужицкие, крутятся в ледяном вареве перья белые, власы всклокоченные, рты распяленные и очи горючие. Вся Россия подо льдом пропадает в быстрине. И все кричат в немоте своей
- Бог! Бог! Помоги, тонем!
А что я поделать могу - лежу на льду врастяг, мои пятерни беспалые ко льду примерзают.
Утром слышу синицы тенькают. Еле встаю - отдираю живую кожу примерзшую с кровью, тулуп залубенел совсем, дальше тащусь по лисьим следочкам, снег жру горстями. А под ногами хрустит - думал наст - а присмотрелся - это человеческие кости вмерзли. И кресты медные с цепочками. Видимо невидимо. Все наши кресты, саморусские, выбирай, какой твой.
Я один подобрал, осьмиконечный, древнего литья, повесил на шею и пошел.
Увидел остров, а на острове липа - вся обмерзла - я наклонял малые веточки и жевал морожены почки, сладко, клейко. Липа голая, птицы на развилках белые, гнезда черные. Счастлив я был.
Вдруг - громы ломят... Ледоход. Потрескалось поле ледяное, глыба на глыбу налегла, полилась силища великая.
А я с глыбы на глыбу скачу и молюсь в голос. У самого берега только провалился, выкарабкался. И к людям выбрел.
С рыбными обозами добрался до Вологды. Осел за городом, в землянке. Очень людей видеть не мог. Лыко драл, плел корзины и лапти. Носил по дворам продавать. В слове не ходил, считали меня немым.
Раз притащил я свой товар на двор купца Амосова, он яйцами торговал, много корзин и соломы для хрупкого товара надобно, пустили меня в ворота, и уж отдал я плетенье свое, получил плату, вдруг окликнула меня баба из оконца:
- Кондрат!
Смотрю - мать честная- а это Акулина моя, иркутская. Не узнать ее, статна, дородна, брови соболем, щеки алые, в рубашке шелковой, на плечах - платок пестрядинный с золотой нитью, а на подоконничке перед ней - миса, а в мисе - пастила да райские яблоки, да орешки каленые.
Так в рубахе белой и выбежала, так и припала ко мне, а от меня песий дух идет, сам я грязен, в колтунах, ноги в язвах. Не побрезговала. Повела под руки в дом, приказала баньку истопить, выпарили меня в семи водах, в белое облекли, усадили на лавку, накормили, как паныча. Акулина щеку подперла, села супротив, улыбалась, обо всем расспрашивала.
Купец Амосов вечером пришел, меня увидал, бровью повел, весь налился краснотой, ну, думаю, давай Бог ноги... Но Акулина посреди горницы встала, руки на грудях скрестила и говорит:
- Ну, Иван Лукич, кланяйся в ноги. Бог Кондрат к нам пожаловал. Будет нас любить и жаловать, даром я что ли, с тобой, с боровом, девичью душу гублю.
Снял шапку купец, поклонился и буркнул.
- Хлеб- соль, Бог Кондратий. Живи в моем дому, не побрезгуй кромом и кровом.
За то его Акулина в бороду целовала и все похохатывала, на меня оглядывалась.
Так и стали мы жить втроем в довольстве.
Рассказала мне Акулина, что после долгих скитаний, стала она жить невенчанной с Амосовым, а сам Амосов от православной веры отшатнулся еще по молодым годам и на своем дворе затеял тайный корабль для спасения людей Божьих.
В церкви они не молились, при колокольном звоне не крестились, посты не соблюдали, жили в хитрости и чистоте, называли друг друга "братиками" и "сестричками", а по особым дням собирались в дальней горнице, вкруг Акулины - горлицы, ставни запирали, пили пиво бузинное, и плясали до упаду с песнями блаженными, и полотенцами белыми помахивали, и волчками кружились и друг друга плеточками хлестали, кричали: хлыщу, хлыщу, Христа ищу..."
А как кто изнеможет, так падет на пол, пену изо рта извергнет и начнет в золоту трубушку трубить, говорить словеса - накатил на него Святой Дух, через немощь человеческую пророчествует.
- А не просто мы убрусами машем и пляшем - шептала мне Акулина - это же белые крылья... Ты о крыльях говорил, разве забыл в одиночестве своем крылья?
По ночам приходила ко мне Акулина, шею обвивала, жаркая, большая, а я ее волосами и руками уловленный, блуд от себя отталкивал. В спальне купец Амосов зубами скрипел, метался на перинах и ничего не мог.
Дивилась Акулина моей стойкости. Завлекала:
- Иди к нам, я тебя сыном нареку. Мне все можно. Я у Божьих хлыстов - Богородица.
Стал я похаживать с Акулиной и Амосовым на недельные радения. Кого там только не бывало, в один раз цыган вприсядку откаблучивал, другой раз барин с барыней кружились и покрикивали, все ходили и купечество и нищенство.
Гости белые пребелые в круговерти.
Тоска меня отпускала - как дадут мне полотенце, как взмахну белым крылом, как пойду плясать - душа, будто банный пар, голову ломит и сердце торопит изнутри.
Акулина в кругу ходила, и, остановясь, пророчествовала живогласной песней для каждого. Все ведала: какое кому счастие выпадет и какая беда, и когда будет урожай хлебу, и когда недород, и кто богат будет, и что в Киеве и в Москве делается, и о всяких человеческих приключениях.
Все сбывалось в точности.
А в конце Акулина на престоле один за другим гасила светильники и кричала мне, прежде чем погасить последний:
- Э! Белокрылый мой, выйди вон, дыхни свежего, главного Бог не видит!
Я и выходил. Сидел на крыльце. Вспоминал, как несла Акулина корзинку ягодную с младенчиком по ивовому лесу, как копала могилку, как глыба на глыбу валила на великом ледоходе.
Не знал я, что за дверьми творится.
Зима настала. Святки снежные, вьюжило по ночам.
Снова радели на дворе у Амосова.
Снова гасила Акулина светильни.
Я уж сам вышел, без приказу. Стоял с фонарем масляным на крылечке.
А мороз ожег меня, не вытерпел я озноба и отворил дверь в радельную горницу
- а там - увидел я кромешный ад, во поту, в пакости, в лепости и в лености сладострастной копошились, как черви свекловичные.
Ворковали топтались, грязные голуби, не поймешь где мужик, где баба, уста сосут сладкие соки, клыки грызут загривки, ложесна рвут пальцами, и на живом троне из телес скользких от малофьи сидела голая Акулина и два отрока голых груди ее сосали, а она косила на меня кобыльим оком и насмехалась:
- Ну взойди мой луг косить, Искупитель! Бог- Бог, какой ты Бог - на бабу скок!
Стою я в дверях, за голову держусь, и чую, ползет под меня лютая змея, меж ног голову поднимает, мает, кает, в ад блудный, в омут ильменский, в яму могильную тянет грузилом каменным.
Ударил я себя кулаком в пах, прямо в душепогибельного змея попал, застонал от боли и губу прокусил. Бежать бросился без памяти. Да напоследок швырнул под стреху фонарь - полыхнуло масло.
И с визгом на снег в пару телесном вывалились голые блудники, кто смог выбраться из всесожжения. К утру весь двор купца Амосова выгорел дотла, напрасно заливали вологжане пламя.
Бежал я сквозь зиму, по лесам сквозным, по полям, по речкам извилистым, от жилья, от гнилья, от свальной лепости, а скорбь страшная вошла в меня, лихо черное на плечах у меня каркало, впускало под ребра костяные когти.
Срывал я с себя одежу, хотел от мороза погибнуть, напоследок уж бежал по бедра в снегу нагой, один крест по грудям колотился до синяков.
Упал я на поле. А посреди поля пастушья изба чернела. Небо круглое, звезды - гвозди обступили со всех сторон, будто волки. Ни крика, ни снежного хруста.
Вошел я в избушку, а там пусто. Изба протоплена, печная заслонка открыта и там уголья тлеют - красное по черному перетекает.
На столе нож стеклянный и клеймо конское из каленого железа неведомой рукой положены. Долбленое корыто у печи стояло. Выскоблено дочиста и кипятком недавно обдано - еще пар от краев поднимался.
Понял я, плача, что не Искупителем я на сей свет явился, а Оскопителем. Не избавиться мне от скверны, от двора Амосова, от белых крыльев над колокольней ливенской, пока не возьму я нож и не сделаю над собой заклание огненное.
Отогрел я руки. Положил клеймо в жар. Подождал, пока не раскалилось железо. Взял стеклянный нож в правую руку, левой рукой меж ног оттянул, и полоснул. Мясной кусок упал в корыто.
Холодно стало. Будто зверь хватил меня зубами и сразу вырвал полживота.
Сидя на корыте, подплывал я горячей кровью. Загудело в голове. Сполз с корыта, сел на корточки, кулаком в пол ударил. Замутило, в ране разыгралась вспаленная кровь, я ладонью рану прикрыл - там дрогнуло и опало, ударилась струя красная в ладонь с силой. Я в клубок свился и замычал.
Потом вытянул из устья клеймо, прижег между ляжек. Отвернулся - паленым завоняло.
Встал кое-как, дотащился колченого до стола, повалился на столешницу, руки на груди сложил и слышу - капает на половицы со стола кровь. Хотел вздохнуть - и поплыл. Хотел крикнуть - и полетел.
Пропала избушка, стены осыпались - и встали передо мной снега, снега, снега бескрайние, бесследные. Неприкаянные облака клоками полились, выплыла из разрывов полная луна.
А я на столе лежу, плыву по России, и уже челюсть мне подвязали снеговой косынкой, и метели меня обвыли, а стол мой на четырех ногах шагает, как вол, лампа в головах у меня горит а вокруг нее снежинки вьются в свете медовом.
Сунул я под щеку ладони, крылья белые сложил домиком, и в дрему колыбельную нырнул поплавком - большая рыба клюнула из подо льда, ели вековые на кряжах под крепким ветрам застонали и склонились.
А как восстал я от сна - так и весна началась, на весь свет выплеснулась весна в зелени, в синеве, в золоте истинном.
Воробьи в стылых лужах купались. Парни девушкам в окошко камешки бросали.
Тонкого оперения стояли по колено в водах зыбких березки. Все летает...тает.
С той весны я, Бог Кондрат, на Москве объявился. Принес милость. И многие под мое слово встали и победили сладость и лепость и древнего змия усекли и огненное крещение приняли и принесли к моим стопам злато миро и ладан.
Приди и ты.
Склони голову.
Вот мы стоим на зеленом лугу, и скачет кругом пегий конь, взрывает землю, кидает комья копытами некованными.
Усажу тебя на пегого коня и на вожже кругом погоню - только держись. Удержишься, похвалю.
Усажу тебя на белого коня и пущу на свободу нарысью, а после донским наметом, галопом гибельным. Легко прыгнет конь с обрыва - выше облака и сам не заметишь, как распахнутся над тобой парусами белые крылья...
Легкость, весна, чистота ясная, сок березовый.
Кровь в корыте.
Лети, теленок молоденький, крылатый, кудлатый. На тело, на дело, не оглядывайся... Все прошло. Не болит.
Лети.
Я с тобой.
Бог с тобой. Кондрат Селиванов.
Глава 24 Лебеди
- Погоди Бог. Много слов. А дела мало, - перебил Кавалер Кондратия.
Медоносный сад будто окурили ладанным дымом из кадила, в истоме в луговом испарении томился близкий вечер.
Застольные гости ахнули бабьими голосами, один молодой опрокинул кувшин - потекло по скатерти белой белое молоко, будто душа вышла. Видно, в саду было не принято перебивать Бога.
Но Бог не удивился, только пересел поближе и положил холодную шелковую ладонь Кавалеру на лоб, пальцами сдавил - юноша вздохнул - откинулся на резную спинку скамьи - отпустили тиски головной боли от бесстрастной ласки.
Второй ладонью Бог Кондратий закрыл ему глаза и стало совсем темно и легко.
- Разве я с тобой говорил? Братцы милые, отвечайте, был я в слове?
- Не был - отозвались братья - Мы песни пели, ложками стучали, брагу пили, ты молчал.
- Послышалось тебе, прасольский сын. В ушах шумит.
Служки неслышно подошли к Кондратию сзади, расстегнули медные пуговицы, стянули с круглых плеч Бога глухое полукафтанье - обнажили белую без пятнышка атласную рубашку с вышитым на левой стороне карточным сердцем. Рукава широки, крылья белые, шелестящие.
И взмахнул Бог Кондрат лебедиными рукавами, шикнул весело
- Кыш, лебедушки! Оставьте нас.
Дважды повторять не пришлось - все сотрапезники встали. Четверо взяли скатерть за углы, сгребли в узел вместе с брякнувшей посудой и по саду с поклонами попятились, стараясь не обращаться к Богу спиной, будто к алтарю.
Кавалер с любопытством следил за гостями пасечника.
Все, как на одно лицо - глаза ссаные, запухшие. Шуршат по траве чистыми рубахами до полу.
Женский пол от мужского легко отличен, хотя все повязаны косынками под подбородками: мужики, как ватные кули и пищат, как мыши, а женщины тяжелы в шагу, плоскогруды и голосом грубы.
У всякого верного запястья перевязаны были платками, заскорузлыми от сукровицы, как бабки конские бинтуют от засеки.
Странно пропитала кровь бинты - крестом.
Поймал Бог взгляд Кавалера, предупредил вопрос:
- А это братцы себе меточку навечную делают. Наточат лезвие косы и крестообразно рассекают пясти, а потом в рану вкладывают крестильные крестики, чтобы врастали они в живое мясо для мученьица. Видишь - у кого запястные платы чистые, те уже кресты свои переболели. Бабоньки быстрей кресты перебаливают, бабий грех - курям на смех, какие у них грехи, сам посуди. Они же - бабы...
Кавалер себя вспомнил, усмехнулся, отстраняясь от Бога:
- Зря только изуверствуете. Крест не мясной, а небесный носить велено.
- Посрамил! Не по годам умен - обрадовался Кондрат, облизнул сухие губы сухим языком - Вот было дело - старые люди двоеперстием крестились. Стал Никон, закрестилось стадо тройной щепотью. Знаешь сказку? В преисподнем аду особый бес поставлен. Зовут Кикой. В кукише живет. Кто тремя перстями обмахнется в церкви, тот Кику сотворит и ему поклонится.
- Знаю я твою сказку. Мне бабка-покойница говорила. Как первый снег ляжет, выводила на двор, сложит три перста и в снег тыкает, и спрашивает: "Ну-ка, отвечай, кто такие следы оставляет?" А я маленький, в шубке беленькой, ничего не смыслю, смеюсь, смотрю на следы - тройчатки на снежке пушистом и в ладоши хлопаю: " Котик! Так котик ходит! Еще покажи котика". А бабка меня - хлесть перстнем по скуле наотмашь и за волосы таскает. Я кричу криком, а бабка стоит, узелки на лестовке староверской перебирает и учит: "Не котик, а Диавол. Не крестись тремя, Диавола не тешь"
Иной раз и выпороть велит, чтобы запомнил. Нравная она была, бабушка. Да я плакал, не понимал, кого мне запоминать под розгами, Господа али Диавола...
- И правильно,- задумчиво согласился Бог - Не крестись.
На кресте меня повесили и замучили. Думаешь, мне по сердцу смертная память? Ради того ли я смертью смерть попрал, чтобы мне всякий день мою виселицу поминали?
Я радости любил, глиняных птиц оживлял, на пиру воду в вино превращал для веселия, и детей исцелял и просил их первыми к себе допускать. А вы меня обратно под бич, на крест, в гроб. Да еще и во славу мою - дитя по скуле да под розги. Тьфу... Вот оно изуверство истинное.
Кавалер вскинулся, аж скамья зашаталась:
- Ну, ты ври, да знай меру... Какой ты к ляду Бог...
- Не ты первый, сынок, брешешь. И позаливистей тебя кобелей слыхал - усмехнулся Кондрат - засиделись мы, пойдем, что ли пасеку покажу, а там если захочешь, то и на молебствие оставайся.
- Чего я не видал? Мне с вами молиться гнусно....
- Дурак. Ничего ты не видел, как чушка, рылом в глину зарылся, звезд не видит. Молиться нигде не зазорно. Расплодили, понимаешь, богов, в небесах тесно - бог такой, бог сякой, бог разэтакий. Раз пристал ко мне один французишко, въелся, пуще древоточца, заладил: нет бога, нет бога. А я ему - так точно, нету, мил человек. Я всемогущий. Моя воля - хочу я "бох", хочу в - пизде мох. Ну, вас совсем. Лучше отгадай загадку: "Живет не девка, не баба, не солдатка, не вдова и не мужняя жена; мужа у ней нет, а детей много....".
- Богородица... - не подумав, бухнул Кавалер
- Пчела, - возразил Кондратий, поманил в садовую гущу, пошел впереди, неся в охапке московские иконы. Повел к наибольшему улью, в виде семиглавого православного храма, укрепил в божнице икону Зосимы и Савватия, приговаривал дурманным голосом:
- У нас не пасека, а Пасха, у нас завсегда весело... Этот улей зову я Зосимою, он из всех наибольший и старейший. Видишь, как роятся божьи работницы-разбойницы над росистыми лугами. Был день, Зосима и Савватий после трудов, уснули на беломорских камнях и явился им Спас в синеве и Богородица в полумесяце, повели их спящие души в земли идольские в земли райские, там поили-кормили, радовали.
Сам Гавриил архангел, темноглазый, смеясь, подносил им потиры со сладостью.
И сказал Зосима, промокнув губы:
- Сладко питье на небеси, вот бы нам на земле такое, а то все горько, да пресно.
Сама Богородица строго спросила:
- Отделишь ли сладость от болести?
Похвалялись Зосима и Савватий, что отделят сладость от болести.
Подала мати Богородица вересковый мешок Гавриилу в чистые руки, приказала:
- Проводи гостей, принеси мой подарок на Русь.
Сердито гудела в мешке пчелиная сила.
А угодники хмельные слушали пчелиные песни, шли с неба на землю и улыбались. С верхушки сосны вытряхнул босой архангел вересковый мешок и засмеялся по-женски, с лукавством, будто дождь грибной сквозь солнце пролился.
И зажалили пчелы угодников, завопили угодники: Нет мочи! Вот она болесть! Где же сладость?
Сжалился Гавриил и научил:
- Возьмите колоду долбленую, постройте улей- церковь, крестите его, как младенца, женским именем. Внутренность улья будет образом утробы Богородичной.
Дождитесь полного цветения и раннюю сладость понесут пчелы в утробу Её.
Так и стало. Напились медку - познали сладость, понатопили свечей - озарились храмы и обрушились, познали болесть. От огня пчелки повелись, от молоньи Илии, если где пожар вспыхнет, хорошо заливать святой водой с медом - одной пригоршни хватит, чтоб горящую слободу затушить.
Пчелки только раз ударить могут - как выпадет жало, тут им и смерть приходит. Тоже нам знамение. Есть у нас такое моление - сорок дней нужно пить только воду с серебра и не видеть людей и молиться о смерти своего лютого врага. Истово молиться, чтоб он обнищал, чтоб женка его заблудила и сгнила похабной болезнью, чтоб дитя его в корчах чумных подыхало, медленно, чтобы понял за что муку принимает, а потом бы и сам в петлю полез. Ни дна вражине ни покрышки, ни спасения, ни воскресения...
- Страшно... - отступил Кавалер от Кондрата - за своих врагов надо молиться, а не против.
- Страшно - эхом отозвался Селиванов, спокойно расставлял он иконы на главицы, семеня от улья к улью. - Очень страшно. Только я такой закон установил: сорок дней можешь молиться богу, чтобы враг твой издох. А на сорок первый день либо сам сдохнешь, либо враг. Все, как я решу. Веришь, как поставил я такой уговор, никто против врагов своих не молится, только во здравие. Самим помирать не охота.
Ай, как гудят работницы мои, как поют, то не пчелочки поют, то Гаврил-архангел, на коне катает, по лугам летает, во трубу трубит.
У пчелок мы нашим распевам учимся... Красиво поем, так, что разум запеваем, три-четыре песни пропоешь и уже летишь в беспамятство, ни совести, ни боли, ни тоски, одна сладость. Хочешь, и тебя научим. Не пожалеешь.
Пчелы наши - звездочки частые, снеги белые, капли дождя, искры костра, песок морской, слезы детские, добрых людей сближают, а злых жалят. Братство наше все малости перед тобой. На, бери, сколько сможешь унести...
Ну вот, иконы расставили... а ты что утаил?
- Ничего, - смутился Кавалер, протянул утаенную иконную доску - то было изображение Николы Чудотворца с чудесами - образ нетленный, янтарный на полном солнце, купался лик, как на именинах в сиянии. - Полюбоваться взял... Особая мне милость от него.
- Именная что ли - скучным голосом спросил Бог Кондрат, не дождался ответа и отобрал у гостя из рук икону, приладил ее на гребень самого невзрачного улья, который еле торчал из бурьяна под забором.
- За что Николу в дальний угол... - почти пожаловался Кавалер.
Бог Кондрат любовно похлопал серый высеченный дождями бок улья...
- Не в дальний угол, а в вечную почесть. Этот улей мне достался чУдом, оттого Чудотворцем его и помечаю. Принес мне его один старик с Рогожского кладбища, еще Авакумовы речи в бывалые годы слушал, по старой вере ходил отчаянно. Тем жил, что на кладбище пасеку держал, на могилках цветы сильные, отличный мед выходил.
Случилось так, что принудили его в никонианскую церкву сходить под страхом ареста, что ж поделать, пошел. Он многодетный, был к земле привязан. Сунули ему в рот Причастие, он не проглотил, за щеку тиснул, потерпел, а потом в платок сплюнул, отнес к себе и в ближайший улей сунул. А ночью до ветра пошел и слышат - поют в улье церковное, он крышку приподнял - а из улья - свет - пчелы слепили из воска престол для оскверненного Причастия, сгрудились вокруг и поют славу и крыльями овевают.
Смутился мой старик, приволок ко мне улей на горбу и отдал - на, говорит, не могу с ним... Так и живет у меня теперь колода. И рой в ней самый лучший. Никольский.
А в доме мы икон не держим. Посмотри в окошко - нет у нас икон. Одна чистота.
В большом доме, что стоял за пасекой, сквозь узкое оконце виднелась чисто выметенная и ножом по половицам выскобленная горница. Только в восточном углу в картонных рамах красовались картины: безусый безбородый пастырь Иисус Христос на берегу реки Иордан, обнимал белого агнца на зелененькой траве, а на второй - белый лебедь крылами бил посреди бескрайних вод - и луна ему и солнце светили и древо мировое с молодильными яблоками над ним отяготило ветви.
А на третьей все вместе без разбору - с гор потоки хрустальные текут, олени и львы на пастбищах резвятся, будто облачка на заре, корабли бегут о двенадцати тонких парусах и все безыскусно, будто младенец ладошкой намалевал каляку, а взрослый с любовью направлял руку ребенка. По стенам белые платки с петухами развешены и травяные венки. Так и потянуло Кавалера в ту горницу за расписными дверями, очень понравились белые овечки, и мурава, и небеса нараспашку, но Кондрат преградил дорогу, с усилием шею согнул и заставил юношу ему в плечо уткнуться лицом, несло от него полынью и кислым молоком:
- Не время. Сегодня ты малую пляску увидишь. Вон уж девушки готовятся.
- А у вас и девушки есть....
- Отчего не быть. Только не девушки - пегие кукушечки. Ты наше поселение пасечное с большой дороги не видел. У нас на перекрестке трактир стоит для всякого проезжего.
Там наши девочки и служат. Чтобы странников очаровывать, и к нашему делу склонять.
Я девочек со всей Москвы собираю, вот Катя-пряничница, а вот Груша, холстинница.
Да еще Фенечка, она босиком по рядам ходила, чесала на ветру русые коски, торговала с лотка гипсовыми котенками, да свели ее в общественный дом и там запользовали до крови, на коленках ползать заставили. Не ходите хорошенькие по Москве - сожрут. А у нас никто не тронет. Покой, да верный кусок хлеба. Я добрый бог, девочек люблю, всех к себе под крыло собираю.
- Ой... девки ходят... Красиво. - глянув одним глазом из твердого объятия Бога, вымолвил Кавалер.
- А... вот что тебе надобно, молодой... понимаю. И со мной бывало.
- Отстань, скотина... Я не о том. - оттолкнул доброхота Кавалер. Обхватил слабый от дурмана ветку ближнего деревца и прильнул подбородком к развилке.
А было на что смотреть: сновали по саду девушки, серьезные не по годам, вперемешку с опухлыми "братцами" в белых балахонах. Расстилали по траве полосами тканные половики, повязывали на яблоневые ветки атласные ленты, красные, синие, канареечные, ярмарочные.
Выносили сосуды с ключевой водой. С чистотой, с заботой перекликались речными голосами пестрые кукушечки пасечника Кондрата, складывались их голоса в песню нестройную от молодости и дикости:
- Ой, гулюшка, голубок,
Райская птица, гаркунок,
Двором летишь, гаркуешь,
В горнице на окраине...
Брат сестру уговаривал,
Сестра моя, голуба,
Послушай, как любо,
Поди в корабль порадей,
Богом-светом овладей
Святым духом поблажи
Ляг под мамкины ножи,
Груди свиньям положи..."
Бог Кондрат времени не терял, призвал к себе свистом и цоканьем языка подельников. Было их не много: беглый лакей Патрикей Кобелев, сонный, пакостный, кривой на левый глаз, да Марко Здухач - тот самый кучер с черными косами по плечам - проспался уже, черт скуластый, не зря хозяин вихры ему драл.
Под ноги Бога Марко Здухач постелил кружевной покров небывалой цены, отступил в поклоне и оскалился, как пес, а Патрикей дунул-плюнул, побормотал под нос "оче наш" задком наперед и поставил на темя Богу стакан белого кваса.
Мелкими шажками посеменил Бог по кружеву, будто вышивая волшебство.
Девушки лица закрыли и заплакали насильно, а братцы вялые заплескали над головой белыми холстинками.
Вторым кружевным платом выстелена была черная яма посреди сада, ее Кавалер заметил сразу, думал поначалу, что это для мусора, ан ошибся...
Кавалер стоял столбом, как дурак, на колени не встал от гордости, но на всякий случай перекрестился. На него зашикали, а Марко пробасил под плоский нос:
- Сударик, не место... Рука отсохнет.
Казалось Кавалеру, что дурят его откровенно, прямо здесь в саду игра идет, кромешная игра, поспешная....
Но смотрел прямо в лоб ему Бог Кондрат и намурлыкивал говорение, наводил прелесть.
А белый квас в стакане у него на темени - вровень с краями плескал, но не проливался.
- Тут у нас не пустыня, а русская густыня, палата лесовольная, подмосковные. У нас растут и процветают древа райские всегда, рождают, умножают много сладкого плода, только до осени доживи, а там посмотрим.
Что ты прежде знал - царские законы, кривосказательные книги, синод - синедрион жидовский, сенат - антихристово торжище. Тьфу, тьфу, не ходи к ним, малый, не пей водицы из того копытца. Ты к нам иди, листом- кореньем питаться, зноем опаляться, хладом омерзати, стопы у тебя - злато-серебро, локти у тебя - полумесяцы, лоб твой - гулеван табунный, очи - как у мертвой дочи, сон-трава волосья, душа - ни шиша...
Кавалер глаза кулаками придавил, во рту медный привкус закислился, будто фальшивую монету прикусил.
Не хотел слушать, а слушал кондратовы бредни:
-... Сильней земли ничего на свете нет. Чтобы сильным быть, нужно пожрать всех её деток, все, что на земле растет. Оттого и могуча степная саранча, что пожирает урожаи на корню... А! Кто здесь... Богородица дево радуйся! Благодатная Марие, я с тобою! Благословенна ты в женах и благословен Плод чрева твоего! Яко меня родила еси, спасителя душ ваших.
И навстречу то ли молитве, то ли раешной срамной скороговорке, распалась надвое кружевная завеса над яминой.
Медленно запели и отступили братья и сестры, будто первую пенку сдунули с кипяченого молока.
Из ямы поднялась женщина. Розовая. Большая. Голая.
С черным треугольником каракульчи между ляжек.
Колыхнулись колоколами груди с земляничными сосцами.
Взметнулись над головой полные руки - а в ладонях - лежало большое решето, полное сушеных плодов - тут и яблочные дольки и султанский изюм и пареные пшеничные зерна и бурмитская крупа и первый щавель и тонкая, бледная еще морковь и петрушка.
Ничего не было важней этой женщины.
Бедра тяжелы, нежны и влажны, плотской силой налиты.
Все слова и мысли меркли перед ее материнской наготой, грозной и ясной.
Волосы рыжие - медным потоком окутывали ее спину до крестца.
Но лицо ее было скрыто белым платком с вытканным на нем серебряным лебедем, воздевшим серпообразные немилостивые крылья и узор по краям платка- маски с прорезями глаз так искусно исполнен был, что голова кружилась от морозной вязи.
В ленивом плясе выступила из-под земли женщина с решетом и пошла, плоско, по крестьянски ступая, по рядам братьев.
Все перед ней валились на колени, прятали головы в ладонях. А она смеялась, отдувала от лица платок и осыпала согнутые спины свои дары.
Что кому выпадет - яблочко ли, изюмина, болгарский чернослив, то и уродится грядущей осенью.
Кавалер опешил, глаза зажмурил от стыда и острой неуместной радости.
Но тут же не выдержал и все-таки подсмотрел... Как в мощи своей неспешно приближается женщина.
Казалось ему, что содрогается земля под ее насмешливыми шагами. Ближе. Ближе.
Овеяло его рыжими волосами большой бабы. Выше его на голову вымахала решетница, где только такую нашли... гренадершу.
Не могу. Тошно. Душно. Хочется...
"Ловят меня, ловят!" - головная боль снова подо лбом взбесилась, в глаза белостай вломился, ослепил когтистым сиянием.
- К черту! - крикнул Кавалер и бросился прямо в сплетение яблоневых ветвей, в хлесткие ленты, под ногами опрокидывались и крошились хрупкие посудины с намоленной водой.
Только у воротных столбов отдышался, прозрел. Неуклюже, сглатывая кислую слюну, пошел вниз по трудной дорожке, прочь от пасеки...
Руками взмахивал, теряя равновесие, все рябило перед глазами, все виделась заревая розовость огромного тела и смешливые печати сосцов на плодоносной страшной плоти... И рыжие пряди на ветру. Злая позолота. Змеи шемаханские.
- Куда? - окликнула сзади женщина - А своё-то забыл, растяпа. А я тебе не раба, чтобы подбирать.
Кавалер обернулся, отвел прядь кудрявую от глаз.
Стояла в воротах против солнца рослая босая баба с закрытым лебединым платом лицом. Уже успела одеться в белую рубаху, расшитую бисерными венецейскими каплями. Заплетала, перекинув через левое плечо рыжую бесстыжую косу голубой лентой. А у ног ее валялись два деревянных окованных ведра с Ксениного двора.
- Заждались тебя, поди, с водицей... Ну, не бойся. Подойди. Возьми свое.
- Кого мне бояться? - заносчиво оскалился Кавалер, - Бабы что ли...
- А хоть бы и бабы - мирно сказала женщина, устало провела по незримому лицу под завесой. Равнодушно смотрела сквозь глазные прорези, как Кавалер поднимается по глинистому склону, как срыву подбирает пустые ведра. Увидела, что руки его заняты и тронула было теплыми пальцами под подбородок. Всего миг оставался до прикосновения, вздохнула женщина нежно:
- А ресницы то длинные... звенят...
- Не тронь, - отбил локтем ее руку в полете Кавалер.
- Не буду... Ты приходи. Я жду.
- Вот еще. - Кавалер перехватил поудобней ручку ведра, пошел вниз, как пьяный, с упрямством, распорол о сучок ветляной рубашку на плече и даже не заметил.
- Вернешься... Держи свой ум во аде и не отчаивайся. - уж и вовсе неслышно шепнула женщина и отступила в накопившуюся к вечеру по садовым низам сутемь.
Скрипнули петли и наглухо захлопнулись ворота пасеки.
Голубой вечер стал. Замлела на востоке пустая звезда. Далеко внизу, в овраге гулко брехала и грызлась собачья свадьба.
Все успел Кавалер, и воды набрал в источнике и придумал, что соврать, да не пригодилось.
Ксения Петрова мельком посмотрела на него, растрепанного, одичавшего за долгий летний день, с полными ведрами мятной звездной воды.
Кивнула в сенях, куда поставить, только одно сказала, кивнув на накрытый во дворе стол под открытым небом Подмосковья:
- Тебя за смертью посылать. Садись. Я ужин собрала.
- Не надо... не могу есть.
- Ясно. - Ксения ушла в дом, и уже из за двери мстительно обещала - Вернется отец - все скажу.
Кавалер сел на последнюю ступеньку домика карлицы, впился пальцами в кудри и готов был провалиться сквозь эту холодную козью крыжовенную землю, в лопухи, во мхи, в щелочки поленицы у венца пятистенки.
- Ты где был? - спросила Рузя. Как всегда из ничего соткалась.
Маленькая... Глоточек лунный, молочный. Девочка. Присела на корточки, пыталась в лицо заглянуть. Отворачивался.
- Не хочешь - не рассказывай. Смотри, что я сделала. Это твой журавлиный подарок. Приворот.
Подняла девочка тонкую руку и увидел Кавалер на запястье ее - черный с белым браслет, сплетенный из прядей волос - ее и его.
Так больно и крепко переплелись волосы, что и огнем и железом не разнимешь, даже если захочешь.
Кавалер кашлянул , притянул девочку к себе за подол, толкнулся лбом невесть куда, в нее, в малую, в белую... В трепет, в лепет, в сквозную свирельную кость...
Только и сказал ей:
- Рузенька...
А больше ничего.
Глава 25 Буй-волк
На заре пришел Марко Здухач в горницу рыжей скопческой Богородички.
Толкнул дверь, запертую изнутри на засов, подалась дверь бесшумно и легко отворилась, да не на себя, как всегда, а от себя.
Господи!
Девка рано не спала, жгла сальный огарок на подоконнике, от нечего делать плела кружево, увидела гостя, смешала от испуга коклюшки и нити, испортила узор.
Озлилась:
- Напугал, черт страшный! Чего тебе еще?
Здухач молча поставил перед ней кувшин, обмотанный по горлу промасленным холстом.
- Готово. Спрячь в погреб, зелье холод любит.
Медовый дух по горнице пошел, хорошо так.
Богородичка было потянула холст, понюхать ближе, но Здухач прикрикнул:
- Не смей. Не для тебя сварено.
- Так уж и не смей. А если он меня первую отпить попросит?
- И отпей. Чай не отрава. Да только языком лизни чуток и заешь хлебом - только щеки загорятся, и мокро станет в щели, язык развяжется, а больше никакого урона. Ну, потом водой с серебра умоешься, отопьешься, пару дней попостишься и айда гулять, отмучилась.
- Как? - Богородичка под покровцем на лице вздохнула от испуга и любопытства по-кобыльи, поджала ножки на скамейке.
-Да я не про могилу, глупая ты девка - вдруг опечалился Марко Здухач, косу свою черную, кровяную, пожевал и присел на подоконник, нахохлился, как ворон на дорожном кресте - Ты жить будешь долго. Вижу. В глаза мне плюнь, если лгу. Дело нехитрое, видеть такое. Ты руку запястьем к себе поверни и сама глянь. - Богородичка подчинилась, посмотрела на запястье полное и белое, - Ну, что видишь?
- Ничего.
- То-то. Если жилы близко прилегают и не видно, как живчиком кровь под кожей колотится, значит помрешь в глубокой старости с миром.
Удивлялась девка - не поймешь, молод или стар, ишь, рожа чуднАя, чернявая, нос перебит в давней драке. Выговаривает не по нашему, вроде чисто, но певуче и с четким чарованием, будто не по русски, а во сне.
Поган, да не цыган.
Душно в горнице, а он в овчину закутан, препоясан красным кушаком с бляшками.
И не сапоги, не лапти на нем - кожаные отопки-постолы, высоко обмотанные шнуром по ноге. Пасечники и девушки - пегие кукушечки побаивались Марко, обходили десятым кругом его покосившуюся избенку-конуру с одним треснувшим окошком, но уважали очень.
Зато кони и змеи любили его.
Для змей по летней поре он оставлял на пороге избенки деревянную миску с молоком. А для коней носил в поясной сумке корки да морковки, и какого коня оделит, станет тот конь сиять, будто вылоснили его шелком.
Голова горделива, очи с огненными струйками, норовистый, неустанный, кобылий разбойник.
Слышала Богородичка, что прибился Марко Здухач к батюшке Кондрату в Малороссии много лет назад. То ли серб, то ли угрин, то ли болгарин, Бог весть. По русски ни аза не знал, только скалился, на горячих камнях под чугунным колпаком ловко пек лепешки и жирную баранину со всякой овощью. Поначалу так и числился он в пасечном трактире поваром, потом освоился, на вольный корм перешел, занялся тайными делами, о которых спрашивать грешно.
Много в те поры сербов, угринов и хорватов бежало из австрийских пределов, от голода, от солдатчины, в междуречье Бахмута и Лугани, где основали указом Императорским Новую Сербию и многие тысячи народу чужого поселились в станицах на правом берегу Северного Донца.
Понастроили своих церквей с черепами и рушниками вышитыми в нишах, пели свои песни, землю пахали и растили тонкорунных баранов с такими курдюками, что приходилось тележки мастерить - иначе сало по земле волочилось.
Девки у них красивые были - Марко рассказывал - чернобровые без угля, в косах - монеты и раковины, все, как одна - ведьмы. За целование - вешали парню на шею монетку, за ночь - ракушку. Вон их у Марко сколько на просмоленной веревке вкруг шеи намотано - не счесть, и раковины и динары.
Да что-то не прижился в Новой Сербии Марко Здухач, утек ужом под круглые камни, завился лозой сквозь землю, хмелевой шишкой растопорщился в расщелье стены, ежиком укатился под крыльцо.
Да и объявился в Царицине всем на изумление, черный ворон к белым лебедям пристал.
За одним столом с братьями не кушал, свой костер жег ввечеру, удил рыбу самоловом в прудах, жарил лещиков на грэтаре до хруста, тем и жил.
Когда молоко кипятят, придет, ложкой пенку снимет и смакует, а сам молока не пьет, все гадюкам льет.
Что ни ночь, то к Богородичке - шасть. Она уж и засов приделала и поленом дверь подпирала и закрещивала - зааминивала, а под утро - двери неслышно отмыкаются и вот он, Марко Здухач, сидит на подоконнице, ногой болтает, не лапает, так смотрит.
Говорит смутно, подбивает на разное.
И страшно с ним и не скучно с ним.
Сегодня вот меду принес, особенного питья для гостей. Богородичка знала - гостей опаивать до беспамятства ее обязанность.
А тут не просто ее на гостя науськивают - а на дорогого гостя, которого упустить нельзя, сам Бог Кондрат пригрозил: головой отвечаешь, если с крючка сорвется большой улов.
Не противилась, только грустно стало, не хотелось дорогого гостя июньского зельем угощать.
Но ни слова поперек не сказала рыжая кружевница, убрала рукоделие в ларь, оглянулась на непышную постель свою, покрытую пестрым лоскутным одеялом - в головах лежала павлиньей масти трехцветная кошечка, как нарочно, стрекотала во сне, успокаивала.
Как хорошо жить-то стало... Не бьют. Вот только под личиной с вышитым лебедем душно, потеет лицо, неровен час - подурнею.
Зевнула Богородичка, отворила оба окошка, вдохнула ноздрями раннюю прохладу.
- Ай, Здухач, Здухач, отчего ты Здухач, а не как все... Разве у мамки с батькой для тебя иного имени не нашлось?
Марко заулыбался, показал плохие зубы. Прицокнул языком и сменил оскал - только ойкнула Богородичка - были зубы гнилые пеньки и вдруг вспыхнули белые сахаристые резцы, хоть сейчас грецкие орешки колоть.
- Так не имя, милая, и не прозвище... А особое свойство, примета такая. Вроде как - ты - рыжая, лакей Кобелев - косоглазый, а я - здухач.
Любишь сказки, девочка? Нет у меня сказок, одна быль голая, былая голь.
Жила-была в городе Котор хорошая женщина по имени Вакуша. Крепость которская в горы корнями вросла, гранатовые древа да погребки, окна узкие, бойницы.
Море подлоги города моет, а вокруг греческие сосны, да синие горы. Горлицы детскими голосами перекликаются.
Лестницы-улицы вверх да вверх карабкаются, дома из камня-дикаря, крыши гончарные, краснокрылые, розы-камнеломки и красный перец оплели кладку. На рынке горы дынных и арбузных плодов, красотки по кручам коваными каблучками чок-чок, скрипочка из трактира жалуется, за душу берет, ласточки к скалам гнезда лепят и человеческие зодчие от них не отстают, век бы жил в городе Которе, кабы не помер...
Жила Вакуша на отшибе, зеленел за окошком горный склон, а под ним - синий дол до моря. По утрам овечьи отары текли крикливыми грудами по росным травам. Видны были дальние дали - городки малые Пераст, Герцег-Нови и Рисан, все монастыри, пекарни, склады, церкви и кладбища кипарисовые.
Люди называли Вакушу то самострижной монахиней, то знахаркой. Выбросило ее море в лихом декабре на камни в одной рубахе. Тело нашли дети, собиравшие раковины, позвали людей, посмотрели - а у нее на шее крест, грех так бросать и понесли девушку хоронить на досках, а она села и заговорила.
Выходили ее добрые люди, сложила Вакуша себе дом из камней, носила камни в подоле, раствор босиком месила. Насадила гранатный сад. Выстлала раковинами тропинки. Любили ее за великое знание. И раны лечила она и переломы, и тоску и нестоиху мужскую, и нерожиху женскую, все к беднякам ходила к пастухам, к рыбакам босиком в любую погоду, деньги за лечение не брала.
И в церкви исповедовалась и крестилась и пасхальные хлебы делила со всеми, у попадьи принимала роды.
Очень ее хвалили горожане, но замуж никто не решался брать. Вроде бела, а приглядись - дело ведает.
В одиночестве поседела и иссохла Вакуша, тонка, сквозна, обнять такую - страшно.
Час жила Вакуша, день жила Вакуша, год жила Вакуша бросила веретено острое на пол, сказала: "Не могу больше одна".
Надела сапожки высокие, зашнуровала четыре корсажа черных с бисером, шесть кос заплела медными подвесками и пошла искать траву в тишине.
Слушала, как морской прибой в гротах ревет. Слушала, как ветры тяжелые валятся в леса Биоградской горы. Как на Дурмиторовых кручах до крови на щетине загривной сражаются вепри. Как волнуется круглое озеро Скарадское ответным переплеском от берега к берегу и топит лодки.
Нашла Вакуша на лужайке над морем среди всех цветов траву неприметную с пестрыми цветками.
Раз в семь лет цветет пестроцвет. Если бесплодная баба в полночь положит его на язык и проглотит без воды, то понесет сына. Родится безотцовщина, от цветка зачатый.
Но только раз в жизни баба может от пестроцвета забеременеть, на второй раз - умрет от яда.
В точный час проглотила Вакуша, не глядя, пестроцвет, да не заметила, что прилипли к лепесткам семена волчьего мака, что растет на младенческих кладбищах, где зарывают убитых детей и бродяг.
Плачевный мак, неприрученный, чертов.
Затяжелела Вакуша и родила в срок мальчика с волчьими ушами торчком. Утроба несытая, зубы острые, нелюдим, нелюб, ненаш.
Крестила его Вакуша Матвеем. А называла Буй-волк.
Как ученая ведьма хуже прирожденной, так волкодлака хуже Буй-волк. Волкодлак в волчьем обличии шалит, а Буй-волк человечьими зубами добычу грызет не от голода, а по злобе.
По окраинам бродил Буй-Волк, овец задирал, кошкам кишки выпускал. Приваливался матери под бок по утру хмельной от крови, из пасти гнильем несло, полнощным хищничеством.
Мучилась Вакуша, молилась святому Марко-евангелисту об исправлении Буй-волка.
Смотрела на левый сапожок свой у печи - в левый носок того сапожка обувщик заложил страшную вещицу, имени не имеющую.
Кого левым сапожком ударит Вакуша под брюхо - тот растечется у ног ее лужей дегтя.
Не пора ли ударить?
Как можно... Ведь сын же, Матейко, единственный.
Как его убить?
Раз приволок Буй-Волк нищенскую суму, всю окровавленную, с волосами на лямке. Задрожала Вакуша - никак загрыз первенец на перекрестке путника и вещи его принес.
Бросил мамке под ноги - может пригодится, на базар ходить.
А дел у Вакуши много, к печальному человеку надо сходить, утешить, роженицу посетить белье прополоскать и на рынок мясо и фасоль для супа купить, где уж ей за сыном присматривать.
Что ни неделя находила Вакуша на пороге дома, то посох, то рукавицы, то постолы, то рыбацкую шапку, то опушку от юбки.
Допрашивала сына, секла ивовой лозой, кричала. Молчит, как чурбан. Устанет мать хлестать, сядет в угол, лицо в ладони скроет, воет. Час повоет, бросится искать сына - слышала ведь, как дверь хлопнула... Опять ушел.
И находила его на пастбище, валялся сын подле загрызенной овцы безголовой, а голова кровавая откатилась к морю... грызет сын не хребет, не позвонок, а корень волчьего мака. С побоями, с молитвами волокла пьяного от крови сына на плече Вакуша, шила ему куртки из чертовой кожи, повязывала на запястья и голени красные шерстинки, ничего не помогало. Губил Буй-Волк Матей людей на дорогах.
На Вакушу никто не думал.
Ходили по перепутьям которцы с факелами и косами, искали убийцу. Не нашли.
Но все реже и реже приходили к Вакуше просители и страждущие. Боялись нелюдимого ее сына, встанет поперек тропы от калитки до крыльца и ноздри раздувает и корчит рожи и клыками пугает - щелкнет пастью у виска - всякая баба присядет и заорет "мама!" и давай Бог ноги.
Стало в доме голодно, ни рыбки, ни толокна, ни дрожжей, ни сала, ни капусты в кадке.
Ни холста, ни креста. Как есть пусто.
Только самые обездоленные, кому люди на темя плюнули, сироты приютские в парше да богаделки с чирьями старческими приходили лечиться. Пролезали сквозь дыру в заборе и приносили - кто придорожных колокольчиков букет, кто гороховой кашки, кто свинячий копченый хвостик, краденый, кто серьги из пушка кроличьего на крючках с бусинами, кто лунные стеклянные шарики, да мало ли хлама у сирот по карманам водится.
И вот, не вру, во вторник, пришел к Вакуше мальчик из монастырского приюта, лечить обваренную в посудомойне правую руку.
Приложила к ожоговым пузырям Вакуша мокрые целительные травы, погладила мальчика по голове и задумалась...
А вот был бы ты моим сыном, не губил бы на пустошах хорошие души, на мои слова зубами не ляскал, был бы вот такой, черныш, сероглазый, веселый с веснушками на переносье.
Ты ли виноват, Матей, я ли виновата в том, что приклеились к зачатьевским лепесткам зерна волчьего могильного мака.
Сирота стоял перед Вакушей без боязни и дерзости, счастлив был, что боль отпустила.
Вакуша заметила на шее мальчишки черную ладанку,
- Позволишь?
- Ага. Она у меня с малолетства... Так и нашли на пашне с ней. В плаще. А так гол, как сокол в мир выпал. Бабки в богадельне говорят, что я на луне родился, оступился и свалился.
Сняла ладанку Вакуша, приложила к глазу стеклышко гнутое - слаба стала с возрастом глазами и рассмотрела содержимое - узнала в иссохшей пакости - детское место, младенческую сорочку, знать в рубашке родился и хранит оберег.
- Как звать тебя, дитя - спросила Вакуша.
- Марко, - охотно ответил мальчик.
Тут лампадка перед иконой Марко-евангелиста вспыхнула алым огнем, озарила образ, и треснула на четыре части.
Беда, вернулся с промысла старший сын, Матейко Буй-Волк.
Заорал с улицы.
- Мать! Человечиной пахнет. Отдай мне гостя, надоело искать, уже все на дворе переворошил. Отдай мне его. Загрызу.
Вскрикнул сирота, закрылся рукавом.
- Не бойся - шепнула Вакуша, ударила об пол кленовой тросточкой и стал мальчик не крещеная плоть, а стальная игла с ушком.
Продернула Вакуша в ушко игольное нитку, села у окна штопать тряпье.
Ворвался в дом Буй-Волк.
- Не ври мать! У меня нюх волчий на человечину. Отдай мне, что не знаешь.
- Чего же я не знаю, сынок? - весело спросила Вакуша и перекусила нитку, воткнула иглу в стол - Видишь, сижу, фартук чиню. Если ты сын покорный, помоги мне, старухе, надеть сапожки, а то ноги опухли, не могу.
И вышла, охая, и за крестец хватаясь, на ступени крыльца.
- Ладно - взревел Буй- Волк, потащил из сеней матерние сапоги, - давай, мамка, ноги. Но помни - это в последний раз.
Он натянул на материнские ноги узкие сапожки, и вощеные жилы зашнуровал на икрах крест на крест до резкой боли.
- Да. Сынок, - молвила Вакуша равнодушно - это в последний раз.
И ударила Матея Буй-Волка в пах левым сапожком. Завыл и заплакал старший сын и разлился у материнских ног лужей дегтя.
Враз поседела Вакуша, стала пепельной матерью, дегтярную лужу засыпала опилками из цыплячьей корзинки и шатаясь, вошла в дом.
Вынула иглу из столешницы, обратила в мальчика с перевязанной рукой, как было. Поставила приютское дитя напротив и сказала:
- Ты сирота и я сирота. Хочешь быть моим вторым сыном, коль первый не удался. За многое знание я заплатила втридорога. Сразу надо было приютского брать, нет, своего хотела, кровного. Пойдешь ко мне жить, Марко?
- Пойду, мамка - ответил мальчик - только условие одно поставлю.
- Ишь ты... скорый, ну, говори свое условие. Коль посильное - исполню.
- Выбрось свой левый сапог навсегда.
- Бедовый ты, умен не по годам, засмеялась Вакуша, но задумалась и тем же вечером сожгла в садовом костре свои сапоги.
Научила новая мать Марко, как собрать деготь и опилки со двора. Останки снесли на косогор и там зарыли на развилке дорог, вырубили на сороковой день из осинового комля крест и выжгли на нем каленым ножом имя погребенного:
- Матей. Буй-Волк.
И след волчьей лапы.
Так зажил Марко с мамой. Доил черных коз и молоко пил, на базар ходил и торговался весело, полы в доме подметал.
А то мало ли - приходит богатая девка, от босяка тяжелая, кричит :
- Избавь от плода! Обманул! Утоплюсь от сраму!
Волосы рвет, белые руки ломает, монистами трясет.
А волос и кровяных пятен на полу после нее остается столько, не выметешь за раз.
Но Вакуша плоды травить не бралась - черный промысел душу в утробе губить, но ведь и девку непутевую жаль, иную замучает до смерти жестокий отец или братья старшие насильно в монастырь постригут, а ребенка подбросят. И придумала Вакуша белую хитрость - которскую лестницу.
Глухой ночью приглашала девку осрамленную и женщину, которая в браке забеременеть не могла, приказывала им раздеться догола и волосы распустить - и намертво, путаной лестничкой сплетала волосы беременной и неплодной женщины, а сама им бедра омывала белым молоком с приговорами. Марко пока был ребенком, подносил молоко матери и в море его выплескивал. Не раз видел, как по сплетенным волосам вдруг просверкивала искорка беглая от беременной к неплодной плоти.
Тяжко вздыхала баба, освобожденная от бремени - текли по ляжкам кровяные месячные капли в морской плес, а неплодная вскрикивала, прихватывала свои груди, начинающие тяжелеть.
- Перешла душа из дома в дом по которской лестнице, - говорила Вакуша - и с того дня неплодная жена несла в дом желанное бремя, переведенное в утробу из утробы, а девка девство свадебное уносила под атласными юбками и кричала ей вслед Вакуша:
- Впредь не давайся босякам!
- Не буду! - откликалась девушка из сумрака гранатного сада.
- Надолго ли терпежу тебе хватит. Вот и ты, Марко, от такой стрекозы родился мне на радость.
Всем хорош был приемыш Марко, да к двенадцати годам срослись у него над переносьем брови - мохнатые, будто крылья ночного мотылька.
Так полагается от века, у кого брови такие, у того внутри трепещет душа - бабочка.
Приляжет такой человек поспать - а душа его выпорхнет коршуном или шершнем из обмершего тела, тише мыши, выше крыши и пойдет по миру, разменяется по ветру и в грозовую тучу проникнет и в дымовую трубу упадет.
Все увидит, все узнает, сто обличий переменит, в мышь полевку или жука майского, в рыбку уклеечку под мостом. А не хочет, так скачет душа верхом на свиньях, собаках, белках или зайцах, сражается с душами звериными и человеческими. А перед бурями обмирает и вступает в единоборство с вихрями шквальными, утром просыпается человек весь израненный в дремной битве.
Хоть и рваный, битый, кусаный, а зато хозяин ветров и туч дождевых.
Говорят про такого человека на базаре за спиной "вон, здухач пошел... тьфу через плечо". Благие здухачи посевы берегут от градобития, облака пасут в небесах, дурные здухачи выведывают секреты, навевают странные болезни и беспокойство, бродят по чужим снам, мутят воду.
Черногорские здухачи драки затевают со здухачами фриульскими. Во Фриули, в италийских областях злые здухачи водятся. Верхом на венике из старого укропа, репейнка и сорго странствуют по волшебствам, летают на мертвецкие шатания на кладбищах, сварливы и неуживчивы с соседями.
Страшные битвы происходят над ночными дворами и горами - а простые люди спят и ничего не слышат.
Которские здухачи у фриульских отнимали урожай, молоко коровье и овечье, здоровье людей и скотины.
А Марко, хоть и малолеток, а первым ночным бойцом числился.
Когда заметила за приемышем Вакуша особые сны - поздно было исправлять и замаливать. Подошла раз одеяло поправить - и увидела - лежит мальчик на спине, руки скрестил, впился пальцами в плечи, как древний царевич в гробу, брови сурово сдвинул и дышит так тихо, будто и не дышит. Наклонилась Вакуша - послушать душу и не услышала.
Гуляла душа по полям, по долам, по виноградникам, по дельфиньим путям, по мелководьям, входила в каменные врата Котора, где стерегут морской путь в залив Богородица с младенцем и святой Трипун и святой Бернард сопутствуют Марии. Заглядывала душа летучая в Южные врата, отделенные от дороги невесомым подъемным мостом над черной горловиной пещеры. Если обрушивался на город с гор ливень, пресная вода вытесняла морскую воду из гротов и горных каналов.
Далеко ушла душа.
Потянулась Вакуша к спящему, но отдернула руку - вспомнила, что нельзя здухача будить внезапно, не успеет душа вернуться в тело поспешно.
Села старая знахарка в изголовье постели и за волосы схватилась.
Страшная. Лицо белое, под глазами синяки, на лбу венок полынный, иссохший, набекрень.
Прошептала Вакуша:
- Не везет мне с детьми. Родила Матвея, вырос Буй- Волк. Сгубила его. Приняла Марко - растет Здухачом. Сберегу его.
И сберегла, вырастила. Построил Марко лодку с косым парусом, выходил в море на рыбную ловлю, вываливал из сетей ослепительный улов. И девки вкруг него вились, первым плясуном был и работником, дом полная чаша, гости пляшут, подвалы и чердак ломятся от припасов, на алтарь церковный позолоту с удачного торга пожертвовал Марко больше, чем гильдейные купцы, весь Котор ахнул колоколами.
Сама Вакуша согнулась вся, ослепла почти, но все то по хозяйству, то в саду возилась. Солнце восходило над солнцем и падало, как ломоть с ножа в отреченную пучину моря.
Раз вернулся Марко с лова, неудачный день выдался - трижды вытягивали сети - а в них кости птичьи да морская трава - ушла рыба... Уж хотел Марко уснуть на берегу, превратить свою душу в быструю рыбу, приманить стаи в сети. Причалил на обычном месте и вдруг увидел в конце волнореза, сложенного из серых валунов - белую лодку с желтым парусом.
Ныряла лодка белая в зыби. Узкая, как заноза. Не решился приблизиться к ней Марко, бросился в дом, к матери, крикнул ей о белой лодке с желтым парусом....
- Ну вот и все. Пора мне, Марко, - сказала Вакуша, оставила вязание и ушла в дом, переодеться в несшитую смертную рубаху. В последний раз взглянула в медное гадальное зеркало из Мазендарана на иссохшую свою наготу. Кивнула. Сняла кольца, расплела косы. Кликнула сына, обняла:
- Проводи меня Марко до волнореза.
Шли мать и сын по заросшей тропе, напоследок беседовали.
- Больше не увидимся, море меня принесло, море приберет. Таким, как я, в земле не гнить, мне нужно возвращаться из земной немощи. А ты не грусти, помяни меня по сорока монастырям, дом продай, половину раздай сиротам, половину себе возьми и уходи. Так далеко, как только сможешь. Вот тебе терновая ветка, где бы ни ночевал, втыкай ее в головах. Где примется и пустит корни ветка, там ищи любовь. А я с тобой была - покуда могла. Теперь - прощай.
И вступила Вакуша на теплые камни волнореза босыми ногами.
- Знал бы раньше, сжег бы белую лодку с желтым парусом - сказал Марко сквозь зубы, глядя на мать из-под руки.
Как молодая побежала Вакуша по камням к лодке.
И верно - чем быстрее бежала она - тем моложе становилось тело, вспыхнули волосы прежней рыжиной, налилась грудь и опала, как у девочки, добежала матушка-девушка-девочка до белой лодки совсем уж ребенком - помахала на прощание ладошкой, рассмеялась и хлопнул на ветру желтый парус, будто дверь.
Все в закатном солнце рассеялось.
Пошел Марко по миру, унес свою гулящую душу, в тулью войлочной шляпы спрятал терновую ветку. Нигде она не прижилась.
Не с кем жить.
- Говоришь ... рыжеволоса мать у тебя была? - заворожено спросила Богородичка - и сама не заметила, что с начала рассказа сама потянулась к Марко Здухачу, припала, колыхалась в его сильных руках-корневищах, будто белая лодка в волнах, то ли вел ее Здухач по половице, то ли пляске чужеземной обучал ненавязчиво.
- Рыжая, - кивнул горец, улыбнулся - Точь-в-точь, как ты,- и было ему по виду ни дать ни взять лет двадцать, самый сок, плечи крепкие, глаза золотые, лоб широкий, косы черные, охотничьи.
И ростом ей вровень - непривычно - привыкла рослая Богородичка, что даже солдата удалого она выше на полголовы - красивая вымахала, дебелая, заметная девка. Да только тяжкий удел, в самое высокое дерево в лесу чаще молнии бьют.
Век бы так плыла в руках его в облаке, в молоке, в дурмане.
Ласково шевельнул Марко лебединую занавесь на лице Богородички.
Отшатнулась от Здухача девка, опомнилась.
- Нельзя! Что Бог надел, то человек не снимет.
Улыбнулся Марко, мирно ладони поднял к плечам - мол, вот они руки, не трогаю. Но возразил веско:
- Человек не снимет, а мужчина может.
Богородичка по горлу кувшина с дурманным медом провела рукой, будто под подбородок чужого мальчика погладила, подразнила сладким языком по-лисьи:
- Иди с Богом, Марко. Не о тебе думаю. Не тебе со мной мед пить. Другой придет, голову на грудь положит, скажет слово. Он ко мне тайком не первый день бегает, жалею его... Но делаю, что должна.
- Мне не надо меда. С тобой и вода хмелит. Будь здрава, - поклонился Марко, Богородичке, враз осел, постарел, иссох и, не медля, вышел вон. Дверь покорно перед ним отворилась и в косяк ударила. Кинулась к двери Богородичка, дернула за ручку - заперто. Быстро перекрестилась.
В распахнутые окна проливалась с высоты рассветная красота. Петухи орали по дворам, отгоняли зло.
В кельях просыпались пасечные жители, бабы отдельно, мужики отдельно, в тростниковых балаганах потягивались, здоровались спросонок карлики. Били крыльями над водами черные лебеди-шипуны и каспийские жар-гуси.
Прошуршал травой Марко Здухач до избушки своей, переделанной из поганого места - старой бани. Еле дошаркал, сердечная жила тянула слева, немела рука. Ветхие глаза в землю глядели. Пора в берлогу, на лавку повалиться и спать до темноты.
У вросших в землю ступеней выбросила сильную зелень вонзенная у порога сухая колючая ветка терновника.
Марко моргнул - не блазнит ли. Нет, шелестят клейкие листы, веселится процветший терн от молодости.
Выпрямился Марко Здухач, стряхнул старость, будто вязанку хвороста, снова заискрились глаза, очистилось от морщин лицо. Пристально взглянул которский Здухач на оконце Богородички в пристройке к моленному дому. Ставни соколами, лозами и лисами расписаны были, плескали по ветру кружевные занавески.
Дневная луна в голубизне над головой колдуна плыла куполом - слева луна - справа солнечный жар.
Лег Марко, где стоял, в крапиву-лебеду, на бок, колени подтянул, как дети в утробе покоятся. Обмер.
Вытекла из угла рта белая змейка с желтым венчиком на голове, жалом раздвоенным постреляла и порскнула быстрыми извивами по овражной траве и ниже, в валежины - ветроломы.
Достигла большой воды и плеснула кольцами в прудовую мглу. Заволнилось у берега гибкое тело и сгинула белая змейка. Пошла гулять душа здухача.
Завтрашний день обещал большой ветер.
Глава 26
Богородичка
День за днем вертелись колеса сенокоса, июнь с косой острой по лугам бежал в полотняной рубахе. Шлепали в стремнине речки лопасти водяной мельницы, слышались голоса и звоны, быстро говорило сердце, тесно ему в ребрах, хоть вон исторгни.
Кукушка в долине считала часы.
День через день замечала Богородичка чужие глаза в щели высокого забора. Не решался Кавалер приходить на скопческие радения, да и ни к чему ему были чужие песни и медные старинные кресты.
Но после обычных занятий с Царствием Небесным, после Царицынских хмельных сосняков под солнцем, после трапез и каверз трудного и неведомого учения, так и тянуло посмотреть на женщину с закрытым лицом.
Въяве было бы не мила.
Глубокая тайна в ладони дремала. Летать не умела еще.Время придет так полетит, как еще никогда.
Дни напролет гадал Кавалер - отчего закрыли лик Богородички лебединым пологом?
Стал рассеян, карлику-наставнику лгал невпопад, что заболел. Царствие Небесное делал вид, что верит, и не окликал, когда по окончании занятий, Кавалер отпускал коня на волю и под любым предлогом торопился без дороги на пасеку.
Карабкался, обламывая ногти на развилку ясеня у забора близ ее окна.
Вот идет Богородичка за водой с пустыми ведрами на коромысле - встретить бабу с пустым ведром - к худу, и знает она, что несет беду, играет бедрами, косами рыжими манит и голову кружит.
Вот Богородичка яблоневые ветки рогатками подпирает и белит известью от червей.
Вот Богородичка у окна вышивает на пяльцах, нитка длинная, издали кажется, что с каждым стежком зовет мановением полной руки: Ко мне! Ко мне!
Ты нитку то укорачивай, а меня с пути не сворачивай...
Вот Богородичка метет сор в избе чистым веником от двери к печи.
Вот, смело наколонясь и подоткнув пестрядинные юбки над белыми подколеньями моет половицы и выплескивает в бурьян ведро.
Вот Богородичка с кукушечками-трактирными девочками хохочет, перебрасывается играючи изюмками и орешками, шепчется с ними в камышах, выше подружек на голову, краше, чем лебедь белая среди наседок.
Ну хоть бы ветер дунул и отклонил лебединый полог.
Хоть бы пол-лица увидеть...
Жалко что ли, рыжая?
Жарко...
Недвижный жар сковал небеса в тот день. Опасно струился воздух над прудами и колеями. Птицы примолкли, слева направо клонились леса под горячим ветром, успокаивались, молились о дожде пажити и перекрестки.
Царствие Небесное пошел после обеда спать, услал дочку на дальний пруд к бабам- птичницам, Ксения Петрова с утра недомогала, легла в саду на простыню, накрыла голову мокрым полотенцем.
Кавалер маялся. От нечего делать колол лучинки топориком, но быстро бросил.
Что ж такое, на каждом дворе, куда ни приду - чужой. Все тянет куда-то, мучает... И слаще той тяги и муки не найти. Блеял в кустах козленок, запутался в лозах, Кавалер, думая о своем, отпустил его - поскакал детеныш, задрав хвостишко. Опять сосед потраву напустил. Кавалер устало облокотился на дальний поваленный забор у мусорной травяной кучи.
И ослеп на миг.
Зеркальцем пустили ему в глаза солнечный зайчик, едва успел прикрыться рукой - и просвечивала сквозь пальцы алая кровь. Прежде чем зазвучал голос, знал, кто окликнет:
- Что загрустил. Пойдем со мной.
Не сознавая пошел Кавалер вниз за Богородичкой. Звенело в висках от зноя. Слышал, как шуршит подол, видел, как вертится зеркальце на ручке привязанное ремешком к поясу.
Куда вела - не помнил, и так ладно, а Богородичка с лицом закрытым нарочно выбирала дорогу окольную, трудную, оступись, ноги переломаешь.
Легко с ней было идти, легче того слушать, что она говорит:
- Вот соскучилась, сама за тобой зашла. А то что ни день ты за окошком торчишь, думаешь я не замечу. Что молчишь?
-Слушаю.
- Ну-ну... - На крутом склоне поскользнулась и схватила Богородичка Кавалера за локоть, чтобы не упасть, побежали оба по песку и только внизу отдышались.
- Зачем же тебе зеркало, если лица нет? - подначивал Кавалер.
- Для тебя зеркало берегу. Вот поймаю в зеркало, унесу домой, запру в ларчик, навек мой будешь.
Кавалер, смеясь, уклонился от пущенного солнечного зайчика.
- Не донесешь! Расплещешь...
- Слепой сказал: посмотрим.
На берегу речушки веселой мелкой и светлой Богородичка разулась и разделась до нижней рубахи, будто одна пришла.
Зевнула под маской, бросила через плечо:
- Одежу постереги. Мало ли кто тут ходит.
- Я тебе не сторож, - огрызнулся Кавалер - Да кто на твое тряпье позарится.
- Верно - лениво согласилась Богородичка, придавила верхнее платье камнем-голышом, чтобы не унесло ветром и спустилась к воде. - А ты гонорлив больно для прасольского сына.
Присела в ручей, расставила колени, так чтобы вода бежала между ними.
Сама полуголая, а лицо заперто - черты ее берегли лебедь и крест.
Из-под маски выбилась рыжая прядь, расшевелил волосы ветер, Богородичка подумала и прядь убрала под крестовый полог.
Подол нижней рубахи промок насквозь, облепил тяжелые лодыжки, Богородичка плеснула горсть воды на живот и груди. Проступило из-под ткани родимое пятно на левой титьке, расцвели бурые ореолы сосков. Густо всколыхнулась женская тягота.
- Вымя какое... мясная баба - некстати подумал Кавалер и нагло полюбопытствовал - Ты беременна?
- Конечно. Я всегда беременна. С рождения На то я и Богородичка.
- Ну тебя к шутам, я всерьез, а ты зубы скалишь.
- Ты моих зубов не видишь. Не ври. И не увидишь вовек, нос не дорос. Платок подай, намочу. Нам еще назад идти луговиной, знойно сегодня, голову мне напечет. Опять разболится, а мне еще полы в моленной мыть.
Кавалер, не входя в быструю воду, наклонился, балуясь, пустил по ручью шелковый платок - зазмеилась легкая ткань по течению, Богородичка, не глядя, приняла платок, заговорила монотонно, как пчела жужжит.
- А вот поймаю тебя, окуну в ручеек с головой, и вот этим шелковым платочком пощекочу подбрюшье, то-то поплывешь, как свеча... Я тебя знаю, ты лакомник, любишь, чтобы не ты - а тебя.
Богородичка пару раз пропустила в слабом кулаке невесомую ткань.
Кавалер, чтобы устоять, впился пальцами в ивовый ствол. Сглотнул соленую слюну.
- Я тебе не дамся.
- Все мне даются. Чем ты от других отличен? Из казанского золота что ли тебя отлили, пан-боярин, царский сын? Сам же говорил, что батя твой по селам червивую солонину скупает. Или соврал мне?
- Нет. Я сказал правду, - быстро ответил Кавалер. Поднималось с клекотом из горловой теснины жаркое собачье бешенство.
Слишком громко плескала вода по камням, слишком пахло можжевельем и свинячей травой - влагохлебкой, которой густо заросли топкие берега, слишком тяжело поднялась баба из воды - вся облепленная холстинной рубашкой, хуже, чем голая.
Охлопала бёдра, зевнула. Большая... тёплая. Тяжелая рыжая коса вывалилась на оголенное плечо.
- Корова. - неожиданно для себя, вслух сказал Кавалер.
- А ты что же, молочка захотел? Руку подай, болтун. Я выйду.
Кавалер вытянул Богородичку на берег.
И бешенство нашло выход, подбил ей колени пинком, повалил в лопухи, одной рукой придавил мягкое горло, второй сильно мазнул между забившихся ляжек. Зашипел в ухо:
- Сейчас узнаешь, чем я от других отличен. Нашла над кем куражиться. Думаешь, я на твое вымя недоенное позарился, держи карман шире. Много вас таких, десятки, сотни, девки жадные и до ночей охочие! Думаешь, передо мной нагишом попрыгаешь, посулишь шелковые мерзости, так я и попался? Да я одного хочу - рожу твою бесстыжую увидеть! Тайна мне нужна, а увижу и разгадаю - на кой рожон ты мне сдалась! Отшвырну как кошку, которая в зерно гадит!
Чуть ослабив хватку, Кавалер потянулся к плату на лице Богородички.
- Откроешь - умрешь, - глухо и лениво сказала женщина.
Так сказала, что Кавалер враз ослабел, скатился с душного ее тела.
Повалился крестом, стал смотреть сквозь луговую зелень, как разбегаются волнами перистые облака в маслянистом девясильном небе.
Молчали оба, слушали птичий щелк, деревенский веселый шум близкой плотинки.
- Прости меня - не вытерпел Кавалер... - Солнце палит, вот и нашло. Тебе не больно?
Богородичка невозмутимо надела платье, намотала мокрый платок на голову.
- Бывало побольней. Не беда. Тем ты и отличен от других, что со мной мужского не сделал. Все тебе тайну подавай. Лебедя моего поймать хотел голыми руками.
- Тебя били? - вскинулся Кавалер - Ты скажи - кто. Я его...
- Врешь ты все, никакой ты не прасол. И держал-то еле-еле... и
т а м через ткань прикоснулся. Думала, брезгуешь, так ведь нет. Жилка у тебя на шее билась, вот жилка мне все и сказала. Доносчица она у тебя, все по ней знающая женщина прочесть может. Видно что учили тебя не обижать женщин... Хотя бы с виду. Был бы ты купецким сыном, одевался бы по русски, стрижен был бы в скобку, по Царицыну бы не метался на белом конике. Не дразнил бы меня. Такие коники у купцов не в заводе. У них рысаки толстые и верхом купцы не скачут. Я любила одного жука с Плющихи, так у него толстенные кони были, не чета твоему. И сыновья все как на подбор - дельные люди. Ты цыган, я так думаю. И лошадь украл. И господскую одежду. Да только цыганы смуглые. Я знаю. Я одного цыгана любила из Тестовского села, так он чернущий был, брюхо волосатое вот по сюда, истинный крест. - Богородичка указала на помятое горло - солнечный следок пометил выемку меж ключиц - дальше лебединый полог видеть не позволял.
- А как же тот жук с Плющихи? - спросил Кавалер, побрел рядом с Богородичкой, раздвигал перед ней тонкие ветки еловой делянки.
- А? - рассеянно переспросила женщина. - Какой жук...
- То про купцов, то про цыган, то про господ, кого же ты любила?
- Ах, это... Всех любила, хороший мой. Всех, я ж тебе говорю, я ль не Богородичка.
- Да ты такая же богородичка, как я - прасольский сын.
- Вот и проговорился. Да и не скрывал особенно, сразу видно, меня ни в грош не ставишь. Разве что лебедем моим любопытствуешь.
- Я всю правду о тебе выспрошу у Рузи. Ее отец...
- Без тебя знаю, - Богородичка остановилась посреди раскаленного луга, заговорила с такой яростью, что Кавалеру вдвое жарче стало, отшатнулся, как лошадь от злой шавки, -
Ну что, что ты нашел среди лукавых уродов? Ладно, старый карла гоняет, тебя как сидорову козу, всему Царицыну на потеху, к этому я уж привыкла, твоя блажь, ты и ломайся.
Но как же ты в толк не возьмешь, он горбатый, он юрод, он игрок и лжец, на Москве всеобщее посмешище, ему твой позор слаще патоки. Он тебя, как борзого щенка завел, чтобы на кого надобно натравливать. Он хитрец и душегуб - я многое могу порассказать, да ты не поверишь. Вот хочешь, докажу мою правду о нем?
- Докажи, - недоверчиво сказал Кавалер.
- Изволь. Конь твой, белый, резаная грива. Сразу видно - краденый. Это ведь он тебя надоумил его угнать?
- А если бы и он, тебе что?
- Мне ничего, как думаешь, почему именно этого коня, никакого иного, ни савраску ни пегашку, ни гнедка, ни серого в грече, мало ли у бати твоего рвача-богача коней?
- Он красивый, в работе хорош... - неуверенно ответил Кавалер и сам засомневался про себя, а и вправду, почему именно андалуза.
- У него нет клейма. - просто сказала Богородичка. - Чтобы никто не опознал из какого дома ты его взял.
Кавалера будто ошпарили. Не врет. Права. Единственный из коней, не предназначенный к работе - клеймению не подлежит. Как игрушку купил жеребца старший брат, не для езды или упряжи.
- Ну и что, - сопротивлялся юноша - Мало ли неклейменых под седлом бегает.
В запале крикнула Богородичка:
- Ладно, черт с ним с Царствием Небесным, у него своя игра.
Но девка эта, беловолоска! Немочь бледная! Волочайка слюнявая. Небось не целка уже, со всем своим карличьим племенем под тынами валялась, да?
А туда же... клещом впилась, всюду таскается за тобой. А ты и рад, дурак. Она же тебе макушкой до ребер поди не достает, малолетка немалолетняя. И горбата, как хлеб!
Постыдился бы, Бога гневишь таким союзом. Сколько ей исполнилось?
- Шестнадцатый год вроде... Каким союзом? Ты что, рехнулась?
- Шестнадцатый! - желчно повторила Богородичка, не слушая - Вот как. Маленькая сучка до старости щенок. - и схватила Кавалера за ворот сорочки, припала, душная, обдала анисовым пасечным духом, зашлась:
- Брось ты эту карлу поганую! Брось, брось, брось!
- Велика фигура да дура! - брезгливо оттолкнул бабу Кавалер. - Прежде думай, что городишь. Еще слово - прикажу засечь!
- Что? - по-рысьи быстро опомнилась Богородичка, услышав знакомые до оскомины слова. Кавалер сконфузился, да поздно было.
Женщина отвернулась, сказала тихонько и горько:
- Строгий ты, прасол. Что там за товар твой батюшка по селам скупает? Лён, пеньку, молоко воронье, масло лампадное? Или душки русские? Эх, ты, охотнорядец погорелый.
Идем уж, полдень жарит, аж тошнит. Высечешь ты меня. Как же.
Да не своими руками. Они у тебя к женскому сечению способны разве что в спальне особливыми кнутами. Я и таких людей любила. Я все знаю. Хочешь - секи. А потом продай. Меня задорого продать можно. Я умею стряпать и шить. И воротники плоить, даже кружева у одной барыньки на Ордынке гладила - ни одного узорчика не пожгла. Да и кружева я плести умею сама, не хуже вологодских. Продай меня, хороший мой. А выгоду пропей.
Дошли до пасеки в тягостном молчании. Богородичка простила обиду, предложила весело:
- Посидим ладком, молодой? Пообедаем?
- Нельзя - улыбнулся Кавалер - я голодный, что твой волк. Но прежде вечера не могу. Так уж положено.
- Мой волк, хоть на минуту, да мой - согласилась Богородичка, хотела потрепать по прядям - уклонился, смеясь.
- Сколь ни корми, все в лес, да? Ну и беги в свой лес. Потом. Будешь обедать вприглядку.
Богородичка вынесла на траву зашарканный ковер, миску с зеленью и постным маслом, хлеб и кувшин белого кваса.
Хлеб ломала руками, угощала все же, несмотря на отказ.
Отказался - Царствие Небесное не велел хлеб с чужими делить.
- Так посижу. Погляжу на тебя.
Богородичка посмеялась без жеманства, легла белая на большую траву, щипала мякиш, водила пальцами по узору ковра, будто по сердцу вела ладонь.
Кавалер в который раз гадал - хороша ли Богородичка под покровом, или уродлива. А какова бы ни была, тряпьем скрытая, мне, первой красоте московской, не соперница.
Покров тихонько волновался от дыхания Богородички - вышитый лебедь мирно плескал круглыми крыльями. Надолго повисало молчание - обоим неловко было. Богородичка хлопнула себя по колену, ай, забыла, да вспомнила, быстренько сбегала к себе, вынесла с почестью кувшин обливной с закрытым вощеной холстинкой горлышком.
Поставила на край ковра, сняла крышку - и так гневным медным медом ударило из скудельного нутра, что сразу собрались у горлышка пчелы, Богородичка посмеивалась, отгоняла папоротниковой лапой докучниц. Болтала впустую, остро глядя глаза в глаза из прорезей:
- Люблю я Царицыно село. Тихо мне здесь, вольно. Светлица своя, пол дощатый, кошку вот завела. На Трубной площади бухарец кошками торговал, страшно дешево, я на гранатные бусы выменяла, такая красивая, полосатая.
На Москве все кошек держат, это нынче считается хорошо. Все кошек заводят и чай с яблоками пьют на крылечке. Московское естество: рябиновые дворики, пустыри, яблоньки, купола, кошки... Не хуже чем у людей. Вон и Рузька твоя с котом таскается, как дура.
А я беру кошчонку с собой под бок спать - она урчит в головах, моется... Знаешь как у меня под боком сладко спится? Ты глаза не отводи... Знать не знаешь, а догадываешься.
А сейчас бегает где-то кошка, полевок давит, вернется, я тебе ее покажу. Приходи посмотреть. И постеля у меня широкая, хоть пляши. Я люблю одна спать. Никто не жмет, не смердит рыганьем, не давит насильно груди...
Кавалера разморила тяжкая жара, про кошку и постель прослушал, вымолвил невпопад:
- Так это нынче говорят - Царицыно село, для форса. А прежде не так называли.
- Как же? - Богородичка ловко тиснула ржаной ломоть под покровец, надкусила. - Скажи мне, молодой, я нездешняя.
- Сельцо Черная Грязь, - нехотя ответил Кавалер, - Вот как.
Хлеб шлепнулся наземь.
Богородичка вскочила, завизжала:
- Ай -йй, дура! Сменяла шило на мыло! Черную Грязь на Грязь Черную!
- Богородичка затопталась, будто на углях, впилась в тряпку белыми пальцами, того гляди сорвет, Кавалер вскочил, поймал девку за просторный рукав, прикрикнул:
- Ты чего?
- Пусти добром. Пусти, говорю! - Богородичка извернулась, укусила Кавалера в запястье и бросилась бежать - белая, в россыпь бисерного шитья - будто саваном махнули, едва на бегу пчелиную колоду не снесла.
Слышно было, как ревет, повторяет оскаленным ртом:
- Черная, Черная Грязь...
То ли грязь, то ли мразь - за рыданием и не разобрать.
Кавалер подул на укус, дернул щекой,
- Блажная.
От досады подхватил кувшин, несмотря на запрет, хлебнул до одури. Пить хочется.
И едва успел сесть.
Темное облако-кулак придавило сад.
Красные спирали-крученицы в глазах вспыхнули, обожгло питье горло и грудину и тут же потянуло по новой.
Впился в кувшин так, что почудилось - треснула обожженная глина. И в Петербурге - городке во дворцах такого не пробовал, и даже не рассказывали о таком и обиняками не намекали.
Ветер завернул край ковра, растаял пчелиный зуд.
Вот тебе и посидели ладком.
Дурной народ бабы, и зачем их родят?
Ничего, перебесится, помиримся. Поднялся на ноги, хватаясь за тонкие яблонные веточки за солнечные лучики, за честное слово, побрел с пасеки прочь.
Тело медом наполненное не слушалось и страшная жажда иссушила язык - все бы отдал за новый глоток.
Что со мной, Господи.
Гуси-лебеди ударили на весь мир набатными красными крыльями.
Заголосили...
Богородичка спряталась за баней, в поганом месте, качалась на корточках, промокшее полотно липло к лицу.
Утирала жаркое с глаз кулаком, и уже еле слышно, с хохотком твердила:
- Черная грязь.
Шестопалая рука сцапала сзади ее мокрый дрожащий рот. Второй вор выступил из лопухов, повел грузинскими очами, задрал сапог сафьяновый бабский на обрубыш бревна.
Улыбнулся нагло потянул нож из- за голенища, показал лезвие в глаза
- Тихо.
Богородичка даже на помощь позвать не смогла так и осела, да получила пинок под копчик. Заозиралась. Чужаки на пасеку заявились... Дело небывалое.
Шестопалый сплюнул, тиснул обомлевшей девки под нос овальный портрет-миниатюру:
- С ним была сегодня?
- Да.
- Знаешь, чей будет?
- Нет.
- Завтра еще придем. Скажешь о нем все, что спросим?
- Да.
Сплюнул Шестопалый, отпустил, Тамарка бедрастый, тюремный выродок покуражился, ножиком повертел, но Шестерка его по запястью хлыстом конским вжарил.
- Хватит. Едем. Старуха ждет.
Зажмурилась Богородичка, хотела стать маленькой-маленькой, скорчилась в сорняках, готова была не то что покровцем скрыть лицо, но и с головой в жирную земельку закопаться.
Слушала шаги чужаков. Сбруя звякнула на дороге за забором.
Поднялись в татарскую нарысь воровские кони-бедовики.
Белая змейка в желтом ободочке дремала на камушке за банькой, не тревожила ее людская возня, но как пошевелилась испуганная женщина - змейка бесшумно ушла в траву.
Тут Богородичка бросилась к расстеленному в саду ковру, оправляя на бегу бисерный сарафан, увидела медовый кувшин опорожненный, села на корточки, оглянулась на калитку:
- Выпил... Ой... дурак. Что же делать теперь...
Завыла бы, да глядели на нее служки Бога Кондрата и шустрые обсыпанные веснушками кукушечки-девочки.
Богородичка помахала им рукой. Схватила кувшин, ввалилась к себе в светелку, прижала сосуд опорожненный к животу нерожавшему.
А в висках жилки бились тик да так.
Все неладно. Все не так.
27. Сговор.
..Как светил да светил месяц во полуночи, светил в половину. Как скакал да скакал лихой молодец без верной дружины. А гнались да гнались за молодцом ветры полевые;
А горят да горят по всем по дороженькам костры стражевые. Уж свистят да свистят в уши молодцу про его разбои. Уж следят да следят молодца царские разъезды. Кто последним придет, станет первым...
А сулят да сулят ему,
Петлю.
- ...Вот только потому что ты ду-ра, я никуда и не еду. Жалею тебя. Тут лежу. Гнушаюсь доносом. Ишь, распелась. И Бог у вас не Бог, а свиной рог, и царица-развратница и вся Расея кабак. Одни вы тут на пасеке лебеди белые, непорочные... На золотом крыльце сидите... А может я и без тебя знаю, что Расея - кабак. А где не кабак, ответь? В азиатском королевстве? В Новом свете? В городе Париже?
Раз вы все - так, я возьму и пойду на войну. Там трубы и порох, камзол с бантами, лошади и пушки! Смотри, убьют меня - глаза выплачешь.
- Конечно, конечно - поспешно утешала Богородичка, жалела Кавалера, позволила положить голову между своих полных ляжек и сонные кудри, будто виноградие, пропускала между пальцев.
Дурит, бедняга, со среды считай, а нынче пятница,
- Вот только войны для тебя, голубь милый, не объявлено. Кругом великое замирение, погодят твои лошади, помолчат пушки. И мои глаза целее будут.
- А зачем крамолу мне говоришь? Супротив государства? Я не могу слушать. Я присягу давал, я русский дворянин...- невнятно выговорил Кавалер, потянулся было к полупустому кувшину с зельем, но уронил слабую руку на траву.
Опрокинул кувшин. Медленно вытекло зелье, набормотало сны.
Богородичка удержала его руки. Печальная собеседница, на всякий шорох оборачивалась. Уже идут за нами? Нет...Послышалось.
Поживем еще чуть-чуть.
Так и жили чуть-чуть.
Сверху на тонкой веточке качаясь, следила за ними птичка-стукачка, желтая иволга, глазок черный перчик, все видела, заглядывала в душу, подмечала мелочи.
Рабочие пчелы завивали свои танцы над головами нелюбовников. В бело-розовом яблоневом ладане купался истинный полдень, как стеклышки в ладони перекатывался.
- Дай еще... - потребовал Кавалер - голова поплыла, будто вспыхнула изнутри, как тополиный пух, подожженный кузнечной искрой. Слоистым узором играл в глазах Божий мир, с трудом вернулся в себя Кавалер, пристально, как ребенок, слушал Богородичку и не слышал.
- Нельзя больше. Сердце заболит. И остановится. Ты потрепи, родненький... ну хоть до завтра. Бог сказал тебе давать, сколько спросишь, а я не хочу. Не могу. Знаешь что - она нагибалась низко щекотала шепотом на ушко:
- Ты вот что... ты беги отсюда... Не оглядывайся на меня. Все здесь обман. Всё здесь - ловушка.
- А Бог?- сонным, не своим голосом спрашивал Кавалер.
- Нет Бога, - колокольным гулом издалека отвечала Богородица.
- А лебеди?
- Улетели.
Богородичка пинком босой ноги откатила пустой кувшин подальше от охмеленного гостя. Дал бы Бог волю - к черту бы сорвала покров и будь что будет. Как собаке намордник нацепили. Опостылело все. Не девка я, а подсадная утка. Крякаю в тростнике, заманиваю селезней на выстрел.
- Покажи мне лицо, если Бога нет?
- Не Бог запретил. Я сама.
- Я тебя знаю?
- Ты меня знаешь.
- Хорошо,. - улыбнулся Кавалер так нежно, что Богородичка захотела его в губы лизнуть - но тоска и повседневная тревога пересилили.
Неделю уже ходил Кавалер опоенным.
Ни с водки, ни с табаку такого не бывало, как с лебединого меда.
Что ни утро просыпался в поту. Отталкивал питье и умывание.
Опоили, обманули, поймали, что мне делать?
И голова вроде ясна, но кажутся переметные картины, по всем углам чертичто ерошится, моргает усом, кажет кукиши, красными мурашками разбегается по коже, ломит суставы.
Невзначай звенят насмешливые голоса, синички будто щебечут, о полночи дышат за спиной мертвые пивовары, мучают болотным выдохом, обнимают под одеждой всякий час ледяные руки-оплетуньи. То в жар бросает, то в озноб, ни покоя, ни беспамятства, ни в постели, ни в стогу.
Тело сухое и пустое изнутри, как соломина, чудится - дунь, так взлетит плоть над крышами без души, никогда наземь не опустится.
Все дороги кривыми казались, хотел со стола нож взять - а промахивался, хватал ложку.
Левую сторону с правой путал, карточные масти не различал, позвали бы на похороны, спел бы "Многая лета", позвали бы на свадьбу, затянул бы "Со Святыми упокой".
Полуслепой от горючей жажды спускался Кавалер на конюшенный двор, на скаку садился в седло, припадал лицом к лошадиной шее, андалузец храпел, чуял: неладное творится с хозяином, но, послушный поводу, вкривь и вкось вытанцовывал Царицынские тропы заново. Не родился такой конь, который от беды человека умчать может - беда всегда впереди на четыре шага огненным колесом катится.
Крепкий мед ставили на пасеке хитрые медовары.
Селиваново зелье. Напейся, не облейся. Мир навыворот.
Что ни день, что ни вечер, не по своей воле приходил опоенный Кавалер к Богородичке. Смотрел исподлобья. Больно проводил ладонью от подбородка до кадыка.
Говорил одно, будто камень в тинистый омут бухал:
- Дай.
Богородичка выносила из подклети зелье, сваренное Марко Здухачом. Двигалась ломано и плоско, как вербная кукла. Ставила зелье на траву, смотрела черными от тоски глазами из прорезей. Молчала.
Себя забыв, припадал юноша к горлу кувшина, и после трех долгих глотков оседал бескостным сугробом ей под ноги.
Богородичка, жалея его, окунала платок в колодезное ведро и смачивала алые пятна на скулах Кавалера.
Втолковывала, как маленькому, сквозь медовую пелену:
- Не ходи сюда. Не проси мёда. Я не могу тебе отказать, за мной следят. Если проведают, что проговорилась тебе, выгонят... Или зарежут. У лебедей разговор короткий. Ох, дурак-дурачина... Очнись!
Осекалась на полуслове, застила свет бисерным рукавом, если он вскидывался:
-Ничего, ничего... Спи.
Но сегодня не так вышло.
Видно не допил Кавалер и до срока опомнился. Богородичка думала - спит, как всегда, наклонилась, затаив дыхание, но юноша нашелся - стиснул ее запястья - попалась!
- Говори!
- Тшшш.... Что тебе сказать? Здесь повсюду уши.
Кавалер, хоть и сглатывал от мутной дурноты, хоть и троилось в глазах, прошептал:
- Отвечай, да или нет. Хоть кивни если да... Ты боишься?
- Да.
- Хочешь уйти с пасеки, не пускают?
- Да.
- Веришь мне?
- Нет.
- Я тоже. Ты вольная?
- Нет. Я беглая.
- Вот что. Нового не скажу. Никакой я не прасол. Имени тебе не назову - забоишься. У меня золота, как грязи. Приходи в Навью Деревню, завтра, как солнце сядет. Оденься неприметно, богомолкой или нищенкой. Лицо открой. Не бойся, я зря смотреть не буду. В деревне никто тебя не встретит. Все карлики к вечерне пойдут. Сегодня Иванова дня канун. Я буду ждать у пожарного колодца. Дам тебе денег, сколько хочешь, и поедешь к нам в деревню, в Спасское, я напишу письма, тебя примут, как царицу... Домишко на отшибе есть, выморочный, два года, как ничей, я прикажу, чтобы обставили. Ну обустроишься по первости сама, а я скоро приеду... вольную тебе привезу. Ты из каких будешь?
- Костромские мы, - призналась Богородичка.
- Скажешь потом, к чьей фамилии приписана, я выкуплю. Будешь набело жить. Слышишь: я все могу! Хочешь, на Москве, на Рождественке сниму для тебя одной целый етаж с видом и садом? В парче и кружевах будешь щеголять. Сахарную голову лизать.
Помрачило Кавалера поспешное всемогущество.
- А каково мне будет в московском саду? - тяжело спросила Богородичка.
Кавалер приподнялся на локтях, улыбнулся и заврался, как никогда не врал - искренне, будто по книге:
- В саду воздух чистый. Города не слышно - только разве лошадка от монастыря с хлебной телегой процокает в переулок. Или водовоз бочку прокатит, сронит капли. Ну кобель из подворотни брехнет раз-другой. А потом - большая тишина. Ограда высокая, легкая, с выкрутасами.
Отовсюду сирень-персючка прет букетами.
Постель белая, мятый шелк китайский, подушки пышные. Принесет тебе черная арапка черного кофею с белыми сливками на серебре в постелю, окно распахнет. Лежи, прохлаждайся.
Зеркало тебе выпишу от пола до потолка. Подложка серебряная. Раму золоченую закажу у Шульмана на Таганке, модный багетчик, все у него берут. Платьев будет четыре шкапа. Нет, восемь. Хочешь носи, хочешь бросай.
Богородичка отшутилась:
- А что взамен потребуешь? За сирень и зеркало? Говорила мне мамка: не лети ворона, в царские хоромы, барская любовь пуще барского гнева, гнев то высечет, а любовь-то высосет.
Кавалер обиделся, приобнял Богородичку за плечико. Окаменела баба. Не заметил. Потянулся, как кот, аж тепло и сладко стало от своей щедрости и доброты.
- Нет, ты все-таки ду-ра. Тебе в руки блага плывут, не зевай, лови подолом, а ты кочевряжишься. Ничего мне от тебя не нужно. Я добрый. На Благовещение приносит холоп в сетке мелочевку - синички, щегольки, воробушки. Одних пущу - лететь, а какие покрасивше - оставлю в клетке. Разве ж я от них работы требую? Милость-то бесплатно творю. Для души.
- Благовещение прошло. Птицеловы у тебя непроворные. Упустили птицу сквозь пальцы.
Под сыромятными постолами зашуршала трава.
Заслонил солнце темный Марко Здухач, тиснул большие пальцы за широкий пояс с медными колобахами. Набычился.
Кавалера будто и не заметил - только бровь округлил, да налились вены на кулаках тугой кровью. Мотнул головой - левая коса хлестнула по скуле.
Сказал Богородичке глухо и просто.
- Вставай. Аринка повесилась.
Кавалер выругался про себя. Некстати приперся смерд, кто просил?
- Как повесилась? - глупо переспросила Богородичка.
- В сарае. На веревке, - ответил Марко без улыбки. - Ее уже сняли. Обмывалки нужны. Бог не любит, когда мертвяком пахнет. Проследи, чтобы мокрохвостки наши воду для тела из колодца не брали, пусть на пруды идут, и выливают подальше, в помои. Ну, иди!
Тут уж и Богородичка поняла, что к чему, присела, схватившись за яблоневую ветку, обтрясла на траву поздний пожелтевший цвет, провалилась ткань на лице в ямину рта - хотела баба завыть по-деревенски, в полный голос.
Но Марко Здухач ее надгробный крик перехватил, хлопнув в ладоши - будто отсек дыхание.
Приказал снова:
- Пошевеливайся.
Богородичка молча посигала по траве, неуклюже, по-женски, вздев подол чуть не до срама.
- А у меня свое дело найдется, - по заморскому обыкновению странно и кратко выдыхая меж словами проговорил Здухач - Вставай, господин хороший.
- Какого черта? - забарствовал Кавалер.
- Лысого - охотно ответил Марко, вздернул пьяненького на ноги, встряхнул, за ворот как полкан - ветошку. - Пойдем, потолкуем, молодой.
- Пусти, хам!
- Сим и Яфет - невозмутимо отозвался Марко и сделал самое стыдное, что знал в жизни Кавалер, одним движением вскинул брыкающегося барчука на плечо, хлопнул по заду и пошагал великанским шагом вниз от пасеки к быстрому пятничному ручью.
- Запомни, на дурной вопрос надо немедля давать самодурный ответ. За умного сойдешь.
Кавалер на всю жизнь запомнил совет Марко Здухача.
У водопойной колоды перед хлевом, Марко Кавалера насильно в мутную воду головой макнул до пузырей.
Отпустил подышать, да зря - Кавалер налетел на Здухача с кулаками - готово дело, перемесились в пыли, замордоквасились нешуточно.
Здухач бугай бывалый - и каменюку из руки вырвал, и под душу въехал так, что захолонуло, и снова в колоду макнул парня, наподольше.
- Остыл?
Кавалер только кивнул. По лбу розовая ссадина ветвилась, в пыль с волос капало.
Молча сели в теньке. Дышать.
Марко Здухач развязал ташку, достал рожок-баранец с табачком, взял понюшку, протянул Кавалеру, а тот локтем отпихнул:
- Да пошел ты!
- Как знаешь.... - Здухач от души чихнул, да "Будь здоров" не дождался.
- Ты зачем девке голову морочишь, пустобрех?
- Не впустую. Я все могу... Знал бы ты, из каких я буду, не так бы запел.
- На обидчивых воду возят, - нехотя сказал Здухач, сорвал дикий колосок, зажал меж пальцами метелку и быстро спросил - Петух или курица?
- Ну, петух.
Здухач сорвал головку с колоска, глянул - хохолка нету, и языком цокнул:
- Шалишь. Курица. Не тебе, недорослю, с фартовой бабой крутить. Здесь мужик нужен, а не пащенок. Богородичка подневольная, что скажут, то и сделает. А чуть, что не так - пожалуй под нож.
- Что ж у вас тут, не лебединое гнездо, а живодерня?
- Одно другому не мешает. Лучше один раз увидеть.
Вернулись на пасеку хитрым путем.
Прошли дровяной сарай, конюшни и каретник.
У сенного будто бы сруба, Марко Здухач остановился, из дверцы выскользнули, шушукаясь, как серые мыши, девки с ведрами мыльной воды, канули за угол.
Марко показал глазами на дверь.
- Это здесь. Проходи, коль не боишься.
- Чего бояться?
- Всегда есть чего.
Марко Здухач отворил покосившуюся филенчатую дверь и первым впустил Кавалера в душное логово.
Вонь шла истошная от обмылков, сырой супеси, мочи и курного ладана в ступках.
На столе под сереньким покровцем вытянулась покойница..
Марко снял покровец, мертвячка еще не закостенела - повернул послушливо, синюшно лицо, белки вылезли, губы, как петушьи гребехи.
Шея распухшая ощерилась петельным следом.
Кавалер спиной к стене припал, дышал ртом.
Марко поцеловал Арину в лоб, шепнул: "спи, любенька, не ходи рядом", потянул за кольцо погребную дверцу в полу.
Спустились по лестнице вниз, Здухач впереди шел, свечой от образа указывал, куда ступать, объяснил:
- Зимой пилим глыбы на пруду и складываем в ледник. Сало, рыба, ягоды по месяцам не лежат. Молоко морозим в мисках, кругами. Пельмеши - колдунцы.
Рваный свет метался по погребу, как ни прикрывал Марко свечу ладонью. Висели на крючьях в инее свиньи и бараньи полутуши, гуси битые с пупырками на горловом лоскуте.
Додумались Лебеди Селивановы под ледащей избенкой целую преисподнюю выкопать.
Холодом потели ледовые глыбы.
На пятой от лестницы глыбе, протянулось тело, лишь лоно и грудь кое как прикрыты мешками.
- Убоину тоже лёд исправно от гнили держит.
Марко свечу в головах поставил, чтоб видеть.
- Это Андрей, старший брат Арины. Твой ровесник. У Андрея батька прошлой весной помер от удара, богатый человек, церкви строил. Мать померла еще раньше, детей осиротила младенцами, как отец убрался, оба остались без родни. Соседи - жадобы набежали, наследство разорить норовили. Всякие жилды и криворушники полезли нашептывать. А Бог Кондрат тут как тут. Расшугал мелочь, окрутил Андрея и на пасеку привел Вспомни, обещал тебе Кондрат коня пегонька?
- Да, - сглотнув, ответил Кавалер.
Марко сдернул холстину, показал мороженую язвищу в межножье мертвеца. Сплошная мешанка с коркой, а из середки гвоздь торчит, чтобы дыра для малой нужды не зарастала.
- Вот он, пегий конь. Первое убеление. Во имя Отца. Садят в корыто, велят ноги раздвинуть, и мошонку долой! Второе убеление - конь гнед, а шерсти нет. Уд иссекают под корень. Во имя Сына. А про белого коня? - не унимался Марко - про ключи райские говорил тебе?
- Да... Закрой! - крикнул Кавалер. "Крой- крой - крой!" мерно и гулко передразнило погребное эхо и онемело.
Марко снял последнюю мешковину, приблизил свечу к свежатине.
- Последнее убеление. Во имя Духа Святого. Мужчинам, как и женщинам, иссекают сосцы. Не усидел Андрей на "белом коне". Истек кровью. Тут и положили. По скопческому обычаю мужика на седьмой день хоронят, по числу Творения. Не дождалась Арина похорон. Самовольно вслед за братом побежала.
- Неужто по доброй воле... Оскопился?
- Добрую волю я саморучно варю, хоть упейся. Значит, берешь олень-корень и болиголов-дурман две доли. Бешенницу или волчью ягоду, для сонной одури, одну долю. Толику паслена черного, и еще такую травку, у рыбаков спроси, - куклеванец, ей рыбу травят в омутах. Рыбка от куклеванца становится бешенкой, верхоплавкой. Замесишь в мед с вином, разбавишь теплой водицей и водкой. Настоишь в тени. Готов лебяжий мед. Ну там еще пара-тройка хитростей на кончике ножа, тебе знать незачем. Кого напоишь - будет твой навеки. Чем больше пьет натощак, тем послушней. Сначала щедро поят, а как привыкнет - наотрез отказывают. Привычка крепкая, пуще голода, бывает пясти себе грызут опойцы, корчит их, к исходу недели мать родную на мясо продадут за глоток.
Так Андрей весь нажиток отцов и приданое сестрино Кондратию передал. Аришка в девушки-кукушечки пошла, Андрей мерином заделался.
Капнул воск на жидкую бороденку трупа, зашипело...
Кавалер к лестнице отшатнулся.
- То, что у Андрея снаружи, ты себе изнутри намечтал. Вот и любуйся теперь "наизнанку".
После стояли за сенником в сорняках, грелись. Садиться Марко не велел - сомлеть недолго.
- Все хозяйство лебединое на таких Андрейках да Аришках держится. На людях скопцы слаще пряничка: "братуша" да "сеструша", а чуть что за копейку глаза вырвут.
Ты ягода редкая, не черника - княженика. От тебя Бог большой куш ожидает.
Сразу решили, отчекрыжат тебе лишку, и поставят в пару к Богородичке, честных людей морочить. А я с умыслом зелье варил, послабее, чем остальным. Надеялся на тебя.
- Благодетель. По гроб жизни прикажешь, тебя добром поминать? На что надеешься, что я размякну и тебя, образину, озолочу?
- Не за себя прошу. Богородички только для заманухи годятся, а коли увянет или какого дурака упустит, ее в расход. Если Бог Кондрат что проведает, нашу рыжую завалят в бурьян, как кобылью падаль. Не мне, ей помоги бежать. Люба она мне.
- Чем помочь?
- Кабы я сам знал... Голос мой в здешних краях - не голос, а собачий волос... Ни звания, ни грамот, ни нужного дружества на Москве. Если торкнусь куда - мигом в острог посадят, у скопцов везде своячье сидит. Тебе лучше знать, к кому за помощью идти.
Кавалер только рукой махнул, нахмурился:
- Не болтай, дай подумать... Давно у вас живодерство творится?
- Давно. Вся пасека на погосте стоит. Хороним тайно, в овражке по низам, без гробов - лебеди налегке улетают, ноги с руками свяжут, чтоб значит, колесом в рай катился, и в земельку. Весной паводки кости вымывают. Чинам и попам хорошо платят, чтоб немы, слепы и глухи оставались. А мужичье Царицына леса и без нас как огня боится. Времени мало, сегодня надо решаться. Бог Кондрат на пару дней в Москву уехал, дела ворочает. Если просто с девкой бежать - догонят, за ней уж и так слежка, я слышал, пугали ее чужие какие-то, про тебя спрашивали. Видно у Кондрата сторонние соглядатаи имеются.
Кавалер не слушал Марко, торопливо говорил:
- Навести б солдат на изуверов... Всех скопом повязать, пусть потом разбирают что к чему. Знаком я с одним чином, который взяток не берет.
- И птичьим молоком питается? - усмехнулся Марко.
- Тьфу. Язва. Я тебе правду говорю. Архаров, Иван Петрович, обер-полицмейстер московский, слыхал о таком? Зверь-человек. Чутье тонкое. Въедлив, как клещ, его вся погань боится. Он еще с чумы на своем месте прочно сидит, никому его не сковырнуть. Вот к нему и поеду. Все как на духу выложу. Сам приведу солдатскую команду. Он батюшку моего близко знал, должник его. На слово поверит.
Здухач присвистнул, заглянул Кавалеру в лицо с изумлением.
- Из каких же ты будешь? - и передразнил давешнюю пьяную болтовню - "Я русский дворянин. Я крамолу не могу слушать". Так?
- Пока я буду туда-сюда мотаться и Архарова на дело уламывать, ты беги к Богородичке, коня укради и бричку, езжайте подальше. Куда бы вас... А, знаю - в Серпухов. Есть там при Ильинской церкви на торгу кабак с верхними комнатами для гостей, берут недорого, а стелют чисто. Хозяин там Мишка Хомяков, моего дядьки отпущенник.... Скажешь, что от...
- Кавалер притиснулся к Марко поближе, назвался полным именем.
Марко аж присел:
- На черта ж тебе Царицино, при таком раскладе?
- Тебе что за печаль? Мое имя - твой ключ. Мишка вас задаром поселит. И еще спасибо скажет. Да прикажи, чтоб на горячее свежатину дал, а не солонину, как всем, а то потом не посмотрю, что вольный.
Как закончим здесь - я к вам самолично приеду при всем параде. Денег привезу, бумаги надобные. И...
- Кавалер вздохнул, вспомнил рыжие косы и тяжкие груди Богородички - И катитесь на все четыре стороны, раз такое дело.
- А как же твои карлики? - спросил Марко Здухач. - Если солдатский развод наскачет, то и Навью деревню не пощадят. Хотя... есть одна дорога. Ты помнишь, как правил конями, когда я пьяного возницу перед тобой разыгрывал? Это по верхнему Царицину надо ехать, мимо церкви Живоносного источника и несторовой берестяной беседки.
- Помню. Так и поведу.
- Ну что ж... - Марко в задумчивости покусал свою косищу, протянул широкую ладонь. - Славный Иванов день выходит. Ну что... Друг?
- Черт с тобой. Друг.
И хлопнули Марко и Кавалер ладонью о ладонь.
- С Богом.
Разошлись - каждый в свою сторону, будто и не знались.
Всадник срезал дорогу, подстелил под копыта сизую на закате от зноя луговину. Но не успел - осекся конь, оскалился, перешел на лисью рысцу.
Сквозь медуницу и зонтики снежной душицы бежала Рузя. Старалась изо всех сил, плескала рукавами, болталась на лямке холщовая сума, в каких нищие горбушки носят.
- Сто-ой!
Еле виднелась бегунья в дурнотравье.
Задыхаясь, Рузя вцепилась в стремя. Улыбнулась. Поправила берестяной ободок на летучих волосах.
- Ты куда?
- Тороплюсь, - ответил Кавалер.
Рузя лицом потемнела, отступила, так, будто ударили.
- Ты же обещал... Не помнишь? Ты неделю назад обещал, что со мной переночуешь на Ивана?
Кавалер досадливо пальцами щелкнул. Совсем одурел от скопческого зелья, упомнишь разве, что, где и кому обещал.
Рузя чуть не плакала, побрела рядом, опустив голову.
- И батюшка ругается... что ты больше к нему на науку не ездишь. Ни с чем, говорит, пирожок вышел. А я ногой топнула, кричу на него: Нет, с чем! Нет, с чем! Первый раз с батюшкой поругалась, никогда такого не было. С утра одна брожу. Вот тебе и праздник.
Девочка наколола стопу травяной остью, захромала, села в бессилии в траву и совсем запечалилась. Даже андалуз зафыркал, потянул к ней длинную морду - вспомнил зверь, как угощала его Рузя сухарями в бывалые дни.
- Ну, обещал, а вышло не по-моему... Мне надо! Там такие большие дела делаются, ты не поверишь.
- Я поверю. Вот что ты ни скажешь, я всему поверю.
Кавалер застыдился, оглянулся на пасеку.
"Значит так, к Архарову все равно с утра надо ехать на Остоженку. Просителей растолкаю, первым успею. Ночи короткие, а Марко еще Богородичку будет до утра уговаривать. У бабы, известное дело, слезы- грезы, узлы завязать, да собраться, да под образа кинуться, с молитвой. Помереть не померла, только время провела. А девчонку жалко... ведь и вправду обещал. Все равно солдат раньше завтрего не поднимут в облаву. А с утра чиновные крысы выспавшись, сговорчивей"
- Иди сюда, дай руки. Так и быть. На эту ночь останусь. Уговорила.
Рузя поверила - протянула ладошки, Кавалер, смеясь, подхватил ее, усадил впереди себя на конскую холку, тронул андалуза неспешным шагом.
Рузя тут же повеселела, припала виском к груди всадника, но застеснялась - порылась в суме и принялась плести кольцом жгучие стрекучие стебли.
Запястья белые все в крапивных цыпках.
Кавалер присмотрелся - сумка девочки до краев полна была осокой и крапивой и рукавичка особая сверху лежала, чтоб жгучую крапиву собирать
- Зачем тебе?
- Венок сплету, украшу церковь.
- Разве красиво - крапива?
- А разве нет? Посмотри. Вся резная, листик к листику. И пахнет хорошо. Вот сплету, отнесу нашей Навьей Богородице, желание загадаю. Ты ведь у нас в церкви не был? На службу тебе нельзя, ты большой, тебя не пустят. Как скажут "оглашенные изыдите", тебя прогонят... А когда никого нет - можно и посмотреть. Ты мне поможешь повесить венок? Икона высоко, к ней не прикладываются. На расстоянии просят о всяком деле... Вот и я попрошу...
- О чем?
- Не скажу. - дурачилась горбатенькая Рузька, болтала ногами, припевала тоненько, будто из под воды, не в склад, не в лад:
- У воробейко жена воробейка, у горностайки жена горностайка, стал воробейко сына женить, стал горностайко дочь отдавать. Жить горностайке с воробейкой долгий век, три недельки. Все венки поверх воды, а мой утонул. Все дружки с Москвы пришли, а мой обманул.
Как белая лодка, шагала не шатко, не валко большая снежная лошадь с двумя седоками по лиловым волнам иван-чая, лениво длилось летаргическое плавание в лугах. Кавалер молился в полудреме, чтобы не заканчивалось оно. Длинными лучами ластилось к долинным луговинам закатное солнце из-за ельника.
Когда доехали до Навьей Деревни, Рузя замкнула крапивный венок.
Тихо-тихо, не остановился, а будто причалил конь у белой карличьей церковки на чисто выметенном и посыпанном речным песком дворе.
Карлица-черничка в старушечьем черном платке в белый горох, завязанном узлом под подбородком крутила ворот церковного колодца, обернулась на приезжих, вытянула полведра, по-вечернему чисто срывались в глубь колодезного сруба капли. Водоноска поджала губы, мелко и зло перекрестила Кавалера и потащила ношу к службам.
- Это Стеша-кликуша. Она иконы пишет, но никому не показывает, пускает по водам - прошептала Рузя и передернула плечиками - И чего она тебя крестила? Она редко крестит. К добру или к худу?
- Суеверство - ответил Кавалер.
Внутри все, как в больших церквах - и птахи перепархивали под низким барабаном многооконного византийского купола и колонны покрыты процветшим орнаментом и ладанный холодок и свечной ящик и образа и Царские врата, запертые по праздному времени.
В узкие оконца-бойницы проскальзывало кирпичное солнце. Сумрак клубился по углам - над головой - сияние. День погожий, а кажется будто снаружи шелестит дождь.
Рузя сняла с гвоздя при входе рябенький платок, повязала, отбила поклон на три стороны. И Кавалер потянул было троеперстие ко лбу, но опустил. Вспомнилось всякое, ну его. Только встал поразвязнее от упрямства, оперся локтем на расписную колонну:
- Богатое место.
Образа на иконостасе все незнакомые - то искусные, то кустарные, будто ребенок малевал, были и на стекле писаные лики, по обычаю карпатских деревень, и резные образа - Николы и Георгия-Змееборца. Все на украшение годилось, лишь бы глаз пестротой тешило.
Рузя навещала знакомые иконы, кланялась, тихонько здоровалась, иные целовала - но не как святыню со страхом - а с радостью, будто пожилого родича.
Чтобы руки освободить, надела крапивный венок на голову, указала Кавалеру на икону, повешенную выше остальных:
-Подними!
Кавалер поднял девочку, подождал, пока она прикрепит венчик к подножию оклада.
Икона известная - веселая, ясная, самая что ни есть - купальская:
Богородица Неувядаемый цвет. Румяна и чернобова, совсем малоросская Марийка.
Рузя вся тянулась к Неувядаемому Цвету, на отвесном солнце сияло, как янтарная капля, живое тело под рубахой напросвет.
Видно коротким да жарким было ее желание.
- Вот и все. Пойдем. Скоро наши соберутся, на молебен, а я с утра была.
Кавалер, задумавшись о завтрашнем, повел девочку к двери, привычно соразмерял свой широкий шаг с ее тесной поступью.
- Куд-куда-куда! Тах-тах! - аж под хорами куроклик отдался, Кавалер чуть оземь не тяпнулся - сзади под колени сумасшедшим кубышем подбила его круглая карлица в черном платке в белый горох, дикая, краснорожая, затрясла сальными подолами, вывалила язык и глазные белки будто Арина-удавленница.
- Стеша! - завизжала Рузя.
- Накатил! Накатил! Накатил! - вопила бабенка, каталась колесом - не давала выйти из храма.
Вдруг, как на пружине подпрыгнула и впилась в плечи - выхаркнула в лицо юноше жаркий плевок - тот аж пошатнулся от ноши.
Не было лица у кликуши - будто сырой глины ком вертелся на шее, космы седые, платок кладбищенский, все в пестрядь мешалось. Живоплотная глина менялась, будто разминали ее бесноватые пальцы. Десятки лиц, личин, рож, кукишей мордоворотились напротив. Менялся и голос. Заблеяла Стеша, будто из живота, мужским козлогласием:
- Я Сазон-Утопленник, кто меня посадил в тело, не скажу, не скажу!
- Пусти, мой чяред! - сменилось лицо, опухло, постарело - Я Ляксандр, Ляксандр, спьяну замерз, помнишь мяня - с полесским выговором умоляла личина, но ее вытолкнул новый человек, нехотя вылупился из мяса, захрипел, облизнул разорванные губы - вырвана щека была - подразнил гнилыми зубами:
- Я Наум убиенный. Говори мне красную смородину...
- Нет... - хотел сказать Кавалер, заплясали перед глазами церковные росписи, львы и орлы на дверях.
Стерла и скомкала лицедейская круговерть Наума, резкими чертами высеклась старуха, старописной строгости, рот провалился в морщины, веки позеленевшие от медяков отворились - высунулась из левой пустой глазницы черная мышка.
- - Ба-бушка... - по слогам окликнул Кавалер.
- Ты. Ты. Ты. Ты, - монотонно затявкала покойница.
Кавалер, как битый бык, грохнулся на оба колена, ослеп от слабости.
И оглох от истошного кошачьего мява - Стеша, визжа, как горящая в мешке кошка, отпала от Кавалера, выгнулась дугой и обмякла.
Утишилось простое с рябинкой лицо.
Рузя уже бежала по лучу, чуть не за рукав подрясника тащила за собой батюшку-карлика, отца Кирилла.
Тот сразу догадался, что к чему, увел Кавалера в ризницу. Налил стакан водки.
- Ты на Стешу не держи обиду. Это не Стеша, а Шева, душа-лишанка из нее орёт.
Шева от человека к человеку переходит, то ворсинкой, то червем, то соринкой обернется, с незакрещенным питьем ее и глотают. Была Стеша - батрачка, стала Стеша-имяречка. За ней черницы присматривают, а тут праздник, дел невпроворот, вот и о прошлом разе тоже ушла в лес, залезла на елку и оттуда куковала, еле сманили на землю оладушком.
- Д-да она мертвецами битком набита - стуча зубами о край стопки, выговорил Кавалер.
- Что ж поделаешь, - развел руками отец Кирилл - и по Петру Могиле ее отчитывал и молимся всем приходом за здравие, а толку чуть. Дьяк Федулка говорил, что хорошо бы ее сквозь хомут продернуть да кнутом отходить до полусмерти. Да разве ж я позволю над убогой изгаляться. Она тихая. Только вот с тобой заблажила. Наверное, гроза собирается. Или...
Поп присмотрелся, сощурился пристально:
- Слышь, душа-человек. А шёл бы ты отсюда подальше. По-хорошему.
28. Купала.
Купальская ночь истратилась до грошика.
Ветрено, ветрено в средних воротах.
Пчелы обмерли в колодах. Поползла по низам седая остуда Иванова тумана. Вишневые деревья потели смолой-камедью. Над мертвыми и живыми пролетела босая мамка по имени Летавица, русая, простоволосая, ее честная нагота, как речная вода, за спиной в корзине - дитя молочное, Иван Предтеча, сжал кулачки и веки.
Собрала Летавица звезды светлые в корзину, пропала за лесом, будто не гостила на земле.
Свеча оплыла в черепке, новую в огарок воткнули и затеплили. Марко Здухач уговаривал Богородичку. Гладил по локотку. Ласковые слова говорил, а то и покрикивал. Богородичка плакала, слушать не хотела, ничему не верила, коралловое ожерельице вертела, вертела и порвала, бусинки по половицам стукали-тикали, как барские часики.
- Кладу три креста взамен одного! Чтоб я на всех трех висел, если обману тебя.
Согласие свое дай, силой брать не хочу, а там уж все готово для побега. Сам без тебя с места не тронусь. Уедем в Серпухов, а выгорит дело с московским гостем, так тронем в Новгород. Веселый город. Все сытые. Опасную красоту твою сливками омою, в черных лисиц и песцов одену, всему что знаю, научу. В Пасхальную заутреню свечи будут у нас в руках гаснуть, земли не хватит, чтобы наши могилы засыпать, никогда не состаришься, не подурнеешь, будем с тобой облака гонять ладонями, ливни приманивать, засуху отваживать, с черными хворями сражаться, сам обернусь красным медведем, тебя железной волчицей обучу перекидываться. Я птица-воин Могай, ты Сирин-птица- радуница. Полетим далеко-далеко голые по небу, крыло о крыло, сядем на Рай-дерево, все царства тебе поклонятся, корабли с дарами по волнам к тебе побегут. На Рай-дереве гнездо совьем, соловьиное. Будешь деток растить, монисто плести, смеяться, весну благовестить.
- Ай, врешь!
- Смотри - Марко высвободил из-под ворота кожаную ладанку, достал четвертку бумажную, развернул, показал: мелкой вязью испещрена была грамотка, порыжела на сгибах.
- Сам читай, я не обучена.
- У новгородского дьячка я кладовую грамоту обманом добыл. Тут написаны все новгородские клады, я наизусть вызубрил:
Значит так: у Богатырских ворот на юрке - котел серебра и меди. Не доходя церквы Флора и Лавра десять сажень, куст ракитовый, под ним сундук с яхонтами и лалами. Близ Нарвы на двадцать пять верст от почты лежит валун, под ним три туеса с деньгой. За Варламьевыми воротами от красной сосны отмерь четыре сажени, увидишь два ключа, меж ними копай, под крестом, там горшок с моложенным медом - любые раны заживляет, если помазать. Только копать должен смертельно раненый, еще никто не успевал дорыть, прежде времени кровью истекали, оттого земля на том месте ржавая и молчит.
На старинной зимней дороге, в Порховском селе по левую сторону забора от второго дома считай, найдешь две сопки, как сенные копны, между ними бочка медных пятаков и неизводная бутыль водки - весь город пои допьяна неделю, ни капли в бутылке не убавится. В достатке будешь со мной жить!
Богородичка вскочила, отняла кладовую грамотку, порвала в клочья, сказала без лишних слёз:
- Ох, как надоели оба. Один с барством, другой с воровским ухарством. Что кроме барской вольной да неизводной водки за душой - пшик?
Бросилась было к двери, да Здухач поймал ее на полпути, обнял тяжело и нежно.
Снял лебединый покров с заплаканного лица.
- Ничего у меня больше нет, девушка. Видишь, пустые руки.
Долго целовал, ртом в рот проникал. Разжала Богородичка зубы. Впустила язык. Больно попробовала уздечку подъязычья. Тем же ответил ей Здухач чужеземец.
Медленно расплел Марко Здухач рыжие косы, раскидал волосы по плечам. Целовал пряди.
- Как тебя зовут?
Девка подняла невидное, с мордовской курносинкой лицо, всхлипнула напоследок. Смешная. Брови рыжие.
- Наташка Кострома с Пресни. Я- шлюха. Весной ушла из кабака на Черных Грязях, что на Звенигородском шляхе, тошно стало жить. К скопцам прибилась. Вот, живу.
- Наталья. - повторил Марко, будто только имя и расслышал - Поедешь со мной? - обнял затылок ладонью, поцеловал тихо, в висок, ни о чем больше не просил.
- Да. Поеду.
- Едем, как есть. В ночь на Ивана все нагие. А барахло носильное да съестное, к черту. Пропьем - наживем. Мне ни кладов, ни Рай-дерева не нужно. Одна ты. Летал я к тому дереву, видел, на нем вместо яблоков секиры високосные растут, а в хорошие годы - колокола и волчьи ягоды. А клады могильные на сто голов закляты, не стоит и браться.
Жди меня у средних межевых ворот на перекрестке. Идти лучше порознь, я упряжку выведу окольной дорогой и тебя подхвачу, где условились. Увезу тебя в город Котор. Домой. Жить.
Наташа, не размышляя, вышла из горницы. Только раз обернулась. Большой Марко улыбнулся ей вслед, одними глазами пожелал "Добра!".
Она в ответ засмеялась в рукав, как малая. Пошла по травам, дышала жадно, кобыла беглая. Подставила ночному ветру навеки свободное от маски лицо.
Крутанулась на пятке, забаловалась. Как ведьма хороша, Наташа, побежала с пасеки, прошила пряную огнецветную ночь, сама над собой хохоча от счастья, точно пьяная.
Сорвала походя у обочины подорожник - трипутник, наощупь узнала круглый жилистый листок. Прошептала докрасна зацелованными губами:
- Трипутник-попутник, живешь при дороге, видишь малого и старого, скажи моего суженого!...
Бросила травку, затоптала, как пиявку:
- Ай, бес! Без тебя знаю! Гадать - страх, ворожить - грех!
Только на перекрестке у средних ворот опомнилась. Отдышалась. Стала ждать.
Нож у горла.
Ловушка.
Наташа замерла. Чуяла кожей, жилочкой лезвие ненавистное, ледяное.
Враг зашепелявил за ухом, вкрадчиво:
- Со свиданьицем, девуш-шка... Уговор дороже денег. Говори, где белая карлица с московским гостем по ночам шляется? - Шестерка поудобнее обхватил шею девушки локтем, пощекотал острием ножа под челюстями.
- Я не знаю. Дома. Или в церкви...
- Нет их там. Смотрели.
- У источников...
- И там нет. Не ври, красючка, знаю, ты с белой карлицей накоротке была, дни вдвоем коротали, пока мужик между вами не пробежал. Сказывай, есть у белой карлицы свои убежища? Разве подружка подружке о тайных местах не болтала?
- Боже мой! Пусти, не знаю ничего... - забилась Наташа в смертной тоске.
Щеголеватый Тамарка, скользкий, сальный, с глазами подведенными сурьмой, встал напротив, облизнулся, стрельнул плевком сквозь выбитые передние зубы. Мигнул Шестерке, тот осклабился и провел ножом, как смычком, по шее Наташиной. Неглубоко провел. Пугал.
Полилось алое меж ключиц.
- Все скажу! Не режь меня! Есть полянка потаенная, с маками. Рузька туда одна бегает, песни поет, никому не выдает. Только меня по секрету на Пасху водила. Место помню смутно, то ли в ельнике, у пруда... Ой, нет, в березняке. Она мне верила. Мы сестры крестовые, на Троицу покумились, крестами поменялись, когда девичью яичню жарили.
- То ельник у тебя, то березняк, - хмыкнул живорез Шестерка - Пошли. Сама покажешь убежище.
- Сволочи... - сказала Богородичка - Я только мужика нашла.
- Мужик не блоха, от щепоти не ускокнет. Покажешь дорогу и беги к нему. Никто тебя больше не тронет, больно надо - буркнул Шестерка.
- Сестра крестовая. Сука, - смрадным голосом мурлыкнул Тамарка, почесал подмышье и завилял за Наташей и Шестеркой томными потными ляжками.
Шла Наташа, страшилась ножа, только раз оглянулась на перекресток - не стучат ли копыта, не поют ли колесные спицы, не спешит ли на помощь Марко Здухач?
Стрекот ночных кузнечиков в траве. Волны полевого ветродуя по колоскам. Проточный рассвет. Небо морское с рваными перистыми облаками, так на голову и валится, быстрое небо, погода меняется необратимо.
Ветрено, ветрено, ветрено в средних воротах.
Хмель в лесу завил усы, полозы-лозы, сказы, узы, вас возьмут насильно, погубят, истомят, сварят ядреное пиво, усатые колоски клонятся, серп у корени, враг во городе! По жилам солод польется вспять, гребень бросят наземь - лес вырастет, где отравлен плод, там стеклянный гроб, кто вчера в шелку, тот сегодня наг. Господи... Не забудь меня.
Всю ночь не спали птицы, всю ночь не спали люди, всю ночь не спали кони, бродили без седла.
Отбегали деревенские гулены по лугам, накупались, налюбились. Крались теперь по крутогорью и орешникам домой, держа обувку в руках. Гадали, что будет, коль мать с утра грех заметит: волосы влажны, на шее засос поцелуйный. По каким выгонам шлялась пьяная, на чьем костре подол опалила, с кем миловалась на холодных угольях?
Трезвели девки, зябли. Плакали в кулак.
По горьким тропам пробирались рысью на отцовых лошаденках злые с недопоя парни, вытряхивали траву и пепел из волосьев, не боялись суда и ласки не помнили.
Последний парень на гулевой поляне дольше всех задержался, расставился над головешками Иванова костра, ухмыльнулся придурковатым ртом, залил огоньки срамной струей, зевнул. Поковылял пешком на тракт, последыш безлошадный.
Если и было под Москвой убежище, так здесь, на маковой полянке на берегу рытого и брошенного пруда. Вся земля тут - восковой литой кружок, небом круглым покрыта поляна, стоят редко яблони дички круглые.
Ободом обступил плешку частый березничек. Ничего, кроме маков, тут не росло, о позапрошлом годе неведомый вихорь занес южные семена и высеял для себя.
Черны маки в темноте, красны на заре.
Прямо посреди полянки камешками-голышами был выложен очажок. Строго теплилось в каменном кольце смирное некупальское пламя.
Всю ночь просидели Рузя с Кавалером, сблизив головы у огня, держались за руки.
Молчали. В полусне, полуяви.
Чудилось Кавалеру, что слышит он в глубине под маками, под курганцем, где сидели и глубже, глубже, под становыми каменными плитами, гулкий полет земной громады вокруг солнца.
Так огонь поет и гудит в закрытой печи, так нерожденный колокол с трещиной жалуется из-под темной воды, что не суждено ему ни звонить, не царевать.
Все праздновали и бесновались от пьянства в эту ночь.
А Рузя и Кавалер, будто стражи на воротах, берегли Купалу, не сговариваясь.
Пили крапивную воду мелкими глоточками по-польски.
Расседланный андалузский конь гулял на воле, кормился травкой в березнике. К утру соскучился и прибрел к людям, подогнул колени, повалялся всласть в маках, всю гриву, перепутал набекрень и лежал рядом, дышал. Большой белый конь. Отражался материнский огонь в карих глазах скота смолистыми сполохами.
Как рассвело, Рузя сказала:
- Давай чудеса говорить.
- Чур, ты первая.
- Ты змею-медянку знаешь?
- Видел, когда маленький был. Она незлая. Вроде ужа. Красавица. Только у нас ее называли по другому - "веретеница". Дядька как-то раз показал ее в траве, а я потянулся, думал гривна медная, переливается вся бронзовкой, хотел на шею примерить, а веретеница в землю утекла... Полдня плакал. Говорят, они слепые.
- В эту ночь зрячие. Ивана Купала пожаловал медянкам целые сутки зоркости, чтобы стеречь папоротный цвет. Если заметишь - беги - зрячая медянка бросается на человека, как стрела, насквозь сердце пробивает.
Как же ты без сердца домой пойдешь? Придется помереть. Ну, ляжешь, поплачешь чуток, помолишься, с боку на бок повертишься, так понемногу помрешь. А на десяток приходится один, который не помирает. Так с дырой в груди домой тащится.
Непрежний человек, он и дорогу обратную забыл, а будто ведет его неведомая сила.
У него одно на уме - вопросы его грызут. Имени и родни не помнит, а если увидит что нибудь, ну там, коня или дерево - встанет, вперится и думает с мУкой : "Зачем это?". Тесно ему и тошно а в грудной дыре ветер гудит, скууучно....
Солнце светит? Зачем оно? Люди идут. А зачем они лапотками перебирают, как им не лень? Одни вопросы, а ответов нет. Раньше верный ответ голове сердце подсказывало, а теперь - немая дыра. Голова мякинная. Мается непрежний человек и шляется, и не ест, не пьет. Зачем есть? Зачем пить? Зачем спать? Свирепеют такие порченые люди от вопросов. Им никогда нельзя вопросы задавать, иначе набросятся и убьют.
Одного такого мать выбежала встречать, и кричит с порога
"Сынок? Нешто это ты? Где ж ты пропадал?"
Сын от вопросов взбесился и ногой ее в живот шибанул. Сбил с ног и давай топтать по ребрам.
Зачем она? Зачем? Так и растоптал родную мать, еле соседи отняли тело. Его хотели на вилы вздеть, но бабы сказали - дело гиблое, был человек, стал Умрук с дырой.
Умрука если и сжечь в бане - не успокоится с вопросами - пеплом будет шевелиться, поползет пепел-беспокой отовсюду, хлеб и вода горелым засмердят. Дети золой надышатся, у них глаза медвежьей кожей зарастут. Все как один встанут ночью дети и уйдут из деревни, все уйдут, даже младенцы-сосунки. В земле дети выроют норы и станут Слепышами.
Умрука так отгонять надо: вышли бабы, как одна, с горшками и поварешками и стали в днища колотить, гром, лязг и визг подняли. Умрук уши зажал, зашатался и ушел восвояси.
Так и бродит по дорогам. Ежели ты умрука дырявого встретишь, ты его не окликай, вопросов не задавай. Если пеший, ляг на обочину, шапку на глаза надвинь и лежи, не дыши, пока лихо не пройдет мимо. Если конный - так лошадку поторопи от греха. Умруки всякого убивают, кто у них дорогу спрашивает. Вот как страшно медянки папоротный цвет берегут.
- Не цветет папороть. Никогда.
- Конечно, на Купалу не цветет, про то бесы брешут, чтобы дураки в буреломе искали. Папороть цветет в Сочельник. Я видела его, как тебя... Стебелек тоненький с волосок, а на той жилочке цветок - как вынутый глаз - синий-рассиний. Ресницы густые лепестками. Цветок горит, хохочет, как колокольчик, и вокруг себя катается - у него стебель слабый, долу клонится.
Я его не тронула. Поклонилась и сказала: Христос родился.
А цветок в ответ тоненьким голоском: Воистину родился!
Я ему рукавичку подарила. Пусть закатится в нее, погреется. Матушке сказала, что потеряла, она мне еще свяжет, а ему радость. Он красный узор любит, самый простой, крестиком. А золота он под землей не видит, и на приворотное зелье не годится, он цветок близорукий, для радости растет просто так. А теперь твой черед говорить чудеса.
- Я не умею, - смутился Кавалер, - Одно с другим не вяжется.
- Соври.
- Совру. Знаешь, я возьму тебя в жены, когда закончу дела. Зашлю сватов. А родители запретят, в угон пойдем, после грянемся в ноги, твой отец меня плетью отходит по хребту, а потом, делать нечего, простит и благословит. Мы с тобой поедем в Ростов. Нет, ну его Ростов, людно там и пыльно. Мы в Серафим-город поедем, где Дон с Хопром сливаются. Дом построю на плотине, чтоб вода шумела.
В палисаде подсолнухи высадим. Стены известью побелю, а ты молоком от козы однорогой напоишь меня после работы.
Стану на майдане торговать лошадками. Ночью угоню, днем цыганам продам, что могу - пропью, а наутро куплю тебе гранатовое яблоко, чтоб ты с утра меня добром встретила. Ты гранаты когда-нибудь ела?
- Нет.
- У граната корона вместо черенка. Сожму в кулаке - терпкий сок потечет из трещины. А нутро у граната горькое. Внутри семечек, что бисера в коробочке. Какая баба его съест, станет плодовита - мужик только взглянет, за руку подержит, а она уже тяжела.
Ты мне детей родишь. Срок придет, будешь петь бузинные песни, которые от родовой муки помогают, я тебе бабку приведу самолучшую.
Сначала один сын будет, потом второй, а годы минут - так и дочка, последыш. Назовем дочку Сашкой. В отца - курчава да черна, в мать - махонька и беленька. А наутро я уеду и напьюсь бузой на пристани, а ты вынесешь дитя на крыльцо, где вечно вода шумит и солнце светит.
Дивитесь люди - белая Рузька черную ворону родила мужикам на погибель. В кумовья дивью бабу позовем, в кумы водяника. Будем днем плясать и куличи печь, будем ночью по берегам бродить, костры из хвороста зажигать над рекой. Однажды тебе надоест сидеть дома, и тогда я приведу лунного вола, большого-пребольшого, выше леса. Это вол по имени Букварь, он дышит, где хочет.
Тулово у вола серое, нос белый, рога витые золоченые - чтобы на вола забраться, надо высокую лестницу сколотить и к его боку приставить. А в боку у Букваря - окно, на окне - фиалка и занавесь кружевная. А ночью в окне мигает свеча. Никого в окне никогда нет.
Заберемся всей семьей на вола и поедем кочевать по ковылям. Сядем меж рогов, земля, леса-поля - горы далеко внизу поплывут.
Завечереет, а нам и говорить не надо, сыновья дремлют, я соломинку жую, за волом слежу, ты дочку титькой кормишь, зарницы считаешь.
Ночевать будем у реки. Вол пойдет на пастьбу, еловые верхушки жевать, хвостом бока хлестать. Букварю глубокая река по колено, он с неба зодиак слизывает, как соль.
Сыновья на рыбу шелковые сети поставят и вытянут судачка и щуку, а повезет - так поймают Вифлеемскую Звезду. Это не звезда вовсе, а рыба шестоперая, вроде ерша, только под водой радуется и светится, как фонарик, и крылья у нее, а не плавники, будто у бабочки - павлиний глаз. Днем она в глубине под камушком лежит, а ночью летает по небу и светится изнутри, дорогу указывает, если заблудится кто. Жарить ее нельзя. Потому что разрубленное живорыбье на сковороде пляшет и корчится, а Вифлеемская рыба веселые песни поет. - Кавалер прервал дремотное балагурье и спросил:
- Что это? Дождь?
С ясного неба пронизали резную листву первые капли.
Долговязыми призраками взволновались стволы березняка.
Ливень хлынул.
Стеклодувное небо светло и высоко округлилось, голуби в нем били крыльями меж иглистых капель, лесные вяхири, много их, много, голова кружится, если засмотришься в белокрылую высоту.
Вскочил Первенец на все четыре - заржал спросонок, поддал задом, закозлил, отмерил ливневые холсты машистой иноходью.
Кавалер сорвал пятнами промокший кафтан, чтобы укрыть хохочущую Рузьку, но девчонка отпрянула, побежала по маковому кругу вслед за конем и ливнем.
- Промокнешь! Простудишься, Маруся! - Кавалер сам мокрый, как мельничное колесо, гнался за белой бегуньей - и не поперхнулся именем, не опомнился.
- Промокну! Простужусь! - дразнила девчонка.
Застыла посреди маковой полянки, руки-чашечки вскинула над головой, ловила капли.
От подмышек до узких бедер хотелось обвести ее ладонями, как покатую бутыль, и гладить дотла.
Ливень отступал на восток.
Неслись в ясности лоскуты облаков. Рассвет вырос сразу, новосельный терем - малиновый, голубиный, с маковками туманными, гранеными флюгерами, с багульником и горечавкой на плечах.
Длинный маковый лепесток прилип к щеке Рузи.
Она улыбнулась вполоборота, паутинные пряди затеняли лицо.
Кавалер будничным голосом поведал ей новое чудо:
- Я читал в бабкиной книге о почтовом ростопчанине. Будто ходит он по базарам, весь товар перещупает, перенюхает, но ничего не купит. Талану в торговле после него не жди, что не высохнет, то проволгнет, что не проволгнет, то мышки поточат. Почтовый ростопчанин подбрасывает на пороги людям грустные письма. А в письмах написано справа налево " Сие есть Голландская Цепь Счастья. Кто перепишет это письмо сто раз и по ста дворам разнесет, тому будет счастье, и ночью к нему не придет почтовый ростопчанин чтобы стучать в окно".
Один испугается, и сядет строчить, а другой посмеется и выбросит письмо. Тогда ночью почтовый ростопчанин расплющит рожу на стекле и постучит камушком на колечке в фортку. Дверь откроешь - никого. Улица черна, собаки ходят, фонарь горит. Вернешься в дом, а он опять в окне маячит и стучит. Повадится каждую ночь - вроде и вреда от него нет, а день за днем - грустит человек, в животе резь, в глазу муть, все есть, а ничего не хочется, все обрыдло. Это почтовый ростопчанин счастье из человека вытянул. По капельке, по ниточке. Ему же счастье нужно раздавать тем, кто письма переписал, а откуда еще его взять, как не из Москвы высосать. Не из Голландии же на санках везти в кульках.
- А к тебе ростопчанин не ходил?
- Нет. К нам на крыльцо подбросили Голландскую Цепь, бабка сжечь велела, а я спрятал и переписал. И по ста дворам разнес. Не сразу, как минутку улучал, полгода ходил. Малый был. Простительно.
- А счастье было?
- Да вот оно.
- Где? - Рузя завертела головой, как совушка.
Кавалер подошел ближе, на корточки присел, чтобы сравняться в росте.
- Не там ищешь.
Рузя понятливо кивнула.
- Ты побудешь еще со мной?
- Разве полчаса еще. Мне позарез надо в Москву. Ополоснуться надо, а то дождь плохой банщик и волосы расчесать, перед важными людьми негоже михрюткой представать.
Не смотри.
- Я буду считать, сколько понадобится...
Кавалер быстро разделся, только штаны короткие оставил - стыдно перед чистой девкой срамом сверкать, хоть и не смотрит. Поцеловал крест, вошел в пруд, раздвинул тесную тину. Лягушечкой и ржавью отдавала вода-стоячка.
Нырнул, не думая, дух занялся, уши заложило, услышал, как сердце под водой ухнуло и сбилось.
Рузя одна стояла возле тихого коня, закрыв глаза локотком.
- Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать ... пять. Пора не пора, иду со двора!
- Покажи ожерелье, царевна - попросил чужой человек, даже и не заметила Рузя, как он подкрался.
Рузя вскинулась, показала высокое горло, перечеркнутое сушеными рябиновыми бусами.
Не рябинки горят сушеные, это ягоды-угличи кровоточивые.
Подбили ноги, грянулась оземь затылком Рузя, кричать хотела, но забило рот потное мужское мясо с ворсом, навалился зверь на грудь, смрадно, тесно, пусти!
Раскинули колена до хруста, как книгу. Растолкали сокровенное место.
Пусти! Пусти! Пусти!
Враг по земле идет железными ногами. Когти из сапог. Глаза желтые. Языком показал, а язык в язвах, как у козла.
Маки горят.
Мама!
Кавалер из воды выбежал на возню. Ничего не видать. Кричала что ли?
Тихо.
Лошадь скачет. Большая. Белая. Ныряет в паморок по кругу.
Бьются в маках тела. Господи! Быстрей! Кавалер поскользнулся на глине. Прикусил язык. Кровь во рту. Кисло.
- Рузя!
Метко ударили в висок свинчаткой сзади. Кавалер не упал вперед - повис на волосах, успели сцапать за концы.
Поволокли по глине.
Шестерка харкнул, половчей перехватил ношу.
Трепыхнулся битый.
Живой что ли?
Шестерка размял пальцы в отверстиях пятидырной свинчатки.
Снова чикнул Кавалера в череп, чтоб не дрыгался.
Расселась кожа под волосами, хлынула голодной блевотой изо рта юноши липкая одурь, судороги забили бедра.
Спляшем что ли?
Шестерка ловко намотал мокрую гриву на кулак до корня, о корявый стволик грушки-дички приложил лбом уже обмякшего Кавалера. Бил сапогами, как на молотьбе, приговаривал срамно на каждый новый удар:
- Вам. Татарам. Все. Равно. Что. Ебать. Подтаскивать. Что Ебаных. Оттаскивать.
Обмер Кавалер, рот разинул. Полуголый. Белый. Крест на спину съехал. Желчь в глотке вскипела, изошла горчичной пеной. Ребра дрогнули и опали дугами в муке.
Затих
Всё путём.
Шестерка швырнул тело в растоптанный суглинок, поддел сапогом под живот. Свинтил со своей пятерни свинчатку, надвинул на мяклую руку Кавалера - кожу сорвал с пальцев. Плотно село. Крепко обручились. Спи. Шестерка парня по щеке похлопал и оставил. Тамарка в маках делал дело. Ловко. Девка не вякнула. Только мокрый подол надвое треснул. Пятки в небо. Шестерка от зависти крякнул под руку:
- В рот дери, в рот!
Тамарка гаркнул:
- Бзни!
Девку раком повернул, захрипела горлом, но крик в землю ушел. Тамарка лишнее тряпье задрал Рузе на пояс. Оскалился на карлице. Пот на лбу выбило. Шестерка зевнул красным зевом, мудя почесал. Моя очередь. Слазь. Хер не сахар, не укусит, будь другом, уступи целку елдаком побаловать.
В камышах наземь осела Наташка Кострома-наводчица. Как на пресненском чердаке в давние дни, укусила себя за костяшки на белом кулаке. Зажмурилась. Без дороги бросилась прочь по рысьим местам.
Завыла только раз, в орешнике, когда лоза в глаз свистнула. Лоскут бисерный повис на листах.
Вырвалась на голый горб при дороге. Дышала животом "ххы - ххы", утроба коровья ныла, мыкала : "иуда... недоенная".
В низине кони в упряжи клонили головы. Затемно угнал Здухач с пасеки брику. Покрышку нахлобучил парусинную, от непогоды. Бредила Богородичка, шла, как по угольям в болгарской плясовой яме. Ждет меня мужик. К нему хочу. Пусти к нему, Царь Небесный, Ты высоко сидишь, далеко глядишь, а я голая, слепая, я к нему тупу-тупу-тупочки пойду по тропочке, ручкой помашу приветливо. Не помог Ты мне Бог, так хоть под руку не лезь. Ай, да - я. Иуда недоенная. Выдала молодых. Доведи Бог до милого, я их по памяти второй раз рожу. Мальчика и девочку.
- Ку-ку, кума? - Крещу дитя. - Какое? - Слепое! - Чьё? - Моё.
Здухач большой. Здухач черный. Здухач придет - полетят клочки по закоулочкам. А потом в город Котор уедем. Домой. Жить.
Долго ждал Марко Здухач любушку, гадал, куда пропала, принюхивался к ветру, нет, ни следа. Тревожные запахи уловил: табак, железо, соленый мужской сок - с четырех сторон налетели. Нюх отбило.
Под утро не поборол сна Марко Здухач, моргал, моргал, да и уронил голову на грудь.
Косы повисли. Руки сами крест накрест на груди стиснулись. Белая змея-душа из губ истекла. Поплыла по полям на поиски.
Нет отклика.
Наташа затормошила спящего.
Звала по имени.
- Вставай! Беда!
Здухач не слышал. Тело - груда дремотная. Наташа, большой палец в рот тиснула, прикусила и стояла в бессилии над мертвецки спящим Марко. Был бы уголь горящий, положила бы ему в ладонь, очнулся бы от жара. Вскочил бы, на помощь бросился.
Шевельнулась трава на обочине.
Потек по глинистой колее меж пучками ромашки- дорожницы белый змееныш. Вьюн -ядозуб.
Обвил голень Марко Здухача, жалом стрекнул и выше норовил ползти - на ляжку, на живот, на грудь, и в открытый рот - юрк!
Наташа завизжала.
Всегда боялась гадов ползучих.
Схватила кнутовище с козел, и ударила наотмашь. Сокрушила голову змея.
Вдрызг. Не побрезговала.
Кони шарахнулись с фырканьем, отволокли брику с тракта. Тело возничего повалилось с колеса на спину. Наташа обернулась к Марко.
Крепко спал Здухач поперек дороги. Руки раскинул крестом. Глаза открыл широко. На левый белок села муха-бронзовочка. Лапки умыла.
Наташа, подошла, припала ему на грудь. Не дышит. Потянула за косы, усадила. Челюсть - вяк - отпала, будто кукольная.
Умер.
Наташа сидела над Марко, не понимая, теряла часы. Торкала в грудь, звала. По шее Марко пошли пятна. Ноги остыли. Нос заострился.
Наташа Кострома взглянула с дикостью на мертвого здухача, потом на белую змейку, вбитую в грязь у его ног.
Догадалась, что наделала. Не заголосила, не заплакала.
- Хочу, чтоб ничего не было. Вот так.
Кострома села в изголовье Здухача и закрыла себе ладонями глаза, надавила веки так, что красное вспыхнуло по золотому.
В ничего нет провалились и труп и брика и девка и город Котор и Рай-дерево.
Мир кончился. Начался Углич.
...Сначала люди долго и трудно отливали колокол. Львиные головы и молитва выпуклые по подолу. Язык тягловой привесили. Не колокол - серый лунный буйвол. Вынули колокол из плавильной ямы, на волокушах потащили тушу шестнадцать лошадей и холопы. Раз, два, взяли... Раз, два взяли....
Белый русский город на зеленом холме.
Башни, резные галереи на стенах. Торжок. На весах мучные мешки. Торгуют с подвод рыбой.
Мимо столпотворения тянули колокол люди и лошади.
Коловраты и подъемники построены хитро - за ухо подцепили колокол вервиями и крюками, потянули вверх, налегли полуголые трудники на ворот.
Раз, два взяли!
Полдня поднимался колокол на белую колокольню. Встал на балку. Болтанул звонарь Федор Огурец вервие. Заходило било в глубине литой.Толпа внизу не дышала. Конные спешились. Мерно скрипели блоки. Молчал колокол. Ближе и ближе язык к боку.
- Бом-ммммм...
- Рааааааааааа - разлилось радование. Палили в небо господа из луков и самопалов. Кони присели, приложили уши, ощерились, троих затоптали насмерть Шапки и галки в небо взлетели.
Айда, братан, в кабак обмывать!
Покорился колокол трудам человеческим. День бил, два бил, год благовестил в церкви на горе.
Мальчик гулял по масляному лужку, рвал барвинки, орешки в горсти, ножичек за поясом, сапожки сафьяновые. Припадочный волчонок.
Подошли к ребенку сзади внезапно.
- Дитя. Покажи ожерелье.
Мария Нагая с мертвым сыном на руках осилила сто пятьдесят ступеней. Посмотрела на звонаря Федора Огурца, как застрелила. Приказала звонарю:
- Давай, холоп, набат по убиенному.
Бил колокол. Бежали гурьбой и выли обыватели.
Первого апреля тысяча пятьсот девяносто второго года стоял в городе от погребов до стрех великий плач и стенания. Целыми семьями отправлялись в Сибирь жители Углича.
Набатный колокол, сбросили со Спасской колокольни, вырвали язык за смелые речи, отрубили ухо, на площадном помосте дали колоколу дюжину плетей - по апостольскому счету. В нелепую телегу впрягли знатных угличан, налегли на лямки ссыльные, ухнули, поволокли опальный карнаухий колокол по ухабам и колдобинам в Тобольск.
В ссылке заперли углицкий колокол в приказной избе, выбили вечную позорную надпись "первоссыльный неодушевленный с Углича".
Большой пожар случился через восемь десятков лет. Выгорел Тобольск до фундаментов и в том пламени ссыльный колокол расплавился, раздался без остатка.
Врут грамоты... И сейчас звучит Углич.
...Полозья шваркают по сухой земле. Впряжены люди в лохмотьях в постромки. Тяжел колокол.
Насквозь просвечивало небо перламутью.
Кавалер, всплывая помаленьку из одури, следил сквозь веки, как толкают колокол люди.
Вот пошли через Москву-реку по понтонном мосту. По Царицынским холмам, по лугам бедовым, по Звенигородскому шляху, сквозь толпу обыденную, сквозь кладбища и торжища, сквозь маковое поле, алое от злодеяния, мертвые углицкие люди тянут колокол и тянут и тянут, и все в никуда... Докука великая.
Прилип сухой язык к нёбу. Один глаз видел, другой - зарос кровяной бурой корой, окривел Кавалер от удара, но полежал, подышал, проморгался.
Маки шелестели над головой, солнце осиновым колом - во лбу.
Сколько так провалялся?
Полдень. Теней нет. Черные-белые, черные- белые стволы на ветру. Близкий березняк. Частый гребешок царевной брошенный тонкими березами пророс.
Кавалер привстал и заметил в березовом стоеросье всадницу.
Белая фигура отмеряла медлительный долгий галоп под голым солнцем.
Сначала Кавалер подумал, что андалуза угнали, но нет - под дамским седлом строптиво и настырно выступала чужая костлявая кобыла.
То ли сухой древесный звон плашки о плашку, то ли стук счетных костяных палочек сопровождал каждый шаг лошади.
Кобылья грива заплетена была в мелкие косицы-колтуны, на концах цветными нитками примотаны желудевые орешки, черепа куриные с горошинами и вываренные фаланги пальцев.
Всадница поднесла к лицу веер с прорезями для глаз. Шуршал марлевый, будто в склепе истлевший до желтизны подол верхового платья на конском боку.
Всадница была очень стара, нелепая шляпа колесом на проволочном каркасе болталась на черепе, на голых руках - палках - перчатки из порушенных молью кружев.
Все белесое, призрачное, прозрачное, то исчезнет, то возникнет в черно-белой ряби надорванной лоскутами березовой коры.
Лошадь приближалась, шатаясь под шпорой старухи-всадницы, узкий хлыст повис на правой руке.
Где я мог ее видеть? За мной явилась?
Лежащий навзничь Кавалер не шевелился, глотал слюну. Как мог, давил приливы тошноты. Снизу вверх глядел с любопытством. Вот наплыла конская грудь, копыто повисло над виском, облаком вздулось задрызганное болотной грязью конское брюхо.
Переступила лошадь через избитого, задели скулу десятки щелкающих косточек - подвесков на косичках конского хвоста.
- Сгинь.
Рассеялось видение бесследно и насмешливо в черно-белой берестяной ряби. Кавалер забыл о старухе тут же, и пополз на локтях и коленях к Рузе, которая съежилась поодаль. Земля скрипела на зубах, больно тукало под горлом сердце. Рузя тиснула грязный подол меж колен, да так и застыла на боку, как выкидыш, скорченная.Рот порван справа. На щеке замер паук-косеножка.
Кавалер сел рядом. Смотрел, будто впервые. Заметил, что начал раскачиваться, как жид на молитве. Перестал. Мысли простые проросли, не мысли - куски стекла. И все он видел теперь, как из-за стекла, и стеклом толченым полон живот и жилы, изжога желтая.
Тело горбуньи на траве.
Не тело - язык колокольный, его клещами вырвали. Надо нести. Они колокол везут, я понесу язык.
Сквозь поникшие от зноя маки незримо тащилась углицкая волокуша и полуголые каторжане в ременных лямках и чугунная туша колокола и конные холуи с плетьми.
Кавалер уже привык к ним, кивнул переднему призраку, кореннику, тот обтер клейменый лоб, в ответ головой дернул.
Добрый путь.
В два часа пополудни Кавалер принес Рузю в Навью деревню на руках. Следом за ним ковылял кое-как занузданный Первенец. Солнце палило. Слепни одолели. Хлопали калитки. Выходили маленькие люди. Бабы подметали улицу подолами. Мужики снимали шапки. У Царствия Небесного последний дом на улице. Окна резные. Красиво.
Вот и он сам. Из за стекла все видно - Царствие Небесное бежал навстречу. Проселок пылил под башмаками. Шапка упала с головы карлика, покатилась, как голова.
В пяти шагах от Кавалера остановился Царствие. Кулак в рукав кафтана спрятал. Кавалер знал - там у него метательный нож.
Рузины волосы до земли спускались. Голова изломом запрокинулась, Кавалер поймал ее затылок ладонью. Перехватил тело поудобнее. Мешала свинчатка, сковавшая правую ладонь, пальцы посинели и опухли, не снять.
- Положи ее на землю, сынок, - внятно произнес Царствие Небесное так, будто зверю зубы заговаривал - И отойди.
- Не могу, тут грязно, - ответил Кавалер.
По знаку Царствия Небесного перепуганная соседка постелила под ноги Кавалера чистую скатерку.
- Вот так. Теперь клади.
Возились на дворе Царствия Небесного бабы, волокли Ксению Петрову на крыльцо, не давали кричать, как приказано.
Но она вырвалась к привратным столбам.
Молча мать стояла.
Кавалер осторожно положил Рузю на холстину. Попятился, как велено. Девочку унесли тотчас.
Опустела улица. Ксению увели за рукава.
Долго стояли под солнцем Царствие Небесное и Кавалер. Кавалера в сон клонило.
Давил зевок, сводило скулы.
- Я не трогал ее. Скажи хоть - жива?
Царствие Небесное выпустил из рукава ладонь. Пустая. Только следы от ногтей на мякоти.
-Уходи.
..От топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит. Оттопотакопытпыльпополюлетит.
Если про себя одну и ту же скороговорку твердить, мысли усмиряются, стекло плавится, дорога скрадывается.
Вот и Москва. Окраины минули. Огороды и пристани. Лопухи и колоколенки. Ограды, проезжие улицы. Переулок увел под арку.
Плыл тополиный пух. Белье сушилось на прищепках. Перекликались женские голоса с этажа на этаж.
- Марковна-а! На базар идее-ошь?
- Иду, иду!
А самих не видно. Пустой двор. Лень московская, ласковый снегопад тополиный. Любо-дорого глядеть. Над чердаками драночными, над каланчами, над Яузскими узкими мостами и островерхими каланчами полоснуло зарево московского царства.
У пожарного колодезя девчонка-кухарочка крутилась, переливала воду из общего ведра в чистое. Гремела ржавой цепкой.
И зачем свернул в подворотню? Ах, да... пить хочется. Кавалер наклонился с конской высоты, сказал отчетливо:
- Солдатскую команду поведу верхами. Чтобы лишнего не заподозрили. Всех лебедей переловят. А Рузю я заберу. Женюсь. Кто сунется - убью. Дай воды.
Спешился, шагнул навстречу.
- Ой, нате... - девочка сунула ведро в страшные опухшие руки всадника. Внимательно хлебал, да мимо. Половину пролил на голую грудь с крестом на перекрученном узлами гайтане. Кудри на виске запеклись кровяными сосульками. Мокрое ведро выскользнуло из рук Кавалера, ударило по босым ступням окованным днищем. Юноша боли не почуял. Сил на спину взобраться не осталось, так и похромал дальше, держа андалуза ладонью за холку. Девчонка заревела вслед, прикусила передник. Зря напугал. Плохо. Приложил палец к разбитым губам и скрылся в тесной московской арочке. Поспешил за последней помощью.
На Остоженке отыскал голубенький особняк. Вечерело. Ощерились пики ограды.
Вытянулись у полосатой будки на воротах два одинаковых румяных солдата в гренадерских высоких шапках. Штыки примкнуты. Увидели полуголого просителя. В одном левом сапоге. У лошади спина ссажена.
- Куда прёшь, босота?
- Назначено. К Архарову. - Кавалер обе ладони - в свинчатке и без, поднял выше плеч - смотрите - без умысла пришел, все чисто.
Через силу назвался полным именем.
Один часовой со смеху скис, второй насупился, свистнул секретаря-крысу, который с визитной книгой на пюпитре сидел при дверях обер-полицмейстерского дома и потреблял морс из казенного графина, заедая черствым коржиком.
- Доложи. Неладное дело.
Кавалера повело прямо у столба с будками, еле успел прихватить щипком посиневший мизинец - от боли полегчало. Секретарь скоро обернулся. Шепнул грустному часовому:
- Просят немедленно.
- И не такие хаживали. - заметил веселый часовой, и на всякий случай визитера по порткам охлопал. Пусто.
Хлопнул меж лопаток перчаткой
- Валяй. Там разберут.
Секретарь живо подхватил андалуза под уздцы, передал холопу - веди на конюшню
- Куда идти? - спросил Кавалер, споткнулся на пороге, заробел.
- По колидору налево, к лестнице. Я покажу, - засуетился секретарь, тронуть за плечо сумасшедшего брезговал, так, рукой махнул в полутьму полицейского особняка.
Кавалер побрел покорно, еле успел схватиться за вылощенные многими ладонями перила.
Секретарь забежал вперед, мелко постучал в дверь.
- Да! - глухо отозвались из-за двери.
Секретарь вовсе расточился в сумерках, распластался по стене.
- Пожалте.
В кабинете каморе за простым столом сидели трое в полукреслах. За их спинами играло закатными колерами окно-фонарь с цветными наборными стеклышками.
Разом обернулись гости на скрип двери.
Уставились.
Кавалер смирно замер на пороге. Узнал двоих.
Иван Петрович Архаров, московский неподкупный обер-полицмейстер в расстегнутом кафтане синего бархата, привстал, шоркнул ножками кресла, выронил из рук игральные кости и деревянный стаканчик. Доброе котовье лицо скривилось изумленной гримасой.
Второй не шелохнулся - да и зачем. Человек-копна, лицо елейное, безбородое. Крест осьмиконечный на жирной, как ватой подбитой груди. Отвернулся.
Кондрат Селиванов. Собственной персоной.
А вот третий игрок - вскочил, цокнул шпорами. Камзол дорожный, раззолоченный, волосы пудрены, налетел, обдал лавандой и миндальным маслом, плеснул перед глазами индюшачьими кружевными брыжами. Притиснул к груди Кавалера, ловко придушил. И окликнул приказным голосом, как на сцене:
- Братец! Ты ли это?
То был старший брат Кавалера. Вот уж кого не ожидал увидеть на Москве в час вечерний.
Кавалер было трепыхнулся, вырвался из объятий:
- Пусти. Сказать...надо.
Старший брат ловко сунул младшему поддых кулаком. Принял на грудь падение тела.
- Он не в себе, господа. Мать глаза выплакала! Неделю его ищем! Считай, похоронили! -
быстро объяснил старший брат, выталкивая Кавалера за дверь. - Простите, господа, дела семейные.
- Понимаю, ваше сиятельство, - облегченно вздохнул Архаров.
Грохнула дверь, отсекла братьев.
Полицмейстер собрал рассыпанные кости, ссыпал в стаканчик, потряс перед носом Селиванова.
- Ну что, играем по новой на щелбан, Кондрат?
- Играем, Ваничка. Играем на интерес, - пискляво откликнулся скопец.
29. Приходи вчера
"Если девушки метрессы, бросим мудрости умы. Если девушки тигрессы, будем тиграми и мы. Как любиться в жизни сладко!. Ревновать смешно и гадко, крив и глуп ревнивых путь...
Их нетрудно обмануть".
...Веер для утра, веер для улицы, веер для вечера, веер для оперного дома, веер "машкара" для тайных дел, чтоб лицо от Бога закрывать.
Самый дорогой веер - маска, разворот шафранного шелка, с прорезями для глаз.
В углу глаза - там, где у живых очей слезные мешочки - дрожала хрустальная продленная капелька.
Затенив лицо веером, скользит по елочкам половиц красавица былых талых лет.
Язычок прикушен, мочки ушей напросвет розовы, в глубоком лифе мерцает гранатовый аграф, дробит сияние свечей, бросает летучие отсветы на обнаженные сосцы.
На глубокую ложбинку меж грудей намекают вологодские кружевца. Дышат, вьюжат, голову кружат.
Долгий глоток молока. Бусины - прусский янтарь, диконький, теплый, морского отлива медвяная смолка. Новогоднее полено в камине. Сибирская кошечка на половичке замывает лапкой гостей. Клавикордов тленный отзвук в гобеленных комнатах.
Рыхлый снег валит за окнами. Между рамами - вата, стеклярусы, ленивые зимние яблоки.
Час вечерний и случайный, косматая пятистенная Москва.
Пепельные локоны красавицы развились на сквозняке, на левом виске молчит тафтяная мушка - "убийца", беличья муфточка на поясе, восемь крахмальных юбок на ивовом корзинном каркасе, белые чулки отменно натянуты - ни морщинки, обливные голени и французские певучие каблучки туфелек - обе на одну ногу, иных не шьют.
Атласные розы на пряжках.
Истлели. Осыпались.
На белом голом плече - грузинской чеканки кувшин. Павлиньи перья и лисий остролист в узком горлышке.
То ли дремлет наяву красавица, ли флиртует с декабрем вполоборота.
Дочка в дальних комнатах криком кричит. Первые зубки режутся.
Нянька ижорка, качает незаконную доченьку в нетопленной комнате, припевает "А-ааа! А-ааа! Дам оладья, дам платка..."
Молодая кокетка грянулась с небес оземь, очнулась в кресле и сморщилась от старости, как чернослив.
Пасмурно за стеклами.
Утреннюю почту и кушанье еще не приносили.
Дочка моя молочная плачет в темной каморе?
Как надоела...
Щеголиха прошлых лет щелкнула пальчиками, поморщилась.
Нет у меня дочери.
Ни разу не рожала.
Тридцать лет Любовь Андреевна травила из утробы плоды, парила ножки в горчичном кипятке до кровотечения, запаренную пижму пила. В последний миг соития выталкивала из жерла твердый корень, собирала в горстку исторгнутый мужской перламутр, хоть в рот, хоть в складку на животике, по методе венецейских куртизанок, хоть между бедер или сзади, лишь бы не в детородное место.
Если не помогали предосторожности и на пару месяцев задерживались крови, в ход шли тонкие серебряные крючья и особый уксус, настоянный на лунных травах.
Сколько ночей Любовь Андреевна молотила кулаками в штофную стену, рушила шелковые ширмы, расписанные сосновыми ветками, снегопадами японскими и кипарисами, гнусаво кричала крепостной рабе, давя в горле тошноту:
- Унеси! Тотчас!
Слуги тащили на поганый двор выкидыши в горшке.
Нет у меня дочки. Послышалось.
Котенок пищит. Велю утопить.
Двери скрипят. Велю смазать.
Часы бьют. Велю продать
В туалетной комнате - парики на болванках, числом больше десятка, для всякого случая.
"Цыганка": в прядях кизил и атласные ленты, дикий янтарь, медные монеты и коралловые веточки. "Прекрасная огородница": тюлевые мотыльки, церковные барвинки да тысячелистник.
А главный фасон - "царская охота" - павлиньи перья, кроличий пух, креповые розетки, куриные и абрикосовые косточки, а меж ними - золотые цепки с глухими колокольцами.
Старуха примеряла парики перед зеркалом. Мелко трясла головой.
Волосок бровный из линии выбился.
Серебряные щипчики сомкнулись, щелкнули, дернули.
Зашипел волосок на свечке.
Ай, больно...
Щипцы-плойка калились на таганке докрасна.
Стальные раскаленные жвала намотали локон, потянуло паленым волосом.
Лето в Москве - пыльное, клеверное, что ни час, то полдень
Скачут по дворам в мыле и пыли курьеры в поярковых треуголках.
С порога лакей окликнул:
- Для мадамы есть почта?
- Ждите. Пишут! - крикнул курьер и растаял за углом.
Пять лет - один ответ.
Пишут.
Кондитер в белом колпаке проплыл утицей по шахматным полам, принес на пальчиках фарфоровое блюдечко - а на нем - колобки из бухарской пастилы с алой вишенкой напоказ - "венерины сосочки", самое дамское лакомство для рассветного часа.
Старуха взяла одну конфетку - сдула сахарную пудру, внятно куснула сбоку. И со свистом всосала воздух.
На зубок попал десерт.
Ай, больно!
Любовь Андреевна ударила повара.
В уме ли ты, раб?
Нешто не знаешь - я седьмой десяток разменяла. Клыки выпали. Десна кровоточат.
Замычал холоп на улыбочке.
Камеристка поднесла гневной барыне высокий стакан воды и плошку - сплюнуть мутное полоскание с пресной волокнистой кровкой.
Тем и утешилась старуха на сей день.
Простила кондитера, простила старость свою, простила ординарный вторник, простила скуку и пыль московскую.
Вздохнула. Дала повару в кулак рубль. Улыбнулась.
Все врут. Ничуть не стара. И глаза при морском блеске, и между ног зудит прорезь, как тридцать лет назад - кайенским перчиком, обморочной пряностью, зря что ли полвека подмывала тайности кипяченой студенецкой водой. Зря что ли выписывала капли и притирания из Европы и Нового Света - по целковому на золотник: отвар желудевый, мирра, кипарисовые орехи, те наоборотные снадобья, что внутренность стягивают и вяжут, делают из женщины - свежую девушку.
Потом шарлатаны армяшки вопят в торговых рядах на старых Миуссах
"Из шустрой белки делаем целку! Тай-тай, налетай! Полцены за целку, полцены за белку. Давай, давай, давай-вай-вай!".
Лунки ноготков белым белы, а пластинки розовы, какой кавалер те ноготки видал- так на коленках, бывало, ползал, умолял - душенька, ласточка, любушка, дай облизать!
Дай глубоко облизать без укоризны, без памяти лезвийно заточенную пилочкой рабочую грань ногтя на среднем пальце.
Сорок лет тому назад.
Теперь фаланги Любови - сухие коленца бамбука, какой из Китайской стороны кораблики по желтому морю возят.
В оны дни все на свете сладости перепробовали пальчики Любови Андреевны: щупали под корсажем подметные письма, предавались женской щекотке с вельможной наложницей, впивались в мокрые волосы и тянули пригоршней за пудреные гвардейские вихры на затылке, цепко держали подстриженное писчее перо - как любила она по молодости сочинять при оплывших свечах чувствительные письма выбывшим на погост адресатам.
Такая женщина и на смертном одре не забудет искусство десятью манерами красиво подбирать подол платья в дождливый день.
Старуха ворожила, наряжалась перед трельяжем - актриса, искусница, кружевница, читательница романов, причудница, петербургская картежница, седовласая волчиха.
Не на праздник так собираются, не на смотрины. Нет, так суровые егеря проверяют патронташи, осматривают оружие, скрипучие аглицкие седла, подпружные пряжки, собачьи своры и вабила - все ли готово к царской охоте?
Не подведет ли стремя, смазаны ли плети из воловьих жил, пыжи хороши ли, здоровы ли псы-легаши?
Любови Андреевне подносили на бархате болгарские серьги, ожерелки "ошейники" из слепой воды самоцветов, бархотки с мертвыми медальонами, но мановением руки отсылала барыня ювелирный вздор - сегодня не желаю.
Моя шея и без прикрас бела.
Вы послушайте, комнатные девушки: меня выбелило время. Вам и не снилась лебяжья, костного фарфора белизна моя. Молитесь, чтобы спас Господь от моей чистоты Вас, молодых да ранних, неписанных красавиц.
Наконец старуха подставила сухое горло под кисточку живописца - приказала вывести узор иранской хной прямо на коже - еле видимый, муаровый, тонкий тлен, будто трещинки на старинной фламандской доске, прошлогоднего листа жилкование.
Девки обмахивали свежий узор фартуками - чтобы быстрее засох и не смазался.
Хозяйка отражалась в равнодушном стекле на серебре, куталась в голубой утренний плащик "пудермантель".
Ворох платьев остывал от пестроты на вольтеровском кресле, две заспанные служанки волокли накрахмаленные фижмы - пристегивали на талии, оправляли оборки, благоговели.
Старуха вставила ступни в маскарадные туфельки. "Шпоры" и натоптыши скрадывал до лоска тесный чулочек с вытканными фиалками - продушенный резедой и мускусом до последней нитки.
Сначала левая ножка, потом правая - в приметы не верила, истинная вольтерьянка.
Идет ли сегодня в гости, или сама гостя ждет?
Кивнула тройному зеркалу, к правому глазу поднесла оптическое стекло в оправе - увеличенный глаз, будто устрица, отворился, мокро в ресницах поморгал, источил из угла соленую влагу.
Хороша ли?
Хороша.
Хлопнула в ладоши, подошел увалень-уралец, скривил сытую морду, ухнул для проформы, и старуху на руки подхватил легко, как конопляную куклу.
Так и понес по анфиладе домовой, прочь с крыльца, и по насыпной гравийной дорожке до экипажа.
Свистнул кнут. Сорвались чалые английские кони. Ливрейный холуй едва успел прыгнуть на запятки.
Уралец на крыльцо сел.
Перекрестился напоследок.
- Скатертью дорога, сударыня-барыня.
+ + +
Синева небесная любовалась гладью пруда, копаного в форме сердца.
Воды тинистые, солнечные, античные.
Жар дрожал. Множилась прудовыми отражениями красота запертого городского сада в июльском Харитоньевом переулке.
- Капп... - упал на водную гладь отщипок мякиша. Нехотя потонул.
Метнулась под водой литая тень рыбины, блеснула радужной чешуей и золотой серьгой, продетой в жабры - ам! и нету хлебушка.
Тишина.
Колыбельная рябь зыбила чашечки кувшинок.
Концерт на открытом воздухе.
На смычок виолониста, напудренного и гибкого, как английский хлыстик, норовила присесть бабочка-капустница.
Бабочка - насекомая бесприданница, а туда же вьется, вьется, в руки не дается, как молитва напросвет.
Стройный квартет играл уютно, щипал душу, нотные листы на пюпитрах не шевелились - безветрие и леность.
Ванильное облако нашло на солнце и застыло, само в себя перетекая, творя города и драконьи головы, так славно было гадать в праздности - на что похожи небесные формы.
Под грушевым деревом накрыли стол на четыре куверта, сахаристая скатерть по краям перехвачена была атласными розами.
Живые цветы скучали меж серебром и расписным фарфором яичной хрупкости с собственного завода хозяина.
Галантный полдник - крем-мандарин да клюква в сахаре, киевские помадки, дижонские паштеты и фисташковое мороженое с шоколадной крошкой, суп клубничный на вине белом.
Вроде и ел, а не сыт, не голоден, знай, сиди, парчовой туфлей качай, комкай салфетку, слушай воркование позолоченной музычки, как жаворонок полевой али снегирек в клетке выводит в полусне: "шур-шур", "жур-жур"...
Итальянцы ловко играли в раковине летнего театра. Оркестр выписан из заграницы.
Очень дорого.
Нынче на Москве нашенские русские роговые игрецы в моде, во многих дворах помещичьих слышно их.
Серость хамовническая, медведь ухо оттоптал!
Стоят солдаты в гренадерских шапках, красные щеки пучат и в роги длинные казарменным перегаром дышат.
Под московских дударей только водки хряпнуть да щенком борзым занюхать, а на закусь анекдотец похабный отмочить, эдакие грубости дамам и петербуржским вельможам слушать огорчительно.
У нас в саду итальянцы играют. Приятного аппетита.
Лакеи бесшумно ставили на стол блюда под серебряными колпаками, а под колпаками-то - капризы и прихоти, лакомства да баловства, услады и десерты, да черти что, да фу-ты-ну-ты.
И музыка сладка, и амуры марципановые улыбаются, и ливреи музыкантов будто ящерки переливчаты в малахитовую зеленцу.
Позднее лето. Тополиный пух над покатыми кровлями. Голубая пыль большой Москвы, белый город вдалеке, мостовые политы холодной водой.
Мать-москва Ирина Михайловна только морсу пригубила, и поморщилась: "на десне кисло"...
Тарелку отставила, и ушла к себе, лежать с ледяным пузырем на лбу.
Кровь у ней к вискам прилила, что поделать - возраст. Чай не девочка, одни заботы и тревоги, да и погода меняется, соль в солонке влажна - к дождю.
Младший сын, Кавалер Харитоньевский, и вовсе к столу не вышел - белела его салфетка, осталось чистым десертное блюдце с вензелем.
Так и коротали полдник старший брат Кавалера, визитер из Петербурга и подруга дома, любезная старуха Любовь Андреевна.
Старший брат, столичный человек, музыкантам махнул манжетным кружевом - те сменили мелодию нежную на оживленную.
Флейтист-проныра тряс русыми витыми локонами, беглые пальцы метались по клапанам, с такой сноровкой, что старуха Любовь Андреевна только улыбалась и кивала пригожему музыкантишке.
Лицо набеленное, по трафарету наведен румянец на скулы.
Под краской и не разберешь, стара или молода, зато пригожа и нарядна.
Любовь.
- Позвольте вас уважить! - хозяин внимательно ухаживал за гостьей, поддевал желейный кус на стеклянную лопаточку, клал на тарелку из собственных ручек.
- Что мне в рот, то спасибо, - по-монашески потупясь, отвечала гостья и пробовала самую капельку кушанья зубочисткой, жмурилась, облизывала губы изнутри "ммм!".
Кивала одобрительно, коверкала слова на щегольской манер:
- Шарман гурмэ!
На палевом в мелкий цветочек версальском подоле гостьи быстро-быстро дышала язычком беленькая шавочка с хохолком, часть угощения предлагал хозяин и собачке - но моська отворачивалась и ворчала.
- Кушай, кушай, Куночка! Как не стыдно привередничать! - попеняла дама свою собачку.- Куночка у меня разборчивая. От старости. Зубки крошатся, кушает кашку, толоконце да сливочки. Уж не обижайтесь, батюшка, на зверушку.
- Ах, душа моя, Любовь Андреевна, бросьте! - великодушничал хозяин - Сплошное у вас на Москве наслаждение. Покой да приятство, старинное барство и чистый яблочный воздух. Что наша жизнь столичная: суета, лесть да светские искусы! Клубок змеиный, право слово. Только в отчем доме отдыхаю душой. Оцените музыку, мадам. По сорок рублев жалования в месяц каждому стервецу плачу чистыми. Одежа и кушанье, между нами говоря, тоже хозяйские. Зато музыка чувствам утешение, да и пищеварению весьма способствует. Квартет венецианский, импровизаторы, виртуозы! И заметьте - тут хозяин понизил голос и выщипанной бровью дрогнул - Все четверо - девственники!
- Да что Вы говорите! - всплеснула ручками Любовь Андреевна - Неужто девство на музыку влияет?
- Бесспорно, мадам! Французы говорят, что салат невесты пикантней, чем стряпня супруги. Та же разница меж каперсом и вареной капустой!
- Я люблю армянские каперсы. Они остренькие, до сердца пронимают с одного укуса - поддакнула Любовь Андреевна и почесала Куночку по темечку - А что в мире слышно? Какими новостями балуют нынче?
Лакей подал хозяину газетные листки. Барин откинулся на спинку кресла, полистал, пожевал впустую губами, откатилась к краю стола надкушенная привозная грушка.
- Всякое пишут... Коловращение в мире и суеты. Вот, пожалуйста: Желтая лихорадка свирепствует в Лиссабоне.
- Ах, ужести - старуха зажеманилась, развернула с треском сандаловый веер со вставными зеркальцами - брызнули по атласной скатерти солнечные зайчики.
- А вот еще объявление. "Два феномена улицы Риволи, если пройти в сторону бывшей Бастилии, то можно видеть в шатре девочку пяти лет, весом в 200 фунтов, и мальчика четырнадцати лет, весом в 480 фунтов. Внешность у обоих посредственная. У мальчика женские груди, но более дряблые. Превосходно играет на гобое и вырезает силуэты по желанию заказчиков. Там же за малую плату представляют человеческие и собачьи пантомимы". Сущая чушь... - осекся хозяин и отбросил газету.
- Ах, прелести! - старуха с четким звучком опустила на розетку с белой черешней десертную ложечку.
- Все французы, мадам, безбожники, револьтёры и либертины! Да и братец мой, либертинажа нахватался невесть где. Уж так над ним дрожали, взаперти растили, ан в воздухе носится опасность - и до старомосковских палат вольтерьянство окаянное докатилось. Надышался младшенький, из разума выпал, как птенец из гнезда.
- Видала я его под Пасху. Юноша скромный и нежный, как монахиня. Мог бы в оркестре вашем солировать. Расцвел, как Адонис, было время на Москве в первых галантах числился. Да, кстати, а что же к столу не вышел? Гнушается мной? Или отроду пугливый?
- Что вы, мадам! - отмахнулся хозяин с горечью - Помилуйте, он полторы недели, как болен. С постели не встает, расслабление в членах, в голове сумрак, слова из него не вытянешь. Доктор говорит - малохолие у него черное, по нашему - с жиру бесится, надо бы сырым мясом кормить, как тигру лютую и в люди выводить, в комедию, на концерты, а опосля прислать к нему хорошую девушку, чтоб расшевелила.
- И что же, кормили мясом-то?
- Нос воротит.
- А разве нет у него приятелей?
- Всех растерял.
- А девушка была у него?
- Как не быть. Сам выбирал. Пальчики ловкие, первая вышивальщица. Лоб чистый, стати греческие. В бане выпарили, доктору и повитухе показали, нарядили, причесали. Матушка саморучно флакон духов ей на нижние юбки вылила. Научили дуру, как угождать барчуку, как обольщать да обхаживать.
- И что же? - зло спросила старуха.
- С порога башмаком запустил. Она не заробела, настаивала, оголила плечи и груди, как я учил.
Так он ее на свою постель уложил, в лоб поцеловал, а сам на сундуке всю ночь проспал, как денщик, укрывшись кафтаном. Зато у дворни что ни час требует водки и пряников. То Бог знает, где шляется, домой калачом не заманишь, то валяется на подушках, как одалиска в серале, от безделья пухнет. Матушка вся извелась, не спит, не ест, молится. По Москве кривотолки ползут. Я думаю все же: он либертинства нахватался. Беда от книг его поганых.
- Ну, полно, вы ли накоротке с Бомарше и Вольтером не были? Мне ли старину-то не помнить, - засмеялась старуха.
Хозяин помрачнел, пощипал чуть отекшую барскую щеку и слишком маленький, вдавленный будто у капризной мышки, на зерно надувшейся, подбородок.
- Вам-то смех, а нам забота. Все средства перебрали...
- "Масло рыжей собаки" пробовали?- серьезно спросила Любовь Андреевна. - Зелье верное, старинное. Бабку мою из гроба подняло за три дня. Мой первый муж, граф Минский, сам составлял его. Ах, что за человек был, нынешним мозглякам тонконогим не чета. Силач, весельчак, выдумщик. Подковы гнул, стекло жевал. Овдовил меня заживо, я еще девчонкой была. В Италию уехал и сгинул. Не пишет. Может, помер на чужбине... Только рецепт рыжего масла и оставил мне в утешение.
- Не слыхивал о таком. Диктуйте состав, - хозяин щелкнул пальцами, возник за спиной его секретарь иностранец, открыл крышечку походной чернильницы, пристегнутой к поясу, и подал перо и бумагу. Хозяин приготовился записывать.
Старуха диктовала охотно и рассудительно, как фармацевт.
- Для начала необходимо обзавестись трупом казненного преступника, молодого и обязательно рыжего, ведь рыжие обладают избытком жизненной силы. От трупа отделить мясистые части, хорошо промыть муравьиной эссенцией и раковым спиртом, и провялить куски на весу под солнечными и лунными лучами два дня и две ночи, чтобы душа выветрилась. После надобно прокоптить как буйволиный язык или окорок над очагом, копченое измельчить и добавить в состав легкое лисицы, волчью печень, медвежий жир, скорпионов и мокриц молотых, белое мясо кита, пепел саламандры, масло из земляных червей, олений рог скобленый, жемчужную пыль, миро, шафран и алоэ.
Давать по чайной ложке с гретым вином. Лучше ввечеру.
Перышко в руке хозяина замерло еще в начале рецепта.
- Вы, мадам, насмехаться изволите?
- Вовсе нет, - оскорбилась старуха и потискала задремавшую Куночку. Собачонка скатилась с колен хозяйки, зашебаршилась под столом. - Лекарство это на вес золота и соблюсти все компоненты дело хлопотное. Но исцеление наступает только после того, как больному растолковали подробно, что именно он выпил вместе с вечерним вином. Только говорить нужно через час-полтора, чтобы все полезные соки успели впитаться, и пациенту хорошо бы руки к изголовью шарфом накрепко привязать, чтобы себе вреда не причинил ненароком.
- Простите великодушно...- сконфузился хозяин, - но уж мы как нибудь без рыжей собаки управимся. Кровь пустим или в оперный дом свозим. Глядишь, в чувство придет.
- Воля ваша, батюшка. Настаивать не смею.
Кушали в молчании. Гостья наблюдала за хозяином сквозь круглое оптическое стеклышко.
С какой стороны ни взгляни - хорош в зрелости, как картинка.
Благополучного сложения по плоти и по духу. С тех пор как приехал из Петербурга, воцарился в сонном Харитоньевом переулке вечный праздник легкомыслия. В доме торжество торжеств - все окна настежь, на подоконниках свежие занавесочки и горшки с пышными цветами. Доносился из окон до садовых куртин бой настенных часов со звонкими курантиками. На деревцах вокруг стола висели китайские клетки-пагоды с певчими птицами, от одной к другой переходил арап в красном наряде птицелова, подсыпал канареечного семени из рожка, подсвистывал в манки, чтобы пташки щебетали в унисон.
На спинке кресла сидел радужный попугай и клевал из ладони хозяина вишни, приподнимал лапку, скованную золотым кольцом на цепочке, топорщил пернатый хохолок.
Все в саду светозарно, оглушительно, охмелительно. И сам хозяин посреди цветущей роскоши выставлял румяное, радостное лицо, будто махровый красный пион.
О чем ему грустить? Образование получил рафинированное, перед иностранными посланниками хвастал пятью языками, не считая мертвых. Объездил пол-Европы, всеми обласкан. В Турине пировал при дворе короля Сардинского, награды и ордена ловил, шутя, как бабочек сачком.
Прослыл знатоком изящного искусства, собирал коллекции красот и редкостей. Исправно занимал должность директора императорских театров, и на сей ниве преуспел, проявляя рвение и внимание к актеркам, особенно кокетливым брюнеткам, не старше семнадцати лет.
Но, храня верность дедовским заветам, не гнушался директор императорских театров и крепостными девками. Сам учил молоденок петь, танцевать и декламировать, оделял дебютанток из кармана калеными орешками и печением-хворостом, а за провинность саморучно сёк струной от клавикордов на бархатной скамье в костюмерной, чтобы не попортили наемные каты матовую девичью кожу, которой еще предстоит на большой сцене просиять.
На его летние балеты дамы и кавалеры, стекались, как муравьи на постный сахар, а театральные Психеи, Гармонии и Флоры, округляя руки над напудренными головками, перебирали розовыми ножками под тюлевыми юбками.
Грезилось, что плясуньи вовсе не касались земли.
На десерт танцовщицы раздевались догола и прислуживали зрителям в буфете после представления. Подавали бекасов с "душком", пулярок с эстрагоном и разварные артишоки с испанскими цитронами.
Гости разбирали девушек по лабиринтам и беседкам, а хозяин устало отстегивал от правого плеча жемчужный эполет с кистями и требовал принести расходную книгу - подсчитывал доходы от фарфорового завода, шпалерной и зеркальной мануфактуры.
Покончив с расчетами, задумчиво ставил высокий голландский кубок на спину мраморного льва и любовался закатом с бельведера.
Трубку длинную курил с янтарным мундштуком. Большой человек.
Богатый.
И не скажешь, что сорок четыре года исполнилось - моложавый, с лица гладок, глаза полны италийского лукавства.
Он был признанным знатоком подбора сыров к десерту. Грюер и бри, стракино из Милана и несравненный лимбург с горькими травами привозил из путешествий и выписывал из монастырских сыроварен.
Не всякому доступна тонкость вкуса.
Невесел был хозяин сада харитоньевского в этот день.
Попугая велел убрать.
Наскучил!
Ополоснул руки в умывальной чашке с ломтиком лимона.
Пригорюнился, оглядываясь с тоской на верхние окна палат - где, как знала Любовь Андреевна, находилась спальня младшего брата.
Окна наглухо закрыты были и завешены алым штофом с играющими золотыми птицами.
Видно и вправду не ладились семейные радости в старом красном доме у Харитонья в переулке.
- Давно вы в Москве не гостили - заговорила старуха. - Соскучились по вотчине?
- Дела на Москве неважные - отозвался хозяин - с весны матушка тревожные письма писала. Не справляется с братом одна... Просила приехать, пособить с воспитанием. И надо же было такой лихоманке приключиться. Еще батюшка жив был, говорил я матушке - умерьтесь, вам о Боге думать надо, позднее дитя - грешный плод, на корню гниет. Нет. Справила свою волю на старости лет. Родила. Срамота какая. Мой сынок своего дяди на два года старше. Кавалер-то наш вертопрах и мотишка, деньгам счета не знает, белоручка чудачливый, а наследство только начни делить - все расточится вмиг. Да и я уж не мальчик... Как о сыновней доле не порадеть. Сын-то у меня единственный, Петруша, а тут на тебе - как ни приголублю его, вспоминаю, что в Москве соперник у него... родственный. Нет да нет, а захолонет родительское сердце. Что ж поделать. Судьба.
- Кстати, о судьбе. Слыхала я, что у вас в роду, в каждом колене только один ребенок выживает. А другой непременно на двадцать шестом году споткнется и в могилу ляжет. Будто бы планида фатальная у вашей фамилии имеется со времен царя Гороха в наказание за вероломство.
Братцу вашему который годок пошел?
- Восемнадцатый... - ответил хозяин и, застигнутый врасплох вопросом до рта ломтик ветчинки со слезой не донес - Это что же получается, еще восемь лет с ним канителиться?... - но вовремя опомнился, прервал речи, ветчинный ломтик ожесточенно зажевал и отрезал с набитым ртом:
- Про планиду фатальную - брешут.
Тут же нашелся, как беседу переменить:
- А вы поди ж еще чуда не видали?
- От вас всего ожидать можно, батюшка, - старуха подразнила собачку веером - Куночка гавкнула и заплясала на сопляных лапках.
Хозяин подмигнул секретарю:
-Что стоишь, заводи Кота!
Забежал прислужник за столетнее дерево подле которого трапезничали господа. Опутан был ствол будто гнутыми полозьями - слышно было как завозился, и вот с треском и визгом механическим, осыпая дорожку сорванными листами покатилось по полозьям чучело кота-мурлыки великанского размера, обитое рыжим мехом. Загорелись зеленые бутылочного стекла глаза.
Кот замер посредине полоза, хвост трубой навострил, башкой влево-вправо помотал, челюсть ковшом откинул, паром пыхнул и донеслось внятно:
- Гхх-хуе- ммморг- хен...
- Ай, монстра дивная! - притворно забоялась Любовь Андреевна - это по-каковски он говорит?
- По голландски вроде как - добродушно ответил хозяин - Из Амстердама выписал чучелу, тварь дорогущая, вот что именно говорит, не знаю, запрос посылал, молчат пока что. У Боровицких ворот голландская аптека открылась, надо бы приказчиков спросить, мало ли что кот болтает, на русский слух звучит паршиво, а на тамошний так небось и ласково. Не стали бы амстердамские мастера своего Кота непочтенным словам обучать. Тамошние люди порядок любят. Я Кота матушке в утешение привез, а она как увидела, в слезы. Что ты, говорит, не хватало мне в доме живого чудобеса, так еще и механического притащил. Поначалу то игрушка на всякий хлопок и громкий голос отзывалась. Чуть кто чихнет и едет Кот по дубу. Вещает дурным голосом, башкой крутит. Его дворня по вечернему делу пугалась до икоты, теперь ключом заводим. К случаю.
-... И что же, ни в службу его, ни ко двору, ни женить не собираетесь? - Любовь Андреевна окунула пеликанью пуховку в дорожную пудреницу с зеркальцем, провела по жилистой, как у голодной кобылы, крашеной хной шее.
- Кого? Кота?
- Брата.
Заладила сорока Якова одно про всякого.
- К службе он не пригоден, разве в пажи его, да и то ленив безмерно и строптив, как бы конфуза не вышло. Как свадьба расстроилась, помните, зимою было дело, много вокруг него вертихвосток крутилось, да ни одной с крепкими намерениями не сыскалось. Товарец-то у нас лежалый, - поневоле ответил хозяин, пасмурно сдвинул брови. - Не в монастырь же его...
- Зря, батюшка. Отчаяние грех злой, смертный. А если бы нашлась хоть одна... вертихвостка с крепкими намерениями? Вашему жеребчику строгая наездница нужна. Чтобы и повод твердо держала, и баловать не давала и с ваших плеч сняла обузу. С глаз долой из сердца вон, не так ли? Авось укротит зверя, а если богата, так и наследству вашему не в ущерб. Умная жена посоветует ему отказаться от наследной доли, он и подмахнет потребные бумаги.
Хозяин на гостью воззрился, сглотнул слюну:
- Знаете такую?
- Как себя, - раздельно произнесла старуха. Хозяин понял намек, покосился на секретаря, оркестрантов и арапа.
- Простите, мадам, а возраст как же?
- Шестерых мужей пережила, Бог семерицу паче троицы любит. Число счастливое.
Хозяин всего раз очами повел и кулак сжал, замерли оркестранты и, как ветром сдуло арапа, секретаря и лакеев - последний скатерть вместе с посудой собрал в куль и поволок по аллее.
За голым столом без свидетелей долго говорили хозяин Харитоньева дома и Любовь Андреевна.
О чем говорили - неведомо.
Собеседники остались друг другом весьма довольны. Хозяин подхватил даму под локоток, показал "козу" вздорной Куночке.
Бережно повел гостью к дому.
На крыльце лобызал каждый пальчик, мелким бесом рассыпался, шептал на ушко глупости, оттеснял старуху в обшитую дубом прихожую:
- Благодетельница, спасительница! Я ваш должник, а вы уж расстарайтесь. Навестите его. Пусть пообвыкнется, женского глаза ему не хватает.
- А коли и в меня башмаком запустит? - лукавила гостья, обернувшись на лестнице.
- Не посмеет, - твердо заверил вельможа и сам перед нею дверь раскрыл, сунул голову - повертел.
- Спит он.
- Дрема, дрема, ступай из дома, тетка Ненила тесто творила, вино курила. Тебя не забыла. Ночная кобыла... - бормоча под нос скороговорку-заплачку, старуха прошелестела юбками и встала посреди комнаты, будто кукла на тростях, потряхивая мудреной пудреной прической. Помедлив, скользнула к разметанной постели.
Душно в опочивальне. Табакерка рассыпалась, муха мясная в оконце тук да тук... ползет по стеклу, срывается, снова ползет, моется лапками.
Воздух стоялый, не по-летнему натоплено в мужском холостяцком логове.
Замер старший брат на пороге, сложил руки в паху, будто гробовщик или нотариус.
Ворохом сбилось полотно к краю постели. Духан, как в казарме: махорка, прелое белье, перегар, вязкие протухшие духи - на ночном столике рассыпаны осколки разбитого флакона.
Кавалер лежал на спине, как мертвяк, старые синяки на скулах пожелтели, скаталась шариками пудра, черные кудри сбились в колтун на вдавленной подушке.
На скрип дверной не поднялся, сморгнул раз-другой и неуклюже согнул колени под одеялом.
Всплыло над ним лицо старухи - да как же старухой назвать. Личико - белое ярмарочное, выморочное, с кулачок ссохлось.
Неясный образ, как из под кисеи, которой покойникам в богатых домах глаза застилают, чтоб за живыми не подсматривали.
За кем пришла?
Не ты ли, старая серая женщина на белой кобыле в утреннем березнике баловалась, щелкали косточки куриные в гриве конской, кастаньеты испанские, костка к костке, прах во прах.
Старуха склонила фальшивые кудри над изголовьем Кавалера. Улыбнулась. Быстро принюхалась к губам болящего. Шевельнула под постелью пустую сулею - откатилась склянка, с другими склянками пустыми перекликнулась звоном.
- Ах, вот в чем хворь твоя, детонька. - старуха веером распустила юбки помпадурные, положила сухую холодную руку на лоб юноши и совсем уж неслышно шепнула, чтоб по губам прочитал:
- Из буфета водку крадешь? Знаю.
Муть под кадыком. Похмелье затхлое. Мухи. Будто не по стеклу, а по глазному яблоку ползут. Щекотно.
Старуха на табурете ворохнулась, наклонилась низко-низко.
Такой знакомый запах от выдоха ее.
Медовое дыхание у нее, ласковое, будто свое собственное. Век бы пил.
Щека к щеке приблизилась, отразились Кавалер и Любовь друг в друге, будто зеркальца в оптической головоломке.
Захрустели крахмальные оборки прогулочного платья с низким лифом, свысока улыбнулась ветхая днями либертинка.
Ладонь скользнула под одеяло, нащупала ворот рубашки юноши, проникла внутрь.
Что искала - то настигла.
Сдавила двумя пальцами-щипцами плоский юношеский сосок, как ягоду, до тошной боли головной, до сладости во рту.
Тут бы закричать Кавалеру - но только глаза расширил и сухую губу прикусил и приподнялся на локтях, отнял голову больную от подушек с вышивкой.
Брат в дверях торчал, как молчаливое чучело.
Отвернись, ради Бога. Не подсматривай.
Огонь нутряной по телу Кавалера потёк, от голеней до кости лобной, потешный огонь, негасимый.
Песок раскаленный под кожей истонченной от великой тоски.
Снова улыбнулась старуха.
Отпустила сосок. Нехотя выползла рука на свет. Старуха сухо отерла щепоть и понюхала пальцы.
Полистала книжонку, забытую в щели меж подушкой и резным изголовьем.
Новая книжечка, половина листов не разрезана. Взгляд гостьи задержался на фронтосписе.
Прочла четко, с издевочкой:
- "Душенька. Древняя повесть в вольных стихах... В Санкт-Петербурге печатано в Типографии Корпуса Чужестранных единоверцев. 1794 года генваря шестого..." Новинка... Любите читать чувствительное?
Кавалер очей не сводил с жарких, новобрачных глаз Любови.
Левым глазом старуха заметно косила и потускнела радужка - находило на глаз дряхлое пятно катаракты - темная вода.
Любовь порылась в сумочке-саке на длинной цепке, трижды обернутой вкруг запястья, вынула четвертку бумаги и вложила в середину книги, не прерывая легкой болтовни:
- Молодым болеть не положено. Здравие и страсть рука об руку не ходят, время корень точит, нешто пристало вам, как Иову, в гноище валяться, не разувшись?
Протянула старуха грешную клешню сызнова - не отпрянул Кавалер, поддался ласке, лбом в ладонь окунулся.
Ловка старая охотница, и оглянуться не успел - украла мое дыхание, пала, как стервятница с потолка, золотым пером косо хлестнула по скуле и сердечную сумку выпила до капельки.
Сама руку отдернула от молодого тела, будто от кипяченого добела молока с пенкой.
И не, прерывая толедской улыбки, сама себя тронула за иссохшую левую грудь, сплюснутую тесным лифом. Сомкнула большой и указательный пальцы.
На соске.
Тем же движением.
Виски Кавалера испариной выморосились. Засолонело во рту.
Блуд безблудный одолел. Кавалер выпростал навстречу старухе млечное плечо из сорочки, подался к ней неумело.
Любовь будто не заметила, охолодила взглядом, кратко опустив руки, молча велела лежать.
Кавалер лёг. Смотрел неотрывно на гостью снизу вверх
Будто в зыбун провалился - от сапожных подошв до подвздошья. Дернешься - глубже уйдешь. По бедра, по колено, по груди, по горло, по лобные доли. А там и - амба!
Все на свете ложь и трясина, все зыбкость и фата-моргана, лишь упрямый клевок ее иссохших пальцев на твердом сосце - истина ненасытная.
Суставы из пазух выскочили, жила яремная на шее взбухла и забилась, в паху стыдная натуга дрогнула, налилась и опала.
Старуха закрыла книгу, положила на край простыни.
- Ну, Господь с вами, детонька. Поправляйтесь. Всему свой срок.
Сухо поцеловала в лоб, встала и вышла вон.
Кивнула старшему брату.
- Проводите.
Прошаркал туфлями кожаными нерасторопный лакей, о порожек спальни зацепился.
- Не надобно ли чего, барич?
Уже на лестнице старший брат услышал прежнюю горячую речь Кавалера:
- Кипятку, мыла, чистого белья, живо!. Прежнее - сожги. Флакон полыни таврической и пожрать чего-нибудь. Окна отвори. Душно.
- Сей секунд, - ответил раб, бросился исполнять.
Переменчивый ветер вторгся в разомкнутые рамы. Погода обеспокоилась, смутилась, болотным теплым дурманом дунуло с дальних окраин Москвы.
Кавалер присел на край постели, дышал хорошо.
Без лишней мысли поднял брошенную душещипательную книжку.
Секретная записка выпала в ладонь.
Развернул и спрятал в жарком кулаке, как вор - монету.
Два слова выведено было убористым почерком поперек листа по косой линейке:
"Приходи вчера".
С яростью натирая мочальным жгутом молодое тело, подставляя еле зримый пушок на щеках острой бритве, Кавалер вспоминал слова эти, как заклинание.
Ежели хочешь избавиться от наваждения похотного или отчураться от русалки или еретицы, что в дырочку от сучка на крышке гробовой подглядывает, то скажи ей два слова "приходи вчера" и отступится пакость, не в силах исполнить урока.
Нежная нечисть улыбается и завтра бросает камень, убивая птицу вчера.
Господи Вседержитель! Свежо к вечеру. Как жить-то хочется! Как дышится вольной глоткой!
Вымоюсь дочиста, оденусь красно, пойду гулять по Москве запросто!
30. Свечи человечьи.
Москва меж тем завязывала глаза татарской полосой, белила полотна, разжигалась без жениха.
Большой город. Хороший.
Сухарево небо просияло, истаяло в узких бойницах боровицких, рассыпались полосы облаков над Большой Полянкой, над Якиманкой и дале, дале, до Крымского моста, пали на западную сторону ясные светы и рассеялись навсегда в осинниках и садах.
Базарные ряды обмелели, торговцы убирали товар, перекликались голословно.
От кирпичей, оконниц резных, маковок и щербатой кладки итальянских укреплений - тянуло теплом, дрожали над мостовыми и пересохшими лужами воздушные змеи.
Кричали ласточки-вышивальщицы, ныряли в обморок травяных дворов.
Уснула девка- водоноска у поленицы, вода из ведра вытекла в песок.
Дурил и мотал голову дух берестяной от новых дров, прогретых за долгий день отвесным солнцем.
Снились девке леденцы да молодцы. Складка подола врезалась меж ягодиц. Саднил ситец посреди.
Великое лето плыло.
Голуби в пыли переваливались и клевали.
Часы с боем на пожарной каланче отмеряли время.
Часовой зевал в будке, косился на стрелки - не пора ли обедать?
Несло поджаркой из кухонного флигеля. Хорькали чуткими ноздрями почтовые лошади на Божедомке, у чугунного кружева ворот Владимирской церкви. Ждали лошади кучеров и печалились.
Хромой парнишка с конюшни разносил холщовые торбы с пареным овсом. Вешал на шеи лошадям. Лошади дышали. Крупно хрупали корм.
Торговки в рядах болтали о больших пожарах.
Горели леса за Серпуховом, яхромские деревни заволокло дымом, так что и стар и млад ходили, надвинув на рот и нос мокрую ветошь, а стариков убралось в могилу от жары стоячей и дымогарья множество.
Опестрели крестами погосты.
Через Остафьево в ранний час с великим криком пробежало многое стадо белок, лис и зайцев-русаков - лесные звери с обгорелыми лапами корчились и околевали на обочинах тысячами.
В Дубне прихожане посекли лозами и порезали ножами статую святой Пятницы над м источником в дубраве - в сей же час тучи заклубились над злодейством, ждали пробойного ливня - но огороды и поля побил кровавый град.
Падали из дымных облаков жабы, черви, мыши и нательные кресты вперемешку с костями, от плесени позеленевшими - будто облако пепельное воронкой вихревой высосало кладбище и отдавало вместо живительного дождя на пажити осколки хребтов, гробовые щепки и комья земли.
В Филях сельского попа, отца Анфима, зашибло берцовой косткой, упавшей из облака, он как раз из шинка возвращался вечерню служить.
Мужицкие душки бежали сообща и порознь, кто на Дон, кто на приволжские Горы к раскольникам.
На реке Сестре копали лопатами схроны - укрывались в землянках целыми семьями.
Старцы и юродцы пророчили великий голод и шатание в людишках русских. Слухами земля полнилась, от полноты маялась, тучнела, тужилась, да не родила, сгноила злаки на корню.
Год ожидали урожайный на яблоки и грибы. Плохо, когда грибы и сыновья по деревням родятся в изобилии - дело, стало быть, к войне.
В глубоком ставке-прудике на заднем дворе Харитоньевского краснокрылого дома, девки-простоволоски полоскали белье, заходили в студеную воду по пояс, заправляли за уши мокрые пряди и остро смеялись, дразня товарок.
Дрябли и расплывались в мыльной щелочной ряби их молодые лица.
Всплывали по течению ключевому набухшие простыни.
Заросли московские огороды пыреем и лопухами, обвисли в переулках дымными волнами крестовые купеческие заборы и белой кладки монастырские контрфорсы.
.
Черные сестры за стенами Ивановского монастыря пекли июльские бублики с маком и морковные запеканки. Резали гороховый кисель суровыми постными нитками.
Ничей мальчик бежал по улочке, гнал обруч кнутиком. Рубашонка красная на ветру полоскалась. Московский сор и дрязг налипал на обод.
Улыбались москвитяне. Будто не обруч, а круглое солнце само подхлестывал и гнал постреленок, сквозь столетний сон города.
Город муравьиный, все дороги торные, в переулках ножами пахнет и вареным грибом. Пороги щербатые, колодцы тиной заросли.
Время пить чай.
К родным и приезжим равно бессердечна семихолмная матерь, стирочная и ярмарочная, сволочная, раскольничья, рыночная, булочная Москва.
Трубы пекарен, жерла питейных домов, где воры сальные карты мнут с загибом, тощие грядки, кузни, мясные ряды и сибирских торгов лабазы.
Бабы в пестрядь вырядилась, мужики шапки на глаза надвинули - за голенищами ножики, дешева водчонка в кабаках.
Принесет кравчий ярославец зеленого вина шкалик и головку чесноку в кавказском свекольном маринаде. Мужики водки примут на грудь, чесночиной зажуют, кулаком в лоб двинут.
Выноси новопреставленного, Москва.
Туго родишь, да крепко любишь.
Тяжелым быком тянула пахотную лямку город-городица, красная девица, двусбруйная сестрица - и баба и мужик поровну.
Все окна распахнуты были в красном доме - гулял по половицам перечный удушливый ветерок.
Солнце, как сырое яйцо, протекло сквозь ставни, обессилело. Псом у ног улеглось золотое пятно барского утра.
В Харитоньевских палатах завтракали господа.
Старший брат яичную скорлупу тюкнул ложечкой. Брызнула из раскола желтая юшка.
Поморщился. Оставил. Фу, остыло.
Взял ломоть хлеба пшеничного из корзинки, брезгливо разломил. Есть не стал. Мерзенько.
За узким столиком сидели два брата - один другого старше на двадцать шесть лет.
Делили трапезу.
Мать в теремнице на верхнем этаже плакала, просила сменить холодную повязку на лбу, повседневная морока.
Как мыши, сновали служилые девушки по густым путаным лестницам слишком большого насупленного дома.
Кавалер присмотрелся к старшему брату. Поморщился.
Ишь ты, расселся на подушках барин питерский, фаворит, миллионщик, лакомка.
Всем судьба наградила старшего - если спрашивали его, есть ли у него в такой-то губернии поместье, приходилось старшему звать секретаря с секретной книгой под мышкой, осведомлялся:
- А скажи, Андронушка-дружок, есть ли у меня поместье в тех областях?
И всегда находилось доходное поместье, куда ни ткни на полотнище ландкарты.
То пенька, то упряжные лошади, то лен, то соль, то каменное масло из Баку, то усть-сысольская древесина, то коровы породистые, что на тучных пажитях давали по три ведра молока, то шелк-сырец из Самарканда, то крымские яблоки в пергамене навощенном.
Все, что родит земля, на что горазды ремесленные руки - все твое, князюшка, кушать подано.
Постарел ты, братец. Истаскался на простынках голландских, питерского фасона.
Заросла малая петербуржская речка илом, поперхнулась мостами, вспорхнули актерки и плясуньи над позолотой и красным бархатом твоего театра, над фронтоном желтого дома с белыми колоннами на набережной Мойки.
Старость не радость. На висках залысины-просеки высокие.
В углах глаз "вороньи лапки" морщин.
Старший брат молча смаковал горячий шоколад из синей поливной чашечки.
Совсем чужой человек.
За всю свою жизнь Кавалер виделся с братом в третий раз. Один раз - ребенком, второй раз в Петербурге, когда отказалась от дебютанта Императрица, а третий раз - так близко, что дыхание слышно - сегодня.
Крутилась в горячих висках Кавалера песенка простая, с треском, словно осиплым басом пьяница за окном голосил:
- Все венки поплыли,
А мой утонул.
Все дружки приехали,
А мой - обманул.
Старший брат зря времени не терял, обстукивал черенком ложечки надрезанную скорлупу окаянного яйца, лениво читал нотацию.
Краем уха Кавалер улавливал сдобные наставительные слова его, одно с другим не вязалось. И вдруг всплыло из тесноты словцо:
- Бездельник...
- Что? - переспросил Кавалер и кулаком зевок зажал.
- Пустопляс, - веско произнес старший брат и яйцо посолил скупенько. Рот перекрестил и поднес ложку к плотным насмешливым губам.
Лето текло за окнами. Лакей зажег лучинкой свечи в шандальце на столе не для света - а для аромата, был пропитан воск белым муском бомбейским.
Кавалер тарелку отодвинул, рот отер.
Спасибо, братуша.
Сыт по горло.
Взглянул на брата без опасения, с вызовом.
- Бездельник, говорите? Пустопляс? А сколько раз я вам писал, просил меня к делу приставить, рекомендательные письма выдать для учения. Наконец, сам по петербургским гарнизонам рассылал прошения, а мне один ответ - ждите, старший брат прежде вашего должен отписать, благонадежен ли, к службе способен, здоров ли разумом и телом?
Батюшка-то еще когда помер, вы старший, за вами и слово, я для них никто и звать никак А чем я хуже Антошки Шереметьева, Аннушкина брата, я бы тоже в Навигацкую школу пошел, или в лейб-гвардию, да черта ль, мало ли мест на царевой службе.
Озверел я уже на Москве, за бабьими юбками света не вижу, сколько раз я вам намекал, а что вы мне отвечали, фреринька?
Три года слышу - обожди, погоди, дело тонкое, так сразу нельзя. Не зная броду, не суйся в воду. Так и повелось: куда ни ткнусь - угодливая маска скалится: нельзя-с!... Фамилия у вас дюже важная, нужно леность и вальяжность выказывать. Надо ж-дать-с!
Сколько можно!
Старший брат бровью поиграл, стащил с левой руки домашнюю перчатку из выделанной до шелковой тонкости кожи тосканского козленка. Почесал дряблый подбородок.
И промычал с насмешкой:
- Н-ну?
- Баранки гну! Я хочу - сразу! Брода нет - так вплавь готов. Годы мимо свищут, мне уж скоро двадцать, это вы старик, на пятом-то десятке... а мне жить! Доблести хочу и настоящего дела, а не забавы и праздности. Что я вам всем теремная царевна на пуховиках валяться? Бока уже пролежал.
Брат тонко и точно уложил крест-накрест на тарелку столовый прибор, увенчал скомканной салфеткой, кивнул лакеям - тотчас унесли объедки.
Запросто оперся на скатерть локтями.
- С ума спятил? На кого брешешь? Сядь, я сказал. Ты когда себя последний раз в зеркало видел? Слаще девушки. Мамкино охвостье. Сытно ешь? Мягко спишь? Одет пышно? Чего тебе еще нужно? Что тебе неймется, а?
Кавалер побелел. Потянулся к плоской китайской чашке с грецкими орехами. Брал один за другим, и между большим и указательным пальцем давил твердую скорлупу в крошево, не морщась, без видимого усилия.
Приговаривал размеренно, в такт сильному хрусту скорлупы.
Осколки раздавленных волошских орехов сыпались на вощеный паркет.
- Значит, по-твоему, я - девушка. Последыш. Хорошо же. А если я. Прямо сейчас. Вас. Тебя. За такие слова вызову? Долго на шпагах продержишься против меня? Блюдолиз. Царедворец лукавый. Кобель потасканный в отставке! Недолго царицкины перины мял?
Тут Кавалер не выдержал, вскочил, опрокинув полукресло, и через трехрожье подсвечника серебряного, сметая к чертям сервировку с ковра, бросился и сгреб брата за кружевные брыжи.
Покатился канделябр на пол, завоняло жженым воском, зашипел, чернея, фитиль.
Старший налил багровым румянцем пудреные щеки, вывернулся и кратко гавкнул:
- Никитка! Мишка! Атть... ко мне! Живо!
Ввалились с треском в золотые двери дюжие гайдуки, растащили дерущихся.
Кавалера с матерком запинали в угол, скрутили руки за спиной - треснул и распоролся рукав.
Секретарь-фитюлька на цыпочках засеменил, как таракан, затоптал свечи, накапал старшему на платок уксуса венгерской королевы из флакона, и с кудахтаньем оправил на костюме господина измятую красоту.
- Пшел вон - старший брат шлепком ладони в лицо смазал холуенка, тяжело взглянул на Кавалера, с которым, пыхтя, возились гайдуки.
Кивнул сокрушенно, прошелся по медовым половицам, чижику в клетке затейливо посвистал, побарабанил по прутьям.
И обернулся к бунтовщику, заложив руки за спину.
- Неблагодарность есть низшее чувство. Мерзейшее из всех возможных. Запишите это в душе, юноша. Иначе конец ваш будет жалок, - и вдруг сменил менторский тон на площадной, прошипел по-семейному, с неистовой лаской:
- Задушу, пащенок! Да если я тебе счета предоставлю, за все, что ты прожил, ты ослепнешь! Вызвал меня один такой. Дебошан паршивый. Никитка, под замок его, до ужина. Пусть остынет. И приберите здесь, - старший поддел носком башмака полураздавленный апельсин и закончил - Распустились совсем на Москве сволочи!. Без хозяйского глаза.
- Трус, - устало сказал Кавалер, отдернулся от буйволиной туши Никитки - руки убери... холуйская морда.
- Идите уж, княжич. Стыдобу устроили, так не ворохайтесь.- крепко держа за локоть Кавалера, прогудел кулачный боец Никитка, выволок юношу из залы.
Запетляли по крутой лестнице, сбили, борясь, палас. Напоследок Кавалер вцепился в косяк, уже понимал, что запрут, но до слез обидно было сдаваться запросто.
- Пусти, я ему скажу, я всем скажу, что он трус собачий, слышишь, ты...
Никитка, зевнув, захлопнул за ним дверь и только руками развел, слушая, как тяжко и часто колотится пленник взаперти.
Мишка, подельник верный, вынырнул из каморы - таких ходов-переходов тайных много было в Харитоньевом доме.
Кавалер, спиной к двери сильно брыкался в карельское дерево, так что петли трещали в косячном брусе. А потом и лицом обернулся и бросился.
- Отвори, раб! Убью! - крикнул в щелку.
- Господам раздор, а нам забота... - пожаловался Никитка Мишке, отер рот рукавом..
- Погодь. Я быстро обернусь. Сейчас мы задрыгу утишим на час-другой, верь совести. - Мишка ненадолго скрылся, вернулся, тяжело ступая по скрипучим ступенькам, грохнул об пол ношу, подмигнул.
- Отпирай.
- Ага, - Никитка повернул ключ, отскочил.
Кавалер от неожиданности грохнулся на четвереньки через порог, взвыл от боли в свихнутом запястье.
- Э-эп! - весело гаркнул Мишка и опростал на парня полное помойное ведро с кухни.
Толкнул облитого коленом в грудь и хлопнул дверью от души - посыпалась с завитушек позолота, подскочил на гвозде пейзаж-десюдепорт с розовыми пастушками.
Кавалер так и остался стоять на карачках. Чуть погодя, отряхнулся от помоев, вытащил непослушными пальцами кухонную дрянь из волос и из-за ворота.
Утирая разгоревшееся лицо, засмеялся, без надрыва, а просто, как во сне.
Через два часа из-за двери гукнули:
- Барич? Буянить не будете? Я умыться принесла.
- Не буду, - мрачно отозвался Кавалер, присел на корявый подоконник - Меня уже умыли. На всю жизнь.
- А я все равно войду. Барыня велели, - завозился в скважине ключик, простучала каблучками по елочкам паркета домашняя девушка.
Прислали мамашину шептунью, Павлинку, среди прочих известная расторопница и красавица. Надо же, уважение оказали.
Девушка поставила на лаковый столик горячий таз, разбавила кипяток в кувшине колодезной водой. Мило болтала, пощипывала оборки ношеного платья с барыниного плеча.
- Мыльце вам неаполитанское али грецкое?
- Какая разница, из чьей собаки варено? Полей на руки.
- Фу, дерзости, фу, мерзости, - хихикнула Павлинка, подняла кувшин к плечу. - Ну что же вы набедокурили... Весь дом гудит, маменька третий час с пульсами лежат. Братец ничего не кушали, весь полдник на кухню снесла... нетронутый. Как вас обиходили под замок, очень гневались они, с обезьянкой в библиотеке заперлись, и видеть никого не хотят. Вы бы повинились что ли. В ножки бросились. Простят.
- Перед кем виниться? Перед матушкиными пульсами, перед братцем или перед мартышкой его? - спросил Кавалер, крепко и зло отер лицо выглаженным полотенцем.
Павлинка вздохнула, шевельнулись на открытой груди кружевные фестоны "скромности".
Взглянула с печальным лукавством, будто отирая лишнюю влагу, мазнула по щеке юноши кончиками пальцев:
- Бриться еще не начинали толком, так только, для баловства. А ведь пора пришла. Заневестились. Чисто персик крымский. Пора бы щетинку растить, ну что вы глядите букой... Хотите секрет разболтаю? Любезный секрет.
Рехнулась Павлинка.
Никогда такой близкой, кондитерской не была.
Кавалер напустил на себя бесстрастие, стянул из розетки колесико нарезанного лимона, пожевал, сморщил щеку - у, кислятина.
- Говори свой секрет, Павлинка. Глупости, наверное.
- Готовьтесь, - жарко шепнула горняшка - К осени будет на вашей улице праздник. Такие средства потрачены - страсть. Ваш братец уже способных людей в невестин дом послал, томятся там по вам, скучают, глаз не смыкают... Осталось только сговор подтвердить... и дарственную подписать в невестину пользу и в монастырь, подмосковный, и еще кой на чье имя, там вам скажут. Только вы меня не выдавайте, мне куафер барынин, мосье Труа все рассказал. Все знают, только молчат. Радость- то какая у вас!
- Радость... - осоловелым голосом повторил Кавалер, зарделся, не заметил, как неясные тени внесли свечи, воцарился в покоях вечер, стало пусто и светло...
Выявился прихотливый узор на крышке английского спинета.
Раба подхватила таз с мутными ополосками, наладилась к дверям.
- Погоди, Павлинка. Какая свадьба. С кем? Я что, и вправду - девка, что мне до срока суженую не показывают? При чем тут дарственная? Опять дарственная, как тогда, у скопцов на пасеке! Что вы все на Москве белены объелись?
- И ничего не объелись, ради вашего блага стараемся. А вы строптивитесь. - обиделась Павлинка и каблучком в порог, как козочка, стукнула.
Кавалер спрятал лицо в обе ладони, раздвинул пальцы, посмотрел на бесстыдницу искоса..
А потом сгреб ее за шнурованную талию и губами в губы впился.
Девка уронила таз, поплыла, как розовая корзинка вниз по великой реке.
Слабо хлопнула Кавалера по спине. А потом и сама впилась искусным ртом в рот. Сплела язык с языком.
Долго стояли, ласкались.
Наконец Павлинка высвободилась из рук, отпрянула, присела в лживом реверансе, подобрала брошенную утварь.
- Не цените вы братнего милосердия. Дуэль на клинках затеяли, как неродной, обидели благодетеля. Вот вас как радость-то окрылила, даже на меня налезли в кои-то веки. Одеваться будете к ужину? Вам особливое приготовили.
- Уговорила. Буду.
- Мишка! - крикнула в дверной проем раскрасневшаяся Павлинка - Подавай камзол!.
С улицы раздался режущий крик, будто напрасно били ребенка.
Кавалер прильнул к окну
- Паша... Что за чертовщина... Что?
Умная девка оттянула за локоть в комнату. Припала к груди.
- Не надо. Не смотрите. Это брат коня вашего... Нашего Первенца приказал вывести и пристрелить. Не слушается. Задом бьет. Кусается. Зря только большие деньги плочены. Испортили вы скотинку своевольными скачками. Уже мужика пригласили с волокушей, чтобы тушу свез.
Кавалер от души хлопнул створкой окна - брызнули на подоконник цветные осколки.
- Озверели?
Лошадь снова закричала, ударила задом, упала, поволохалась на боку, потом хлопок пороховой ... и ничего больше.
Зашкрябали по двору полозья волокуши.
Кавалер тупо стоял посреди комнаты, слушал, как брешет собака, как с кряканьем и кхеканьем тащат мужики тяжелую тушу.
- Извольте - настойчиво отозвалась темнота, протянулась из ниоткуда одежда, перламутровая, на старый фасон с серебрушкой на квадратных обшлагах рукавов.
Кавалер продел руки в проймы.
И вышел в зеркальную галерейку, где арапчата в шальварах ощипывали пахучие листики с померанцев и цитронов в деревянных кадках.
Апельсиновым светом обменивались, потрескивали в настенных подсвечьях нарочные тусклые огоньки.
Кончался нечистый четверг.
Сбывался сон под пятницу.
Последний.
Раскрылся на пустой странице Соломонов сонник.
Смешались все насекомые буквицы кириллицы в золотистом переплете.
Страшен сон, да милостив Бог - под сурдинку из-под мостов и монастырских кровель вздохнула мать Москва.
Павлинка догнала, развернула барича за гарусное плечо:
Зашептала в ушко:
- Ну что вы, как малое дитя всему верите, это не Первенца, это водовозную клячу на говенном дворе порешили, ей срок пришел умирать, все зубы вылезли и на копытах нагнет. Знаете, сколько живых рублей братец Ваш за коника заморского выложил? Нешто позволит он такого жеребца, редкого, белого, в расход пустить! Это пугают вас... чтобы место свое знали. Вот и стреляют под окнами. А конь ваш, куцый Первенец так и будет стоять в зверинце живехонек. Будет крыть кобыл, сено есть...
- Господь с тобой, Паша. Будет врать-то- вымолвил Кавалер, подышал в пробор девушке, где русые кудри по гребню набело разделялись, точно книга на развороте.
Быстро расстался с нею, не оглядываясь.
Дрожали и таяли в анфиладах Харитоньевых каменных палат человечьи свечи - вслед уходящему юноше.
Трещал, остывая фитилями, по углам в барских коптилках мягкий будто детский истопный жир.
На самом деле трещало в глиняной обливной посуде свиное сало.
Свечечки в шандалах.
Свечечки в ладонях, на лбу, на голенях, на коленях.
Свечечки на полу, на потолке, на ступенях, на перилах, в кладовых, на карнизах, по всей Москве.
Свечечка.
В головах.
К вечеру.
31. Двери! Двери!
"Пошли девОчки завивать веночки. Кто венков не вьет, того матка умрет, а кто вить будет, тот жить будет!
- Ай, русалочки, русалочки, умильные русалочки, правду молвите, какой мерой лен да пшеничка уродятся? По колено, или по пояс?
- По пояс, кума, по пояс, как на жирном погосте.
- Хорошо, хорошо, мои русалочки, нате вам шмат сальца человечьего, подсластитесь напоследок, тем, что плохо лежит!"
Вместо человечьего клали на межах поросячье сало, русалки близоруки - Бог даст, ошибутся угощением.
С обманными песнями и наговорами по голубым подмосковным луговинам шатались пьяные русальщики, весну хоронили, таскали высоко на оглобле конский череп, взнузданный и расписанный в четыре основных лубочных колера: красным, желтым, зеленым, синим.
Всем известно, что опасны маревные непрочные дни раннего лета, когда травы силу набирают, когда по старым дорогам богомольцы бредут к Сергию, когда петров крест цветет и по сырым оврагам о полночи чудится переливами смех и рукоплеск мертвых девиц-омутниц.
Услышит русальные песни конный или пеший, опрометью побежит, ногайкой коня охаживает, надвигает шапку на лоб, хватается за нательный крест. Из последних сил спасается мясо православное.
Но скоро поймет беглец, что как ни рвет жилы, как ни задыхается конь по горло в черном травостое - а все на месте стоит, будто муха в меду увязла - ни тпру, ни ну.
Утром только шапку окровавленную найдут на обочине.
Покачают головами чужие люди, шапку похоронят, как голову, там же, в колее глинистой, вечным молчанием почтят - мол, был прохожий человек, да сплыл, а имя ему Бог весть.
На грядущее лето вырастет в овраге черная Папороть Бессердешная.
Поделом тебе, беглец - не любо - не слушай.
Мало ли кто на поле где лен-конопель, гречиха - ржица, хмель да овес, в сумерки босиком носится, в ладоши хлопает и кычет по-кукушечьи
"Ух, ух, соломенный дух! Меня мати породила, некрещену положила!".
Земляника белыми крестиками цвела под Москвой.
В черностойных сырых лесах близ Сапожка и Ряжска, русалки водились целыми гнездами, в Туровском бору нагие русалки скакали верхом на турах и оленях.
Никакой барин-охотник не смел тронуть нечистую ездовую скотину, потому что везде найдут мертвые девки нарушителя, и мольбу не выслушают, а стальными глазами прильнут к замочным скважинам, окна облепят белесыми ладонями снаружи.
После полуночи в горницу проникнут болотным паром и выпьют врага изнутри, через нос, глаза и уши, как гусиное яйцо сквозь скорлупу.
Наутро только кожа да кости под постельным пологом валяются, а под носовым хрящиком последняя кровь запеклась мармеладью.
Баю-бай.
Русалки восходят из вод на Светлое христово воскресение, когда вокруг церкви обносят Плащаницу.
Тогда не зевай, ключарь, прикрывай двери храма поплотнее, иначе русалки набегут на церковных свечках греться, и крестом не выгонишь. Только и останется, что церковь проклятую заколотить и оставить всем ветрам на потребу, иконостас безглазый истлеет, оклады омразятся, в алтаре вороны насрут.
Все дни у Господа в рукаве страшны, но страшней прочих
Духов День.
Вот тут-то русальное шутовство большую силу набирает.
Духов день не первый понедельник по Троице, духов день он по всей России день не праздничный, а будний.
До Духова дня русалки живут в водах и пустых местах, а на Духов день выползают на косые берега, и, цепляясь волосами за сучья бурелома, качаются, будто на качелях с мертвецким стеклистым клекотом, бессмысленно и ласково голосят:
- Рели - рели! Гутеньки - гутеньки!
Твердыми холодными губами тпрукают, языки проглатывают, беснуются умильные русалочки.
Есть смельчаки - ловят русалок за волосы, волокут в избу. Нет живой жены, так нам и мертвая годна. Мертвая жена никому не в тягость, ест мало, все больше питается телесным паром ловца и скоро бесследно истаивают вдвоем. Вот так и стоят по всей России заколоченные крест-накрест досками выеденные избы, никто в них не селится, только на Духов день теплятся в пустоте мертвые огоньки и слышно далеко, страшно и нежно:
- Рели - рели, гутеньки - гутеньки!
Нельзя бросать в воду скорлупу от выеденного яйца: крошечные русалки - мавочки построят себе из скорлупки большой корабль и будут на нем плавать, малявки, притворно глаза слезить, в водоворотах колыхаться, баловаться.
Опасно строить дом на месте, где зарыто тело нелюбимого выблядка или иное скотское мертвородье, не будет вам по ночам покоя, возьмется пустота по ночам летать, милости просить, а разве есть милости хоть малость у Божьих людей?
Встретится на молодом сенокосе, где горький молочай и медуница и клевер-кашка расцвели, голая русалка и спросит:
- Какую траву несешь?
- Полынь.
- Прячься под тын! - крикнет русалка и мимо пробежит, простоволосая, голобедрая, мокрая.
- Какую траву несешь?
- Петрушку.
- Ах, ты моя душка! - крикнет русалка и защекочет до смерти пепельными пальцами без ногтей, уволочет на плече далеко - высоко.
Ей мужское тело не тяжело. Она сильная. Она все вынесет.
Брехня.
Русалки на русскую волю выходят редко.
И все они.
Очень стары.
+ + +
Ехали братья по Москве невесело, кивали на ухабах пудреными головами, смотрели по сторонам врозь.
Поднялись по левую руку белые с каменной зеленью новые стены Рождественского монастыря, в небе таяли кресты, поставленные "над луной", на золотые полумесяцы опирались узорные перекладины.
Много красного золота на Москве в рысьей августовской просини.
Ехали братья по Москве невесело. В красном возке с лубочными картинами на расписных крепостными кистями дверцах.
Рыжие лошади фыркали, скороход разгонял торгующих, выкликал " кто едет!", да "посторонись". Расступались торгующие, снимали шапки, смыкались, как кисель, трясли перед носом грязным тряпьем, связками баранок, лыком и резаной кожей. Торг до драки. Драка до первой крови. Заварила Москва крикливое торжище - у кого прелой дряни короб - тот вынес дрянь на продажу, у кого медяк с дыркой - будет дрянь покупать и перепродавать за гривенник.
Досыта Москва жует, корчится, торгуется, вертится, блюет по углам краденым товаром, из под полы сует скверное, дерет втридорога.
Чур от девки простоволоски, чур от жонки жадной, чур от черной татарочки-казанки, чур от бабы-крупенички белоголовки, чуть от старого старика, чур от торгаша, чур от дурака, чур от еретика, чур от ящер-ящериц, чур от кремлевских бойниц, чур от Неглинной, чур от Пресни, чур от Ваганькова шестомогильного, чур от огненных кирпичей Зарядья, чур от зеленого изразца Кесарийского.
Чур меня, Господи, от самой Москвы.
Чур меня, Господи, от самого себя.
Небо в золоте азиатском раскосо и плоско плавилось над кровлями. Черно кричали стрижи. Падалью тянуло из сырых подворотен, с пустырей сорных и строек бессмысленных несло поздний тополиный пух и каменную соленую пыль.
В монастырской бузине ничьи подростки свистели в два пальца, жгли костры, жарили горбушки на прутиках, прыгали с веревки в пруд голые, дочерна загорелые, ловкие, как цыганята.
Первыми ягодами торговали ситцевые платки на углу.
Перебрехивались бабы.
Бежали за колесами собаки и босые девочки-сахарницы с лотками леденцов и самоваренных тянучек с прилипшей соломой.
- Хочешь кочетка на палочке? - спросил старший брат, мокрый рот промакнул кружевной манжетой.
- Нет - ответил Кавалер.
- Хочешь, велю коней стегнуть шибче, поскачем с трезвоном, собаку что ли колесом задавим, кровь будет, весело!
- Нет - ответил Кавалер.
- Хочешь, в храм зайдем, помолимся, вынутых просфор вкусим, свечу затеплим? Отцовой могиле поклонимся?
- Нет - ответил Кавалер.
- Куда же ехать прикажешь?
- В Царицыно свези меня, братуша. Там дома стоят, трубы дымят, пчелы гудят, к обедне звонят в хлебной церкви. Так хорошо там, что и не сказать русским словом. Хвоя в костре горит, искры летят, там вечер живет, медное солнце за ельник валится, красные сапоги истоптало по моей голове.
- Это в какой же церкве звонят? Я все приходы в Царицыном селе по именам знаю. Два храма на свои деньги строил, - не поверил старший брат младшему.
- Все храмы знаешь, а такой не знаешь... Там горбун служит, крапивой народ кропит и все прихожане честные карлы и Богородица у пруда стоит босая, Нерушимый Цвет. На свечном дворе гречишным медом пахнет, старики несут просфоры на чистых липовых досках.
- Горазд ты врать, братец, - усмехнулся старший брат и кучера в спину толкнул каблуком. - Матери врешь, мне врешь, а пуще врешь себе самому. Страшный мальчик, напуганный.
- Кем напуганный? - спросил Кавалер.
- Собой напуганный. Оттого и страшный. Но, что греха таить, ладно врешь, заслушаться можно. - ответил брат.
Тряско ехали гарями, катили буреломами, раздвигали низкие орешники над дорогой.
Поили коней у источника, старший брат купил мерку землянику в лубяном плетении, ел смачно.
Кавалер ерзал на сидении, шею тянул - скоро ли? Поспеем?
- Опоздаем! Карлы лягут спать. Окна погасят. Стражу выставят.
- Отрыщь - как охотничьей собаке, грозил старший брат. - Дома не уйдут, храмы не попятятся. Доедем.
Кавалер так хотел показать ему осоки, мосты, пасеки, гнезда журавлиные, те близкие к сердцу, тайные края, где недавно счастлив и скорбен был.
Кони смеялись, показывали зубы, стоя по колено в стремнине ручья.
Белой кипенью завивался вкруг колен черемуховый поток. Темнели воды, уходя в ивняки.
Падали по камням в никуда легкие буруны.
Вечер наотмашь рассыпал червонцы в корабельных красных соснах, перебрал глинистые тракты, низины туманом тронул.Захолодало под холмами.
Строптиво - шаг-в шаг-шаг-в шаг ступали беговые кони. Играли сбруей.
Вот и малая деревня показалась.
Псы молчали. Трубы холодны и пусты.
Игрушечные домики потянулись в полутьме. Плеснула в запруде рыба.
- Где же твои карлы? - спросил брат. - Дома стоят потешные и задней стены нет. Для смеху поставили. Декорации.
- Сейчас! Ты увидишь. - ответил Кавалер.
Ничего не увидел старший брат.
Только в самом большом из малых домов на дощатом столе скучали плошки с прокислым хлебовом, когда заглянули приезжие в пустые окна - метнулась со стола лиса, ушла огнем в лаз.
Во всех домах карличьей деревни скарб не тронут был - еловые кровати, иконы в передних углах, пестрядинные наволоки, прачечные вальки, корыта, горшки в печи, тюфяки на скамьях, завески ситцевые на окнах, нераспиленное бревно на козлах во дворе.
Сорвались обитатели и поднялись в круглое небо, в чем были - кто в солдатском исподнем белье, кто в праздничном кафтане.
Кавалер хромал по дворам, посудные черепки звенели под ногами.
Кликал по именам:
- Прохор! Митя маленький! Тетка Наталка! Катя... Онисим! Ксения Петрова! Выходите... Гости с Москвы приехали!
Опустели царицинские берега, псиной несло из оврагов, южные птицы разлетелись и умерли, лечебные травы пожгло пожарной засухой на косогорах - черный пал течет за городои, дымно томится земля.
От востока до запада, от севера до юга, от реки до моря, на путях и перепутьях, выросла трава с муравой; на крыльце сером сидят тоска со кручиной, едят из кулака хлеб без муки. Соль с ладони лижут желтыми языками, которыми не говорят.
Все дома слепо пялились на закат, в проемах сняты с петель двери.
У кого богатые двери, с четвертками стекла, у кого - горбыль на честное слово сколоченный.
Дышали открытые дома, скрипели, доживали. Бузина в окно сторожки колотилась на ветру. Без отклика.
Заходи, кто желает, не заперто, бери, что угодно душе - ситцевый лоскут и плесень, сушеные яблоки и червивые низки грибов, мяклые луковицы с перьями в плошках на подоконниках, прялки с птицами и цветами, старописные псалтыри, посадские лошадки-каталки, стоптанные башмаки и остриженные женские косы кучей в огороде.
Тосковал по углам хлам. Хозяевам недосуг было следить. Бегство.
Погасло над оврагом низкое небо, перистая прорись облаков над лесом растаяла и потекла в золотой тоске к Москве.
- Карлы двери забрали, брат. И утекли в землю, навсегда. Как вернуть их не знаю. Казнили меня, не хотят за измену простить.
Старший брат подопнул козий череп на крыльце крайнего дома, хлопнул Кавалера по плечу перчаткой, пробасил примирительно:
- Поехали. Так я и думал. Попрятались во мхи, как чудь. Наворотил ты небывальщину. Дело молодое. Я в твои годы и пуще вранья загибал.
Крепко обнял брат брата, к груди притиснул, оттолкнул. Пахнуло от старшего потом и духами.
- Поистаскался ты, душа моя. Все растратил на маету. Никто тебя не простит, никто тебя не полюбит. На семью обопрись. Семья не предаст, коли смирен будешь. А так, что взять с тебя, выгорел дотла, глаза запали. Выпало молодцу безвремение великое, как в песне поется.
Комарье тонко зудело над глинистыми колеями Царицыных оврагов меж курганами.
+ + +
По осинникам, по мшаникам, по болотцам подмосковным, по рощам на холмах, где города не ставили, пробирались вереницей карлики - навьи люди.
Ночью шли, днем хоронились в валежнике, не дышали, костры жгли бездымные, пекли на каленых камнях соленое тесто, натирались золой и смывали грязь в лесных речках, стирались наскоро, сушили на можжевельнике портки и рубахи.
Бабы в остриженных волосах друг у друга щелкали вшей, звали мужчин, расчесывали им колтуны на платок жесткими гребнями.
Вечером в дорогу.
Впереди шли крепкие маленькие мужчины с ножами. Следом - женщины и слабомощные в летних санках - волочках безногие, косопузые, горбунки, трясуны, моргуны, волдырники.
Под старой горькой луной на перекрестках шли навьи люди, гнули спины.
Несли на спинах двери, снятые с петель.
У кого со стеклами, у кого с заусеницами.
Дом сгорел, не беда, главное дверь сохранить и на шее черный ключ от замка.
Не стоять домам на Москве, так двери унесем в темноту, не впервой.
Вожак навьих людей - горбун Царствие Небесное оглядывался на свой народ, кутался плотно в табачный кафтан, месил грязь тяжелыми башмаками сорок лет, как казалось.
Дороги сверял по летним звездам, по муравейникам, по звону источников под часовнями, по конокрадным оврагам, по лисьему нарыску, по крику выпи в рогозе на мокрых низинных кладбищах, там среди бугров травяных чудилась за стволами река-Ока.
Дорога верная, все повороты в смертную честную сторону, где людей нет.
Плохо там, где добрые люди есть. Добрые люди белым хлебом по губам до крови бьют.
Карлики выставляли на привалах караульщиков.
Пускали быстроногих соглядатаев днем на дорогу - чисто ли.
Чисто.
Можно идти.
Царствие Небесное с матерком взваливал на закорки тяжелую дверь от родного дома., звенели в двери вставные цветные стекла. Онисим прихватывал снизу дверь, как носилки. Мертвые бабы бережно клали на дверь белую Рузю.
Накрывали лоскутным одеялом по горло.
Горела Рузя в бреду, говорила быстро, весело, мотала головой от плеча к плечу. По ногам сукровица текла, запекалась под коленями. Одолевали ее мухи.
Бабы отгоняли мух лопухами.
Следом за карликами, волоклась босиком дебелая баба, рослая, как солдатка, подол в грязи по колено, лицо рябое, рыжие косы спеклись немытым колутном.
Опухла вся, как копна.
На голове серый платок с чепухой по кайме. На руках петух. Кормила зернами, баюкала. Петух к ней привык, спал в подоле. Утром не кукарекал - немой был петух, плохой. И без него солнце вставало всякий день.
Навьи люди Наташу нашли на перекрестке, мертвого Марко Здухача прикопали неглубоко, затормошили Наташу со всех сторон, а она кричала по бабьи, виски ладонями давила, колени и локти сорвала в каляном сухоземе. Не хотела от жениха уходить.
Уговорили, поковыляла за ними, двери у ней на закорках не было. Отроду не жила гулящая Наташа дома.
Не от чего и ключ держать.
В деревне под Клином украла петуха, лепешку горелую и наволоку.
Бабы догнали, хотели бить вальками, но разглядели и отступили - юродку грех мордовать.
Так и увязалась за маленькими людьми Наташа Кострома, шлюха пресненская, скопческая богородичка.
Стали звать ее Безымяшкой. А она и рада была.
Добрая стала баба, всем сволочам покорная. Осела как сугроб, постарела скороспело.
Если кто из карликов плакал, прикладывала взрослого к пустой груди, пусть сосет в утешение. И все гукала, все в ладоши хлопала. Отходила недалеко, приседала на корточки и скупо ссала с желтой пенкой, кричала карликам:
- Не смотри! Не смотри!
Никто не смотрел.
Петух клевал в холодной золе крошки. Клонил бледный гребень.
На дневках Безымяшка невнятно пела, корешки выкапывала, венки плела, иной раз выходила на перекресток, плясала в грязи перед извозными людьми. Крестила мелко на четыре стороны. Водила пальцем по линиям на ладонях, пророчила счастливые дни.
За счастье мужики давали ей когда хлеба, когда вареный свиной кендюх.
Отпетые вели Безымяшку за телеги, подначивали, дразнили:
- Покажи красный бабий стыд!
Безымяшка щерила зубы, задирала грязные юбки до пупа.
Мужики щипали ее за промежные волосы, совали в рот медные деньги.
Хвалили меж собой: махров бабий мох между ног.
Добычу Безымяшка носила без остатка навьим людям.
В дороге у Наташи стала гнить щека. Язва мокла. Бабы-карлицы жевали горькие листья, налепляли на щеку. Легчало.
Безымяшка спала тихо, без испарины и бормоти.
Только во сне рукой шарила по земле - искала своего петуха.
Находила, успокаивалась.
Оглашенные изыдите. Двери! Двери!
Карлики долго путешествовали. Считали недели, ставили зарубки на двери.
Потом потеряли счет и бросили это дело.
В среду вечером, как стали карлики на крыло подниматься и костры заливать, Рузя, приемная дочка Царствия Небесного умерла.
Ксения Петрова, мать названная, подошла напоить больную дочку, тронула лоб, понюхала с ладони холодный выпот, упала на колени, стала мять и целовать.
Бабы ее увели, оттерли по щекам мокрыми полотенцами.
Не закричала. Хорошо.
Царствие Небесное дочку по щекам хлестал наотмашь. Дышал рот в рот.
Молчала дочь. Нос заострился. Мухи на нее не садились, и на протянутых вдоль тела руках густо проступили синие жилки, побелели и будто отслоились слегка ногти с грязцей под ними, с белыми лунками.
Сильно и весело цвиркали в зарослях дергачи и кузнечики.
Царствие Небесное разок глянул - отвернулись карлы и глаза в землю уставили.
В ту ночь малый народ не тронулся с места. Зажгли костры. Бабы шили на скорую руку холщовое полотно, крупно стегали, отворотя иглу от себя, чтобы покойница дорогу домой забыла.
Рузя закостенела и стала строга.
Лежала голая на двери под небом. Груди острые отроческие - одна чуть меньше другой, на белом мыске разорванного лобка - пух и сукровица.
Позвали Безымяшку, та к мертвым привычная, внимательно обмыла тело соломенным жгутом.
По всем впадинкам, подколеньям, по горлышку, по заду, по подмышкам прошлась.
Грязную воду выплеснула, как могла далеко в бурьян.
Все беспокоилась, вдруг живую похоронят.
Рузю обрядили в купальскую рубаху.
Волосы расчесали на две стороны, свили полынный венок, на губы положили белый камешек, в обе ладони по зеленому в пятнышки журавлиному яйцу.
Мужчины у обочины вырыли яму. Глубокую, до грунтовой воды, щедро шлепали лопаты по глинистым пластам.
Дно выстелили тростником, соломенной сечкой, сухими дудками борщевика, высыпали охапками шиповные ветки и луговые духмяные цветы.
Царствие Небесное сам дочку к яме принес. Держал на коленях. Подходили навьи люди по одному, целовали Рузю в холодную скулу, и блекли с каждым поцелуем ржавчинкой частые веснушки.
Безымяшка тетешкала своего петуха, целовать не хотела, отворачивалась, твердила:
- Живую в землю кладете!
Юродивую гнали, не слушали.
На всякий случай подтащили к умершей зажженную ярко головню, смотрели против света на ладонь, искали румяного живого цвета, но видели цвет мраморный, без алого отлива, с тем и порешили, что мертва. Положили перо из подушки на обветренные губы - прилипло, не взлетело. Бездыханная.
В полночь спустили Рузю на длинных полотенцах, покойница легла плоско, туго тупнула спиной о дно.
Читали по памяти, сбиваясь, псалтырь. Карличий поп, отец Кирилл голосил над вырытым местом:
- Еще молимся о упокоении души усопшей рабы Божией Марии и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Не было гроба у Рузи. Царствие Небесное сам, кряхтя, втиснул в яму дверь, цветные стекла прикрыли восковое лицо дочери.
Первым бросил ей на голову горсть земли. Застучали комья о дверные стекла. Три стекла - лимонное, алое и зеленое с волнами.
Карличий вожак отвернулся, сосал пустую трубку. Вслед за ним бросали землю другие. Плакали. Отходили по одному в темноту.
Карлики чесались, приговаривали: хорошо легла девушка, при дороге, место живое, колеса, лапти, сапоги, так и разнесут ее на весь свет по косточке, по конопушке, по хрящику, по волоску.
Кутьи не варили - не из чего, ни пшеницы, ни меда, ни султанского изюмца в дороге.
Поели из котла щавелевых щей одной ложкой, на помин души.
Безымяшка от общего варева не угощалась, всем мешала, тормошила карликов за полы
- Да что ж вы живую положили, воши вы, а не люди!
Петух вырвался из рук ее.
Едва лунная половина выплыла из круглой зацветшей липы, карлики поднялись, взвалили двери на горбы и потащились, не глядя.
Уходим, уходм от рвотного многолюдного света на реку Волгу, на остров Коростыль, где лестница до неба за монастырем поставлена, идем в обомшелые чудские холмы, в землю, в туготу, в леготу, в облаки, в яблоки, в бубенцы, в черствую безродину, в птичий край, где никто не врет и не крадет, где не женятся и не выходят замуж, где не говорят "господи, господи", но оставляют бесповоротно и входят в царствие, как нож воровской под ребро.
Двери! Двери! Оглашенные изыдите!
Наташа топталась у могилы белой девочки Рузи, растирала в кулаке мокрую землю, жевала, нюхала, слушала, как скрипит на зубах сырой песок, кивала головой, как лошадь в траве.
Припала к холму ухом, прислушалась, как земля дышит, как ходит на шестнадцати гвоздях могильное солнце под глинистой коркой, как сквозь толщу корней и почвы черные просачиваются ночные несчастные воды, и жужжат докучно жуки бронзовки мертвоеды.
Заплакала.
Стала рыть, ногти ломала.
Земля рыхлая, камушки попадались, корешки, мягкие дождевые черви.
Карлики исчезли.
Наташа осталась одна.
Забилась в свежей грязи.
Подняла голову, и заметила подслеповато: меж деревьями, за полем, на кислом верстовом перекрестке мигнул фонарь, притих и снова вспыхнул настойчиво и заманчиво.
Наташа побрела напрорыв по сырым хвощам к свету.
+ + +
Много дней прожила в глуши Анна Шереметева, отчая дочь. Поневоле наплакалась, мужа с первого дня ровно возненавидела, даже имени его в домовой церкви не поминала.
Только и радости ей было, на дорогу через поле ходить и смотреть на Москву.
День ли, ночь ли, жива, мертва, все едино.
В доме пахло мастикой и воском, в стенах тикали жучки, от жары отставали тканые обои, тускнело черное зеркало в гостиной. Приносили Анне для умывания холодную воду в тазу.
Часами полуголая Анна расчесывала черные волосы гребнем, ломило шею, а она все водила и водила зубьями по прядям от затылка до груди, зубами скрипела.
Анна сделалась крута нравом, неразговорчива, тверда, как черствый хлеб во вчерашней печи.
Муж ее сторонился, обедал без вкуса, глаза прятал. Опустился, обрюзг от нездоровья, будто подгнил, перестал умываться и в спальню заполночь не скребся.
Приказал стелить холостую постель на лавке в проходной холодной комнате, там и ютился, поджимал голые ноги. Знал свое место - на Шереметевском приданом усадьба держалась, он худородный.
О детях и не заикался.
Легашей и медвежьих собак распродал, все равно друзья больше в усадьбу носа не совали, не расставляли слуги зеленого ломберного стола, скрипач не пиликал, свечей зря не жгли, только поп по воскресениям приезжал обедать, а потом и он отшатнулся.
Анна стала вникать в хозяйство.
Объезжала деревни, мельницы, кузни, всему вела жесткий учет.
Ездила когда на бричке, когда верхом. Косы черные туго натуго уложены вокруг головы, лицо смуглое, рот красный, искусанный, злой.
Трещина у Анны внутри.
Ни сургучом, ни воском жеваным не залепишь.
Платья носила вдовьи, ворот под горло, без городских прелестей.
Чуть где замечала порчу или потраву, сдвигала брови. Прочерчивала треугольную птичку морщины на смуглом лбу.
Если мужик лошади хребтину сбил, жену отколотил до синяков, если где забор завалился или малолетки голодные земляной пол ковыряли и ели - Анна пощады не знала.
Стояла молча, смотрела без интереса лютыми земляными глазами, как порют людей до крови за провинности.
За легкую вину наказывала дать столько кнутов, сколько на свете прожил. За трудную - всегда полсотни.
За сугубый грех - колодки на сутки, а потом - в город и клеймо на лоб.
Женщин жалела в кнуты брать, хлестали их крапивой по голым ляжкам, или посылали ночью ловить раков в омуте у моста.
Поротых отливали колодезной водой.
Отлитые подходили, становились на колени, целовали холодную смуглую руку барыни.
Анна прощала их, отпускала кивком головы. Негибкая, жесткая шея. Московская барыня. Отец у ней большой человек. Тверды татарские скулы, глаза серые, финские. Помесь русская крепкого закала.
Анна приказывала холуям - битому холопу греха две недели не поминать, пусть отдышится.
А если оступится снова - кровь его на его хребте. До смерти засекали.
Девки барыню любили - с тех пор как приехала Анна из Москвы - три мужицкие свадьбы, по желанию женскому заварила по своему хотению.
Одного парня насильно женила на брюхатой, он клялся, что не его телок в девкином поле скакал, не послушала, велела парня вспороть и через неделю окрутили.
Ребенок родился здоровым. Лад в семье с виду был.
Парень - новожен начал было попивать, но его быстро исправили.
Барыня стала крестной матерью первенцу, подарила на зубок серебряную ложку с короной и матери городскую ткань на сарафан.
Анна писала в Москву батюшке письма, раз в месяц:
"Живем слава Богу во здравии. Хозяйствуем. Ни в чем потребы не имею. Кланяйтесь от меня, батюшка, братьям Павлу, Антону, Михаилу, Петру и тетушке Прасковье Федоровне."
Запечатывала аккуратно, носила на ямщицкую заставу, наказывала почтарю отвезти в срок.
Не просто так Анна лютовала - вся собралась в кулак, омертвела, понемногу приводила хозяйство мужа в пригодный вид, счетовые книги проверяла, вставала рано, ложилась заполночь.
Мечтала о сыне.
Сын унаследует землю.
Днем себя обманывала - поставлю хозяйство, будут доходы, не век же в деревне сидеть, вернусь в Москву. Созову гостей. Будет весело.
А вечером сама себе усмехалась:
- Нет Москвы, Анна, и не строили ее и не украшали, и церквей не святили и детей не рожали и замуж не выдавали и не женились. Нет Москвы. Так только говорят, будто есть Москва, натащили скарбу, кабаков наставили, кладбища гробами набили, торгаши кишат на площади, заборы нагородили, из подворотен собачьи клыки брешут.
Вот вам, значит, Москва. Любуйтесь.
Да какая же это Москва? Обманка
Истинная Москва - снежный рождественский домик мне по пояс. Снег чистый, зачерпни горсть и ешь, как сахар. Свеча дрожит в домике. Золотое сияние, то меркнет, то вспыхивает, будто сердце в ледышке напросвет бьется. Кавалер с дамой за круглым столом держат в руках кубки Златоустовские, а в кубках вместо вина снег и на ресницах снег, и за окнами снег. А в спинах парчовых черные узорные ключики поворачиваются, колокольчики чирикают, щебечет по кругу навязчивая табакерочная музычка.
Была Москва, да весной вместе с девством моим растаяла, как лисья ледяная избушка. Одни лубяные амбары остались. Не приедут ко мне гости. Не будет весело.
Быть нельзя без Москвы.
Колеи глинистые - вот они, просека, гать, поле овсяное, избы косые, полосатая верста на перекрестке, рябинник - все это теперь твое, настоящее.
Сын мой наследует. Нужен сын. Перед сном, задвижку на двери спальни забуду закрыть.
Ночью Анна подходила к двери - дуло по ногам из щелки ледяным духом. Медлила. И крепко-накрепко замыкала задвижку. По анфиладе комнат слышался слесарный кованый щелчок. Вздыхал и ворочался на диване под халатом тяжелый муж.
Анна ложилась на спину, подтягивала колени к холодному пустому животу и молчала.
Ночи - замочные скважины. Одна в потолке, другая во лбу. Темно, тесно и космато. Подсматривают сквозь, улыбаются бесы. Их дело одинокое и лукавое.
Посвистывали бесы в предсонье: а всадник то по московской дороге торопится, а ты лежишь, воешь, смотри, проскачет быстро, провоешь до смерти.
Анна маялась бессонницей, вставала, пила воду с лесным привкусом, зажигала от лампадки свечу. Сидела простоволосая на постели. Раскачивалась.
Одевалась сама. Ставила свечу в фонарь, Шла с фонарем мимо спящей горничной девушки, мимо звенящих в такт шагам поставцов с праздничной посудой, и тайком с крыльца и бегом через поле на перекресток.
Травами пахло и стылой сосновой гарью с делянки смолокуров в лесу.
Анна ставила фонарь на столб, вилась вкруг железной клетушки мошкара.
Близко блестели усталые колеи.
Плюхала в бочажинку ночная лягушка.
- Врете вы, врете, бесы, нет Москвы, ничья лошадь по бездорожью не скачет, не ловят ветер белые рукава. Сейчас домой пойду, дверь запру. Ничего не хочу, никому не верю. Я и одна сильна, хочу в кнуты возьму, хочу хлебом и золотом оделю, моя воля, пусть в навозе, пусть в черноземе, а царица!
Гордая Анна, отчая дочь, стояла у верстового столба.
До слепоты, до простуды смотрела на Москву.
Под утро прогорал фитиль, шипел в сальной лужице. Рано светает, уже трубы в деревне дымят. Привязаны дымки к небу - будет день погожий, долгий летний, ягодный, полевой, работный, до крови поротый.
Сама себя упрекала Анна за ночные стояния.
Зарекалась.
Но снова солнце на закат покосилось, сизим подергивались луга, остывала и темнела стремнина под мостом в лесу, вспоминала Анна о фонаре.
Зря ли он вычищенный, стоит в спальне меж оконными рамами?
Свечу новую принесли.
Стакан с лесной терновой водой в изголовье поставили.
Гордая Анна, отчая дочь Шереметева, стояла у верстового столба на перекрестке.
До слепоты, до простуды смотрела на Москву.
Тоска бесстыдная виски давила, как скорлупу.
В эту ночь сквозь замочную скважину, сквозь бессонное придорожное редколесье, выбрела на фонарный свет Наташа-Безымяшка с гнилой щекой.
Плакала, карабкалась по косогору, месила кулаками и коленями глину. Петух ее немой, по кочкам перепархивал, точно собачка красная.
Безымяшка присунулась к фонарю - на свече руки греть. И крикнула Анна от испуга грозно - почудилось ей, что мертва баба - вся в земле могильной, как свинья:
- Кто такая! Говори сейчас!
Обернулась Безымяшка, слезы подолом размазала:
- Ай, барыня... Попу скажи - пусть звонит! Марью живую в землю положили. Секрет сделали без спросу.
Анна и вони и грязи не погнушалась, бабу к себе за руку потянула, развернула к свету.
Голова круглая у Безымяшки, косы под корень обрезаны. Были космы рыжие, стали ржавые, вшивые и в прореху на рубахе титьку видно.
- Кого зарыли? Где? Врешь? Убью!
Вскочил петух на столб к свету, потоптался желтыми лапами, драными перьями похлопал.
И закричал утро во все горло.
Безымяшка на коленях клялась, что правду говорит.
Анна поверила ей, пальцы сплела, хрустнула суставами, бросила через плечо:
- Веди, раба.
...Шли две женщины по лесу, прутья по щекам и подолам хлестали.
Облепляла лица невидимая паутина.
- Тут, барыня, секрет сделали, - блажила Безымяшка.- Скорей. Задохнется.
- Вижу, - ответила Анна - Что не мной положено, то возьму.
Над рыхлым холмом Анна передала фонарь Безымяшке, велела светить, встала на колени, руки по локоть в землю запустила, стала рыть как собака, под себя, времени за лопатой бежать не было.
Безымяшка палку от креста подала, Анна стала ковырять дерн и грязь палкой.
Не осела могила. Свет прыгал, то янтарный круг дарил, то убегал, обманывал. Безымяшка заслоняла юбкой от ветра фонарь.
Анна землю гребла в подол, вываливала прочь, черви и тонкие потревоженные корни под пальцами рвались, кровь показалась на ладонях, Анна не заметила.
Долго рыла. Не ведала зачем, будто в бреду. Сама уже стала страшна, будто вырылась из-под креста, кудри черные по плечам рассыпались, в углу рта сухая слюна пенкой спеклась. Одни глаза - сизые, ненавистные высверкивали в пляске, будто блесна в омуте.
Скользнули пальцы по стеклу двери, вместо крышки гроба положенной.
Лохмотьями барского рукава Анна расчистила земляной секрет, хрипло приказала Безымяшке
- Ближе свети, раба! Нет. Дай мне. Я сама.
И склонилась в яму с фонарем.
За волнистым дверным стеклом в жироной земле маячило белое спящее личико покойницы, волосы белей молока, венок полынный, на губах белый камушек, вокруг головы цветы полевые, шиповные лепестки, воротник девичьей рубахи небрежно вышит купальскими узорами, красными по белому.
Будто к отражению в омуте, живая черная Анна склонилась над мертвой белой Рузей за стеклом
Всмотрелась, застонала:
- Встань, девушка, встань.
Трижды стукнула в желтое стекло костяшками кулака, замарала кровью земляной секретик.
Дрогнул рот под землей. Скатился белый камушек с губ покойницы.
В ладонях девушки за стеклом хрупнули журавлиные яйца - кулаки сжались, скорлупа треснула, смешались меж белых пальцев желток с белком.
Запотело изнутри стекло морозной моросью выдоха.
Крикнула Анна в голос:
- Двери! Двери!
Напружила жилы на шее докрасна и вырвала дверь из земли, как могла, провернула доски. Разорила секрет, разбросала цветы и полотенца. Вынула на край ямы Рузю, стала ей уши и щеки докрасна тереть, на грудь давить до хруста.
Скривилась Рузя, хныкнула. Плюнула Анне в лицо земляной жижей.
Охватила за плечи.
- Домой хочу. Дай молока, дай картоху.
Анна фонарь бросила, подняла белую карлицу на руки, понесла на просеку, к дороге.
Безымяшка петуха в подол поймала и плакать боле не могла, оскалила рот карзубый, побрела следом.
Серенько рассвело. Птицы перекликнулись в кронах. Поп приказал звонить, и жалкий колокол сказал свое слово.
Курился туман вдоль реки.
Молоко из вымени в подойник ударило струйкой и разбрызгалось.
В палисаде церковном и барском саду махровые большие цветы сыро наклонились на стеблях, трещала на палке вертушка - отпугивала птах от аптекарского огорода.
Парит с утра. Гроза будет.
Анна поднялась по ступенькам к усадебной кухне, велела Безымяшке не отставать.
Люди уже всполошились, искали хозяйку по службам. Муж выполз на крыльцо в халате.
Анна стояла - вся в грязи от подола до локонов, растерзанная, гордая, рот скривила, подбородок вздернула.
Отчая дочь, надменная Землеродица в одном башмачке, зубы щерила на постылого супруга, а на белую девочку глядела ласково, как на родную.
Муж, увидел Анну, распаленную поисками и спросил, не глядя ей в лицо - от греха:
- Анна Борисовна, что же вы это затеяли?
- Молчи, пес. - отвечала Анна - Без тебя дело знаю. Вот, дочка моя, Марьей звать. Смотри, люби ее. Я ее из земли выродила. А это - кормилка Марьина, вели ей дать водки, пусть с дороги поправится, а после бани в камору проводите, чистого белья дайте, пусть спит. Я так хочу!
- Зачем же так кричите? - пожал плечами муж - Позвольте. Вы ее только зря душите.
Мужчина принял Рузю из Анниных рваных рук, отнес в дом, лишней челяди велел разойтись, не пялиться. Послали в дальние казармы за фельдшером.
Анна повалилась спать, как была, в диванной. Муж прошел мимо, снял с ее ноги грязную туфлю, прикрыл одеялом.
На следующую ночь Анна забыла закрыть щеколду в спальне.
Муж пришел и лег на нее. Дышал в плечо. В губы не трогал.
Мясное, твердое, ночное снова пошло в красное женское сквозное.
Анна глядела на ветхую лепнину потолка с паутиной.
Мой сын наследует землю.
...Рузя много лет прожила при барском доме, до последнего была смирна и равнодушно послушна.
Кушала мало, того меньше разговаривала.
Анна одевала воспитанницу, как немецкую куклу, выписывала из Москвы шляпки, швейные шкатулки, игрушки и книжки с картинками, азбуки и потешки.
Рузя смотрела пристально, внутрь себя, листала молитвослов, бродила по комнатам, опасалась зеркал.
О прошлом не рассказывала, о настоящем не печалилась, о будущем не заботилась.
Наташа-Безымяшка оправилась, откормилась, язва на щеке затянулась новым живым мясом, через несколько лет Наташа стала при Анне барской барыней, ключницей, хаживала уже не в сарафане, а в поношенной робе, с Анниного плеча, как родила Анна первенца, стала при ребенке нянюшкой.
Дивились соседи на Аннин обычай - когда на бричке, чуть не до последних месяцев бремени, ездила отчая дочь Шереметева по делам, держа ладонь на плече белой горбуньи-приемышки, та смиренная, красноглазая, ангельская улыбалась всем и дарила крестьянам на обочине от вербочки пушки, бисерные ниточки и орешкию
Рузя улыбалась никому, кивала убранным могильными розами выпуклым лбом. Ладони маленькие с голубыми венами. Боль головную и ломоту ручками снимала, не брала за божью ворожбу ни денег медных, ни черного хлеба, ни ржавой воды.
Дела Анны, в девичестве, Шереметевой, пошли в гору, свиньи плодились, лен долог, годы урожайны, изюм рождественский султанский распарен в молоке. Родила легко, за три часа.
Думала первенца назвать Николаем, по дню рождения, но передумала, - ни к чему оно, назвала в честь деда - Борисом.
Вырытая из земли Рузя не хотела ни читать, ни вышивать, ни играть.
Одному научилась - и получалось дело ловко - расписывала выдувные куриные яички к Пасхе. Узоры и фигурки сама выдумывала: если веточки - все смородинки, если петушки - все красные, если голубки - все сизые, если девушки - все русалочки.
В скорлупы продевали шелковые нитки, вешали писанки на сквозняке, и шевелилась, как живая, рукодельная радость в старинной усадьбе со времен Анны Иоанновны, царицы смуглой, курляндской стервы.
Больше Анна Шереметева на московскую дорогу не ходила, фонарь так в лесу и проржавел.
Осенью в открытую Рузину могилу до краев налилась дождевая оленья вода, нападали денежки осиновых листьев, по стволам рыжие грибы выперли.
И тропка хвощиками заросла.
Так пришла в дом Анны Шереметевой, отчей дочери -
Вечная счастливая Пасха.
32. Духов день
Не зря торговки в рядах наперебой говорили о лесных пожарах.
От первого до третьего Спаса потянулись жары небывалые, небо желчное, в хмари на рассвете.
Медью, снегом и жухлыми листьями тянуло из купеческих подвалов и хрупал под егерскими сапогами подлесок рощи в оврагах на Воробьевых горах.
Мелькали меж стволами красных корабельных сосен рыжие, зеленые и серые солдатские треуголки петровского старого покроя.
Жирный копотный запах бесновал Москву. Вода и хлеб отдавали паленым.
Красная Россия стояла босиком в теплой золе и смеялась.
Август горел под спудом, пепел и торфяной чад вдыхали люди и звери.
Можно глаза зажмурить от мерзости, от брани матерной уши заткнуть, от скверного корма отвернуться, но от запаха гари не было спасения, потому что не можно живой твари не дышать.
Сквозь заполошную сепию сновидений, староверские псальмы, гадательные пасьянсы на засаленных французских картах просачивался запах.
Говорили последнее московское слово на рассвете пожары.
Шесть недель ни капли дождя.
Растрескалась земля и обесплодела.
Ползучий торфяной пал опаснее всего на свете горения - хрупкая корка сверху, внизу - огнедышащая ямища, торфы тлели годами, под землей, в пожарных кладовых Подмосковья, и в знойные дни вырвались наружу. Занимались бересты, короста сосновой коры, папоротники, вереск и кипрей на выгаринах вдоль дорог, долгих, как головная боль.
Снилось Кавалеру до рассвета беспокойство: красная бузина на ветру, оспенные язвочки на щеказ, черные в синеву вороньи перья в наледи с кровью, брусника, сухостой, полосатые версты. К утру ближе въезжала в жар подушки конская голова, пялила в запале желтые кривые зубы и бельма.
Ночная кобыла топала оплавленными копытами у постели, ныла и стонала со всхрапом, как живой человек. Лошадь орала и горела изнутри, гулко проседали дуги обугленных ребер.
Черные слуги быстро несли через комнаты головни в россыпи костровых искр.
Все дни недели - частый, как гребень, четверг.
Желтоглазая китайская заря прилипала к потному лбу Кавалера капустным листом.
Торопись, просыпайся, август уносит тебя в зубах, как лиса петушка, за пожарные леса, на хутора, за дальние хлевы, где бьются о стены в дыму голубые, как валуны, коровы и вытягивают горло долгим смертным мыком.
Жаркие красные петухи орали зарю на частоколах.
В печи хлеба истлели дочерна.
Когда жара спадала, старший брат возил брат Кавалера в Оперный дом, московским господам родную косточку показывать, с невестой беседовать, представлениями актерскими услаждаться.
При Оперном Доме - в зеленом парке раскинуты были палатки с временными кофейнями и кондитерскими, поставлены качели и гигантские шаги на столбах.
Турецкий пленный - балансер на канате, играл зажженными булавами, вольтижеры на скаку выказывали удаль.
Круглые белые кобыли и мерины били копытами в опилках.
Горели изнутри шамаханские глазчатого шелка шатры.
Пекли мясо на углях. Текли над садами летние вкусные дымки.
Мужик, сидя в кусту, соловья изображал без искусства и сладости. Свистал и щелкал в два мокрых пальца.
Добрые баре сетовали:
- Водчонки бы надо из буфетной принести, горло промочить, изнемог соловей, осип, ни трели, ни раскату, ни прищелка.
- Всыпать бы ему по-солдатски, чище бы защелкал, собака, - откликались злые знатоки.
В глубине аллей липовых и тополиных пестрели венецейские узоры на женских жестких подолах, трещали скелетные кринолины-ронды на корзинных старозаветных каркасах фижм.
Густо чадили у дверей оперного дома масляные фонари, гости раскланивались, говорили, что нынче обещают комедианты "Пьесу о короле Леаре", про то, как один отец с тремя девками маялся, а они его в гроб вогнали аккурат после антракта.
Лица, как розовые яйца, все лица - одно лицо.
Все лица - Москва.
Беседы: псовая охота да карточная игра, верховые лошади, девки, шуты, шутихи и куреи-гермафродиты.
Или ворожба, гадание и страшные случаи - то в Дорогомилове на рынке бабу-ватрушечницу в караул взяли - а ватрушки-то людоедные, разломили товар - а в тесте палец мертвый и кольцо обручальное запечены. Слыхали, в саду на Сетуни яблоко уродилось с человеческим лицом. Его садовники сняли, разрезали - мякоти нет, а взамен тамбовская ветчина с косточкой. Дали коту, кот ел, не помер. К чему мясное яблоко в Московском саду вызрело?
К войне знамение, братец мой, к войне.
Скоро весь мир заворует и Китай забунтует.
А там и всему свету конец.
С тем и успокаивалась Москва. Завтра - не страшно.
Сегодня - хорошо.
День прошел и слава Богу.
После короля Леара публике предлагали слезливый балет с изъяснением тонких чувств. Будут козлоногие сатиры и нимфы аркадские плясать "русского". Хорошо, не меняется в театре ничего: первый любовник завсегда завитой бараном, а простак в рыжей мочале, китайка синяя вместо неба, да холстина малеванная под темный лес, горный грот или морской порт с Везувием.
Крутились вокруг холостых господ и так себе офицеров свахи. Чуть не на привязи водили матери по аллеям невестного возраста барышень, ревниво целовались с подругами щеками. Бриллиантщицы и атласницы именовали друг друга на модный лад "москвитянками". Так густо целовались, что румяна со скулы на скулу мазались.
Храпел гравий под модными узкими туфлями "щучий хвостик".
Коричневые банты с позолотой на рукавах.
Аппетитный галант плавно выступал в летучих башмачках с розами, с легкими звонкими пряжками, брезгливо по цветному песку.
Полные губы округлял. К голубому локотку его присоседилась премудрая и тонкая бестия, деланная чертом на парижский манер.
Как русалка - лопаста титькой щекотит, мяконькой малинкой, так старуха Кавалера похлопывала по тугим атласным с отливом бокам сложенным веером.
Под мышками щегольского кафтана Кавалера - кислые и темные пятна пота.
Старуха Любовь Андреевна приближала желтый череп к жирно нарумяненной щеке юноши, липкими красными губами шептала преисподние слова.
Кавалер млел, не хотел - а слушал, стекленели и останавливались пустые глаза.
Длительно улыбался. Несло от него дыней, дымом и мускусом.
Гости его узнавали, расступались, он в ответ кивал, как болван.
Сплетня заварилась под липами.
Кукольные букли, треуголки, трости, белые перчатки, кружево бежевое, тальмы с узорами, китайские собачки, блестки на ресницах, маски на тростях сплетничали лиловыми ленивыми голосами. Говорила розовая атласная барская Москва:
- Врали, что Кавалер хорош собой! На поверку ничуть не хорош. Кукла вербная, кафтан по всем швам маловат, лицом сдобен, краску смой - парное мясо выпрет.
- Гарью пахнет, мама.
- А Любовь-то старей потопа, загуляла с молодым, не осталось стыда на Москве, да и то верно - допрыгался, козелок, тепла ему не хватит старухины кости греть.
- Свадьба будет богатая, весь Кузнецкий столами заставят, Харитоньев переулок коврами выстелят и все кирпичи духами обольют, венчать будут в Успенском соборе, откроют образ Спаса Ярое око.
- Больно приторен... и жеманен, будто замужем. Кажется мне иль и впрямь разжирел?
- Отчего кот гладок? Поел да и набок.
- Нарядилась старочка. Видал, видал: пятно трупное на скуле. Руина!
- Румяна это смазались. Дурак.
- Старухи среди женского пола самые верные. Молодая на простынях повертится, надсмеется, да бросит, а хрычовка до смерти не отпустит, истомит, раскормит старинными ласками. Старухи ртом делают хорошо.
- Гарью... мама.
- Платок намочи пачулями и дыши, не мешай.
- Знать бы какие песни она ему на ушко поет?
- Известно, какие, любовные.
- Мама! Обомру... гарь
Вправду обомлела, упала барышня, засуетились над нею нянька-мордовка и мамаша крашеная в кружевах.
Хлопала дочку по щеке веером, смазала румяна, причитала.
Никто воды не подал.
Гости ломились в двери. В оперном доме пиликали скрипки, лакеи таскали по ложам на подносах виноград, сладости, зубровку и вино изюмное в виноградном хрустале.
Тесно, как на скотном дворе. Не к кому приткнуться, Господи.
За шумом голосов, за струнными - щипковыми-ударными, за шарканьем ног и звяканьем орденов, шпажных ножен и брелоков, никто и не расслышал, какие песенки пела Любовь Андреевна сонному отяжелевшему от безделья Кавалеру.
Спеты все песенки сорок лет назад, остался припев, на выдохе, с нёбной трелью гибкого язычка, и солонело в груди Кавалера от тоски в тон картавому трупному балагурью старухи:
Любовь Андреевна трещала желтым веером, сладко шептала на ухо:
- Рели, рели, гутеньки, гутеньки.
Прибавляла, облизнув карминную краску с губ:
- Никогда не лги мне, детонька. Лжа глаза выест. Сейчас отвечай: Дурно тебе?
- Хорошо. Аж тошно. - ответил Кавалер.
Разве есть такое слово "лжа"? "Жар" есть и "ржа" есть. Хоть и нет такого слова, а лжа глаза ест в августе, да так, что теплые белые яблоки из глазных орбит пучит, зуб на зуб не попадает, отекшие пальцы до нательного креста сквозь крахмальные брыжи не дотянутся, давит гайтан под кадык.
... Гербовая ложа. Одышка. Мутило Кавалера. Театральные светильники пухли шарами, плыли и дробились. На китайском лаковом столике с фениксами и прихотливыми облаками потела в вазе на фарфоровой ноге кисть молдавского черного кишмиша и крымская черешня с выпотом жидкого осиного сахара.
Кавалер дремал в кресле, вытянув ноги.
Нет молодости, нет Москвы, нет горькой пудры и дремотной пыли Оперного Дома.
Все есть Любовь.
Любовь - телесная испарина, шелушинки на голых локтях, натоптыши, морщины, катышки шерсти, оплевышки подсолнушков, седой волосок в багровой родинке на углу рта, под мышками опарыши, вросшие ногти, потертость и сыпь в промежности, пролежни и недержание.
Вот она Любовь.
Вилась Любовь Андреевна азиатским полосатым шершнем, полозом, плющом вокруг горячего черепа, вокруг Белого и Китай-Города, по кругам кладбищенских Пресненских садов, где сторожа и уборщики сгребали прошлогодние сорняки в кучу и долго, горько жгли.
Ограды и жестяные кресты ржавели, безымянные птицы кричали по ночам, рябина над могилами горела не ко времени и колокол Николы Угодника надтреснуто приветствовал напрасное воскресение над могилами.
Никто не встанет из Пресненского глинозема. Все пойдут на суд, а наши, старые московские люди так и будут лежать под горелыми кленами, в душном крапивнике, в октябрьском листопаде под холмиками-делянками меж лезущих друг на друга, как челюсти, облупленных оград.
Судьи нас побрезгуют разбудить, тем и спасемся от них в красный день, уклонимся от милосердия.
Плюнем в небо всей Москвой и не встанем.
Дай срок - Любовь распалит и укусит. Укусит и отпустит. Отпустит - настигнет. Настигнет - приласкает. Приласкает - выскользнет из пальцев, встанет в изголовье заполночь, нагнется и остро поцелует юношу в плоский сосок с татарским волосцем в порах.
Душно в ложе. Свечи трещали, нагар потек и закапал в медную чашку желто и жирно.
Кишмиш от тепла сморщился, скисло муторное тихое вино в грановитом бокале.
Плотно и тупо ухали в пыльные доски подмостков пятки дебелых актерок кордебалета.
Суета театральная катилась к антракту.
Любовь Андреевна прокралась в ложу на воровских плюшевых подошвах, склонилась над Кавалером, запустила руку под полу кафтана, в прорешку, сжала мягкое ноготками дотверда.
- Ах, ты моя душка! - зашелестела на ушко кромешным шепотом.
Кавалер из кресла вскочил, в барьер бархатный впился пальцами, побелел, но старуха предостерегла, усмехаясь:
- Люди увидят, сиди смирно, детонька. А не то до костей съем. Сегодня и всегда ты - моя невеста.
Кавалер, задыхаясь, глянул вниз. Прицелились на него из партера, из лож, с боковых скамеек - глаза растопыренные, московские, сосущие. Бинокли-ароматницы с флаконами для благоухания, полированные зрительные стеклышки, лица-яйца, глаза-блохи, рты-копилки. Никто на сцену не смотрел, не для балетов Москва в тесные места по субботам таскалась.
У Москвы глаза велики, востры, любопытны и липки. У Москвы руки в церковном золоте, как в гное, выкупаны. Москва и от мертвого не отступит, на миру Москва красна, гарью пахнет, акает и шепелявит, спереди - блажен муж, а сзади - вскую шаташася.
Извозчик выпивши, раздавит колесом на мостовой шавку или нищего - тут же плотно смыкается толпа зевак - все хотят быть первыми и смотреть на городскую быструю смерть досыта.
Не зарабатывать в Москву едут, не жениться, а на смерть и позор смотреть. Только в том никто не признается. Оттого и шипят на приезжих москвичи - не от скупости, не от ревности - а как псы над костью окусываются - как же, сколько вас тут на смерть приехало глазеть забесплатно, этак если все соберутся, нам, коренным, смерти не достанется ни костки, ни сустава, ни хрящика.
Кавалер под властью старухиной обратно в кресло рухнул, будто кости растаяли в мясе. Лицо оледенил от скул до лба. Намалеванный рот перекосился.
- Возьми бокал, - приказала старуха.
Кавалер сжал пальцами хрупкую ножку.
- Поднеси к губам, - приказала старуха.
Чокнули передние зубы о хрустальный край.
- Отхлебни медленно. Но не больше двух глотков, - приказала старуха.
Дважды дрогнул кадык над розовым жирным кружевом с тусклой искрой.
- Улыбнись, - приказала старуха. - Шире.
Кавалер растянул губы, как пес, клык показал, влажной щекой дрогнул.
Зашлась с переливом грудастая сопранистка в кисее на авансцене, закричала красным горлом.
Дергалась в раскаленной певческой глотке мочечка язычка.
Любовь Андреевна с крахмальным хрустом подобрала парчовые юбки, встала на колени перед креслом Кавалера, вжала лоб в промежность юноши, затрясла мочалом фальшивых волос, копила слюну, ртом работала в потной мотне.
Один за другим потухали оптические стекла в зале, фальшивили смычки и свечи.
Кавалер дрогнул горлом, закрыл глаза. Обмякли кулаки на львиных подлокотниках.
Любовь отерла рот от белесого и соленого.
Как шаловливая девочка, старуха села на полу. Поиграла туфелькой на ковре. Щипнула кишмиш, как ящерка.
Зажевала ягодки, пополз по подбородку вкось кисло-сладкий сок. Любовь промакнула сухим запястьем пенистую красноту с угла губ.
Глубоко облизнула от сладкого мизинец и сказала, будто по книге прочла:
- Каирский судья Ибн-Халдон, триста лет назад писал, что в Индии водились умельцы: покажут на человека пальцем, он икнет, посинеет - и замертво валится. Осмотрят мертвеца - ребра нетронуты, а сердца в грудине нет. И вены малые и большие красными ниточками перевязаны, чтобы не кровили. Угадай, детонька, где сердце?
- Знать и не было его. - ответил Кавалер.
- Было, да колдуну под ноготь вытекло. Весело тебе, маленький?
- Весело.
Комедианты в муслине и кисее раскланялись, пал с колосников складками ветхий бархат занавеса, волнами коробилась безвкусная роспись - белые колонны усадебного дома, круглые липы, лебеди на пруду, бараньи облака.
Старший брат вошел, хлопнул дверью ложи, спросил:
- По нраву ли вам пиеса?
- Отменно, - ответила старуха, подала ему руку - старший помог ей подняться на ноги.
Кавалер восковым комом оплыл в кресле. Одна за другой подламывались, прогорая, вялые свечи в чашках шандалов.
- Видите рисунок на занавеси. - без чинов указала пальцем старуха - с моего подмосковного дома малевали. Места живописные, торфяные болота окрест, осушать дорого, да и жалко, там клюква родится и мох кровохлебка. Надеюсь, нынче летом Бог пронесет, не зтронет угодья низовой пал.
Давно хотела продавать имение. Но раздумала. Теперь мне выпало дело молодое, приданое расточать грешно до обручения.
- Верно, Любовь Андреевна, - густо смеялся старший брат, окунул было руку во фруктовую вазу, но отдернул тут же - Экая дрянь у вас тут... Все сгнило. И плесень. Лакея прибью. Дармоед!
- Никто честно работать не хочет, - поддакнула Любовь Андреевна. - Рабы нерадивы.
Кавалер кое-как поднялся, отвернулся от брата, голубой полой прикрыл расхристанную прорешку на панталонах, скомканную сорочку под живот запихнул. Слушал вполуха беседу.
- Какое же из имений ваших на занавесе изображено? - спросил старший брат.
- За Пресненской заставой, у Москвы-реки, прозвание усадьбе Студенец. - старуха улыбнулась, - Там воздух живительный, хвойный. Пруды утиные-живорыбные с кувшинками и пристанью. Оранжереи, не хуже ваших. Сад по французским образцам разбит. Вот что: в четверг я за вашим младшим бричку пришлю, пусть погостит у меня, обвыкнется, а вы в субботу приедете. Там и дарственную на имущество подпишем. Ты слышишь, детонька, ты сделаешь? - дернула старуха за локоть Кавалера.
- Все подпишу, - ответил Кавалер.- Только отстаньте.
- Золотые слова! - обрадовался старший брат. - В субботу с утречка ожидайте. Я заеду. Иконой благословлю, я же теперь нашему жениху заместо родного батюшки. Ты только дарственную подпиши, пожалуй. А я тебя ой как полюблю, Кавалерушка, хоть ты и сволочь!
Со скрипом опускались на цепях ярусные люстры Оперного дома, служители собирали в корзины огарки.
Опустел оперный дом. Баба заметала жесткими прутьями в проход меж господских кресел грушевые ошурки, огрызки, случайные любовные записки и осморканные платки.
- Послушный мальчик. Хорошо, - старуха продела обе руки кренделями под локотки братьев - младшего слева, старшего - справа подцепила.
Мужчины на лестнице конфузились, придерживали шпаги, - во весь проем шелестели душные старухины юбки, пышные, как при веселой царице Елисавете.
Поднялись по заплеванным мосткам на сцену оперного дома. К обтерханному занавесу с пейзажем.
За кулисами шевелилась, ерошила сквозняки шелковая шкатулочная тьма.
Старуха заворочала черствой головой в парике с розами и барбарисом, принюхалась, уронила бумажный цветок из фальшивого шиньона.
- Чем так пахнет? Смолкой вроде. Тленно, вонько? Не чуете, господа?
- Липы в Замоскворечье отцвели давно. Разве хлеб ночной пекут, - вежливо пожал плечами старший брат. - Или горит где-то.
- Ин ладно, не берите в голову. Вот мы и дома. - старуха с трескои накрест распахнула полы занавеса -
и за нарисованной открылась усадьба каменная в садах на Пресне за ручьем Студенец.
Прохлада. Рябь. Голландские пруды. Липовая аллея. Чугунные ворота с вязью и коваными засовами. Черемуха, жасмин, сирень персидская, белые горбатые мостики, квадратные насыпные острова с колоннами и беседками.
- Добро пожаловать. - с улыбкой молвила Любовь.
+ + +
... От больших желтых ворот с цезарскими доспехами, копьями и стягами до главного дома проложена была широкая гравийная аллея для экипажей и по две стороны от нее пешеходные тропки, три обрыва четвероугольных, зацветшие зеленые пруды, сто лет не чищенные, впадали пруды с шумом в грязные решетки Москвы реки у ткацких красилен.
Дерновые террасы узорным полукругом обняли облетевший розарий, малороссийские бархатцы и календула выбежали с клумб, заразили насыпной косогор.
В стеклянной закатом зажженной оранжерее - рыжие померанцы, лимоны с нарочными плодами, ананас в листах.
Стекла в зимнем саду побиты, если заглянуть в теплую глубь, видно было, что восковые лимоны и померанцы проволочкой прикручены к мертвым черенкам, а шишка ананасная перезрела и провалилась с левого бока. Черные мушки роились над сладкой гнилью.
Близкое болото, вязкий запах трясины, гнилой щепы, лягушиной ряски.
Августовский незлой комар зудел на закате у виска.
На дорожках и в замерших службах - ни одного человека. Ветошь на лежанках сопрела, в казанке на людском дворе окаменел ячневый кулеш.
Церковь заперта, арка в колокольне пуста. Нет колокола на балке.
Будка собачья пуста, в конюшне перетаптывались от голода два коня, кормушки изгрызены, солома промокла навозной жижей и мочой.
Кавалер прошелся меж денников, вспугнул шагами воробьев, покликал конюха.
Тихо.
Чертыхаясь, юноша нашарил в кладовке ведро, зачерпнул теплой воды с тиной из пруда, плеснул коням, те жадно потянулись пить.
Любовь Андреевна стояла в воротах конюшни, склонив голову, в свободном молдаванском платье - о прошлом годе Матушка Екатерина такое нашивала - модно, чтобы без фижм и цвет не маркий, зелененький.
- Что у вас конюха нет? - крикнул Кавалер через проход.
- А зачем? - тихо, но слышно ответила Любовь Андреевна.
На желтых ключицах старухи лежала тройная нитка речного жемчуга - розовые рисинки.
- И дворника нет? И повара? И девушек комнатных? И кучера не держите? А то как нашего возницу с бричкой отпустили, так и не выберемся отсюда.
- А зачем мне люди? Это лишнее. Захочу, будут у меня и дворник и князь, и книжник и невежа и дама и валет. Только я сейчас не хочу. Иди ко мне, детонька. Будешь смеяться и малину с ладошки кушать.
Кавалер вытянул из рухляди седло, обтряхнул сор, подергал подпруги,
- Что же вы и на стол сама накрываете?
- А зачем? Заживем с тобой - буду тебя только с рук кормить, в молочном корыте купать, спать уложу на тройные перины, четвертой покрою.
Кавалер про себя буркнул:
- Спятила, карга.
Быстро измученную лошадь оседлал, повел. Кобыла еле переступала нековаными копытами, гуляли на крупе мослы.
От духоты Кавалер раздернул белый острый ворот рубахи, волосы насаленные перекинул через плечо хвостом, губы обветренные пухлые до боли отер кулаком.
Сдохнуть можно от жары.
- Вот что, бабка, я не голоден. Проедусь дотемна. Голова от копоти болит. Дышать нечем. Только слово, что Студенец.
Любовь Андреевна шла рядом с ним по сорному двору, переступала через вздутые куриные трупики в пере на птичьем дворе.
- А Студенец он и есть Студенец. - откликнулась старуха - Тут Нижняя Пресня недалеко. Три горы и сады яблоневые. А за ними - Черная Грязь. Погуляй, молодой, побалуйся. Ну, наконец-то и ты воньку пожарную учуял. Прав был твой брат: торфы с июля тлеют в лесах. Немудрено. Четвертый Спас. По мощам и ладан.
Кавалер обернулся в седле, дернул щипком редкую гривку на тощей холке лошаденки. Глаза от позднего солнца прикрыл ладонью с тяжелыми перстнями:
- Вы, бабушка, путаете меня. Трех Спасов знаю с детства. Медовый, яблочный, ореховый, четвертому Спасу не бывать.
- Четвертый как раз сегодня празднуют, внучек. - старуха Кавалера по голенищу высокого ботфорта погладила любовно - Неужто не слыхал? Спас Торфяной, Ярое Око.
- Пошла! - Кавалер по конским бокам каблуками перебил, заскакала вкривь и вкось студенецкая кляча, замотала верблюжьей шеей. Уронила котях из-под репицы.
- А что, старая, ты и впрямь за меня замуж собралась?
- Нынче же ночью! - по девичьи счастливо закричала старуха и быстро перекрестила всадника. - Я на тебя прыгну!
+ + +
-...Уеду к черту на рога, где меня никто не знает, имя переменю. Пускай на развалине братец женится, он татарин жадный, ему двоеженство не зазорно, чтоб он сдох. Я вам не разменная карта, даром не дамся, москвоеды, куркули харитоньевские!
Сам не ведал, что говорил Кавалер, гнал кобылу по сухому проселку к городу. Вот за лесом показался упраздненный царским указом Новинский Монастырь, на вилочковом слиянии реки Москвы и речки Пресни. А в объезд, выселками, и на Звенигородский тракт свернуть не долго, там обозы груженые, там выпряженные кони бродят по грудь в кипрее, там мужики краденого барана освежевали и жарят, горячую водку с перцем хлещут из скляниц и девок в крапиву валят. Там воля. Там закаты мерцают марганцем, там все черное становится золотым само собой.
Вот забелели за стволами стены осадной обители, крыши портомоен и арестантских рот, поманила луковками Введенская церковь.
Лошадь заартачилась, присела на задние ноги, грызлом в пене звякнула, завизжала.
Кавалер бил кобылу по голове.
Дура, дорога ровная, что тебе, ни тпру, ни ну?
Кляча боком в бурьян шарахнулась, запердела.
Кавалер из седла выпал, схватился за луку, пробежал, рвал шпорами траву.
Разжал руки, пал на колени.
Потрескалась земля от засухи черепашьими старческими черепками.
Сизый, еле видимый дымок курился над дорогой впереди, высачивался из трещинки неспешно.
Будто уголек не затушили в шерсти.
Кавалер поднял с обочины камень-голыш, бросил от плеча.
Гулко ухнул камень и просела дорога, пыхнула из расселины сильным печным жаром, зализали, заплясали почти незримые огонечки и слезно задрожал над подземным огнем воздух, исказил луговину, купола над лесом, крест на перекрестке.
Горели торфы поперек горла. Отрезали Пресненские выселки от Москвы. Близко под землей ползли тленные дымные змейки из дальней Шатуры, вся Москва окружена огненным полозом, тленной подспудной яростью последнего пресненского августа.
Кавалер засмеялся, стал швырять в расселину щепки, сорняки с корнями, песок, сухие коровьи лепехи.
Весело, как в кузнице, вспыхивала с треском расселина, пускала искры, окрасились и вчерне сморщились низкие сосновые лапы и тонкая красная кора пошла волдырями и лопнула.
В гаревом мареве открылся Спас Ярое Око, косматое пугачевское солнце раздавило Пресненские пригородные леса и мелкие слободы на холмах железными подошвами.
Нет пути.
Огонь на Пресне.
Зарделись щеки, пересохло в глотке, затрещали и скрутились в смрад кудри на лбу, занялся рукав, Кавалер попятился прочь на карачках, рухнул под откос в болиголов, сбил пламя с рубахи.
Кобыла ковыляла назад, в Студенец по брюхо в колосьях.
Кавалер хромал рядом с ней бок о бок, держась за мокрую шею, дышал конским потом, чадом торфяным, пряной желтой пижмой в низинах.
Битые стекла усадьбы Студенец над Москвой-рекой остро поймали и утроили рыжий закат.
...
Старуха ждала у желтых ворот.
Липы и тополи бросали тень на въезжую аллею за ее спиной. Вязко зеленели пруды, и качались на мелкой ряби птичьи плавучие домики для птиц. Кликал на воде серый дикий гусь, бил по рябям подрезанными крыльями.
- Нагулялся, детонька? - спросила Любовь Андреевна и протянула Кавалеру черпак прудовой воды с козявками. Он хлебнул безропотно, облил рубаху, барское обгорелое полотно облепило безволосую грудь.
- Там в лесу и на дороге горит. Собирайте вещи, какие подороже. Уйдем через реку в Дорогомилово. Лодка есть? - сказал Кавалер.
- Лодка у меня была. Она утонула. Зато икона есть, Неопалимая купина, и яичко свяченое с Пасхи, надо икону трижды вокруг пала обнести и яичко с сугубой молитвой в огонь бросить. Богородица на землю лишнее молоко из груди сцедит и все потушит. Надо только церковь отпереть. Да я стара, близорука, третьего дня ключик потеряла в траве. Мы его вдвоем утром поищем. - ответила старуха.
- Что же делать?
- Ступай в дом, остынь. - приказала Любовь Андреевна. Встала против солнца, тонка, сквозна и хороша, как барышня в красном кушачке.
Тянуло с Москвы-реки холодком, дегтем и солодом.
- Иди, я переоденусь в чистое, ноги вымою и между ополосну. Сегодня свадьбу сыграем.
Ты мне две косы заплетешь на висках, как жене богоданной. И прилеплюсь я к телу твоему телом.
- А как же сговор, поп, бумаги?
- Сговор крепок. Поп запил. Бумаги ветром унесло.
- А кто же свидетелем будет.
- Спас.
- А кто венцы будет держать?
- Бес.
- А кто за стол сядет?
- Свиньи.
- А кто нам постелит?
- Пресня.
Кавалер кивнул - с безумной спорить себе дороже. И потащился в дом, отравленный гарью.
Кабы ты спустил мне, Господи, вервие с колечком - повернул бы я всю землю на сине небо, а сине небо на сыру землю: на миру бы смерти не было, и народ бы был весь жив.
Комнаты Студенецкой усадьбы паутинные, путаные, обои оборваны лоскутами, тигровый бархат и белый атлас с увядшими букетами - гирляндами, все фиалки, да жонкили, да бессмертники. Розовое дерево, старые мебельные лаки, вощаная мастика, источавшая запах мёда, яблоневого цвета и чайной плесени.
На французском полотне розы повылазили.
Сто лет назад за цветы плачено дороже денег. Деньги обесценились, розы состарились.
В одном покое стояли английские часы, маятник выпал на пол, бойная пружина заржавела.
Дальше по анфиладе рамы от картин пустые по стенам вкривь и вкось оскалились.
В третьем покое мебель кольченогая вверх ногами навалена, обивка сгнила, лопнула, подавилась войлоком, искалечены были ктиайские столики и кресла, будто топором в ярости рубили для растопки, и верно - сложен был в углу кирпичный очаг, в нем обгорелые корешки дорогих книг.
Российское верное топливо - старые толстые книги.
На подоконнике чашки дорогие костного фарфора и пекинский чайник - будто господа собрались пить чай и бросили.
Кавалер заглянул в чашечку - метнулся из пыли черный паук, покатился шариком в рукав, защекотал тонкими ножками.
Кавалер растер паука пальцами в горелой батистовой складке рубахи.
Если паука убить сорок грехов зачтется или проститься? Не помню, что московская примета гласит.
В бальной зале усадьбы ростовые зеркала - тусклые с чернетью, оправа резная жучком поточена, паркет выломан, посреди выломанного паркета окаменевшее говно, лепнина потолка черна от ласточкиных гнезд, на штукатурке нацарапана гвоздем похабщина, горлышки битых бутылок оскалились, по нищенски обнажилась дранка с крошевом.
В оконных проемах мрело небо. Проступили над садом, дрожа, белесые оспинки звезд.
Кавалер пробирался сквозь рухлядь, отваливал покосившиеся двери, пытался приладить на место лоскуты распоротых живописных холстов, отставшие штофные обои.
Смотри, что стало с домом предков твоих.
В последней комнате вместо офортов белели по стенам ящики с чучелами белок, щеглов, хорей, кошек и диванных собачек.
Домашние зверушки, отжили свой век, отлюбили и отданы были искусным немцам из Басманной слободы, чтобы выпотрошили тушки, вставили пуговичные глаза, соломкой и рисом набили утробу, укрепили ребра железными скобами, и ярлычок повесили с кличкой и латинским изречением. Долговечна хозяйская привязанность.
Трезорка, Аделька, Фиделька, мартышка Марковна с восковой морковкой, попугай Пантелей на жердочке.
Кавалер замер перед застекленным ящиком.
Не решился отомкнуть замочек.
Черными осколочками глаз смотрел на него белый зверь - фретка. В снежном меху на горле - чучельный штырек, передняя лапка сторожко наставлена, хвост убран между окорочков.
Вот он где теперь горностаюшко, гордый князюшко. Собаки не заели. Зря хотел бить собак. Вот он, мой зверек.
Как живой. За стеклом. А может и не мой зверь, мало ли господ заводят горностаев. И красиво и на звериный подшерсток хорошо салонные блохи ловятся.
В темноту уводили взгляд ящики с чучелами и надписями-кличками:
Мими, Цезарь, Милушка.
- Да-да, особенно Милушка... От Государыни подарок, из Сам-Петербурга. -
ласково заговорила Любовь Андреевна. Старуха остановилась на пороге, затрещала лопастями желтого веера по докучному обыкновению.
- Собачка значительная. Когда Матушка Екатерина узнала, что злые санклюты прилюдно казнили на площади миропомазанника французского Лудовика, то вскочила в гневе со стула. Левретка ее, Милушка упала на пол с подола и убилась насмерть. Пример нам подала, смотри, что смерти все игрушка: собачки и цари. Брось безделицы рассматривать. Идем. Даме руку подай. Нешто вежеству на Москве юношей не учат?
Кавалер сглотнул сухим горлом и подал старухе руку.
Пара остановилась у выхода перед овальным портретом.
Любовь Андреевна подняла свечу в трактирном подсвечнике, осветила снизу вверх написанное лицо.
Кавалеру причудилась на холсте гордая отчая дочь Анна Шереметева, не ее ли злые гордые глаза, не ее ли черные кудри кипенью, не ее ли крепкое переносье и татарские скулы и пухлый рот, не ее ли малая грудь в красном вырезе платья.
Нет. Сроду не было у Анны Шереметевой разбойной родинки слева над губой.
А у этой была.
- Похож? - спросила старуха и ущипнула Кавалера за щеку. - Вылитый ты, только баба!
Нет, не Анна Шереметева на старом портрете изображена была, а сам Кавалер, ряженый фальшивой святочной цыганкой, простоволосый, как греческий пастух, пьяный, молодой на холсте усмехался.
Сеточка старинных трещин уродовала картину.
- Кто это? - спросил Кавалер.
- Я. - ответила Любовь Андреевна - Могла бы сестрой тебе быть. В Италии писали маслом с натуры, сорок пять лет назад.
Приподнявшись на цыпочки к раме, старуха сама себя поцеловала в губы и потушила свечу в ладонь. Зашипела кожа на фитиле. Любовь и не поморщилась.
... Кавалер и Любовь шли под круглыми дугами усадебного боскета. Кавалер пригибался, но все равно по макушке шваркали листья. Маленькая, тоненькая, как мама, Любовь Андреевна шутила, тормошила его, шуршала по камешкам свадебная кисея шлейфа.
Выбрели к пруду.
Ночь, а нечем дышать, как в полдень.
Малосольной латинской буквой "W" представилась над купами сирени и запрудой Кассиопея. Еле пробивались звезды сквозь чадный падымок.
- Вот здесь и поженимся. - шепнула Любовь и приникла к плечу скулой.
- Господи. С души воротит. - пожаловался Кавалер. - Я не ты, так сразу не могу.
- Передо мной никто не лукавит, детонька. Раз мне покорился, два мне покорился, разве на третий заробеешь? Я ли тебе не хороша? Бела лицом, тонка запястьями и станом, жемчугом шею в три нити обернула, подмылась между ног, розовые туфельки из города Парижа примерила и бросила, босыми ножками под венец пошла, как в старое время. Мало тебе, ирод кудрявый? - сказала Любовь.
- Любовь, дай мне отсрочки на три года. Я отцово золото по семи монастырям раздам, мелкие гроши по нищей братии. - ответил Кавалер.
- Не дам тебе отсрочки на три года. Золотая казна тобой не заработана, душе не будет помощи, нищий гроши твои не захочет. У тебя гроши фальшивые с дырочкой, я уж знаю. - сказала Любовь.
- Дай мне отсрочки на три часа. Попрощаюсь с доброй матушкой, брату- Каину в морду дам, хорошей девушке письмо пошлю.- ответил Кавалер.
- Не дам тебе отсрочки на три часа. Матушка твоя не добра, выпила наливки, спит без молитвы.
Старший брат занят делом, новую девку кроет, девка ногами дрыгает. хорошая девушка письма ждет от батюшки, а твои письма все фальшивые, надушенные, я уж знаю. - сказала Любовь.
- Дай мне отсрочки на три минуты. Я "отченаш" прочту, лоб перекрещу щепотью. - ответил Кавалер.
- Не дам тебе отсрочки на три минуты. Отче наш иже еси на небеси, щепоти ты не сложишь, крестное знамение у тебя фальшивое, с кукишем, я уж знаю. - сказала Любовь.
- Чем же мне откупиться?
- Решай, что мне оставишь в откуп. Без торга.
- Оставлю тебе Москву.
- Добро.
Старуха веер на петле покрутила, повесила свободно на локоть.
- Давай, детонька, закрепим договор, поцелуемся. Только - чур - язык на язык, любовную манную кашку на двоих испечем. Вдохни глубоко. До пупа.
Кавалер послушно вдохнул.
Прилип ртом ко рту старухи.
Кисло, как ревень.
Язык на язык.
Не отнимая рта, он стиснул старухину шею.
Брызнули из-под больших пальцев рисинки речного жемчуга.
Старуха харкнула мокротой в глотку, брыкнула коленом в пах, Кавалер стерпел, давил пристально, скользко и гадливо - старуха мучаясь в удушье укусила его за язык до крови. Кавалер ослеп от боли тупой и с вывертом дернул ее голову за голое сморщенное плечо.
Разжал руки.
Старуха завалилась навзничь и распласталась в кисее.
Свадебный подол завернулся и пропитался между ног темной влагой.
Кавалер присел на корточки и бережно оправил белую робу на ляжках и тощих коленях трупа, крахмальный слой за хрустким слоем.
Босые ноги Любови Андреевны торчали, как нарочно.
Вывернутую голову покойницы Кавалер тронуть не решился.
Наклонился над Любовью Андреевной, и жалел, что так и не смог рассмотреть ее спину. Ни в гостях, ни здесь, в Студенце. Будто и не было у старухи спины.
Кавалер, шатаясь, отошел в камыши, по пути сбросил башмаки и кафтан, потащился в одних белых нитяных чулках. На берегу его внимательно стошнило винной кислятиной. Сухие коричневые метелки рогоза по пояс.
Кавалер вошел по колено в пруд, взбаламутил илистое дно, глянул на тот берег - еле-еле маячила в звездной темноте белая беседка на острове и барская пристань. Быстро промокали на икрах чулки.
Юноша встал на четвереньки, отклячил зад, зачерпнул горстью теплую густую воду - студенец, и вправду студенец, вода порченная, вязкая, как овсяный кисель.
Он не донес воду до рта. Не помнил, чем пьют. Мерно выронил капли.
Длинные волосы суслями мокли в грязи.
Кавалер знал, что старуха лежит на берегу.
Щепетно зашоркали за спиной то ли камыши, то ли нижние юбки.
Кавалер закрыл глаза и сказал в голос:
- Она идет сюда.
+ + +
... В субботний полдень старший брат бил по щекам младшего костяшками кулака в наборных кольцах.
- С-сволочь! Вот сволочь.
Моталась тяжелая голова Кавалера, путаясь в волосах, по серой подушке. Показалась из ссадины кровь.
Пасмурь висела над гагаринскими пресненскими прудами. На водной ряби огари рыжими крыльями хлопали. Сеял косой урожайный дождь.
Восточный ветер отнес от Москвы гарь, взамен принес простуду и ненастье.
Час назад перенесли младшего брата на кровать.
Бледный лакей хватал за локоть барина:
- Убьешь, милостивец!
Старший брат унялся, пососал отбитые костяшки. Отошел к окну, распахнул с хряском ветхую раму в сад. Посыпались осколки стекол.
- За доктором послали?
- Едет.
Старший провел пальцем по крестовине рамы. Поморщился, растирая в щепоти пыль.
- Запустение без хозяйского глаза.
- Как же, милостивец, хозяйка того-с...
- Какая еще хозяйка? - прозрачным голосом переспросил старший.
- Старуха... Вы еще свадьбу играть хотели, к настоятелю Успенского монастыря в Кремль ездили. С арзамасскими гусями и штофом аглицкой ржавой водки... Он согласился окрутить молодых. Храм велели украшать.
- Запомни. Нет никакой старухи. И не было. Дело замнем. Пшел вон.
- Слушаюсь.
Доктор Кавалера отпоил вонючими немецкими каплями, пожал запястье, вытянул язык, задавал вопросы, но ответа Кавалер не дал.
Молчал, в глаза не смотрел, зрачки в точку.
Три часа прошло - иглами кололи в ляжку.
Молчал.
- И что вечно теперь в молчанку играть будет? - осведомился старший брат.
- Не могу знать. Я не всесилен - развел руками доктор, степенно принял мзду и уехал.
Много денег на взятки судейским раздал старший брат, заглаживая свадебную ночь на гагаринских прудах.
На Ваганьковском кладбище спешно погребли в простонародном рву закутанную в холст старуху - родни не сыскалось, отпевали по общему чину, но как звали ее - Анна, Любовь или Мария, Бог весть, да и была ли Любовь Андреевна - московские обыватели достоверно не помнили, и подтверждать с нею кумовство или приятельство не желали. А родни старуха не имела.
+ + +
Спустя малое время запрягли на заднем дворе дома в Харитоньевом переулке крепкий возок.
Старший брат отрядил для охраны и присмотра за Кавалером способных людей, из числа отпетых, велел пятерым глаз не спускать с безумного, каждый месяц писать в Петербург - ему лично в руки, и в Москву - матери - обстоятельные отчеты о здравии его и занятиях. Молчит хорошо, заговорит - ну что ж, на все воля Божия, но чтобы без надзора ни шагу.
Отправляли Кавалера под Нижний Новгород, на хутор, подальше от дорог, срама и сплетников московских.
Семья большой урон через него потерпела, с глаз долой, из сердца вон.
Плакала мать-Москва Ирина Васильевна, но так и не спустилась попрощаться.
Особенно светел и тих в Москве сентябрь, винной пробочкой тянет и размокшей в квасе корочкой, небо полынной глубины и кротости исполнено, опустело без ласточек, паутинные нити на солнце блестели, позднее тепло грело поутру горбатнькие переулки.
Кони вычищены и накормлены. Колесные оси смазаны. Все готово.
Кавалера вывели во двор за плечо.
Он был одет в чистое, держал в руке можжевеловый гребешок с частыми зубьями. Смотрел бессмысленно и ласково.
Старший брат Кавалера, поцеловал в лоб, отстранил и взглянул пристально:
- Язык проглотил? Родному человеку теплого слова жалеешь?
Кавалер улыбнулся и опустил голову. От нового гребешка хорошо пахло - можжевеловым распилом. Век бы расчесывал пряди, век бы клал гребешок под щеку до отпечатка, лесной запах от тепла сильнее, и сны снятся, нерасстанные, солодовые, во снах Москва осенняя представляется, тропинки во дворах, мосты деревянные над Яузой, кадки с мочеными яблоками, рябина горькая, все, чем осень щедра напоследок.
Молчал Кавалер. Только разок брата по рукаву погладил.
- Ну, как говорится, не скажешь - не соврешь. С Богом, братец. Скатертью дорога. - огорчился старший и сам подсадил Кавалера под локоть в возок.
- Трогай!
Один из пятерых на козлах вожжи перебрал, с места шибко завертелись колеса, четверо конвойных поскакали верхами по двое с каждой стороны.
Скоро не стало Москвы. На последней заставе в караульне сидел отставной прапорщик в худом колпаке и позатасканном халате.
На полуистлевших тележных колесах - поперек дороги наставлены были рогатки.
Старший из конвойных угостил прапорщика табачком, полтинник заплатил, чтобы никого в казенную книгу не записывал, прапорщик поломался, но согласился. Велел солдату рогатку отвалить и пропустить с миром хороших людей.
За поворотом у версты сидела у обочины Ксения, рыжая, тощая, в зеленом платье с желтыми ячменными колосками по подолу. В драной красной кофте поверх.
Голова богомолки повязана было крепко ситцевым платком, черным в белый горох, концами назад. У ног Ксении - пустой мешок.
Богомолка ела каленое яйцо, солила его золой из холодного придорожного костровища.
Мимо прогромыхали окованные ободья на ухабе, копыта промесили хлябь - по бабки в брызгах грязи. Тяжелые травы с обочин секли колесные спицы.
Пленный княжич сидел в полутьме возка, кафтан на плечи наброшенный не по росту, свесились белые рукава, он отвел занавесь от оконца, разомкнул было губы, попрощаться ли, поприветствовать, но так и остался в немоте непритворной. Рот ладонью прикрыл.
И пала навсегда занавесь на окошко.
Вильнуло напоследок кожаное ведро на запятках возка.
Ксения мелко смяла скорлупу в кулаке, рассыпала, чтобы куры неслись, встала и пошла к заставе.
Прапорщик, только что полтинником ублаготворенный, нищую богомолку не мытарил, только строго велел показать поклажу - она с улыбкой вывернула мешок.
Пусто.
К шву пристала солома и хлебные крошки.
- Ну, коли так, ступай, матушка, где так долго ходила, что ж добра не нажила? - пошутил сторож.
- По миру ходила, - в тон ему ответила Ксения - Мое добро при мне.
Побрела меж колеями, и только от глаз скрылась, сняла пустой мешок с плеча.
Потрясла легонько, губами тихонько потпрукала.
В ответ из мешка загуркало, завозилось, и выкатилась из холстины серая кошка.
Потерлась о ноги странницы, спину напружила и одним глазом моргнула.
Ни к чему дорогу разведывать, по запаху, до зуда - близки перелески на выселках, московские ясени, жилье тесное, молоко, хлеб сырой и серый. Воды темные, броды мелкие, белого города площади торговые, черные бани в овражках, и березовые поленницы, шатровые кровли и купола, хрумкие на откусе детские антоновские яблоки, опорные стены на Трех Горах и червонные венцы Новодевичьего.
- Брысь на Москву! - засмеялась Ксения.
И закрыла глаза.
2006-2009, Москва-Галич-Москва.
X Имя пользователя * Пароль * Запомнить меня


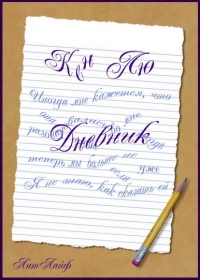
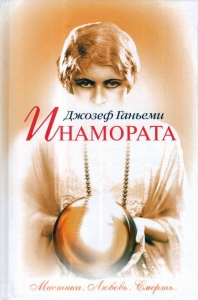
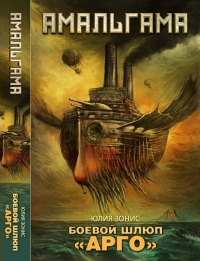
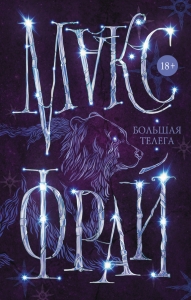


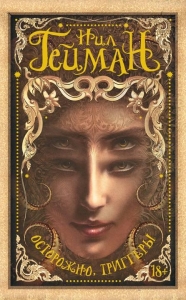


Комментарии к книге «Духов день», Феликс Евгеньевич Максимов
Всего 0 комментариев