Кристофер Прист Подтверждение
III
О мудрецы, явившиеся мне
Как в золотой мозаике настенной,
В пылающей кругами вышине,
Вы, помнящие музыку вселенной! —
Спалите сердце мне в своем огне,
Исхитьте из дрожащей твари тленной
Усталый дух: да будет он храним
В той вечности, которую творим.
IV
Развоплотясь, я оживу едва ли
В телесной форме, кроме, может быть,
Подобной той, что в кованом металле
Сумел искусный эллин воплотить,
Сплетя узоры скани и эмали, —
Дабы владыку сонного будить
И с древа золотого петь живущим
О прошлом, настоящем и грядущем.
У. Б. Йейтс. Плавание в Византию.(Пер. Г. Кружкова из сб. «Роза и башня». Симпозиум, СПб., 1999)Глава первая
Насколько я понимаю, для начала следует представиться. Меня зовут Питер Синклер, я англичанин и мне – или мне было – двадцать девять. Тут я в некотором смятении, моя уверенность поколеблена. Суждение о возрасте испытывает колебания, но мне не больше двадцати девяти лет.
Когда-то я думал, что образность скрывает правду. Если найти нужные слова, я смогу по своей воле и по мере сил описать истинные события. С тех пор я узнал, что слова тесно связаны с сознанием, которое их выбирает, так что вся проза по своей сути есть форма обмана. Излишне тщательно подобранные слова проникаются педантизмом, стреноживают воображение, исключают разнообразие видения, слова эти уводят в сторону, и в них воцаряется анархия. Если мне приходится их использовать, я предпочитаю следовать собственному выбору, не допуская случайностей. Кто-нибудь мог бы сказать, что такие случайности – плод вмешательства бессознательного и преследуют собственные интересы, но, повторяю, я уже знаю, во что это может вылиться. Многое неясно. Вначале буду использовать тяжеловесный педантизм. Я должен тщательно подобрать слова. Мне нужна уверенность.
Поэтому начать я должен с самого начала. Летом 1976 года, когда Эдвин Миллер пустил меня в свой летний домик, мне было двадцать девять лет.
Этот факт не вызывает у меня сомнений, как и мое собственное имя, поскольку подтверждается из независимых источников. Последним был подарок моих родителей, наручный календарь. Оттого я в этом уверен.
Весной того года, когда мне исполнилось двадцать восемь, моя жизнь достигла поворотного пункта. Произошло несчастье, повлекшее за собой множество других событий, на которые я оказывал мало или не оказывал вообще никакого влияния. Беды сыпались одна за другой, однако все они грянули в течение считанных недель, и мне показалось, что все это звенья какого-то ужасного заговора против меня.
Сначала умер отец. Неожиданная и преждевременная смерть, причиной которой стал прорыв аневризмы одной из артерий мозга. Я хорошо относился к отцу, одновременно доверяя и держа дистанцию. После смерти матери, примерно двенадцатью годами раньше, я и моя сестра-погодок Фелисити перебрались к нему – в том возрасте, когда большинство подростков только изредка навещает родителей. На протяжении двух или трех лет, отчасти потому что я покинул родительский дом, чтобы получить образование, а отчасти потому, что мы с Фелисити были чужими друг другу, эти отношения прервались. Мы трое провели много лет в различных частях страны и очень редко виделись. Тем не менее, воспоминания об этом коротком отрезке моей юности крепко связали меня с отцом, и это было важно для нас обоих.
Когда отец умер, он был состоятелен, но не богат. И не оставил завещания, а значит, мне предстояло множество утомительных встреч с его адвокатом и судьей по поводу наследства. В конце концов мы с Фелисити получили каждый по половине отцовского имущества. В денежном выражении это была не такая уж крупная сумма, чтобы полностью обеспечить мою или ее жизнь, однако мне этого было вполне достаточно, чтобы хоть немного защититься от последующих событий.
Через несколько дней после известия о смерти отца я лишился работы.
Это было время кризиса с непременным обесцениванием заработной платы, забастовками, безработицей, высокими процентами и скудостью капитала. Будучи представителем среднего класса, я чувствовал себя уверенно, университетский диплом до сих пор защищал меня от безработицы. Я работал химиком у одного производителя ароматических веществ, поставщика крупного фармацевтического концерна, использовавшего их в своей продукции. Но произошло его слияние с другим предприятием, затоваривание продукцией, и фирма была вынуждена закрыть свой отдел. Сначала я предполагал, что найти новое место работы – чисто техническая задача. Я – опытный специалист в своей области, профессионал высокой квалификации, готов был предлагать свои услуги, но в то время появилось слишком много незанятых специалистов с университетским образованием, при очень незначительном числе рабочих мест.
Потом мне отказали в квартире. Ввиду того, что стали законодательно вводить какие-то препятствия для сдачи квартиры внаем, нарушилось равновесие между предложением и спросом. Стало выгодно не сдавать квартиры, а продавать их и покупать. Я много лет снимал жилье на первом этаже большого старого дома в Тилбурне. Однако этот дом купил какой-то торговец недвижимостью, и мне предложили немедленно освободить квартиру. Существовала возможность подать протест, но, погрязнув в иных заботах, которых у меня в то время было предостаточно, я действовал недостаточно быстро и энергично. Скоро стало ясно, что освободить квартиру все-таки придется. Но куда мне было податься в Лондоне? Мое положение, как и положение многих других, было шатким, все больше и больше людей искали жилье, а предложение сокращалось. Арендная плата быстро росла. Те, кто жили в старых домах или в меблированных комнатах или заключили выгодный долгосрочный договор, не трогались с места – или перебирались к друзьям, если приходилось съезжать. Я сделал все возможное: зарегистрировался у квартирного маклера, написал заявление и попросил друга дать мне знать, если он услышит что-нибудь о свободной комнате, но за все то время, что надо мной висела угроза выселения, я не получил ни единого предложения жилья, не говоря уж о том, чтобы подобрать себе что-нибудь подходящее.
Эти-то роковые обстоятельства и толкнули нас с Грейс к разрыву – единственная невзгода, в которой я сыграл определенную роль и за которую нес ответственность. Я любил Грейс; она, думаю, тоже любила меня. Мы знали друг друга давно, пережили уже все стадии: знакомство, влюбленность, понимание, нарастание страсти, приходящее вслед за тем разочарование, новое открытие друг друга, привычка. Сексуально она действовала на меня неотразимо. Мы были отличной парой – в чем-то дополняли друг друга и все же достаточно отличались, чтобы постоянно делать приятные открытия.
В этом и состояла причина нашего разрыва. Мы с Грейс возбуждали друг в друге и несексуальную страсть, которой ни один из нас не испытывал в общении с третьими лицами. Обычно я был спокоен и дружелюбен, но с Грейс оказывался способен на сильные чувства: гнев, любовь, горе – в равной мере, что меня пугало. Благодаря Грейс я узнал взлеты, зависимость и разочарование, способные привести к опустошению. Она была непостоянна и капризна, поэтому умела передумывать с легкостью, которая могла любого свести с ума; ее снедали бесчисленные неврозы и фобии, которые я сначала находил прелестными, но потом, когда узнал Грейс получше, счел вредными, тормозящими. Эти особенности делали ее одновременно опасной и ранимой, даже если речь шла о событиях давних. Я не мог понять, почему я с ней. Когда между нами случались ссоры, они всегда внезапно переходили в нечто вроде мощных взрывов. Эти ссоры всякий раз заставали меня врасплох, но однажды во время очередного скандала я понял, что напряжение в этот день возросло чрезмерно. Обычно такая гроза очищала воздух и мы снова наслаждались близостью, душевной и телесной. Темперамент Грейс позволял ей быстро все прощать или не прощать никогда. Она всегда быстро прощала, и единственный раз, когда случилось иначе, был, конечно, последний раз. На углу лондонской улицы у нас вышла ужасная, беспощадная ссора, и прохожие нарочито старались не смотреть на нас. Грейс яростно кричала на меня, а я с непроницаемым ледяным спокойствием стоял напротив, внутренне кипя от гнева, но снаружи словно закованный в броню. Наконец она замолчала и ушла, а я почувствовал себя весьма жалким. Я несколько раз пытался окликнуть ее, но она не обернулась; словно нас никогда ничего не связывало. Тогда, именно тогда я искал работу и жилье и пытался примириться со смертью отца.
Так в двух словах обстояли дела. Как я на все это реагировал – совсем другое дело. Почти каждый из нас переживает в жизни утрату родителей. Работа и жилье? Со временем можно их найти, а горечь потери любимой женщины постепенно теряет остроту и вытесняется новыми встречами. Со мной же все это произошло одновременно. Я чувствовал себя так, словно меня сбили с ног и принялись пинать, прежде чем я успел подняться. Я был раздавлен, ранен, жалок, угнетен почти непереносимой несправедливостью жизни и страдал от всеподавляющей суматохи Лондона. Свое отчаяние я приписал именно воздействию этого города: я замечал только его теневые стороны. Шум, грязь, толпы людей, дороговизна общественного транспорта, недостатки обслуживания в магазинах и ресторанах, опоздания и всеобщая неразбериха огромного города – все это казалось симптоматичным для хаотичных событий, которые нарушили стройное течение моей жизни. Мне надоел Лондон, надоело быть в нем, жить в нем. Но никакой надежды на перемены не было, потому что я растерялся, впал в апатию, у меня опустились руки.
Потом произошел счастливый случай. Когда я просматривал и разбирал письма и бумаги отца, со мной связался Эдвин Миллер.
Эдвин был старым другом нашей семьи, однако я не видел его уже много лет. Мое последнее воспоминание о нем было связано с той порой, когда он представил нам свою жену; тогда я еще ходил в школу, мне было тринадцать или четырнадцать. Впечатления детства ненадежны; я вспоминал Эдвина Миллера и другого взрослого друга нашей семьи с откровенной симпатией, но чувство это пришло ко мне из вторых рук, переданное от родителей. Собственного мнения на их счет я не имел. Сложная комбинация из работ по дому, отроческих пристрастий и соперничества, поразительные открытия и все то, что занимает мальчишку таких лет, оказало на меня непосредственное влияние.
Было приятно занять удобную позицию, вспомнив о своем отрочестве. Оказалось, что Эдвину сейчас лет пятьдесят с небольшим, он загорел, строен, полон естественного дружелюбия. Мы позавтракали в его отеле на окраине Блумбери. Было самое начало весны, и туристический сезон только начинался, но мы с Эдвином оказались островком английского в этом ресторане. Я запомнил группу бизнесменов-немцев за соседним столиком, несколько японцев, людей с Ближнего Востока; даже официантки, которые принесли нам ростбиф, были малазийками или филиппинками. Впечатление еще больше усиливал провинциальный говор Эдвина, сразу же напомнивший мне детство в предместьях Манчестера. Я уже давно привык к космополитической природе лондонских магазинов и ресторанов, но присутствие Эдвина непонятным образом подчеркивало это, внося некоторую неестественность. Во время обеда я испытал тревожную тоску по тому времени, когда жизнь еще была на диво простой. Но тоже как бы со стороны, а призрачные картины прошлого причиняли боль, не все в них было приятным. Эдвин был неким символом этого прошлого, и в первые полчаса, когда мы только шутили и обменивались комплиментами, я видел в нем воплощение той обстановки, из которой с радостью вырвался, уехав в Лондон.
Тем не менее он мне нравился. Он был слегка смущался – может быть, я тоже представлял для него нечто вроде символической фигуры – и компенсировал это излишней щедростью в признании моих достижений. Он, похоже, знал обо мне очень много, по крайней мере поверхностно, и я предположил, что все это он узнал от моего отца. Его простодушие, наконец, привело к тому, что я решился и рассказал ему о том положении, в какое попал, все без утайки.
– Я и сам пережил такое, Питер, – сказал он. – Давным-давно, сразу после войны. Считается, что тогда рабочих мест было пруд пруди, но на самом деле это совсем не так. Молодежь возвращалась с военной службы, и выдалось несколько скверных зим.
– А что вы делали?
– Я тогда был примерно твоих лет. Но никогда не поздно начать все сначала. Некоторое время я бродил в поисках работы, а потом получил место у твоего отца. Вот так мы и познакомились. Ты знал об этом?
Я этого не знал. Еще одно воспоминание о детстве: я был уверен, что родители и их друзья не встретились когда-то, а всегда знали друг друга.
Эдвин напомнил мне об отце. Хотя внешне они не были похожи, оба были примерно одних лет и имели общие интересы. Это сходство было созданием моего ума, это я создал его. Может быть, этому способствовал общий для обоих североанглийский диалект, тон предложений, явный прагматизм их мыслей, их жизни. Эдвин остался таким, каким я его помнил, хотя это было невозможно. Мы оба стали старше на пятнадцать лет, и теперь ему должно было быть за пятьдесят. Когда мы виделись в последний раз, ему было около сорока. С тех пор его волосы его поседели и поредели, щеки и шея покрылись морщинами и складками; правая рука почти не двигалась (во время разговора он раз или два намекнул на это). Он и раньше выглядел не блестяще, однако когда мы сидели там, в гостиничном ресторане, то, доверяя его внешности, я чувствовал себя уверенно и спокойно.
Я думал о других, кого встречал после долгой разлуки. Поначалу их облик всегда вызывал удивление: я изменился, а они постарели. Но потом, спустя несколько секунд, восприятие менялось, и все, что ты видел, становилось почти привычным. Душа приспосабливается, а глаз верит ей. Возраст, разница в одежде, волосы и прочие внешние черты могли по желанию казаться прежними или измененными. В узнавании важнейшим звеном было доверие к памяти. Вес тела может меняться, но сложение – нет. Поэтому кажется, будто ничего не изменилось. Сознание высвобождает сохраненное и, вспоминая, создает новое. Я знал, что Эдвин имеет собственное дело. Он открыл его, проработав несколько лет у моего отца. Начинал он инженером-консультантом, но спустя несколько лет ему удалось открыть небольшую фабрику по производству клапанов и вентилей. Сегодня его основным клиентом было военное ведомство, он производил гидравлические клапаны для военных подводных лодок. Эдвин намеревался, перешагнув пятидесятилетний рубеж, отойти от дел, но сейчас все шло хорошо, и работа была ему в радость.
– Я купил небольшой сельский домик в Херсфордшире, недалеко от границы с Уэльсом. Ничего особенного, но для нас с Марджи вполне подходящий. Мы хотели отойти от дел и поселиться там на склоне дней. Но придется еще немало потрудиться, прежде чем можно будет все оставить. Домик до сих пор пустует.
– И много там работы? – спросил я.
– В основном покраска. В доме вот уже несколько лет никто не живет, нужно заново проложить электропроводку, но это может подождать. Да вот еще мебель, можно сказать, старовата.
– Хотите, чтобы я позаботился об этом? Не знаю, смогу ли я что-нибудь сделать с обстановкой, но остальным могу заняться.
Мне в голову внезапно пришла мысль, показавшаяся необычайно привлекательной. У меня появлялась возможность сбежать от проблем. При моей давней ненависти к Лондону мое сознание воспринимало жизнь в сельской местности как грустное и романтическое бытие. Едва мы с Эдвином заговорили о сельском домике, мои мечты обрели конкретные формы и я почувствовал уверенность в том, что еще глубже кану в бездну самоуничижения, если и дальше буду оставаться в Лондоне. Предлагаемый вариант меня вполне устраивал, и я постарался убедить Эдвина сдать мне этот сельский домик.
– Можете жить там бесплатно, молодой человек, – сказал Эдвин. – Пользуйтесь им, пока это нужно – разумеется, если будете заботиться о его ремонте, но когда мы с Марджи решим, что настало время оставить дела, вам придется присмотреть себе что-нибудь взамен.
– Мне бы пожить там пару месяцев. Этого вполне хватит, чтобы слегка оправиться.
– Я подумаю.
Мы обсудили еще несколько частностей, и через несколько минут сделка состоялась. Я мог поселиться в этом доме на любой срок; Эдвин обещал прислать мне ключи. Деревня Уэсбли находилась примерно в километре от этого домика, до ближайшей железнодорожной станции было далеко; сад требовалось привести в порядок; они собирались побелить первый этаж, и Марджи сама хотела выбрать в какой цвет красить стены верхнего этажа; телефона в доме не было, но был в деревне; резервуар для воды был пуст и, возможно, его следовало вычистить.
Пока мы убеждали друг друга, что мысль очень недурна, Эдвин почти навязывал мне дом. Он беспокоился, что тот пока пуст: говорил, что дома существуют для того, чтобы в них жили. Он связался с местной строительной компанией, чтобы произвести ремонт водопровода, проложить новую электропроводку и установить громоотвод, однако если мне захочется что-нибудь из этого сделать самому, я волен работать когда и сколько захочу. Существовало только одно условие: Марджи хочет, чтобы сад был разбит так, как она скажет. Может быть, в конце недели они заедут ко мне и помогут с обустройством.
В дни, последовавшие за этим разговором, я впервые за последнее время начал действовать целеустремленно. Эдвин побудил меня стремиться к цели. Конечно, я не мог немедленно отправиться в Херсфордшир, однако с того момента, как меня уволили со службы, все, что я делал, прямо или косвенно было направлено на это.
Мне потребовалось две недели, чтобы полностью освободиться от Лондона. Я продал или раздарил мебель, пристроил книги, оплатил счета и векселя. Я не хотел, чтобы мой отъезд поставил кого-нибудь в трудное положение, и оставил при себе минимум самых необходимых вещей. Потом пришла пора переезда, и нанятый для доставки вещей автомобиль сделал две ездки в сельский домик.
Прежде чем окончательно покинуть Лондон, я постарался еще раз связаться с Грейс. Но она переехала, и ее бывшая хозяйка захлопнула дверь у меня перед носом, когда я спросил у нее новый адрес ее квартирантки. Грейс больше не желает меня видеть. Если я хочу что-то ей передать, то должен сделать это письмом, но мне лучше не докучать ей.
Я написал письмо, но ответа не получил. Затем зашел в бюро, где она работала, но она уволилась оттуда. Я спросил о ней у общих друзей, но они не знали или не хотели сказать мне, где она.
Все это обеспокоило и огорчило меня, поскольку я чувствовал: со мной поступили несправедливо. Вернулось прежнее чувство, что все это – часть какого-то заговора против меня, и эйфория, связанная с переездом в сельский домик и моей жизнью там, почти полностью улетучилась. Мне кажется, я подсознательно надеялся на то, что Грейс уедет со мной в этот домик и что там, вдалеке от нервного напряжения городской жизни, мы перестанем ссориться и сможем вести здоровую жизнь, которая свяжет нас навсегда. Надежды мои рухнули, я занялся деталями своего отъезда, и только после того, как покончил с этими хлопотами, мне стало ясно, что я остался в полном одиночестве.
Пару дней я, чрезвычайно взбудораженный, видел перед собой новое начало, но когда наконец переехал в сельский домик, то подумал: вот я и достиг конечного пункта своих устремлений.
Пришло время раздумий и самосозерцания. Ни одно из моих желаний не исполнилось; только трудности, выпавшие на мою долю.
Глава вторая
Домик окружал типично сельский ландшафт; аккуратная узенькая тропинка связывала его с проходившим примерно в двухстах ярдах проселком на Уэсбли. Домик этот, двухэтажный, с шиферной крышей и узорчатыми окнами с четырьмя наличниками, одиноко стоящий на отшибе, окружали деревья и живая изгородь. К нему примыкал участок земли с садом, в глубине которого протекал маленький ручей. Прежние владельцы посадили фруктовые деревья, выращивали овощи, но грядки заросли, сад заглох. Перед и за домом были небольшие газончики и несколько клумб. Нужно было подрезать фруктовые деревья у ручья и повсюду выполоть разросшиеся сорняки.
В миг прибытия я почувствовал себя хозяином этого дома. Он был моим во всех смыслах, кроме юридического, но, даже еще не владея им, я уже начал строить планы. Я представлял себе, как каждую неделю ко мне из Лондона приезжают друзья, чтобы насладиться мирной сельской жизнью и домашним обедом, и видел себя закаленным и обветренным от непогоды и отсутствия цивилизованного окружения. Может быть, обзаведусь собакой, резиновыми сапогами и удочкой. Я решил научиться какой-нибудь сельской работе: ткачеству, гончарному ремеслу, резьбе по дереву. Что касается дома, то я хотел в скором времени превратить его в нечто вроде буколического рая, о каком большинство горожан может только мечтать.
Нужно было многое сделать. По словам Эдвина, проводка была старой, поврежденной: во всем доме – только две исправные розетки. Когда я отвернул один из кранов, послышался только слабый хрип, а горячей воды не было вообще. Туалет был засорен. Некоторые из внутренних помещений отсырели; весь дом, внутри и снаружи, требовал покраски. Полы в помещениях нижнего этажа изъел древоточец, балки потолка были покрыты сухой плесенью. Первые три дня я работал как проклятый, пытаясь все устроить. Я открыл все окна, вымыл полы, протер полки и шкафы, длинным куском проволоки пробил засор в туалете и осторожно заглянул под ржавую крышку резервуара для воды. Работая в саду, я проявил больше энергии, чем знания и вырывал с корнями все, что, по моему мнению, относилось к сорнякам. К тому времени я ознакомился с универсальным магазином в Уэсбли и приобрел недельный запас продуктов. Я приобрел всевозможные инструменты и другие принадлежности, которые до сих пор никогда мне не требовались: клещи, отвертки, лопаточки для шпаклевки, ножи, пилу, пару горшков и плитку для кухни. Потом наступил первый уикэнд. Приехали Эдвин и Марджи; энергии и оптимизма у меня поубавилось. Тотчас же стало ясно, что жена заставила Эдвина сожалеть о его дружеском предложении. Он покаянно держался на втором плане, пока Марджи брала все в свои руки. Она с самого начала твердо дала понять, что у нее есть свои собственные планы на этот дом и в эти планы отнюдь не входит, чтобы здесь жил кто-нибудь вроде меня. Она не сказала этого напрямую, но это было ясно по каждому ее взгляду и замечанию.
Я едва помнил Марджи. Раньше, когда они приходили в гости, Эдвин играл главную роль. Марджи была тогда кем-то, кто пил чай, говорил о боли в спине и помогал на кухне мыть посуду. Теперь это была расплывшаяся, прозаическая особа, болтливая и полная предубеждений. Она так и сыпала советами, как убирать дом, но сама палец о палец не ударила. В саду она оживилась и показала мне, что надо оставить, а что отправить на кучу компоста. Позже я помог им выгрузить многочисленные банки с грунтовкой, которую они привезли, и Марджи показала мне, чем какие стены красить Все указания. я записывал, а потом она проверила мои записи.
В доме не было условий для ночевки, и им пришлось снять номер в гостинице. В воскресенье утром Эдвин отвел меня в сторону и объяснил, что из-за забастовки водителей бензовозов на заправках нет горючего и, если я не возражаю, они уедут вскоре после полудня. Больше за все выходные он не сказал мне почти ничего, и я расстроился.
Когда они уехали, я почувствовал себя обескураженным и разочарованным. Выходные были мучительными, тяжелыми. Мне казалось, меня на чем-то поймали: нужно было объяснять мою благодарность Эдвину, болезненное осознание того, что своим доброжелательством он навлек на себя гнев Марджи, мое постоянное упорство, мою готовность и мои действия. Я вынужден был им угождать, и мне был противен тот елейный тон, которым я иногда обращался к Марджи. Она напомнила мне о временности моего пребывания в этом доме и дала понять, что уборка и ремонтные работы делались не для меня самого, а были своего рода платой за наем.
Я болезненно отреагировал на это тихое замечание. На три дня я забыл о своих бедствиях и затруднениях, но после визита хозяев снова вспомнил о них, особенно о разрыве с Грейс. То, как она исчезла из моей жизни, – с гневом, слезами, бурным проявлением чувств – было невыносимо, особенно после того, как мы провели вместе столько времени.
Я начал думать обо всем, что оставил: о друзьях, книгах, пластинках, телевизоре. Я почувствовал себя одиноким, и то второстепенное обстоятельство, что ближайший телефон был только в деревне, приобрело вдруг неизмеримо важное значение. Каждое утро я с нетерпением ждал почты, хотя свой новый адрес оставил лишь немногим своим друзьям и у меня не было никакого повода ждать от них писем. В Лондоне я тоже был не особенно активным, но, когда читал газету, мне казалось, что я принимаю участие во всем происходящем в мире; я покупал большинство еженедельников, обсуждал с друзьями различные события, слушал радио или сидел перед телевизором. Теперь я был отрезан от всего этого. По собственному желанию – однако, когда я лишился всего и не получал новых впечатлений, то почувствовал себя ограбленным. Конечно, я мог купить газеты в деревне и пару раз покупал, но потом обнаружил, что эта потребность не внешняя. Пустота была во мне самом.
Шли дни, и моя унылая рассеянность усилилась. Окружающее стало мне безразлично. День за днем я носил ту же одежду, перестал мыться и бриться и ел только то, что можно приготовить быстро и удобно. Я засыпал после полудня, часто мучился головной болью, у меня не двигались суставы и не разгибалась спина. Я чувствовал себя больным и выглядел больным, хотя был убежден, что физически со мной все в порядке. Тем временем наступил май, но весна запаздывала. С тех пор как я въехал в сельский домик, стояла угрюмая, пасмурная погода, изредка моросил дождь; теперь погода внезапно улучшилась: фруктовые деревья расцвели, бутоны начали раскрываться. Я видел пчел, бабочек, несколько ос. Вечерами перед дверью и над деревьями танцевали облачка крошечных мошек. Я обратил внимание на пение птиц, особенно в утренние часы. Впервые в жизни во мне проснулось чувство таинственности живых существ и взаимосвязи с природой; жизнь в городе и безразличное, невнимательное посещение в детстве сельской местности плохо подготовили меня к повседневным чудесам природы.
Что-то шевельнулось во мне; я стал беспокоен, и мне захотелось избавиться от своего бесплодного самолюбования. Но я лишь попытался изменить положение, отдавшись радости, вызванной приходом весны.
Желая избавиться от овладевшего мною неумолимого уныния, я предпринял серьезную попытку заняться работой. Я весьма слабо представлял себе, с чего следует начать. До этого я работал в саду, но теперь мне показалось, что участки, которые я прополол пару дней назад, снова беспорядочно заросли сорняками. И дому, по-видимому, требовался основательный ремонт. Мне предстояло очень много поработать, прежде чем заняться покраской стен – требовалась солидная подготовка. Мне помогло то, что я представлял себе ее результат. А когда я вообразил побеленные и покрашенные комнаты, моя работа начала обретать смысл. Это открытие стало шагом вперед.
Я сосредоточил усилия на той комнате в нижнем этаже, где спал. Длинная, большая, она тянулась вдоль всего дома. Из маленьких окон на фасаде и по бокам открывался вид на палисадник и изгородь, а из большого окна была видна задняя часть сада с фруктовыми деревьями.
Я работал напряженно, воодушевленный фантастическим видйнием того, как будет выглядеть комната, когда я закончу. Я вымыл стены и потолок, обновил выкрошившуюся штукатурку, очистил и отполировал дверные и оконные рамы, а потом нанес на стены два слоя белой краски, которую привезли с собой Эдвин и Марджи. Когда деревянные панели были покрашены, помещение преобразилось. Из грязной, мрачной пещеры оно превратилось в светлую просторную комнату, где можно было жить в свое удовольствие. Я убрал остатки краски, отскреб пол и вымыл окна. В порыве вдохновения, я сходил в Уэсбли, накупил тростниковых циновок и постелил их на пол.
Больше всего меня удивляло то, что мое представление об этой комнате не вступило в противоречие с действительностью. Идея повлияла на исполнение.
Иногда я часами стоял или сидел в этой комнате, смакуя ее прохладное спокойствие. Окна здесь всегда были открыты, так что прохладный воздух устремлялся внутрь, а ночью комнату заполнял аромат жимолости, росшей под угловым окном, запах, до сих пор известный мне только по химическим аналогам.
Я назвал это помещение своей белой комнатой, и она стала центром моей жизни в этом сельском домике.
Когда комната была готова, моя подавленность вернулась, но, поскольку я в последние дни постоянно что-то делал, мои мысли были ясны и сосредоточенны. Работая в саду и начав ремонт в других комнатах, я думал о том, во что превратил свою жизнь и чем занимался раньше.
Прошлое представлялось мне неорганизованным, неуправляемым течением событий. Ничто там не имело смысла, ничто не было согласовано. Мне показалось важным попробовать привести воспоминания в относительный порядок. Бессмысленно было задаваться вопросом «зачем?». Просто это было важно.
Однажды я посмотрел в зеркало, покрытое пятнами сырости, и оттуда на меня взглянуло знакомое лицо, но не смог согласиться с тем, что это тот я, какого я знал. Я знал только, что это пожелтевшее лицо с многодневной щетиной и потупленным взглядом – мое, продукт почти двадцати девяти лет жизни, которая теперь вся казалась мне бессмысленной. Я вступил в период претензий к самому себе: как меня угораздило, откуда взялся такой упадок духа? Что это было – просто полоса неудач, как мне бы хотелось, или результат глубоко скрытой неполноценности? Я погрузился в раздумья.
Сначала я попытался восстановить истинную хронологию воспоминаний, которая меня очень интересовала.
Я знал распорядок своей жизни, последовательность крупных и наиболее значительных событий, потому что я, как любой другой, располагал опытом прожитых лет. Подробности, напротив, было не так-то легко вспомнить. Частицы прошлого – места, которые мне довелось посетить, друзья и знакомые, мои поступки – присутствовали в хаосе моих воспоминаний, но точные действия и последовательность я вспоминал с большим трудом.
Сначала я преследовал цель восстановить в памяти абсолютно все. Для этого я решил начать с первого школьного года и попытаться восстановить все до мельчайших подробностей: что я в тот год изучал, имя моего учителя, имена других ребят из моего и из соседнего класса, где работал отец, какие книги я, может быть, тогда читал и какие фильмы смотрел, с кем дружил и с кем враждовал.
Работая над стенами, я бормотал про себя эту несвязную, давнюю, полную пробелов историю, путаную, как сама жизнь.
Потом на первый план выступила форма. Недостаточно было просто восстановить последовательность событий, из которых состояла моя жизнь, требовалось установить относительное значение каждого из них. Я был продуктом этих событий, этого образования – и потерял контакт с тем, чем я был. Мне предстояло все проигрывать снова и, может быть, заново затвердить все, что я позабыл.
Я стал рассеянным и неуверенным. Только через воспоминания я мог вновь обрести ощущение, что я – это я. Невозможно было установить, что я открыл заново. Меня смущало то, что необходимо сосредоточиться на воспоминаниях, а потом с большим трудом восстановить эти события. Мне, полагаю, удалось реконструировать определенный отрезок своей жизни, но, переходя к другому году или к другому месту, я обнаруживал между ними поразительное сходство – или что до сих пор я ошибался.
Наконец мне стало ясно, что все это я должен записать. На прошлое Рождество Фелисити подарила мне маленькую портативную машинку, и однажды вечером я извлек ее из своих пожитков. В центре белой комнаты я установил стол, безотлагательно принялся за работу и почти немедленно обнаружил в себе тайну.
Глава третья
Я призвал на помощь все мое воображение. Я писал из внутренней потребности; этой потребностью было создать четкое представление о своей личности и я писал то, что должен был писать. Это не были мои фантазии. Я шел от чутья и чувств.
Сам процесс походил на создание моей белой комнаты. В начале – и прежде всего – была идея, а затем я воплотил ее сообразно своим представлениям, так же, как красил комнату. Я начал писать, не представляя, какие трудности у меня возникнут в связи с этим. Я был полон воодушевления, как ребенок, который в первый раз получил цветные карандаши. Мной никто не руководил, меня никто не контролировал, и я не испытывал никакого смущения. Впоследствии это изменилось, но в тот первый вечер я работал с неистощимой энергией и изливал на бумагу неиссякаемый поток слов. Процесс писания вверг меня в глубокое скрытое возбуждение, и я часто переделывал написанное, испещрял листы корректорскими значками и приписывал на полях дополнительные вставки. Мной овладело чувство странной неудовлетворенности, но я отмахнулся: все это заглушало всепоглощающее ощущение освобождения и довольство. Процесс писания скрашивал мне существование!
Я работал до глубокой ночи; когда наконец забрался в свой спальный мешок, заснул с большим трудом и спал очень плохо. На следующее утро я, позабыв о ремонте, вновь уселся за работу. Моя творческая энергия не убывала, страница за страницей вылетали из каретки пишущей машинки, и никто и ничто не могло остановить этот поток. Напечатанные листы я разбрасывал вокруг стола по полу, и они в полном беспорядке лежали один на другом, как я их бросил.
Но потом по неизвестной причине я внезапно остановился. Это случилось на четвертый день, когда у меня уже было больше шестидесяти полностью исписанных листов. Я хорошо помнил содержание каждой страницы, такой страстной была моя потребность писать, и часто перечитывал написанное. То, что я не успел перенести на бумагу, было того же рода, и все это было столь же необходимо изложить. У меня не было никаких сомнений в том, чем следует продолжить, а о чем умолчать. И все же я остановился посреди страницы, не в силах продолжать. Словно устал писать. Я впал в глубокую задумчивость и спросил себя, что делать дальше, каков должен быть следующий шаг. Я произвольно выбрал одну из написанных страниц и нашел ее наивной, самодовольной, тривиальной и неинтересной. Я заметил, что страница лишена знаков препинания, что правописание изрядно хромает и что я упорно употребляю одни и те же слова. Даже решения и наблюдения, которые я считал весьма неплохими, показались мне банальными и бестолковыми.
Все, что я так поспешно написал, никуда не годилось, и меня захлестнули отчаяние и сознание собственной ущербности. В дальнейшем я оставил писание и попытался найти выход своей энергии в работе по дому. Я выкрасил одну из комнат на верхнем этаже и отнес туда свой спальный мешок и другие пожитки. С этого дня я использовал белую комнату только для писания. Следуя указаниям Эдвина, я обновил арматуру и установил водонагреватель. Этот перерыв я использовал, чтобы обдумать сделанное и все распланировать.
До сих пор все, что я писал, касалось исключительно моих воспоминаний. Собственно, следовало поговорить с Фелисити и узнать, что помнит она, – вдруг это помогло бы мне приоткрыть какие-нибудь невеликие тайны детства. Но мы с Фелисити больше не были заодно; в последние годы мы часто ссорились, в последнее время, после смерти отца, особенно сильно. Она мало что понимала в моих делах. Кроме того, это была моя история, и я не хотел видеть события глазами сестры.
Вместо того я однажды позвонил ей и попросил прислать мне семейный фотоальбом. Фелисити досталась львиная доля вещей отца, среди прочего и альбом, но, насколько я знал, сестра не нашла ему никакого применения. Мой внезапный интерес к альбому поразил Фелисити – после погребения она предлагала мне его, но я отказался – но все же она пообещала прислать его.
Отвращение прошло, и я вернулся за пишущую машинку. После перерыва я приступил к работе с большей основательностью и, прежде чем начать, лучше организовал материал. Я научился вводить в сюжет свои сомнения. Воспоминания – обманчивая штука, а воспоминания детства зачастую искажены влиянием, которого ты в то время еще не замечаешь. Дети не замечают перспективы мира; горизонт их узок, интересы эгоистичны, многое из того, что составляет их опыт, навязано родителями. Их внимание рассеянно и неизбирательно.
Моя первая попытка вылилась всего лишь в серию малосвязанных отрывков. Теперь, когда я взялся рассказывать свою историю, им предстояло уложиться в определенные рамки и принять форму. Почти сразу же я ухватил суть того, что должен был описать.
Моей темой все еще неизбежно оставался я сам: моя жизнь, мой опыт, мои надежды, множество разочарований и перипетий моей любви. До сих пор я считал, что причина моих неудач – желание описать свою жизнь в хронологическом порядке. Я начал с самых ранних воспоминаний и попытался изложить на бумаге, как протекала моя жизнь. Теперь я видел, что иду опасным путем.
Если я хотел основательно разобраться в себе, то должен был действовать с большей объективностью, изучить себя, всесторонне рассмотреть, точно главную фигуру романа, и исследовать все обстоятельства. Описать жизнь – совсем не то, что прожить ее. Жизнь не искусство, но о жизни много пишут. Жизнь – это цепочка случайностей, взлетов и падений, частично внутренних, частично внешних, большинство из которых запомнились неточно, а уроки, извлеченные из них, непонятны.
Жизнь дезорганизующа и бессистемна; в ней отсутствует то, что есть в романе.
В детстве мир вокруг полон тайн. Они тайны только потому, что их верно не объяснили или по нехватке опыта, но запечатлелись в памяти из-за присущего им очарования. Потом подрастаешь, появляется много объяснений, но поздно: уже нет той фантастической прелести тайн.
Но что справедливее: воспоминания или факты?
В третьей главе переделанной рукописи я взялся описывать то, что великолепно иллюстрировало эту дилемму. Это касалось дяди Уильяма, старшего брата моего отца.
В детстве я никогда не видел дядю Уильяма – или Вилли, как звал его отец. Его образ был расплывчатым, мать не одобряла Вилли, а для отца, он, очевидно, был чем-то вроде героя. Я помню, что отец уже в моем раннем детстве любил рассказывать истории о том, что они с Вилли вытворяли мальчишками и как попадали из одной переделки в другую. Вилли всегда и везде вызывал гнев, у него был особый талант шкодника. Отец стал известным и преуспевающим инженером, Вилли же, напротив, перебрал множество пользующихся дурной славой занятий, нанимался матросом, продавал подержанные автомобили и занимался сбытом залежалых товаров с государственных складов. Я не видел в этом ничего плохого, но матери это почему-то казалось сомнительным.
Однажды дядя Уильям появился у нас в доме и разом перевернул мою жизнь. Вилли оказался высоким и загорелым, у него была густая вьющаяся борода, и ездил он в открытом автомобиле со старомодным гудком. Он говорил ленивым, тягучим голосом, который я находил таким же будоражащим, как и все остальное в нем; он поднял меня над головой и вынес в сад, а я вопил во все горло. На его больших руках темнели мозоли, и он курил грязную трубку. Взгляд Вилли был устремлен вдаль. Потом он взял меня в одну из головокружительных автомобильных поездок; мы мчались по проселочной дороге с невероятной скоростью, и он просигналил полицейскому на мотоцикле. Он подарил мне игрушечный автомат, из которого можно было стрелять в комнате деревянными шариками и показал, как строят бревенчатый дом.
Потом он исчез, так же внезапно, как и появился, и я отправился спать. Я лежал в постели и прислушивался к голосам родителей: те бранились. Я не мог разобрать слов, дверь была закрыта, но голос отца гремел. Потом мать расплакалась.
Я больше никогда не видел дядю Уильяма, а мои родственники и родители его больше не упоминали. Пару раз я спрашивал о нем, но родители искусно меняли тему, как обычно делают, чтобы не возражать детям. Приблизительно через год отец рассказал мне, что дядя Вилли теперь работал «за границей где-то на Востоке» и что мы, вероятно, его больше никогда не увидим. Таким образом, в словах отца было что-то, что вызывало у меня сомнения, но я не был недоверчивым и вдумчивым ребенком и предпочитал верить тому, что мне говорили. Приключения Вилли за границей еще долго будоражили мое воображение; с небольшой помощью комиксов, к которым питал и питаю пристрастие, я видел дядю поднимающимся в горы, охотящимся в джунглях и прокладывающим железную дорогу. Все это вполне увязывалось с тем, что я о нем знал.
Когда я подрос и научился думать самостоятельно, мне стало ясно, что эти истории, вероятно, не соответствуют действительности и исчезновение Вилли, очевидно, вызвали какие-то другие обстоятельства, но образ Вилли Великолепного так и остался в моем воображении.
Только после смерти отца, разбирая бумаги, я узнал правду. Я натолкнулся на письмо от директора тюрьмы в Дурхэме, там говорилось, что дядя Уильям помещен в тюремный лазарет; второе письмо, датированное несколькими неделями позже, сообщало о его смерти. Я связался с Министерством внутренних дел и узнал, что дядя Вилли был осужден на двенадцать лет за вооруженный грабеж. Преступление, за которое он был осужден, он совершил через несколько дней после того сумасшедшего, захватывающего летнего полдня.
Но, как я уже писал, в своих фантазиях я видел дядю Вилли в разных экзотических краях, где он вступал в рукопашную с людоедами или мчался на лыжах по горным склонам.
Обе версии соответствовали истине – но с различной степенью достоверности. Первая была обычной, досадной и окончательной. Другая – убедительной и возбуждающей фантазию, и, кроме того, она давала надежду на то, что дядя Вилли однажды вернется.
Чтобы отобразить все это в рукописи, мне пришлось отделиться от своего «я» и стать на объективную точку зрения. Так произошло раздвоение или, может быть, даже растроение моего «я». Я выступил в роли писателя. Здесь было мое «я» из воспоминаний. И мое «я», о котором я писал, главное действующее лицо этой истории.
Разница между действительной и фантастической правдой занимала мои мысли.
Я ежедневно напоминал себе об ошибочности моих воспоминаний. Так, к примеру, я знал, что сами воспоминания не являются историей. Важнейшие события вспоминаются в той последовательности, которая заложена в подсознании, и их реконструкция для моего повествования требует постоянных усилий.
Маленьким мальчиком я сломал руку, и в фотоальбоме, присланном мне Фелисити, нашелся снимок, подтверждавший это. Но произошел ли этот несчастный случай в начале моего обучения в школе или же после смерти бабушки? Все три события тогда оказали на меня сильное воздействие, все три стали ранними уроками жестокого произвола, свойственного жизни. Чтобы описать их, я попытался вспомнить их последовательность, но тщетно; память бросила меня на произвол судьбы. Я был вынужден заново воссоздать в памяти эти события и расположить их в каком-то более верном порядке, если хотел представить, как они повлияли на меня.
Сами основы памяти были незыблемы, и моя сломанная рука служила наглядным тому примером.
Я сломал левую руку. Это я знал абсолютно точно, потому что такие вещи нельзя изменить, и эта рука по сей день была несколько слабее, чем полагалось бы. Такого рода воспоминания и оказались под сомнением. Единственным документальным подтверждением перелома была пара черно-белых снимков, сделанных на семейном пикнике. На этих снимках на фоне залитого солнцем пейзажа был запечатлен печальный маленький мальчик, в котором я узнал себя. Его правая рука была в гипсе и висела на белой повязке.
Я наткнулся на эти фотографии в то самое время, когда описывал этот случай и открытие потрясло меня. Такое документальное свидетельство смутило и поразило меня, и я поневоле поставил под сомнение все прочие сведения, которые выдала мне память. Только с некоторым опозданием я понял, что произошло: фотограф, очевидно, отпечатал эти фотографии, зарядив ролик пленки в увеличитель не той стороной. Стоило повнимательнее изучить снимки – сначала я рассматривал только себя – и различные детали фона подтвердили мою догадку: вертикальная надпись на номере автомобиля, правостороннее движение на дорогах, пиджаки, застегнутые не на ту сторону, и прочее.[1]
Все это было вполне объяснимо, но дало мне две точки зрения на свою особу: во-первых, я непременно должен был проверять и подтверждать свидетельствами развитие событий, которые до сих пор считал неизменными, и, во-вторых, ничего не мог вычеркнуть из прошлого.
Я приблизился ко второму перерыву в работе. Хотя мне нравилось, как идет моя новая работа, каждое следующее открытие порождало противодействия. Мне стало ясно двуличие прозы. Каждое предложение содержало в себе ложь.
Непосредственным следствием такого осознания стала полная ревизия; я перечитал все готовые страницы с самого начала и несколько раз переписал некоторые из отрывков. Каждая новая версия вносила улучшение, все большее сходство с жизнью. Описывая часть правды, я все ближе подходил к полной правде.
Когда я наконец приблизился к тому месту, на котором прервал свои труды, то натолкнулся на новые затруднения.
По мере того как моя история подвигалась от детства к отрочеству, а потом к юности, мне вспоминалось все больше людей. Не членов моей семьи, а посторонних, с которыми жизнь свела меня более или менее случайно и которые иногда становились частью этой жизни. В частности, существовала группа людей, с которыми я был знаком по университету, а также несколько женщин, с которыми имел отношения. Одна из них, девушка по имени Элис, в течение нескольких месяцев даже была моей нареченной. Мы хотели пожениться, но потом у нас все пошло наперекосяк, и мы расстались. Элис со временем вышла замуж за другого и родила двоих детей, но оставалась моей хорошей и верной подругой. Потом появилась Грейс, которая в последние годы сильно изменила мою жизнь.
И если я в своей одержимости хотел писать только правду, одну лишь правду, то каким-то образом должен был объяснить эти отношения. Каждая новая дружба означала продвижение в непосредственное прошлое, каждая любовная история так или иначе влияла на мои взгляды, меняя их. Хотя вероятность того, что кто-то прочтет рукопись, была очень мала, я, тем не менее, чувствовал себя неуютно из-за того, что все еще помню об этом.
Кое-что из того, о чем я упомянул, неприятно, и мне хотелось бы подробно описать свой сексуальный опыт, хотя и не в мельчайших подробностях.
Проще всего было бы изменить имен, места, даты, чтобы не раскрыть инкогнито вышеупомянутых лиц. Но это не было бы правдой, которую я хотел рассказать. Или можно было бы просто кое-что опустить: этот опыт был важен главным образом для меня.
Наконец я нашел решение, художественный прием: я создал новых друзей и партнеров, снабдив их вымышленной историей жизни и личностями. Одно или два из этих лиц были рядом со мной с самого детства, и вследствие этого оказывалось, что мы дружим на протяжении всей моей жизни, в то время как в действительности я потерял всякий контакт с друзьями детства, с которыми вместе вырос. Это сделало мой рассказ замечательно стройным, он оказался завершенным, связным и значительным.
В нем не было ничего лишнего: каждое запечатленное событие, каждое описанное лицо имело в моей истории свое предназначение.
Так, в трудах я учился познавать собственную жизнь. Правда была буквально подчинена верности действий: это была высшая, лучшая форма правды.
Тем временем, пока моя рукопись набирала объем, я вступил в стадию душевного подъема. Ночью я спал всего пять-шесть часов, а когда просыпался, первым делом садился за стол и прочитывал то, что написал накануне. Я все подчинил труду писателя, ел только тогда, когда голод принуждал меня к этому, спал только тогда, когда сильно уставал. Все остальное было мне безразлично: ремонтные работы по заказу Эдвина и Марджи я отложил на неопределенный срок.
За стенами дома весна перешла в долгое и невероятно жаркое лето. Сад оставался заросшим и запущенным, однако почва теперь высохла и потрескалась, а трава и сорняки пожелтели. Деревья поникли, маленький ручеек в глубине участка почти высох. В очередное посещение деревни я услышал озабоченные разговоры о погоде. Волна жары принесла с собой засуху; молочный скот стали забивать из-за недостатка кормов, отпуск воды был строго ограничен.
День за днем я сидел в своей белой комнате, ощущая теплый ток воздуха из открытого окна, и неутомимо работал над рукописью, полуголый и небритый, чувствуя себя уютно, довольный жизнью.
Потом я внезапно подошел к концу своей истории. Я внезапно перестал писать, потому что больше не мог вспомнить ни одного события.
Мне с трудом верилось в это. Я представлял себе финал как возвышенный, торжественный миг, как полное завершение своего духовного самоисследования. Вместо этого рассказ просто оборвался, без завершения, без откровения.
Предчувствуя безрезультатность своей работы, я испытал разочарование и тревогу. Я исследовал страницы рукописи, думая, что где-то допустил просчет. Все события образовали стройный ряд, но они закончились, мне нечего было больше сказать. До разрыва с Грейс, до смерти отца и до потери работы я жил в Тилбурне. Я не мог продолжать, потому что следующей стадией моей жизни стал сельский домик Эдвина. Где же окончание?
Я пришел к заключению, что единственный подходящий финал – только ложный. Другими словами, следовало по-новому связать свои воспоминания, ввести в нее вымышленные характеры, чтобы наконец закончить свою историю. Но сначала нужно признать, что во мне действительно сосуществуют две личности: я сам и персонаж истории.
В этом месте самоизучения я испытал угрызения совести – из-за того, что бросил работать в доме и саду. Я утратил и иллюзии по поводу своего творчества и способность создавать ткань повествования, а потому с толком использовал нежданный перерыв. Жаркий сентябрь подходил к концу; несколько дней я провел в саду, подстриг кусты и собрал фрукты, которые еще оставались на деревьях. Скосил лужайку и окопал высохший огород.
В заключение я покрасил вторую комнату на верхнем этаже. Оторвавшись от своей неудачной рукописи, я мысленно вновь и вновь возвращался к ней, и всякий раз у меня возникало желание переработать ее. Я понял: необходимо еще одно, последнее усилие, чтобы придать ей нужную форму. Необходимо – но ради этого, я должен был упорядочить свою жизнь.
Ключ к осмысленной, целеустремленной жизни, сказал я себе, – разделение на дни. План был разработан быстро: час в день посвящать уборке и мытью, два часа в день – ремонтным работам и саду, восемь часов сну. Я решил регулярно мыться, обедать в строго определенное время, бриться, стирать белье и для всех этих дел предусмотрел час в день и день в неделю. Моя потребность писать все еще оставалась одержимостью, владеющей моей жизнью, и, вероятно, не могла принести мне никакой пользы. Но теперь, когда я освободился от самоограничения, я мог в рамках дисциплины и расписания заняться третьей версией, которая писалась очень легко и от которой ожидал намного больше, чем от первых двух.
Наконец я понял, как мне следует рассказать свою историю. Если я смогу при помощи неправды – другими словами, при помощи метафор – рассказать чистую правду, тогда через всеобщую неправду смогу найти и описать всеобщую правду. Моя рукопись должна быть метафорой моего «я».
Я создал воображаемое место и воображаемую жизнь.
Две мои первые попытки были тупы и загнаны в жесткие рамки. Я описывал то, что было запечатлено в моей душе и чувствах. Внешние события были призрачными, схематичными проявлениями у границ моего восприятия. Причина крылась в том, что я выращивал реальный мир на стерильной почве своей фантазии; он был анекдотичным, малосвязанным. Создание фантастического ландшафта расставило все на места, я создал его по собственному желанию и ввел в личные символы. Я уже решительно отдалился от чисто автобиографического повествования; я перевел процесс на новые рельсы и поместил главного героя, мое метафорическое «я», в обширное, выдуманное, стимулирующее окружение.
Я придумал город под названием «Джетра». Он должен был быть Лондоном, где я родился, и одновременно пригородом Манчестера, где я провел большую часть детства. Джетра находилась в стране Файандленд, скромной и немного старомодной стране, богатой традициями и высокой культурой, гордой своей историей, справляющейся с трудностями, когда это нужно, утверждающей себя в новом подверженном конкуренции мире. Я дал Файандленду географию, законы и конституцию. Джетра была его столицей и важнейшим портом и находилась на южном берегу страны. Позже я набросал подробности некоторых других стран, существовавших в этом мире; я даже нарисовал примитивную карту, которую вскоре отверг, потому что она связывала фантазию.
Пока я писал, это окружение стало для меня почти так же важно, как и переживания моих героев. Я вновь обнаружил, что нужно создать детали, которые придадут повествованию большую убедительность.
Скоро я нашел верный путь. Поведение моих прежних героев казалось теперь беспомощным и искусственным, но как только я ввел их в новый воображаемый мир, образы приобрели убедительность и засверкали всеми красками. До этого я лишь менял последовательность событий ради вящей их четкости, но теперь заметил, что все это имеет цель, скрытую в моем подсознании. Замена фона на выдуманный придала моему творению смысл.
Я добавил подробностей в изображенную мной картину. Вскоре я увидел, что в море южнее Файандленда имеются острова, множество островов, огромный архипелаг маленьких независимых стран. Для жителей Джетры и особенно для моего главного героя эти острова были чем-то вроде эскапистской мечты. Путешествовать между этими островами значило достигнуть цели. Сначала мне было не вполне ясно, что это может быть за цель, однако в процессе писания я это понял.
На новом фоне стала вырисовываться история, при помощи которой я хотел рассказать о своей жизни. У героя этой истории было мое имя, но люди, которых я знал, получили вымышленные имена. Моя сестра Фелисити стала Калией, Грейс – Сери, моих родителей не было вообще.
По этой причине события казались чуждыми, я с обостренной фантазией реагировал на все, что писал, но поскольку все это было мне во всех смыслах знакомо, я создал мир другого Питера Синклера, его окружение, которое было мне знакомо и в котором я жил.
Я работал напряженно и размеренно, и скоро появилась внушительная стопка страниц новой рукописи. Каждый вечер я заканчивал работу в предусмотренный моим дневным расписанием час, перечитывал готовые страницы и вносил в текст небольшую правку. Иногда я сидел на стуле в своей белой комнате, держа рукопись на коленях, чувствуя ее тяжесть, и знал, что держу в руках все, что стоило или можно было рассказать о себе.
На бумаге существовала особая личность, тождественная мне, но все же очень и очень отличающаяся от меня. Она была не старше меня, но кто-нибудь мог ее уничтожить. У нее была собственная жизнь, выходящая далеко за пределы бумаги, на которой была записана; если я сожгу рукопись или кто-нибудь у меня ее отнимет, она по-прежнему будет существовать, на высшем уровне. Чистая правда вневременна: она переживет и меня.
Эту окончательную версию, которую я начал писать с первой страницы двумя месяцами раньше, нельзя было изменить. Она была исключительно правдивой историей. Все в ней было выдумкой, кроме моего имени, однако каждое ее слово, каждое предложение было истиной в высшем смысле, помогающей достигнуть высшей правды. В этом я был твердо убежден.
Я нашел себя, объяснил себя и в очень личном смысле этого слова определился.
Наконец мне удалось приблизиться к финалу своей истории. Это перестало быть проблемой. Во время работы я чувствовал: он обретает плоть в моей душе – как перед этим обрела жизнь на бумаге сама история. К сожалению, для этого требовалось писать, терпеливо сидеть за пишущей машинкой. Я лишь чувствовал, каким должен быть конец; нужные слова придут ко мне в тот миг, когда их потребуется написать, не раньше. А с ними придет освобождение, сознание выполненного долга и реабилитации мира.
Но потом, после того как я написал еще страниц десять, все неожиданно прервалось.
Глава четвертая
Засуха наконец кончилась, и уже несколько дней шел дождь. Ведущая к дому подъездная дорога превратилась в почти непроходимое болото с глубокими лужами и чавкающей грязью. Я услышал машину раньше, чем увидел: завывание мотора и буксующие в клейкой грязи колеса. Я сидел за пишущей машинкой, боясь оторваться, и теперь уставился на последние слова, которые написал, пытаясь удержать их перед глазами, чтобы сохранить связность предложения.
Машина остановилась перед домом по ту сторону изгороди, вне моего поля зрения. Я услышал звук работающего на холостом ходу мотора и удары резиновых щеток стеклоочистителей по окантовке ветрового стекла. Потом зажигание выключили, хлопнула дверца.
– Привет, Питер, ты тут? – донесся снаружи голос, и я узнал его: это был голос моей сестры Фелисити.
Я продолжал смотреть на полуисписанную страницу, надеясь, что молчанием смогу защититься от сестры. Я так близко подошел к финалу истории, что любая помеха приводила меня в ярость, я никого не хотел видеть.
– Питер, позволь мне войти. Здесь льет как из ведра.
Она подошла к окну и постучала в раму. Я обернулся к ней, потому что она заслонила падающий на стол свет.
– Впусти меня. Я насквозь промокла.
– Чего ты хочешь? – спросил я, снова устремляя взгляд на недописанную страницу, откуда, казалось, уже начали исчезать слова.
– Хочу поговорить с тобой. Ты не ответил на мое письмо. Не торчать же мне теперь здесь. Я насквозь промокла.
– Дверь открыта, – сказал я и сделал неопределенное движение рукой в сторону входа.
Пару мгновений спустя я услышал, как лязгнула щеколда и заскрипела дверь. Стоя на коленях на полу, я собирал отпечатанные страницы и складывал их стопкой. Я не хотел, чтобы Фелисити прочитала то, что я написал, и никому не хотел давать их читать. Я вытащил последнюю, недопечатанную страницу из машинки и положил к остальным. Я все еще был занят сортировкой страниц и раскладкой их в тщательной последовательности, когда в комнату вошла Фелисити.
– Там, снаружи, лежит куча почты, – сказала она. – Ничего удивительного, что ты не ответил. Ты не просматриваешь почту?
– Просмотрю, – сказал я и пролистал пронумерованные страницы, желая убедиться, что они разложены правильно. Я хотел допечатать рукопись и спрятать в каком-нибудь укромном месте. Фелисити прошла в центр комнаты и остановилась возле меня.
– Я должна была приехать, Питер. Ты очень редко звонишь, и нам с Джеймсом показалось, что у тебя что-то не в порядке. Когда ты не ответил на письмо, я связалась с Эдвином. Чем ты, собственно, здесь занимаешься?
– Оставь меня в покое, – пробурчал я. – Я занят. И не хочу, чтобы мне мешали.
Я пронумеровал каждую страницу, но номера семьдесят два не было. Я начал его искать, и несколько страниц выскользнули из стопки.
– Боже мой, что здесь творится!
Я в первый раз поднял голову и посмотрел на сестру. У меня появилось странное чувство узнавания, словно она была личностью, которую я создал сам. Я помнил ее по рукописи: там ее звали Калия. Моя сестра Калия, на два года старше меня, замужем за человеком по имени Ялоу.
– Что ты хочешь от меня, Фелисити?
– Я беспокоюсь о тебе. И, как я вижу, не без оснований. Боже, какой тут кавардак! Ты здесь вообще не убираешь?
Я встал, держа в руках листы рукописи. Фелисити развернулась и пошла на кухню. Я попытался придумать, куда бы спрятать рукопись, пока не вернулась Фелисити. Она видела ее, но не имела никакого представления о том, что в ней написано и насколько это важно.
Из кухни донесся стук горшков и другой посуды, сопровождаемый приглушенными возгласами Фелисити. Я подошел к кухонной двери и посмотрел, что она делает. Она стояла перед мойкой и вынимала оттуда сковороды и тарелки.
– Вот бы Эдвин и Марджи увидели, какое свинство ты развел в их доме! – бросила она через плечо. – Тебя никогда не заботила чистота, но дальше ехать некуда! Везде грязь и отвратительная вонь!
Она с трудом открыла заклиненное окно, и кухню наполнил шум дождя.
– Хочешь кофе? – спросил я, но Фелисити бросила на меня гневный взгляд.
Сестра вымыла руки под краном и осмотрелась в поисках полотенца. В конце концов она вытерла руки о пальто; полотенце я куда-то задевал. Фелисити и Джеймс жили в новом доме на одну семью на окраине Шеффилда, там, где раньше был участок плодородной пахотной земли. На этом поле наспех возвели тридцать шесть одинаковых домов в кольце подъездной дороги. Я только один-единственный раз был у нее, вместе с Грейс, зато в моей рукописи существовала целая глава о том, как я провел с ними выходные после рождения их первого ребенка. На миг мне захотелось показать Фелисити некоторые страницы – но она не могла оценить их.
Я крепко прижал рукопись к груди.
– Питер, что с тобой? Твоя одежда задубела от грязи, по всему дому горы мусора, а сам ты, похоже, уже несколько недель ешь не каждый день. А твои пальцы!
– Что с ними?
– Раньше ты никогда не грыз ногти.
Я отвернулся.
– Оставь меня в покое, Фелисити! Я много работал и хочу наконец закончить то, что начал.
– Я не оставлю тебя в покое! Мне пришлось завершить все дела отца, чтобы разобраться с наследством и продать дом, а еще пришлось выступать от твоего имени в юридических процедурах, о которых ты ничего не знаешь… А кроме того, я должна вести дом и заботиться о своей семье. Что же между тем делает хозяин? Ничего! Ни ответа ни привета! Что с Грейс?
– А что с ней должно быть?
– Мне приходится заботиться и о ней.
– О Грейс? Ты ее видела?
– Она связалась со мной, когда ты ее бросил. Она хочет знать, где ты.
– Но я писал ей. Она не ответила.
Фелисити ничего не сказала, но глаза ее гневно засверкали.
– Как у нее дела? – спросил я. – Где она живет?
– Ты гнусный эгоист! Ты знаешь, что она чуть не умерла?
– Неправда.
– Она наглоталась таблеток. Ты должен это знать!
– Ах да, – сказал я. – Ее соседка мне говорила.
Тут я снова вспомнил: бледные губы девушки, ее дрожащие руки, когда она сказала мне, что я должен немедленно исчезнуть и больше не докучать Грейс.
– Ты знаешь, что у Грейс нет семьи. Мне пришлось прожить с ней в Лондоне целую неделю. По твоей вине.
– Надо было сказать мне. Я искал ее.
– Питер, не лги хотя бы себе. Ты же хорошо знаешь, что ты просто сбежал.
Я подумал о своей рукописи и внезапно вспомнил, что произошло с семьдесят второй страницей. Когда я однажды вечером нумеровал страницы, то допустил ошибку. Из-за этого я хотел перенумеровать и остальные страницы. До меня дошло, что страница не пропала.
– Ты вообще слушаешь меня?
– Да, конечно.
Фелисити прошла мимо меня в белую комнату. Здесь она открыла второе окно – возник холодный ветерок – потом по скрипучей деревянной лестнице поднялась наверх. Я обеспокоенно последовал за ней.
– Я думала, ты привел дом в порядок, сделал ремонт, – сказала Фелисити. – Но нет! Эдвин лопнет от злости, если узнает. Он думает, что дом уже почти готов.
– Мне все равно, – угрюмо пробормотал я. Я пошел к двери в комнату, где спал, и закрыл ее. Мне не хотелось, чтобы Фелисити заглядывала туда: там повсюду были разбросаны мои журналы.
Я прислонился спиной к двери, чтобы помешать ей зайти в комнату.
– Уходи, Фелисити! Уходи, уходи!
– О боже, что ты натворил? – она открыла дверь туалета, но тотчас снова закрыла ее.
– Он засорен, – сказал я. – Я хотел прочистить его.
– Хуже, чем в свинарнике! У любого животного в норе гораздо лучше.
– Не делай ничего. Здесь тебе ничего не надо делать.
– Позволь мне взглянуть на другие помещения.
Фелисити подошла ко мне и попыталась забрать у меня рукопись. Я крепко прижал листы к себе, но это было только уловкой с ее стороны. Она взялась за ручку двери и открыла ее, прежде чем я успел ей помешать.
Некоторое время она смотрела мимо меня в комнату. Потом окинула на меня взглядом, полным презрения.
– Раскрой окно! – сказала она. – Воняет!
И пошла дальше по коридору, чтобы проверить другие комнаты.
Я пошел в свою спальню, чтобы убрать то, что она там увидела. Закрыл журналы и виновато засунул их под спальный мешок. Потом бросил грязное белье на кучу в углу.
Фелисити уже спускалась вниз, и когда я догнал ее, она остановилась в моей белой комнате возле письменного стола и посмотрела на пишущую машинку. Когда я подошел, сестра нетерпеливо кивнула в сторону рукописи.
– Будь добр, дай мне посмотреть эти бумаги!
Я покачал головой и еще крепче прижал рукопись к себе.
– Ну хорошо, нет, так нет. Да что ты так в них вцепился!
– Я не могу показать тебе их, Фелисити. Я хочу, чтобы ты ушла, вот и все. Оставь меня в покое!
– Ну хорошо, еще минутку! – она убрала стул со стола и поставила его в центре пустой комнаты. Комната внезапно приобрела сходство с титульным листом. – Садись, Питер. Я должна подумать.
– Я не знаю, что тебе здесь нужно. Мне здесь хорошо. У меня все есть. Мне нужно побыть одному. Я работаю.
Но Фелисити больше не слушала меня. Она пошла на кухню и налила в чайник воды. Я сидел на стуле, прижав к себе рукопись. Через открытую дверь я видел, как она вымыла под краном две чашки и теперь ищет чай. Вместо чая она нашла растворимый кофе и положила его в обе чашки. Пока чайник стоял на плите, она снова начала отставлять в сторону немытые горшки и тарелки, пока мойка не опустела. Потом пустила воду и вымыла руки под краном.
– Здесь нет теплой воды?
– Но… это же теплая, – я видел пар, поднимающийся из мойки.
Фелисити завернула кран.
– Эдвин сказал, что установил нагреватель. Где он?
Я пожал плечами. Фелисити нашла выключатель и нажала. Потом некоторое время ждала у мойки, наклонив голову. Она, казалось, мерзла.
Я никогда прежде не видел Фелисити такой – впервые за последние годы мы были одни. В последний раз это случилось, еще когда мы жили дома: она как раз сдала сессию в университете и объявила о своей помолвке. С тех пор возле нее всегда был Джеймс или Джеймс и дети. Это позволило мне по-новому взглянуть на сестру, и я вспомнил трудности, с которыми столкнулся, описывая Калию. Картины детства с ее участием давались труднее всего, но все это были издержки сознания, необходимые издержки.
Я молча наблюдал, как она стоит на кухне, ждет, пока закипит вода для кофе, и пытался совладать с непреодолимым желанием остаться в одиночестве. Ее неожиданное вторжение в мой мир еще больше обострило настойчивое стремление писать. Может быть, в этом и заключалась ее роль, которую она ненамеренно сыграла, придя сюда: она хотела мне помочь, но помешала. Я не мог рассчитывать на то, что сестра уйдет и я вернусь за машинку. Я даже видел возможность продолжить рукопись, создать версию, которая еще глубже позволит мне уйти в ткань повествования, чтобы служить высшей правде.
Фелисити смотрела через окно в сад, и напряжение в комнате спало. Я положил рукопись у своих ног на пол.
Через некоторое время Фелисити сказала:
– Питер, мне кажется, ты нуждаешься в помощи. Ты не хочешь поехать со мной и пожить у нас с Джеймсом?
– Не могу. Я работаю. И еще не закончил свою работу.
Она обернулась, скрестила руки на груди, прислонилась к оконной раме и посмотрела на меня, подняв брови.
– Чем ты, собственно, занят?
Я попытался придумать ответ, потому что не мог рассказать ей всего.
– Пишу правду о себе.
Что-то в ее взгляде изменилось, и я понял, что она хочет сказать.
Глава четвертая рукописи: моя сестра Калия на два года старше меня. В детстве мы были достаточно близки по возрасту, чтобы родители обращались с нами, как с близнецами, но достаточно далеки друг от друга, чтобы замечать значительные отличия. Она всегда была впереди меня, в школе, в изменяющихся в зависимости от возраста развлечениях, могла задерживаться на улице дольше и сама выбирала друзей. Все же со временем я кое в чем обошел ее, потому что хорошо учился в школе, а она была только красива, и она так и не простила мне этого. Когда мы подросли и приблизились к совершеннолетию, разногласия между нами стали более заметны и постепенно превратились в зияющую пропасть. Ни один из нас не пытался перебросить через нее мост, оба, каждый со своей стороны, соблюдали определенную дистанцию. Она держалась с обычным надменным лукавством, которым заявляла, что знает о том, что я думаю и что намереваюсь делать. Все это было для нее неизбежным, ничто не могло удивить ее: то ли я был предсказуем, то ли она все знала, уже пройдя через это раньше. Я рос, яростно ненавидя знающую, опытную усмешку Калии, с которой она всегда обращалась ко мне в последние два года. И, сознавшись Фелисити, что именно содержится в рукописи, я ожидал в ответ такой же усмешки, такого же неодобрительного фырканья.
Я ошибся. Она только кивнула и отвела взгляд.
– Я должна забрать тебя отсюда, – сказала она. – Нет ли в Лондоне кого-нибудь, к кому ты можешь переехать?
– Я чувствую себя здесь отлично, Фелисити. У меня все хорошо. Не переживай за меня!
– А как насчет Грейс?
– Да, а что с ней?
Фелисити бросила на меня гневный взгляд.
– Я не хочу больше вмешиваться. Ты должен отыскать ее. Она нуждается в тебе и только в тебе.
– Но она же меня бросила.
Глава седьмая моей рукописи и много других глав: Грейс была Сери, девушкой с одного из островов. Я познакомился с Грейс однажды летом на греческом острове Кос. Я тогда поехал в Грецию, чтобы разузнать, почему в мою жизнь вторглась неведомая угроза. Греция казалась мне страной, в которую другие жаждали попасть, и я был влюблен в нее. Это был почти вызов судьбе. Друзья возвращались из поездок по этой стране, завороженные, околдованные ее красотой. Вот так я наконец и решил отправиться туда и встретил там Грейс. Мы вместе путешествовали по островам Эгейского моря, спали друг с другом, потом вернулись в Лондон, и наша связь оборвалась. Пару месяцев спустя мы случайно встретились снова, как это зачастую случается в Лондоне. Мы оба были очарованы островами и пронизаны страстным восторгом, который еще больше усилила наша разлука. В Лондоне мы влюбились друг в друга, а воспоминания об островах постепенно поблекли. Мы стали обычной парой. Теперь она была Сери, и в конце рукописи я остался один. Джетра стала Лондоном, острова остались позади, но Грейс приняла слишком большую дозу таблеток, и мы расстались. Все это было в рукописи, возведенное в ранг высшей правды.
Вода закипела и Фелисити вышла налить кофе. Сахара не было, не было молока, и стула для нее тоже не нашлось. Я отложил рукопись и подал сестре стул. С минуту она молчала, довольствуясь тем, что держала в руках чашку и прихлебывала черный кофе.
– Я не могу все время приезжать сюда приглядывать за тобой, – наконец сказала она.
– От тебя этого никто не требует. Я сам могу позаботиться о себе.
– С засоренным туалетом, без еды и по уши в грязи?
– Я не хочу того, чего хочешь ты.
Она ничего не сказала, но ее взгляд скользнул по моей белой комнате.
– Что ты скажешь Эдвину и Марджи? – спросил я.
– Ничего.
– Я не хочу, чтобы они приезжали сюда.
– Этот дом принадлежит им, Питер.
– Я все здесь уберу. Я уже начал наводить здесь порядок. Я только этим и занимаюсь.
– Со времени своего приезда сюда ты ни к чему не прикоснулся. Удивительно, как в таком бардаке и такой грязи ты до сих пор не подхватил дизентерию или что-нибудь подобное. Вонь от всего этого, должно быть, стоит до небес!
– Я не замечал этого. Я работал.
– Кто бы говорил. Скажи, откуда ты мне звонил? Здесь где-нибудь поблизости есть телефон?
– А что?
– Хочу позвонить Джеймсу. Он должен знать, что здесь творится.
– Ничего здесь не творится! Я просто и дальше хочу оставаться один, чтобы закончить то, что начал.
– А потом ты хочешь все здесь убрать, покрасить комнаты и привести в порядок сад?
– Я этим понемногу занимался почти все лето.
– Ты ничего не сделал, Питер, и сам знаешь, что ничего не сделал. Всякий, у кого есть глаза, подтвердит, что здесь ничего не сделано. Эдвин сказал мне, о чем вы с ним договорились. Он верит, что дом для них с Марджи будет отремонтирован, а сегодня здесь намного хуже, чем до твоего переезда.
– А как насчет этой комнаты? – спросил я.
– Это самая грязная дыра во всем доме!
Я изумился. Моя белая комната была в этом доме средоточием жизни. С моей точки зрения, она играла центральную роль во всем, что я делал. Солнце слепяще сверкало на ее свежевыкрашенных белых стенах, тростниковые циновки под моими голыми ступнями были приятно шероховатыми, и каждое утро, спускаясь сюда из спальни, я ощущал запах свежей краски. Я всегда чувствовал себя в своей белой комнате обновленным и работоспособным, потому что это было убежище, убежище от моей жизни, которое я сам построил. Фелисити все это подвергла сомнению. Если бы я видел эту комнату так же, как она… да, я действительно никогда бы не пришел к тому, чтобы побелить и покрасить ее. Источенные червяками голые половицы казались серыми от грязи, штукатурка на стенах облупилась и потрескалась, а рамы окон были черным-черны от плесени и пятен гнили.
Но это была ошибка Фелисити, а не моя. Сестра все воспринимала неправильно. Я учился писать свою повесть и рассматривал свою белую комнату в этом свете. Фелисити видела только часть правды – правду реальности. Она не чувствовала высшей правды, фантастической связности происходящего и совершенно не представляла себе правды того вида, какой я описал в своей рукописи.
– Где здесь телефон, Питер? В деревне?
– Да. Что ты скажешь Джеймсу?
– Только, что я доехала. Ему придется до понедельника заниматься детьми, раз тебе втемяшилось в голову остаться здесь.
– А что, неделя кончается?
– Сегодня суббота. Ты хочешь сказать, что тебе это неизвестно?
– Я не задумывался над этим.
Фелисити допила кофе и отнесла чашку на кухню. Она взяла сумочку и прошла через мою белую комнату в прихожую. Я слышал, как она открыла дверь. Потом она вернулась.
– Я займусь обедом. Что тебе приготовить?
– Что-нибудь.
Сестра ушла, и я поднял рукопись с пола. Я нашел страницу, над которой работал до приезда Фелисити. Там было напечатано всего несколько строчек, и мне показалось, что белая комната с упреком уставилась на меня. Я прочитал эти несколько строчек, и они показались мне полной бессмыслицей. В ходе своей работы я установил, что печатаю на машинке почти с той же скоростью, с какой думаю. Поэтому стиль мой был нечетким и произвольным, развитие сюжета подчинялось сиюминутному желанию. Присутствие Фелисити же и вовсе прервало ход моей мысли.
Я прочитал последние две или три строки, написанные перед вынужденным перерывом, и уверенность вернулась ко мне. Писание напоминало прорезание звуковой дорожки на пластинке; все посторонние мысли оттеснялись в сторону, а добавочное прочтение, словно при проигрывании пластинки, позволяло мне слышать собственные мысли. Прочитав несколько абзацев, я нашел отправную точку своих рассуждений.
Фелисити и ее вторжение были забыты. Словно я вновь обрел собственное «я». Как только я вновь погрузился в работу, мне показалось, что я снова обрел себя. Фелисити добилась того, что я почувствовал себя безумцем, нелепым и слабым.
Я отложил печатную страницу в сторону и заправил в каретку новый лист. Быстро перепечатал написанные строчки и собрался продолжать.
Но запнулся на том же месте, где и раньше: «На мгновение я понял, где нахожусь, однако когда оглянулся …»
Когда я оглянулся на что?
Я еще раз перечитал предыдущие страницы и попытался уловить суть своих мыслей, записанных на бумаге. Сцена эта была прелюдией моего окончательного разрыва с Грейс, но и Сери в Джетре имела похожий характер и тоже несколько отдалилась. Слои реальности мгновенно перепутались. В рукописи вообще не было никакой ссоры, только спокойствие и взаимопонимание между людьми, которые по-разному воспринимают мир. Что же я хотел сказать?
Я снова подумал о реальных разногласиях. Мы были на Мерилебоун-роуд, на углу Бейкер-стрит. Шел дождь. Ссора разгорелась буквально на пустом месте, из-за тривиального несогласия по поводу того, провести ли этот вечер у меня на квартире или сходить в кино, но, правда, мы оба устали за день. Я продрог и был не в духе. Включились уличные фонари, шумели, шипя шинами по мокрому асфальту проезжающие мимо грузовики и легковые машины, и все это нам чрезвычайно мешало. Забегаловка на станции Бейкер-стрит как раз открылась, но, чтобы добраться до нее, пришлось бы идти пешком. Грейс держалась замкнуто, букой; шел дождь, слово за слово мы начали кричать друг на друга. Я бросил ее под дождем, не сказав даже «до свидания».
Как я хотел представить эту сцену? Перед приездом Фелисити я это знал; все в тексте говорило о плавном течении мысли.
Появление Фелисити стало двойной помехой. Кроме перерыва в работе, она навязала мне еще и стороннее представление о существующей истине.
Так, например, она принесла новые известия о Грейс. Я знал, что после нашей ссоры Грейс приняла большую дозу снотворного, – ну и что же? На протяжении наших с ней отношений Грейс однажды, после очередной ссоры, уже принимала небольшую дозу этих таблеток; позже она созналась, что это была единственная возможность обратить на себя внимание. Потом, после того как ее соседка, выйдя на порог, не пустила меня в квартиру, поведение этой девушки преуменьшило значение поступка Грейс. Ее уклончивость и открытое презрение преобразили неприятную информацию, уменьшили ее значимость; не моим делом было беспокоиться об этом. Я узнал столько, сколько мне сообщили. Может быть, в это время Грейс уже лежала в больнице. Фелисити сказала, что она чуть не умерла.
Но правда, высшая правда заключалась в том, что я умыл руки. Фелисити заставила меня узнать об этом: Грейс, вероятно, предприняла серьезную попытку самоубийства.
В своей рукописи я рассказал о Грейс, которая старалась обратить на себя внимание; Грейс, которая всерьез намеревалась совершить самоубийство, я не знал.
Фелисити открыла ту сторону характера Грейс, которой я до сих пор не знал, и тотчас возник вопрос, нет ли в моей жизни других областей, где мне следовало критически разобрать подобные ошибки. Сколько правды я мог рассказать?
Нужно было также принять во внимание и источник. Саму Фелисити. В моей жизни она была отнюдь не безразличной фигурой. Она была такой же, как всегда. Часть ее тактики, в отличие от моей, была зрелой, мудрой и основанной на изрядном жизненном опыте. С тех пор как мы детьми играли вместе, сестра в определенной степени доминировала надо мной, хотя мне случалась добиваться временных успехов: например она была намного ниже меня ростом, или в подростковом возрасте я много узнал и казался куда опытнее, чем был на самом деле. Себе самой Фелисити казалась нормальной и считала, что значительно опередила меня. Я оставался холостым и жил в съемной квартире, а у нее уже была семья, собственный дом и мещанская респектабельность. Ее образ жизни не совпадал с моим, однако она считала само собой разумеющимся, что я к этому стремился, а поскольку я не достиг цели этого мелкобуржуазного честолюбия, присвоила себе право критиковать меня.
Ее поведение после приезда полностью противоречило моему привычному образу жизни: странная смесь опеки и критики; сестра не только не понимала меня, но и пыталась переиначить мою жизнь, перекроить ее наново.
Все это было в четвертой главе, и я подумал, что если опишу это, то наконец подведу черту под всей этой историей.
Она причинила-таки вред рукописи, поток моего вдохновения иссяк за несколько страниц до финала.
Фелисити беспощадно поставила под вопрос все, что я сделал, и в последних словах, которые я написал, содержалось доказательство тому. На листе бумаги было незаконченное предложение:
«… однако когда оглянулся …»
Что дальше? Я напечатал: «я увидел Сери – она ждала» и тотчас зачеркнул. Я хотел сказать другое – пусть это и были те слова, которые я намеревался написать, когда мне помешала Фелисити. Мотивация умерла вместе с продолжением.
Я праздно пролистал пачку страниц рукописи. Это была приятно толстая пачка гораздо больше двухсот страниц машинописного текста. Я с удовольствием смотрел на нее: это было доказательство моего существования.
Но теперь я задал себе вопрос: а что же я, собственно, сделал? Я искал правды, но Фелисити напомнила мне о тонкой и обманчивой природе этой правды. Она не умела видеть мою белую комнату.
Предположим, кто-то не примет мое изложение за правду?
Фелисити, конечно – если бы я позволил ей прочитать рукопись – не согласилась бы со мной. И Грейс тоже, если принять на веру слова Фелисити. Это, вероятно, дало бы мне другую версию тех же событий. Мои родители, будь они сейчас живы, вероятно сочли бы шокирующими некоторые воспоминания детства, которые я привел в своей рукописи.
Итак, правда была субъективной, но я никогда и не предполагал ничего иного. Моя рукопись не должна была быть ничем иным, кроме как честным изложением моей жизни. Я не претендовал ни на особые события, ни на оригинальность своего бытия. Я ни в коей мере не считал его необычным, разве что для меня самого. В рукописи было собрано все, что я о себе знал, все, что у меня было в этом мире. Нельзя было не согласиться с этим, ведь я изложил события так, как сам воспринимал их.
Я опять прочитал последнюю страницу и пробежал взглядом остальное. Постепенно я начал чувствовать, что хотел сказать. В фигуре Сери проступала Грейс на углу улицы, потому что…
Дверь заскрипела в пазах: кто-то толкнул ее плечом. Я услышал звук отодвигаемой щеколды, и в дом снаружи ворвался шум. В комнату вошла Фелисити с охапкой мокрых от дождя свертков.
– Я сварю обед, а потом ты оставишь свою работу. Джеймс думает, что будет лучше, если мы сегодня уже уедем в Шеффилд.
Я неверяще уставился на нее: не из-за ее слов, а из-за того, насколько точно она выбрала время для этого сообщения. С трудом верилось, что она ненамеренно могла дважды прервать мою работу на одном и том же месте.
Я окинул взглядом наполовину готовую вновь напечатанную страницу. Она была совершенно идентична той, которую я заменил.
Я медленно начал поворачивать валик. Лист выпал из каретки, и я сунул его под стопку других листов рукописи.
Я сидел молча и неподвижно, а Фелисити хлопотала на кухне. Она вымыла грязную посуду и поставила на плиту сковородку с двумя котлетами.
После еды я тихо сидел за столом, отодвинувшись от Фелисити с ее планами, мнениями, заботами. Ее нормальность была примесью сумасшествия в моей жизни.
Мне полагалось принять ванну, еще раз поесть и оставить в покое все то, что привело к смерти моего отца. Я отхлебнул кофе. На мой вкус, не блеск, но все же… Я не в состоянии позаботиться о себе, поэтому она должна забрать меня с собой. Я, например, должен был понимать, что пошел не по той дорожке, что сам отказался от человеческой жизни. В конце недели мы снова приедем в дом Эдвина – она, я и Джеймс, а также дети, и поработаем метлами, кистями и краской; мы с Джеймсом прополем запущенный сад и, если все пойдет как надо, сделаем этот дом пригодным для жилья и утешим Эдвина и Марджи, пригласив их сюда. Закончив здесь, мы – я, она и Джеймс – поедем в Лондон, но на этот раз, может быть, без детей, посетим Грейс, и Фелисити оставит нас вдвоем, чтобы мы смогли поговорить или сделать что-то, что покажется нам необходимым. В любом случае, я не должен снова напиваться. За этим она проследит лично. Все две или три недели мне предстоит ездить из Шеффилда в город, и мы будем подолгу гулять за городом по торфяным полям, а может, я даже съезжу за границу. Я же питаю особое пристрастие к Греции, не так ли? Джеймс сможет подыскать мне работу в Шеффилде или в Лондоне, если понадобится, и мы с Грейс будем счастливы вместе, поженимся, заведем детей…
Я сказал:
– О чем ты, собственно?
– Ты вообще не слушаешь?
– Посмотри, дождь перестал.
– О, Боже, нет! Ты невозможен!
Она закурила сигарету. Я представил себе, как дым наполняет мою белую комнату, осаждается на свежей краске и окрашивает ее в желтоватый цвет. Сигаретный дым достиг также страниц рукописи, окрасил их и оставил на них след присутствия Фелисити.
Рукопись была словно незаконченная музыкальная пьеса. Состояние незавершенности значило больше, чем ее существование. Как дополнительный аккорд, я искал развязку, окончательную звуковую гамму.
Фелисити собрала посуду, отнесла на кухню и сложила в мойку. Я взял рукопись и двинулся к лестнице.
– Ты идешь собирать вещи?
– Я не поеду с тобой, – ответил я. – Я хочу закончить свою работу.
Она вышла из кухни. С ее рук капала пена.
– Питер, все решено. Ты едешь со мной!
– Я займусь своей работой.
– Что ты вообще там понаписал?
– Я уже говорил.
– Позволь посмотреть!
Ее маленькая рука протянулась ко мне, и я крепче прижал к себе рукопись.
– Никто не будет ее читать.
Она отреагировала на это так, как я и ожидал: неодобрительно прищелкнула пальцами и покачала головой. Делал я что-нибудь или не делал, это не имело для нее никакого значения.
Я сидел в одиночестве на скатанном спальном мешке, что есть силы прижимая к себе рукопись. И готов был заплакать. Внизу Фелисити обнаружила пустые винные бутылки и что-то обвиняюще крикнула мне наверх.
Никто никогда не должен был прочесть мою рукопись. Это был мой личный мир, определение моего «я». Я рассказал историю, чтобы она была читабельна, переработал и дополнил ее, но предназначалась она только мне одному.
Наконец я спустился вниз и увидел, что Фелисити выставила мои пустые бутылки в маленький коридорчик у лестницы. Их оказалось так много, что я с трудом сумел перешагнуть через них, чтобы попасть в белую комнату. Там меня ждала Фелисити.
– Зачем ты принесла в дом эти бутылки? – спросил я.
– Ты же не можешь оставить их в саду. Что ты, собственно, обо всем этом думаешь, Питер? Хочешь упиться до смерти?
– Я здесь уже много месяцев.
– Мы должны найти кого-нибудь, кто бы их забрал. Когда приедем сюда в следующий раз.
– Я не поеду с тобой, – сказал я.
– Ты можешь жить в комнате для гостей. Дети весь день гуляют, а я оставлю тебя в покое.
– Да, конечно. Почему бы тебе не сделать этого сейчас же?
Она уже собрала часть моих вещей и отнесла в багажник своего автомобиля. Потом закрыла все окна, закрыла водопроводные краны и вывернула пробки. Я молча наблюдал за этим, крепко прижав рукопись к груди. Все пошло прахом. Слова остались недописанными. Я слышал воображаемую музыку: звучал доминант-септаккорд, во все времена определявший звуки марша. Мелодия начала запинаться, как бывает с пластинкой, когда игла буксует на звуковой дорожке и музыку внезапно прерывают щелчки. И тотчас же игла адаптера в моей душе достигла последней внутренней бороздки, чтобы многозначительно проследовать дальше и равнодушно пощелкивать – тридцать три раза в минуту. Наконец кто-то поднял адаптер и на меня навалилась тишина.
Глава пятая
Внезапно корабль залил солнечный свет, и я словно бы внезапно порвал с тем, что оставил позади. Я заморгал, глядя на сияющее небо, и увидал: восходящий от суши поток теплого воздуха коснулся облачного слоя, и облака поплыли вдоль берега, образовав четкую линию с востока на запад. Впереди ясное голубое небо сулило вёдро и спокойное море. Мы скользили на юг, словно гонимые холодным ветром, который порывами дул нам в корму.
Мои чувства обострились, и новое осознание расширилось во мне самом, словно все больше нервных связей тянулось к этим органам чувств. Я открыл самого себя.
Пахло соляркой, морской солью, рыбой. Холодный ветер добрался до меня, хотя я был защищен палубной надстройкой; моя городская одежда казалась здесь слишком тонкой и убогой. Я глубоко вдохнул воздух и на секунду задержал в себе, словно то был чистый бальзам, который очистит меня изнутри, освежит душу, омолодит и вновь вдохновит, прежде чем я на выдохе вновь выпущу его. Палуба под ногами вибрировала от работы машины. Я ощутил качку корабля на мертвой зыби, но мое тело приспособилось и вновь обрело равновесие.
Я отправился на нос и там обернулся.
На маленьком фордеке осталась только горстка пассажиров. В подавляющем большинстве это были пожилые супружеские пары; они стояли у поручней или сидели рядышком – в штормовках, куртках или непромокаемых плащах и, казалось, не смотрели ни вперед, ни назад, а только внутрь себя. Я посмотрел мимо них, мимо палубной надстройки, мимо трубы и мачт, туда, где чайки свободно парили за кормой, на берег, который мы покинули. Корабль, выйдя из порта, описал широкую дугу, и теперь была видна большая часть Джетры. Город далеко протянулся вдоль берега, защищенный барьером молов, верфями, кранами и пакгаузами, заполняющими широкое устье реки. Я попытался представить себе, как там, без меня, продолжается повседневная жизнь, и мне показалось, что после моего отплытия она полностью замерла. Так я себе представлял Джетру.
Впереди ждал один из портов, куда мы должны были зайти: Сиэл, на чье просторное побережье никогда еще не ступала моя нога. Сиэл был ближайшим островом Архипелага Мечты и моя жизнь, к сожалению, давно стала всего лишь частью этой мечты. Темный, гористый, почти безлесный Сиэл заполнял горизонт южнее Джетры, но для всех жителей, кроме тех, у кого там были родственники, он был запретным. Политически этот остров входил в состав Архипелага, который на протяжении всей войны сохранял нейтралитет. Сиэл был только ближайшим, первым из его островов; за ним из моря поднимались еще десять тысяч нейтральных островов.
Мне хотелось, чтобы корабль плыл быстрее: хотя Джетра и осталась позади, пока корабль следовал по мелководью дельты фарватером, обозначенным буями, мне казалось, что путешествие по-настоящему не началось. Перед нами поднимался мыс Стромбл с его огромными, потрескавшимися утесами, восходящими прямо из моря, – как только мы обогнем этот мыс с востока от Сиэла, перед нами откроется неизвестный чужой мир.
Я нетерпеливо ходил по палубе взад и вперед, разозленный тем, как медленно проходит первый этап плавания, дрожа на холодном морском ветру, разочарованный своими соседями-пассажирами. Еще не поднявшись на борт, я было вообразил, что, кроме экипажа, почти все окажутся людьми примерно моего возраста, однако выяснилось, что здесь публика уже преклонного возраста. Они, казалось, были заняты только собой и, вероятно, направлялись к новым местам жительства; одним из немногих законных способов путешествовать была покупка дома или квартиры на одном из дюжины островов, где было позволено селиться иностранцам.
Наконец мы обогнули мыс и вошли в бухту города Сиэла. Джетра и ее побережье исчезли из вида.
Я напрасно ожидал, что мне удастся поближе познакомиться с этим городом Архипелага и получить удовольствие от его посещения, как от городов на других островах: Сиэл разочаровал меня. Серые каменные дома неровными рядами поднимались на огибающие бухту склоны, одноцветные, беспорядочно застроенные и мрачные. Легко было представить себе этот город зимой: закрытые двери, закрытые ставни. Шиферные крыши блестят от холодного дождя, редкие кутающиеся в пальто прохожие сгибаются под ударами морского ветра, отдельные фонари освещают кажущуюся безжизненной улицу. Я спросил себя, есть ли на Сиэле электричество, или водопровод, или автомобили. На узких улочках в окрестностях гавани я не заметил никакого движения, но эти улочки были мощеными. Город Сиэл очень напоминал малочисленные деревни на севере Файандленда. Бросающаяся в глаза разница заключалась в том, что из большинства каменных труб поднимался дым; это было ново: в Джетре и во всем Файандленде существовали строгие законы против загрязнения воздуха.
В Сиэле никто из пассажиров не покинул корабль, и наше прибытие привлекло мало внимания горожан. Через несколько минут после того, как мы пришвартовались у оконечности мола, от таможенной конторы к нам медленно направились двое мужчин в форме; они поднялись на борт. Это были служащие Управления Эмиграции, что стало ясно каждому, едва прозвучал приказ всем пассажирам собраться на нижней палубе. Когда я увидел всех пассажиров разом, мое предположение, что на борту очень мало молодых людей, подтвердилось. Пока мы стояли в очереди на проверку виз, я подумал, что девятидневное путешествие до Марисея, где я должен был сойти на сушу, мне придется провести в одиночестве. В очереди за мной стояла молодая женщина – мне показалось, ей лет двадцать с небольшим, – но она читала книгу и как будто бы интересовалась только этим.
Я рассматривал свое путешествие по Архипелагу Мечты как разрыв с прошлым, как начало новой жизни, однако, по-видимому, первые дни сулили мне частичную изоляцию, к которой мне следовало бы привыкнуть в Джетре.
Мне повезло. Все знакомые твердили мне об этом и даже я сам в это поверил. Сначала меня все поздравляли и даже устроили торжество. Но сразу же я все больше стал чувствовать себя отрезанным от них. Когда наконец пришло время покинуть Джетру и начать путешествие по Архипелагу Мечты, чтобы получить свой выигрыш, я рад был ретироваться, отплыть. Я радовался путешествию, жаре тропиков, чужой речи и жизни по чужим обычаям. Однако теперь, когда путешествие началось, я почувствовал, что мне необходимо приятное общество.
Я воспользовался случаем и заговорил с женщиной, стоявшей позади меня, но она ограничилась вежливой улыбкой и снова устремила взгляд в книгу.
Подошла моя очередь, и я отдал свой паспорт. Я уже раскрыл его на той странице, где Высокая Комиссия Джетры поставила визу, но служащий закрыл ее и пролистал паспорт с начала до конца. Другой, сидящий возле него, уставился мне в лицо.
Служащий сравнил фотографию и прочитал мои данные.
– Роберт Питер Синклер, – сказал он и в первый раз посмотрел на меня.
Я подтвердил это кивком. Меня пленил его подлинный островной выговор, который я услышал впервые. Он произносил мое имя растягивая гласные – что-то вроде «Пиитер». Раньше такой акцент я слышал только в одном фильме, у актеров; теперь, когда я услышал его снова, у меня появилось ощущение, что этот человек намеренно коверкает слова, чтобы подбодрить меня.
– Куда вы направляетесь, мистер Синклер?
– Сначала на Марисей.
– А потом?
– Коллажо, – сказал я и подождал его реакции.
Он, казалось, ничего не заметил.
Я полез в нагрудный карман и вытащил оттуда бумажник с тонкой пачкой отпечатанных бумаг и билетом, выданным мне судоходной компанией, но он махнул рукой.
– Не это. Лотерейный билет.
– Конечно, – сказал я, досадуя на свою недогадливость, хотя это была вполне понятная ошибка. Я вытащил из внутреннего кармана портмоне. – Номер указан в визе.
– Я хочу видеть сам билет.
Я нащупал сложенный и засунутый в самое дальнее отделение портмоне билет и после нескольких секунд опасливых колебаний вытащил его. Никто не подготовил меня к тому, что придется показать билет проверяющим.
Я отдал его служащим, и те подвергли его тщательной проверке, скрупулезно сравнив номер с тем, что был указан в моем паспорте. Убедившись наконец в его подлинности, они вернули мне билет, и я снова спрятал его в портмоне.
– Что вы намерены делать, когда покинете Коллажо?
– Еще не знаю. Как я слышал, предстоит долгий период выздоровления. Я думаю, тогда все и спланирую.
– Вы намереваетесь снова вернуться в Джетру?
– Еще не знаю.
– Хорошо, мистер Синклер, – он проставил дату в предназначенном для этого месте под визой, закрыл паспорт и передвинул его по столу ко мне. – Вы счастливчик.
– Я знаю, – механически ответил я, хотя сильно сомневался в этом.
К столу подошла женщина, стоявшая позади меня, а я отправился в бар, находившийся на той же палубе. Многие из пассажиров, которых я видел в очереди перед собой, были уже там. Я заказал двойной виски и протиснулся к стойке. Скоро у меня завязалась беседа с пожилой супружеской парой, которая хотела отдохнуть на Марисее. Это были образованные и, по-видимому, состоятельные люди по имени Торрин и Деллидуа Сейэм, родом из университетского городка Старый Хайдилл на севере Файандленда. Они купили в одной из деревень под Марисеем домик-люкс с видом на море и пообещали мне показать его фотографию, когда в следующий раз выйдут из своей каюты.
Они казались дружелюбными и ненавязчивыми и постоянно подчеркивали, что домик-люкс на этом острове Архипелага обошелся им не дороже, чем дом на родине.
Я несколько минут поговорил с ними, но тут в бар вошла молодая женщина, которая стояла в очереди сразу за мной. Бросив в мою сторону быстрый взгляд, она заказала выпивку. Она встала со своим стаканом возле меня и, как только супруги Сейэм сказали, что хотят спуститься к себе в каюту, повернулась и заговорила со мной.
– Надеюсь, не произошло ничего страшного, – сказала она. – Я случайно услышала, о чем говорили служащие. Вы действительно выиграли в Лотерею?
Я инстинктивно перешел к обороне.
– Да.
– Впервые вижу человека, которому удалось выиграть в нее.
– Я тоже, – сказал я.
– Не думала, что все это по-настоящему. Я целый год покупала лотерейные билеты, но мне ни разу не выпадал выигрышный номер, и я решила, что все это сплошное мошенничество.
– Я купил билет один-единственный раз и сразу выиграл. И все еще не могу в это поверить.
– Вы можете показать мне выигрышный билет?
С той недели, как распространилась новость о том, что мне достался Главный выигрыш Лотереи, многие просили показать им билет, словно, если они увидят и прикоснутся к счастливому билету, к ним могла перейти удача. Билет мой был порядочно захватан и надорван, но я вынул его из портмоне и показал.
– И вы купили этот билет самым обычным образом?
– В киоске в парке.
Это произошло в чудесный день на исходе лета: я ждал кого-то у входа в Сеньор-парк и, пока прогуливался туда-сюда, мой взгляд упал на киоск, где продавались лотерейные билеты. Такие киоски, в которых можно купить лотерейные билеты всех видов, были обычным делом в Джетре и в других крупных городах мира. Продажу лотерейных билетов обычно поручали инвалидам или раненым, пришедшим с войны. Каждый месяц служащие компании поручали им продать сто тысяч лотерейных билетов, но самое странное заключалось в том, что я редко видел кого-нибудь, кто стоял бы у киоска и покупал билеты. Рассказывать о покупке билета было не принято, хотя почти всем, кого я знал, за свою жизнь довелось приобрести хотя бы пару билетов, а в дни, когда публиковались таблицы выигрышей, на улицах всегда стояло много людей с раскрытыми газетами и просматривало таблицы.
Хотя участие в обычной лотерее меня никогда особенно не интересовало, на главный выигрыш в лотерее Коллажо нельзя было не обратить внимания, и он всегда приводил меня в некоторое возбуждение. С другой стороны, шансы выиграть в лотерею, особенно в эту, были так ничтожно малы, что я никогда всерьез не думал принимать участие в игре. Но в тот особенный день, когда я праздно прогуливался по парку, мое внимание привлек продавец лотерейных билетов. Это был инвалид войны, молодой парень, вероятно, лет на десять моложе меня, который в своем мундире неподвижно сидел за окошком крошечного киоска. Его раны выглядели весьма скверно: он потерял глаз и руку, а его шею и голову поддерживал опорный корсет. Движимый беспомощным, отчасти виноватым сочувствием штатского, которому удалось избежать призыва, я подошел и купил один билет. Сделка совершилась быстро, я же почувствовал себя не совсем удобно, словно покупал порнографический журнал или нелегальные наркотики.
Двумя неделями позже я обнаружил, что на мой билет пал главный выигрыш. Мне становилось доступно лечение, приносящее бессмертие, после чего я буду жить вечно. Потрясение и удивление, недоверие и лихорадочная радость – такова была моя первая реакция, и теперь, спустя несколько недель с тех пор, как узнал эту новость, я все еще не мог в полной мере представить себе свою будущую жизнь.
Существовал обычай, согласно которому выигравший в лотерею, даже если он выиграл только деньги, возвращался туда, где купил свой выигрышный билет и делал продавцу подарок. Я тоже – сразу, еще прежде, чем сообщил организаторам Лотереи о своем выигрыше – отправился в парк, но маленький киоск был закрыт, а другие продавцы ничего не знали. Позже в справочном бюро Лотереи я узнал, что инвалид, продавший мне билет, через несколько дней после этого умер; отсутствие руки и глаза и жутко вытянутая шея были только видимыми повреждениями.
Управление Лотереи утверждало, что каждый месяц дается двадцать главных выигрышей, однако я знал очень малое число выигравших. Одна из причин такого расхождения стала мне известна, когда я сообщил в Управление о своей удаче. Мне посоветовали быть сдержаннее и не распространяться о выигрыше и предупредили о нежелательности интервью. Хотя Лотерея Коллажо в принципе приветствовала гласность во всех ее проявлениях, опыт показал, что выигравшие из-за этого могут подвергнуться опасности. Мне рассказали, что победители Лотереи, чьи имена по неосторожности или из-за желания славы стали известны публике, подвергались нападениям на улицах; уже произошло несколько случаев такого рода, трое выигравших были убиты.
Другой причиной был международный характер лотереи, которая распространяла билеты повсюду, и только небольшая часть выигравших жила в Файандленде. Билеты продавались во всех странах Северного Континента и по всему Архипелагу Мечты.
Служащие бюро Лотереи снабдили меня бумагами и информацией и помогли уладить все мои остальные дела. Я несколько дней размышлял о горах бумаг и бюрократах, с которыми придется иметь дело, если все это буду делать сам, а потом поступил так, как мне предложили. С этого мгновения я полностью оказался в их руках. Мне помогли утрясти дела в Джетре, уволиться с работы и съехать с квартиры; свои скудные сбережения и вклады я перевел на текущий счет; меня снабдили визой и забронировали мне место на корабле. Бюро обязалось вести мои дела и дальше, до моего возвращения. Я стал беспомощной марионеткой их организации, марионеткой, неудержимо приближающейся к Клинике бессмертия на острове Коллажо.
Молодая женщина вернула мне выигрышный билет, я сложил его и убрал в портмоне.
– И когда начнется лечение?
– Не знаю. Вероятно, вскоре после моего прибытия на Коллажо. Но я еще окончательно не решил.
– Правда? Вы сомневаетесь?
– Нет, но я все еще не определился окончательно.
Постепенно мне стало неудобно разговаривать о таких вещах в полном неизвестных мне людей баре. В минувшие недели я, к скуке своей, выслушал множество чужих мнений и предположений по поводу главного выигрыша и, поскольку, как и остальные, не зная почти никаких подробностей, все время говорил об этом и задавал вопросы.
Я полагал, что во время долгого, неспешного плавания по этому миру островов у меня будет возможность подумать, и надеялся, что успею разрешить все сомнения. Море и острова давали мне пространство, время и досуг. Но корабль все еще стоял на якоре в Сиэле, а Джетра находилась в часе пути отсюда.
Может быть, женщина почувствовала мою сдержанность, потому что представилась. Ее звали Матильда Энглен, и у нее была докторская степень в биохимии. Она заключила двухгодичный контракт с одной из сельскохозяйственных исследовательских групп на острове Семелл и некоторое время рассказывала о проблемах островов. Из-за войны в некоторых частях Архипелага возникли трудности со снабжением продовольствием. Но, кроме того, на множестве незаселенных островов были основаны сельскохозяйственные поселения, которые только теперь начали давать прибыль. Однако им не хватало посевного материала, рабочей силы и машин. Они специализировались на выращивании зерновых, и к этому времени в большинстве своем – принимая во внимание климатические условия на островах – развивались неплохо. Матильда сомневалась, хватит ли двух лет исследовательской работы, однако было предусмотрено продление договоров на следующий двухлетний период.
В бар приходило все больше пассажиров, прошедших проверку, и когда мы опустошили свои стаканы, я предложил пойти пообедать. Мы пришли в обеденный зал первыми, но обслуживание было медленным, а еда довольно скверной. Главное блюдо состояло из листьев пагуа, фаршированных рубленой рыбой с пряностями; при всей остроте специй блюдо, когда его нам подали, было чуть теплым. В Джетре я частенько ел в ресторанах, специализировавшихся на кухнях различных островов, и привык к такой пище, но в столице между ресторанами существовала сильная конкуренция в качестве приготовления блюд и обслуживания. На борту корабля такой конкуренции не было. Поначалу, разочарованные, мы не видели никакого смысла в том, чтобы жаловаться на это, и полностью сосредоточились на беседе.
Пока мы обедали, корабль отплыл и путешествие продолжилось. Я поднялся на ахтердек и стоял на солнышке у поручней, наблюдая, как темные очертания Сиэла, тающие в дымке, остаются далеко позади. Ночью мне приснился яркий сон, в котором Матильда играла главную роль, и, снова увидев ее на завтраке, я стал воспринимать ее несколько иначе.
Глава шестая
Корабль направился на юг, день ото дня становилась теплее, а у меня не было времени взвесить все «за» и «против» главного выигрыша. Меня отвлекали постоянно меняющиеся панорамы островов, да и Матильда все больше занимала мои мысли.
Я действительно не ожидал, что с кем-нибудь познакомлюсь на борту, однако со второго дня пути почти непрерывно думал только о Матильде. Она, казалось, была рада моему обществу и польщена моим к ней интересом, но и только. Я должен был признаться себе, что настойчиво преследую ее, и наконец это начало меня мучить. Вскоре мне стало трудно придумывать предлоги, которые позволили бы мне быть с ней; к сожалению, она была из тех женщин, кому нужны такие предлоги. Во всяком случае, приходя к ней, я должен был предложить ей что-нибудь новое: стаканчик в баре, прогулку по палубе, короткую вылазку на сушу в ближайшем порту. Но, невзирая на эти с таким трудом найденные предлоги, она регулярно находила причины для отказа: небольшой послеобеденный сон, необходимость вымыть голову, письмо, которое надо дописать. Я знал, что она все еще не интересуется мной по-настоящему, как и я ею, но не видел в этом причин создавать трудности.
Конечно, часть времени мы неизбежно проводили вместе. Мы были примерно одних лет – ей был тридцать один год, на два года больше, чем мне, – оба жили в столице и даже принадлежали к одному социальному слою. Ее тоже угнетало большое количество пожилых супружеских пар на борту, однако в отличие от меня она со многими подружилась. Я находил ее интеллигентной и остроумной, а в легком хмелю она обнаруживала неожиданные для нее глубокомыслие и чувство юмора. Эта стройная блондинка много читала, в Джетре проявляла сдержанную активность (мы обнаружили, что у нас есть общие знакомые) и в некоторых случаях, когда длительные остановки давали нам возможность совершать недолгие вылазки на берег, обнаружила хорошую осведомленность об обычаях отдельных островов.
Сон, взволновавший мои чувства, был одним из тех редких снов, которые помнишь после пробуждения. Он был сравнительно прост. Я был с молодой женщиной, в которой легко было узнать Матильду, на одном из островов, и мы были влюблены друг в друга.
Когда я утром увидел Матильду, я ощутил такой сильный прилив чувств и спасительного тепла, что мне показалось, будто мы знакомы уже много лет, а не один день. Вероятно от удивления она отреагировала столь же тепло, но мы ничего не смогли поделать, и каждый из нас вновь вернулся к своей роли: я преследовал ее, а она уклонялась – с прежним упорством, тактом и осторожным юмором.
Другим моим главным занятием на борту было открывать острова. Я не уставал стоять у поручней, любоваться постоянно меняющейся картиной, а частые остановки в портах по курсу следования давали мне возможность делать интересные наблюдения.
Стену большой кают-компании украшала огромная стилизованная карта Срединного моря со всеми основными островами и маршрутами кораблей. Тут впервые открывалось все необозримое многообразие Архипелага и необычно большое количество островов, открывалось – и ошеломляло: как экипажи кораблей могут столь уверенно вести суда в этих водах! Кроме того, навигация здесь была очень оживленной: за один день, проведенный на палубе, я видел примерно два-три десятка грузовых судов, пару пассажирских пароходов вроде нашего и бесчисленное множество мелких судов, обеспечивающих сообщение между соседними островами. Вокруг некоторых островов плавало множество прогулочных яхт и парусников, а также, как и повсюду, знакомые флотилии рыболовецких баркасов.
В общем и целом можно сказать, что пересчитать все острова Архипелага невозможно, ведь их более десяти тысяч. В Срединном море протяженность его давно измерена и острова нанесены на карты, однако, кроме населенных и крупных ненаселенных островов, существовали крошечные островки, рифы и скалы, которые временами то появлялись, то исчезали.
На обзорной карте было видно, что острова южнее Джетры принадлежали к группе Торкви; главного острова этой группы, Дерилла, мы должны были достигнуть на третий день. Еще южнее находилась небольшая группа островов под названием Серквес. Острова эти развитием техники и географически были связаны воедино, но каждый из них, хотя бы теоретически, в политическом и хозяйственном отношении был независим от остальных.
Срединное море опоясывало планету по экватору, однако по площади было значительно больше, чем оба континентальных массива, на севере и на юге. В одном месте море подходило почти вплотную к южному полюсу, а в северном полушарии на материке находилась страна под названием Комлин, одна из тех, с которыми мы постоянно воевали, чья территория простиралась на юг до экватора; нужно сказать, что континент этот находился в умеренной зоне, тогда как на большинстве островов климат был тропический.
Анекдотический факт, который изучали в школах на Архипелаге Мечты, – и другие пассажиры часто повторяли его – состоял в том, что острова были так многочисленны и так близко расположены друг к другу, что с любого острова видны были по меньшей мере семь других. Я никогда не сомневался в этом, но теперь решил, что это, вероятно, преуменьшение: ведь с относительно низко расположенной палубы я зачастую мог видеть больше дюжины различных островов.
Можно было удивительно живо представить себе, что я всю жизнь мог провести в Джетре, так никогда и не узнав этот чужой для меня край. В двух днях пути от Джетры у меня появилось чувство, что я попал в какой-то другой мир. И все же до родины было ближе, чем до горных перевалов на севере Файандленда.
Если двинуться дальше на юг, запад или восток по Архипелагу, можно месяцами плыть на корабле и все время наблюдать такое же разнообразие, многообразие, которое невозможно описать, невозможно даже представить. Острова большие, маленькие, скалистые, плодородные, гористые и низменные; эти простые вариации целыми днями сменяли друг друга то по правому, то по левому борту. Огромное количество красивейших видов притупляло чувства, а фантазия усиливала увиденное. Мне острова представлялись картинками на панораме, так спокойно и ровно плыл меж ними корабль, картинками со множеством деталей, тщательно выписанных.
Но мы заходили в порты, и тогда впечатления дня наслаивались друг на друга.
Наши короткие посещения островов были регулярными и реальными событиями, они прерывали монотонное течение времени на борту. Порты давали все: как меня научили, я отказался от попыток питаться или спать по часам. Спать стоило только в море, корабельные машины работали в мерном, усыпляющем ритме. Есть было выгоднее в ресторане в то время, когда там обедал экипаж.
Корабль всегда выжидал до полудня или полуночи, а его прибытие в порт, очевидно, было не столь уж рядовым событием. На большинстве островов на пирсах нас ждали толпы людей, а позади них стояли ряды грузовиков и телег, чтобы забрать груз и почту, которые мы привезли. Потом происходил хаотический обмен пассажирами, который сопровождался приходами и уходами, бесконечными громкими спорами, приветствиями, сценами прощания и передачей в последнюю минуту известий, которые выкрикивались с берега и на берег. Все это вносило беспокойство в нашу чрезвычайно мирную жизнь. В портах мы вспоминали о том, что мы – на борту корабля, транспортного средства, перевозящего грузы и людей, пришедшего издалека и вторгшегося во внутриостровную жизнь.
Когда было возможно, я сходил с корабля в порту и отправлялся на небольшие прогулки по маленьким островам. Мои впечатления были поверхностными, и я вел себя как турист, который охотится за достопримечательностями и памятниками искусства, а также за красивыми видами и у него нет времени посмотреть на людей. Но Архипелаг не был предназначен для туристов и в городах не было ни гидов, ни обменных пунктов, ни музеев местной культуры. Кое-где я пытался купить открытки с видами, чтобы послать домой, но когда наконец нашел искомое, то узнал, что почту на север отправляют только по особому разрешению. После многих блужданий мне удалось самостоятельно уяснить ряд особенностей: использование для пересчета архаичной, основанной не на десятичной системе счисления валюты, разницу между различными сортами хлеба и мяса, которые здесь продавались, и кулачное право.
Иногда на этих экскурсиях меня сопровождала Матильда, и ее присутствия было достаточно, чтобы я не сразу начинал замечать окружающее. Я знал, что напрасно теряю с ней время, однако сопротивляться ее очарованию не мог. Я думаю, нам обоим стало легче – в моем случае это был извращенный вид облегчения – когда на четвертый день мы зашли в гавань Семелла на острове того же названия и Матильда сошла с корабля. На прощание мы заключили что-то вроде договора, и в ее голосе не было и следа неискренности. Когда она сошла на берег, я стоял у поручней и смотрел, как она идет по бетонным плитам пирса. Светлые волосы блестели на солнце. В конце пирса ждала машина. Мужчина, ждавший Матильду, погрузил в багажник ее чемодан, и, прежде чем сесть в машину, она еще раз повернулась и коротко махнула мне рукой. Потом она уехала.
Семелл был сухим островом. На каменистых холмах росли оливы. В скудной тени сидели старики; где-то позади них я услышал крик осла.
После Семелла корабль и это богатое остановками и поворотами путешествие начали мне надоедать. Мне наскучили размеренность жизни и однообразные звуки: звон якорных цепей, непрекращающийся пульсирующий гул машин и насосов, говоры – язык вывихнешь – пассажиров. Еда на борту мне показалась дрянной, я отказался от обедов в судовой столовой и вместо этого во время стоянок на островах покупал свежий хлеб, вареное мясо, овощи и фрукты. Я много пил. Редкие беседы, которые я вел с другими пассажирами, были пустячными, бессодержательными, а темы их все время повторялись.
На борту корабля я вдруг стал было чрезвычайно восприимчив, впитывал новые впечатления, открывал все новые острова Архипелага. Но теперь начал сознавать разлуку с домом, друзьями и семьей. Я вспомнил последний разговор с отцом вечером накануне отплытия из Джетры: он был против, боялся, что после лечения я решу остаться на острове.
Но я слишком много отдал своему выигрышу и теперь постоянно спрашивал себя, правильно ли поступил, приняв такое решение.
Часть ответа содержала рукопись, написанная предыдущим летом. Я взял ее с собой, спрятал в чемодан и ни разу еще не перечитывал. Описание моей жизни, в котором я рассказал правду о себе, стало моей единственной целью.
С того долгого лета в холмах Муринана над Джетрой началась спокойная фаза моей жизни, в которой я не знал ни волнений, ни страсти. Мои любовные связи были поверхностными, я оброс множеством новых знакомых, но не приобрел друзей. Страна была царством неуплаченных долгов, она не могла дать настоящей инженерной работы, и я снова начал работать за жалованье.
Рукопись тоже не требовала от меня никаких усилий. Ведь в ней была только правда. Это было нечто вроде пророчества в том чистом смысле, что это был свод знаний. При этом я надеялся где-нибудь на ее страницах найти доказательства или совет, которые объяснили бы мне, как поступить с выигрышем. Я нуждался в таком совете, поскольку не имел никаких логических оснований отказываться от приза. Мои опасения шли изнутри.
Но когда корабль вошел в жаркие широты, меня охватила душевная и физическая леность. Я оставил рукопись в каюте и отложил на потом все мысли о ней и о выигрыше.
На восьмой день путешествия мы вышли в открытое море. Ближайшая группа островов на южном горизонте скорее угадывалась, чем была видна: прерывистая, едва заметная темная линия. Это море представляло собой одну из географических границ, а к югу от него находились маленькие Серквасы, к которым принадлежал и Марисей.
Перед Марисеем корабль сделал только одну остановку, а на следующей день сразу же после полудня мы увидели остров.
После великого множества островов, которые мы оставили за кормой, прибытие на Марисей показалось подходом к берегу континента. Берег протянулся в серо-голубую даль насколько хватал глаз. Темно-зеленые холмы, изрезанные дорогами, которые перекидывались виадуками над узкими долинами, спускающимися к побережью. По ту сторону их, почти на горизонте, как мне показалось, возвышался коричневато-пурпурный горный массив, чьи вершины окутывали облака.
Корабль плыл вдоль густонаселенного побережья, щетинившегося новейшими высотными зданиями, украшенного башнями отелей и жилых домов. Берег у их подножия кишел купальщиками и солнцезащитными зонтиками, полотняными навесами кафе и ресторанчиков. Я одолжил подзорную трубу и теперь разглядывал Марисей и проплывающий мимо берег. По-видимому, Марисей соответствовал стереотипу южного рая для отпускников из фильмов и плохих романов. В Файандленде Марисей слыл местом пребывания праздного зажиточного класса, любящего солнечное тепло, краем эмигрантов, державших в своих руках хозяйственную и общественную жизнь, эксплуататоров местного населения, ограничивающих его свободу и угнетающих его. Представления о прогрессе цивилизации мало касались островов Архипелага и были редки; подходящим условием для бойкой торговли была прежде всего светская обстановка густонаселенного побережья, как, например, здесь, на Марисее. Женские романы и приключенческие фильмы часто изображали на своих страницах и в кадрах этот немного экзотический мир мечты, где действие разыгрывалось на фоне отелей-люкс, казино, моторных яхт, многочисленных баров и спрятанных в густой зелени бунгало. Местные жители подавались как хищники, продажные простофили, и только для колорита; героями этих книг и фильмов были богатые, ищущие наслаждений бездельники или безумцы-интриганы. Конечно, я понимал искусственность и ложность таких в них представлений, но, тем не менее, в них чувствовалась некая внушительность.
Поэтому, увидев, наконец, остров, более чем развитый в хозяйственном отношении, я испытал некое раздвоение чувств. Часть моего сознания все еще была способна к восприятию, любопытна и пыталась оценивать объективно. Но другая часть, глубоко укоренившаяся и более иррациональная, чем первая, не позволяла рассматривать бетонный берег Марисея как мишурный блеск и плод воображения.
Итак, берега острова кишели богатыми бездельниками, которые загорали в лучах вечно летнего солнца Марисея. Все они скрывались от уплаты налогов, искали любовных приключений, были попрошайками, мошенниками и мрачными личностями, добывающими средства к существованию из темных источников. Элегантные яхты стояли у пирсов яхт-клубов или на якорях у берега; они служили подмостками для ночных искателей счастья, преступников, крупных торговцев наркотиками, повес и шикарных девок, продажных и ослепительных. Я представил себе грязные лачуги и деревянные лавки местного населения, укрытые за блестящими фасадами отелей и домов с квартирами-люкс; эти лачуги и их владельцев богатые граждане-эмигранты презирали, но, оторвав местное население от его прежней жизни, поневоле заставляли аборигенов вести паразитическую жизнь лакеев и слуг. Точь-в-точь, как в фильмах, точь-в-точь, как в одобренных властями книжках в бумажных переплетах, которые заполняли полки книготорговцев в Джетре.
Торрин и Деллидуа Сайанхем вышли на палубу и стояли у поручней чуть в стороне от меня. Они тоже с интересом смотрели на берег, снова и снова показывая на различные здания и о чем-то возбужденно переговариваясь. Романтика приключений для меня тотчас потускнела, я подошел к ним и вернул подзорную трубу. В большинстве вилл и жилищ, конечно же, жили порядочные обычные люди, такие как Сайанхемы. Я некоторое время постоял возле них, слушая их возбужденный разговор, который неотступно вращался вокруг их новой родины и новой жизни. Брат Торрина и его жена уже жили здесь. Они жили в той самой деревне и уже позаботились о постройке и обустройстве жилища.
Через некоторое время я вернулся на нос корабля и продолжил наблюдения. Здесь холмы спускались до самого моря, где они обрывались крутыми каменными стенами. Строения исчезли, и вскоре мы миновали побережье, которое по своей первозданной дикости превосходило все, что когда-либо я видел. Корабль плыл у самого берега, и в подзорную трубу я мог видеть птиц на ветвях деревьев, росших по краям утесов.
Мы достигли того, что сначала показалось мне устьем реки и корабль медленно поплыл вверх по течению. Пронизанная щедрыми лучами солнца вода здесь была глубока и спокойна, потрясающего бутылочно-зеленого цвета. Оба берега реки покрывал густой тропический лес, совершенно неподвижный в тихом воздухе.
Однако через несколько минут плавания по этому каналу я понял, что это не река, а пролив между островом отдыха и соседним островом, заслоняющим широкую, тихую лагуну, за которой был виден широко раскинувшийся город Марисей.
Теперь, когда путешествию пришел конец, я почувствовал странную неуверенность. Корабль стал символом безопасности и постоянства, чем-то вроде второй родины; он давал мне прибежище и кормил, на него я с благодарностью возвращался после того, как отваживался сойти на берег. Я привык к кораблю и теперь смотрел на него как на жилище, которое оставил в Джетре. Покинуть его было шагом в нечто чуждое. До сих пор я лишь смотрел на проплывающие мимо пейзажи островов, а теперь должен был сойти на берег и вступить в незнакомый мир.
Это было возвращение к моему прежнему «я», которое я незаметно потерял, поднявшись на борт корабля. Я чувствовал необъяснимую нервозность и страх перед Марисеем – без всяких видимых причин. Это было всего лишь место пересадки, транзитный порт. Кроме того, в Марисее меня ждали. У Лотереи Коллажо было здесь бюро, которое должно было организовать для меня следующий этап путешествия.
Пока корабль причаливал, я стоял на корме, потом пошел в каюту. По дороге я встретил Сайанхемов, которые попрощались, благословив меня и пожелав мне счастья. Десятью минутами позже я волок свой чемодан по пирсу и оглядывался в поисках такси, которое отвезло бы меня в город.
Глава седьмая
Бюро Лотереи Коллажо находилось на теневой стороне улицы, в десяти минутах езды от порта. Я рассчитался с шофером, и он быстро уехал, пыльный лимузин подпрыгивал и гремел на неровной, мощенной булыжником мостовой, потом достиг конца ярко освещенной улицы, повернул и исчез в беспорядочном потоке проносящихся мимо машин.
На улицу Бюро Лотереи открывалось двумя огромными стеклянными дверями. Я заглянул внутрь и в глубине помещения, наполовину скрытого растениями в кадках, увидел письменный стол и несколько шкафов с документацией. Там сидела женщина и листала журнал. Я хотел войти, но дверь была заперта. Молодая женщина подняла взгляд, кивнула мне и встала. Я увидел, что она прихватила с собой связку ключей.
Всего несколько минут отделяли меня от сонного, медленного ритма жизни на борту корабля, но, едва попав в Марисей, я уже испытал нечто вроде культурного шока. Ничто из виденного мной на других островах не подготовило меня к этому деловому, жаркому и шумному городу, не похожему ни на один из городов, которые я знал на своей родине.
В Марисее, казалось, царил хаос из автомобилей, людей и шума. Все пешеходы двигались удивительно быстро и с таинственной целеустремленностью. Машины и мотоциклы мчались так стремительно, как никогда не осмеливались в Джетре, и движение было непрерывным чередованием визга тормозов при полной остановке, мгновенного безоглядного разгона, резких поворотов и неожиданной смены направления. Все это сопровождалось непрерывным концертом гудков. Двуязычные указатели не образовывали никакой видимой системы, какую можно было встретить в других местах. Большинство магазинов здесь отличались от соответствующих торговых заведений Джетры, а товары в живописном беспорядке были выставлены прямо на тротуарах. В переулках и сточных канавах валялись картонки и бутылки. Те люди, которые не спешили по своим неизвестным делам, праздно загорали на солнце, расположившись на скудных полосках травы в общественных местах, или подпирали стены домов, или пристраивались среди отбросов на камнях бордюра, если у них не было денег, чтобы сидеть в уличных кафе и ресторанчиках под открытым небом. Одна из улиц была полностью перекрыта и служила импровизированным футбольным полем, так что моему шоферу пришлось, осыпав игравших там ребят руганью и совершив опасный маневр, вернуться на главную улицу. Другой сложностью городского движения были автобусы: увешанные гроздьями людей, висящих в дверях и окнах, они мчались по главной улице, глубоко презирая все правила движения. При постройке города, казалось, не следовали никакому плану, что доказывал лабиринт перекрещивающихся узеньких улочек, застроенных множеством ветхих, запущенных кирпичных домов. В Джетре я жил на большой авеню, которая, согласно традиции, была достаточно широка для того, чтобы по ней мог промаршировать отряд солдат, человек по тридцать в ряд.
Все это я увидел и воспринял за несколько минут, сидя в мчавшемся по улицам такси, в автомобиле, какой до сих пор видел только в кино. Это был большой, пузатый, старый лимузин, покрытый пылью и засохшей грязью, с заляпанным мертвыми насекомыми ветровым стеклом. В просторном салоне можно было удобно вытянуть ноги и при желании не снимать с головы цилиндр, не опасаясь ткнуться им в потолок. Обитое искусственным мехом сиденье было приятно мягким; утопая в нем, я испытывал ощущение преувеличенной пресыщенной роскоши. Рамы окон были из хромированного металла с окраской под дерево; верхняя часть ветрового стекла с внутренней стороны была оклеена фотографиями женщин и детей. На сиденье рядом с водителем дремала собака, а из приемника рвалась резкая, терзающая слух поп-музыка. Шофер держал баранку только одной рукой, локоть другой он поставил на край открытого окна и постукивал пальцами по потолку в такт музыке. Машина с визгом вписывалась в повороты, на неровностях дороги хлопали дверцы, металлически позвякивала подвеска и гудел старый задний мост. Город пробуждал новое чувство, чувство рассеянного равнодушия ко многим вещам, которые я считал само собой разумеющимися, – спокойствию, безопасности, законам, оглядке на окружающих. Марисей, казалось, находился в постоянном конфликте с самим собой. Шум, жара, пыль, слепящий свет; кишащий людьми, шумный и суматошный город, суровый и беспорядочный, страшный, нездоровый, но преисполненный жизни.
Но я не чувствовал неуверенности – только своего рода умственное возбуждение. От манеры шофера водить такси в хаосе движения захватывало дух, но все это тоже имело отношение к путанице и беспорядку. В Джетре едущий с такой скоростью автомобиль в считанные минуты угодил бы в аварию, если бы еще раньше его не задержала полиция, но в Марисее все существовало на этом хаотическом уровне. Казалось, что ты попал в другую вселенную, где степень всеобщей активности существенно выше: рычажки настройки реальности были поставлены по-другому, и поэтому звуки были громче, краски ярче, толпы гуще, жара сильнее, а время шло быстрее. У меня появилось странное ощущение уменьшения ответственности, словно все это происходило во сне. В Марисее меня не могли ни ранить, ни причинить мне вред как-нибудь иначе: нормальность защищала меня от этого опасного хаоса. Машины не попадали в аварии, старые, открытые всем ветрам здания не рушились, люди в последнюю секунду всегда увертывались от автомобилей, потому что здесь у всех была повышенная реакция, а мировые катастрофы просто не происходили.
Это опьяняющее, головокружительное чувство говорило мне, что я, если хочу выжить, должен приспособиться к новым правилам. Здесь я мог делать то, на что дома никогда бы не отважился. Трезвая ответственность стала достоянием прошлого.
Стоя перед бюро Лотереи Коллажо и ожидая, пока мне откроют, я все еще находился в начальной фазе этого осознания. На борту корабля я в действительности пребывал в защитном пузыре своей жизни, хотя и приучил себя проявлять особенную восприимчивость ко всему новому. Я принес с собой установку на ожидание. После нескольких минут пребывания в Марисее этот пузырь лопнул, но все еще оказывал на меня влияние.
Загремели запоры, и одна из створок двери открылась.
Молодая женщина ничего не сказала, только пристально посмотрела на меня.
– Я Питер Синклер, – сказал я. – Мне велели сразу по прибытии явиться сюда.
– Входите! – она придержала дверь, и я вошел в неожиданно холодное помещение, охлаждаемое климатроном. Воздух в бюро был сухой, и я закашлялся. Я последовал за женщиной к письменному столу.
– У меня записано «Роберт Синклер». Это вы?
– Да, Роберт мое второе имя.
Когда женщина зашла за письменный стол и встала за ним, я впервые обратил внимание на ее внешность. Она отчасти напоминала Матильду Энглен.
– Пожалуйста, садитесь, – она кивком указала мне на кресло для посетителей.
Я с наслаждением сел, осторожно поставив чемодан рядом. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Сходство между ней и Матильдой было необычайным! Не только черты лица, цвет волос, рост и фигура, но и множество иных мелочей. Если бы я увидел этих женщин вместе, может быть, их сходство так не бросалось бы в глаза, но в последние дни я повсюду носил с собой образ Матильды, и внезапная встреча с этой женщиной стала для меня полнейшей неожиданностью. Мое представление о женственности нашло здесь точное воплощение.
Она сказала:
– Меня зовут Сери Фальтен, и я представляю здесь Лотерею. Если я чем-нибудь могу помочь вам во время вашего пребывания здесь, или…
Это были обычные заученные формулы вежливости, и я пропустил их мимо ушей. Женщина была одета в ту же светло-красную форму – юбка и блузка – какую я видел в бюро Лотереи в Джетре, нечто вроде одежды служащих судовых компаний, бюро по найму автомобилей и отелей. Она была до некоторой степени привлекательна, но беспола и интернациональна. Единственной индивидуальной чертой был маленький значок на лацкане – с портретом известного поп-певца.
Я нашел ее привлекательной, но дивиться не приходилось; вероятно, делами в самых посещаемых филиалах бюро Лотереи занимались только молодые и привлекательные женщины. Кроме того, ее сходство с Матильдой вызвало во мне удивительный отклик.
Когда она покончила с записями, я спросил:
– Вы ждали одного меня?
– Кто-то должен был. Вы опоздали на два дня.
– Я не имел об этом никакого представления.
– Ничего страшного. Судоходная компания нас известила. Так что я не сидела здесь все эти два дня.
Я подумал, что ей около тридцати и она или замужем, или живет с кем-то. Она не носила кольца, но это ничего не значило.
Она выдвинула один из ящиков письменного стола и вынула оттуда папку с бумагами.
– Этот материал я отдам вам, – сказала она. – Вы узнаете из него все, что вам нужно знать о лечении.
– Да, но если я еще не решил окончательно…
– Тогда прочитайте это.
Я взял у нее папку и пролистал содержимое. Там было много проспектов и цветных картинок на глянцевой бумаге, вероятно Клиника Бессмертия, но также нечто вроде многостраничного вопросника с листами, плотно заполненными вопросами и вариантами ответов. За ним шла пара плотно напечатанных страниц, которые напомнили мне коммерческий договор. Пролистав бумаги, я украдкой взглянул на служащую. Что произошло? Видел ли я в ней Матильду? Я не пользовался успехом у одной женщины и нашел другую, случайно похожую на первую и привлекшую мое внимание.
С Матильдой меня не покидало ощущение, что я допустил какую-то ошибку, и все же я не мог отказаться от нее. Но предположим, что я принял Матильду за кого-то другого? Разве я мог подумать, что Матильда может встретиться мне в образе этой девушки-служащей бюро Лотереи?
Пока я просматривал бумаги, девушка раскрыла папку с моими документами.
– Я вижу, вы прибыли из Файандленда, из Джетры?
– Да.
– Моя семья тоже оттуда. Как там теперь?
– В Джетре? Великолепные кварталы. В центре дворец. Но в последнее время построили много фабрик и жилых домов, и это безобразно.
Я понятия не имел, что ей сказать. До самого отъезда я никогда не задумывался над этим и рассматривал город как место, где я жил, очень долго, не обращая никакого внимания на его красоту и безобразие.
Спустя некоторое время я сказал:
– Я уже забыл Джетру. В последние дни я видел только острова и впитывал новые впечатления. Я не представлял, что их может быть так много.
– Если уж вы оказались здесь, то больше никогда не увидите эти острова.
Она сказала это тем же деловитым и бесцветным тоном, каким запрашивала у меня мои данные, но я почувствовал, что ей не все равно.
– Почему вы это сказали?
– Это нечто вроде поговорки. На островах, которые можно посмотреть, всегда найдется что-нибудь новое.
Короткие волосы оттеняли бледность ее чуть загорелой кожи. Внезапно я вспомнил Матильду, как она загорала на шлюпочной палубе, задрав подбородок, чтобы тень не падала на шею.
– Может быть, выпьете стаканчик? – спросила Сери.
– Да, пожалуй. Что у вас есть?
– Сейчас посмотрю. Обычно шкафчик запирают, – она открыла другой выдвижной ящик и поискала ключ. – Или мы с вами можем пойти в гостиницу и выпить там.
– Я предпочел бы именно это, – сказал я. Мне хотелось избавиться от багажа и вымыть лицо и руки.
– Я должна проверить бронь. Мы вас ждали два дня назад.
Она взяла телефонную трубку, прислушалась, нетерпеливо нажала на рычаг, наморщила лоб и глубоко вздохнула. Через пару секунд я услышал щелчок соединения, и она набрала номер.
Абонента на другом конце пришлось ждать долго, и она тихо сидела за столом, держа трубку возле уха и с серьезным выражением смотрела на меня.
Я спросил:
– Вы здесь работаете одна?
– Обычно нас здесь четверо: я, начальник и еще две девушки. Но сегодня, вообще-то, бюро закрыто. Всеобщий праздник… Алло? – из жестяной раковины трубки донесся чей-то голос.
– Лотерея Коллажо. Я проверяю бронь на имя Роберта Синклера. Вы зарегистрировали номер?
Она скорчила гримасу, а потом с отсутствующим выражением человека, ожидающего у телефона, уставилась в окно.
Я встал и начал рассматривать бюро. На стенах висели цветные фотографии клиники на Коллажо, некоторые из снимков были теми же, что и в моей папке. Я увидел чистые новые здания, выкрашенные в белый цвет павильоны на зеленых лужайках, клумбы и цветущий кустарник, а на заднем плане – цепь крутых гор. Все люди там улыбались. На большинстве снимков были победители Лотереи, которые прибыли на Коллажо или уезжали оттуда. Рукопожатия и улыбки, положенные на плечи руки. На снимках интерьеров была стерильная чистота больницы в сочетании с удобствами отеля.
Я чувствовал себя словно в бюро путешествий. Там на стенах тоже полно подобных проспектов и снимков. Здешние фотографии излучали ту же нереально-подчеркнутую атмосферу радостной праздничности и дружбы, пестрели такими же яркими красками.
Другая часть бюро была обставлена как комната ожидания, у низких столиков со стеклянными крышками стояло множество кресел. На столиках лежали на самом виду папки с лотерейными билетами. Я прочитал на каждом билете сделанную по диагонали надпечатку «ОБРАЗЕЦ», но в остальном они были такими же, как и те, на которые пал выигрыш.
В это мгновение мне наконец удалось распознать то смутное чувство, которое не покидало меня с момента выигрыша: мне было неловко.
Лотерея существовала для других. Я был неподходящей фигурой для выигрыша, это было не для меня.
Лотерея Коллажо предлагала в качестве главного выигрыша лечение в Клинике Бессмертия: настоящее бессмертие, гарантированное медициной. Клиника ручалась за стопроцентный успех этого лечения; все прошедшие его были живы и по сей день. Самой старшей, насколько я знал, исполнилось сто шестьдесят девять, но выглядела она лет на сорок с небольшим и сохранила все интеллектуальные и физические способности. Ее часто показывали по телевидению в программах, посвященных лотерее: за игрой в теннис, на танцах, за разгадыванием кроссвордов и во время прогулок на яхте.
Раньше я иногда отпускал иронические замечания насчет того, что если, имея вечную жизнь, полтора столетия разгадывать кроссворды, то естественная смерть покажется счастьем.
Кроме того, меня преследовало ощущение, что в лотерее выигрыши всегда достаются не тем; это значит, они достаются только тем, кто участвует в лотерее и кому необычайно везет.
В противоположность Совету Лотереи получившие главный выигрыш иногда стараются добиться гласности. При этом в ярком свете рампы эти счастливчики зачастую кажутся скучными, тривиальными людьми, чей узкий горизонт соответствует их потребностям, людьми, начисто лишенными всякого таланта и вдохновения, совершенно неспособными представить себе, что им придется начать совершенно новую жизнь. В интервью они обычно произносили назидательные речи о том, что хотят посвятить свою новую жизнь добрым делам и трудам на благо общества, но однообразие этих высказываний, казалось, свидетельствовало о том, что их соответствующим образом обработали люди из бюро Лотереи. Кроме того, их честолюбие не простиралось дальше того, чтобы увидеть своих внуков взрослыми, получить длительный отпуск или оставить работу и поселиться где-нибудь в уютном домике.
Хотя я часто насмехался над прозаическими стремлениями этих выигравших, теперь заметил, что я сам один из них и тоже не претендую на большее. Все, что я делал до сих пор, чтобы оказаться достойным выигрыша, было преходящим и в конце концов сводилось к ничего не значащему приступу жалости к раненому на войне продавцу лотерейных билетов. Я был не менее случайным и дюжинным, чем все остальные выигравшие. Я не знал, как использовать доставшуюся мне вечную жизнь. До выигрыша в лотерею я вел в Джетре уверенную, лишенную всяких проблем жизнь. После лечения в клинике Бессмертия моя жизнь, вероятно, будет протекать точно так же. После оглашения Советом Лотереи я мог надеяться, что такой она останется в ближайшие полтора века – а может быть, еще четыре или пять столетий.
Бессмертие увеличивало продолжительность жизни, но не давало ей наполненности.
Несмотря на это, кто мог пренебречь таким шансом? Теперь я боялся смерти меньше, чем подростком; если смерть все равно, что потеря сознания, тогда это совсем не страшно. Но мне со здоровьем всегда везло, и – как многие, избежавшие большинства болезней – я боялся боли и физических повреждений и не мог без содрогания думать о постепенном духовном и физическом упадке, возможно, сопровождающемся хроническими страданиями и неспособностью двигаться. Клиника Бессмертия предлагала лечение, которое полностью очищало тело и восстанавливало клетки на неопределенно долгое время. Я становился неуязвимым для рака, тромбозов и вирусных инфекций, обретал возможность сохранять все духовные и физические силы. После лечения у меня навсегда останется мое теперешнее, двадцатидевятилетнее тело.
Этого мне хотелось; от этого я не мог отказаться. При всем том я сознавал несправедливость системы Лотереи благодаря как своему собственному короткому опыту, так и большей части пристрастной критики, которая громко взывала к общественности. Эта система была несправедливой; и я знал, что этот выигрыш не для меня.
Но кто же был достоин его? Лечение гарантировало полную защиту от всех видов рака, но от рака по-прежнему ежегодно умирали сотни тысяч людей. Общество Лотереи объясняло, что они не лечат рак специально, его излечение – побочный продукт общей терапии. То же с сердечно-сосудистыми заболеваниями, слепотой, старческим слабоумием, вызванным атеросклерозом, с язвой желудка и дюжиной других болезней, которые отравили и сократили жизнь миллионам. Общество Лотереи утверждало, что их дорогостоящее и сложное лечение доступно не каждому. Единственный справедливый метод, демократичный и беспристрастный – розыгрыш в Лотерею.
Едва ли выдавался месяц, когда Лотерею не критиковали. Разве не существовало таких по-настоящему достойных людей, которые всю жизнь посвятили служению другим и вполне могли претендовать на ее продление? Художники, музыканты, ученые, чью работу впрямую ограничивал процесс старения и продлевала жизнь? Знаменитые религиозные вожди, изобретатели, борцы за мир? Судьба часто ставила на карту имена политиков и других заслуживающих уважения лиц, которые провозгласили своей целью улучшение условий окружающей среды и тому подобное.
Под таким нажимом Общество Лотереи несколько лет назад выработало план отбора в эту клинику. Ежегодно в обязательном порядке должно было собираться интернациональное конкурсное жюри и объявлять список лиц, которым, по их мнению, стоило даровать бессмертие. Общество Лотереи обеспечивало их лечением.
К удивлению большинства обычных людей, почти все названные лауреаты отказались от лечения. Самым известным стал случай со знаменитым писателем Вискером Делуаном.
После того как Делуан отклонил свою кандидатуру, он написал книгу, вышедшую под названием «Отказ». В ней он доказывал, что принять бессмертие означает отречься от смерти, и поскольку жизнь и смерть неразрывно связаны, он видел в этом отречение от жизни. Вся его работа, писал он, основана на знании неизбежности смерти, и без этого знания он не мог бы писать. Он самовыражается через свои произведения, но это в сущности ничем не отличается от тех способов, которыми выражают себя другие люди. Стремление к вечной жизни, к сожалению, увеличивает стоимость самой жизни.
Делуан умер от рака спустя два года после опубликования этой книги. Сегодня она признана самой значительной работой, его самым выдающимся трудом, как философским, так и литературным. Я прочитал ее еще в школе, и тогда она произвела на меня глубокое впечатление, но теперь я был здесь, на пути к Коллажо, туда, где мне дадут вечную жизнь.
На другом конце бюро Сери положила трубку и повернулась ко мне.
– Отель не сохранил вашу бронь, – сказала она. – Но мы подыщем для вас что-нибудь в каком-нибудь другом отеле.
– Вы можете сказать, где мне его найти?
Она взяла с пола плетеную корзину и поставила перед собой на стол. Потом сняла красную блузку и, сложив, убрала в корзинку.
– Я тоже ухожу. Могу показать вам, где отель.
Она заперла ящики письменного стола, убедилась, что внутренние двери заперты, и мы вышли на улицу. Жара ударила нам в лицо, я огляделся, посмотрел вверх и в первый момент подумал, что где-то поблизости выдувают горячий воздух. Но это был всего лишь обычный влажный, горячий воздух тропиков. На мне были легкие брюки и рубашка с короткими рукавами, но со своим чемоданом я чувствовал себя в местных условиях совершенно не в своей тарелке.
Мы спустились к главной улице и нырнули в поток пешеходов. Ставни магазинов и двери домов были открыты, горели фонари, машины с ревом проносились мимо. Все, казалось, было исполнено целеустремленности, которой я никогда не замечал дома; каждый знал, куда ему нужно, и потому все пешеходы очень спешили. Тут, казалось, не было никаких правил, сплошной хаос.
Сери шла впереди, прокладывая путь в толпе. Существенную часть моего внимания отвлекали на себя рестораны, магазины, кинотеатры и места развлечений, мимо которых мы проходили. Толпа отбирала все силы. Все напирали, толкались, кричали, смеялись, никто не шел медленно и не стоял на месте. На углу жарили кусочки мяса и вместе с рисом заворачивали в бумажные трубочки; в таком виде все это продавалось. На открытых лотках магазинов были разложены мясо, хлеб и фрукты, оставленные на произвол жары и мух. На деревянных косяках магазинов и на опорах навесов у лоточников (или внутри магазинов) висели транзисторы, и рвущие барабанные перепонки потоки пульсирующей поп-музыки умножали всеобщий хаос. По улице прогремел поливальщик, обдавая улицу потоками воды и не обращая внимания на людей на проезжей части и тротуарах; в сточных канавах скопились объедки, обрывки бумаги, окурки и другие отходы. И над всем этим висел всепроникающий отвратительный смрад, сладковатый и тошнотворный: может быть, это был запах тухлого мяса или благовоний, которые жгли неподалеку, перекрываемый зловонием грязи.
За несколько минут я взмок. Мне чудилось, что на моем теле конденсируется влага из воздуха. Я захотел переложить чемодан в другую руку, но должен был сделать это на ходу, потому что боялся потерять из вида Сери или быть сбитым прохожими, если остановлюсь. Когда мы наконец достигли отеля и вошли в приятную прохладу холла с кондиционером, я был утомлен и весь вспотел.
Заполнение карточки прибытия было простой формальностью, однако прежде чем мне вручили ключ от номера, служащий отеля попросил паспорт. Я протянул ему документы, и мужчина положил их в ящик за стойкой.
Я ждал, но ничто не указывало на то, что паспорт мне вернут.
– Зачем вам понадобился мой паспорт? – спросил я.
– Он должен быть зарегистрирован в полиции. При убытии вы сможете получить его.
Что-то вызвало у меня подозрение, поэтому я отвел Сери в сторону и спросил, что все это значит.
– У вас есть мелочь?
– Весьма возможно.
– Суньте ему! Старый прием.
– Вымогательство, хотите сказать?
– Нет… это с одобрения полиции. Они перечисляют ей двадцать пять процентов.
Я снова вернулся к стойке, протянул служащему банкноту и в обмен получил паспорт и ключ; никакого выражения сожаления, никаких извинений. Служащий поставил печать возле визы.
– Останетесь выпить стаканчик? – спросил я Сери.
– Разве вы не хотите распаковаться?
– Я охотно приму душ, это займет приблизительно четверть часа. Встретимся в баре?
– Пожалуй. Я схожу домой, переоденусь, – ответила она. – Я живу недалеко отсюда.
Я пошел в номер, полежал несколько минут на кровати с закрытыми глазами, потом скинул пропотевшую одежду и принял душ. Вода из кранов лилась бурой и казалась очень жесткой; мыло едва мылилось. Двадцатью минутами позже я, в чистой одежде и освеженный, спустился в бар, двери которого открывались на улицу. К счастью, там было много мощных вентиляторов, которые гнали к столикам прохладный воздух. Тем временем стемнело. Я заказал побольше пива, а вскоре пришла Сери. На ней была длинная юбка и темная кофточка из муслина, и она теперь меньше походила на служащую и больше на женщину.
Она задала мне несколько вопросов обо мне: как у меня возникла мысль купить билет Лотереи Коллажо, кто я по профессии, откуда родом моя семья и много других вопросов, какие люди задают друг другу, если они только что познакомились. Было совсем непросто хитрить с ней. Я не в состоянии был судить, были ли эти безобидные личные вопросы чисто вежливо-риторическими или она интересовалась мной с личной точки зрения. Я должен был постоянно напоминать себе, что она мой контакт с Обществом Лотереи и это только ее работа, даже если она сейчас сидит за столиком рядом со мной. После Матильды с ее уклончивостью, портившей морское путешествие, было приятно оказаться в обществе привлекательной, дружески расположенной к тебе женщины. Я не мог рассматривать ее не оценивающе: у нее была миниатюрная прелестная фигурка и приятное лицо. Сери производила впечатление умной и сдержанной, и даже то, что она при всех обстоятельствах соблюдала определенную дистанцию, я находил весьма привлекательным. Беседа, очевидно, ее интересовала – Сери сидела подавшись ко мне, часто улыбалась, но, когда она откидывалась назад или оглядывалась по сторонам, я чувствовал в ней равнодушие и усталость. Может быть, она сейчас работала сверхурочно, опекая беспомощного клиента Общества, может быть, просто была сдержанна с незнакомым мужчиной.
На мои вопросы она ответила, что она родом с Сиэла, мрачного, соседнего с Джетрой острова. Ее родители из Джетры, но еще перед войной переселились на Сиэл. Ее отец был администратором Высшей Школы Геологии, но Сери покинула отчий дом уже в пятнадцать, или шестнадцать лет. С тех пор она странствовала по миру островов, работая иногда здесь, иногда там. Она мало говорила об этом и быстро меняла тему. Вероятно, у нее была нелегкая юность.
Мы выпили еще по два стаканчика, и я проголодался. Провести остаток вечера с Сери было очень заманчиво, поэтому я спросил у нее, где мы можем найти приличный ресторан.
Но она сказала:
– Мне очень жаль, но сегодня вечером я занята. Вы можете поесть в отеле или заказать еду в номер. Или зайти в один из салайских ресторанов здесь, неподалеку. Они все великолепны. Вы знаете салайскую кухню?
– По Джетре, – это было не совсем то. Но не все ли равно, что есть в одиночестве?
Я пожалел, что предложил поужинать вместе: это, очевидно, напомнило ей о собственных планах на вечер. Она допила вино и встала.
– Очень жаль, но мне пора. Очень приятно было с вами познакомиться.
– Как и мне, – ответил я.
– Приходите завтра до полудня в бюро. А я попытаюсь достать вам билет до Коллажо. Корабли туда отходят раз в неделю, но на предыдущий вы опоздали. Однако есть и другие пути; я посмотрю, что можно сделать.
На мгновение снова появилась другая Сери, та, что в униформе.
Я пообещал, что завтра до полудня приду в бюро, и мы попрощались. Она вышла наружу, в пахучую тропическую ночь, ни разу не оглянувшись. Я в одиночку поел в переполненном салайском ресторане. Столик был накрыт на двоих, но никто ко мне не подсел и я почувствовал себя таким одиноким, каким не чувствовал себя с тех пор, как покинул родной город. С моей стороны было неразумно сосредоточить внимание на первых же дамах, которые появились на моем пути, но сделанного не воротишь, и я мог отступить. Общество Сери освободило меня от мыслей о Матильде, однако в действительности она казалась мне второй Матильдой. Не были ли ее планы на сегодняшний вечер всего лишь уловкой, чтобы уйти от меня?
После еды я отправился бродить по грязным, жалким улицам Марисея, заблудился, потом снова сориентировался и вернулся в отель. Кондиционер в моей комнате был поставлен на охлаждение, поэтому я открыл окно и целый час не мог заснуть, прислушиваясь к спорящим голосам, музыке и треску мотоциклов.
Глава восьмая
Я проспал и пришел в бюро Лотереи только после полудня. Проснулся я равнодушным к Сери, решив не продолжать ухаживания. Я хотел принимать ее за ту, кем она была – за служащую Лотереи, выполнявшую свою работу. Когда я вошел в бюро, Сери там не оказалось и я почувствовал нарастающее разочарование – наказание за новую решимость лгать.
Две другие молодые женщины, обе в красной униформе Общества Лотереи, были заняты работой: одна звонила по телефону, другая печатала на машинке.
Я обратился к той, которая печатала на машинке:
– Извините, Сери Фальтен здесь?
– Сери сегодня не придет. Я могу вам чем-нибудь помочь?
– Я договорился с ней встретиться здесь.
– Вы Питер Синклер?
– Да.
Выражение ее лица изменилось; казенную вежливость сменила предупредительность.
– Она оставила вам записку, – девушка вырвала листок из одного из блокнотов. – Ступайте по этому адресу.
Я прочитал адрес – он ничего мне не сказал.
– Как туда попасть?
– Это у самой площади. За автостанцией.
Во время вчерашней вечерней прогулки я пересек площадь, но не знал, где она находится.
– Придется взять такси, – сказал я.
– Вызвать? – она сняла трубку.
Пока мы ждали такси, она спросила:
– Вы выиграли в Лотерею?
– Да, конечно.
– Этого Сери не сказала, – с легкой улыбкой, довольная, что ее предположение подтвердилось, она снова взялась за работу. Я перешел в другую часть бюро и сел за стеклянный столик.
Немного позже из глубины бюро вышел мужчина. Он бросил на меня быстрый взгляд и прошел к письменному столу, который накануне занимала Сери. Деятельность этого бюро вызывала у меня непонятную неприязнь, и я вспомнил, как во время вчерашнего посещения бюро пестрые эстампы и фотографии на стене пробудили во мне сомнения. Дружеская и радостно-ободряющая манера держаться персонала напомнила мне, как экипаж самолета порой пытается с заученной бодростью поддержать нервничающих пассажиров. Но зачем подбадривать выигравших в Лотерею? Ведь везде и всюду доказывается, что лечение абсолютно надежно.
Наконец прибыло такси; оно отвезло меня по адресу, указанному Сери, и высадило неподалеку от центра.
Длинная боковая улица, отражающая солнце, сдвижные ставни магазинов закрыты, грузовик стоит у обочины, в тени подъездов копошатся дети. Когда такси уехало, я заметил, что в канавах по обе стороны мостовой течет чистая вода; подбежала хромая собака и стала лакать воду, то и дело оглядываясь по сторонам.
По нужному мне адресу обнаружились тяжелые деревянные ворота, через которые можно было войти в проходной двор и выйти во внутренний. Сразу за дверью лежала неубранная почта, а на другой стороне двора, за маленьким газончиком со скудной травой, стояли два мусорных контейнера; они были переполнены, и их содержимое рассыпалось вокруг них по каменной площадке. В глубине двора была дверь лифта, и я поднялся на нем на третий этаж. Прямо рядом с лифтом на двери стоял номер, который я искал.
Едва я отнял палец от кнопки звонка, как Сери открыла мне дверь.
– Ах, это вы, – сказала она. – Я уж хотела звонить в бюро.
– Я проспал, – объяснил я. – Я не знал, что это так срочно.
– Это не срочно… Да входите же быстрее!
Я последовал за ней, и то, что оставалось от моего намерения видеть в ней только служащую бюро Лотереи, испарилось от этого нового взгляда на ее личную жизнь. Скольких же победителей Лотереи она приглашала в свою комнату? Сегодня на ней была блузка с небольшим вырезом и юбка на пуговицах. Она выглядела так же, как накануне вечером: молодой, привлекательной и совершенно свободной от того, к чему обязывала ее работа. Мне вспомнилось тягостное разочарование, которое я испытал, когда она ушла, чтобы встретиться с кем-то другим, но, когда Сери закрыла дверь, я увидел то, на что надеялся: в ее жилище не было никаких признаков присутствия в ее жизни какого-то другого мужчины. Все было очень тесным и маленьким: крохотная ванная – через приоткрытую дверь я бросил взгляд на старомодную арматуру и на вывешенную для просушки одежду – и спальня, где едва можно было повернуться, так она была забита книгами, пластинками и мебелью. Узкая кровать была очень чистой. Окна квартиры выходили на соседнюю улицу, и, поскольку они были открыты, комнату заполнял уличный шум.
– Хотите выпить? – спросила Сери.
– Да, пожалуйста, – накануне вечером я выпил целую бутылку вина и чувствовал себя соответствующим образом. Может быть, тоник поможет мне рассеять туман в голове – но Сери открыла бутылку минеральной воды и наполнила стаканы.
– Я не смогла достать вам билет, – сказала она, садясь на край постели. – Я связалась с судоходной компанией, но она больше не принимает заказов на бронь. Билет можно купить только в том случае, если кто-то откажется от своего. Иначе уехать удастся самое ранее на той неделе.
– Ну хоть так, – сказал я.
На этом деловая часть нашего разговора закончилась. Сери могла сообщить об этом в свое бюро или передать меня до прибытия судна коллегам, но, по-видимому, это было еще не все.
Я опустошил свой стакан; минеральная вода была великолепной.
– Почему вы сегодня не в бюро?
– Взяла пару дней отгула, мне необходима небольшая передышка. Я хотела бы съездить в холмы. Хотите поехать со мной?
– Это далеко?
– Час-другой, все зависит от того, сломается автобус или нет. Просто небольшая прогулка. Мне хотелось бы уехать из города на пару часов.
– Согласен, – сказал я. – Это мне нравится.
– Я понимаю, что это для вас немного неожиданно, но через пару минут в ту сторону отправляется автобус. Я надеялась, что вы придете пораньше и я успею с вами об этом поговорить. У вас осталось в отеле что-нибудь, что вы хотели бы взять с собой?
– По-моему, нет. Вы сказали, что мы вернемся сегодня вечером?
– Да.
Она выпила минеральную воду, взяла сумку на длинном ремне и мы спустились вниз. Автобусная станция была недалеко – темное пещерообразное строение, перед которым стояли два древних автобуса. Сери подвела меня к одному из них. Он уже был наполовину полон, и проход между двумя рядами двойных сидений перегораживали другие пассажиры, которые разговаривали с друзьями или кричали из окон. Мы протиснулись мимо них и нашли два свободных места в задней части автобуса.
– Куда мы поедем? – спросил я.
– В деревню, которую я обнаружила в прошлом году. Там бывают туристы, но обычно там очень тихо. Есть где перекусить, а еще там река, можно поплавать.
Минут через пять в автобус вошел водитель и стал проталкиваться по проходу, чтобы собрать деньги за проезд. Когда он подошел к нам, я хотел заплатить, но у Сери в руках уже была мелочь.
– Это за счет Лотереи, – сказала она.
Автобус тронулся с места, и вскоре центр города остался позади. Теперь мы ехали по широкой улице, с обеих сторон застроенной старыми жилыми домами с осыпающимися фасадами. Жалкую бедность кварталов еще сильнее подчеркивал яркий свет полуденного солнца, и единственное разнообразие вносил горизонтальный лес пестрого белья на веревках, протянутых между зданиями. Многие окна были разбиты или заклеены полосками бумаги, а улица кишела ребятишками. Когда автобус, гудя и громыхая, помчался по улице, они стайками собирались по сторонам и в тот миг, когда нам приходилось тормозить, храбро вскакивали на подножки, хватались за поручни. Водитель орал на них из окна и грозил кулаком.
Последние ребятишки спрыгнули и кувыркнулись в густую пыль на обочине, когда мы достигли длинного подъема у железного моста, перекинутого через каньоноподобную долину реки на достойной уважения высоте. Когда мы пересекли долину, я увидел вдали море и другое лицо Марисея: белые яхты, прибрежные кафе и бары, отели, роскошные дома и игорные заведения.
На другой стороне каньона дорога резко повернула вглубь острова и пошла вдоль берега реки. Несколько минут я наслаждался видом, пока Сери не коснулась моей руки, желая обратить мое внимание на то, что открывалось с другой стороны. Там тянулись гигантские кварталы трущоб. Тысячи временных укрытий из всевозможных отходов и материалов: листов жести, ящиков, автомобильных покрышек, бочек. Многим из этих нищих лачуг крышу заменяли брезентовые навесы или склеенные обрывки пластика. Окон ни в одной из лачуг не было – только отверстия, служившие заодно и входами. Двери и замки были редкостью. На обочине дороги сидели взрослые и дети и пустыми взглядами провожали проезжающие мимо автомобили. На каждом свободном клочке лежали ржавые обломки и вздувшиеся бочки из-под бензина. Везде бегали наполовину одичавшие собаки.
Я смотрел на эти нищие жилища со смутным, но болезненным чувством вины, и только теперь осознал, что мы с Сери – единственные в автобусе одетые в новое и чистое, а другие пассажиры, очевидно, настоящие жители Марисея и мой гостиничный номер или квартирка Сери показались бы им такими чужими и недостижимыми, словно находились на другой планете. Мы тоже были для них пришельцами из другого мира. Я подумал о роскошных жилых домах, отелях и виллах, которые видел на побережье с корабля, и мне показалось, что это был веселый блестящий плакат, подготовленный рекламным агентством.
Я посмотрел в другую сторону, но дорога уже отошла от берега реки, и там тоже потянулся «бидонвилль». Проезжая, мы видели развалины хижин из ржавой жести и картона и пытались представить себе, что значило жить там. Принял бы я лечение по Лотерее, если бы жил в такой дыре?
Наконец мы оставили позади этот безрадостный поселок нищих и поехали по открытой местности. Далеко впереди возвышались горы. Несколько участков голой, иссушенной почвы были застроены, но большинство давно превратились в пустыри, заросшие ковылем и местами изъеденные эрозией. Только через много километров появились первые кусты и деревья, грозный арьергард оттесненной природы. До этой границы всю растительность в округе, кроме чахлой желтой травы, жители «бидонвилля» пустили на топливо для своих кухонь.
Мы миновали аэродром, обнесенный колючей проволокой. Я удивился – каждый знает, что после подписания договора о нейтралитете воздушное сообщение между островами было запрещено, однако, судя по электронным сенсорам и радарным установкам, аэродром Марисей был таким же новым, как аэродромы на севере. Когда мы приблизились к постройкам аэродрома, я увидел на другом его краю много больших машин, но расстояние было слишком велико, и я не смог различить подробностей.
– Это гражданский аэродром? – вполголоса спросил я.
– Нет, чисто военный. Марисей – важнейшая промежуточная база Военно-воздушных сил, но здесь нет ни казарм, ни военных лагерей. Подразделения и снаряжение прибывают доставляются морем.
Друзья из Джетры слышали о правительственных учреждениях, которые, кроме всего прочего, занимались еще и надзором за соблюдением нейтралитета. Они утверждали, что на многих больших островах устроены военные транзитные и учебные лагеря. На случай нарушения нейтралитета, а также ради особого применения. Такие лагеря использовали обе стороны – временно и порой даже одновременно. Однако я не видел никаких признаков лагерей и подумал, что они, должно быть, расположены вдалеке от путей сообщения и корабельных маршрутов.
Автобус остановился перед зданием аэродрома, и большинство пассажиров вышли, нагруженные баулами и чемоданами. Сери сказала, что это, должно быть, гражданские служащие: рабочие, уборщики и так далее. Автобус поехал дальше, и скоро асфальтированное шоссе перешло в пыльную, покрытую многочисленными выбоинами дорогу. Остаток пути сплошь состоял из толчков, скрипа и скрежета старого автобуса, рева мотора на высоких оборотах и довольно сильной тряски, которую немного смягчала подвеска. И пыли: колеса взбивали густые облака песка и пыли, и немало ее залетало в открытые окна, садилось на одежду, четко обозначало каждую морщинку на лицах и скрипело на зубах.
Сери была разговорчива и рассказывала об островах, которые посещала, и достопримечательностях, которые видела, а дорога тем временем добралась до предгорий и пошла в гору, а по сторонам появилась зелень. Я узнал о ней еще несколько подробностей; ей довелось поработать на судах, учиться ткать и побывать замужем.
Мы ехали по густонаселенной сельской местности и автобус останавливался, чтобы высадить или взять пассажиров. На каждой остановке его поджидало множество бродячих торговцев, в том числе женщин и детей, которые набивались в автобус и предлагали фрукты, напитки и закуски. Мы с Сери – в ком уже по одежде можно было узнать экскурсантов – при каждом движении становились центром всеобщего внимания. Однажды мы купили фруктов и один раз теплого кофе, предложенного нам в оббитой эмалированной миске; от жары и пыли мы так хотели пить, что с легкостью побороли брезгливость и выпили из миски, из которой пили все.
Вскоре после этого автобус остановился. Водитель вышел и открыл пробку радиатора. Из отверстия вырвалось облако пара.
Сери улыбнулась.
– Это всегда так? – спросил я.
– Да, но не так рано, как сегодня. Обычно радиатор закипает на длинном затяжном подъеме.
После громкого спора с пассажирами в передней части автобуса водитель послал двух из них в деревню, которую мы миновали последней.
Сери внезапно взяла мою руку в свои и прислонилась к моему плечу.
– Далеко еще ехать? – спросил я.
– Скоро будем на месте. Следующая деревня.
– Мы можем дойти пешком? Я бы охотно размял ноги.
– Лучше подождем. Сейчас придут пассажиры с водой. Дорога не кажется крутой, но она все время идет в гору.
Она закрыла глаза и положила голову на мое плечо. Я смотрел на массивные очертания гор впереди, не так уж и далеко. Хотя с тех пор, как мы выехали из города, дорога шла вверх более или менее непрерывно, жара немного спала и ветра почти не было. По обеим сторонам узкого проселка тянулись виноградники и фруктовые сады. В отдалении я увидел кипарисы, черные на фоне неба. Сери прикорнула на моем плече, но я не мог дальше сохранять неподвижность и разбудил ее. Пока водитель ждал пассажиров с водой, я вышел из автобуса и прошелся вверх по дороге, радуясь движению и солнечному свету. Здесь было не так влажно, как на берегу, воздух имел другой вкус. Я дошел до гребня возвышенности – дорога там переваливала через него. У вершины я остановился и оглянулся. У моих ног, словно волнистая равнина, мерцая в потоках горячего воздуха, простиралось холмистое предгорье, окрашенное в расплывающиеся серые, пастельно-зеленые и охряно-желтые тона. Вдали, на горизонте виднелось море, но оно было в дымке, и я не мог различить никаких других островов.
Я присел на обочине и через несколько минут увидел Сери, поднимавшуюся по дороге. Подойдя ко мне, она села и кивнула в сторону автобуса.
– Я еще никогда не поднималась сюда, автобус здесь никогда не ломался.
– Ладно. Нам некуда спешить.
Она положила свою руку на мою.
– Почему вы бросили меня в автобусе?
Я подумал об экскурсии – свежий воздух, движение, великолепные виды – но не придумал, чего ответить.
– Мне кажется, я немного оробел, – сказал я. – Когда вы вчера вечером оставили меня в отеле, я подумал, что совершил ошибку.
– У меня просто была договоренность. Я охотнее осталась бы с вами, – она посмотрела вдаль, но ее пальцы изо всех сил сжали мою руку.
Чуть позже мы увидели, что трое мужчин с канистрами воды возвращаются к автобусу. Мы спустились вниз и снова заняли свои места. Через несколько минут наше путешествие возобновилось, такое же пыльное и изматывающее, как и прежде. Дорога поднималась по лесистой местности и, два раза повернув, достигла горного массива и перевала, который с нашего места виден не был. По обеим сторонам пыльной дороги росли высокие эвкалипты. Беловатая кора местами отслаивалась от стволов. Выше раскинулся полог голубовато-зеленой листвы; отвесно падавшие лучи солнца тут и там высвечивали кусочки голубого неба; под нами вилась небольшая речка, почти целиком скрытая деревьями и кустарником. Проселочная дорога описала широкую дугу, и на минуту нашим взорам открылся великолепный горный ландшафт, скалы, деревья и широкие склоны, покрытые галькой и щебнем. Вода падала со скал и в белой пене бушевала вокруг каменных глыб в русле реки. Пыльная прибрежная равнина Марисея наконец скрылась из вида.
Сери жадно смотрела наружу через открытое окно, словно эта экскурсия была устроена специально для нее. Я получил представление о высоте здешних гор; по сравнению с горами на моей родине они были ниже и не так потрясали воображение – главный массив на севере Файандленда был самым великолепным горным ландшафтом на свете. Здесь, на Марисее, масштабы и ожидания были более скромными, однако действие их было сильным, оставляющим особое впечатление. Этот горный пейзаж не оставлял человека равнодушным, но, необозримый по людским меркам, все же не вгонял в оцепенение.
– Вам нравится? – спросила Сери.
– Да, конечно.
– Мы уже у цели.
Я глянул вперед, но увидел лишь дорогу, которая взбиралась на гору сквозь зеленую полутьму леса.
Сери перебросила сумку через плечо и, хватаясь за поручни, пошла по проходу. Она сказала водителю пару слов, и несколько мгновений спустя мы подъехали к расширению дороги, где виднелись две деревянные скамьи и покрытый камышом навес. Автобус остановился, и мы вышли.
Глава восьмая
Протоптанная тропинка вела от дороги через лес вниз, в густой подлесок. Кое-где были сделаны примитивные ступеньки из деревянных колышков и горизонтально положенных ветвей и даже шаткие перила. Мы быстро прошли вперед – земля здесь была сухой и твердой – и, не успел шум мотора автобуса затихнуть вдали, увидели под собой крыши деревни.
Тропа вела вниз, на ровную насыпь, где стояло много автомобилей, а оттуда было рукой подать до центра деревни. По обеим сторонам пыльной деревенской улицы стояли ряды крепких старых домов. К двум или трем из них были пристроены небольшие магазинчики; мы увидели продуктовую лавочку, магазин сувениров, гостиницу, кузницу и ремонтную мастерскую. Так как мы проголодались, мы направились к гостинице и сели за столик в тенистом палисаднике.
Было приятно сидеть в тишине на свежем воздухе, здесь не было толкотни, утомительного шума и облаков пыли, которые угнетали нас в автобусе. Мы сидели в тени, в глубине сада журчала речка, а в кронах деревьев над нами пели птицы. Нам подали местное блюдо из риса, бобов, томатов и рыбы, залитое острым желто-оранжевым соусом. Мы с Сери говорили мало, но стали значительно ближе друг другу.
Потом мы пошли по деревне и наконец вышли к реке. Здесь, на окруженном деревьями деревенском выгоне, несколько местных пасли гусей или бездельничали в тени ветвей. Это была картина буколического мира, что подчеркивали пение птиц и журчание речки. Просто, но крепко сделанный деревянный мостик вел на другой берег, где тропа устремлялась вверх через поредевший лес. Не было ни ветерка, и, пока мы медленно поднимались в гору, аромат цветов и цветущего кустарника накатывал на нас все новыми и новыми волнами. Шум воды на камнях постепенно стихал позади.
Мы прошли в решетчатые ворота и стали подниматься дальше. Тропа крутыми поворотами вела вверх по склону к узкой седловине между усеянными скалами каменными осыпями. Обливаясь потом, мы добрались до седловины и увидели, что края и углы камней на этой тропе отшлифованы множеством ног. Отсюда тропа пошла чуть под уклон, в узкую, маленькую горную долину. По краям дорожки укоренились на осыпях несколько деревьев, над ними выступал голый камень.
Нам навстречу попадались пешеходы; они молча проходили мимо. В узкой долине царила гнетущая тишина, и несколько замечаний, которыми мы обменялись с Сери, были произнесены странно сдавленными голосами. Мы испытывали что-то вроде почтительной робости, как во время посещения кафедрального собора; здесь, в долине, царила такая же торжественная монументальность.
Скоро мы услышали журчание воды, и, когда тропинка приблизилась к каменной стене, я увидел пруд.
Источник последовательностью маленьких водопадов изливался со скал в бассейн, пещероподобная западная скальная часть которого отражала и усиливала звук падающей воды. Сам пруд был черным, с отблеском зелени из-за отражающихся в нем кустов. Падающая вода волновала поверхность и мешала видеть глубину.
В этой уединенной узкой долине было очень тепло, однако, когда мы дошли до каменной котловины с бассейном, нас окутала прохлада. Я почувствовал, как по телу пробежал озноб. Пруд был красив, но почему-то, несмотря на тепло, действовал на меня угнетающе и казался мрачным. Кроме того, там, где вода падала на выступающий карниз, обнаружилась странная выставка.
С края заливаемого водой выступа свисало причудливое собрание предметов домашнего обихода и одежды, накрываемых падающей водой. Там болталась старая обувь, рядом с ней в потоке воды шевелился детский костюмчик. Дальше виднелись пара сандалий, коробка из фанеры, лопата для мусора, веревка, галстук и полотенце. Все эти предметы, поливаемые водой, слабо мерцали серым блеском.
Это неуместное зрелище было таинственным и необъяснимым, как ритуальные магические знаки на воротах загона для овец.
Сери сказала:
– Эти вещи висят там для того, чтобы они окаменели.
– Не буквально же…
– Нет… но в этой воде очень много извести, насколько я слышала. На том, что там висит достаточно долго, откладывается толстый слой извести.
– Но кому нужна окаменелая обувь?
– Владельцам сувенирных лавочек. Это они повесили здесь большую часть вещей, хотя каждый может повесить что-нибудь в воду, если хочет. Люди в магазине говорили, что эти вещи приносят счастье. Они всегда модны и новы.
– Вы из-за них привели меня сюда? Чтобы я увидел это? – спросил я.
– Да.
– Зачем?
– Зачем? Не знаю. Я подумала, вам здесь понравится.
Мы сели на траву и стали смотреть на этот естественный бассейн и выставку домашних фетишей. Пока мы вот так сидели и смотрели, в маленькую долину пришли другие люди и тоже стали искать себе место. Это была группа человек из десяти, среди них много детей, которые бегали и шумели. Они набрали болтающихся в воде вещей, и один сфотографировал остальных, а потом погрузил руки в падающую воду. Когда к нему подошли другие, он притворился, будто его руки превратились в камень, и напугал детей, покачав ими, словно застывшими клешнями, перед их лицами.
Я задумался, что произойдет, если поместить в эту воду живое тело. На нем тоже отложится слой извести, или его смоет с кожи? Но вопрос этот был праздным – ведь ни один человек, ни одно животное не могут достаточно долго стоять неподвижно. Зато труп наверняка может превратиться в камень: каменная посмертная маска для всего тела.
Занятый этими мрачными мыслями, я молча сидел возле Сери и слушал шорох воды и крики случайных птиц. Было еще тепло, но солнце припекало гораздо слабее. Тени удлинились. Я не привык к южным вечерам, и почти мгновенно наступающая темнота все еще удивляла меня.
– Когда стемнеет? – спросил я.
Сери взглянула на часы.
– Скоро надо возвращаться. Примерно через полчаса придет автобус.
– Если не сломался где-нибудь.
– Верно, – сказала она, улыбаясь.
Мы пошли по маленькой долине, потом по тропе через мост. В деревне кое-где горели фонари, и, когда мы поднялись по дороге, уже почти стемнело. Мы сели на скамью и стали вслушиваться в вечер. Пение птиц с наступлением темноты смолкло, но в деревьях и кустах стрекотали цикады, а доносящееся приглушенное журчание воды в долине сменилось слабыми звуками музыки из деревни.
Когда окончательно смерклось, физическое напряжение, угнетавшее нас обоих, внезапно исчезло. Прежде чем мы осознали, как это случилось, мы страстно поцеловались. Через некоторое время Сери оторвалась от меня и сказала:
– Автобуса не будет. Уже поздно. С наступлением темноты по дороге дальше аэропорта теперь не ездят.
– Ты знала это еще до того, как мы пришли сюда, – сказал я.
– Если хочешь знать… да, – она поцеловала меня.
– Мы можем переночевать где-нибудь в деревне?
– Пожалуй, да.
Мы медленно и осторожно спустились по тропе в деревню, к фонарям, мерцавшим сквозь листву деревьев. Сери привела меня к одному из домов и поговорила на местном диалекте с женщиной, которая вышла на наш стук. Деньги перешли из рук в руки, и нас привели в крошечную мансарду. Черные, изъеденные стропила крыши выступали над койкой, шатром сходясь к коньку. По дороге мы не разговаривали, отодвигая все на потом, но, как только мы остались одни, Сери разделась и юркнула в постель. Я быстро присоединился к ней.
Часом или двумя позже мы оделись и спустились в вестибюль гостиницы, зная друг друга ничуть не лучше, чем раньше. Посетители уже разошлись, двери гостиницы были заперты. Сери снова поговорила на местном диалекте с хозяйкой и дала ей немного денег. Через некоторое время та принесла нам простой ужин из сала, бобов и риса.
За едой я сказал:
– Я должен дать тебе денег.
– Зачем? Все это мне оплатит бюро Лотереи.
Под столом наши колени соприкоснулись, и мы легонько прижались друг к другу. Я сказал:
– Мне действительно придется оставить тебя здесь, в бюро Лотереи?
Она покачала головой.
– Я решила отказаться от работы. Самое время сменить остров.
– Почему?
– Я достаточно долго прожила на Марисее. Хочу чего-нибудь более спокойного.
– И это единственное основание?
– Нет, не единственное. Я в не слишком хороших отношениях с начальством. И эта работа не совсем то, чего я ожидала.
– То есть?
– Неважно. Расскажу в другой раз.
Нам не хотелось сразу возвращаться в душную комнату, поэтому мы стали ходить по деревенской улице, взявшись за руки. Становилось прохладно.
Мы заглянули в маленькое окошечко универсального магазина, продающего сувениры, и увидели множество «окаменевших» предметов, причудливых и мерзких одновременно.
Когда мы пошли дальше, я спросил:
– Скажи, почему ты хочешь отказаться от места?
– Мне казалось, я объяснила.
– Ты не сказала мне, чего ожидаешь.
Сери помолчала. Мы пересекли выгон у речки и смотрели с моста на темные воды, струящиеся под нами. Бриз шелестел в ветвях деревьев. Наконец Сери сказала:
– Мне самой еще не ясно, как я попала в Лотерею. Мое представление об этом противоречиво. Моя работа – помогать людям, подбадривать их и уговаривать пройти лечение в клинике.
– И многие нуждаются в подбадривании и уговорах? – спросил я, в душе сомневаясь в этом.
– Нет. Один или двое кандидатов тревожились, не опасно ли это. Им требовалось лишь растолковать, что это не так. Но моя работа – только убеждать, что Лотерея дело хорошее; понимаешь? А сама я в этом не совсем уверена.
– Почему же?
– Во-первых, ты самый молодой из всех выигравших, кого я видела. Всем другим было не меньше сорока или пятидесяти лет, а некоторые были еще старше. Из этого можно сделать вывод, что большинство выигравших находятся в преклонном возрасте. Если задуматься, получается, что в Лотерею играют только из страха перед смертью.
– Это понятно, – сказал я. – И, конечно, проект «Бессмертие» вырос именно из этого страха смерти.
– Да… но система Лотереи кажется совершенно беспристрастной. Когда я поступила на это место, то думала, что лечение проходят только те, кто болен. А потом я просмотрела приходящую нам почту. Каждый день мы получаем сотни писем от людей, которые лежат в больницах и молят о лечении. Но наша клиника не может принять и малую часть этих людей.
– А что вы делаете с этими письмами?
– Ответ тебе не понравится.
– Скажи!
– Отсылаем им формальный ответ и бесплатный билет ближайшего тиража. Но билет мы отсылаем только тем, кто тяжело болен и лежит в больнице.
– Это должно быть для них утешением, – сказал я.
– Но они надеются на другое! Такой вид отказа неприятен для всего бюро, но со временем привыкаешь, потому что это необходимо. Предположим, мы начнем лечить от рака всех… но дать бессмертие невесть кому только потому, что он болен? Ворам, взяточникам, моральным разложенцам – ведь они, как и любой другой, болеют раком.
– Зато это было бы гуманно, – сказал я, думая, что воры и моральные разложенцы тоже могут выиграть в Лотерею.
– Это невыполнимо, Питер. У нас в бюро есть брошюра, которую я тебе дам прочитать, если ты захочешь. В ней приводятся аргументы Общества Лотереи против всеобщего лечения. Существуют тысячи, может быть, миллионы больных. Клиника не может вылечить их всех. Лечение дорогое и длительное. Поэтому необходимо всякий раз проверять каждого в отдельности и отбирать достойных. Таким образом, число кандидатов в пациенты может превысить несколько сотен в год. Но кто должен производить этот отбор? Кто может решить, заслуживает ли один человек жизни, в то время как другой должен умереть? Некоторое время это может работать… но очень скоро кто-нибудь откажется от лечения, под влиянием пропаганды или из политических соображений. Те, кто получит это лечение, начнут продавать места – и вот уже вся система коррумпирована.
Я чувствовал кожу ее предплечья, пока мы рука в руке шли по деревенскому выгону. Кожа была холодной, я тоже озяб, и мы по молчаливому согласию пошли обратно, к нашей мансарде. Вокруг возвышались черные горы; все было тихо.
– Ты отговорила меня от лечения, – сказал я. – Не хочу иметь с этим ничего общего.
– Я считаю, что ты должен принять лечение.
– Но почему?
– Я же сказала, сама полна сомнений, – она замерзла. – Давай вернемся в дом, и я объясню.
После неожиданно сильно охладившегося высокогорного воздуха мансарда показалась нам очень теплой. Я коснулся стропил, потрогал тонкую дощатую крышу и почувствовал, что та еще излучает тепло, накопленное за день.
Мы сели на край кровати, очень стыдливо. Сери взяла мою руку и стала ласкать ладонью мои пальцы.
– Ты должен принять лечение, потому что Лотерея организована справедливо… Лотерея – единственное, что позволяет избежать коррупции. Прежде чем получить здесь место, я тоже слышала истории, которые ходят повсюду, – ты и сам знаешь – о тех, кто тщетно старается купить лечение за деньги, и так далее. Первое, что нам говорят, когда берут на работу в Лотерею, это что все эти слухи ложны. И даже представляют так называемые доказательства – общее количество сыворотки, которое можно синтезировать при максимальной производительности установок. Оно точно соответствует ежегодному числу выигравших в Лотерею. Общество чувствует себя обязанным вмешаться и изо всех сил старается убедить общественность… пока не начнет думать, что ему это удалось.
– А ему это удавалось?
– Так должно быть, Питер. Вспомни случай с Манкиновой.
Иозеф Манкинова был ведущим премьер-министром Багонии, одного из северных нейтральных государств. Ввиду стратегической важности своего положения, запасов нефти и того, что там пересекались важнейшие морские пути, Багония имела большое политическое и деловое значение, которое ни в коей мере не соответствовало ее размерам. Манкинова, политик из крайне правых, руководил Багонией за год до войны, однако двадцать пять лет назад был вынужден уйти, так как появились доказательства того, что он, используя политическое давление, добился лечения бессмертием. Веских доказательств тому, конечно, никто не представил. «Лотерея Коллажо» с возмущением и соответствующими упреками отмела обвинения, но вскоре при загадочных обстоятельствах погибли два журналиста, занявшихся расследованием. События, связанные с этим делом, ушли в прошлое, разразившийся тогда скандал, со временем забылся, а Манкинова, лишившийся своего места в правительстве, погрузился в личную жизнь. Но недавно, за несколько месяцев до того как я покинул Джетру, эта история снова всплыла. В нескольких газетах появились снимки, которые показывали Манкинову сегодня. Судя по тому, что он и сейчас выглядел не старше, чем в день своего ухода, подозрения были справедливы. Это был человек лет шестидесяти с небольшим, который выглядел на десять лет моложе.
Я сказал:
– Наивно верить, что такого не может быть.
– Я не наивна. Но число тех, кто может получить лечение, действительно ограничено, и каждый, кто получает главный выигрыш, а потом отказывается от него, делает возможными такие манипуляции.
– Теперь предположим, что я заслужил жизнь, а кто-то другой нет.
– Нет… это уже решает компьютер. Ты выиграл, на твой лотерейный билет пал выигрыш. Совершенно случайно. Поэтому тебе нечего сомневаться.
Я уставился на потертый матрас и попытался оспорить услышанное, но все, что сказала Сери, было уместно, и мои сомнения стали сильнее. Конечно, меня привлекала возможность длинной, здоровой жизни, и идея отказаться от лечения требовала от меня сил, которых мне до сих пор не хватало. Я был не Делуан, человек твердых принципов и неколебимой морали. Я, жизнелюб, хотел долгой жизни, и часть моего «я» никогда бы не смогла отказаться от этого. Но в то же время меня точило нехорошее чувство, для которого не было совершенно никаких оснований. Это просто ничего не значило для меня.
Я задумался о Сери. До этого мы были парой, которую жизнь случайно свела; малознакомыми людьми, которые переспали и, вероятно, не в последний раз, но при этом духовно никак не связаны. Возможно, наше влечение разовьется, мы будем жить вместе, узнаем друг друга и, может быть, влюбимся в традиционном смысле этого слова. Я попытался представить себе, что произойдет, если я пройду лечение, а она нет. Она – или какая-нибудь другая партнерша, с которой я свяжу свою жизнь, – станет неудержимо стареть, а я останусь неизменным. Мои друзья и родные будут подвержены естественному биологическому процессу старения, а я застыну в своем теперешнем состоянии. Окаменею.
Сери встала, разделась и пустила воду в раковине. Я наблюдал за ее стройной спиной, когда она мыла лицо и руки. У нее было стройное, уже знакомое тело, хорошо сложенное и гибкое. Я перевел взгляд со спины на плечи и улыбнулся.
– Почему ты так пристально рассматриваешь меня?
– А почему бы и нет? – спросил я в ответ.
Но думал я о другом. О том, какое я должен принять решение. Это был конфликт между сердцем и разумом. Я хотел следовать инстинктам, своим эгоистическим желаниям, но потом счел за лучшее забыть свои сомнения, поехать на Коллажо и получить бессмертие; мне также хотелось прислушаться к голосу рассудка, но я не сделал этого.
Затем мы снова оказались в постели. Сери лежала на моей руке, голова на моей шее, рука на моей груди.
– Ты хочешь ехать на Коллажо? – спросила она.
– Еще не знаю.
– Если да, я поеду с тобой.
– Почему?
– Я хочу быть с тобой. Я уже сказала, что отказываюсь от своего места в Обществе Лотереи.
– Это мне нравится, – сказал я.
– Но я хочу быть уверена…
– Что я пройду лечение?
– Нет… что ты, если это сделаешь, не будешь раскаиваться. Я не могу сказать почему, – она беспокойно заворочалась, оперлась на локоть и взглянула на меня. – Питер, в лечении есть что-то, что мне не нравится. Это меня пугает.
– Оно опасно?
– Нет, не опасно, никакого риска нет. Дело в том, что произойдет после. Я, собственно, не могу этого выразить.
– Нет уж, постарайся, – сказал я.
– Ладно, – ее губы коснулись моей щеки. – Когда ты прибудешь в клинику, тебе предстоит некоторая подготовка. В частности, полное медицинское обследование. Для этого тебе придется заполнить вопросник. В бюро мы называем его самым длинным формуляром в мире. В нем ты должен будешь дать сведения обо всем, что касается лично тебя.
– Итак, я должен буду написать нечто вроде автобиографии.
– Похоже, что да.
– Это я слышал еще в Джетре, – сказал я. – Что это будет вопросник, не говорили, только сказали, что перед лечением я должен буду написать полный отчет о своей жизни.
– Тебе объяснили почему?
– Нет. Я думал, это часть лечения.
– Это не связано с самим лечением. Лечение бессмертием не связано с лечением в обычном смысле этого слова – это нечто вроде очищения твоего тела со всеми его системами. Тело обновляется, память же при этом стирается. Ты потеряешь память.
Я ничего не сказал, только серьезно взглянул ей в глаза.
– Вопросник, – сказала она, – станет основой твоей новой жизни. Ты станешь тем, что напишешь. Тебя это не пугает?
Я подумал о долгих месяцах на вилле Колена в холмах над Джетрой, о своих стараниях рассказать правду и различных средствах, которые я использовал, чтобы найти эту правду, уверенность, что мне это удастся, и, наконец, чувство обновления, наполнившее меня после. В той рукописи, что лежала сейчас в номере гостиницы в Марисее, моя жизнь была описана так полно, как только это возможно в строгом смысле слова. Я уже был тем, что написал. Я стал плодом своего труда.
– Нет, это меня не пугает, – ответил я.
– Меня тоже, – сказала она. – Поэтому я хочу быть с тобой. По-моему, вряд ли можно утверждать, что пациент снова обретет свое «я» в полном объеме.
Я обнял ее, прижал к себе, и хотя она сначала сопротивлялась, но скоро сдалась и снова легла со мной.
– Я еще ничего не решил. Но думаю, что отправлюсь на Коллажо и приму решение там.
Сери обняла меня и ничего не сказала.
– Я сам должен решить, что для меня хорошо, а что – нет, – сказал я.
Спрятав лицо на моей груди, Сери пробормотала:
– Можно мне поехать с тобой?
– Да, конечно.
– Поговори со мной, Питер! Расскажи мне, кто ты, пока мы будем в пути. Я хочу узнать тебя.
Вскоре мы заснули. Ночью мне приснилось, что я вишу на тросе под водопадом, меня немилосердно мотает и раскачивает под падающими потоками воды. Постепенно члены мои застывали, дух захватывало, пока во сне я наконец не поменял позу и сон не кончился.
Глава десятая
В Шеффилде шел дождь. Мне предоставили маленькую спальню в передней части здания, и, когда я хотел, я мог оставаться там один. Иногда я часами стоял у окна и смотрел вниз, на крыши индустриальной застройки по ту сторону от нас. Шеффилд был ужасным, функциональным городом, чьи лучшие времена как центра горнорудной промышленности остались в далеком прошлом, теперь это была беспорядочная путаница городской застройки, которая на западе вгрызалась в центр Пеннси, а на востоке сливалась с маленьким городком Нотерхемом. В этой части Шеффилда и находился дом Фелисити и Джеймса.
Гринвей-парк был утопающим в садах чистым островком домиков на одну семью, окруженным мрачными предместьями. В центре поселения была оставлена свободная площадка с полморгена, засаженная молодыми деревьями, которую жильцы использовали для выгула собак. У Фелисити и Джеймса была собака по кличке Джаспер или Джаспербой.
С момента приезда меня одолевало угрюмое нежелание общаться. Я признал, что Фелисити доказала мне: в сельском домике Эдвина я вел жизнь, недостойную человека, и пришло время отказаться от этой жизни затворника; я стал послушным и проявил силу воли. Я знал, что во всем виноват мой болезненный интерес к рукописи, и поэтому старался выбросить ее из головы, но одновременно был убежден, что проделанная мной работа имеет решающее значение для точного определения моих чувств и что Фелисити силой увезла меня оттуда. Следствием этого был глубоко затаившийся гнев, и меня все время тянуло назад.
Я чувствовал себя в их доме инородным телом и от этой мысли о второстепенности испытывал ярость. Я не упускал ничего, замечал все. Мое критическое отношение распространялось на дом, на их привычки, их мнения. Мне не нужны были их друзья. Я задыхался от их близости, их обыденности, будничности. Я часто наблюдал как Джеймс, у которого уже отросло маленькое брюшко, ест, как вечерами он тренируется, желая избавиться от того, что приобрел. Я примечал что за телевизионные программы здесь смотрят, что за еду варит Фелисити, о чем болтают дети. Эти двое, Алан и Тамсин, некоторое время были моими союзниками, потому что со мной тоже обращались как с ребенком.
Я подавил свои чувства. Я попытался приспособиться к их жизни, участвовать в ней, выказать благодарность, которую мне полагалось испытывать, но мы с Фелисити просто слишком далеко отошли друг от друга. Все в моей жизни опротивело мне. Прошло много недель. Минула осень, пришла зима. Рождество оказалось короткой передышкой: дети стали важнее, чем я. Но в основном мы раздражали друг друга.
Каждый второй уикэнд мы в «вольво» Джеймса ехали по Херсфордширу в сельский домик Эдвина. Этих поездок я боялся, хотя Фелисити и Джеймса они, казалось, радовали. Фелисити утверждала, что эти поездки привьют детям любовь к сельской жизни и внушат уважение к природе, а Джаспер сможет вволю побегать.
Дом постепенно «принимал вид», как говорил Джеймс. Он часто звонил Эдвину и Марджи, чтобы сообщить им, что ремонт успешно продвигается. Мне все время приходилось работать в саду. Прореживать перепутанную чащу заслонивших все кустарников и относить сучья на кучу компоста. Джеймс, Фелисити и дети занимались внутренним ремонтом. Моя белая комната, которая со времени моего прошлого посещения не изменилась, первой подверглась их нашествию; кремовые стены создавали приятный фон для занавесей, которые Марджи описала Фелисити по телефону. Джеймс нанял местных электриков и штукатуров, а также сантехников, те привели в порядок электропроводку и канализацию, влажные стены скоро обрели тот вид, который отвечал желанию Эдвина и Марджи.
Однажды в выходные Фелисити, пока я работал по другую сторону дома, помогала мне в саду; она с корнями вырвала жимолость и бросила ее на огромную кучу, которая со временем перепреет и превратится в удобрение для сада.
Я сказал:
– Это была жимолость.
– Что бы это ни было, оно уже умерло.
– Растения сбрасывают листья на зиму, – сказал я. – Так предписала им природа.
– Тогда это точно не жимолость, потому что она вечнозеленая.
Я взял растение с кучи компоста и снова посадил, но когда через три недели мы возвратились, я увидел, что оно таинственным образом исчезло. Я был очень опечален этим актом вандализма, потому что любил жимолость. Я вспомнил, как пахли ее листья по вечерам, когда писал в своей белой комнате у открытого окна, и этот эпизод по-новому воздействовал на мою рукопись. Как только мы снова вернулись в Гринвей-парк, я достал рукопись из чемодана, куда ее спрятал, и снова начал перечитывать.
Сначала это давалось нелегко – я почему-то разочаровался в том, что написал. Казалось, фразы, созданные за недели работы над этой рукописью, то ли загрубели, то ли подпортились. Найденные мной слова, к сожалению, оказались только бледным отражением того, что я представлял себе. Более поздние страницы были лучше, но меня это не порадовало.
Я знал, что рукопись обязательно следует переработать еще раз, но что-то удерживало меня от этого. Вероятно, боялся того, что написал; едва я убрал рукопись в чемодан, я смог позабыть об этом, а Фелисити больше ни о чем мне не напоминала. Все говорили, что я полностью исправился.
Рукопись была напоминанием о моем прошлом, о том, чем я мог быть. Это представляло для меня опасность, это увлекало и будоражило, развивало фантазию, а вот реальность вызывала разочарование.
Я пристально посмотрел на не радующие меня страницы, разбросанные по полу в моей комнате, потом встал, подошел к окну, взглянул на город и на далекие Пеннины, а затем собрал страницы, разложил по порядку и убрал в чемодан. Весь остаток дня я простоял у окна, праздно теребя комнатные растения Фелисити, которые в плетеных корзинках висели у окна под потолком, и наблюдал, как в городе зажигаются огни, а Пеннины исчезают в дымке сумерек.
В начале нового года погода ухудшилась, а с ней и атмосфера в доме. Дети не хотели больше играть со мной, и, хотя Джеймс по-прежнему держался со мной дружелюбно, Фелисити держалась почти откровенно враждебно. За обедом она ставила передо мной еду в напряженном молчании, а если я был готов что-нибудь сделать по дому, говорила, что мне нечего путаться у нее под ногами. Я все больше времени проводил в своей комнате, где стоял у окна и смотрел на далекие заснеженные холмы. Цепь Пеннин была важнейшей частью моего духовного окружения. Детство в одном из предместий Манчестера: хорошие дома и улицы по соседству, сады поблизости от школы, но при взгляде на восток всегда волнистая линия Пеннин, темных и диких. Теперь я был по другую их сторону, но холмы остались прежними: дикая глушь, разделяющая Англию надвое. Мне казалось, что они символ нейтралитета, граница, отделяющая мою прошлую жизнь от настоящей. Может быть там, в узких извилистых долинах среди известняковых скал, карстовых воронок и горных пустошей есть отвлеченное указание на то, где изменилась моя жизнь? На таком маленьком острове, как Англия, передовом и цивилизованном, было мало разнообразия. Только море и горы, и Шеффилд был ближе к последним. Мне нужно было что-то очень простое, чтобы найти себя.
Однажды по наитию я спросил детей, посещали ли они когда-нибудь вершину Кастлтон глубоко в Пеннинах? Оказалось, нет, и они стали умолять родителей дать им возможность посмотреть на отверстие без дна, расщелину Голубого Джона и пруд, в котором вещи превращаются в камни.
– Это ты их научил, Джон? – спросила Фелисити.
– Будет совсем неплохо съездить на экскурсию в Пеннины.
– Джеймс никогда не ездит туда, пока лежит снег.
К счастью, скоро погода изменилась, теплый ветер и дождь растопили снег, и темные контуры Пеннин четко обрисовались на фоне неба. Пару дней казалось, что дети забыли о моей идее, но потом Алан без моих напоминаний снова начал уговаривать родителей. Фелисити сказала, что они посмотрят, нахмурившись бросила на меня взгляд и сменила тему.
Я снова взялся за рукопись, потому что почувствовал, как что-то во мне пришло в движение. На этот раз я хотел все прочесть и подвергнуть строгой критике. Я хотел выяснить, что именно я написал, а не как я написал это. Потом следовало решить, нужна новая переработка рукописи или нет.
Стилистически начальные страницы были хуже, однако, едва взявшись за них, я обнаружил, что читать очень легко. У меня создалось впечатление, что я не столько читал, сколько многое вспоминал. Я чувствовал, как в моей голове появляются слово за словом, и что от меня требуется только держать страницы в руках и переворачивать их одну за другой, а их содержание само собой возникает в моем сознании.
Я всегда верил в то, что в этих страницах содержится суть моего «я» и теперь, вновь соприкоснувшись с плодами своих трудов того длинного лета, ощутил необычайные уверенность и воодушевление. Казалось, я удалялся от самого себя, чтобы снова обрести себя. Я чувствовал себя уверенным, разумным, открытым и энергичным.
Пока я читал, Джеймс устанавливал книжные полки, хотя в доме почти не было книг. Но у Фелисити было несколько горшков с цветами и декоративными растениями, которым требовалось место. Резкий вой электрической дрели прервал мое изучение неверно расставленных знаков препинания.
Я рассматривал свою работу как нечто само собой разумеющееся. В течение всех этих недель, проведенных в доме Фелисити, чувствуя себя внутренне нездоровым, я пренебрегал своей личностью. Здесь, на страницах рукописи, было все, что я упустил в жизни. Я снова прикоснулся к своему «я».
Некоторые отрывки при их рассмотрении оказались весьма остроумными. Мысли, несомненно, были нетривиальными, изложение – завершенным и последовательным. Я читал страницы как откровение, чувствуя, как ко мне возвращаются уверенность и доверие к себе. Я снова начал жить, как уже жил во время предыдущего процесса писания. Я узнал правду такой, какой создал ее. Кроме того, я определил развитие сюжета, который сам же придумал, и декорации, в которых разворачивалось действие.
Фелисити, в реальной жизни неузнаваемо изменившуюся из-за детей, мужа и собственного поведения, я назвал «Калией». Джеймс присутствовал как бы в тени, и его звали «Яллоу». Грейс была «Сери». Я снова жил в городе Джетра, у моря, с видом на острова. Я сидел за своим столом в доме Фелисити, уставившись на Шеффилд и темные силуэты Пеннин с их мрачными горными пустошами и высокогорными болотами, и мне чудилось, что точь-в-точь как в заключительных абзацах рукописи, стою на возвышенности Сеньор-парк в Джетре и смотрю сверху на крыши города и на море.
Острова Архипелага, как и Пеннины, были нейтральной территорией, местом прогулок, границей раздела между прошлым и настоящим, возможностью бегства.
Я дочитал рукопись до конца, до последней, незаконченной фразы, затем спустился вниз, чтобы помочь Джеймсу в работе по дому. Фелисити предложила, чтобы мы в конце недели вместе поехали в Кастлтон на «славный пикничок».
Ко дню пикника настроение у меня значительно поднялось. Утром Фелисити собрала корзину для пикника и сказала, что мы можем поехать на машине, если пойдет дождь, но только до самой деревни, которую она выбрала для пикника. Я предвкушал свободу, прогулки, бесцельную ходьбу по окрестностям. Джеймс провел свой «вольво» через суматоху уличного движения в центре Шеффилда, потом мы поехали вверх, в Пеннины, по дороге на Чапелин ле Фрит, мимо нежных зеленых горных лугов и галечных склонов из выветренного песчаника. Ветер бил в машину и, к моему удивлению, дул то с одной стороны, то с другой. На горизонте темнели холмы, дальние утесы, которые для меня всегда были границей мира. Я сидел на заднем сиденье между Аланом и Тамсин и прислушивался к объяснениям Фелисити. Собака ехала сзади, в открытой части нашего комби.
Мы припарковались на маленькой свободной площадке у края деревни Кастлтон и все вышли из машины. Порывистый ветер раздувал одежду и волосы и сек нас редкими каплями дождя. Дети закутались в плащи с капюшонами, и Тамсин сказала, что хочет в туалет. Джеймс запер машину и проверил, все ли дверцы надежно закрыты.
Я сказал:
– Мне кажется, мне надо побыть одному.
– Не забудь про обед! Нам еще хочется осмотреть пещеру.
Они, довольные, отправились в путь, хотя я не пошел с ними. У Джеймса был дорожный посох, а Джаспер радостно прыгал вокруг хозяев.
Я остался один и теперь стоял, глубоко засунув руки в карманы, и осматривался, прикидывая, в какую сторону лучше пойти. На стоянке была еще одна машина: зеленый, потертый, с ржавыми пятнами «Триумф Геральд». Женщина, сидевшая за рулем, наблюдала за мной. Теперь она открыла дверцу, вышла из машины и встала так, что я мог ее видеть.
– Привет, Питер, – сказала она, и я наконец узнал ее.
Глава одиннадцатая
Темные волосы, темные глаза: я почти тотчас же обратил внимание. Ветер сдул пряди с лица и открыл довольно широкий лоб, глаза, под которыми были синие круги и которые казались запавшими – Грейс была все так же стройна, и ветер только подчеркивал это. Она была в своей старой шубке, которую мы однажды летом в субботу купили на распродаже подержанной одежды в Кемден-Лок. Подкладка тогда была немного порвана. У шубки изначально не было пуговиц, и Грейс приходилось придерживать полы, для чего пришлось сунуть руки в карманы.
Однако, пока я глазел на нее, она стояла на ветру, прямо. И была такой, какой всегда: высокой, растрепанной и небрежной, с угловатыми чертами, отвыкшей от сельской местности и открытого неба и привыкшей к жизни в Лондоне, к большим домам, к улицам и подземным переходам города. Там она была у себя, но здесь ей все казалось чужим и неподходящим. Цыганская кровь, как она однажды сказала мне, но она едва ли когда-нибудь покидала Лондон и уж точно никогда не бродила по проселочным дорогам.
Я направился к ней, удивленный ее знакомым обликом не меньше, чем ее присутствием здесь. Я не думал, только замечал. На одно тоскливое мгновение мы остановились у машины и оба не знали, что сказать. Но потом неожиданно – и порывисто – обнялись. Мы крепко сжимали друг друга, но не целовались; ее щека была холодной, а мех шубки – мокрым. На меня нахлынули облегчение и счастье, радостное удивление оттого, что она здорова и невредима и что мы снова вместе. Я обнимал и обнимал ее, не желая упускать реальность ее тонкого тела, и скоро мы оба заплакали. Грейс прежде никогда не заставляла меня плакать, я ее тоже. В Лондоне мы оба считались образованными, неглупыми людьми, что соответствовало действительности, однако в конце, в месяц перед нашей разлукой, отношения между нами стали натянутыми, и мы подавляли свои чувства. Мы держались друг с другом холодно, и для нас стало обычным манерничанье, порождающее само себя. Мы слишком давно знали друг друга, чтобы вот так просто разорвать отношения.
Внезапно я понял, что Сери, через которую я пытался понять Грейс, никогда не существовала. Грейс, которая вцепилась в меня, как я в нее, ускользала от определения. Грейс была Грейс: непостоянной, сладостно-ароматной, забавной, непредсказуемой. Я мог бы определить Грейс только через наши отношения, а уж через нее – себя. Я еще крепче прижал ее к себе, приник губами к ее шее. Когда Грейс подняла руки, чтобы обнять меня, шубка распахнулась, и я почувствовал через юбку и блузку стройное тело. Она была в той самой одежде, которую я видел на ней в конце прошлого года.
Наконец я оторвался от нее, но мы не разняли рук. Она стояла потупясь, потом высвободилась, высморкалась в носовой платок, слазила в машину за сумочкой и захлопнула дверцу. Я снова обнял ее, но не прижал к себе. Она поцеловала меня, и мы рассмеялись.
– Не думал, что снова увижу тебя.
– Я тоже. Я долго не хотела этого.
– Где ты жила?
– Переехала к подруге, – она на мгновение отвела взгляд. – А ты?
– Я некоторое время жил в деревне. Мне там многое стало ясно. А потом перебрался к Фелисити и сейчас живу там.
– Я знаю. Она мне говорила.
– Так ты поэтому…
Она взглянула на «вольво» Джеймса, потом сказала:
– Фелисити обмолвилась, что ты будешь здесь. Я хотела увидеть тебя.
Конечно, это Фелисити организовала нашу встречу. С тех пор как в один из уикэндов я съездил в Шеффилд вместе с Грейс, Фелисити всячески старалась подружиться с ней. Несмотря на это, они отнюдь не были подругами в привычном смысле этого слова. Отношение Фелисити к Грейс было покровительственным, с постоянной оглядкой на меня. Она видела в Грейс жертву моих недостатков, а потому помогала Грейс и поддерживала ее, выражала ей свое неодобрение в мой адрес, к тому же у них было нечто общее: ответственность и женская солидарность. Как уже сказано, Фелисити организовала встречу у себя в Гринвей-парк; вероятно, она, сама того не подозревая, гнушалась Грейс. Грейс была всего-навсего раненой птичкой, бедной Божьей тварью, которой нужно помочь лубком и ложкой теплого молока. То, что эту рану нанес я, конечно, заставляло сестру чувствовать ответственность за случившееся.
Держась за руки и прижимаясь друг к другу плечами, мы шли в деревню, не обращая внимания на холодный ветер. Моя душа ожила, я испытывал необычный подъем духа. После смерти отца я ни разу еще не чувствовал себя так свободно и непринужденно. Я слишком долго был погружен в прошлое и слишком занят собой. Все, что кипело во мне, теперь нашло выход. С Грейс вернулась часть моего прошлого.
Главную улицу деревни, узкую и извилистую, окружали серые каменные дома. Шумные пешеходы поднимали на чуть влажной улице облачка пыли, которую ветер бросал им в лицо.
– Мы можем где-нибудь выпить кофе? – спросила Грейс.
Она пила много дешевого растворимого кофе, приятного на вкус, с белым сахаром. Я сжал ее руку, вспомнив о нелепой ссоре, которая однажды произошла между нами.
На крошечной боковой улочке мы нашли кафе, пристройку к чуть отстоящему от других зданию с огромным витринным окном, окруженную металлическими столиками. Точно в центре каждого столика стояла маленькая пепельница. Мы зашли. Стояла такая тишина, что мы подумали, будто уже закрыто, однако, когда мы сели, женщина в кухонном фартуке вышла принять заказ. Грейс заказала два яйца всмятку и кофе; по ее словам, она выехала из дома в половине восьмого.
– Ты все еще живешь у подруги? – спросил я.
– Сейчас нет. Именно об этом я и хотела поговорить с тобой. Я скоро должна съехать, и у меня есть кое-что на примете. Я хочу знать, стоит мне брать это или нет.
– А цена?
– Двенадцать фунтов в неделю, по государственным расценкам. Но этаж подвальный и не очень хорошее место.
– Бери! – сказал я, вспомнив о ценах на квартиры в Лондоне.
– Это все, что я хотела знать, – сказала Грейс и встала. – Мне пора.
– Что?
Она направилась к двери, а я пораженно уставился ей вслед. Но я забыл про совершенно особое чувство юмора Грейс. Она нагнулась к вставленному в дверь стеклу, кончиком пальца нарисовала на нем крендель и вернулась за столик. Проходя мимо, она потрепала меня по волосам. Прежде чем сесть за столик, она сняла шубку и перекинула ее через спинку стула.
– Почему ты мне не написал?
– Я… но ты же тогда мне не ответила.
– Твое письмо пришло слишком рано. Почему ты не написал мне снова?
– Я не знал, где ты. И у меня сложилось впечатление, что твоя соседка не передаст тебе мое письмо.
– Ты мог найти меня. Твоей сестре это удалось.
– Я знаю. Настоящая причина… Я решил, ты не захочешь меня слушать.
– А я хотела, – она взяла пепельницу и принялась вертеть в пальцах. Улыбнулась. – Мне кажется, я искала возможность забыть тебя. По крайней мере сначала.
– Я действительно не представлял, в каком ты была смятении, – сказал я, и моя совесть напомнила мне о летних днях, которые я провел в сельском домике Эдвина, полностью погруженный в безумие создания рукописи. Я выкинул Грейс из головы, чтобы найти себя. Соответствовало ли это истине?
Женщина вернулась и поставила перед нами две чашки кофе. Грейс положила сахар и медленно размешала.
– Послушай, Питер, теперь все уже позади, – она потянулась через стол, взяла мою руку и крепко сжала. – Я преодолела это – у меня было много проблем, и некоторое время мне было трудно. Мне нужна была передышка, и все. Я встречалась с другими, общалась со многими. Зато все выдержала. А как насчет тебя?
– Думаю, точно так же, – сказал я.
Грейс – и это был факт – вызывала у меня постоянное влечение. После небольшой разлуки я сразу начинал представлять, что она ложится в постель с другим, и худших картин мое воображение не могло нарисовать. Она часто высказывала вслух угрозы, которые должны были помочь нам держаться друг за друга, но которые в итоге развели нас. Когда я наконец убедил себя, что мы завершили наш совместный путь, это была единственная возможность покончить со всем этим, но я упорно гнал прочь все мысли о ней. Моя жажда обладания была неразумна. И теперь, когда мы с ней сидели в этом негостеприимном кафе, я подумал то же самое: непричесанные волосы, свободно ниспадающая промокшая одежда, бесцветная кожа, неопределенность взгляда, нервозность как выражение внутреннего напряжения. Прежде всего, это способствовало тому, что Грейс всегда охотно имела со мной дело, даже если я того не заслуживал.
– Фелисити сказала, что ты нездоров, что ведешь себя странно.
– Это же Фелисити, – ответил я.
– Ты уверен?
– Мы с Фелисити не всегда хорошо ладили, – сказал я. – Между нами возникло отчуждение. Она хочет, чтобы я был таким же, как она. У нас различные точки зрения.
Грейс, наморщив лоб, смотрела на чашку.
– Она рассказывала о тебе пугающие вещи. Я хотела поговорить с тобой об этом.
– И поэтому ты здесь?
– Нет… только отчасти.
– Что она тебе рассказала?
И, глядя на меня, она ответила:
– Что ты снова пьешь, и только.
– Ты веришь, что это правда?
– Не знаю.
– Посмотри на меня и скажи.
– Нет, не похоже.
Она быстро взглянула на меня, но потом снова опустила взгляд, взяла чашку и допила кофе. Женщина принесла яйца всмятку.
– Фелисити мыслит приземленно, – сказал я. – Ее голова забита неверными представлениями обо мне. После нашей разлуки мне ничего не хотелось, только быть одному и попытаться понять себя.
Я замолчал, потому что мне внезапно пришлось отогнать непрошеную мысль, которая в последние недели часто меня посещала. Я знал, что никогда не расскажу Грейс ни свою, ни любую другую историю сродни той, что вытянула из меня моя рукопись. Только там была правда. Покажу я когда-нибудь Грейс рукопись?
Я подождал, пока Грейс покончит с едой – она быстро съела первое яйцо, потом второе (ее сосредоточенность на еде никогда еще не была столь долгой), затем заказала еще чашку кофе. Потом закурила сигарету. Мучимый сомнениями я ждал, пока она докурит.
Я сказал:
– Почему ты не повидалась со мной в прошлом году? После ссоры?
– Не могла, и все. У меня хватало дел, и было еще слишком рано. Я хотела тебя видеть, но ты все еще критически относился ко мне. Я была просто раздавлена. Мне требовалось время, чтобы снова прийти в себя.
– Извини, – сказал я. – Не стоило говорить такие вещи.
Грейс снова покачала головой.
– Теперь это все равно.
– Ты пришла сюда за этим?
– А теперь уйду. Я уже говорила тебе, что чувствую себя намного лучше.
– Ты… э… была с другим?
– А что?
– А то, что это важно. Я имею в виду, очень важно, – я чувствовал, что рискую вновь что-то сломать.
– Да. Недолго. В прошлом году.
В прошлом году: это звучало так, словно речь шла о давних событиях, но прошлый год закончился всего три недели назад, а мне казалось, что это было очень давно. Я распознал свое неразумное желание быть собственником.
– Это был просто друг, Питер. Хороший друг. Он позаботился обо мне.
– Уж не он ли та «подруга», у которой ты жила?
Она поколебалась.
– Да, но я уже давно решила уехать. Не будь эгоистом, прошу тебя, не будь! Я едва не наложила на себя руки, попала в больницу, а когда вышла оттуда, тебя не было и подвернулся Стив.
Я хотел расспросить Грейс о нем, но вовремя понял, что просто хочу потребовать у нее ответа, а вовсе не услышать ответ. Глупо и безосновательно, но я злился на этого Стива за то, что он существовал, за то, что он был ее другом. И еще больше – за то, что он разбудил во мне ревность, от которой я хотел избавиться. Разрыв с Грейс зависел от меня, подумал я, поэтому я так ее ревную. И вот я снова здесь. Этот Стив в моем представлении был тем, чем сам я никогда не был и не мог быть.
Грейс посмотрела на меня. Она сказала:
– Глупо, Питер.
– Я знаю, но ничего не могу поделать.
Она отложила сигарету и снова взяла меня за руку.
– Ну послушай, со Стивом покончено, – сказала она. – Как ты думаешь, зачем я приехала сюда? Ты мне нужен, Питер, потому что, несмотря ни на что, ты все такой же. Я хочу попробовать еще раз.
– Я тоже, – сказал я. – Но что, если все снова пойдет наперекосяк?
– Нет. Я постараюсь, чтобы был порядок. Когда мы расстались, мне стало ясно, что мы должны сделать все, чтобы обрести уверенность. Я была тогда неправа. Ты всегда старался все наладить, а я только разрушала. Я знаю, что произошло, чувствую это по себе, я так одержима, так отвратительна! Я начала презирать тебя, потому что ты так старался, потому что не видел, как я отвратительна. Я ненавидела тебя за то, что ты не испытывал ко мне ненависти.
– Я никогда не испытывал к тебе ненависти, – сказал я. – Все просто шло наперекосяк, снова и снова.
– И теперь я знаю почему. Все то, что раньше порождало напряжение, теперь исчезло. У меня теперь есть положение, есть убежище, я снова вошла в круг своих друзей. Тогда я в основном зависела от тебя. Теперь все изменилось.
Изменилось больше, чем она думала: я тоже стал другим. Казалось, что она обладала всем, что некогда было у меня. Все, что у меня было теперь – самопознание, на бумаге.
– Позволь мне подумать, – сказал я. – Я хочу попробовать еще раз, но…
Но я так долго жил в неизвестности, что уже привык к ней; я стыдился нормальности Фелисити и надежности Джеймса. Я приветствовал неизвестность следующего приема пищи, болезненное очарование одиночества, обращенную внутрь себя жизнь. Неизвестность и одиночество гнали меня внутрь, открывали мне меня. Между мной и Грейс снова возникло неравновесие того же вида, но с противоположным раскладом сил. Был ли я лучше подготовлен к этому, чем она?
Я любил Грейс; теперь, когда она сидела возле меня, я почувствовал это. Я любил как никогда никого, тем более себя – это стало мне ясно только из рукописи, из романтического отчуждения, из ошибок памяти. Работа над рукописью улучшила мое «я», но то был искусственный продукт. Я должен был найти новое в себе, но так и не смог найти Грейс. Я вспомнил о трудностях, возникших при попытке описать ее в образе девушки по имени Сери. Я очень многое упустил – и, чтобы заполнить пробелы, сделал ее более удобной для себя. Например слова, какие употребляла Сери, Грейс не употребляла никогда, но никак иначе я не мог ее описать. Грейс в описании многого лишилась, но мне так было значительно легче.
Тем не менее мои попытки достигли цели. Создавая Сери, я от многого отказался, зато открыл другое. Это подтвердила Грейс.
Минуты шли в молчании, и я уставился на круглый столик кафе, внутренне движимый своими словами и переживаниями. Я ощутил то же настоятельное желание, которое подгоняло меня во время первой попытки писать: потребность распутать клубок своих идей и внятно изложить их; объяснить то, что, возможно, лучше было бы оставить без объяснения.
То, что я писал, всегда было моим созданием, та же участь постигла и Грейс, когда я попытался понять ее через Сери. Ее второе «я», моя удобная Сери стала ключом к ее реальности. Мне никогда не дано было понять Грейс, однако теперь появилась Сери, и при помощи этого шаблона мне, пожалуй, удалось кое-что понять в Грейс.
Острова Архипелага Мечты были всегда со мной, и Сери, как призрак, всегда сопровождала мое влечение к Грейс.
Приходилось упрощать, чтобы унять внутреннее волнение; я знал слишком много и понимал слишком мало.
В центре всего находился абсолют. Я обнаружил, что всегда любил Грейс. Я сказал ей:
– Я действительно сожалею, что тогда все пошло наперекосяк. Это не твоя вина.
– Неправда.
– Мне все равно. Виноват был я. Но все это уже в прошлом, – у меня появилась мучительная мысль, что разлуку можно как-то определить с помощью моей рукописи. Может ли это быть так просто? – Что нам теперь делать?
– Что ты хочешь. Поэтому я здесь.
– Я должен уйти от Фелисити, – сказал я. – Я живу у нее только потому, что мне не остается ничего другого.
– Я же сказала тебе, что переезжаю. Если удастся, еще на этой неделе. Хочешь попробовать жить со мной?
Когда я понял, что она сказала, меня пронизала дрожь возбуждения. Я представил себе, что мы снова будем спать друг с другом.
– А ты что думаешь насчет этого? – спросил я.
Грейс коротко усмехнулась. Мы никогда по-настоящему не жили вместе, хотя провели вдвоем множество счастливых дней. Но у нее всегда было собственное жилище, а у меня свое. В прошлом у нас появлялось намерение съехаться, но мы всегда восставали против этого, может быть потому, что знали друг друга с худшей стороны и каждый мог надоесть другому. Позже потребовалось очень немного, чтобы разойтись.
Я сказал:
– Если я буду жить с тобой только потому, что мне некуда пойти, ничего не выйдет. Ты же знаешь.
– Нельзя так смотреть на это; иначе затея обречена на неудачу, – она подалась вперед и сжала мою руку. – Я выдумала это сама. И сегодня я приехала сюда, потому что приняла решение. Я тогда сошла с ума. И сама была виновата, что бы ты ни говорил. Но я изменилась и верю, что ты тоже повзрослел. Прочь от тебя меня погнал эгоизм.
– Буду очень рад, – сказал я, и внезапно мы поцеловались, протянули руки над столиком и обнялись. При этом мы столкнули на пол кофе Грейс; чашка упала на пол и разбилась. Мы вытерли разлитый кофе бумажной салфеткой, а потом хозяйка пришла с тряпкой.
Мы вышли на холодную улицу Кастлтона и пошли по тропе, которая вела в холмы. Примерно через полчаса мы вышли к опушке леса, откуда открывался вид на всю деревню. Я взглянул на стоянку и увидел, что задняя дверца «вольво» открыта. За время нашего отсутствия подъехало еще несколько автомобилей, они выстроились в ряд возле нашего. Между ними стоял «триумф» Грейс; она говорила мне, что умеет водить, но все время нашего знакомства, у нее не было своей машины. Мы посмотрели вниз, на толкавшуюся возле автомобиля маленькую семью.
– Я не хочу сегодня встречаться с Фелисити, – сказала Грейс. – Я слишком многим ей обязана.
– Я тоже, – сказал я. Сказал правду – в моем нерасположении к сестре ничто не изменилось. Моя неприязнь была так сильна, что желание никогда больше не видеть ее не покидало меня. Я все время думал о том, как самодоволен Джеймс и как покровительственно держится Фелисити, и зависеть от них, паразитировать на Фелисити для меня было нестерпимо. Я восставал – и отвергал все, что они мне предлагали.
На склоне было холодно, с горных пустошей и болот высокогорья дул ветер. Грейс прижалась ко мне.
– Мы можем куда-нибудь пойти? – спросила она.
– Я бы охотно провел с тобой ночь.
– Я тоже… но у меня нет денег.
– У меня их достаточно, – сказал я. – Отец кое-что оставил мне, и я живу на это вот уже целый год. Поищем гостиницу.
Пока мы спускались к стоянке, Фелисити и остальные снова ушли. Мы написали записку и сунули ее под стеклоочиститель, а потом поехали на машине Грейс в Бакстон.
В следующий понедельник Грейс отвезла меня в Гринвей-парк. Я забрал вещи, чрезмерно любезно поблагодарил Фелисити за все, что она для меня сделала, и как можно быстрее покинул дом. Грейс ждала меня снаружи, в машине; Фелисити не вышла попрощаться с ней. Атмосфера в доме во время моего пребывания там была напряженной. Неприязнь и обвинения были спрятаны под спудом. У меня внезапно появилось острое чувство, что это последняя встреча с сестрой, что я никогда больше не увижу ее и она тоже чувствует это. Эта мысль не тронула меня, однако, когда мы выехали на переполненное лондонское шоссе, я думал не о Грейс и наших с ней совместных планах, а о моей упорной и противоречащей здравому смыслу неприязни к сестре. Моя рукопись, конечно, лежала в чемодане, и я решил, что как только у меня в Лондоне появится достаточно времени, я перечитаю все отрывки, имеющие отношение к Калии, чтобы лучше понять ее. Мне представлялось, что все мои слабости и недостатки нашли объяснение в рукописи и что там есть указание, как начать все сначала.
Я силой воли создал мечту; теперь я мог воплотить ее в жизнь и добавить в свое восприятие.
Так теперь мне казалось, будто я путешествую с одного острова на другой. Возле меня была Сери, а позади остались Калия и Яллоу. При их помощи я мог обнаружить свое «я» на сияющем ландшафте духа. Наконец мне показалось, что я вижу путь, который обещает мне освобождение от ограничений исписанных страниц. Теперь существовало две реальности, и каждая объясняла другую.
Глава двенадцатая
Корабль назывался «Маллигейн», название, которое нам не удалось связать ни с географией, ни с личностями, ни с чем-то придуманным. Он был приписан к порту Тумо; этот старый пароход, ходивший на угле, которого на нем было достаточно, легко покачивался на волнах. Некрашенное, ржавое и грязное суденышко, на котором не хватало по меньшей мере одной шлюпки, «Маллигейн» был типичным представителем сотен мелких грузовых и пассажирских судов, обеспечивавших сообщение между густонаселенными островами Архипелага. Пятнадцать дней мы с Сери провели в душной каюте и узких коридорах, отупевшие от жары, ропщущие на еду и экипаж, недовольный тем, что нас пришлось ждать, хотя мы, виновники этого недовольства, вовсе не считали, что это наша вина.
Как и мое предыдущее путешествие на Марисей, эта вторая поездка тоже была частью моего открытия себя. Я счел, что уже усвоил некоторые привычки и манеру поведения обитателей островов: принятие многолюдного города, всеобщей неопрятности, опозданий, ненадежности телефонной связи и служащих-мздоимцев.
Мне часто приходилось думать о выражении, которое я услышал во время первой встречи с Сери, насчет покидания острова. Но чем больше я углублялся в Архипелаг, тем лучше понимал ее. Я все еще питал твердое намерение вернуться в Джетру, пройду я курс лечения бессмертием или нет, однако с каждым днем чувствовал себя на островах все более по-домашнему, ощущал их очарование, и их влияние на меня все возрастало.
Проведший всю свою предыдущую жизнь в Джетре, я воспринимал тамошние представления о ценностях как норму. Я никогда не считал этот город чопорным, старомодным, косным, педантичным и самодовольным. Я вырос в нем, и хотя мне были видны и его недостатки, и преимущества, и то и другое было для меня нормой. Теперь, когда я невероятным образом стал жителем островов, врос в эту жизнь и она мне даже понравилась, мне хотелось больше узнать о культуре этих мест, с малой частью которых был знаком.
По мере того как изменялось мое восприятие, я все чаще решал не возвращаться в Джетру и все больше поражался. Я был очарован Архипелагом. В определенном смысле путешествие между островами несомненно было скучным, однако я постоянно обнаруживал, что на каждом следующем острове все по-новому, а каждое новое место, которое я посещал и изучал, открывало новые черты во мне самом.
Во время долгого путешествия морем на Коллажо Сери рассказала мне о том, как повлиял на Архипелаг договор о нейтралитете. Соглашение это было изобретением чужого правительства с Севера, принесенным на острова извне. Пока шла борьба за безлюдный континент на юге, обе воюющие стороны использовали Архипелаг как хозяйственную, географическую и стратегическую буферную зону, позволяющую удерживать военные действия подальше от собственной территории.
После подписания договора на Архипелаге воцарились безвременье и апатия; культура островных народов по этническим и уровню развития отличалась от культуры народов Севера, хотя между ними существовали торговые отношения и политические связи. Но теперь острова оказались в изоляции, и она сказалась на всех сферах жизни. Мигом исчезли все новые фильмы с Севера, не стало книг, автомобилей, туристов, стали, хлеба, удобрений, нефти, угля, газет, прекратился обмен учеными, инженерами, студентами, полностью замерла торговля промышленными и другими товарами. Эти санкции сковали экспорт. Все молочные продукты островов группы Торкви, морепродукты, дерево, руды и минералы, сотни различных произведений искусства и ремесел внезапно оказались отрезанными от рынков сбыта на севере. Взбесившись оттого, что их противник благодаря торговле с югом, возможно, получит какие-то военные преимущества, воюющие государства Северного континента сами так надежно изолировали себя от последнего оплота мира, что постепенно становилось ясно: им следовало бы держаться за этот мир.
В первые годы последствия заключения соглашения ощущались сильнее и были вездесущими. Потом война стала частью повседневности, и Архипелаг начал вынужденную перестройку хозяйственных и общественных отношений. Сери рассказала мне, что в последние годы произошел заметный поворот во мнениях и стала нарастать реакция в отношении Севера.
На Архипелаге возникло нечто вроде паностровного национализма. Одновременно произошло обновление религиозного движения, новая набожность собрала в церквях больше народа, чем за последнюю тысячу лет. Одновременно с ростом национализма мир островов переживал всеобщее возрождение. Дюжины новых университетов уже открылись, еще больше строилось, а еще больше планировали построить. Усилия руководства были направлены на развитие новой индустрии, начало активно развиваться производство до сих пор импортировавшихся товаров. Геологи обнаружили огромные запасы нефти и угля, и, когда Север предложил нейтральным островам оказать техническое содействие и вложить средства в разработку новых источников энергии, его решительно отклонили. Процесс всеобщего самообразования сказывался и на культуре, и на науке, но прежде всего на сельском хозяйстве, продукты которого обеспечивали потребности островов только благодаря экспорту с Севера: правительство потребовало инвестиций и приняло систему кредитования с минимумом бюрократических проволочек. Сери сказала, что ей известны дюжины новых деревень на прежде необитаемых островах и повсюду жизнь развивается по-своему, не так, как на прочих, что означает подлинную хозяйственную и культурную независимость. Кое-кто видит в этом возврат к натуральному хозяйству и принудительному труду, другие – возвращение к субстанциональному хозяйствованию, а также иные возможности экспериментов с образом жизни, программой образования и социальными структурами. Но все, о чем рассказывала Сери, было пронизано духом национального возрождения и всеобщим человеколюбием, а порой – честолюбием, претензиями на власть над Севером, а потом и над остальным миром.
Мы с Сери решили следовать развитию событий и изучить их ход. Согласно нашему плану после лечения на Коллажо мы будем путешествовать по островам, посещать новые сельскохозяйственные общины, университеты и центры вновь развившейся индустрии и проверять, не следует ли где-нибудь приложить свои силы.
Но прежде всего – Коллажо. Остров, где можно было получить вечную жизнь, а можно было и отказаться от нее. Я все еще не решил, что лучше.
Мы плыли по главному пути между островами Марисей и Коллажо, и я узнал, что на борту, кроме меня, есть и другие обладатели главного выигрыша в Лотерею. Сначала я ничего о них не знал, потому что мы с Сери были заняты разглядыванием других островов и своими планами на будущее, но спустя несколько дней стало ясно, кто они.
Их, составивших на борту корабля особую компанию, было пятеро, двое мужчин и три женщины, все уже в летах; самому младшему, по моим оценкам, было под шестьдесят. Они постоянно веселились, ели и пили в свое удовольствие и наполняли салон первого класса неподдельной радостью. Они часто бывали пьяны, но неизменно любезны. После того как я начал наблюдать за ними, поддавшись нездоровому очарованию чужого праздника, я стал ждать, что тот или иной из них нарушит приличия на борту корабля – может быть, ударит стюарда или съест столько, что его вырвет на людях. Но они были признаны всеми за высшие существа, стоявшие над такими простительными грешками, радостные и довольно скромные в своей роли будущих полубогов.
Сери была знакома с ними по бюро, но помалкивала, пока я сам не заговорил об этом. Тогда она подтвердила:
– Я не могу вспомнить всех имен. Седую женщину зовут Трила. Она была довольно симпатичной. Одного из мужчин, насколько я помню, зовут Керрин. Все они из Клиунда.
Клиунд: страна врагов. Во мне все еще оставалось достаточно имперского чувства северянина, чтобы рассматривать их как врагов, но, с другой стороны, я должен был признать, что сторониться их неразумно. И все-таки война продолжалась большую часть моей жизни, и я никогда прежде не покидал Файандленда. В кинотеатрах Джетры часто показывали пропагандистские фильмы о кровожадных врагах-варварах, но я с самого начала не особенно верил им. На самом деле клиундцы были более светлокожими, чем мы, их страна – более индустриально развитой, и в истории они показали себя народом, склонным к захвату земель; по слухам они были бесцеремонны в делах и посредственные спортсмены, а также плохие любовники. Политическая система тоже отличалась от нашей. В то время как мы жили при благословенном феодализме, с сеньоратами и ненавязчивой системой взимания десятин, их государственная система объявила всех равными, по крайней мере перед законом.
Теперь эти люди как будто не признавали меня за своего, что мне казалось только справедливым. Моя молодость и то, что со мной была Сери, маскировало меня. Для них мы, должно быть, были просто праздными, молодыми и беззаботными бездельниками, которые убивают время, плавая с одного острова на другой. Ни один из них, казалось, не узнал Сери без униформы. Они были полностью заняты собой, объединенные предстоящим бессмертием.
На протяжении дня мое представление о них несколько раз менялось. Сначала они мне не понравились: я видел в них врагов отечества. Потом я преодолел это предубеждение, и теперь они не нравились мне из-за своей вульгарности и беспечности, из-за того, как выставляли себя напоказ. Потом я испытал жалость – две из этих женщин были страшно толстыми, и я постарался представить себе, как они всю свою вечную жизнь будут ходить вот так, переваливаясь с боку на бок. Тогда мне стало жаль их всех, и я увидел в них обычных людей, которым слишком поздно пришло нежданное счастье и теперь они радовались как могли. Вскоре после этого я впал в полосу критики и стал рассматривать их не столь покровительственно: ведь самом деле я был ничем не лучше, только здоровее и моложе.
Из-за связи, которая возникла между нами, и из-за того, что я сказал себе, что я такой же, как они, я много раз решал познакомиться с ними и расспросить, что они думают о Лотерее и о главном выигрыше. Может быть, их терзали те же сомнения, что и меня и они охотно избежали бы такой развязки. Но когда я представлял себе, что войду в их круг, в круг этих людей, играющих в карты, добродушно шутящих и пьющих кофе, я отказывался от своих замыслов. Они все время так же интересовались мной, как и я в силу необходимости интересовался ими.
Я пытался понять все это и объяснить себе. Я не был уверен в собственных намерениях и не хотел объяснять их никому, даже себе. Часто я слышал обрывки их разговоров: они беспрестанно и не очень уверенно рассуждали о том, что будут делать дальше. Один из мужчин был убежден, что он после длительного и успешного лечения добьется богатства и уважения. Другие все время повторяли, что позаботятся только о «себе», что лечение бессмертием нужно им только для того, чтобы гарантировать им спокойную, уверенную жизнь.
Если бы кто-то спросил меня, чему я посвящу свою жизнь, мой ответ прозвучал бы столь же неопределенно. Передо мной открывались огромные возможности: хорошая работа, общение, новое университетское образование, участие в движении за мир. Каждое из этих объяснений, намерений было лживым, но это ничего не меняло в том, какую единственную деятельность я мог счесть достойным моральным оправданием принятого решения.
Это была нравственная позиция. Но одновременно я хорошо сознавал, что лучшим применением бессмертия стало бы наслаждение жизнью, свободной от всякого честолюбия, в бесцельных переездах с Сери с острова на остров.
Во время дальнейшего путешествия я пришел в согласие с собственными взглядами, в которых едва ли сам разбирался, и необъяснимая печаль охватила меня, полностью овладела мной и больше не отпускала. Я сосредоточился на Сери, я смотрел на бесконечно меняющиеся виды островов, которые непрерывной чередой проплывали мимо, и их названия звучали в моих ушах – Тумо, Ланна, Винко, Салай, Иа, Лилл-ен-кей, Панерон, Даунно. Некоторые из этих названий я уже слышал, но большинства не слышал никогда. Мы очутились далеко на юге, и в поле нашего зрения ненадолго показался далекий берег дикого южного континента: так на север выдавался полуостров Кватаари, он глубоко входил в мир островов, гористый и скрытый высокими скалистыми утесами; но скоро этот берег снова ушел на юг, и иллюзия безбрежного моря вернулась, единственной переменой стал более умеренный климат этих широт. После пустынного, бесплодного ландшафта части субтропических островов, мимо которых мы проплыли, нам открылись радующие взор виды: зеленые, покрытые лесами острова, прекрасные маленькие городки на берегах гаваней, и повсюду – пасшийся скот, засеянные поля и фруктовые сады. По грузам, которые брал и снова выгружал наш корабль, легко можно было угадать, какие южные края мы проплывали. В экваториальных водах мы брали на борт сперва нефтепродукты, машины и копру, позднее виноград, гранаты и пиво, а теперь это были сыр, яблоки и книги.
Однажды я сказал Сери:
– Давай сойдем на берег. Хочу осмотреться.
Этот остров, Иа, был большим и лесистым, с лесопилками и верфями для постройки деревянных судов. С нашей стоянки был виден красивый город, и нас удивила та неспешность, с которой портовые грузчики перемещали груз с корабля на сухопутные транспортные средства. Иа был островом, где путешественники сходят на берег, где испытываешь желание посидеть под деревьями на траве и услышать запах земли. Здесь все пленяло: и бормотание чистого ручья, и дикие цветы, и белые крестьянские домики.
Сери, загоревшая за много часов, праздно проведенных на палубе, стояла возле меня у поручней.
– Если мы это сделаем, мы никогда не попадем на Коллажо.
– Здесь больше не ходят корабли?
– Не будет решимости. Но мы всегда можем вернуться сюда.
Сери была твердо намерена доставить меня на Коллажо. За все то время, что мы провели вместе, это было в ней самым таинственным. Мы очень мало говорили друг с другом и очень редко ссорились; во всяком случае, мы уже достигли того уровня близости, когда это едва ли было возможно. Она строила планы «прыжков на острова», как она это называла. Я был включен в них, и все же в известной мере она была готова отказаться от них, если я начну возражать. Иногда она говорила, что устала или что ей жарко, и тем самым все решалось – она заражала меня своей страстью, и мы забирались в свою каюту. Она могла быть бесконечно заботливой и нежной, а мне это очень нравилось. Когда мы разговаривали, она охотно задавала мне вопросы о моем прошлом, но мало рассказывала о своем.
Во время этого долгого путешествия мое влечение к Сери было омрачено ощущением некоторой моей ущербности. Когда я был не с ней, или она в одиночестве принимала солнечные ванны, или если сидел в баре и беседовал с коллегами по бессмертию, я не мог не спрашивать себя, что же она во мне нашла. Очевидно, я обладал какой-то привлекательностью, но как будто бы весьма заурядной. Иногда я боялся, что ей понравится кто-нибудь другой и она уйдет от меня. Но никто другой не появлялся, и я счел за лучшее не задавать ненужных вопросов, что и явилось доказательством настоящей, непринужденной, надежной дружбы.
В конце путешествия я достал так надолго отложенную рукопись и взял ее с собой в бар, чтобы там, в спокойной обстановке, перечитать.
Прошло уже два года с тех пор, как я закончил работу над ней, и очень странно было снова держать в руках исписанные страницы и вспоминать то время, когда их написал. Я спросил себя, стоило ли откладывать их так надолго и не удалился ли я в ходе развития своей личности от личности, которая старается преодолеть проходящий кризис, для чего проверяет аккуратность написания в рукописи слов. Пока мы растем и стареем, мы не видим изменений – зеркало показывает кажущуюся неизменность, ежедневное осознание непосредственного прошлого – и нуждаемся в напоминаниях в виде старых фотографий или старых друзей, чтобы заметить разницу. Два года были заметным перерывом, хотя мне казалось, что на это время все застыло в состоянии какого-то неестественного покоя.
В этом отношении моя попытка самоопределения удалась. Через описание своего прошлого я хотел сформировать свое непосредственное будущее. Если бы я знал, что моя личность содержит в этом отношении, то никогда не бросил бы писать.
Рукопись моя уже пожелтела и уголки листов загнулись. Я снял резиновую ленту, стягивающую страницы, и начал читать.
С самого начала меня ожидал сюрприз. В первых же строчках я написал, что мне тогда было двадцать девять, и обозначил это как нечто наиболее достоверное в своей жизни.
Однако это определенно был обман – или заблуждение. Я ведь писал это в Джетре всего два года назад.
Открытие поразило меня, и я постарался вспомнить, что тогда имел в виду. После некоторого раздумья я увидел, что это, вероятно, ключ к пониманию остального текста. В некотором смысле это помогало объяснить два года перерыва, которые последовали за созданием рукописи: при ее написании я уже брал себя в расчет, и это не позволило мне продолжить.
Я читал дальше, стараясь отождествить себя с личностью, описанной в рукописи. Вопреки своим первоначальным ожиданиям я нашел, что это не составляет никакого труда. После того как я прочитал пару глав, посвященных в основном моему отношению к сестре, я почувствовал, что мне не нужно больше читать. Рукопись подтвердила то, что я знал все это время: моя попытка достигнуть высшей, лучшей правды была успешной. Живые метафоры великолепно определяли мою личность.
Я был в баре один: Сери заранее вернулась в нашу каюту. Я еще час просидел в одиночестве, раздумывая над своими прежними сомнениями, и иронизировал над тем, что в этом мире мне действительно знакома лишь довольно объемистая стопка машинописных страниц. Наконец я устал от себя и своих бесконечных внутренних переживаний и спустился в каюту, чтобы поспать.
На следующее утро мы наконец прибыли на Коллажо.
Глава тринадцатая
Когда после выигрыша в Лотерею я узнал, что бессмертие неожиданно оказалось мне доступно, то попытался представить себе, как выглядит клиника на Коллажо. Я представлял себе сверкающий небоскреб из стекла и стали, полный новейшего оборудования и кишащий врачами и медицинскими сестрами, которые целеустремленно и деловито двигались по сверкающим чистотой коридорам и в палатах. В садах, больше похожих на парки, находились новые бессмертные, которые, может быть, сидели в удобных креслах-качалках. Гладкие полы под ногами устилали ковры, а обслуживающий персонал ходил по гравийным дорожкам мимо удивительно роскошных клумб. Где-то там были спортивные залы с плавательными бассейнами, где можно было упражнять омолодившиеся мышцы; может быть, там был даже университет, где заново родившиеся могли получить новые знания.
Фотографии, которые я видел в бюро Лотереи на Марисее, были разновидностью моей фантазии, но я не остался к ним равнодушным: улыбающиеся лица, яркие краски, точно в бюро путешествий, настоятельная попытка продать тебе что-нибудь, что ты не купишь без их настойчивых напоминаний. Клиника, как ее подавали на глянцевых страницах брошюр, представляла собой нечто среднее между санаторием и центром отдыха с терапевтическими оздоровительными мероприятиями, возможностью заниматься спортом и самыми разнообразными лечебными процедурами.
Но я, до сих пор никогда по-настоящему не доверявшему рекламе, почти не удивился, когда не обнаружил ничего подобного. Рекламный проспект лгал. На фотографиях было то же, что и здесь, а вот лица оказались другими – и никаких фото, с которых они улыбались бы. Так что, увидев клинику собственными глазами, я не обнаружил ничего подобного. Задача рекламного проспекта – воодушевлять потенциальных клиентов оставить все и подчинить желания и стремления только рекламируемому. Я, например, принимал за чистую монету все то, что было изображено на глянцевых рекламных проспектах. Различия, конечно, были, но почему-то мне показалось, что здесь все очень небольшое.
– И это все? – спросил я Сери вполголоса.
– А ты что хотел? Целый город?
– Но все это такое маленькое! Ничего странного, что здесь одновременно может поместиться всего несколько человек.
– Производительность клиники не зависит от размеров. Проблема заключается в изготовлении сыворотки.
– Несмотря на то, что здесь все возложено на компьютеры и другую технику?
– Насколько мне известно, именно так.
– Но одна только писанина…
Беспокоиться, в сущности, было почти не из-за чего, но недельные допросы собственного «я» и сомнения сделали скепсис привычным. Если зданий клиники больше нигде нет, то как может Лотерея Коллажо вести дела в мировом масштабе? И лотерейные билеты должны же где-то печататься; Общество Лотереи во избежание риска появления фальшивок не может поручить это какому-нибудь другому предприятию.
Я хотел спросить об этом Сери, однако почувствовал, что будет лучше, если я не буду болтать об этом так беспечно, как на борту корабля. Микроавтобус был крошечный, сиденья располагались очень близко, так что пассажиры соприкасались плечами. Одетая в форму молодая женщина сидела впереди, рядом с водителем, и не проявляла к нам никакого интереса, однако если бы я говорил в полный голос, она бы все слышала.
Автобус подъехал к дому с противоположной стороны. Здесь, по-видимому, не было никаких построек. Сад-парк в некотором отдалении незаметно переходил в покрытый частично кустарником, частично лесом холмистый ландшафт острова.
Мы вместе со всеми вышли из автобуса и через высокий вход вошли в здание. Миновав пустынный холл, мы оказались в огромной приемной. В отличие от остальных я один нес багаж: чемодан, перетянутый ремнем. Мои спутники впервые с тех пор, как я их узнал, вели себя тихо и сдержанно, по-видимому, подавленные сознанием того, что наконец попали туда, где им должны дать вечную жизнь. Сери и я остановились у двери.
Молодая женщина, встретившая нас в порту, прошла за стоящей в стороне письменный стол.
– Я должна сверить ваши данные, – сказала она. – В местных бюро Лотереи каждому из вас вручили бланки допуска, и если вы сейчас отдадите их мне, я укажу ваше здешнее место жительства. Там вас ожидают личные консультанты.
Возникла некоторая суматоха, потому что другие пассажиры оставили свои бланки в багаже и вынуждены были выйти за ними. Я спросил себя, почему молодая женщина не попросила об этом в автобусе, и отметил скучное, угрюмое выражение ее лица.
Я воспользовался случаем и первый подошел к письменному столу. Бумаги были в боковом кармане моего чемодана, я вытащил их и положил на стол.
– Я – Питер Синклер, – сказал я.
Она ничего не ответила, но отметила галочкой мое имя в списке (который я видел у нее еще в автобусе), потом отстучала на клавиатуре кодовый номер моего бланка. Перед ней на маленьком экранчике появился текст без всякого звукового сопровождения. Она, слегка морща лоб, прочитала этот текст, потом кивнула. На столе лежало множество металлических ленточек, она нашла одну из них и вставила в углубление на крышке письменного стола, вероятно магнитное кодирующее устройство; потом она протянула ленточку мне.
– Носите ее на правом запястье, мистер Синклер. Ваша квартира в павильоне номер двадцать четыре, мы покажем, где это. Ваше лечение начнется завтра рано утром.
Я сказал:
– Я еще не окончательно все решил. Я имею в виду, проходить мне лечение или нет.
Она взглянула на меня, но ее лицо осталось бесстрастным.
– Вы читали наш информационный справочник?
– Да, но я все еще не убежден. Я хочу узнать об этом побольше.
– Ваш консультант зайдет к вам. Совершенно естественно, что вы нервничаете.
– Я не нервничаю, – сказал я, сознавая, что Сери стоит позади меня и слушает наш разговор. – Я хотел бы задать пару вопросов.
– Консультант объяснит вам все, что вы хотите знать.
Я взял ленту и почувствовал, как моя антипатия усиливается. Мой выигрыш в Лотерею, долгое путешествие и формальный прием – все это, казалось, породило некие силы притяжения, которые неуклонно вели к лечению и устраняли все мои отговорки. У меня все еще не хватало сил пойти на попятную и отказаться от вечной жизни. Я испытывал необъяснимый страх перед консультантом, который должен был прийти утром и с пошлыми утешениями отправить меня под нож, чтобы против моей воли обеспечить мне вечную жизнь.
Кое-кто из остальных уже вернулся, держа в руках бланки как паспорта.
– Но если я решу против, – сказал я, – если передумаю… Существует ли какое-нибудь соглашение, которое нельзя нарушать?
– Вы ничего не обязаны соблюдать, мистер Синклер. Ваше пребывание здесь не регламентируется никакими обязательствами. Пока вы не подписали соглашение о лечении, вы в любое время можете уйти отсюда.
– Хорошо, – сказал я и испытал неловкость оттого, что позади меня собралась эта группка пожилых оптимистов. – Но есть еще кое-что. Я хочу, чтобы со мной была моя подруга. Я хочу, чтобы она жила со мной в павильоне.
Взгляд девушки скользнул к Сери, потом вернулся ко мне.
– Вы понимаете, что это лечение только для вас?
Сери затаила дыхание. Я сказал:
– Она не ребенок.
– Я подожду снаружи, – сказала Сери и вышла через вестибюль наружу, на солнечный свет.
– Мы не можем допустить непонимание между нами, – сказала молодая женщина. – Сегодня ваша подруга может остаться, но завтра она должна найти себе жилье в городе. Она может пробыть в павильоне только одну или две ночи.
– Этого достаточно, – сказал я и задумался, велика ли вероятность того, что «Маллиган» все еще в порту. Я повернулся и вышел наружу, чтобы найти Сери.
Часом позже Сери успокоила меня, и мы направились в мою квартиру, в двадцать четвертый павильон. Перед сном мы прогулялись по темному саду. В главном здании все еще горел свет, но в большинстве павильонов было уже темно. Мы подошли к главным воротам и обнаружили там двух охранников с собаками.
Мы повернулись обратно, и я сказал:
– Это какой-то лагерь для арестованных. Здесь нет только забора с колючей проволокой и вышек для охраны. Но, может быть, они еще вспомнят об этом.
– Я понятия не имела, что здесь все именно так, – сказала Сери.
– Однажды в детстве я лежал в больнице, – сказал я. – Что мне тогда не понравилось, так это способ, которым меня лечили. Казалось, что я вообще не человек, а только тело с симптомами. И здесь то же самое. Эта ленточка действительно мне неприятна.
– Ты ее надел?
– Пока нет, – мы шли по тропинке, бегущей мимо постов и цветочных клумб, но чем дальше мы отходили от фонарей главного здания, тем труднее было различать подробности. Справа от нас открылась пустая площадка, и, добравшись до нее, мы обнаружили, что это лужайка. – Я уеду отсюда завтра же утром. Ты можешь меня понять?
Сери некоторое время молчала.
– Я по-прежнему считаю, – сказала она наконец, – что ты должен остаться.
– Несмотря на все это?
– Это внешнее. Ты просто видишь нечто вроде больницы. Персонал здесь погряз в рутине и служебной бюрократии, вот и все.
– Именно это меня сейчас больше всего отталкивает. У меня такое чувство, будто я здесь для чего-то, что мне совсем не нужно. Словно я добровольно согласился на операцию на сердце или на что-то подобное. Мне нужен кто-нибудь, кто дал бы мне убедительное основание продолжать.
Сери ничего не ответила.
– Предположим, ты была бы на моем месте. Ты приняла бы лечение?
– Такого не может быть. Я никогда не играла в Лотерею.
– Ты уклоняешься от ответа, – сказал я. – И зачем только я купил этот проклятый билет! Тогда всего этого просто не было бы. Я чувствую это, но не могу объяснить, почему.
– А по-моему ты просто получил шанс, который выпадает только очень немногим, и многие охотно оказались бы на твоем месте. Нельзя поворачиваться ко всему этому спиной, пока все это так явно. Лечение позволит тебе не стареть, Питер, ты никогда не будешь старым и никогда не умрешь. Разве это ничего для тебя не значит?
– Мы все в конце концов умрем, – защищаясь, ответил я. – С лечением или без него. Оно только немного отодвигает смерть.
– Никто из лечившихся пока не умер.
– Ты это точно знаешь?
– Конечно, абсолютной уверенности у меня нет. Но в бюро мы получали ежегодные отчеты о людях, которые прошли лечение. Они всегда начинались одними и теми же именами, и списки становились все длиннее. На Марисее тоже есть бывшие пациенты. Приходя к нам на регулярное контрольное обследование, они всегда рассказывали, как хорошо себя чувствуют.
– Что за контрольное обследование?
В темноте я видел, что Сери смотрит на меня, но не мог разглядеть выражение ее лица.
– Никаких предписаний нет. Но можно следить за состоянием своего здоровья, если хочешь.
– Итак, вы не совсем уверены, что лечение действенно?
– Лотерея уверена, но пациенты иногда сомневаются. Думаю, осмотры – главным образом форма психологической поддержки. Люди должны быть уверены, что Общество Лотереи не покинуло их, когда они ушли отсюда.
– Они излечились от всего, кроме ипохондрии, – сказал я, вспоминая о подруге, которая была врачом. Она как-то сказала, что по крайней мере половина пациентов в приемные часы приходит только для того, чтобы найти общество и кого-нибудь, кто терпеливо выслушает все их жалобы. Врач как замена духовного отца. Болезнь как привычка.
Сери взяла меня за руку.
– Решение должно быть твоим, Питер. Будь я на твоем месте, я, возможно, чувствовала бы себя точно так же. Но, представляя, что отказавшись, я, может быть, буду сожалеть об этом всю жизнь, я сильно пугаюсь.
– Мне все это кажется просто нереальным, – сказал я. – Я никогда не думал о смерти, ведь я никогда не оказывался перед ее лицом. Разве другие чувствуют себя иначе?
– Не знаю. – Сери отвернулась и уставилась на темные деревья.
– Мне ясно, что я когда-нибудь умру. Сери… но я понимаю это только умом, а не сердцем. Сейчас я живу, и мне кажется, что буду жить всегда. Во мне кипят жизненные силы, достаточно мощные, чтобы отвергать смерть.
– Классическое заблуждение.
– Я знаю, что это нелогично, – сказал я. – Но это что-то значит.
– Твои родители еще живы?
– Отец. Мать давно умерла. А что?
– Неважно. Говори дальше!
Я сказал:
– Несколько лет назад я написал свою автобиографию. Тогда я действительно не знал, зачем это сделал. У меня был кризис понимания своего «я». Но когда я начал писать, то начал многое открывать в своей жизни и этому помогала непрерывность воспоминаний. Вот главная причина, почему я начал писать. Я помню себя, пока существую. Когда я утром просыпаюсь, я имею обыкновение представлять себе, что должен сделать, прежде чем вечером отправиться в кровать. Пока есть эта непрерывность, я существую. И я верю, что существуют и другие направления… существует пространство, которое мне доступно. Это как равновесие. Я обнаружил, что воспоминания, своего рода психическая сила, были со мной всегда и давали мне другую силу, жизненную, распространявшуюся во мне. Человеческий дух, сознание, сосредоточение в самой середке. Я знаю, что пока существует одно, должно существовать и другое. При помощи воспоминаний я утверждаю себя.
Сери сказала:
– Но когда ты наконец умрешь, а это когда-нибудь непременно произойдет, ты утратишь индивидуальность. Когда ты умрешь, потеряешь все свои воспоминания.
– Но это ведь просто потеря сознания. Я не боюсь ее, потому что не переживал ничего подобного.
– Ты считаешь, что у тебя нет души?
– Я не собираюсь спорить о различных теориях. Я только хочу объяснить, что чувствую. Я знаю, что однажды умру, но это совсем не то, что слепо верить в приход смерти. Лечение бессмертием ставит своей целью вылечить меня от того, во что я не верю. От смерти.
– Ты бы не говорил так, если бы у тебя был рак.
– Насколько я знаю, у меня его нет. Я знаю, что, возможно, в дальнейшем заболею раком, но в глубине души на самом деле в это не верю. Это меня не пугает.
– А меня пугает.
– Что ты имеешь в виду?
– Что я боюсь смерти. Я не хочу умирать.
Ее голос стал очень тихим, и она склонила голову.
– И поэтому ты поехала со мной?
– Мне только хотелось знать, возможно ли это. Я хотела быть с тобой, когда это произойдет, хотела видеть тебя вечно живущим. Ты спрашиваешь, что я сделала бы, если бы получила главный приз… Что ж, я бы приняла лечение, долго не расспрашивая, зачем да почему. Ты сказал, что ни разу не оказывался перед лицом смерти, а я знаю о ней все.
– Что же именно? – спросил я.
– Это было давно, – она облокотилась на мое плечо и обняла меня одной рукой. – Не стоило бы об этом говорить. Я тогда была еще ребенком. Моя мать, инвалид, страдала неизлечимой болезнью. Это было постепенное умирание на протяжении десяти лет. Тогдашняя медицина не располагала средствами вылечить ее, но мама знала – и мы все знали – что не умерла бы, если бы Лотерея предоставила ей возможность лечения.
Я вспомнил нашу экскурсию в деревню на Марисее, когда Сери оправдывала Лотерею тем, что отпадает возможность заболеть многими болезнями. Я тогда не имел никакого представления о таких ее доводах.
– Я пошла работать в Лотерею, когда до меня дошел слух о том, что персонал Общества Лотереи через несколько лет работы получает возможность бесплатного лечения. Это оказалось не так, но мне пришлось остаться. Эти выигравшие в Лотерею, которые сообщают об этом в бюро… для меня это было невыносимо, но что-то заставляло меня держаться поблизости от них. Ведь так великолепно знать, что они никогда не умрут, никогда не заболеют. Ты знаешь, что такое настоящие мучения? Я вынуждена была смотреть, как умирает мать, сознавая, что для нее есть возможность спасения! Каждый месяц отец ходил и покупал лотерейные билеты. Сотни билетов, на все деньги, какие ему удавалось скопить. И все эти деньги были выброшены на ветер, а лечение, которое могло спасти мою мать, доставалось людям вроде тебя или Манкиновы, людям, которым оно в действительности не нужно.
Я не мог оценить лечение по достоинству, но лишь ввиду собственного благополучия.
Жизнь казалась мне долгой и беззаботной, потому что такой она была до сих пор. Но великолепное здоровье, однако, можно было рассматривать как нечто преходящее, как зыбкую безопасность, отклонение от нормы. Я думал о сотнях прозаических разговоров, которые слышал на протяжении всей жизни, вспоминал обрывки диалогов в общественном транспорте, ресторанах и магазинах: большинство их касалось болезней или забот собеседников или их родственников. Неподалеку от моей квартиры в Джетре была маленькая овощная лавочка, где я постоянно покупал овощи и фрукты. Но через несколько недель мне пришлось присмотреть себе другой источник снабжения: торговец, его жена и дети отчего-то вдруг принялись рассказывать о себе и своей семье, и ожидание в этом магазинчике всегда превращалось в кошмарное подглядывание за жизнью других людей. Там операция, тут несчастный случай, здесь внезапная смерть.
Я всегда боялся, что могу заразиться чем-нибудь и буду страдать.
– Что же, по твоему мнению, я должен сделать? – спросил я наконец.
– Я все еще думаю, что ты должен принять лечение. Разве это не очевидно?
– Честно говоря, нет. Ты противоречишь самой себе. Все, что ты говоришь, на мой взгляд плохо.
Сери сидела молча, уставившись в землю. Я чувствовал, что мы отдаляемся друг от друга. Нас не связывало ничего, кроме близости и обмена нежностями, между нами не существовало никакой искренности. Мне всегда было трудно общаться с ней, и я ясно чувствовал, что каждый из нас вошел в жизнь другого совершенно случайно. Некоторое время наши пути шли параллельно, однако в дальнейшем они неизбежно должны были разойтись. В первое время я задумывался над тем, что бессмертие разделит нас, но, может быть, для разрыва нужно было совсем немного. Потом Сери пойдет своей дорогой, а я своей.
– Мне холодно, Питер, – с моря веял легкий ветерок, а мы были на открытом месте. В отличие от Джетры, где мой отъезд пришелся на осень, здесь была весна.
– Ты мне совершенно ничего не объяснила, – сказал я.
– А я должна?
– Мне очень поможет, если ты сделаешь это. Вот и все.
Мы вернулись, в наш павильон, и Сери бросилась мне на шею. Объяснять было нечего, решение зависело исключительно от меня. Ведь, уповая на ответ Сери, я унимал собственную неуверенность.
Как и в деревенской мансарде, в нашем павильоне после вечерней прохлады было замечательно тепло. Сери устремилась к одной из двух узких постелей и раскрыла журнал, из тех, что мы обнаружили здесь. Я пошел в другой конец комнаты, к письменному столу. Там же стоял и стул; стол и стул были сияли великолепием новизны. Там были также корзина для бумаг, пишущая машинка, пачка бумаги и множество разнообразных перьевых и шариковых ручек и карандашей. Я все еще испытывал тягу к бумаге, а потому сел за стол и некоторое время водил пальцем по клавишам пишущей машинки. Она была сконструирована лучше и сделана намного солиднее, чем маленькая портативная машинка, на которой я печатал свою рукопись, и как временами когда сидишь за рулем незнакомого автомобиля, кажется, будто на нем можешь ехать быстрее и увереннее, так и у меня возникло чувство, что я мог бы печатать куда более бегло, если бы работал за этим столом и на этой машинке.
– Ты знаешь, почему все это лежит здесь наготове? – спросил я Сери.
– Это есть в проспекте, – ответила она раздраженно, не отрывая глаз от журнала.
– Я тебе помешал, да?
– Не можешь ли ты посидеть тихо? Я хочу отдохнуть от тебя.
Я открыл чемодан, достал оттуда проспект, пролистал его и просмотрел все иллюстрации. Это были фотографии внутренних помещений павильонов, ярко освещенных и без обитателей. На устланных циновками полах не валялись сандалии, на постелях не лежала одежда, на книжных полках не стояли пустые жестянки из-под пива. На сверкающих белых стенах не было ни пятнышка, ни царапинки.
Подписи под фотографиями гласили:
«…в каждом нашем Вы найдете находится все необходимое для описания вашей личной жизни, что является важнейшей составной частью вашего и только вашего лечения…»
Под этим подразумевался вопросник, о котором мне рассказывала Сери. Итак, я должен был написать все о себе, перенести на бумагу историю своей жизни, чтобы меня могли снова наполнить тем, что я изложил. Никто в клинике не мог знать, что я уже создал такое описание своей жизни.
Я ненадолго задумался о людях, которые прибыли на корабле вместе с нами: как они этим вечером сидят за своими столами, и каждый вспоминает свою прошлую жизнь. И спросил себя, что же они могли сказать о ней.
Вернулась заносчивость, которая появлялась всякий раз, как я думал о тех, других. Что я мог сказать? Во время работы над рукописью я смирился с открытием, что узнал о себе так мало интересного.
Может быть, именно поэтому я столкнулся с таким огромным объемом работы. Разве в конце концов не оказалось так, что правду лучше найти и выразить через метафоры, разве не самообман и самоприукрашивание оказались главными мотивами?
Я оглянулся на Сери, которая ссутулилась над журналом. Ее светлые волосы ниспадали вдоль шеи, скрывая лицо. Она скучала со мной, и ей совершенно необходим был отдых. В этом не было ничего странного: меня охватила одержимость собой, эгоистичное самолюбование, которое вкупе с многочисленными вопросами, роящимися вокруг моего «я» было невероятно трудно выносить. Моя внутренняя жизнь постоянно требовала внешнего выражения, понуждая меня все это рассказывать Сери. Я слишком много времени проводил в своем внутреннем мире; мне тоже надоело быть с этой девушкой, я хотел скорейшего завершения всего этого.
Сери не обращала на меня никакого внимания, когда я разделся и лег в другую постель. Потом она выключила свет и легла спать. Я еще некоторое время прислушивался к звуку ее дыхания, потом наконец заснул.
Посреди ночи Сери встала, подошла и забралась ко мне под одеяло. Она стала целовать мое лицо, шею и уши, и я проснулся…
Глава четырнадцатая
Утром, пока Сери принимала душ, пришла консультант. И едва ли не в первый миг мне показалось, что мои сомнения сошлись в фокусе, которым была она.
Ее звали Ларин Доби; представляясь мне, она предложила называть ее по имени и уселась за письменный стол. Сначала я был настороже, чувствуя за ней силу системы Лотереи. Она пришла консультировать меня, из чего можно было заключить, что она специально обучена убеждать таких как я.
Эта женщина средних лет, замужняя, напоминала мне мою первую школьную учительницу. Все это породило у меня сопротивление. Для нее, казалось, само собой разумелось, что я должен пройти лечение, а сам я оставался для нее всего лишь объектом, чьи сомнения и раздумья она читала точно открытую книгу.
Сначала все шло как обычно: Ларин расспросила меня о путешествии, какие острова я посетил и что видел, о моих впечатлениях. Я внутренне держал некоторую дистанцию, уверенный в своей новой объективности. Ларин была здесь, чтобы консультировать меня до и во время лечения и рассеивать появляющиеся у меня сомнения и страхи, чтобы я наконец принял решение.
– Вы уже завтракали? – спросила она.
Я ответил, что нет.
Она протянула руку за портьеру возле стола и достала оттуда телефон, о наличии которого я и не подозревал.
– Пожалуйста, два завтрака в павильон номер двадцать четыре.
– Можно заказать три? – спросил я.
Ларин вопросительно посмотрела на меня, и я коротко сообщил ей о присутствии Сери. Она изменила заказ и положила трубку.
– Это ваша близкая подруга?
– Довольно близкая. А что?
– Мы по опыту знаем, что присутствие сопровождающих лиц иногда бывает довольно мучительным для пациента. Большинство приезжают сюда в одиночку.
– Ну, я еще не решил…
– С другой стороны, присутствие доверенного лица может значительно ускорить процесс реабилитации. Как долго вы знакомы с Сери?
– Пару недель.
– Тогда она может помочь при реабилитации только очень условно. Так вы полагаете, что ваши сомнения не исчезнут?
Рассерженный прямотой вопроса, я не ответил. Сери оставалась в пределах слышимости, а я не видел, что могут дать этой женщине сведения о наших с ней отношениях. Когда я смотрел на Ларин, она казалась мне совершенно чужой. Сери завернула кран в душевой кабине.
– Хорошо, я поняла, – сказала Ларин. – Видимо, вам пока трудно доверять мне.
– Вы намерены анализировать мою психику?
– Нет. Я пытаюсь определить, чем смогу помочь вам позже, во время и после лечения.
Я все яснее сознавал, что мы только зря теряем время. Доверял я ей, или нет – другое дело; того, чего мне не хватало, здесь не было, это следовало искать во мне самом. Я больше не хотел того, что мне предлагала ее организация.
Сери вышла из душа. Она была закутана в простыню, на голове – полотенце. Бросив взгляд на Ларин, она прошла в другой конец павильона и откинула портьеру.
Зная, что Сери слышит меня, я сказал:
– Я хочу быть с вами откровенным, Ларин. Я решил отказаться лечения.
– Вот как? Понимаю. По этическим или по религиозным соображениям?
– Ни по тем, ни по другим… может быть, по этическим, – спокойствие, с каким я принял решение, и точные верные вопросы удивили меня самого.
– Было ли у вас это… э-э… чувство, когда вы покупали лотерейный билет? – ее тон был заинтересованным, но не любопытным.
– Нет, это пришло позже. – Ларин ждала точного ответа, поэтому я продолжил, почти подсознательно отметив, что она великолепно все понимает и выпытывает у меня ответы. Но это ничего для меня не значило. Теперь, когда я принял решение, я чувствовал сильное желание высказаться. – Я не могу точно описать, что это такое, просто у меня появилось чувство, что мне здесь не место. Мне постоянно лезут в голову мысли о других людях, которые нуждаются в лечении больше, чем я, и о том, что я его, в сущности, не заслужил. Еще я думаю, что впустую растрачу выигранное мной время жизни. – Ларин по-прежнему не перебивала. – Первые впечатления у меня появились вчера, когда мы прибыли сюда. Здесь как в больнице, а я не болен.
– Да, я знаю, что вы имеете в виду.
– Пожалуйста, не пытайтесь меня отговорить. Я уже принял решение.
Сери двигалась за портьерой. Я слышал, как она расчесывает волосы.
– Вы знаете, что вы непременно умрете, Питер?
– Да, но это мне безразлично. Нам всем придется умереть.
– Но одним раньше, чем другим.
– Мне почему-то кажется, что это неважно. В конце концов, я все равно умру, приму я лечение или нет.
Ларин что-то записала в принесенном с собой блокноте. Я усмотрел в этом признак того, что она не приняла во внимание мой отказ от лечения.
– Вы слышали когда-нибудь о писателе по фамилии Делуан? – спросила она.
– Да, конечно. «Отказ».
– Читали ли вы эту книгу в последнее время?
– Еще в школе.
– У нас здесь есть экземпляр, не хотите перечитать?
– Я не думал, что здесь используется такой подход, – сказал я. – Ведь нельзя сказать, что эта книга помогает лечению.
– Вы сказали, что не хотите, чтобы вас пытались отговорить от вашего решения. Если вы не готовы изменить мнение, тогда я, по крайней мере, хотела бы, чтобы вы убедились, что не совершаете ошибку.
– Хорошо, – сказал я. – Но почему?
– Потому что главный аргумент Делуана – то, что ирония жизни заключена в ее собственной природе и что страх перед смертью порожден ее необратимостью. Когда приходит смерть, пути назад нет. Поэтому в распоряжении человека сравнительно мало времени, чтобы удовлетворить свое честолюбие. Делуан доказывает – ошибочно, по моему личному мнению, – что только природа времени делает жизнь достаточно ценной, чтобы прожить ее. Когда жизнь удлиняется так, как удлиняете ее вы, то ее субстанция должна будет разложиться, и разложится именно то, что для вас является самым ценным. Делуан верно указывает на то, что Лотерея Коллажо не дает никакой гарантии от ранней или поздней, но настоящей смерти. Из этого он делает вывод, что короткая насыщенная жизнь гораздо ценнее длинной, но бедной содержанием.
– Я тоже так считаю, – сказал я.
– Итак, вы намерены прожить свою жизнь как обычно?
– Пока я не получил главный выигрыш, мне и в голову не приходило задумываться об этом.
– Что вы понимаете под нормальной жизнью? Тридцать лет? Сорок?
– Конечно, больше, – ответил я. – Это промежуток около семидесяти лет.
– В среднем – да. Сколько вам лет, Питер? Тридцать один, не так ли?
– Нет. Двадцать девять.
– В вашей биографии написано тридцать один. Но это не важно.
Сери вышла из-за портьеры, полностью одетая, но с влажными обвисшими волосами. Через плечо она перебросила полотенце, а в руке держала гребень.
Когда она присела возле нас, Ларин не обратила на нее никакого внимания, а достала из своей папки сложенный листок с компьютерным текстом и пробежала глазами первый абзац.
– Я боюсь, у меня для вас не слишком радостное известие, Питер. Делуан был философом, но вы поймете его дословно. Неважно, что вы говорите, инстинктивно вы понимаете, что должны жить вечно. Но факты, конечно, можно рассматривать и иначе, – она провела карандашом вдоль строчек. – У нас здесь вот что. Ожидаемая продолжительность вашей жизни, считая с настоящего момента, составляет четыре с половиной года.
Я посмотрел на Сери.
– Что за чушь!
– Хотела бы я, чтобы это было так. Я понимаю, что вам тяжело поверить в такое утверждение, но боюсь, что вероятность этого весьма и весьма высока.
– Но я не болен. Я никогда в жизни по-настоящему не болел.
– Медицинское обследование говорит нечто другое. В восемь лет вы были в больнице и лежали там несколько недель.
– Обычная детская болезнь. Нарушение деятельности почек, сказали врачи, но в конце лечения они заверили моих родителей, что все будет в порядке, и у меня с тех пор не было никаких проблем, – я снова, словно ища помощи, взглянул на Сери, а Ларин уставилась на меня.
– Когда вам исполнилось двадцать лет, вам несколько раз требовалась медицинская помощь. Вы страдали от головной боли.
– Но это же смешно! Это такие мелочи! Врач сказал, что это от переутомления. Я тогда учился в университете. У каждого хоть раз болела голова! Впрочем, откуда вам все это известно? Вы врач?
– Нет, только консультант. Если это такие пустяки, как вы говорите, тогда наш компьютер, вероятно, ошибается. Вы можете пройти обследование, если хотите. Во всяком случае, в настоящее время мы можем предложить вам это.
– Позвольте взглянуть! – я показал на листок. Ларин поколебалась, и я уж подумал, что она откажет мне, но потом она протянула мне через стол сложенный в несколько раз листок. Даже при беглом прочтении он был точен до мелочей. Дата рождения, родители, сестра, адреса, школа, медицинская помощь – там все было перечислено подробно. Кроме того, там было несколько неожиданных деталей. Список (неполный) моих друзей, мест, которые я посещал чаще всего, очень встревожившие меня данные о моем участии в выборах и о том, кому отдавал свой голос, состояние моего текущего счета. Подробности о политических симпатиях, которых я придерживался студентом, о моих связях с политической театральной группой и людьми, которые наблюдали за соблюдением соглашения о нейтралитете. Потом шел раздел, который компьютер назвал «Особые привычки»: что я чаще всего пил; друзья по политическим взглядам различного ранга; в своем влечении к женщинам я был склонен к непостоянству. Университетский преподаватель назвал меня «капризным и ненадежным», а один из моих первых работодателей сказал, что на меня можно положиться только на восемьдесят процентов; служба внутренней безопасности готова была взять меня под опеку «по идеологическим соображениям», потому что некоторое время у меня была связь с женщиной-эмигранткой из Клиунда.
– Откуда, к дьяволу, вы взяли все это? – возбужденно спросил я и скомкал листок.
– Это не так?
– Я этого не говорил! Но все так искажено!
– Однако факты переданы точно?
– Да… но здесь многое не упомянуто.
– Мы не запрашивали подробности. То, что вы здесь видите, – только данные из компьютерной базы.
– Такие досье есть на каждого?
– Не имею представления, – ответила Ларин. – Спросите у своего правительства. Здесь вы занимаетесь лишь продлением своей жизни, хотя эта дополнительная информация может оказаться небезразличной. Вы читали медицинские сведения?
– Где они?
Ларин встала и обошла вокруг стола. Она указала карандашом на одну из строчек.
– Эта строчка – кодовый номер. На нее не стоит обращать внимания. А вот здесь указана продолжительность вашей жизни.
Компьютер отпечатал «тридцать пять целых сорок шесть сотых года».
– Не верю, – сказал я. – Это, должно быть, ошибка.
– Мы ошибаемся нечасто.
– Что означает это число? Как долго я еще протяну?
– Оно означает наиболее вероятный по расчетам компьютера возраст, какого вы достигнете.
– Но что со мной? Я не чувствую себя больным.
Сери взяла меня за руку.
– Послушай ее, Питер!
Ларин вернулась на свое место за столом.
– Если хотите, могу получить медицинское заключение.
– У меня что-то с сердцем? Или еще что-нибудь?
– Этого компьютер не говорит. Но здесь вы можете вылечиться.
Я едва слышал ее. Мое тело вдруг показалось мне скопищем до сих пор не замеченных мной симптомов. Я припомнил бесчисленные боли и страдания, которые уже терзали меня: нарушение пищеварения, ссадины, боли в суставах, боли в спине после долгой работы, простуды, которыми я иногда болел, головные боли в университете, скучные насморки и бронхиты, болезненные растяжения и начинающиеся ревматические боли… пока они были безвредными и легко объяснимыми, но теперь я задумался и о них. Были ли это симптомы чего-то худшего? Я представил себе будущие кровотечения и опухоли, желчные камни и переломы, которые меня уничтожат. При этом мои опасения становились такими, что было не до смеха: но, несмотря на это, я чувствовал себя более здоровым, чем когда-либо.
Настойчивые предложения Общества Лотереи лечиться наскучили мне. Я встал, выглянул в окно и попытался за лужайками и кустарником различить море. Я был свободен, меня никто не принуждал; Сери и я в любое время могли уйти отсюда.
Но потом я осознал: неважно, чего мне не хватало – это же лечение! Если я пройду курс лечения бессмертием, то никогда больше не буду болеть, никогда в жизни. Болезни и боль будут забыты.
Эта мысль подбодрила меня, дала уверенность и свободу. Внезапно мне стало ясно, как трудно предохраниться от болезней. Нужно было принимать во внимание еду, более или менее беречься от перенапряжения, быть внимательным к признакам приближающейся старости, избегать переохлаждения, вволю спать и как можно меньше пить и курить. А теперь мне никогда больше не понадобится беспокоиться об этих вещах: я могу делать со своим телом все что хочу или вообще не обращать на него внимания, оно никогда больше не ослабнет, никогда не сдаст.
Но в свои не особенно преклонные годы в двадцать девять лет, я уже испытывал первые сожаления об ушедшей юности. Я видел легко послушные тела юношей, грациозную стройность девушек. Они были в прекрасной форме, словно здоровье для них было чем-то само собой разумеющимся. Кто-нибудь старше меня нашел бы подобные размышления смешными, но при критическом рассмотрении я должен был признать, что уже начал сдавать. А после лечения бессмертием мне всегда будет двадцать девять. Через пару лет молодые люди, которым я завидовал, физически сравняются со мной, однако у меня будут дополнительный опыт и мудрость. И так с каждым годом я буду продолжать оставаться более развитым.
В свете этого пришлось признать, что некоторые существенные аспекты лечения отличались от истолкования Делуана. А прочитав его книгу в том возрасте, когда впечатления глубоко врезаются в память, я находился под сильным ее влиянием. Она воздействовала на меня самой своей идеей, и я не задавал никаких вопросов. Делуан рассматривал бессмертие как отрицание жизни, но в действительности оно было ее подтверждением.
Сери справедливо утверждала, что смерть – это уничтожение воспоминаний. Пока я живу, пока просыпаюсь каждое утро, я помню свою жизнь и все прошедшие годы выстраиваются в моей памяти. Люди стареют не от того, что это заложено в человеческой природе, а от наблюдений, переживаний, забот и знаний, и собранные на протяжении долгой жизни воспоминания достаточно многочисленны, чтобы выбрать из них то, что в настоящий момент наиболее важно.
Воспоминания – это непрерывность, чувство индивидуальности, места и последовательность действий. Я есть то, что я есть, потому что таким, каков есть, я помнил себя всегда.
Воспоминания были психической силой, которую я описал Сери: центростремительная сила жизни, которая не позволяет нам осмотреться и увидеть будущее.
Чем дольше жизнь, тем больше воспоминаний, но ясный разум может при помощи знаний и опыта перевести их в поток проявлений, в качество. И каков поток воспоминаний, таково и восприятие жизни.
Смерти боятся, потому что она несет утрату сознания, угасание духа, всех физических и психических процессов; с телом умирает и память. Человеческий дух на пути от прошлого к будущему исчезает вместе со своими воспоминаниями.
Страх перед умиранием – это не страх перед болью и унижением, которые приносят с собой потерю очевидных способностей, падение в пропасть… это первобытный страх, что потом ничего не будешь помнить.
Процесс умирания – единственный опыт мертвеца. Живые не могут быть живыми, если их память хранит сведения о пережитой смерти.
Во время нового приступа задумчивости я вполуха и вполглаза видел и слышал, что Сери и Ларин беседуют – вежливый обмен любезностями и мыслями о том, какое место на этом острове стоит посетить, какой отель подойдет для Сери – а потом я увидел, что какой-то мужчина принес тарелки с завтраком, но это ничуть не интересовало меня. Я был занят своими мыслями.
Листок с компьютерным текстом Ларин лежал на столе таким образом, что была видна продолжительность моей жизни: двадцать девять целых сорок шесть сотых года…
Молодой человек лет двадцати мог бы счесть такой срок целым столетием. Конечно, возможно, я прожил бы еще недели три или чуть больше, но проведенная ими оценка говорила против этого.
Моя жизнь должна была продлиться еще шесть лет. Я мог дожить до девяноста, но статистическая вероятность говорила против этого. Никакой возможности проверить достоверность этих напечатанных компьютером строк не было. Я снова взглянул на аккуратно отпечатанный текст и снова перечитал доказательства, говорившие против моей длинной естественной жизни. Картина была предвзятой, почти ничто не говорило о том, что все складывается совсем не в мою пользу. На этом листке было напечатано, что я слишком много пью, очень вспыльчив и политически неблагонадежен. Конечно, это должно было повлиять на мое здоровье: не из этого ли компьютер высчитал такую низкую продолжительность моей жизни и такую скорую смерть?
Почему он не принял в расчет другие факторы? К примеру, что летом я часто ходил купаться, что хорошо готовил, предпочитал свежую пищу и ел много фруктов, что отказался от курения с тех пор, как в четырнадцать лет начал посещать церковь; что много жертвовал, когда проводились благотворительные сборы, дружески относился к людям, любил животных и получал за это царапины и ссадины?
Эти пункты казались мне ничего или малозначащими, но, очевидно, они сильно могли повлиять на компьютер, и некоторые из них, возможно, обещали мне пару лишних лет жизни.
Я исполнился подозрением. Цифры дала мне организация, чей продукт я покупал. Не было никакой тайны в том, что Лотерея Коллажо – весьма прибыльное дело, что основной источник ее прибылей – продажа лотерейных билетов и что последний их пациент, прошедший лечение бессмертием и покинувший эту клинику, занимался усиленной вербовкой сторонников Общества Лотереи. В интересах Общества было, чтобы получивший главный приз Лотереи обязательно проходил лечение, и поэтому они наверняка использовали любую возможность подавить малейшие сомнения.
Я оставил за собой право принятия решения, но постановил, что окончательно определюсь только после тщательного медицинского обследования. Я чувствовал себя здоровым, я не доверял компьютеру, я начал рассматривать бессмертие как принуждение.
Я повернулся к Сери и Ларин. Они воздавали должное тостам и пудингу, который принесли на завтрак. Затем я повернулся, переглянулся с Сери, и она поняла, что я передумал.
Глава пятнадцатая
Медицинская часть клиники занимала одно из крыльев здания. Здесь все, кто принимал лечение бессмертием, проходили основательный медицинский осмотр. Я еще никогда не проходил полного обследования и нашел его довольно утомительным, раздражающим, скучным, унизительным и неинтересным. Я с готовностью позволил подвергнуть себя обследованию при помощи новейшей диагностической аппаратуры, работа которой – не без умысла персонала – оставалась скрытой. Предварительное обследование было выражено в показаниях приборов; были также сделаны снимки различных частей тела – головы, позвоночника, левого предплечья и грудной клетки; один из врачей расспросил меня, потом предложил мне одеться и вернуться в свой павильон.
Сери ушла, чтобы подыскать себе отель, Ларин тоже не было видно. Я опустился на кровать и задумался о психологическом воздействии больницы, где раздевание пациентов – только один из многих факторов, при помощи которых пациента превращают в живой кусок мяса. В таком состоянии большая часть симптомов исчезает, что легко понять, но трудно объяснить.
Я некоторое время читал свою рукопись, чтобы вспомнить, кем я был, но скоро мое чтение прервал приход Ларин Доби и мужчины, который представился мне как доктор Корроб. Ларин улыбнулась мне одними уголками губ и села за письменный стол.
Я встал, ощущая некую напряженность, повисшую в воздухе.
– Мисс Доби сообщила мне, что вы сомневаетесь, стоит ли вам проходить лечение, – сказал доктор Корроб.
– Верно. Хотелось бы услышать, что вы на это ответите.
– Я советую вам немедленно принять лечение. Без него ваша жизнь в огромной опасности.
Я взглянул на Ларин, но та смотрела в сторону.
– Что со мной должно произойти?
– Мы обнаружили аномалию главной артерии, снабжающей кровью ваш мозг, так называемую цереброваскулярную аневризму. Это вздутие стенок главной артерии, и она может лопнуть в любое мгновение.
– Вы все это выдумали!
– С чего вы это взяли? – Корроб, казалось, немного удивился.
– Вы пытаетесь нагнать на меня страху и заставить принять лечение.
– Я просто рассказываю вам, что мы у вас диагностировали, – ответил Корроб. – Общество Лотереи наняло меня в качестве консультирующего врача. Я говорю вам только, что ваше состояние очень серьезно и, если ничего не предпринимать, почти со стопроцентной вероятностью приведет к смерти.
– Но почему эту аневризму не обнаружили раньше?
– Может быть, в молодости вас никогда не обследовали. Мы знаем, что в детстве вы страдали заболеванием почек. Хотя вы тогда вылечились и ваше состояние признали удовлетворительным, следствием болезни стало повышение кровяного давления. В прошлом вы также довольно много пили.
– Не больше обычного! Как все!
– В вашем случае обычное количество должно было равняться нулю, если вам дорого было ваше здоровье. С ваших слов, пили вы регулярно – в среднем примерно бутылку пива в день. В вашем состоянии это чрезвычайно опасно.
Я снова покосился на Ларин и заметил, что она наблюдает за мной.
– Бред какой-то! – сказал я ей. – Я не болен!
– А вот об этом вы действительно не можете судить сами, – сказал Корроб. – Согласно результатам церебральной ангиографии вы больны, – он встал и направился к выходу – и помедлил, положив руку на ручку двери. – Решение, конечно, вы должны принять сами, но мой совет – немедленно соглашайтесь на лечение.
– Вы занимаетесь этим лечением?
– Наш консультант вам все объяснит.
– И нет никакой опасности?
– Нет… лечение совершенно безопасно.
– Тогда все ясно, – сказал я. – Если вы уверены…
У Корроба с собой была тонкая папка с записями о лечении какого-то пациента; теперь я понял, что это, должно быть, моя история болезни. Он протянул ее Ларин.
– Мистер Синклер должен немедленно приступить к лечению бессмертием. Сколько времени потребуется для составления профиля реабилитации?
– По крайней мере, еще день, а может быть, и два.
– Синклер должен получить приоритет. Аневризма – дело очень серьезное. Мы не можем допустить, чтобы что-то произошло, пока он в клинике. Он должен отбросить все колебания, иначе ему придется сегодня же вечером покинуть остров.
– Сегодня к вечеру я подготовлю его.
Все было так, словно ничего не произошло. Доктор Корроб снова повернулся ко мне.
– После шестнадцати часов не принимать ничего – никакой пищи; если почувствуете жажду, можете выпить воды или разбавленного фруктового сока. Но ни капли алкоголя. Миссис Доби объяснит вам все завтра утром, а потом мы подготовим вас к лечению. Понятно?
– Да, но мне хотелось бы знать…
– Миссис Доби объяснит вам, что к чему, – он вышел и быстро закрыл дверь. По комнате прошел ощутимый ветерок.
Я снова опустился на кровать, не обращая внимания на Ларин. Я поверил врачу, хотя чувствовал себя совершенно обыкновенным, таким же, как всегда. Надо было разбираться в медицине, чтобы с уверенностью эскулапа определить симптомы болезни. Я вспомнил, как ходил к врачу год назад, когда у меня приключился гайморит. Он осмотрел меня и установил, что я должен спать в центре комнаты, а если станет хуже, то отсмаркиваться, чтобы освободить нос, и не забывать о средствах для осушения носа. Гайморит был следствием моего преступного отношения к своему здоровью: я был сам во всем виноват. Униженный чувством вины, я покинул кабинет доктора. Теперь, когда Корроб ушел, у меня снова появилось чувство, что я сам каким-то образом виноват в слабости своей мозговой артерии. В детстве я вел себя правильно, когда же стал взрослым, то сделался пьяницей. Впервые в жизни я почувствовал потребность отрицать, или объяснять, или оправдаться.
Мне пришлось иметь дело с защитной системой клиники, персонал которой делал спорное в лечении – злобой дня, а сочувствие к лечащимся – системой. Добровольцы были готовы ко всему и в известной мере принимали участие в лечении в качестве уговаривающих; они психологически манипулировали теми, кто отказывался и колебался, а потом запугивали их при помощи медицинских данных.
Я заметил отсутствие Сери и подумал, что ее нет уже очень долго. Мне хотелось снова почувствовать себя человеком; может быть, прогуляться с ней или просто посидеть вместе.
Ларин захлопнула папку, которую читала.
– Как вы себя чувствуете, Питер?
– Что значит «как я себя чувствую»?
– Мне очень жаль… Меня вовсе не радует, что компьютер оказался прав. По крайней мере, мы здесь можем кое-что сделать для вас, если это вас утешит. Будь вы дома, вы, наверное, так ничего и не узнали бы об этой аневризме.
– Мне все еще с трудом верится в это, – снаружи кто-то косил лужайку; вдали, по ту сторону предгорья, у гавани, была видна часть города Коллажо. Я поднялся с кровати и подошел к Ларин. – Врач сказал, вы объясните мне ход лечения.
– Лечения аневризмы?
– Да, и бессмертие.
– Завтра вы подвергнетесь условному хирургическому вмешательству на дефектной артерии. Вероятно, хирург прирастит временный протез, пока артерия не регенерирует. Во всяком случае, это должно произойти быстро.
– Что вы в этом случае подразумеваете под регенерацией?
– Вам сделают множество инъекций гормонов. Они подхлестнут обновление клеток в некоторых частях тела, где обычно этого не происходит, например, в мозгу. В других частях тела они устранят злокачественные новообразования и поддержат ваши органы в хорошем состоянии. После лечения ваше тело будет постоянно самообновляться.
– Я слышал, что каждый год мне придется проходить повторный медицинский осмотр, – сказал я.
– Нет, если вы сами не захотите. Хирурги в процессе лечения вмонтируют в ваше тело множество биодатчиков, связанных с микропроцессорами. Показания их можно прочесть в каждом бюро Общества Лотереи, и если что-нибудь пойдет не так, вам сообщат, что делать. При необходимости, вас снова доставят сюда.
Возможно также лечение с последующим долгожительством, но только определенного рода. Мы здесь можем защитить вас только от органических изъянов. Я сейчас поясню это примером. Вы курите?
– Нет, но раньше курил.
– Предположим, вы начнете курить. Вы снова сможете выкуривать столько сигарет, сколько хотите, и у вас никогда не будет рака легких. Это точно. Но вы всегда можете заболеть бронхитом или эмфиземой легких, а угарный газ будет действовать на ваше сердце. Лечение не в силах предотвратить вашей гибели в автомобильной катастрофе, вы можете спиться или сломать себе шею. Получить обморожения или переломы. Мы в силах исправить физические недостатки и помочь вашему телу мобилизовать защитные силы против инфекции, но если вы будете вести себя неразумно или начнете хищнически использовать свое здоровье, у вас еще будет достаточно возможностей причинить себе вред.
Напоминание о хрупкости тела: переломах, ссадинах, кровотечениях. И о слабостях, которые я за собой знал и пытался вытеснить из головы, а еще – наблюдал их у других и слышал о них в разговорах в магазинах. Я развил в себе невосприимчивость к вопросам о здоровье, которые до сих пор были чужды мне. Усилило ли сознание близкой смерти стремление к бессмертию?
– Сколько все это должно продлиться? – спросил я Ларин.
– В целом две или три недели. После утренней терапии вам дадут отдохнуть. Как только консультирующий врач решит, что вы готовы, начнутся инъекции энзимов.
– Я могу не вынести инъекций! – сказал я.
– Это будут не подкожные впрыскивания. Методы очень усовершенствованы. Во всяком случае, за все время лечения вы ничего не почувствуете.
Меня охватил внезапный страх.
– Они думают усыпить меня?
– Нет, но как только будет сделана первая инъекция, вы впадете в полубессознательное состояние. Это, может быть, звучит пугающе, но большинство пациентов потом говорили, что чувствовали нечто весьма приятное.
Для меня не потерять сознание было делом чести. Когда мне было двенадцать, один из более взрослых и жестоких мальчишек столкнул меня с велосипеда; я получил тогда сотрясение мозга и лишился воспоминаний о трех предыдущих днях. Потеря этих трех дней стала главной тайной моего детства. Хотя я снова пришел в школу с великолепным фиолетово-черным синяком под глазом и роскошной жуткой повязкой на голове, я обнаружил, что существовали не только эти три дня, но и я в них. Было много уроков, игр и заданий, а также, вероятно, разговоров и споров, однако я ничего не мог о них вспомнить. В течение этих трех дней я, должно быть, был бодр, в сознании и внимателен, и этим трем дням полагалось входить в непрерывность моих воспоминаний, делающих совершенными мою личность и память. Тогда я впервые испытал что-то сродни смерти, и с тех пор, хотя сам никогда не боялся потери сознания, смотрел на воспоминания как на ключ к восприятию. Я существую, пока я помню.
– Скажите мне, Ларин, вы испытывали удовольствие от лечения?
– Нет, не испытывала.
– Тогда вы знаете о лечении не из собственного опыта?
– Я работаю с пациентами уже скоро двадцать лет. Больше я ничего не могу сказать о себе.
– Итак, вы не знаете, как это, – сказал я.
– Нет, только опосредованно.
– На самом деле я очень боюсь потерять память.
– Я хорошо понимаю это. И в мою задачу входит помочь вам все восстановить. Но вы неизбежно должны потерять то, что сейчас хранится в вашей памяти.
– Почему неизбежно?
– Это химический процесс. Чтобы дать вам долгую жизнь, мы должны остановить распад клеток вашего мозга. В норме самообновление клеток мозга не происходит, так что можно говорить о постепенном упадке духовных сил. Каждый день гибнут тысячи клеток вашего мозга. Мы здесь налаживаем регенерацию клеток, так что ваши умственные способности и психика останутся неизменными независимо от того, сколько вы проживете. Но когда обновление клеток начнется, новая активность внутри клеток вызовет полную амнезию.
– Именно это меня и пугает, – сказал я. – Исчезновение идентичности, потеря жизни, утрата непрерывности воспоминаний.
– Вы никогда не узнаете о том, что вас теперь пугает. Вы погрузитесь в состояние, подобное сну. При этом вы будете видеть картины своей жизни, вспоминать путешествия и встречи; люди будут говорить с вами. Вам будет казаться, что вы находитесь среди них, узнаёте их эмоции. Ваше сознание выдаст все, что в нем есть.
Корни будут отсечены, зацепки потеряны. Вы войдете в состояние, где есть только одна реальность, и эта реальность – сон.
– А когда я приду в себя, то не буду ничего помнить.
– Почему вы так говорите?
– Но ведь именно так всегда говорят врачи, верно? Они думают, этим можно успокоить.
– Это так. Вы проснетесь здесь, в этом павильоне. Я буду тут, и ваша подруга тоже.
Я хотел поговорить о Сери. Я хотел, чтобы меня оставили в покое.
– Но я не буду ничего помнить, – сказал я. – Все мои воспоминания уничтожат.
– Это неизбежно. Но вам помогут восстановить их. Для этого я здесь.
Сон исчез, оставив после себя пустоту. Позже жизнь вернулась ко мне в обличье спокойной терпеливой женщины, которая возвращала мне мои воспоминания, словно рука, пишущая слова на пустом листе.
– Откуда мне после этого знать, кто я такой?
– Ваша личность не изменится ни в чем, кроме способности к долгой жизни.
– Но я то, что я помню. Если вы отнимете у меня это, я не могу стать прежней личностью.
– Я обучена возвращать воспоминания, Питер. Я это умею, но вы должны помочь мне.
Она откуда-то достала портфель, из которого извлекла толстую пачку отпечатанных листов.
– У нас не так много времени, как обычно, но все же все это можно написать за один вечер.
– Позвольте посмотреть!
– Будьте как можно более правдивы и откровенны, – сказала Ларин и протянула мне папку. – Пишите, что захотите! В письменном столе лежит пачка бумаги.
Папка была тяжелой и обещала многочасовую работу. Я взглянул на первую страницу, где надо было написать свое имя и адрес. Следующие вопросы касались моего образования, дружбы, любви и так далее. Множество вопросов, каждый тщательно сформулирован, чтобы способствовать полной откровенности при ответах. Я заметил, что не могу их читать, что слова расплываются, когда я перелистываю страницы.
В первый раз с тех пор, как мне объявили смертный приговор, я почувствовал приподнятость и удовлетворение. Я не собирался отвечать на эти вопросы.
– Мне это не нужно, – сказал я Ларин и бросил папку на стол. – Я уже написал свою автобиографию. Можете с пристрастием изучить ее.
Я сердито отвернулся.
– Вы слышали, что сказал врач, Питер. Если вы не готовы к сотрудничеству, то должны еще сегодня покинуть остров.
– Я готов к сотрудничеству, но отвечать на эти вопросы не буду. Это все уже описано.
– Где? Можно посмотреть?
Рукопись лежала на моей постели, там, где я ее оставил. Я отдал ее. По некоторым соображениям я был сейчас не в состоянии смотреть на нее. Рукопись, связующее звено с тем, что вскоре станет моим забытым прошлым, казалось, излучала одобрение и уверенность.
Я услышал, как Ларин перелистнула несколько страниц, и, когда оглянулся, она уже быстро пробегала глазами третью или четвертую страницу. Потом она бросила взгляд на последнюю страницу и отодвинула рукопись.
– Когда вы это написали?
– Два года назад.
Ларин, наморщив лоб, посмотрела на казавшуюся зачитанной рукопись.
– Я неохотно работаю без вопросника, – сказала она. – Откуда мне знать, что вы здесь ничего не пропустили?
– В конце концов, риск мой, не так ли? – сказал я. – Кроме того, там есть все, – я рассказал ей, как писал и что поставил перед собой задачу воссоздать в рукописи правду со всей возможной полнотой.
Она снова открыла последнюю страницу.
– Рукопись неполная. Разве вам это не ясно?
– Я оборвал работу, но это не играет никакой роли. Рукопись почти дописана, и хотя позже я пробовал закончить ее, мне всякий раз казалось, что лучше все оставить как есть.
Ларин ничего не сказала. Она пристально смотрела на меня, словно хотела выудить больше. Я с отвращением процедил:
– Она не закончена, поскольку не закончена моя жизнь.
– Если вы написали ее два года назад, то как насчет того, что произошло позже?
– А вас это касается? – Я по-прежнему испытывал к ней враждебность, но все еще находился под влиянием ее доброжелательности. Она попросила продолжить и я не мог отказаться. – Создавая эту рукопись, я обнаружил, что жизнь имеет особый узор, в который вписывается все, что я делаю. С тех пор как я бросил писать, мне стало ясно, что все идет по-прежнему и что все, что я делал в эти последние два года, только добавляет штрихи к этому узору.
– Я должна взять это с собой и прочитать, – сказала Ларин.
– Разумеется. Я согласен. Для меня это часть меня, нечто такое, что нельзя объяснить.
– Я могу сделать для вас второй экземпляр, – сказала Ларин и улыбнулась, словно пошутив. – Я имею в виду, что могу снять с нее фотокопию. Тогда я верну оригинал, а сама буду работать с фотокопией.
– Это означает именно то, что должно произойти со мной, не так ли? Меня тоже фотокопируют. Единственное отличие в том, что оригинал не вернут. Я получу копию, а оригинал будет потерян.
– Вы не так все это понимаете, Питер.
– Знаю, но вы заставляете меня так думать.
– Может, все-таки передумаете и заполните мой вопросник? Если вы не вполне доверяете своей рукописи…
– Нельзя сказать, что я в чем-то не доверяю ей, – ответил я. – Я живу тем, что написал, потому что я то, что я там написал.
Я отвернулся и закрыл глаза. Разве можно забыть то исступленное созидание, описания, теплое лето, вид на холмы из Джетры? Особенно живо я помнил часы, проведенные на веранде виллы, которую предоставил в мое распоряжение Колен, и вечер, когда я сделал там потрясающее открытие: воспоминания отрывочны, искусное воссоздание прошлого и высшей правды представляет собой голые домыслы. Жизнь можно было выразить в метафорах; это и был узор, о котором я уже упоминал Ларин. Истинные подробности касательно моих школьных лет могли представлять лишь случайный интерес, однако они рассматривались метафорически, как результат обучения и взросления, и становились величайшими, значительнейшими событиями. Я был непосредственно связан с ними, потому что это был мой личный опыт; это был мой личный опыт, но он был связан со всем опытом человечества, поскольку был подлинным. Но я рассказал только о ежедневной монотонности, перечислил анекдотические детали и дотошно перенес на бумагу воспоминания, а значит, рассказал лишь половину истории.
Я не мог отказаться от своей сути, и в этой рукописи описал всю свою жизнь, свое существование.
Поэтому мне стало ясно, что ответы на вопросы Ларин будут лишь полуправдой. Педантичная последовательность вопросов не оставляла места для исчерпывающих ответов, для обдуманных суждений, метафор, рассказа.
Ларин посмотрела на часы.
– Вы знаете, что будет после трех? – спросила она. – Откажитесь от полноценного обеда, а после четырех вообще ничего не ешьте.
– Могу я сейчас перекусить?
– В столовой. Скажите персоналу, что завтра утром у вас операция, а уж они знают, что вам дать.
– Где Сери? Разве ей уже нельзя быть здесь, со мной?
– Я не велела ей возвращаться сюда до пяти часов.
– Я хочу, чтобы сегодня вечером она была со мной, – сказал я.
– Это зависит от нее и от вас. Но ее не должно быть здесь, когда вы войдете в клинику.
– Но потом я смогу увидеть ее?
– Само собой. Потом она будет вам нужна. – Ларин уже зажала было рукопись под мышкой, чтобы забрать с собой, но теперь снова вытащила ее. – Сколько Сери знает о вас, о вашем прошлом?
– Во время путешествия на корабле мы мало рассказывали друг другу о себе.
– Подождите, у меня идея. – Ларин отдала мне рукопись. – Я прочту это позже, пока вы будете в клинике. Дайте сегодня вечером прочитать ее Сери и поговорите с ней об этой рукописи. Чем больше она будет знать о вас, тем лучше – это может быть важно.
Я забрал рукопись. Я не совсем представлял себе ее вторжение в сферу моей личной жизни. Поскольку я писал о себе, то и нарисовал себя перед собой же без всяких прикрас; в рукописи я представал совершенно нагим. Я не выставлял себя там в неверном или благоприятном свете, я просто не кривил душой и поэтому теперь чувствовал себя довольно неловко. И потому же еще неделю тому назад я не мог себе представить, что кто-то другой вдруг прочтет мою рукопись. Но теперь мне предстояло вручить свой труд двум женщинам, которых я едва знал, но на протяжении своего обучения, вероятно, узнаю не хуже, чем самого себя.
Я все еще мучился смущением из-за этого вторжения, когда во мне вдруг произошел некий душевный обвал и я учинил проверку своей личности. В этом истолковании я вернулся к себе и обрел себя.
После того как Ларин ушла, я поднялся по склону-лужайке к столовой и получил предписанный мне завтрак. Осужденному принесли немного салата, и остался голодным.
Вечером вернулась Сери, усталая от блужданий. Увидев, как она идет, и я снова отметил воздействие произошедшего. Наши прежние связи уже были разорваны: мы провели целый день порознь, ели в разное время. Отныне наша жизнь шла в разных темпах. Я рассказал ей, что произошло за день и что я узнал.
– Ты им веришь? – спросила она.
– Теперь – да.
Она взяла мое лицо в ладони и легонько прикоснулась кончиками пальцев к моим вискам.
– Они убеждены, что ты должен умереть.
– Да, но они надеются, что это не произойдет сегодня вечером, – сказал я улыбаясь. – Это стало бы для них плохой рекламой.
– Ты не должен возбуждаться.
– Что это значит?
– Сегодня ночью мы ляжем раздельно.
– Но врач ничего не сказал мне об этом.
– Нет. Это говорю я.
В ее поддразнивании не было задора, и я ощутил внутри растущую пустоту. Я вел себя как обеспокоенный родственник, который перед операцией отпустил безвкусную шутку о кровати и клистире, чтобы скрыть свою глубокую озабоченность.
Я сказал:
– Ларин хочет, чтобы ты помогла при реабилитации.
– А ты хочешь?
– Я не могу представить этого без тебя. Ты ведь пойдешь со мной, правда?
– Ты же знаешь, почему я здесь, Питер, – она обняла меня, но спустя несколько мгновений отвернулась и опустила взгляд.
– Я хочу, чтобы сегодня вечером ты кое-что прочитала. Это предложила Ларин.
– Что прочитала?
– Я не успеваю заполнить вопросник, – сказал я. – Но перед отъездом из Джетры я кое-что написал. Описал историю моей жизни. Ларин видела рукопись и решила использовать ее для реабилитации. Когда ты сегодня вечером прочтешь это, я смогу с тобой поговорить.
– Там много?
– Довольно много. Более двухсот страниц, но я печатал на машинке. Чтение не должно занять много времени.
– Где эта рукопись?
– Мне уже вернули ее.
– Почему ты не рассказал о ней на корабле? – она так небрежно взяла рукопись, что листы чуть не разлетелись. – Ты знаешь, если это что-то такое… ну… если это написано только для себя, что-то очень личное…
– У меня есть только это и ты можешь этим воспользоваться, – я начал объяснять, какие мотивы побудили меня взяться за рукопись и что я намеревался этим сказать, но Сери пошла к другой кровати, села и стала читать. Она быстро перелистывала страницы, словно только пробегая текст, и я спросил себя, сколько она сможет воспринять при таком поверхностном чтении.
Я наблюдал за ней, пока она читала первую главу: исчерпывающе подробные абзацы, в которых я описывал свою тогдашнюю дилемму, череда невезений и оправданий, самокопание; когда Сери добралась до второй главы, мне показалось, что она вдруг запнулась на первой же странице и прочитала какой-то кусочек еще раз. Потом снова вернулась к первой главе.
– Могу я кое-что у тебя спросить? – сказала она.
– Может лучше сначала прочесть все до конца?
– Не понимаю, – она опустила страницы себе на колени и посмотрела мне в лицо. – Я думала, ты родился в Джетре.
– Верно.
– Так почему же ты тогда пишешь, что родился где-то в другом месте? – Она посмотрела на меня. – Лондон… где это?
– Ах, это, – ответил я. – Всего лишь выдуманное название… это так трудно объяснить. По сути это та же Джетра, но я пытался передать мысль, что город, где я живу, со временем изменился. «Лондон» – это лишь субстанция души. Я помню, как родители, когда еще были живы, рассказывали мне, где они жили в то далекое время, когда я только появился на свет.
– Позволь мне все это прочитать самой, – сказала Сери и снова склонилась над страницами.
Теперь она читала гораздо медленнее, по много раз переворачивая прочитанные страницы. Внутри меня зародилось и распространилось неприятное чувство, что ее медлительность можно истолковать как некую форму критики. Ведь я предназначал эту рукопись исключительно себе, и мне даже не снилось, что ее будет читать кто-то другой; я считал само собой разумеющимся, что мои методы и описания не станут известны никому другому. Сери, первая после меня действующее лицо в том далеком мире, который я изобразил в рукописи, читала, запинаясь и морща лоб; она непрерывно листала страницы туда-сюда.
– Верни мне рукопись, – сказал я наконец. – Я не хочу, чтобы ты читала дальше.
– Но я непременно должна ее прочесть, – возразила она. – Я должна все понять.
Но время шло, а ей стало ясно очень и очень немногое. Тогда она принялась задавать вопросы:
– Кто такая Фелисити, которую ты изобразил здесь?
– Кто такие Битлз?
– Где Манчестер, Шеффилд, Пирей?
– Что такое Англия и какой это остров?
– Кто такая Грейс и почему она пытается взять твою жизнь в свои руки? Какое она имеет на это право?
– Кто был Гитлер, о какой войне ты здесь пишешь? Какие города подвергались бомбардировке?
– Кто такая Элис Рауден?
– Почему убили Кеннеди?
– Когда были шестидесятые, что такое марихуана, что такое психоделический рок?
– Тут ты снова упоминаешь Лондон… Я думаю, это такое состояние духа?
– Почему ты все время говоришь о Грейс?
– Что произошло в Уотергейте?
Я объяснял, но Сери не слушала.
– В вымысле заключена глубокая правда, потому что воспоминания ложны.
– Кто такая Грейс?
– Я люблю тебя, Сери, – сказал я, но слова эти прозвучали пусто и неубедительно даже для моих собственных ушей.
Глава шестнадцатая
– Я люблю тебя, Грейс, – сказал я, становясь на колени на вытертый ковер. Она сидела на полу, вытянув ноги, спиной и локтями опираясь на постель. Она больше не плакала, но была молчалива. Я всегда чувствовал себя неловко, когда Грейс молчала, потому что тогда понять ее было невозможно. Иногда она молчала, потому что была уязвлена, иногда просто потому, что ей нечего было сказать, но в большинстве случаев потому, что это было чем-то вроде мести. Она утверждала, что я сам принуждаю ее к молчанию, чтобы манипулировать ею. Поэтому сложности удваивались, и я не знал, как мне теперь вести себя с ней. Гнев Грейс иногда бывал наигранным и вызывал у меня реакцию, которую она и надеялась вызвать; но если ее гнев оказывался настоящим, это было неизмеримо серьезнее: она могла вспылить в любое мгновение.
Объяснение в любви было единственным общим разговором, который нам еще оставался, однако она говорила со мной больше, чем я с ней. Поэтому наш разрыв произошел из-за ее пустых жалоб.
Сегодняшняя ссора была столь же жаркой, сколь незначительным был повод. Я пообещал освободить вечер и сходить к ее друзьям поужинать. К несчастью, я забыл о своем обещании и купил билеты на пьесу, которая интересовала нас обоих. Это была моя вина, я забыл о приглашении, проявил малодушие, сдался, но Грейс сыпала все новыми упреками. Ее друзьям нельзя позвонить; мы зря потратились на билеты. Мы все время делаем что-то не так.
Это было только начало. Дурное настроение породило напряжение, а это, в свою очередь, привело к глубокому расколу. Я не люблю ее, это несомненно, в нашей квартире сплошной кавардак, я ворчун и брюзга и все время иду на попятную. В ответ я называл ее невротичкой, капризной неряхой, кокетничающей с другими. Все это прорвалось наружу и распространилось по комнате влажным душным облаком упреков, которые становились все менее определенными, делали нас все холоднее друг к другу и усиливали отчуждение, все повышая вероятность того, что во время этой бессмысленной свары мы еще больнее раним друг друга.
Она встала, бросилась на постель и повернулась ко мне спиной. Я схватил ее за руку, но Грейс осталась холодна и не откликнулась. Она лежала лицом к стене и мерно дышала; слезы иссякли.
Я поцеловал ее в шею.
– Я действительно люблю тебя, Грейс.
– Не говори ничего! Не теперь!
– Почему не теперь? Ведь только это – правда, разве не так?
– Ты просто хочешь меня запугать.
Я крякнул от досады и отвернулся. Ее рука безвольно лежала на смятом покрывале. Я встал и подошел к окну.
– Куда ты?
– Просто задерну шторы.
– Оставь их в покое!
– Я не хочу, чтобы в комнату заглядывали.
Грейс всегда пренебрегала шторами. Спальня располагалась в передней части здания, и так как квартира была в подвальном этаже, к нам можно было заглянуть с улицы. Грейс, отправляясь в постель, зачастую раздевалась, не выключая света и не задергивая штор. Однажды я вошел в спальню и обнаружил, что Грейс нагишом сидит в постели; она пила кофе и читала. За окном из соседней забегаловки шли люди.
– Ты слишком чопорен, Питер.
– Просто не хочу, чтобы кто-то видел, как мы ссоримся, – я задернул шторы и вернулся к постели. Грейс поднялась и закурила.
– Что будем делать?
Я сказал:
– То, что я предложил полчаса назад. Ты на машине поедешь к Дейву и Ширли, а я подземкой – в театр и постараюсь обменять билеты. Потом я присоединюсь к вам.
– Хорошо.
До сих пор это предложение действовало на нее так же, как и все остальные: повергало в слезы. Я попытался исправить ошибку, принудить себя посетить Дейва и Ширли. Но теперь намерения Грейс внезапно изменились.
Я пошел на кухню и налил воды. Она была холодной и чистой, но безвкусной. Я привык к сладкой валлийской воде в Херсфордшире, к мягкой пенистой воде в Шеффилде; в Лондоне воду брали из Темзы, химически очищали и бесконечно фильтровали, и на вкус она была всего лишь имитацией настоящей воды. Я опустошил стакан, сполоснул его и поставил в сушилку. В мойке еще громоздилась посуда после вчерашнего ужина, грязная и дурно пахнущая.
Грейс жила на улице, типичной для множества предместий Лондона. Некоторые дома были частными, другие принадлежали городу. Дом, в котором жили мы, ждал капитального ремонта, но пока городской совет Кемдена сдавал квартиры внаем за весьма умеренную цену. Комфортабельность квартиры была ниже среднего, но не намного уступала дорогим частным сдаваемым внаем квартирам, в одной из которых я жил раньше. На углу улицы был восточный ресторанчик, владельцем которого был турок-киприот, по главной улице из Кентин-Таун в Кинг-Кросс курсировало множество автобусов; здесь находились оба кемденских кинотеатра – в одном крутили особые, в основном иностранные фильмы; в Туннель-парк, приблизительно в миле от нас, занимало переоборудованную старую церковь Шекспировское театральное общество. Таковы были отличительные черты местности, которая медленно превращалась из рабочих кварталов в расположенный ближе к центру Лондона жилой район для среднего класса. Псевдогеоргианские двери, ванхэмские замки, кухонные столики из елового дерева и валлийские серванты были характерны для этих запущенных домов, а на главной улице уже появились ювелирные магазины и магазины деликатесов, чтобы соответствовать потребностям платежеспособного и прихотливого населения района.
Грейс за моей спиной подошла к окну. Она обхватила меня руками, прижалась и поцеловала за ухом.
– А теперь пойдем в постель, – сказала она, – у нас еще есть время.
Я воспротивился просто из-за неизбежности. После ссоры мне хотелось побыть одному, прогуляться по улицам или чего-нибудь выпить. Ей бы следовало это знать, ведь я часто говорил ей об этом из-за неспособности реагировать на ее мгновенные перемены настроения и часто демонстрировал ей свою тягу к одиночеству. Она заметила мое сопротивление, и я почувствовал, как она вся сжалась. Не желая пробуждать ее гнев, я обернулся и поцеловал ее, надеясь, что она успокоится.
Но она прижалась ко мне, и скоро мы уже оказались без одежды. Я действительно любил Грейс, но потом я подумал о Сери, и внезапно все происходящее показалось мне нереальным.
Грейс почувствовала, как я отступаю, чутье безошибочно подсказало ей, что желание у меня пропало.
Позже, когда она поехала в Фалхэм к Дейву и Ширли, я спустился в подземку на Кентиш-Таун и сел в поезд через Вест-Энд. Театральные билеты удалось обменять очень быстро. На завтрашнее вечернее представление свободные места еще были, а сегодня вечером люди искали лишние билеты. Убежденный, что поступил правильно, я вернулся в метро и поехал в Фалхэм.
Дейв и Ширли были учителями и занимались школьной реформой. Ширли считала, что она, может быть, беременна, а Грейс слишком много пила и флиртовала с Дейвом. Мы ушли от них около полуночи.
В ту ночь, когда Грейс заснула, я думал о Сери.
Сначала я думал, что они с Грейс – одно, но теперь разница между ними виделась все явственнее. Тогда, в Кастлтоне, мое познание Сери было попыткой понять Грейс. Но следствием этой ложной посылки стало то, что я сознательно создал Сери.
При воспоминании о том, как я работал над рукописью, о сличении мимоходом осознанных и неожиданных открытий, мне стало ясно, что Сери – нечто большее, чем просто фальшивое отображение Грейс. Она была настоящей, полноценной, полностью обоснованной, обладала собственной личностью. Жила по собственным правилам. Каждый раз, когда я видел ее или говорил с ней, я воспринимал это совершенно серьезно.
Но пока Грейс была рядом, Сери отступала на второй план.
Иногда я просыпался ночью и обнаруживал рядом с собой в постели Сери. Она почти всегда спала, но уже первое мое прикосновение будило ее.
Днем, когда Грейс была на работе, Сери всегда оказывалась моей случайной попутчицей. Часто она находилась в соседней комнате, где я мог ощутить ее близость или ждала снаружи, на улице. Когда я оказывался около нее, я говорил с ней. Во время наших вылазок между нами возникала близость. Сери рассказывала мне об островах, об Иа и Квае, о Марисее, Сивле и Панероне. Она родилась на Сивле, побывала замужем и с тех пор кочевала по островам. Иногда мы вместе бродили по бульварам Джетры или ехали на трамвае к побережью, и я показывал ей Дворец Сеньора и его охрану в их экзотических средневековых мундирах.
Но Сери приходила ко мне только тогда, когда хотела, а мне она иногда бывала нужна и в другое время.
Внезапно Грейс спросила:
– Ты еще не спишь?
Я выждал несколько секунд, прежде чем ответить.
– Да.
– О чем ты думаешь?
– Обо всем.
– Я не могу спать. Мне жарко, – она поднялась и включила свет. Я заморгал от его невыносимой яркости и подождал, пока она закурит сигарету. – Питер, что-нибудь не так?
– Ты о том, что я здесь живу?
– Да, тебе же это отвратительно. Ты можешь прямо сказать об этом.
– Ничего отвратительного в этом нет.
– Тогда дело во мне. Что-то не так. Разве ты не помнишь, что мы решили в Кастлтоне? Если у нас снова все пойдет вкривь и вкось, мы будем откровенны и ничего не станем скрывать друг от друга.
– Я и не скрываю, – я заметил, что неожиданно появилась Сери: она сидела, полуобернувшись, в ногах нашей постели и прислушивалась, наклонив голову. – Я должен представить себе, что произошло за последний год. Ты знаешь, о чем я?
– Я уже думала об этом, – она отвела взгляд, ткнула горящей сигаретой в пепельницу, и там образовалась маленькая кучка пепла. – А ты – ты понимаешь, что я имею в виду?
– Иногда.
– Большое спасибо. Значит, в остальное время я говорю напрасно?
– Не начинай новую ссору, Грейс. Пожалуйста.
– Я не начинаю никакой ссоры. Я просто пытаюсь пробиться к тебе. Ты можешь хотя бы выслушать меня? Ты забываешь все, что только можно, противоречишь самому себе, смотришь сквозь меня, словно я стеклянная. Раньше ты никогда не был таким.
– Да, ты права.
Уступить было проще. Я охотно все объяснил бы, но боялся ее гнева.
Я думал о тех временах, когда с Грейс было трудно сладить, если она усталая приходила с работы или была чем-то взбудоражена. Когда это случилось впервые, я попытался оборвать ссору на середине и предложить что-нибудь. Я хотел, чтобы Грейс изменила свое поведение, чтобы нас что-нибудь объединяло бы, а не разъединяло, но она возвела эмоциональный барьер, который казался мне непреодолимым. Она с досадливым взмахом руки уклонялась от сочувственных вопросов или гневно взрывалась, или уходила от разговора каким-нибудь другим образом. Она была чрезвычайно нервна, и хотя я пытался понять ее, это было очень трудно.
Когда я еще только начал спать с ней в Лондоне, через пару месяцев после Греции, я заметил, что у нее на ночном столике стоит маленькая мисочка со средством для мытья посуды. Она объяснила: это на тот случай, если понадобится снять с пальца кольцо. (Я спросил, почему она не снимает кольцо, отправляясь спать, и она ответила, что это принесет ей несчастье.) Когда я узнал ее лучше, она созналась кое в чем еще: она страдает сильной клаустрофобией. Я счел это шуткой и ошибся. Когда в Грейс росло напряжение, она не могла носить ни обуви, ни колец, ни перчаток. Однажды вечером, вскоре после нашего возвращения из Кастлтона, я пришел из забегаловки домой и обнаружил, что Грейс рыдает на постели. Шов на рукаве ее блузки был разорван до плеча, и моей первой мыслью было, что на нее кто-то напал на улице. Я попытался успокоить ее, но она была в истерике. Молнии на ее сапогах не расстегивались, и блузка лопнула, когда Грейс бесновалась из-за этого на постели. Сапоги не хотели сниматься. Ногти у Грейс были обломаны, а еще она разбила стакан. Потребовалась всего пара секунд, чтобы расстегнуть молнии и снять с нее сапоги, и за это время она полностью пришла в себя. Остаток вечера она босиком ходила по квартире, разорванная блузка болталась на груди. В припухших глазах стоял невысказанный, невыразимый ужас.
Грейс потушила сигарету и обняла меня.
– Питер, я не хочу больше так. Для нас обоих важно знать, что же произошло.
– А что должно произойти? Я же стараюсь, чтобы все было в порядке.
– Я хочу, чтобы ты заботился обо мне. Ты такой странный, такой замкнутый. Иногда мне кажется, что я вообще для тебя не существую. Ты ведешь себя… нет, это неважно.
– Нет, важно! Говори!
Грейс несколько секунд молчала, и удушливая тишина окутывала нас. Потом она пошевелилась.
– Ты встречаешься с какой-нибудь другой женщиной?
– Нет, конечно нет.
– Это правда?
– Грейс, нет никакой другой женщины. Я люблю тебя . Почему у меня должна быть другая женщина?
– Ты ведешь себя так, словно она есть. Ты, кажется, постоянно грезишь, и когда я говорю с тобой, отвечаешь так, словно говоришь с какой-то другой женщиной. Разве ты не замечаешь этого?
– Например.
– Ну, не знаю. Я ничего не замечала. Но это в тебе не спонтанность. Все это было знаками для меня. Это то, во что меня превратило твое сознание, то, кажется, какой ты меня ожидаешь. И если я этого не делаю, потому что возбуждена или потому что я – это я… то ты не готов к этому. Это неразумно, Питер. Я просто не могу быть такой, какая я в твоем воображении.
– Извини, – пробормотал я и крепко прижал ее к себе. – Я не знал. Я не нарочно. Ты – единственная женщина, какую я знал и хочу знать. В прошлом году я уединился именно потому, что не мог без тебя. Были и другие причины, но в первую очередь это произошло потому, что мы расстались и мне трудно было пережить это. Теперь я снова обрел тебя, и все, что делаю и о чем думаю, вращается около тебя. Я не хочу, чтобы что-то пошло не так. Веришь?
– Да… а доказать ты это можешь?
– Я уже пытался – и попытаюсь снова. Только обязательно по-своему, потому что единственное, в чем я уверен – именно это, – я чувствовал тяжесть Сери в изножье кровати, покрывало на моих ногах промялось.
– Поцелуй меня, Питер! – Грейс прижала мои руки к своей груди.
После, когда я уже засыпал, я хотел рассказать Грейс о Сери и объяснить, что Сери – только часть ее самой и хотела напомнить нам счастливые дни на островах Эгейского моря, но не успел.
Позже, когда за шторами уже серело утро, я проснулся от движений Грейс. Дыхание ее убыстрилось и вырывалось толчками. Кровать вздрагивала, Грейс трясло, и я услышал тихое звяканье кольца о ночной столик.
Глава семнадцатая
На следующий день, когда Грейс была на работе, я почувствовал, что меня обуяла ужасная лень. В квартире надо было убрать, и я с обычной неохотой занялся домашними делами. Сери я больше не видел и поэтому после полудня собрался в ближайшую забегаловку, взяв с собой рукопись в надежде на то, что мне удастся отделаться от Грейс и вернуться к Сери. Мне казалось, что Грейс все перевернула в моем сознании; Сери отдалилась от меня. В эту ночь я понял, что Грейс для меня важнее всего остального.
Но я устал, секс снимал лишь физическое напряжение. Моя рукопись была опасна. В ней была Сери, но еще в ней в качестве главной фигуры был изображен я. Она возвращала меня, я начал понимать это, к самому себе.
Появление Сери было почти неминуемо. Настоящей, независимой, загоревшей на островах.
– Прошлой ночью ты мне не помогла, – сказал я. – А я нуждался в тебе, чтобы успокоить Грейс.
Сери сказала: «Я разволновалась и чувствовала себя одинокой. Я не могла помешать».
Она была далеко от меня, парила на периферии моего восприятия.
– А помочь ты можешь? – спросил я.
Сери сказала: «Я могу быть с тобой и помочь тебе найти себя. О Грейс я ничего не могу сказать. Ты любишь ее, и этим все сказано».
– Когда ты подходишь ближе, я люблю вас обеих. Я не могу ранить Грейс. Что же мне делать?
Сери сказала: «Пойдем со мной, Питер».
Я уронил распавшиеся листы рукописи на кровать и последовал за ней на улицу.
В городе была весна, и кафе вдоль бульвара выставили на тротуары свои столики. Это время больше всего нравилось мне в Джетре, и когда мы покинули квартиру, чтобы насладиться мягким воздухом и солнечным светом, это подействовало на меня словно живительный эликсир. Я купил газеты, и мы пошли в кафе, которое мне нравилось больше всех прочих, на углу площади с оживленным движением. Здесь была еще и трамвайная стрелка, и я с удовольствием слушал трель звонков, стук колес на стыках, любовался роем искр, летящих из-под дуги вагона. На тротуарах толпились пешеходы, создавая впечатление коллективной деятельности и целеустремленности, однако если рассматривать их поодиночке, то большинство просто наслаждалось солнцем и теплом. После холодной серой зимы их лица были повернуты вверх, к свету. Пока мы с Сери заказывали выпивку, я пробежал глазами газету. Большинство военных отрядов перебросили на юг; раннее таяние снегов вызвало сход многочисленных лавин, под ними погибло несколько патрулей пограничной полиции, перевалы завалило; правительство объявило эмбарго на ввоз зерна в так называемые Неприсоединившиеся Страны. Это известие – черное пятно в реалиях весеннего дня – расстроило меня.
Сери и я сидели на теплом солнце, смотрели на прохожих, трамваи и упряжных лошадей и чувствовали себя укрывшимися за полностью занятыми столиками кафе. Преобладали молодые женщины без сопровождающих: социальные последствия мобилизации.
– Я действительно охотно бываю здесь, в Джетре, – сказал я. – В это время года она – самое прекрасное место в мире.
Сери спросила: «Хочешь провести здесь остаток своей жизни?»
– Возможно, – я посмотрел на солнце в ее волосах, и она придвинулась ближе.
Сери сказала: «Давай поедем на острова. Как только мы выберемся из Файандленда, мы сможем поехать, куда захотим».
– Охотно, – ответил я. – Но что делать с Грейс? Я не могу просто уехать от нее. Она для меня – все.
«Ты уже однажды уехал».
– Да, а она пыталась лишить себя жизни. Поэтому я должен остаться с ней. Я не могу рисковать тем, что она сделает это еще раз.
«Разве ты не думал, что именно ты можешь быть причиной всех ее несчастий? Я наблюдала, как вы уничтожаете друг друга. Разве ты не помнишь, какой была Грейс, когда вы встретились с ней в Кастлтоне? Уверенная, в хорошем расположении духа, строила планы на будущее. Можешь ли ты теперь рассматривать ее как ту же самую женщину?»
– Иногда. Но она изменилась. Я это знаю.
«И все из-за тебя! – Сери отбросила назад волосы, за левое ухо, как иногда делала, волнуясь. – Питер, ты должен найти такой выход из создавшегося положения, чтобы он устроил вас обоих».
– Но я не хочу ничего другого. Куда я должен идти?
«Со мной, на острова».
– Почему все время эти острова? – спросил я. – Разве я не могу просто уйти в глубь страны, прочь от Джетры? Как в прошлом году.
Я заметил, что возле столика кто-то стоит, и поднял взгляд. Это был официант.
– Не будете ли вы любезны говорить потише, сэр? – спросил он. – Вы мешаете другим гостям.
– Извините, – я осмотрелся. Занятые собственными проблемами люди, казалось, не замечали меня. Мимо кафе прошли две красивые девушки; затем мимо прогремел трамвай; на другой стороне бульвара находилось государственное управление конных перевозок.
– Пожалуйста, повторите мой заказ.
Я снова видел Сери. Когда официант остановился возле столика, она отвернулась, отодвинулась от меня. Я перегнулся через столик, взял ее за запястья и слегка сжал их, чувствуя под пальцами тепло и округлость.
– Не покидай меня! – взмолился я.
«Ничего не могу поделать. Ты пренебрегаешь мной».
– Нет! Пожалуйста… ты действительно можешь мне помочь.
«Я боюсь, ты забыл, кто я такая. Я потеряю тебя».
– Пожалуйста, расскажи мне об островах, Сери, – попросил я.
Я заметил, что официант наблюдает за мной, и стал говорить вполголоса.
«Они – бегство от здешней жизни, твое собственное, личное бегство. В прошлом году, когда ты перебрался в дом своего друга, ты думал, что, изучая свое прошлое, сможешь понять, кто ты. Ты пытался вспомнить себя. Но личность существует в настоящем . Воспоминания – достояние прошлого, и если полагаться только на них, то найдешь только половину себя. Ты должен искать и стремиться к будущему. Архипелаг Мечты – вот твое будущее. Здесь, в Джетре, ты останешься с Грейс и только навредишь ей».
– Но я не верю в острова, – сказал я.
«Тогда ты должен открыть их для себя. Острова так же реальны, как и я. Они существуют, и ты можешь посетить их, как можешь говорить со мной. Но они еще и состояние души, субстанция жизни. Все, что ты делал до сих пор, было самонадеянно, направлено внутрь тебя, вредно для других. Ты должен открыть себя вовне и утверждать свою жизнь».
Официант вернулся и поставил на столик наш заказ: стакан пива для меня и апельсиновый сок для Сери.
– Пожалуйста, рассчитайтесь, прежде чем выпьете, сэр.
– Что это значит?
– Только то, что вы должны поспешить. Очень прошу.
Сери снова отдалилась, и на мгновение я увидел другое кафе: грязное помещение, деревянные столики со старыми пятнами от чая, разбитые окна, холодильник для молока и рекламный плакат пепси-колы. Но потом мимо проехал трамвай, высек своей дугой из провода рой бело-голубых искр, и я увидел розовые цветы на деревьях и толпу пешеходов.
Сери повернулась ко мне и сказала: «Ты можешь навсегда поселиться на Архипелаге».
– Ты имеешь в виду Лотерею?
«Нет… острова существуют вне времени. Те, кто уходит, никогда не возвращаются. Они обретают себя».
– Звучит гадко, – сказал я. – Эскапистская фантазия.
«Не больше, чем все остальное, что ты делал. Для тебя острова будут избавлением. Уход от бегства, возвращение к ориентации вовне. Ты должен уйти в себя еще глубже, чтобы найти обходной путь. Я отведу тебя туда».
Я молчал, смущенно разглядывая мостовую под столиком. Воробей прыгал между ногами посетителей, выискивая упавшие крошки. Я охотно остался бы здесь навсегда.
– Я не могу покинуть Грейс, – сказал я наконец, – пока еще не могу.
Сери, отдаляясь, сказала: «Тогда я уйду отсюда без тебя».
– Ты это серьезно?
Сери сказала: «Я не уверена, Питер. Я ревную к Грейс, потому что ты с ней, а я тебе вместо совести. Я вынуждена смотреть, как ты уничтожаешь себя, вредишь себе. В последнее время ты взялся уничтожать и меня. Вот так».
Сидя на солнце, она выглядела ужасно молодой и привлекательной; светлые волосы сияли, кожа загорела под южным солнцем, очертания молодого тела были хорошо заметны под тонкой одеждой. Она сидела рядом со мной, возбуждала меня, и я тосковал по тому дню, когда мы с ней наконец сможем остаться одни.
Я рассчитался и сел в трамвай, идущий на север. Когда улица стала уже и пошел дождь, я почувствовал, как во мне зарождается знакомое гнетущее уныние. Сери сидела возле меня и молчала. На Кентиш-Таун-роуд я сошел и зашагал по грязной боковой улочке к квартире Грейс. Ее машина стояла у дома, втиснутая между грузовиком какого-то крестьянина и автотрейлером с австралийским флагом в окошке. Уже стемнело, но в окнах не было света.
Сери сказала: «Что-то не так, Питер. Поспеши!»
Я оставил ее и спустился по ступенькам к двери. Вынимая из кармана ключ, я заметил, что дверь приоткрыта.
– Грейс! – я включил свет в прихожей и поспешил на кухню. Ее сумочка лежала на полу, содержимое разлетелось по потертому линолеуму: сигареты, разорванная бумажная салфетка, зеркальце, пачка жевательной резинки, гребень. Я собрал все это, сунул в сумочку и положил ее на стол. – Где ты, Грейс?
Гостиная была пуста, дверь в спальню – закрыта. Я нажал на ручку, толкнул. Но дверь была заперта изнутри.
– Грейс? Ты тут? – Я уперся в дверь плечом. Она немного подалась, но за ней по полу проскрипело что-то тяжелое. – Грейс! Впусти меня!
Я дрожал, колени мои непроизвольно подгибались. Я с ужасающей ясностью понял, что сделала Грейс, и что было силы ударил в дверь. Та отошла на несколько сантиметров, и я смог протиснуть руку внутрь и включить свет. Заглянув в узкую щель, я увидел ноги Грейс, свисающие с постели. Я еще раз ударил в дверь, и то, что ее удерживало, с грохотом упало на пол. Я протиснулся внутрь.
Грейс лежала в луже крови. Она полулежала-полусидела в постели. Юбка – задранная, словно Грейс только что каталась по кровати, – обнажала нездоровую бледность безупречной ноги. Один из сапожков был полуснят, но, видимо, застрял, другой лежал на полу.
На ковре металлический блеск лезвия. Кровь пульсирующими толчками струилась из запястья.
Задыхаясь от ужаса, я приподнял ей голову и похлопал Грейс по щекам. Она была без сознания. Я попытался нащупать пульс, но ничего не почувствовал. В ужасе я беспомощно осмотрелся. Я был убежден, что она умерла. Пораженный, я постарался устроить ее поудобнее и подсунул ей под голову подушку.
Потом мой разум справился с оцепенением. Я взял кровоточащую руку Грейс и как можно туже перетянул ее носовым платком. Снова попытался нащупать пульс и на сей раз нашел его.
Кинувшись обратно в коридор, я вызвал по телефону «скорую помощь». Как можно быстрее. Через три минуты.
Я вернулся в спальню. Грейс сползла с того места, на которое я ее уложил, и была опасность, что она соскользнет на пол. Я осторожно уложил ее обратно, так, чтобы верхняя часть ее тела полулежала на постели. Расхаживая по комнате, я заклинал машину «скорой помощи» поспешить. Я поставил на ножки комод, который Грейс придвинула к двери, убрал его с дороги и вставил на место ящики. Затем открыл входную дверь и вышел на улицу.
Три минуты. Наконец вдали послышались знакомые городские звуки: вой сирены, который быстро приближался. Голубая мигалка, соседи у окон, кто-то остановил движение.
Машину «скорой помощи» вела женщина. Два санитара с носилками и двумя красными покрывалами поспешили ко входу; алюминиевая раздвижная дверца машины осталась открытой.
Короткие вопросы: ее имя, живет ли она здесь, когда я ее нашел? Мои собственные вопросы: останется ли она в живых, куда ее отвезут, пожалуйста, позаботьтесь о ней побыстрее. Потом отъезд: мучительно медленный разворот на мостовой, разгон, голубой мигающий свет, удаляющийся вой сирены.
Вернувшись в квартиру, я вызвал такси. Пока я ждал, я попытался хоть как-то прибрать.
Я сложил выпавшие вещи в ящики комода, застелил кровать покрывалом и, словно оглушенный, остановился посреди комнаты. На ковре была кровь; брызги ее попали на стену. Я взял с кухни миску с водой и пару тряпок и отмыл самые скверные пятна. Мне было паршиво. Такси запаздывало. Снова войдя в спальню, я наконец занялся тем, чего до сих пор сознательно избегал. По кровати, где лежала Грейс, были разбросаны листы моей рукописи, текстом вниз.
Многие страницы были забрызганы кровью. Я знал, что на них написано, даже не читая. Это были страницы, связанные с Сери. Ее имя выпирало из текста словно подчеркнутое красным.
Грейс, должно быть, прочитала и поняла рукопись. Прихватив сумочку Грейс, я вышел на улицу. Появилось такси. По улицам, заполненным безумными вечерними потоками пешеходов, мы ехали к больнице «Ройял Фри» в Хэмпстеде, где размещалась служба «скорой помощи».
Спустя долгое время ко мне в комнату ожидания вышел, ответственный за связи с родственниками. Грейс была без сознания, но вне опасности. Если угодно, я могу навестить ее утром, но сначала он хочет задать мне несколько вопросов.
– Она уже однажды делала это?
– Нет, я же сказал санитарам. Это, должно быть, несчастный случай, – я смотрел мимо него, чтобы скрыть ложь. Конечно, основания для этого были. Но, может быть, они свяжутся с ее домашним врачом?
– И вы говорите, что жили с ней?
– Да. Я знаю ее три или четыре года.
– Проявляла ли она когда-нибудь склонность к самоубийству?
– Нет, конечно, нет.
Этого человека заботило еще кое-что; он сказал: врач велел мне подготовить на нее бумаги, но если вы ручаетесь за нее…
– Конечно, это больше не повторится, – заверил я. – Я убежден, что все это непреднамеренно.
Фелисити рассказала мне, что после прошлой попытки самоубийства Грейс почти на месяц против ее воли поместили в психиатрическую лечебницу, однако по истечении срока ее выпустили. Ее тогда поместили в другую больницу, в другой части Лондона. Со временем здесь узнают об этом, но станция «скорой помощи» и социальные службы были постоянно перегружены. Я дал этому человеку адрес и попросил его отдать сумочку Грейс, когда та проснется. Я сказал, что утром приду. Мне хотелось уйти; я находил это новейшее здание больницы ужасающе безликим и неинтересным. У меня было извращенное желание отделаться от этого типа, который наседал на меня, словно я был виноват. Но ему, рассеянному от усталости, хотелось, чтобы случай с Грейс был ясным и несложным.
Я вышел наружу под моросящий дождь.
Мне нужна была Сери, нужна как никогда, но я перестал понимать, что же такого нашел в ней. Поступок Грейс потряс меня; Сери, Джетра, острова – все это было предметами роскоши, духовной леностью.
Но, с другой стороны, я был совершенно не способен воспринимать сложные проявления реальности. Жуткая попытка самоубийства Грейс, мое соучастие в этом, уничтожение, от которого меня предостерегала Сери, привели к тому, что я в ужасе отступил перед ними – в ужасе от мыслей о том, что могу обнаружить в собственной душе.
Я несколько минут шел вниз по улице, пока у Росслин-Хилл ко мне не подъехал автобус. Я сел в него и поехал к станции Бейкер-стрит. Некоторое время я стоял у входа в метро, уставившись в глубину Мерилебоун-роуд, на тот угол, где Грейс однажды уже приняла решение покончить с собой. Движимый внезапным порывом, я пошел по пешеходному переходу и остановился на том самом месте. На углу находился филиал биржи труда, здесь подыскивали места для служащих регистратур, секретарей в государственные учреждения и бухгалтеров; необычно высокие оклады удивили меня. В прошлый раз это было в такой же вечер: Грейс и я в одном из переулков. Сери ждала где-то поблизости, оттуда я мог попасть на острова, теперь, казалось, очень далекие, вне пределов моей досягаемости.
Я стоял под моросящим дождем и смотрел на поток пешеходов под висячими балюстрадами и на реку автомобилей, текущую в сторону Вест-роуд, на Оксфорд-вэй, за пределы города, к далекой сельской местности. Там я впервые нашел Сери… и я подумал: не поехать ли туда во второй раз, чтобы все повторить сначала?
Замерзнув, я стал ходить туда-сюда, ожидая Сери, ожидая острова.
Глава восемнадцатая
Насколько я могу утверждать, меня зовут Питер Синклер, мне тридцать один год и я в безопасности. Сверх этого мне ничего не было известно.
Были люди, которым я нравился и которым ничего не стоило вдохнуть в меня мужество и помочь обрести себя. Я полностью зависел от них и только к ним питал привязанность. В том числе к привлекательной светловолосой женщине по имени Сери Фальтен. Мы были необычайно нежны друг с другом; если никого не было поблизости, она целовала меня. Другую женщину, пожилую, звали Ларин Доби, и хотя она старалась быть со мной нежной, я побаивался ее. Был также мужчина-врач по фамилии Корроб. Он посещал меня дважды в день, но я так и не познакомился с ним по-настоящему. Я чувствовал, что между нами есть дистанция.
Прежде я был серьезно болен, однако теперь находился на пути к выздоровлению. Мне сказали, что, как только мне станет лучше, я буду в состоянии вести нормальную жизнь и что рецидив исключен. Это меня весьма утешило, ведь долгое время моя голова в бинтах. Постоянно велось наблюдение за сердечным ритмом и кровяным давлением, а множество маленьких ранок на моем теле было залеплено пластырем; позднее ранки одна за другой начали подживать, а боль – утихать.
Состояние моего духа, вообще-то говоря, определялось настойчивым любопытством. Это были необычайные ощущения, зверский голод, который, казалось, ничем нельзя утолить. Меня интересовало все. Казалось, не существовало ничего, что заставило бы меня бояться, скучать или оставило бы равнодушным. Когда я утром просыпался, у меня, к примеру, появлялось новое ощущение одеяла и простыней, окутывающих мое тело, и это целиком приковывало мое внимание. Впечатления и ощущения захлестывали меня. Ощущение тепла и уюта, веса, фактуры, трения вплетались в мои мысли фрагментами и нюансами симфонии. (Каждый вечер мне до изнеможения проигрывали музыку). Функционирование тела изумляло. Дышать и глотать было невыразимым наслаждением, а вскоре я сделал еще открытия. Ходить в туалет тоже было источником удовольствия.
Постепенно я начал воспринимать окружающее.
Моя Вселенная, как я понял, представляла собой кровать в одной из комнат небольшого павильона в парке на острове среди моря. Мое сознание ширилось, как расходятся круги от брошенного в воду камня. Погода стояла теплая и солнечная, большую часть времени окна были открыты, и так как долгое время я вынужден был находиться на одном месте, мое кресло-кровать или подкатывали к открытой двери, или вывозили на маленькую прелестную веранду. Я быстро выучил названия цветов, насекомых и птиц. Как хрупка и многообразна была их взаимозависимость! Я полюбил запах жимолости, который ночью усиливался. Я сумел сохранить в памяти имена всех тех, с кем познакомился, была ли это Сери, Ларин или другие пациенты, обслуживающий персонал, врачи или садовники.
Я изголодался по информации, по новостям и жадно проглатывал каждый их кусочек, который удавалось заполучить.
С уменьшением болей я все отчетливее понимал, что до сих пор жил в неведении. К счастью, Ларин и Сери, казалось, были здесь, чтобы заботиться и поддерживать меня. Одна из них или они обе денно и нощно находились при мне, обеспечивали меня всем необходимым – поначалу, пока я был лежачим больным, – позже отвечали на примитивные вопросы, которые я мог задать, а еще позже объясняли мне меня самого и проявления мира. Мое внутреннее «я» было сложной непонятной Вселенной, очень трудной для восприятия.
Главное затруднение состояло в том, что Сери и Ларин могли говорить со мной только о внешнем. Мой постоянный вопрос «Кто я?» оставался единственным, на который они не могли ответить прямо. Их объяснения шли извне, без помощи моей внутренней Вселенной, и донельзя смущали меня. (Ранняя загадка: обо мне говорили во втором лице, и некоторое время я думал о себе «ты».)
Поэтому, если мне что-нибудь говорили, сначала я должен был понять, что сказано, и лишь потом мне удавалось выяснить, что имелось в виду, и у меня не было убежденности. Весь мой опыт был полностью уничтожен.
Так как у меня не было никакого иного мира, приходилось доверять им – нет, действительно, я во всем зависел от этих двух женщин. Но скоро я неизбежно должен был начать мыслить самостоятельно, и когда это произошло, когда я обратил вопросы внутрь себя, то обнаружил два обстоятельства, которые подрывали мое доверие к этим женщинам.
Я постепенно осознавал эти обстоятельства, и они порождали коварные сомнения. Возможно, эти женщины состояли в сговоре, а может быть, были совершенно независимы; я не мог этого знать. Из-за моей пассивной роли бесконечно обучающегося прошел целый день, прежде чем я вообще узнал о них. А когда наконец узнал, было уже поздно. Я примирился и перестал сопротивляться.
Первое обстоятельство касалось нашей работы.
Обычный день непременно начинался с того, что Сери или Ларин будили меня. Они давали мне еду, а в первые дни помогали мне мыться, одеваться и пользоваться туалетом. Когда я уже сидел в постели или в удобном кресле, приходил доктор Корроб и бегло осматривал меня. А потом обе женщины брались за свою серьезную и нелегкую дневную работу.
Для обучения они пользовались большой папкой с бумагами, в которую часто заглядывали. Иногда эти бумаги были написаны от руки, но по большей части это были собранные в толстую пачку довольно зачитанные листы, отпечатанные на машинке.
Конечно, я слушал с напряженным вниманием: эти несколько часов обучения очень мало утоляли мою жажду знаний. Но так как я слушал с огромным вниманием, мимо меня не прошло ни одной нелепости. Ими в различной мере грешили обе эти женщины.
Ларин была той, с кем я держался настороже. Она умела быть строгой и требовательной, и часто я замечал в ней напряжение. Она, казалось, подвергала сомнению многое из того, о чем говорила со мной, и эта тонкость, конечно, переносилась и в мое сознание. Там, где она сомневалась, сомневался и я. Изредка она обращалась к машинописным страницам.
Сери, напротив, посеяла сомнения другого рода. Когда говорила она, я неизменно сталкивался с противоречиями. Казалось, она что-то открывает и для себя. Она регулярно пользовалась машинописными страницами, но никогда ничего не читала мне прямо оттуда. Она использовала при обучении текст только как опору для мыслей. Казалось, она теряла нить рассуждений и спешила исправиться; иногда она даже прекращала обучение и велела мне забыть только что услышанное. Работая вместе с Ларин, она вся подбиралась, усердно старалась и чаще поправляла себя. Много раз Ларин включалась в преподавание Сери и отвлекала от нее мое внимание. Однажды обе женщины покинули меня явно в состоянии конфликта и пошли по лужайкам, углубившись в разговор; когда они вернулись, глаза Сери покраснели и она вела себя кротко.
Но так как Сери была нежна со мной перед сном, я верил ей больше. Сери тоже испытывала сомнения и казалась более человечной. Я был предан им обеим, но Сери я любил.
Противоречия, которые я тщательно сохранял в памяти, чтобы подумать над ними, когда останусь один, интересовали меня больше, чем понятные факты, которым меня учили. Однако мне никак не удавалось разрешить их.
Только когда я подошел ко второму обстоятельству и осознал, как оно важно, мне отчасти удалось навести порядок в туманной картине мира.
Скоро появились несвязные обрывки воспоминаний о моей болезни. Я все еще мало знал о том, что со мной произошло. Можно было легко установить, что я подвергся довольно сложному хирургическому вмешательству. Моя голова была выбрита, и на шее за ухом я ощущал ужасный свежий шрам. Маленькие послеоперационные шрамы остались на моей груди, на спине и в нижней части живота. В соответствии с состоянием моего духа я чувствовал себя физически слабым, но здоровым и полным жажды деятельности.
Некоторые из воображаемых картин преследовали меня. Они возникли сразу, как только я впервые за долгое время пришел в себя, но, лишь выяснив, что в мире реально, а что нет, я смог распознать в них фантазии. После долгих раздумий я заключил, что какой-то период болезни провел в бреду.
Следовательно, эти картины – наверняка не что иное, как обрывочные воспоминания о моей жизни до болезни.
Я видел и узнавал лица, слышал знакомые голоса и видел себя в определенных местах. Я не мог ничего из этого узнать, соотнести с чем-либо, но картины эти казались мне совершенно реальными.
Путаницу вносило то, что по настроению и ощущениям они совершенно не совпадали с так называемыми фактами обо мне, которые мне зачитывали Ларин и Сери.
Но самым неотразимым в них было то, что они, казалось, соответствовали противоречиям, обнаруженные мною в высказываниях Сери.
Когда она запиналась и колебалась, если ее переспрашивали, когда Ларин обрывала ее, тогда я чувствовал, что Сери говорила обо мне правду.
В такие мгновения мне хотелось, чтобы она сказала больше, повторив свои ошибки. Это было так интересно! И когда мы оставались одни, я пытался вызвать ее на откровенность, однако она ни за что не хотела идти на поводу у своих заблуждений. Я был вне себя и давил на нее все сильнее: мои сомнения были столь велики, что изумляли даже меня самого.
Официальная казенная версия, которую преподносили мне Ларин и Сери, звучала так: я появился на свет в городе под названием Джетра, в стране Файандленд. Мою мать звали Кэтрин Гилмур, пока она не вышла замуж за моего отца, Франфорда Финклера, и не взяла его фамилию. Вскоре после этого она умерла. У меня была сестра по имени Калия. Она была замужем за мужчиной, которого звали Яллоу, и только имя его мне известно. Калия и Яллоу жили в Джетре, детей у них не было. После школы я поступил в университет, занялся изучением химии и хорошо сдал выпускные экзамены. На протяжении нескольких лет я работал в «Индастрик». В недалеком прошлом у меня обнаружилось серьезное заболевание мозга, и я отправился на остров Коллажо в Архипелаге Мечты лечиться у специалистов. На корабле, шедшем на Коллажо, я познакомился с Сери, и мы полюбили друг друга. Вследствие хирургического вмешательства я потерял память, и теперь Ларин и Сери работали над восстановлением моих воспоминаний.
Я отметил это на одном из уровней своего сознания. Женщины нарисовали убедительную картину мира: они рассказали мне о войне, о нейтральном статусе островов, о потрясениях и переворотах, которые война произвела в жизни многих людей. География мира, его политические, общественные и хозяйственные условия, история и настоящее – все это осветили и описали, и это снова породило воспоминания.
Волны моего внешнего восприятия распространились до горизонта и двинулись дальше.
Но мое сознание совершало при этом упорную работу, сражаясь с нелепостями, и не расширяло своих границ – волны восприятия здесь сталкивались и затухали.
Мне сказали, что я появился на свет в Джетре. Мне показали карту, принесли фотографии. Я был уроженцем Джетры. Однажды, когда женщины описывали Джетру, имея при себе машинописные страницы, Сери случайно сказала «Лондон». Это потрясло меня. (В бреду мне казалось, что это слово определяет и описывает многое. Это, несомненно, и было истинное место моего рождения, во всяком случае, оно существовало в моей жизни и называлось «Лондон».)
Далее о родителях. Сери и Ларин сказали, что моя мать умерла. Я воспринял это без удивления или испуга, потому что знал это, но они настойчиво убеждали меня, что мой отец жив. (Это была аномалия, путаница среди прочей путаницы. Мой отец умер… Где же правда? Сама Сери, казалось, этого не знала.)
Моя сестра. Калия, на два года старше меня, замужем за Яллоу. Но однажды, хотя Ларин быстро поправила ее, Сери назвала ее «Фелисити». Еще один неожиданный шок: в картинах моего бреда сестру звали «Фелисити». (Опять сомнения и сомнения. Когда Ларин или Сери говорили о Калии, от них исходило ощущение тепла и дружелюбия. В упоминаниях Сери о ней я чувствовал какую-то шероховатость – и в своем бреду тоже ощущал враждебность, соперничество, честолюбие.)
Муж и семья сестры. Яллоу играл в моей жизни весьма второстепенную роль, но, когда о нем упомянули, я почувствовал то же скрытое тепло, что и при описании Калии. Я знал Яллоу под каким-то другим именем, но не мог его вспомнить. Я ждал, не сделает ли Сери очередной намек, но она больше не проговаривалась. Я точно знал, что у «Фелисити» и ее мужа, «Яллоу», есть дети, но их не упоминали.
Моя болезнь. Здесь тоже была какая-то неувязка, но я не смог напасть на ее след. (Глубоко внутри я был убежден, что никогда не был болен.)
И, наконец, сама Сери. Из всех противоречий она была самым труднообъяснимым. Каждый день я видел ее по много часов. Каждый день она объясняла мне на уроках все о себе и о наших взаимоотношениях. В океане сталкивающихся течений и скрытых рифов она была единственным островком реальности, на который я мог выбраться. Однако ее слова, ее внезапно наморщенный лоб, ее жесты, ее колебания пробуждали во мне сомнения: существует ли она вообще. (За ней стояла другая женщина, дополнение к ней. У меня не было для нее имени, только глубокая вера в ее существование. Эта другая Сери, ее двойник, была порождением моего бреда. Она, эта «Сери», была капризна, нежна и очень скандальна. Она пробуждала во мне сильную страсть, любовь, желание защитить ее, но и робость, беспокойство и эгоизм. Ее существование так глубоко укоренилось в моей призрачной жизни, что мне иногда казалось, будто я касаюсь ее, держу в своих руках ее узкие руки.)
Глава девятнадцатая
Сомнения в подлинности моего «я» стали привычной составной частью моей жизни. Разбираясь с ними, я словно рассматривал себя в кривом зеркале – себя странно отличающегося от настоящего, словно отпечаток с черно-белого негатива, положенного не той стороной. Но главным моим делом было выздоровление, с каждым днем я чувствовал себя все более сильным, реальным и подготовленным к возвращению в нормальный мир.
Мы с Сери часто подолгу гуляли в парке клиники. Однажды мы с Ларин поехали в город Коллажо и наблюдали за уличным движением и кораблями в порту. В клинике был плавательный бассейн, а также площадки для игры в теннис и бадминтон. Я бывал там каждый день, наслаждаясь возвращением физической силы и координации движений. Я снова набрал вес, мои волосы отросли, я загорел на жарком солнце, и даже шрамы поблекли. (Доктор Корроб пообещал, что в течение месяца они почти совсем исчезнут.)
Одновременно ко мне возвращались и другие знания и умения. Сравнительно быстро я научился читать и писать и преодолел затруднения со словарным запасом. Ларин принесла мне из клиники учебник, и, поработав с ним, я снова овладел языком. Моя духовная восприимчивость совершенствовалась; все, что было для меня ново, я мог быстро и основательно изучить – или выучить заново, как сказала Ларин.
Вскоре у меня развился вкус: музыка, например, сначала казалась мне ужасной неразберихой шумов, но скоро мне удалось обнаружить в ней мелодию и гармонию, и я с торжеством понял, что некоторые виды музыки мне приятнее, чем другие. Питание стало еще одной областью, где развились мои предпочтения и неприятия. Ко мне вернулось чувство юмора; я обнаружил, что определенные функции тела в некотором смысле более приятны, чем другие. Сери переехала из гостиницы ко мне в павильон.
Я не мог дождаться, когда же наконец смогу покинуть клинику. Я мечтал о том времени, когда восстановлю свои духовные и физические силы: пока я был слаб, со мной обращались как с ребенком. Ларин часто сердилась на меня, педантично настаивая на том, чтобы я продолжал обучение; самосознание и чувство вкуса тоже развились здесь, и я был недоволен тем обстоятельством, что оставались вещи, которые еще требовали объяснения. Теперь, научившись читать, я не видел, почему бы просто не дать мне книгу, с которой работали мои наставницы, и не позволить мне самому прочесть эти машинописные страницы.
К этому я в известной мере пришел через парадокс. Однажды вечером, ужиная с Ларин и Сери, я обмолвился, что потерял карандаш.
Сери сказала:
– Он на письменном столе, я дам тебе его после ужина.
Тогда я снова заметил его и сказал:
– Ах, ну да.
Это был ничего не значащий обмен фразами, но Ларин заметила его и резко спросила:
– Вы забыли?
– Да… но это пустяки.
Она улыбнулась и вдруг стала такой симпатичной, что я тоже улыбнулся, ничего не понимая.
– Что смешного? – спросил я.
– Я уже начала думать, не сделали ли мы вас случайно сверхчеловеком. Приятно знать, что вы можете быть рассеянным и способны забывать.
Сери перегнулась через стол и чмокнула меня в щеку.
– От всего сердца рада за тебя, – сказала она. – Со счастливым возвращением!
Я переводил взгляд с одной женщины на другую, а внутри зарождался гнев. Они обменивались взглядами, словно ожидая, что я буду реагировать так же или похоже.
– Ты все это подстроила? – спросил я Сери.
Она радостно улыбнулась.
– Это неважно, если ты станешь нормальным. Ты способен забывать.
Почему-то этот инцидент вызвал у меня досаду; я чувствовал себя то ли комнатной собачкой, которую обучили нескольким трюкам, то ли ребенком, который наконец смог одеться сам. Позже я с радостью понял истинное значение случившегося. Способность забывать – или, точнее, способность помнить избирательно – атрибут нормальной памяти. Пока я жадно обучался, собирал факты и все это помнил, я был ненормален. Но как только я начал забывать, я стал совершенным. Я вспомнил свое беспокойство последних дней и понял, что мои способности к обучению в последние недели почти исчерпались.
После еды Ларин собрала свои бумаги.
– Я бы рекомендовала вам отдохнуть, Питер, – сказала она. – Может быть, уже в конце этой недели.
Я смотрел, как она складывает бумаги в стопку и прячет их в папку.
– Завтра утром я снова приду, – сказала она Сери. – Думаю, вы можете сказать Питеру правду о его болезни.
Обе женщины обменялись улыбками, и у меня снова появилось чувство, что они знают обо мне больше, чем я сам. Мне стало противно.
Едва Ларин ушла, я спросил:
– Что все это значит?
– Успокойся, Питер. Все очень просто!
– Вы что-то утаили от меня, – другую свою претензию – постоянное сознание противоречия – я не мог выразить. – Почему просто не сказать мне правду?
– Потому что нам пришлось ждать, пока ты полностью восстановишь свои прежние душевные силы.
Прежде чем я успел возразить, она в нескольких словах рассказала о лечении: мне достался главный выигрыш Лотереи, и в клинике меня так изменили, что я могу теперь жить вечно.
Я воспринял эту информацию без малейшего сомнения, без скептицизма, ведь я не мог осознать всей значимости события, и, кроме того, меня это не слишком интересовало. Откровенность, с какой Сери объявила мне обо всем этом, внушила мне надежду, что она как-нибудь сможет объяснить свои предыдущие оговорки… но ничего не произошло.
Что же до моей внутренней Вселенной, то здесь я не научился ничему.
Скрывая до сего дня эту новость, обе женщины не лгали мне впрямую. Откуда мне было знать, сколько еще в их рассказах было недомолвок и уверток?
– Сери, ты должна сказать мне правду…
– Уже сказала.
– И ты ничего не хочешь мне больше сказать?
– Ты о чем?
– Откуда, ко всем чертям, я могу это знать?
– Не волнуйся так.
– Это настолько неважно? Разве я делаюсь менее совершенным, когда сержусь? Не значит ли это, что в будущем мне предстоит еще многое открыть?
– Питер, ты теперь бессмертный. Разве это тебе ничего не говорит?
– Нет, ничего.
– Это значит, что я с каждым днем буду становиться все старше и в конце концов умру, в то время как ты сохранишь молодость и жизнь. Что почти все, кого ты знаешь, умрут раньше тебя. А ты будешь жить всегда.
– Я думал, мы оба убеждены в моем несовершенстве.
– Ах, да ты просто глуп!
Она прошла мимо меня на веранду. Я услышал, как она там ходит взад и вперед; в конце концов она рывком уселась в одно из кресел-качалок.
Несмотря на внутреннее сопротивление, я предположил, что все еще оставался большим ребенком, все еще не научился сдерживать раздражение. Несколькими мгновениями позже я с раскаянием вышел на террасу и обнял ее за плечи. Расстроенная Сери сначала сопротивлялась, но через некоторое время повернула голову и прижалась лбом к моему плечу. И ничего не сказала. Я слушал стрекот цикад и смотрел на мигающие огоньки в безбрежной дали моря.
Когда она успокоилась, я сказал:
– Прости меня, Сери. Я люблю тебя и ни в коем случае не хочу на тебя сердиться.
– Не говори больше об этом!
– Придется, потому что я хочу тебе кое-что объяснить. Я могу быть только тем, что сделали из меня вы с Ларин. Я не имею ни малейшего представления, кем был или откуда прибыл. Если есть что-то, что ты мне не объяснила или не дала прочитать, я сам не могу узнать об этом.
– Но почему это должно сердить тебя?
– Потому что это меня пугает. Если ты в чем-то солгала мне, я не в силах определить это и потребовать правды. Если ты что-то опустила, у меня нет никакой возможности вспомнить это «что-то».
Она выскользнула из моих рук и села напротив. Слабый свет из комнаты падал на ее лицо. Она казалась усталой.
– Вопреки всему, это правда, Питер.
– Вопреки чему?
– Мы ничего от тебя не утаивали. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы быть с тобой искренними, но это почти невозможно.
– Почему?
– Только теперь… Я сказала тебе, что тебя сделали бессмертным. Но ты едва отреагировал на это.
– Эта рукопись на машинке? – спросил я.
– Да. Но ты же видел, что обычно Ларин работала с…
– Та рукопись, которую Ларин приносила с собой каждое утро?
– Да.
– Почему же тогда мне не позволили прочесть ее? Я написал ее до болезни, это информация о моей личности. Я должен прочитать ее!
– Ты только запутаешься. В ней нет никакого смысла, – это просто какие-то выдумки.
– Но если я написал это, то я точно разберусь.
– Питер, успокойся! – Сери раздраженно отвернулась, но уже через несколько мгновений схватила меня за руку. Ее ладони были влажными. – Рукопись сама по себе – пустяк, – сказала она. – Но она помогла нам сымпровизировать. Пока мы были вместе, еще до того, как попали на этот остров, ты кое-что рассказал мне о себе, и Общество Лотереи записало различные подробности. В рукописи есть несколько отправных точек. Из всего этого мы составили твою личность, но остались не совсем довольны.
– Я должен прочитать рукопись.
– Ларин не даст ее тебе. Во всяком случае, пока еще не даст.
– Но если ее написал я, то это моя собственность.
– Ты написал ее до лечения. – Сери посмотрела в темноту снаружи, откуда до нас доносился теплый аромат цветов. – Завтра утром я поговорю с ней.
Я сказал:
– Если мне действительно еще рано читать ее, может, ты расскажешь, о чем она?
– Это нечто вроде вымышленной автобиографии. Там говорится о тебе… о ком-то, носящем твое имя. Детство, школьные годы, отрочество, твоя семья…
– А что там вымышленного?
– Не могу сказать.
Я ненадолго задумался.
– Где я родился согласно этому тексту? В Джетре?
– Да.
– В рукописи она называется Джетрой?
Сери молчала.
– Или она названа «Лондоном»?
Сери молчала.
– Сери?!
– Ты назвал этот город «Лондон», но мы знаем, что речь идет о Джетре. Ты называл ее и по-другому.
– Как?!
– Не скажу, нельзя, – она наконец посмотрела на меня. – Откуда ты знаешь, что речь идет о Лондоне?
– Ты однажды проболталась, – я собирался рассказать ей о призрачных воспоминаниях из своего бреда, но мне почему-то показалось, что трудно будет самому говорить о своих сомнениях. – Ты знаешь, где это – Лондон?
– Конечно, нет. Ты же его выдумал!
– Какие другие названия я еще выдумал?
– Не знаю… Не могу вспомнить. Мы с Ларин пробежались по рукописи и постарались все перенести в знакомые места, но это было очень трудно.
– Тогда как много из того, чему вы меня обучили, правда?
– Максимально много. Когда ты выйдешь из клиники, то будешь как огурчик. Я хочу, чтобы ты был таким же, как и до лечения, но одним только желанием ничего не сделать. Ты – это то, чему мы с Ларин тебя научили.
– Этого-то я и боюсь, – сказал я Сери.
Я выглянул наружу. Лужайки, за ними – другие павильоны; в большей части павильонов было темно, но кое-где горел свет. Там спали мои коллеги по бессмертию, такие же огурчики. Сколько из них терзается такими же сомнениями? Понимают ли они, что их головы каким-то образом освободили от пыльных воспоминаний о прошлой жизни, и после чужие люди наполнили их новым, лучшим содержанием? Я боялся, что начну думать о том, что я продукт собственного духа и должен вести себя соответственно. Что сказала мне Ларин, прежде чем я обрел вкус? Пытались ли они с Сери так или иначе убедить меня, что я остался совершенно таким же, каким был до лечения? Как мне теперь все это узнать?
Единственным звеном, связующим меня с прошлым, была эта рукопись; я не смогу стать полноценным, пока не прочитаю собственное определение своего «я».
Луна слабо просвечивала сквозь дымку высоких облаков, сад клиники был неподвижным и одноцветным, как на черно-белом снимке. Сери и я бродили по лужайкам, по знакомым тропинкам, наслаждаясь умиротворяющей тишиной и мягким ночным воздухом, еще немного отодвигая миг возвращения в павильон.
Я сказал:
– Если я создал эту рукопись, я хочу прочитать ее. Думаю, это мое право.
– Тише! Я сделаю все возможное, чтобы ты получил ее. Хорошо?
– Да.
Мы бегло поцеловались на ходу, но между нами еще сохранялось легкое отчуждение.
После возвращения в павильон она сказала:
– Ты не можешь этого помнить, но перед все этой историей мы собирались посетить несколько островов. Ты все еще хочешь этого?
– Только ты и я?
– Да.
– А ты? Твое мнение обо мне не изменилось?
– Мне не нравятся твои короткие волосы, – сказала она и провела пальцами по моей отрастающей щетине.
Ночью, когда Сери спала возле меня, я не спал. На острове царили тишина и одиночество, с которыми я в известном смысле вырос. Картины внешнего мира, которые мне нарисовали Ларин и Сери, были картинами шума и деятельности. Корабли, движение на улицах переполненных городов. Я с любопытством слушал о городских бульварах Джетры и о теснящихся старых домишках Марисея. Я представлял себе, как устроен мир вокруг Коллажо; бесконечное Срединное море и бесчисленное множество островов. Представляя себе их, я создавал призрачные ландшафты, которые великолепно умел придумывать. Да, я мог отплыть с Коллажо в море и путешествовать с Сери с острова на остров, изучать виды, население и обычаи каждого острова, на который мы прибудем. Это был вызов моей силе воображения.
То, что я знал о внешнем мире, было подобно тому, что я знал о себе самом. С террасы павильона Сери могла показать мне соседние острова и назвать их, она приносила мне их карты и описывала их хозяйство, природу и обычаи, но пока я сам их не посетил, они оставались для меня просто далекими объектами, которые притягивали мое внимание.
Таким же был для себя и я: далеким объектом, обозначенным на карте, описанным и основательно изученным, но до сих пор так и непосещенным.
Но, прежде чем я покину остров Коллажо, я должен изучить свое «я».
Глава двадцатая
Утром пришла Ларин с приятным известием – через несколько дней я смогу покинуть клинику. Я поблагодарил ее, но обратил внимание на то, что она не достала рукопись. Если та и была у нее с собой, то оставалась в папке.
Несмотря на обеспокоенность, я продолжал работать с ней и Сери. Теперь я знал, что способность ошибаться – это добродетель, и употребил ее для своих стратегических целей. За обедом женщины вполголоса беседовали о чем-то, и мне некоторое время казалось, что Сери передает Ларин мое требование. Но потом Ларин сказала, что ей нужно в главный корпус и оставила нас в столовой.
– Не хочешь сегодня во второй половине дня сходить в бассейн? – спросила Сери. – Развеешься!
– Ты ее спрашивала?
– Я же сказала – положись на меня.
Итак, я спокойно покинул ее и отправился в бассейн. Когда я наконец вернулся в павильон, то не нашел там никого из них. Я почувствовал себя беспомощным и лишним, поэтому прошел мимо охранника у ворот и направился в город. Был теплый ранний вечер, и на улицах царило оживленное движение машин и пешеходов. Я наслаждался шумом и суетой, составляющими резкий контраст с замкнутостью моих воспоминаний. Сери говорила мне, что Коллажо – остров небольшой, не очень густо населенный, в стороне от главных морских путей, однако мне с непривычки он показался пупом земли. Если это был пример новой жизни, тогда я не мог рассчитывать познать ее всю.
Некоторое время я бродил по улицам и наконец вышел к гавани. Здесь я заметил множество лавочек и торговцев-одиночек, которые разложили на виду свои товары. Многие продавали патентованные средства. Я медленно шел по рядам и дивился увеличенным с помощью фотографии благодарственным надписям, многообещающим утверждениям и портретам удачливых покупателей, которые излечились при помощи этих снадобий от своих страданий. Обилие бутылочек, таблеток и прочих аксессуаров – чая из целебных трав, статей о лечении и о сохранении здоровья – настолько совпадало с моими мыслями, что я счел более сложные испытания ненужными. Торговля в этих лавчонках шла не слишком бойко, однако, как ни странно, ни один продавец не пытался мне что-нибудь всучить.
На другой стороне гавани стоял небольшой пароход и я предположил, что именно его прибытие и вызвало в городе такую суматоху. Пассажиры сошли на берег, разгрузка завершилась. Я подошел к пароходу как можно ближе (если не перебираться через барьер) и стал наблюдать за людьми из другого мира, пока они задерживались перед контрольным постом или занимались своим багажом. Я задумался о том, когда этот корабль отойдет и где будет его следующая остановка. На одном из островов, которые назвала Сери? Позднее, когда я пошел обратно, я заметил микроавтобус, который взял в гавани несколько человек. По надписи на его боку я понял, что он принадлежит Обществу Лотереи, и с удвоенным интересом стал рассматривать его пассажиров. Они производили впечатление испуганных и озабоченных. И молча глазели из окон на пеструю уличную жизнь. Мне захотелось поговорить с ними. Ведь они прибыли из призрачного мира, который существовал до лечения, и я рассматривал их как важное звено, связующее меня с моим прошлым. Их восприятие мира было независимым, на него не влияли извне; то, что они считали само собой разумеющимся, я утратил. Меня терзали сильные сомнения и я должен был установить, что у меня с ними общего, чему меня обучили, а чему нет. Со своей стороны я мог дать им много хороших советов.
Я уже узнал то, что им только предстояло узнать. Если бы они знали наперед, каковы будут последствия, это оказалось бы неплохим подспорьем. Я охотно посоветовал бы им в эти последние два дня использовать свою индивидуальность и оставить записи, с помощью которых они снова смогут обрести себя.
Я подошел ближе и заглянул в окно автобуса. Девушка в смахивающем на форму костюме с завлекательным вырезом сверяла имена со списком, водитель грузил багаж. Он повернул голову, взглянул на меня и демонстративно отвернулся.
Девушка заметила меня, опустила список и повернулась к окну.
– Что вы тут делаете? – крикнула она.
– Хочу помочь этим людям! Позвольте мне поговорить с ними!
Девушка снова взглянула на меня и мрачно нахмурила брови.
– Вы из клиники, не так ли? Мистер… Синклер?
Я промолчал, потому что почувствовал, что она угадала мои намерения и пытается воспрепятствовать мне. Водитель вышел из-за машины, прошел мимо меня и забрался на свое сиденье. Девушка сказала ему несколько слов, он тотчас же завел мотор и машина тронулась с места. Микроавтобус с мигалкой на крыше влился в поток уличного движения, потом свернул на узкую дорогу, ведущую на холм, к клинике.
Я пошел прочь, провел рукой по отрастающим волосам и подумал, что здесь, в городе, это выдает во мне пациента клиники. На другой стороне гавани у лавчонок толпились пассажиры с парохода.
Я добрался до тихой боковой улочки и медленно зашагал вдоль витрин магазинов. Я начал понимать, какую ошибку допустил в отношении этих людей: что бы я теперь им не сказал, они, конечно, забудут, едва начнется лечение. Их полезность для восстановления моего прошлого была заблуждением. У всех других было такое же неизменное свойство: у пешеходов на улице, у персонала клиники, у Сери.
Я бродил, пока не заболели ноги. Потом вернулся в клинику.
В павильоне меня ждала Сери. На коленях у нее лежала растрепанная пачка бумаги. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы узнать мою рукопись.
– Ты получила ее! – воскликнул я и подсел к ней.
– Да… но только с одним условием. Ларин сказала, что ты не должен читать в одиночку. Я должна читать вместе с тобой.
– Я думал, ты позволишь мне читать одному.
– Я же сказала, это распоряжение Ларин. Она считает, что ты уже достаточно поправился, и ничего не имеет против того, чтобы ты узнал, о чем там речь.
– Я сам виноват, – сказал я. – Так начнем же.
– Сейчас?
– Я ждал этого весь день.
Сери бросила на меня гневный взгляд и швырнула карандаш на пол. Она встала и то, что беспорядочной горкой лежало у нее на коленях, соскользнуло вниз, к ее ногам.
– Что случилось? – спросил я.
– Ничего, Питер. Ни-че-го.
– Да ладно… В чем дело?
– Боже, какой ты эгоист! Ты забываешь, что у меня тоже есть своя жизнь! Последние восемь недель я провела здесь с тобой, опекая тебя, думая о тебе, говоря с тобой, обучая тебя тому и этому, тратя на тебя свое время. По-твоему, мне больше ничего не нужно? Ты никогда не интересовался тем, что я думаю, чего мне хочется… ты просто считаешь само собой разумеющимся, что я все время здесь, всегда к твоим услугам. Иногда мне действительно хочется избавиться от всего этого, включая тебя и твою вечную жизнь!
Она порывисто отвернулась и уставилась в окно.
– Мне очень жаль, – пробормотал я, пораженный ее горячностью.
– Я скоро уеду отсюда. У меня есть план.
– Что за план?
– Хочу поездить по островам, – она все еще стояла ко мне спиной… – У меня, знаешь ли, есть собственная жизнь. Есть другие люди, с которыми я хочу быть вместе.
На это мне нечего было ответить. Я почти ничего не знал о Сери и о ее жизни и, действительно, никогда не спрашивал ее об этом. Она была права: я воспринимал ее саму и ее присутствие как нечто само собой разумеющееся, и поскольку ее упреки были более чем справедливы, крыть было нечем. В данный момент я мог сказать в свою защиту лишь одно: насколько мне было известно, я не просил ее нянчиться со мной; она была тут с первого дня, и я никогда не ставил под вопрос ее присутствие, потому что сказать об этом мне было нечего.
Я уставился на сваленные кучей страницы рукописи и спросил себя, какие тайны она скрывает?
Позднее, когда мы пошли в столовую, я предложил Сери рассказать о себе. Этот более чем правильный шаг оторвал ее от еды; окончательно потеряв терпение, она открыла мне еще несколько новых фактов.
Я начал понимать, какую огромную жертву принесла ради меня Сери; на протяжении двух месяцев она делала для меня все, отказавшись от собственной жизни, в то время как я наслаждался ее по-детски капризными нежностью и доверием, при этом ища и видя только себя.
Совершенно неожиданно – ведь я никогда не думал об этом – я испугался, что она может бросить меня.
Протрезвев и почти без единого слова я вместе с ней вернулся в павильон и смотрел, как она собирает и раскладывает по порядку страницы рукописи. Мы сидели рядышком на моей постели, и Сери перечитывала текст.
– Итак, обрати внимание, первые страницы не особенно важны. Там говорится об обстоятельствах, побудивших тебя писать. Раз или два упомянуты Лондон и несколько других мест. Когда тебя постигла неудача, тебе помог друг. Это не особенно интересно.
– Не говори ничего, я сам посмотрю, – я взял листы у нее из рук. Все было так, как она сказала: человек, который это написал, был мне чужим и, казалось, старался найти себя. Я отложил страницы. – И что дальше?
– Дальше начались затруднения, – сказала Сери, держа страницы так, чтобы я мог их видеть, и показывая карандашом: – «Я родился в 1947 году и стал вторым ребенком у Фредерика и Кэтрин Синклер».
Таких имен я никогда не слышал!
– Почему вы их не изменили? – спросил я, заметив, что оба имени подчеркнуты карандашом. Над ними Ларин или Сери написали имена, которые я считал настоящими именами моих родителей: Фрэнфорд и Котеран Синклер.
– Мы можем проверить. У Лотереи в бумагах они есть.
Я вздохнул, признавая трудности, которые создавал обеим женщинам. В каждом абзаце было много других пропусков и обобщений. Калию, мою старшую сестру, там звали «Фелисити» – насколько я знал, это слово означало то ли счастье, то ли радость, – но я никогда не предполагал, что оно может быть именем. Позже я обнаружил, что мой отец был «ранен в пустыне» – весьма распространенное выражение, – а мать работала в «телефонной службе». Это было правительственное учреждение в местечке под названием «Блехтли-парк». После «войны с Гитлером» мой отец в числе первых вернулся домой, и они с матерью сняли дом в предместье «Лондона». Здесь я и появился на свет. Большинство из этих темных мест Сери вычеркнула, а «Лондон» был превращен в Джетру, что дало мне приятное ощущение знания предмета и уверенность.
Сери пробежала со мной пару страниц, по ходу объясняя мне каждую трудность, на какую в свое время натолкнулась, и рассказывая мне, чем руководствовалась, обобщая или подчеркивая то или это. Я во всех случаях соглашался с ней – ведь она бесспорно рассуждала очень разумно.
Дальнейшее развитие событий этой прозаической и одновременно загадочной истории было таково: в первый год после моего рождения вышеупомянутая семья жила в том же предместье «Лондона», а потом переехала в северный город под названием «Манчестер». (Он тоже был превращен в Джетру). С Манчестера начинались мои первые воспоминания, и тут-то я вдруг пришел в замешательство.
– Все это я слышу впервые, – сказал я. – Как, скажи на милость, ты сумела разобраться во всем этом?
– Боюсь, мы разобрались не во всем. Нам пришлось многое пропустить. Ларин была вне себя от гнева.
– Почему? Это едва ли моя вина.
– Перед лечением она попросила тебя заполнить вопросник, но ты отказался. Ты сказал, все, что нужно, мы узнаем о тебе из рукописи.
В то время я, по-видимому, был твердо убежден в этом. В какой-то период своей жизни я создал эту непонятную рукопись и свято верил, что полностью описал в ней себя и свое окружение. Я попытался представить себе ум, который вопреки всякому здравому смыслу мог быть убежден в этом. Это мне не удалось. Однако на первой странице стояло мое имя. Когда-то, до лечения, я написал его там и знал, что сделал это.
Я почувствовал болезненное одиночество и жалость к себе. Позади, словно отделенная от меня непреодолимой стеной, осталась индивидуальность, целеустремленный разум, который я утратил. Мне нужен был этот разум, чтобы разобраться, что же я написал.
Я пролистал остальные страницы. Пропуски и обобщения Сери попадались и дальше. Что это должно было значить?
Вопросы интересовали меня больше, чем подробности. Через ответы на них я надеялся взглянуть на себя, а заодно и на мир, который утратил. Существовали ли в действительности эти вымышленные имена и места – Фелисити, Манчестер, Грейс – которые возникли в моем бреду и преследовали меня? Эти картины моего бреда оставались частью моего сознания, они глубоко коренились во мне, пусть даже и были необъяснимой составляющей моего «я». Они игнорировали все это, поворачивали меня спиной к лежащему в глубине этого пониманию.
Я, как и прежде, был жаден до знаний и полон желания учиться.
Через некоторое время я сказал Сери:
– Мы можем продолжить?
– Здесь не все ясно.
– Да, но я хочу продолжить.
Она взяла у меня из рук страницы, которые я просматривал.
– Ты уверен, что это ничего для тебя не значит?
– Пока нет.
– Ларин не сомневалась, что ты отреагируешь неправильно. – Сери чуть улыбнулась. – Когда я думала о всех тех усилиях, которые мы затратили на это, мне все это казалось немного нелепым.
Мы прочитали еще пару страниц, но Сери провела над рукописью слишком много времени и устала.
– Я буду читать дальше один, – сказал я.
– Это из-за меня. Но тебе не повредит.
Она легла на вторую кровать и закрыла глаза. Я читал дальше, с трудом продираясь через противоречия, как это однажды или много раз проделывала Сери. Иногда я просил у нее помощи, и тогда она объясняла, что об этом думает, но каждое новое толкование еще пуще разжигало мое любопытство. Она подтверждала то, что я знал о себе, но одновременно усиливала мои сомнения.
Чуть погодя Сери зевнула. Я читал дальше, держа рукопись на коленях. Вечер был теплый, и на мне не было ни рубашки, ни ботинок; читая, я ощущал ступнями приятную шероховатость камышовых циновок.
Если в рукописи была хоть какая-то правда, это была правда анекдота. Казалось, там нет никакого основного узора повествования.
Самое анекдотичное Сери в основном вычеркивала. Несколько случаев она показала мне и объяснила, что нашла их совершенно невразумительными. Я тоже, но так как я не восставал против формы повествования, то начал различать все больше и больше подробностей.
Один из самых длинных абзацев, занимающий несколько страниц текста, рассказывал о дипломатичных высказываниях некоего «дядюшки Уильяма» в моем детстве. Дядюшка рассказывал истории с бахвальством пирата, а когда он входил в дом, казалось, будто он приносит с собой соленый запах морей, картины далеких стран. Он околдовал меня, потому что позорил семью и она не одобряла его поступков, потому что курил вонючую трубку и на пальцах у него были бородавки, но он очаровал меня еще и потому, что абзац этот был написан убедительно и с юмором; получился светлый рассказ о переживаниях, которые, должно быть, оказали на меня сильное влияние. Я заметил, что дядюшка Уильям, или Вилли, как он был назван в большинстве мест рукописи, сейчас показался мне почти такой же привлекательной личностью, как и тогда, в моем детстве. Он действительно существовал, действительно жил.
Но Сери вычеркнула его. Она ничего не знала о нем, поэтому пыталась его стереть.
Что же касается меня, нескольких карандашных штрихов было недостаточно, чтобы стереть такой персонаж. Этот дядюшка Уильям был самой настоящей правдой, тем, что далеко выходило за рамки простого анекдота.
Я помнил его, я помнил себя в те дни.
Внезапно я осознал, что могу вспомнить и остальное. Не имело значения, был ли материал зачеркнут или нет, были ли одни имена заменены другими или нет. Все дело было в самом тексте, в его содержании и форме, в метафорах, которых я до сих пор не видел. Рукопись была полна воспоминаний.
Я снова прочитал ее от корки до корки. Тут я вспомнил события, которые привели меня в белую комнату в сельском домике Эдвина, и все, что было до того. Я чувствовал себя приободренным, слившимся с собственным прошлым, но потом испугался. Вспомнив себя, я обнаружил, как чудовищно заблуждался.
За выкрашенными белой краской стенами павильона в ночной тишине лежал парк клиники. Волны моего сознания распространились на город Коллажо, на весь остальной остров, на Срединное море, на все другие острова, до самой Джетры. Но где она находилась?
Я дочитал рукопись до конца, до незаконченной сцены между Грейс и мной на углу у станции «Бейкер-стрит», а потом собрал страницы и сложил по порядку аккуратной стопкой. Вытащив из-под кровати чемодан, я убрал в него рукопись. Тихо, чтобы не разбудить Сери, я собрал одежду и другие пожитки, удостоверился, что у меня есть деньги, и собрался уходить.
У двери я оглянулся. Сери спала на животе, как ребенок, щекой к подушке. Мне захотелось поцеловать ее, но нельзя было ее будить. Она станет удерживать меня, если поймет, что я хочу уйти. Две или три минуты я смотрел на нее, спрашивая себя, кто она в действительности и зная, что, как только закрою за собой дверь, никогда больше ее не увижу.
Я нажал на ручку и тихо открыл дверь; снаружи было темно, с моря дул теплый ветер. Я вернулся к кровати за чемоданом – и споткнулся обо что-то на полу возле постели Сери. Это нечто звякнуло о металлическую ножку ее кровати. Сери зашевелилась, потом снова затихла. Я нагнулся поднять то, на что чуть не наступил, и увидел, что это была маленькая бутылочка из темного стекла, шестигранная. Пробки не было, этикетка отсутствовала, но я инстинктивно понял, что в ней должно было находиться и почему Сери это купила. Я понюхал горлышко и ощутил запах камфары.
Я не ушел. Я стоял возле постели и печально смотрел на спящую девушку, которая лежала передо мной такая невинно усталая, бескорыстная и ранимая – волосы упали на лицо, губы слегка приоткрыты.
Наконец я положил бутылочку из-под эликсира на пол, на то место, где ее нашел, взял чемодан и вышел. В темноте я незаметно миновал часовых, вышел за ворота и двинулся по склону холма в город. Здесь, у гавани, я подождал, пока город проснется и откроется пароходное агентство; там я осведомился об отплывающих вскоре судах. Одно из них отошло сегодня, другое будет только через три дня. Я опасливо подумал, что мне надо покинуть остров прежде, чем Ларин или Сери найдут меня, поэтому согласился на первое же небольшое путешествие, какое мне предложили, и переехал на один из ближайших островов. Днем позже я перебрался на третий остров. Когда я убедился, что никто меня теперь не найдет – я обосновался на острове Хетика, в одном из сельских домиков на отшибе, – я взял карты и схемы, какие мне удалось достать, и начал планировать возвращение в Лондон. Я был одержим незаконченной рукописью и необъяснимой тягой к Грейс.
Глава двадцать первая
Грейс довела меня до ручки, что правда, то правда. Ее попытка самоубийства была слишком крупным событием, чтобы уместиться в моей жизни. Оно отмело все прочее, ни для чего не оставив места. Неожиданный поступок Грейс потрясал даже после того, как я узнал, что она не умрет. Действительно ли она хотела умереть или нет – этот вопрос отступал на второй план перед тем, что она натворила.
Ей удалось вывести меня из равновесия.
Я сходил с ума, представляя себе, как она лежит в больнице, с пузырьками и трубками, с немытыми волосами, наполовину в сознании. Я хотел быть рядом с ней.
Я пришел на знакомое место, на перекресток Бейкер-стрит и Мерилебоун-роуд, в ту часть Лондона, которая в моем сознании навсегда была связана с Грейс. Дождь усилился, и из-под колес летели брызги, провожавшие меня от одного угла улицы до другого. Ветер задувал в уши. Услышав громыхание поезда, я подумал о Кастлтоне и холодном горном ветре.
Прошло несколько часов с тех пор, как я ел в последний раз, и я почувствовал легкую эйфорию, свидетельствующую о снижении уровня сахара в крови. Это напомнило мне о длинных летних месяцах, когда я, сосредоточившись, работал в своей белой комнате так напряженно, что по два-три дня забывал поесть. В этом состоянии духовного возбуждения в голову мне приходили лучшие мысли, и я мог яснее изложить правду. Тогда я и создал острова.
Но Джетра и острова поблекли перед реальностью мокрой лондонской безотрадности, как сам я поблек перед своим истинным «я». Наконец я освободился от себя, наконец выглянул наружу и стал беспокоиться о Грейс.
В это мгновение, когда я больше не надеялся на себя, появилась Сери.
Она поднялась по лестнице из подземного перехода на другой стороне Мерилебоун-роуд. Я видел ее светлые волосы, стройную фигуру, ее походку, которую так хорошо знал. Но как ей удалось войти в подземный переход так, что я не заметил? Я стоял у единственного другого входа, но мимо меня она не проходила. Я напряженно наблюдал, как она быстрыми шагами направилась ко входу на станцию метро. Я сбежал вниз по ступенькам, едва не поскользнувшись на мокром камне, и побежал на другую сторону улицы. Когда я достиг станции метро, Сери уже миновала турникет и была у начала лестницы, ведущей вниз, к кольцевой линии. Я кинулся следом, но контролер спросил у меня билет. В гневе я вернулся к кассе и купил билет на все зоны.
Поезд остановился у перрона; на табличке было указано, что он следует в Эмершем. Я бежал вдоль платформы, заглядывая в окна вагонов. Но хотя я обыскал весь поезд, нигде не смог найти ее. Уехала на другом поезде? Но был вечер, и поезда ходили с десятиминутными интервалами.
Я опять припустил вдоль поезда, но тут из динамика донеслась просьба подняться в вагоны, потому что двери закрываются и поезд отправляется.
Тут я увидел ее: она сидела в последнем вагоне у окна. Я видел ее склоненное лицо, словно она что-то читала.
Створки пневматических дверей с громким шипением скользнули навстречу друг другу. Я прыгнул в ближайший вагон и протиснулся между закрывающихся створок. Поздние пассажиры взглянули на меня, потом отвели взгляды. Каждый из них, казалось, был изолирован в собственном пузыре пространства.
Поезд тронулся. Из-под токоснимателей, отражаясь на мокрых, блестящих рельсах, посыпались бело-голубые искры; поезд прогромыхал по стрелкам и нырнул в длинный туннель. Я направился в конец вагона, чтобы быть у ближайшей к Сери двери, когда мы остановимся на следующей станции. Облокотившись на толстое небьющееся стекло двери, я стал наблюдать за своим отражением на фоне черных стен туннеля. Наконец мы достигли следующей станции, Финчли-роуд. Как только дверь открылась, я протиснулся в нее и побежал вдоль перрона к вагону, где видел Сери. Двери за мной закрылись, я нашел место, где она сидела, но ее там больше не было.
Поезд вылетел на поверхность и прогрохотал по железному мосту через густонаселенные запущенные пригороды Вест-Хэмпстеда и Килберна; здесь ветка шла параллельно улице, застроенной старыми домами. Я прошел через вагон, заглядывая в лица пассажиров и надеясь, что Сери, может быть, просто пересела. В конце вагона я заглянул в двойные окна на дверях между вагонами и увидел ее.
Она стояла, как я до того, лицом к двери и смотрела наружу, на проносящиеся мимо дома. Я перешел в ее вагон – холодное, влажное дуновение ветра, мгновение опасности упасть, – и пассажиры взглянули на меня, может быть, приняли за контролера. Я быстро прошел туда, где она стояла, но она куда-то делась. Я не мог ошибиться: тут не было женщины, хотя бы отдаленно напоминающей Сери. Пока поезд с грохотом мчался к следующей станции, я ходил по центральному проходу вагона, чтобы за иллюзией деятельности скрыть напряжение и бездеятельность. Капли дождя снаружи чертили на грязных окнах косые светлые дорожки. В Уэмбли-парк мы на пару минут задержались: здесь наша линия пересекалась с линией Бейкерлу, и на другом конце платформы ждал поезд. На этот раз я обыскал весь поезд, но Сери исчезла. А когда прибыл поезд на Бейкерлу, Сери была в нем! Я увидел, как она вышла, пересекла платформу и поднялась в тот самый вагон, где я был сначала.
Я поспешил ей навстречу, но ее, конечно, там снова не оказалось.
Я сел и уставился на истертый линолеум, усеянный окурками и обертками от конфет. Поезд шел дальше, через Харроу, через Ниннер, и постепенно застройка поредела, фонари тоже стали попадаться реже, и по обеим сторонам железной дороги потянулся сельский пейзаж. Я снова почувствовал апатию, меня захлестнула душевная леность, и я удовольствовался сознанием того, что я здесь и преследую Сери. Тепло вагона, погромыхивающее, укачивающее движение поезда убаюкали меня, и только самым краешком сознания я отмечал, что поезд останавливается на станциях, пассажиры входят и выходят.
Когда мы прибыли на станцию под названием Чальфонт и Латимер, поезд был почти пуст. Я выглянул в окно, когда поезд остановился, и увидел мокрую платформу, яркие прожектора на осветительной мачте, знакомую афишу кино. Пассажиры собрались у дверей, и среди них была Сери. В полудреме я едва понял, что она тут, но, когда она улыбнулась мне и вышла, сообразил, что должен последовать за ней.
Я был медлителен и неуклюж и только с большим трудом успел проскользнуть в двери, прежде чем они закрылись. Тем временем Сери миновала турникет и снова исчезла из вида. Я торопливо последовал за ней, сунул свой билет служащему контроля, прежде чем тот его потребовал.
Станция метро находилась на главной улице; когда я вышел, поезд, на котором мы прибыли, уже с грохотом мчался по железному мосту. Я оглядел улицу – посмотрел направо, затем налево – и увидел Сери. Она уже ушла довольно далеко и бодро шагала по улице в сторону Лондона. Я последовал за ней как можно быстрее, почти бегом.
По обеим сторонам улицы стояли новые домики на одну семью, отделенные от дороги бетонированными подъездными дорогами, ухоженными газонами, клумбами, вымощенными двориками для отдыха. Лампы, похожие на старые каретные, освещали подъездные аллеи и отблески мерцали на мокрых от дождя каменных плитах.
Сери без труда сохраняла дистанцию и бодро шла вперед без видимой спешки, однако, хотя я почти бежал, расстояние между нами не сокращалось. Скоро я начал задыхаться и перешел на обычный шаг. Пока я был в поезде, дождь перестал и воздух потеплел, как и полагалось в это время года.
Сери достигла дальней границы освещенного отрезка дороги и пошла по незастроенной местности между Чальфонтом и Чарливудом. В темноте я потерял ее из виду и снова пробежался, чтобы сократить расстояние между нами. Через пару минут я оставил позади освещенный отрезок дороги и теперь мог видеть Сери только тогда, когда ее фигуру выхватывали из темноты фары проезжающих машин. Вдоль дороги тянулись пашни и луга. Далеко впереди, на юго-востоке, низкие облака отражали яркое зарево Лондона.
Сери остановилась и обернулась, может быть, желая убедиться, что я ее видел. Мимо проносились автомобили, укутанные в длинные развевающиеся вуали из водяных капель и света. Думая, что Сери ждет меня, я снова побежал по обочине, шлепая по лужам. Оказавшись в пределах слышимости, я, задыхаясь, крикнул:
– Сери, пожалуйста, подожди, поговори со мной!
Сери сказала: «Ты должен увидеть острова, Питер».
Там, где она ждала, была решетка с калиткой, и когда я, задыхаясь, наконец догнал Сери, она прошла в эту калитку. Я последовал за ней, но она уже пересекла половину поля. Ее белое платье и светлые волосы, казалось, парили в темноте.
Я, спотыкаясь, устремился дальше, чувствуя, как мокрая вспаханная почва тяжело липнет к ботинкам. Я начал уставать; слишком много всего произошло. Сери ждала.
Ногам было тяжело от налипшей клейкой земли, я, оскальзываясь, молча шел между недавно пропаханными бороздами, то и дело сгибаясь, чтобы отдышаться. Я повесил голову, тяжело дышал и упирался руками в колени.
Когда я наконец поднял взгляд, я увидел призрачную фигуру Сери на фоне возвышения почвы около темного вала, похожего на изгородь. За ней на пологом склоне холма светилось окно. У близкого горизонта стояли темные, слившиеся друг с другом деревья.
Она не ждала: я увидел, что ее белая фигура двигалась на фоне изгороди.
Я глубоко вздохнул:
– Сери! Мне надо отдышаться!
Она на мгновение остановилась, но если и ответила, я этого не услышал. Было трудно что-нибудь различить: ее бледная фигура мелькала, точно моль, на фоне занавесей, потом исчезла.
Я оглянулся. Дорога была различима по свету фар автомобилей, которые мчались за деревьями, слышались отдаленный гул моторов и шорох шин. Попытки думать причиняли мне головную боль. Я был в чужом краю и нуждался в переводе, но переводчик покинул меня. Я подождал, пока дыхание выровняется, и медленно побрел дальше, поднимая и опуская ноги с осторожностью кандальника. Клейкие комья земли на ботинках делали продвижение вперед вдвойне затруднительным, и всякий раз, как мне удавалось хоть что-нибудь стряхнуть с них, через несколько шагов к моим ногам прилипало больше земли, чем прежде. Где-то впереди, но где – я не видел, должна была стоять Сери и наблюдать за моим трудным, тяжким продвижением по вспаханному полю.
Наконец я достиг изгороди и вытер ноги о росшую там длинную мокрую траву. Потом двинулся дальше, в ту сторону, где скрылась Сери, ориентируясь на дом с освещенными окнами. Однако я, должно быть, ошибся, потому что ничего больше не видел. Мягкий, равномерный ветер дул из-за изгороди, донося до меня знакомый запах и привкус.
Я подошел к вделанной в ограду калитке и прошел в нее. За ней почва едва заметно спускалась вниз. Я сделал несколько шагов в темноту, пытаясь нащупать ногой неприятные неровности вспаханной, клейкой земли, но здесь росла короткая и относительно сухая трава.
Впереди горизонт распахнулся вдаль и вширь, освещенный россыпью крошечных огоньков, почти незаметно мерцающих впереди. Небо прояснилось, и надо мной теперь был звездный купол такой ясности и чистоты, какую редко увидишь. Я некоторое время удивленно смотрел вверх, но потом снова вернулся к земным заботам и начал очищать ботинки от остатков налипшей на них грязи. Я нашел короткую ветку и сел на траву, чтобы очистить обувь. Покончив с этим, я откинулся назад, оперся на руки и стал глядеть со склона на море.
Мои глаза привыкли к темноте и звездному свету и я начал различать низкие, темные очертания островов; огоньки, видневшиеся вдали, обозначили населенный пункт на острове прямо впереди. Справа от меня сглаженные, покатые очертания предгорий уходили в море и замыкали маленькую бухточку. Местность слева была плоской, но я разглядел там скалы и песчаные дюны, а по другую сторону береговая линия выгибалась широкой дугой и исчезала из поля зрения.
Я пошел дальше и скоро подошел к морскому берегу, брел по нему какое-то время, затем вышел к небольшому утесу, поднимающемуся из земли и вросших в почву булыжников. Потом побежал по выброшенным на берег морским водорослям и песку; тот тихо хрустел под ногами. Я добежал до воды, остановился в темноте и прислушался к особенному шороху моря. Я почувствовал, что совершенно успокоился, и ощутил себя готовым ко всему, свободным от забот, вылеченным силами океана. Соленый запах в воздухе, теплый песок и груды выброшенных сухих водорослей вызвали сильные ассоциации с детством: каникулы, родители, мелкие огорчения, волнение и ожидание приключений. При таких обстоятельствах между мной и Калией всегда возникали стычки и перепалки.
Теплый воздух высушил мою одежду, и я почувствовал себя освеженным и полным сил. Сери исчезла, но я знал, что она появится, когда будет готова. Я во второй раз прошел по берегу, по всей его длине, до самых предгорий, потом решил поискать место для ночлега. Я нашел сухой, защищенный каменными глыбами песок и выкопал в нем небольшое углубление. Было достаточно тепло, чтобы спать без одеяла, и я просто лежал на спине, скрестив руки под головой, и глядел в небо, на мерцающие звезды. Вскоре я заснул. Мне ничего не снилось.
Меня разбудили тихий шорох прибоя, сияние солнца и крик чаек. Я проснулся мгновенно, словно переход от сна к бодрствованию определялся только поворотом выключателя; за несколько месяцев я привык к медленному, сонному пробуждению, сопровождающемуся умственной и физической неповоротливостью.
Я встал, посмотрел на мерцающее серебристое море и извивы белого, как кость, песка и ощутил на лице тепло солнца. Поросшие травой предгорья пестрели желтыми цветами львиного зева, над ними распростерлось чистое голубое небо. Возле меня, на расстоянии вытянутой руки, лежала небольшая кучка одежды. Я увидел сандалии, шерстяную юбку, белую блузку; в маленьком углублении на рукаве блузки лежало несколько серебряных колец браслета.
Небольшая головка, черная в падающем на нее свете, танцевала в прибое. Я встал, заморгал от света и махнул рукой. Она, должно быть, меня увидела, потому что махнула в ответ и начала брызгать в мою сторону. Подошла ко мне с покрытыми слоем песка, мокрыми волосами, с нее капала холодная вода. Поцеловала меня. Затем мы вместе пошли плавать.
Пока мы шли вдоль берега в ближайшую деревню, солнце поднялось высоко и тянувшаяся вдоль берега немощеная дорога жгла наши босые ноги. Мы поели на террасе ресторана, а воздух тем временем наполнился сонным гудением насекомых и отдаленным шумом машин. Мы находились в деревне Пайе на острове Панерси, но Сери здесь было жарко, и она хотела плыть дальше. В Пайе не было порта, только в устье небольшой реки привязана пара лодок. Автобус ждали во второй половине дня, но мы могли взять велосипеды. Город Панерон находился в трех часах езды на велосипеде, на другой стороне центральной цепи гор. Ему предстояло стать первым из множеств городов, которые мы хотели посетить. Это было вынужденное путешествие, постоянный поиск новых целей. Я хотел замедлить темп, хотел насладиться каждым уголком из тех, какие мы обнаруживали, хотел узнать Сери. Но она открывалась таким способом, который я едва понимал. Для нее каждый остров представлял новую грань ее личности, каждый наделял ее чувством причастности. Без островов она была неполноценной, рассеянной по всему морю.
– Почему мы не останемся здесь? – спросил я однажды в гавани острова со странным названием Смазь. Мы ждали судна, которое должно было отвезти нас на соседний остров. Я был очарован Смазью, я нашел здесь карту местности и по ней узнал, что где-то в глубине острова есть руины старого города, но Сери хотела плыть дальше.
– Хочу на Уинхо, – сказала она.
– Позволь остаться здесь хотя бы еще на одну ночь.
Она взяла мою руку, в ее взгляде светилась несгибаемая решимость.
– Мы должны уехать куда-нибудь еще.
Это был восьмой день, и я уже с трудом различал острова, которые мы посетили.
– Я уже устал от переездов. Давай некоторое время отдохнем на одном месте.
– Но мы едва знаем друг друга. Каждый остров отражает нас.
– Не вижу разницы.
– Потому что не понимаешь того, что видишь. Нельзя поддаваться островам, которые тебя околдовывают.
– Об этом нет речи. Едва мы прибываем куда-то, мы сразу же ищем себе новую цель.
Сери нетерпеливо махнула рукой. Судно приблизилось к молу. На нас повеяло запахом сгоревшего дизельного топлива.
– Говорю тебе, – сказала она. – На островах ты будешь жить вечно. Но не узнаешь, пока не найдешь себе нужного места.
– В данный момент я не узнаю нужного места, даже если мы его найдем.
Мы поехали на Уинхо, а оттуда на другие острова. Через пару дней мы оказались на Семелле, и я сообразил, что оттуда в Джетру регулярно ходили корабли. Я по горло был сыт путешествием и разочарованием из-за того, что узнал о Сери. Она надоела мне своей непоседливостью, и я начал задумываться о Грейс. Я давно уже был вдали от Джетры, а ведь мне вовсе не следовало покидать ее. Никогда. Во мне росло чувство вины.
Я сообщил Сери о своих намерениях.
– Ты поедешь со мной, если я вернусь в Джетру?
– Не покидай меня!
– Я хочу, чтобы ты была со мной.
– Я боюсь, что ты снова уйдешь от меня к Грейс. Есть еще множество островов куда мы можем поехать.
– А что произойдет, когда мы посетим последний? – спросил я.
– Нет никакого последнего. Им нет конца.
– Я тоже так думаю.
Мы сидели в кафе на главной площади города Семелл. Была среда. Старики отдыхали в тени, магазины были закрыты, с поросших оливами холмов в маленький городок доносился звон колокольчиков – там паслись козы. Закричал осел. Мы пили чай, и на столике перед нами лежало расписание рейсов. Сери позвала официанта и заказала анисовое печенье.
– Питер, ты еще не готов вернуться. Разве ты этого не видишь?
– Я беспокоюсь о Грейс. Нельзя было покидать ее.
– У тебя нет выбора, – в гавани стучал дизель катера; в усиливающейся жаре казалось, что это единственный механический звук на всем острове. – Разве ты забыл, что я тебе говорила? Ты должен открыть острова, открыть! С их помощью ты сможешь убежать, чтобы обрести себя. Сам ты не можешь дать себе никаких шансов. Сейчас рано возвращаться.
– Ты все время споришь, – сказал я. – Мне здесь не место. У меня нехорошие предчувствия… это не для меня. Я должен вернуться домой.
– И снова уничтожить Грейс?
– Не знаю.
На следующее утро с Семелла отходил корабль, и мы поднялись на его борт. Путешествие было коротким – два с половиной дня, с двумя остановками – но, едва мы оказались на борту, у меня на миг появилось чувство, что мы попали в Джетру. Корабль был приписан к ее гавани, еда в обеденном зале была знакомой, это была моя родная кухня. Большинство пассажиров были из Джетры. Сери и я очень редко говорили друг с другом. Было ошибкой плавать с ней по островам.
В конце дня мы прибыли в Джетру и сошли с корабля. По подвесному трапу спустились на улицу и попали в напирающую спешащую толпу, занятую такой знакомой, почти профессиональной деятельностью. На улице кипело движение, мой взгляд упал на строчки газет-плакатов: водители угрожали забастовкой, а страны ОПЕК сообщали о дальнейшем повышении цен на нефть.
– Ты идешь со мной? – спросил я.
– Да, но только до дома Грейс. Я же тебе больше не нужна.
Но я взял ее руки и крепко сжал. Я почувствовал, что она собирается удалиться от меня, как я удалился от Джетры, прежде чем снова ступить на ее улицы.
– Что мне делать, Сери? Я знаю, что ты права, но почему-то не могу перенести это на себя.
– Я больше не буду пытаться влиять на тебя. Ты знаешь, как найти острова, а я всегда буду там.
– Это значит, что ты хочешь ждать меня?
– Это значит, что ты всегда сможешь найти меня.
Мы стояли посреди тротуара, толкаемые с обеих сторон потоками прохожих. Теперь, когда я снова был в Лондоне, я не чувствовал больше настойчивой спешки, которая овладела мной после возвращения.
– Идем в наше кафе, – предложил я.
– Ты знаешь туда дорогу?
Мы пошли по Прайд-стрит, но тут я понял: это мне не по силам. На углу Эдвардс-роуд меня одолели сомнения.
Сери сказала:
– Идем, покажу!
Она взяла меня за руку, мы прошли совсем немного, и я услышал звонки трамвая. Я почувствовал, что облик города претерпел почти неуловимое изменение. Мы свернули на один из поперечных бульваров, прорезавших богатые кварталы, и вскоре оказались на перекрестке, где находилось уличное кафе. Мы долго сидели там, пока не стемнело; потом я почувствовал, как во мне снова растет беспокойство.
Сери сказала:
– Сегодня вечером отходит еще один корабль, и мы можем успеть на него, если поспешим.
Я покачал головой.
– Не будем обсуждать это.
Не дожидаясь ответа, я положил на стол пару монет, покинул кафе и пошел в северном направлении. Был теплый лондонский вечер, на улицах было много народа. Многочисленные ресторанчики и кафе выставили столики и стулья на тротуар и предлагали неплохой выбор напитков и закусок.
Я заметил, что Сери идет за мной, но она молчала, и я не обернулся. Она мне наскучила и больше не была мне нужна. Она предлагала бегство, не убежище, и ничего, что могло бы восполнить мне недавнюю утрату. Но в некотором смысле Сери была права. Необходимо познакомиться с островами, чтобы найти себя. Я очистился.
Благодаря образовавшейся пустоте я увидел свою ошибку. Я хотел искать Грейс через Сери, в то время как та дополняла меня, а не ее. Она восполнила то, чего мне не хватало, была реальным воплощением этого. Я думал, что она объясняет Грейс, но она лишь определила меня для меня же.
Шагая по улице, по которой раньше ходил ежедневно, я увидел новый лик реальности.
Сери расслаблялась там, где Грейс напрягалась. Ободрялась там, где Грейс бывала подавлена и обескуражена. Была спокойна, а Грейс возбудима и невротична. Сери была светлой и мягкой, Грейс же – путаной, капризной, легко вспыхивающей, эксцентричной, любвеобильной и живой. А Сери всегда и всюду была уступчивой и спокойной.
Дитя моей рукописи, она должна была сделать Грейс более понятной мне. Но события и места, описанные в рукописи, были фантастическим дополнением моего «я», и то же самое относилось к другим персонажам этой истории. Я воображал, будто описываю других людей, однако теперь осознал, что все они были различными производными моего «я», моей личности.
Когда мы добрались до улицы, где жила Грейс, давно стемнело. Увидев ее дом, я ускорил шаги. В окне подвального этажа я заметил свет. Как обычно, шторы не были задернуты, и я отвернулся, не желая заглядывать туда.
– Ты войдешь, чтобы увидеть ее, да? – спросила Сери.
– Да, конечно.
– А что будет со мной?
– Не знаю, Сери. Острова – это не то, что я все время искал. Я не могу больше скрываться.
– Ты любишь Грейс?
– Да.
– Ты знаешь, что снова уничтожишь ее?
– Не думаю.
Что в моем поведении всегда ранило Грейс, так это моя склонность искать убежище во всевозможных фантазиях. Я должен отказаться от этого.
– Ты считаешь, что я не существую, – сказала Сери, – потому что думаешь, что сам создал меня. Но у меня есть собственная жизнь, Питер, и если ты собираешься найти меня в том, что тебе уже известно, тогда это будет не все и не так. До сих пор ты видел только часть меня.
– Я знаю, – сказал я, но Сери была всего лишь частью меня. Олицетворением моего стремления к бегству, моего желания скрыться от других. Она воплощала представление о том, что причина моих несчастий – где-то вне меня, но я постепенно начал сознавать, что их корни – внутри. Я хотел быть сильным, а Сери расслабляла меня.
Сери заговорила:
– Тогда делай, что хочешь.
Я почувствовал, что она отдаляется, и протянул руку, чтобы попрощаться. Она ловко уклонилась.
– Пожалуйста, не уходи! – взмолился я.
Сери сказала: «Я знаю, ты хочешь забыть меня, Питер, и, может быть, так будет лучше. Ты знаешь, где меня найти».
Она ушла. Белое платье блестело в свете уличных фонарей. Я посмотрел ей вслед, думая об островах и о недостоверности, которой она меня одарила, о ее стройной фигуре, прямой и грациозной, о коротких волосах Сери, о ее походке, чуть враскачку. Она ушла, и я перестал видеть ее раньше чем она дошла до угла.
Стоя в одиночестве около ряда припаркованных машин, я почувствовал внезапное радостное облегчение. Намеренно или нет, Сери вызволила меня из моих собственных многочисленных фантазий, в которых я старался скрыться. Я был свободен от участи, на которую сам себя обрек, и наконец почувствовал, что теперь могу быть сильным.
Глава двадцать вторая
Позади припаркованного австралийского автотрейлера за решетчатой оградой оранжево светилось окно Грейс. Я направился к нему, решив устранить все наши затруднения.
Когда я оказался у края тротуара и смог заглянуть в комнату, я в первый раз увидел Грейс.
Она, с прямой спиной, подобрав под себя ноги, сидела на постели, хорошо видная с улицы. В одной руке она держала сигарету, а другой бурно жестикулировала. Это была поза, в которой я видел ее много раз; Грейс была увлечена беседой о чем-то, что интересовало ее. Удивленный – мне представлялось, что она должна быть одна – я отступил, прежде чем она меня заметила. И продолжал продвигаться, пока не увидел все помещение.
С Грейс была молодая женщина; она свернулась калачиком в единственном кресле. Я не имел ни малейшего представления, кто это. Почти одних лет с Грейс, одетая по-простому, в очках. Она слушала Грейс, время от времени кивая, но сама говорила очень мало.
Я подошел к окну чуть ближе. На полу возле кровати стояла полная пепельница, рядом – две пустые кофейные чашки. Комната выглядела так, словно там недавно убирали: книги стояли на полках ровными рядами, а не лежали в углу как обычно, не было и грязной одежды, а все ящики комода были задвинуты. Всякие следы попытки самоубийства Грейс давно исчезли: кое-что из мебели было переставлено, сломанную дверь починили.
Потом я заметил на запястье Грейс кусок пластыря. Она, казалось, не замечала его и пользовалась этой рукой так же уверенно, как и другой.
Она говорила много и, главное, казалась, счастливой. Я видел, что она часто улыбается; один раз она даже засмеялась, склонив голову набок, как часто делала в старые добрые времена.
Я хотел войти и поздороваться, но меня удерживало присутствие другой женщины. Вид Грейс обрадовал меня. Она немного похудела, зато излучала здоровье и жизнерадостность: она напомнила мне о Греции, о солнечных ваннах и о Рестине, где все это началось. Она выглядела лет на пять моложе, чем в последний раз, когда я ее видел, одежда была чистой и выглаженной, а волосы подстрижены и уложены в прическу.
Я некоторое время понаблюдал за обеими женщинами, потом незнакомка, к моему облегчению, встала.
Не желая, чтобы она видела, как я брожу перед домом, я немного прошел по дороге и перешел на другую сторону. Через пару минут женщина вышла наружу и села в один из припаркованных автомобилей. Как только она уехала, я быстро перешел улицу, подошел к двери, достал ключ и отпер ее.
В коридоре горел свет и пахло политурой.
– Грейс? Где ты? – Дверь в спальню была открыта, но Грейс там не оказалась. Я услышал шум в туалете, и дверь открылась.
– Грейс, я снова здесь!
Я услышал, как она спросила:
– Джин, это ты?
Она вышла и увидела меня.
– Привет, Грейс! – сказал я.
– Я думала… Боже мой, ты! Где ты был?
– Я должен был уйти на пару дней…
– Что ты делал? Ты же выглядишь как бродяга!
– Я… я спал на улице, – сказал я. – Я должен был уйти.
Мы стояли в паре шагов друг от друга, не улыбаясь и не делая никаких попыток обняться. Необъяснимая мысль, что это Грейс, настоящая Грейс, пришла мне в голову, но я едва мог в нее поверить. Грейс приобрела в моем воображении неземные, идеальные качества, стала чем-то недостижимым. А теперь она стояла здесь во всей своей реальности, настоящая Грейс, беззаботная и прекрасная, без призрачного страха в глазах.
– Где ты был? Больница пыталась найти тебя, известила полицию… Где ты скрывался?
– Из-за тебя я на некоторое время покинул Лондон, – я охотно обнял бы ее, но в ее поведении было что-то, что держало меня на расстоянии. – Что с тобой? Ты выглядишь намного лучше!
– Я теперь совершенно здорова, Питер. Без твоей помощи, – она потупилась. – Я не должна так говорить. Они сказали, что ты спас мне жизнь.
Я подошел к ней и хотел поцеловать, но она отвернулась, и мне удалось коснуться только щеки. Когда я хотел обнять ее, она отступила. Я последовал за ней, и мы попали в холодную, темную гостиную, где стояли телевизор и стереоаппаратура, в помещение, которым мы редко пользовались.
– Что случилось, Грейс? Почему ты не хочешь поцеловать меня?
– Не теперь. Я тебя не ждала, вот и все.
– Кто такая Джин? – спросил я. – Девушка, которая была здесь?
Она кивнула.
– Она опекает меня по линии соцобеспечения. Заглядывает сюда каждый день, чтобы удостовериться, что я не покончила с собой. Видишь, как обо мне заботятся? После того как я вышла из больницы, они настояли, чтобы я еще раз попыталась наладить свою жизнь, и теперь не спускают с меня глаз. Они считают, что мне опасно оставаться одной.
– Фантастика, – сказал я.
– Теперь я чувствую себя хорошо. Я никогда больше не сделаю этого. Вот все, что я могу сказать.
Ее голос звучал резко, в нем была внутренняя твердость, которая держала меня на расстоянии. Казалось, именно этого она и добивалась.
– Складывается впечатление, что я тебя бросил, – извини, – сказал я, поколебавшись. – Мне говорили, что о тебе заботились. Мне кажется, я знаю, почему ты это сделала; я должен уйти.
– Не надо ничего объяснять. Это все уже неважно.
– Ты серьезно? Нет, это, конечно, все еще важно.
– Для тебя… или для меня?
Я беспомощно уставился на Грейс, но ничего не сумел прочесть в ее лице.
– Ты зла на меня?
– За что это?
– За то, что я ушел.
– Нет…
– Что же тогда?
– Не знаю, – она пересекла комнату, но не той беспокойной походкой, которую я знал. Комната тоже была вычищена и убрана. Я едва узнавал ее. – Пойдем же! Я хочу курить.
Я последовал за ней в спальню и, пока она сидела на постели и раскуривала сигарету, задернул шторы. Она наблюдала за мной, но ничего не говорила. Я сел в кресло, в котором сидела девушка из системы соцобеспечения.
– Грейс, расскажи мне, что с тобой произошло… в больнице.
– Меня подлатали и отправили домой. И все, честное слово. Потом выяснилось, что на меня есть досье, и у них возникли затруднения. Но Джин великолепна. Она будет рада, что ты вернулся. Я завтра утром позвоню ей и все расскажу.
– А ты? Ты рада, что я вернулся?
Грейс подалась вперед, стряхнуть пепел, и улыбнулась. Я почувствовал, что сморозил глупость.
– Почему ты улыбаешься? – спросил я.
– Ты был нужен мне, когда я вернулась домой, Питер, а теперь – нет. Ты опять меня затравишь, только соцработнков рядом уже не будет. Мне было легко, когда тебя не было здесь. У меня был шанс.
– Что значит «опять меня затравишь»?
– Потому что так было всегда! С тех пор, как мы познакомились. – Грейс задрожала и принялась кусать ногти, а сигарета со столбиком пепла поникла в ее руке. – Когда я вернулась из больницы, мне хотелось быть одной; подумать и найти для себя новый путь. Тебя здесь не было, и именно этого, чего я хотела.
– Тогда мне вообще не следовало возвращаться.
– Тогда я не хотела, чтобы ты был здесь. Потом все переменилось.
– А теперь, значит, хочешь?
– Нет… теперь я не знаю. Я должна побыть одна, и я этого добьюсь. Что произойдет потом – другое дело.
Мы молчали, и перед каждым из нас, вероятно, была одна и та же дилемма. Мы оба знали, что опасны друг для друга, пока так отчаянно нуждаемся друг в друге. Не было никакой возможности поговорить об этом разумно; это привело бы либо к тому, что мы снова станем жить вместе, либо разговор вышел бы чудовищно напряженным, со взрывами эмоций. Грейс старалась сохранять спокойствие; я же хотел использовать свои новые внутренние силы.
Мы все еще были похожи, и, может быть, именно это и определяло наше поведение. Я покинул ее, чтобы лучше понять себя, а она хотела некоторое время побыть наедине с собой. Изменения здесь, вокруг Грейс, напугали меня: чисто убранная квартира, изменившаяся прическа, внешнее омоложение. Все это представляло резкий контраст с моей запущенной внешностью, грязной одеждой, небритым лицом, немытым телом.
Но я тоже изменился, и так как она ничего не говорила, пришлось заговорить первым.
Наконец я сказал:
– Я тоже стал сильнее, Грейс. Я знаю, ты думаешь, что я говорю это просто так, но, честное слово, я совершенно серьезен. Поэтому я и ушел.
Грейс молча переключила внимание на хорошо вычищенный ковер.
– Говори, говори! Я думаю.
– Я думал, ты сделала это из ненависти ко мне.
– Нет, перед тобой я робею.
– Хорошо. Но ты сделала это из-за меня, из-за отчаяния перед тем, чем мы были друг для друга. Теперь я это понимаю… но тут есть еще кое-что. Ты ведь читала мою рукопись.
– Твою что?
– Мою рукопись. Я написал автобиографию, и она оставалась здесь. Страницы были разбросаны по кровати, когда я тебя нашел. Ты, очевидно, читала их, и я понял, что ты разволновалась.
– Не понимаю, о чем ты, – сказала Грейс.
– Ты должна помнить! – Я осмотрелся, и мне стало ясно, что после своего возвращения я нигде не видел рукописи. Я испугался при мысли, что Грейс уничтожила или выбросила ее. – Это была перетянутая резинкой стопка листов. Где она теперь?
– Все твои вещи я отнесла в другую комнату. Я прибиралась здесь.
Я вскочил и поспешил в гостиную. Возле стереоаппаратуры, около пластинок – на некотором расстоянии от них – притулилась небольшая стопка моих книг. Под ними, крест-накрест перетянутая резинкой, лежала моя рукопись. Я снял резинку и пролистал несколько страниц: все было на месте. Несколько листов оказались перевернуты, другие лежали не по порядку, но рукопись была цела. Я вернулся в спальню, где Грейс раскуривала новую сигарету.
– Вот, о чем я говорил, – сказал я, поднимая рукопись, чтобы Грейс ее увидела. Я почувствовал облегчение. – Ты читала ее, верно? В тот день.
Грейс прищурилась, но я почувствовал, что она сделала это не для того, чтобы лучше видеть.
– Я хотела спросить тебя об этом…
– Позволь объяснить, – сказал я. – Это важно. Я написал это в Херсфордшире, прежде чем перебрался к Фелисити. И убежден, что именно это – причина сложностей между нами. Ты думаешь, что я был с какой-то другой женщиной, но на самом деле думал только о том, что написал. Это был способ найти себя. Когда ты была в больнице и я знал, что тебя там заботило, я захотел прочесть ее с самого начала, чтобы закончить.
Грейс ничего не сказала, однако продолжала пристально смотреть на меня.
– Пожалуйста, скажи что-нибудь! – попросил я.
– Что в этой рукописи?
– Но ты же ее читала! По крайней мере, часть.
– Я просмотрела ее, Питер, но читать не читала.
Я переложил рукопись из одной руки в другую и, прежде чем выпустить, машинально собрал листы в аккуратную стопку. Пока я был на островах, я ни разу не задумался о ее содержании. Почему так трудно сказать правду?
– Я хочу, чтобы ты прочитала, – сказал я. – Ты должна понять.
Грейс тупо уставилась на пепельницу.
– Ты голоден? – спросила она через некоторое время.
– Не меняй тему.
– Давай поговорим об этом позже. Я голодна, а ты выглядишь так, словно не ел несколько дней.
– Нельзя ли покончить с этим именно теперь? – спросил я. – Это очень важно.
– Нет, я что-нибудь приготовлю. А ты пока можешь принять ванну. Твоя одежда все еще здесь.
– Хорошо, – сказал я.
Ванная тоже была безупречна. Свободна от гор грязного белья, от пустых тюбиков из-под зубной пасты, картонок и обрывков упаковки из-под туалетной бумаги. Когда я открыл кран, в раковину ударила пенная струя голубоватой воды. Принимая ванну, я слышал, как Грейс ходит по кухне. Потом я побрился и надел чистую одежду. Я взвесился на весах в ванной и установил, что за время своего отсутствия сильно похудел.
Мы ели за столом в гостиной. Еда была простая, рис и овощи, но ничего вкуснее я за последнее время не пробовал. Я спросил себя, где я спал, что ел. Где вообще был?
Грейс ела медленно, но в противоположность своей прежней привычке закончила обед сразу же, как только ее тарелка опустела. Эту женщину я едва знал, однако она была узнаваема даже после своих превращений. Она была той Грейс, о которой я часто мечтал: свободной от истерик, как мне казалось, от дурного настроения, которое делало ее такой капризной. Я почувствовал в ней новую решительность. Она приложила чудовищные усилия, чтобы найти себя и выправиться и это осознание наполнило меня удивлением и теплотой.
После еды я сделался доволен и спокоен. Ставшие уже привычными ощущения чистого тела, чистой одежды и полного желудка дали мне возможность поверить, что я наконец вышел из длинного темного туннеля ненависти, укрепившись в надежде, что мы сможем начать все сначала.
Не после Кастлтона; тогда было слишком рано.
Грейс сварила кофе, и мы отнесли фаянсовые чашечки в спальню. Там мы оба почувствовали себя уютнее. Снаружи иногда хлопали автоматические двери и время от времени слышались шаги прохожих. Мы с Грейс сидели на постели. Кофейные чашечки стояли на полу возле нас, пепельница – между нами.
Она сидела тихо, и я спросил:
– О чем ты думаешь?
– О нас. Ты смущаешь меня.
– Почему?
– Я не ждала тебя. Пока не ждала.
– Почему это тебя смущает?
– Потому что ты изменился и я точно не знаю как. Ты говоришь, что ты стал лучше и все теперь будет хорошо. Но это мы говорили и раньше, слышали это друг от друга.
– Ты мне не веришь?
– Я верю, что ты думаешь именно то, что говоришь… Конечно, в этом я тебе верю. Но я все еще боюсь тебя, боюсь того, что ты можешь сделать со мной.
Я осторожно погладил ее руку; это была первая интимность между нами, и Грейс свою руку не отдернула.
– Я стараюсь верить, – она не смотрела на меня.
– Все, что я творил в последние месяцы, – из-за тебя. Это отдаляло меня от тебя, но я понял, что ошибался.
– О чем ты?
– О том, что я написал в своей рукописи и что произошло во мне.
– Я не хочу говорить об этом, Питер, – теперь она посмотрела на меня, и я снова отметил странный взгляд ее сузившихся глаз.
– Перед этим ты говорила, что хочешь прочесть.
Я спустил ноги с кровати, встал и взял толстую пачку листов с того места, куда ее положил. Снова подсел к Грейс, но она отдернула руку.
– Я хочу тебе прочесть кое-что, – сказал я. – Ты сразу все поймешь.
Говоря это, я переворачивал страницы в поисках тех, что не были перепутаны. Большая часть таких страниц оказалась в первой четверти рукописи. Я заметил на многих листах капли засохшей крови, а по краям пачки виднелась широкая засохшая коричневая корка. Уже при беглом просмотре мне бросилось в глаза, как часто встречается имя Сери. Было важно объяснить Грейс, кто такая Сери, чем та была для меня и что я теперь знаю о ней. И это, и мое состояние духа, отраженное в эскапистских фантазиях, и проблематичное отношение к Фелисити. Высшая правда, содержащаяся в этой истории, мое определение себя делали меня статичным, а мой взгляд обращенный внутрь, эмоционально застывшим.
Грейс должна ознакомиться с этим, чтобы наконец освободить меня.
– Питер, когда ты такой, ты меня пугаешь, – она закурила; в этом не было ничего особенного, но сейчас это движение выдало возвращение былого напряжения. Брошенная в пепельницу спичка продолжала гореть.
– Когда я какой? – спросил я.
– Ты снова будоражишь меня. Перестань!
– Что случилось, Грейс?
– Убери эти бумаги! Я не выдержу этого!
– Я же должен объяснить тебе…
Она прижала руки к вискам, ее пальцы вцепились в волосы. Новая аккуратная прическа растрепалась. Теперь я видел, что мое возвращение было ошибкой, потому что, когда Грейс двигала руками, блузка у нее на груди слегка натягивалась и я жаждал ее тела. В нас обоих было слишком много безумия.
– Что ты хочешь объяснить, Питер? Что еще можно сказать?
– Я должен тебе это прочитать.
– Не мучай меня! Я не сошла с ума… ты же ничего не писал!
– Мне казалось, что я определяю себя, свое «я». В последний год, когда я ушел.
– Питер, ты сошел с ума? Страницы пусты!
Я расправил на кровати смятые листы, разложив их, словно фокусник – карты. Слова – история моей жизни – передо мной. Все было тут: страницы машинописного текста, бесчисленные правки, дополнения, заметки на полях и подчеркивания. Черной тушью, синей шариковой ручкой, простым карандашом… и коричневые продолговатые капли засохшей крови. Здесь было все мое «я».
– Тут ничего нет, Питер. Ради всего святого, это же чистая бумага!
– Да, но…
Я уставился на страницы, вспоминая свою белую комнату в домике Эдвина. Каждое помещение в этом домике приобретало состояние высшей реальности, глубокой правды, которая переходила в подлинное существование. То же было и с моей рукописью. Слова были тут, нестираемые с бумаги, точно те, какие я написал. Однако для Грейс, которая не видела души, создавшей эти слова, они не существовали! Я писал и не писал их!
История была тут, но слов не было.
– Куда ты смотришь? – воскликнула Грейс, и в ее голосе появились резкие нотки. Она отвернулась и потянула за кольцо на пальце.
– Я читаю.
Я наконец нашел страницы, которые хотел ей прочитать: это была седьмая глава, где мы с Сери встретились в Марисее. Эта встреча повторяла нашу с Грейс встречу на острове Кос в Эгейском море. Сери работала в бюро Лотереи, а Грейс в Греции проводила отпуск; Марисей был шумным городом, а на острове Кос был всего один маленький порт. События различались, но оставалась высшая правда чувств. Грейс все это знала.
Я отделил эти страницы от других и протянул Грейс. Она положила их между нами на постель, пустой половиной кверху.
– Почему ты не хочешь ничего видеть? – спросил я.
– Что ты пытаешься показать мне?
– Я только хочу, чтобы ты поняла. Пожалуйста, прочти это.
Она быстрым движением схватила страницы, скомкала и бросила через комнату.
– Я не умею читать пустую бумагу!
Глаза ее были мокры, она рвала кольцо, пока оно не соскользнуло с ее пальца. Наконец мне стало ясно: она не обладала достаточной силой воображения, чтобы понять, и я сказал как можно дружелюбнее и мягче:
– Мне нужно объяснить тебе…
– Нет, молчи! С меня хватит. Ты живешь целиком в мире фантазии? Что ты себе воображаешь? Ты знаешь, кто я, кто я на самом деле? Ты знаешь, где ты сам и что делаешь?
– Ты не можешь читать слова, – сказал я.
– Потому что их тут нет! Здесь нет ничего! Ничего!
Я встал и собрал скомканные страницы. Разгладил их ладонью и положил к другим. Собрал листы и сложил в умиротворяюще знакомую стопку.
– Ты должна понять, – сказал я.
Грейс опустила голову и прижала ладони к глазам. Я слышал, как она пробормотала:
– Ну, опять!
– Что?
– Так дальше нельзя, пойми же. Ничего не изменилось, – она вытерла глаза платком и, не обращая внимания на тлеющую сигарету, быстро вышла. Я слышал, как в коридоре она сняла телефонную трубку и набрала номер.
Хотя она говорила тихо, повернувшись ко мне спиной, я услышал:
– Стив?.. Да, это я. Ты можешь приютить меня сегодня на ночь?.. Нет, мне ничего не нужно, действительно ничего, я в порядке. Только на сегодняшнюю ночь… Да, он снова здесь. Не знаю, что произойдет. И все же все в порядке… Нет, я приеду на метро. Да, я совершенно здорова, честно. Примерно через час? Спасибо.
Когда она вернулась в спальню, я встал. Грейс потушила сигарету и повернулась ко мне. Она, казалось, взяла себя в руки.
– Ты слышал, о чем я говорила? – спросила она.
– Да. Ты уходишь к Стиву.
– Завтра утром я приду снова. Стив завезет меня по дороге на работу. Ты еще будешь здесь?
– Грейс, пожалуйста, не уходи! Я больше не буду говорить о рукописи.
– Да нет, я просто должна немного успокоиться, поговорить со Стивом. Ты выводишь меня из равновесия. Я же не ждала, что ты вернешься так рано.
Она прошлась по комнате, взяла сигареты и спички, сумочку, книгу. Еще она взяла бутылку вина из шкафа и заглянула в ванную. Через пару минут она уже стояла в коридоре около двери в спальню и проверяла содержимое своей сумочки в поисках ключей. На ее запястье висел пластиковый пакет с туалетными принадлежностями и бутылкой вина.
Я вышел и встал рядом с ней.
– Не могу поверить, – сказал я. – Почему ты бежишь от меня?
– Почему ты бежишь от меня?
На ее лице было сдержанное выражение, и она упорно старалась избегать моего взгляда. Я видел, как она старается сохранить самообладание; раньше мы спорили до изнеможения, шли в кровать, а утром продолжали разговор. Но теперь она положила конец всему этому: звонок, внезапный уход, бутылка вина.
Теперь, дожидаясь, когда я позволю ей уйти, она мысленно была уже на полпути к станции метро.
Я схватил ее за руку. Это вынудило ее посмотреть на меня, но она сразу же отвела взгляд.
– Ты меня все еще любишь? – спросил я.
– Как ты можешь спрашивать? – спросила она. Я молчал, пытаясь своим молчанием оказать на нее нажим. – Ничего не изменилось, Питер. Я пыталась убить себя, потому что тебя люблю, потому что ты не замечаешь меня, потому что я не могу быть с тобой. Я не хотела умирать, но потеряла рассудок и не могла справиться с собой. Я боялась, что ты вынудишь меня снова натворить что-нибудь, – она глубоко вздохнула, но как-то судорожно, и я увидел, что она сдерживает слезы. – В глубине тебя есть что-то… что-то, к чему я не могу подступиться. Я почувствовала это еще острее, когда ты вернулся, когда начал говорить об этой проклятой рукописи. Ты снова заставил меня потерять рассудок.
– Я вернулся домой, потому что перестал быть самим собой, – сказал я.
– Нет… нет, неправда! Ты обманываешь себя и пытаешься обмануть меня. Оставь, не надо все начинать сначала! Я этого не вынесу!
Она расплакалась и я попытался привлечь ее к себе, заключить в объятия и успокоить, но она, всхлипывая, отстранилась, вышла за дверь и захлопнула ее за собой.
Я стоял в коридоре, слушая звонкое эхо.
Через некоторое время я вернулся в спальню и долго сидел на краю кровати, глазея на ковер, на стену, на шторы. После полуночи я встал и навел порядок. Я вытряхнул пепельницу и вымыл посуду, оставшуюся после нашего ужина, а потом помыл кофейные чашечки и поставил все это в сушилку возле мойки. Затем я вытащил свой кожаный чемодан и засунул в него столько своей одежды, сколько туда убралось. Сверху я положил рукопись. Я убедился, что свет во всех комнатах погашен и вода из крана не капает. Выходя, я погасил свет в коридоре и закрыл за собой входную дверь.
Я пошел по Кентиш-Таун-роуд, на которой, несмотря на поздний час царило оживленное движение. Я слишком устал, чтобы спать на улице, и решил подыскать себе ночлег недалеко от вокзала Паддингтон, где отелей было полно – но я хотел уехать из Лондона. Я нерешительно остановился и осмотрелся.
Отказ Грейс словно оглушил меня. Я вернулся к ней, не приводя ничего в порядок, и рассказал ей все, не представляя себе, что может произойти, воодушевленный и убежденный, что все свои внутренние силы могу посвятить решению этой непростой проблемы. Вместо этого она показала, что она сильнее меня.
Молния на моем чемодане разошлась, и я увидел рукопись. Я достал ее и в свете уличных фонарей перелистал. Фабула четко вставала перед моим мысленным взором, но слова со страниц исчезли. Некоторые листы были напечатаны на машинке, некоторые исчерканы и покрыты каракулями. Перелистывая их, я увидел мелькавшие там имена и названия: Калия, Марисей, Сери, Иа, Малиган. И засохшие брызги крови Грейс. Единственными связными словами были слова на последней странице рукописи. Незаконченное предложение.
Я снова собрал листы в стопку, убрал в мягкий кожаный чемодан и присел у входа в какой-то магазин. Если я выброшу эти страницы, история останется нерассказанной, а значит, я снова смогу начать все сначала.
Прошло больше года с тех пор, как я жил в сельском домике Эдвина, и в моей жизни произошло многое, о чем не говорилось в рукописи. Пребывание в сельском домике, недели в доме Фелисити, возвращение в Лондон, открытие островов.
Но прежде всего, в рукописи не было ни слова о том, как и почему она была написана, и о сделанных мной открытиях.
Когда я присел в удобном входе в магазин, поставив чемодан между ног, мне стало ясно, что я вернулся к Грейс преждевременно. Мое определение моего «я» было неполно. Сери была права: необходимо было погрузиться в острова всей душой.
Глубокое возбуждение пронизало меня, когда я подумал о брошенном мне вызове. Я покинул вход в магазин и быстро пошел к центру города. Утром я подыщу себе жилье и, может быть, устроюсь на какую-нибудь работу. Потом все свое свободное время я буду писать, конструировать свой внутренний мир, погружаясь в него. Так я смогу отыскать себя. Так я смогу обрести счастье и радость. Грейс никогда больше не откажет мне ни в чем.
Мне казалось, что я один в городе, на улицах со скудно освещенными витринами, темными глазницами окон жилых домов, пустыми тротуарами, сияющими в пустоте рекламами. Зона моего восприятия расширилась, вбирая в себя весь Лондон. Центром этой зоны был я сам. Я проходил мимо длинных рядов припаркованных машин, мимо неубранных и неопорожненных мусорных контейнеров, заполненных пустыми консервными банками и пластиковыми стаканчиками. Я пересекал пустынные перекрестки, где светофоры переключали свет для отсутствующих автомобилей, проходил мимо стен домов, разрисованных узорами влаги, мимо закрытых ставней, запертых контор, загороженных решетками входов на станции подземки. Передо мной высились мрачные здания.
Впереди были острова.
Глава двадцать третья
Я вообразил, что Сери со мной на борту корабля. От Хетти, моего последнего убежища, со времени моего бегства из клиники, корабль без остановки дошел до Коллажо, и я понимал, существует возможность того, что Сери поднимется на борт. Во время пребывания в порту я вышел на палубу и украдкой наблюдал за поднимающимися на борт пассажирами, но Сери среди них не увидел; однако я вовсе не исключал, что мог просмотреть ее.
В течение всего путешествия от Хетти через Марисей в Джетру я постоянно видел ее. Иногда мой взгляд падал на нее, когда она стояла на другом конце корабля: светлые волосы, стройная фигура, приятная комбинация цветов одежды, особая походка. Иногда в переполненном обеденном зале я чувствовал запах, который был связан с ней, а в моей голове засело и все время смущало меня имя: Матильда, которую я однажды сменил на Сери. Я тщательно просмотрел рукопись в поисках упоминания о ней.
Время от времени я, точно маньяк, обшаривал корабль в поисках Сери, хоть мне и не хотелось найти ее. Я должен был покончить с неизвестностью, и поэтому вопреки всему хотел и одновременно не хотел видеть ее на борту. Я был одинок и смущен, а она создала меня после лечения; я же отвергал ее взгляд на мир, пытаясь обрести себя самого.
Эта ошибка была частным случаем двойственности большего масштаба.
Мое восприятие как бы раздвоило мое сознание. Я был тем, что сделали из меня Ларин и Сери, – но и тем, что узнал о себе из неизменной рукописи.
Я признавал удобную реальность переполненного корабля, который на своем пути по Срединному морю делал множество остановок, острова, мимо которых мы проплывали, множество культур и диалектов, чужую пищу, жару и захватывающие пейзажи. Все это было для меня реально и осязаемо, однако в душе я сознавал, что ничего этого на самом деле быть не может.
Я боялся этой дихотомии, в которой существовал воспринимаемый мной мир, боялся, что корабль подо мной исчезнет, если я перестану верить в его существование. Мне казалось, что я – самая важная личность на борту этого корабля, потому что был исходной точкой его дальнейшего существования. В этом была моя дилемма. Я узнал себя глубже и убедился в истинности своего существования: я нашел себя через метафоры своей рукописи. Но, воспринимая внешний мир с иронией, я воспринимал заодно и его прочность, жизненность и суетность. Он был непредсказуемым, неуправляемым, в нем отсутствовали необходимые составные части вымысла.
Я все лучше понимал это, рассматривая острова.
Когда я пришел в себя после операции, мне казалось, что Архипелаг Мечты действительно создан силой моего духа, ведь я изучил его. Я чувствовал, как мое сознание распространяется по нему.
При других обстоятельствах я смотрел бы на это иначе, и мое представление изменилось бы. Ограниченный в свой фантазии, я строил свое детище довольно медленно. Сначала это были просто очертания островов. Потом начали добавляться цвета – холодные, кричащие основные краски, потом их закрыли другие, оживили птицы и насекомые, инкрустировали пустыни, наполнили люди, одели первобытные леса, их бичевали тропические ураганы и глодал грохочущий прибой. Эти воображаемые острова сначала не имели никакого отношения к Коллажо, месту моего духовного возрождения, потом Сери сообщила мне кажущуюся безвредной информацию о том, что Коллажо сам часть этого архипелага. Конструкция мира островов тотчас же изменилась. Коллажо стал частью этого мира. По мере того как продвигалось мое обучение, происходили все новые изменения. Когда у меня развилось то, что я назвал вкусом, я создал острова в соответствии со своими представлениями о морали и этике и наделил их романтическими, культурными и историческими подробностями.
Несмотря на бесконечные изменения, я подробно и окончательно обрисовал концепцию островов.
В действительности, когда смотришь с корабля, все время сталкиваешься с неожиданностями, которые придают прелесть путешествию.
Я был очарован постоянно сменяющимися видами. Острова отличались друг от друга по географическому положению, растительности, степени культурного, экономического, и сельскохозяйственного развития. Одна из групп островов, которая на моих картах называлась Олдаса, была дикой и пустынной – следствие столетий непрерывной вулканической деятельности: берега здесь были черны, утесы из базальта и лавы причудливо изрезаны, курящиеся горы диковинных очертаний – иззубренны и пустынны. В тот же день мы проплыли через группу маленьких безымянных островков и обогнули непроходимые мангровые заросли. Здесь на корабль обрушились тучи насекомых, которые мучили пассажиров, кусая и жаля их, пока корабль не вышел на продуваемый всеми ветрами морской простор. Населенные острова приветствовали нас гаванями, видами маленьких городков и крестьянских дворов, а в портах можно было купить свежие фрукты и еду, чтобы дополнить ограниченный выбор корабельной кухни.
Я провел много часов у поручней на палубе, перед моими глазами проплывали бесконечные картины жизни на островах, и я наслаждался ими во всех смыслах. Это желание зрелищ обуяло не только меня; многие из пассажиров, кого я считал уроженцами мира островов, были захвачены так же, как и я. Острова противились всякой расшифровке; их можно было только узнавать.
Я знал, что никогда бы не смог создать эти острова силой своей фантазии. Такое невероятное многообразие картин и проявлений не может создать никто и ничто, кроме природы. Я открыл острова и поддался их очарованию, но они пришли извне и подтверждали реальность своего существования.
Однако двойственность была. Я знал, что напечатанное на машинке определение моей личности правдиво и, значит, моя жизнь протекала как-то иначе. Чем больше я поражался многообразию, красоте и протяженности Архипелага Мечты, тем меньше я был в состоянии поверить в них.
Если Сери была частью этого восприятия, она тоже не могла существовать.
Чтобы усилить внутреннее ощущение своей реальности, я каждый день читал рукопись. С каждым разом мне становилось все яснее написанное в ней, и моя способность видеть за строчками, понимать изложенное и вспоминать то, что не было запечатлено на бумаге, крепла.
Корабль был средством достижения цели: на нем я совершил еще и внутреннее путешествие. Как только я сойду с корабля в город, который знал под названием «Джетра», я буду дома.
Мое познание метафорической реальности пошло более уверенно и точно. Так я разрешил лингвистическую проблему.
После лечения я вернулся к сознательному существованию именно через язык. Теперь я говорил на том же языке, что и Сери и Ларин. Я никогда не задумывался над этим, ведь то был мой родной язык и я инстинктивно использовал его. То, что я описал его в своей рукописи, само собой разумелось. Я знал, что этот язык был родным для многих, например для Сери, Ларин, врачей и персонала клиники, и что на нем говорили почти по всему Архипелагу. На борту корабля были представлены все наречия этого языка, и книги были изданы именно на нем.
(Однако на островах это был не единственный язык. Имелось огромное количество диалектов, а многие группы островов использовали собственный язык. Впрочем, существовало и нечто вроде островного эсперанто, на котором говорили – но не писали – по всему архипелагу.)
Однажды, после того как корабль покинул Марисей, меня внезапно осенило: что мой язык называется английским. В тот же день, в поисках защиты от жары и солнца, я заметил на шлюпочной палубе старый, приваренный к стенке надстройки щит. На протяжении многих лет его раз десять красили белой масляной краской, но различить рельефно выступающую надпись, выдавленную на нем, было очень легко. Она сообщала, что это защита от брызг, но, на мой взгляд, на языке островов не имела никакого смысла, и я тотчас же понял, что корабль этот французский или когда-то был французским.
Но где находились Франция и Англия? Я просмотрел все карты Архипелага, изучил берега и названия, но усилия мои были тщетными. И все-таки я знал, что я англичанин, и где-то в глубине своего смятенного рассудка сохранил несколько французских слов, которых было достаточно, чтобы заказать выпивку, спросить дорогу или поздороваться.
Как мог английский язык распространиться по всему Архипелагу в качестве государственного языка и языка общения?
Как все те наблюдения, что я сделал за это время, усилили доверие к моей внутренней жизни и углубили мое недоверие к реальности?
Чем дальше на север мы уходили, тем меньше пассажиров оставалось на борту. Ночи стали холодными, и большую часть времени я проводил в каюте. В последний день я проснулся с чувством, что уже теперь готов сойти на берег. Первую половину дня я провел, в последний раз перечитывая рукопись, потом что-то сказало мне, что я наконец могу читать ее с полным пониманием.
Мне казалось, что читать нужно на трех уровнях.
Первый уровень представляли слова, которые я действительно вписал в машинописный текст – отчет о поступках, которые так смущали Сери.
Дальше шли примечания и дополнения, внесенные Сери и Ларин (карандашом и шариковой ручкой).
И, наконец, то, что я не написал: скрытый смысл строк и некоторые обороты, намеренные пропуски и само собой разумеющиеся связи.
Все это было описанием меня. Меня, который все это должен был написать. Меня, который вспоминал себя и сам себе делал предсказания.
В моих словах сохранялась жизнь, которую я вел до лечения на Коллажо. В замечаниях Сери была жизнь, которую я воспринимал, она существовала в цитатах и рукописных дополнениях. В моих умолчаниях была жизнь, к которой я возвращался.
Там, где рукопись заканчивалась, я определил свое будущее.
Глава двадцать четвертая
Перед Джетрой был еще один, последний остров, мрачный гористый клочок суши под названием Сиэл, к которому мы приблизились вечером. Все, что я знал о Сиэле, рассказала мне Сери, она была родом оттуда, а еще это был ближайший к моей родной Джетре остров. Наша стоянка у Сиэла казалась необычно долгой: с корабля сошло много людей и я видел, что было выгружено много груза. Я нетерпеливо расхаживал по палубе, желая скорейшего окончания моего долгого путешествия.
Пока мы стояли в порту, настала ночь, но едва мы отплыли и обогнули темное, крутое предгорье, я увидел впереди, на низком берегу огни огромного города.
Вечер был холодным, море сильно волновалось.
На борту царила тишина; с Сиэла в Джетру плыло немного пассажиров.
Потом кто-то подошел и встал позади меня. Не поворачивая головы, я уже знал, кто это.
Сери сказала:
– Почему ты убежал от меня?
– Хотел вернуться домой.
Она взяла меня за руку и прижалась ко мне. Она замерзла.
– Ты злишься, что я последовала за тобой?
– Нет, конечно нет, – я обнял ее, поцеловал холодное лицо. Поверх блузки на ней была тонкая ветровка. – Как ты меня нашла?
– Вернулась на Сиэл. Все корабли, идущие в Джетру, заходят туда. Надо было только подождать, пока придет нужный.
– Но почему ты преследуешь меня?
– Я хочу быть с тобой. И не хочу, чтобы ты оставался в Джетре.
– Я плыву не в Джетру.
– Нет, именно туда. Не обманывай себя.
Огни города приблизились, резко и холодно блестя над поднимающимися темными волнами. Облака над ними были словно темные, закопченные апельсины. Редкие острова, видневшиеся позади корабля, казались нечеткими призрачными силуэтами. Я чувствовал, как они ускользают прочь, освобождают меня.
– Я там родился, – я кивком указал вперед. – Я родился не на островах.
– Но ты стал их частью. Ты не можешь просто так оставить их.
– Это все, что я могу.
– Тогда ты покидаешь и меня.
– Я уже все окончательно решил. Я не хочу, чтобы ты следовала за мной.
Она выпустила мою руку и отошла. Я поспешил следом, остановил, попытался поцеловать. Но она отвернулась.
– Сери, не усложняй. Я должен вернуться туда, откуда я родом.
– Это будет не то, чего ты ждешь. Ты окажешься в Джетре, а не в том городе, который ожидаешь увидеть.
– Я знаю, что делаю, – я подумал об убедительной природе рукописи: о девственно чистой пустоте того, что мне предстоит.
Поодаль от входа в гавань корабль развернулся. Подошел катер с лоцманом, черный на фоне блестящей от огней города воды.
– Питер, пожалуйста, останься со мной!
– Я должен кое-кого найти.
– Кого?
– Ты же читала рукопись, – сказал я. – Ее зовут Грейс.
– Пожалуйста, оставь это! Ты себе причиняешь боль. Ты не должен верить этой рукописи. В клинике ты говорил, что понимаешь: все, что там написано, – вымысел. Грейс не существует. Ты все это выдумал.
– Ты уже однажды была со мной в Лондоне, – ответил я. – Ты тогда завидовала Грейс, говорила, что она возбуждает тебя.
– Я никогда не покидала островов, – она посмотрела на сверкающий огнями город, и ветер отбросил прядь волос с ее лба. – Я никогда не бывала в Джетре.
– Я жил с Грейс, и ты была там.
– Питер, мы познакомились в Марисее, когда я работала на Лотерею.
– Нет… теперь я могу вспомнить все, – сказал я.
Она подошла ко мне, и я почувствовал что-то новое.
– Если так, ты никогда не найдешь Грейс. Ты же знаешь, что на самом деле Грейс мертва. Она наложила на себя руки два года назад, когда вы поссорились, перед тем как ты начал рукопись. Когда она умерла, ты не смог признать, что виноват в этом. Ты чувствуешь себя виноватым, ты несчастлив, конечно… но нельзя думать, будто она все еще жива, только потому, что так сказано в твоей рукописи.
Ее слова перепугали меня, я почувствовал, что она говорит серьезно.
– Откуда ты знаешь? – спросил я.
– Ты сам сказал мне это в Марисее. Прежде чем мы отправились на Коллажо.
– Но это тот период, о котором я ничего не помню. Этого нет в рукописи.
– Потому что ты не можешь помнить обо всем! – сказала Сери. – Придется пару дней подождать корабль, отправляющийся на Коллажо. Мы останемся в Марисее. У меня там есть квартира, ты переберешься ко мне. Я знала, что произойдет, когда ты пройдешь курс лечения, и уговорила тебя рассказать мне о твоем прошлом. И ты рассказал, что произошло с Грейс. Она совершила самоубийство, а ты переехал в дом, который предоставил в твое распоряжение друг, и там принял твердое решение излить в этой рукописи всю свою душу.
– Я не помню этого, – сказал я. Тем временем катер лоцмана подошел к нашему кораблю, и два человека в форме поднялись на борт. – Грейс – это настоящее имя?
– Это единственное имя, какое ты упоминал… то же, что и в рукописи.
– Я сказал тебе, куда отправился, чтобы писать?
– В горы Маркиан. За пределы Джетры.
– Друг, который предоставил в мое распоряжение дом… его звали Колен?
– Да, именно так.
Одно из примечаний Сери: карандаш над машинописными строчками. Под именем «Колен» слегка подчеркнуто: «Эдвин Миллер, друг семьи». Между двумя именами было пустое место, замазанное белым. Представление о ландшафте, который распростерся за этими белыми стенами: море, полное островов.
– Я знаю, что Грейс жива, – сказал я. – Знаю потому, что каждая страница моего повествования полна ею. Я написал эту рукопись для нее, потому что вновь хочу обрести ее.
– Ты писал это потому, что чувствовал себя виновником ее смерти.
– Ты ведешь меня к островам, Сери, но они – выдумка, и я должен отказаться от тебя. Ты говоришь, что я должен вернуться на острова, чтобы найти себя. Я сделал это – и освободился от них. Я сделал так, как ты хотела.
Сери, казалось, не смущалась меня. Ее неподвижный взгляд был устремлен мимо меня на медленно поднимающиеся и опускающиеся волны, на предгорья и холодную холмистую сушу, которая чернела за городом.
– Питер, ты лжешь себе. Ты же знаешь, что это неправда.
– Я знаю правду, я однажды уже нашел ее.
– Здесь нет ни капли правды. Ты живешь по своей рукописи, а в ней все ложь.
Мы вместе смотрели на Джетру, разделенные этим определением.
Произошла задержка, затем был поднят новый флаг, и корабль на средней скорости пошел по обозначенному буями извилистому фарватеру, проложенному между скрытыми рифами. Я не мог дождаться, когда же наконец сойду на сушу и вернусь в город.
Сери села поодаль на выкрашенную в белый цвет деревянную скамейку у стенки надстройки. Я остался стоять на прежнем месте и наблюдал за нашим продвижением вперед.
Мы миновали мол из гранитных глыб и бетона возле устья реки, впадающей в море, и вышли на тихую воду. Я услышал звонок машинного телеграфа, и скорость еще упала. Почти в полной тишине мы скользили вперед между далекими берегами. Я внимательно смотрел на склады и здания по обеим сторонам, отыскивая среди них знакомые. С воды весь город выглядел иначе, чем обычно.
Я услышал, как Сери сказала:
– Джетра всегда такая?
Мы миновали гигантские строения верфей, и стало видно, что огромная гавань не похожа на небольшие рыбачьи пристани других островов. На берегу темными силуэтами высились краны и ангары, к пирсу были пришвартованы огромные суда, казавшиеся покинутыми. Один раз в просвет между кораблями я увидел уличное движение: обманчиво бесшумное скольжение, свет, скорость и необъяснимую целеустремленность. Поднявшись далеко вверх по реке, мы миновали комплекс отелей и жилых зданий, сгруппировавшихся вокруг огромных гаваней для яхт с сотнями парусников и скоростных морских катеров, где слепящий свет прожекторов всех цветов был направлен прямо на нас. Люди стояли на бетонированных плитах пирса и смотрели, как корабль с машинами, работающими на малых оборотах, медленно скользит мимо. Берега расступились, и по одному из них потянулся темный парк. Мы вдруг увидели на деревьях цветные фонарики и гирлянды, сквозь ветви в отражении оранжевого пламени поднимался дым, вокруг огня теснились люди. Показалась танцплощадка, окруженная липами. Все было тихо, кроме чуть слышных звуков ночи и тихого плеска воды о борт корабля.
Проплыв по гавани, корабль изменил курс и направился к берегу. Теперь впереди горела вывеска «ОБЩЕСТВО КОРАБЕЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК». Яркие фонари заливали холодным светом пустынную площадь. На другой ее стороне стояли две машины, но свет в салонах не горел, и казалось, что во всем городе не было никого, кто бы нас ждал.
Я услышал доносящиеся с мостика звонки машинного телеграфа, и мгновением позже последняя дрожь работающих машин прекратилась. Глазомер и чувство направления лоцмана были выше всяких похвал: без включения машин и поворота руля корабль медленно скользил к стене пирса на свое место. Когда его мощный стальной причальный брус коснулся причального бруса пирса и развешанных на нем автопокрышек, корабль уже практически остановился.
Корабль замер; тишина города объяла и нас. По ту сторону порта горели фонари города, слишком яркие, чтобы различить отдельные источники света – холодное, слепящее сияние.
– Питер, останься здесь, со мной! Утром корабль снова отправится в путь.
– Ты знаешь, что я должен сойти на сушу, – сказал я и отвернулся. Она сидела, ссутулившись, съежившись под холодным ночным ветром.
– Если ты найдешь Грейс, ты бросишь ее, как сейчас бросаешь меня.
– Итак, ты допускаешь, что она жива?
– Судя по тому, что ты рассказал мне сначала, ее уже нет в живых. Но теперь ты думаешь иначе.
– Я должен ее найти.
– Тогда я потеряю тебя. Это для тебя ничего не значит?
В ярком свете города я видел ее печаль.
– Что бы ни произошло, ты всегда будешь со мной.
– Ты говоришь это просто так. А как же наши планы?
Я уставился на нее, неспособный ответить. На Коллажо Сери создала меня, но еще раньше, в своей белой комнате, я создал ее. У нее не должно быть независимой жизни. Однако ее горестная сиротливость была достаточно реальной, причиняющая боль правда – настоящей.
– Ты думаешь, что на самом деле меня здесь нет, – сказала она. – Ты думаешь, я живу только для тебя. Дополнения, добавления… я прочитала это в твоей рукописи. Ты дал мне жизнь, а теперь пытаешься отвергнуть меня. Ты считаешь, будто знаешь, что я такое, и все равно не можешь знать, почему я тебя создала. Я любила тебя, когда ты был беспомощным и зависел от меня как ребенок. Я рассказывала тебе о нас, о нашей любви, но ты захотел прочитать свою рукопись и поверил во что-то другое. Каждый день я видела тебя, и помнила, чем ты был, и думала о том, что потеряю тебя. Питер, поверь мне и на этот раз… нельзя жить в вымышленном мире! Ты отвергаешь все, о чем мы с тобой говорили…
Сери разрыдалась. Я ждал, пристально глядя на ее склоненную голову, положив руки на ее хрупкие плечи. В ночи ее волосы казались темными, ветер растрепал их, соленые брызги и пена заставили их виться. Когда она подняла голову, глаза ее были огромными и глубокими, полными так хорошо знакомой мне боли.
В это мгновение я понял, кто она на самом деле, кого заменяет. Я крепче прижал ее к себе и раскаялся во всей боли, которую ей причинил. Но когда я поцеловал ее в шею, она отпрянула и встала напротив.
– Ты любишь меня, Питер?
Она страдала от нежности ко мне. Я знал, что она – продолжение моих желаний, воплощение моего отказа Грейс. Она любила меня так же горячо, как я любил себя; и страшно опасалась причинить ненужную боль. Я медлил, собираясь с силами, чтобы солгать.
– Да, – сказал я и мы поцеловались. Ее губы прильнули к моим, стройное тело прижалось к моему. Она была не менее реальна, чем острова, чем палуба под моими ногами, чем сверкающий огнями, ждущий город.
– Тогда останься со мной! – сказала она.
Но мы пошли на корму и забрали из каюты мой чемодан, затем прошли по заполненным звонким эхом, гремящим коридорам и железным лестницам туда, где на пирс были перекинуты сходни. Мы осторожно спустились по ним, стараясь ступать на ступеньки, чтобы не соскользнуть по крепящим их планкам и не попасть под причальный трос.
Мы пересекли безлюдную площадь, миновали ряд припаркованных машин, нашли проход и по ступенькам поднялись на улицу. Мимо тихо прокатил трамвай.
Я сказал:
– Ты представляешь, где мы?
– Нет, но трамвай шел к центру города.
Я знал, что это Джетра, но знал также, что она изменилась. Мы пошли в ту же сторону, куда уехал трамвай. Тянувшаяся вдоль портовых построек улица была длинной и грязной, и дневной свет лишь подчеркивал ее запущенность. Мы довольно долго шли по ней, пока не очутились у большого перекрестка, за которым посреди травянистой лужайки стояло большое мраморное здание с колоннами, подпирающими крышу.
– Дворец Сеньора, – сказала Сери.
– Я знаю.
Я знал это и раньше. Когда-то давно там проходили заседания правительства, однако затем для этого построили новое здание, и дворец превратился в достопримечательность для туристов. С начала войны он пустовал. С тех пор как я поселился в Джетре, это было просто массивное здание с колоннами перед входом, утратившее былое значение.
Поблизости от дворца находился общественный парк, расчерченный освещенными дорожками для прогулок. Я вспомнил, что здесь можно срезать, и повел Сери через парк. Дорожка поднялась на пригорок посреди парка, и скоро мы уже могли видеть почти весь центр города.
Я сказал:
– Там, у входа, я купил свой лотерейный билет.
Воспоминание об этом было слишком живо, чтобы его утратить. Каждый день я мысленно видел деревянный киоск, молодого инвалида войны с корсетом на шее и его потрепанный мундир. Теперь вокруг не было ни души, и я смотрел поверх крыш домов на устье реки и море за ним. Где-то там, снаружи, лежал Архипелаг Мечты: нейтральная территория, страна, по которой я путешествовал, место моего бегства, мерило прошлого и настоящего. Я вновь почувствовал притягательное очарование островов и заметил, что Сери смотрит в ту же сторону. Я всегда невольно отождествлял ее с островами; если это очарование исчезнет, станет ли и она будничной?
Я взглянул на Сери со стороны: беззащитное лицо, растрепанные ветром волосы, стройное тело, округлившиеся глаза.
Через несколько минут мы пошли дальше; мы спустились с возвышения и вышли на большой бульвар, который пролегал через центр города. Здесь было оживленное движение: по полосам, обозначенным возле трамвайных путей, ехали повозки, запряженные лошадьми, и автомобили. Тишина была нарушена. Я услышал звон трамвая, скрип и грохот литых железных колес на повороте рельсов. Дверь одного из заведений открылась, оттуда вырвались свет и шум. Я услышал звон бутылок и стаканов, стук кассового аппарата, смех женщины, громкую танцевальную музыку.
– Хочешь есть? – спросил я, когда мы проходили мимо одного из кафе. Запах еды был невыносимо соблазнительным.
Мимо, громыхая на стыках, промчался трамвай.
– Это зависит от тебя, – ответила Сери, и мы пошли дальше. Я не имел никакого представления, куда мы идем.
Мы миновали еще один перекресток, который, как мне показалось, я узнал; потом, не сговариваясь, почему-то остановились. Движение здесь было двусторонним и вынуждало нас говорить громко.
– Я не знаю, зачем иду за тобой, – сказала Сери. – Ты ведь понимаешь, да?
Я ничего не ответил. Сери с несчастным выражением лица снова посмотрела на меня.
– Я должен найти Грейс, – сказал я наконец.
– Никакой Грейс не существует.
– Я должен убедиться в этом, – где-то здесь был Лондон. Где-то в Лондоне была Грейс. Я знал, что найду ее в белой комнате, где по полу раскидана белая бумага, – своеобразные островки правды, предвестники того, что должно произойти. Она там и увидит, как я вынырну из своих фантазий. Теперь я стал действительно полноценным.
– Перестань верить в это, Питер! Вернемся на острова!
– Нет, не могу. Я должен найти ее.
Сери уставилась на замусоренный тротуар и ждала.
– Ты бессмертный, – сказала она наконец, и мне показалось, что она сказала это с отчаянием, делая последнюю попытку. – Ты знаешь, что это значит?
– Я боюсь, для меня это больше ничего не значит. Я в это не верю.
Сери повернулась ко мне, протянула руку и коснулась моей шеи за ухом. Там еще оставалось чувствительное место, и я отпрянул.
– На островах ты будешь жить всегда, – сказала она. – Покинув острова, ты станешь обычным смертным. Острова вечны, и для тебя время там не будет существовать.
Я замотал головой.
– Я больше не верю в это, Сери. Я не принадлежу островам.
– Значит, ты не веришь и мне.
– Нет, тебе я верю.
Я хотел обнять ее, но она оттолкнула меня.
– Не прикасайся ко мне! Иди ищи Грейс!
Она плакала. Я нерешительно стоял рядом. Я боялся, что тут нет ни Лондона, ни Грейс.
– Я найду тебя снова? – спросил я.
Сери сказала: «Если будешь знать, где искать».
Я понял, что она уходит от меня. Я заковылял прочь и остановился на краю тротуара, ожидая перерыва в движении. Мимо грохотали трамваи и повозки. Потом я увидел, что здесь есть подземный переход, спустился в него и потерял Сери из вида. Я торопливо поднялся по лестнице на поверхность на другой стороне улицы. На мгновение я понял, где нахожусь, однако когда оглянулся…
Примечания
1
Прим. пер.: Действие романа происходит в Англии, где движение на улицах левостороннее.
(обратно)
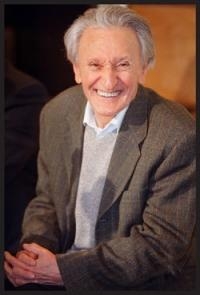
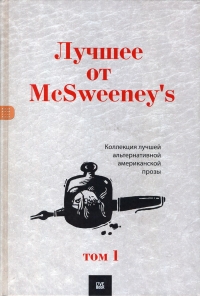

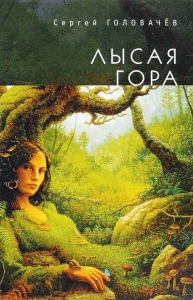



Комментарии к книге «Подтверждение», Кристофер Прист
Всего 0 комментариев