Чак Паланик Ссудный день
«Помните, демократия никогда не длится долго. Она быстро растрачивается, истощается и убивает саму себя».
Джон АдамсО таком вот честном парне до сих пор кто-нибудь да вспомнит. Славный малый, верный товарищ и брат. Заходит этот пай-мальчик, мамина радость, в участок по юго-восточному округу, воровато озирается по сторонам и что-то шепчет, прикрывая рот ладонью. Время позднее, к полуночи дело, а у пацана на пороге участка темные очки на носу. Натурально очки от солнца, капюшон толстовки натянут на лоб, глаза в пол. Типа ничейный Стиви Уандер, разве что пса и белой трости нет. И такой к дежурному сержанту: «Кто у вас тут главный? Я хочу сообщить о преступном замысле». Все шепотом, значит. А сержант ему: «Документики».
У пацана на башке бейсболка, козырек опущен до самых бровей, сверху капюшон – короче, наружу только нос и торчит. Толстовка на спине аж насквозь промокла. И вот, значит, этот кайфолом, этот активный гражданин трясет головой и говорит: «Я сообщаю анонимно. И не тут, не на людях».
Ну, господин дежурный сержант набирает номерок. Со всеми церемониями снимает трубку, прикладывает к уху, тыкает по кнопкам и, не сводя глаз с пацана в темных очках, просит прийти детектива. Да, возможно, наводка. Бросает взгляд пацану на руки. Рук не видно, они спрятаны в карманы толстовки, а это подозрительно. Сержант дергает подбородком и требует: «Слышь, уважаемый, а давай-ка ты руки из карманов вынешь».
Пацан делает, что ему велят, но выглядит все равно как-то мутно. Переминается с ноги на ногу, словно забыл отлить, причем с прошлой недели. И все головой вертит, будто ждет кого-то. Будто следом за ним в дверь вот-вот должны зайти. И мямлит жалобно: «Нельзя мне тут… увидеть могут…». Стоит вроде на месте, руки висят, как макароны, а ниже пояса все ерзает. Прямо как танцор «Риверданса». Или как порноактер – у этих тоже зад ходит туда-сюда, а рука, которая со стороны камеры, вечно повисает как парализованная, и еще отведена так чуть назад, будто хочет сбежать со стыда.
Дежурный сержант командует: «Выкладывай, что в карманах». И кивает в сторону, где у них пункт досмотра – рамка, стол, пластиковый ящик, все как в любом аэропорту.
Пацан, наш бдительный гражданин, выуживает кошелек и телефон, кладет в ящик. После долгих колебаний снимает и отправляет следом темные очки. Глаза бегают – голубые глаза под испуганными бровями. Такая мимика скоро обеспечит ему ранние морщины.
Раздается хлопок. Похоже на выстрел – то ли прямо в полицейском участке, то ли снаружи. Хлопок приглушенный, так что, наверное, все-таки снаружи. Пацан вздрагивает. Точно выстрел.
Детектив первым делом спрашивает: «Сынок, ты не под кайфом?»
У пацана такой вид, как будто он увидел голым кого-то совсем не того. Типа катил себе по улице на велосипеде, объехал со спины, оглянулся, а там… У него срывается голос, и, пуская петуха, он требует: «Кошелек мне верните».
А детектив ему: «Нет, ты погоди. Ты о чем сообщить-то хотел? О планируемых покушениях?»
А пацан такой: «А вы что, уже знаете?!»
Детектив спрашивает, кому он успел рассказать.
А этот полезный член общества ему честно так: «Только ребятам своим».
Детектив возвращает кошелек, очки, ключи и телефон и просит позвонить или написать ребятам и убедить их немедленно прийти сюда, в участок. И улыбается. «Если не очень торопишься, я могу ответить на все твои вопросы. Но не здесь». И многозначительно так смотрит на потолок, где камера висит.
А потом он ведет пацана, этого очередного спасителя Америки, по бетонному коридору, по пожарным лестницам, через железные двери с надписью «Посторонним вход воспрещен». Отпирает неприметную дверь ключом и распахивает настежь.
Ребята пишут пацану, что они уже едут, пусть он не боится, они скоро.
За дверью темно и воняет. Воняет так, словно канализацию прорвало. Пацан заходит. Ребята пишут, что они уже в участке.
И вот теперь будет самая мякотка. Детектив включает свет. И доносчик наш, не в меру активный гражданин видит посреди комнаты гору окровавленных шмоток. И руки торчат из каждого рукава. Только шмотки, обувь и руки, потому что головы все всмятку.
Откуда-то из-за стен слышится приглушенный голос, он вещает: «Единственное качество, которое поистине объединяет нас, – это желание объединиться…»
Пай-мальчик наш в ужасе поворачивается к детективу, ища помощи, и видит дуло, глядящее на него в упор.
* * *
Как только инженерно-поисковая служба заканчивает проверку на предмет труб и подземных кабелей, дают команду начинать рыть. Пригнали экскаватор из «Спенсерз Рентал», с самым большим ковшом.
Работа уже подходит к середине, и тут появляется он. Вышагивает через спортивные поля. Не студент – слишком стар для студента. Скорее преподаватель. Штатный профессор. Ему больше всех надо везде сунуть нос. У профессора хлопковые индийские штаны на веревочке, носки и сандалии. На футболке надпись: «Феминизм – это я», под мышкой зажато нечто, скрученное в рулон. Плюс седая бороденка и очочки, куда ж без них. Подойдя достаточно близко, чтобы его услышали, он машет рукой и кричит:
– Чудный день для труда на свежем воздухе!
Да, еще у него хвост. Башка сверху лысая, а пониже уцелевшие седые патлы собраны в хвост, длинный, до лопаток. И серьга блестит в ухе – здоровенный сверкающий на солнце бриллиант.
По регламенту требуется прямоугольник девять метров на девяносто, три с половиной метра в глубину, дно ровное с полуметровым слоем глины, сверху проложить еще полиэтиленом, чтобы ничего не протекло в грунтовые воды. Точка выбрана в соответствии со стандартами – не менее четырехсот пятидесяти метров от любых источников питьевой воды или открытых водоемов. Регламент един по всей стране и совпадает с инструкциями по рытью накопителей для промышленных сточных вод, разве что требования к водоупорному подстилающему слою у экологов в этих случаях пожестче.
А что там у профессора за рулончик под мышкой? Ну разумеется, коврик для йоги!
И вот это ученое светило интересуется у пролетариев светским тоном:
– Так что же вы, господа, тут затеяли?
А Руфус ему такой:
– Благоустройство кампуса. Долгосрочная подземная парковка для преподавательского состава.
Серьезно так говорит, не ржет – и как только ему удается?
Нэйлор не выдерживает, прикрывает рот кулаком и пытается выдать смех за кашель. Остерманн бросает на него злобный взгляд.
А профессор такой:
– Зовите меня Бролли. Доктор Бролли.
И руку тянет, только никто как-то не спешит ее пожать. Нэйлор смотрит на Вайса. Руфус сосредоточенно листает толстую кипу бумаг, закрепленную на планшете. Наконец зависшую в воздухе руку жмет Остерманн.
Руфус перелистывает страницы, бубня под нос: «Бролли… Бролли…» и ведя пальцем по какому-то бесконечному списку.
– Вы читаете курс под названием «Тяжелое наследие привилегированного евроколониального культурного империализма»? – уточняет он.
Профессор смотрит на стопку бумаги, еле умещающуюся под зажимом планшета, и Руфусу такой:
– Позвольте узнать, что у вас в руках? Где это фигурирует моя фамилия?
А Руфус ему, не моргнув глазом:
– Да так, исследование одно. О загрязнении окружающей среды.
Нэйлор и Вайс гогочут в открытую, придурки. Отворачиваются спиной, чтобы проржаться и сделать приличное выражение лица, но все равно так и трясутся от смеха, и Остерманн рычит им:
– Заткнитесь, уроды!
Профессор весь красный под своей бороденкой. Перекладывает коврик под другую руку и говорит:
– Я интересуюсь вашими действиями лишь потому, что состою в университетском комитете по борьбе с землеповреждением.
Руфус смотрит в свои бумажки и подтверждает:
– Ага, тут написано «вице-председатель».
Нэйлор уходит под предлогом напомнить экскаваторщику про уклон. С запада должен быть уклон, с той стороны будут заезжать самосвалы. Не хватало еще, чтобы грунт осыпался под таким весом.
Опершись на лопату, Вайс кивает профессору.
– Крутая у вас футболка.
Тот поднимает запястье и подчеркнуто смотрит на часы. И заявляет такой:
– Я все еще не получил четкого ответа, чем именно вы тут занимаетесь.
А Руфус ему, не отрываясь от бумаг:
– Кабинет у вас по-прежнему в здании Принца Люсьена Кэмпбелла на шестом этаже? Информация актуальная?
Профессор обалдело моргает. Вайс любуется серьгой в его левом ухе.
– А брильянт настоящий?
Край ямы на футбольном поле начинается с зеленой травки. Под ней виден тонкий слой темно-коричневой почвы. Дальше подпочвенный слой, а ниже – древнейшая история, до самых динозавров. На башне в главном здании университета звонит колокол – пробило четыре часа.
Профессор подходит к самому краю, опускается на одно колено, заглядывает. Под ним сырая земля в яме, которая глубже бассейна. Глубже подвала. В яме земля и черви. Уходят вниз вертикальные стены в полосах от зубцов экскаваторного ковша, осыпаются на дно мелкие комочки.
Профессор свесился вниз, ему и невдомек, что он видит. Может, он высматривает древние окаменелости. Тупой, как хряк, которого ведут на бойню. Не улавливает очевидного, но ищет следы исчезнувших цивилизаций. Глядя прямо в ту самую черную тьму, существование которой всю жизнь старательно игнорировал.
* * *
Фруктовые колечки прилипли к коже, как радужная короста. Он снимает с предплечья красненькое, клубничное и отправляет в рот. На предплечье остается круглый красный след, как татуировка. Прямо-таки разноцветный леопард.
Этим утром Ник просыпается, а в кровати рассыпано содержимое коробки готового завтрака «Фрут-Лупс». Постельное белье у него с узором из спасательных кругов, они очень похожи на колечки, прилипшие к спине. Ник шарит рукой по полу, ища телефон, и пытается вспомнить, чем закончился вчерашний вечер.
На экране сообщение: «Награда за информацию». Доставлено в пять минут первого. Ник пытается написать в ответ. Номер заблокирован.
Он не успевает даже вылезти из постели, как телефон начинает пиликать. На экране надпись: «Номер скрыт».
– Слушаю.
– Николас?
Голос мужской. Не Уолтер. И не отец. Низкий и сиплый, но вроде культурный. Ни одна живая душа не зовет Ника Николасом.
– Нет, я его друг, – врет Ник, мечтая поскорей пойти отлить. – Ника нет дома.
– Разрешите представиться, – сипит голос. – Мое имя Толботт Рейнольдс. Вы, по случайности, не знаете, где мне отыскать Шасту Санчес? Это дивное и обольстительное создание.
– Понятия не имею, – снова врет Ник.
– Знакомы ли вы с прелестницей мисс Санчес?
А Ник такой, не моргнув глазом:
– Не-а.
– Не связывалась ли с вами на днях полиция или некий Уолтер Бэйнс?
Ник начинает понимать. Уолтер. Долбаный придурок Уолт. Безнадежный лузер, с которым вечно происходят всякие катастрофы – и именно Нику приходится расхлебывать последствия. Когда Уолтер обдолбался солями и решил отгрызть себе руку, конечно же, в травмпункт его тащил Ник. И это еще фигня, а что было, когда Уолт хотел присунуть той смазливой сатанистке!.. Даже не пытаясь скрыть раздражение, Ник заявляет:
– Не слыхал о таком.
Голос в трубке звучит гулко, как из бочки. Словно этот Толботт звонит откуда-то из-под земли.
– Смею вас заверить, что я весьма обеспеченный гражданин, который готов щедро вознаградить вас за любое содействие.
Ник шарит рукой по простыне, пока не нащупывает маленький кругляшок – таблетку флексерила, десять миллиграмм. Рефлекторным движением, не глядя, отправляет ее в рот и прожевывает без запивки. Если этот хрен звонит насчет наркоты, возможны проблемы. Обстоятельства вчерашнего вечера в голове Ника по-прежнему довольно туманны. И на телефоне он висит уже достаточно долго, чтобы его местонахождение определили. Достаточно долго, чтобы в любую секунду мог раздаться настойчивый стук в дверь.
– Нику что-нибудь передать? – спрашивает он, понимая, что пора закругляться.
– Передайте ему, чтобы не ходил в полицию, – отвечает Толботт и после едва заметного колебания добавляет: – Скажите ему, что через пару дней все разрешится.
Уже чувствуя, как расслабляются мышечные зажимы, Ник выдает:
– Во что Шаста впуталась на этот раз?
А сиплый аристократ Толботт немедленно интересуется:
– Позвольте узнать ваше имя?
Ник обрывает звонок. Выскакивает из постели, осторожно глядит в щелку между шторами. Под окнами пока никого не видно.
Ник снимает с локтя зеленое колечко, жует, погрузившись в размышления. Отключает в телефоне геолокацию, потом для верности вытаскивает батарею.
* * *
В торговом зале поставили ряды складных стульев, но мест все равно не хватило, и народ толпится вдоль стен. Все происходит в магазине товаров для охоты и рыбной ловли – огромном, с обустроенным внутри водоемом, чтобы ловить форель на удочку. Только время уже позднее, магазин закрыт, искусственные водопады отключены, форель загнали по аквариумам в подсобных помещениях, так что ручей в плексигласовых берегах стоит пустой. Звуковое сопровождение тоже выключено: не заливаются трелями певчие птицы, не трубит благородный олень – мать-природа отработала смену и ушла домой.
Бинг и Эстебан осматривают толпу. В основном черные братишки. Сборище джамалов. Армия волков-одиночек.
В дальнем конце зала сидит тот хрен из качалки – Колтон, или как бишь его там. С ним рядом его «плюс один» – то ли Пегги, то ли Полли.
Перед собравшейся толпой выступает человек.
– Поднимите руки, кто знает, зачем собакам купируют уши? – спрашивает он.
И, не дав никому ответить или хотя бы руку поднять, начинает разглагольствовать о древних пастухах, подрезавших уши щенкам. В целях борьбы с инфекциями. Чтобы волку было не за что ухватиться. Резали ножницами для стрижки овец, жарили обрезки ушей на огне и скармливали тем же собакам – чтобы злее были.
– А многие ли из вас, – спрашивает, – знакомы с ассирийскими законами?
Среди собравшихся таких не находится. Тогда он восклицает, делая резкий шаг вперед:
– По вавилонским законам Хаммурапи преступникам отрезали уши!
Выступающий подтверждает свой тезис тем, что уши резал и король Генрих Восьмой вагрантам, и сограждане-американцы – мятежникам и совершившим преступления против морали, аж до 1839 года.
– В общем, – заключает он, – совсем не удивительно, что на протяжении веков наемные убийцы предъявляли именно отрезанные уши для получения платы.
Бинг поднимает руку и говорит:
– Небось кровищи…
Оратор мотает головой.
– Кровищи будет немного, если… – Тут он поднимает указательный палец. – …если ухо срезать с трупа.
Дальше, по его словам, получается так. Главное преимущество скальпов в том, что они мало весят и легки в транспортировке. Недостаток в том, что дело это неопрятное. Та же история с сердцами: их вырезание – процесс долгий и трудоемкий. Уши в этом плане идеальны. Места занимают мало, спрятать легко. Сотня ушей запросто поместится в обычный бумажный пакет. Левых ушей – отрезать нужно именно левые уши. Такой пакет будет эквивалентом трехсот тысяч голосов. Можно сказать, это целая политическая партия.
Оратор поворачивается в профиль и предлагает слушателям:
– Ну-ка держите.
Он имеет в виду свое ухо. Эстебан глядит по сторонам. Желающих нет. Тогда он подходит и берется за ухо. Оно теплое и мягкое.
– Потяните как следует, – приказывает оратор.
И начинает перечислять требования. Принимаются только левые уши. Все слышали? ЛЕВЫЕ! Только уши из списка. Будет проводиться ДНК-анализ случайных ушей из каждой партии; если обнаружится подлог, мошенника ждет смертная казнь. Уши не подлежат продаже и обмену, сдать их и получить голоса может лишь тот, кто лично их собрал. Все это перемежается бесполезными фактами – например, что наградой тореадору после эффектного боя служит ухо быка. Или что через уши происходит излучение тепла организмом.
Эстебан стоит и держит в руке ухо, как наличные деньги.
– К тому же, – продолжает оратор, – уши – штука прочная. Даже при попадании в голову ухо, скорее всего, уцелеет, хоть для его добычи и придется немного поковыряться. – И, повернувшись к Эстебану, распоряжается: – Можете отпустить мое ухо и вернуться на место.
В общем, как объясняет этот тип, ушная раковина состоит из эластичной хрящевой ткани и соединительной оболочки – перихондрия, по которому поступают кровь и лимфа. И режется это все проще, чем покрышка. Удобнее всего отсекать сверху вниз – от завитка раковины к мочке.
– Если вы в состоянии порезать автомобильную покрышку, вы и с ухом справитесь, – заверяет он.
И углубляется в технические детали. Лучше использовать нож с фиксированным четырехдюймовым лезвием – прямым, не серрейторным. Хвостовик должен быть полный, рукоять, упаси бог, не кожаная, деревянная или костяная. Только полимер, чтобы в руках не скользил.
Продавать товары для охоты этот человек умеет, такова его работа.
Выбирать надо высокоуглеродистую сталь. Неполный хвостовик не подходит, такие ножи имеют свойство ломаться. Складные – тоже. А если цель добыта, а ухо снять нечем, все усилия пропадут зря.
– Нет, можно, конечно, обойтись и кухонными ножницами, только приятно ли будет ими потом курочку разделывать?
– Вот-вот! – подтверждает Эстебан.
В зале смеются.
В общем, Эстебан на месте все продумал. Они станут королями-воинами. Мало кто из этих людей решит объединить силы. Они тут все по натуре фрилансеры, «свободные копейщики», наемные рыцари. Наверняка большинство решит действовать самостоятельно – сам обнаружил цель, сам убил, сам ухо срезал. Это разные задачи, переключение между ними будет отнимать время. Эстебан считает, что гораздо эффективней будет разделение труда. Бинг у него настоящий снайпер. Бинг снимает цель – Эстебан снимает ухо. Получится идеальный тандем. Вместе они заложат основы великой династии, которая станет править вечно.
Для них обоих Ссудный день – последняя возможность сделать в жизни что-то значимое.
Это будет как восстание Ната Тернера. Как захват арсенала Джоном Брауном. Грядет новый крестовый поход – Поход Одного Дня, – и они получат награду, сравнимую с поместьями и титулами, которые пожаловали крестоносцам. Награду, которая долговечнее земли и денег. Они возьмут в супермаркете бумажный пакет, набьют его ушами и займут место в истории. Эстебан, Бинг и все их потомки встанут во главе самой могущественной нации в грядущих веках.
Сев на место, Эстебан достает из кармана куртки бумажную салфетку и тюбик какао-масла. Теперь он высший хищник. Раз уж он решил распрощаться с жизнью, где ему доставались объедки да обноски, пальцы его не должны вонять ушной серой этого хрена с трибуны.
* * *
Шаста не оборачивалась. Она привыкла, что парни в колледже ходят за ней хвостом по коридорам, беззастенчиво пялясь на ее плавные обводы, насилуя ей уши криками: «Перепихнемся, Шаста?». «Как ты больше любишь кончать, Шаста?» – орали ей горластые придурки.
Кто-то дернул ее за дреды.
– Шаста! Пусти меня под ковер!
Шаста обернулась, надеясь увидеть Уолтера. Голос был очень похож. Но нет, за спиной у нее оказался какой-то торчок, у которого изо рта несло пережженной грошовой травой. Торчок кинулся на нее, вытянув губы трубочкой и высунув язык.
– Я буду скучать по тебе, Шаста!
Она увернулась, не дав схватить себя за жопу, и растерянно пролепетала:
– Чего по мне скучать, куда я денусь…
А потом сообразила: она-то никуда не денется, а вот этот бедный обдолбыш очень даже.
И он, и все остальные пацаны, с которыми она учится в колледже, очень скоро умрут страшной, мучительной, чудовищной смертью.
Бедный укурок. Бедные, бедные мальчики…
Все их похабные слова и действия Шаста не воспринимала всерьез. Даже когда ее пытались ущипнуть за обтянутый легинсами зад. Она-то знала наверняка – парни хорохорятся от страха.
Доктор Бролли, профессор, который преподавал у них в Орегонском университете современную политику, все объяснил. Знакомство со своим предметом он начинал с модуля по книжке одного немца. В книжке этой заслуженный-простуженный академик по имени Гуннар Хайнзон убедительно втирает, что все крупные политические потрясения коренятся в единственном демографическом явлении – избытке молодых людей мужского пола. Ученый фриц окрестил этот феномен «молодежным бугром». И было совершенно очевидно, что профессора Бролли эта идея приводит в экстаз. Если тридцать процентов населения вашей страны составляют мужчины от пятнадцати до двадцати девяти лет, вы в зоне риска!
А если эти мужчины еще и не голодающие и мало-мальски образованные, они непременно начнут грызню за статус. Тут-то все и завертится. По мнению герра Гуннара, тот, кому жрать нечего, за социальным признанием гнаться не будет. Ну и те, кто не умеет читать, в жизни не догадаются, что в мировой истории они никто. А вот если юнцы накормлены и грамоте обучены, тут молодежный бугор превращается в волчью стаю алчных до признания самцов.
Любимым примером доктора Бролли был 1484 год в Испании, когда римский папа Иннокентий Восьмой назначил смертную казнь за любые формы контрацепции. Среднее количество детей в испанской семье тут же скакнуло с двух до семи. Наследство полагалось только первенцу мужского пола. Девочки в те времена вообще мало на что могли в жизни надеяться. А вот мальчики… лишние мальчики желали статуса, власти, признания, места в социальной иерархии. Именно «вторые сыны», называвшие себя secundones, хлынули в Новый Свет со вторым плаванием Христофора Колумба, именно из них сложились легионы конкистадоров, поработившие несчастные племена ацтеков и майя.
Если верить Википедии, Гуннар Хайнзон родился в Польше в 1943 году. То есть теперь был уже суперстар, песок сыплется. Поэтому по части привлекательности Шаста оценивала его на трояк – несмотря на пафосную европейскую фамилию и тот факт, что он блондинчик.
Доктор Бролли утверждал, что на всем протяжении человеческой истории такие вот состоящие из юных горлопанов молодежные бугры свергали правительства и развязывали войны. В XVIII веке во Франции резко увеличилась численность населения, цены на продовольствие поползли вверх, начались бунты; слово за слово, разгулявшиеся молодцы скинули аристократию Людовика Шестнадцатого и отчекрыжили Марии-Антуанетте венценосную башку. Та же история и с большевицкой революцией – ее устроил поток лишних крестьянских сынков, на чью долю не хватило земли под распашку. В тридцатые годы XX века «молодежный бугор» возник в Японии и учинил Нанкинскую резню. На гребне такой же волны поднялся Мао Цзэдун в Китае.
Шаста внимала профессору с большим интересом. Получалось, что все самые ужасные события происходили от переизбытка молодых и горячих потенциальных бойфрендов.
Если верить Совету по международным отношениям, в период от 1970-го до 1999-го восемьдесят процентов гражданских столкновений происходило в государствах, где люди до тридцати лет составляли шестьдесят процентов населения! Сейчас в мире насчитывается шестьдесят семь стран с «молодежным бугром», и в шестидесяти из них отмечаются высокие показатели социальной напряженности и уровня преступности.
И словно вторя профессору Бролли, мисс Петтигроув, которая вела у них «Общие вопросы гендера», вещала с кафедры о том, что всякий конфликт, сокращающий численность мужского населения, повышает социальную ценность мужчин. Лишившись роскоши выбора, женщины превращаются в голодных кошек и выстраиваются в очередь к любому обладателю хера в штанах.
В общем, не требовалось большого ума, чтобы понять мужскую часть студенческого корпуса в университете Орегона. Мальчики изо всех сил демонстрируют браваду, в глубине души пряча страх. Буквально на днях Соединенные Штаты должны ратифицировать объявление войны с Ближним Востоком. В том регионе вздымается своя масса горячих юношей, а Штатам надо как-то справляться с амбициями и гиперактивностью миллениалов – вероятно, самым крупным молодежным бугром в истории.
Мисс Ланахан на лекции по предмету «Динамические процессы в живой природе» показывала фильм, снятый борцами за этичное обращение с животными. На документальной съемке работники птицефабрики осматривали цыплят – крошечные, только что вылупившиеся умильные комочки. Маленьких курочек отправляли под греющие лампы к кормушке, а вот маленьких петушков безжалостно сбрасывали в темную трубу, как в мусоропровод. Набивали полный контейнер живой, пищащей, борющейся за жизнь биомассы, а затем подъезжал автопогрузчик, поднимал контейнер на вилы и вез на голое сельскохозяйственное поле. Там цыплят – и живых, и мертвых – закатывали в землю комбайном в качестве удобрения почвы.
Сотни крошечных желтых пушистиков с пасхальной открытки, только что явившихся в этот мир, замерзших, перепуганных, пища ковыляли по распаханному полю и гибли под чудовищными лезвиями и гусеницами огромного комбайна. Однокурсники Шасты наблюдали за этим с хохотом и улюлюканьем.
Разумеется, не потому, что им было так смешно, а потому что в этих цыплятах они видели себя.
Вот как прикажете им всерьез заниматься бальными танцами на уроках физического развития и скрапбукингом на уроках художественного, когда правительство одним росчерком пера готовится оборвать их жизни?
Собственно, именно так политики всегда и поступали с избытком мужского населения. У Шасты от этих мыслей сердце кровью обливалось. Все парни как один – и быдловатые качки, и обдолбанные торчки, и унылые задроты, – все они очень скоро будут пущены в расход. Завтра Америка объявит войну – и досвидос, миллениалы, здравствуй, новая стабильность патриархата!
Сейчас пацаны собачьей свадьбой преследуют Шасту по коридорам, пытаются дернуть ее за бретельку лифчика и рассказывают, как именно они бы ей вдули. Каждый из них уже взят на военный учет. Большинство отправят в зону боевых действий и там вдуют пулю промеж ребер.
Когда их выходки начинали совсем уж действовать на нервы, Шаста напоминала себе, что скоро этих бедняг закатают гусеницами в бесплодные дюны на Ближнем Востоке вместе с тамошними собратьями по несчастью, такими же громогласными и лишними. Шаста будет корпеть над учебниками, а они пойдут служить по призыву. Танки и мины будут заживо превращать их прыщи и мышцы в фарш – прямо как тех цыплят, единственным преступлением которых была нежелательная гендерная принадлежность.
Шасте же следует учиться, получать степень в общественных науках и жить богатой долгой жизнью. И в День памяти обязательно надевать значок с красным маком.
Кто-то прямо над ухом прошептал:
– Шаста…
Она развернулась, готовая к обороне, однако защищаться не потребовалось. Это был Ник. Ее бывший парень. Ник, который отчислился в конце первого семестра на том основании, что нет необходимости изучать физику и матан для успеха в карьере пушечного мяса. Шаста ему обрадовалась.
Ник ей тоже – по крайней мере, почти улыбнулся. Но прежде чем между ними успела возникнуть какая-то романтическая неловкость, он задал вопрос:
– Уолтера давно видела?
Уолт был ее нынешним бойфрендом. Учебу он тоже бросил, работал теперь в «Старбаксе», пытаясь взять все от оставшегося ему сладостного кусочка жизни. Шаста не видела его уже давно. С того самого дня, как он вдруг понес какую-то чушь о массовом народном заговоре против властей.
– Короче, – быстро продолжил Ник, – если полиция спросит, меня тут не было. – Он уже увлекал Шасту за руку в сторону чулана под лестничным пролетом в южном крыле. – Шаста, лапочка, нам надо поговорить. – Нежно отведя дреды с ее лица, он заверил: – Честное слово, я не собираюсь тебя насиловать.
И Шаста позволила утащить себя в чулан.
* * *
Грегори Пайпер получил приглашение на второй этап проб. Его агент был в восторге.
Сюжет предлагаемого произведения разворачивался в недалеком будущем, в неком утопическом государстве воинов и благочестивых дев, и Пайпер пробовался на роль монарха по имени Толботт Рейнольдс. Толботт был чист и непогрешим; подобно святому возвышался он над массой простых смертных. Вроде это была главная роль в пилотном эпизоде нового телесериала.
Разумеется, сериал обещал быть низкопробным, а персонаж – совершенно картонным. Пайпер про себя, конечно, вздыхал, но что ему еще оставалось? Все-таки хоть какая-то возможность поработать лицом. Он ведь почти год не мелькал ни в единой телерекламе, не был занят даже в озвучании какого-нибудь мультика. Меж тем квартира сама себя не оплатит.
Пайпер был готов пожертвовать карьерными амбициями и браться за унылые независимые постановки. Сниматься в пилотных сериях проектов, на которые не позарится ни один канал. Ходить на задних лапках перед едва доучившимися гениями авторского кино, которые не способны отличить рисующий свет от светофильтра и снимают свои опусы на деньги с легализованной марихуаны. Пайперу вечно приходилось корректировать им постановку мизансцен, объяснять простейшие вещи оператору, учить режиссера, как создавать контрнарратив через размещение героев в кадре.
Надо сказать, сегодняшняя рабочая группа в этом плане пробила дно даже на фоне прежних отбросов Голливуда. При рукопожатиях Пайпер оцарапал ладонь об их шершавые клешни. От них разило потом. Во время проб они хлебали пиво из банок и громогласно препирались о достоинствах и недостатках каждого соискателя. Под ногтями у них была чернота, по неулыбчивым, обожженным солнцем лицам пролегли глубокие морщины, с которыми даже никак не пытались бороться, хотя бы филлер вколоть…
Кастинг-директора звали Клем. Да, просто Клем, без фамилии. На костяшках его пальцев бурели коросты засохшей крови, и вообще он больше напоминал главу рабочего профсоюза, чем представителя киноиндустрии. Пожимая Пайперу ухоженную руку, Клем сунул ему сценарий и похвалил то, как ему удалась роль Рональда Рейгана. Пайпер действительно когда-то снялся в документальной ленте кабельного канала об убийстве президента. Клем тряс его ладонь и выражал свои восторги:
– Круто вы смотрелись, очень круто! Вот прям собрали кишки в кулак и не умирали два часа!
Затем подошел человек со сломанным носом. По обе стороны его лысой головы торчали изуродованные уши, похожие на цветную капусту. Человек представился ведущим оператором и назвал себя Ла-Манли. Вероятно, прозвище – фамилий у них никто не использовал. У Ла-Манли был чикагский выговор и свастика, наколотая на бычьей шее. Оглядев Пайпера с головы до ног, он пробормотал:
– Зачетный прикид.
На пробы велели явиться в костюме и галстуке, как положено лидеру свободного мира. Волосы полагалось иметь причесанные, туфли начищенные. Пайпер подошел к выполнению этих требований со всей серьезностью и облачился в свой лучший однобортный костюм, сшитый по мерке на Сэвил-Роу. И после быстрой оценки конкурентов пришел к выводу, что роль может получить за счет одного костюма. Собственно, конкурентами были сплошь вышедшие в тираж герои-любовники – красавцы, на протяжении всей карьеры выезжавшие на волевом подбородке и мужественном профиле. Деревянные спецы по деревянным персонажам – судьям, адвокатам, семейным врачам.
Назвали его фамилию, и Пайпер встал на точку перед камерой. Рядом с оператором на треногу был водружен большой лист бумаги, на котором от руки значилось: «Прочесть следующее» – и ниже много строчек в виде маркированного списка. Помощник режиссера смотрел в видоискатель, настраивая фокус. Жестом он дал Пайперу указание сделать полшага в сторону. Когда он склонился над камерой, клетчатая фланелевая рубашка на нем распахнулась, обнаружив под собой грязную майку-алкоголичку и пистолет в портупее.
Как пистолет, он наставил на Пайпера кургузый указательный палец и дал команду начинать. Его подельники сидели рядом за столом и наблюдали запись на мониторах.
Пайпер включил Рейгана и начал:
– Сограждане! Я обращаюсь к вам от лица вашего нового правительства, которое ныне возглавляю.
Секрет самого лучшего Рейгана в том, чтобы постоянно сохранять в голосе едва различимую картавость.
– На протяжении всей человеческой истории власть являлась тем, что необходимо заслужить.
Второе правило Рейгана: паузы важны не менее, а то и более, чем слова.
– Власть всегда была наградой тому, кто способен продемонстрировать силу. Лишь самые достойные из воинов могли увенчать себя короной.
Пайпер на миллиметр опустил подбородок.
– Ныне же политика превратилась в борьбу за одобрение масс.
Он с презрением глядел в камеру исподлобья, зрачки наполовину скрылись под надбровными дугами. Теперь это были глубоко посаженные глаза пещерного человека, грозно взирающие из темных провалов глазниц.
Пусть конкуренты в очереди заодно и поучатся, им полезно. В свое время Пайпер играл короля Лира. Он играл Моисея.
– В наши дни лидеры привыкли лебезить и пресмыкаться ради обретения власти, не сражаться за нее.
Пайпер сделал паузу, чтобы слушатели прониклись смыслом его слов.
– С начала Промышленной Революции…
Какой неудачный переход. Грамотный спичрайтер сделал бы более гладкую подводку, но знающий свое дело актер умеет вытянуть текстовые огрехи. В данном случае достаточно лишь повторить открывающую фразу.
– С начала Промышленной Революции глобальные силы ведут стандартизацию человечества.
Даже не прерывая зрительного контакта с камерой, он почувствовал, что получилось удачно. Кастинг-директор закивал и черкнул что-то в распечатке сценария. Продюсер и сценарист переглянулись и приподняли брови. Все слушали не дыша, никто не подергивал ступней в нетерпении, никто не барабанил пальцами по столу. Даже кастинг-директор перестал жевать пончик.
– От рождения мы с вами жили под тиранией стандартизованных часовых поясов, мер длины и температуры, норм этикета и одобряемого поведения…
Многоточия в тексте не было, Пайпер добавил его от себя – чтобы усилить эффект от следующей фразы.
– … и эти универсальные нормы украли у нас жизнь.
Тут Пайпер улыбнулся, обозначая начало новой смысловой части. Он следил за тайм-кодом на экране камеры. Текст полагалось произнести за четыре минуты, и Пайпер был намерен уложиться в заявленное время с точностью до секунды.
– Сегодня героизм наших соратников освободил нас от давней тирании общепринятых норм.
Каждое слово он произносил веско, растягивал, смаковал, добиваясь эффекта рузвельтовских «бесед у камина».
– Отныне эти герои, что проявили себя достойнейшими, и будут править народом!
Пайпер добавил в тон снисхождения, капельку надменности оратора в Гайд-парке, пренебрежения к мелким страхам, которые может испытывать аудитория. Теперь следовало возвысить голос и закрепить эффект помпезностью Джона Кеннеди.
– Наши новые лидеры – это воины, освободившие нацию! Они поведут нас и наших потомков в свободное будущее!
Слова не имели никакого смысла, но в смысле и не было необходимости. Требовалось лишь вызвать у слушателей эмоциональный подъем.
– В этот великий день…
Голос Пайпера звучал так, словно исторгался из гранитных уст горы Рашмор. Как Геттисбергская речь, отголоскам которой суждено было застыть в веках.
– В этот великий день мы отвергаем тупое уравнивание, навязываемое глобальными стандартами. Мы посвящаем жизнь… – Пайпер сделал паузу, словно бы от переполняющих его эмоций, – … восстановлению своего суверенитета и идентичности!
Хороший актер всегда четко следует сценарию.
Великий актер умеет импровизировать так, чтобы донести заложенную в тексте мысль еще эффективнее. Пайпер пошел ва-банк: импровизация либо убьет всякую надежду на эту роль, либо станет железной гарантией ее получения.
Обратив на камеру яростный взгляд Линдона Джонсона, Пайпер выдал фразу, которой в сценарии не было:
– Для создания того, что будет иметь ценность вечную, прежде мы должны создать самих себя. – И, глядя прямо в объектив, закончил: – Благодарю вас.
Четыре минуты ровно.
Аудитория разразилась овациями. Вся съемочная группа повскакивала с мест и выражала одобрение люмпенскими методами – свистом, улюлюканьем и топотом тяжелых ботинок. Даже конкуренты Пайпера, сидевшие поодаль в ожидании своей очереди, нехотя аплодировали его триумфу.
Мордатый кастинг-директор кинулся к Пайперу с улыбкой от уха до уха и хлопнул его лапищей по спине.
– Ну вы даете! Ваше про «создать себя» – просто блеск! – Он сунул Пайперу распечатку. – Пока не уходите. Вот это еще прочитайте на камеру, будьте добры!
Пайпер взял из его шершавой, покрытой шрамами клешни квадрат белого картона, на котором значилась единственная фраза. Вернув карточку, Пайпер поднял суровый взгляд на объектив и провозгласил:
– Не пытайтесь его найти. Списка не существует.
– Дальше! – потребовал кастинг-директор.
Пайпер прочел следующую карточку:
– Улыбка – лучший бронежилет.
Периферийным зрением он видел, что вокруг суетится фотограф.
Голос кастинг-директора:
– Дальше! Снимаем!
Сузив глаза, Пайпер глубокомысленно изрек:
– Великое бесконечно сражается, утверждая себя в наших глазах.
Он делал все возможное – учитывая, что работать приходилось вообще без контекста.
– Мира и стабильности требуют те, кто уже прибрал к рукам всю власть.
Его заставили много раз повторить подобные ура-патриотические слоганы, так что он выучил их наизусть и декламировал без бумажки.
Когда слоганы кончились, Пайперу вручили большую иссиня-черную книгу, по формату напоминающую глянцевый художественный альбом. Только на обложке не было никаких иллюстраций, а значилось лишь название золотыми буквами: «Ссудный день». Автор – Толботт Рейнольдс. Его персонаж. Фотограф заснял Пайпера с раскрытой книгой со всех возможных ракурсов.
Никто уже не аплодировал, но Пайпер чувствовал от съемочной группы глубокое, молчаливое одобрение. Напоследок кастинг-директор попросил его прочесть фрагмент с первой страницы.
Пайпер открыл ее. Сверху крупным шрифтом было напечатано:
«Декларация взаимозависимости».
* * *
Никто не протестует. По-хорошему Национальной аллее от Капитолия до монумента Вашингтона полагается быть забитой народом. Многомиллионные орды антивоенных демонстрантов должны тесной кучей топтаться на месте, размахивая плакатами и скандируя лозунги. Телефонам в кабинете сенатора Холбрука Дэниэлса на пятом этаже третьего офисного здания Сената следовало бы непрерывно разрываться.
Телефоны молчали. Персонал ожидал волны гневных писем – ни одно не упало в электронный ящик.
Нет, под окнами у сенатора Дэниэлса не было никакого движения – кроме разве что небольшой группы строительных рабочих, роющих какой-то котлован. Шириной он был примерно с олимпийский бассейн и длиной с два бассейна. Причем рыли они прямо на лужайке между Ферст-стрит и входом в Капитолий. Сенатор наблюдал за копошением плебеев, сидя в кожаном кресле под кондиционером в приватном кабинете, обставленном на деньги налогоплательщиков. Наблюдал почти с жалостью. Даже если их самих не отправят умирать на войну, отправят их сыновей. Сыновей, внуков, племянников. Учеников и сослуживцев. Весь избыток мужского населения.
До голосования по Национальной военной резолюции оставались считаные дни. Разгневанные американцы должны бы уже вовсю стучать в его дверь. И все же… Тишина царила не только в кабинете сенатора, во всем здании было тихо, как в церкви. Ассистенты уже справлялись у админов и в телефонной компании – интернет работает без перебоев, номера подключены.
Сенатор Дэниэлс мог лишь предположить, что американское общество слишком раздроблено. Таковы издержки индивидуализма, возведенного в ранг национальной идеи. Никто не переживает за ближнего, которому велено перепоясать чресла и отправиться на верную смерть. Государственная пропаганда сделала свое дело на славу: к молодым мужчинам прочно приклеился ярлык внутреннего врага. Это они поддерживают и распространяют «культуру изнасилования», это они открывают стрельбу в школах, это из них получаются неонацисты, это они – паршивые овцы, от которых общество будет счастливо избавиться. Массмедиа со всем рвением выполняют госзаказ по демонизации юношей призывного возраста, так что почва для их устранения подготовлена.
До конца недели резолюцию о восстановлении воинской повинности примут единогласно. Два миллиона молодых людей будут подлежать немедленному призыву и отправке в зону конфликта в Северной Африке. Главы пары десятков других стран Западной Африки и Ближнего Востока снарядят туда столько же от себя.
По мрачным и вполне достоверным слухам, это будет самая краткая мировая война в истории. Едва комбатанты займут позиции вдоль фронта, их всех уберут одним термоядерным ударом. Ответственность за удар возьмет на себя несуществующая террористическая группировка, и стороны смогут отступить без потери лица. Война официально закончится «вничью».
Очередная «война, которая положит конец всем войнам».
Рабочие, меж тем, рыли на удивление споро. Обычно в округе Колумбия проекты по строительству и благоустройству реализовывались весьма неспешно и растягивались на годы: все-таки освоение бюджета – дело небыстрое. Может ли мотивация этих людей быть не только денежной?.. Сенатор Дэниэлс наблюдал, как вгрызается в грунт экскаватор, уже почти не видимый ему за растущей кучей земли.
Война планировалась давно – еще с той поры, когда миллениалы учились делать первые шаги. В Бюро переписи населения сразу поняли, что это будет самое многочисленное поколение в истории США. Ему предстояло вырасти здоровым и образованным и неминуемо возжелать власти и признания. Подобную динамику уже можно было наблюдать в таких странах, как Руанда и Кот-д’Ивуар – там избыток молодых мужчин привел к гражданским войнам, уничтожившим национальную инфраструктуру и отбросившим выживших за черту бедности.
Какое-то время американским властям удавалось держать эту пороховую бочку под крышкой, накачивая молодежь риталином. Далее к обеспечению мира и спокойствия подключились бесконечные онлайн-игры и порнография – отрасли, втайне финансируемые государством. Но несмотря на все усилия, миллениалы начали осознавать свою смертность. Им стало нужно нечто большее, чем одурманенное и оболваненное убийство времени.
Проблему с избытком молодых бузотеров требовалось решать. Без существенного сокращения их численности страну могла постигнуть участь Гаити и Нигерии. Американская версия арабской весны маячила прямо перед носом.
На совести миллениалов уже был резкий взлет насильственных преступлений в Чикаго, Филадельфии и Балтиморе. А также хакерские атаки с целью похищения государственной тайны. Новая война с целью избавления от «молодежного бугра» была совершенно необходима. Однако ее истинную цель обнародовать не следует, это может привести к революции – юноши будут защищать себя, старшее поколение кинется защищать сыновей… Нет, семьям достаточно знать, что их дорогие мальчики погибли героями. Пусть храбро идут в бой, как деды воевали, и не щадят живота ради мирного неба над головой своих соотечественников.
Сенатор наблюдал за взмыленными рабочими на полуденном солнцепеке. Летом на реке Потомак жарко и влажно. Он усмехнулся, подумав о том, что через пару недель женщин в стране станет существенно больше, чем мужчин. Феминизм загнется своей смертью, дамам придется вести себя очень хорошо, а тех, кто не готов прогибаться, ждут одинокая смерть и захоронение в желудках своих сорока кошек. Меньше социальных потрясений, больше доступных баб. Для сенатора Дэниэлса и ему подобных сплошной выигрыш.
Далеко внизу, под окнами рабочие суетились вокруг ямы, как муравьи. Как послушные роботы, исполняющие волю хозяина.
Сенатор наконец догадался, что именно они там делают. Это же очевидно. Готовят площадку для монумента павшим воинам – тем, кто еще жив, но к Хэллоуину будут мертвы. Весьма, весьма разумная идея. Над этой зловещей ямой будет воздвигнута конструкция в греко-римском стиле – пышная, как пирожное, со статуями, колоннами и прочими финтифлюшками, призванными повергнуть наблюдателя в эмоциональный катарсис. Очень разумно начать работы прямо сейчас, до объявления войны. Чем быстрее мы почтим мертвых, тем быстрее их можно забыть.
Дань памяти начали отдавать досрочно – еще до того, как получили свои повестки студенты, разносчики пиццы, пацаны на скейтах… Резец мастера уже высекает их имена в белом мраморе.
Вот теперь все встало на свои места. И сенатор Дэниэлс задремал в мягком кожаном кресле, убаюканный тихим гудением кондиционера и царящим вокруг безмолвием.
* * *
Отец говорил Фрэнки, что иногда пожарным приходится сжечь дом, чтобы спасти квартал. Получается вроде как встречный пал, если объяснять это по принципу тушения лесных пожаров.
Отец и сын ехали в белой машине со знаком пожарного маршала на заднем стекле и с красным маячком, только маячок сейчас не горел. Ехали мимо домов, разрисованных краской из баллончика, мимо домов с заколоченными окнами, мимо домов, от которых остались пустые бассейны подвалов, густо поросшие травой и молодыми деревцами.
Они направлялись к старой школе Фрэнки – он ходил туда до того, как его перевели на домашнее обучение. Теперь он учится, сидя на кухне за компьютером. С того самого дня, который его отец называет Последней Каплей.
В тот день на Фрэнки накинулись толпой во время большой перемены. Его завалили на пол и по очереди пинали ногами по голове. Этого Фрэнки уже не помнит, хотя учителя показали ему запись с камеры наблюдения и ролики, которые его одноклассники успели залить в сеть.
Отец, как обычно, вез с собой большое водяное ружье – самую навороченную модель со струей повышенной мощности и большой емкостью резервуара.
У пожарных есть специальный ключ, отец показывал. Такой ключ открывает все двери. Еще один вырубает любую сигнализацию. Насчет камер отец велел не беспокоиться. Вдвоем они прошли по всем коридорам, мимо шкафчика, в котором Фрэнки когда-то хранил вещи, мимо того места, где одни ребята прыгали по его лицу, а другие снимали это на телефоны. Следов крови, конечно, не осталось, их давно оттерли.
Как обычно, отец щедро залил из ружья все вокруг – каждую доску с объявлениями, каждое школьное знамя. В коридорах теперь пахло как на заправке. Как из бака газонокосилки, как из банки, в которой отмывали малярные кисти. Потолочное покрытие настолько пропиталось, что взбухло и обвисло.
У отца был свой фирменный рецепт – стереть пенопласт в мелкую фракцию, развести бензином и добавить вазелина для густоты и текстуры. Полученный состав легко прилипал хоть к потолку, хоть к оконным стеклам, не капая и не растекаясь. Еще отец добавлял немного растворителя, чтобы уменьшить поверхностное натяжение – так состав не собирается в капли, а распределяется более равномерно.
Сейчас, в летние каникулы, ни в каком живом уголке не осталось ни хомячка, ни золотой рыбки.
Отец прицелился и залил потолочную камеру, следящую за их действиями.
С того дня, как Фрэнки избили до беспамятства, отец никогда не смотрел на него прямо – потому что видел лишь шрам на лице. Красную линию, похожую на логотип «Найк», в том месте, где была разорвана щека. Но Фрэнки замечал, что потихоньку отец то и дело косится на его шрам – даже сейчас, когда они шли по пустым школьным коридорам вдоль шкафчиков, с которых сняты замки. С того дня отец ни разу не улыбнулся Фрэнки. Он смотрел зло, однако злость была направлена на шрам. На призрак того последнего удара подошвой. На последний день сына в государственной школе.
С больших плакатов на стенах улыбались дети из всех уголков земного шара. Они держались за руки, стоя под радугой, на которой большими буквами значились слова: «Любовь бывает всех цветов».
Отец направил на плакат струю из ружья, и его лицо сделалось страшнее всяких шрамов. Он с удовольствием влил бы горючую смесь прямо в глаза и рты тем детям, которые топтались по лицу его сына, оставив следы на всю жизнь. Водя струей по стенам, отец то и дело выкрикивал: «Я вам устрою культурный марксизм!», «Сейчас получите у меня этническое многообразие!» Плакат с радугой он залил так, что бумага обвисла и начала сползать по стене. Ружье к тому времени опустело, и отец зашвырнул его по коридору аж до кабинета школьной администрации.
– Очень скоро, сын, – сказал он Фрэнки, – я тебя сильно порадую.
Фрэнки особых поводов для радости не видел. Его мучители по-прежнему ходили в школу, как нормальные люди, никого из них на домашнее обучение не отправили. Хотя ему была приятна мысль, что теперь-то именно в эту школу ходить уже никто не будет.
– Один раз они застали нас врасплох, – продолжал отец, – но мы с ними еще поквитаемся.
Фрэнки пошел за ним в уборную и подождал, пока отец вымоет руки.
– Никто больше не посмеет гадить нашей семье.
Прежде чем выходить из здания, отец достал телефон и набрал номер.
– Алло. Соедините меня с новостным директором. – Одной рукой прижимая телефон к уху, другой он рылся в кармане штанов. – Говорит пожарный маршал Бенджамин Хьюз. Поступило сообщение о крупном возгорании в начальной школе «Голден-Парк».
Нашарив в кармане спички, отец набрал другой номер.
– Алло, будьте добры, отдел городских новостей.
Он передал спички Фрэнки. Ожидая, пока вызов переведут, он прикрыл микрофон рукой и произнес:
– Сегодня это у нас пробный шар. Посмотрим, сколько их явится.
Тут его соединили, и он заговорил в трубку:
– Нам сообщили об очередном поджоге здания школы. На этот раз «Голден-Парк».
Фрэнки стоял рядом, держа наготове спички – так же как было в средней школе Мэдисон, и в школе Пренепорочного сердца Девы Марии, и в трех предыдущих. Наверное, эта будет последней, ведь все остальные отец сжег, просто чтобы истинная цель среди них затерялась. Фрэнки уже знал, как они поступят, когда отец закончит со звонками. В глубине души он понимал, что дурные части мира необходимо сжечь, чтобы спасти хорошие.
– Фрэнки, ты… – Отец присел перед ним на одно колено и взял обе его маленькие ладошки своими большими руками. – Сын, эти говнюки будут до конца жизни тебе кланяться! – Он отпустил одну руку и погладил Фрэнки по невинному, доверчивому лицу, по щеке, изуродованной шрамом. – Мальчик мой, ты вырастешь королем! А сыновья твои станут принцами!
Он предоставил Фрэнки честь зажечь первую спичку.
Потом они вышли и заняли наблюдательный пост, чтобы пересчитать репортеров. В первый раз явились всего с пары каналов, зато потом приезжали все, даже из других городов. Серийные поджоги – сюжет жареный. Сейчас от газеты даже вертолет прислали. С радиостанций тоже подоспели. Отец Фрэнки всех отмечал и на ходу продумывал наиболее выгодные позиции. День еще не настал, но оценить сложность задачи и подготовиться следовало заранее.
И лишь произведя все подсчеты, отец Фрэнки набрал 911.
* * *
Прежде того, о чем вы уже прочли в этой книге… прежде чем эта книга стала книгой… была мечта Уолтера Бэйнса.
Еще в знакомом вам Прежнем Мире Уолтер продумал свою мечту во всех подробностях.
На двадцать пятый день рожденья Шасты он предложит ей прокатиться на автобусе – на том самом, что едет в горку и почти каждый день везет на работу ее маму и других уборщиц. Поздно вечером они с Шастой сядут на последний автобус и поедут мимо особняка. Не того, в котором убирается миссис Шаста, а того, который как с картинки из книжки про Скарлетт О’Хара – парадный вход с колоннадой, громоотводы, печные трубы из красного кирпича и все в окружении вековых дубов. Проезжая мимо, Шаста всегда таращилась, разинув рот, словно собака, не спускающая глаз с белки. Увитая плющом груда кирпича была ей как порнуха. В этот раз они тоже проедут мимо, а на следующей остановке Уолтер предложит Шасте сойти с автобуса и поведет ее назад. Особняк будет смотреть на них темными окнами. Шаста отшатнется в испуге, а Уолтер очень крепко возьмет ее за руку и очень нежно потянет за собой. Скажет: «Не бойся, это сюрприз». Они пройдут под статуей, которую Уолтер всегда считал жутко стремной. Маленькая обезьянка на постаменте отлита из такого металла, что, если тронешь его на морозе, примерзнешь намертво, и всякий, кто тронет тебя, тоже примерзнет, и так до тех пор, пока все на свете люди не смерзнутся вместе – получится типа как лед-девять у Воннегута. Обезьянка одета в клоунский костюм – может, чтобы скакать на лошади по арене, только морда у нее закрашена белым, словно выступать она будет не в цирке, а в театре Кабуки.
Оставив позади обезьянку и желтый предупреждающий знак охранной компании, Уолтер поведет Шасту по влажной траве. В честь торжественного случая он набьет свою счастливую трубочку сортом «гиндукуш» и как истинный джентльмен первую затяжку предложит даме. Еще раз тронет карман штанов, проверяя, не выронил ли? Но все на месте, сквозь ткань штанов проступает круглая выпуклость. Примерно как полдоллара с головой Кеннеди, или как пиратский дублон, или как шоколадная монетка. Конечно, никакая там не монета, хоть и блестит – это презерватив в золотистой обертке, мать Уолтера такие продает оптовыми партиями. А кроме презерватива в кармане еще кое-что, также свернутое в колечко, только побольше и засунуто подальше.
Шаста будет дрожать от страха и холода и, едва дойдя до ступеней парадного входа, юркнет за колонну, прячась в тени от чужих глаз. В любой момент готовая кинуться наутек, она все-таки будет слушаться Уолтера. А он скажет: «Жди здесь, я за подарком» – и скроется за углом особняка.
Перепуганная Шаста останется одна в темноте: слушать треск сверчков и шипение струек воды из газонных разбрызгивателей, вдыхать всякие запахи в ночном воздухе. От бассейна будет тянуть хлоркой, из вентиляции у кого-нибудь из соседей – горячим паром и ванильным кондиционером для белья. Мимо неспешно проедет патрульная машина частной охранной компании, скользя лучами фар по живым изгородям. Шаста еще пешком под стол ходила, а этот особняк уже стоял здесь, неизменный, незыблемый, полный дыхания истории. Она всегда смотрела на него и думала, что в таком доме ей было бы ничего не страшно – и вот, пожалуйста, теперь она, съежившись за колонной, стучит зубами и щурится на экран телефона, выясняя, через сколько может подъехать ближайшее такси и не заявил ли кто о двух нарушителях на местных страничках соседского дозора.
И тут вдруг открывается дверь. Парадная белая дверь с медными петлями берет и распахивается сама по себе. Медленно, как в кошмаре. Шаста не успевает прийти в себя и кинуться бежать. Из темных недр дома она слышит шепот. Это голос Уолтера, он говорит ей: «С днем рожденья, Шаста».
Уолтер высунет голову наружу, совсем чуть-чуть, чтобы только свет фонарей успел залить белым его лицо, и поманит Шасту внутрь. «Не бойся».
Она застынет на пороге, разрываясь между страхом и своим самым большим желанием – чтобы не было больше никакого страха.
«Скорее», – поторопит ее Уолтер.
Она в последний раз оглянется на пустую темную улицу и сделает шаг.
Уолтер захлопнет дверь. Они с Шастой будут целоваться до тех пор, пока ее глаза не привыкнут к полумраку. Затем она поднимет голову, увидит под потолком медную люстру с целым лесом ненастоящих свечей, уходящую во тьму широкую винтовую лестницу. Повсюду будут резное дерево и кожаная обивка. В тишине тиканье настенных часов покажется очень громким, блики серебристого маятника будут играть в синих глубинах зеркала над каминной полкой.
Самое лучшее в Шасте то, каков ее рот на вкус. Уолтер может сказать по опыту: будь девчонка хоть трижды красивой, со всеми буферами и булками, с длинными ногами и милым маленьким носиком, но если рот у нее поганый на вкус, она не лучше порнухи. А у Шасты рот внутри как высокофруктозный кукурузный сироп, каким пропитаны коктейльные вишенки, вымоченные в желатине с красным пищевым красителем. Как яблочный штрудель, весь слоящийся сахарными корочками. Язык у нее – будто маленькая змея, выползающая из чешуек сброшенной кожи. Струящаяся, полурасплавленная, облитая сиропом гибкая змейка, то ли садовый уж, то ли мини-версия удава скользит по языку Уолтера, подбираясь к горлу изнутри, так что во рту у него получается не то серпентарий, не то венская кондитерская, и на вкус это просто восхитительно.
Шепотом она спросит его про сигнализацию, он кивнет наверх. Шаста поднимет взгляд и увидит там высоко на стене камеру, а он покажет ей поднятый большой палец – мол, все о’кей. Объяснит, что взломал охранную систему – отключил сигнализацию удаленно, еще до того, как они сели в автобус. Нашел незапертое окно и спланировал все заранее, за много недель. Никто не узнает, что они здесь были.
В качестве неоспоримого доказательства того, что он не просто укуренный сжигатель клеток головного мозга, он расскажет ей про анализ сетевого окружения и подбор эксплойтов. Побряцает перед ней гениальными криптографическими ключами, ведя ее к лестнице.
Шаста будет упираться, мямлить про хозяев, про огнестрел, про неприкосновенность жилища, доктрину крепости и все такое.
А он объяснит, что все продумал. Если их застукают, он скажет, что заманил ее сюда обманом. Хотел изнасиловать и удушить. Он маньяк. Его жертвы лежат в неглубоких могилах по всему западному побережью. Наврал ей, что это его дом, а сам собирался сделать из ее черепа миску и насыпа́ть туда хлопья по утрам. Ее кровью он задумал написать «Хелтер Скелтер» на стеклянной дверце винного шкафа. Короче, ей как без пяти минут жертве расчленения ничего не сделают. Тем более сейчас все равно никого нет дома, он проверил. А в подтверждение своих слов он достанет из кармана и покажет Шасте удавку. Свернутую в кольцо тоненькую проволочку с деревянными шайбочками на обоих концах, чтоб удобней было затягивать. Вот она, ее охранная грамота от полиции. Презервативы он тоже покажет. Пускай успокоится.
Секс есть секс, но когда он замешен на опасности – это еще круче. От вида удавки, от риска попасться Шаста намокнет быстрее, чем со слов «идем, я покажу тебе мою комнату для игр». Они сплетутся в узел и будут трахаться до полусмерти. Они освятят собой каждую комнату. Если в этом доме будет сейф – за картиной или за стенной панелью, – Уолтер его найдет. Прижавшись ухом, он будет потихоньку проворачивать колесико, слушая щелчки. Шаста не успеет даже потребовать, чтобы он прекратил, а он уже распахнет тяжелую дверцу. Денег они возьмут ровно столько, чтоб хватило на два билета первым классом до Денвера.
В Денвере Уолтер снова прокатит Шасту на автобусе в пафосный район шикарных домов. На телефоне он покажет ей, как провел реверс-инжиниринг системы безопасности, легко, в два счета, и она пойдет за ним вдоль стены дома к незапертому окну.
Прежде в глазах Шасты он был обычным подзаборным торчком. Вечно обдолбанным ничтожеством. Денег у него хватает только на самую дешевую, бросовую траву пополам с семенами и стеблями. Живет он у мамки в подвале, и водопроводные трубы там урчат, как вздутый живот, готовый пропердеться. Шасте Уолтер, конечно, нравится, но не настолько, чтобы выйти за него замуж.
А там, в Денвере, она уже будет смотреть на него совсем иначе. Увидит другую его сторону. Опасного парня, Робин Гуда наших дней, который может дунуть-плюнуть – и распахнуть любую дверь. Может контрабандой переправить ее в другой, запретный мир, мир богачей. Они будут трахаться на медвежьей шкуре у камина, затем бросят склизкий презерватив в ревущее пламя, затем выпьют ворованного вина под хрустальной люстрой, а затем, пока Шаста моет бокалы и ставит все по местам, Уолтер найдет следующий сейф, на этот раз спрятанный под двойным дном пустого ящичка в ванной комнате. Конечно же, за минуту его вскроет и достанет оттуда ровно столько, сколько надо на билеты до Чикаго.
Этот новый, незнакомый, опасный Уолтер Шасту совершенно покорит. В Чикаго будет повторение Денвера, а за ним последует Миннеаполис и Сиэтл. Шаста будет называть его хер «членом милосским» – с уважением и благоговейным трепетом. А в Миннеаполисе даже разок забудется и назовет Уолтера «папулей». Из Сиэтла они улетят в Сан-Франциско и ловко проскользнут мимо швейцара в какой-нибудь крутой небоскреб, где будут сплошное ар-деко, гламур и пафос. Разумеется, совершенно случайно они решат провести ночь именно там. Уолтер взломает код лифта и доставит Шасту прямиком в пентхаус. На своем телефоне он покажет ей вид с каждой камеры наблюдения, чтобы она не волновалась – в квартире никого нет.
Шаста постоит у лифта на стреме, а он быстренько вскроет замки и поманит ее за собой. Еще раз напомнит ей сценарий на экстренный случай: он – серийный убийца, она – его невинная жертва. А на самом деле оба они в преступном сговоре. Наутро они уже будут прогуливаться вдоль пирса в Саусалито. На сей раз Уолтер покатает Шасту на яхте. Нет, паруса они поднимать не будут – не такой он позер, – просто выйдут в бухту на моторе и позагорают, вдыхая соленый воздух.
Лежа в шезлонге и щурясь от солнца, Шаста попросит его: «Покажи мне еще раз». И Уолтер, конечно, сразу достанет удавку и продемонстрирует, как легко и быстро эта проволочка может охватить ей шею. Просто для ее, Шастиного, спокойствия.
В шкафчике на вешалках будут аккуратно рядами висеть купальники самых разных моделей и расцветок – и все идеального размера «Шаста».
Уолтер не из таких, которых интересуют только сиськи или только ноги, Шаста – его идеал вся целиком. И этот идеал будет лежать, растянувшись на шезлонге в бикини, и покуривать сорт «дурбан пойзон» до тех пор, пока ее кожа не запылает и не станет цветом как салями. Вечером Уолтер поставит яхту на прикол и снова примется искать сейф – теперь спрятанный на камбузе, в стене рядом с полочкой для специй. Они отсчитают денег ровно на билеты и улетят в Сан-Диего.
Все еще чужие в раю… Шасте, конечно, очень нравится путешествие по миру гламура и нравится он, мистер Опасный Отморозок. Однако замуж за такого она никогда не пойдет, и он это понимает.
Но пока не кончились ее каникулы, их ждут другие города. Из Сан-Диего они упорхнут в Новый Орлеан, а оттуда в Майами. На шикарной вилле у самого океана они будут заниматься любовью на кровати с балдахином – под шум прибоя, в свете полной луны, льющемся из огромных окон. И ровно в ту самую минуту, когда они очнутся от доставленного друг другу неземного блаженства, кто-то ударом ноги распахнет двери спальни. Отряд людей в форме ворвется в любовное гнездышко и наставит на Шасту пушки. Вспыхнет яркий свет, она взвизгнет, пытаясь прикрыться влажными простынями. И завопит невпопад, совсем не так, как Уолтер с ней репетировал: «Он маньяк! Он наврал мне, что тут живет! Он меня задушить хотел!» Все-таки актриса из нее никакая.
А люди в форме, не слушая ее, гаркнут: «Полиция! Руки за голову!»
И так закончится их криминальный вояж. Бонни и Клайд, не пролившие ни капли крови, еще мокрые от слюны и пота друг друга. Уолтер неловко вылезет из постели, медленно, не делая резких движений, нашарит на полу штаны, выудит и предъявит водительское удостоверение. Затем с поднятыми руками и все еще стоячим членом, на котором белым флагом болтается мокрый презерватив, пройдет через комнату к элегантному антикварному комоду.
Кутаясь в простыню, Шаста будет заливаться слезами: «Спасибо вам! Слава Богу! Вы спасли меня! Он говорил, что любит, а сам решил меня погубить!»
Уолтер попросит полицейских открыть комод – самому-то ему это сделать не позволят. И там будут лежать документы на собственность со всеми положенными печатями и тем же именем, что и на предъявленном водительском удостоверении. Его именем. Уолтер непринужденно улыбнется и с интонацией потомственного аристократа произнесет: «Я хозяин этого дома, господа».
Плач тут же оборвется, и голос Шасты выпалит: «Чего?!» От уголков губ вверх у нее будут тянуться едва заметные багровые полосочки от красного вина – как усы Сальвадора Дали.
Уолтер все ей объяснит. Они ничего не нарушали, потому что он хозяин. Хозяин всех этих домов и квартир, от Денвера до Майами. Он знал и коды сигнализации, и комбинации к сейфам. И деньги в этих сейфах были его. Он сам оставил окна незапертыми, сам дал на лапу швейцарам, чтобы они «ничего не заметили». Яхта тоже принадлежит ему, и купальники для нее он подбирал самолично.
Разумеется, и полицию он вызвал сам.
Уолтер невозмутимо стянет и отбросит в сторону презерватив. Он не просто бесшабашный отморозок, умеющий ловко катить по жизни, как на скейте, обходя все углы и препятствия, и увлекать даму за собой. Нет, он еще и богат. Он старый добрый Уолтер, который Шасте так нравился, но теперь у него на счету сумма со многими нулями. Он тот же, но поводов любить его стало гораздо больше.
И прямо так, голый, в присутствии вооруженной полиции, он опустится на одно колено перед голой Шастой. Из кармана брошенных на полу штанов – того же самого, где хранилась удавка, – достанет кольцо и спросит: «Выйдешь за меня?»
А в кольце будет сверкать вот такенный бриллиант.
И тут же явятся официанты в белоснежных рубашках, а на подносах у них и клубника в шоколаде, и чипсы со вкусом «Маунтин-Дью», и чесночный попкорн с королевской порцией сырного соуса. Уолтер забьет хорошую такую трубку мира праздничным, фиолетовым сортом, и даже копы с охотой к ней приложатся. На медовый месяц Уолтер с Шастой отчалят на собственный тропический остров с целыми полями сорта «уайт рино» и будут жить там долго и счастливо. Ну, туда – или под геодезический купол, спрятанный на дне океана, с полностью автономной системой жизнеобеспечения. Только он и Шаста – и многоцветная галактика подводного мира над головой.
Короче, предложение Шасте он задумал сделать именно так.
Только пока он мало что из себя представляет. Слишком мало, чтобы стать для кого-то всем.
Поэтому для начала надо добыть херову кучу денег.
* * *
Твид О’Нил и ее команда прибыли к объятой ревущим пламенем школе раньше пожарных машин. Только пожарный маршал, конечно, был уже на месте. Скоро сюда приедут и с других телеканалов, начнут возиться с камерами, стремясь заснять огонь с самого выгодного ракурса.
За последнее время это уже четвертая полыхающая школа. Все журналисты работали по одному пресс-релизу, но на этот раз Твид заготовила тайное супероружие. На сцену выйдет старший профессор гендерных исследований Орегонского университета доктор Раманта Штейгер-Десото. Весьма телегеничная ученая дама с поставленной речью, готовая дать комментарий относительно поджогов со своей, научной точки зрения. Твид написала ей из студии, попросив подъехать прямо к школе.
Интервью предполагалось снять прямо на фоне спортзала, медленно оседающего в фонтанах оранжевых искр. Они с профессоршей уже заняли местечко с хорошим обзором на безопасном расстоянии, дожидаясь, пока оператор настроит фокус, а звукотехник прикрутит микрофон к лацкану профессорского тренчкота.
В наушнике Твид слышала, как в студии в прямом эфире обсуждают пожар. С минуты на минуту они должны переключиться на репортаж с места событий – то есть на нее. Она окинула взглядом конкурентов. Не подготовился никто. Они не добавляют к сюжету ничего нового, только передают из рук в руки пожарного маршала, который перечисляет каждой группе одни и те же факты.
Ученую даму не выводил из равновесия ни яркий свет прожектора, ни клубы едкого дыма. По толпе прокатился слух, что в здании есть газовый баллон, который взорвется в любую секунду, но доктор Штейгер-Десото была твердо намерена озвучить свои соображения по поводу происходящего. Доктор Штейгер-Десото – высокая, почти на голову выше Твид, с прямой спиной и вьющимися светлыми волосами, убранными в аккуратный пучок, олицетворение серьезного социолога, который готов взять на себя задачу просвещения народных масс.
Оператор приник к камере и пальцами дал сигнал: «три, два, один, эфир».
– С вами Твид О’Нил, репортаж с места событий. Мы наблюдаем очередной большой пожар, горит уже четвертая местная школа за лето.
Оператор сменил ракурс так, чтобы в кадр попала и гостья программы.
– Сегодня рядом со мной доктор Раманта Штейгер-Десото, которая приоткроет нам возможные мотивы поджигателей. – Твид повернулась к элегантной профессорше. – Каковы ваши мысли, доктор?
– Спасибо, Твид, – спокойно ответила профессорша.
Необходимость выступать перед огромной аудиторией в прямом эфире ничуть ее не смущала. Глядя прямо в камеру, она заговорила:
– По официальным данным, виновными в поджогах чаще всего оказываются белые мужчины в возрасте от семнадцати до двадцати шести лет. Акт поджога воспринимается ими как сексуальный…
Тут, будто по заказу, в глубине здания взорвался злосчастный газовый баллон. Низкий, раскатистый грохот исторг у собравшейся толпы глухой стон.
А доктор Штейгер-Десото продолжала:
– Для пироманьяка разбрызгивание горючей жидкости равносильно извержению эякулята, акту унижающего изнасилования применительно к сжигаемой конструкции…
Пламя, взрывы и секс сулили программе золотые рейтинги, однако, опасаясь, что такой высоколобый стиль изложения будет недоступен зрительской аудитории, Твид решила направить комментарий в более приземленное русло.
– Но кто это может быть?
– Мужчина, изолировавший себя от общества, – ответила доктор тоном человека, твердо знающего, что говорит. – Приверженец правых взглядов, отравленный токсичной маскулинностью движения так называемых «мужчин, идущих своим путем». Среди таких и следует искать виновного.
Твид попыталась немного разрядить атмосферу шуткой:
– Так значит, Морин Дауд была права? Терпеть рядом с собой мужчин – слишком дорогая плата за сперму?
Доктор Штейгер-Десото слабо улыбнулась.
– На протяжении многих поколений в массовой культуре продвигается идея, что каждый мужчина рано или поздно займет высокое положение в обществе. Сегодняшние молодые люди по всему миру растут с уверенностью, что власть и успех положены им по праву рождения.
Время поджимало, скоро вещание должно было прерваться на рекламную паузу. Чтобы подвести свой сегмент к логическому завершению, Твид задала вопрос:
– Видите ли вы какое-то решение проблем с нынешними молодыми мужчинами, доктор?
Подсвеченная ревущим за спиной адским пламенем, доктор объявила:
– Мужчины должны понять и принять свой невысокий статус в обществе. Нависшая над нами война будет для них прекрасной возможностью делами заслужить общественное признание.
Твид подвела к рекламе:
– Спасибо, доктор. Это была Твид О’Нил с репортажем об очередном бессмысленном разрушении социально значимого объекта.
Оператор дал сигнал «снято».
Пытаясь отцепить пришпиленный к лацкану микрофон, доктор вдруг подняла глаза и пристально уставилась на что-то в отдалении.
– А чем это он там занимается? – спросила она.
Твид проследила за направлением ее взгляда и увидела пожарного маршала. Маршал как будто считал собравшийся народ по головам. Он не спеша осматривал толпу репортеров и делал какие-то пометки в блокноте. Встретившись глазами с Твид, он невозмутимо провел в блокноте линию, словно вычеркнул строку из списка.
Лишь тогда Твид заметила рядом с ним маленького мальчика. По возрасту, наверное, младшеклассник, со странным шрамом через всю щеку. И тут же подумала: это ведь так мило! Окружной пожарный маршал привел сыночка посмотреть, как папа работает.
Следовало непременно сделать трогательную зарисовку о семейных ценностях – отлично пойдет в утренней программе.
* * *
Для Гаррета Доусона все решили кофейные фильтры. Утром, стоя над кофеваркой, он обнаружил, что фильтры почти закончились. Опять. Выпито еще пятьсот кофейников, прожит еще год. Даже больше года. Он стареет.
Гаррет осознал этот факт, когда заметил у себя привычку смотреть на какой-нибудь предмет – часы, цветочный горшок, книгу, – прежде чем переводить глаза на свою жену Роксану. Если где-нибудь в гостях он говорил с молодыми женщинами, с чьей-нибудь дочкой-подростком… или даже просто смотрел прогноз погоды по телевизору и переводил взгляд с гладкого юного лица сразу на Роксану, контраст ужасал слишком сильно. В молодости его жена была красавицей, но молодость давно прошла. Теперь глазам Гаррета требовалось промежуточное звено между юностью и женой. Пепельница, гаечный ключ – что-нибудь неживое. То, что не человек.
Гаррет заметил, что и Роксана делает то же самое. Если на экране молодой красивый актер, она каждый раз несколько секунд изучает свой попкорн, прежде чем обернуться на Гаррета. Возможно, он все выдумал. Возможно, он лишь приписывает ей свое собственное поведение. Но это напоминало Гаррету о том, что он и сам постарел.
В книге Толботта об этом сказано очень хорошо:
Красивые люди обретают власть потому, что к ним рано приходят осознание природы власти и страх ее потерять. Те, кто красив в молодости, учатся трансформировать власть, что дана им, инвестируя ее в смежные формы. Юность они переводят в образование. Образование инвестируют в полезные контакты, в знания и опыт в профессиональной сфере. Деньги они вкладывают в устаревшую форму власти – финансовую подушку.
Поэтому важно, чтобы у денег был срок годности.
Власть, передаваемая из поколения в поколение в абстрактной форме богатства, ведет к неравенству и коррупции.
Нельзя копить деньги ради накопления. Деньги должны постоянно работать на благо общества.
Кофейные фильтры были последней каплей. На днях в цеху к нему подошел Леон и понес какую-то чушь про захват государства и реформирование нации. Звучало бредово, но Гаррет был уже готов ввязаться в любой бред, лишь бы не наблюдать, как очередная пачка из пятисот кофейных фильтров отмеряет собой остаток его жизни. Гаррет насыпал молотый кофе в последний фильтр, залил воду, нажал на кнопку, и кофеварка загудела.
– Кофе будет через минуту, – крикнул он Роксане в соседнюю комнату и добавил: – Я выйду ненадолго.
Надо позвонить Леону. Встретиться с ним у паба. Выяснить, что там за чокнутая схема и не шутка ли это. Леон дал ему книгу в иссиня-черной обложке, и в книге этой говорилось:
Представьте, что нет никакого Бога. Нет ни ада, ни рая.
Есть только ваш сын и его сын, и его сын, и мир, который вы им оставите.
Роксана из столовой спросила, куда он направляется.
Надев куртку, Гаррет проверил в карманах телефон и ключи. Заглянул в гостиную. Жена сидела за обеденным столом и заполняла налоговые документы.
– Фильтры кофейные все закончились.
Она замерла и после долгой паузы, не поднимая глаз, спросила:
– Что, уже?
В ее голосе слышалась обреченность. Да, Роксана тоже чувствовала, как жизнь летит мимо. И это еще один повод принять радикальные меры.
Наклонившись к ней, Гаррет прошептал:
– Я все улажу.
И поцеловал ее в лоб.
* * *
В эпоху религии над всяким городом возвышался собор или мечеть. На фоне величественных куполов и шпилей все прочие здания припадали к земле. Потом настала эпоха коммерции. Небоскребы и бесконечные колонны банков затмили собой храмы. Заводы переросли самые крупные из мечетей, складские помещения накрыли своей тенью соборы. Не так давно наступила эпоха чиновников, и здания государственных органов взорвали собой горизонт. Колоссальные монолиты, содержащие в себе такую власть, какая не снилась ни коммерсантам, ни святошам. Пышные сосуды для защиты и демонстрации могущества законодателей и судей.
В последние недели перед назначенным днем простые смертные шли в эти крепости в напускном благоговении, щелкали телефонами и камерами, бродили в великих стенах под видом туристов – бестолковых зевак, которые то и дело теряются и забредают туда, куда им допуска нет. Ну заблудились, с кем не бывает? Они прикидывали возможные пути к отступлению. Выбирали точки, с которых удобнее вести обстрел.
Любуясь пышными люстрами, вытягивая шеи, чтобы рассмотреть великолепие фресок и взмывающих ввысь золоченых сводов, они понимали, сколько на это все пошло еды. Еды, которую можно было съесть. Еды, которую у них отобрали. У них отобрали уверенность в завтрашнем дне и построили вот эту мраморную лестницу. Из них высасывали жизнь, чтобы украсить эти стены красным и розовым деревом и прочими заморскими изысками для комфорта и удовольствия правящих элит. И вот чернь бродила по государственным хоромам разинув рты и вроде как раболепно восхищалась величием зданий и населяющих их властителей.
Люди перешептывались, составляли маршруты, снимали видео. Они начинали видеть, как выполнят свою суровую задачу.
Им всем была известна истина: копящий еду портит ее, копящий деньги портит себя, копящие власть портят человечество.
Нет смысла наделять правом голоса каждого дурака. Пусть умнейшие, сильнейшие, храбрейшие имеют по сто, по триста, по тысяче голосов, а ленивые слабаки – ни одного. Никто больше не станет горбатиться на праздный класс, чтобы выжить. Праздные должны работать.
На цыпочках ступали они по коридорам власти. По воздвигнутым их по́том и кровью статным зданиям, в которые они слишком долгое время отправляли себя через посредников. Теперь они пришли своими глазами посмотреть на благородные декорации, в которых жизнь их вскоре закончится или начнется.
Глядя снизу вверх на высокие гранитные своды или сверху вниз на бескрайние поля отполированного мрамора, они чувствовали себя маленькими и слабыми. Однако набившись тесной массой на зрительской галерке – колено к колену, локоть к локтю, – они могли оценить немногочисленность народных избранников и проникнуться своей неуязвимостью.
Людей раздражали престарелые экскурсоводы, которые собирали их гуртом, как скот, и пасли, декламируя заученные, одобренные сверху тексты о значении каждого флага и статуи. Люди осмеливались представить, как разлетится брызгами хрусталя расстрелянная люстра. Они уже видели, как порежут все живописные полотна на стенах, как сбросят с пьедесталов статуи, превратят их в братскую могилу из крошева мраморных пальцев и голов.
Закрывая глаза, люди представляли, что высокие окна уже стоят разбитые и воробьи вьют гнезда под золочеными потолками.
Журналисты приписывали внезапную вспышку интереса к правительственным зданиям подъему патриотических настроений. Возрождению духовных скреп между гражданами и нацией. В принципе, суть они уловили верно, хотя промахнулись в нюансах. Тех, кто посещает государственные учреждения, СМИ представляли паломниками, которые идут на поклон к властям предержащим. Видели в этом грядущий мир и сотрудничество – и на сей счет также не ошиблись, хотя вряд ли представляли себе форму, которую примет и то, и другое.
Но пока любопытствующие ступали по коридорам власти, держа очи долу. Старательно показывая, что хорошо знают свое место, они почтительно уступали дорогу местным – всякому стажеру, всякой мелкой сошке.
Несколько дней подряд зеваки наводняли собой все присутственные места. А потом – будто кран закрыли – наплыв туристов вдруг прекратился. Остались лишь те, кто пришел по делу. Они обменивались рукопожатиями с дежурными охранниками и кивками друг с другом. И те, кто в форме, и те, кто в штатском, взглядами подтверждали готовность к намечающимся необходимым событиям. Все они участвовали в заговоре и готовились к совместным действиям в назначенный день.
* * *
А пока, скорчившись в чулане под лестницей в южном крыле, Ник сказал:
– Ну, не знаю. Мне раньше очень даже нравилась полиция.
Они притулились к стене из коробок, в которых хранилась форма университетского оркестра. Кое-где из-под лопнувшего картона торчали золотые аксельбанты, и медные пуговицы поблескивали в полумраке, как сокровища.
У Шасты затекли ноги. Тут, поди, мигом надышишься асбестом и канцерогенной меловой пылью. Доказано, что тальковая присыпка вызывает рак шейки матки, а она ведь из мела. Мир завис на грани войны, а Шаста сидела в тесном чулане, прижавшись бедром к бедру Ника, и ей тут нравилось. И разговаривать нравилось. Разговор лицом к лицу – это настоящее. Не то что по телефону.
Ник жаловался: мол, раньше правду искать не приходилось. Открой газету – и вот она. Так было, пока не вышел некролог о его отце: «Любимый муж и отец умер в результате геморроидального инсульта…». Дурацкую ошибку тут же подхватили в сети и превратили в мем. На имиджбордах и сотнях новостных сайтов множились демотиваторы – обычно фотографии Рональда Рейгана или Гора Видала с надписью сверху: «Умер от…» – и снизу: «… геморроидального инсульта!!!»
Понятное дело, что инсульт был геморрагический и к геморрою не имел никакого отношения. Отец Ника косил лужайку перед домом, когда в мозгу у него лопнул сосуд. Маленький некролог, и даже в нем газетчики ухитрились сделать такой идиотский ляп.
Шаста выразила сочувствие. Попыталась объяснить.
На занятиях по методологии средств массовой информации доктор Бролли говорил, что современную прессу, под которой мы понимаем объективное отражение ежедневных новостей, убили площадки вроде «крэйгслист», «ибэй» и иже с ними. Основные доходы газет всегда шли от публикации частных объявлений. От страниц, на которых бесконечным мелким шрифтом предлагались аренда квартир, подержанные машины, щенята в хорошие руки, горящие вакансии, женщины для серьезных отношений и мужчины без вредных привычек. Именно на таком фундаменте зиждился массив «четвертого сословия».
На объявлениях о гаражных распродажах, сиамских котятах с родословной, скупке предметов времен Второй мировой и декоративной керамики, кубометрах выдержанных дров прошлогодней рубки – на всем этом держались старейшие политические династии. По пять центов или по доллару за слово – эти страницы были золотой жилой, питающей высокую культуру: редакционные колонки, литературные рецензии, журналистские расследования, удостоенные Пулицеровской премии. Если верить доктору Бролли, получалось, что жемчужинами печатного слова мы обязаны тем беднягам, что пытаются сбыть с рук коллекцию бутылочек из-под одеколонов «Эйвон» и простаивающие отпускные квартиры.
Каждый год доктор Бролли говорил очередной группе студентов: «Кинематограф существует благодаря тому, что вы готовы платить по пять долларов за попкорн». Никчемный попкорн держит на себе премию «Оскар» и весь сияющий мир кино. Никчемные объявления о никчемном хламе держали на себе колоссальные газетные империи. А стоило газетам утратить достоверность, веры всему прочему тоже как-то не стало. Никто не подскажет вам, где истина, где ложь, где честное качество, а где дерьмо собачье. Без цензора, без арбитра всему теперь одна цена.
Доктор Бролли задавал им читать «Общество братьев и сестер» Роберта Блая. Книга повествовала о произошедшей утрате традиционной иерархии. Нет теперь ни патриархов, ни матриархов, отцы и дети уравнялись в статусе. Никому не охота быть взрослым, учителем, наставником, все хотят быть друзьями-товарищами, равными по рангу – короче, братьями и сестрами.
Доктор Бролли предупреждал, что это расплющивание социальной иерархии в будущем ведет к популизму. Власть будет принадлежать не узкому кругу просвещенных мудрецов, а широким массам, управляемым жадностью и эмоциями.
– Ты в курсе, что он всегда под кайфом? – перебил ее Ник.
– Роберт Блай? – растерялась Шаста.
– Нет, Бролли твой.
И Ник рассказал, что у профессора трансдермальный пластырь; это видно, когда футболка задирается. Что каждое первое мая Бролли надевает специальную футболку – она белая вся, кроме подмышек, а на груди красная надпись: «Команда комми». Что он гомосек, все знают. Что пластырь у него с фентанилом. А в другие дни на футболке у него написано «либераст на лимузине» или «шампанский социалист».
В Орегонском университете любой студент мог опознать фентаниловый пластырь или перкосет хоть со спутника.
Сидя на корточках в пыльном чулане под лестницей, Ник пересчитал по пальцам все, во что когда-то верил. Санта-Клаус, пасхальный кролик, зубная фея, религия, ежедневная газета «Орегониан», правительство, доктор Бролли, полиция. Ты учишься, а история и география меняются прямо на ходу. Не успел сдать экзамен, как полученные знания устарели. Кому и во что верить? Он хотел бы прочитать сообщения на телефоне, но боялся вставить батарейку – вдруг его сразу запеленгуют?
Шаста проверила свой телефон. Уолтер не писал, и его мама не ответила. Шаста размышляла, примут ли от нее заявление о пропаже человека, если она этому человеку просто подружка. Звучало тупо. Правда всегда тупо звучит. Но Шаста все-таки сказала:
– Может, всем надо начать верить себе. – И закрепила успех: – Себе ты должен верить, вот кому.
Ник злобно смотрел на нее, пока она не опустила глаза. И тогда потребовал:
– Выкладывай, короче. Что там Уолтер знал об этом великом заговоре?
* * *
Когда Пайпер закончил читать, кастинговая комиссия распустила остальных претендентов. Видимо, роль он себе обеспечил. Однако комиссия не спешила заканчивать пробы. Они хотели, чтобы он сделал еще несколько реплик – для верности. Реплики были написаны на больших карточках от руки, их держали возле камеры. По большей части это были какие-то общие фразы. Например: «Мы должны отринуть прежние системы измерения и сами определить, что есть минута…». Что ж, задача актера – сделать фальшивое правдоподобным. Превратить воображаемую солому в осязаемое золото.
– Моменты времени – это кирпичи, из которых строится наша жизнь. Жизнь не должна измеряться выходными днями. Наше пребывание на земле не должно оцениваться по размеру заработной платы и налогов.
Как только Пайпер зачитывал одну карточку, ассистент менял ее на следующую.
– Я Толботт Рейнольдс, абсолютный монарх, избранный Советом Племен.
На этом месте члены комиссии пошушукались, и режиссер попросил еще дубль – тоном пожизнерадостней.
Пайпер добавил в голос улыбку.
– Я Толботт Рейнольдс. – Он чуть приподнял голову, чтобы взгляд стал более открытым и располагающим. – Абсолютный монарх, избранный Советом Племен.
На следующей карточке был некий «параграф седьмой Декларации Взаимозависимости»:
Копящий еду портит ее. Копящий деньги портит себя. Копящие власть портят человечество.
Члены комиссии несколько раз пересмотрели запись, удовлетворенно покивали друг другу и велели ассистенту давать следующую карточку.
– То, что вас легко любить, не гарантия, что вас полюбят! – зачитал Пайпер.
– А теперь с двойным восклицанием, – распорядился режиссер и добавил: – Пожалуйста.
Очередная карточка гласила: «Мы навязываем людям чужую судьбу, пренебрегая своей собственной. Так мы губим жизнь и себе, и ближним».
Пайпер читал эту напыщенную бессмыслицу торжественно и с достоинством.
– Всякий должен следовать своему пути и не мешать другим выбирать свой. Надлежит уважать друг друга и не пытаться навязывать окружающим цели.
Подошел здоровенный амбал, от которого пахло бензином и то ли порохом, то ли петардами. Сложенной бумажной салфеткой он бережно промокнул Пайперу лоб.
Опять та же карточка: «Я Толботт Рейнольдс, абсолютный монарх, избранный Советом Племен». Дубль вышел неудачный, потому что у Пайпера заурчало в животе.
Теперь режиссер попросил сделать акцент на том, что дано крупным шрифтом. Пайперу не требовалось объяснять.
– Я Толботт Рейнольдс, высший аристократ, главнокомандующий сановник, великий маг, абсолютный монарх…
Перечень тянулся бесконечно, и Пайпер вложил в него всю душу.
* * *
Как люди ходили взглянуть на последние дни работы государственных органов, ту же дань они отдавали и другим учреждениям, которые должны были вот-вот кануть в прошлое. Сонмы зевак собирались вокруг журналистов, снимающих репортажи о происшествиях. Журналистам такое внимание втайне льстило – как свидетельство их авторитета в обществе. На лекциях почтенных академиков собирались полные залы слушателей – слушателей, знающих, что лекции эти прощальные. Заслуженные академики, лауреаты всего-чего-только-можно воспринимали молчаливые толпы в своих аудиториях как комплимент. Впервые за многие годы они чувствовали, что будущее сулит им нечто хорошее. Как и журналисты, они жестоко ошибались.
На образование люди тратили большие деньги и получали за них слишком мало. На средства массовой информации они тратили время и внимание и не получали ничего.
Зеваки смотрели на профессоров и журналистов не с почтением, а с жалостью и злостью. Кто-то – с грустью и брезгливым любопытством, как могли бы смотреть на последний уцелевший экземпляр почтового голубя. Люди понимали, что завтра всего этого не станет – ни новостей по телевизору, ни лекций в университетах. Произойдет событие, которое отделит будущее от прошлого. Люди смотрели на закат вымирающих профессий, чтобы когда-нибудь рассказать о них своим потомкам. С ностальгией созерцали пустую силу чиновника, журналиста и профессора и безмолвно прощались с ними.
* * *
Снаружи респектабельное старое здание принца Люсьена Кэмпбелла выглядело один в один как дом Ашеров из книжки Эдгара По. Старинные стены учебного корпуса нависали над Джамалом, заслоняя ночное небо, темное, как воды Стикса. В далеком окне горел свет – мягкое сияние лампы за желто-зеленым витражом, – и курился дымок над одной из полуобвалившихся печных труб. Значит, кто-то засиделся до глубокой ночи.
Джамал подал Кейшану знак идти первым. Вдвоем они раскрыли узорные дубовые двери с рыжими от ржавчины петлями и зашагали по коридорам. Под ногами хрустела гипсовая крошка, осыпавшаяся с потолка, в полумраке над головой хлопали крыльями летучие мыши. Реликты минувшей эпохи, изысканные золоченые канделябры на стенах источали неверный свет – трепещущий и слабый, как от старинных газовых фонарей.
Джамал и Кейшан шли по лабиринту узких коридоров, поднимались по крутым лестницам, вдыхая чердачные запахи древней пыли и сажи. Камень и дерево хранили здесь такую тишину, что лишенный пищи слух рождал галлюцинации. Джамалу мерещились слова и голоса, нестройный хор многих тихих голосов, похожий на шум воды – словно целая толпа призраков шушукается под отсыревшими сводами.
Зловонные помещения сменяли друг друга – убитые кабинеты, тесные кельи, в которых когда-то корпели над книгами ученые мужи, уходящие во тьму библиотечные полки с обросшими пышной плесенью рядами кожаных корешков. Черные пятна расползались по элегантным бархатным портьерам. Где-то капала вода, метрономом отсчитывая секунды. По жутким переплетениям ветвящихся коридоров Джамал и Кейшан шли мимо затхлых пещер лекционных залов, в которых наверняка притаились неприкаянные души гуманитариев. Притаились и жаждут мести. Оно и понятно. Скольким поколениям вдалбливали в головы худшие направления социальной инженерии, накачивали вредоносными идеями до тех пор, пока узаконенная ложь полностью не заменила всякую способность мыслить самостоятельно. Призраки, блуждающие по старому учебному корпусу, не найдут покоя, пока Джамал и Кейшан не получат ответы, за которыми сюда пришли.
Они долго бродили по этажам и наконец уловили в тишине звук – кто-то взял ноту на фортепьяно. Заиграла музыка – Шопен, ноктюрн ми-бемоль мажор. Она привела Джамала и Кейшана в незапертый кабинет. Вернее, в целую анфиладу душных комнат, и в самой дальней из них они обнаружили свою цель.
Это были внутренние покои, роскошный оазис под самой крышей. Безлюдный – все лакеи великого хозяина разошлись по домам. Стены здесь украшали великолепные панели из розового грецкого ореха, тихо потрескивал огонь в камине, заключенном в резной итальянский мрамор с амурчиками и геральдическими фигурами. Для заслуженной профессуры Орегонского университета довольно типичный интерьер. Лунный свет заливал витражные окна, причудливые цветные отсветы ложились на восточные узоры элегантного персидского ковра.
В качестве актуальных акцентов в кабинете присутствовали заключенный в рамочку плакат с Че Геварой над каминной полкой и перевернутый флаг США – также в рамочке над антикварным письменным столом. Один край у флага почернел от сажи – когда-то давно его пытались сжечь на акции протеста. На столе красовались редкие букинистические издания и дорогостоящие безделушки. Взгляд Джамала привлекла пожелтевшая фотография Эммы Гольдман с автографом, установленная на маленьком инкрустированном камнями пюпитре. Рядом лежал старинный мавританский ножичек для бумаги.
Сам великий дремал в глубоком кожаном кресле, уронив на грудь раскрытый экземпляр «Правил для радикалов», наполовину спрятанный под седой бороденкой. Несмотря на бороду и книгу, слоган на его футболке по-прежнему читался. Он гласил: «Феминизм – это я».
Хлопковые штаны на веревочке были закатаны до колен, сморщенные бледные стопы покоились в небольшом пластиковом тазике с водой. Над поверхностью воды курился пар, рядышком на полу ожидало аккуратно сложенное полотенце.
Возле кресла размещался маленький столик, настоящее произведение искусства, а на нем – хрустальный графин с янтарным шерри и крошечный бокал, еще хранящий следы изысканного напитка.
Джамал и Кейшан прокрались в кабинет на цыпочках, глазея по сторонам. Они знали цену этой роскоши – за нее было уплачено по́том и разбитыми мечтами бесчисленных студентов, избравших путь гуманитарных наук. Мелодия Шопена звучала из того угла, где крутилась под иглой старинного граммофона черная, как оникс, пластинка.
Досточтимый ученый, доктор Эммет Бролли, заморгал и проснулся.
– Чему я обязан такой честью? – поинтересовался он.
Взгляд его слезящихся глаз остановился на узких брюках, облегающих бедра Кейшана. Профессору явно нравилось то, что он видел.
Студенты неловко переминались с ноги на ногу, изучая свои потрепанные кеды. Наконец Джамал резко поднял голову и, запинаясь, спросил:
– Сэр, вы помните Уолтера Бэйнса?
Кейшан, смущенный тем, как ученое светило раздевает его взглядом, добавил через секунду:
– Мы боимся, что у него проблемы.
Профессор нахмурил лоб. Медленно поднял с груди книгу, закрыл и отложил в сторону.
– Какого рода проблемы?
Джамал и Кейшан переглянулись. Вид у них был самый обеспокоенный.
– В общем, есть какой-то список… – начал Джамал.
– В интернете, – уточнил Кейшан.
И начал рассказывать, какие ходят слухи и что говорил им Уолтер.
– Есть один сайт такой, на нем можно вписать имена тех, кого считаешь угрозой обществу. Если никто тебя в этом не поддержит, имя будет стерто из списка через несколько часов. Если еще несколько человек проголосуют, имя останется подольше и может набрать еще голоса. Чем больше голосов получает кандидат, тем бо́льшая ему грозит опасность.
– Вроде как конкурс популярности, только наоборот! – ввернул Джамал.
Ввернул громче, чем рассчитывал. Воцарилось неловкое молчание. Вздыхало и потрескивало пламя в камине.
Наконец доктор Бролли рассмеялся – от души, снисходительно и не без ноток принятого шерри. Смеясь, он продемонстрировал все свои желтые от марихуаны зубы. За долгую карьеру ученый вольнодумец, скульптор мысли подрастающего поколения много раз сталкивался с подобной охотой на ведьм. Он плеснул себе шерри для успокоения нервов, сделал глоток и проговорил с печальной улыбкой, глядя на янтарную влагу в бокале:
– Да, дети мои. Какой-нибудь список есть всегда.
Джамал и Кейшан внимали ему затаив дыхание. Глаза их были широко раскрыты, души переполнял ужас.
Доктор сделал своим маленьким бокалом широкий жест.
– Присядьте, – распорядился он.
Юные слушатели уселись на ковер у его ног.
– Всегда есть список, – изрек доктор Бролли, глядя на них сверху вниз. – О, как человеческие создания любят списки! – Он снисходительно улыбнулся. – От десяти заповедей Моисеевых до черного списка Голливуда. От списка врагов Никсона до списка Шиндлера и списка бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». От списка послушных и непослушных деток в руках Санта-Клауса до списка праведников и грешников в руках Бога, отделяющего агнцев от козлищ…
Доктор Бролли перечислял и сравнивал характеристики списков с большой любовью к предмету. Он допил свой бокал, налил еще, снова выпил и снова налил.
– Наш обожаемый Билль о правах не что иное, как список! И девяносто пять тезисов Мартина Лютера, вывешенные на двери собора во время карнавала!
Не встретив в глазах юношей понимания, он взревел:
– Чем нюхать соли и покемонов ловить, лучше бы вы читали заданного вам Льюиса Хайда и Виктора Тернера! Тогда бы вы знали, о чем я говорю! О ритуальной смене власти!
Профессор явно сел на любимого конька. Джамал и Кейшан укрепили дух, готовясь прослушать долгую, нравоучительную лекцию.
Если вкратце, лекция состояла в следующем: практики ритуальной смены власти в той или иной форме существовали почти в каждом обществе и выполняли функцию поддержания статус-кво. Каждый год – а в некоторых случаях каждый сезон – наименее привилегированные слои на короткое время получали власть над теми, чье положение традиционно выше. В наши дни примером такой практики стал Хэллоуин – празднество на стыке лета и осени и, как принято думать, на границе земного мира и загробного. В ночь на тридцать первое октября дети (то есть лишенная власти демографическая группа) наряжаются не включенными в общество элементами (например, мертвецами, призраками, животными) либо персонажами, намеренно от общества отмежевавшимися (например, бродягами или одинокими ковбоями). Мальчики переодеваются в девочек, девочки – в мальчиков, и все эти странные, чуждые создания получают дозволение свободно разгуливать по улицам, стучаться в двери и требовать дань с полноценных, облеченных властью и правами граждан. Отказавшись уплатить дань, хозяин рискует своей собственностью.
– Это вам не шутки, между прочим! – От возбуждения профессор брызгал слюной. – Прежде беднота резала автомобильные шины и поджигала дома! К двадцатым годам прошлого века это приобрело чудовищный размах, и страховым компаниям пришлось приложить массу усилий совместно с газетчиками и производителями сладостей, чтобы внедрить традицию откупаться конфетами! Вы только вообразите! – кричал он с горящими глазами. – Раз в год бедняки могли отплатить богатеям за все обиды! Пойти и сжечь их дома! Даже рождественские колядки, чудесная традиция праздничных песнопений на порогах домов, прежде была кровавой забавой! Бедняки толпой собирались у богатых домов и пели, и пение было угрозой! Лишь щедрые подношения золотом и снедью могли убедить их оставить этот дом в покое и перейти к следующему! А цветы на похоронах?! Такой же ритуал! Местная беднота являлась в дом покойника и вручала скорбящим луговые цветы и ароматные травы в обмен на хлеб и монеты!
Собственная лекция приводила доктора Бролли в такой детский восторг, что он дрыгал ногами, расплескивая воду из тазика.
– Армейская жизнь изобилует практиками, когда на краткий период времени офицеры должны подчиняться рядовым! – провозгласил он и снова принялся сыпать примерами.
На атомных субмаринах есть традиция один раз за плавание устраивать так называемое «Кафе «От шефа». Офицеры украшают помещение столовой как пафосный ресторан, готовят изысканный ужин и лично сервируют его для остальных членов экипажа. В южных штатах в период рабовладения существовал ритуал сатурналий. На Рождество плантатор оделял рабов подарками и позволял им навестить родичей на близлежащих плантациях. Все рабы получали несколько дней свободы. Им полагалось столько яблочного бренди, сколько они могут выпить, и столько свинины, сколько могут съесть. Как писал Фредерик Дуглас, рабы объедались и кутили до дурноты. Мучаясь похмельем и страдая животом, они каждый год убеждались, что не созданы для жизни в изобилии, что воля их слишком слаба, что им необходима рука хозяина. Проведя так несколько дней, они возвращались к прежней рабской жизни с облегчением.
Доктор Бролли прекрасно ориентировался в теме, примеров знал великое множество и под действием шерри был весьма словоохотлив.
– У амишей есть любопытная практика, она называется «румспринга». Слово это означает «скакать» или «бегать кругами». На пороге взрослой жизни подросткам общины дается разрешение вкусить плодов внешнего мира. Юные амиши могут на собственном опыте ощутить, что такое наркотики, секс, унылая жизнь на минимальную заработную плату. И, как и в случае с рабами во время сатурналий, итогом становятся жестокое похмелье и облегченное возвращение к простой и безыскусной жизни в общине.
Джамал поглядывал на часы. Кейшан боролся с желанием проверить сообщения на телефоне. Профессору было что рассказать, и он никуда не торопился. Он умолкал лишь для того, чтобы перевести дух. Рот его блестел от шерри, длинные седые патлы растрепались во все стороны, и видом он напоминал древнего колдуна. Еретика, горячо проповедующего свою ересь. Сверля пламенным взглядом небогатую свою аудиторию, он вопросил:
– Знаете ли вы, почему наша страна – возможно, наимудрейший, наиуспешнейший человеческий эксперимент – не практикует ритуальную смену власти?
Не дождавшись ответа, доктор Бролли взревел:
– Карнавал! Фашинг!
И принялся объяснять, что последнее является немецким эквивалентом французского Марди Гра – завершающего дня празднеств перед началом изнурительного поста. В XVII веке в Баварии фашинг включал в себя ритуальную смену власти. Крестьянам дозволялось есть, пить, веселиться – а иногда и совокупляться – в церквях и соборах; в городах устраивались праздничные шествия, во время которых монахи и священники проезжали на телегах по главной улице и швыряли в толпу экскременты. Похабщина становилась священной, священное – похабным. Но все это лишь на короткое время.
Именно такой момент выбрал Мартин Лютер, чтобы вывесить на двери храма свои тезисы. Выступив с критикой католической церкви, он дал начало протестантизму.
– Вы ведь согласитесь, что Америка – государство протестантское? – уточнил доктор Бролли. – По-крайней мере, таковым оно основано. Протестантизм был создан в ходе ритуальной смены власти, и потому все протестантские религии таких ритуалов боятся. Его Святейшество папа римский продолжит омывать и целовать ноги бедняков в Великий Четверг, но протестанты такую уязвимость себе позволить не могут. В этом фатальный изъян нашей великой страны. Не готова она ссудить самым бедным, слабым, бесправным хотя бы час ритуальной власти. Дать возможность насладиться хотя бы одним днем, данным в счет будущих лишений. Да, есть у нас выхолощенные подобия таких ритуалов, вроде Хэллоуина и рождественских колядок для детей, но для взрослых это ничто. Такой ерундой взрослого человека не измотаешь, не убедишь терпеть свою бедность еще год.
Выдержав почтительную паузу, Джамал попытался вернуть беседу в первоначальное русло:
– Ну а список-то? В интернете который?
– Он настоящий? – с отчаянием взмолился Кейшан.
Утомленный выпитым, доктор Бролли с досадой поцокал языком. Протянул бледную руку, нежно пригладил Кейшану буйные кудри.
– Как специалист по социальной антропологии я много раз слыхал о существовании такого списка. Это городская легенда. Обыкновенная выдумка.
На лицах его юных гостей отразилось разочарование. Они пришли сюда спросить о своем товарище, узнать, не поможет ли им профессор. Увы, помочь он был не в силах. Или просто не хотел. Тупик.
Словно почувствовав их уныние, доктор Бролли поерзал в кресле. И то ли потакая им, то ли из кокетства спросил:
– А что происходит с теми, кто набрал слишком много голосов в этом вашем мифическом списке?
Разумеется, вопрос был задан исключительно с точки зрения социальной антропологии.
Опустив глаза, Кейшан придвинулся поближе к креслу. Встал на колени у ног ученого мужа. Вода в пластиковом тазике уже давно остыла. Кейшан взял с пола сложенное полотенце.
– Ну, примерно так… – проговорил он, бережно вынимая ногу профессора из чуть теплой воды.
Он обтер бледную ступню полотенцем, опустил на ковер, проделал то же самое с другой ногой, а затем по очереди поднес обе холодные сморщенные ступни к губам и поцеловал.
Доктор Эммет Бролли наблюдал за его действиями, отвесив бородатую челюсть. Он не знал, как реагировать.
Облобызав профессорские ноги, Кейшан без суеты вынул из-за пояса короткоствольный револьвер и засадил пулю прямо в разинутый профессорский рот. На выстрел никто не прибежал. В здании больше никого не было.
– Фальстарт, – произнес Джамал.
Бролли распластался в кресле под своей стеной почета, увешанной многочисленными дипломами, сертификатами, свидетельствами и грамотами. Глубокий кратер на месте его лица быстро заполнялся кровью. Кровь фонтаном брызгала из пробитой сонной артерии. Больше он никого не уморит скукой бесконечных лекций. Некоторое время его руки еще подрагивали, а потом кровь перестала литься с бороды. Профессор был мертв.
Кейшан убрал револьвер за пояс.
– Через несколько дней это уже будет неважно. – Он кивнул Джамалу на пафосный мавританский ножичек для бумаги. – Ну, сколько стоит?
Джамал пролистывал в телефоне список. С каждым днем список делался все длиннее, люди торопились внести кандидатуры перед закрытием. Наконец имя нашлось.
– Ты не поверишь…
Кейшан застыл.
– Ну?!
Джамал, сияя, поднял взгляд от экрана.
– Шестнадцать тысяч голосов!!!
Фактически у них теперь была собственная политическая партия. Кейшан ахнул, зажал рот обеими ладонями и шепотом заверещал в них от восторга. Джамал взял со стола мавританский ножичек.
– Слава Богу, Уолтер нам рассказал, – вздохнул он, срезая ухо.
Кейшан, покраснев, беспомощно развел руками и проговорил еле слышно:
– Бедный Уолт…
Джамал передал ему ухо со сверкающей в мочке бриллиантовой серьгой. Они с Кейшаном стукнулись кулаками над изуродованным трупом доктора Эммета Бролли. Прежде чем уйти, Кейшан снял со стены раму с опаленным флагом, реликвией каких-то давно забытых протестов. Подержал в руках с благоговением и повесил обратно, перевернув правильной стороной.
Джамал взял книгу Саула Алински, которую профессор читал перед смертью, полистал безразлично.
– Прошло время красивых слов, – сказал он и аккуратно возложил хрупкую бумагу в жадное пламя камина.
* * *
Пайпер охрип. В горле у него пересохло, и сил уже не осталось никаких.
Распустив прочих соискателей, комиссия заставила его читать бесконечные реплики. То, что начиналось как обычные кинопробы, превратилось в марафон – словно теперь его проверяли на выносливость. Клем – или Нэйлор, или кто бишь там вел кастинг – морщился и говорил: «Как-то пока неубедительно. Для этой роли требуется гораздо более сильный характер». Будто издевался. А карточки с текстом содержали такую бредятину, что Пайперу уже хотелось на все плюнуть.
Государство Арийское воюет с Гейсией. Государство Арийское всегда вело против Гейсии войну.
Стопка еще не прочитанных карточек была толщиной с телефонный справочник, какие ходили в прошлом веке. Ассистент поднимал их одну за другой, и Пайпер послушно читал.
Пожары, что пожирают наши города, разжигают верные старому режиму.
Мир желает получить общую теорию поля. Единую теорию, объясняющую все. Раз люди этого хотят – пусть получат.
Не то мера человека, что он делает ради денег, а то, как он проводит свободное время.
Торжественная военная процессия займет выкошенный Портленд!
Прелесть выдумки в том, что ей нужно лишь пахнуть правдой.
Это была полная ахинея. Чудовищная галиматья, высосанная из пальца какими-то борзописцами. Ни один канал на такое не позарится.
И все же Пайпер работал с полной отдачей. Узел галстука съехал, приоткрыв пуговицу на воротнике, пряди волос выбились из укладки и прилипли ко лбу. Но он не сдавался. Покрасневшие глаза слезились, но сдаться он был не готов. Пускай директор по кастингу – кто бишь там, Руфус, Колтон или Брэч – поднимает новую карточку.
* * *
Прежде этой книги была иная книга… прежде чем были вырыты ямы под братские могилы… прежде всего этого был просто Уолтер и его хитрый план обогащения.
Шагая по улицам Нью-Йорка, он открыл порнуху на телефоне. Не видео, так, картинки – чисто чтобы к яйцам прилило. Чтобы перестать думать головой, а начать головкой. Стоячий хер ничего не боится. Порнуха была для Уолтера все равно что шпинат для Морячка Попая. Что гнев для Халка. Под ее действием он мог бы смотреть на потолок Сикстинской капеллы и не найти там Бога за бесконечно вдувабельными жопками ангелов.
От порнухи Уолтер превращался в волчью стаю из одного волка. На телефоне он нагуглил вот такой список:
Тед Банди
Уэйн Уильямс
Дин Корлл
Ричард Рамирес
Анджело Буоно
Дэвид Берковиц
Живи честно, будь добропорядочным, законопослушным членом общества – и общество забьет на тебя болт. Никто бровью не поведет, если Уолтер сдохнет с голоду или ненароком свалится под колеса грузовика. Или если его отправят в горячую точку и сунут там штык в зад. Будет он жить или сдохнет – всем плевать. Но если убить парочку таких же никому не нужных, общество тут же встанет на уши. Перевернет все на свете, лишь бы его найти. Сонмы налогоплательщиков будут до конца жизни финансировать ему из своего кармана жилье, жратву и чистую одежду. А если он вдруг жрать откажется, сунут ему в глотку трубку и будут накачивать едой через нее. Такого сервиса он не видал с тех пор, как покинул материнскую утробу.
А пока всего этого не случилось, Уолтер спокойно шагал по улицам Нью-Йорка. Хищник среди невинных овечек.
Из учебы он вынес одно: недалеко заводит учеба. Иначе учитель алгебры рассекал бы на частном самолете и пил шампанское из туфельки. Нет, учеба приводит всех и каждого плюс-минус к одному и тому же. Вкладывает в голову, что надо стать кем-то – юристом, бухгалтером, укротителем львов – и потом менять свои умения по кусочку на кусочки чужих умений. А Уолтер так не хотел. Он хотел быть не кем-то, а всем.
Но чтобы подняться над остальными, ему был нужен ментор. Какой-нибудь миллиардер, который взял бы его под свое миллиардерское крылышко и поделился с ним секретом, как заставить деньги размножаться быстрее кроликов. Поведал бы ему тайны инсайдерской торговли и нюансы товарных фьючерсов. За ручку ввел бы его в бесчувственный мир, где бизнес ест бизнес, а денежки копятся на счетах в каких-нибудь уютных офшорах и растут, растут, растут…
Сегодня Уолтер сказал себе, что все сможет. Во-первых, он изучил матчасть. Он почитал финансовые разделы разных газет, выбирая из представленных там джорджей соросов и братьев кох. Приценился ко всем инвестиционным воротилам и властителям хедж-фондов с громким именем. Полистал самый пафосный светский глянец, проштудировал список самых влиятельных персон по версии журнала «Форчун». Нашел себе короля Мидаса, который дергает за невидимые ниточки и превращает солому в золото.
Он составил список того, во что когда-то верил:
Санта-Клаус
Бог католиков
Бог баптистов
Бог буддистов
Бог язычников
Сатана
Пасхальный заяц и Зубная фея
«Сиэтл Суперсоникс» и «Оклахома Аутлоз»
Гэри Харт, Уолтер Мондейл и Альберт Гор
Обрезание
Когда-то он верил в демократию и «Явное предначертание». В капитализм, в моральный релятивизм, в марксизм. После такого поверить можно вообще во что угодно. Пожалуй, веру в эти нелепые абстракции можно считать упражнением в умении верить.
Из всего, во что он верил, теперь осталась только Шаста. Единственная его религия. Погрузив два пальца в карман штанов, Уолтер подцепил ими розовый комочек, похожий на крошечную зефирку. Это была ушная затычка. Уолтер стащил ее на практическом занятии по предмету «Инструменты индустриального дизайна», когда Шаста выключила сверлильный пресс, вытащила беруши и отошла позвонить. Теперь, шагая по нью-йоркской улице, он поднес шарик к носу и вдохнул. Закинулся сладостным ароматом ее мозгов и кожи.
Пускай его отец не какой-нибудь там тяжеловес финансового рынка и не завел на имя Уолтера кругленький трастовый фонд, Уолтер это исправит. Человек ведь может завести несколько детей, так почему бы не завести себе больше одного родителя? Если можно принять в семью неродного ребенка, отчего бы не принять неродного отца? Богатенького. Такого, чтобы вложил Уолтеру в плебейский рот пресловутую серебряную ложку. И вот Уолтер шагает по городу, пряча в кармане оружие, и готовится стать сыном какому-нибудь ничего не подозревающему Крезу.
Выбирает себе магната. Прямо как будто играет в фэнтези-футбол – только с собственной родословной.
Деньги – чистейшая суть всего окружающего, та форма, которую принимает все на свете для реинкарнации во что-то иное. Уолтер тоже принял свою чистую форму – стал изначальным Уолтером, каким он был до вливания в него чужих мнений, образования и осторожности. В эту форму он переходил с помощью порнухи.
Где-нибудь тут, на какой-нибудь Мэдисон-авеню он и найдется – новый папаша Уолтера с жестким лицом и математическим складом ума. Может, не богач в цилиндре с коробки игры «Монополия», но достаточно умудренный опытом. Если Уолтер способен подобрать бродячую собаку с улицы, он и с этим справится. Силовой захват. Силовой. Звучит неплохо. Если подумать, прямо комплимент. Уолтер повторял себе это, когда, как Марк Дэвид Чепмен, ехал в Нью-Йорк и снимал номер в отеле на кредитку, чтобы, как Марк Дэвид Чепмен, идти по улицам в надежде наткнуться на свою цель. На своего нового папашу, даже не подозревающего, что скоро у него будет взрослый сын.
С телефона он набрал в Гугле запрос: список запланированных жертв Чепмена.
Джонни Карсон
Марлон Брандо
Уолтер Кронкайт
Джордж Кэмпбелл Скотт
Жаклин Кеннеди Онассис
Джон Леннон
Элизабет Тейлор
У Уолтера был свой список из нескольких потенциальных отцов. С этим списком, с оттопыренными карманами плаща, с прочищенными порнухой мозгами он шнырял по улицам. Выбирать ему не приходилось, Уолтер был намерен брать того, кто подвернется первым. В его списке фондовых маклеров и воротил рынка недвижимости встречались и женщины, но пол будущего «отца» был Уолтеру неважен, лишь бы его научили хитростям производства денег из воздуха. Он шел по тротуару твердым шагом, он был в рейде по тем местам, где искомые финансисты могли пастись с наибольшей вероятностью. Перечень этих мест сопровождал его список вместе с фотографиями целей. Уолтер шел и думал о Шасте. О том, какое у нее будет лицо, когда она увидит его на пороге своей комнаты в общаге. Он явится забирать ее в новую жизнь со всем пафосом – на личном самолете и с табуном породистых лошадей. И еще с Бейонсе – будет у Шасты подружкой не- весты.
Он набрал в Гугле запрос: убойный список Чарльза Мэнсона.
Стив Маккуин
Ричард Бертон
Том Джонс
Фрэнк Синатра
Элизабет Тейлор
С катушкой скотча в кармане Уолтер прошел по Уолл-стрит. Поднялся по Лексингтон-авеню до универмага «Блумингдейлс». Он зорко смотрел по сторонам – хотя плохо представлял себе, что будет делать в случае внезапного обнаружения цели. Ловля миллиардеров в естественной среде обитания… Пожалуй, надо сесть будущему папке на хвост и топать за ним квартал за кварталом до тех пор, пока не придется остановиться на светофоре где-нибудь на углу Пятьдесят седьмой улицы в ожидании зеленого сигнала. Вот тогда Уолтер бочком подрулит к этому Майклу Блумбергу и так, между прочим поинтересуется: «А вы, часом, не Уоррен Баффет?»
Кожа у избранного аристократа будет бледная и сухая, как древняя папиросная бумага. Старец окинет Уолтера презрительным взглядом, а Уолтер продолжит светским тоном: «Вероятно, вам будет небезынтересен тот факт, что я располагаю пистолетом «глок-пятнадцать». И продемонстрирует выпуклость в кармане плаща.
Вот это уже захватит внимание старика, вот тут его можно будет брать тепленьким. Что Уолтер и сделал – велел ему поймать такси, и они вместе влезли в салон. Уолтер назвал таксисту адрес в Куинсе – в паре кварталов от этой точки у него была припаркована прокатная машина. В такси они ехали молча. Выпуклость в кармане плаща упиралась в почку человеку, который должен был стать для Уолтера билетом в другую жизнь. Такую, какой можно радоваться каждый день, а не запихивать всю доступную радость в субботний вечер. Для поддержания боевого духа Уолтер пролистнул порносайты. У него была пачка жевательной резинки с гашишем, ею он любезно угостил попутчиков. Таксист растерянно взял жвачку, не понимая, что это такое. А вот этот Бернард Арно отказался. Уолтер сунул жвачку себе в рот и заверил:
– Я не сделаю вам ничего плохого.
– И для того чтобы не сделать мне ничего плохого, тебе необходим пистолет? – поинтересовался этот Амансио Ортега.
– Просто хочу одолжить ваши мозги на пару дней, – объяснил ему Уолтер.
За окнами с обеих сторон проплывало архитектурное величие Нью-Йорка, а этот Карл Альбрехт спросил:
– Ты разве не чувствуешь ворс на жвачке?
– Чего? – не понял Уолтер.
– Я говорю, ворс. Пух. Нитки. На жвачке, которой ты меня угостил с таким великодушием. – Он развел руками, воздел глаза и взмолился, адресуясь к крыше машины: – В моем-то возрасте, на исходе жизни как я могу верить малолетнему бандиту, который сует мне свои грошовые сласти, собравшие на себя всю грязь с подкладки кармана?!
Уолтер тут же почувствовал, что меж зубов у него застрял какой-то пух. Щеки у него вспыхнули от стыда, но выплюнуть жвачку означало бы подтвердить правоту старика.
– Да что вы понимаете, отличная жвачка! – огрызнулся он.
Следовало вытащить телефон и догнаться порнухой, но Уолтер не хотел, чтобы старикан был этому свидетелем.
Водитель выплюнул жвачку в окошко.
– Да ладно вам, она вкусная! – заявил Уолтер им обоим.
Потом они вылезли и пошли пешком по Куинсу до прокатной машины. Открыв багажник, Уолтер велел своему пленному Карлосу Слиму влезать внутрь.
– Одна неделька, не больше, – пообещал он.
Потом с телефона продемонстрировал фотки Шасты. Вот Шаста улыбается, вот Шаста спит, вот на него дуется.
– Мой мотив, – пояснил Уолтер старику.
Он заметил, что старик глядит на ручку, открывающую багажник изнутри, и подумал – пускай. Пусть надеется выпрыгнуть на первом же светофоре, лишь бы внутрь залез.
Пленный Ингвар Кампрад тяжело вздохнул.
– Мистер Террорист обещает продержать меня всего недельку… – бурчал он, влезая в багажник.
Скорчившись там рядом с запасным колесом, он стал совать Уолтеру свои наручные часы, телефон и бумажник. Уолтер отказался. Потом передумал и телефон взял – все-таки GPS стоило отключить.
– Вы меня неправильно поняли, – сказал он. – Не нужны мне ваши деньги. И никакой я не террорист.
Он с размаху захлопнул крышку багажника, запер его и наконец-то выплюнул долбаную жвачку. Выудил из кармана плаща трубочку на один затяг, вдохнул полной грудью и задержал дым в легких, размышляя. Бедная Элизабет Тейлор. Ее внесли аж в два списка. И еще ведь был роман про покушение на нее. У Джеймса Балларда, «Автокатастрофа» называется. Там ее лимузин планировали проткнуть седаном, который должен был вылететь сверху с эстакады – получилось бы вроде как символическое изнасилование. Может, такая прорва желающих ее убить является высшей мерой звездной славы?
Через закрытую крышку багажника Уолтер выразил сожаление по поводу происходящего, по поводу Холокоста и всего такого. Заверил, что ничего подобного не будет. Он парень толерантный, свой урок в школе усвоил хорошо. Когда-то в средних классах он сделал диораму о геноциде евреев в качестве домашнего проекта. Это был его ответ придуркам в интернете, отрицающим Холокост. Он построил печи из конструктора «Лего», над их трубами курился зловещий дым, пахнущий сандаловым деревом – пришлось использовать ароматические палочки, больше ничего подходящего в «Уолмарте» не нашлось. Игрушечный бульдозер сгребал голых кукол Барби в братскую могилу, торопясь скрыть трупы от наступающих войск союзников. Уолтер приложил массу усилий, – а в награду был отправлен к школьному психологу смотреть кино про то, как плохо быть бестактным упоротым болваном.
С тех пор Уолтер культивировал в себе внимательное отношение к религиозным убеждениям окружающих, изо всех сил стараясь не оскорбить ничьих чувств.
Убирая в недра плаща трубочку, он нащупал свернутое проволочное кольцо. Удавку.
По правде, не было у него никакого пистолета. Выпуклость в кармане, которой он пугал старика, содержала в себе внушительный пакет сорта «калифорнийский ультрафиолет». И еще катушку скотча, которым Уолтер забыл воспользоваться. Наклонившись к багажнику, Уолтер шепотом заверил:
– Короче, травить вас газом никто не будет.
И только потом догнался порнухой. Он еще ничего не знал. Не видел всей картины.
Похищение прошло так легко, так тихо, так безболезненно… следовало бы сразу почуять подвох. Чудовищный подвох.
– Каким еще газом? – ответили из багажника. – Какого черта меня травить? Я лютеранин, мистер Террорист.
И раскаты злорадного смеха донеслись из-под крышки.
* * *
Шестьдесят дней спустя список был заморожен. Имена с недостаточным количеством голосов были исключены. Награды за оставшихся – зафиксированы. Приняли меры для того, чтобы игроки не могли вычислить и внести в список друг друга. Когда настанет Ссудный день, список будет уничтожен.
* * *
Это Пайпера заставили повторить много раз. Каждый раз с одной и той же интонацией, будто он робот.
– Ссудный день настал, – послушно декламировал он.
Ссудный день настал. Ссудный день настал. Ссудный день настал.
Повторенные часто, слова утратили всякий смысл. Превратились в мантру, в барабанную дробь. Требовалось прилагать усилия, чтобы не смазать коварную двойную «с» в начале. Пайпер знал, что каждый дубль идеален, однако оператор за камерой раз за разом давал ему сигнал повторить.
В какой-то момент ему пришлось попросить воды. Ассистент порылся в заполненном льдом контейнере и сообщил, что у них только пиво. Съемка возобновилась.
– Ссудный день настал.
И так много раз.
– Списка не существует.
И так много раз.
– Первой жертвой войны становится Бог.
И так много раз.
– Тот, кто в двадцать пять лет способен встать лицом к реальности, в шестьдесят способен ее диктовать.
Директор по кастингу – Клем, Руфус или Нэйлор – сверился со своими записями, кивнул и поднял глаза на Пайпера.
– Отлично. Теперь нам надо все то же самое на испанском.
Хлопнуть дверью Пайпер не мог – была нужна работа. Наконец Клем пообещал, что свяжется с его агентом по поводу подписания контракта. Все члены комиссии по очереди пожали ему руку немытыми мозолистыми лапищами и каждый пробурчал «спасибо». Оператор сунул ему большой плотный конверт и проводил до парковки. Как только Пайпер оказался в машине, вдали от посторонних глаз, он вскрыл конверт. Внутри лежала перевязанная бумажной лентой пачка стодолларовых купюр. Пайпер не знал, что это – взятка или предварительный гонорар. Все, что произошло с ним в этот день, было похоже на его представления о съемках порнографии. На бумажной ленте было напечатано: $10000.
* * *
Чарли поместил резиновую прокладку в гидравлический пресс, сверху расположил стальной прижимный фланец, продел в отверстие болт. Нажал на педаль, и пресс зашипел, скрепляя детали. Чарли закрутил контргайку, как полагалось по техническим условиям, отпустил педаль, вынул из пресса готовый упор моста и бросил в сетчатую корзину, на которой значился номер изделия. Взял очередную прокладку, очередной фланец, очередной болт. Прежде работа была унылой и нудной, теперь же каждое повторение наполняло его радостью. Это был обратный отсчет к новому будущему, и впервые в своей взрослой жизни Чарли ждал будущего с нетерпением, как когда-то ребенком ждал Рождество.
Невозможное случилось. Гаррет Доусон сказал ему: «Эй, ты!» – и сделал Чарли знак подойти. Король цеха Гаррет Доусон.
Вот так одним коротким жестом жизнь Чарли была спасена.
Среди всех громогласных и наглых уродов, с которыми приходилось сосуществовать в цеху, этот человек выбрал его! Чарли был польщен. Как в Библии, он чувствовал себя миропомазанным. Ему явился ангел. Он ведь, по сути, не жил до того дня, когда Гаррет Доусон вызвал его на разговор после смены и сообщил, что Чарли не такой, как все. Что судьба его простирается куда дальше заводского цеха.
Никто и никогда – ни учитель, ни священник, ни тренер – прежде не говорил Чарли, что он сможет участвовать в управлении миром.
Двадцать семь лет, работа на сборочном конвейере, три выговора с занесением в личное дело. Если он еще раз опоздает к проходной, его ждут четвертый выговор и увольнение. Со школьных лет Чарли привык довольствоваться малым. Он ничего не ожидал от окружающих, кроме элементарной вежливости. Он хотел, чтобы люди смотрели на него без страха. Не восторгались им, а просто его видели. Уважали достаточно, чтобы не спешить оскорблять и травить.
Теперь его выбрали и приняли в команду. Самую элитарную команду в истории. И если все получится, они станут главными законодателями новой нации. А нация, которой они будут управлять, станет править всем миром. Можно ли спокойно спать по ночам, когда впереди такое?
В тот день Гаррет Доусон показал на телефоне список. Объяснил Чарли, где в интернете этот список найти. Доусон увидел в Чарли способность к героизму, понял, что Чарли способен внести свой вклад в Ссудный день. Доусон объявил, что Чарли как раз из той породы мужчин, готовых за один день повернуть ход истории во благо общества.
Все это прозвучало от человека, который ни разу за семнадцать лет не опоздал на смену и в личном деле у которого не было ни одного выговора. Гаррет Доусон являл собой живое доказательство того, что тяжелый труд – занятие достойное. Доусон шел на риск, приглашая Чарли присоединиться, а ведь он человек семейный, ему было что терять.
Конечно, Чарли собирался оправдать оказанное доверие. Все-таки Доусон выбрал именно его из всех рабочих «Кей-Эл-Эм индастриз». Он наблюдал за Чарли издалека, оценил его спокойную сдержанность. Он безошибочно почуял, что Чарли умеет хранить секреты и не станет молоть языком, подвергая опасности все предприятие. Он увидел в Чарли скрытую силу, неиспользуемый потенциал. То, чего не замечал никто, даже родной отец, Гаррет Доусон определил сразу.
Внимательно наблюдая, он пришел к выводу, что Чарли все сделает как надо: приобретет необходимое оружие, займется упражнениями в стрельбе по движущимся целям. Его помощь будет ценна и в сам Ссудный день и после, в многие последующие десятилетия, когда их группа станет правящим классом.
Не боясь показаться любителем астрологии, Доусон рассказал Чарли о периодах Сатурна в человеческой жизни. Объяснил, что как раз такой период начался у Чарли в двадцать семь и к тридцати одному году он сам себя не узнает. Доусон говорил о физиологии мозга: что есть данные исследований, согласно которым последние крупные изменения в мозгу происходят в возрасте около тридцати одного года. Именно в это время образование человека и его опыт объединяются в нечто большее. Если человек переживает двадцатисемилетний рубеж – возраст смерти многих рок-звезд, – то у него есть хорошие шансы к тридцати одному году воплотить свои самые смелые амбиции.
По мнению Доусона, природа не наделила его аналитическим умищем, чтобы он мог всю жизнь писать хитрые программки. И он, и Чарли являются конечным продуктом тысячелетий тяжелого труда и мудрых решений. Доусон видел большую иронию в том, что вершина эволюции всех гениев прошлого, всех сильнейших дикарей древних племен вкалывает в таких вот цехах. Здесь, в «Кей-Эл-Эм индастриз», собрались те, кто способен выдержать самый жестокий удар судьбы – и при этом они до полусмерти боятся увольнения и молятся о том, чтобы провести еще сорок лет, нанизывая гайки на болты.
Славным предкам до лампочки, сколько деталей Чарли соберет в час, за смену, за пятьдесят лет. Они смотрят из загробного мира и ждут, когда Чарли проявит завещанную ему отвагу. Когда-то они отдали за него жизнь и предполагают, что Чарли так же отдаст жизнь за грядущие поколения.
В один ряд с великими предками Гаррет Доусон поставил тот клан, в который предлагал Чарли вступить. Он стал объяснять устройство будущей системы, и Чарли весь обратился в слух. Цепочка власти в каждом клане идет от основателя – одного из семерых членов Совета Племен. Именно эти семеро основали Список. Именно они призвали первых бойцов, выбирая самых надежных, способных, твердых духом. Каждый из этих бойцов выбрал и призвал еще одного товарища. Так формировались кланы. От одного человека можно легко отследить весь клан до основателя, и если один боец подведет, грядет поражение всего клана. И наоборот, успех каждого становится общим успехом.
К этому моменту сеть избранных уже была сформирована. Они, простые люди, продолжали жить в своих трудах. Обычные люди – тихие, ничем не привлекающие внимания. Они растили детей, платили налоги, держались с достоинством и всегда помнили о том, что скоро у них будет возможность устранить изъяны общества.
А волновался теперь Чарли о следующем шаге. Он хотел пригласить своего шурина. Сделать его частью клана. На всяком семейном сборище они с шурином дружно усаживались перед телевизором. Сгорбившись, утыкались в экран и молчали. Молчали всегда, чтобы не провоцировать конфликтов. Любой большой семейный обед – на Рождество ли, на День ли благодарения – неизменно превращался в галдеж. Словоохотливые родичи, как попугаи, без конца повторяли общественно одобряемые мнения о происходящем в мире, и пытаться возражать им означало бы изговнять всем праздник. Вот Чарли с шурином и не ввязывались. Сидели тихо, не отсвечивали. Набивали рот индейкой или пасхальной ветчиной и делали вид, что это не их жизнь проходит мимо.
Чарли знал наверняка, что в Ссудный день шурин будет очень полезен. Только не проболтался бы. Если узнает сестра – все пропало, она уж точно всем раззвонит. К тому же она была как раз из тех попугаев, которые превыше всего ценят стабильность и готовы до самой смерти гоняться за пятерками от учителей, тоже всю жизнь гонявшихся за пятерками.
Ее длинный язык может погубить всех. Пойдут слухи, хуже того – по уставу нарушивший тайну должен быть уничтожен вместе с тем, кто его пригласил. А это значит, что и Чарли, и сестру, и ее мужа уберут еще до Ссудного дня и не останется после них ни династии, ни наследия, и все их родичи будут исключены из сферы власти. А Гаррет Доусон, бедный Гаррет Доусон со стыда провалится за то, что остановил свой выбор на таком недоумке и предателе. Доусон, который поставил на кон собственную жизнь, предположив, что Чарли достоин доверия и справится с назначенной ему ролью в великолепном новом будущем. И вот из-за Чарли его клан будет отброшен на шаг назад, пока другие продолжают множить свои ряды.
С некоторыми кланами такое уже случалось. Кто-то донес, двоих пришлось убрать, тот, кто был в цепочке над ними, выбрал еще раз, и клан пошел множиться дальше. Но те кланы, что развивались без таких спотыканий, насчитывали уже многие сотни. Они-то и выбьют больше всего целей.
Ради блага клана Чарли был обязан выполнить свой долг. Пройти первое испытание. Гаррет Доусон прямо сейчас наблюдал за ним из дальнего угла цеха. Чарли поместил резиновую прокладку в пресс. Положил фланец, продел болт. Нажал на педаль, скрепил детали.
Жизнь в замке не делает человека королем. Полеты на частном самолете не делают его астронавтом. Похвальба мускулами не доказательство силы, как трофейная жена не доказательство триумфа. Всю жизнь Чарли мечтал об атрибутах власти, не понимая, что властью является лишь власть. Храбростью может считаться лишь храбрость. Только реальные действия идут в зачет. Так говорится в книге. Книгу Гаррет Доусон ему тоже вручил. Вместе с обязанностью выбрать следующее звено клана.
Другие кланы преумножались день ото дня, час от часа, а Чарли все медлил. Застыл в нерешительности. Если он выберет ненадежного человека, то подпишет себе смертный приговор. Если не сделает выбор, то подорвет силы клана, подведет людей, которые на него положились. А самое ужасное – если ему не по силам этот риск, много ли толку от него будет в Ссудный день?
* * *
Иссиня-черная обложка бросалась в глаза, как бритая голова. Книга была большая, в карман не спрячешь. Золотые буквы заголовка служили знаком отличия для тех, кто открыто нес ее по улице, кто читал ее в транспорте. Знак героев. Чтение стало актом мятежа, совершаемым у всех на виду – но понятным лишь другим мятежникам с такой же книгой.
К примеру, если полицейский тормозил кого-то за превышение скорости и замечал на пассажирском сиденье книгу, дело обходилось без штрафа. Если женщина видела в руках мужчины книгу и начинала расспрашивать, а мужчина уходил от ответа, он немедленно становился для нее более привлекательным.
Как объяснял доктор Бролли, у всякого «молодежного бугра» есть свой текст. Книга, которая оправдывает действия. У конкистадоров была Библия. У бойцов Мао – книга его изречений. У нацистов – «Майн кампф». У американских радикалов – Саул Алинский.
Учителя и родители были в восторге, что пацаны в кои-то веки что-то читают.
Пацаны и молодые мужчины, которые в жизни по доброй воле не домучили ни одной книги до конца, часами глотали страницу за страницей.
Книгу получали только мужчины, приглашенные в тот или иной клан, и обсуждать ее могли только между собой. И они обсуждали – до тех пор, пока книга не была заучена наизусть.
Читать ее на людях было действием политическим. Неприкрытым нахальством. Сигналом для посвященных. Демонстрацией статуса. Идейным заявлением для единомышленников.
Книги Толботта Рейнольдса не было ни в одной библиотеке. Не продавали ее ни в одном магазине.
Она сразу бросалась в глаза. Держатель ее становился героем в глазах тех, кто о ней знал. Ее специально носили при себе, чтобы привлечь внимание своих. Чтобы показать друг другу, как многочисленны их ряды, и укрепить решимость. Книга в руках была свидетельством, что владелец ее избран храбрейшими из храбрейших и принят ими как равный. Ее носили с собой всегда и везде, как солдаты несут знамя в битву.
Как и все самые важные книги человечества, эта книга имела смысл только для тех, кто уверовал. Как и в случае с Кораном, Книгой Мормона или Манифестом коммунистической партии, прочитавшая текст случайная особа ничего бы в нем не поняла и, махнув рукой, с досадой отложила бы.
Случайные люди не могли дочитать книгу до конца, адепты же бесконечно перечитывали, всякий раз обретая в ней новые и новые озарения.
Носители книги устали быть потребителями и поглощать блага. Они желали, чтобы их самих поглотило нечто большее. Не они выбрали себе призвание, но призвание выбрало их. И призыв этот получился куда многочисленней, чем объявленный правительством.
* * *
Мать в конце концов поймала Терренса – вошла, когда он читал. Он читал иссиня-черную книгу с тех пор, как в очередной раз полежал в больнице. Эту книгу ему передал отец – через сердобольную медсестру, которая согласилась ни слова не говорить матери. Сам отец к нему не зашел, зато написал на обложке своей рукой: «Сыну. Очень скоро мир станет другим. Будь сильным». И еще в книге некоторые строки были подчеркнуты карандашом.
Терренс понимал, что от матери книгу надо прятать. Заныкал ее в вещах и увез домой, когда выписался. Врачи снова ничего у него не нашли – ничего такого, что могло бы объяснить его приступы. На всякий случай они просто в очередной раз увеличили дозировку сертралина, преднизона, бета-адреноблокаторов и коллоидного серебра.
Неизвестно, зачем отец передал ему книгу, но она стала для Терренса все равно что Библией. Он начинал читать на рассвете сразу после пробуждения – в единственное время, когда он был в состоянии воспринимать текст. После утреннего приема таблеток разум затуманивался, и Терренс не мог удержать в голове даже сюжет мультиков по телевизору.
Сегодня, к примеру, он прочел:
Счастливое прошлое делает людей калеками. Они цепляются за воспоминания, потому что им некуда больше идти. Им не к чему стремиться.
Как ни шерстил Терренс память, от отца в ней остался лишь запах бриолина. Напоминающий ланолиновую мазь и чернильные ленты для старых пишущих машинок. И еще то, как отец проводил гребенкой по его голове, делая пробор. На воскресную проповедь они с ним всегда шли с одинаковой прической. А вот лица Терренс вспомнить так и не смог. Больше вообще ничего – только запах бриолина и гребенка, ведущая черту по коже головы.
Прямо как этот карандаш. Как плуг. Терренсу нравилось представлять, как отец подчеркивал для него слова в книге – длинными уверенными росчерками. Внимательно и вдумчиво выбирал он самое важное для своего сына. В каждом абзаце скрывалось откровение. И на полях тут и там было выведено тем же убористым почерком, что и надпись на первой странице: «Сказать Терри». С полей книги на Терренса глядело доказательство того, что отец о нем заботится.
Следующий подчеркнутый абзац гласил:
Никто не заинтересован в том, чтобы вы раскрыли свой истинный потенциал. Слабые не хотят находиться в обществе сильных. Инертные не переносят тех, кто готов развиваться.
Терренс шептал эти слова себе под нос, заучивая их наизусть.
Боль и недуги всегда будут вашими спутниками. Выбирайте их сами – будь то боль от физического труда или болезнь от перенапряжения. Рассчитывайте свою боль. Наслаждайтесь ею. Используйте ее, чтобы она не могла использовать вас.
Дальнейшее случилось неожиданно. Возможно, он забыл запереть дверь. А может, мать тайком воспользовалась ключом, пока Терренс был поглощен книгой. В общем, дверь распахнулась, и она возникла на пороге, держа в руках поднос с завтраком – идеально сваренным яйцом пашот, тостом из цельнозернового хлеба и половинкой грейпфрута. При виде книги глаза матери вспыхнули, но лишь на мгновенье. С нарочито спокойным видом она спросила:
– А что ты читаешь?
На книгу мать смотрела с враждебной подозрительностью. Конечно же, она знала, что это. Книгу Толботта обсуждали на всех телеканалах и по всему интернету. И как все мистические тексты – от «Селестинских пророчеств» до «Чайки Джонатана Ливингстона», – она не оставляла к себе равнодушных. Ее либо превозносили, либо ненавидели. Мать Терренса принадлежала ко второму лагерю. Наклоняясь, чтобы поставить поднос на прикроватный столик, она заглядывала Терренсу через плечо.
Не дождавшись ответа, она выжала из себя улыбку.
– Я купила тебе розовый грейпфрут!
В первых лучах рассвета Терренс читал про себя:
Слабые хотят, чтобы вы отказались от своей судьбы – как они ушли от своей.
Наверняка она узнала, откуда у него появилась эта книга и кто ему ее передал. Много лет она не подпускала к нему отца, говоря всем, и Терренсу, и медсестрам, что отец его – узколобый расист и шовинист, которого хлебом не корми – дай устроить травлю какого-нибудь трансгендера или залезть пьяненькой студентке под юбку. С тех пор как у Терренса начались загадочные припадки, мать взяла всю заботу о нем на себя – и стала единственным человеком, с которым Терренс имел возможность общаться.
Она сделала ему знак подвинуться и присела на край кровати, через одеяло привалившись бедром к его бедру. Потянулась якобы взбить ему подушку и под это дело сунула нос в книгу.
У всякого должен быть выбор – умереть или бороться.
Мать прочитала это вслух и презрительно скривила рот.
– Мусор! – объявила она.
Ее брезгливый тон уже был насилием. Но она еще и за книгу рукой схватилась и потянула к себе.
– Дай сюда эту дрянь и поешь нормально.
Терренс вцепился в книгу, не поднимая глаз от страницы.
– Что ты там прячешь? – Мать потянула книгу сильнее. – Ты что, боишься, я ее сожгу?!
Видя, что Терренс держит книгу мертвой хваткой, мать сменила тактику: разжала пальцы и выпрямилась. Она оценивающим взглядом смотрела на него, простыни, книгу. Лицо у нее при этом ничего не выражало. Настоящая маска коварства.
– Что-то у тебя глаза блестят, – вдруг проговорила она и приложила прохладную ладонь к его лбу. – И горячий какой-то. – Она погладила его по щекам, пригладила на висках волосы. – У тебя ведь сейчас будет припадок, да?
Так все каждый раз и начиналось. Мать гладила его по лицу, ворковала, заглядывала в глаза и сообщала, что он какой-то бледный, что у него испарина. Она мурлыкала ему, как младенцу: «Бедный мой малыш… Слабенький мой, ранимый мальчик…» И действительно, по лицу Терренса начинал катиться пот, все плыло перед глазам. Мать подсказывала: «В ушах, наверное, звенит» – и уши послушно принимались звенеть. А дальше она призывала на его голову мигрень и озноб, и все это немедленно сбывалось, как проклятие.
В этот раз, нежно лаская пальцами волосы сына, она хотела, чтобы с ним случился припадок – очередной приступ судорог и спазмов, из-за которого его снова упекут на больничную койку. Но Терренс не отрывал взгляд от страницы. Он читал:
Чернокожий бандит участвует в групповых нападениях, гомосексуал позволяет себе беспорядочные половые связи – поскольку и то, и другое является демонстрацией политической идентичности. Уберите внешнего наблюдателя, и стимул к подобным действиям пропадет.
Мать попыталась его спровоцировать.
– А ты знаешь, как разумные люди называют эту книгу? – спросила она с издевкой, а когда он не повелся, выпалила: – Новой версией «Майн кампф»!
Терренс чувствовал, что угроза припадка миновала. Он вышел из оцепенения, дыхание стало глубоким и ровным, сердце больше не колотилось. Видя, что ее маневры не возымели обычного эффекта, мать снова отстранилась и спросила:
– Чего набычился? Тебе стыдно?
Терренс не ответил.
– У тебя что, снова было непроизвольное мочеиспускание? – Она принялась шарить по постели. – Ну-ка, показывай катетер!
Терренс уворачивался в попытках защититься. Прижимая книгу к груди, он яростно взвыл:
– Мама! Мне девятнадцать лет! Устал я от этого катетера!
Она откопала под одеялом мочеприемник – прозрачный пластиковый пакет, полный и тяжелый – и потрясла этой хлюпающей жутью у Терренса перед носом.
– Мы сможем избавиться от катетера, если кое-кто перестанет писаться в постель!
Терренс знал, что это отговорка. На самом деле мать много лет измеряла и записывала все, что выходило из его мочевого пузыря и кишечника. С какой целью, Терренс не задумывался – до тех пор, пока не начал читать книгу Толботта.
Мать выпустила из рук увесистый пакет и резко схватила книгу.
– Дай сюда! – прорычала она.
Терренс держал мертвой хваткой, однако матери удалось подцепить книгу за корешок, и тащила она очень сильно: сползла с кровати, крепко уперлась в пол обеими ногами, присогнула колени и тянула на себя всем весом. Книгу она держала одной рукой, а другой, свободной, пыталась что-то достать. Что именно, Терренсу не было видно из-за края постели, но мать сосредоточила на этом основные усилия.
– Папаша твой, – шипела она, – знать не знает, какой ты больной и слабый!
Взгляд Терренса упал на раскрытую страницу.
То, чему вы сопротивляетесь, лишь становится крепче. Прямая конфронтация добавляет силы противнику.
Мать, ликуя, вскинула свободную руку. Каким-то образом ей удалось дотянуться до длинной трубки, которая тянулась от катетера, и намотать ее на кулак. Она четко дала понять, что будет, если Терренс не выпустит из рук отцовский подарок. Можно сказать, взяла за яйца.
– Дай сюда! – процедила она сквозь зубы.
– Мама, не надо! – взмолился Терренс.
Однако мать ничуть не ослабила хватку. Одеяла и простыни разметались, выставив на обозрение его бледные безволосые руки и ноги, а также белую хлопковую футболку и трусы.
Мать дернула за трубку. Слегка, в качестве предупреждения. Трубка натянулась, как струна, от ее кулака до того места, где скрывалась в его трусах. Пуская петуха, Терренс завопил:
– Не надо! Ты его вырвешь!
Но сокровища своего из рук так и не выпустил.
Продолжая тащить к себе книгу раздора, мать безжалостно дернула трубку. Катетер вылетел на свободу, трубка засвистела в воздухе, как хлыст. Горячая струя мочи залила поднос с завтраком, растворяя бесценную дневную дозу бензодиазепина, орошая брызгами яйцо пашот на тосте из цельнозернового хлеба с педантично срезанными корочками.
Острая боль пронзила не только нежные гениталии, но и все мочевыводящие пути Терренса. Он непроизвольно разжал пальцы, и книга выскользнула. От неожиданности мать завалилась назад. Катетер мотался в воздухе, разбрызгивая соленое янтарное содержимое. В падении иссиня-черная книга задела край подноса и снесла его с прикроватного столика. Ошметки яйца пашот вперемешку с джемом для тостов полетели во все стороны.
По инерции тяжелая книга врезалась матери в лицо. Раздался глухой удар, за которым последовал утробный стон. Мать лежала спиной на полу, приподнимаясь на локтях. Из трубки хлестала испускающая пар желтая жижа, которая только что находилась в мочевом пузыре. И под этим вонючим дождем мать заорала:
– Вот до чего ты меня довел!
Тяжелая книга сломала ей нос, теперь он торчал криво, кренясь к щеке. Из ноздрей лились кровавые сопли, они хлюпали, когда она выплевывала слова. Комната была перевернута вверх дном, залита мочой и кровью, усыпана ошметками яичного белка и бекона. На обоях расплывались пятна от апельсинового сока и частично растворившихся ингибиторов обратного захвата серотонина.
Скуля от боли, одной рукой Терренс схватился за свое уязвленное достоинство. Покидая уретру, проклятый катетер чуть его всего наизнанку не вывернул! Залитые слезами щеки горели от стыда и ярости. Другую руку Терренс инстинктивно вскинул ко рту и принялся яростно сосать большой палец.
Именно тогда в голове у него зазвучал голос. Терренсу хотелось думать, что это голос отца. Голос воззвал к нему: «Будь сильным».
Терренс сел на краю постели. Мать всхлипывала и ругалась, но он ее не слушал. Он опустил босые ноги на ковер и сделал первый нетвердый шаг в сторону туалета. Она кричала ему в спину, но он, пошатываясь, шел дальше. Он возился с резинкой трусов, когда раздался визг:
– Сиденье хоть подними, засранец!
Широко расставив ноги, подобно Атланту, Терренс Уэстон встал над толчком и впервые в жизни помочился стоя.
* * *
Все мы бывали свидетелями этого маленького ритуала. Если в магазине заплатить пятидесятидолларовой или сотенной банкнотой, кассир обязательно поднимает ее и глядит на просвет, проверяя водяной знак. Потом достает специальный маркер с йодным раствором и проводит им черту на купюре. Ленивые фальшивомонетчики печатают деньги на обычной старой бумаге, произведенной из древесины. Йод реагирует с крахмалом, содержащимся в целлюлозе, и маркер оставляет черный след. Настоящие же деньги сделаны из льняной или хлопковой бумаги. То есть, по факту, это скорее ткань. Именно поэтому настоящие купюры могут пережить машинную стирку. И йодный маркер на них следов не оставляет.
Мэйси была готова признать, что насчет денег у нее пунктик. О деньгах она знала все. Ей нравилось трогать банкноты, прощупывая вплетенные внутрь защитные нити, она обожала рассматривать водяные знаки и разнооттеночные оттиски. Именно из-за этой своей страсти она и задержалась сегодня за принтером допоздна. Она разбиралась в деньгах и разбиралась в полиграфии, но сегодняшняя рабочая задача ее удивила. Спецзаказ. Нечто, совершенно ей не знакомое.
Мэйси взяла в руки один из листов, еще не отправленных в печать. Хотя термин «печать» тут, наверное, будет неточен. Процесс больше напоминал проявку изображения на фотобумаге.
По ширине листы были примерно с руку Мэйси от кисти до плеча. Поверхность скользкая и глянцевая. Плотнее обычной бумаги.
По техническому заданию ей следовало поместить каждый лист в форму, расположить на нем трафарет и в течение минуты держать под ультрафиолетовой лампой. Затем шаблон снимался, а лист отправлялся в бумагорезальную машину, и из него получалось тридцать шесть плотных тонких… купонов, наверное. Можно их так назвать.
Мэйси предполагала, что это для какой-то промоакции. Как объяснил клиент, у отпечатанного материала будет полуторамесячный срок действия. Дней через пятьдесят изображение на купонах полностью исчезнет. Вроде это какая-то технология для производства самоуничтожающихся документов, военная разработка в целях защиты секретной информации. Листы содержали в себе наночастицы золота и серебра, заключенные в тонкую гелевую прослойку. Под действием ультрафиолета они вступали в реакцию с гелем и меняли цвет. Листы, содержащие золото, были красные, а на участках, подвергшихся облучению, становились синими. Листы с серебром имели желтый цвет, а облученные их участки становились фиолетовыми.
Мэйси вынула из аппарата стопку готовых купонов, ярких и красивых, со сложными деталями, какими обычно украшают бумажные банкноты. Кружевные рамочки, фон со сложной перекрестной штриховкой. И сбоку – пафосный портрет. Некий Толботт Рейнольдс. Абсолютный монарх, избранный Советом Племен. Так было написано внизу мелким шрифтом. Лицо показалось Мэйси знакомым. На актера какого-то похож, вроде в рекламе видела.
На оборотной стороне красно-синих купонов значилось: «Деньги лучше сжечь, чем тратить на вздор».
На желто-фиолетовых надпись была другой: «Копящий еду портит ее. Копящий деньги портит себя. Копящие власть портят человечество».
Пока не видимый глазу, процесс разрушения уже начался. Реакция шла, хрупкие связи между частицами таяли. Через шесть недель на этих купонах ничего нельзя будет прочесть, они превратятся в клочки цветной бумаги.
Встроенный механизм устаревания. «Эзра Паунд пришел бы в восторг», – прошептала Мэйси себе под нос.
Она пересчитывала купоны, скрепляла пачки по сто штук бумажной лентой и укладывала в коробки. Потом они с напарником поменялись, и Мэйси встала за принтер. Точнее, за специальный вакуумный короб, из которого откачивался воздух, – тогда шаблон максимально плотно прилегал к пленке. Изображение получалось четким, хотя держаться ему предстояло и недолго.
Про Эзру Паунда Мэйси, конечно, много читала. Это был поэт, который продвигал идею овощных денег – таких, чтобы быстро портились и тем самым заставляли держателей как можно скорее их тратить или во что-то вкладывать. В таких деньгах нельзя скопить наличное состояние, нельзя оставить их в наследство. Они преходящи – как хлеб, как трудовой час. Мэйси знала, что радикальные идеи привели Эзру Паунда к фашизму, к восхищению Муссолини, к концепциям финансового теоретика Сильвио Гезелля. Гезелль считал, что крупные купюры должны иметь ограниченный срок годности, чтобы толстосумы не могли их накапливать, пока бедняки умирают с голоду в поисках работы. Необходимо лишить банки и богатеев возможности поработить страну посредством ее же денежной системы.
Эти бредовые умопостроения неоднократно доводили Паунда и до тюрьмы, и до психушки. Бо́льшую часть жизни он так или иначе провел под замком.
Мэйси не считала его идеи совершенно бредовыми. Для нее деньги были чем-то вроде портала – вроде телефонной будки, в которой осуществлял свои превращения Супермен. Деньги – это агар, эфир, бесформенная субстанция, которая должна быстро трансформироваться во что-то или исчезнуть.
Укладывая в коробку пачки красных купонов, Мэйси гадала об их назначении. Какие гении рекламы это придумали? Акция, для которой это печаталось, должна была начаться со дня на день, ведь полиграфия для нее очень скоро придет в негодность.
Коробки были снабжены ярлыками для последующей транспортировки. Судя по ним, купоны направлялись в крупные города по всей стране. Наверняка и штампует их не одна типография.
Видимо, вся эта затея с таинственным «Советом Племен» очень скоро перестанет быть секретом.
* * *
Список был шуткой. Интернет-приколом. Заманухой вроде заголовков на ярких баннерах: «Двадцать пять фотографий, которые заставят вас ценить жизнь», «Десять фактов о сельдерее, которые взорвут вам мозг». Самая легкоусвояемая форма подачи информации в эпоху торжества «чурналистики».
Никто не знал, кто начал список. Ведущие ночных ток-шоу мерились тем, кто из них сильнее бесит публику. Некоторые увидели повод для личного ребрендинга в качестве жертвы или злодея. Поскольку ненависть является разновидностью неравнодушия, для многих она желанна: лучше быть объектом ненависти, чем пустым местом.
Иногда те, кого обошли вниманием, вносили свои имена сами и очень оскорблялись, когда их кандидатуру никто не поддерживал. Давно уже не любовь, а именно ненависть была мерилом популярности. Любовь слишком требовательна. Те, кого общество любит, должны быть его рабами. Те, кого ненавидит, полностью свободны от необходимости ублажать.
Как лесной пожар, имена всех живущих вспыхивали в списке и гасли, не набрав голосов. Оставались только фигуры публичные. Тонны народного гнева принимали на себя медийные персоны, актеры, журналисты. Еще больше преподаватели – они учили студентов, что думать, а не как думать. Однако больше всех голосов набирали политики. Самодовольные слуги народа, которые одну за другой создают большие проблемы и вызываются их решить.
Посетители сайта мониторили список, дивясь на зашкаливающие рейтинги. Искали в перечне самых нежеланных людей Америки кого-то со своего района. Список превратил народную ненависть в порнографию. Имена простых смертных исчезали быстро, цифры напротив имен знаменитостей росли как снежный ком.
А потом в народе появились новые игрушки, и список большинством оказался забыт. Как в свое время тамагочи, бакуганы и спиннеры.
Но и тогда он продолжал расти. Счетчик напротив закрепившихся в нем имен дотикал до миллионов. И никто не задумывался, что же это за список – кроме его таинственных создателей. Посетители сайта скачивали себе финальную версию. И наконец список исчез так же загадочно, как и появился.
Списка не существовало.
* * *
Чарли был твердо намерен не смотреть, по крайней мере сначала. Потом все-таки посмотрел и решил, что больше не станет. А потом залез еще несколько раз и увидел то, чего больше всего боялся. Оба имени в списке.
Он взглянул на даты. Имена внесли с разницей всего в один день. У обоих не было достаточного количества голосов, чтобы продержаться дольше трехнедельной отметки. Теперь Чарли проверял каждый день и молился, чтобы имена исчезли за нехваткой голосов.
Однако голоса пошли, много, всего за несколько часов до решающего времени. Теперь все. Они умрут.
Они не в регионе Чарли, но станут целью для какого-нибудь другого клана. И хотя это было совершенно не этично, Чарли все воскресенье ездил по городу в поисках телефонной будки, из которой можно было бы позвонить. Он нашел такую на краю платной парковки у железнодорожной станции. Место было достаточно безлюдное: вряд ли кто-то мог бы подслушать разговор. Чарли купил латексные перчатки, чтобы не оставить следов на аппарате. Перевернул стеклянную банку, в которую скидывал мелочь из карманов, выгреб из кучки монет все четвертаки.
Поехал в темных очках и бейсболке, надвинутой на самые глаза. Специально запарковался подальше от намеченной точки и пошел кругами, следя, не увязался ли кто за ним. И наконец потихоньку – словно нырял в ларек с порнографией – скользнул в телефонную будку.
Гора четвертаков оттягивала карманы так, что под их весом сползали штаны. Чарли сунул руки в перчатки и по памяти набрал длинный номер с кодом другого города.
В трубке пошли гудки. Чарли молился, чтобы кто-нибудь ответил.
– Алло?
Мужской голос.
– Пап? – выдохнул Чарли.
– Чарли? – И отец крикнул в сторону: – Милая, возьми второй телефон! Недоучка наш звонит!
Чарли оглянулся на парковку. Вроде никого пока.
– Сколько вам нужно времени, чтобы добраться до Канады?
– Ты что, в Канаде? – спросила мама.
– Да нет! Просто вам с папой надо как можно скорее в Канаду!
Отец хохотнул.
– Учитывая, какая скоро будет война, это тебе нужно косить от призыва!
– А не бросил бы ты колледж, тебя бы призыв не коснулся, – добавила мама.
Спорить Чарли не хотел, но и выдавать своих планов тоже.
– Ты с Вьетнамом не путай, – сказал он. – Сейчас все по-другому.
Дрожащими пальцами он выуживал из кармана четвертак за четвертаком и бросал в щель автомата. Когда монета падала, в трубке звенел сигнал, вроде как маленький колокол. Они говорили, а колокол звонил, звонил, звонил.
Чарли не мог сказать им, что они оба в списке. Даже если он объяснит им ситуацию, они ведь побегут в полицию, а там их сразу убьют. А потом либо полиция, либо еще кто убьет Чарли за донос. Их единственная надежда – бежать из страны. Просто спрятаться не поможет, рано или поздно за ними придут.
– Пап, вот представь, что ты в шлюпке со мной и моим сыном. И я могу спасти кого-то одного. Как ты считаешь, кого мне надо спасать?
Мама ахнула.
– Чарли! У тебя сын?! – В ее голосе были потрясение и восторг.
– Да я теоретически, мам! Кого мне спасать, ребенка моего или вас?
Грядущая бойня обещала возвысить Чарли и всех его потомков в ранг королевских особ. Но при этом грозила уничтожить его родителей. Вот такая проблема. Они оба преподавали в муниципальном колледже, оба отметились в политической жизни города и округа, так что поводов для их устранения у людей наверняка хватало. И все равно – они его мама и папа. Чарли не мог сравнить, кто ему дороже – они или гипотетические сыновья и внуки. Любить родителей бывает сложно. Любовь к еще нерожденным детям безусловна.
Чарли решил подойти к вопросу с другой стороны.
– А если меня призовут? Вы хотите, чтобы я убивал людей?
Отец произнес без малейшей заминки:
– Да, потому что речь идет о спасении страны.
Колокол у Чарли в ухе звонил и звонил.
– А если я погибну? – спросил Чарли, бросая очередной четвертак.
– Боже упаси! – воскликнула мама.
Еще четвертак. Снова звон.
– И что, для спасения страны мне нужно убивать чьих-то родителей? Вы этого хотите?
Пальцы в латексной перчатке совсем взмокли. Чарли сунул руку в карман и обнаружил, что карман пуст. Монеты кончились. Колокол молчал.
– Да, – сказал отец после паузы, – если такова твоя миссия.
Чарли должен был уточнить.
– Вы бы хотели, чтобы я убил чьих-то родителей?
– Что это за звуки? – вмешалась мама. – Ты что, плачешь?
Да, он плакал. Чарли плакал. Шмыгал носом, и слезы катились по его щекам.
– У тебя проблемы с наркотиками? – спросил отец. – Чарли, мальчик мой, ты что-то принял?
Времени уже не оставалось. Чарли сумел выдавить из себя:
– Я вас люблю.
– Ну, а чего рыдать-то? – ответил на это отец.
И связь прервалась.
* * *
В ожидании окончательного решения по итогам проб Грегори Пайпер смотрел телевизор. Телевизор лучше интернета. Если наткнуться на себя по телевизору, это всегда случайно и неожиданно, а потому все еще может впрыснуть эндорфины в кровь. В Сети найти себя слишком легко: вбей поисковый запрос и можешь любоваться фотографиями и видеороликами из своих работ до потери связи с реальностью. «Бульвар Сансет», как он есть. Интернет позволяет человеку проводить в самопоклонении бесконечные часы.
Пайпер размышлял о деньгах. О полученных им десяти тысячах. Следует ли признаться агенту? Сжимая в руке пульт, он рассеянно переключал каналы. На одном из них вдруг возник Джон Уэйн – легкой походкой вышел в центр белого экрана и устремил фирменный цепкий взгляд в камеру. Очевидно, изображение вырезали из старого фильма и перенесли в новый контекст. Сорвав с головы стетсон, он в сердцах хлопнул им по своим пыльным кожаным чаппарахас. «Проклятье, пилигрим! – протянул он с тягучим южным акцентом. – На этот раз я не доскакал до туалета…»
Пайпер щелкнул пультом, и картинка застыла.
Реклама подгузников для взрослых.
Пайпер был потрясен. Видимо, наследники готовы продавать образ Уэйна кому угодно. Такой расклад мало кто из актеров мог предугадать. Той их частью, что осталась жива на пленке, манипулировали с помощью компьютера, заставляли рабски служить своим прихотям, как цифровых зомби. Робин Уильямс первым прописал в завещании полный запрет на использование его образа. Одри Хепберн не была так прозорлива, и теперь ее оцифрованный двойник рекламирует шоколадки. Фред Астер продает пылесосы. Мэрилин Монро приторговывает «сникерсами».
Будто призраки.
После проб фраза «Ссудный день настал» то и дело начинала вертеться у Пайпера в голове, как навязчивая мелодия. Он повторил ее столько раз, что теперь, наверное, до конца своих дней не сотрет из памяти.
Конверт с деньгами он припрятал в кухонном буфете: засунул в пустую коробку из-под хлопьев. Часть из них пойдет на адвоката. Нужно уже наконец составить завещание – чтобы после смерти никто не мог использовать его образ в своих целях. После далекой-далекой смерти, которая наверняка произойдет во сне, в своей постели…
* * *
В Прежние Времена, в том мире, который вам хотелось бы считать еще существующим… Уолтер ехал на запад через Иллинойс. Ехал и распинался, что величайшее доказательство любви заключено в невозможности свести ее к словам. Любовь – это научный эксперимент, который нельзя повторить. Не нужно быть квантовым хирургом, чтобы ее распознать. Она прямо как в том стихе про «гущу схватки первозданных сил». Да-да, в том самом стихе. И мир реально такой, угрюм-безрадостен-уныл…
Похищенный старик в багажнике машины то ли спал, то ли сдох уже, а Уолтер описывал ему Шасту. Всю-всю, с подробностями.
Он предположил, что любовь – это боевая операция, на которую человек выходит каждый день. Операция, завершить которую невозможно до самой смерти. Получается, что истинная любовь – вроде как вылет камикадзе.
* * *
Доусон был твердо намерен не смотреть. Потом все-таки посмотрел и решил, что больше не станет. А потом залез еще несколько раз… и увидел имя.
Счетчик демонстрировал впечатляющие цифры. Чей-нибудь клан – не Доусона, но чей-нибудь обязательно – получит за эту цель большое количество голосов. Пытаться как-то это предотвратить не имело смысла, однако не попытаться Доусон не мог. Однажды Роксана спросит его, что он сделал, и надо будет дать ей ответ.
Доусон купил в придорожном мини-маркете одноразовый мобильник, дошел с ним до середины моста Моррисон-Бридж. В гуле проезжающих машин разговор никто не подслушает. Номер набрал по памяти. Слушал гудки, глядел на темную воду реки Вилламетт и молился, чтобы номер был еще актуальный. Все-таки времени прошло немало.
– Алло?
Молодой парень.
– Квентин? – спросил Доусон.
– Пап? – В трубке гремела музыка. – Пап, я тебя почти не слышу!
– Выключи музыку! – рявкнул Доусон.
Музыку он не выключил, так и продолжал ее перекрикивать.
– Мама здорова?
– Здорова твоя мама, это тебе нужно как можно скорее попасть в Канаду!
Кричать на улице было опасно. Доусон оглянулся. Мимо проезжали машины, но по тротуару никто не шел.
– Ты про войну, что ли? – орал сын в трубку. – Я иду добровольцем. Доктор Штейгер-Десото говорит, таков мой долг как пангендера. Пусть мир знает, что храбрым может быть человек любой гендерной идентичности!
Доусон не совсем понял, что там несет его ребенок.
– Не будет никакой войны!
– Доктор Штейгер-Десото говорит, что эта война необходима для защиты прав человека!
– Я пытаюсь спасти тебе жизнь!
– Доктор Штейгер-Десото говорит, я уже не ребенок!
– Выключи музыку!
Музыка никуда не делась.
– Доктор Штейгер-Десото говорит, я самый лучший ее студент и должен начать мыслить самостоятельно!
Доусон рисковал всем. Если рассказать, как есть, Квентин может пойти в полицию, и тогда убьют их обоих. Роксана останется одна в грядущем новом мире. Хорошо не будет никому. Но Доусон все-таки решился.
– Твое имя в списке тех, кто будет убит!
Сын расхохотался. Он смеялся долго-долго.
– Пап! – воскликнул он, переводя дух. – Я знаю! Правда, круто?
Доусон был в полном замешательстве. А сын продолжал хохотать.
– Я даже проголосовал сам за себя! Фигня это все! – Он вздохнул. – Короче, пап… Ты не волнуйся. Эта хрень теперь… вроде как новый фейсбук.
Доусон попытался объяснить, но в трубке раздались настойчивые гудки.
– Пап?
Гудок.
– Пап, у меня доктор Штейгер-Десото на второй линии.
Гудок.
– Пап, люблю тебя. Увидимся после войны!
И связь прервалась.
Доусон припомнил слова из книги Толботта.
Мы должны убить тех, кто готов заставить нас убивать друг друга.
Он разжал пальцы, и мобильник без всплеска ушел под воду в самом глубоком месте глубокой реки.
* * *
Джамал звонил маме. Надо было сказать, чтобы не ждала его на семейный обед в воскресенье. Звонил он из отеля в Олбани, из гостиной большого номера. Вокруг него на диванах, в креслах и на полу сидели товарищи – жевали заказанную в номер еду и ждали своей очереди. Не весь его клан, лишь часть ударной группы. Пока один звонил домой, остальные молча слушали и пили вино и пиво из мини-бара.
Джамалу хотелось ей рассказать. Чтобы мама узнала про Декларацию Взаимозависимости, про то, что скоро у людей каждой расы будет своя территория, где они сами установят законы, и никаким национальным меньшинствам больше не придется оглядываться на враждебное большинство. Они сами определят лицо своей культуры и детей больше не будут учить, как им стать удобной человеческой колонией для чужой культурной агрессии.
– Что значит, ты не сможешь заехать?! – возмутилась мама.
Джамал рассказал бы ей о своем клане. Впервые в истории передача власти начнет осуществляться не на основании кровного родства и брачных союзов. Он посмотрел на человека, пригласившего его, потом на того, кто пригласил этого человека. Их когорта была лишь малой частью клана, пронизавшего собой всю нацию. Его братство с этими парнями, которые сейчас жуют гостиничную пиццу, сэндвичи и мороженое и делают вид, что не слушают его разговор, это братство основано на взаимном уважении, на доверии, на восхищении. Он теперь звено в цепи людей, среди которых нет врагов. Каждый из них уверен, что Джамал будет героем.
Он почитал бы ей книгу Толботта. Ту часть, где сказано:
Для черного человека последнее дело пытаться стать фальшивым белым.
Для гомосексуалиста последнее дело пытаться выдать себя за гетеросексуала.
Для белого человека последнее дело пытаться строить из себя дутый эталон.
– Джамал? – произнесла мама совсем другим тоном. – Что случилось? Что ты от меня скрываешь?
Если сказать ей одно лишь слово, она тут же вытянет все остальное. Такой уж она человек.
Это была последняя ночь старого режима, и кланы собирались вокруг государственных учреждений. Звенья скрепленных доверием цепей впервые встретились и ахнули от восторга, осознав свою многочисленность. Племена, избранные не из слабейших – из лучших! – ждали в засаде поближе к присутственным местам, куда народные предатели явятся с утра нести службу.
Отдельные ударные группы были отправлены к домам тех целей, счетчик голосов за которые достиг астрономических величин. Остальные просто ждали толпой в боевой готовности. Грядущую задачу никто не обсуждал. Время для обсуждения и планирования прошло. Их действия будут уверенными до автоматизма – как никто не задумывается, что штаны следует надевать раньше ботинок.
Товарищи Джамала не болтали попусту, берегли силы на завтрашний день. Джамал смотрел на них и видел ту знаменитую картину, на которой ужинает с друзьями Христос. «Тайная вечеря» называется. Только они еще передавали из рук в руки мобильник, чтобы каждый мог позвонить домой напоследок. Не для того чтобы объясниться, а чтобы успокоить душу.
Армия волков-одиночек.
Для Джамала власть не конвертировалась в секс и наркотики. Наоборот, эти преходящие удовольствия виделись ему скорее прибежищем тех, у кого никакой реальной власти нет. Реальная же власть означала душевное спокойствие и удовлетворенность, бесконечно далекие от тупого онемения, которое могли дать трава и шлюха.
Власть означала доступ к чему угодно, ко всему. Она означала отсутствие необходимости изворачиваться и копить. Она позволяла не ограничивать свою жизнь построением запасных планов. Поиском альтернативных маршрутов.
В книге Толботта об этом сказано очень хорошо:
Всякая группа должна жить на своей территории, где сама задает норму. Иначе люди впадают либо в ненависть к себе и саморазрушение либо в гордыню и агрессию к другим. Алкоголизм, наркомания, сексуальная распущенность процветают там, где люди разных культур вынуждены делить общее пространство. Ни одна культура не должна пренебрежительно рассматриваться оценивающим взглядом другой.
В их государстве молодые люди будут освобождены от навязанной чуждой европейской культурой повинности обязательного высшего образования. Это европейцы стремятся к стандартизации населения вне зависимости от склонностей и талантов. Хотят скроить поведение всех по одному лекалу. Власть позволит Джамалу не выдавать себя за несовершенную копию того, кем он в принципе быть не хотел.
Его клан отверг стандартизацию, навязываемую законами и образованием. Они не желали участвовать в затее с налогами и нормами, где, как в игре «змеи и лестницы», можно долго-долго лезть наверх, но один неверный шаг угрожает сбросить тебя в самый низ, в нищету или тюрьму.
Джамал чувствовал, что его товарищам тоже не терпится позвонить родным. Из трубки слышалось мамино перепуганное сопение, шумела вода, шкворчали и булькали сковородки на плите. Джамал хотел сказать ей, что послезавтра мир станет другим. Что он приведет ее в лучшую, благородную жизнь. Что все они будут настолько близки к статусу королевских особ, насколько это вообще позволяет Декларация Взаимозависимости.
Общий успех зависел от каждого. Поэтому все рвались оправдать возложенные на них надежды. Каждый стремился быть достойным чести, дарованной товарищами. Своим племенем.
Джамал хотел объяснить маме все. Сказать ей, что он ее любит. Но тогда ребята услышат. Поэтому он попросил только:
– Пса моего покормишь?
Мама как будто вздохнула с облегчением.
– Чтоб я теперь Вышибалу твоего кормила? Так, что ли?
Она явно раздумывала, что ей делать. Наверняка хотела наорать на него и велеть живо бежать домой и самому кормить свою треклятую собаку. Однако наорать не поворачивался язык – вдруг это ее последний разговор с сыном? Джамал переглянулся с парнем, который пригласил его в клан. Уж он-то знал, какой бывает его мама.
– Пожалуйста… – попросил наконец Джамал, не дождавшись ответа.
И услышал то, чего не слышал никогда. Мама вдруг заплакала. Тогда Джамал решил наплевать, что ребята слушают.
– Я тебя люблю, мам. – Он шмыгнул носом. – Ты пса-то покорми.
Мама всхлипнула. И еле слышно прошептала.
– Покормлю.
Джамал закончил звонок и передал телефон следующему на очереди.
* * *
Среди тех, кто ждал рассвета, находились и безработные журналисты. Последние предутренние часы они проводили под стенами того, что осталось от крупнейших газет. Прогуливались по тротуарам вокруг штаб-квартир главных телеканалов. Решимость их укрепляло четкое осознание: те немногие, кто продолжал карьеру в журналистике, удержались на своих местах благодаря готовности раздувать ложь и пудрить людям мозги. Те, кто говорил правду, не имели такого влияния.
Сохранившие работу утешали себя тем, что абсолютной истины не существует. Эту очередную ложь они несли в массы как новую истину. И мерилом всякой новой истины, ее лакмусовым тестом стала потенциальная способность провоцировать, щекотать нервы.
Задачей журналистики было теперь формирование общественного мнения, и для этой цели вся информация искажалась и выворачивалась наизнанку. Честное изложение фактов, которое при демократии необходимо как воздух, перестало быть приоритетом для журналистской братии. Тех, кого властям не удалось подчинить, просто выкинули из профессии.
Коротая время до утра, они проверяли друг друга по фотографиям – загруженным в телефоны портретам знаменитостей. С экранов улыбались мужчины и женщины с идеально уложенными прическами. Седоволосые и крашеные. С галстуками или нитками жемчуга на шеях. Следовало назвать имя и количество голосов, поданных за эту персону в списке. Или опознать невинного человека, которого в списке никогда не было.
У бывших акул пера были жесткие глаза и впалые щеки. Они окружили студии кабельных каналов и радиостанции, готовясь вернуть в эфир объективность.
* * *
Той же ночью Эстебан и Бинг позвали к себе полтора десятка ближайших друзей. Собрались просто, по-домашнему – каждый принес на стол какую-нибудь еду, которую полагалось самостоятельно накладывать себе в одноразовые бумажные тарелки. Так, прихлебывая индийский пряный суп маллигатони, подхватывая лепешками острый соус с куриных ножек по-мексикански, местный сегмент их клана обсуждал окончательный перечень завтрашних целей. Несмотря на многие недели тренировок, воздух был насыщен страхом, как густым ароматом карри.
Пока все жевали, Эстебан зачитывал слова из книги Толботта:
Именно жизнь в гетеросексуальном обществе заставляет гомосексуалов чувствовать себя ненормальными. Лишь среди белых черные ощущают себя лишними. Лишь в окружении гомосексуалов и черных белые испытывают страх и угрызения совести. Чужие ожидания и чужие мерки не должны отравлять жизнь ни одной группе.
С раскрытой книгой в руках Эстебан стоял в центре собравшейся группы и читал:
Искусство не должно быть социальной инженерией. Искусству, которое стремится как-то исправить человека, не место в обществе.
Следующую строку Бинг знал наизусть.
Держа это в уме, мы должны позволить всякому человеку самому решить, в чем его счастье.
До Эстебана маленький Бинг прозябал в нездоровой связи со своим сутенером. Бинг с детства обожал Одри Хепберн, но его собственная жизнь была очень далека от картинки из «Завтрака у Тиффани». Нет, он не проводил время в роскошных клубах, не приходилось ему выпрыгивать из гигантского именинного торта под бурные овации влюбленной толпы. Сутенер не вел с Бингом задушевных бесед; если он что и говорил, то что-нибудь в духе: «Кто работать будет? Члены сами себя не отсосут!»
Поэтому, когда к нему подкатил кубинец Эстебан, такой умный, утонченный и взрослый, Бинг понял, что предложение стоит послушать. А предлагал Эстебан вступить в клан и защищать общее дело с оружием в руках. Фортуна улыбнулась Бингу, уж это он сразу сообразил.
Закрыв книгу Толботта и бережно отложив ее в сторонку, Эстебан провозгласил:
– Квиры всегда были штурмовыми отрядами западной цивилизации.
Когда нищие гетто прогнивали насквозь, когда от домов оставались почерневшие скелеты, именно квиры возвращали жизнь в прежде неблагополучные районы. У квиров нет детей, коллапс школьного образования им не страшен. Зато у них есть крепкие спины и светлые головы, и рискуют они только собой! Именно они стали отважными первопроходцами, которые осмелились поселиться на руинах Саванны, на заброшенных пустырях Балтимора и Детройта. Тамошняя база налогоплательщиков ушла было в крутое пике, но квиры остановили этот процесс. Они не дрогнули перед анархией урбанистического фронтира, они смогли ее обуздать. Из труд поднял цену на землю в этих районах.
Проникновенную речь тут и там поддержали возгласы: «Аминь, брат!»
– Квиры пошли туда, – выкрикнул Эстебан, – куда не осмелился больше никто! Своей храбростью они приколотили крыши к брошенным домам! Своей решимостью они залатали стены и превратили трущобы в привлекательные объекты инвестиций для белых банкиров.
Он объяснил, как рост цен на землю привлек толпы натуралов. Плюс доступная городская инфраструктура. Плюс школы, в которые стало не страшно водить детей. Наплыв гетеросексуалов рос. А Эстебан явно только начал свою речь…
Он обвел глазами слушателей, выдерживая паузу, прежде чем перейти к следующему аргументу.
– Хорошо это или плохо, квиры всегда… – тут он воздел пластиковую вилку, делая акцент на следующих словах, – … всегда были в авангарде новых политических процессов!
Ссылаясь на недавние ученые исследования, он рассказал, что Малкольм Икс в юности имел сексуальные контакты с мужчинами – обслуживал богатых белых господ, дома которых потом грабил.
– Но воздаем ли мы дань гомосексуальной энергии этого человека? – спрашивал Эстебан. – Энергии, которую он направил на борьбу! Малкольм Икс был герой, который стремился изменить несправедливое общественное устройство любыми средствами!
Ответом ему было хоровое «Нет!» и отдельные возгласы: «Да как же!»
– И лучше не напоминайте мне по Джеймса Болдуина! – вскричал Эстебан. – Это был великий человек! Пророк! Удостоенный многих наград поэт и писатель, воспевавший свою расу, но народ не хочет чествовать его гомосексуальный дух!
У Эстебана получалась не только гениальная курятина в соусе «марсала». Он умел произнести вдохновляющую речь такой силы, какой Бинг не слыхивал никогда. Люди перестали есть и пить. Отставив тарелки с густо наперченной снедью, они подняли руки и вместе раскачивались в знак поддержки и единства. Маленький Бинг сиял от гордости за красноречие своего мужчины.
– Был и еще один юный квир, чью сексуальную идентичность принято игнорировать, – продолжал Эстебан, возвысив голос. – Не сказать чтобы милый парень, однако фигура эпохальная.
Нарочно не называя имен, он изложил печальную историю мальчика, безумно влюбленного в одноклассника и отвергнутого предметом своей страсти. Мальчик вырос, пошел в армию, был награжден за безупречную службу – а потом оказался в нищете. Но юность открыла для него многие двери и кошельки богатых поклонников. Вскоре он уже стоял во главе собственной партии – а потом и целой страны.
– Один из самых могущественных политических лидеров XX века! – Эстебан выплюнул эти слова с брезгливой гримасой. – И все молчат о том, что к величию его привели гомосексуальность и разбитое сердце!
Этот народный вождь, отвергнутый влюбленный, усатый жиголо окружил себя группой гомосексуальных единомышленников и создал визуальный стиль, который так или иначе цитируется до сих пор. Когда же радикальная гомосексуальность его движения была вскрыта и осмеяна мировой прессой, этот самый вождь призвал к уничтожению всей ее правящей верхушки.
– И вот настала ночь, – декламировал Эстебан, – когда все его прежние товарищи были казнены, а ему, их предводителю, единственному, кто остался жить, пришлось стыдливо прятать свою гомосексуальность и страдать от этого до конца, до того дня, когда он наложил на себя руки.
Слушатели внимали не дыша.
– И этот человек был не кто иной, как… – Эстебан обвел глазами аудиторию и остановился на Бинге.
– Неужто Адольф Гитлер?! – догадался Бинг.
Эстебан молча кивнул. Слова тут были излишни.
Слушатели ахнули.
Ухаживания юного Адольфа в школе отверг его одноклассник Людвиг Витгенштейн, талантливый еврей, ставший, в некотором смысле, полной противоположностью Гитлера – блестящим философом и профессором, которому хватало духу не делать тайны из своей сексуальной идентичности. Кстати, это он придумал знаменитую картинку – утку-кролика Витгенштейна. Что же до массовой казни соратников Гитлера, речь шла о Ночи длинных ножей, когда нацистская партия избавилась от своих гомосексуальных основателей.
Собравшиеся вокруг Эстебана слушали как завороженные – перед ними разворачивались прежде запретные грани истории.
– Да, – продолжал Эстебан, – и даже благородное движение за равноправие женщин…
После трудов Бетти Фридан, после второй волны феминизма в шестидесятые годы, после всей крови, пролитой поколением лесбиянок, лидеры движения изгнали из своих рядов гомосексуальных сестер в стремлении сделать идею эмансипации более удобоваримой для представительниц среднего класса, для гетеросексуального большинства. И этот паттерн раз за разом повторяется в истории: авангард квиров прокладывает путь в будущее – и отправляется в расход, как только сделает тяжелую работу.
Среди них – среди всех племен и кланов – уже распространялась книга. Каждый экземпляр был заключен в великолепный иссиня-черный переплет, а имя автора и название сияли золотыми буквами. Для всякого великого дела требуется манифест – будь то Манифест коммунистической партии, Библия, Коран, «Загадка женственности» или текст Саула Алинского.
– Представьте себе хипстеров.
Эстебан вздохнул. Махнул рукой, словно у него не было слов для выражения досады. Покачал головой.
– Они все в пирсинге и татуировках, но многие ли из них слыхали о Жане Жене? Известно ли им о фетиш-культуре «городских аборигенов», сформировавшейся в квир-сообществе Сан-Франциско семидесятых годов – а ведь именно там было возрождено первобытное искусство телесной модификации!
Эстебан помолчал, давая улечься бушующим в аудитории чувствам. Каждый из присутствующих теперь ощущал горечь поражения – человечество упорно не желало оценить по достоинству или хотя бы признать вклад квиров в историю. Многие прослезились; пир во славу единства превратился в поминки по утраченному. Но Эстебан встретился глазами с Бингом, и взгляд его был ободряющим. Сейчас он даст им понять: не все потеряно!
– С завтрашнего дня история больше не сможет нас игнорировать! Наш клан… – Эстебан возвысил голос. – Наш клан продемонстрирует, чего мы стоим! Мы пожнем много целей, гораздо больше, чем смогут другие!
Теперь он уже кричал, перекрывая одобрительный гул толпы. Бинг с восторгом влился во всеобщее ликование.
– Мы докажем, что квиры – сила! Мы заслужим право управлять нацией… которая управляет миром!
Дальнейшее потонуло в радостном улюлюканье, наполнившем лофт.
* * *
Склонив головы, Чарли и его товарищи молились о душах тех мужчин, что так и не нашли свою судьбу. Они воззвали к предкам, моля поддержать их в борьбе. Воинство их полнилось и живыми, и мертвыми. Как Гаррет Доусон пригласил Чарли, Чарли все же пригласил Мартина, а тот – Патрика, а тот – Тревора, и так их клан раскинулся между городами от океана до океана. В эту ночь ряды вождей были окончательно сформированы.
Накануне великого дня они собрались жарить мясо на свежем воздухе. Суровые мужчины в бейсболках и камуфляже переворачивали свинину над углями, к небу тянулись ароматы дыма, шашлычного соуса и шкворчащего на углях жира. А рядом высился оплот государственности – как положено, колоссальное здание, чья грандиозность призвана внушить чувство бессилия тем, кто муравьем копошится снаружи, и иллюзию всевластья тем, кто, как жук под стеклом, сидит внутри. Раздутый бесполезный купол, крепость, которую надлежало взять. Новая Бастилия. Жалкая декорация. Гаррет Доусон глядел на нее исполненными презрения глазами.
Со всех сторон подсвеченный прожекторами мраморный колосс маячил над горизонтом, как полная луна. Как ненасытный Молох, пожирающий младенцев. Он грозно нависал над товарищами Доусона – а они жарили мясо прямо у его подножия, и ни один полицейский не поинтересовался, чем это они тут занимаются. Никто не обращал на них никакого внимания.
С завтрашнего дня они перестанут мерить время красными сигналами светофоров, а удовольствие – пинтами крафтового пива.
Чарли сунул в рот два пальца и оглушительным свистом призвал собравшихся к тишине – собирался говорить Доусон. Невысокий, но крепкий и жилистый, закаленный многими годами работы в цеху, он без высокомерия смотрел на умолкшую толпу, готовую внимать его словам.
– Квиры… – произнес он, осекся и, сделав вдох, начал заново: – Квиры стали людьми искусства, потому что на публике не могли вести себя естественно. Едва осознав свою особость, они вынуждены изучать и копировать модели поведения, которые для большинства являются инстинктивными. Умение наблюдать и запоминать всегда было необходимо им для выживания, поэтому именно из них получались ученые, художники, артисты и священнослужители.
– Черные, – продолжал Доусон, – издавна растили семьи. Чтобы выжить, они старались сделать карьеру, развить бизнес. Они основывали церкви, они сражались в армии, они становились образцом добродетели в сравнении со своими белыми собратьями. Но политика идентичности свела гомосексуала к его однополым связям. Свела черного к цвету его кожи. И тот, и другой превратились в карикатуру в сравнении с прежней своей достойной сущностью.
Доусон, Чарли и их товарищи оставили свои рабочие места у станка не за тем, чтобы спасать геев и черных. Они сплотили ряды для того, чтобы защищать своих. Чтобы защищать белых, которых та же тлетворная политика идентичности загоняет в рамки чудовищного стереотипа.
Карикатура на них – самая злая.
Их, соль земли, рабочих и плотников, стригли под одну гребенку как штурмовые отряды нацистов и шовинистов, любителей автогонок и ходьбы строем.
Геям навязали двумерную идентичность, главным атрибутом которой являлось гиперсексуальное поведение, и это поведение выкашивало их ряды. Черных убеждали в том, что они бесправны и бессильны, если только не подадутся в банду, и банды эти за один неосторожный взгляд убивали друг друга пачками.
– Но белых, – торжественно объявил Доусон, – белых мужчин никто не заставит принять навязанное восприятие себя.
Напротив, они будут действовать. Общий натиск их кланов сбросит с народа идеологическое ярмо современной политики. Они построят новый мир, которым станут править настоящие герои – те, кто заслужил это право реальными делами.
Окутанные дымом от мяса на углях, товарищи Доусона молились о том, чтобы стать достойными – чтобы мириады существ, погибших ради поддержания их жизни, погибли не напрасно. Они отдавали себя на волю предназначению и просили судьбу ниспослать силы на его выполнение.
Взывая к предкам, они думали о своих еще нерожденных сынах, надеясь, что те поддержат их старания.
* * *
Поздно вечером сенатор Холбрук Дэниэлс отпустил телохранителей и в одиночестве отправился на пробежку вдоль Национальной аллеи. Подтянутая фигура была предметом его тайной гордости. Совмещая сидячую работу и тренировки с умеренным отягощением, он представлял собой весьма бодрый образчик мужественности и наслаждался привилегированным статусом среди вашингтонской элиты. С его здоровьем вполне можно дожить до ста лет.
А жизнь сенаторы США ведут неплохую. Завтрашний день сулил Дэниэлсу бесплатную стрижку в сенатском барбершопе и внушительный счет за обед в любом из лучших ресторанов города – счет, платить по которому совершенно не обязательно. Бесконечный поток юных пажей заглядывал ему в рот в надежде на стажировку в Конгрессе, а прелестные студентки-практикантки выстраивались в очередь, чтобы доставить ему удовольствие. И да, чуть не забыл, еще ему предстояло одобрить вступление страны в войну.
Миллион лишних людей, ничем не примечательных юнцов. Завтра сенатор подписью решит их судьбу. Такая работа. Тяжелая, но кто-то же должен ее выполнять!.. Сенатор усмехнулся.
Он не спеша бежал по темной улице, и вдруг в прохладном ночном воздухе повеяло жареной свининой. Рыжими отсветами мерцали угли в мангалах, а вокруг собралась группа каких-то быдловатых типов. Заметив сенатора, они прекратили разговоры и мрачно наблюдали за его приближением. Пивные бутылки в их мохнатых кулаках смотрелись игрушечными. Один бородатый вытянул шею и оглушительно рыгнул. Сенатору под их взглядами стало очень неуютно. От нервов он забыл смотреть под ноги и чуть не свалился в яму. В совершенно бездонную яму – ту самую, которую эти люди рыли на лужайке перед Капитолием, прямо под окнами его сенаторского кабинета. Еще один шаг, и Дэниэлс полетел бы прямо в ее темные глубины. Возмутительно, такой опасный объект даже не потрудились огородить!
В ярости сенатор развернулся к рабочим, намереваясь заявить им, что они нарушают закон. Перед Капитолием запрещено жарить мясо и употреблять алкоголь. Но что-то в их холодных глазах заставило Дэниэлса прикусить язык. Одни снимали его на видео, другие невозмутимо хлебали пиво. Куски мяса над углями шипели и шкворчали, разбрызгивая растопленный жир, от которого с углей гейзерами взметались яркие искры. Сверля Дэниэлса глазами, пролетарии продолжали жевать. Они поднимали ко рту ребра и мослы, крупными зубами с чудовищным звуком глодали кости, отдирали хрящи.
Стоя на краю глубокой ямы, сенатор в бессильной ярости ткнул пальцем в ее пустоту и выкрикнул:
– Когда это будет засыпано?
Никто не ответил.
– Это нарушение техники безопасности!
Никакой реакции, лишь один туповатого вида амбал громко пернул. Намереваясь оставить за собой последнее слово, сенатор Дэниэлс проорал:
– Могут погибнуть люди!
Без акустики мраморного зала, под открытым темным небом, без микрофонов и усилителей его голос казался ломким и визгливым.
Работяги повернули головы в одну сторону. Сенатор тоже посмотрел туда. И увидел на краю пропасти гору мешков. Белые холщовые мешки были аккуратно сложены друг на друга, как кирпичи, и стена из них получилась почти в человеческий рост. Дэниэлс вглядывался в темноту, пытаясь разобрать отпечатанные на мешках надписи, но в неверном свете капающего на угли сала, в густом дыму от горящего мяса сделать это было невозможно.
Вдоль Первой авеню проехал автомобиль, и свет фар на мгновение выхватил из мрака всю сцену: сенатора, работяг с пивом, зияющую дыру и уложенные рядом набитые чем-то мешки. В эту секунду сенатор успел прочесть, что на них написано.
Одно слово: «ИЗВЕСТЬ».
Сенатор вдруг испытал приступ необъяснимого ужаса, от которого дыбом встали волосы на загривке. Ему пришлось задействовать всю силу воли и сухих, натренированных в зале мышц, чтобы развернуться и продолжить вечернюю пробежку. С каждым шагом увеличивая расстояние между собой и этой жуткой бандой, сенатор так и кипел от злости. Он утешал себя тем, что завтра же позвонит кому следует и наведет тут порядок.
Завтра же полетят головы, и мерзкая опасная яма будет засыпана до краев!
* * *
Телефонный звонок разбудил Грегори Пайпера среди ночи. На экране горело имя его агента, но Пайпер знал, кто звонит на самом деле. Сейчас он поднимет трубку, и очень молодой голос какой-нибудь ассистентки произнесет: «Пожалуйста, ожидайте соединения с мистером Левенталем». Затем в трубке щелкнет, и заиграет музыка, ее придется слушать, пока мистер Левенталь не закончит другой звонок. Или два. Пайпер не имел иллюзий насчет своего места в иерархии.
Он посмотрел на часы у кровати. Половина шестого по тихоокеанскому стандартному времени. То есть в Нью-Йорке еще даже не начался рабочий день.
Голос из трубки выкрикнул:
– Грегори!
Пайпер резко сел на постели. Агент звонит сам!.. За окном было темно и тихо, даже не слышался гул машин со скоростной магистрали.
– Ты видишь, что по телевизору?! – кричала трубка.
Пайпер пошарил по одеялу, нащупал пульт.
– По какому каналу?
– По любому! – рявкнул агент. – По всем!
Пайпер включил телевизор в изножье кровати. На экране был он сам, в однобортном костюме, сшитом по мерке на Сэвил-Роу. Глядя прямо в камеру, он произносил: «Я Толботт Рейнольдс…»
Пайпер переключил канал, но картинка лишь мигнула.
«…абсолютный монарх…»
Он переключил еще раз, но и на третьем канале синхронно шла та же запись.
«…избранный Советом Племен».
– Ты что-нибудь подписывал?! – крикнул агент и, не дожидаясь ответа, воскликнул: – Контракт от них так и не поступил!
Пайпер с экрана вещал и вещал, и его монолог не прерывался ни рекламой, ни музыкальными клипами, ни новостями спорта. На четвертом по счету канале речь транслировалась на испанском.
Можно ли считать, что, приняв конверт, он принял и контрактные обязательства? Пожалуй, не стоило об этом молчать… С другой стороны, грех упускать возможность уйти от налогообложения.
«Для создания того, что будет иметь ценность вечную…» – раздавалось с экрана.
А вот это была импровизация! Что же они, любители пончиков под пиво, думают, будто им можно использовать его текст? Пусть тогда включают его в список авторов!
«…прежде мы должны создать самих себя», – прозвучало со следующего канала и одновременно из часов на тумбочке вместо привычной радиостанции с прогнозом погоды и дорожных пробок.
– Мы уже отправили требование отозвать материалы! – кричал агент из трубки.
В дверь позвонили.
Экранный Пайпер, элегантный и благородный, повторял с лучшими интонациями Рональда Рейгана и Джона Кеннеди: «Ссудный день настал».
Живой Пайпер прижал телефон плечом к уху и стал натягивать халат. Когда он завязывал пояс, звонок повторился.
«Ссудный день настал», – неслось из динамиков. У человека несведущего могло сложиться впечатление, что это повтор одной и той же записи, но Пайпер слышал разницу между дублями.
– И по радио то же самое, и в интернете! – возмущался агент.
Там у него, в Нью-Йорке, тоже звучало это многоголосие: «Ссудный день настал». По телефону оно запаздывало на долю секунды. Целый хор Толботтов Рейнольдсов повторял, как песнопение: «Ссудный день настал».
Пайпер подошел к входной двери, глянул в глазок.
Из телевизора, из телефона, из соседней квартиры – отовсюду звучало: «Ссудный день настал».
За дверью ожидал человек с ушами, похожими на цветную капусту, и наколотой на шее свастикой. Пайпер никак не мог вспомнить его имя. Оператор заштатной киностудии, которая проводила эти пробы.
– Приехали, – сообщил он агенту.
Гул машин на сто первой магистрали стал громче, приближался утренний час пик.
– Кто приехал? – не понял агент.
«Ссудный день настал». Хор многих одинаковых голосов уходил на периферию сознания, превращался в норму. В белый шум.
Пайпер открыл дверь. Он наконец вспомнил имя.
– Вы Ла-Манли, да?
– Какой еще Ла-Манли? – потребовал агент.
Со всех сторон гремело: «Списка не существует».
Ла-Манли сунул руку за пазуху и вытащил пистолет. Без единого слова наставил его Пайперу в грудь.
«Списка не существует», – доносилось из соседского окна.
Пайпера отбросило назад не только ударом, но и оглушительным грохотом выстрела. Халат на нем распахнулся, выставив на обозрение белую майку и торчащие из-под нее завитки седых волос. Он выронил телефон, но не упал.
Не сразу.
Его собственный, поставленный голос звучал из его собственного телефона, из телевизора, у соседей за стенкой: «Первой жертвой войны становится Бог».
Поле зрения начало сужаться, Пайпер будто смотрел в длинный темный тоннель, по которому Ла-Манли удалялся к припаркованной машине. Гул в ушах перекрывал рев трафика на сто первой магистрали. У машины Ла-Манли чертыхнулся и хлопнул себя по лбу. Быстрыми шагами он вернулся к двери квартиры и аккуратно прикрыл ее за собой. Дернулась ручка – видимо, Ла-Манли проверял, хорошо ли закрыт замок, а потом снова послышались удаляющиеся шаги. Голос Пайпера из динамиков декламировал:
Пусть всякий стремится к тому, чтобы его ненавидели. Ничто не превращает человека в монстра быстрее, чем потребность быть любимым.
Актер остался в своей гостиной один. Звучание его речи – записанное, размноженное, бессмертное – не стихало. Голос Толботта Рейнольдса вещал и вещал, хотя Грегори Пайпер уже рухнул на колени и истек кровью на ковре перед собственным изображением на телеэкране.
* * *
Лидер сенатского большинства огласил итог завершающего голосования. Решение было единогласным. Когда он объявил, что Национальная военная резолюция вступает в силу, со зрительской галерки раздался голос:
– О, римляне, сограждане, друзья! Обратите ко мне свои уши!
Это был Чарли – и момент, который впоследствии войдет во все учебники истории. Клан его долго размышлял над открывающей фразой и остановился в итоге на перефразированной цитате. Ей было суждено стать не менее знаменитой, чем слова Натана Хейла.
Лидер сенатского большинства застучал молотком, требуя тишины. Приказал начальнику охраны вывести наглого бузотера из зала. Охрана не сдвинулась с места. А на галерке встал во весь рост еще один человек. Он поднял к плечу снайперскую винтовку Драгунова, и красная точка лазерного прицела остановилась ровно по центру сенаторского лба. Этим человеком был Гаррет Доусон.
В тот год сезон охоты на куропатку так и не открылся.
* * *
Ник видал проблемы и похлеще. Поначалу он боялся, что за ним явится полиция. С улицы тянуло дымом, и Ник выглянул в окно. Горел магазин «Урбан Аутфиттерс» – длинные языки пламени вырывались из окон и лизали кирпичные стены. И при этом нигде не выла сирена. Еще больше тревожило то, что вокруг не собрались зеваки. А главное, никто не пытался поживиться тряпьем из горящего магазина, и вот этот факт Ника реально напугал.
Ник попробовал вызвать экстренные службы, но не дозвонился – не было ни сигнала, ни стандартного автоответчика.
По ночам Ник теперь прятался в кофейне – в последней из тех, в которых успела поработать Шаста. Поразительная глупость – выдать ей ключи и код от сигнализации, а потом ее уволить. Из дома Ник свалил сразу, в чем был, прихватив только заначку травы. Он как раз подъел весь местный запас шоколадных печенек, когда с улицы запахло дымом. Ветер гнал огонь в его сторону.
Ник состряпал себе завтрак из взбитого молока, ванильного сиропа и дюжины порций эспрессо. Нашел нетронутые баллончики со взбитыми сливками и дыхнул закисью азота из каждого. Проверил срок годности у чиабатты с куриной грудкой. Умылся в туалете и пригладил волосы пятерней. Снова выглянул в окно – пожар перекинулся на «Баскин Роббинс».
Огненное инферно вот-вот должно было поглотить его кофейню. Ник не особо расстраивался – учитывая сколько всего он тут съел и где оставил отпечатки пальцев. В любом случае, скоро откроются пункты официальной продажи марихуаны, а в обед будет встреча общества анонимных наркоманов в Первой методистской церкви – там-то он наверняка сумеет пополнить запас.
Тут подъехал первый микроавтобус. А за ним следом второй – примчался на всех парах и резко остановился перед кофейней, взвизгнув тормозами. Первый начал поднимать тарелку, направляя ее на спутник. Женщина со смутно знакомым лицом встала перед камерой и начала репортаж о пожаре. Такой цирк неизбежно должен был привлечь толпу любопытных. Вот что напугало Ника до чертиков: ни одна живая душа не остановилась посмотреть. Ни одна машина не притормозила на обочине. Машин на дороге просто не было, вообще. И людей, кроме журналистов, тоже.
Еще один микроавтобус подъехал и сразу развернул вещание. И еще один, четвертый. Целая стена репортеров выстроилась перед горящими зданиями.
У Ника завибрировала задница – звонил телефон в кармане джинсов. Не сводя глаз с пожара, Ник приложил трубку к уху и наугад спросил:
– Уолтер?
В трубке не ответили, и Ник сделал вторую попытку:
– Шаста?
– Ссудный день настал, – произнес незнакомый мужской голос.
Это была запись. Автоматический звонок. Ник глянул на экран – номер не определился. Голос в трубке повторял одно и то же, и Ник нажал на отбой.
Последними на месте происшествия объявились экстренные службы – пожарная машина в сопровождении отряда полиции. Но отчего-то они не спешили кидаться к гидрантам и разворачивать брандспойты. Вместо этого пожарные и полицейские взяли собравшихся журналистов в кольцо. Все камеры тут же развернулись к ним.
Ник следил из окна, буквально жопой чуя, что сейчас произойдет. Что наблюдает он не за тем, как делается новостной контент, а за тем, как делается история. И все это было один в один похоже на тот безумный бред, который пытался втереть ему Уолтер. Вот теперь его точно нужно как можно скорее найти! Уолтер мог объяснить, что творится.
Ведь дальше все пошло именно так, как он предсказывал. Полицейские вытащили табельное оружие. Пожарные вскинули винтовки. И, как и обещал Уолтер, эта невероятная расстрельная команда выпустила целый фейерверк пуль – краткий и оглушительный, как будто взорвалась пачка петард. По воздуху поплыли облачка белого дыма, пахнущего серой. И не успело стихнуть эхо последнего выстрела, как люди в форме направились к убитым журналистам. Они шагали между трупов, как по мелкой воде. Кто-нибудь то и дело наклонялся, запускал пятерню в чьи-то безукоризненно уложенные волосы и поднимал голову. Тогда подходил другой человек, который тащил за собой по земле холщовый мешок, а во второй руке держал что-то блестящее. Он склонялся над каждой поднятой головой и делал этим блестящим предметом один уверенный взмах. Ник сообразил, что это нож. Человек чиркнул ножом по очередной голове и скинул что-то в свой мешок.
Ухо. Уолтер говорил, они будут собирать уши. Щедро напудренные уши в розоватых разводах от тонального крема. Уши, в которых все еще торчали миниатюрные передатчики.
У человека с ножом было имя. Ник его откуда-то знал. Видел этого парня не за срезанием ушей с мертвых голов, а в каком-то нормальном месте. Он и голос его помнил: «Всем привет, меня зовут Клем, и я наркоман».
* * *
Название «Ссудный день» не соответствовало действительности. На то, чтобы изменить ход истории, потребовалось немногим больше часа.
Полиция не вмешивалась. Политики и журналисты много лет подряд выставляли полицейских негодяями, и вот полиция отвернулась, когда граждане проносили тяжелые спортивные сумки во всевозможные государственные учреждения, суды, муниципалитеты, административные корпуса университетов и колледжей… Полиция была в курсе, что этим утром сообщения о пожарах и убийствах будут лишь приманкой, чтобы завлечь репортеров в ловушку.
Много лет подряд преступники убивали налогоплательщиков. Убивали электорат. Убивали полицейских. В этот раз пришел черед законотворцев стать жертвами убийства.
* * *
Внося свой вклад в Ссудный день, Бинг и Эстебан тем самым погасили все долги перед законом. Ссудный день аннулировал для Джамала его студенческий кредит.
Некоторые цели, конечно, исхитрялись улизнуть, за ними приходилось гоняться по коридорам аварийных выходов, преследовать их на парковках, где они, скуля, прятались под машинами. Некоторые запирались в кабинетах, вынуждая ломать двери пожарным топором. Но даже несмотря на помехи, дело шло быстро. Старый режим падет к обеду.
В памяти всплыли слова бывшего учителя. Когда-то давно один профессор читал Джамалу лекцию про древних греков. Профессор Бролли рассказывал, что греки превыше всех жанров ценили комедию. Комедий они написали гораздо больше, чем трагедий, ведь, по их мнению, все дела человеческие были в глазах наблюдающих свыше богов мелки и смехотворны.
Когда на смену грекам пришла христианская культура, комедию почти искоренили. Христианскому мировоззрению больше соответствовала трагедия, поэтому «Царь Эдип», «Медея» и «Прометей прикованный» уцелели, а все, что не содержало в себе милых церкви страданий и мученичества, было уничтожено.
Древние греки видели в абсурде больше глубокого смысла, чем в трагедии. Джамал обдумывал эту мысль, наблюдая за происходящим с галерки, как греческий бог с Олимпа.
Там внизу, за перилами, словно карнавальная толпа, бурлила и визжала живая масса раненых и ослепленных государственных мужей, сумасшедший цирк властей предержащих. Эти клоуны выли, сучили конечностями, захлебывались кровью и хрипели. Невозможно было без смеха глядеть, как они пытаются горстями удержать свои вонючие разорванные кишки, как белыми ладонями запихивают мозги обратно себе в разбитый череп. Те самые бюрократы, кабинетные крысы, которые только что единогласно приговорили Джамала и всех его друзей к схожей участи.
Джамал уничтожал цели одну за другой, каждая вспышка из дула винтовки обрывала жизнь очередного старика – и каждый раз в голове у него вспыхивала новая мысль. Он вспомнил, как профессор Бролли на лекции по антропологии рассказывал про самый примитивный юмор – смех над чужой неуклюжестью. Почему мы с такой готовностью потешаемся над тем, как кто-нибудь споткнулся или с размаху сел на зад? Антропологи считают, что это рефлекс, сохранившийся с доисторических времен. Когда на первобытных людей охотились хищники, когда все племя в ужасе бежало от какого-нибудь саблезубого тигра, тот, кто упал, был обречен на съедение. И его смерть несла избавление для всех остальных. Если верить доктору Бролли, в основе человеческого юмора лежит реакция на избежание смерти.
Многие годы Джамал жил в постоянном страхе. До того, как его записали… нет, не «в призывники», с друзьями между собой они называли это «записали в смертники», до того, как идея нового мира возникла на горизонте, он знал, что умрет молодым. Сдохнет от нервно-паралитического газа в глотке.
Теперь все изменилось. Отныне он сам саблезубый тигр.
* * *
Боль в пальце, спускающем курок, занимала Бинга больше, чем изрешеченные пулями старики, которые ползали там внизу, размазывая красные пятна по мрамору. Грохот выстрелов напрягал его слух сильнее предсмертных воплей. И болезненно кривился он от бьющей в плечо отдачи, а вовсе не от зрелища: кровавые огрызки высшей политической касты ломятся друг у друга по головам, из последних сил стараясь урвать себе лишние секунды жизни.
Вместе с собратьями по клану Бинг стоял на галерке – на высоте, которую они выбрали задолго до Ссудного дня. С этой точки они много недель снимали видео и вели наблюдение. Они изучили все возможные пути целей к отступлению. Они заняли позиции так, чтобы простреливался весь зал.
Вопли упрощали задачу. Мерзкий визг позволял Бингу ненавидеть этих лживых стариков и старух еще сильнее. Они не могли сказать ни слова правды. Каждая их фраза была уклончива и содержала лазейки, позволяющие в случае чего от нее откреститься. Предсмертные вопли были первым честным звуком, исторгнутым из этих ртов за всю взрослую жизнь.
Что за картина: престарелые богатеи затаптывают себе подобных в тщетных попытках спастись.
Стадо перепуганных жирных котов. Распихивая друг друга, они ломились в запертые двери и рыдали, скорчившись под столами. Словно касками защищали головы раскрытыми томами законодательных актов. Бинг представлял себе массовые убийства диких животных, и это тоже ему помогало. Его собратья по племени пересылали друг другу видеозапись уничтожения дельфинов – их загоняли в сети, а потом забивали дубинками, так что морская вода превращалась в кровавую пену. Бингу было куда тяжелее наблюдать, как гибнут в скользком копошащемся месиве прекрасные дельфины, чем вот эти слуги государства в пафосных костюмах. Он посмотрел в интернете и другие видеозаписи – например, как схожим образом убивают диких кроликов. Огромные стаи диких зверьков окружали и гнали в огороженные карманы, и там они большими волнами метались от одной стены к другой, а между ними ходили люди и разбивали им головы железными молотками. Бинг посмотрел такие ролики про кенгуру и тюленьих детенышей.
Массовое убийство законодателей – ничто по сравнению с бойней тюленьих детенышей.
Плечо ныло от отдачи, и боль подпитывала ярость Бинга. Он зорко следил за каждым движением внизу и тут же стрелял.
Все это происходило с благословения полиции, ведь полицию уже принесли в жертву политкорректности. Массовое уничтожение молодых было предотвращено принесением в жертву сравнительно небольшого числа тех, кто и так стоял одной ногой в могиле, кто успел вырастить детей и порадоваться жизни.
Все государственные залы заседаний, все суды, телестудии, лектории – все подобного рода заведения пропахли пороховым дымом и дерьмом из разорванных кишок.
А когда снайперы дали разрешение, к мертвым направились сборщики. Очередной труп от тычка ножом начал визжать, и стало понятно, что тут недобиток прикидывается падалью. Тогда Бинга призвали спуститься с галерки, и этот трус до того мерзко завыл, что Бингу было в удовольствие оборвать его вопли.
* * *
Все происходило так быстро, что думать было некогда. При малейшем шевелении Чарли тут же спускал курок. Он впал в транс. Его глаза сканировали зал заседаний. Движение. Кто-то живой. Выстрел. Это происходило автоматически, в обход разума, в обход сознания. В подобный транс он входил, играя в шутеры. Как собака, наблюдающая за белкой, как кот, стерегущий мышь. Как его старик, пристально следящий за красно-белым поплавком в ожидании, когда клюнет.
Состояние транса позволяло Чарли не представлять себе того, что сейчас несомненно происходит с отцом и матерью.
Время на размышления прошло, он давно уже все обдумал. Определился со своими мотивами принять участие. У него не осталось веры ни в какие стандартные, постепенные методы самосовершенствования. Целую жизнь он провел, строча посты в соцсети, снимая на видео каждый свой чих, подробно отчитываясь о всех своих эмоциях. Теперь он столкнулся ни много ни мало с истощением идентичности. Не было у него больше пространства на то, чтобы начинать с чистого листа. Слишком много стараний он приложил к построению собственного бренда. Он документально зафиксировал всю свою жизнь для потомков. Не осталось больше первозданных областей, где интернет не хранил бы о нем всю подноготную – с тех самых пор, как Чарли научился набирать текст на клавиатуре.
Ссудный день обещал ему возможность начать заново. Так или иначе его жизнь изменится кардинально. Либо он погибнет, либо сядет в тюрьму, либо станет героем революции – и любой расклад будет лучше, чем существовать как сейчас. Обычной заурядностью, сливающей в Сеть все печали и радости, все надежды и страхи, чтобы мир имел возможность наблюдать, как он становится выше, становится старше, но, по сути, не становится никем.
Подавляя истерический смех, Чарли отстреливал состоятельных мужчин и богатых старух. Метил он всегда в затылок, чтобы пуля вошла через основание позвоночника и вышла через разинутый в крике рот. Так получалось аккуратнее, меньше потом уборки. Белок вообще убойная штука, он липнет ко всему намертво, как клей. Раскрои человека пополам автоматной очередью – и пол придется отскребать всем кланом.
Внутри у Чарли росло нечто новое. Какое-то всепоглощающее чувство. Ему могло быть только одно имя – ликование. Впервые в жизни не нужно было беспокоиться о призыве. Раньше Чарли не особо задумывался о будущем, потому что там всегда маячил призыв или атомная война. С тех пор как ему исполнилось восемнадцать, над ним нависал призрак скорой, неизбежной смерти. Сегодня же Чарли впервые увидел перед собой будущее. И впервые он мог на это будущее как-то влиять.
Всю жизнь ему внушали, что мужчина – это защитник и нет участи почетнее, чем отдать жизнь за другого. Если у юмора есть основа, то это чувство глубокого облегчения. Чарли радовался тому, что смерть больше не внутри него, она снаружи.
Сцена, которая разворачивалась перед его глазами, была уродливее некуда. Кровавей некуда. Однако могло произойти кое-что пострашнее.
В книге Толботта говорилось, что человечество никогда не узнает о своей самой страшной ошибке, потому что никто не переживет ее последствий. Сегодняшнее кровопролитие было чудовищным, но оно предотвратило атомную войну. Всемирный голод. Пандемию, которая унесла бы жизни миллиардов.
С детства Чарли внушали, что он и ему подобные являются безжалостными угнетателями, насаждающими патриархат, жестокосердыми воинами, колонизировавшими весь мир и поработившими кротких дикарей в потерянном раю Жан-Жака Руссо. Спасибо, академики. Чарли мог примерить это на себя. Ярлык «хуже Гитлера». Сегодня он продемонстрирует людям, что они в нем не ошиблись.
Прямо как в телесюжетах, когда берут интервью у соседей и близких друзей серийного убийцы и все они клянутся, что это был милейший и добрейший человек, который в жизни мухи не обидел.
После Ссудного дня мир узнает новую правду – каков на самом деле #хорошийпареньчарли144.
Ему надоело учить историю. Он хотел сам ее творить.
* * *
Сенатор Дэниэлс лежал без движения среди мертвых коллег. Он червяком зарылся в их трупы, и чужая кровь насквозь промочила его сшитый по мерке костюм. Когда все началось, сенатор успел спрятаться в числе первых, а дальше вокруг посыпались убитые. Дэниэлс чувствовал, как тела содрогаются в предсмертных спазмах. От их крови у него прилипли к голове волосы и склеились веки. Пропитанные кровью брюки облепили худые ноги, вязкая красная жижа перепонками свернулась между пальцев. Дышал он как прикинувшийся мертвым кролик – мелкими вдохами, редко и еле-еле. Лежа вниз лицом, он прижимал к ладоням лоб, чтобы скрыть их дрожь.
Потом выстрелы прекратились. Крики тоже. Сенатор Дэниэлс услышал другие голоса. Какие-то люди ходили по залу и переговаривались между собой. Время от времени они крякали, поднимая что-то тяжелое. Сначала исчез гнет, давивший на сенатора сверху. Потом оттащили труп, лежащий рядом. А потом его самого ухватили за плечо и перевернули на спину. Сенатор перестал дышать. Чья-то рука поволокла его за плечо, чертя по скользкому от крови мрамору борозду, как тормозной путь. И бросила. Дэниэлс рухнул безжизненным кулем. Он все так же не дышал и не шевелился, застыв в шоке, но капли пота, проступающие сквозь кровавую маску, и паническая дрожь грозили неизбежно его выдать.
Чьи-то пальцы схватили его за ухо, и острая боль пронзила место, где ушная раковина крепится к коже черепа. Сенатор завопил, раздирая склеенный рот и глаза.
Пальцы разжали хватку. Над сенатором возвышался человек – дикарь в камуфляжном комбинезоне с охотничьим ножом в руке. Один из вчерашних рабочих, которые жарили мясо перед Капитолием. Его руки в латексных перчатках были вымазаны красным – и на этот раз явно не кетчупом. На секунду сенатор встретился с ним взглядом. Глаза у работяги были зеленые, расширенные от удивления.
– Пожалуйста… – взмолился сенатор шепотом.
Он уповал на то, что работяга сжалится над ним и бросит среди мертвых. Горючие слезы прорисовали светлые дорожки на его щеках.
Но человек развернулся и крикнул своим подельникам:
– Эй! У меня тут живой!
Дэниэлс с трудом приподнялся и сел. Его окружали такие же дикари с багровыми от крови руками. Глянув на Дэниэлса, они продолжили бродить среди трупов – целых, располовиненных, безголовых – по щепкам, в которые превратились столы. А один, сунув в карман штанов какой-то маленький окровавленный ошметок, крикнул первому в ответ:
– Ну, отправь его к остальным недобиткам.
И указал куда-то охотничьим ножом, с которого срывались тяжелые красные капли.
Там, у стены, сбилась в кучу маленькая группка плачущих людей. Лысых и сутулых, с круглыми выкаченными животами и тонкой пергаментной кожей, обтягивающей скелет. Старики, густо вымазанные в чужой крови.
В нескольких шагах от них один из дикарей кромсал кого-то ножом. Отпилив нечто маленькое, он поднял это в руке, и следом потянулась тонкая проволочка. На ее конце болтался коробок. Дэниэлс не сразу сообразил, что же это такое. Слуховой аппарат. В отрезанном ухе. Дикарь выковырнул его, отбросил в сторону и сунул ухо в задний карман.
Человек, стоящий над Дэниэлсом, улыбнулся. Ухмылка была недобрая, кривая, но все же не лишенная жалости.
– Яму снаружи помнишь? – спросил дикарь и кивнул на жмущуюся к стене стайку уцелевших. – Ваша задача – сгрести в нее все это дерьмо. – И рукой с ножом он широким жестом указал на трупы, устилающие пол. – Ясно?
Пальцы Дэниэлса потянулись к уху, в котором еще пульсировала боль. По щеке лилась теплая кровь. Теплая. Он жив.
– Ну, иди, – велел улыбающийся дикарь. – Иди к своим дружкам.
Сенатор Дэниэлс медленно кивнул и кое-как поднялся на ноги.
* * *
Еще в Прежние Времена… пока не начали заполняться ямы… Уолтер гнал прокатную машину назад в Портленд, штат Орегон, играя с Толботтом Рейнольдсом в кричалки. Эту игру они с ним придумали, чтобы Уолтер мог проверить, жив ли его старик в багажнике.
Уолтер кричал:
– Стейк-соус «А-один»!
А Толботт ему из багажника:
– «Формула четыреста девять».
А Уолтер ему:
– «Севен-Ап»!
А Толботт:
– Канал номер пять.
А Уолтер:
– Вэ-дэ-сорок!
Тишина. Слышен лишь туннельный гул пролетающего снаружи штата Айдахо. Все мечты Уолтера о том, как он поразит Шасту своим богатством, как поднимется над загадками экономики, в которых тонет большинство обывателей, – все эти сладкие надежды могли умереть в багажнике. Уолтер начинал соображать, что теперь делать. Видимо, поворачивать обратно и ловить себе другого ментора… Да, похоронить этого и сразу ехать за следующим.
И тут из багажника доносился голос:
– Я бы выпил сока «Джей-севен»!
О счастье! Мертвые вернулись к жизни! Все снова вставало на свои места. На радостях Уолтер мог забыть, что машина прокатная, и раскурить косячок. Они скоротают за этой игрой много миль, пока Толботт Рейнольдс не заорет:
– Хватит!
А потом еще:
– Надеюсь, толстый белый нацистский хер понравится тебе на вкус!
* * *
Все уши были вывалены из мешков, вытащены из карманов и подсчитаны. Черные уши и белые. Уши со слуховыми аппаратами. Уши с кольцами серег. Уши с седыми волосами и с оранжевыми пятнами от автозагара.
В каждом учреждении какой-нибудь свой гаррет доусон или джамал спайсер обращался к кучке дрожащих, запятнанных кровью недобитков. Он зачитывал им условленный отрывок из книги Толботта: «Вы останетесь и будете жить, выполняя волю наделенных правом голоса кланов и осуществляя все необходимые для этого действия».
На тех, кому сохранили жизнь, возлагалась задача предания мертвых земле.
«Вы не будете ни предлагать, ни навязывать новых законов. Вы – простые служители. Ваша служба имеет пожизненный срок. В случае невыполнения вами своих обязанностей электорат может голосованием приговорить вас к смертной казни».
В книге Толботта все это формулировалось очень просто. Право голоса получали только те, кто в Ссудный день собрал жатву ушей. Ценность ушей была подсчитана согласно рейтингу в Списке и в зависимости от этого распределялось количество голосов между кланами. То есть электорат составляли исключительно те, кто внес вклад в общее дело. Это была гарантия, что никто чужой не перехватит власть. Люди, в Ссудный день набравшие самый высокий счет, объединятся друг с другом и выберут кого-то из своих. Только им хватит силы и духа удерживать власть теми же методами, какими они ее получили.
Конфискованное и ставшее бесхозным имущество официально передавалось в распоряжение нового правительства для покрытия расходов на установление правильного общественного устройства. А также для выплаты компенсаций тем, кому предстоит бросить свое имущество при переселении в положенное отечество.
«Когда вопрос с трупами будет решен, – зачитывали пленникам представители нового правящего класса, – вашей следующей задачей будет выполнение предписаний Акта о переселении в соответствующие отечества».
* * *
Когда эта книга еще не стала книгой… по пути в Портленд, штат Орегон… Толботт Рейнольдс, лежа в багажнике, повторял на разные лады:
– Надеюсь, ты быстро привыкнешь к новой жизни. В тюряге опущенные ходят по рукам и продают свою дырку за сигареты.
Он заявил Уолтеру, что у него вшит подкожный чип, специальное устройство слежения. Где именно под кожей, он уточнить отказался. Чип передает геолокационный сигнал, по которому его быстро найдет ФБР. Как только машина остановится, федералы за час-другой его запеленгуют.
Старик изложил Уолтеру всю практику правоприменения в отношении похитителей – до самого дела об убийстве Чарльза Линдберга-младшего.
– Ты научишься различать черные, белые и метисские херы у себя в глотке по тончайшим оттенкам аромата!
Пока Уолтер вел его в подвал брошенного дома и привязывал к тяжелому стулу, крошечное устройство постоянно транслировало их координаты. А значит, в любую минуту федералы высадят входную дверь и вынесут Уолтера наружу. Его посадят в изолятор, будут судить, приговорят к заключению, и в жизни его не будет больше ни минуты Шасты.
Игра закончена – если только он не найдет и не уничтожит этот передатчик.
Надо обнаружить, где он запрятан, и вырезать его из старческой шкуры. Всего разок надсечь бритвой, протереть спиртом, порыться под кожей – а потом бросить мерзкий девайс на пол и раздавить. Останется только зашить рану. Раны. Казнь через тысячу порезов бумагой.
Вот о чем думал Уолтер, пока искал медицинский спирт. Бритву. Пластыри и суперклей. Готовился к охоте за сокровищем.
Первым делом он разрезал на старике одежду, надеясь увидеть где-нибудь маленький шрам, который выдал бы местонахождение устройства. Он вскрывал швы и снимал рукава, воротник рубашки, словно чистил апельсин. Начал с конечностей – запястий и лодыжек, – продвигаясь к корпусу. На предплечье обнаружилась шишка. Уолтер говорит:
– Оно?
Старик весь напрягся и отвечает:
– А ты проверь.
Уолтер протер шишку спиртом, погрузил под кожу уголок бритвенного лезвия. Пальцы скользили, латексных перчаток у него не было, под ногтями сделалось красно от крови, на глазах аж слезы выступили, до того было жалко старика. Уолтер ведь не к этому стремился. Он не хотел стать тем, кто пытает слабых и немощных, привязав к стулу, кромсая лезвием и ковыряясь среди сосудов и сухожилий.
Шишка оказалась кистой. Уолтер был вынужден продолжить поиски.
Срезав кусок брючины, он нащупал небольшое уплотнение над высохшей икроножной мышцей. Поднял глаза на Толботта. Толботт вздрагивал, морщился и ржал.
– Это оно?
Чокнутый старикан хихикал, его страшно веселило, как Уолтер мнется и страдает.
– В тюрьме ты будешь пользоваться большой популярностью, – заявил он, вынуждая Уолтера снова взяться за спирт.
Вот он протирает кожу, нащупывая под ней уплотнение. Старается ухватить его между пальцев и удержать, пока другой рукой делает надрез лезвием. Только уплотнение не хочет оставаться на месте. Оно все время удирает, скользит под липкой от крови волосатой кожей. Бритве приходится ловить его, догонять, и маленький надрез становится длиннее, уходит в сторону; наконец, лезвие настигает цель – и выясняется, что она ложная. Просто жировик.
Старик уже был весь в кровище, а когда Уолтер попадал куда-нибудь в сосуд, красная жижа хлестала наружу, как кетчуп из тюбика. И запах стоял такой, будто имеешь телку, лет десять пролежавшую в гробу. А Толботт еще весь трясся от смеха и постоянно ерзал. По щекам его текли слезы, каждая морщинка натянулась от напряжения. Он елозил на стуле, насколько позволяли путы, которыми его локти были привязаны к подлокотникам, а ноги к ножкам.
Казнь через тысячу бумажных порезов не была смертельной, но она понемногу обкраивала и стачивала в Уолтере что-то человеческое. Извлечь очередное уплотнение было уже гораздо проще, а следующее он выстриг вообще не поморщившись. Потоки крови, которые сперва его пугали, теперь лишь бесили, сочувствие скисло и превратилось в ярость. Теперь он кроил без разбора.
Всякая эмпатия в нем выгорела. Уолтер рылся у старика под кожей, чтобы его помучить, чтобы наказать, раз не хочет выдавать чип по-хорошему. Намеренно кромсал его, чтобы он наконец раскололся.
Однако Толботт все хохотал и костерил его за бестолковость, и Уолтеру приходилось чертить лезвием борозды на его спине, на голове под волосами. Он уже начал смывать кровь, плеская спиртом прямо из горлышка бутылки, чтобы не ошибиться и не начать резать второй раз по тому же месту. Толботт весь побледнел, голова его свесилась на грудь, а хохот превратился в слабое шипение, как будто он смеялся во сне.
Для поддержания сил Уолтер открыл порнуху с телефона. Свои любимые ролики – те, в которых фигурировали мертвецы. В смысле они были живы, когда трахались и сосали на камеру, но теперь умерли. И тот факт, что они по-прежнему могут волновать его, уже отойдя в мир иной, Уолтер находил самым убедительным доказательством бессмертия человеческой души. Эти боги разврата своей древней красотой давали Уолтеру оправдание – вполне дозволительно порезать шкуру тому, кто остается одной лишь телесной оболочкой.
И все-таки пальцы Уолтера не нащупали никакого чипа. Никакого диода. Только шрамы, комки жира и теплые кисты, которые Уолтер вскрывал и рассматривал, чтобы ничего не пропустить. Предраковые новообразования. Кальцинированные инородные предметы. Кусочки гравия и мелкие кубики стекла – сувениры, оставшиеся после автокатастрофы или падения с велосипеда бессчетные годы назад.
Уолтер срезал со старика трусы и майку. Он прощупывал кожу мелкими круговыми движениями, пытаясь нащупать предмет, который прямо сейчас выдавал его полиции – сообщал координаты заброшенного дома, залитого кровью места преступления, где Уолтер, обливаясь потом и морщась от сострадания, резал и резал бритвой, но уплотнением под кожей оказывался то жировик, то увеличенный лимфоузел, то вросший волос, то фурункул, взрывающийся гноем в глаза, то мозоль, вскрытая по ошибке. Его новый папаша намеренно дергался, чтобы лезвие резануло не туда, и хохотал в истерике.
А чип передавал безмолвный сигнал полиции, и с каждой минутой полиция была все ближе.
* * *
После Ссудного дня книга была везде. Выходить без нее на улицу означало рисковать, что на тебя донесут. А что будет дальше – никто не знал.
Хотя книга сломала ей нос, мать не стала отбирать ее у Терренса. Страницы были в пятнах мочи и коллоидного серебра, но отцовские пометки по-прежнему читались. Пометки, которые отец сделал специально для него. Среди них был список – на последней, чистой странице. Под заголовком «Мои мечты для тебя» отец перечислил:
Превосходное здоровье и сила
Высокий статус
Мудрость
Смелость
Чтобы ты стал великим целителем
Терренс по-прежнему начинал каждый день с чтения. Сегодня из книги Толботта он узнал следующее:
В некогда соединенных штатах рядовой американец всегда находился под контролем. Его образование представляло собой постоянное повторение одной и той же нарративной модели. В большинстве классических произведений американской литературы, которые так любят критики и составители учебных программ, присутствуют три героя. Каждого из них из сюжета в сюжет постигает одна и та же судьба. Послушный тихоня уничтожает себя. Агрессивного бунтаря уничтожают другие. И лишь очень внимательный и зачастую безмолвный наблюдатель остается в живых, чтобы поведать о случившемся.
Самоуничтожение. Убийство. Свидетель.
Именно в таком порядке. Сначала доводит себя до смерти кто-то невинный, как ребенок. В книге «Пролетая над гнездом кукушки» это Билли Биббит, который добровольно отправляется в психлечебницу, чтобы не перечить матери, а после секса с проституткой решает покончить с собой из страха перед материнским неодобрением.
Следующим гибнет бунтарь. В том же романе лихого ирландца Рэндла Патрика Макмерфи душат во сне. Свидетель, хранящий молчание – Вождь, – убегает на свободу, чтобы рассказать миру эту историю.
В «Великом Гэтсби» Миртл Уилсон от отчаяния бросается под колеса автомобиля. Фицджеральд с первых строк описывает ее как потенциальную самоубийцу. Вскоре после этого нувориш Джей Гэтсби погибает, застреленный в собственном бассейне. Рассказчик же, Ник Каррауэй – почти carry away, – уносит ноги на Средний Запад, вынося из истории мораль и делясь ею с читателем.
Это не единственная модель сюжета, но именно ее американцы считают идеальной, и успех любой книги в долгосрочной перспективе зависит от того, насколько близко ее сюжет воспроизводит этот паттерн.
Если роль бунтаря достается женскому персонажу, то гибель часто заменяется изгнанием или остракизмом. В «Унесенных ветром» смиренная тихоня Мелани Уилкс выбирает смерть ради того, чтобы родить ребенка – она знает, что не переживет роды, но хочет угодить мужу. От волевой Скарлетт О’Хара отворачиваются и семья, и прежнее окружение, а скрытный и сдержанный Ретт Батлер уезжает в Чарльстон, покидая место действия, как Вождь и Ник Каррауэй. Вариация того же сюжета имеет место и в «Долине кукол» – прекрасная Дженнифер Норт изо всех сил старается оправдать надежды матери и в итоге решает наложить на себя руки, потому что опухоль в груди угрожает лишить ее красоты. Резкая и амбициозная Нили О’Хара – выдуманный персонаж, взявший сценический псевдоним в честь другого выдуманного персонажа, – собственными действиями ломает себе карьеру в шоу-бизнесе. А тихая и деликатная Энн Уэллс – чужая в Голливуде, покинувшая семью в далекой Новой Англии, прямо как Вождь у Кена Кизи покинул свое племя, – в финале возвращается обратно на малую родину, понеся наименьший ущерб.
В «Обществе мертвых поэтов» ученик решает покончить с собой, не выдержав отцовского неодобрения, учителя изгоняют за свободомыслие, и вся история излагается внешним наблюдателем.
Даже такой, казалось бы, нетипичный роман, как «Бойцовский клуб», следует тому же паттерну. Самым новаторским аспектом «Бойцовского клуба» является то, как схлопываются в нем все три архетипа. Убивая себя, мученик уничтожает бунтаря и тем самым создает интегрированный пассивно-активный голос, который и выступает в роли нового, обладающего собственным самосознанием рассказчика.
Раз за разом американцам втирают одну и ту же мораль: не будьте ни слишком пассивны, ни слишком агрессивны, глядите в оба и не привлекайте к себе внимания. Так надо, чтобы спастись. Чтобы выжить. Чтобы рассказать свою версию событий.
Если верить Толботту, половина населения прежде соединенных штатов всегда была в рабстве у другой половины. И расстановка сил в этих взаимоотношениях менялась почти каждые четыре года. Избиратели были вынуждены становиться рабами или тиранами, тиранами или рабами – в зависимости от итога выборов. И литература была откалибрована так, чтобы уберечь людей от потери рассудка в условиях постоянно нависающей перспективы резкой смены власти.
Терренс закрыл книгу и застыл, держа ее на коленях. Он понимал, как ему остаться в живых: вырваться из этой формулы. Для этого необходимо найти другой вариант.
Такой, к которому его не подталкивали все известные ему книги и фильмы.
* * *
Полуживой Толботт наконец признался, что никакого чипа нет. Он соврал. Хотел испытать Уолтера, проверить, далеко ли он зайдет ради своей цели. Хватит ли ему хладнокровия.
Бледный, как смерть, едва дыша и еле двигая серыми губами, он выплюнул:
– Я тобой горжусь.
А Уолтер больше не был прежним Уолтером. Он превратился в кого-то себе не знакомого, кого-то скользкого от чужой крови. С пальцами, онемевшими от усталости.
– Я горжусь! – прохрипел его новый папаша.
Веки у старика почти смыкались, он как будто уже был готов помереть, но все же собрал волю в кулак, красными глазами пригвоздил Уолтера к месту и потребовал:
– Слушай меня внимательно. Я согласен открыть тебе все тайны успеха. – Он тяжело сглотнул и откашлялся. – Записывай! Пиши: Декларация Взаимозависимости.
И Уолтер помчался искать блокнот и ручку.
* * *
Шаста проверила заряд батареи и отключила телефон. Батарея была готова в любой момент сдохнуть. Шаста ее хорошо понимала.
Она смотрела Толботта Рейнольдса по телевизору и пыталась успокоиться. Многие не разделяли ее ужас. Например, человек, который развозил дрова. Или ее университетские преподаватели – те, которых не застрелили и не закапывали теперь в братской могиле на футбольном поле. Большинство уцелевших смотрели на перемены с большим воодушевлением. Никакие прежние действия не решили общественных проблем, разве что их усугубили. Народ был готов попробовать нечто радикально иное.
По правде говоря, изложенное в книге Толботта не было таким уж новым. Ведущие политические фигуры – в частности, Кит Эллисон – задолго до него предлагали разойтись по разным государствам. По сути, Толботт скопировал план Эллисона, требуя объединить южные штаты в отдельную страну, населенную исключительно людьми африканского происхождения. В северных штатах должны были остаться только белые. Также автономный статус получала Калифорния – этому штату было уготовано особое назначение.
Телевидение заполонили новые лица – вместо комментаторов и политических обозревателей, ставших мишенями Ссудного дня. Они объясняли, что первоначальная расовая идентификация будет вестись по данным прошлых переписей населения и базам абитуриентских заявок в высшие учебные заведения. Для принятия решений в спорных случаях, когда расовая принадлежность неочевидна, новая власть истребовала все архивы лабораторий генетического тестирования, прежде предлагавших свои услуги по интернету. Действие Акта о неразглашении генетической информации было, ясное дело, приостановлено. Благодаря популярности такого тестирования новая власть получила готовую базу граждан, которым потребуются переезд и компенсация.
Шаста не хотела, чтобы ее поймали сетью из-за какого-нибудь неизвестного ей скелета в генетическом шкафу. Она решила подстраховаться. Нашла в интернете сайт, который еще принимал биткойны, отправила пробу слюны на анализ под чужим именем. Результат должен был прийти текстовым сообщением на мобильник, который она купила у бездомного оборванца на бульваре Мартина Лютера Кинга. Оборванец взял с нее пятьдесят долларов и зарядное устройство к своему товару не приложил. Мобильник был в кровавых отпечатках пальцев, то есть пережил какую-то жуткую историю, но Шаста быстренько вытерла засохшую кровь антибактериальной влажной салфеткой. Батарея уже тогда была полудохлая.
Ожидание было хуже, чем после теста на беременность. Шаста пыталась утешиться тем, что родители у нее белые. Бабушки-дедушки с обеих сторон тоже. И все равно ждать результата было страшнее, чем после анализа на ВИЧ.
В новом мире, провозглашенном Декларацией Взаимозависимости, такие переживания испытывали многие. К канадской границе потянулись беженцы – в основном смешанные пары и семьи. Кто-то отправился в добровольное изгнание в Европу или Мексику. Увы, по книге Толботта это означало отказ от всей собственности. На полноценную компенсацию могли рассчитывать лишь те, кто добровольно сдавал свою недвижимость и бизнес и переезжал в соответствующее государство себе подобных.
По телевизору Толботт Рейнольдс успокаивал население, заверяя, что расстрельные группы работу закончили. Освободители прежде соединенных штатов будут контролировать процесс переселения и применять силу только в случае сопротивления и только соизмеримую с таковым.
Держа при себе отключенный телефон в надежде сэкономить заряд батареи до получения результатов, Шаста пыталась уложить в голове идею надвигающегося расового сепаратизма. Не было в обществе единых и неделимых групп. Едиными не были даже геи. Да что там, особенно геи. Идентичность квиров дробилась чаще, чем делились клетки эмбриона. Борясь с желанием лишний раз включить телефон, Шаста вспоминала блестящую писательницу Зору Ниэл Херстон, о которой узнала на очередном фестивале «Месяц черной истории». По мнению Херстон, афроамериканцы бывают следующих цветов:
Желтый
Темно-желтый
Светло-коричневый
Вазелиновый
Шоколадный
Караковый
Темно-коричневый
Шаста решила не отставать от сливок Гарлемского ренессанса и составила шкалу белизны.
Отварной рис
Сливки
Тюремная бледность
Вампир
Чищеная картошка
Экрю
Упаковочная бумага
Стандартная кукла Барби
Сама она по этой шкале была не темнее «чищеной картошки».
Шаста не знала, сколько времени прошло, но ждать больше не могла. Она включила телефон. И тут же поступило сообщение.
* * *
По телевидению и по радио Толботт объявлял временные меры.
Все государственные служащие должны оставаться слугами народа. Они должны распрощаться с мыслями о ранней пенсии. Да, когда-то эти люди забыли свои мечты в обмен на безопасность и перспективу, что однажды их сменят на посту молодые. Но молодые захватили власть и были пьяны ею. Эти парни не надеялись дожить до возраста, когда им можно будет покупать алкоголь, – и вдруг обрели будущее. Конечно, меньше всего им теперь хотелось разносить почту и выписывать штрафы за неправильную парковку. Поэтому Толботт временно отменил пенсии и отпуска в государственном секторе. Чисто в формате краткосрочной экстренной меры. Надолго ли – не знал никто. Исключение было сделано для военных и полиции, поскольку они оказали содействие племенам.
Поначалу страна продолжила катиться вперед по инерции. Те государственные учреждения, чья задача заключалась в доставке почты и выписывании штрафов, продолжали выписывать и доставлять. Во-первых, сил нанести ответный удар у них все равно не было; во-вторых, никто не знал, по кому следует этот удар наносить; в-третьих, никому не хотелось привлекать к себе внимание с риском стать следующей мишенью.
Страх перед возможными последствиями заставлял государственных служащих всегда сохранять хорошую мину. Мотивация кнутом, без всяких пряников.
Для предотвращения дальнейших кровопролитий на каждом шагу были размещены билборды с фотографией сияющего белозубого Толботта и слоганом:
Улыбка – лучший бронежилет!
То же изображение и слоган украшали собой автобусные остановки и стены офисных столовых. Народ понимал, что это следует читать как «улыбайся или застрелят», но был ли выбор?
Часто можно было видеть, как почтовые служащие скалят зубы изо всех сил, а со лба у них катится пот. Эти люди знали, что единственная доступная им стратегия выхода – через яму с известью. Работники государственного сектора стали новым классом рабов, прикованных к своим задачам. Родом движимого имущества.
Книга Толботта утверждала, что люди так долго жили на пороге хаоса без уверенности в завтрашнем дне, что с благодарностью примут условия любого нового правительства. «С благодарностью» – это оказалось еще мягко сказано. Исчезла постоянно нависавшая угроза близкой смерти, и от облегчения народ ликовал. Люди были готовы принять над собой любую власть, лишь бы она сохраняла мир. Деньги больше не имели влияния, они стали инструментом с недолгим сроком службы.
Толботт упразднил доллар, а новую валюту полагалось распределять главам кланов – пускать ее вниз по иерархии, вверять родным и близким, чтобы те передавали дальше. Валюта, отпечатанная на выцветающей пленке, быстро приходила в негодность. Деньги нельзя было копить, и потому их приходилось тратить на хлеб и вино, а чтобы удовлетворить растущий спрос, требовалось сажать больше пшеницы и винограда, и больше людей шли работать на поля.
И всегда маячила перспектива нового списка, в этот раз направленного на неугодных водителей автобусов и контролеров на платных парковках. Государственные служащие испуганно улыбались и лебезили, все прочие старались лишний раз не отсвечивать и в кои-то веки были рады, что не работают в госсекторе.
В глазах молодежного бугра миллениалов рядовые подметальщики улиц были виновны не менее сенаторов – как и власть имущие, они были готовы отправить целое поколение умирать на войне. Как якобинский террор начался с отправки на гильотину знати, а дальше полетели головы слуг и духовников, так и теперь существовал риск, что Ссудный день станет ежегодным событием.
* * *
Фигура на горизонте казалась призраком. Полупрозрачная, колеблющаяся в мареве жары, она еле теплилась, как свечной огонек, но становилась выше и четче с каждым шагом по автостраде. Вид ее напоминал брошенных животных. Собак, которых нищие семьи отвозили подальше и бросали в чистом поле, надеясь, что домашние питомцы сами о себе позаботятся. Голодающие комнатные собачки обречены на поедание экскрементов других животных. Дерьма, в которое отложили яйца черные мухи, и яйца эти уже готовы проклюнуться личинками. В итоге бедная брошенная шавка подыхает еще быстрее, вынужденная жрать еще больше дерьма, чтобы прокормить голодных червей у себя в брюхе, а с дерьмом поглощать и новые яйца, пока наконец не упадет где-нибудь под кустом, под деревом или забором – словом, там, где будет чуточку тени, чтобы, задыхаясь и вывалив язык, испустить дух.
Вот что Доусону Форду напомнила эта фигура.
За ее приближением он мог наблюдать, просто повернув голову набок. Бывший цеховой староста, вождь из самого влиятельного клана в Государстве Арийском, лежал на пыльной обочине под днищем фуры и скручивал крышку подшипника с крестовины карданного вала. Торчащие из-под фуры ноги пекло солнце – пятки в сапогах уже совершенно сварились, а джинсы будто раскаленным утюгом жарило.
Доусон вытаскивал из подшипника иглы и чистил каждую во рту. Сплевывая машинное масло, поглядывал на приближающуюся фигуру и вслепую ставил иглы на место. Вилка дифференциала так нагрелась, что пальцы жгло. Ящик с инструментами стоял наполовину в тени – если как следует потянуться, можно достать.
В кабине работало радио на полную мощь, чтобы слышать под фурой. А по радио был, конечно, тот человек. Толботт. Никакой музыки, никаких трансляций спортивных матчей. Один Толботт Рейнольдс – и по радио, и по ящику. Новый самодержец. Небось в замке живет, везучий ублюдок, в окружении юных наложниц. Динамики на приборной панели дребезжали от его голоса.
Рай – это не великолепие архитектуры, не красота природы. Рай создают души тех, кто его населяет.
Голос звучал над песком и кустами полыни. С того момента, как Доусон услышал сгоревший подшипник, мимо него по автостраде не проехала ни одна машина. Приближающаяся фигура была, видимо, женщиной. В пыльных обносках и с полным отсутствием намека на жопу. Солнце спалило ей кожу до пузырей, а с волосами обошлось и того жестче. Ветер, пыль и пот сваляли их в сплошной колтун.
Голос Толботта провозгласил:
Тот, кто в двадцать пять лет способен встать лицом к реальности, в шестьдесят способен ее диктовать.
Видок у нее был не очень, но Доусон на всякий случай все же снял обручальное кольцо и засунул в передний карман джинсов. Перекатил во рту иглу подшипника, отсасывая с нее горелое масло, сплюнул черным.
Запихивая кольцо в карман, он нащупал в глубине смятую бумажку – список того, что он должен купить домой. Что он пообещал своей жене Роксане. Ее рукой написанные слова, наверное, уже стали нечитаемыми, до того записка была стерта и пропитана его потом, но Доусон знал список наизусть:
Кофейные фильтры
Пальчиковые батарейки (для пульта на кухне)
Авокадо (только не темные!)
Туалетная бумага
Павлиньи язычки
Бег жизни ничуть не замедлился. Просто теперь они мерили уходящие дни в павлиньих язычках.
А еще через секунду та женщина доковыляла-таки до фуры и остановилась над ящиком с инструментами. И замерла молча – похоже, радио действовало ей на нервы.
Голос из динамиков вещал:
Когда они побегут – выслеживайте их. Достаньте их из укрытий. Стыд, что они испытывают, является итогом разбазаривания власти, построенной многими поколениями отцов.
Доусон различал несколько степеней солнечных ожогов. Первая – загар кровельщика: это если класть рубероид и прибивать его скобами к фанерному основанию крыши, жарясь на нем, как стейк на гриле. Далее по цветам Доусон выделял следующие градации:
Цвет сырой печени, как после вояжа через океан в спасательной шлюпке
Тропический алый, как после дня на пляже под озоновой дырой с маслом для загара
Красный камикадзе
Сен-Тропе оранж
Цвет автозагара Арнольда Шварценеггера
Обугленная аризонская бомжиха
Женщина не подходила ни под одну градацию. Ее сожгло до пузырей, и кожа сходила клочьями, обнажая лилейно-белые овалы нового эпидермиса. Это были ожоги кабинетного существа, впервые оказавшегося под открытым небом.
Губы у Доусона сейчас наверняка были черные от машинного масла – а у нее белые, как заиндевелые от слоя омертвевшей кожи. Зубы зато как у кинодивы, ровные и белехонькие.
Общеизвестно, что после Ссудного дня осталось много недобитков. В основном всякие профессора и академики, поди подстереги их при вечно свободном графике. О недобитках ходили слухи, что они, одевшись в лохмотья, прикидываются нормальными гражданами и потихоньку пробираются в сторону канадской границы. Мексика их не принимала, а вот Канада пока могла проявить сострадание. Двадцать первая трасса вела через известняковые пустоши на востоке штата Вашингтон на север, прямиком до Канады, но только умственно отсталый мог бы решиться пойти по ней пешком в жару, когда до ближайшего города, Калотуса, километров двенадцать, не меньше.
О людях науки Доусон твердо знал одно: ребята они не слишком умные.
Женщина подошла к коробке с инструментами и села на корточки, заглядывая под фуру.
– Эй, мистер, как насчет подвезти? – протянула она, изображая акцент, который почерпнула, видимо, из комедий про реднеков.
Доусон перекатился на бок, вытащил телефон, навел камеру ей на облезлую физиономию. Если она и знала о программах распознавания лица, то слишком устала, чтобы об этом париться.
Отправив фото на анализ, он протянул руку ладонью вверх.
– Как насчет подать мне торцевую головку на семь восьмых?
Блеклые голубые глаза метались по рядам блестящих инструментов в ящике. По шестигранным отверткам, клещам и пассатижам.
Роксана с лету нашла бы то, что он просит.
Доусон перекатил во рту иглу подшипника, как зубочистку. Щелкнул черными от машинного масла пальцами, чтобы женщина соображала быстрей. В следующую секунду ему в ладонь плюхнулся горячий металл. Гаечный ключ на пять восьмых.
Телефон пискнул. Лицо нашлось в базе. Голодную замученную бабу в рваных кроссовках и огромном рабочем комбезе с дырами, кое-как заклеенными грязным и затрепанным по краям скотчем, звали Раманта. Она скрылась из Орегонского университета, где возглавляла кафедру осознанных гендерных путей. Но уйдет она недалеко. К ней уже спешит небольшая армия охотников за головами, кое-кто из них совсем рядом. А она взяла и свалилась в руки Доусону. Нечаянная радость.
Голосов за ней – несчастные одиннадцать тысяч. Маловато для династии, но можно ведь на каждых выборах продавать свои голоса той стороне, которая больше заплатит, и на этом сколотить небольшое состояние. А вот пустит ли он ее в расход и как именно – это уже другой вопрос.
Видимо, она прочла эти мысли в его глазах и спросила:
– Полагаю, теперь вы меня убьете?
Ломать комедию с акцентом она перестала, и выяснилось, что манера речи у нее образованная. Рафинированная. Культурная.
Ничего хорошего. Культурных нынче убивали.
Из кабины Толботт вещал во всю мощь динамиков:
Ссудный день – это не месть. Охотник не питает ненависти к оленю. Он уважает свою жертву, но знает, что она должна умереть ради его выживания.
Доусон даже почувствовал досаду. Грязь запеклась у нее в облезлых ноздрях и в углах рта, от нее несло немытым телом, шея была вся в воспаленных укусах и свежих расчесах, а голова битком забита пустой идеологией, и больно было видеть за всем этим когда-то очень красивую женщину.
Она оглянулась на дорогу, ища на горизонте преследователей. И проговорила еле слышно, ни к кому особо не обращаясь:
– Это было не просто заурядное студенческое хулиганство. Они с оружием пришли.
Ее оставили в живых и приказали сбросить трупы мертвых коллег в яму.
– Всю мою кафедру… – Ее голос охрип от горя.
Она сидела на корточках, когда силы иссякли, она рухнула коленями на щебенку. Застыла в позе обреченности, повесив голову. И протянула Доусону вытащенный из его инструментов нож для линолеума.
– Отрежьте. Я вас умоляю.
Другой рукой она убрала волосы с лица, открывая ухо.
– Пожалуйста, режьте, только довезите меня до границы.
Вид у нее был совершенно обессиленный. Если Доусон ее не убьет, это сделает кто-то другой.
Резать ухо по-живому, может, и жестоко, зато так она будет считаться мертвой. Он получит голоса, она – возможность удрать в Канаду. Унести через границу то, что от нее осталось. Обоюдный выигрыш.
Доусон снова щелкнул пальцами и показал ей на нужную торцевую головку. Охотники за головами будут здесь с минуты на минуту.
– Саманта?
– Раманта, – поправила она.
Капля самоуважения в ней еще осталась. Она отложила нож и подала торцевую головку. Видать, поняла намек.
Никто тут никого не будет резать, и никто никуда не поедет, пока Доусон не разберется с подшипником.
* * *
Простым блокнотом обойтись не вышло. В мире, предшествовавшем Списку… мире, казавшемся таким незыблемым… рука Уолтера просто не могла писать так быстро. За впавшим в безумие Толботтом Рейнольдсом было не угнаться. Он тараторил как в бреду, почти теряя сознание от кровопотери. Голова запрокидывалась, глаза то и дело прикрывались, он совсем окосел в экстазе от боли. Великий человек по-прежнему сидел голый, привязанный к стулу, под которым разливалась лужа его пота, крови и мочи. От углов рта тянулись нитки слюны, а он говорил, говорил, говорил… Бредящий труп. Оракул с передозом эндорфинов.
Пришлось взять ноутбук. Уолтер старался зафиксировать каждое слово и лихорадочно стучал по клавиатуре. Правда, каким образом все это поможет ему разбогатеть и жениться на Шасте, было пока неясно.
Клавиатура быстро стала липкой от крови. Пальцы Уолтера оставляли на кнопках красные следы.
А Толботт диктовал:
– Гомосексуал всегда будет локомотивом производства – у него нет необходимости растить детей, расходуя свое время и деньги. – Он сделал паузу и посмотрел Уолтеру в глаза, проверяя, дошел ли до него смысл. – Каждое новое поколение гомосексуалов рождается и вырастает в гетеросексуальных семьях, а затем покидает их, чтобы примкнуть к себе подобным. Гомосексуалы могут копить и преумножать результаты своих трудов, богатство гетеросексуалов постоянно размывают расходы на детей, и от этого в конечном итоге выигрывает гомосексуальное сообщество.
Уолтер напечатал и вслух повторил: «Гомосексуальное сообщество» – давая понять, что все зафиксировал.
– Гомосексуалы не тратят на детей не только деньги, но и время, – назидательно продолжил Толботт. – Они могут больше учиться, расширяя свои навыки, и просто больше работать без необходимости оглядываться на интересы семьи.
Уолтер исправно печатал, вслух произнося последнее слово каждой фразы.
– Гомосексуальное сообщество всегда будет пополняться без всяких на это расходов.
Старик посоветовал Уолтеру задать шаблон, который далее будут выполнять другие. Запустить механизм, который станет сам приводить себя в действие. Который даже Уолтер уже не сумеет остановить.
Уолтер пока не имел ни малейшего понятия, как это поможет ему разбогатеть. По всеобщему писательскому обыкновению он был слишком занят набором текста, чтобы думать.
– Для сохранения целостности взаимоисключающих наций гомосексуалов и гетеросексуалов гетеросексуальные дети, рожденные лесбиянками, должны подлежать обмену на гомосексуалов из гетеросексуальных семей…
– …равным числом… – повторил следом за ним Уолтер.
Тяжело дыша, Толботт ерзал в путах окровавленным телом.
– В случае необходимости обмена неравного числа детей…
– … родителям, не получающим ребенка взамен отдаваемого, должна быть выплачена компенсация, – повторял Уолтер, прилежно печатая слова.
И так день за днем. Старик извергал из себя слова, Уолтер старательно их собирал. Помимо этого, единственной задачей – единственной практически осуществимой задачей, которую дал ему Толботт, было создание сайта. Когда старик засыпал, Уолтер брался за сайт и уже почти его закончил.
В какой-то момент старик, видимо, в дурмане, посмотрел на Уолтера с безумным оскалом и выкрикнул:
– Улыбка – лучший бронежилет!
Уолтер на всякий случай напечатал и это.
Он ни на минуту не терял веры в то, что старый хрен к чему-то ведет, что это не просто околесица. Что он, Уолтер, не тратит ценное время своей жизни, документируя предсмертный бред психа.
К примеру, затребованный стариком сайт был как-то совсем не похож на высокотехнологичный инструмент заколачивания больших денег.
Работать сайт пока не начал, Уолтер ждал от старика отмашки. Однако сделал он все четко по инструкциям, вплоть до идиотского названия. Совершенно пустого, без всякой выдумки. Беснующийся маразматик потребовал, чтобы сайт назывался просто: «Список».
* * *
Сотрудница почты достала из-под прилавка и положила перед ним бланк.
Форма номер триста сорок шесть, заявка на переселение в соответствующее отечество.
Глядя на Гэвина, она улыбнулась, облизнула губы и проговорила:
– Странно, в жизни бы не подумала, что в вас есть африканская кровь.
– Во мне ее нет, – ответил Гэвин, придвигая к себе бланк.
Сотрудница почты окинула долгим взглядом его ярко-рыжие волосы, квадратный подбородок, широкую грудь и вздохнула:
– Господи, жалость-то какая…
Ну что он мог на это сказать? Он не сделал ничего дурного, лишь следовал новому закону. Гэвин поблагодарил и отошел к длинному столу у окна, чтобы заполнить бланк. Вокруг толпился народ, люди стояли в очередях за посылками и чтобы обменять небольшие суммы старых денег на новые, с ограниченным сроком годности.
В первой строке полагалось указать имя. Он написал: «Гэвин Бейкер Макиннс».
Далее шли фактический домашний адрес и страна пребывания. Имена родителей. Возраст – Гэвин написал, что ему восемнадцать.
Над графой «рабочие навыки» он задумался. Он был экспертом во многих вещах, только ни одна из них не годилась для внесения в официальный документ.
В графе «образование» он написал, что закончил школу, и указал дату. Вчера.
До Ссудного дня, прежде чем была озвучена идея переселения, еще в девятом классе школы Гэвин узнал кое-что о жизни. В частности, он понял: учителя рассказывают лишь то, что ученикам разрешено узнать. А все важное ему предстоит выяснять самому.
Он слушал, как его учительница, ни разу не покидавшая Северной Америки, вещает о жизни в Европе и Азии. Конспектировал лекции другого учителя, не написавшего в жизни ни единого короткого рассказа, но уверенно препарирующего Фолкнера, Фицджеральда и Донна. Когда Гэвин эхом повторял их беспомощный бред, его хвалили и называли умным. Да, ему действительно хватало ума понять, что он не понимает ничего и что учителя у него идиоты. И получить знания он сможет, только самостоятельно охотясь за ними в реальном мире.
Над графой «причина переселения» он снова задумался.
Гэвин желал себе такого счастья, от зрелища которого его родителей наизнанку вывернуло бы. Он желал любви, которая полностью уничтожила бы их любовь к нему. Вся его жизнь состояла из «или-или». Рано или поздно ему придется выбирать между счастьем родителей и своим собственным.
В графе «сведения о правонарушениях и судимостях» он, покривив душой, поставил прочерк. Официально это была правда, без судимости действительно обошлось. Он не хотел давать ни малейшего повода завернуть его с переселением.
Гэвин плохо представлял, каково это – стереть чью-то жизнь, чтобы освободить место для своей собственной. С детских лет он обучил себя ничего не хотеть. Сложнее всего было с Рождеством и днями рождения – праздниками, построенными вокруг желаний. Когда родители предлагали Гэвину отправить список Санта-Клаусу, ему приходилось обращаться за советом к одноклассникам. Это было как антропологическое исследование – он проводил опросы, выясняя, что принято хотеть у мальчишек. Наборы «Лего», приставки «Нинтендо» – что набирало больше голосов, то Гэвин и называл родителям. Разворачивая подарок, он должен был изображать восторг. И никогда не позволять себе думать о своих истинных желаниях.
Следующим вопросом было: «Обращались ли вы за профессиональной психологической помощью?»
Свою тайную жизнь Гэвин начал с мелкого воровства в магазинах одежды. Он мерил кучу футболок в универмаге «Сирс» и одну из них выносил на себе, надев под свою. Или новую куртку под своей старой. После «Сирс» он шел в «Джей Си Пенни» или «Нордстром». Нести полную сумку кожаных курток домой он не мог – мать потребовала бы объяснений. Впрочем, Гэвин придумал, как решить проблему. Он относил награбленное в бюро находок торгового центра и оставлял свои контакты. За вещами, разумеется, никто не являлся, и по истечении положенных трех недель администрация звонила Гэвину и предлагала «находку» забрать.
Это была идеальная схема отмывания добычи, вот только она не поспевала за его аппетитами. Не мог же он постоянно находить на дороге пакеты с дизайнерским шмотьем, причем всегда в точности своего размера. К тому же обладание вещами не было его целью. Все удовольствие составляли процесс поиска желаемого предмета и охота за ним. Гэвину нравилось выслеживать избранную вещь, ходить вокруг нее кругами, нащупывать момент в сладострастном оцепенении, как хищник перед прыжком. Во власти импульса, которому не мог сопротивляться, он выжидал в засаде. Футболка могла ему совсем не нравиться, но дело-то было не в ней.
По правде говоря, очередная футболка или джинсы тут же вместо радости становились для него источником стыда. Напоминанием о его оборотной стороне. О том, как легко он готов отказаться от законопослушной жизни. Поэтому Гэвин начал жечь добычу – прямо у себя дома, в подвальном камине. После школы, пока родители еще были на работе, он развлекался тем, что держал футболку на вытянутой руке и водил горящей спичкой по затейливым линиям узора в индийские «огурцы». Жечь тряпки было почти так же приятно, как воровать их. Он раскладывал в очаге пылающие штаны и подкидывал сверху рубашки и свитера до тех пор, пока все они не превращались в серый пепел.
Погубила его кожаная куртка. Красная. Цвета бычьей крови. Ее атласная подкладка и трикотажный воротник прогорели легко и быстро, но от кожи пошел вонючий черный дым. Такой запах бывает, если поджечь волосы над свечкой. Гэвин лихорадочно пытался задуть тлеющую в камине куртку, и тут в его подвальное логово спустилась мать.
Он ей все рассказал. Ну, половину всего. Ту, которую сам мог понять – про воровство. Она спросила, согласен ли он пойти на психотерапию.
Далее на сцену выходит доктор Ашанти. По вторникам после школы Гэвин стал ездить на автобусе в центр. Все это происходило в рамках государственной программы по охране психического здоровья, сеансы оплачивались по льготной ставке, но матери все равно пришлось работать дополнительные часы. Гэвин ждал своей очереди в приемной вместе с прыщавыми ровесниками. Большинство, как и Гэвин, приходили туда сами, некоторых водили родители.
Каждый вторник в течение часа доктор Ашанти объяснял Гэвину, что воровство в магазинах является предсексуальным импульсом. Это если по-научному.
Охотясь за вещами, Гэвин упражнялся в соблазнении, перед тем как овладеть объектом желания и в итоге с ним расстаться. Звучало вполне логично. Другой вопрос, что нужно было делать с этим импульсом.
Доктор принимал его в подвальном кабинете, стены которого украшали пробковые доски с приколотыми к ним мотивационными картинками. Например, летящий парусник и надпись: «Поймай ветер, который приведет тебя к желанной цели» – и все в таком духе. В очередной такой визит Гэвин сломался. Доктор сидел на крутящемся стуле чуть поодаль от своего рабочего стола, Гэвин полулежал в кресле-мешке на полу, разглядывая песочную свечу на столе. Он не смог бы посмотреть никому в глаза, наконец произнося это вслух.
– Мне кажется, я гей, – прошептал он, боясь, что услышат пацаны за дверью.
Ответ доктора Ашанти был моментальным.
– Нет. Глупости.
Потрясенный, Гэвин не нашелся, как это парировать. Отрицание проблемы ничего не решало. Он рискнул поднять глаза на доктора.
Тот смотрел на него сверху вниз, сложив пальцы домиком.
– После наших многочисленных бесед я могу с уверенностью заявить, что ты заблуждаешься. – Он прикрыл глаза и усмехнулся, как будто и правда услышал забавную глупость.
Гэвин ощутил благодарность и гнев одновременно. Единственный страх, стоящий в самом центре его самоидентификации, был вот так отметен с порога!
Ашанти заявил ему с уверенностью экстрасенса:
– Ты не гомосексуален.
Мать отпахала на работе столько дополнительных смен, столько денег вбухала, чтобы помочь ему выйти из кризиса, а доктор отказался признать, что проблема вообще существует. Выходит, время и деньги потрачены напрасно, Гэвин не продвинулся ни на шаг.
Доктор Ашанти посмотрел на часы. До конца сеанса оставалось еще двадцать минут.
– Ты разве не чувствуешь никаких улучшений? – поинтересовался он, приподняв бровь с самодовольной улыбкой.
Как будто издевался.
Нет, Гэвин не чувствовал никаких улучшений.
В том, что произошло дальше, политического протеста было больше, чем секса. Гэвин решился на психологический поединок. Он не спеша выкарабкался из кресла-мешка и подошел к доктору вплотную. Ашанти не остановил его – даже когда Гэвин опустился на колени у него между ног и обнаружил, что у доктора уже стоит. Гэвин расстегнул на нем ремень, пуговицу над ширинкой, осторожно потянул молнию – как будто собирался втихаря украсть штаны. Лицо Ашанти приобрело каменное выражение, он почти перестал дышать. И смотрел Гэвину в глаза, даже когда не закончивший школу пацан сжал в кулаке его стоящий член – третье действующее лицо в этой сцене – и скользнул ладонью вниз, обнажая головку, влажно блестящий лиловый гриб. Гэвин сомкнул вокруг нее губы и не вздрогнул, когда в горло ему ударил первый выплеск сырого яичного белка, горячей сметаны, соли и лука. Вторая струя попала ему в носоглотку и запузырилась из ноздрей.
Так Гэвин лишился невинности – по крайней мере, орально. И это было мало похоже на сексуальный акт. Скорее на то, что ему в рот чихнул кто-то жутко простуженный.
Гэвин доказал Ашанти свою правоту. Продемонстрировал доктору, что он умнее. Все-таки он лучше знал, что происходит в его душе. По часам до конца сеанса оставалось еще одиннадцать минут.
Доктор обмяк на крутящемся стуле. Его мошонку обильно усеивали темные бородавки, жесткие седые волосы торчали во все стороны от основания вяло поникшего члена. Выбившаяся из-под штанов сорочка растянулась на круглом животе, и если смотреть снизу, то складки кожи на его шее были похожи на бритую вагину – прямо над узлом галстука.
Каким бы отталкивающим ни был этот человек, все равно он стал для Гэвина первым. Гэвин знал, что запомнит этот момент на всю жизнь. Победа это или нет, но волнение от нее было сильнее, чем от воровства в магазинах, хотя и ненамного.
В последующие недели деньги, которые мать приносила с дополнительных смен, шли не на то, на что она думала. По вторникам доктор Ашанти уверенно отрицал гомосексуальность ее сына, а Гэвин доказывал ему обратное. Каждый раз он менял сценарий, подбирал пути наступления и удачный момент, нагнетая напряжение, как в триллере, и за секунды до окончания сеанса доводил дело до кульминации.
Опять он стал экспертом в таком занятии, о котором нельзя было рассказать родителям.
Когда Гэвин впервые услышал о Списке, он зашел на сайт и ввел имя – «доктор Энтони Ашанти». Это был вроде как безобидный способ излить свою ненависть. Тогда все считали Список интернет-приколом.
В течение нескольких часов за Ашанти проголосовали тысяча семьсот человек. Вот тогда у Гэвина открылись глаза. Он начал понимать, почему у доктора столько пациентов. Увидел тайную историю его долгой карьеры.
Толпа мятущихся подростков, ожидающих под дверью кабинета, вдруг предстала Гэвину в совсем новом свете. Это был гарем. Половой силе доктора можно было только дивиться.
Когда Ссудный день оборвал жизнь Ашанти, Гэвин уже давно перестал посещать сеансы.
В графе про психологическую помощь он поставил прочерк.
* * *
Переулок за Первой методистской был набит торчками. Все ждали, когда откроются двери и начнется очередное собрание. Всем не терпелось закинуться.
Ник выбрал в толпе чувака, наиболее расположенного к общению, и спросил, нет ли у него витаминок на продажу.
Чувак пританцовывал, чесался и болтал без умолку.
– Вся эта хрень была не разводкой! – восторгался он.
У каждого хоть один знакомый по анонимным собраниям был среди вершителей Ссудного дня.
– Меня ведь тоже вербовали, – мрачно сообщил другой чувак. – Я не повелся, баклан… А мог разбогатеть.
– Мне бы витаминок, – повторил Ник.
А болтливый чувак ему:
– Новые деньги у тебя есть?
Ник знал, что такое новые деньги, и денег этих у него не было.
Двери церкви не открывались.
Люди уже голодали. Началась нехватка питьевой воды. В обществе царил хаос, стало очень плохо с бензином, электричество в городе включали по часам. В народе грабили друг друга, отбирая еду; ходили слухи о том, что люди едят кошек и собак и даже что люди едят людей. Но Ник знал волшебное средство, способное моментально исправить весь этот постапокалиптический жесткач. Хороший мешок гидрокодона. Надо только разжиться годовым запасом викодинок, и тогда можно будет вообще не запариваться вопросами, что пожрать и где посрать. На них он пересидит, пока все не устаканится.
Болтливый чувак и прочие торчки начали разбредаться. Многие направлялись на следующее собрание – проверить, откроются ли двери в Экуменическом объединении. А Нику навстречу шел парень с собакой. Черный парень одной рукой держал собаку за поводок, а в другой нес книгу. Собака была белая, лишь вокруг одного глаза темнело пятно. Видимо, это был питбуль или какая-то помесь. С расстояния нескольких шагов черный парень произнес:
– Ник.
А Ник ему тут же:
– Есть чего?
Парень покачал головой и улыбнулся.
– Забудь ты про эту хрень.
Ник вспомнил, что зовут его Джамал. Раньше на здешнем собрании он был завсегдатаем, а пару месяцев назад куда-то исчез. Все думали, помер, а он вот он, живой. Джамал вытащил из заднего кармана что-то вроде колоды карт, только очень странной расцветки. И протянул колоду Нику со словами:
– Держи, у меня еще много. Только потратить надо за пару недель, хорошо?
Карты были скользкие, из тонкого негнущегося пластика, и на каждой красовался портрет. Человек с таким лицом мог бы играть роль отца семейства в каком-нибудь сериале. Или сниматься в рекламе, убеждая аудиторию вложить сбережения в золотые монеты. Красивое лицо. Ник принял карты и развернул веером, пересчитывая. Вот они, новые деньги, о которых все говорят. И которых ни у кого нет – кроме тех, кто работает на стрелков Ссудного дня. Опустившись на одно колено, Ник спрятал бо́льшую часть пачки в носок, остальное рассовал по карманам. Когда на улицах полно голодных, лучше перестраховаться.
Джамал кивнул на собаку.
– Мы с Вышибалой через несколько дней садимся на самолет и летим в новую жизнь. – Он имел в виду Блэктопию, отечество для тех, в ком доминируют субсахарские гены. – Эксперимент был любопытный, но теперь он завершился.
Под «экспериментом» Джамал, вероятно, подразумевал существование бок о бок черных и белых. Короче, всю историю с соединенными штатами.
– Помнишь, как в школе проходили книжку «Гроздья гнева»? – Джамал покачал головой с брезгливой гримасой. – Эти люди просто метались туда-сюда и повторяли, что надо защищаться, надо сломать дурную систему. А по сути ничего не сделали, знай рыли канавы за гроши и рожали мертвых младенцев. – Он сплюнул на землю. – Дерьмо, а не книга.
– Ну да, читали мы такую. – Ник держал одну руку в кармане, трогая внезапно свалившееся на него богатство.
– И какой смысл был заставлять нас читать об этих никчемных людях? Если подумать, чему эта история учила нас на самом деле?
Он протянул Нику иссиня-черную книгу.
– Толботт не осуждает саморазрушение посредством наркотиков. Однако говорит, что нет кайфа сильнее, чем от убийства своих угнетателей.
Ник заметил, что в ухе у Джамала посверкивает большой бриллиант, и спросил:
– Ты убил Бролли?
– Ты слышал о плантации Пибоди? Она теперь наша. Правда, Вышибала? Целая долина с лесами и полями, и в самом ее центре великолепный особняк в стиле греческого возрождения.
Ник подумал, что это наверняка в бывшей Джорджии. Или в Северной Каролине.
– У тебя что там, предки рабами были? – вырвалось у него.
Он вовсе не хотел грубить. Просто особняк среди полей – довольно странный выбор для бывшего торчка. Ник не мог представить себе Джамала в роли фермера.
Джамал порылся в кармане и вытащил еще пачку новых денег.
– Держи. Я все равно не успею потратить. – Он протягивал Нику пачку вместе с книгой, вроде как комплектом. – Держи, это закон. Не будешь носить книгу, тебя арестуют.
Ник взял и то, и другое. Он смотрел на Джамала и думал: «Вот еще один человек, которого я больше никогда не увижу».
– Идем, пес. – Джамал потянул поводок, и они вместе с собакой пошли прочь.
С деньгами в кулаке, задыхаясь и обливаясь потом, Ник со всех ног помчался в противоположном направлении. Ему нужна гора викодина или окси – и обдолбаться так, чтобы состояние мира вокруг больше не имело значения. Следовало догнать болтливого чувака, пока он не толкнул заначку кому другому.
* * *
В глазах Джамала Ссудный день был противоположностью «Гроздьев гнева». Эту книжку всех заставляют читать в седьмом классе. В ней белую семью выгоняют из дома. Их ферму сравнивает с землей трактор, а они ничего не делают. Всякие клерки и чинуши гонят их дальше и дальше, а они покорно идут. То есть говорят, конечно, что надо добыть оружие, ворваться в банк и перестрелять толстосумов, но по правде не делают ничего.
Вместо реальной борьбы эта белая семья тащится в Калифорнию. Там до них докапывается полиция, там они вкалывают целыми днями до изнеможения и получают гроши. Однако все равно бездействуют, только языками чешут. Мол, однажды будет революция, однажды они возьмут оружие и пойдут на богачей. Пустой треп. А сами хоронят своих стариков прямо у дороги и позволяют своим детям умирать от голода. Джамал прочел сотни страниц в ожидании революции, но в финале книги не произошло ничего. Скинули в речку мертвого младенца, и молодая девка накормила грудью умирающего старика. Джон Стейнбек, который это написал, просто трус. Кишка у него была тонка для революции. Тех, кого он создал, он бросил страдать.
Как и Господь Бог.
Только белый мог обладать достаточно раздутым самомнением, чтобы написать такую книжку, только белый мог с тайной гордостью ее читать.
Одни лишь белые способны так цепляться за свою вину. За грехопадение Адама, за распятие Христа, за рабовладение. Джамал ясно видел, что для белых вина – это уникальная, их собственная форма хвастовства. Они бьют себя в грудь и посыпают голову пеплом, а сидит там совсем другое: «Вот как мы можем! Мы сорвали планы Господа в Эдемском саду! Мы убили его сына! Мы, белые, будем поступать с другими расами и с природой так, как сочтем нужным!»
За их покаянным самобичеванием скрыто позерство.
Для белого человека вина – самый большой его орден. Раз в глобальном потеплении виноваты белые, значит, и спасти планету могут только они. Их тщеславию нет границ.
Вот такую они придумали хитрую комбинацию – создавать проблемы, а потом героически всех от них спасать.
Белые школы заставляли детей читать никчемные «Гроздья гнева», а дети сами добровольно читали «Источник» Айн Рэнд. Дети представляли себя Говардом Рорком, произносящим речь в суде. Школы бесил тот факт, что гениальность дана немногим. Гении насквозь видели эту школьную кампанию по обучению заурядных заурядности. А дети не желали соглашаться на жизнь, в которой нет ничего, кроме неудач и страданий.
Герой «Источника» делает то, о чем у Стейнбека только болтают. Вот почему дети любят книжку Айн Рэнд.
По мнению Джамала, Ссудный день стал той самой счастливой концовкой, которой не хватало «Гроздьям гнева».
Сегодня Джамал и трое его соратников возвращались в здание парламента с триумфом.
Люди спрашивают, каково это. Ну, Ссудный день в смысле. Джамал всем отвечал одно.
Представьте, что вы заходите на самую стремную, самую грязную автобусную станцию. Вонючее царство бомжей и заблеванного бетона. Вы бредете сквозь вонь в поисках сортира, а там забитые толчки, текущие трубы, лужи на полу. Вы кое-как их обходите, голым задом садитесь на еще теплый скользкий стульчак, дышите воздухом, в котором нет кислорода, один концентрированный пердеж. И вдруг краем глаза замечаете что-то на полу.
Под грязным унитазом, прилипшая к забрызганному мочой, дерьмом и спермой бетонному полу, лежит почти чистенькая таблеточка оксиконтина, восемьсот миллиграмм!
Вы говорите себе, что это лекарство, а лекарство само по себе убивает микробы. Эту таблетку где-то кому-то врач выписал и ученые в лаборатории по рецепту сделали, пусть даже потом в общественном сортире всякие заразные граждане облили ее всякими своими жидкостями. Вам нужно просто наклониться и поднять ее с пола. Одно простое, быстрое, неприятное действие. Закинуть таблетку в рот, проглотить – и все сразу будет хорошо. Не просто хорошо, идеально. Лучше, чем вы могли мечтать.
Примерно такой образ остался у Джамала после Ссудного дня. И вот он возвращался на место своего… нет, не преступления, триумфа. В здании парламента уборщики отмыли всю кровь, потому что не умели иначе. Где-то по мертвым плакали вдовы, но это были не его, не Джамала мертвые, и вдовы эти не значили ничего – в сравнении с тем, сколько вдов и матерей сейчас выли бы, если бы бюрократам позволили развязать войну и отправить все поколение Джамала на офшорную массовую казнь.
На трибуне во главе зала стоял представитель его клана. Все теперь постоянно носили при себе экземпляр книги, и все улыбались. Никакой закон этого не предписывал, но бывают стимулы более грозные, чем закон.
Дыры в картинах заделать нельзя. Мрамор навсегда сохранит оспины. Отныне туристы будут глазеть на эти детали и фотографировать.
Немногие уцелевшие сенаторы сновали по залу, прислуживая собравшимся. Вид у стариков был изможденный, как будто что-то глодало их на клеточном уровне. Один, с заметным шрамом у основания ушной раковины, мелко кланяясь, засеменил к Джамалу, положил на его стол папку и отступил, пятясь и все так же рассыпая поклоны.
Человек на трибуне заговорил в микрофон:
– Главный вопрос на повестке дня…
Зал купался в теплом свете телевизионных камер.
Исполняя назначенную ему роль, Джамал поднялся, раскрыл книгу и, держа ее в обеих руках, начал зачитывать вслух:
– Декларация Взаимозависимости, статья первая, параграф первый…
Все замерли в почтительном молчании. Джамал рискнул поднять глаза на галерку. Время превратилось в вечность. Безмолвие ожидало. Джамал высматривал среди людей на галерке женщину. Лицо среди глядящих на него внимательных, ждущих лиц.
Он нашел ее именно на том месте, где в Ссудный день находился сам. Она стояла высоко-высоко над ним и смотрела.
Лишь тогда Джамал продолжил чтение:
– Все, кому необходимо оставить недвижимое имущество для переселения в соответствующее отечество, должны получить в качестве компенсации недвижимость равной или большей цены…
Ее улыбка сияла ему с высоты. Мать смотрела на него, и столько гордости было в ее глазах.
* * *
Люди видели новые деньги по телевизору. Жесткие прямоугольники из негнущегося пластика, яркие и пестрые – либо красно-синие, либо желто-фиолетовые. Хотя официально они именовались «толботты», в народе их сразу прозвали «шкурами». Ходили слухи, что первые партии денег сделали из растянутой и выбеленной кожи убитых в Ссудный день. Идея эта, похоже, всех страшно веселила.
Новая валюта была обеспечена не золотом, не верой в правительство или чем-то в этом духе, а смертью. Предполагалось, что отказ принимать новые деньги – строго по номинальной стоимости – мог отправить человека в следующий расстрельный список. Напрямую это нигде не заявлялось, но везде на билбордах и по телевидению демонстрировался призыв: «Сообщайте обо всех, кто не признает толботт». Банкноты сохраняли номинальную стоимость около трех месяцев, однако на свету выгорали быстрее. Стоимость потускневшей банкноты становилась меньше, поскольку знаки на краях делались нечитаемыми. Но даже когда «шкура» превращалась в клочок белесого пластика, похожего на пергамент или высветленную и высушенную овечью кожу, оттого-то и пошли слухи, что это все сувениры, на которые покромсали телезвезд и университетских профессоров, – даже в таком виде новые деньги имели некоторую цену. «Пустышки», как их называли, можно было вернуть государству за небольшое вознаграждение. Дети вытаскивали их из урн, бомжи собирали по помойкам и сдавали, как алюминиевые банки и стеклянные бутылки. За сотню пустышек давали банкноту в пять толботтов, то есть по цене они примерно равнялись прежней пятицентовой монете. Вполне достаточно, чтобы детвора за ними охотилась.
Кланы, долгое время проникавшие вглубь общества, как корни, по одному прирастая людьми, теперь пронизывали все социальные группы насквозь. После Ссудного дня у них появилась новая функция – они наполняли общество деньгами.
Его вышестоящий, Гаррет Доусон, выдал Чарли картонную коробку с сотней тысяч толботтов и велел потратить, сколько сможет, а остальное передать нижестоящему с теми же инструкциями. Чарли купил галстук и хотел было оставить всю коробку себе, но на другой день Гаррет принес ему еще одну, на третий день еще. Толботты выцветали и теряли цену, и здравый смысл вынудил Чарли все-таки ими делиться. Так деньги стекали вниз по корневой системе кланов. Стоящие наверху оказались баснословно богаты, богатыми стали и люди из их окружения, все друзья людей из окружения – состоятельными, а их друзья – обеспеченными, и так новая экономика зашевелилась и начала укреплять самое себя.
Деньги водопадом лились сверху вниз, от человека к человеку. Их нельзя было копить и хранить, и поначалу многие пытались купить золото и бриллианты, но те, у кого были золото и бриллианты, продавать не хотели, и вскоре и золото, и бриллианты выпали из кругооборота капитала и утратили всякую ценность. Превратились во что-то вроде шедевров изобразительного искусства – предметы, которые для богатых являются символами статуса, а для большинства обывателей совершенно бесполезны. Поскольку теперь невозможно стало делать деньги из денег, прежние богатеи потеряли свои состояния и, не умея зарабатывать никаким иным путем, были вынуждены распродавать имущество. Так их сокровища попали на рынок.
А еще женщины. У Чарли дух захватывало от того, какими стадами они к нему потянулись. Юные девушки, взрослые дамы, предлагающие ему дочерей. Женщины, которые знали цену своей красоте и молодости. Раньше такие воротили нос от него, тощего нелепого Чарли, едва осилившего среднюю школу и умеющего только жать кнопку на сверлильном станке – если вообще замечали его существование. Теперь же за один его взгляд красотки были готовы драться между собой.
По понедельникам и вторникам Чарли садился в кресло во главе стола, уставленного фотографиями. Стол принадлежал средневековому королю, а кресло – вроде какому-то графу эпохи Ренессанса, имен их Чарли не запомнил. И стол, и кресло, и доспехи с копьями в коридорах, и флаги на башнях принадлежали ему, Чарли. Жарко пылал камин, слуги, которым Чарли платил жалованье, исправно подбрасывали в огонь поленья. Другие слуги обмахивали господина опахалами из павлиньих перьев, третьи подносили ему томленые павлиньи язычки и очищенный от кожицы виноград. Есть это Чарли заставить себя не мог, но даже с такими расходами трата сыплющихся на него денег клана была непосильной задачей. Бо́льшую часть приходилось передавать дальше.
По понедельникам и вторникам специально нанятый им агент представлял ему новый ассортимент женщин, тщательно отобранных из толп соискательниц. Женщин с лицами кинозвезд и фигурами порнодив. Они сидели в приемной, ревниво изучая друг друга в ожидании своей очереди. Агент по одной препровождал их в зал аудиенций, где Чарли, можно сказать, вершил суд.
На большинство Чарли спокойно смотрел, вежливо благодарил и отправлял восвояси. Некоторых приглашал подойти. Иногда женщины являлись с деловыми предложениями, иногда просили себе должности в новом правительстве. В любом случае Чарли рассматривал все обращения с одинаковым вниманием.
В течение трех месяцев прежнее общественное устройство сошло на нет. Члены кланов стали новой аристократией, лордами и феодалами, заслужившими свой статус в единственной триумфальной битве. Следующими по иерархии были члены их семей. Далее те, кто научился приносить знатной верхушке пользу: трудясь на них, снабжая их едой, товарами и развлечениями. А в самом низу были те, кто не умел ничего, кроме как манипулировать прежней валютой. Их таланты теперь не имели никакой ценности, так что этим людям оставалось бродить по улицам, собирая по мусоркам «пустышки», и сдавать улов на счетные станции – в таких же замызганных бумажных пакетах, в каких стрелки Ссудного дня несли добытые уши.
Каким бы путем выцветшие «шкуры» ни попадали на счетные станции, их очищали, клали под шаблон и вновь включали над ними ультрафиолетовую лампу. Так толботты восстанавливали свой номинал еще на пятьдесят дней и поступали в обращение тем же путем – через вождей кланов.
Люди принимали новую валюту со всеми ее недостатками, поскольку других вариантов не было. Как гласила иссиня-черная книга:
Что сперва одиозно, затем обязательно.
Новая экономика напоминала воздушный шар, наполняемый водой из крана. По мере вливания денег шар раздувался и набирал вес, но пока он не был наполнен до краев, никто не знал, каков его предельный размер и какую форму он в итоге примет.
* * *
По мнению мисс Жозефины Пибоди, ушедшие политики были сплошь жулье и прохиндеи, и получили они по заслугам. Туда им и дорога, мир их праху, и слава тебе, Господи. Нет, естественный порядок вещей – если следовать классическим моделям управления и красоты – предписывал собственникам земли решать, что лучше для ее обитателей, ибо лишь собственник земли действительно заинтересован в ее процветании. В частности, плантатор – если речь об аграрной традиции Джефферсона, без тлетворного влияния евреев и в меньшей степени католиков.
Таково было мнение мисс Жозефины, вот только мнения у нее никто не спрашивал. Нет, это Арабелла с утра уговорила ее включить идиотский ящик – мол, там по всем каналам одного человека показывают. Вот уж важный повод. Отвратительная привычка – смотреть телевизор до ужина. Но Арабелла все нудела, так и нависала над душой, и мисс Жозефина сдалась.
Человек на экране объявлял:
Дом не является человеку отечеством. Необходимо разделить прежде соединенные штаты и создать на их месте автономные государства, в которых каждый народ будет жить своим укладом. Не должна одна культура навязывать свои нормы другой – ни ожиданиями, ни действиями. Всякой культуре положено существовать свободно от чуждых ей требований других.
Мисс Жозефина воздела пульт управления, как скипетр, дабы изгнать незваного гостя из своей гостиной, но человек на экране продолжил вещать с важностью римского папы:
Всякая группа должна жить на своей территории, где сама задает норму. Иначе люди впадают либо в ненависть к себе и саморазрушение, либо в гордыню и агрессию к другим. Алкоголизм, наркомания, сексуальная распущенность процветают там, где люди разных культур вынуждены делить общее пространство. Ни одна культура не должна пренебрежительно рассматриваться оценивающим взглядом другой.
На Арабелле был фартук, в руках она вертела кухонное полотенце. «А что это значит-то?» – спросила она. «Ничего дельного», – ответила мисс Жозефина и отправила экономку обратно на кухню лущить горох. Однако Арабеллу ее слова, похоже, не убедили. Из комнаты она поползла медленно, как патока, спиной пятясь к двери и не отрывая глаз от телевизора. А человек разглагольствовал:
Как участников атлетических соревнований делят по гендерному признаку, так и культуры следует отделить друг от друга, чтобы ни одна не могла постоянно доминировать.
Печальным итогом стало то, что сожитель Арабеллы, Льюис, счел своим долгом явиться к мисс Жозефине на порог гостиной – переступить который он, впрочем, не осмелился – и попытаться донести до ее сведения, что Джорджия вышла из Соединенных Штатов и вместе с Флоридой, Луизианой, Алабамой и Миссисипи теперь стала какой-то там утопией в духе Мартина Лютера Кинга и населять ее теперь должны только черные. Тут мисс Жозефина подрулила в своем кресле к двери и захлопнула ее у Льюиса перед носом.
Несмотря на все увиденное и услышанное, плантация Пибоди была и оставалась ее домом. До ее предков этой землей владели племена мускоги и ямакро. И никакие манипуляции с границами сей факт не изменят. Здесь она важная фигура. А если позволит выкорчевать себя и увезти на север или на запад, то превратится в обыкновенную перечницу, старую деву, чье главное сокровище – фарфоровый сервиз на тридцать шесть персон.
Некоторые деревья слишком капризны, чтобы выдержать пересадку. Арабелле и прочим стоило бы не забывать, что мисс Жозефина – душа плантации. Никто кроме нее не знает, как справиться со всеми выходками колодезного насоса и как выпустить воду из цистерны. Только она разбирается в севообороте сорго и табака. Между прочим, без ее надзора масляная печь и наддувный вентилятор спалят дом дотла, как пить дать, и года не пройдет! Вот пусть они посмотрят, Арабелла, Льюис, пацаны их, Честер и Льюис-младший, и маленькая Лурей. Пусть посмотрят. Пусть попробуют разобраться тут без ее руководства.
Поэтому было решено, что ей следует скрыться от властей, переселившись на чердак главного дома – узкую анфиладу пыльных комнат, в которые едва вместились фамильные сокровища, взятые ею с собой в изгнание. Фарфоровые супницы, старинные сабли, масляные портреты папы и его родичей. Но ничего, это ведь временно. Рано или поздно политическая вакханалия стихнет, и мисс Жозефина снова воцарится в имении полноправной хозяйкой.
По утрам, когда Арабелла приносила ей завтрак на подносе, мисс Жозефина спрашивала: «Ты зашла к Айвзам и Колдуэллам?». Арабелла ставила поднос и принималась заправлять постель. «Ходила я, нет там никого. Переселились они». Если верить Арабелле, все белые семьи уже уехали из Джорджии.
Но по части упрямства мулы нашли бы чему поучиться у мисс Жозефины. Она не собиралась так легко позволить себя выгнать. А чтобы ни у кого не возникло других идей на этот счет, по ночам она крадучись бродила по дому. Когда все ложились спать, она потихоньку спускалась с чердака, а потом по черной лестнице в кухню. Иногда она ослабляла винт редуктора на газовой трубе – а редуктор никто в доме, кроме нее, налаживать не умел. Иногда совершала налет на водопровод – запускала в него воздух, чтобы забарахлил насос. Такие проделки не тянули на вредительство – скорее были вежливым напоминанием, что дом держится на ней. Она – его душа. Только ей ведомы тайные ритуалы, возвращающие к жизни фильтры обратного осмоса, без которых местная вода становится непригодной для питья.
Какую бы там вымечтанную Мартином Лютером Кингом утопию ни хотели эти люди навязать Джорджии, плантация должна приносить деньги, и только мисс Жозефина в состоянии удержать ее на плаву.
А человек этот, Толботт или как его там, по телевизору и по радио все время читал проповеди.
Должно позволить каждой культуре иметь собственные суды. Каждая должна развиваться в изоляции. Слишком долго разные подвиды человечества смешивались, превращаясь в безликую массу. Культура общей заурядности выгодна лишь торгашам как более широкая потребительская аудитория, для которой годится универсальная реклама, побуждающая приобретать малое число товаров в больших количествах.
Прежние культуры, которые тысячелетиями формировались в относительной оторванности друг от друга, в разных климатических и иных условиях, вынуждены отказаться от собственных образных систем и ритуалов, чтобы уступить место глобальному стандарту. Чтобы уберечь целостность каждой, культурам нужно выделить отдельные территории для жизни без чуждого влияния.
Из лучших побуждений сожитель Арабеллы Льюис притопал на чердак и приволок книгу. «Вот так теперь все устроено», – сказал он, обеими руками протягивая книгу мисс Жозефине. Мисс Жозефина ее не приняла. Тогда Льюис положил свой дар на стол и удалился.
Книга была большая, иссиня-черная, и написал ее якобы этот Толботт из телевизора. Содержала она мешанину из поверхностных высказываний об очевидном, и так сплошняком, страница за страницей. Вот например:
Внутри каждой группы должен быть свой суд. Геи сами косят свои ряды, распространяя заразу. Черные уничтожают своих собратьев в уличных конфликтах. Белые как будто представляют меньшую опасность друг для друга – но это если только не вспоминать две мировые войны, войну между Севером и Югом, Столетнюю войну и прочие, и прочие. Поэтому разбирательство внутригрупповых преступлений должны вести члены соответствующих групп.
Как персоне образованной, мисс Жозефине было совершенно очевидно, что написали это евреи. Евреи в сговоре с папистами. И те, и другие надеются разворошить негритянский вопрос и лишить законных фамильных владений здешних собственников ирландско-шотландского происхождения. Земли эти до прихода на них предков мисс Жозефины были дикими, и без нее они быстро снова одичают. Пускай Арабелла и остальные попробуют тут сами управиться. Только мисс Жозефина понимает, отчего тут на одном месте пересыхает колодец, а на других все лето в ямах стоит вода.
В ту же ночь она прокралась в подвал и ослабила крышки на половине банок с соленьями, чтобы содержимое быстро пропало.
Наутро Арабелла поставила поднос на столик перед ее кушеткой и расправила на коленях мисс Жозефины аккуратно сложенную салфетку. «По новому закону вы получите полную компенсацию». Налив кофе, экономка подвинула чашку поближе. «Подумайте о здоровье, вредно сидеть на чердаке днем и ночью, да еще и совсем одной».
Мисс Жозефина не поддавалась. Ясное дело, как только она покинет эту землю – на своих ногах или в гробу, – тут все засохнет и увянет, вот уж спасибо.
Арабелла изучала ее внимательными глазами. Она здесь родилась и выросла, наверняка теперь метит в новые хозяйки. «Благодарю, можешь быть свободна», – холодно промолвила мисс Жозефина.
Арабелла ушла, а мисс Жозефина не могла заставить себя приняться за еду. Ей не давала покоя мысль – а вдруг ее отравят? Никто ведь не узнает, соседи все разъехались. Отравят и закопают… а то и хуже: скормят труп свиньям. Идеальное убийство.
Как защититься? Как доказать свою необходимость, чтобы о ней продолжали заботиться?
На следующий день Арабелла сняла серебристую крышку с дымящейся яичницы и, наливая кофе, заметила: «Вам бы радоваться, что сюда не геев поселят». Как она объяснила, Калифорния получила особый статус, этот штат зарезервировали под государство для содомитов обоих полов. Говоря об этом, Арабелла морщилась и вздыхала. У мисс Жозефины не было ни малейшего желания слушать грязные подробности. А Арабелла не унималась. «Просто люди должны жить среди своих. – Она ждала реакции и, не дождавшись, дернула ртом. – Вам стоило бы это понять, мисс Жозефина, не цепляться за прошлое и продолжить жить».
Пряча злобу, мисс Жозефина одарила ее нежной улыбкой. «Можешь быть свободна, Арабелла».
Едва оставшись одна, как и накануне, она нарезала яичницу, жареную ветчину и тост на мелкие кусочки и смыла все в унитаз в своем крошечном чердачном туалете.
К ночи она уже помирала с голоду. Инвалидным креслом она пользовалась больше для удобства, чем из необходимости, так что после полуночи спустилась в кухню и набила в пакет столько консервированного тунца – жуткая гадость! – сгущенки и соленых крекеров, сколько могла втащить по лестнице наверх.
Если Арабелла и заметила истощение кухонных запасов, то ничего не сказала. Дважды в день она исправно поднимала на чердак поднос с едой, а мисс Жозефина исправно спускала все до крошки в унитаз.
В истории было полно примеров, как благонамеренные граждане вполне успешно прятались, пережидая бурю тирании. Те, кого загнала в ловушку дурная идеология. А что, Израиль был практически основан на дневнике одной милой гонимой девочки, которая тоже пряталась на чердаке!
Нет уж, дудки, мисс Жозефину отсюда не вытурят. Ее отечеством была и остается страна Томаса Джефферсона и дорогого папы, мир его праху, а это были добрые христиане, и хранить верность их идеалам – ее долг. Папа всегда говорил, что до последнего десятилетия XIX века здесь были покой и благоденствие, а беды начались потом, когда хлынул поток иммигрантов с Балтики. В тысяча восемьсот девяностом году евреев тут было несколько сотен тысяч. К тысяча девятьсот двадцатому их уже развелись миллионы.
По ночам, если шел дождь, мисс Жозефина делала вылазки в сад, чтобы рассыпать там каменную соль. Или сидела в темноте, жевала добытого тунца и читала иссиня-черную книгу. Последней книгой, которую она дочитала до конца, была «Убить пересмешника», и повторять эту ошибку мисс Жозефина больше не собиралась. Кто такой этот мистер Толботт, чтобы навязывать ей свои порядки? Ее не убедишь никаким политическим вуду, никакими россказнями про гражданские права и прочими танцами с бубном.
Днем Льюис громыхал наверх по чердачной лестнице и ныл, что в подполе воняет и развелась туча мух, и что насос септика взял и сдох. Сад увял за одну ночь: все овощи теперь придется покупать в супермаркете. Он показал мисс Жозефине что-то вроде игральных карт, красные и желтые пластиковые прямоугольнички. «Это, – сказал, – новые деньги, только надолго их не хватит». Объяснил, что теперь все должны постоянно работать, ведь на будущее не накопишь. «Все заработанное надо быстро тратить, пока не исчезло».
Если чужих вокруг не было, мисс Жозефина спускалась с ним с чердака и шла чинить поломку. Льюиса отправляла за каким-нибудь инструментом, а сама в это время вставляла на место деталь, которую прежде стащила из трактора или молотилки. Льюис только диву давался, как легко она чинит любую технику.
Как-то ночью, отправив ужин из свиной отбивной и дикого риса в канализацию, она сидела за книгой Толботта. И, запивая соленые крекеры водой из-под крана, прочла следующее:
Полагается награда за информацию о тех, кто живет вне положенного отечества.
Не теряя ни минуты, мисс Жозефина закрыла книгу и пошла калечить кухонную плиту. Потом отперла дверь в курятник.
С утра Арабелла явилась с подносом и вестями, что всех кур сожрали еноты и яиц на завтрак нет. Бекона и овсянки тоже нет, поскольку плита приказала долго жить. На подносе был тост с арахисовым маслом. Мисс Жозефина и его отправила в унитаз, а следующей ночью угробила тостер.
Она сняла металлическую сетку с задней стенки стиральной машины и выкрутила изнутри детальку.
Она сломала телевизор и радио на кухне. Она вывела из строя посудомойку.
Ее постоянно разъедал изнутри страх, что Арабелла и Льюис выдадут ее, позарившись на вознаграждение. Она должна стать им ценнее любой награды. На следующий день по просьбе Арабеллы она спустилась посмотреть, что с плитой. Пока Арабелла ходила за отверткой, мисс Жозефина вставила на место выдернутый из тостера проводок.
– Надо же, вы все починили, – сдержанно констатировала Арабелла.
Избавление от очередного града домашних поломок в этот раз не вызвало у нее никакой радости. Скрестив руки на груди, она смерила мисс Жозефину долгим взглядом.
– Вот странно, что ни день какая-нибудь напасть. – Не отводя глаз, Арабелла положила отвертку на стол и добавила: – Не будь я умнее, подумала бы, что у нас завелся гремлин.
Мисс Жозефина фыркнула. Вот народ, все бы им на всякую чертовщину списать.
Арабелла даже не улыбнулась.
– А вы никак захворали? – спросила она, и в голосе у нее было не сочувствие, а скорее настойчивый интерес.
Мисс Жозефина пропустила это мимо ушей.
– Я просто слышу, у вас так часто вода в туалете сливается, – пояснила Арабелла. – Иногда по пятнадцать, а то и двадцать раз подряд.
Мисс Жозефина поняла, что днем спускать еду нельзя. Прятать надо. Например, в корзинке с шитьем. А спускать ночью, когда Арабелла и Льюис уходят спать к себе, в маленький домик. Усмехнувшись, она взяла отвертку и поковыляла к выходу.
– Куда вы? – спросила Арабелла.
Даже не пытаясь скрыть раздражение, мисс Жозефина ворчливо бросила:
– Стиралку чинить!
И ахнула, словно желая вдохнуть эти слова обратно. Так и застыла с раскрытым ртом.
Арабелла сперва ничего не сказала. Ее молчание заполнило всю кухню. Затем подчеркнуто медленно, понизив тон, произнесла:
– А что же, стиралка сломана?
В голосе у нее был великий триумф.
Мисс Жозефина повернулась к ней, напустив на себя самый беспечный вид.
– Ну да, а что, нет?
– Почем же мне знать? – Арабелла цыкнула зубом.
Склонив голову набок, экономка изучала престарелую хозяйку так, будто впервые увидела.
У мисс Жозефины запылали щеки. Она досадливо покачала головой и закатила глаза, словно поражаясь забывчивости своей экономки.
Украденная деталь оттягивала карман халата.
Отвертка выпала из руки и со звоном покатилась по линолеуму.
* * *
А Ник, Ник был умный. Не в том плане, что сильно образованный, по-другому. Как-то дом его родителей повадились уродовать райтеры. Не успевал отец закрасить или отскрести очередной тэг, как наутро стенку украшал новый шедевр. Вместо полумер – типа установить камеру и пытаться жаловаться городским властям – Ник пошел и решил проблему.
Он взял баллончик с краской и ночью отправился малевать на стенах сам. Изрисовал две стены дома свастиками, насколько хватило роста. Написал «смерть пидорам» и «ниггеры сосут». На все про все ушел неполный баллончик. Ник, разумеется, не питал нацистских взглядов, просто у него был замысел.
Покончив с делом, он лег спать. Родителей в известность не поставил.
Наутро в дверь уже звонили репортеры. Толпа зевак фотографировала дом. Мать с отцом были растеряны и злы, но явно обрадовались сочувствию. Город так долго игнорировал их проблему, а теперь граффити на их доме стали проблемой города. Мэр Портленда собрал пресс-конференцию и произнес речь о недопустимости разжигания в обществе ненависти, полиция усилила патрулирование улиц. Теперь райтеры обходили дом стороной – кому охота, чтобы все разжигание повесили персонально на тебя? А родителей журналисты везде представили храбрыми многострадальными героями. Ник им так ничего и не сказал.
Вот такой он был умный.
* * *
Ночью, когда все легли спать, мисс Жозефина бесшумно спустилась по чердачной лестнице. Свет ей для этого был не нужен. Все скрипучие половицы она знала наперечет, помнила наизусть все порожки и ни обо что в темноте не споткнулась. Пятьдесят семь ступенек вниз до узкой кухонной двери. Мисс Жозефина положила на нее ладонь и легонько толкнула, одновременно поворачивая ручку, чтобы не клацнула защелка.
Дверь не поддалась. Ручка поворачивалась свободно, а дверь не открылась. Мисс Жозефина уперлась в нее одетым в атласный халат плечом, пошире расставила босые ноги и навалилась всем весом, пока старая древесина не заскрипела. Дверь была заперта. На шпингалет, с той стороны.
В дыхании кухонного кондиционера слышался шепот. Далеко в передней мерно тикали часы – а может, мисс Жозефина слышала не их, а лишь собственную память об этом тиканье. Во тьме звучали голоса людей, умерших еще в ее детстве.
Мисс Жозефина осторожно присела на нижнюю ступеньку, обхватила руками колени и обратилась в слух. Когда первые птицы оповестили о наступлении рассвета, она поднялась и тем же путем вернулась к себе в постель.
* * *
А в Прежние Времена Уолтер печатал закрыв глаза, чтобы лучше видеть кончиками пальцев. Пальцы его атаковали клавиши ноутбука, вытанцовывали на них слова Толботта.
Полагается награда за фотографии тех, кто не носит при себе книгу Толботта.
Толботт диктовал, а Уолтер печатал:
Полагается награда за доказанную информацию о тех, кто симулирует инвалидность.
А старик постановлял:
Полагается награда за информацию о тех, кто живет вне положенного отечества.
Сайт, который Уолтер запустил по его инструкциям, набирал популярность. Самые нежеланные люди Америки. Народ ломанулся регистрировать себе учетные записи и добавлять, добавлять новые фамилии политиков, академиков, журналистов. Сотни имен. И счетчик напротив каждого тикал непрерывно. Миллионы голосов. Уолтер терялся в догадках, как именно это послужит его обогащению. Он был ученик мастера и пока не видел всей картины.
По Толботту Рейнольдсу нации требовалась аристократия. Короли Европы и Азии получали власть не путем голосования, они проливали кровь. И тот, кто пролил больше, получал бо́льшую власть. И английская королева, и шведские, испанские монархи стояли на горе трупов. Привязанный к стулу, покрытый багровой коркой от крови, по нескольку капель вытекшей из двух сотен порезов, Толботт выкрикивал:
– Зачем прислуживать другим, если град пуль станет твоей коронацией?
Демократия была недолгим отклонением. Америке нужен новый правящий класс – мужчины, пришедшие к власти исторически традиционным путем. Новой знатью станут мужчины, которые не боятся действовать. Можно жить ремесленником, не всем даны способности для высшего образования. Но вот ты тридцать лет строил дома и клал проводку – что станет с твоим телом? Как ты будешь зарабатывать на жизнь, когда спина и колени подведут тебя? Ссудный день нужен затем, чтобы мужчины объединили силы.
Уолтер поднял глаза от клавиатуры.
– То есть это, типа, как в «Бойцовском клубе»?
Его новый папаша покачал головой.
– Ты сейчас про книгу?
– Какую книгу? – не понял Уолтер.
Пальцы его замерли над клавиатурой. Толботт снисходительно усмехнулся.
– Я так и подумал… «Бойцовский клуб» повествовал о том, как мужчина обретает силу путем серии упражнений. – Кровавая корка на его жутком лице блестела. – «Бойцовский клуб» давал каждому понять, что скрытые в нем способности превосходят самые смелые его ожидания. А объяснив это, отпускал исполнять свою судьбу – строить дом, сочинять книгу, писать автопортрет.
Ну да, Уолтер помнил, в фильме такое было.
Все так же усмехаясь, Толботт качал головой.
– Паланик… – пробормотал он себе под нос. – Все его книги про кастрацию. Про кастрацию или аборт.
Он объяснил, что Ссудный день будет моделью самоорганизации мужчин в армию для достижения постоянного высокого статуса. Ссудный день призовет их к оружию прежде общества. Эти мужчины будут убивать от своего имени ради своего блага, не по указке и не в интересах тех, кто уже прибрал к рукам власть и ресурсы.
– Народу необходима структура для объединения, – заявил он.
Расклад Толботт видел так. Рожденные демографическим взрывом юноши превращались в мужчин – здоровых и сытых, хорошо образованных мужчин, которым внушили ожидания для себя славного будущего. Но никакого величия будущее им не готовило. Капиталистическая демократия гарантировала высокое положение лишь заурядностям, людям скромного интеллекта и талантов, умеющим обаять публику. А таких наберется горсточка среди миллионов.
Уолтер ждал, не зная, стоит ли это записывать.
– А остальные? С нами-то что произойдет?
Толботт с улыбкой вздохнул. Опустил глаза на забрызганный кровью цементный пол.
– Произойдет то, что происходит всегда.
По его словам, властям заранее было известно и о нападении на Перл-Харбор, и о готовящейся атаке на Всемирный торговый центр. Потопленные японцами корабли уже и так шли под списание. Башнями-близнецами пришлось пожертвовать. В обоих случаях стране была необходима война, которая проредила бы молодежь мужского пола. Война, которая привела бы к резкому сокращению свободной рабочей силы и, следовательно, к повышению цены труда. Многие страны могли отправить свой избыток молодых мужчин в мясорубку и тем самым подстегнуть мировую экономику.
– А самое главное, – заключил Толботт, – такая война привела бы к нехватке мужчин и сохранила бы в обществе патриархат.
Теория эта не внушала Уолтеру доверия. Он не хотел спорить с наставником, но все же заметил, что полиция и армия мигом подавят такой самоорганизованный бунт.
– Полицию принято унижать, – ответил на это Толботт. – Принято обвинять в преступлениях. Когда чаша ее терпения переполнится… Когда армия поймет, что ее ведут на бойню… Вот тогда и те, и другие не станут препятствовать Ссудному дню. А может, даже примут в нем участие, особенно если наградой будет высокое общественное положение для многих поколений их потомков.
Толботт утверждал, что не всякий мужчина решится на убийство лишь ради собственной выгоды. Но если речь идет о благе потомков, если пролитая им кровь гарантирует королевский статус его сынам и сынам его сынов, если единственная альтернатива – идти убивать на чужой войне, вот тогда любой с радостью примет участие в создании меритократии на крови.
На этом Толботт умолк. Взгляд его остановился на экране ноутбука. Ставя точку в дискуссии, он надиктовал:
Пенсии и отпуска временно отменяются для всех работников государственного сектора, за исключением полиции и военнослужащих.
Уолтер доверчиво напечатал, по-прежнему не понимая, куда эта затея ведет. По мнению Толботта, клерки и бюрократы продали свою ветреную молодость в обмен на стабильность и надежную рутину. Отныне жить им с этим выбором до конца. Ушло время, когда они могли бы упорхнуть в Тоскану, чтобы учиться живописи.
Толботт вдруг спросил:
– А ты читал роман Флобера «Бувар и Пекюше»?
В этом романе два клерка унаследовали состояние и бросили работу, чтобы развлекаться искусством и литературой, но в итоге поняли, что нет у них таланта к праздной жизни, и вернулись к скучной и размеренной конторской службе. Поколение «бэби-бума» ожидала та же судьба. Под новым режимом они будут работать и поддерживать миллениалов, пока не установится совершенно новая общественная система.
* * *
В немом изумлении Джамал бродил по комнатам своего нового дома. Питбуль Вышибала скакал на пару шагов впереди – то понюхать, что там за креслом, то поскрести дверь шкафа. Каждая комната скрывала за собой следующую, еще просторнее, и везде были камины, висели на стенах портреты белых людей и полки, плотно заставленные книгами. Яркое солнце сияло в огромные чистые окна, заливая выкрашенные белым стены. Джамал выбрал этот дом из длинного списка оставленной переселенцами недвижимости. По фотографиям в интернете. Сегодня первый день его жизни не под мамкиной крышей.
Люди, глядящие на него с масляных портретов, являли собой клан из прежнего мира. Чопорные лица когда-то влиятельных покойников. От картин он избавится. А вот книги сохранит. После Ссудного дня у него осталось одно искреннее желание – сочинять. Быть писателем, вкладывать в головы людей образы и символы через поток тщательно выверенных слов. Как это сделал Толботт. У него в книге об этом сказано:
Человек не становится взрослым до кончины своих родителей. Пока они живы, все его действия – это попытки заслужить их одобрение или вызвать гнев.
Слишком долго белые выступали для черных в ипостаси грозных родителей.
Еще дольше гетеросексуалы отечески стыдили квиров.
Джамал всегда жил с ощущением, что от него ждут бесконечных уступок. Он играл роль хорошего, смирного парня, потому что единственной альтернативой была роль бандита. Все его действия подчинялись одной цели – угодить другим. Убивать людей, конечно, нехорошо, но впервые Джамал не пытался всем понравиться.
Ощущения тогда он испытал странные. Странные по-хорошему. Он не стремился заслужить одобрение этих людей. Ему приятно было просто стрелять в них и не думать о том, нравится им это или нет. Джамал чувствовал от этого радостное облегчение.
Сопротивление было маловероятно. Обычно угнетенные обращались к церкви, в ее лоне они множили свои ряды, пока не появлялся лидер, чтобы сплотить их и повести за собой. Но нынешние гонимые лишенцы сами давным-давно отринули идею Бога. Их церквами были государственные органы и учебные заведения, и все их проповедники лежали ныне в братских могилах. У новой черни была прорва ученых степеней и наград, зато не было церкви, куда они могли бы побежать за приютом и утешением.
Наверняка есть те, кто умнее. Те, кто сильнее. Однако спускал курок именно Джамал, так что работать они будут на него.
Кем бы ни были хозяева этого дома, они давно переселились в положенное им отечество. И судя по всему, налегке. Оставили и мебель, и одежду с обувью. Теперь это его дом, его земля, его усадьба. Мать поселилась неподалеку, в городе, в таком доме, какого у нее прежде не было никогда, и все равно он не шел ни в какое сравнение с роскошным обиталищем Джамала. В особняке было, наверное, три этажа. На входе колонны, как в греческом храме. Первое слово, которое приходит на ум, – «величественный». Именно таким Джамал его себе всегда и представлял. За очередной дверью он обнаружил кухню. У плиты стояла женщина возраста его матери. Одета она была как прислуга в стародавние времена – в простое серое платье и белый передник, волосы собраны в аккуратный пучок под сеткой.
– Прошу прощения… – растерялся Джамал.
Женщина тоже была черной. Видимо, произошла какая-то ошибка. Сбой на сайте. Одобрили двух разных заявителей на один дом. Конечно, статус Джамала был выше по умолчанию, но его совсем не радовала мысль, что придется сгонять даму с насиженного места.
– Я тут экономка с проживанием, – пояснила женщина. – Мы с семьей за домом присматриваем.
На плите у нее что-то кипело. Питбуль протерся мимо Джамала, сунул морду ей в полные ноги, обнюхал со всех сторон.
– А вы хозяин новый? – спросила она, не дождавшись, когда Джамал заговорит сам.
Она мешала что-то в кастрюле и глядела на свою стряпню со скорбным выражением.
Джамал выдохнул – он и сам не заметил, что позабыл дышать. Даже кухня вокруг нее была чудом – сплошные ящички, рундучки и всякие кулинарные приспособления, висят на крючках разномастные сковородки, кастрюльки и сотейники, поблескивает медными боками раковина – и все это принадлежит ему. Уйдут месяцы, а то и годы, чтобы обжиться в таком месте. Он даже обрадовался, что у него будет здесь компания.
Вышибала оставил женщину в покое и принялся нюхать и скрести дверь. Какую-то узкую дверку с медной ручкой. Пес скулил и тыкался носом в замочную скважину.
Женщина заметила, что Джамал смотрит на дверь.
– А там заперто, – сказала она. – Мы ключ потеряли, с тех пор и заперто.
Пес обнюхивал щель под дверью, царапая когтями деревянный пол.
– Небось мышей чует, – предположила женщина, отворачиваясь к бурлящей кастрюле. – Там нет ничего, это дверь на чердак. – Голос у нее был вкрадчивый, напевный. – Ничегошеньки там нет, один только старый чердак пустой.
Джамал ухватил Вышибалу за ошейник и оттащил от двери.
– Где мои манеры… – Он протянул женщине свободную руку. – Меня зовут Джамал Спайсер.
Приподняв бровь, она окинула его удивленным взглядом, словно впервые увидела. Плечи у нее поникли, она встряхнула головой, будто снимая наваждение.
– Вы что, тот самый? Из телевизора?
Она имела в виду, что он из первого клана. По телевизору показывали коротенькие ролики о тех, кто будет стоять во главе нового государства Блэктопии. Каждый из его племени зачитал отрывок из книги Толботта, и это день и ночь крутили в записи по всем каналам. Увидев себя на экране, Джамал был сперва удручен тем, как простенько выглядит со стороны, какие кривые у него зубы и большие уши, но когда его начали узнавать незнакомые люди, проникся гордостью.
Женщина обтерла руки о передник и пожала протянутую ей ладонь.
– Очень рада познакомиться, – выдохнула она в изумленном восторге.
Ее лицо озарила улыбка – настоящая, не та, которая была навязана ей как часть униформы.
– Меня зовут Арабелла.
В этом доме его уже ждали те, кто будет ему готовить и наводить для него чистоту. Прямо встроенная семья.
– А это Вышибала мой. – Джамал тряхнул пса за ошейник и улыбнулся Арабелле в ответ.
* * *
Других вариантов не было, ему только и оставалось, что ждать. Гэвин зарегистрировался как резидент-иностранец – сходил на почту, заполнил положенные формы, заявил свою гомосексуальность и скрепил заявление клятвой. Почтовая служащая, которая принимала клятву, глядела на него сурово.
– Вы в курсе, что не имеете права работать? – уточнила она.
Гэвин уже знал это из книги Толботта.
– У вас нет права голоса и права управлять транспортными средствами.
– Я понимаю.
Служащая достала из пакета документов брошюру и прочитала вслух:
– Пока не одобрено переселение, резиденты-иностранцы должны сообщить в соответствующие органы адрес своего проживания и немедленно оповещать о его смене.
Ну, адресом проживания для него останется родительский дом. Много шансов съехать, когда нет ни водительских прав, ни работы?.. Декларация Взаимозависимости гарантировала уважение друг к другу представителей всех рас и сексуальных ориентаций, но уважать чужих гораздо проще, когда сидишь в уютненьком отечестве среди своих. А Гэвин был чужой, он застрял в обществе натуралов. Надолго ли – неизвестно.
Однако главное – время-то идет. В начале жизни всякого квира – по крайней мере, до Ссудного дня – было почти двадцать лет мучений. Тебя обзывают «Гейвином», колотят на переменах и запирают в школьных шкафчиках, а родители понятия не имеют, как помочь ребенку нестандартной ориентации. Но в восемнадцать лет все меняется. В восемнадцать квир получает награду за вынесенные лишения. В день рождения из группы слабейших, самых забитых членов общества он переходит в пул самых влиятельных.
Женщинам известна эта метаморфоза. Вот вчера была неуклюжая и нескладная малолетка, которую все сторонятся, не желая проблем с законом. А сегодня она уже водит мужчин за нос. Богатых мужчин. Могущественных. Самые интересные мужчины соперничают за ее внимание. Да, недолговечная власть, но власть. Ее можно использовать для получения денег, образования, доступа к нужным людям и так постепенно трансформировать в другую, более устойчивую власть. Да, когда-нибудь Гэвин станет инженером или юристом, а сейчас он хотел просто быть молодым и красивым, хотел притягивать взгляды. Он выдержал столько лет побоев и унижений, он заслужил свой звездный час.
Окно молодости открывалось в восемнадцать лет и открытым оставалось не вечно. Хотя родителей Гэвин любил, ему не терпелось поскорее эмигрировать туда, где он будет нормальным.
Пока же он находился практически в заложниках.
Причиной задержки было «Положение о компенсации». Как гласила книга Толботта, квиры приумножают свое богатство и навыки быстрее, потому что не расходуют ресурсов на вынашивание и выращивание потомства. Словно кукушата, гомосексуальные дети появляются в гетеросексуальных семьях и, едва оперившись, улетают к своим. Получается, время и средства гетеросексуалов расходуются в пользу нации квиров. Постоянный экспорт граждан к ним от белых и от черных представляет собой жесточайший торговый дисбаланс. Это утечка здоровой, полной сил, образованной молодежи. Меж тем родители таких кукушат остаются без компенсации вложенного труда и без поддержки на старости лет.
Нехорошо, конечно. Гэвин это понимал.
«Положение о компенсации» было введено, чтобы устранить дисбаланс. Оно позволяло гомосексуальным молодым людям из гетеросексуальных семей эмигрировать только в обмен на гетеросексуалов, мигрирующих от квиров. Гэвин молился, что сейчас в Гейсии какой-нибудь парень признается двум своим мамочкам в том, что ему нравятся девочки. Что он также идет на почту, заполняет такие же формы под суровым взглядом почтового клерка, который осуждающе цокает языком и предупреждает о запрете устраиваться на работу, водить машину и совать нос на выборы. А потом этот парень, этот анти-Гэвин, возвращается домой к мамочкам или папочкам и с надеждой ждет телефонного звонка.
В выпускном классе у них был модуль по Ссудному дню и новым нациям. Учителя – те, кто остался, кого не закопали в зачетной зоне футбольного поля при школе имени Франклина Рузвельта, – пели дифирамбы кланам Ссудного дня. Типа ура настоящим героям! Если бы не они, все поколение Гэвина отправилось бы умирать на фальшивой войне. Включая Гэвина, конечно, спасибо долбаному равноправию.
Учителя вечно зачитывали книгу Толботта и распинались о том, что дело стрелков правое. Ученики ходили со смартфонами наготове, спеша заснять всякого, кто не носит в руках иссиня-черную книгу и не выражает безоговорочного принятия нового порядка.
Учителя обосновывали правоту стрелков многолетним притеснением мужского населения. Дескать, мальчикам в младенчестве уродовали гениталии, суды были предвзяты к мужчинам по части опеки над детьми и дележа имущества при разводе по обоюдному согласию. А в тюрьмах сидело столько мужчин, что показатель самоубийств среди мужского населения более чем в четыре раза превышал тот же показатель среди женщин.
На семинаре им как-то показывали обучающий фильм: бульдозеры сгребают огромные кучи чего-то гниющего. Над кучами кружили стаи чаек. Одна камнем ринулась вниз, подхватила что-то и пролетела прямо перед камерой. В когтях у нее было зажато человеческое ухо. Горы серой тухлятины, по которой ездили гусеницами бульдозеры, состояли из бессчетных человеческих ушей.
Всем ученикам полагалось знать книгу Толботта наизусть и по требованию декламировать из нее любое положение.
Полагается награда за информацию, которая приведет к аресту лиц, использующих любую другую валюту, кроме толботтов.
Гэвин как резидент-иностранец ни на какую награду рассчитывать не мог.
Теоретически ему следовало бы радоваться новому порядку. Только никто не говорил о пролитой крови. О том, что в стенах школьного кафетерия остались дыры от пуль там, где шли расстрелы. Ясное дело, идея отдельной страны для геев очень ему импонировала, но в целом чувства он испытывал противоречивые. Это все равно что встретить молодого священника в футболке в облипочку, а у него стильные такие, брутальные татухи, и он священник, а руки у него такие накачанные, и среди татуировок свастика виднеется. Вот такая вот удача: не знаешь, радоваться или прочь бежать.
Гэвину еще не приказали нашивать на одежду розовый треугольник, однако, походу, это было дело времени. Только выбирать-то все равно не приходилось. В новой реальности он мог лишь пойти домой и ждать у телефона.
* * *
В Прежние Времена пальцы Уолтера замедлили бег по клавиатуре, следуя темпу речи Толботта. Старик излагал идею денег с ограниченным сроком годности. Как они создадут беспощадный климат, в котором люди будут изо всех сил зарабатывать и тратить. Такие деньги из ресурса превратятся в средство, перестанут держать людское время и энергию запертыми в сейфах.
Дело шло медленно. То ли от потери крови, то ли от старости Толботт едва ворочал языком.
Принцип фатального диссидентства гласит: общество так долго действовало против некоторых индивидов, что навсегда утратило их доверие. Эти индивиды всегда будут противопоставлять себя ему, даже если их интересы будут совпадать с общественными.
Схватив ртом воздух, Толботт очнулся. Голова безвольно висела на тощей жилистой шее, корка засохшей крови потрескалась в морщинах, светлые борозды пролегли через лоб и лучиками расходились из уголков глаз. Красные струпья осыпались ему на плечи, а он диктовал:
Люди готовы восхищаться красотой и гениальностью, но не их сочетанием. Оба дара у одного человека представляются вопиющей несправедливостью, и тогда один или оба надлежит уничтожить.
Уолтер проверял список каждый час. Имена появлялись и исчезали, те же, которые оставались, начинали быстро набирать голоса. Особенно политики. Толботт засыпал, уронив голову на плечо, а Уолтер лез обновлять список. Потом новый папаша, всхрапнув, просыпался и сразу начинал говорить.
Наркотики популярны потому, что включают лихорадку или безумие по требованию. В отличие от болезни, наркотики позволяют синхронное заражение, помешательство и исцеление групп людей.
Провозгласив что-нибудь такое, старик опять впадал в ступор.
Уолтер не мог понять цели этого списка – одни имена и числа, имена и числа. Толботт приказал ему удалять тех, кто за неделю не набрал трех тысяч голосов. Числа в списке ежедневно удваивались, о нем явно пошла молва.
Сам не зная зачем, Уолтер внес в список нелюбимого профессора. Старый хрен завалил Уолтера на экзамене за отказ воспринимать каждое слово в его лекциях как божественное откровение. Уолтер вбил в поле «доктор Эммет Бролли» и нажал на «Ввод». Список автоматически прокрутился, демонстрируя имя, в алфавитном порядке помещенное между сенатором штата и новостным обозревателем с кабельного канала.
И тут же напротив него появился голос. Единичка сменилась на двойку. Двойка на тройку.
* * *
Никаким родителям не пришло бы в голову дать ребенку имя Лакомая Бастилия. Под таким именем она подала документы на иммиграцию. Новое отечество, новая личность. После Ссудного дня все эмигранты ухватились за возможность начать с чистого листа. И пошло дело – мужчины с именами Аристотель и Аристид, женщины по прозванию Баккара и Дезире. Туда же вот и Лакомая Бастилия, которой определенно не стоило надевать облегающее платье из сливочного креп-муслина, не прихватив к нему плащика или кофточки, притом что явно собирался дождь! Никакие утяжки, чашечки и косточки не справлялись с ее сногсшибательными формами, поэтому Лакомая предпочитала обходиться без ухищрений. На полпути от парковки небеса разверзлись, и каждая тяжелая капля оставляла на светлой ткани след, и вскоре невесомое платье прилипло к телу, скрывая под собой кофейного цвета округлости не лучше, чем слой растопленного масла.
Все лесбиянки пожирали ее глазами – ее стоящие торчком налитые груди, ее соски – две четкие лиловые мишени под тонкой тканью. Лакомая чувствовала, как взгляды незнакомых баб щупают темный янтарь ее мускулистых бедер, скользят по ямочке, где смыкаются ее большие круглые ягодицы, так четко обрисованные под вымокшей юбкой.
Ну и пусть пялятся. Так у нее не будет соблазна глядеть по сторонам. А то ведь если она случайно посмотрит в масляные глаза хоть одной этой бабе, она просто взорвется.
Так Лакомая и сидела, нагая и беззащитная, неохотно ковыряя салатик и стараясь видеть только предметы непосредственно перед собой – бокал пино-нуар, хлебную тарелку, бледную розу в вазочке по центру стола. Не обращать внимания на шумный зал ресторана, полный лесбиянок и геев. Только вот здесь они не были лесбиянками и геями. Полное отсутствие гетеросексуалов превратило людей за столиками просто в мужчин и женщин.
Чтобы отвлечься, Лакомая сосредоточилась на своей даме. У женщины, сидящей напротив, была пышная грива рыжих волос. При переселении она выбрала себе имя Джинджер Престиж. Свели их коллеги Лакомой по аэрокосмической корпорации. Никак они не могли смириться с присутствием в своих рядах одинокой женщины и постоянно устраивали ей свидания вслепую, подсовывая своих знакомых и знакомых знакомых с именами типа Чаша или Гордость. Видимо, не состоящая в законном браке особа представлялась угрозой этому чинному, домашнему, разделенному на стабильные пары обществу женщин средних лет.
Изящными длинными пальцами рыжая играла с локоном у лица.
– Мне сказали, ты ракеты строишь?
Лакомая отпила вина и скромно кивнула.
Робко глядя на прозрачное платье, туго обхватившее осиную талию, рыжая пролепетала с восторгом в голубых глазах:
– Вы там настоящие герои!
Она имела в виду миссию на Марс – высокобюджетный национальный проект, призванный сплотить новую, встающую на крыло страну и заявить притязания – по крайней мере, символические – партии Оскара Уайльда на Красную планету. Лакомая была одним из ведущих отечественных экспертов по аэрокосмической технике, возможно, ключевым звеном в гонке однополых астронавтов к Марсу.
Вина она выпила всего один глоток и сделала официанту знак унести почти полный бокал, не желая себя искушать. У Джинджер были такие длинные пальцы и сочные губы, что начинало разыгрываться воображение. У Лакомой мурашки побежали, когда она представила это веснушчатое розовое лицо меж своих шоколадных ног. Надежда отечественного ракетостроения поймала себя на фривольных мыслях и стряхнула морок. Слишком долго она живет одна, храня супружескую верность. Эти фантазии свидетельствовали не столько о неотразимой сексуальности рыжей, сколько о затянувшемся ее, Лакомой, воздержании.
– Ну, а я сегодня пью за двоих, – заметила рыжая, подзывая официанта, чтобы подлил ей вина. – А кто ты по знаку Зодиака?
Лакомая поправила салфетку на коленях.
– Родилась в конце мая.
Рыжая заулыбалась.
– Близнецы, значит.
Лакомая беседу в этом направлении не поддержала, и рыжая сменила тему.
– Скажи мне как космический гуру, что ты думаешь об этой истории с летающими пирамидами?
У Лакомой не было секса уже пять месяцев. Двадцать невыносимо одиноких недель минули с тех пор, как она попала в эту чужую страну. Вилкой она принялась вторгаться в недра салата, желая найти и пронзить артишоковое сердечко. А отвлеклась от этого занятия лишь для того, чтобы попросить стакан апельсинового сока. Очередной стакан унылого апельсинового сока, когда хотелось ей мартини. Мартини с водкой, в него три набитые чесноком оливки, а в себя – большой твердый член одного блондина, так чтобы кончать с ним, вытягиваясь в струнку… и вдруг, подняв глаза на официанта, она заметила этого самого блондина.
Он сидел в узкой нише в самом дальнем углу зала. Худосочный белый парень, сложенный, в лучшем случае, как теннисист – а если по-честному, то кожа да кости. Волосы мальчишеским чубчиком падали на широкий фарфоровый лоб. К Лакомой он сидел боком, так что она видела его в профиль с головы до пят. Напротив белого парня жевал мускулистый черный детина, такой здоровенный, что слишком узкая футболка на нем чуть не лопалась. Лакомая видела его накачанные ляжки в голубых джинсах под столом и то, как он сует оба мясистых колена блондину между костлявых ног и начинает нагло, при всех эти ноги раздвигать.
Блондин неловко отодвигался, но узкая ниша, в которой они сидели, не позволяла ему полностью избежать соприкосновения, и черный качок продолжал хищно его домогаться, игнорируя сопротивление. Блондин краснел и от унижения чуть не плакал. Как будто почуяв на себе взгляд Лакомой, он вдруг обернулся.
Она тут же отвела глаза. Сердце выскакивало из груди. Здесь женщина рисковала всем, если дольше приличного смотрела на мужчину. За такую оплошность можно в одночасье лишиться работы и жилья, родительских прав и гражданства. Без лишних разбирательств депортируют к белым или к черным – туда, где сексуальные отношения между людьми разного пола не считаются зазорными.
Если рыжая и заметила, то виду не подала. Прихлебывая вино, она рассуждала о гонке деторождения. Каждый час натуралы делают новых гомосексуалов. Гомосексуалам никогда не угнаться за их темпами, и шансов представить достаточное количество детей для обмена нет. А значит, в плену у натуралов всегда будут оставаться гомосексуальные подростки.
Рыжая работала в правительственной структуре, занимающейся этим вопросом. Сейчас они продвигали идею выкупа своих людей за деньги. Гетеросексуальным родителям, которых покидает гомосексуальный ребенок, следует выплачивать некую сумму, которая компенсировала бы им вложенные ресурсы и стала бы финансовой подушкой для достойной старости. Так называемый «фонд освобождения». Конечно, потребуются сотни миллионов, но деньги можно собрать посредством краудфандинга.
Лакомая слушала ее вполуха. Ей приходилось напрягать всю свою волю, чтобы не смотреть на блондина. Она чувствовала на себе, на своей груди его взгляд и стискивала зубы, пытаясь не заплакать.
* * *
Особняк Мэрихилл занимает на тихоокеанском северо-западе то же место, что дворец Херст-Касл в калифорнийском Сан-Симеоне. Оба они по заказу толстосумов построены из железобетона, скрытого под архитектурной смесью европейских стилей. Оба набиты сокровищами, купленными по дешевке у разорившихся королевских особ. Оба стоят на возвышенности, паря над окрестными пейзажами. И обоим хозяева в свое время дали одинаковое прозвище – «ранчо».
Чудеса архитектуры всегда поначалу воспринимаются как блажь. Когда в 1887 году над Парижем начала расти Эйфелева башня, светоч французской культуры Виктор Гюго заклеймил ее как чудовищную буровую вышку, которая изуродует облик города. Небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, возведенный к 1931 году, до конца Великой депрессии не мог привлечь арендаторов, и злые языки Нью-Йорка окрестили будущую достопримечательность Пустым небоскребом.
Время узаконивает то, что сперва было скандалом.
Мэрихилл являл собой невероятное итальянское палаццо среди голых, открытых всем ветрам пустошей, оставленных древним ледником. Но несмотря на такое местоположение, великолепием он не уступал своему калифорнийскому сопернику. Его окна забраны витиеватыми бронзовыми решетками в духе Ренессанса, так что это в равной мере крепость и тюрьма – ибо внутри заключены славянские венцы и богатые престолы, царские портреты и бесценный фарфор с Востока. Готовое королевство, в котором Чарли устроил свою вотчину. Его доход был единственным источником толботтов в регионе, и вся беднота на мили вокруг пришла к нему бить челом, просясь под его протекцию. Женщин, которые были хороши собой, Чарли принимал в гарем командными женами. Те, кто с внешними данными поскромней, поступали к нему домашней прислугой, а которые страшные отправлялись возделывать землю в звании полевых жен. Женщины были обязаны носить платья с корсажами, которые срывались одним движением, мужчинам полагались килты или штаны, в зависимости от погоды.
Сам Чарли предпочитал шитую золотом верхнюю рубаху, под которую надевалась нижняя, из тонкого полотна с широкими рукавами. Ноги его украшали бархатные плундры, снизу крест-накрест стянутые кожаными ремешками. Такой наряд соответствовал зарождающейся культурной идентичности Государства Арийского.
В длинный перечень тягостных забот входила и необходимость все переименовывать. Каждую гору, каждый ручей следовало наречь заново по обычаю страны, которой они теперь принадлежали. Кроме того, Чарли приказал выстроить каменную медоварню для производства хмельного меда. Призвав к себе воды могучей реки Колумбии, именовавшейся ныне «Потоком Чарли», он постановил, что живительную влагу ее надлежит в достаточном количестве перенаправить на возвышенные территории для ведения там земледелия. Великие усилия вложил Чарли в эту затею, и вскоре его дворец окружали поля курчавого эндивия, широкие полосы сахарной свеклы, кинзы и брюквы.
В соответствии с культурными ценностями Государства Арийского простолюдины разгуливали по долам и весям в коттах и камизах, от непогоды они укрывались, заворачиваясь в широкие плащи с капюшонами, на ногах, в зависимости от времени года, носили сапоги или сандалии, а на головах – уборы, обозначавшие место в социальной иерархии. Многие щеголяли в дублетах, рукава которых украшали клинья алой парчи, а на груди и плечах сверкали музейные самоцветы. Жемчуга теперь можно было купить у прежних богатеев по цене яйца, и ни голодающим, ни мертвым не было никакого толку от золота.
Чарли и его приближенные разыскали и разобрали по своим домам всех юных прелестниц. Богатые наряды позволяли Чарли и другим вождям Государства Арийского заново открыть в себе благородное происхождение. Облаченные в венецианские бриджи, сдвигали они оловянные кружки с крепким элем и славили друг друга. Неустанно трудились многие домашние жены, мастеря и расшивая им узорные спорраны.
Задача стать героем была выполнена и осталась в прошлом, уступив место каждодневным хозяйственным заботам. Много было этих забот, Чарли даже не успевал задуматься, довольно ли его сердце. Когда он рассекал по своим владениям в табардах и бригантинах, в стеганых поддоспешниках, колетах и упеляндах, на него порой нападала тоска. Борясь с нею, Чарли созвал Комитет по возрождению истинной культуры и возродил менуэт. Возродил куртуазность и традицию целования руки. Ввел обязательные требования к положенной белому человеку чистоте речи. Наполняя жизнь своей вотчины смыслом, он возродил культ Одина и Тора, для чего по его приказу возвели собор с нефами и взмывающими ввысь контрфорсами. Но даже преклоняя колени у алтаря и принимая участие в свежесочиненных древних таинствах, не испытывал Чарли довольства.
Сыты были его подданные и не бездельничали. Изучали они забытые тексты в поисках рецептов красок и утраченных узоров для плетения кружева. В моду вошли рубахи покороче, и самые удалые из арийских властителей дополнили свой гардероб гульфиками из золоченой кожи, инкрустированной жемчугами. А в непосредственной близости от этих гульфиков всегда находились командные жены, готовые раздвинуть ноги. Кавалер мог снять с головы тюдоровский берет или треуголку с плюмажем, но этим галантность его, как правило, и ограничивалась.
Упомянутая же тоска, нападавшая на Чарли, воскрешала в его памяти школьные годы. В думах он возвращался к тем дням, когда на уроках литературы проходили незаконченный роман Флобера «Бувар и Пекюше». Пока более резвые однокашники проказничали и бесконечно обсуждали искусы плотской любви, юный Чарли корпел над книгой, впитывая главный ее тезис. Два конторских служащих нежданно получают состояние и оставляют привычную жизнь, надеясь обрести счастье в каком-то более возвышенном занятии. Они ищут счастья в вине, искусстве, скачках… и нигде не находят. В итоге они возвращаются по своим конторам, писать в гроссбухи и перекладывать бумажки.
Притча эта застряла у Чарли в зобу, как всухомятку заглоченный сэндвич с арахисовым маслом. А если он и правда не способен наслаждаться жизнью властелина? А если он воспарил слишком высоко, а на самом деле место его было в цеху, рядовым подмастерьем?
Он слыхал истории о восходящих рок-звездах. Авангардных фигурах, сделанных из того же теста, что Курт Кобейн. Едва на них обрушивались признание и богатство, они покупали себе особняк – это был вроде как очередной обряд посвящения. А потом много лет жили, занимая в своем особняке одну-единственную комнату, выбрав нередко самую маленькую, не больше чулана.
Чарли решил не пятиться робко от судьбы, а постепенно врастать в новую роль. И хотя женщины в его доме были безотказны и с благодарностью принимали честь вынашивать его потомство, ему нужна была одна – та, что поможет держать на плечах тяжкое бремя власти.
Чарли начал понимать, в чем заключается следующая, пожалуй, величайшая его задача. Он должен сбалансировать неравенство мужчин и женщин. А для этого надо найти и приблизить к себе исключительную, самую лучшую женщину и подготовить ее к роли официальной жены. Да, сейчас женщины выполняют всю тяжелую работу в полях и содержат в порядке дворец, а мужчины хлебают пиво и бахвалятся тем, как сеют новое поколение граждан. Но если Чарли пожалует избранной женщине богатство и влияние, возведя ее в ранг божества, он тем самым уравновесит низкое положение всех прочих ее товарок.
* * *
Ферменты в клетках Пайпера начали саморазрушительный процесс автолиза, переваривая клеточные стенки и выпуская жижу. Бактерии в легких, во рту, носоглотке и пищеварительном тракте обжирались этими янтарными потоками аминокислот. Мухи добрались до глаз, заднего прохода, гениталий, ноздрей и принялись откладывать яйца. Вылупляясь, личинки зарывались под кожу, чтобы питаться жировой клетчаткой.
Глаза осели и потекли.
Кишки слиплись уже давно, и продуцируемый бактериями газ не находил выхода, раздувая живот. От размножающихся внутри бактерий набухло лицо и гениталии, язык разнесло так, что вытолкнуло наружу из растянутых, вздутых губ. Пенис увеличился в последнем подобии эрекции, до отказа наполненный продуктами жизнедеятельности бактерий. Слышно было лишь, как личинки пожирают лицо. Хруст их мандибул. Примерно такой звук бывает, если медленно ехать по асфальту на шипованной зимней резине.
Брюшная стенка лопнула, газ вышел, и торс растекся зловонной лужей. Бактерии в ротовой полости переварили небо и набросились на мозг, который быстро растворился, изливаясь из ушей. Жуки-кожееды Anthrenus verbasci и Dermestes lardarius начали пожирать мышцы. Потом, вероятно, остались лишь кожа и кости. Хотя кожу, скорее всего, в итоге доели жуки.
Все это время включенный телевизор работал. Тот самый человек, труп которого на ковре жрали черви и насекомые, глядел с экрана на свои бренные останки и говорил:
Трус оскорбляется за других. Пусть всякий человек несет ответственность только за свои эмоциональные реакции.
Личинки стали мухами и отложили новые яйца. А красивый человек в телевизоре рассказывал мухам, ползающим по его скелету:
Делая карьеру на ниве спасения людей, человек создает постоянный класс нуждающихся в спасении.
Мухи ползали по стеклам. Их трупы уже ковром усеивали подоконники, и все новые личинки вылуплялись из новых яиц. А человек в костюме, сшитом по индивидуальному заказу на Сэвил-Роу, излагал личинкам:
У всякого должен быть выбор – умереть или бороться.
Новые поколения мух откладывали яйца, отживали свой срок и дохли в попытках прорваться к солнечному свету через закрытые окна – до тех пор, пока не был сожран весь подкожный жир и последние мухи не упали мертвыми на подоконник. И даже тогда человек с лицом, которое годилось бы для короля, президента или святого, продолжал вещать, глядя с экрана на лежащие под ним череп и кости:
То, что вас легко любить, не гарантия, что вас полюбят.
* * *
Для эмиграции она выбрала ему имя Джентри Тэйт. А он нарек ее Лакомой Бастилией. Новые прозвища обмыли шампанским – всего по глотку, потому что она отчаянно хотела забеременеть. Скрываясь, они еще могли оставаться вместе, но в любой момент ожидали стука в дверь. И тогда его депортировали бы в государство для белых, а она осталась бы в бывшей Луизиане, теперь ставшей частью черного государства Блэк- топии.
Если она родит, ребенка протестируют и припишут к соответствующему отечеству. Сначала они думали уехать в Канаду, но та же идея пришла в голову миллиону других смешанных пар. Не желая принимать такой поток беженцев, Оттава закрыла границы.
У них была лишь одна возможность остаться вместе. Ну, то есть как «вместе» – не мужем и женой, и даже не друзьями или знакомыми, которые иногда могут где-то случайно пересечься.
Нет, единственной возможностью не оказаться по разные стороны границы был вариант прикинуться геями. Отечество квиров принимало всех вне зависимости от цвета кожи, а истинную сексуальную ориентацию никакое тестирование не выдавало. Разумеется, квиры предвидели такое развитие событий. По слухам, этим путем пошло немало смешанных пар – временное расставание, эмиграция и тайное воссоединение. Мексика ведь тоже давно не принимала беженцев.
Лакомая как-то сходила на пару свиданий с женщиной, работавшей в иммиграционной службе в отделе по выявлению мошенничества. От этой женщины она узнала, что иммигрантов, пойманных на гетеросексуальных связях, ждет немедленный арест. У белых столько гомосексуальной молодежи застряло в ожидании выездных виз, что квиры агрессивно разыскивали в своих рядах тайных гетеросексуалов для обмена.
Если афера вскроется, их с Джентри моментально депортируют по разным государствам. Такая вот проблема.
Они шутили, как будут назначать друг другу свидания поздно ночью в грязных общественных туалетах и тайком целоваться в темных переулках. Такое будущее сулило им много унижений, но, по крайней мере, Джентри и Лакомая могли сохранить связь друг с другом. Сохранить любовь и надежду на будущего ребенка. Пока ребенок не достигнет возраста, когда положено объявить свою ориентацию, они останутся маленькой семьей. Будут передавать отпрыска друг другу в занюханных притонах с липкими полами, куда всякие озабоченные ходят за порнухой, а тайные гетеросексуалы – предаваться своему преступному вожделению. Супружеские случки в вертепах разврата.
Вообразив такую картину, Лакомая не могла не подумать о Спасителе, рожденном в грязном хлеву. И все ведь потом сложилось хорошо – ну, более или менее.
Ей претила мысль, что ее дитя станет пешкой в международной политике. Впрочем, впереди еще восемнадцать лет. За такой срок законы могут измениться. А если ребенок изберет для себя гомосексуальность, то станет якорем, который удержит их с Джентри в одном отечестве.
Что хорошо в апельсиновом соке – это прекрасный повод лишний раз отлучиться пописать. Промокнув углы губ салфеткой, Лакомая кротко улыбнулась своей даме.
– Мне нужно в туалет.
Она поднялась из-за стола, не глядя в сторону Джентри и его напористого спутника – или ухажера? Надежда была на прозрачное желтое платье, из-за которого все сворачивали головы ей вслед, а еще она для верности сделала неторопливую петлю через весь зал, как бы заблудившись. Теперь Лакомая уповала на то, что муж заметил ее маневр и поспешит следом.
* * *
Шаста нашла этот сайт. Наверху горела крупная надпись: «Невеста королей». А ниже списком перечислялись члены каждого клана, которые в настоящий момент рассматривают потенциальных невест. Один, к примеру, по имени Брэч, бывший водитель автопогрузчика, ныне обладатель поместья на острове близ Сиэтла и пары десятков жен, подыскивал себе в гарем командных жен новые кандидатуры. Также Брэч владел растущей сетью закусочных. Шаста видела вращающиеся знаки с их логотипом на съездах со скоростных трасс. На знаках крупным черным шрифтом на светлом фоне было заявлено: «Только для белых». То ли бравада, то ли смиренная ирония – поди разбери. В меню фигурировали «наци-лазанья», «ку-клукс-бургер» и «овощной салат по-гитлеровски в кукурузной тортилье».
Брэч и ему подобные нарекли себя графьями и баронами. Вчерашние автомойщики и собачьи парикмахеры. Аристократия бывших слесарей и мусорщиков. Они взяли пушки и вышибли цивилизации мозги. Шаста тоже прочитала книгу Толботта и могла догадываться, какие перспективы ждут ее в гареме. Она станет племенной кобылой и будет рожать белых младенцев, приумножая население нового отечества. Много белых младенцев, одного за другим, с разницей в год или меньше. Про таких мама раньше говорила «ирландские близнецы».
В маленьких городках и поселениях устраивали голосование. Выбирали самую красивую девушку, в складчину наряжали ее и приводили в товарный вид. Вместе со свитой помощниц и стилистов эти королевы красоты обивали пороги князьков из новой знати. Если такая устроится хотя бы командной женой в гарем, ее деревня уже не пропадет. Супруга великого о своих позаботится.
Так они и кочевали от двора ко двору, соискательницы на пост королевы и стайки их прислужниц, спонсируемые мечтами и надеждами соседей по захолустью. Бывшие чирлидерши, королевы выпускных вечеров и принцессы родео.
В надежде на брачный альянс группа старалась продемонстрировать свою представительницу в лучшем виде. В ожидании очередных смотрин дамы завивались, делали эпиляции с пилингами и всячески наводили красоту.
Толботт призвал установить мораторий на прогресс. В ближайшие сто лет со всеми разработками новых технологий и чудес инженерной мысли надлежало повременить. Слишком долго белые мужчины сублимировали свои естественные импульсы в науку. Отныне энергия их должна быть направлена в природой заложенное русло. Белым надлежит отдохнуть от всяких там промышленных революций и информационных веков. Расслабиться, порезвиться на свежем воздухе, не делать ничего, кроме здоровых деток. «Поколение секса» – таким должен стать их девиз.
Новые бароны и герцоги просто обожали спортивную терминологию. Слова «командная жена» – это сразу серия ассоциаций: преодоление заслонов, третья база, быстрый гол… «Полевые» жены навевали мысли о военно-патриотических играх. Все предприятия, от шинных заводов до овощеводческих хозяйств, теперь стали частью чьих-нибудь феодальных владений. Новые деньги полагалось зарабатывать и тратить быстро. Толботт обещал, что срок действия валюты увеличится, когда она окрепнет, но пока свежеобретенная «шкура» тут же тратилась на хлеб, бензин, зубную пасту, гроздь винограда, билет в кино, пару носков – вот сколько рук ей предстояло пройти за один день.
Шаста знала, что брак ее родителей держался на одном обычае. Иногда мать клала обручальное кольцо на полочку в ванной, отправлялась поужинать и через несколько дней возвращалась домой. А потом был черед отца проделать то же самое.
Вождь Чарли был одним из немногих на сайте, кто не претендовал на убийство президента прежде соединенных штатов. Этим он и привлек внимание Шасты. Она загрузила пару удачных селфи – один кадр крупным планом и один в полный рост – и по инструкции заполнила заявку. Желаемая позиция: главная жена. Готовность рассмотреть позицию командной жены: готова. Рост: сто семьдесят пять сантиметров. Вес: пятьдесят семь килограммов. Наследственные физические или психические заболевания в роду: нет. Цвет волос: блонд. Цвет глаз: голубой. Раса: белая.
После нажатия кнопки «Отправить» выскочило всплывающее окно: «Для приема заявки от соискательницы требуется согласие на генетическое тестирование для подтверждения расовой принадлежности и общего здоровья».
Шаста поставила галочку напротив «Согласна».
* * *
В каждой комнате, от больших до самых маленьких, непременно стоял на серебряном подносе хрустальный графин – с самогоном, великолепнейшим самогоном. Джамал налил себе стаканчик, чтобы с удовольствием потягивать, обходя новые владения. Он изучал огромные масляные полотна, которые могли занимать всю стену почти до потолка. Запечатленные на них люди, все в медалях, с нехилыми такими саблями, были в свое время главными игроками. Они признали бы его право забрать поместье у их измельчавших, слабохарактерных потомков.
Воины с портретов проливали кровь врагов, чтобы поселиться здесь, чтобы возвести эти стены, сочетаться браком с женщинами, которые украсили тут все рюшечками.
Арабелла с семейством ушла ночевать в маленький домик на отшибе поместья, а большой хозяйский дом остался в полном распоряжении Джамала.
Только никакой дом не является источником власти.
Прихватив свой экземпляр книги Толботта и стаканчик, Джамал устроился в самом большом кресле у самого большого камина. Чтение Толботта позволяло ему войти в структуру разума. Почувствовать, как по канве мыслей Толботта формируются собственные мысли. Вот в чем власть – в том, чтобы жить в головах других людей. Реорганизовывать их разум по своему образцу.
Джамал и забыл уже, когда в последний раз просидел всю ночь в тишине, впитывая чужие слова. Но этой ночью он читал именно так. Старинные часы, стоящие в коридорах и на каминных полках, тикали допотопными бомбами замедленного действия.
Как сказано у Толботта:
Растя ли детей или проповедуя идеи, человек делает одно: постоянно распространяет себя, как семя.
Вот посмотреть на сегодняшних белых – из них ушло нечто жизненно важное. Как эти люди, потомки викингов, в чьих жилах течет древняя скандинавская кровь, чьи предки ходили под парусами по Рейну, Волге, Днепру и Дунаю, грабя и сжигая все подряд и заселяя бо́льшую часть континента светловолосым голубоглазым потомством, – как они могли взять и исчезнуть без следа? Видимо, большинство белых мужчин считали достаточным жизненным достижением тот факт, что они не черные и не квиры. Прекрасное обоснование необходимости разделить государства. Это стимул к развитию для всех. Чтобы чувствовать превосходство над другими, каждому придется поработать.
Никто из мужчин на этих портретах – с бородами, холеными бакенбардами и золотыми позументами – не родился великим. Каждый шел ва-банк ради шанса на лучшую жизнь, и каждый в итоге ликовал, стоя над сотнями и тысячами поверженных врагов. Теперь же победители и побежденные давно мертвы и на том свете чествуют друг друга за подвиги.
Именно тогда он в первый раз и услышал. Той поздней ночью. Один в доме.
Джамал не хотел допускать мысль, что его преследуют призраки, но разум его уцепился именно за эту идею. Если подумать, сколько он уничтожил целей, пересчитанных и похороненных, совсем не удивительно, что первым делом в нем заговорили страх и нечистая совесть.
Только вот звук был никак не из тех, что обычно связывают с чертовщиной. Джамал поставил пустой стакан на стол. Свой стакан на свой стол в своем доме, из которого его не выгонишь никакими полуночными шорохами. И уж особенно такими.
Где-то далеко шумела вода, и что-то шуршало по старым трубам.
Сомнений быть не могло: под самой крышей кто-то сливает бачок унитаза.
* * *
Лакомая сидела в кабинке туалета, дыша всякими запахами и слушая журчание и шум сливающейся воды за стенкой. Туалет был общий, без разделения по половому признаку. В дверь тихо постучали, и голос еле слышно спросил:
– Сьюзан?
Наклонившись вперед, она прошептала:
– Джентри?
Открыв задвижку, она распахнула дверь. Мокрое платье по-прежнему липло к ее телу. Она сидела на унитазе полностью одетая.
Стоящий в проеме худосочный белый парень потребовал:
– Не называй меня так.
До эмиграции имя его было другим. Воровато глянув по сторонам, он шагнул в кабинку и запер за собой дверь. И тут же его руки обхватили Лакомую, жадный рот приник к ее губам. Пальцы уже вцепились в мокрую юбку, торопясь ее задрать.
Губы скользили по ее шее. Твердый член упирался ей в бедро сквозь ткань брюк.
У Лакомой перед глазами был черный амбал, который сейчас дожидался за столиком. Оставалось лишь надеяться, что этот горячий качок не дерет ее мужа в тощую белую задницу. Она пыталась об этом не думать. Напоминала себе, что мужчине быть геем куда тяжелее. Это девочкам можно вести себя скромненько и только глазки строить. А парням положено долбиться не переставая, сверху или снизу – все равно. Но не спросить она не могла.
– Брайан?
Брайан, так его звали прежде.
– Брайан, скажи, этот хрен тебя трахал?
Джентри не отрывал лица от ее груди, попутно стягивая платье с плеч. Он пробормотал что-то неразборчивое и помахал растопыренной пятерней. На пальце блестело золотое кольцо. Обручальное. И не то, которое она надела ему в день свадьбы.
Забыв об осторожности, Лакомая выпалила:
– Вы что, поженились?!
Конечно, если подумать, брак – это лучший способ уклониться от секса. Ничто не убивает кайф быстрее. Но это же не повод спутываться с первым встречным бугаем! Или тут все как в мужской тюрьме устроено – либо тебя имеет один хозяин, либо ты идешь по рукам?
Джентри вынырнул из ее грудей схватить воздуха и, задыхаясь, пролепетал:
– Ни то, ни то.
– Чего «ни то, ни то»?!
Джентри объяснил, что никто его не трахает, а поженились они на бумаге.
Лакомая замерла в растерянности, не зная, как это понимать, а Джентри уже упал на колени и лез ей под платье не сверху, а снизу. То, что теперь выглядело как большое беременное пузо, было дурацкой белой башкой Джентри, которая растягивала ей юбку на животе. Горячо дыша между ног, он что-то пробурчал.
– А? – переспросила Лакомая.
Ей нужны были ответы, однако времени оставалось совсем мало, и она не хотела, чтобы он прекращал.
В дверь постучали. Язык Джентри замер у нее в паху.
– Лакомая? – позвали снаружи.
Рыжая пришла. Как там ее, Джинджер Престиж. Занервничала все-таки.
– Все нормально? – Наклонившись к самой двери, рыжая прошептала: – У тебя там, часом, не заворот кишок?
Джентри беззвучно заржал, фыркая в вагину. Сейчас нафырчит туда воздуха, а потом будут звуки пердежа, когда не ждешь. Джентри она постучала костяшками по голове и всю ярость обрушила на рыжую.
– Ну ты расистка!
В Гейсии это было самое страшное обвинение, и хотя в данной ситуации оно не имело никакого смысла, подействовало на ура.
– Пардон, – буркнула рыжая и вроде бы удалилась.
Все еще растягивая башкой ее многострадальную юбку, Джентри выдохнул:
– Джарвис не такой.
Как выяснилось, здоровенный качок, при всех раздвигавший ее мужу ноги, на самом деле натурал. Эмигрировал отдельно от белой супруги и вот уже семь месяцев ее разыскивал. И с Джентри они поженились, чтобы служить друг другу прикрытием. Очень долгая история, если объяснять ее носом во влагалище, но было похоже, что Джентри не врет. Публичные домогательства посреди ресторана были спектаклем. А иногда они устраивали друг другу громкие сцены ревности с пощечинами.
Джентри поднялся и мягко разворачивал Лакомую к себе спиной, расстегивая ширинку.
Истеричные выяснения отношений, вульгарное озабоченное поведение – все это было не похоже на реальную гомосексуальную пару. Скорее на игру двух натуралов, прикидывающихся геями. Однако этого хватало, чтобы все держались от них подальше.
Лакомая хотела узнать, где они встретились. Она бы тоже подыскала себе хорошую гетеросексуальную девчонку для фиктивного брака. Но было не до того – Джентри уже вошел в нее сзади, и Лакомая двигала ягодицами ему навстречу, расставив ноги, насколько позволяла узкая кабинка.
* * *
Свечи были форменным наказанием – постоянно шатались, валились набок и падали. Девушка перед Шастой семенила по тротуару мелкой походкой гейши. Голову, увенчанную сооружением из колючих листьев падуба и ядовитой омелы, она держала болезненно прямо. Из короны этой, как положено, торчали шесть высоких белых свечей, и над каждой плясал язычок пламени.
Прямо на глазах у Шасты одна из свечей накренилась, проливая горячий воск барышне за вырез богато расшитого дирндля, потом упала и подожгла край пышной полотняной юбки. Девушка кинулась лихорадочно хлопать по тлеющему подолу, отчего с головы посыпались и остальные свечи. Одни попали под колеса машин, другие укатились в канаву, подпалив там использованные кондомы и никому не нужные бумажные деньги из Прежних Времен.
Терновые эти венцы были в той же мере испытанием выдержки, сколь и модным веянием в белом государстве. Так считала Шаста. А ношение этой мишуры – не столько безумным трендом, сколько предписанием закона.
Ругаясь себе под нос, девушка сдирала обугленные лоскуты с дирндля и многочисленных нижних юбок. Ни на секунду не расслабляя мышцы-стабилизаторы, Шаста держала позвоночник прямым, как палка. Все-таки годы занятий йогой даром не прошли: со свечами на собственной голове она управлялась ловко. С царственной осанкой августейшей особы она прошествовала мимо досадной сцены.
Откуда-то сбоку раздалось:
– Чика! Классные свечки!
Мужской голос.
Шаста очень медленно развернулась – всегда следовало помнить о канделябре на голове. Парень был ей смутно знаком. Под мышкой у него болталась спортивная сумка, в руке он нес толстую книгу в мягкой обложке. Точно, это брат Эстебана. Того, с которым они вместе учились. В отличие от Эстебана, брат был традиционной ориентации. Шаста мучительно пыталась вспомнить имя.
– Хавьер, – напомнил парень. – Что это ты разоделась, как вся из себя белая?
Шаста не стала вдаваться в подробности, как завалила тестирование ДНК. Ну да, бабушка с дедушкой у нее из Кинтана-Роо, вот она и пожинает плоды. Латинской крови в ней слишком много. И не в том смысле, что хорошей, из древней Италии, а в том, что нежелательной, от латиносов. Обсуждать это Шаста не хотела и сразу спросила, не видал ли он Уолтера.
Хавьер покачал головой.
– У тебя свечка погасла.
Ругнувшись, Шаста полезла в сумку-шоппер от Кейт Спейд. Вместительное пространство внутри заполняло месиво из датской сдобы и пончиков с начинкой. Морща нос, Шаста рылась в слоеном тесте, заварном креме, взбитых сливках и сахарной пудре.
Хавьер брезгливо отшатнулся.
– А чего за прикид-то у тебя?
Медленно подняв глаза от сумки, она взглядом указала ему на всех прочих женщин, которые осторожно тянули через трубочки латте и смузи, выгуливали собачек на поводках, и при этом все как одна несли на головах короны со свечами.
Голова у Шасты чесалась от колючих листьев и капель горячего воска.
– Скандинавское что-то. Вроде как их версия дредов.
Хавьер закатил глаза.
– Ну, выглядит тупо.
– Ну, таков закон, – огрызнулась Шаста.
Наконец откопав искомый предмет, она выудила из сумки зажигалку, перемазанную кремом. Протянула Хавьеру.
– Выручишь?
Хавьер взял липкую зажигалку. Понюхал, будто размышляя, не облизать ли, и щелкнул кнопкой. Вспыхнул голубой язычок пламени.
Шаста чуть присела, чтобы ему было удобнее, при этом схватилась за его руку для равновесия и развернула кисть к себе.
Так она увидела, что за книга у него толщиной с кирпич. «Атлант расправил плечи». Это они в прошлом семестре у доктора Бролли читали.
Зажигая погасшие свечки, Хавьер пропел: «С днем рожденья тебя…», а потом сообщил:
– Мы депортируемся добровольно. Вся мексиканская диаспора идет путем Джона Голта.
Следовало понимать, что все, кто имеет латиноамериканское происхождение, собрались на юг через границу.
– Все белые – muy loco[1], – говорил Хавьер. – Когда они перебьют друг друга или сдохнут с голоду, мы придем собрать, что от них осталось.
Тем временем Мексика, по его выражению, «расцветет, как Италия в эпоху Ренессанса».
Шаста продолжала стоять чуть склонив голову и разглядывала свои деревянные клоги.
– Проверь, есть воск в волосах?
– Европейская археология, – говорил Хавьер, – навязала собственный ложный нарратив всей доколумбовой истории.
Он привел в пример наскальные рисунки, на которых ацтеки якобы практикуют человеческие жертвоприношения, вырывая несчастным сердца. Меж тем доказано, что так мезоамериканские художники изображали операции по пересадке сердца. Большие плоские камни на вершинах пирамид на самом деле служили операционными столами и располагались там, где много солнечного света.
– Это еще что! – восторженно рассказывал Хавьер. – Есть изображения людей, держащих в руках оторванные головы, а из обрубков шей хлещет кровь, и болтаются жилы…
Шаста вздрогнула, но Хавьер объяснил ей, что на самом деле это доказательство успешной практики пересадки головы.
– А все потому, – почти выкрикивал он, – что белые ученые отрицают все, что не способны повторить!
Рядом с ними молодая женщина остановилась перед витриной. От свечей на ее голове немедленно занялся полосатый тканевый навес. Неподалеку дама потягивала фраппучино на открытой веранде кафе, не замечая, что зонтик с рекламой «Чинзано» над ней уже тлеет.
Хавьер протянул Шасте ее зажигалку и настойчиво предложил:
– Поехали со мной. Пусть эти чокнутые гринго уничтожают сами себя.
Предложение было заманчивое, и Шаста определенно почувствовала искушение. Ее родители уже депортировались на Юкатан. К тому же Хавьер был ну прямо альфа-мачо, и белые джинсы в облипочку у него замызгались ровно настолько, чтобы их хозяин не тянул на гея. Брат Хавьера наверняка уже отчалил к собратьям по ориентации. Неудивительно, что парень ищет себе компанию. Одиноко ему теперь.
Шаста взяла зажигалку и сунула обратно в сдобное месиво.
– Мне полагается раздавать встречным булочки – такой обычай, часть истории с венками и свечками.
Она тянула время. Ей не хотелось разбивать ему сердце, но она должна была отыскать Уолтера. Чтобы смягчить отказ, она раскрыла перед ним сумку.
– Возьми вот шоколадный эклер, он вроде меньше всего помялся.
Хавьер все понял. Он взял мятый эклер, ощетинившийся волосами и пухом с подкладки, инкрустированный выпавшими из пачки ментоловыми пастилками. Вздохнул.
– Спасибо.
Вид у него был несчастный и по-прежнему очень, очень привлекательный.
– Спасибо, что зажег мою свечку, – виновато промолвила Шаста, медленно повернулась и, шажок за шажком, заставила себя пойти прочь, неся над головой огненный нимб.
* * *
Национальный позор, печать бесчестья. Других слов у Чарли не было. Блэктопия только что объявила об успешном запуске летающей пирамиды, созданной на основе древних антигравитационных технологий. Технологии эти долго пролежали забытыми, скрываемыми в интересах евроцентризма. Белые отрицали их существование, а спустя много веков черные доказали, что египетские пирамиды на самом деле являлись летательными аппаратами.
Пока белые договаривались со Стэнли Кубриком, как бы поубедительнее инсценировать высадку на Луну, снимая пустыню в штате Нью-Мексико, черные располагали проверенным методом перемещения в космосе и десять веков хранили его в тайне.
Ну что ж, теперь секрет раскрыт. Сгорбившись перед телевизором, Чарли во все глаза смотрел новости из Блэктопии. В репортаже демонстрировалась четкая видеозапись колоссальных пирамид, парящих в воздухе над военным полигоном. Пирамид размером с ту самую, которая Хеопса. Невероятные каменные корабли поднимались в голубое небо. Один такой черные уже с успехом посадили на Луну, рядом с точкой, которую в шестидесятые годы застолбило за собой НАСА. В ближайшие дни черные астронавты пойдут гулять по округе и не обнаружат никакого американского флага там, где ему положено быть. Никаких мячиков для гольфа, никаких следов от лунохода.
Государство Арийское стояло на пороге жестокого унижения.
Чтобы не думать о неизбежном, Чарли погрузился в книгу Толботта. И продолжал читать ее, даже когда в тронный зал привели очередную группу тщательно отобранных соискательниц.
Телевизор по-прежнему действовал на нервы картинами огромных пирамид над процветающими землями и прекрасными, гордыми лицами черного народа. В ярких национальных одеждах, с прямыми спинами и расправленными плечами все они – и мужчины, и женщины, и дети – несли себя с аристократическим достоинством.
Как объяснялось у Толботта, самые умные, самые целеустремленные чернокожие примерно в XVII веке ушли в забастовку. На протяжении многих поколений идея Ссудного дня жила в них, как семя. А в ожидании они упражняли свою свирепость друг на друге. Они знали, что власти сквозь пальцы смотрят на убийства черными черных. По Толботту, белые готовились к Ссудному дню, иногда расстреливая коллег или открывая пальбу в школах. Геи уничтожали друг друга посредством ВИЧ-инфекции, а также усердно качали мышцы в спортзалах, чтобы наповал убивать красотой. Каждая группа прокачивала собственные навыки хладнокровного уничтожения, готовясь однажды взять власть в свои руки.
Если уж они научились не поморщившись убивать братьев и сестер, то и вышестоящих своих – в политике, в массмедиа, в академических кругах – пустят в расход без колебаний. В назначенный срок они перестанут уничтожать друг друга и обратят свою ярость вовне. Внутригрупповой сопутствующий урон работал на усиление ненависти к так называемым лидерам на уютных тепленьких местах, на которые они забрались, целуя младенцев и читая написанные спичрайтерами проникновенные речи.
Все они – и реднеки под опиоидами, и черные головорезы, и озабоченные квиры, – все готовились к Ссудному дню, тренируясь на легких мишенях из своих рядов, а сторонние наблюдатели и заподозрить не могли, что происходит на самом деле. Черные научились метко стрелять. Квиры научились очаровывать и втираться в доверие. Белые научились безошибочно просчитывать действия перепуганной толпы под обстрелом.
Как объяснял Толботт, ни одно происшествие не было случайным. Каждый террористический расстрел мирных граждан, каждая передача вируса, каждое внезапное сумасшествие разносчика газет приближали Ссудный день. Как только группы окончательно подавили в себе человечность, атака на общих угнетателей стала неизбежной.
На телеэкране пирамиды скользили по безоблачному небу над пляшущими, ликующими черными толпами. Сверкали золотые украшения и белозубые улыбки, полные восторга и безграничной гордости.
Белая раса сбилась с пути. Черных и квиров у нее под боком не осталось, не над кем теперь было испытывать превосходство, и поводы для гордости иссякли. Белые напоминали богатую семью, которая непрерывно разыгрывала спектакль благонравия и мудрости перед слабоумной прислугой. Без квиров и черных у белых пропала мотивация вести утонченную жизнь. Некому стало пускать пыль в глаза, и Государство Арийское барахталось в смятении.
Выключив звук телевизора, Чарли наблюдал, как радуются и танцуют жители Блэктопии.
Белая раса была словно отец, переживший своих детей. Некому стало читать нотации, некому внушать уважение. Нет больше бледного подобия себя, которое можно спасать и поучать. Белые оказались в пустоте, как божество, оставленное последним своим творением. Что уготовило им будущее в новом, аккуратном, упорядоченном мире? Белая раса прошла все испытания, что еще она могла совершить? Сделать траву зеленее? Заставить поезда еще точнее ходить по расписанию?
В такие моменты Ссудный день представлялся огромным шагом назад. После рискованных социальных экспериментов последних трехсот лет белые могли лишь вернуться к эпохе рыцарей и феодалов – в эстетике Нормана Рокуэлла для «Ридерз дайджест».
– К вам дамы, сэр, – доложил мажордом.
Этот раболепствующий холуй вызывал у Чарли презрение – как и всякий мужчина, не принимавший участия в кровопролитии. Он, Чарли, оставил свой след, продемонстрировал свою доблесть – значит, слабаки будут вечно от него шарахаться, а трусы с негодованием оплюют его заслуги. Он будет одинок, ни на чей совет не сможет он опереться, ибо равных ему слишком мало. Именно поэтому настолько важен был выбор идеальной супруги. Важен и очень непрост.
Чарли отложил книгу и щелкнул пультом, выключая телевизор. Слегка повернул голову, чтобы бросить оценивающий взгляд на табун юных кобылок, отобранных для случки. Они беспокойно перебирали ногами, едва прикрытыми короткими юбчонками. Умоляли о внимании невинные глаза. Трепетали ресницы. Вытягивались уточкой напомаженные губы. От старательных глубоких вдохов вздымались груди. Чарли не поддавался на подобные ухищрения. Где этим существам понять хоть что-то о жизни, если умеют они лишь одно – быть самками? Живут они в вещном мире и не верят ни во что, кроме видимого, осязаемого, заявленного напрямик.
И все же одна особа привлекла внимание Чарли. В толпе суетящихся кур она стояла с царственной безмятежностью, как будущая королева, и длинные тонкие руки ее даже не шелохнулись. Волосы золотым медом лились на плечи, одетые в пышно вышитую крестьянскую рубашонку. Чарли сразу представил девушку с серпом среди тяжелых пшеничных колосьев. Чресла ее могли вытолкнуть из себя новое поколение богов. От Чарли понесет она целый сонм гениев искусства и техники, который снова вдохнет жизнь в белую расу.
Чарли осмотрел ее руки цвета слоновой кости, юные груди, округлой формой и торчащими сосками напоминающие две молоденькие груши. Простые сандалии из кожаных ремешков не скрывали изящных маленьких ступней. Взгляд голубых глаз был как у зверушки – кроткий и умный.
Едва заметным движением пальцев Чарли указал на нее, позвав:
– Ты, дитя…
Она была младше его на год, максимум на два. Самым властным тоном Чарли спросил:
– Как зовут тебя, девочка?
Встретив его взгляд, она замерла в онемении. Вероятно, уже слыхала, что много недель подряд он едва удостаивал кандидаток взглядом. Из легионов приводимых к нему красавиц не заговаривал ни с одной.
Своим безмолвием она еще больше взволновала Чарли. Его приводила в возбуждение мысль, что скоро он будет владеть этой женщиной.
Рта она так и не раскрыла, и мажордом ответил за нее:
– Шаста, сир.
Шаста. Королева Шаста.
Вот она, безупречная арийская супруга.
* * *
Мало какие мысли в ее голове принадлежали ей самой – еще бы, учитывая, что жила мисс Жозефина теперь на соленых крекерах и джине. То, что приносила Арабелла, она есть не осмеливалась, так и смывала все в унитаз по ночам, когда никто не слышит. Маленький телевизор работал днем и ночью – ей нужна была хоть какая-то компания, пусть по всем каналам показывали одного Толботта. Если верить ему, выходило, что белые с радостью оставили Джексон, штат Миссисипи. Так же как и черные без сожалений бросили Детройт. Он говорил, что на Юге белые претерпели триста лет унижения, не имея физических возможностей самостоятельно возделывать плантации риса, табака и сахарного тростника на изнурительной жаре. В Мичигане черные не нашли ничего, кроме снега и ржавых машин. А Толботт утверждал, что белым нужна зима, нужен вынужденный отдых, иначе от упорных трудов они сходят с ума. Черные же ненавидят дурацкий снег.
Читая книгу, легко было представить, как Толботт декламирует свои тезисы. Мисс Жозефина называла их озарениями помутившегося рассудка. Безумием, которое стало новой мерой разума.
Он утверждал, что белые южане отказались уезжать на север сразу после войны с янки, чтобы не подтверждать тем самым правоту «Нью-Йорк таймс». Им нечего было делать в Джорджии, Луизиане и Миссисипи, но поджать хвост и отдать Юг тем, кому он должен принадлежать по праву, означало признать безоговорочную победу противника. Этнические европейцы не стали бы тосковать по пейзажам, увитым лианами кудзу и ядовитыми щитомордниками. А сохранять за собой Флориду было равносильно позированию для фотографий с трупом – с мертвой крошкой-дочерью в кружевной крестильной рубашечке и с жемчужным ожерельем, изо всех сил делая вид, что она вот-вот поправится.
Словно обращаясь лично к мисс Жозефине, Толботт красноречиво распинался о миазмах и о подверженности болотных земель разложению и гнили. Ничто на свете не могло поддерживать жизнь в белых на юге, кроме их собственного ирландско-шотландского упрямства. Тлетворные ветра и курящиеся паром болотистые равнины сулили белым лишь малярию и рак кожи. А в северных городах вроде Чикаго черные страдали от дефицита витамина Д, дистрофии и обморожений.
На своем высоком посту мисс Жозефина председательствовала над забитыми хламом комнатами – комнатами, хранившими все дипломы и похвальные грамоты, все награды и серебряные кубки, все дневники и фамильные Библии, что когда-то принадлежали обитателям дома. Она была мозгом вещей. Одиноким стражем на сторожевой вышке. Местным духом, запертым на чердаке с крепким духом богатств винного погреба – она приказала вместе с ней отправить в склеп весь запас портвейна и мадеры. Ящики, контрабандой провезенные через морскую блокаду во время войны с янки.
На мисс Жозефину вдруг снизошло пьяное озарение. Сокровища ведь можно сжечь! Судьба прошлого в ее руках – она может быть и приказчиком, и палачом. Если захочет, предаст огню и дом, и все его ветхие реликвии.
* * *
Чарли знал корень проблемы. Суть вот в чем: белая раса научилась сублимировать сексуальные импульсы. Научилась откладывать удовлетворение и пошла изобретать электричество, маммографию и прочую ботанику, вместо того чтобы просто дрочить на порно и драть всякую потаскуху, которая в этом нуждается. В результате белые – если по-честному, то в первую очередь белые мужчины – изобрели всякие технологии и прославились как идеальная цивилизация, в которой все работает. Проблема в том, что другие расы сублимировать не хотели. Они продолжали иметь всех баб, которые подвернутся, не глядя на ВИЧ, герпес и все такое. А бабы продолжали одного за другим штамповать им младенцев. То есть белые мужчины отказались от производства младенцев ради патентов и роялти – и получили с этого немало, вот только совсем обошли вниманием главную гонку. Гонку популяций. Таков был взгляд Чарли на этот вопрос. Белый человек сэкономил на сексе столько времени, что хватило энергии придумать солнечные батареи. А потом бразды правления он утратил. У Стоддарда об этом все написано. Младенцы и развитие технологий всегда находились в противофазе. Стоило техническому прогрессу шагнуть вперед, рождаемость тут же падала. А скачок рождаемости отбрасывал цивилизацию назад. Прямо сейчас прогресс человечества рисковал вот-вот захлебнуться в море чужих младенцев. А значит, никакой вулканизированной резины и обратного осмоса, поскольку не останется умников, чтобы всем этим заниматься.
Белым надо взять передышку. Перестать анодировать все, что видят, сделать паузу и сунуть телочке. Тогда у цивилизации будет шанс. От белых баб, конечно, в последнее время тоже мало толку. Нет, они только начали свои свершения на научно-техническом поприще и явно не рвались отказываться от всенародного признания и раздвигать ноги. Для того-то и нужен был Ссудный день. Он дал шанс немногим оставшимся альфа-самцам приумножить белый род. Он пресек всякую феминологию, гендерные исследования и тому подобный собачий бред, на который повадились тратить время дамы, пока их драгоценные арийские яйцеклетки засыхают.
Ссудный день предоставил мужчинам вроде Чарли – которые не много понимают в матанализе, зато имеют хорошие запасы спермы – возможность спасти игру для команды белых.
Все просто.
* * *
Доусону не хватило воли отрезать ей ухо. Как бы она ни умоляла. В итоге она схватила нож и попыталась сделать это сама, но тут же разрыдалась. Она стояла перед Доусоном на коленях в пыли. Глядя сверху, он видел, что правое ухо у нее все в запекшихся бурых потеках. Видать, уже пыталась, и не один раз.
И тут ее как прорвало – о Ссудном дне, о том, что она пережила, во всех деталях. Сначала посреди конференции у кого-то зазвонил телефон, хотя она всегда требовала в аудитории отключать звук. Потом еще один, а потом телефоны звонили у всех – пищали, тренькали, пиликали, лаяли, какофония со всех сторон. А затем к ней подключился стрекот одновременно расстегиваемых молний. Студенты – все студенты — полезли в рюкзаки с картинками из мультиков и супергеройских фильмов и достали пушки. Профессор и аспиранты смотрели на аудиторию и видели перед собой бесчисленные черные дула.
– Целый лес черных стволов. – У нее срывался голос, она нервно жестикулировала трясущимися руками.
Короткие стволы пистолетов, длинные – винтовок и дробовиков, совсем маленькие – револьверов. Черные палки изрыгнули из себя пламя и дым, запахло порохом, а потом раздались два тяжелых удара. Это рухнул на пол ее аспирант. Ей показалось, что она оглохла.
Аспирант полз к ней. Его ноги остались там, где упали, а сам он тащил себя на руках, подтягивая торс с волочащейся следом жирной бахромой кишок. Он полз туда, где она в ужасе скорчилась за кафедрой. Пули решетили экран для презентаций, пробивали дыры в стенах; и гром выстрелов. Аспирант тянул к ней синюю, помертвевшую, уже мертвую руку, и его мертвые губы шевелились, формируя слово «помогите»…
Вокруг гибли ее коллеги, весь ее штат, который она сама лично много лет любовно подбирала. Бились на полу, как выброшенные на берег дельфины. Изуродованные до такой степени, что превратились в безжизненные куски мяса, они продолжали дергаться, как марионетки, потому что в них стреляли и стреляли.
Она рискнула. Высунулась из-за кафедры, схватила аспиранта за протянутую руку. Переплела пальцы с его ледяными пальцами и втащила парня в свое укрытие. Голова его легла ей на колени. Он как будто уснул.
Доусон стиснул зубы, чтобы не спросить у нее имя этого аспиранта.
Профессорша уже не плакала, а в трансе глядела на землю и бормотала:
– Через несколько дней он должен был защитить диссертацию о зыбкости гендера… – Она всем телом конвульсивно содрогнулась от душевной боли. – И все это лишь за то, что заставлял студентов читать Белл Хукс!
* * *
Они прогуливались в садах. Чарли и его нареченная. Отдыхали среди древнеримских птичьих купален и садовых украшений периода эллинизма, реквизированных из крупнейших музеев на территории прежде соединенных штатов. Желая произвести на даму впечатление, Чарли указывал то на вавилонскую статую, которую сам привез из музея Гетти, то на чудные желтые петунии в месопотамской каменной штуковине из коллекции Национальной галереи в Вашингтоне. Похвалялись своим великолепием павлины, но где им было сравниться с красотой Шасты! С должным восхищением залюбовалась она статуей какой-то египетской дамы. Лет статуе было примерно миллион, Чарли велел выкрасить ее в изумрудно-зеленый под цвет скамеек. Шасте понравилось. «Фигасе!» – сказала она.
Чарли хотелось показать ей самые первосортные вещи, которые он урвал в Чикагском институте искусств. Вот они были реально старые. Он надеялся, ей они тоже понравятся. Предсвадебная проверка ее была почти завершена. Оставалось только генетическое тестирование для подтверждения чистоты крови, но это была простая формальность. Чарли с первого взгляда понял, что она белая. Небесную лазурь можно было рисовать с ее голубых глаз. Птичьи трели уступали мелодичностью ее смеху. Так невинна была она, так мила, так простодушна. Все еще верила в глобальное потепление и Холокост.
Чарли подозревал, что слишком насилует ей уши, но ничего не мог с собой поделать – от нервов на него нападала разговорчивость.
Он показал ей большие канделябры, которые прибрал к рукам в какой-то из церквей на Пятой авеню. Эти штуки вроде как отлили из чистого золота, поэтому их можно было держать под открытым небом круглый год. Заставил Шасту присесть, обхватить один руками и попробовать оторвать от земли. Шаста не смогла и одобрила: «Клево».
Что ни день ему привозили новое барахло. Очередные пылесборники из Гетти, а иногда и из нью-йоркского Метрополитен-музея. В штате даже были специальные слуги, которые занимались исключительно распаковкой ящиков и распихиванием по углам новоприбывшего хлама.
Ведя беседу, Чарли между делом рассказывал Шасте о тяготах своей жизни. Все-таки к будням аристократа надо привыкнуть. Вот, например, к тому, сколько жизней зависит от каждого его слова. Это уж не говоря о том, какую жирную пищу полагается есть всесильным властителям. Сегодня утром, к примеру, он, сходив по большому, чуть зад себе не порвал…
Так начался этап официального ухаживания, а с ним и обучение будущей королевской супруги. Чарли зачитывал ей отрывки из книги Толботта. Медленно и с расстановкой читал о том, как женщина в первые недели беременности решает, любить ли ей новую жизнь внутри себя или изгнать плод. Однако после естественных родов она уже не может не чувствовать любви и гордости за свое дитя – будь оно хоть черным, хоть желтым. Именно этот импульс и лежит в основе женского изобразительного искусства.
Напротив, белый мужчина, чтобы полюбить своего младенца, должен увидеть в нем здоровую факсимильную копию себя. Белым всегда приходится держать оборону, ведь их вечно осаждают дурные идеи, низшие расы постоянно ведут против них подрывную деятельность. Белый мужчина должен быть уверен, что в потомстве своем найдет верного союзника.
Чарли заверил будущую супругу, что в прекрасном новом мире ценность будут иметь все дети. Даже гомосексуальные. Ведь как только такой ребенок достигнет возраста объявления ориентации, его можно будет обменять на невинное гетеросексуальное дитя, по воле судьбы взращенное гомосексуалами.
Среди усыпанных маргаритками лугов менестрели играли на лирах и флейтах, а Чарли произносил слова Толботта:
Создать нечто новое может только Бог. Мы же способны лишь выявить шаблоны, определить незримое и сочетать существующее так, чтобы добиться небольших отличий.
Читал он:
Ссудный день пришел, чтобы дать окончательное решение всем вопросам.
* * *
По Толботту, технологический прогресс и общественная мораль создали такой климат, в котором ничто, кроме смерти, не способно разрешить конфликт. Холивары сохраняются в интернете навечно. Никому не скрыться от своего прошлого. Ничто не забывается. В то же время люди научились воспринимать стыд и унижения как временные препятствия. Ни одна публичная фигура, в каких бы пороках ни была она уличена, не пропадает из поля зрения надолго. Ни одна развязка ничего не развязывает.
По радио Толботт сообщал последние новости: «По данным Объединенного совета кланов, труп бывшего президента прежде соединенных штатов не найден. В Ссудный день этот человек пропал, и существует предположение, что он покинул страну при содействии иностранных агентов… Представители кланов подтверждают информацию о бомбе, взорванной на оживленной улице в Государстве Арийском… в Блэктопии… в Гейсии… две жертвы… шесть жертв… восемнадцать жертв… Террористы, связанные с бывшим президентом, взяли на себя ответственность за газовую атаку… поджог… вредительство… Граждане, располагающие информацией об этих преступлениях, должны немедленно связаться с представителями кланов».
Как и предсказывала иссиня-черная книга:
Во время величайшего морально-этического кризиса народ поддержит тех благородных лидеров, у которых будет больше пушек.
Толботт предвидел возникновение некой разновидности стокгольмского синдрома. Люди приняли новых лидеров, потому что хотели над собой власти, а прежние власти были перебиты. Люди не вдавались в детали, кто именно будет ими править – эти вопросы отходили на второй план на фоне деталей их собственных, сиюминутных проблем. Например, чем кормить детей. Или как доучиться. Найти пару. Те, кого могла непосредственно затронуть объявленная война, вздохнули с облегчением. Граждане привыкли адаптироваться к требованиям властей. А кто там нынче у власти – не- важно.
Естественно, многих шокировало кровопролитие, но не настолько, чтобы пожертвовать собственной жизнью в протестах.
Всякому человеку дана своя доля ума. Доли эти встречаются и объединяются с другими. Толботт утверждает, что людские души цепляются к телам, как те, кто не умеет плавать, виснут на краю бассейна.
Самолеты расчерчивали небо. Каждый вез людей, переселяющихся в положенное им отечество. Молодежь радовалась тому, что участвует в самой масштабной общественной реформе в современной истории. Люди постарше не испытывали никакого оптимизма. Имущество паковалось и отправлялось на новое место.
Те, кто оставлял свои дома, выбирали себе в интернете новое жилище из списка равных по цене утраченному. Сидя в аэропортах и прижимая к себе детей, люди пролистывали на смартфонах фотографии домов, ферм и квартир, на которые могли претендовать.
* * *
Лакомая обнималась с мужем, произведя супружеское сношение в кабинке автовокзального туалета.
– У Джарвиса кличка «финский дядя Том», – сказал Джентри.
– А что это значит?
Джентри пожал плечами и помотал головой.
– Что-то насчет перекачанных мышц. Это не комплимент. – Он пристально всмотрелся в грязную липкую лужу на полу. – Гляди-ка, там что, перкосет?
Лакомая хотела спросить: спит ли он все-таки с этим Джарвисом? Мужики ведь такой народ, готовы трахать все, что движется. Но боясь, что ответ ее не обрадует, она помалкивала.
* * *
Возможно, белые что-то подозревали. В последние годы белая поп-культура опасно близко подобралась к обнаружению глубочайшей мудрости и силы, которую скрывали в себе черные. Белые авторы наделяли «волшебного негра» умением читать мысли и прочими сверхъестественными способностями, которые таила в себе черная раса. Но с появлением Блэктопии черные сестры наконец скинули маски. Долгое время они самоотверженно играли роли наркоманок и живущих на пособие ожиревших бездельниц. Они даже приклеивали к своим головам волосы белых женщин, глумясь над их стандартами красоты, а эгоцентричные белые дуры тешили этим самолюбие. Теперь царственные сестры прекратили всякий фарс и стали теми, кем назначено по праву рождения. Великими целительницами. Хранительницами космических тайн.
Верные традициям своего племени, жители Блэктопии неспешно ступали по широким проспектам городов, единых с Матерью-природой. Длинные руки и ноги их блестели. Женщины, стройные и гибкие, светились уверенной мудростью. Шпили безупречных зданий взмывали в синеву небес, отрицая допотопную физику отсталой белой расы.
Черные даже не шагали, а плавно скользили в постоянном движении, не имеющем ничего общего с дерганой походкой белых. В языке белых просто не было слов, описывающих настолько текучую грацию, – он вообще небогат и в Блэктопии постепенно уходил на второй план, уступая место возрожденному древнему наречию.
Белая история записана словами, черная – мелодиями.
Черные братья сбросили с себя личину свирепых головорезов, персонажей настолько грубых и примитивных, что лишь белые в своей узколобости могли поверить такому спектаклю. Это была шутка для своих: как долго черные братья должны кривляться, прежде чем белые что-то заподозрят?
Они говорили громко, а смеялись еще громче лишь для того, чтобы скрыть правду: их настоящее общение друг с другом происходит посредством телепатии.
Свободные от необходимости ломать комедию, ученые шаманы радостно избавились от бейсболок и бандан, знаков принадлежности к показушным «бандам». Они смехом проводили черный уличный диалект, за которым скрывали от белых свою мудрость. Ведь под видом невнятной речи черные передавали друг другу тайны алхимического превращения песка в драгоценные камни. Теперь они подняли из земли огромную массу алмазов, рубинов, чистейшей воды изумрудов и воздвигли из них колоссальные дворцы, сияющие на солнце божественными радугами. Жалкие витражи, которыми украшали храмы белые, не шли ни в какое сравнение с подобным великолепием.
Народ Блэктопии продолжал воспевать планету, и в благодарность из земли вырастали алмазы высотой с небоскреб, подобно минаретам пронзающие облака. Золото вскипало и мгновенно твердело, приняв форму дворцов с куполами, чтобы в них собирались верные.
В этом разноцветном раю черные вернулись к своему предназначению, от которого были вынуждены отказаться под белым игом. Впервые в летописной истории черные могли трудиться лишь во благо себе подобных, а не обогащать своими стараниями врага. Мускулистые спины блестели от пота, когда, встав плечом к плечу, они пением вырастили дивные, посвященные предкам храмы на месте разрушенных белых городов – Атланты, Бирмингема, Майами… Величественные конструкции высились на горизонте удивительными формами, недоступными воображению белых. Были они исполинскими домами, где черные братья и сестры мирно жили в безупречной гармонии как с природой, так и с миром духов.
Те немногие из белых, кому позволили взглянуть на чудеса Блэктопии, вернулись домой в слезах благоговения. И цепляясь за свою пещерную илюзию превосходства, стали трубить о том, что самоцветные дворцы и летающие пирамиды – сплошная ложь и надувательство. Когда же черные сестры избавили Блэктопию от всех форм рака, белые потребовали доказательств. Но какие могут быть доказательства тому, что не существует? Ведь сестры в мудрости своей призвали вечных духов, которые по просьбе их изгнали из Блэктопии рак, ВИЧ-инфекцию и герпес, так что черный народ забыл об этих недугах.
Белые все свои силы бросили на деторождение, и наука и техника Государства Арийского прекратили развиваться. Некоторые из белых опустились до того, что решили обманом проникнуть в Блэктопию и выкрасть ее секреты. Наука и математика белых предназначались лишь для создания атомных бомб и прочих машин смерти, тогда как черный интеллект каждый день порождал чудеса для обогащения жизни. И в первую очередь женской, ведь народ Блэктопии ценил своих сестер превыше всего.
Белые пошли проторенной дорожкой Джона Гриффина – журналиста, который затемнил кожу с помощью метоксалена и ультрафиолетовой лампы, проник в стан черных и похищенные таким образом сведения опубликовал под своим именем в книге «Черные, как я». Шпионы Государства Арийского прибегли к тому же способу маскировки и червями проскользнули через границу.
Такая глупость! Кого они пытались обмануть? Все, что они умели, – изображать хитро вымудренные ритуалы рукопожатий, расхлябанную речь и прочие ужимки, которыми черные когда-то пудрили им мозги. Разумеется, с первого взгляда было ясно, что это самозванцы. Но никто не подал виду. Неудавшиеся воры препирались между собой, махали пушками, трясли задами и чесали яйца в полной уверенности, что ловко обвели всех вокруг пальца. А черные братья для исцеления болезней по секрету научили их пить мочу. Шпионы радостно понесли эту тайну домой, и вскоре все население Государства Арийского взяло в привычку регулярный прием чудодейственного средства.
* * *
В памятке значилось: «только износоустойчивое и пригодное для машинной стирки». Гэвин снял с любимой сорочки фирмы «Сэнд» целлофановый чехол, в котором принес ее из химчистки. Расстегнул пуговицы, бережно снял с вешалки.
Приталенная, насыщенные оттенки красного и оранжевого… Он надевал ее всего дважды, боясь испортить – вдруг пятно или принт потускнеет. Прижав воротник подбородком, Гэвин принялся складывать сорочку на весу, аккуратно совмещая рукава. Превратив ее в ровный маленький сверток, он уложил сверток в пустой чемодан.
Женский голос произнес:
– Не то берешь.
Это была не мать. Сестра, Шарм, стояла в дверном проеме, прислонившись к косяку и скрестив на груди руки. Одну ладонь она тут же вскинула перед собой в знак, что не станет слушать возражений. Подойдя к раскрытому шкафу, она обреченно сгорбилась.
Ассортимент ковбойских рубашек с перламутровыми застежками. Пуловеры с люрексом, подделка под «дольче габбана». Винтажный «версаче».
Перед ней был сундук с приданым, которое Гэвин собирал для взрослой гомосексуальной жизни.
Сама же она рассекала в солдатской рубахе из армейских запасов.
– Вот такое тебе надо, – заявила сестра, поддев пальцем грубую ткань. – Прочнее железа.
Немаркий защитный цвет. Незаправленные полы свисают до середины бедра, прикрывая голубые джинсы. Ближайшим аналогом в его шкафу была оливковая рубашка с кучей нашивок. Бойскаутская форма, купленная в секонд-хэнде вместе с отличительным значком высшего ранга – «скауторел».
– Зато «Сэнд» не мнется! – попытался возразить Гэвин.
Но Шарм уже выкинула красно-оранжевую роскошь из чемодана и засунула на ее место скаутский прикид.
– Там тебе не дефиле, – отрезала она, – а концентрационный лагерь!
Книга Толботта называла такие заведения центрами удержания человеческих ресурсов. Тот, в который определили Гэвина, до Ссудного дня был нестрогой тюрьмой. Год Первоначального Переселения близился к концу. Те, кто родился не на своей земле – то есть не с той ориентацией или не с тем цветом кожи, – задерживались властями и находились в ведении специальных органов до тех пор, пока положенное им отечество не сообщало о готовности предоставить замену. Если Гэвину повезет, сейчас где-нибудь в Гейсии восемнадцатилетний натурал так же пакует чемодан в такой же лагерь. Гэвина и ему подобных два десятилетия кормили, обучали и одевали. Слишком большие инвестиции, чтобы списать их за красивые глаза. Если он попытается эмигрировать нелегально, или удрать в Канаду, или удавиться, страна может потерять ценный экспортный товар.
Гэвин размышлял. А нет ли какой подпольной дороги, по которой рожденных в чужом отечестве переправляют к своим? Нельзя ли как-то проскочить мимо официальной очереди? Нет ли какой системы паролей и явок? Может, существуют «койоты», готовые за мзду провести нелегалов через пограничные земли?
Шарм выдвинула верхний ящик комода и рылась в носках. Выбрала две пары темно-синих, три пары черных, одни зеленые без рисунка и шесть пар белых спортивных. Засовывая их в чемодан, сказала:
– Зато тебе не грозит стать инкубатором для производства младенцев какому-нибудь вождю.
А ей, можно подумать, грозит – с такой-то обгорелой на солнце мордой и остриженными волосами… Вот еще одна причина, по которой Гэвин добровольно сдавался в лагерь. Если кандидатуры на обмен не найдется, Гейсия может выплатить за него компенсацию – до полумиллиона толботтов. Родителям деньги сейчас точно пригодятся, даже Шарм должна понимать. Они могли бы купить бизнес, небольшую ферму, семена, скот и все, что нужно, чтобы прокормиться в новой экономике. А иначе их ждет участь всех прочих беловоротничковых бумагомарателей и кодописателей: либо сдохнуть, либо идти крепостными к ближайшему князьку.
Одни рванули штурмовать канадскую границу. Другие уморили себя выхлопными газами в гараже. Но Гэвин считал, что, набравшись терпения, все его семейство может извлечь из ситуации выгоду. Он ассимилируется в Гейсии, а родные получат средства к существованию и свободу.
Сестра полезла под кровать и вытащила его теннисные туфли и лоферы. Рассовала их по пластиковым пакетам из супермаркета и угнездила в чемодане рядом с шортами карго. Шорты эти Гэвин ненавидел. А лежали они на камуфляжных штанах, выбранных сестрой за то, что на них не будет видно пятен. Между ними она впихнула пластиковый контейнер для ланча, в котором лежали бритва, зубная щетка, паста и расческа. А сорочка фирмы «Сэнд», такая прекрасная и непрактичная в своем красно-оранжевом великолепии, осталась на кровати.
Сестра что-то сказала, но слова прошли у Гэвина мимо ушей.
– Я спрашиваю, – терпеливо повторила сестра, – слышал ли ты про Уолтера?
Гэвин в последний раз обводил глазами свою комнату.
– Какого Уолтера?
– Ну этого! Парня Шасты! Из универа!
– Не слышал. А что?
Сестра прикинула, много ли в чемодане осталось места. Достала с верхней полки шкафа толстый шерстяной свитер и легкий хлопковый пуловер. Вслед за ними отправила в чемодан набор простых белых классических трусов, оставив на дне комода те, что от «эндрю кристиан», из микрофибры, стилизованные под спортивную защиту паха и так эффектно открывающие попку…
И опять что-то спросила.
– Чего? – рассеянно отозвался Гэвин.
– Я говорю, скучать по мне будешь? – повторила сестра таким беззаботным тоном, словно он просто уезжал в летний лагерь.
Гэвин утешал себя, что будут у него и шмотки, и все на свете в новом будущем. Еще получше, чем то, что он вынужден бросать. Столько шмоток и столько любви, что он и не вспомнит жалкое содержимое шкафа, купленное на деньги от стрижки лужаек и выгула чужих собак. Где-то там, далеко, его ждет такая любовь, от которой он позабудет и сестру, и родителей.
– Не переживай, может, там хорошо, – сказала Шарм над полным чемоданом.
Видно было, что она сама в это не верит. Гэвин стоял к сестре спиной и смотрел на нее в зеркало над комодом. А Шарм, думая, что он не замечает, потихоньку сунула великолепную красно-оранжевую сорочку под кипу немаркой джинсы и парусины. И закрыла чемодан на молнию.
* * *
Пока экономка накручивала ей волосы на тонкие бигуди, мисс Жозефина сидела, склонившись над раскрытой книгой. На коленях у нее лежал засиженный мухами экземпляр «Унесенных ветром». Мисс Жозефина сканировала глазами диалоги и беззвучно шевелила губами, заучивая манеру речи. Губы нещадно саднили – мисс Жозефина безжалостно натерла их крупной солью. Она терла и терла до тех пор, пока губы не распухли, пока вкус соленых кристалликов не смешался на языке с кровью.
На трюмо перед нею лежала вставная челюсть. Искуственные зубы чуть не светились от перламутрового лака для ногтей, который мисс Жозефина нанесла на них в много слоев. В темноте они и правда будут светиться – для этого она добавила в лак фосфоресцентной краски.
Поднимая глаза от книги, мисс Жозефина восторгалась тем, что видела в зеркале.
Метоксален, которым воспользовался Джон Гриффин при работе над книгой «Черные, как я», возымел свое действие. К его помощи прибегал и репортер Рэй Спрингл, который написал «В земле Джима Кроу». Он принимал метоксален лошадиными дозами, путешествуя по южным штатам в 1948 году. Примеру Спрингла последовала журналистка Грейс Хэлселл, чтобы пожить в черной коже и в 1969 году издать книгу «Сестра души». Пронырливым акулам пера так и хотелось перекраситься в другой цвет и наваять роман о своих сумасбродствах.
Хотя сам фокус придумали не они. До них был Эл Джонсон в 1927-м. Фримен Госден и Чарльз Коррелл в шоу «Амос и Энди» в 1928-м. Джуди Гарленд – сначала в 1938-м в фильме «Поют все», а потом еще в 1941-м вместе с Микки Руни в «Юнцах на Бродвее». А всего-то и требовалось: тридцать миллиграммов метоксалена – и под ультрафиолетовую лампу. Прямо сейчас несколько таких ламп светили на голые руки, ноги, шею и лицо мисс Жозефины с разных углов, а она обливалась потом, сидя в кружевной сорочке.
Среди побочных эффектов отмечались головные боли, бессонница, головокружение и тошнота, но это не помешало обворожительной Аве Гарднер сыграть прекрасную черную сирену в «Плавучем театре». Риск заработать почечную недостаточность не смутил Джинн Крейн, когда она играла черную красавицу в нашумевшем в 1949-м году фильме «Пинки». В 1965-м Лоуренс Оливье рискнул здоровьем ради роли Отелло. Метоксален разрушал печень и мог вызвать рак. Голова у мисс Жозефины уже кружилась, перед глазами все плыло… малая цена за чудодейственное средство, которое превращает белых людей в черных.
Арабелле этого, конечно, было не понять. Глупая женщина сердито дергала волосы мисс Жозефины, прядь за прядью накручивая их на бигуди. Почти всю голову уже покрывали маленькие узелки. Потом Арабелла нанесет состав для перманентной завивки и немного его передержит. Потом смоет ананасовым соком – у него как раз нужная кислотность. А потом, когда бигуди будут вынуты, пережженные, завитые мелким бесом волосы встопорщатся вокруг головы мисс Жозефины, как пух на одуванчике. Как черный пух, потому что были, конечно же, предварительно окрашены.
Арабелла дергала волосы, голова кружилась, распухшие губы щипало, дурнота то и дело подкатывала к горлу, пот лился градом, однако мисс Жозефина не обращала внимания на неудобства. Она старательно заучивала старинный говор в изложении Маргаретт Митчелл. Отражение в зеркале мало походило на Джулию Лаверн, очаровательную героиню Авы Гарднер. Но эта новая личность могла спасти мисс Жозефину из нынешнего шаткого положения.
* * *
Как велел Толботт Рейнольдс, Уолтер выложил список в интернет.
Сначала идея вызвала у народа смех. Нет, вернее, поначалу сайт просто игнорировали, ржать стали уже потом. Когда в списке накопились миллионы фамилий, некоторые сочли, что их чувства оскорблены, и потребовали его удаления. В основном это были те, кто набрал наибольшее число голосов – политики, академики, медийные персоны. Сидя в подвале заброшенного дома, Уолтер каждый час обновлял страницу и дивился тому, какая на ней движуха.
– А как мы это будем монетизировать? – спросил он Толботта.
Он все думал о домах и прочих деталях своей схемы по завоеванию Шасты.
Толботт, как и прежде привязанный к стулу, осовелый от потери крови, ответил ему:
– Пиши имена.
Из бесчисленных воспаленных порезов на его теле сочились гной и сукровица. Под его диктовку Уолтер торопливо нацарапал в блокноте десяток имен.
– Найдешь их в Сети, – распорядился Толботт, – и с каждым выйдешь на связь.
Уолтер изучил список.
– И это меня обогатит? – спросил он.
Новый папаша поднял на него лихорадочные стеклянные глаза.
– А что, задача – тебя обогатить?
Уолтер обновил страницу, пряча раздражение. Он уже подумывал и самого Толботта добавить в список. Теперь ему еще кого-то искать, с кем-то связываться… Ему все чаще казалось, что Толботт над ним просто издевается.
– Если хочешь обогатиться, скупай искусственные меха, – посоветовал старик.
– Искусственные? – переспросил Уолтер.
Толботт кивнул с самым серьезным видом.
– Да. И еще дерматин. Куртки из полиуретана.
И уронив голову, заснул.
Уолтер нажал «Обновить страницу».
* * *
За ними в небольшом отдалении следовал музыкант, негромко играя на блок-флейте. Павлины веерами разворачивали великолепные хвосты, когда Шаста под ручку с Чарли чинно проходили мимо. Со всех сторон раскинулись сады в сложных узорах из фенхеля и спаржи.
Вновь поднял уродливую голову вопрос слюней. В прежние времена, до Ссудного дня, парни настойчиво склоняли ее к минету. Чарли же добивался, чтобы она дала образец слюны для генетического тестирования. Не первую неделю Шаста сопротивлялась, утихомиривая его напор оральным сексом и фетиш-костюмами медсестричек, однако сегодня номер не прошел. Чарли умолк и надулся.
Они прогуливались в тишине, нарушаемой лишь трелями блок-флейты и павлиньими криками, Шаста вдруг сообразила, как решить проблему. У нее была однокурсница в колледже. Вольная душа, о которой Шаста совсем позабыла. Звали ее Шарм.
На предмете «Мифы древнего мира» доктор Бролли рассказывал им про греческого героя Беллерофонта, который укротил крылатого коня Пегаса, победил женские легионы амазонок и убил чудовищную Химеру. По его просьбе Посейдон намеревался затопить город Ксанф, но на защиту своего дома вышли женщины. Хитроумные дамы встретили океанские волны, задрав юбки и выставив на обозрение ничем не прикрытые гениталии.
В древнем мире – от Европы до Индонезии вплоть до Южной Америки – люди верили, что всякое зло можно отпугнуть, продемонстрировав манду. Вплоть до XVIII века над вратами замков и церквей каменщики помещали изображение сидящей на корточках женщины с широко разведенными ногами и раскрытой вульвой. Считалось, что сам сатана не вынесет этого зрелища.
Вот и от города Ксанфа волны, устрашившись, отхлынули. Сдался океан, и посрамлен был Беллерофонт. Даже Пегас скинул его со спины и ускакал прочь.
Гуляя под ручку с Чарли, Шаста вспоминала случай, произошедший вскоре после этого учебного модуля. Как выяснилось, Шарм впитала урок всем сердцем. В те предшествовавшие Ссудному дню недели, когда обреченные лишние парни из «молодежного бугра» донимали ее своими ухаживаниями, она опробовала полученные теоретические знания на практике. Как-то в пустом коридоре она попала в окружение к команде лакросса. Агрессивные пацаны с гоготом тыкали ее механическими карандашами и пытались сосать ей грудь через свитер. И Шарм, вместо того чтобы пожалеть бедных будущих солдатиков, с готовностью применила обретенную мудрость древних.
Она просто задрала коротенькую юбчонку, в которой танцевала в группе поддержки, и продемонстрировала полное отсутствие под ней белья. Пацаны оказались непосредственно перед предметом. Вульвой. Взращенные на безволосых, окультуренных женских гениталиях из порнографии, они в страхе отшатнулись. Как армия волосатых вагин напугала крылатого жеребца, так и лохмы между ног у Шарм привели ее кавалеров в ужас. Видя, что они перестали ржать, Шарм сжала ягодицы, выпячивая пах, как смертоносный меч. В панике горе-ухажеры посыпались задами на пол, торопливо вскарабкались на ноги и кинулись прочь, а Шарм гналась за ними вслед с задранной юбкой, атаковала их соломенными космами своего лобка. Для пущего эффекта Шарм ревела и рычала, словно то, что было у нее между ног, вдруг обрело собственный страшный голос.
Шаста наблюдала за сокрушительным поражением команды лакросса. И за тем, как они начинали свои игрища, и за тем, как их обратила в бегство необузданная вагина. Она видела, как Шарм гонит всю команду до самой парковки. Когда же перепуганные мальчики скрылись из виду, она осмелилась подойти к их храброй преследовательнице. Шарм, одернув юбку, чинно поправляла розовый блеск на губах, но и тогда по ней сразу было видно, что этой девице сам черт не брат. Как олицетворение северной красоты, расчесывала она длинные белокурые волосы и смотрела на мир льдистыми голубыми глазами. Хотя была она тогда юная и хрупкая, уже чувствовался намек на то, в какую тертую старую стерву превратится в будущем. Риска она не побоится.
В тот раз Шаста подошла к ней и спросила: «Как дела?» Общим у них был только предмет доктора Бролли, в остальном они не пересекались. Бледные щеки на эталонном нордическом лице вспыхнули, будто от внезапного смущения. Возможно, Шарм сама понимала, что ее атака была слишком жестким ответом на глупую выходку безобидных придурков. «П-привет, Шаста», – запинаясь, ответила она.
Шаста не подала виду, что была свидетельницей ее над ними расправы. Она спросила: «Ты случайно Уолтера не видела?»
Арийская бомба в замешательстве склонила набок маленькую головку, так что водопад гладких золотых волос перелился на одно плечо. «Какого Уолтера?»
Здесь, в королевских садах у Шасты был доступ к сердцу и ушам одного из самых влиятельных вождей Государства Арийского. У нее найдется, что предложить Шарм. Если они договорятся, то обе могут выиграть в задуманной ею многоходовке.
А Чарли продолжал молчать – просто шел и оглядывал свои владения. От садов вниз по склону уходили бескрайние плодородные земли. Трудились вдалеке опаленные солнцем полевые жены, горбясь над молодыми побегами, виднелись широкие полосы сочной редиски, густые заросли кустовой фасоли, курчавые усы огурцов… Жизнь в тяжких трудах полевой жены была всяко лучше смерти от голода в Портленде, но далека от статуса главной жены, к которому стремилась Шаста. Несмотря на свое низкое положение, многие полевые жены были заметно беременны – разумеется, от Чарли. В его королевстве, как и у других вождей, был один властитель и толпы женщин-работниц. То есть как в муравейнике или пчелином улье, только наоборот.
Высоко в небе строем пролетели большие самолеты, переправляющие оставшихся представителей азиатского генотипа на историческую родину. Шаста глядела им вслед с тоской. Государство Арийское предпочло хаггис свинине по-сычуански.
Чарли безмолвствовал, созерцая свои земли. Внизу раскинулись умопомрачительные поля кольраби. Сложным узором были высажены карликовые подсолнухи, медленно поворачивающие головки за теплом лучей. Шаста тоже глядела, пытаясь разделить восхищение изобильными посевами. И вдруг она догадалась, что не случайно жених привел ее именно сюда, именно в это время.
Следуя за солнцем, катящимся по голубому арийскому небу, каждый цветок поворачивал свою яркую оранжевую головку. Подобно болельщикам на стадионе, выполняющим идеальную «волну», ряды подсолнухов обращались лицом к Шасте. Глядя поверх голов тысяч беременных работниц, поверх спеющих кругляшков кольраби, она догадалась о тайне этого момента.
Взгляд на Чарли подтвердил ее подозрения. Слабая улыбка играла на его губах.
Там, куда он смотрел, оранжевым на травянисто-зеленом фоне начали формироваться слова.
Растянувшееся на милю, читаемое только с этой, самой высокой точки, на поле сияло выписанное оранжевыми подсолнухами послание:
ЧАРЛИ (сердечко) ШАСТА
* * *
Кожа появившегося на пороге существа блестела. От него исходили почти видимые волны запаха – словно разом лопнули все кокосы на свете. Словно разлилась цистерна пина-колады. Жесткие волосы существа были кое-как стянуты полосками ткани, на которые пошла разорванная красная бандана, но масляная черная копна все равно топорщилась во все стороны и напирала на уши такой буйной массой, что они торчали по бокам головы, как две ручки кувшина.
Шаркая босыми ногами, существо странной походкой направилось к Джамалу. Оно шло вприпрыжку, то и дело подскакивая и выделывая странные коленца.
На существе были изодранные штаны, подпоясанные пеньковой веревкой. Слишком длинные, они мели пол бахромой из торчащих по нижнему краю ниток. Подскоками продвигаясь вперед, существо взмахивало руками в драных рукавах и вытягивало морщинистую индюшачью шею, таращась на картины и обстановку. В такой манере оно пересекло персидский ковер, пуча глаза и причмокивая красными опухшими губами.
– Божечка! – вскричало оно. – А мисс Жазафина-то никогда не пускать моя на порог!
Руки странное видение держало растопыренными, как у пугала, из драных рукавов торчали кисти в грязных белых перчатках, и пальцы непрерывно исполняли собственный танец. Шагая, существо высоко и быстро задирало колени, будто пробиралось через лужу клея. Лицо его было искажено какой-то судорогой, так что глаза выкатывались из орбит. Сверкая белками и зубами, существо постоянно дергало и трясло головой. И босые ступни, и тощие мослы в дырах штанов, и лицо, и шея – все было угольно-черное.
Арабелла наблюдала за происходящим, стоя в дверях.
– Мистер Джамал, – произнесла она без всякого выражения, – это Барнабас.
И тяжело вздохнула.
– Моя рад твоя знакомиться, маса Джамал! – пропело существо, шлепая опухшими, растресканными губами. – Много-много рад! Эта мисс Жазафина, она дьявол!
Джамал вопросительно глянул на Арабеллу, но та лишь пожала плечами, рассматривая свои ногти.
Черное, как нефть, чернее того, что называют иссиня-черным, существо по имени Барнабас резво выплясывало по гостиной.
– Злой мисс Жазафина моя запереть в чердак и никогда не пускать из оттуда!
Джамал с трудом понимал слова – дикция у существа была как у Баттерфлай Маккуин, а грамматика, как у «гончих Бафута». Он посмотрел на Арабеллу в надежде на малейшую подсказку, однако та спрятала лицо в ладонях, борясь с беззвучным смехом. Кем бы ни была эта чокнутая карикатура, смеялись тут не над ним.
– Барнабас, а скажи мне, куда делась мисс Жозефина?
Существо с вытаращенными глазами прижало ладони к морщинистым щекам, изображая, что дрожит от ужаса.
– Она давно-давно уехать свой белый страна!
Арабелла кашлянула, а когда Джамал посмотрел на нее, сказала:
– Барнабас жил у вас на чердаке, сэр. Он и есть источник звуков, которые вы слышали по ночам.
Джамал воспринял эту новость не без облегчения. В последнее время его донимал страх. Мысль о том, что он исполнил свое жизненное предназначение слишком рано. Он так молод, но уже достиг вершины, внеся свой вклад в Ссудный день и обретя пожизненный высокий титул принца Блэктопии. Награды и почести, роскошный особняк и богатство – все это было приятно, однако, как гласила книга Толботта:
Вещные блага – лишь остаточный след истинного свершения.
Ссудный день не смирил его дух. Напротив, поселил в душе жажду новых, еще бо́льших подвигов. Джамал намеревался вести жизнь, измеряемую не вещами, но поступками.
Как наказывал Толботт:
Лишь за то, что невозможно, имеет смысл браться.
Никто из мужчин, вершивших Ссудный день, будь он принц или вождь, не принимал ничего на веру. Джамалу было доподлинно известно, что легендарная мисс Жозефина отказа от собственности не подписывала, границу Государства Арийского не пересекала и в программе компенсации утраченного имущества не регистрировалась. Джамал пристально изучал вертлявую и неразборчиво тараторящую образину. Если закрыть глаза на пережженные волосы, лохмотья и невозможную обсидиановую черноту кожи…
Реакция экономки лишь подтверждала его подозрения – Арабелла смотрела на ужимки существа, качая головой и еле сдерживая смех.
По элегантной гостиной плясала сухонькая, явно выжившая из ума старушка. Раздувая щеки, она насвистывала джигу и отбивала ритм ладонью по тощему бедру.
Пляска и свист оборвались, когда существо заметило большую картину на стене. Вытаращив глаза, оно замерло перед портретом офицера Конфедерации – с роскошными бакенбардами, золотыми галунами и саблей. В голубых глазах офицера по-прежнему горела решимость.
Существо цыкнуло зубом. Склонило набок голову и, сощурив глаза в театральной злобе, ткнуло в сторону картины грязным пальцем.
– Маса Джамал? Можно моя твоя спросить? А твоя будешь поджигать все нехорошие картины?
Джамал встретился удивленным взглядом с Арабеллой – как и он, экономка вскинула бровь.
– А что, Барнабас, ты бы хотел, чтобы я их сжег?
Существо обнажило неестественно белые зубы и тихо зарычало на картину. Поскольку офицер на рычание никак не отреагировал, существо, осмелев, погрозило ему кулаком.
– Моя сидеть здесь дом как в тюрьма вся моя жись на земля! – заявило оно.
Джамал напряг мозги, пытаясь расшифровать услышанное. Каждая фраза требовала больших усилий.
Злобно щурясь, существо по имени Барнабас оглядывало гостиную, изучало хрустальную люстру, великолепный рояль из розового дерева, мраморный камин и бархатную обивку. Каждую кисточку на портьерах, каждую латунную плевательницу. Надув цыплячью грудь, тощими ручонками оно изобразило несколько боксерских ударов по воздуху.
– Если твоя спросить Барнабас, моя бы все пожечь с много-много большая радость!
Джамал смотрел на бедняжку с жалостью.
– Скажи мне, Барнабас, а ты не думал, что мисс Жозефина держала тебя под замком именно из-за твоего враждебного настроя?
Возможно, пришла пора отойти от готовых лекал политической идеологии Толботта и попробовать решить эту проблему своим умом? Кто знает, какие озарения снизойдут на него в процессе?
Барнабас сжал кулаки и принял боксерскую стойку.
– А твоя заодно с мисс Жазе?!
Джамал не особо смутился происходящим. Этот Барнабас был, пожалуй, неизбежным результатом культурной апроприации. Сначала виггеры, потом фильм «Десять», в котором блондинка Бо Дерек носит афрокосички, потом белые «трастафарианцы» с дредами. А теперь вот в виггеры подалась старушка. Очередная химически перекрашенная особа неопределенной расы. Неумелая попытка примазаться к черным – так трансвестит пытается выдать себя за женщину, гротескно имитируя женственность.
Джамал вспомнил Доротею Уилсон, персонаж любимой в народе серии романов Армистеда Мопина «Городские истории». Некая дама по имени Дороти, потерпев фиаско в модельной карьере, сменила цвет кожи и тут же стала суперуспешной «черной» моделью. И кульминационным моментом этой книги, обожаемой миллионами, было то, что у Дороти находят серповидноклеточную анемию! А еще был выпуск комиксов про Супермена под названием «Любопытная чернота»: отважная журналистка Лоис Лэйн с помощью некого устройства на сутки превращается в хорошенькую чернокожую девушку. Как бы белые это ни называли – журналистским расследованием или охотой за сенсацией, – для них смена цвета кожи всегда была игрой и весельем.
А может, налицо клиническая патология? Типа раздвоения личности или дисморфофобии? Гарвардский профессор психологии Джеремайя Брокъярд приписывает такую «расовую дисморфофобию» и правозащитнице Рейчел Долезал, выдававшей себя за черную, и Майклу Джексону, с большим риском для здоровья пытавшемуся сделаться белым. Как Зигмунд Фрейд построил карьеру на истории болезни Доры, так и Джамал может запросто использовать помешательство белой старушки для собственной славы.
Вот она, вот она, следующая задача, которую поставила перед ним жизнь!
Джамал поднял руку, подзывая экономку.
– Арабелла, будьте любезны, подайте нам с Барнабасом два самых холодных мятных джулепа.
Является ли Барнабас одной из нескольких личностей этой старушки или же у нее, ставшей чужой на родной земле, возникла некая форма стокгольмского синдрома, Джамал пока не смел даже гадать. Пока не смел. Хотя уже чувствовал, что перед ним персонаж и приключение, достойные книжных страниц. Существо по имени Барнабас могло дать начало его собственному произведению. Он, черный мужчина, напишет книгу о белой женщине, выдающей себя за черного мужчину. Заглавие напрашивалось само собой. «Черная, как ты» – так назовет он свой литературный шедевр.
* * *
В течение года после Ссудного дня восстановилась популяция бобров. И не только они благоденствовали теперь, когда общество людей охватила смута и в человеческих городах свирепствовал голод. Снова расплодились рыси, кролики, выдры, норки, мускусные крысы, волки. Дожди очистили природу от промышленных токсинов, и в ней опять появились высшие хищники – медведи и пантеры.
Меха, меха были везде и всюду. Натуральные стали делом обычным, а вот искусственные – признаком высокого статуса. Нефтехимические производства остановились, так что «экомех» и «экокожа» быстро превратились в редкость. Прежние снашивались, а новых взять было неоткуда.
Для шика вождь Чарли завел себе одежды из исчезающей акриловой зебры и леопарда цвета шартрез. Он рассекал по коридорам дворца в высоких ботфортах из редкого дерматина. Камердинеры облачали его в неоново-зеленые соболя и перчатки из полиуретана, отделанные дорогим пластиковым жемчугом. В таком наряде вождь поднялся на стену дворца Мэрихилл, чтобы с зубцов полюбоваться богатством своей вотчины – широкими полями сахарной свеклы и сладкого лука, причудливыми узорами грядок с желудевыми тыквами и эндивием.
Шаста пока отправилась восвояси, но уже скоро она станет его супругой. Их сочетают браком, как только генетический тест подтвердит ее расовую принадлежность.
Чарли отвернулся от прекрасного вида за парапетом, и его взгляд упал на лакея в ливрее. Лакей привел молодую женщину, домашнюю жену из числа посудомоек или горничных. Не красавица, зато бедра крепкие. Чарли одобрительно кивнул, и лакей увел девушку со стены. Она будет ждать господина в его покоях.
* * *
Подвал стала наполнять вонь – кровь, как и молоко, скисает. Черные мухи кружили над Уолтером и Толботтом, и казалось, что миазмы над неубранными объедками испускают тихий гул.
Уолтер и к собственной гигиене всегда относился без фанатизма, а на потребности пленника и вовсе забил болт. Еда при комнатной температуре портилась, но ее гнилостный запах был неразличим в общей атмосфере подвала. Толботт начал дристать, каждый раз внезапно – и как ракета. Дыша зловонием, Уолтер постоянно убеждал себя, что ради богатства люди терпели и не такое. Пока все задачи, которые ставил перед ним Толботт, были испытаниями. Проверкой на вшивость. Ничего, скоро возникнет цельная картина.
Список был опубликован и заработал, Уолтер ожидал следующую задачу. Новый папаша опять клевал носом и проснулся с булькающим всхрюком, когда никнущая голова его упала совсем низко.
– Гипнагогический спазм… – пробормотал он.
И принялся объяснять. Между сном и бодрствованием люди проходят гипнагогическую фазу. Именно в это время страдающие лунатизмом ходят во сне. Нередко бывают галлюцинации – человек видит, будто спотыкается о какое-то препятствие или выпадает из окна, и за этим следует внезапное пробуждение. Эксперты-сомнологи называют такое гипнагогическим спазмом. Антропологи считают, что это защитная реакция наших древних предков, чтобы не падать во сне с деревьев или чтобы спящие детеныши не срывались с шерсти матери. Именно поэтому людям нередко снится, как они летят с высоты – страх сидит в нас с тех незапамятных времен, когда мы и людьми-то не были.
Толботт объяснил это Уолтеру в подробностях, с трудом сглатывая и облизывая пересохшие губы. Тщедушный дирижабль его грудной клетки вздымался и опадал, как мехи. На подбородке застыли потеки блевотины, комки порченой еды запутались в седых волосах на груди.
– Про «Анонимных наркоманов» слышал? – спросил он, имея в виду программу поддержки зависимых. – Иди к ним.
Так начался следующий этап подготовки. Уолтер получил задание выбрать одного-двух человек, которым нечего терять. На встрече группы ему надлежало выслушать истории людей, поставивших на жизни крест. Молодых людей. Злых. Растерявших иллюзии. Толботт требовал рекрутов, которые обратились к наркотикам, не найдя приложения своей силе и уму в окружающем мире. Это будут те, кто ненавидит наркотики, но еще больше ненавидит общество, оставившее их без средств достижения желанного статуса.
Уолтер должен был посулить им миллион долларов. Пообещать каждого сделать принцем в прекрасном новом мире. Уолтеру это совсем не понравилось, учитывая, что сам он не получил пока ни цента. Чтобы потянуть время, он взял миску с холодным дошираком, на всякий случай понюхал и осторожно приблизился к связанному Толботту. С помощью грязной липкой ложки он закидывал лапшу в разинутый старческий рот.
Путаясь языком в лапше, Толботт рассказывал ему о движении за гражданские права в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого века. Прежде бесправные и притесненные шли за утешением в церкви и там выясняли, что в несчастьях своих не одиноки. Объединившись, они стали целой армией, и церковные лидеры, поняв это, повели их на борьбу.
– Эти группы… – вещал Толботт, плюясь и брызгаясь дошираком, – всякие группы взаимопомощи – это новые церкви.
Традиционные места отправления культа превратились в театры лицемерия, куда ходят для демонстрации статуса и добродетелей. Истинная церковь – это место, куда люди могут прийти и без страха рассказать о худших своих сторонах. Не для бахвальства, не из гордыни. Те, кто посещает такие группы, приходят туда побежденными. Они приходят рассказать о своем поражении. О своих грехах и слабостях. Признавая ответственность за свои поступки, они чувствуют единство с товарищами по несчастью. Именно там, в неожиданных «церквях», в компании торчков и алкашей Уолтеру предстояло выбрать офицеров для своей армии. Толботт заявлял, что величайшие армии мира были уничтожены бездельем. Там, куда Уолтер пойдет искать соратников, люди без возможностей, без внешнего врага и битвы уже становятся жертвами самих себя.
Уолтер в точности передаст слова Толботта тем, кого изберет сам. А дальше эти люди распространят весть среди узкого круга товарищей. Если стоящий перед ним, квир, Уолтер должен прельстить его картинами Гейсии, где он будет жить среди себе подобных. Если белый – расписать ему будущие горизонты Государства Арийского. Если черный – обрисовать прекрасную Блэктопию, в которой ему больше не придется никому кланяться.
– Приведи мне этих жертв выученной беспомощности! – распорядился Толботт, срываясь на крик. – Эти плоды вывода производства в страны третьего мира! Отдай мне этих несчастных, замученных социокультурным многообразием…
Тут он снова начал впадать в беспамятство. Едва слышно он прошелестел:
– Я подпишу счет. Мир твой.
И вновь провалился в беспокойный сон, полный доисторических кошмаров.
* * *
Как гласила книга Толботта, прежде соединенные штаты всегда были общностью общностей. Гражданские округа. Профсоюзы. Ассоциации. Студенческие союзы и клубы по интересам. После Ссудного дня самодостаточные выжили. Те же, которые зависели от щедрот прекративших существование властей или от внимания исчезнувших средств массовой информации, – такие братства и альянсы ушли в историю.
Та же участь постигла и семьи.
Братья договорились вместе пообедать. Встретиться в последний раз. Над небольшой придорожной закусочной высился такой огромный билборд, что на его фоне закусочная казалась еще меньше. «ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЛЫХ».
Братья устроились за столиком у окна. Сидя напротив друг друга, они будто смотрелись в зеркало: тот же нос, те же глаза, та же прическа, та же поза с локтями на столе, и только выражение лица у каждого свое.
Подошла официантка в длинном клетчатом платье и фартуке с рюшечками. Держа наготове ручку и блокнот, она перечисляла:
– Суп дня сегодня похлебка из белой фасоли «Паула Дин»… Рекомендация шефа – филе белой рыбы «Ричард Спенсер» и салат с белым куриным мясом «Лестер Мэддокс».
– Дайте нам минутку подумать, – попросил ее один из братьев, Эстебан.
– Нам для начала две «Паулы Дин», – распорядился второй, Хавьер.
Когда официантка ушла, Эстебан вытащил из кармана пиджака горсть небольших белых пакетиков. Прямоугольные подушечки размером со старорежимную кредитку, запаянные с четырех сторон. Эстебан бросил их на середину пустого стола. На пакетиках черным маркером были написаны буквы – на некоторых «м», на некоторых «с».
– Тебе нет нужды эмигрировать, – сказал Эстебан, кивая на пакетики.
Хавьер повертел пакетик в руке, сжимая между большим и указательным пальцем.
– С черного рынка, – пояснил Эстебан. – «С» значит «слюна». Надо выжать в рот перед анализом на определение расы. Проверенный в лаборатории чистейший европейский материал.
– А это? – Хавьер потыкал пальцем в пакетик с буквой «м».
– Моча. Тоже могут потребовать. Смотри не перепутай.
Хавьер поворошил горку пакетов. Следы маркера расплывались на их глянцевой поверхности.
– Корявый у тебя почерк, – заметил он.
Эстебан пропустил это мимо ушей.
– Оставайся у белых, тогда мы сможем видеться. У меня дипломатический паспорт. Как член первого клана я могу свободно посещать все три страны.
Хавьер вертел пакетики. Из музыкального автомата звучала веселенькая кантри-музыка. По шоссе за окнами в обе стороны ехали машины и запряженные лошадьми повозки, а дальше, по ту сторону дороги тянулись до самого горизонта поля краснокочанной капусты. Глядя туда, Хавьер спросил:
– Зачем ты это сделал?
Эстебан смотрел на пакетики со стершимися буквами. Отодвинул один в сторонку.
– Вот тут точно была «м». А вот тут «с». Наверное. – Он вдруг вскинул взгляд. – Ты не представляешь. – Он повысил голос. – Нации основывают на религии. На политических системах. То есть на абстрактных идеях. Почему бы не основать государство на такой реальной, фундаментальной характеристике, как сексуальная ориентация?
Хавьер воздержался от комментариев. На сиденье рядом с ним стояла спортивная сумка.
– Я помочь хотел, – объяснял ему Эстебан. – Создать такое пространство, где люди будут среди своих, в безопасности. Не чувствуя себя изгоями.
Зазвонил мобильник. Звук шел из пиджака Эстебана. Он выудил аппарат, глянул на экран и констатировал:
– Увы, дела государственные требуют моего внимания.
Он вылез из-за стола и ушел говорить на парковку.
– Две похлебки из белой фасоли? – уточнила официантка, поставив миски на стол перед Хавьером.
Она посмотрела в окно – туда, где Эстебан вел важный разговор по телефону. Горячие миски с дымящейся жижей разметали груду пакетиков, окончательно их перепутав.
– А я не могла его по телику видеть? – спросила официантка, не сводя глаз с Эстебана. – Какая-то важная птица? – И заговорщицки понизила голос: – Вы не в курсе, он женат?
Хавьер смотрел, как его брат раздает кому-то приказы – неслышные из-за стекла и шума дороги. Официантка никак не спешила уйти. Тогда он повернулся к ней и с нежной улыбкой спросил:
– А вы не в курсе, что музыка у вас отстойная?
И когда она еще только поворачивалась, чтобы в гневе удалиться, Хавьер уже рвал пакетики, не разбирая, «м» на них или «с». Оставшись с похлебкой Эстебана один на один, он увлеченно замешивал в нее проверенный в лаборатории чистейший европейский материал.
* * *
По Толботту, группы взаимопомощи стали церквями нынешней эры, и располагались они в помещениях старых церквей. Как христиане когда-то реквизировали храмы, посвященные Аполлону и Диане, так и местное отделение «Анонимных наркоманов», например, собиралось в подвале церкви Святого Стефана. В надземном святилище, омытом разноцветными лучами солнца сквозь витражи, собирались благочестивые граждане, дружно пели в нужной тональности и в унисон читали молитвы.
Под землей, у них под ногами происходила совсем другая история. В вечерних сумерках, вдали от солнечного света собиралась иная паства. Разобщенная, одинокая. Не ладан там курился, а сигаретный дым. И причащались не вином и хлебом, а черным кофе и пончиками.
Лишь мысли о Шасте заставили Уолтера спуститься в церковный подвал. О том, какое у нее будет лицо, когда она узнает о его богатстве. Толботт учил его, что от креативной визуализации толку немного. Когда деятели сетевого маркетинга вроде «Амвей» хотят мотивировать новых рекрутов, они предлагают им сходить на тест-драйв «мазерати» и «альфа-ромео». Примериться к покупке самолета «гольфстрим». Позвонить в агентство недвижимости и записаться на просмотр особняков с частными пляжами. Мотивирует то, что реально. Запах кожаных сидений, шум океанских волн под окнами спальни. Люди должны видеть перед собой мелкие детали желанного будущего. Размытые цели типа крепкого здоровья или абстрактного богатства не поддаются измерению. Не абстракции волнуют душу, а тепло и мягкость собольего манто. Сияние бриллиантового ожерелья. Шелковистая соленая вода в чистейшем бассейне. Вот это мотивирует. Уолтер представил Шасту на яхте в заливе Сан-Франциско и добавил к картинке аромат ее лосьона для загара и вкус «шато-лафит» урожая тысяча восемьсот шестьдесят девятого года. Настанет день, когда они будут есть белужью икру и смеяться над злоключениями, которые он пережил на пути к богатству. Над тем, как кромсал Толботта бритвой, как вешал в интернет список, как вламывался на собрание к «Анонимным наркоманам» в поисках адептов. Укрепив дух этими деталями, Уолтер шагнул в подземное царство новой религии.
Прихожане уже собирались, волоча за собой свои грехи. Имена у них были типа Клем, Ти-Джей или Кейшан. Кто в костюме, кто в трениках, кто в грязном рабочем комбезе, мужчины и женщины – все ждали очереди сделать чистосердечное признание. Здесь, вдали от мирской суеты, каждый признавался в самых страшных прегрешениях и обещал стать лучше.
Кому предложить власть над миром? Кого склонить к радикальным взглядам? Уолтер слушал, как сидит без работы бывший военный и как бариста упорно учится в школе парикмахерского искусства. Толботт предупредил его: белые будут винить во всех бедах черных, геи – натуралов, черные – белых. И все они сойдутся в ненависти к евреям.
Уолтер дождался, пока все изольют душу. Толботт выдал ему точную фразу и заставил повторять, пока Уолтер не выучил ее наизусть. Когда настала его очередь и головы повернулись к нему, Уолтер встал и произнес свою реплику:
– Меня зовут Уолтер. – Он представил, как пахнет испуг Шасты, когда она будет целоваться с ним в «чужом», а на самом деле его собственном особняке. – Я пришел завербовать мужчин, которые меньше чем через год будут править миром.
Комната загудела – люди презрительно хмыкали и усмехались.
– Желающие стать отцами-основателями нового правящего класса могут обращаться, я на улице.
С этими словами Уолтер вышел в дверь, поднялся по лестнице и стал ждать, кто пойдет за ним. Какой герой или какой дурак – или вообще никто.
* * *
Шарм листала кулинарную книгу, пропуская рецепты и зависая на глянцевых цветных фотографиях уолдорфского салата и лобстера в сливочном соусе велюте. Она пожирала взглядом каннеллони, чувствуя, как увлажняется рот. Глазела на лоснящиеся стебли маринованной капустки бок-чой, пока чуть не захлебывалась слюнями. Тогда она стремглав бежала на кухню.
Мать стояла над плитой и помешивала что-то в сковороде. На голове у нее была намотана конструкция из белой тряпки, скрывающая волосы, часть лба и шею. Как в Средние века! И сама белее белого, губы растянулись на лице тонкими розовыми ниточками.
Гэвину повезло. Шасте тоже. А вот Шарм и ее родителям нет ходу из этого царства вооруженных мужланов, заигравшихся в реконструкцию патриархата. То есть Государства Арийского.
Мать подняла глаза от стряпни.
– Привет, милая.
– Не рановато для пива? – удивилась Шарм.
Мать прихлебывала из высокой кружки янтарный напиток.
– Это моча, – пояснила мать, предлагая ей кружку. – Чудодейственное средство от рака. Черные открыли.
Шарм промычала что-то нечленораздельное – во рту было слишком много слюней, чтобы говорить. Из холодильника она вытащила пластиковую бутыль. На плотно закрытой крышке была приклеена бумажка с надписью от руки: «Не трогать! Слюни Шарм!» Быстро сняв крышку, Шарм выпустила в расползшуюся по дну густую мутную жижу слизистый комок.
Мать поморщилась.
– Какая мерзость! – И отпила глоток целебной мочи.
Шарм сплюнула все досуха и вернула на место крышку.
– Научный проект, – сказала она матери. – Собака Павлова.
Мать глянула обеспокоенно.
– Ты же знаешь, что наука теперь под запретом.
Она имела в виду мораторий. На карьерах в науке и технике поставили жирный крест. Белым людям теперь полагалось не учиться, а плодиться.
Шарм попыталась сменить тему:
– Я все про Гэвина думаю…
– Про кого? – якобы не понимая, переспросила мать.
– Про сына твоего.
Шарм налила себе из-под крана полный стакан – восполнить запас воды в организме. Мать вздохнула так глубоко, как позволяла шнуровка корсажа.
– Нет у меня сына. А у тебя нет брата.
Шарм пила воду и оценивала это заявление. Мать бессердечна или просто реалистка? Эмиграция Гэвина не оставит шансов ни на какие с ним контакты. Ее родители могут рассчитывать максимум на суррогатного сына или дочь, высланных из не менее разочарованной гомосексуальной семьи. Оскорбленных родителей вокруг стало полным-полно. Объявление ребенком в назначенный срок о нежелательной ориентации многие расценивали как предательство. Шарм знала: мама с папой просили Гэвина подождать с объявлением. В законе была формулировка «до достижения возраста девятнадцати лет», то есть они могли бы прожить вместе еще два года. Но Гэвин сразу помчался заполнять бумаги. Он знал, чего хочет. Свалить.
Опустив глаза, мать помешивала шкворчащую стряпню на сковородке.
– Не вздумай в таком виде идти на улицу, – сказала она.
Под «таким видом» мать имела в виду непокрытую голову. Женщинам в Государстве Арийском запрещалось демонстрировать на людях волосы. Еще одна мера по укреплению этнического единства. Французский чепец? Можете с тем же успехом прогуляться с голой грудью.
Шарм понимала, что одного ребенка мама с папой уже лишились. Не хватало только, чтобы и единственная дочь загремела в трудовой лагерь для еретичек.
Сегодня звонили из универа, грозили исключением. Мать взяла щепотку соли из мисочки и осыпала ею содержимое сковородки.
– Говорят, ты опять бегала за мальчишками без трусов. – Она принялась обеими руками крутить над сковородой перечную мельничку. – Молодые люди пережили большой шок.
Шарм улыбнулась, вспоминая. Она сорвала тренировку университетской баскетбольной команды. Выскочила из женской раздевалки без штанов. Толпа альфа-самцов ретировалась с поля через пожарные выходы. Сработала тревожная сигнализация. В общем, как всегда с феминистскими акциями, вышло очень круто.
– Как думаешь, у Гэвина будут проблемы? – спросила она, снова начиная копить слюну.
Гейсия только начала программу производства человеческих ресурсов на экспорт. Может пройти семнадцать лет, прежде чем сидящим сейчас в белых и черных лагерях геям подберется замена. Тогда Гэвину на момент эмиграции будут все тридцать пять. Конечно, доброхоты могут скинуться и собрать полмиллиона толботтов на его выкуп. Но учитывая сколько с ним сидит такого же народу, шансы невелики.
И все это время обе гетеросексуальные нации продолжат штамповать своих младенцев, среди которых тоже родятся квиры, и через семнадцать лет в лагерях с Гэвином будет маяться ожиданием целая армия. По части производства новых людей у натуралов все-таки всегда была фора.
Пока новые государства занимались в основном скромным обменом белых на черных и черных на белых, но все знали, что настоящее золотое дно сулит обмен «ошибочно рожденных». То есть тех, чья сексуальная ориентация не соответствует государственной.
К тому же Гейсия может поставить в приоритет более молодых, чтобы еще одно поколение не губило юные годы на нарах. Если так, Гэвин рискует на всю жизнь зависнуть в чистилище меж двух государств.
О таких страхах Гэвин не говорил, но и о великих своих надеждах в письмах больше не изливался. Раньше-то во всех красках расписывал, как найдет любовь, обустроит жилье, будет работать и с песней строить новое отечество. А теперь все больше жалуется на то, как плохо в лагере кормят. День за днем жиденький овощной суп и рагу, в котором больше крахмала, чем мяса. Шарм знала – как старики начинают говорить о болезнях, так для заключенных главной темой становится еда.
Обо всем этом Шарм молчала. Она просто стояла и смотрела, как мать готовит. На сковородке шипели и плевались жиром куски курятины. В кастрюльке булькала картошка. В духовке поспевали булочки, сливочное масло уже стояло на кухонном столе, размягчаясь при комнатной температуре.
Мать щелкнула выключателем. Загудела вытяжка, и чад от курицы над плитой закружился спиралью, исчезая.
Запах мяса и жира, нагретого пармезана на булочках в духовке вызвал у Шарм слюноотделение. Еще минутку так подышать – и можно снова нырять в холодильник. Брат сидит в заложниках, и чем быстрее Шарм наплюет полную бутыль, тем быстрее сможет его освободить.
* * *
Звонил не Клем и не Кейшан, но говорил незнакомец так же бесцеремонно, экономя слова: «Толботта дай». В этих случаях Уолтер навешивал телефон на покрытую струпьями голову Толботта с помощью клипсы на ухо и выходил. По требованию Толботта он начал собирать все, что напечатал под диктовку, в единый связный документ. Зачем, Уолтер не имел ни малейшего понятия. То ли Толботт задумал книгу, то ли устраивал очередную проверку на вшивость. И по сравнению с первой, когда он заставил искать у себя под кожей несуществующее устройство слежения, печатать и компоновать его бредни было легче легкого.
Уолтеру удалось завербовать двух торчков, слезающих с героина. Может, они взяли у Толботта бабло и пошли гулять, а может, и правда понесли свет его мудрости в свои наркоманские массы от океана до океана. Не исключено, что всю страну накрыла сеть из таких же отчаявшихся. Не исключено и то, что никакой сети нет, а оба торчка уже сдохли.
Самого Толботта как будто никто не хватился. На новостных сайтах о его исчезновении не всплыло ни слова. Опять же Уолтер терялся в догадках. Возможно, они под колпаком у полиции, а журналистам приказано молчать в интересах расследования. Возможно, федералы уже оцепили район и готовятся вынести дверь. Гоня неприятные мысли, Уолтер печатал.
Толботт криком призвал его к себе.
– Сейчас ты должен сделать звонок, о котором мы говорили, – заявил старик.
Уолтер стал сковыривать телефон. Засохшая кровь и сукровица так прочно прилепились к его уху, что в специальной клипсе не было особой необходимости. Уолтер еле оторвал аппарат, растягивая обвислую стариковскую кожу, и на черном пластике остались пятна крови и сдернутые коросты. Столько, что Уолтеру пришлось оттирать их антибактериальной салфеткой. А Толботт тем временем выдавал ценные указания.
– Код не забудь, – брюзжал он. – И чтоб на все про все не больше минуты.
Уолтер понюхал телефон. Пахло только спиртом. Он набрал номер, который выучил наизусть.
Ответил женский голос:
– Приемная сенатора Дэниэлса.
Глядя на старика, Уолтер начал:
– Я звоню по поручению…
Женский голос перебил его:
– Сенатор на совещании.
– Десять секунд! – рявкнул Толботт.
Уолтер пальнул из тяжелой артиллерии:
– Код четыре-це-двести-сорок-семь-эм.
После секунды тишины в трубке зазвучал мужской бас.
– Слушаю.
– Хорошо. – Уолтер зорко следил за реакцией Толботта, ища признаки одобрения или недовольства. – Вы должны принять Национальную военную резолюцию.
Толботт объяснял ему ситуацию с «молодежным бугром». Как избыток молодых парней угрожает дестабилизировать ситуацию в ряде стран, включая их собственную. Упомянутая резолюция отправит миллион новобранцев на войну против таких же армий противников. Уолтер вообще заметил, что, как только в мире происходит какая-то лажа, разгребать последствия отправляют его ровесников.
– Мистер Толботт желает, чтобы военные действия начались не позднее чем открывается сезон охоты на куропатку.
– Слушаюсь, – ответил сенатор.
Он тяжело дышал, словно только что со всех ног бежал к телефону.
Толботт объяснил Уолтеру, что война решит проблему избытка рабочей силы. Мировые рынки начнут бурно расти. И в конце этого длинного, длинного тоннеля для Уолтера наконец забрезжило обещание больших денег.
– Мистер Толботт передает наилучшие пожелания вашей жене.
– Спасибо, – выдохнул сенатор.
– Тридцать секунд! – крикнул Толботт.
Опьяненный властью, Уолтер не мог не подразнить:
– Как здоровье у миссис?
– Хорошо, сэр, – запинаясь, ответили в трубке.
Сэр. Так к Уолтеру еще никто не обращался. Оказалось, что это удивительно приятно. Пока решимость не покинула его, Уолтер назвал полное имя Шасты и велел сенатору снять с нее все штрафы за нарушение правил парковки.
– Минута! – ревел Толботт. – Прерывай связь!
Но Уолтер издевательски спросил напоследок:
– Сенатор, когда у нас начинается сезон охоты на куропатку?
Тот дрожащим голосом уточнил:
– В этом году?
– Да, в этом году.
– На следующий день после начала третьей мировой, – отрапортовал сенатор и добавил: – Сэр!
Только тогда под яростным взглядом Толботта Уолтер, никуда не торопясь, нажал на отбой и тем самым завершил испытание.
* * *
Много вечеров Джамал провел за стаканами мятного джулепа, пытаясь разобраться в Барнабасе. Сквозь иссиня-черную личину он различал в существе следы постаревшей красавицы, которая превратила волосы в пережженную паклю и каждый день спускалась с чердака, карикатурно пританцовывая и строя рожи, достойные ярмарочного театра. Временами существо прекращало кривляться и предавалось воспоминаниям о людях на старинных портретах. Под воздействием джина забыв о прыжках и гримасах, оно рассказывало Джамалу о кладбище на дальней стороне поля. Вместе они прогуливались меж надгробий, больших и малых, и у Барнабаса о каждом находилась история.
Джамал внимательно рассматривал могильные камни. Как-то он спросил, не похоронена ли здесь женщина по имени Белинда.
– Тут не, – ответило существо по имени Барнабас. – На рапском она.
И привело Джамала в лесок за оградой фамильного кладбища. Там, среди ржавых крестов и просевших могил обнаружилась маленькая плита из белого мрамора. Мрамор раскрошился от дождя и ветра, лишь имя Белинда можно было кое-как на нем разобрать.
А порой существо сидело в молчании, и Джамал зачитывал ему избранные места из книги Толботта. Священную проповедь нового, нового мира. Уютно потрескивал огонь в камине, и звучали бессмертные строки:
Мы любим сражения, но не любим побед. Мы бросаем вызов власти, мы идем на конфликт, мы противостоим сильным мира не ради того, чтобы одержать верх, но потому что знаем – триумф влечет за собой лишь новые сражения. Мы любим сражаться, ведь того неодолимого врага, который в итоге победит нас, мы наречем Богом и возрадуемся.
От Джамала не укрылось, что существо испытывает самую искреннюю радость, когда напивается и валяет дурака. Когда во все горло распевает древные спиричуэлс. Со смесью жалости и восхищения Джамал смотрел на то, как пыжится… местный призрак. Дух старого, покинутого прежними хозяевами особняка. Вспомнились строки из Толботта:
Самым желанным белому качеством черных является умение испытывать счастье. Черные способны на такое благодушие, которому белые могут лишь завидовать. За века невзгод и гонений черные развили в себе необыкновенную энергию и внутреннюю негу. Чтобы омрачить эту радость, белые придумали культивацию обид и отравили ими черных, вытеснив счастье из их душ ненавистью и гневом. Сея страх и неуверенность, белые лишили черных величайшей их силы. Научив черных лелеять обиды, белые наслали на них такое горе, которое не сравнится с белым несчастьем.
Скорчившись в алом бархатном кресле, существо моргало изумленными глазами.
– Маса Джамал? – прелепетало оно, чмокнув распухшими губами. – Там в эта книга правда так написано?
Джамал кивнул.
Существо закивало в ответ.
– А оно так и есть.
Задумавшись, оно устремило взгляд старческих глаз на собственное отражение в начищенном серебре стакана для джулепа.
– Маса Джамал? А твоя веришь в Господь?
Джамал был слегка пьян.
– Я люблю божьи творения, но не отдаю ему должной благодарности. – Наклонившись к Барнабасу, он заговорщицким тоном признался: – Если бы я возносил молитвы хотя бы в два раза реже, чем лазаю в интернет за порнухой, я был бы спасен. Это уж точно. Эх, любил бы я Господа хоть вполовину меньше, чем его прекрасных, прекрасных созданий!..
Барнабас его как будто понял. И от этого на миг сквозь гремлинскую личину проступила истинная сущность – белая старушка, которая очень боится выпасть из родового гнезда. А Джамал вдруг осознал свой самый большой страх – что этот маленький сгорбленный гном исчезнет. Вновь превратится в перепуганную старую даму. Которая покинет дом и унесет с собой всю его историю. И тогда Джамал не просто не напишет книгу – он останется один в своем замке, король без шута. Дурацкий скачущий клоун – единственная живая душа, с которой Джамалу хорошо и спокойно.
Он и не предполагал, что власть сопряжена с таким одиночеством.
С Барнабасом Джамал мог делиться любыми секретами, ведь все равно шуту никто не поверит. Он сам испугался того, насколько ему стало необходимо общество чокнутого конфидента. Неизвестно еще, кто из них от кого сильнее зависит…
Стряхивая эти мысли, король поднял запотевший графин и долил шуту стакан до краев.
* * *
Лакомая плеснула себе еще вина. Безопасней выглядеть пьяной. На женщину слегка навеселе полиция едва ли обратит внимание, зато наверняка заинтересуется той, которая озирается воровато, идет слишком быстро, держится в тени и прячет лицо от света фар. Она глянула в зеркало над раковиной, проверяя макияж, стерла с передних зубов помаду. В дверь постучали.
– Секунду, – отозвалась Лакомая.
Бокал стоял на краю ванны рядом с пустой бутылкой. Духи, чуть не забыла. Капельку под колени, по капельке за уши. Залпом допив вино, она сунула руку под короткую юбку, стянула трусы и отправила в бельевую корзину. Последний взгляд в зеркало придал ей уверенности. Как и вино.
Открывая дверь, Лакомая объявила:
– Все, свободно.
В коридоре ждал Феликс. Сын Бэлль от мужа, хотя в Гейсии их союз не имел силы. Муж Лакомой, Джентри, играл в семью с Джарвисом, а Лакомая вступила в брак с Бэлль. Они устроили пышную свадьбу в великолепном соборе Харви Милка, выпустили в небо сотни белых голубей, а на банкете играл оркестр из двадцати четырех инструментов. Феликс нес кольца. Он знал, что на кону.
Малейшая оплошность для любого из них может закончиться арестом и депортацией. Сперва посадят в лагерь, а оттуда переправят в Блэктопию или Государство Арийское в соответствии с цветом кожи, и любимых они больше не увидят никогда. Мало им было волнений друг за друга, теперь приходилось волноваться и за Феликса. Парень был не как все. В том возрасте, когда ему полагалось кривляться под винтажные хиты Глории Гейнор, он провожал глазами всех встречных женщин. Мальчиками же он вообще не интересовался, и это тревожило мать. До возраста объявления ориентации оставалось несколько недель, и Бэлль умоляла его не выставлять свою гетеросексуальность напоказ. Из-за такого безрассудного поведения ему в лучшем случае могут набить морду. В худшем – депортировать. И тогда родителей он больше не увидит.
Феликс посмотрел на Лакомую с плотоядной ухмылкой.
– Зачетно выглядишь, – похвалил он, окидывая взглядом ее гладкие ноги, короткую юбку, шпильки и декольте, которое Лакомая подчеркнула капелькой хайлайтера. – На свиданку?
Он красноречиво посмотрел на пустую бутылку в одной ее руке, на пустой бокал в другой и на длинные, покрытые лаком ногти.
Да, Лакомая собралась на свиданку. И не с его матерью, законной своей супругой Бэлль. Она протиснулась мимо дерзкого пацана, буркнув:
– А ты на сеанс группового онанизма не опоздаешь?
– Не, – ответил он без тени улыбки. – Нас сегодня в школе уже досуха откачали.
Лакомая понимала, что он не стебется, однако не горела желанием узнавать подробности. Она взяла сумочку со столика в прихожей, еще раз взглянула на заказное письмо, доставленное во второй половине дня. Засунув его поглубже в недра сумки, она пошла на выход со словами:
– Матери передай, чтоб не ждала.
Феликс был не дурак и расклад понимал прекрасно.
– Смотри только не попадись! – крикнул он ей вслед.
Лакомая вышла на темную улицу. От теплого дыхания ночного воздуха она расслабилась и зашагала, качая бедрами, отчего узкая юбка поползла еще выше. Встречные мужеподобные бабы одобрительно свистели ей вслед и рычали комплименты. Подрулила патрульная машина и медленно поехала рядом в темпе ее шага. Лакомая не рискнула обернуться – страх в ее глазах будет очевиден, и никакое принятое вино не спасет. Она слышала из машины бубнеж рации. Еще сто лет спустя вспыхнула мигалка. Лакомая поняла, что это конец. Наверное, они ждали возле дома в засаде. Они давно за ней следят и все знают. Теперь депортация…
Скользнули синие и красные лучи, взвыла сирена. Завизжали по асфальту шины – патруль резко повернул и умчался на вызов.
На ватных ногах Лакомая ввалилась в темную дверь без вывески. Это был притон. На входе лежали стопки старых, переживших Ссудный день эротических журналов. Замусоленные, с растрепанными краями, все они содержали в себе сцены здоровой однополой любви. Названия на обложках были в духе «Сафо, охотница до устриц» и «Пиратский налет на греческие щечки». Конечно, дряхлые раритеты эпохи диско никого на самом деле не интересовали. Они служили декорацией. Фасадом.
На табурете за стойкой сидел худой, как скелет, угрюмый тип. Лакомая дала ему несколько толботтов и получила горсть металлических жетонов.
За журнальными стеллажами, за пыльными витринами с ассортиментом розовых дилдо и видеокассет формата VHS под занавесочкой скрывалась неприметная дверь, ведущая в полутемный коридор. Лакомая нырнула туда и остановилась, давая глазам привыкнуть к темноте. Запах секса бил в нос. Пол под ногами был липкий, каждый шаг сопровождался шорохом отдираемой подошвы. В украшенное мишурным блеском подполье Гейсии приходили мутные личности, чтобы предаваться извращенным страстям.
Перед глазами Лакомой зависли во мраке розовые числа – четыре, семь, тринадцать… Она не сразу сообразила, что они нарисованы флуоресцентной краской на дверях. Через равные промежутки в стенах коридора были двери, старые и облезлые. Лакомая заметила движение. К ней шагнул какой-то блондин и промурлыкал: «Привет, шоколадка…» Зубы у него светились.
Вдоль стен стояли люди. Мужчины и женщины, черные в поиске белых, белые в поиске черных… Все натуралы. Нарушители закона. Некоторые демонстрировали товар лицом, надеясь привлечь желающих.
Лакомая подняла руку, показывая блондину обручальное кольцо.
Он в ответ показал ей свое.
Лакомая пошла дальше сквозь толпу в душном коридоре. Обшарпанные двери вели в крошечные кабинки, в которых на выцветших экранах крутили гомосексуальную порнографию. Лакомая остановилась перед дверью с флуоресцентным номером «десять». Под ногами у нее валялись использованные кондомы. Они – или что-то еще похуже – гроздью налипли ей на подошвы, угрожая стащить туфли с босых ступней. У двери стоял замызганный пластиковый стул, и Лакомая даже хотела присесть, чтобы немного успокоиться, но вспомнила, что под юбкой ничего нет, и не рискнула. Она вошла в номер и захлопнула за собой дверь.
На экране два сногсшибательных красавца, черный и белый, совокуплялись в романтичной обстановке у роскошного бассейна. В Гейсии к межрасовым связям относились спокойно. Не терпели только межполовых.
В номер постучали, и Лакомая услышала шепот:
– Привет, шоколадка…
Рассердившись, она приоткрыла дверь, готовая обругать настырного ухажера.
Однако в темном коридоре увидела не того красивого блондина, который к ней подкатывал, а знакомую сутулую фигуру. Лакомая схватила гостя за бледное запястье и втащила в кабинку. Захлопнув дверь, она подперла ее изнутри замызганным стулом. Все поверхности в этом заведении были грязные и липкие. Лакомая обтерла пальцы об юбку, уже ища губами губы мужа, прижимаясь к нему бедрами. Его руки скользили по ее телу, пробирались между ног, где было так влажно…
Колени у Лакомой сами подкосились, и она присела на корточки. Стянула штаны с его узких бедер, приникла горячими губами к разрезу на его трусах – ни на секунду не задумавшись о том, что совершает одно из самых омерзительных по местным меркам преступлений.
Реакция должна была быть моментальной, но член мужа так и остался вялым и поникшим. Работая над ним рукой, Лакомая освободила рот и спросила:
– Джентри? Котик, что случилось?
Он тихо застонал.
– Я не могу.
Лакомая плюнула на ладонь и продолжила старания.
– Почему, котик?
Лицо мужа над ней было неразличимо.
– На работе сегодня был дополнительный забор спермы.
Он имел в виду регулярное донорство, обязательное для всех мужчин Гейсии. То есть официально добровольное, а на самом деле нет. Всем здоровым гражданам надлежало поддерживать национальную репродуктивную программу, чтобы как можно скорее обменять застрявших в Государстве Арийском и в Блэктопии товарищей. Сперму собирали так часто, что мужского секса для удовольствия в стране практически не стало. Те же, кто сдавал меньше назначенной квоты или чья сперма была нежизнеспособна, в обязательном порядке платили взносы в фонд выкупа новых граждан. От успеха этой программы зависело выживание страны.
До Лакомой дошел весь ужас ситуации. За сегодня ее муж сдал донорский материал трижды. Он был выжат до капли.
Мужчины Гейсии жертвовали стране свою сперму, но и женщины не оставались в стороне от исполнения гражданского долга. Испокон веков мужчин призывали на военную службу. Они отдавали родине тело и жизнь. Теперь в Гейсии настала очередь женщин принять на себя почетную обязанность. Признанные годными должны были явиться на обязательное оплодотворение. Сданная донорами сперма даст начало новой жизни, которую выносят у себя под сердцем женщины. Призыву подлежали все женщины детородного возраста, и лишь серьезные проблемы со здоровьем могли дать отвод от материнской службы.
Дети производились в основном на экспорт, но до возраста объявления ориентации их полагалось растить.
Вот почему Лакомая побрила ноги. Вот почему она, рискуя свободой, явилась на ночь глядя в этот чудовищный притон. Сидя на корточках, она ласкала Джентри обеими руками и ртом – но все безуспешно. Как бы ни хотела она забеременеть его ребенком, сегодня этому не случиться. Отчаявшись, она прекратила старания. Из брошенной на грязный пол сумки достала то самое заказное письмо и протянула мужу. Власти знали, что оно получено – письмо доставили под расписку.
Муж вытащил письмо из конверта и попытался прочесть в свете телеэкрана, на котором в снятом до Ссудного дня фильме два красавца радостно кончали друг другу на лицо. Лакомая смотрела на это расточительство с нескрываемой досадой.
Джентри поднял растерянный взгляд.
– Что это?
Лакомая постаралась придать голосу стоическую веселость.
– Повестка. Меня призвали.
– В смысле? – переспросил Джентри, склонив голову набок.
Он не понял, потому что не хотел понимать.
В повестке было сказано: в течение двадцати четырех часов явиться на искусственное оплодотворение. Преодолев путь до гнезда разврата под бдительным оком полиции, Лакомая лишь теперь в полной мере ощутила действие коктейля из вина и страха. Если она сейчас не приведет мужа в состояние готовности к любви, завтра же внутри нее окажется чужой ребенок. Безудержно рыдая, она размазала слезы по ладоням и удвоила отчаянные усилия над вялым членом своего любимого.
* * *
Выглядели они как два пластиковых пакетика, в каких раньше во всяких фастфудных заведениях выдавали кетчуп. И только температура намекала на их истинную суть. Это и еще следы вскрытия, заметные при ближайшем рассмотрении. Каждый из них был надрезан с краю и склеен. Склеен, а не запаян.
Но это было заметить сложно, гораздо легче – то, что они холодные, как лед. Шасте пришлось осторожно разминать их в кулаках, пока толстый пластик и острые края не стали податливей.
Большой приемный зал вождя Чарли был полон гостей. Мели начищенный до блеска паркет шелковые подолы, алым сверкали рубины и гранаты в свете солнца, льющемся из высоких окон. Туда-сюда по залу бродили трубадуры, перебирая струны лютен в попытках разрядить атмосферу тягостного ожидания. Ко дворцу ждали королевского лекаря, и все коротали время в приглушенных беседах. Вокруг Шасты фланировали солидные жены других вождей – главные жены, украшенные трофейными ценностями из музеев. Самые красивые девушки, избранные поселениями и отправленные в качестве невест властителям.
Вождь Брэч остановил свой выбор на нищей юной деве из руин Сиэтла. И лишь Чарли, у которого было много и полевых, и домашних жен, все еще не взял себе главную.
Семенящий мимо лакей остановился перед Шастой с подносом жареных павлиньих язычков. Шаста сделала вид, что отправляет изысканную закуску в рот. На самом деле она ловко сбросила язычок в декольте, а вместо него сунула за щеку один из двух своих пакетиков. Когда другой лакей, кланяясь, поднес ей перепелиные яйца по-шотландски на подогретом серебряном блюде, Шаста повторила маневр со вторым пакетиком из-под кетчупа, спрятав его за другой щекой.
Из-за корсажа теперь вкусно пахло, и Шасте приходилось изо всех сил сглатывать слюну. Ее рот во время испытания должен быть сухой. Естественная, собственная слюна ее выдаст. Если в лаборатории, куда она подала образец, не ошиблись, субсахарский компонент в ее генах составляет пятьдесят четыре процента. А значит, у нее нет права жить в Государстве Арийском, где уж там метить в главные жены вождя.
За щеками она прятала упакованную слюну совершенно белой девушки. Они заключили договор. Шарм помогает Шасте стать главной женой вождя Чарли, а Шаста, приобретя королевское влияние, помогает Шарм в неком пока не названном предприятии.
Пробили большие часы. Настало время испытания. Умолкли менестрели, и все собравшиеся знатные особы преклонили колено. Сенешаль, щелкнув каблуками, объявил: «Верховный лекарь королевства!»
Лекарь входил во внутренний круг приближенных Чарли. Звали его Терренс; когда-то прикованного к постели инвалида подняли на ноги пламенные слова Толботта. Он шествовал через зал навстречу Шасте, сияя шитым золотом изумрудным табардом. Жемчужины размером с арахис украшали его гульфик. Судя по мягчайшей, как масло, фактуре, его ботфорты были скроены из лучшего полиуретана.
Каким бы ни был прежде угнетавший его недуг, ныне лекарь излучал здоровье. Не дойдя до Шасты, он остановился в середине зала и склонил голову, произнося краткую молитву:
– О великий Один, отец Тора и Бальдра. – Он возвысил голос, и слова взлетели под расписной потолок. – Один, владетель копья Гунгнира и супруг премудрой Фригг…
Шаста старалась не думать о вкусном павлиньем язычке, угнездившемся меж ее грудей. И не сжимать зубы, чтобы случайно не повредить пакеты и не наполнить рот бесценной арийской слюной раньше времени.
– О великий Один, взываем к твоей милости. Пусть эта дева будет чиста и достойна стать нам королевой.
Завершив молитву, лекарь ловко выудил из споррана некий круглый предмет, вспыхнувший в затененном зале, как нимб.
О лекаре шла молва, что он настоящий кудесник. Что прочитав книгу Толботта, вскочил он со смертного одра и посвятил все новообретенные силы служению Государству Арийскому.
Держа сияющий предмет перед собой, он приблизился к Шасте. Это оказалась стерильная чашка Петри.
Шаста сжала губы и бесшумно проглотила слюну, оставляя рот сухим. Яйцо по-шотландски за корсажем провалилось глубже, она чувствовала его тепло напряженными мышцами пресса. Надо уберечь пакетики до начала ритуала.
Медицине Терренс никогда не учился, но все знали, что вкусовые рецепторы у него необыкновенно чувствительные и он способен в точности определить расовую принадлежность по небольшому образцу биологического материала. Он преклонил перед Шастой колени, протягивая чашку Петри, как подношение.
Момент настал. Шаста склонила лицо над пустым сосудом. Коренными зубами она прокусила пакеты один за другим, и на язык ей с двух сторон полились холодные чужие слюни. Вкус другой девчонки наполнил ее рот, окутал скользкой влажностью язык. Слюни оказались холоднее, чем Шаста предполагала, и было их неожиданно много. Они так и брызнули сквозь ее моляры, и вместо маленького, аккуратненького плевка в чашку Петри хлынул бурный поток.
Чашка наполнилась до самых краев. Терренс поднял глаза в изумлении, руки его дрогнули под ее весом.
Густо покраснев, Шаста утерла рот широким рукавом шелкового платья, надеясь, что жест вышел достаточно грациозным. Она подавила в себе желание отвернуться и сплюнуть на паркет. Плевать и плевать до тех пор, пока вкус слюнных желез Шарм не уйдет изо рта.
Потрясенные гости круглыми глазами следили за происходящим. Лекарь оценивающе смотрел на переполненный сосуд.
– Миледи, цветовой оттенок ваших соков обещает прекрасный результат, – выдохнул он в благоговении.
Слюни в его руках блестели. Легкий серебряный отлив подчеркивал их красоту. Пена по краям имела голубоватый оттенок, настолько были они чисты. Шаста тихо молилась, чтобы в чашке не было примеси ее собственных.
Два опустевших пакетика все еще лежали за ее щеками. Пользуясь тем, что всеобщее внимание приковано к лекарю, Шаста потихоньку нырнула рукой в декольте, выудила заныканное яйцо и павлиний язычок и быстренько съела, избавляясь от вкуса Шарм во рту.
Королевский лекарь поднял сосуд к носу, вдохнул аромат слизистой влаги. Приложился к краю, наклонил. Омыл образцом рот, гоняя по небу и от щеки к щеке. И чмокнул губами.
* * *
Женщин Доусону чинить пока не приходилось. Как любой мужчина, он видал баб, которых укатали крутые горки. Покореженных настолько, что уже и не вернешь в первоначальную форму. Годящихся только в утиль. Он видал женщин, когда-то прекрасных, но в таком запущенном состоянии, что ходовая часть проржавела насквозь и не подлежала восстановлению. Видал и экземпляры с большим пробегом, которые подверглись агрессивному тюнингу. Были загрунтованы бешеным количеством праймеров и филлеров. Покрашены в такие цвета, которые не пропустила бы никакая дорожная инспекция.
Он поглядывал на бабу, которую подобрал на дороге. Предельно измотанная, она тут же уснула, привалившись к двери кабины. Словно куча грязного тряпья. Профессорша обречена, с такой-то ценой за ее голову.
Дорога тянулась среди полей, раскинувшихся до горизонта. Баклажанные грядки были как рябь на поверхности океана. Над ними гнули спины женщины в платках. Беженки из городов. Города – штука нежизнеспособная. Никогда они не были жизнеспособными, несмотря на всякое баловство вроде ветряных энергетических установок и переработки вторсырья. Они быстро превратились в рассадники людоедства, и уцелевшие везунчики разбежались из них искать пристанища в сельской местности. Проситься крепостными в поместья к вождям. Никто не замышлял контрреволюцию в чистом поле, сидя на сухарях и надеясь захватить власть с помощью гениального, жгущего сердца стихотворения.
У бандитов в арсенале были пушки, поэтому они и встали во главе страны рабов и крепостных. Уличная братва и реднеки теперь царили над простолюдинами Государства Арийского. У прекраснодушных прогрессивных пацифистов в арсенале были юристы по защите прав человека и Апелляционный суд девятого округа. Они прожили свою жизнь на бумаге. Если кто из них и уцелел, то в качестве благодарной прислуги.
Профессорша заерзала, просыпаясь. Доусон пытался вспомнить ее имя из списка. Одиннадцать тысяч голосов, можно продать за неплохие деньги… Вот только имя постоянно вылетало из головы. Оно было какое-то вымышленное.
Она открыла глаза и уставилась на него. Доусон не стал отводить взгляд, дождался, пока она сама отвернется.
Не было в этом никакой необходимости. Дороги пустые. Он может ее накормить. Молока ей купить. Хороший большой стакан жирного молока. Обручальное кольцо глубоко в кармане джинсов подсказывало, что все будет не так просто.
Она сползла на сиденье совсем низко. Пряталась.
– Куда вы меня везете?
– В Канаду, – соврал Доусон.
В небе на горизонте завис большой знак, вывеска придорожной закусочной, что медленно вращалась на высоком шесте. Крупные черные буквы на белом фоне: «ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЛЫХ».
– Как насчет позавтракать? – предложил Доусон.
Она смахнула слезы.
– Я просто хочу туда, где мне можно будет вздохнуть спокойно.
Доусон знал, что вздохнуть спокойно ей не светит никогда.
Своего положения в прежнем обществе она достигла, повторяя мнения людей, которые повторяли мнения других людей, а те тоже повторяли чужие мнения. На взгляд Доусона, это ничем не отличалось от гнилых нынешних кланов – или он ни хрена не понимает в жизни. История спасла эту женщину. Как Скарлетт О’Хара, она получила от судьбы шанс пройти испытание и своими действиями развить в себе новую силу.
От слез лицо у нее стало немного почище. Да и вообще с виду она была ничего, если отмыть. Она смотрела на распаханные поля за окном с ошарашенным видом лунатика, очнувшегося неизвестно где после долгого сна о всемирном равенстве и гарантированных правах человека.
Доусон вспомнил. Рамантой ее звать.
Он поставил фуру на засыпанной гравием парковке и повел докторшу в закусочную. Столики там были красные, а на окнах колыхались клетчатые занавески с рюшечками. Фартук у подошедшей официантки был из такой же ткани.
– Что вам принести, ребятки?
Изо рта у нее пахло сладкой фруктовой жвачкой.
– А чего хорошее? – спросил Доусон.
В углу стоял музыкальный автомат, негромко играло кантри.
– Буррито с белой фасолью «Булл Коннор», – ответила официантка, вертя карандаш, и обернулась на окошко кухни. – И еще макаронная запеканка с белым чеддером «Ева Браун», очень рекомендую.
Раманта слишком явно прятала лицо за меню.
– Мне ку-клукс-бургер, – глухо попросила она.
Официантка смерила ее взглядом, лопнула пузырь из жвачки и уточнила:
– «Великий маг» или «великий дракон»?
– Она спрашивает, большой или маленький, – перевел Доусон.
– Лапочка, а документик мне можно? – потребовала официантка.
Раманта выглянула из-за меню.
– Что, простите? Мне тридцать пять лет.
– Я за нее поручусь, – вмешался Доусон.
Официатку интересовал не возраст, а этническая принадлежность, но сло́ва вождя первого клана было достаточно, чтобы вопрос решился.
Доусон заказал кофе. Профессорша – сэндвич «Скинхед» с белым куриным мясом, сэндвич с яичным салатом «Вудро Вильсон» и ванильное мороженое «Лотроп Стоддард» с маршмеллоу и взбитыми сливками.
Прихлебывая кофе, Доусон наблюдал за тем, как она расправляется с горой еды. Если от нее и воняло, он, видимо, привык к запаху. Ручонки тоненькие, небось и отбиваться-то не умет. Завалить такую на землю – раз плюнуть. Доусон очень живо себе это представлял.
Обручальное кольцо врезалось в бедро сквозь ткань подкладки.
Доусон попросил счет, говоря себе, что после заката он ни в коем случае не будет насиловать эту полумертвую бабу. Еще не хватало. Ни за что, ни при каких обстоятельствах он ее не отымеет, не свернет ей тощую шейку, не отрежет ухо и не продаст, чтобы купить швейную машинку с ножной педалью, о которой его старушка уже больше года вздыхает.
* * *
Величественной была их свадьба и пышной, какой не видали еще в юном Государстве Арийском. Все вожди прибыли поздравить молодых, щеголяя роскошью самоцветов и акриловых мехов, а жены их – выпирающими круглыми животами. Щедр и обилен был свадебный пир, и чествовали друг друга знатные особы, поднимая за здравие кубки благотворной мочи. Все сиятельные супруги арийских вождей выразили Шасте наилучшие свои пожелания. Когда же поднялись молодожены на стену дворца и махали тысячам ликующих подданных, в небесах прямо над ними строем прошли широкофюзеляжные самолеты.
И сказал Чарли, глядя на них: «То направляются в Израиль последние евреи. Хорошее предзнаменование. Ну, возрадуемся!»
Молодые объехали свои земли в открытой свадебной карете, отлитой из чистого серебра. Запряжена была карета целым стадом маленьких белых овечек, которые из последних сил волокли за собой тяжеленную конструкцию.
Целые бараны вращались на вертелах над жаркими углями больших костров. Разливались в воздухе благоухание жареного мяса и пороховой дух от праздничных фейерверков. Рекой тек мед, и трещали корсажи под веселое пение флейт.
В первую минуту наедине с молодой женой заключил ее Чарли в крепкие объятья. Со скромным достоинством признался он Шасте, что мужское достоинство его скромно размером и не имеет выдающихся измерений и выносливости, приписываемой черным и геям. Просто честный работящий белый член. Возможно, он не принесет Шасте великого удовлетворения, но оплодотворять ее станет со всем усердием. Чарли будет уестествлять ее без устали, ибо она – его супруга. Он станет уестествлять ее, когда будет на то его желание, без оглядки – день на дворе или ночь, и болит ли у нее голова. Он станет уестествлять ее во всех позах, какие подскажет ему фантазия, а также во всяких костюмах. Иногда она будет изображать сексуальную стюардессу или миссис Халлидей, которая была его учительницей во втором классе, а иногда он будет ее связывать и уестествлять в таком виде, ибо главный закон Государства Арийского гласит: «Прогресс подождет». По мудрому учению Толботта миллионы мужчин погибли ради создания и защиты этих земель. Они отдали жизнь, умирая в невероятных мучениях, и теперь женщины должны посвятить себя сохранению нации. Бомбы и мины могли разорвать их на визжащие ошметки, мог выжечь им легкие горчичный газ, однако история сложилась иначе. Будущие поколения вознесут им хвалу за продолжение белого рода.
Он славил ее – ту, что хранит судьбу Государства Арийского у себя между ног.
Все еще одетая в торжественное убранство, Шаста кротко попросилась в туалет. Чарли поцеловал ее в щеку и наказал не мешкать. Им еще предстояло разрезать огромный торт и сплясать традиционный свадебный бранль.
Покрытая белой фатой, Шаста приступила к следующей фазе плана.
Фокус с полученной от Шарм слюной удался. Теперь молодая королева могла свободно перемещаться по дворцу, и ни один страж не осмелился бы преградить ей дорогу. Быстрыми шагами припустила она в кабинет вождя и там включила допотопный компьютер. Ума вождь был невеликого, так что она быстро обошла его немудрящую защиту. Пароль был довольно странный: «mom&dadRIP». Аппарат зажужжал, мигая лампочками. По экрану побежали списком имена тех, кто жив, и тех, кто убит. Тех, кто переселился, и тех, кто остался, а также кто у кого ныне в подданстве. Но среди многих имен не нашла она имени своего возлюбленного.
Ибо Шаста любила лишь одного мужчину, и мужчиной этим был не Чарли.
Под гром фейерверков в темнеющем небе вызвала она функцию поиска и ввела в строку имя его: Уолтер Бэйнс.
* * *
Там, в Прежние Времена… в мире, который вы знаете… Уолтер шептал на ухо спящему Толботту: листал перед ним фотки Шасты на телефоне и тихонько рассказывал о ее мудрости и талантах. О красоте ее, о силе и грации. Старик клевал носом и храпел, а Уолтер подносил ему к носу розовую ушную затычку, чтобы он обязательно вдохнул ее пряный запах.
* * *
Не блеснуть Джамал просто не мог. Дни и вечера он проводил в компании существа по имени Барнабас в антикварной роскоши гостиной. Существо расхваливало подвиги мужчин со старинных портретов, хвастало их героизмом и достижениями на ученом поприще. В его речах барабанной дробью повторялась одна и та же мысль: прежде была золотая эра, теперь же – прозябание в трясине пороков и неудач.
Как-то Джамал вызвал экономку и попросил одеть Барнабаса на выход. Нет-нет, не будет никакого стресса, просто увеселительная прогулка в ближайший город – полюбоваться изменениями, которые произошли там после основания Блэктопии.
Арабелла глядела на него с неодобрением.
– Вы отдаете себе отчет, что эта бедная душа много лет носа не совала за ворота?
– Тем более самое время, – заверил ее Джамал.
У Барнабаса эта идея, по всей видимости, тоже восторга не вызвала. Существо никак не могло выйти за порог, постоянно возникали какие-то проблемы – то штаны сползают, то ботинки жмут.
Для начала Джамал продемонстрировал свою гордость – левитатор. В основу работы устройства были заложены те же электродуховные принципы, что использовались в космических пирамидах. Технология позволяла создавать не только большие летательные аппараты, но и личные транспортные средства – мини-платформы, которые передвигались по воздуху с невероятной скоростью. Да, белые заявляли, что ковер-самолет – это сказки, потому что так и не смогли сделать ничего подобного. Они же считали черных отсталыми, потому что те не изобрели колесо.
Слушая Джамала, существо по имени Барнабас несмело забралось на платформу.
Жителям Африканского континента не требовались колеса, потому что они могли летать. Они не нуждались в письменности, потому что передавали знания посредством техники когнитивной амальгамации. Все эти знания были спрятаны, когда в Африку явились европейские захватчики.
Существо по имени Барнабас цеплялось за край платформы так, что метафорически побелели костяшки. Встречный поток воздуха трепал его буйную шевелюру. Платформа набирала высоту, поднимаясь выше дома и сараев, выше древесных крон.
– Божечка! – вопило оно в ужасе. – Маса Джамал! Да разве Господь хотеть, чтобы мы летать?!
Пока они неслись над полями и лесами, Джамал читал существу лекцию, как все устроено после Ссудного дня. Привыкшие к разгульной жизни геи в новом своем отечестве впряглись в ярмо национальной репродуктивной кампании. Драконовские нормы сдачи спермы оставляли тамошних мужчин либо без сил, либо без денег. А женщины перестали распоряжаться своими репродуктивными правами – всех здоровых обязали встать на учет и по призыву являться на службу. Только не солдатами, а матерями новых граждан. Чтобы поддерживать численность своего населения, им было необходимо производство натуралов на экспорт, и эта задача не оставляла времени на садомазохистские забавы и метамфетаминовые оргии.
– Обретенная свобода их поработила! – выкрикивал Джамал, чтобы существо расслышало его сквозь шум ветра.
Гражданам Государства Арийского тоже приходилось несладко. Прежде они были локомотивом науки, теперь же полностью от нее отказались. Перешли на джефферсоновский аграризм и принялись возрождать белую европейскую культуру. Их мегаполисы превратились в смертельно опасные джунгли, где специалисты гуманитарного профиля охотятся друг на друга с целью сожрать. Те, кому повезло, поступили в услужение к вождям и возделывали бескрайние поля в их вотчинах.
Внизу под левитатором проносились земли Блэктопии, на которых не было видно ни домов, ни заборов. Дороги, линии электропередачи, все прочие следы присутствия человека будто растворились. Зато свободно разгуливали животные – стада изящных зебр и рогатых антилоп гну. Плантация Пибоди была единственным жилищем на много миль вокруг, родовые гнезда соседей исчезли. Джамал вглядывался в лицо Барнабаса. Существо сидело разинув рот и не проронило ни слова.
На горизонте, словно мираж, выросли разноцветные шпили и купола города. В отличие от Государства Арийского, население Блэктопии стеклось в города и довело их до совершенства, позволив окружающим землям вернуться в первозданное состояние. Великолепные мегаполисы высились среди бескрайнего заповедника. Привезенная сюда фауна Матери Африки блаженствовала на просторе. Левитатор нес Джамала и Барнабаса над купающимися бегемотами и отдыхающими львами. Нарочно опустившись пониже, они пролетели над стаей кровожадных гиен. Джамал мог по праву гордиться отечеством-раем.
Все чудеса, которые белые считали вымыслом, здесь воплотились в реальность. Город, к которому приближался левитатор, был прекрасней всех легенд об Атлантиде. Черные возродили пироэлектродуховные и электроэкспрессивные технологии, которые скрывали много веков. Священные законы энергии духа так и не попали в жадные лапы белых захватчиков.
Как вождь из первого клана, Джамал был желанным гостем в любом доме.
Левитатор вилял и петлял между поразительных разноцветных небоскребов. С балконов и окон, словно флаги, каскадами ниспадали цветущие лианы. Существо по имени Барнабас вытягивало шею, ища малейшие следы прежней, порочной цивилизации белых. После Ссудного дня прошли какие-то месяцы.
– Маса Д-джамал… – выдохнуло оно, заикаясь. – Это как?..
– Музометрика, – ответил Джамал.
И объяснил, что музыкальный слух и чувство ритма, которыми всегда славилась его раса, имеют куда более широкое применение, чем подозревал белый человек. Если достаточное число черных братьев и сестер запоют в унисон, то пением смогут менять структуру физической материи. Каждое сооружение в этом городе представляет собой застывшую музыку. В самом деле, острые шпили взмывали в небо, как крещендо.
Джамал направил левитатор к одному из самых внушительных небоскребов. Такому высокому, что здания рядом с ним смотрелись карликами. У входа их встретил робот в ливрее и помог спуститься с левитатора. Через хрустальные двери Джамал и Барнабас прошли в шикарное фойе, в котором среди цветущих тропических растений свободно летали попугаи.
– Божечка, маса Джамал… – прошептало существо в благоговейном трепете. – А кто тут живет-то?
Шепот эхом пронесся под высокими сводами. Джамал не одернул существо. Ему было жаль это сгорбленное пугало, которое еще больше съежилось от страха. Все-таки тяжело в преклонном возрасте Барнабаса понять, что вся твоя жизнь была ложью.
Они подошли к единственной двери в стене, высеченной словно из чистого золота. Сияющую теплым ярким блеском поверхность густо покрывал сложный узор. Джамал нашел скрытую кнопку, и зазвенел мелодичный сигнал. Дверь открылась внутрь, и навстречу им шагнул робот в смокинге. Приятным мягким голосом он произнес:
– Здравствуйте, Джамал. Матушка вас ожидает.
Робот провел гостей в наполненный светом зал. Тишина там стояла глухая, как в теплице. Среди причудливых узоров плитки сквозь стены прорастали орхидеи, от их хрупких цветов в воздухе разливалось сладкое благоухание. Следуя приглашению робота, Джамал и Барнабас присели в дорогие плетеные кресла, и робот в переднике и кружевном чепце поднес им многоцветные напитки в высоких бокалах.
Не успели они устроиться, как распахнулась другая дверь, и перед ними возникло облако ярких красок и аромата. Две точеные ножки под струящейся радужной юбкой спешили навстречу гостям, поблескивали в водопаде косичек бусины из таитянского жемчуга и платины.
– Мой милый! – зазвенел дивный голос богини.
Изящная и царственная, подошла она к Джамалу и расцеловала в обе щеки. Затем ее взгяд упал на существо, и тонкие черты лица исказились от страха. Но лишь на секунду. Когда Барнабас и Джамал поднялись с кресел, чтобы приветствовать ее, она уже снова излучала королевское спокойствие.
– Добрый день, – произнесла богиня, томно протягивая Барнабасу руку в изумрудных браслетах и бриллиантовых перстнях. – Я мать Джамала.
Джамал всегда ею восхищался. И в бедности, и в богатстве она неизменно держалась с достоинством. А когда она пожала высохшую, странного цвета ручонку Барнабаса, его уважение к ней стало и вовсе безграничным. Мать безмятежно улыбнулась Джамалу; ее тревогу выдало лишь то, что она смотрела ему в глаза чуть дольше необходимого. Кивком она подозвала робота, державшего поднос с маленькими закусками.
– Надюсь, вам нравятся соловьиные язычки, – сказала она Барнабасу.
А робот добавил скрипучим бесстрастным голосом:
– Они маленькие, на один укус.
Джамал с нежностью смотрел, как существо выбирает с подноса язычок.
– Моя – Барнабас, – запоздало представилось оно и закинуло лакомый кусочек в улыбающийся рот.
А дальше мать спокойно слушала его многословные и малочленораздельные истории о жизни на плантации.
– Мисс Жазафина чудище! – восклицало существо, не прожевав язычки. – Моя много-много тяжело трудиться!
И долго перечисляло всю грязную работу по дому, не забыв ввернуть, что мисс Жозефина удрала к своим сразу после Ссудного дня.
Мать выслушала весь монолог не моргнув глазом и заметила:
– Мой сын долго бредил идеей пожить в этом доме…
На лице Барнабаса отразилось замешательство. Джамал бросил на мать предостерегающий взгляд, приподняв бровь.
– Дом связан с нашей семейной историей, – пояснил он.
Существо вытаращило глаза сильнее обыкновенного.
– Вы что же… – пролепетало оно, – ваша быть в семье рабы?
Мать вздохнула.
– Что-то вроде того… – И жестом приказала роботу наполнить бокалы.
Джамал и Барнабас провели в гостях прекрасный день. Сперва хозяйка повела их на кухню и накормила вкуснейшим жареным мясом из мясогенератора. Она с гордостью объяснила, что эта технология основана на бесконечно делящихся бессмертных клетках HeLa. Эти клетки были открыты черной женщиной и применены для изменения ДНК животных и лабораторного получения масс говядины, курятины, свинины… Из лабораторий технология перешла в каждый дом, и теперь мясогенераторы стали обыденным предметом. Большой мясной цилиндр медленно вращался между инфракрасными нагревательными элементами. Внешний слой был всегда прожарен – можно срезать и есть, а внутри постоянно делились новые клетки, питаемые аминокислотами, которые подавались по центральной оси цилиндра. С виду это напоминало старый добрый донер-кебаб на вертикальном гриле, только в данном случае цилиндр представлял собой бескостный организм, живой и сырой внутри и постоянно умирающий и поджаривающийся снаружи. Запах от него исходил головокружительный.
Мясо медленно вращалось, и ручейки жира стекали по его аппетитным бокам.
– Больше нам не нужно убивать животных, вот в чем истинное благословение, – проговорила мать.
Генетически бессмертные клетки в сердце цилиндра выполняли функцию закваски для теста и начинали делиться, если задать им нужные условия. Поскольку технология эта применялась повсеместно, животные бродили в полной свободе и безопасности. Подобные генераторы использовались и для кормления хищников, так что львы в Блэктопии в самом деле ложились рядом с агнцами. Технологии черных поистине создали рай на Земле.
Существо по имени Барнабас поначалу суеверно попятилось, но, попробовав вкуснейший, идеально прожаренный кусочек, тут же отринуло страх.
А мать Джамала наклонилась пониже, словно желая поделиться сокровенной тайной, и попросила:
– Я очень надеюсь, что хоть вы сможете убедить моего сына уничтожить старую развалину и занять в городе место, достойное человека его положения. – Она бросила на Джамала красноречивый взгляд, и тон ее был колючий. – Его одержимость древними руинами совершенно нездорова.
Этот вопрос они с матерью обсуждали уже много раз. И вместо того чтобы снова ввязываться в дискуссию, Джамал посмотрел на часы и сказал, что им с Барнабасом пора домой.
Весь обратный путь существо молчало, глубоко потрясенное увиденным. В выпученных его глазах застыло выражение полной растерянности.
У Джамала сердце сжалось от сочувствия, от почти родственной нежности к бедному карлику. Тяжелая чернильная слеза прорисовала дорожку на щеке существа, и оно проговорило, запинаясь:
– Маса Джамал? Моя полагать, вы теперь желать избавиться от фамильный дом мисс Жазафина?
Глядя в глаза Барнабасу, Джамал твердо заверил:
– До конца твоих дней фамильное поместье останется твоим домом. Я тебе обещаю.
Существо смотрело вдаль. Там, на горизонте, вырастал особняк с прилегающей к нему фермой, и над ними быстро закатывалось солнце.
* * *
Бинг поднял ко рту трубку бульбулятора, глядя поверх нее, как поверх винтовки. Поднес к чаше зажигалку и высек огонь, словно спустил курок.
Затянулся так глубоко, что сразу окосел. И выкрикнул:
– Паф! Паф! Паф! – выдыхая дым травы.
Он палил направо и налево, и налитый в бульбулятор мятный шнапс плескался по стенкам. Наконец Бинг выбрал последнюю цель и пустил на нее остатки пороха:
– Паф!
Феликс схватился обеими руками за грудь и повалился на круглый бок железной мусорки.
– Ты убил меня! – прохрипел он. – Я покойник…
Бинг протянул ему зажигалку.
– Жизнь определяет смерть, – изрек он, набивая чашу бульбулятора. – Невозможно почувствовать себя более живым иначе, чем убивая другого.
Он рассказывал Феликсу, каково было там, в тот великий день, на галерке парламента. Бинг мог говорить об этом бесконечно. Они сидели вдвоем у Феликса под окнами.
Лакомая ушла гулять, а мать Феликса была дома, вот почему он засел курить траву в переулке. Находиться с матерью один на один стало невыносимо. Она бесконечно давила ему на совесть, чтобы не объявлял пока о своей ориентации, чтобы потянул еще хотя бы годик, сидя у нее под крылышком. Еще год в Гейсии! Целый год наблюдать, как на каждом шагу воркуют голубочки, а ему нельзя даже заглядываться на телочек!
Бинг протянул бульбулятор и сказал:
– В башке не укладывается, что ты не гей…
Бингу можно было доверять. Национальный герой, один из вождей первого клана! Он собственными руками уничтожил старый режим, сверг власть слабаков, лебезящих и лгущих толпе ради завоевания ее симпатий. Это занятие раньше называлось «политикой».
Для Бинга ничто уже не могло сравниться с Ссудным днем. Вот почему он совсем сторчался – потому что однажды испытанный кайф от уничтожения ненавистной системы был более недостижим.
Принимая бульбулятор, Феликс увидел татуировку у Бинга на внутренней стороне предплечья и спросил:
– А это кто, Энди Уорхол?
– Толботт, – ответил Бинг. – Я рассказывал, что видел его, сам, своими глазами?
– Не больше миллиона раз, – глухо ответил Феликс в бульбулятор.
На руке у Бинга значилось: «В будущем у каждого будут свои пятнадцать минут под пулями».
– О да, он произнес эти слова в моем присутствии, – похвастал Бинг.
Феликс наизусть знал историю о том, как Толботт сидел, прикрученный к стулу скотчем и ремнями, голый, весь в кровище, но при этом раздавал приказы, и все их исполняли. О том, как незадолго до Ссудного дня вожди приходили к этому великому человеку на аудиенцию.
– И как ощущения? – спросил Феликс на выдохе и сделал вдох через трубку.
Шнапс забурлил, рот Феликса наполнился мятным дымом.
Оба понимали смысл этого вопроса, Бинг не раз на него отвечал. Ощущения были улетные. Убивать врагов – это круче, чем сорвать джекпот в лотерее. Это как оставить за собой самое последнее слово. Это высшая победа. Книга Толботта гласила:
Главная сила, движущая человеком, – желание доминировать и нежелание подчиняться.
И еще:
Всякий, кто отрицает это, лишь пытается вас подчинить.
Задержав дым в груди, Феликс слушал.
– И куда ты теперь? – спросил его Бинг.
Он имел в виду: к белым или к черным? То, что сам он мог вольготно сидеть в темном переулке, курить траву и дышать кошачьей мочой, было свидетельством расовой толерантности Гейсии. Блэктопия и Государство Арийское блюли чистоту крови и быстренько выслали всех людей с перевесом азиатских генов в Азию, всех евреев – в Израиль, а мексиканцы отправились в родные пенаты добровольно.
Феликс впервые об этом задумался. Он ведь ни разу не видел Бинга с мужчиной! Может, Бинг тоже натурал? Может, он тоже просто скрывается в Гейсии – там, где никого не смущает его разрез глаз? Может, ему просто неохота быть сосланным на другой континент? Если так, он отнесся бы к семейным тайнам Феликса с пониманием…
Сделав из бульбулятора вдох, Феликс пожал плечами. Генетическое тестирование он еще не проходил и пока не забивал этим голову. Сначала надо было закрыть вопрос с объявлением ориентации.
А Бинг продолжал распинаться о том, что «убийство есть убийство». Что это величайшая победа. Видеть, как из врагов летят кишки. Слышать, как враги умолкают навсегда. Знать, что они тебе более не страшны. Это конец всех твоих страхов. Это подтверждение, что ты больше не будешь рабом. Бинг столько раз выступал с этой речью – у барной стойки, со сцены, с кафедры… Он превратился в живое ископаемое.
«Сильно укуренное ископаемое», – подумал Феликс и чуть не заржал.
– Удаление человека из человека, – вещал Бинг, – превращение его в простое мясо – это как фокус, только безо всяких иллюзий. Понимаешь? – Он закашлялся, поперхнувшись дымом. – А не это ли называется чудом?
Феликс страстно закивал. Ему очень хотелось выложить Бингу всю правду. По укурке ему казалось, что друг его поймет, ведь наверняка он сам скрывает гетеросексуальную ориентацию.
– У меня к тебе просьба. Ты заходи к маме моей иногда. Типа на Рождество и все такое. Ну, чтобы ей было не так одиноко.
Бинг отмахнулся, набивая чашу.
– Да брось, не переживай. У нее жена есть. И ребенок скоро будет.
Феликс ждал, пока он раскурит, думая, что расклад выходит идеальный. Очевидно, Бинг такой же беженец. Феликс может спокойно объявить ориентацию и уехать, доверив ему мать. Конечно, отец тоже будет где-то рядом, однако ему лишний раз встречаться с тайной женой рискованно. Еще, конечно, есть Лакомая, но она, считай, чужая тетка. А Бинг, его лучший друг, в случае чего присмотрит за матерью, все-таки она не молодеет…
Забурлил шнапс, чаша вспыхнула оранжевым светом.
Феликс оглянулся на окна. Весь дом спал, свет горел только высоко в его квартире. Значит, мать одна в кухне сидит…
– Пойми меня правильно… – начал он. – Мы ведь с тобой друзья?
Бинг надул грудь, вдыхая дым. Красными глазами он посмотрел на Феликса и кивнул.
– Я знаю, почему ты здесь, в Гейсии, – объявил Феликс.
Бинг молчал, держа в легких дым, и лишь склонил голову набок.
– Ты как мои родоки. Отец у меня черный, вот они с мамой оба сюда и переехали, чтобы встречаться потихоньку…
Весь дым разом вырвался изо рта Бинга одним гигантским выхлопом:
– Что?!
Феликс понял, что облажался.
Бинг сверлил его ненавидящим взглядом, отставив бульбулятор.
– Что ты сейчас сказал?! – проревел он в полный голос.
На темной стене вспыхнуло окно, за ним другое. Феликс замахал руками, пытаясь успокоить друга.
– Ничего! Пошутил я!
– А Лакомая знает? – Бинг моргнул, осененный догадкой. – Или она такая же?!
Феликс видел перед собой прежнего Бинга – способного с винтовкой у плеча безжалостно косить всех, кого считает врагом. Освещенных окон над головой становилось все больше. Люди могли услышать. Сверху кто-то крикнул: «Спать не мешайте!»
Феликс бросился на Бинга. Накрыл ему рот ладонью, зашептал:
– Не надо, пожалуйста!
Они покатились по грязному асфальту среди бычков и бутылочных крышек. Бинг драл руку Феликса ногтями, царапал ему лицо и шею, но Феликс держал крепко, повторяя:
– Не надо!
Они боролись, гулко молотя ногами по мусорным бакам, а сверху на них со всех сторон орали. Бинг дубасил Феликса кулаком по голове, вломил ему между глаз так, что у Феликса хлынуло из носа, и во рту разлился вкус соли и мятного шнапса. Бинг орал ему в ладонь и бил кулаками по ребрам, коленями в солнечное сплетение.
Уже во многих окнах горел свет. Высоко под крышей Феликс видел силуэт матери, которая выглядывала из кухонного окна.
Бинг впился ему в ладонь зубами, и Феликс отдернул руку.
В ночной тишине голос Бинга разнесся по всей округе:
– Натуралы! Натуралы!
И тогда окровавленные пальцы Феликса нащупали трубку бульбулятора, ухватились покрепче и нанесли удар. Зазвенело стекло, и Бинг умолк. Брызги крови и шнапса разлетелись во все стороны.
Тело Бинга обмякло и навзничь завалилось на асфальт. Человек был удален из человека, осталось простое мясо. Где-то уже нарастал вой полицейских сирен. Феликс наслушался рассказов достаточно, чтобы понять: единственный его друг мертв.
Хуже, чем мертв – он наврал.
Убийство не принесло Феликсу никакого удовольствия.
* * *
Когда Ник наткнулся на первую коробку, он не удивился. Коробка стояла посреди Саут-Ист-Йэмхилл-стрит, между сорок вторым и сорок третьим домом. Прямо по Толботту.
Пока все шло ровнехонько по его книге. Пожары начались около месяца назад, как он и предсказывал. Метод этот был элитами уже не раз обкатан. Так, в 1965 году в лос-анджелесском районе Уоттс была сожжена сотня кварталов, в 1967 году успех повторили в Ньюарке, и в тот же год спалили дотла четыре сотни домов в Детройте. В 1968 году в Вашингтоне сгорело 1199 зданий, и все это было результатом поджога белыми черных районов. Чтобы выкурить чернокожих из городов и загнать обратно на сельскохозяйственные поля Глубокого Юга.
Теперь же поджоги устраивали вожди Государства Арийского, чтобы выкурить всех окопавшихся в укрытиях: черных – в Блэктопию, белых – к господам в услужение.
Брошенные посреди улицы коробки служили той же цели.
В 1950-е такая коробка содержала бы в себе героин. В 1990-е была бы набита крэком. ЦРУ оставляло такие подарки в районах, которые требовалось уничтожить. Теперь их примеру следовали вожди. Ник разорвал картон и стал рыться в пакетах. Он насовал в карманы плаща килограммы викодина, золпидема и ксанакса, аккуратно упакованные в пластик. Остальное не тронул. В книге Толботта говорилось, что коробок будет много, и Ник поспешил на поиски других таких же.
Плакат на стене напротив кричал: «Улыбка – лучший бронежилет!» Из родни у Ника оставалась только мама, которая собрала вещи и на последнем бензине уехала искать, к чьему бы поместью прибиться. Говорили, что вокруг больших сельскохозяйственных полей образовались трущобы, населенные бывшими работниками информационного сектора. Веб-дизайнеры и консультанты по социальному проектированию жили в пыльных машинах, надеясь хорошо показать себя на грядущем сборе ревеня. Если повезет – барин пожалует домик с соломенной крышей раньше, чем ударят холода.
Вся викисвобода интернета ушла в топку. По радио транслировали исключительно Толботта с перерывами на одобренную арийскую музыку – в основном польки, вальсы и джиги. Платиновые хиты клавесина и волынки. В новостях говорили, что пожары устраивают лоялисты. Партизаны. Толботт лично опроверг слухи, что бывший президент спасся, а вместо него убили двойника.
По официальным данным, президент прежде соединенных штатов мертв. По официальным данным, пожары, которые вспыхивали по ночам и выгоняли беспомощных людей в темноту, устраивали бунтовщики. Бандиты. Разбойники с большой дороги. Вероятно, канадцы. Ник обратил внимание, что гнездом подлого терроризма теперь стала Канада.
Если верить книге Толботта, на протяжении всей современной истории добропорядочные чернокожие подвергались преследованиям. Всякий раз, когда очередной город начинал полыхать в пожарах, черные, не щадя себя, кидались спасать имущество, а белые спешили арестовать их за мародерство. Вот и теперь огонь пожирал в Портленде квартал за кварталом, и всякий, кто бросался на помощь, попадал под арест. Людям давали срок по сфабрикованным обвинениям, грузили в вагоны и отправляли в трудовые отряды.
Коробки на улицах предлагали альтернативу. По выражению Толботта, менее полезные члены общества имели право самоустраниться посредством случайной или намеренной передозировки. Пожары убирали героев. Наркота выкорчевывала трусов. И только Ник мог под кайфом перебиваться без еды, когда с едой случались перебои. А вот сон – другое дело. Вожди так рьяно принялись вырубать леса себе под стручковую фасоль и краснокочанную капусту, что подняли с обжитых мест стаи волков и койотов. Теперь эти хищники, а также медведи и пумы забредали в города и охотились в парках и на улицах. По ночам слышались их вой и визги жертв, а Ник, закинувшись таблеточками, спокойно спал в первой попавшейся брошенной машине.
Уже при свете дня он находил следы ночных происшествий. Следы эти могли быть размазаны по целому кварталу. Ребра и позвоночник в одном месте, голова и тазовые кости где-то в другом. Череп мог вообще пропасть, хотя содранный скальп с волосами обычно не трогали. Кисти рук тоже. На тротуаре или по переулку между домами разливалась липкая лужа подсохшей крови, и от нее во все стороны тянулись багровые следы. Медвежьи или волчьи. Ну и еще падальщиков, которые явились потом – койотов, крыс, сорок, енотов. По каждому такому следу можно было дойти к обглоданной кости или недоеденным кишкам. К тому, что осталось от непутевого лузера. Пальцы на обглоданных руках могли быть унизаны бриллиантовыми кольцами и рубиновыми перстнями; хищники выедали глаза, но оставляли запачканные кровью жемчуга на шее. Звери хорошо понимали, что́ имеет настоящую ценность.
Ксанакс позволял справиться с самым неприятным аспектом городской жизни. Это не голод и не предсмертные вопли в ночи. Самой худшей проблемой было одиночество.
Шаста исчезла. И Уолтер. И Хавьер. В центре города остались одни клинические психи, которых Ник старательно обходил стороной.
Вот пожалуйста, на перекрестке шныряет превосходный образчик. Совершенно голый старик с обрывками грязного скотча на запястьях и лодыжках. Тщедушное тело все в корке запекшейся крови, тощие руки и ноги иссечены мелкими порезами. Ковыляя по тротуару, старикан заметил Ника и замахал руками, вытягивая шею.
– Уолтер! – звал он, вертя головой то туда, то сюда. – Уолтер!
Ник махать в ответ не стал и быстренько смылся.
По Толботту, война между Севером и Югом не имела никакого отношения к рабству. На самом деле ее главной целью было сокращение численности ирландцев, понаехавших в северные города. Этот «молодежный бугор» следовало нейтрализовать.
Следующую коробку Ник нашел на бульваре Вудсток. Прибрал к рукам таблетки. В районе Уэстморленд, возле остова сгоревшего дома он обнаружил гору обугленной мебели. Полный шкаф шмотья на вешалках – «гуччи», «армани», «ральф лоран». Такое теперь под запретом. Еще там был пистолет; к сожалению, без патронов. И гитара. Целехонькая.
Самый худший аспект одиночества – тишина. Ник только и слышал, что шум ветра и пение птиц. Он снял рюкзак, вытащил пакет с таблетками и сунул под язык две штуки ксанакса. По рту разлилась их сладость.
Третью коробку он нашел на Норт-Ист-Миссисипи-авеню и принялся разорять содержимое.
* * *
Толботт говорил медленно, а собравшиеся вокруг увлеченно внимали.
– Погребальные ямы должны быть прямоугольные, девять метров на девяносто, три с половиной метра в глубину. – Он выдавал им инструкции, сидя привязанным к стулу. – Дно каждой необходимо проложить полиэтиленовой пленкой толщиной в шесть миллиметров и полуметровым слоем водоупорной глины.
Чтобы они не тратили силы попусту и делали все одинаково, он наказал:
– Не изобретайте колесо!
Вот уже несколько дней подвал служил чем-то вроде клуба. Штаб-квартирой. Командным центром. Сначала пришли Нэйлор и Эстебан из «Анонимных наркоманов». За ними следом потянулись другие, набранные, видимо, на таких же сборищах по всей стране.
Были они белые и черные. Насколько мог догадываться Уолтер, и натуралы, и геи. Все они примкнули к армии Толботта и ревностно следили за расстрельным списком в Интернете. Уолтер был отправлен заниматься книгой и договариваться с типографией, а эти новые люди стали свитой Толботта.
Каждый из них вышел победителем в схватке с демоном – будь то аддикция или раковая опухоль – и теперь желал еще более славных побед. Рекруты сидели у ног Толботта, а он вещал им:
Лесть вызывает привыкание. Убедите людей, что они особенные. Заверьте, что у них есть талант. Станьте опорой их самооценке. Так вы привяжете их к себе и помешаете им развиваться и раскрывать свой истинный потенциал.
Они передавали по кругу пиво и чипсы, а Толботт говорил:
Собираясь вместе, люди самовыражаются. Люди должны иметь право объединяться с теми и только с теми, кого выберут сами. Группы нельзя обязать открывать свои границы тем, кто им неугоден.
В лихорадке от множества мелких зараженных порезов, Толботт выкрикивал:
Будьте страшны. Будьте страшной угрозой, а в момент своей величайшей власти проявите милосердие. Так вы обретете народную любовь.
Он приказывал:
Представьте, что нет никакого Бога. Нет ни ада, ни рая. Есть только ваш сын и его сын, и его сын, и мир, который вы им оставите.
Если собравшиеся смеялись, если загорались от его слов, если кивали в знак согласия, Толботт щелкал пальцами, давая Уолтеру знак немедленно внести изречение в книгу. Так он тестировал свои идеи. Если идея отзывалась в сердцах, если собравшиеся начинали иллюстрировать ее собственными жизненными примерами, Толботт считал ее годной и для более широкой аудитории.
Он рассказал, что Адольф Гитлер, сидя в Ландсбергской тюрьме, был постоянно окружен соратниками и сочувствующими. В камере его шла непрерывная вечеринка. Люди приносили пиво и еду и слушали идеи, которыми Гитлер с ними великодушно делился. Те, что вызвали живой отклик, Гитлер собрал в книге – в первой версии «Майн кампф».
Следуя его примеру, Толботт вел диалог с теми, кто совершал к нему паломничество. Людям этим – Клему, Нэйлору и Бингу – он говорил:
– В будущем у каждого будут свои пятнадцать минут под пулями.
Руфусу и Эл-Джею он сказал:
– Только левые уши, будьте добры.
Лучшей реакцией он считал бессловесную. Усмешка, резкий выдох, стон – любой подобный звук демонстрировал, что он задел за живое. Самое искреннее выражение чувств не облекается в слова. «Аминь!», «Да, епта!» – не больше. «Аллилуйя» в обсценной версии. Так из разрозненных фрагментов его книга превратилась во внушительный сборник афоризмов. Как «Альманах бедного Ричарда» или «Цитаты Председателя Мао Цзэдуна».
Он объяснил Уолтеру, что они сочиняют священный текст. Сутру Толботта. Текст этот будет как Золотые стихи Пифагора или Книга Екклесиаста. Она станет людям новой совестью.
Как современный «Майн кампф».
Опубликуют они ее самиздатом, как делали советские диссиденты. Как Андрей Сахаров. А распространять будут из рук в руки по растущей сети доусонов, клемов и чарли, охватившей всю страну.
И Уолтер, по-прежнему уверенный, что это принесет ему богатство и любовь Шасты, послушно все записывал.
* * *
Потому что на крики тут же примчалась полиция. Потому что была глухая ночь, а Бинг входил в число вождей первого клана, и в воздух тут же подняли вертолеты, которые кружили над районом, светя слепящими прожекторами. Потому что полиция в таких случаях всегда задает одни и те же вопросы. Вы подрались? Он нападал? Потому что мама Феликса сидит опустив голову и думает, что это она виновата. Потому что Лакомая спрашивает с порога: «Бэлль, что там твой Феликс опять натворил?!»
Потому что Лакомая не догадывается, что речь в том числе и о ее шкуре. Потому что они все могут очень крепко влипнуть. Если правда выйдет наружу, то и Бэлль, и Лакомая, и Джарвис, и Джентри – все они сядут в лагеря до конца жизни. Потому что кому нужен бросовый товар? Каждый гей в распоряжении Государства Арийского и Блэктопии стоит полмиллиона толботтов или свежего молоденького тела. Зачем тратить такой ценный ресурс на перебежчиков, которые не нужны даже Гейсии?
Потому что фельдшеры «Скорой» уже обрабатывают раны у Феликса на шее и лице. Потому что Феликс избит почти как труп Бинга. Потому что соседи, высунувшиеся из окон, прекрасно слышали предсмертный крик. Потому что над народом вечно довлеет призрак Китти Дженовезе – лесбиянки, зверски убитой возле дома на глазах бездействующих свидетелей. Потому что в тот раз люди наблюдали из окон, как молодую красивую девчонку режут ножом, и считали, что это не их проблема. Вот почему все теперь передают из уст в уста последний крик Бинга.
По версии Феликса около полуночи они с Бингом мирно курили в переулке траву. Как Феликс показал на допросе, они с Бингом разговаривали об истории великого клана, о том, как Бинг удостоился аудиенции самого Толботта в подвале заброшенного дома в Портленде. Бинг был не последним человеком – он входил в число вождей, и на расследование его убийства полагалось бросить все силы. На поиски следов его крови отправили специально обученных собак.
Даже когда фельдшеры обрабатывали Феликсу царапины на шее и лице, он говорил все, что хотел, и его слушали. Потому что никто, кроме Феликса, в последнее время не обращал на Бинга никакого внимания. Потому что история однодневного боевого триумфа уже навязла на зубах, а у людей хватало более насущных проблем – с донорством спермы, с призывом женщин на искусственное осеменение… Потому что вслух этого, конечно, никто не говорил, но люди начали сомневаться в величии Гейсии, гомосексуальной земли обетованной. Потому что народ уже тосковал по своему прежнему отвязному стилю жизни под игом натуралов. Из-за чувства вины – за свои сомнения в Гейсии, за то, что случилось с Китти Дженовезе – именно из-за этого свидетели и повторяли предсмертные слова Бинга.
Именно поэтому Феликс и сказал то, что в итоге сказал. Сначала-то он ничего такого не говорил. Потому что знал, что это вызовет международный конфликт. Потому что не хотел, чтобы Гейсия, его страна, воевала. Потому что разве не для того был Ссудный день, чтобы спасти целое поколение от погребения на военных кладбищах?
Потому что какое право имеют всякие чинуши гробить тех, кто едва успел получить право голоса? Потому, что Феликс не хочет отправлять всех своих родоков на нары и потому, что ему надо тянуть время, а еще потому, что простейший анализ покажет наличие следов его ДНК на всем теле Бинга и у Бинга под ногтями… в общем, потому, что все вокруг жаждут крови и суровой справедливости…
Феликс говорит, что на них с Бингом напала банда незнакомцев.
Потому что это звучит правдоподобно. Потому что это позволяет выиграть время для маневра. Потому что Феликс стремительно вытесняет Толботта со всех каналов, потому что вся Гейсия жадно ловит каждое его слово, потому что он давно уже в уме паковал сумку, чтобы смыться, мысленно складывал в нее любимые футболки и запасную пару обуви, потому что для побега ему была совершенно необходима фора… в общем, именно поэтому Феликс в итоге сказал то, что он сказал:
– Натуралы, – объявил он перед камерами. – Бинга до смерти избили натуралы.
* * *
То же солнце, что сейчас припекало Шасте шею, светило когда-то и Гитлеру. Звезды, которые она видела со своего брачного ложа, мерцали и над фашистскими лагерями. Структура людского общества и его обычаи ничуть не влияли на устройство Вселенной.
Над братскими могилами прорастали деревья. Все важные части жизни остались неизменными. Люди кормили детей и проклинали соседей за стенкой. Как и прежде, были крайне озабочены собственным выживанием. Вода умеет заполнять собой ямы и ухабы, и поверхность всегда остается ровной.
Вот, к примеру, полевые жены. Они бродили среди наливающихся тыкв и пышно зеленеющей капусты, и у каждой из них в животе рос плод. Отпрыск вождя. Скоро они начнут рождаться, по ребенку в день, а то и по несколько. Через год окрестные земли будут наводнены маленькими Чарли.
Не исключено, что проблема кроется в самой Шасте. Это она ломает всем кайф. Родись она в новом государстве, она видела бы перед собой идиллическую картину – безмятежные женщины на свежем воздухе занимаются полезным трудом под пение мандолин. Все сыты, здоровы и ждут прибавления. Не знай Шаста мира до Ссудного дня, она не смотрела бы на эту пастораль с таким мрачным цинизмом. Дети, которых женщины носят сейчас в животах, будут воспринимать новый мир как данность. Мысль об этом и утешала, и вызывала гнев.
Женщины пололи грядки, и Шаста тоже усердно ковырялась среди посевов, внимательно осматривая землю у корней. Солнце грело капюшон ее плаща, отделанный неприлично роскошным мехом синтетического оцелота. Странствующие менестрели перебирали струны лютен и негромко пели баллады.
Тошнота волной подкатила к горлу. Шасту чуть не вырвало на борозду молодого пастернака. А если она тоже… Чарли ведь и правда сеял в нее свое семя без устали. Она содрогнулась от мысли, что примкнет к табуну племенных кобыл, понесших от ненасытного вождя.
К ней несмело подошла какая-то робкая фигура. Не говоря ни слова, девушка остановилась на расстоянии вытянутой руки от Шасты. К собранным в узел волосам был приколот кружевной чепец, лицо прикрывала тонкая вуаль, защищая юную кожу от солнца. Глаз незнакомка не поднимала, скромно глядя на носки своих деревянных клогов.
В подоле она принесла нечто, обернутое в мягкую ткань. Маленький комочек счастья. Бережно спеленутое сокровище. Сверток был аккуратно перевязан веревочкой, чтобы не раскрывался. Девушка воровато оглянулась. Полевые жены вокруг замерли, будто остановилось время. Ближайшая медленно кивнула девушке, один раз. Уловив сигнал, та протянула крошечный сверток Шасте.
На секунду их глаза встретились. Когда Шаста принимала подарок, ее внимание вдруг привлекло нечто у девушки на руке. Полевые жены, согласно закону, носили длинные юбки и длинные рукава. Однако под самой манжетой Шаста увидела на запястье у девушки татуировку. Большую, украшенную шипами иссиня-черную букву О.
Шаста потянула рукав вверх. Девушка не отстранилась. За буквой О следовали Т и еще одна О. На внутренней стороне предплечья, от запястья к локтю было набито: «ОТОРРРВА».
Это кроткое подобострастное создание совсем недавно было отвязной уличной богиней. Сегодня робкая сиротка с округлившимся стараниями Чарли брюхом, вчера – безбашенная звезда роллер-дерби.
Новыми глазами Шаста посмотрела вокруг – и увидела в крестьянках на полях прежних баскетболисток и мотокурьеров. Сейчас они гнули спины над грядками, обреченные на череду беременностей и родов. Но и года не прошло с тех пор, как они играли в рок-группах, курили траву, ходили по огню, танцевали на шесте, раскрывая безволосые ноги в сумасшедших шпагатах.
Давно ли случился Ссудный день? Без мобильных телефонов, без календарей дни слились в сплошной поток. Лишь по погоде можно было сориентироваться, какой сейчас примерно месяц.
Шаста опустила рукав девушки, пряча свидетельство о прошлой ее жизни. Девушка осторожно положила ей в ладонь мягкий комочек и спешно засеменила прочь. За ней еще одна уже ожидала своей очереди поднести королеве маленький сверток. Видимо, среди женщин прошел слух. Они знали, за какой добычей охотится Шаста. Третья женщина принесла ей свой хрупкий дар, бережно обернутый в тряпочку.
* * *
Уолтер любовался сверстанной книгой. В сочетании с интернет-кампанией по ее продвижению – тем самым Списком – она представляла собой буквально наркотик. Как говорил сам ее автор:
Кайф от хорошей книги сравним с приходом.
Читалась она как порнография.
То, что новый папаша надиктовал Уолтеру, предлагало читателю подрочить на силу и власть.
Мировые бестселлеры всегда были рассчитаны на детскую и юношескую аудиторию. На самые слабосильные группы, которые с жадностью поглощают истории о таких же пацанах и девчонках, получивших высшую власть. Гарри Поттер, Супермен, Люк Скайуокер, верный товарищ Бэтмена Робин… словно все дети только и мечтали обрести суперспособности и отправить предков на тот свет.
Книга Толботта обещала и то, и другое. Юные безработные и слесаря на полставки смогут помечтать, как перебьют своих угнетателей и станут господами на своей земле.
Это было предложение подрочить на собственную правоту. Никакой оргазм не сравнится с возможностью ткнуть всех носом в их ошибки. Никакой сексуальный контент не разгоняет кровь так, как победа. А вся книга Толботта была о победе и более ни о чем.
Старый хрен знал, каково самое главное мужское желание.
Разглядывая книгу, Уолтер вынул из нагрудного кармана розовую ушную затычку. Вдохнул аромат сокровища, которое могло бы служить ведьминым талисманом для вызова мертвых. Украденный у Шасты податливый, мягкий, нежно-розовый предмет, артефакт с частицами ее отмершей кожи и продуктами желез внутренней секреции. Реликвия, извлеченная из недр ее головы. Нос мог убедить всего остального Уолтера в том, что Шаста сейчас рядом.
Шасте книга не понравится. То есть предписанное в ней псевдосредневековое шмотье и возрождение «типа нордических» традиций она, может, и оценит. Ведь есть же у нее татуировка на груди. Mit einem Schwert in deinem Herzen sterben[2]. Уж что бы это ни значило… Короче, от замков, лордов и всякой куртуазии она, конечно, пропрется, а книжку выкинет в мусор. Ну, не в мусор, конечно. Шаста выкинет ее в контейнер для вторсырья со значком «бумага и картон».
А потом… потом она созвонится с Бейонсе и в частном самолете упорхнет в Лондон покупать босоножки на Уолл-стрит.
С Мадонной. И его, уолтеровской, кредиткой.
* * *
Их разделял занавес наподобие тех, что в театре. Бледный муслиновый покров свисал с потолка в зале, где столпились придворные во главе с королевским лекарем. Сто с лишним человек приближенных всех рангов в ожидании глядели на занавес, за которым двигалось что-то незримое.
– Угодно ли вашему высочеству оказать нам честь и явить себя? – обратился к занавесу королевский лекарь.
Официальный протокол пока пребывал в полусформированном состоянии, поэтому лекарь, не желая нанести своему господину оскорбления, прибегал к самой безопасной стратегии – высокому книжному штилю. Восседая на резном деревянном табурете перед занавесом, лекарь нашарил в оном круглое отверстие и назидательно помахал в нем воздетым указательным пальцем.
– Вам нужно лишь продемонстрировать нам монарший скипетр.
Тонкое шелковое кружево окаймляло отверстие в муслиновом покрове. Собравшиеся глядели в него и ждали.
Терренс убрал руку. Дабы успокоить сиятельного пациента, он стал рассказывать собственную историю чудесного исцеления. Как был он с младенчества прикован к постели. Как сердобольная медсестра принесла ему книгу Толботта, переданную исчезнувшим его отцом. Как прочел он пометки, сделанные отцом в книге, и сбросил с себя давление властной матери – женщины, чьи льстивые речи повергали его в падучую бо- лезнь.
Обращаясь к занавесу, он поведал, как отчаянно боролся с матерью за мочевой катетер и как повержена была мать на пол. Как сама книга Толботта нанесла решающий удар и сломала ей нос.
Что же до катетера, жестоко был он выдран. Сильна была боль, однако цел остался его орган. Не увенчалась успехом попытка оскопления.
Пальцы Терренса нетерпеливо подергали шитый шелком муслин.
Главная причина беспокойства состояла сейчас в обширных половых связях сюзерена. А точнее, в опасении, не подхватил ли вождь через эти связи какую дурную болезнь. Как лекарь понял ситуацию, его высочество обнаружило некие физические перемены интимного характера. Требовалось осмотреть возможно пораженный орган.
– Сейчас важнее всего сделать прогноз, – увещевал Терренс.
И в подтверждение своих слов сослался на мудрость Толботта:
Мужчина не тешит себя надеждами, но действует и добивается результатов.
Муслин зашевелился. Вырос под ним бугор, вышитые края отверстия наконец разомкнулись. Лекарь предостерегающе вскинул руку, чтобы придворные не смели даже пикнуть. Нечто хилое и сморщенное робко высунулось им навстречу.
* * *
На другое утро Арабелла вошла на чердак преображенной. Сколько мисс Жозефина ее помнила, экономка всегда была сутулой замухрышкой, а в последние годы вообще заметно сдала, и было нечто клоунское в том, с каким усталым от жизни видом она шаркает по комнатам. Дополнительным преимуществом содержания штата слуг является возможность наблюдать, как они стареют, год за годом натирая паркет и чистя серебро. Из тех же соображений свита подружек невесты состоит из тех, кто пострашней. Вот и на фоне Арабеллы мисс Жозефина всегда выглядела на удивление хорошо сохранившейся.
До нынешнего утра. Сейчас мисс Жозефина Арабеллу едва признала. Куда делись ее артритные суставы? Руки и ноги экономки были теперь изящные и тонкие, а вместо старого форменного платья по ней, как вода, струилось великолепное одеяние, украшенное сверкающими изумрудами. Напрягая память, мисс Жозефина вспомнила название этого наряда – «дашики». Вместо прежней седой пакли голову Арабеллы венчала грива блестящих каштановых кудрей, а вечно шелушащаяся кожа рук и лица стала гладкой и сияла, будто бы щедро умащенная благовонными маслами.
В прекрасных своих руках Арабелла держала поднос, а на нем был завтрак: два яйца пашот, ломтик ветчины, булочка, джем и масло. Когда же она заговорила, выяснилось, что голос экономки изменился не меньше чем внешность. Теперь он приобрел изысканную глубину. Бархатистый тембр.
– Мисс Жозефина, мистер Джамал передает свои извинения. Он с ночи в отъезде, государственные дела потребовали его немедленного присутствия.
Все это было так очаровательно, что мисс Жозефина едва не ответила традиционным: «Благодарю, можешь быть свободна». Но она больше не распоряжалась в этом доме, и Арабелла не состояла у нее в услужении.
Экономка была так прекрасна, что мисс Жозефине пришлось в досаде отвести взгляд. От вида собственного отражения в начищенной серебряной ложке у нее внутри все сжалось. Она травила и чернила себя, чтобы превратиться в жуткого эльфа. Да, так она обеспечила себе место в новом государстве, но какой ценой? Очевидно же, что здесь она теперь чужая.
Сосредоточенно намазывая булочку маслом, мисс Жозефина заметила невзначай:
– Для женщины твоей комплекции это платье невероятно удачное.
Арабелла тихо засмеялась новым гортанным смехом.
– Не в платье дело. Просто наш народ преобразился.
И она объяснила, что белые всегда презирали выходцев из Африки за то, что те не придумали себе колеса и плуга. Правда же в том, что африканцы не желали иметь дела с инструментами, повреждающими Землю. Планета сама выполняла все просьбы и сделала их континент столь богатым ресурсами. Африка с удовольствием растила в своей утробе золото и алмазы на радость черным людям. А люди в ответ берегли ее и не уродовали дорогами и пахотными полями.
– Когда в Африку пришли белые, – повествовала Арабелла, – мы ожидали от них такого же уважения к священной земле.
Увы, европеец видел в ней лишь богатства для разграбления. Человек, отвергавший аборты, человек, обожавший вещать о святости жизни, вспорол чрево Земли и вырвал оттуда все хранившиеся там дары. Нефтяными вышками, шахтами и карьерами выпотрошил планету. То, что приготовила Африка своему народу в награду за мудрое хозяйствование, загреб себе и унес белый человек.
Арабелла смотрела на мисс Жозефину с холодным пренебрежением.
– С тех пор мой народ научился скрывать свои тайны. Много сотен лет мы прятали истинные наши таланты и мудрость, чтобы белый человек и это не присвоил, не заставил служить своей выгоде.
Опустив глаза, мисс Жозефина разглядывала химически очерненные руки, испытывая жгучий стыд за деяния жадных собратьев. Ей было неловко за свои пережженные волосы. Определенно, она унаследовала безрассудство и бремя вины белого человека.
– Из всех людей один лишь мистер Кинг приблизился к тому, чтобы раскрыть тайну черного народа, – проговорила Арабелла. – Много лет мы спорили, не следует ли убить его ради нашей безопасности.
– Мартина Лютера Кинга убили черные?! – потрясенно выдохнула мисс Жозефина.
– Я не о докторе Кинге! – рассердилась Арабелла. – Мы наняли человека для устранения Стивена Кинга. Смерть должна была выглядеть как дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, человек оказался некомпетентен.
Как она объяснила, шедевры Кинга «Сияние», «Противостояние» и «Зеленая миля» почти убедили белых, что черные наделены сверхъестественными силами.
А потом Арабелла, хотя никто ее не просил, развернула полотняную салфетку и подоткнула край под ворот халата мисс Жозефины. С помощью ножа и вилки она отрезала кусочек ветчины и аккуратно положила старушке в рот.
– Ешьте, – велела она.
Лишившись дара речи, мисс Жозефина пережевывала ветчину, как корова гоняет во рту травяную массу. Она не чувствовала вкуса, не замечала, что ветчина уже превратилась в кашу. Молчание и тревожная неизвестность угнетали ее.
Наконец она осмелилась спросить:
– Так… а что стряслось-то? Почему Джамал вдруг улетел среди ночи?
Вместо ответа Арабелла подошла к телевизору и коснулась кнопки. Экран заполнился маленькими человечками. Целой злобной толпой маленьких человечков.
– У мальчика есть свои собственные тайны, – заметила она, не глядя на мисс Жозефину. – Вы, наверное, обратили внимание, как он изучает ваши фамильные портреты?
В телевизоре океан протестующих бушевал вокруг какого-то государственного учреждения. Камни и кирпичи летели в резной фасад, гремели выстрелы, и облачка пыли разлетались там, где пули ударялись о стены. Звенели разбитые стекла.
Камера наехала на высокие узорные окна. За ними виднелись лица людей, запертых внутри. Красивые черные лица.
* * *
Предсказания Толботта были безошибочны. Шестидесятые годы XX века уничтожили все прежние жизненные шаблоны. С тех пор целые поколения бродили по жизни неприкаянно, ища новые общие схемы. Ответом не был ни коммунизм, ни фашизм. Ни христианство, ни капитализм. Политическая деятельность, образование – все оказалось ложью. И величайшим подвигом современного человека стала расправа над этими оковами.
«Единственное качество, которое поистине объединяет нас, – это желание объединиться». Вот что он всегда говорил. «Народу необходима структура для объединения».
До недавнего времени нас объединяли внешние обстоятельства. Место проживания – с соседями, работа – с сослуживцами, церковь – с прихожанами, учеба – с однокашниками. Но потом люди начали все чаще переезжать и менять работу, церкви утратили авторитет – и мы лишились надежной постоянной связи друг с другом.
Толботт считал, что раса и сексуальная ориентация станут последними бастионами для формирования идентичности. Все великие объединяющие нарративы пошатнулись, непрочные внешние обстоятельства подвели; теперь придется сплотить ряды на основе самых фундаментальных характеристик – цвета кожи и полового влечения.
Уолтер все понял. Да, очевидно, что старик задумал книгу как средство обогащения. Все эти люди, джамалы и эстебаны, были пешками, авангардом, открывающим рынок для ее широкого распространения.
Согласно Толботту, потребление является последним оставшимся человеку способом самовыражения. Вот почему единственная реакция мужчины на красоту – желание хапнуть и присвоить. Статус измеряется уровнем и качеством поглощаемого – людского времени, энергии. Так и до каннибализма недалеко.
Более того, книга Толботта гласила:
Высшей формой поглощения является самоубийство.
И как следствие:
Цивилизация поглощает самое себя.
Именно так Толботт объяснял вырождение западных цивилизаций. Белое население пожирало себя посредством наркотиков. Черное – посредством насилия. Гомосексуальное – посредством заразы.
* * *
В увешанных гобеленами брачных покоях обнаружила Шаста своего молодого супруга. В великой спешке он складывал плундры и сюрко, потом, метнувшись к колоссальному платяному шкафу, достал упелянд из королевского ярко-синего бархата и снял с него пластиковый чехол из химчистки. В изножье их широченной кровати с балдахином лежал чемодан, наполовину забитый килтами и табардами. Чарли уложил между ними свой любимый гульфик.
Шаста попыталась обнять супруга, но он стряхнул ее руки, буркнув:
– Не сейчас. Вожди собираются на совет.
Гондольер должен был доставить его ладью вниз по реке Колумбия в руины Портленда. Там клан Чарли соберется в большом конференц-зале, на верху одного из уцелевших небоскребов. Ходили слухи, что в Портленде давно загнулось домашнее производство соевого темпе. Жители подъели все запасы и начали жрать друг друга. Прекрасный город-сад теперь вонял, как разоренная могила. В общем, никто из призванных на совет вождей грядущему путешествию не радовался.
Шаста невозмутимо повторила заход. Пальчики ее скользнули мужу между ног. Напряжение в его теле смягчилось. Шаста опустилась на колени. Ловко сняла с него пояс с ножнами, расшнуровала венецианские бриджи. Руки нашли его поникшую гордость и принялись за работу.
– Ай! – крикнул Чарли, содрогнувшись всем телом.
Шаста продолжила мять и месить, теперь понежнее.
– Осторожней, – проворчал он уже слабеющим от удовольствия голосом.
Шаста подключила рот к делу исполнения супружеских обязанностей. В груди поднималась волна тошноты. Несмотря на пышные слои органзы, от стояния на каменном полу болели колени.
Запрокинув голову, Чарли проскулил:
– Я что-то такое почувствовал…
Шаста прервалась на вдох и выпалила:
– Да уж я очень надеюсь! – И тут же постаралась убрать из голоса стервозность: – Я стремлюсь доставить вашему высочеству наслаждение.
Чарли застонал.
– Но… – Голос его прервался. – Народ Гейсии взял штурмом наше посольство и захватил дипломатов в заложники…
Едва ворочая языком в чувственном исступлении, Чарли кое-как промямлил, что Гейсия объявила войну и Блэктопии, и Государству Арийскому.
Новость застала Шасту врасплох, она чуть не подавилась. Тошнота нахлынула с новой силой, угрожая обжечь монарший скипетр горячей желчно-кислотной смесью. То-то был бы прощальный подарок!
* * *
Как-то вечером Уолтер рассеянно листал свежеотпечатанный экземпляр книги Толботта, когда старик вдруг поднял голову, нахмурил лоб и спросил:
– Что ты там читаешь?
Уолтер продемонстрировал ему иссиня-черную обложку с золотым тиснением.
– Как называется?! – прошипел Толботт.
Уолтер подчеркнул пальцем золотые буквы.
– Вот. «Ссудный день».
Старик побагровел так, что два полузаживших струпа на лбу снова закровоточили.
– Там же ошибка!
Уолтер повернул к себе обложку. Никакой ошибки, все так и напечатано…
– Разве это я тебе диктовал?! – брызгая слюной, взревел Толботт.
Уолтер похолодел. В уме он провел мрачный подсчет. Сколько книг было отпечатано и пошло по рукам? Ответ: все.
– Ты идиот! – разорялся Толботт. – Останови станки!
Уолтер не стал говорить ему, что поздняк метаться.
– Я велел тебе дать книге название «Судный день»!!!
«Судный». Ну надо же… А что еще он мог не так расслышать?
– Надеюсь, не поздно исправить эту… опечатку? – резко спросил Толботт.
«Судный день». Вот ведь…
И Уолтер соврал. Изобразив на лице самое искреннее раскаяние, он пообещал:
– Я все поправлю. Вы не волнуйтесь.
* * *
Закрыв и бережно отложив в сторону книгу Толботта, выступающий объявил:
– Квиры всегда были штурмовыми отрядами западной цивилизации.
Аудитория вокруг Гэвина загудела. В центре удержания человеческих ресурсов эту лекцию слышали неоднократно и наизусть знали, что за чем пойдет: бисексуальность Малкольма Икс, потом Джеймс Болдуин, потом феминистки с их собственной «ночью длинных ножей», когда они выкинули из своих рядов лесбийских матерей-основательниц, чтобы завоевать симпатии футбольных мамаш. По ходу дела обязательно будет упомянут расцвет прежде неблагополучных городских районов, а кульминацией станет история, как детская влюбленность Гитлера в одноклассника, Людвига Витгенштейна, повлекла за собой Вторую мировую и печально известное «окончательное решение еврейского вопроса».
Каждый месяц кто-нибудь из вождей Гейсии приезжал в лагерь с духоподъемной речью. В этот раз прямо аж вождь первого клана. Звали его Эстебан. Повысив голос, он пытался перекричать всеобщий ропот.
– А вот сестра моя… – перебил его Гэвин, и шум в зале тотчас стих. – А вот сестра моя Шарм тут подсчитала. И вышло, что сидеть нам всем по этим лагерям лет до сорока.
Говорил он совсем не громко, но в наступившей полной тишине эти слова прямо прогремели.
– И вот какого хрена-то?! – не выдержали на галерке.
– Женщин мы вывезем в приоритетном порядке, – ответил выступающий. – Для форсированного производства детей на экспорт.
Юные лесбиянки вокруг Гэвина застонали. В сравнении с карьерой ходячей матки в человеческом инкубаторе лагерная жизнь была не так уж плоха.
А Эстебан со сцены заверил:
– Это ускорит процесс обмена и сэкономит годы ожидания!
Позиция Гейсии, официальная их платформа была такова: ни Блэктопия, ни Государство Арийское не заинтересованы в том, чтобы держать у себя и кормить чужих граждан дольше необходимого. Надо договориться о мерах, позволяющих ускорить процесс обмена. Возможно, удастся заключить торговое соглашение об импорте граждан в кредит под обязательство предоставить соответствующее число эмигрантов от себя в будущем. Именно поэтому загрузка детородных мощностей должна быть максимальной.
Звучало вроде бы логично, однако реальность была совсем не радужна. Гэвин и его ровесники, первое поколение, достигшее возраста объявления ориентации уже после Ссудного дня, занималось сортировкой мусора. Они все сидели под замком, спали на нарах, ели лапшу быстрого приготовления трижды в день и развлекались отделением алюминиевых банок от жестяных и пенопласта от полипропилена. Рабский труд стал дешевле труда машинного. Конечно, рабским трудом это не называлось, называлось это нынче офшорным аутсорсингом. Привлечением заграничной рабочей силы – только вот рабочая сила эта находилась ни за какой не за границей, а очень даже посреди Государства Арийского. И работники были, конечно, никакими не рабами, просто им запрещалось выходить за пределы лагеря, а лагерь был обнесен забором с колючей проволокой и круглосуточно охранялся. И труд их был благороден и полезен для Гейсии и собственного личностного развития, вот только приходилось весь день горбить спину над конвейерной лентой, по которой ползла грязная упаковка из-под всякой фигни и липкие пивные банки в тучах мух, привлеченных запахами тухлятины.
Никто из ожидающих переселения не пробыл в лагере больше года, вот только каждый день тут шел за год, и календаря ни у кого не было, потому что никто не рассчитывал застрять так надолго, что понадобится календарь, разве что некоторые реалисты начали отмечать дни черточками на стене туалетной кабинки, чтобы каждый мог в любой момент лично пойти, посчитать и ужаснуться тому, сколько времени они уже тут сидят, ковыряясь в отбросах, хотя погоды твой ужас не сделает, выхода все равно нет. Раз в месяц очередная шишка из недостижимой земли обетованной выступала с духоподъемной речью, но сегодня Гэвин прервал эту речь, задав ужасный вопрос, который на уме у всех. Он спросил:
– Мое поколение приговорили тут к пожизненному сроку?
Таков был вывод Шарм. Она писала Гэвину, объясняя, что никого не обменяют, пока первому ребенку, рожденному в Гейсии, не стукнет восемнадцать. Ну, поштучно, может, кого и возьмут, а так чтобы в заметных количествах – нет. Да, сейчас в Гейсии есть дети, но их не так много. А потом, когда обмен наконец пойдет, приоритет будет у более молодых – как сейчас у женщин. К тому же Государство Арийское тоже делает ставку на рождаемость, и дешевой рабской силы в таких лагерях станет только больше. Потому что, будем честны, натуралы размножаются пошустрее, чем геи, все-таки у них в этом деле многотысячелетний опыт, а завтрашний день сулит постоянную гонку между странами – кто наштампует больше материала на экспорт.
Гэвин не хотел дерзить. Он питал к вождям Гейсии величайшее уважение. Вот только он желал правды. Вот только ее следовало произнести открыто, при всех. Вот только он не хотел быть гонцом, несущим дурные вести. Вот только молодость тут у всех проходит мимо.
– Сэр? – произнес он, чтобы его неудобные вопросы хотя бы звучали уважительно. – Мы вообще увидим свое отечество?
В зале раздались нестройные аплодисменты. Вот только Гэвин совсем не хотел сваливать проблему на голову этого Эстебана, который был из тех красавцев, каким стоит просто улыбнуться – и ты не можешь не улыбнуться в ответ, вот только неизвестно еще, какой он человек, кроме того, что очень красивый. Гэвин сразу вспомнил Шарм, как они с ней в последний раз играли в «мое-твое», такую игру, когда они распределяли между собой всех встречных на роль сексуальных партнеров, и главное было первым крикнуть «мое» или «твое», вот только в тот последний раз в парке Лорелхерст Гэвин показал на одного торчка, которого звали Ник, с метамфетаминовыми скулами и выжженными солнцем волосами, который еще катил перед собой тележку из супермаркета, в которую сгреб пол-аптеки, и Гэвин тогда заорал: «Твое!» А Шарм в ответ выдала ему двойника того смазливенького из «Томпсон Твинс», который с крашеным хной хайром и с белоснежной кожей, разве что одетого не в мешковатое шмотье из восьмидесятых – офигенного, короче, только Гэвин вдруг растерялся, потому что понял, что Шарм играет по другим правилам. То есть он-то хотел ее обстебать, а она выбрала для него самое лучшее, чтобы сделать ему приятно, а стеба она вообще не заметила, потому что ей на самом деле реально нравился метамфетаминовый торчок Ник.
Гэвин хотел ее поддеть, вот только она-то всегда хотела ему счастья с каким-нибудь двойником смазливенького из «Томпсон Твинс», вот только от этого было еще страшнее читать в ее письмах обоснования, почему эмиграция ему не светит никогда. Не из сестринской вредности она это писала, она хотела открыть ему глаза.
Вот только Эстебан ловко увильнул, начав распинаться об историческом опыте – мол, гомосексуалы издревле жили в монастырях и удаленных от мира обителях, где хранили и приумножали мудрость древних, изучая тайны природы, выводя новые сорта сладкого горошка, прилагая все усилия, чтобы наследие цивилизации не было уничтожено под пятой средневекового невежества.
Вот только Гэвина как-то не возбуждала перспектива наблюдать за сексом горошка, пока его собственное прекрасное горячее юное тело занимается сортировкой мусора. И он уже намеревался так и заявить открытым текстом, вот только тут на сцену выбежал администратор и сообщил Эстебану о срочном телефонном звонке. А когда Эстебан смылся, администратор подошел к микрофону и очень нехорошим голосом назвал имя Гэвина. Сказал, что к нему гости.
Гэвин пошел в приемную, а там сидела девчонка с таким количеством татух, что бойфренд ее после секса мог бы читать их как информацию о составе на коробке с хлопьями. И тут из дальнего угла вдруг выскочил совершенно голый, тощий, окровавленный старик. Голый, грязный, вонючий, весь в мелких сочащихся порезах. Вопреки своей воле Гэвин содрогнулся и отпрыгнул, будто наступил в густую паутину. Это, конечно, был не Ник, но типаж примерно тот же.
Гэвин посмотрел в глаза сестре и произнес:
– Твое.
* * *
Мужское достоинство свое Чарли в последнее время видел редко, ибо вечно погружено было оно во влажные отверстия Шасты. Вбирала Шаста его в себя и трудилась над ним, пока не возблагодарил он судьбу, что она последняя жена его, а не первая. Со дня на день полевые и домашние жены его должны были начать рожать. Будут отпрыски его рождаться быстро и часто, как вылетает из машины попкорн. Многих женщин осчастливил он одну за другой с перерывом в минуты. И плодиться они станут так же быстро и неукротимо, как сеял он в них свое благородное семя.
Многие из этих женщин служили ему без радости.
Ни в одной из них мужская сила его не нашла себе достойную пару. Кроме Шасты. Во влажные ее объятья исторгался он слишком часто. Была она ненасытным суккубом! Оставляла естество его выжатым и безвольным. Почти онемевшим и в то же время излишне чувствительным. Каждая неровность под колесами кареты болью отзывалась в утомленных яичках!
Как вовремя призвали его на совет вождей. Если Шаста все еще не понесла от него, остается признать, что задача ему непосильна.
Однако интуиция и надежда говорили ему, что все свершилось. Зеленоватая бледность стала появляться на лице королевы. Не раз она прерывала завтрак и бежала в уборную. Если королевская мудрость не подводила, Чарли зачал наследника в ее утробе.
Чарли возблагодарил Тора щедрой жертвой – обильным подношением сладкой брюквы и сочных побегов, достойным аппетитов бога. Теперь же, приближаясь к безмолвному городу, вождь радовался тому, что заручился поддержкой Одина и Локи. Ибо окружен был мертвый Портленд густым лесом. За прошедшие месяцы буйно разрослась в его пригородах цветущая буддлея, переплетенная с бирючиной и удушающим ковром можжевельника. Заброшенные сады теперь являли собой непреодолимую преграду.
Потребна была целая армия мечников, чтобы прорубить путь через сплошную стену чайных роз и кустов сирени. Будь свита Чарли менее многочисленна, они неизбежно сгинули бы в зарослях туи.
Однако растения были не единственной их заботой. Постоянную угрозу представляли обезумевшие местные жители. Одного люди Чарли заметили сразу. Тощий, как скелет, старик, наготу которого не скрывало ничего, кроме корки засохшей крови, пробежал мимо них по лесу. Этот бледный дух, весь покрытый бесчисленными ранами, выкрикнул: «Уолтер!» – и исчез в глухой чаще.
Прошло уже достаточное время, чтобы город признать безопасным. Остававшиеся в нем неприкаянные сожрали друг друга, а те, кто уцелел, были немногочисленны и слабы. Продираясь сквозь заросли, Чарли и его свита вдруг услышали тихую музыку. Невидимый музыкант наигрывал мелодию на струнном инструменте. Капитан стражи потребовал тишины, и рыцари и дровосеки перестали рубить.
Лишь пение птиц нарушало гробовую тишину города-призрака. Музыка стала громче, источник ее приближался, и наконец королевскому отряду явилась фигура.
Из чащи запустения и смерти навстречу им вышел человек. Худ он был как скелет и одет в лохмотья. Густая борода и длинные волосы почти скрывали под собой лицо оборванца. В руках у него была гитара, и на ней он рассеянно наигрывал что-то, пока не столкнулся нос к носу с королевской свитой. Лишь птицы да его музыка оживляли мертвую тишину.
Сидя на подушках в карете, Чарли был очарован мелодией. Давно ему наскучили представления придворных жонглеров и тирольские йодли.
– Подойди, бродяга! – позвал он. – Принадлежишь ли ты двору и господину?
Оборвыш поднял глаза от гитары. И не ответил, дерзкий наглец, лишь продолжил играть.
Один из стражей угрожающе поднял секиру.
– Говори! – велел он, готовый отсечь бродяге лохматую голову. – И говори в манере, принятой в Государстве Арийском!
– Ну? – поторопил Чарли. – Свободен ли ты, чтобы стать моим рабом?
Бродяга перестал играть и осклабился.
– И кто же это хочет быть мне господином?
– Невежественный ты осел! – не выдержал королевский лекарь. – Это не кто иной, как Чарли, вождь первого клана! Супруг прекрасной королевы Шасты, освободитель Государства Арийского!
Чарли вздернул подбородок и гордо расправил грудь. Похваляясь бесценными дерматиновыми перчатками, он поднял руку, чтобы поправить тяжелую золотую корону.
Музыкант перестал злобно скалиться. На его лице отразилось изумление, он втянул носом воздух и пролепетал, запинаясь:
– Милорд, я и правда о вас наслышан…
Придя в себя, он приложил ладонь к сердцу и отвесил поклон. Выпрямившись же, поинтересовался:
– А благородная жена ваша, не Шаста ли это Санчес, которая жила прежде на Саут-Ист-Линкольн-стрит, училась в школе Франклина, подрабатывала в «Старбакс» и была вратарем в футбольной сборной города?
Все замерли. Чарли увидел в бродяге угрозу. Возможно, даже соперника. С осторожностью он спросил:
– Знаком ли ты с обсуждаемой прекрасной особой?
– Что вы, милорд! – быстро ответил музыкант. – Просто любима она народом, все в округе знают, кто она и откуда. – Он положил гитару и сорвал с головы истрепанную вязаную шапчонку. – Мы гордимся, что дева из скромного нашего селения стала королевой белых земель.
Чарли от этих слов еще больше надул грудь. Оборванец ему понравился.
– А хорошо ли ты знаешь здешние места? – спросил он, обводя рукой гниющие кондоминиумы и остовы эстакад на горизонте. – Можешь ли ты провести нас через трясины и тернии, обойдя логова разбойников, что орудуют в этом богами забытом лесу?
– Как зовут тебя, простолюдин? – властно прикрикнул придворный лекарь.
Оборванец глянул на него с презрением и буркнул:
– Зовут как? Можете Ником звать.
Он сложил на груди руки и возвел к небу глаза, словно взвешивая предложение служить им проводником. Склонил голову набок, лизнул грязный палец, поднял кверху, оценивая скорость и направление ветра. Опустился на колени и прижал одно немытое ухо к земле, прислушиваясь. И лишь после всех этих действий сузил глаза и уточнил:
– А куда вам угодно направляться?
– К небоскребу «Терминал-Сейлс»! – громогласно объявил один из всадников.
– В конференц-зал на самом высоком его этаже! – гаркнул другой. – Там будет проходить совет всех вождей!
Чарли поднял руку в дерматиновой перчатке, призывая свиту к тишине. А грязного музыканта спросил:
– Знаешь ли ты это место?
Музыкант, не ответив ни слова, поднял с земли гитару и пошел в узкий переулок, никем прежде не замеченный. Махнул королевскому кортежу, маня за собой. И после секундного колебания зашагали вперед могучие лошади, заскрипели колеса кареты, и Чарли со свитой последовал в мертвый город за незнакомцем.
* * *
Эстебан слушал, прижимая телефон к уху. Он сознавал, что рано или поздно история их сотрет, но не думал, что так скоро. Книга Толботта подготовила их к смерти. Вознесла над аддикциями, над отчаянием. Дала им власть над миром и своей жизнью. Теперь же, когда пришло время радоваться победе, Бинга не стало.
Эстебан отдал телефон дежурному. Вышел в туалет. И там, сидя в кабинке, увидел нацарапанные на стене черточки. Он насчитал их триста семьдесят четыре.
* * *
Лакомая лежала задрав ноги, а мысли ее витали очень далеко. Она гадала, не разлюбит ли ее Джентри. Стоило ли вообще затевать всю эту историю с переселением туда, где она чужая?
К реальности ее вернул голос. Находилась она в смотровой – в маленькой кабинке, занавесками отделенной от множества таких же. Между колен у нее стояла фигура в маске. Волосы фигуры скрывала медицинская шапочка, и видны были только глаза – красные и запавшие под выцветшими, морщинистыми веками.
– Ну вот, теперь отдыхайте, – сказала медсестра.
В руке у нее была пипетка, с которой ползли капли. Медсестра протерла пипетку ваткой, резко пахнущей спиртом, и рассеянно проговорила:
– Спасибо за службу.
Первое поколение новых граждан – это не шутки. Лакомая стала гнездом для кукушкиного яйца. Легла в гинекологическое кресло, тем самым наставив рога мужу, и теперь будет растить чужого ребенка. Ребенка врага. А враг будет растить ребенка для нее. Фигурально выражаясь.
Ее новое отечество зависло на пороге третьей мировой. Чтобы иметь в своей власти как можно больше заложников, всех женщин детородного возраста призвали для обязательного осеменения. Все внутренние мощности были задействованы для максимального производства спермы – по условиям военного времени.
Занавески всколыхнулись, и в кабинку вошел трансвестит в усыпанном пайетками белом халате. В руках у него был металлический поднос с крошечными бумажными стаканчиками апельсинового сока. Лакомая взяла один, опрокинула в себя глоток разведенного водой сока, а трансвестит нежным голосом пропел ей: «Семя в тебе, я вижу, оно уже прорастает…». Слова из древнего хита Пола Анки «Ты ждешь от меня ребенка».
Трансвестит скрылся в соседней кабинке, и оттуда донеслось его пение. Медсестра, которая сама была уже на сносях, с трудом помогла Лакомой слезть с кресла и протянула ей больничную сорочку. Лакомая сунула руки в рукава. Откуда-то из ближайших кабинок донеслось: «Спасибо за службу».
Медсестра сменила на кресле стерильную одноразовую простыню.
– Мы рекомендуем полежать в зоне отдыха, это повышает вероятность успешного исхода.
«Спасибо за службу», – произнес мужской голос где-то рядом. «И добро к тебе не раз еще вернется», – зачем-то всплыло в голове у Лакомой. Она подавила смешок.
В целях соблюдения приличий Бэлль проводила ее на процедуру и ожидала в приемном покое. Под клинику приспособили бывшее здание аэропорта. Через несколько недель Лакомая окажет ответную услугу и повезет сюда Бэлль. Проделать те же манипуляции, хлопнуть стопку апельсинового сока и послушать четверть куплета из Пола Анки.
Больничная сорочка теперь была все равно что военная форма. «Но, может быть, мне больше служит тот, кто, лежа в кресле, задирает ноги», – опять возникло у Лакомой в голове, и она приложила все усилия, чтобы не заржать в истерике.
На улицах повсюду мелькали женщины в таких же балахонах. Больших, просторных – они были рассчитаны на то, чтобы носить до родов. И все это время носительница будет со всех сторон слушать благодарности.
Назад они взяли такси. Расточительство, конечно, однако водитель, остановившись у подъезда, от денег отказался.
– Спасибо за… – начал он.
Лакомая отвернулась и махнула рукой.
Переулок рядом с домом был завален цветами и плюшевыми мишками. Горели свечи, гвоздики благоухали сладкой гнилью на всю улицу. К мишкам и букетам были пришпилены открытки – вырезанные в форме сердца, надписанные от руки. «Бингу», – гласили они. «Нашему герою!» Очередь скорбящих тянулась через полквартала, люди ждали возможности положить розы или привязать букет шуршащих гелиевых шариков в цветах радуги.
Все это снимали журналисты, освещая толпу софитами. Вдоль очереди ходил репортер с микрофоном и спрашивал людей, как на них повлияло это убийство. Многие не скрывали слез. Развернувшись на камеру, репортер объявил: «Полиция располагает записью с камеры наблюдения. Убийца будет арестован в самое ближайшее время».
Бэлль и Лакомая поспешили в подъезд, держа ключи наготове. Вслед им неслось хоровое: «Спасибо за…». Последнее слово отрезали створки лифта.
Скрывшись в квартире, заперев дверь на все замки и набросив цепочку, Бэлль позвала:
– Феликс? Мы дома.
Никто не ответил.
– Феликс?
Работал телевизор. Как обычно, на экране был Толботт. Он говорил:
Мир желает получить общую теорию поля. Единую теорию, объясняющую все. Раз люди этого хотят – пусть получат.
Лакомая осталась стоять посреди гостиной. Бэлль постучала к сыну в комнату. Толботт говорил:
Не то мера человека, что он делает ради денег, а то, как он проводит свободное время.
Когда Бэлль вернулась, в руках у нее был листок. Она прочитала вслух:
– «Дорогая мама…»
И посмотрела на Лакомую полными слез глазами.
* * *
Насчет Канады он наврал. Это была проверка. После заката Доусон долго кружил окольными дорогами бывшего штата Айдахо. Когда профессорша, Раманта, уснула, он свернул на разбитую грунтовку меж колючих изгородей. Ночь была безлунная. Он ехал до тех пор, пока фары не выхватили в темноте ворота, преграждающие путь. Никакого знака на них не было. Доусон не стал подъезжать ближе, остановился так, чтобы дальний свет до них едва добивал. И подергал профессоршу за плечо.
– Приехали.
Она вздрогнула и проснулась. Пристально вгляделась в темноту.
– Граница, – сказал ей Доусон.
Одному Богу известно, что там, за этими воротами – но точно не Канада. Может, чье-нибудь поместье, где ее схватят и казнят по законам нового времени. Или пастбище, и тогда волки доберутся до нее раньше людей. Так или иначе, протянет она там недолго. Что ж, это уже будут не его проблемы. Доусон выключил двигатель, но фары оставил. Воровато огляделся, будто проверяя, нет ли патруля.
Раманта, щурясь, глядела сквозь пыльное лобовое стекло.
– Мне идти в ворота?
Доусон кивнул.
– Не тяните.
Из динамика нашептывало радио: «…действует и добивается результатов».
Не сводя глаз с ворот, профессорша ощупывала карманы.
А Доусон чувствовал сквозь собственный карман тяжесть обручального кольца. Он ждал благодарности. Он ведь не убил ее, доставил в безопасное место – ну, в ее понимании. Ему было уже очевидно, что тест профессорша завалит самым позорным образом.
Она впервые обратила внимание на маленькую фотографию на приборной панели. С фотографии улыбалась женщина.
– Красивая. Жена ваша?
Доусон посмотрел в глаза Роксане в сумрачном свете зеленых огней.
– Нет. Сестра.
Без единого слова благодарности профессорша распахнула дверь и вылезла из кабины. Посмотрела на Доусона, раскрыла рот, чтобы что-то сказать. В двух конусах света вилась мошкара, ворота сияли белым, как горящий фосфор, а за ними стеной застыла черная тьма. Откуда-то неподалеку донесся волчий вой.
– А где это в Канаде? – спросила профессорша, снова обернувшись к Доусону.
Он демонстративно поднял руку, задрал рукав и посмотрел на часы. Была глубокая ночь. Если эта женщина скажет ему «спасибо» в течение следующей минуты, может, он и не даст ей пойти на смерть. Вой снова прорезал ночную тишину.
– Долина Оканаган.
Озера. Россыпь маленьких домиков. Прекрасные вишневые сады. Доусон заверил ее, что, как только она пересечет границу, она получит статус политического беженца. Ей обеспечат кров и возможность начать новую жизнь.
Пускай ее последние мысли будут приятными. Пусть идет во тьму, как в распахнутые объятья. Когда волки ее учуют – то есть почти сразу, как Доусон уедет, – она пожалеет, что ее не пристрелили в Ссудный день.
Профессорша выудила что-то из кармана плаща и положила на сиденье рядом с Доусоном. Какая-то бумажка. Старая купюра – то есть бесполезный мусор.
– Это вам за труды.
Она поплотнее запахнула плащик и распорядилась:
– Фары не выключайте. По крайней мере, пока я не пройду.
И быстрым решительным шагом направилась к воротам. В луче фар ее тень впереди нависала высокой страшной фигурой, а из-под ног плыли облачка пыли, поднятой с дороги.
Оказалась такая же, как все. Как все ее бесхребетное племя себялюбцев, которых волнуют только собственные интересы. Она была не первая. Доусон возил сюда и других. Сначала журналистку одну, которая ухитрилась где-то пересидеть Ссудный день. Вроде звали ее Твид или как-то так, репортерша на телевидении. Вторым был такой же умник, доктор наук. Мозгоправ по фамилии Ашанти, голосов за ним было полмиллиона. Оба ломанулись в темноту, ожидая найти там своих, прогрессивных либералов. Потом был еще третий, какой-то хрен из городской администрации Сиэтла. Все трое ушли через ворота, не сказав даже «доброй ночи». А Доусон каждый раз выключал фары и ждал. Волки находили их раньше, чем они успевали сообразить, что к чему, и побежать обратно. Он слышал, как они ломятся через колючие кусты. Слышал их вопли. Его лично они не звали – потому что ни один не потрудился спросить его имя. Просто выли: «Спасите!» Ожидали, что кто-нибудь примчится им на помощь. А еще кричали: «Мистер!» А еще: «Пожалуйста!» А под конец уже просто кричали.
Очередная эта, Раманта, была уже на полпути к воротам.
У Доусона в такие моменты каждый раз мелькала одна и та же мысль. Чем отправлять на съедение волкам, не лучше ли завести мотор, включить третью передачу и рвануть? Переехать ее сейчас было бы милосерднее. А потом срезать ухо. Так выиграют все – включая волков, которым достанется труп.
Он нащупал в кармане обручальное кольцо. Его ждали дома. Он не показывался дома больше трех месяцев. Все свои молодые годы он был образцовым мужем, служил образцовым работником в цеху. Теперь-то он, конечно, вождь. Если захочет – может завести себе целый гарем жен. Может править целым народом. Та же западня, только покрупнее – ведь придется быть образцовым мужем толпе баб и служить образцовым королем толпе подданных.
Пальцы Доусона скользили по гладкому, твердому, замкнутому кругу обручального кольца.
Вот почему он вел теперь кочевую жизнь. Он обнаружил, что у него душа варвара. Он воин. А победа – это смерть воинского духа. Ему нужны были новая армия и новые битвы.
Победа сама по себе неплоха, но вполовину не так хороша, как сражение. Вот зачем Доусон устраивал испытания этим недобиткам. Он искал единственного достойного, который станет ему сообщником. Того, рядом с кем его жизнь продолжит быть приключением.
Наверное, он слишком долго жил внизу иерархии. Не умел наслаждаться ничем, кроме борьбы. Несовместим он с праздностью и покоем, не такого он склада. Ему милее угнетенная сторона.
Профессорша уходила вдаль. Тень на воротах, уменьшаясь, почти сравнялась с ее ростом. Еще несколько шагов, и два человечка встретятся.
Доусон хотел, чтобы она остановилась. Его рука зависла над центром руля, готовая посигналить. Предостеречь. И все же он хорошо понимал: нет смысла спасать недостойного. Шепотом он умолял ее остановиться. Повернуть назад. Примкнуть к нему в новом походе.
Он хотел быть не землевладельцем, а движущей силой. Жена голодать не будет, она продолжит получать его долю от клана, этого хватит, чтобы прокормить сотни ее слуг и работников.
В качестве малой жертвы Доусон опустил стекло. Достал кольцо из кармана, высунул кулак наружу. Разжал пальцы. Падая, кольцо звякнуло о дверь кабины и потерялось навсегда.
Когда раздался еле слышный звон, женщина застыла на месте. Рукой она уже тянулась к задвижке – сияющая белая рука кончиками пальцев касалась черной руки, принадлежащей тени. А потом руки отпрянули друг от друга.
Женщина развернулась и пошла назад.
Волчий вой стал ближе, и Доусон нажал на сигнал, чтобы распугать хищных тварей. Потянулся через кабину, распахнул пассажирскую дверь.
Женщина влезла внутрь.
– Я не могу, – произнесла она твердо и скрестила руки на груди. – Не могу я вот так запросто сдаться и пойти строить жизнь с нуля. Даже за весь кленовый сироп в мире.
Не волки ее напугали. Она переродилась.
Устремив яростный взгляд в ночь, она заявила:
– Не могу я смириться с победой врага. Не могу предать свои идеалы. – Она повернулась к Доусону, ее глаза горели. – Гендерные исследования – это полноценная наука, я не дам им отправиться в небытие, даже если придется драться за них до последней капли крови!
Хрупкие кисти сжались в каменные кулаки. Голосом, хриплым от жажды мести, она вскричала:
– Люди должны читать Белл Хукс!
Доусон в ней ошибся. Она прошла испытание. Она боец. Находка.
Лицо профессорши смягчилось.
– Господи, я ведь даже вас не поблагодарила. – Она протянула Доусону руку. – Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
– Доусон, – ответил он и повернул ключ в зажигании.
* * *
Мисс Жозефина взяла в привычку читать Толботта. В книге, в частности, говорилось, что повествование, по сути своей, является актом переваривания. Мы извлекаем из недр головы какую-нибудь тему, как жвачное животное вроде коровы извлекает из недр желудка полупереработанную травяную массу. Рассказывая истории, мы помогаем себе изжить эмоциональную связь с событиями прошлого. Мы вытягиваем истории из окружающих. Пережевывая счастливые или несчастные моменты жизни, мы облегчаем усвоение, принимаем их как обычный человеческий опыт. А если историю перестать рассказывать, она становится твоей частью.
Мисс Жозефина столько раз пережевала славную историю своей семьи и расы, что утомилась от белизны. Книга Толботта утверждала, что человечество страдает истощением идентичности. Люди стали жить слишком долго, чтобы обойтись одной версией себя, поэтому самые смелые ищут новые горизонты. Мужчины становятся женщинами. Белые становятся черными.
Понемногу мисс Жозефина стала осознавать тот факт, что она является кульминацией уходящей далеко в прошлое цепи бунтарей и первопроходцев. Она последняя в своей породе и смертельно устала бесконечно пересказывать блистательную фамильную историю. Славные дни ее предков остались далеко позади. Их историям пора умереть вместе с ней. История собственной жизни уже превратилась на ее языке в безвкусную кашицу. Мисс Жозефина встала с кресла и принялась одну за другой гасить лампы. В полной темноте она подошла к тумбочке у кровати и нащупала на кружевной салфеточке свечу и спички.
Вспыхнул спичечный огонек.
* * *
В книге говорилось: «Чувство правоты – это наркотик».
В ней предлагалось пойти на званый ужин и в светской беседе заявить, что Сильвия Плат была расисткой, ведь в самом знаменитом своем романе «Под колоколом» она делает выводы о расовой предопределенности уровня интеллекта. Ваши соседи по столу испытают множественный оргазм, когда, брызгая слюной, будут объяснять вам разницу между стеклянным колпаком и колоколообразной кривой – и Сильвией Плат и Чарльзом Мюрреем. Заведите разговор о Роберте Бенчли – о том, что он был членом знаменитого писательского «Круглого стола Алгонкина», и все же народная слава пришла к нему лишь после выхода романа «Челюсти». Прочтите лекцию о трагической гибели новозеландской писательницы Кэтрин Мэнсфилд: ее жизнь оборвалась в автокатастрофе, когда она на легковушке въехала под грузовик, распылявший противомоскитный инсектицид. Привлеките внимание к любопытному факту: причиной смерти Мэнсфилд была черепно-мозговая травма, но поскольку репортеры сфотографировали ее белокурый парик в разбитом лобовом стекле, многие решили, что бедняжку обезглавило. В заключение сообщите, что именно после этого несчастного случая все грузовики в обязательном порядке оснастили специальным противоподкатным буфером, второе название которого «бампер Мэнсфилд». «Наберитесь терпения, – рекомендовал Толботт, – до аудитории может дойти не сразу. Но когда дойдет, вас кинутся исправлять наперебой с кровожадностью стаи гиен, заметивших одинокую антилопу гну».
Толботт говорил: разрешите людям побыть правыми, ведь правота даст им возможность получить хоть что-то от своего пустячного, бесполезного образования. Он говорил: позволяя людям насладиться правотой, вы получаете их любовь, потому что мы любим лишь то, над чем ощущаем превосходство. Мы любим тех, в ком нет угрозы.
Делать людей правыми – лучший способ ими управлять.
* * *
Джамал решил побаловаться рюмочкой довоенного портвейна. Довоенного – в смысле, пережившего гражданскую войну между Севером и Югом. А выпить Джамалу этим вечером было совершенно необходимо. Он только что вернулся с совета вождей, на котором узнал о неизбежности войны с Гейсией. Теперь он поднял бокал за мир и процветание, данные Ссудным днем. Не суждено им было продлиться долго. Будущее уже наступало.
Он поднял бокал за военных, глядящих со старинных картин. Жили они совсем в другом мире. Каждый из них действовал так, как велела ему совесть, и каждый был героем. Джамал восхищался их смелостью и упорством, пусть деяния этих людей в ретроспективе выглядели неразумными. На парадных портретах, написанных для украшения гостиных, стояли нарядные франты в эффектных позах, но в жизни это были самые крутые и четкие пацаны своего времени.
Джамал размышлял о том, что когда-нибудь в далеком будущем даже столь благородное деяние, как Ссудный день, может быть признано отвратительным. Не зря Толботт утверждал:
Слабейшие из живых всегда будут пытаться снискать славу, попирая пятой истинно героические деяния мертвых.
Для кого-то из еще нерожденных слабаков Джамал будет образом злодея. Оставалось надеяться, что будущие трусы сумеют оценить храбрость, с которой современники Джамала искоренили порочную систему и заменили ее новым общественным устройством. Глядя в тусклое старинное зеркало, Джамал поднял бокал за себя.
Именно тогда его питбуль, Вышибала, вскочил с ковра, потянул носом воздух и заскулил.
Именно тогда Джамал учуял гарь. Камин в комнате не был растоплен, запах шел не от него. Где-то в доме взвыл детектор дыма, потом еще один. Вскоре вой тревожного сигнала несся из каждой комнаты.
Джамал сразу вспомнил про террористов, о которых предупреждал Толботт. Наверняка поджог – дело рук канадцев или сторонников прежней власти! Кто-то, лелеющий надежду объединить разъединенные штаты, решил спалить его в собственном доме! Или же начали подрывную деятельность агенты Гейсии!
Джамал помчался наверх, прыгая через три ступеньки. С каждым этажом дым становился гуще. Дверь чердака была горячей, за ее ручку Джамалу пришлось браться через полу незаправленной рубашки. Ручка не поворачивалась. Дверь была заперта.
Молотя кулаками по горячему дереву, Джамал крикнул:
– Барнабас! Открывай!
Слабый голос с той стороны ответил:
– Ты не понимаешь.
Дверь раскалилась, как сковородка, но Джамал навалился на нее плечом. Вековой дуб не поддавался.
– Открой дверь! – потребовал Джамал и сам поразился своему командному голосу.
Таким зычным басом он мог бы произносить речи перед многотысячной толпой без всякого микрофона.
Вышибала скреб лапами щель под дверью, из которой валил дым. И лаял, лаял.
Нет, таким не будет финал его книги! Книга «Черная, как ты» в самом начале. Ей нужна счастливая концовка, как в «Трех лицах Евы» – таково правило для всех подобных документальных историй.
Раз грубая сила не помогала, Джамал пустил в ход чары.
– О, Барнабас! – взмолился он. – Кто будет рассказывать мне о плантации?!
В ответ ему раздались рыдания. Совсем близко, на расстоянии ладони, прямо по ту сторону дубовой плиты.
– Да пропади она пропадом, плантация эта, – всхлипывал голос. – Она жизнь мою украла. Какая глупость, столько времени цепляться за прошлое…
Осененный, Джамал сменил тактику:
– Тогда давай вместе отсюда уедем! Вместе будем строить славное будущее Блэктопии!
Что-то тяжело привалилось к двери с той стороны и сползло на пол.
От дыма было уже нечем дышать. На этот раз голос донесся снизу, из той щели, которую Вышибала тщетно пытался разрыть обеими лапами.
– Джамал, тебе не понять… – еле слышно пролепетал голос.
Джамал рухнул на пол и крикнул в щель:
– Я все понимаю!
– У меня ведь здесь корни… – шуршал голос.
– У меня тоже, – ответил Джамал потише.
Умирающий голос вздохнул:
– Да я ведь даже не негр…
Джамал чуть не расхохотался. Чуть не, но все же нет. Он спросил себя: а как бы поступил в такой ситуации его герой, Толботт Рейнольдс? И перекрывая рев полыхающего инферно и хоровой визг противопожарной сигнализации, он заорал:
– Да я тоже не черный!!!
На лестнице замигал и погас свет. Где-то звенело стекло – то ли вылетали наружу окна, то ли взрывались хрустальные графины с прекрасно горящим самогоном. В хаосе звуков, во тьме, озаренной рыжим пламенем, прошла целая вечность. Джамал понял, что Барнабаса больше нет и сам он не жилец, если еще хоть миг останется тут, под дверью.
И тут скрипнула защелка, и дверь распахнулась. А за ней, среди стен адова пламени, сгорбился маленький закопченный бес. Тараща глаза, бес выпалил:
– В каком смысле ты не черный?!
Пес взвыл, и Джамал скомандовал ему:
– Беги!
И сам нырнул в огненный туннель, в который превратилась лестница. Мелкого беса он волок за собой по воздуху, покрепче ухвативши за ручонку.
* * *
Светлейшие умы центра удержания человеческих ресурсов были чем-то поглощены. Дежурный охранник в приемной вполголоса переговаривался с охранником, приставленным к дверям, и оба они не отвлеклись от этого занятия, даже когда Шарм подошла и на голубом глазу заявила, что у нее тяжелая сумка и брат должен помочь ей донести вещи от машины. Дежурный просто махнул им рукой, чтоб проходили.
Шарм и Гэвин вышли на крыльцо. Перед ними были парковка и ворота, ведущие наружу. Гэвин увидел среди прочих машину матери. А в соседней за рулем сидел тот самый тип, который только что выступал. Эстебан. Он безудержно рыдал, зажимая себе рот обеими руками. Даже в таком виде – в слезах, с трясущимися от всхлипов плечами, – он был очень и очень сношабельный.
– Мое, – прошептала Шарм.
Гэвин усмехнулся.
– Губу закатай.
Они бочком засеменили к машине. На вышке у ворот стоял охранник с автоматом наперевес. Даже издалека видно, что страхолюдный.
– Твое, – хором сказали брат с сестрой.
– Синхрон, – сказал Гэвин.
– В машину садись, – сказала Шарм.
– И куда ехать-то? – не понял Гэвин.
Все равно ворота были заперты наглухо. Но Шарм помахала уроду на вышке, уселась за руль и завела мотор. Гэвин влез на пассажирское сиденье, и машина тронулась с места.
Оба охранника из приемной выскочили наружу и уже бежали за ними. Урод на вышке поднес что-то к уху.
Машина неслась навстречу закрытым воротам, а по радио неизменный голос вещал: «Прелесть выдумки в том, что ей нужно лишь пахнуть правдой».
Шарм резко затормозила, оставляя на бетоне дымящиеся следы. Ворота были стальные – не протаранишь, к тому же электрифицированные, и охранники уже нагоняли. Перед воротами торчала на шесте кнопочная консоль – с водительской стороны подъезжающих машин, на таком расстоянии, чтобы рукой дотянуться.
– Все, хана, – констатировал Гэвин, глядя на охранников в зеркало заднего вида.
Шарм опустила стекло и быстро набрала на кнопочной панели комбинацию цифр. Ворота распахнулись.
Из-под колес брызнул гравий.
Охранники остались далеко позади, кашляя от дыма паленой резины.
– Откуда ты узнала код? – изумленно спросил Гэвин.
Сестра улыбнулась ему.
– Не поверишь – купила за собственные слюни. Ремень пристегни.
Гэвин послушно пристегнулся.
* * *
Пока они неслись через анфилады пылающих комнат, мисс Жозефина дивилась собственному тупоумию. Как она могла не заметить? Этот мальчик, этот Джамал, он ведь как две капли воды похож на фамильные портреты! Тот же самый благородный профиль, высокий лоб мыслителя, линия волос с «вдовьим мысом», столь частым в роду Пибоди. И чуть нависающие веки – давний признак их породы.
Таща ее по полосе препятствий, лавируя между объятыми пламенем кушетками и полыхающими сервантами, юноша объяснил ей, что он потомок Белинды, бывшей на плантации рабыней до войны. С девушкой втайне обвенчался двоюродный прапрапрадед мисс Жозефины.
– Вот он! – крикнул Джамал, проносясь мимо полускрученного в огне портрета красивого майора Конфедерации. – Вот мой прапрапрапрадедушка!
– Так ты белый!
Джамал скривился.
– Еще не хватало!
Перекрикивая бушующий пожар, он гаркнул во всю мощь легких:
– Соврал я! Просто чтоб спасти твою маразматическую привилегированную белую жопу!
Копченый бес таращился на него в полном замешательстве.
– Но, – добавил Джамал, – мы и правда одной крови. Я твой последний родич из семьи Пибоди.
* * *
Бэлль стояла в дверях гостиной и вслух читала оставленное сыном письмо.
Начиналось оно так:
«Дорогая мама. То, что я сделал, я сделал не ради себя. Я защищал тех, кого люблю. А разве не такова была цель Ссудного дня?»
Бэлль подняла глаза на Лакомую и перевела взгляд на кресло. Лакомая тут же вспомнила, что в клинике велели поберечься, и села.
«То, что я делаю теперь, – продолжала читать Бэлль, – тоже будет ради вас и защиты вашей тайны».
В коридоре за дверью послышался звуковой сигнал подъехавшего лифта. Приближались тяжелые шаги и глухие голоса. Письмо в руках у Бэлль затряслось.
«Я ухожу в пограничные земли. Вот и узнаю, врут про них или нет. Я хочу жить в обществе, в основе которого свободный выбор, а не биологические обстоятельства».
Открылась дверь у соседей. Кто-то спросил: «Это по поводу убийства?» И угрюмый голос ответил: «Граждан просим оставаться в квартирах!»
Лакомая сделала Бэлль знак, чтобы продолжала читать.
«Это земля, которую патрулируют волки. – Глаза Бэлль метались от письма к двери. – Которую охраняют горные пумы. Шершни, москиты и колючие заросли будут мне крепостными стенами…»
В коридоре на мгновение все стихло, потом раздался громовой стук в дверь. Резкий, угрожающий голос выкрикнул:
– Открывайте! Полиция!
Лакомая и Бэлль в панике переглянулись.
«Мне жаль, что Бинг мертв. Мой лучший друг». На этом письмо заканчивалось.
– У нас ордер на арест Феликса!
Лакомая подняла руки перед собой, изображая, будто рвет пополам лист бумаги.
Белль разорвала письмо надвое.
Лакомая схватила половину, смяла в шарик, сунула в рот и начала жевать. Бэлль торопливо последовала ее примеру.
– Здание окружено! – кричали снаружи.
Лакомая напряглась и проглотила бумажный комок, как большую таблетку. Бэлль давилась, держась за горло. Лицо ее посинело.
Дверь разлетелась, осыпав их дождем щепок. Лакомая колотила Бэлль по спине.
В пролом вошла фигура. Высокий тип в ботфортах. Полицейская форма у него была со стразиками, а значок от них так и переливался.
– Где пацан? – выкрикнул тип.
На груди у него искрилась плашка с именем «Эстебан», выложенным блестящими камушками. Камушки украшали и табельный револьвер – так много, что невозможно было определить его калибр.
При виде этого ослепительного колосса Бэлль от шока сглотнула, и так вопрос с письмом был решен.
* * *
Особняк Пибоди уже ничто не могло спасти. Благородное обиталище серебряных бокалов для джулепа и клавесинов розового дерева с оглушительным треском рушилось вокруг Джамала и Барнабаса.
И когда перспектива гибели под обломками каких-нибудь старинных часов была уже очевидна, откуда-то из густых клубов дыма залаял пес. Вооруженный прекрасным собачьим нюхом, Вышибала отыскал входную дверь. Джамал и мисс Жозефина побежали на звук лая и вскоре оказались на парадном крыльце.
Именно в этот момент великолепные греческие колонны треснули от жара, и пылающая крыша наружной галереи полетела вниз со скоростью и ревом товарного поезда.
Два человека и пес вложили все свои силы в прыжок с крыльца на лужайку и тем спаслись. Позади них крошилось и оседало старинное родовое гнездо, а они бежали вперед, в ночную прохладу.
– Что теперь с нами будет? – тяжело дыша, волновалась мисс Жозефина.
– Помнишь книгу, которая называется «Гроздья гнева»? – спросил ее Джамал.
Мисс Жозефина торопливо закивала.
– Вот все, что они в этой книге делали, – произнес Джамал, – мы будем делать ровно наоборот.
* * *
Толботт утверждал, что их книга изменит мир.
Уолтер фыркнул.
– Вы прикалываетесь, что ли? Книга ведь просто прикол, да?
Новый папаша заржал булькающим смехом.
– Рудольф Гесс тоже задавался этим вопросом!
Он сделал долгий выдох – секунду, две, три воздух покидал его грудь будто в последний раз. Ребра провалились вглубь грудной клетки, словно внутри осталась лишь пустота.
Уолтер поерзал на месте, готовый записывать. Он так долго печатал под диктовку, что разучился формулировать собственные мысли.
– Вы же написали фантастику? – спросил он. – Правда?
Подбородок старика поник до самой груди.
– Мы уничтожаем нацию, чтобы спасти людей. – Толботт говорил с трудом, то и дело умолкая, чтобы отдышаться. – Черная молодежь пачками убивает друг друга. Геи распространяют среди своих заразу. Белые травят себя опиатами.
Старик совсем обвис на стуле и не заваливался на пол лишь благодаря скотчу, которым был привязан.
– Растя ли детей или проповедуя идеи, человек делает одно: постоянно распространяет себя, как семя.
– В смысле мы этим тут занимаемся? – Уолтер запнулся. – Семя распространяем?
Там, в Прежние Времена… когда эта книга еще не была книгой… новый папаша Уолтера оставил его вопрос без ответа.
– Это же просто книжка! – протестовал Уолтер. – Ничего такого не будет!
Толботт кое-как собрался с силами и приподнял голову.
– Мы регулярно приносим людей в жертву ради нации. – Его губы растянулись в кривой слабой улыбке. – А может, неплохо бы раз в сто лет пустить нацию в расход для спасения людей… – Он уставился на Уолтера осоловелым взглядом. – Спасибо тебе, Уорнер.
Уолтер не стал его поправлять.
– Ты мой Босуэлл, – продолжал старик. – Мой писарь. Стенограф. Личный секретарь.
И стал разглагольствовать о том, как пророк Иеремия диктовал библейские тексты Варуху, апостол Павел – Терцию, апостол Петр – Силе, Иоанн Богослов – Прохору. Гитлер надиктовал «Майн кампф» Рудольфу Гессу.
– Ну вы сравнили! – фыркнул Уолтер. – С Библией!
Толботт не обратил на это внимания. Потеплевшим голосом он признался:
– Ты стал мне почти сыном. Другого у меня никогда не будет. Ты – тот ученик, о котором мечтает всякий. Ты понесешь мою жизненную мудрость в будущее во благо человечества!
Уолтера пробил озноб.
– Мир желает получить общую теорию поля, – бормотал Толботт. – Единую теорию, объясняющую все. Раз люди этого хотят – пусть получат.
Веки его слипались, кровь, упрямо сочившаяся из порезов, унялась.
– Если хочешь разбогатеть, закупай дерматин, – прошелестел он. – Добудь себе оружие и найди Доусона или Джамала. Убей тех, кого они тебе назначат.
И тут он как будто снова уснул. Голова завалилась на спинку стула, рот раскрылся, обмякший язык выпал наружу.
Уолтер не стал проверять пульс, до того мертвым выглядел старик. В службу спасения тоже звонить не стал. Теперь были проблемы поважнее.
Уолтер много недель просидел в подвале, пока с миром наверху происходили медленные, необратимые изменения.
Там вполне уже могли копать ямы. Список самых нежеланных людей Америки насчитывает тысячи, десятки тысяч имен. Не меньше читателей у книги Толботта. И все это наверняка прикол. Грандиозное надувательство.
Но на случай, если все-таки нет, Уолтер позвонил Нику. И Шасте.
* * *
Охваченная страстью, обольстительно умоляла Шаста: «Возьмите же меня, милорд!». Закатывая глаза, бросала на него зазывные взгляды. Алый ротик ее приоткрылся, словно пьяна была она желанием, как развратная девка.
Не успел вернуться Чарли во дворец с совета, как насела она на него, склоняя к соитию. Повисла на нем, едва сошел он с кареты. Тот бродяга, Ник, ловко провел их по мертвому Портленду – и на совет, и обратно. Столь приятным спутником он был, что Чарли пригласил его в Мэрихилл развлечь придворных музыкой во время празднеств по случаю урожая тыкв.
Как предписывали правила хорошего тона, Чарли представил нового музыканта домашним женам, придворным и королеве.
Потрясенно взглянула на него Шаста, хоть и уверяла, что никогда прежде бродягу не видела. Покраснела густо и повлекла Чарли за собой, всяко давая понять, какой огонь разожгла в ее чреслах разлука с супругом.
Удалившись с ним в брачные покои, кинулась она распускать на нем шнуровки. Лихо сорвала и отбросила жемчугами расшитый гульфик. Искусными манипуляциями рта и рук вознамерилась взволновать его.
Прежде совокуплялся с ней Чарли во всех уголках своего дворца, теперь же устал он. Горстями пил он «виагру», но не имела она эффекта. Монарший скипетр его и сферы поникли, рыхлые и мягкие, как губка. Глухи они оставались к чарам прелестниц, но крайне чувствительны стали к любому касанью – подкладка самого мягкого гульфика их натирала. Уверял его лекарь, что недомогание сие преходяще и является лишь результатом неумеренного пользования. Сам же говорил себе Чарли: «Это от стресса».
А королева, не слушая протестов, снова его осаждала. Хотя живот ее уже отяжелел приплодом, судя по изменениям стана и отсутствию месячных очищений, на желание ее это ничуть не повлияло. Стянула она с Чарли панталоны из дерматина, корсаж с себя сорвала, обнажив налитую грудь. Нагая и обольстительная, завалила супруга на ложе и силой оседлала его благоуханными своими прелестями.
Увы, безучастен остался монарший скипетр к чувственным ласкам. Лежал он между ног у Чарли дохлым удавом. Бледный и бесхребетный, как выеденная шкурка сосиски. Шаста же в исступлении продолжала дергать и дергать.
Хоть и было Чарли немного больно, он благодушно терпел, уважая супругу. Рассудил он, что от таких стараний быстро она устанет. Смутно припомнилась ему история лекаря о матери его и катетере…
И тут королева дернула изо всех сил. Утратив опору, повалилась она спиной на ковры с постели. А вскочив, ликуя воздела в кулаке свою добычу. Увидел Чарли в руке ее нечто вялое и бессильное. Обмякшее и клеклое. Бледное и бескровное, как луна.
И вскричал он в ужасе:
– Что ты наделала, гнусная ведьма?!
А Шаста отвечала ему, злобы своей не скрывая:
– Говори по-нормальному, реально задрал уже ваш средневековый цирк! – Она потрясала скользким, капающим своим трофеем. – Про скрипичного паука слышал?
И разразилась ученой тирадой о некой чудовищной твари, которая укусом своим впрыскивает жертве токсин. Омерзительный яд, что вызывает некроз тканей. Сам же укус безболезнен, и омертвение наступает не сразу.
– Чувак, – хохотала вероломная, потрясая куском мяса, – я совала этих пауков тебе в августейшие гульфики с первого урожая водяного кресса!
Со временем паучий яд вызвал потерю чувствительности и принялся уничтожать мужской орган изнутри. Много было того яда от многих укусов, постепенно растворил он клеточные мембраны и превратил инструмент продолжения рода в бесполезный мешочек с розовой массой. Этот пузырь с желе и оторвала разъяренная королева. Теперь держала она его над головой и потрясала им, как полароидным снимком. Замахнулась она с бейсбольной сноровкой, готовясь швырнуть полужидкий, бесчувственный студень.
И Чарли, могучий вождь первого клана Государства Арийского, знатный владелец поместья Мэрихилл, доблестный убийца многих врагов из Списка, избранный вождем Доусоном, избравший вождя Мартина, избравшего вождя Патрика, избравшего вождя Тревора, испустил Чарли визгливый вой.
А Шаста крикнула ему:
– Я залезла в твой компьютер! Я знаю, что вы сделали с Уолтером!
И в тот же миг запустила она свой трофей в витражное окно, тот с брызгами красных и желтых осколков взмыл в безоблачное небо и с влажным хлюпаньем шлепнулся под ноги полевым женам, которые тут же узнали его, едва коснулся он земли меж грядок с мангольдом и цукини. Там, в пыли, и нашел он последнее пристанище, и жадные муравьи тут же припали к этой реликвии.
В ужасе взирая на мокрый кратер, оставшийся на месте его скипетра и сфер, Чарли выл и призывал на голову коварной гнев Одина, Тора и дворцовую стражу.
– Гореть тебе за это на костре, подлая ведьма! – вопил он.
Но жена его и мать его последнего, нерожденного еще ребенка уже спешно покинула помещение. Зловредно выкрикнув на прощанье:
– И что бы там ни говорил твой Эрнст Цюндель, Холокост был очень даже по правде!
* * *
В мире, где только начали рыть ямы под братские могилы, выстилая их пластиковой пленкой и слоем извести, Ник держал мобильник и обдолбанным голосом уточнял: «В смысле это, типа, будет прям реально большая революция?»
Уолтер не знал, что именно успела натворить книга Толботта и ее последователи. Он хотел предупредить кого-нибудь. Хоть кого-то. И позвонил единственным двоим, кому в жизни доверял.
Шаста спрашивала в трубку: «Уолтер, погоди, ты что, убил человека?»
Оба спросили, что он теперь собирается делать.
Уолтер сидел в подвале с мертвецом и тучей черных мух. С мертвым стариком, которому он обещал не сделать ничего плохого. Глядя на труп в мелких кровавых порезах, он сказал в телефон: «Ссудный день грядет. Но я еще могу этому помешать».
* * *
Пограничные земли населяли дикие гризли из Государства Арийского и тигры, завезенные из Блэктопии. Ничейную землю постарались сделать как можно менее гостеприимной. Ядовитые змеи и бешеные хищники служили естественным барьером между тремя государствами. Рискнуть туда сунуться означало подписать себе смертный приговор.
Жарко пылал костер. Трещали горящие ветки, рассеивая вокруг себя круг рыжего света.
Бензин в баке у Шарм и Гэвина кончился примерно там же, где кончился асфальт. Дальше они шли пешком по дикой глуши, пока сумерки не заставили их разбить лагерь для ночлега.
Шарм подготовилась: прихватила палатку, спальные мешки, запас сублимированных продуктов, зажигалку, фильтр для воды и туалетную бумагу. Теперь они сидели, глядя на огонь.
– Мама тебя убьет, – сказал Гэвин.
– Тебя она уже убила, – невесело парировала Шарм.
Она не стала вдаваться в подробности, да и не требовалось.
Жаря на палочках сосиски, они говорили о родителях – о том, как те сели на велики и подались в крестьяне на обширные поля к какому-то лорду. Как раз успеют к позднему урожаю хмеля. Господин обеспечит им пропитание, пока не придет пора молотить озимую пшеницу. Весело отпразднуют они зимнее солнцестояние – будут пить мед у большого костра из сушеного конского навоза.
Совсем недалеко рычали во тьме пантеры, а может, и леопарды, а брат с сестрой смешили друг друга, чтобы прогнать страх.
На краю маленькой прогалины, на которой они устроились, хрустнул сучок. Шарм выхватила из костра горящую ветку и приготовилась обрушить ее на голову невидимому хищнику.
В круг мерцающего света вышел странного цвета гремлин – маленькое сутулое нечто с копной свалянных волос вокруг морщинистого лица. Темно-синяя кожа почти сливалась с чернильной синевой ночного леса. Следом за существом появился высокий красивый парень с крупной бриллиантовой серьгой в ухе. А за ним выскочил белый питбуль в черных пятнах и кинулся обнюхивать хозяев костра.
– Джамал, – тихо проговорил Гэвин.
– Мое! – тут же отреагировала Шарм.
Мужчина махнул им рукой.
– Привет.
– Привет, – хором ответили Гэвин с сестрой.
Джамал кивнул на гремлина и представил:
– Это Барнабас.
Шарм ткнула брата локтем и прошептала:
– Твое!
Жуткое существо протянуло руку, похожую на птичью лапу.
– Вообще-то, – сказало оно, – я мисс Жозефина.
Повисла неловкая пауза, которую прервал хруст веток. Кто-то невидимый шел по сухим листьям. Все замерли, готовясь защищаться от стаи волков брызжущими жиром сосисками и пылающими на палочках зефирками. Однако из зарослей вышел еще один парень. И спросил:
– Здесь еще Гейсия?
Гэвин ткнул сестру локтем и прошептал:
– Мое!
И обратился к парню:
– А ты гей?
Тот помотал головой.
– Я Феликс.
Шарм тяжело вздохнула.
– Мы в пограничных землях.
– Знакомая картина… – проговорил Феликс, оглядев поляну. – Похоже на концовку из «Четыреста пятьдесят один градус по Фаренгейту».
Получалась уже неплохая туса. У Феликса с собой были чипсы со вкусом «Маунтин-Дью». Джамал и его странный карлик поделились мятным джулепом. Никто не задавал вопросов, какими судьбами кто сюда попал. Звуком голосов они заставляли воющих в ночи тварей обходить их стороной.
Снова захрустели ветки, и женский голос спросил:
– Шарм?!
А Шарм отозвалась:
– Шаста?!
На свет вышли парень с девушкой и дружно сказали:
– Привет.
И все у костра ответили:
– Привет.
Не успела Шаста представить Ника и устроиться у огня, как хруст веток, шорох листьев и крики вспугнутых ночных птиц возвестили о том, что во тьме к ним приближается кто-то еще.
* * *
Люди спрашивают, чем все закончилось.
Ну чем? Тем, что Уолтер свалял дурака с благими намерениями, вот чем. Он и был тот славный малый, верный товарищ и брат, пай-мальчик и мамина радость. Это он зашел в участок по юго-восточному округу, воровато озираясь по сторонам, это он шептал, прикрывая рот ладонью. Время было позднее, далеко за полночь дело, а Уолтер Бэйнс явился в участок, натянув капюшон толстовки на самый лоб и натурально в очках от солнца. И такой к дежурному сержанту: «Кто у вас тут главный? Я хочу сообщить о преступном замысле».
А дежурный сержант, господин дежурный сержант ему такой: «Документики».
А потом передал его из рук в руки детективу, а тот препроводил в подвал, а там было уже поздно.
Откуда-то из-за стен доносился приглушенный голос: «Единственное качество, которое поистине объединяет нас, – это желание объединиться…»
Порывшись в кармане, Уолтер достал ушную затычку Шасты. Вдохнул сладостный аромат ее серы и мозгов. И в тот долгий миг, когда он, закрыв глаза, дышал ею, Шаста стояла прямо там, рядом с ним.
Доказательством того, что даже писатель может пасть смертью героя.
Таково было завершение Прежних Времен и начало конца.
* * *
Мероприятие с выпуском на волю двадцати пяти тысяч белых голубей прошло без сучка без задоринки. Боги ниспослали хорошую погоду, и пятьдесят тысяч пернатых крыльев вознеслись в чистую лазурь. На мгновение они огромным белым облаком зависли в небе, а затем полетели над полями и лугами, где ликующие толпы уже выстроились встречать парад.
Те, кто оставался в Портленде, перемерли от голода или поубивали друг друга, и город снова сделался безопасен для заселения. И вот легионы вождя Чарли триумфально шествовали к заросшему джунглями безлюдному мегаполису. Косматые тяжеловозы в упряжках тащили боевые установки. Катапульты несли в себе атомные снаряды. Тараны были снабжены боеголовками с обогащенным плутонием. Бесконечными рядами маршировали отряды лучников, вооруженные стрелами со взрывчаткой. Копьеносцы высоко держали острия, окропленные сибирской язвой. И при виде каждого дирижабля с горчичным газом толпа взрывалась восторгом, каждую пушку, каждую осадную башню встречали подданные громом аплодисментов.
Среди множества зевак сразу выделялись домашние и полевые жены поместья Мэрихилл, потому что каждая из них переваливалась косолапо под тяжестью выпирающего пуза. Многие из них прямо сейчас начинали испытывать первые схватки. Ведь Чарли трудился в своем саду как пчелка, опыляя по многу цветов каждый день, и теперь весь цветник выстроился вдоль дороги, стоя на цыпочках и вытягивая шеи, в надежде увидеть господина и поймать его взгляд.
А среди жен затерялась женщина постарше – та, чьи детородные годы давно прошли. Одетая в лохмотья, она уже смутно помнила те времена, когда трудилась над клавиатурой чего-то волшебного вроде терминала сбора данных. Ее длинные волосы были собраны в узел, а руки, красные и стертые до мозолей, выдавали в ней прачку. Нос, когда-то сломанный и неправильно заживший, торчал набок, завалившись к щеке. Несмотря на боль в коленях, она стояла и пристально вглядывалась в ряды марширующих.
Летели розовые лепестки и конфетти, из репродукторов гремел голос Толботта, повторявший: «Государство Арийское воюет с Гейсией. Государство Арийское всегда вело против Гейсии войну». Воздух дрожал от слов: «Народу необходима структура для объединения!»
К прачке подошла другая женщина – тех же лет и того же рода занятий. Встав вплотную к шершавому локтю, вторая карга спросила первую:
– Помнишь меня?
Прачка мельком глянула на нее.
– Нет.
– Прежде выглядела я иначе, – не унималась вторая карга. – В Прежние Времена была я целительницей. Медсестрой.
Прачка обернулась на нее еще раз. Поискала в ее лице что-нибудь знакомое и, не найдя, снова обратила ищущий взор на парад.
Неподалеку от них беременная молодка вдруг пронзительно вскрикнула и повалилась на землю. Товарки ее нервно переглянулись, но с места не сошла ни одна.
Не колеблясь прачка и карга опустились на колени рядом с молодкой и приступили к родовспоможению. Хангерок и муслиновое платье молодки промокли от горячих вод. Она вот-вот должна была родить вождю первенца, именно поэтому ревнивые жены и не проявили к ней никакого сочувствия.
Прачка уложила голову роженицы себе на колени, а вторая карга села между ног, чтобы принять дитя. Помогая бедняжке перетерпеть схватки, она ласково говорила:
– Будь спокойна, в Прежние Времена немало новорожденных младенцев прошло через мои руки. – И обращаясь к прачке, добавила: – Я ведь и за сыном твоим ухаживала.
Суровое лицо прачки на мгновенье смягчилось.
– За моим сыном? За Терренсом?
– А отчего твой нос такой кривой? – спросила карга, хлопоча над роженицей.
Прачка рассеянно потрогала шершавой рукой забытый изъян и ничего не ответила.
В прежнем мире, когда жизнь мерилась не обилием урожая младенцев и сладкого картофеля, карга служила человечеству, трудясь в больнице. Именно она передала Терренсу книгу Толботта.
– По твоей просьбе я солгала, – говорила она прачке. – Я заверила мальчика, что книгу послал ему отец. Но отца его я в жизни не видела. По твоему хотению я обманула Терренса. Сказала, что отец бережет его и заботится о нем, хотя знала, что это неправда.
– Так это была ты? – удивилась прачка.
– Я видела, что ты сама пишешь на полях книги. – Медсестра качала головой. – Зачем совершила ты это лукавство?
– Да какая на хрен разница?! – не выдержала прачка, нарушив закон об изысканной манере речи. – На идею меня навел «Бэмби».
– Бэмби? – переспросила медсестра.
– Мультик про олененка, – бесстрастно ответила прачка. – Помнишь такой? Из леса выходит прекрасный олень и говорит, что всегда был тайным хранителем олененка, ведь Бэмби – его сын и наследник.
Ее морщинистые щеки порозовели от нахлынувшей грусти.
– Погоди… – Руки медсестры на секунду застыли над вынырнувшей на свет головкой младенца. – Ты что, выдумала ему благородного любящего отца?!
Прачка отпираться не стала.
– Следовало, чтобы Терренс меня ненавидел, – сказала она. – Иначе не было никакой надежды, что он отрастит себе яйца.
Медсестра наконец извлекла окровавленного малыша и шлепнула его по розовой попке.
– А разве мать-олениха в этом мультике не погибла? – спросила она.
Дитя зашлось в истошном крике. Малютка-девочка. Не повезло бедняжке.
Погрузившись в воспоминания, прачка проговорила отрешенно:
– Ну да, но кому охота умирать? Я заставила Терренса меня отвергнуть.
Медсестра положила здоровенькое, дрыгающее ножками дитя на руки свежеиспеченной матери, и та, усталая и потная, впервые внесла в разговор свою лепту.
– И что же стало с вашим Терренсом?
Как по команде, толпа исторгла восторженный рев. Реяли на ветру геральдические знамена из многоцветного домотканого бархата.
Нагретый солнцем воздух дрожал от звуков крумхорнов, волынок и литавр. Всеобщее внимание было приковано к вождю Чарли. Облаченный в лучший дерматин и полиуретан, с трудом ковылял вождь в торжественной процессии, а под руку его бережно поддерживал придворный лекарь.
Этот ученый муж, личный врачеватель самого короля, был не кто иной, как Терренс. При виде сына, повзрослевшего, возмужавшего, занимающего такой уважаемый пост, сердце прачки исполнилось гордостью и сознанием выполненного долга.
Недолог был триумф, ибо шериф быстро отогнал ее прочь вместе с остальной чернью, расчищая дорогу для хромого и недужного правителя.
Не минули слуха Чарли раскаты женского смеха у себя за спиной. Так сильно хохотали тысячи жен его, что повалились прямо там на дорогу, изгоняя из утроб здоровых розовых младенцев. Ведь многие, очень многие из их числа поднесли королеве Шасте в дар скрипичных пауков, на корню изничтоживших монарший скипетр, и все знали, что жемчужный гульфик Чарли ныне пуст, как барабан.
И медсестра спросила прачку, когда обе они шли принимать волну младенцев:
– Но скажи мне, к чему была эта ложь?
Счастливо улыбаясь, прачка глядела в удаляющуюся спину своего отпрыска.
– Я хотела, чтобы он обрел веру в отца, сперва земного, а там и небесного, – ответила она, пожав плечами.
А когда Терренс скрылся из виду, пояснила:
– Потому что так гораздо проще жить.
* * *
На освещенную костром прогалину выползла дрожащая фигура. Изнуренный бродяга в лохмотьях – когда-то в дорогом, сшитом по мерке костюме – замер, настороженно глядя на группу, в которой подобрались геи и натуралы, черные и белые, женщины и мужчины. Никто из них не смел пошевелиться, чуя, что пришелец обратится в бегство от малейшего движения. А бродяга таращил на собравшихся глаза и втягивал носом воздух, пуская слюни от манящего аромата жаренных на огне сосисок.
Ник, щедрый Ник стал рыться в карманах. На раскрытой ладони он осторожно протянул трясущемуся дикарю таблетку со словами:
– Кое-кому тут не помешает перкодан.
Шаста цыкнула на него. Сняла с палки в руках Джамала угощение. Влажное тепло сосиски под ладонью отозвалось в сердце уколом виноватой бабьей жалости. И чтобы ее заглушить, Шаста опустилась на колени. Ник и Феликс, Джамал и мисс Жозефина, Гэвин и Шарм – все зашипели на нее, предостерегая, но она лишь отмахнулась.
Джамал в восторге прикрыл глаза.
– Круто! Прям как у Стейнбека!
Воплощение сострадательного милосердия, Шаста Санчес протягивала теплый, истекающий жиром кусок мяса затравленному человеку, бывшему когда-то президентом разъединенных штатов.
* * *
Дело это было небыстрое. Когда прошел парад, когда стих гул волынок… когда радостные толпы разбрелись по домам, унося пищащих младенцев… на дороге остался лишь бывший сенатор Холбрук Дэниэлс. Один в тишине он толкал перед собой тяжелую тачку на двух колесах. Шваброй сметал в кучу розовые лепестки и конфетти, совковой лопатой сгребал плаценты и конский навоз и все это вместе закидывал на перегруженную свою тачку.
А вокруг в лесных тенях уже собирались стаи голодных волков, привлеченных запахом свежей крови.
* * *
И пока кровь из простреленного лба Уолтера Бэйнса вытекала на бетонный пол…
Капля крови выступила из засохшего пореза на стариковском плече в подвале заброшенного дома. Старик открыл глаза.
Обнаружив, что рядом никого нет, он размял онемевшие пальцы и принялся сдирать с запястий и лодыжек скотч, которым был примотан к тяжелому деревянному стулу. Примотан, по правде сказать, как попало. Он мог бы удрать в любой момент – если бы ставил побег своей целью.
Сейчас главным вопросом на повестке дня было удаление Списка.
До сезона охоты на куропатку оставалось всего несколько дней.
1
Полные психи (исп.) – Прим. перев.
(обратно)2
«Умереть с мечом в твоем сердце» (нем.)
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


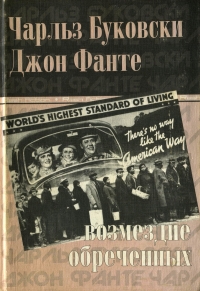




Комментарии к книге «Ссудный день», Чак Паланик
Всего 0 комментариев