ВАСИЛИЙ СОСНОВСКИЙ
ОСТРОВ ТРАДИЦИИ
Потуга на роман вне традиции в четырёх сезонах
Ни в сюжете, ни в тексте не надо искать никаких мифологем. В условиях длительного кислородного голодания мифы дарят надежду.
А нужен – кислород.
СЕЗОН ПЕРВЫЙ ЛЕТО
1. В Стране Сволочей
Здесь не любили плохо одетых людей. Не в том дело, что сами были одеты хорошо, а в том, что стремились одеваться лучше. Чтобы комильфо. А когда не комильфо, здесь не любили.
Сей Ишак С Педалями был одет однозначно плохо, и его не полюбили. Ишак, ибо не полюбили. С педалями, ибо на велосипеде. Его Стефан так прозвал – Ишак С Педалями. Как увидел, так сразу и прозвал. Стефан был одет хорошо.
Итак, плохо одетый правил велосипедом. Стефан видел: не умеет. Велосипед швыряло влево и вправо к обочинам. Ещё чуть-чуть, и навернётся в поросшую крапивой канавку, отделяющую асфальтовую дорогу от дощатых дачных заборов. Стефан хотел, чтобы так случилось. Так не случалось: неловкий велосипедист ценой титанических усилий в самый критический миг выпрямлял вихляющийся руль и вычерчивал новый зигзаг синусоиды.
Стефан пресытился зрелищем человеческой беспомощности и отошёл от калитки. Он слышал, как за его спиной цепные церберы по цепочке на протяжении всего дачного проулка заливались лаем, чтобы охаять незваного оборванца. Волна возмущённого гавканья подкатывалась всё ближе, и когда характерным тенором затявкал соседский кобель Бобик, Стефан вновь оборотился: несомненно, Ишак С Педалями рулит сюда.
Действительно: асфальтовая дорога кончалась, и два ряда заборов перпендикулярно утыкались в тупиковый забор, за которым стебался хорошо одетый Стефан. Оставалось проехать метров десять по траве. Плохо одетый был вынужден тормозить. По такому случаю на его лбу, изрядно изжёванном морщинами, выступила испарина, а в потухших глазах проступил тихий ужас. Сюрпляс. Переднее колесо вместе с рулём задёргалось в конвульсиях, ездок поспешно принялся перекидывать ногу через раму, но велосипед кренился набок ещё поспешнее, и он-таки с грохотом упал, придавив ногу непутёвого владельца. Последний, испытывая физическую боль и досаду, не очень внятно, но грязно выругался.
Стефан стоял в раю, под сенью цветущих фруктовых деревьев, преисполненный наслаждения и злорадства. У самых врат рая валялся потерпевший крушение велосипедист и созерцал затухающее вращение торчащей вверх педали. Он напоминал полудавленного таракана – хлопнулся на спину, а перевернуться никак. Солидный рюкзак на плохо одетой спине чинил препятствия.
Лишь где-то минут через пять Ишак (уже Без Педалей) выкарабкался из-под велосипеда. И как-то неохотно, вяло дёрнул на себя калитку. Калитка не послушалась и на второй, и на третий, и на пятый раз. Вообще-то имелся звонок, но нежданный визитёр, по-видимому, был зачарован однообразным ритмом своих бессмысленных движений.
Стефану сделалось противно, он зычно позвал кого-то и скрылся в глубине сада, в гуще деревьев. Приезжий методично дёргал калитку.
От калитки косая дорожка вела на крыльцо двухэтажного коттеджа, выкрашенного в зелёный цвет, с шиферной крышей. На крыльцо вышла молодая, с распущенными тёмными волосами, женщина в халате и неторопливо двинулась в направлении калитки. Эффект её появления, приближения и просто внешности был ошеломляющ настолько, что плохо одетый оставил калитку в покое и встал как вкопанный.
Женщина смерила его колючим взглядом и жёстко спросила:
– Вам кого надо?
С губ незнакомца сорвался слабый шорох. Чуткое ухо женщины не уловило ничего членораздельного.
– Кого-кого?
– Я хотел бы видеть господина профессора Иоганнеса Клира, – повторил незнакомец. Если ему таки удавалось издать звуки, то где-то секунды через полторы после движения артикуляционных мышц. Так работают под фонограмму начинающие эстрадные певцы.
– Профессор Клир болен и никого не принимает.
– Да?.. Как жаль… – приезжий точно засох на корню или превратился в соляной столп. Женщина между тем бомбардировала его гипнотическими флюидами, желая ему скорее исчезнуть. Не действовало.
– Вы понимаете… – опять загугнил незнакомец. – Я… приехал издалека. Я хотел увидеть профессора. Это всё, что мне сейчас нужно. Я хотел…
– Ничем не могу вам помочь, – чётко и звучно отрезала женщина.
Пришелец издалека опять на какое-то время заснул стоя.
– Скажите… – децибел в его голосе не прибавилось, но шелест губ окрасился угрожающе-свистящими призвуками. – …насколько серьёзно болен профессор? Если я зайду ещё раз… скажем, через неделю… могу ли я надеяться, что…
– Нет, не можете. Профессору нужен покой.
Стоптанный сандалет незнакомца отфутболил подвернувшийся сук, бедняга сгорбился, почти достав подбородком солнечное сплетение. Но в это время откуда-то сверху послышался треск распахиваемой двери, и нетвёрдым запинающимся шагом на веранду второго этажа коттеджа выгреб седенький очкастый дедулька с палочкой, скрюченный даже в большей степени, чем изрядно сутулый незнакомец.
– Анхен, кто там? – спросил он дребезжащим неуправляемым голосом.
– Папа! – эффектная женщина укоризненно посмотрела наверх. – Ты же обещал не вставать!
– Я обещал? Кому я обещал? Я не таракан какой, прятаться по тёмным углам, – отвечал дедулька. – Без воздуха скорей зачахну.
Пришелец не подымал головы, хотя определённо проникся, что сии дребезжащие звуки издаёт не кто иной, как желанный господин профессор Иоганнес Клир.
– Кто там?.. Да впусти ты его… мне на обозрение… – прошамкал профессор.
Женщина криво усмехнулась, ловким движением отодвинула щеколду и распахнула калитку. Незнакомец, оглоушенный внезапной милостью, потоптался-потоптался и боком втиснулся на территорию сада.
– Беседует, понимаете, с молодым мужчиной, а от отца скрывает… Ай-яй…
– Ну, пап…
– Здравствуйте, господин профессор, – натужно крякнул вторгшийся пришелец.
– Так это ко мне? Я же понимаю: ко мне. Так что ж ты мурыжишь гостя, скажи на милость?..
– Какие нынче гости…
– В кои-то веки гости! – старикан затопал ногами и затряс клюшкой. – Можно подумать у нас тут каждый Божий день светские рауты… Молодой человек, не бойтесь вы её… не обращайте внимания… я понимаю, для мужика это невозможно, но… я, извините, сам страдаю от тиранства собственной дочери… Мой ангел-хранитель и целитель… видите ли. Охраняет меня от ненужных эмоций. Проходите… я сейчас спущусь.
– Ну куда ты спустишься… Останься наверху, – закричала женщина. – Папа очень плох… – бросила она пришедшему в себя визитёру, паралингвистическими средствами добавляя: ишь, принесла тебя нелёгкая…
– Извините, – прошелестел гость, двигаясь в сторону дома.
Женщину, которую, очевидно, звали Анной, тут же справилась у незнакомца, кто он есть, и оказалось, что Кóнрад. Поскольку эта информация была чересчур скудна и, неизвестно, достоверна ли, Анна затребовала документальное подтверждение.
Тогда Конрад сунул руку за пазуху. Анна отпрянула и подняла руку перед собой, опасаясь, что нахальный интервент достанет из-за пазухи камень. А зря опасалась. В руке Конрада оказался маленький целлофановый пакет с изображением синего бройлера. В пакете лежали четыре «корочки».
Конрад бережно достал их: три красные и зелёную.
– Здесь вся моя биография.
– Меня как-то мало волнует ваша биография.
– Не удивляюсь. Она никого не волнует.
Анна раскрыла самую потрёпанную красную «корочку», сиречь персональ-аусвайз гражданина Страны Сволочей. Мартинсен, Конрад (написано было «Конрат»). Место рождения – столица. День рождения (тридцать один год назад). Национальность: «сволоч». Выдано 75-ым полицейским управлением; дата (пятнадцать лет назад). Чей-то лихой росчерк. Фотокарточка – зелёный вьюноша, шея тонкая, губки круглые, курчавая шевелюра до плеч. Анна подняла глаза: предъявитель сего был стрижен коротко, покрыт перхотью и притом основательно плешив. На следующей страничке помещалась фотография шестилетней давности, там ансамбль дополняла петушиная борода, растущая не столько из щёк, сколько из шеи.
– А почему в вашем персональ-аусвайзе столь грубые орфографические ошибки? – полюбопытствовала Анна.
– Я не исправлял. Сами знаете: за подделку документов…
– А потребовать заменить нельзя было?
– Когда полицию учат грамоте, она принимает это слишком близко к сердцу. Да что вы, право, сути это не меняет.
Анна собралась отдавать «корочку».
– Вы не всё посмотрели, – как обычно, на одной ноте просипел Конрад.
Анна не стала смотреть. Чего там было смотреть? Два штампа: «зарегистрирован брак…», столько же «зарегистрировано расторжение брака…» – всё где-то на отрезке лет в пять и всё дела давно минувших дней; в графе «Дети» – ничего, восемь штампов в графе «Прописка», штамп «Военнообязанный»… Всё.
Изучение второй красной «корочки» – самой тоненькой – отняло две секунды. Диплом (с отличием). Выдан Мартинсену Конраду в том, что он (четырнадцать лет назад) поступил в Столичный дважды ордена Боевого Штыка педагогический Институт всеобщего текстоведения имени Имярека и (девять лет назад) окончил полный курс названного института по специальности «всеобщее текстоведение». Решением государственной экзаменационной комиссии Мартинсену К. присвоена квалификация преподавателя связных текстов. Подпись, печать, дата.
От комментариев Анна воздержалась, но её глаза спрашивали: «На какой барахолке купил?» А может, не спрашивали, может, так Конраду почудилось.
Третья красная «корочка» являла собой Мобилизационный билет; в нём дублировались данные персональ-аусвайза, указывалась основная гражданская специальность и сообщались специфические военные сведения: № в/ч, должность – гальюнщик, дата зачисления в часть (три года назад), дата исключения из части (полгода назад), воинское звание – рядовой, наград не имеет, ранений-контузий тоже, на вооружении имел штык-нож, военно-учётная специальность: гальюнщик, размер противогаза и т.п. В графе «Сведения о медицинских освидетельствованиях» стояло два разноречивых штампа… до неё, впрочем, Анна не добралась.
Зелёная «корочка», самая толстая, с вкладышем, была вся густо испещрена записями и печатями. Это был Трудовой билет. Первая запись касалась учёбы в институте. Следующая гласила: «Направлен в НИИ листового железа на должность столоначальника». Следующая появилась, судя по всему, год спустя, а промежутки между дальнейшими составляли уже три-четыре месяца. Читать все было бы долго и муторно. Анна обратила внимание, в частности, на такие:
Средняя школа №527; преподаватель связных текстов.
Выставочное объединение «Суперэкспо»; переводчик.
Продмаг №62; подсобный рабочий.
Домохозяйство №93; лифтёр.
Геологоразведочная экспедиция; отмывщик шляхов.
Больница №28; санитар.
Фотолаборатория компрессорного завода; младший лаборант.
Киностудия «Цветофильм»; ученик звукооператора.
Кончалось всё призывом в армию.
– Макса Горького вы, кажется, перещеголяли, – заключила Анна.
– Ну вряд ли… Между школой и армией было всего четыре года. Великий же пролетарский писатель в двенадцать лет пошёл тарелки мыть.
– Как вас в армию-то занесло? – спросила Анна, начиная оттаивать.
– Мужчина вроде должен быть воином, – прокряхтел Конрад.
Глаза Анны вновь обратились в сталь. Она ещё раз открыла мобилизационный билет и несколько раз перевела взгляд с измятого лица Конрада на запись «гальюнщик» и обратно.
Пока Анна, не скрывая недовольства гостем, нарочито быстро пролистывала «корочки», бесстыжий гость исподлобья пялился на её женские достоинства. Было на что пялиться. Анна была ростом ниже Конрада, но такая осанистая, что казалась выше. При всей утончённости черт, её лицо, не нуждавшееся в косметике, никак нельзя было назвать ни малокровным, ни малохольным; в его неприступности таилась нездешность, но ни капли меланхолии. Своенравно, густо, немного змеясь, струились тёмно-шоколадные волосы, не знакомые с заколками и резинками; несколько прядей-отщепенок щекотали породистые купола грудей – даже под столь просторным халатом, явно не стеснённые ни комбинацией, ни лифчиком, сосцы выступали с геометрической чёткостью; наверно, содержащимся в них молоком можно было напоить три палаты язвенников. Просторная хламида скрывала от глаз людских образцовую талию и классический таз – всё равно любой нормальный мужик, завидев Анну, неминуемо чуял бы покалывание в районе ширинки. Был ли нормальным мужиком Конрад, сказать сложно: он смотрел, собственно, не на Анну, а сквозь Анну, потягивая дешёвую сигаретку без фильтра, то и дело сплёвывая набившийся в рот табак.
Пробежал голопузый Стефан, играя мышцами.
– Ты куда, Стефан? – спросила Анна.
– Купаться, вестимо, – ответил Стефан. – На пруд.
Начинало припекать.
Профессор Клир возлежал на облезлом диване; мешком сидели на нём шаровары, клетчатая рубашка расползлась на пупе. В головах валялась сплющенная подушка без наволочки, в ногах – неопрятный ворох пожелтевших газет.
– Ну что, батенька, устроила вам моя дочка таможенный досмотр?
– Я думал, у вас особо злая собака, – признался Конрад.
– Да, был Трезор, был… Да весь вышел. Камнем в висок угостили… пацанва… Так вот, дочка меня – бережёт. Всю свою жизнь ради меня губит – в её-то годы бессменно при папаше… А папаша плох, совсем, видите ли, плох. Вот, грозился вниз спуститься – ан слабó: слез с кровати – а всё тело как стальными обручами сдавило.
– Я… я очень прошу простить… что я вас… потревожил. Мне, конечно, очень неудобно… – зачастил Конрад почти без интонаций.
– Да бросьте вы извиняться, молодой человек, – оборвал профессор. – С тех пор, как отставили от университета, людей живых почти не вижу. Раньше хоть соседи заходили, а дочка и тех распугала…
– Я вашу дочь понимаю, – вставил Конрад. – Времена такие, излишняя осторожность не повредит.
– Времена противные, – согласился профессор. – Хотя у меня информация скудная. Живу как на необитаемом острове; представления не имею, что творится. Вон гостит у нас парнишка – из столицы приехал – ну я затрахал его расспросами, он ко мне теперь и носа не кажет. Скучно ему со старым занудой. Прошлой осенью телевизор сломался… Стефан всё хорохорится: «Починю, починю»… а надо ли? – Передачи-то пошли кошматерные, всё хэви метал или как его там… Умные разговоры диктатура прикрыла. Вот… прессу штудирую, между строк читаю… весёлого, видать, мало… и приносят крайне нерегулярно… У почтальона месяцами запои, загулы – так и кукуем, ничего не ведаючи. Ждём, что в один прекрасный момент заявится террорист с бомбой. Вы не террорист с бомбой?
– Нет.
– Я вижу, что нет. А дочка не уверена. На лбу не написано, кто вы такой. А всюду постреливают… Гражданская война, так?
– Война всех против всех, – (с ухмылкой).
– Да, да… А мы только догадываемся. Вон, «Истинную правду» два месяца не приносили.
– Так её закрыли, «Истинную правду».
– Как так закрыли?
– То ли ещё будет, профессор. На прошлой неделе «Ведомости» приказали долго жить; на очереди «Голос отечества».
– Вот оно что! Диктатура обойдётся без печатного слова!..
– Боюсь, всё куда проще, – комариный голосишко Конрада потихоньку раскачивался, крепнул, и даже дохленькие обертоны проскальзывали порой. – Во-первых, бумаги в стране нет и взяться ей неоткуда, потому как и леса почти не осталось.
– Стоп, – профессор, если бы смог, непременно подпрыгнул бы. – Ведь академик Эрлих в своё время разработал программу экологического возрождения, и государственный совет её одобрил…
– Одобрить одобрили, только не реализовали. Ни средств, ни желания. Опилки легче производить, чем хлорофилл. Самогон из них хороший.
– Так-с… Это же катастрофа! Мы и были-то на пороге катастрофы… Взялись бы за программу Эрлиха, неизвестно ещё, удалось ли бы кардинально что-то изменить…
– Ну… вот за неё и не взялись. «Научный вестник» поднял было бучу…
– И «Вестника»-то сто лет не видел…
– …тут и его прикрыли. Через три года сволочи забудут, что такое бумага.
– Однако здесь есть и позитивные стороны, – вздохнул, осклабясь, профессор. – Бюрократам не на чем будет тискать инструкции.
– Но бумаги нет – не самое главное. А главное – слишком мало осталось людей, умеющих читать, и совсем не осталось умеющих писать.
– Да-да, – с жаром подхватил профессор. – Читаю газеты и не понимаю: не то заборно-сортирная лирика, не то «весёлые случаи на уроках родного языка»…
Было поколение. Счастливо начинало. Сокрушило идола, ревизовало религию. А как снова закрутили гайки, двадцать лет самоотверженно сражалось с ветряными мельницами и при малейшем изменении направления ветра пошло ва-банк. Тени перестрелянных отцов взывали к отмщению. Вытащили фиги из карманов, назвали вещи своими именами, поставили ребром вопросы. Профессор Клир был из этого поколения – он умел ставить вопросы. Тридцать лет назад, в первую «оттепель», он даже умел давать ответы – но теперь ответ должен был дать многомиллионный спившийся народ с порченным генофондом и в одних рубашках – которые к телу ближе. Народ, привыкший безмолвствовать, ответил смачными матюгами.
Страна Сволочей называлась страна. Она всегда была прекрасна и всегда была несчастна, имела в прошлом великую историю и необычайный духовный потенциал. Поколение Иоганнеса Клира было последним, пытавшимся творить великую историю и сохранить духовный потенциал.
Старое поколение стало, на три четверти вырубленное, поколение инфарктников и инсультчиков. Молодость всё знала, да знать не хотела, а старость-таки – не могла.
Заклинило. Угомонились.
Любящая дочь Анна отвела на беседу больного отца с плешивым пришельцем два астрономических часа. Но к исходу этих двух часов Конрад только-только подошёл к объяснению цели своего визита. Истосковавшись по новостям, профессор – Мастер Ставить Вопросы – заваливал гостя вопросами о том и о сём. Конрад отвечал, азартно жестикулируя и скрежеща зубами.
Вот спрашивал профессор: жив ли его сверстник и соратник Вернер Клепп? Конрад с готовностью отвечал: компания мальчиков, откушав анаши и С2Н5ОН погожим вечером просверлила дырочку в черепе погружённого в свои глубокие мысли учёного, и его талантливые мозги через эту дырочку вытекли в непроходимую лужу посреди главного столичного проспекта. Профессор спрашивал: каков репертуар театра синтетического искусства? Конрад отвечал: в здании театра ныне кооператив по сбыту контрацептивов, репертуар кооператива скуден, а услуги стоят от восьми до десяти литров самогона, то есть недёшево; а что до труппы, так она разбежалась, после того как главреж г-н Эрих Никлаус, пережив душевный разлад в связи с отсутствием публики на спектаклях, слинял за кордон (по слухам, имеет успех). Профессор спрашивал, сколь свободно продаётся в магазинах спиртное, столь часто поминаемое собеседником. Конрад отвечал: а вообще не продаётся после серии аварий на винзаводах со многими тысячами жертв, зато правительственным указом сняты все ограничения на кустарное самогоноварение, и каждый, кто таковым увлекается (а увлекается как раз каждый) находится на самообслуживании. Профессор спрашивал: а как обстоят дела со снабжением населения продуктами. Конрад отвечал: а никак, если закрыть глаза на всё более частые случаи каннибализма, ибо все мясные породы скота поразил поголовный мор, так как оказалось, что травленные ядохимикатами корма – слишком суровое испытание для привередливых скотских желудков. Профессор менял предмет разговора: а как нонче насчёт прав человека – например, чинят ли препятствия желающим отъехать навсегда? Конрад хохотал: а чего чинить, все, кто что-то умел, давно уже отъехали, остальных же заграница сама кормить отказалась, – и подкреплял свои наблюдения статистикой: страну покинуло 79% членов профсоюза литераторов, 98% членов академии наук, а обладатели консерваторских дипломов – в полном составе. Недоумевал профессор: а что же вообще консерватории? Конрад успокаивал: а ничего, их больше нет – зато учреждён институт попсовой культуры, где учат диск-жокеев, как изящнее схохмить, чтобы весь зал ржал. А как? – спрашивал профессор. Конрад мотал головой: когда-то за такое на пятнадцать суток гребли.
Собеседники двигались индуктивным путём – от частного к общему. И вот, когда любопытство профессора иссякло под натиском неутешительных фактов, когда взгляд его остекленел, а пульс катастрофически зашкалил, гость с большой земли набрался духу и перехватил инициативу.
Он наконец-то получил возможность представиться (Конрад Мартинсен и т. п.) Не преминул также добавить, что происходит из интеллигентной семьи. Затем вкратце изложил свою биографию, расцвечивая лирическими отступлениями факты, зарегистрированные в документах. Его рассказ изобиловал грязными ругательствами в адрес собственной персоны, посыпанием головы пеплом и битиём себя в грудь. Затем Конрад обрисовал статус-кво: в настоящее время он демобилизованный солдат без средств к существованию, без надежды трудоустроиться, с расхристанной психикой и букетом внутренних болезней.
– Позвольте, – подивился впавший было в кому профессор. – Как же вы в таком… возрасте… попали в армию?
– То был свободный выбор, – сказал Конрад. – В своё время, когда мои сверстники облачились в хаки, я закосил по психстатье. Всё нормалёк было, статья в принципе неснимаемая, а после двадцати восьми – дыши совсем свободно… Да вот накануне этой знаменательной вехи я понял: нужна основательная встряска, чтобы собрать себя по осколочкам воедино. И принял решение. Ринулся обивать военкоматские пороги. Сперва подумали – вконец мужик рехнулся. Всюду недобор – одни призывники внаглую уклоняются, у других – черепно-мозговые травмы, третьи – просто дебилы… И тут нате вам – доброволец… Прошёл переосвидетельствование, признали здоровым. То есть, конечно, не признали, но написали «здоров». Логика такая: чем ты, засранец, лучше нас? – Мы своё в траншеях отгорбатили, а ты на гражданке, лёжа на королеве красоты, птичье молоко попивал. Вот. Ну а дальше я знал: пан или пропал. Два исхода, то есть, видел: либо выхожу на дембель бывалым тёртым мужичиной без комплексов, либо друзья-однополчане, предварительно превратив меня в мясной рулет, великодушно засыпают хладный труп соломой, и – привет. И то, и другое было бы – выход. Случилось же нечто третье.
– Ага, себя не собрал и жив остался, – понимающе кивнул профессор.
Подробно Конрад остановился на шести месяцах после дембеля (переслужил почти полгода, отпустили, когда заблагорассудилось). Он в очередной раз потерял прописку, и причалить было некуда: родители далече, а друзей и подавно никогда не было. Устраиваться на работу в том социально-моральном климате, где иметь работу есть величайшее позорище и куда престижнее добывать себе на пропитание разбоем, грабежом, рэкетом или, на худой конец, спекуляцией, было, как говорят, новые поколения, в лом. Вообще – рыпаться, дёргаться, чесаться было определённо в лом. Хотелось одного – подбить бабки и отдохнуть. Изголодавшийся за тридцать месяцев по нормальному человеческому общению Конрад попал во власть идеи-фикс: отыскать какого-нибудь чудом уцелевшего мастодонта из недорезанной прослойки и покалякать с ним за смысл бытия. Легко сказать – отыскать: а) Конрад не располагал к себе незнакомых людей, не говоря уж о знакомых; б) как упоминалось, все, кто знал, сколько симфоний написал Бетховен, видел разницу между Гоголем и Гегелем и без запинки мог выговорить «экзистенциализм», вовсю паковали чемоданы и отвлекаться на пустяки не желали…
– А что же вам мешало отправиться по их стопам? – перебил профессор.
– Потом, если позволите. Долго, – отмахнулся гость. – Целый комплекс причин. Некоторые я назвал, но вы не уловили…
Короче, после долгих поисков Конрад совершенно случайно выяснил, что жив ещё профессор Иоганнес Клир, острый, независимый ум, некогда властитель интеллигентских дум, автор блистательных публицистических статей, радетель культурного и нравственного воспитания сволочей, кладезь энциклопедических познаний. На сбор справок о его местопребывании ушло три недели. Оказалось, этот реликтовый зубробизон вошёл в конфликт с администрацией университета, где преподавал на протяжении всей «переделки» (второй и последней «оттепели»), и был с треском низвергнут, в результате чего перенёс очередной инфаркт, какое-то время ещё пыжился, писал для журналов, но следующий инфаркт доконал его вконец. И теперь, наполовину парализованный, он доживает свой век в глухомани, на даче, вдали от больших городов, буйных страстей и больных вопросов.
Стандартная сволочная ситуация: мужчины празднословят, базлают, базарят, а тем временем на кухне женщина готовит обед.
Красивая женщина.
Нынешние сволочи мало читали, а если кого и читали, то Льва Толстого. Он, кстати, очень хороший писатель. Лев Толстой прямо заявлял, что самого слова «красивое» нет в лексиконе людей, вынужденных добывать в поте лица своего скудный насущный хлеб. А коль скоро добытчиков хлеба насущного писатель почитал единственной солью земли, он низверг «красивое» с его красивого пьедестала и вычеркнул из списка подлинных ценностей. И многие согласились с ним: хлеб насущный годился в пищу, а «красивое» – разве что для причастия.
Когда Великий Катаклизм основательно перетряхнул прогнившую за тысячелетия пирамиду ценностей, всплывшие на гребне его бурных волн новые Главные Сволочи подсунули неглавным свою мерку, свой аршин, свою систему координат. И пожалуй, одно лишь усердие в добыче хлеба в качестве основополагающей добродетели не подверглось ревизии. И Страна Сволочей превратилась в Страну Некрасивых Людей, озабоченных хлебом единым, который «всему голова».
Но как сволочи ни лезли вон из кожи, хлеба становилось всё меньше и меньше, невзирая на то, что люди становились всё менее красивы.
И чуть перевалив за тридцать, женщина-сволочанка бывала прокручена в мясорубках, раздавлена в соковыжималках, раздроблена в кофемолках, вздрючена-навьючена, жилиста-жириста, тело искорёжено коррозией, душа в порослях коросты, становишься ниже ростом, волосы – водоросли, рожа кирпича просит, пробивается ранняя проседь, оторви да брось, под лавку брысь, грязь да грызнь – скотская жизнь. Замордованная морда, замозоленные мозги, замороченные очи.
И если вдруг кто-то уберёг от прели свою прелесть и от удушья – свою душу и от ржи – свою наружность до возраста бальзаковского… что за чудотворный бальзам тому виной?
Разве только когда Главные Сволочи под аплодисменты когорты предынфарктников провозгласили новый курс, вошедший в разноязычные анналы под кодом «Peredelka», сволочанкам неожиданно захотелось быть красивыми. Даже многим мужчинам-сволочам. Интерес к Льву Толстому упал. Некрасивые люди временно похорошели – да вот незадача: хлебные запасы страны, как на грех, совсем истощились. И вот результат: в короткий срок, опять несказанно подурнев, сволочи Львом Толстым подтирают анус: вместе с хлебом насущным исчезла и туалетная бумага.
Что же современным сволочам кушать-то? Каков ассортимент блюд? Извольте –
Первые блюда: суп из топора, суп из куриных зуб, потом – суп с котом.
Вторые блюда: лапша на уши, берёзовая каша, собачина с цепью, ошейником и досками («пятый сорт, рубим вместе с будкой»).
Напитки: табуретовый самогон, тормозная жидкость, птичье молоко (говорят, что кур доят).
На десерт: трава лебеда, ягода бузина, кукиш с маслом, говно на палочке, самокрутка с маком, дырка от бублика с таком.
Приправы: нитраты, нитриты, гербициды, пестициды, собственные соки с повышенной кислотностью.
Какая уж тут кровь с молоком, когда зубы на полке?
Такое обстоятельство: был ещё один хороший писатель, Достоевский. Он никогда не импонировал новым правителям страны – ещё бы, имел неосторожность во всеуслышание заявить, что красота – ни больше, ни меньше – «спасёт мир».
Женщина по имени Анна Клир вряд ли когда-либо всерьёз задумывалась о том, чтобы спасти мир. Просто с генами баламута-папы ей передалась активная нелюбовь ко всем последствиям Великого Катаклизма, к Главным Сволочам. И Анна подняла на щит – Красоту, и преданнейше служила – Красоте.
Её не смутил даже тот факт, что сограждане в конце концов сочли Достоевского тоже качественной туалетной бумагой. Поскольку вкусившие демократии и гласности сограждане, эстествуя, не служили службу в храме Красоты, но Красоту пытались поставить себе на службу. Вместо того, чтобы к ней причаститься, они хотели ею – обладать.
Нет, нет, упаси Господи, Анна Клир не пыталась спасти мир. Она просто возделывала свой сад.
И сад Анну кормил. Потому что её гастрономическая политика зиждилась на рекомендациях ревнителей вкусной и здоровой пищи – Шелтона, Брэгга и К°. Шелтон, Брэгг и К° категорически отвергали жареное, солёное, кофе, комбинации белков с крахмалами, разных видов белков, крахмала с сахарами и много чего ещё. Зато превозносили пареные овощи, натуральные соки, подножный корм (одуванчики-подорожники). Се суть эликсиры долголетия и жизнелюбия, говорили Шелтон, Брэгг и К°. И правоту свою подтверждали жизнью своей – в девяносто лет переплывали пролив Па-де-Кале и созерцали время от времени то чайку Джонатана, то Будду.
А коль скоро Анна была не прочь если не Па-де-Кале переплыть, то хотя бы Джонатана узреть, она ещё в относительно сытые времена со всей ответственностью подошла к организации надомной агропромии, самоучкой дошла до вершин агрономии, запаслась семенами на много лет вперёд. И треть сада сделалась огородом, а светлицы домиков-времянок превратились в теплицы.
– С лёгким паром, – рассмеялась Анна.
– Спасибочки. За мной пятак, – откликнулся Стефан.
Юный купальщик сиял лицом, сверкал зубами, пылал загаром и пел всеми фибрами души – этакий Тонио Крёгер. «Как водичка?», – спросила Анна. – «Ништяк водичка, мокрая. Аппетит стимулирует. Волчий! Любой баланды три тарелки скушаю». – «Это ты моё угощение баландой зовёшь», – в шутку оскорбилась Анна. – «Ну что вы, вашего супчика – бочку одолею».
За обедом Конрад вдруг ни к селу ни к городу сказал, что у него-де гной в черепной коробке и в желудке дырка, и ему, дескать, каждодневно требуется как минимум литр парного молока. Жалобно так сказал, не по-мужски. Впрочем, развивая тему, обмолвился, что без мясной пищи мужчиной стать трудновато, а мясо он последний раз в тарелке сержанта видел, на первом году службы.
Подобный нудёж Стефан решил пресечь в корне. Довёл до сведения, что, во-первых, любые претензии к гостеприимным хозяевам суть моветон, а во-вторых… Во-вторых, хороший-таки писатель Лев Толстой, а он был вегетарианец. И очаровательная хозяйка из той же конфессии. Травоядение а) гуманно: аморально поедать братьев наших меньших, б) дёшево: ни курей, ни поросей держать не надо, в) сердито, ибо пользительно. А что до молока, то оно придумано для новорожденных телят, а не для демобилизованных бугаёв, да плюс ещё ни с какими другими продуктами не сочетается. Правда Анна иногда покупает молоко у бабульки-соседки, но – под творожок и брынзу. Брынза с помидорами, да будет известно, пища богов. Так что хочешь жить…
– Не хочу, – крякнул Конрад.
– …слушайся компетентных людей.
– Да это так, мысли вслух, – нехотя покаялся Конрад. – Слопаю, что дадут.
И слопал. Даже Стефана обогнал. Потому что когда ел, был глух и нем. А Стефану даже волчий аппетит не мешал заниматься любимым делом: воспитывать невеж и просвещать невежд с высоты шестнадцатилетнего жизненного опыта.
Но Стефану не удалось другое – пококетничать с хозяйкой. Когда чудо-обед (рассольник, салат из капусты и проч.) был готов, Анна пошла наверх отнести профессору его порцию.
Пока возлюбленная дочь облачала хворого немощного отца в чистую салфетку, тот поспешил объявить, что по его стариковскому разумению, есть веские резоны удовлетворить нижайшую просьбу бесприютного скитальца Конрада Мартинсена о предоставлении тому морально-политического убежища на территории фамильной клировской виллы. Ибо, во-первых, сей несчастный абсолютно безобиден и предсказуем, а во-вторых столь широкий жест с их, Клиров, стороны был бы в высшей степени нравственен и богоугоден, в-третьих – и тут выгода обоюдная – наконец-то постылое отшельничество отца и дочери озарится светом чужой бессмертной души.
Сильно омрачило преданную дочь Анну это признание. Чужая душа, думалось ей, – потёмки, да и остальные аргументы показались ей малоубедительны. Нет, не похож на агнца Божьего этот внутренний эмигрант: какой-то он весь продырявленный, а на лице его лежит печать затаённого безумия. Общение с ним для отца скорее пагубно – уже прорисовывается душераздирающая тематика предстоящих бесед. Ну и наконец, нет средств содержать пансион с бесплатными обедами для отчаявшихся неудачников; слишком обременителен лишний рот, усатый и трудоспособный.
Вот-вот, с жаром подхватил профессор, то-то и оно! Мускульная сила бывшего солдата окажется хорошим подспорьем для одинокой фермерши, что день-деньской хлопочет и за садовода, и за огородника, и за снабженца, и за уборщицу, и за судомойку, и за плотника, и за повара. И за домашнего лекаря. Вертелось ещё на языке у профессора: «в тридцать один год и о паре подумать невредно», но он знал, как вспыхнут, как зардеются щёки дочери, и смолчал. Одинокая волчица среди волков, сторожевая собака при папе, покорная овца перед Богом – она ни в ком не нуждается…
Именно от этой мысли профессор, проживший жизнь свою на людях и для людей, распалился, раскипятился. Анна приложила к его сейсмоопасным вискам мокрое полотенце. И так жара невыносимая. Профессор, красный и потный, настаивал на положительном решении вопроса с таким благородным негодованием, что казалось – вот-вот лопнет старый филантроп, испустит дух и рассыпется в прах. А когда любимые отцы рассыпаются в прах, любящие дочери почему-то не любят.
– Пап, милый, ты совсем забыл про рассольник, – в рот профессора ткнулся носик поильника.
Тем временем Стефан просвещал Конрада:
– Некстати заявиться изволили. У нас траур.
– Траур… В честь чего?
– Всего четыре дня, как хозяйская дочь погибла.
– Но…
– А что, у хозяина не могло быть две дочери?
(«Мда. Могло. Хоть три. Другое дело, что такие головастики обычно вообще бездетны»).
– Да… Да… Я не знал, прости… В таком случае – действительно некстати…
(«А в любом другом случае – кстати, что ли?»)
– Я тогда… пойду, наверное… Поеду, то есть…
– Нет, погоди, братишка. Отдельный люксовый апартман с видом на голубую ель. Уже постелено – не на скатке же спать, бельишко свежее, белоснежное, прям из-под целочки… Кормёжка трёхразовая, диетическая, для язв и циррозов пользительная.
– Да нет, неудобно как-то. Явился как снег на голову, незваный гость, хуже этого самого…
– Ну уж, ну уж, а глазки-то блестят, а губки-то раскатаны, а слюнки-то текут... Назвался груздем – полезай в это самое… Али слабó? Ссыкло ты, солдатик, ай-яй-яй, не по уставчику… Трибунал по тебе плачет, аж зубками скрежещет… Ну и бес с тобой. Короче: одну ночку переспать придётся – обратного пути нетуть. Приказ, понял? Переспишь – и канай на все четыре, нужен ты тут как это самое прошлогоднее, понял?
– Пробную ночь? В порядке испытания? – просипел Конрад, стараясь хоть как-то подладиться под несносный тон молокососа. – В комнате с рептилиями и…
– А классная идейка, блин. Так тёте Анне и передам. Чё напрягся-то, а? Уж не обделался ли часом? Нет уж, за гадами на болото бежать придётся, в лом, далёко. А вот с призраками – устроим. Эти сами явятся. Девочки кровавые в глазах и это самое…
– Что ж ты кощунствуешь? У людей вон горе, а ты…
– А я чё? Я ничё. В меру своей испорченности воспринимаешь. Может ты каких других призраков видеть жаждешь? Сейчас созвонюсь с Иствикскими ведьмами, они тебе… Да не ссы, тебе просто под дюжину перинок горошинку подсунут – мало не покажется!
Погибла. Неудивительно. Нынче своей-то смертью мало кто умирает, а ля гер ком а ля гер.
Но вот что странно: нигде он не видел ни траурного портрета, ни цветов. Конечно, ему показали далеко не весь дом. Но вообще-то, в такой день близкие родственники отходят от поминок. А тут…
Уютно поскрипывали половицы, тянулась анфилада комнат. Конрад семенил за Анной, задыхаясь от стыда и счастья, бормоча одно спасибо за другим спасибом, а та, не поворачивая головы, шла впереди, потрясая воображение безупречной прямотой спины и королевской чеканкой шага.
– Прошу вот сюда, – сказала Анна, отворяя дверь.
Чёрный кожаный диван прадедовских времён, над ним – политическая карта мира; вышитые гладью подушки; кривоногие набивные пуфики; книжная полка с многотомной энциклопедией начала века – на корешках загадочное: «Византия по Гадамес», «Пуль по Саль», «Чахотка лёгких по V». Лакированная фигурная тумбочка; письменный стол, накрытый зелёной бумагой; пустая чернильница; перьевая ручка на подставке; древнее пресс-папье; деревянная резная статуэтка – крючконосый царь птиц расправил необъятные крылья и собрался взмыть аж в стратосферу; на окне – две пары занавесок – марля и хлопок; старинный термометр, градуированный по Цельсию и Реомюру.
– Располагайтесь. Я ещё не успела здесь убраться, но чтобы вам не дышать пылью, я дам швабру.
– Да подышу…
– Я вам дам швабру.
И, непреклонная, тут же сообразила швабру и ведро. Оставшись один, Конрад, вместо того чтоб идти за водой, отодвинул их в угол, шмякнул об пол рюкзак, а сам шваркнулся на диван.
И час на нём пролежал.
Наконец, он принялся расшвыривать по невымытому полу своё барахло. Вот что содержал рюкзак Конрада (в порядке появления):
1. пара носков;
2. трусы семейные, в цветочек;
3. шесть пачек сигарет и пачка табака в полиэтиленовом пакете;
4. тёплый свитер грубой вязки;
5. драная трикотажная майка;
6. полусъеденный, полузацветший каравай чёрного хлеба;
7. штаны от тренировочного костюма (с большой дырой в паху);
8. двенадцать магнитофонных кассет в коробке из-под вермишели;
9. справочник «50 лет отечественному регби»;
10. зелёная рубашка с белыми разводами под мышками;
11. топорик с полусгнившим топорищем в замурзанном чехле;
12. том Шопенгауэра на не нашем языке, по краям сплющенный;
13. крошечная пластмассовая банка (на донце осталось чуть-чуть соли);
14. клеёнка;
15. номер толстого журнала десятилетней давности;
16. растрёпанный карманный словарь чужеземного языка (без обложки);
17. кассетный магнитофон туземного производства;
18. новенькая амбарная книга с единственной записью (на обложке) – «Книга Легитимации»;
19. ещё четыре пары носков;
20. армейская шинель-скатка (неправильно скатанная);
21. непонятного назначения рогожа одиннадцатиугольной формы.
По маленьким кармашкам были также распиханы: мыло; шариковая ручка с вытекшей пастой; измазанная в этой пасте зубная щётка; перочинный ножик; моток чёрных ниток с иголкой; обёртка из-под каких-то таблеток (без самих этих таблеток); бритва-станок.
Вновь зашла Анна, молча посмотрела на груду вещей на полу, на скучающую в углу швабру, так же молча положила на край дивана комплект постельного белья и так же молча вышла.
Просидев не шелохнувшись ещё полчаса, новосёл проверил, закрывается ли дверь. Да, щеколда имелась. Больших трудов стоило Конраду задвинуть её, но ничего, справился. Удовлетворённо вздохнув, он вновь прилёг на диван, расстегнул молнию на штанах и выпростал своё мужское сокровище.
И ещё где-то полчаса потребовалось, чтобы гордый, сочный победоносный фаллос превратился обратно в мокрый сморщенный бесхребетный пенис, гаденькую беспомощную болталку.
Тут Конрада клюнуло: в наказание за леность могут оставить без ужина. Мытьё пола в его исполнении заняло ещё полтора часа, и в результате за стол он сел один. Рядом стояла Анна, давала руководящие указания, но половина их прошла мимо руководимых ушей.
На сон грядущий решил Конрад послушать музыку. Любил он под музыку для полного кайфа пропустить сигаретку. А коль скоро Анна запретила ему курить в доме – вставил кассету, взял магнитофон под мышку и побрёл в дальний угол сада.
Росла там голубая ель. Стояла под ёлочкой скамеечка. Уселся Конрад. Не подозревая, что за ним следят.
Нажал Конрад кнопку – аппарат ноль внимания, фунт презрения. Нажал ещё раз – аппарат ни тпру ни ну. Потряс аппаратом – а тот не мычит и не телится. Конрад, разгневавшись, кулаком по нему треснул – аппарат вконец обиделся и фигу показал.
Руки в карманы, носки врозь, корпус назад, уголки губ вверх – считаем, сколько спичек истратит Ишак С Педалями на зажигание одной сигареты. Ветер слабый, от силы метр в секунду. Чирк, ещё чирк, матерное слово, опять чирк. При четвёртой попытке Стефан начал считать вслух.
Услышав «четыре», Конрад съёжился и заёрзал.
– В армии пришлось натерпеться из-за неумения обращаться с огнём, – он виновато потупился, а Стефан протянул ему зажигалку.
Стефан был очевидно вдвое моложе. Следовало изменить тон беседы.
– А ты чего тут?
– Я тут не «чего», а на законных основаниях, – гласил ответ.
– Родственник?
– Знакомый.
– А-а… Мм… – прореагировал Конрад и пустил дым из ноздрей. Пошмыгал. Покряхтел.
– А ты чей такой будешь? – спросил Стефан, игнорируя тот факт, что моложе вдвое.
– А ничей. Вне традиции, – Конрад уповал на то, что зарвавшийся тинэйджер таких немодных слов не слыхивал.
– Вот как? Без традиции негоже, – эрудированный щенок попался. – Что? Стоп машина? – он показал глазами на безжизненное тело магнитофона.
Конрад тряхнул головой.
– Дай-ка.
Стефан по-хозяйски сунул в рот сигарету, пощёлкал клавишами, посмотрел батарейки. «Совсем новые», – растерянно пискнул Конрад.
– Отставить панику. И не таких в чувство приводили, – веско произнёс Стефан и прижал к груди чудесный ящик, отказавшийся творить чудеса.
В сгущавшихся сумерках таял этот изнурительный бесконечный день. Всё слабее давил пресс раскалённой атмосферы, всё легче становилось бремя потогонного зноя, всё мягче дурманящий запах трав. Смежали веки цветы, вздох облегчения прошёл по кронам деревьев. Тускло загундосило комарьё.
Спасаясь от крохотных кровососов, большие сообразительные двуногие тщательно растирались специальными мазями и расползались по своим щелям и норам. Спокойной ночи желали им закатные небеса, приятных сновидений.
Профессор Клир заглотнул последнюю пилюлю с ласковой лакомой ладони дочери и думал было задать праведного храпака, но где-то в безднах его трухлявого организма хрипели, пыхтели, кряхтели незамоленные грехи. В мучениях засыпал старый диссидент.
В отведённой ему комнатёнке, при свете ночника колдовал над кассетником Конрада Стефан, одержимый идеей превратить неуклюжий агрегат в модерновую стереосистему. Томик научной фантастики с небрежно засунутой закладкой звал пылкие пытливые умы к дерзаниям и свершениям.
А хозяин кассетника правой рукой рассеянно листая регбийный справочник, как-то нехотя шарил левой под одеялом и в расплывающемся сознании удерживал образ хозяйки дома.
Стало уже совсем темно, светила надкусанная луна, отчётливо прорезались контуры созвездий. Усталость одолевала похоть, сон одолевал похотливца, и не то чудились, не то взаправду плавно лились в приоткрытую форточку медовые звуки – вроде виолончели.
2. Альраун и бурундук
Спозаранку меднорожее солнце с упорством прожжёного заматерелого альпиниста, незлобно матерясь и широко лыбясь, опять закарабкалось к зениту. Залихватски заискрившись меж дубовых ветвей лучиком-ручкою фамильярно замахало Анне, заядлому «жаворонку» – диета, физкультура, здоровый труд на свежем воздухе позволяли ей высыпаться за четыре-пять часов. И виртуозными белькантовыми руладами женщина-жаворонок приветствовала милого друга – как возлюбленного, как равного. Свой парень солнышко, свой в доску… Ну для кого как – чем выше забиралось шебутное светило, тем нахальнее себя вело. Вот пробудился Стефан – и оно слегка нахамило ему, пустив на его новенькие сборные гантели каких-то шизовеньких зайчиков. С профессором оно уже не заигрывало – смотрело на него явно свысока – дескать, шапку долой, старый хрен, не много раз тебе ещё посчастливится мине лицезреть, а ну давай, благоговей и млей. Ну а уж когда продрал глаза Конрад и стараясь не вслушиваться в скорбный скрип несмазанного желудка, выбрался на крыльцо поиметь первую сигарету, солнце обнаглело совсем и принялось живьём поджаривать беднягу, не желая снисходить ни до какого диалога. Высоко оно, дерзновенное, забралось; жгучими дерзостями ответила угодливому кашлю ничтожных человечишек.
– Ого-го! – свидетельствовало солнце. – Славен наш Господь в Сионе!
И нестройно, чуть фальшивя, всяка мелка козявка и всяка тонка былинка на жалобных ультразвуках запищали осанну.
Утробная песнь Конрада в общий хор не вписывалась. Он пошёл на террасу, чтобы как можно вежливее справиться:
– Нет ли чего похавать, хозяюшка?
А хозяюшка уже распелась, умылась, зубки почистила, сделала зарядку по системе Ивана Бодхидхармы, постирала, погладила, завтрак сготовила, батюшку накормила – теперь ковырялась во саду ли, в огороде. На террасе Конрада дожидался остывший завтрак, накрытый тарелкой – овсянка с ягодами, «завтрак дипломата» называется. Конрад не знал, как называется, а то бы и есть не стал.
Преодолев отвращение, Конрад проглотил гадкую кислую размазню без соли и сахара, отплевался, откашлялся и отправился на рекогносцировку.
Иоганнес и Анна Клир владели солидной территорией чуть ли не в полгектара – сто метров в глубину, в поперечнике сорок пять. Досталось это счастье в наследство от одного из профессоровых тестьёв – тоже профессора и, кажется, академика. Не сосчитать, сколько завистников зарилось на эти полгектара, сколько ответственных работников пытались урезать их до положенных шести соток, но три поколения хозяев сплошь были публика энергичная и влиятельными друзьями не обделённая. А нынче, когда иссякли и влияние, и энергия, целый комплекс факторов бережёт эту благословенную землю: проблемы у людей другие, возни с большими участками невпроворот, снабжение в этих краях непотребное… ну и без руки Всевышнего не обходится.
Конечно – экологическая ситуация здесь хоть и покамест, да тьфу-тьфу! Щебечут пташки, стрекочут мошки, урчат лягушки – помнишь ли ты эти голоса, Конрад? У бронетранспортёров другие голоса…
А вон, слева от крыльца разбиты клумбочки, а на клумбочках кто-то по чёткому плану шести- и восьмиугольниками выложил разноцветную мозаику, и цветочки как на подбор, такие ладные, такие симпатичные. И ведь за ними кто-то ухаживает – земельку рыхлит, удобряет, поливает и плёнкой, если надо, покрывает… Кстати – как эти цветы называются, Конрад? А Бог их знает…
Справа же прямостоячий кустарничек, именуемый жасмином, о чём Конрад тоже не имеет понятия; а подле вон той, свежевыкрашенной лавки (зелёные полосы навсегда запечатлелись на штанах Конрада) зреют ягодки черноплодной рябины, и этого он тоже не ведает. А вон тут уже высыпали ягоды зелёные и твёрдые, твёрже зрелого гороха. Спаржа называется. А у самого крыльца кусты такие белые-белые, и амбрэ у них такое приторно-приятное – и опять же невдомёк Конраду, что это сирень: он-то уверен, сирень по определению сиреневая.
В глубине сада прячет лицо под густой вуалью плюща полуклассическая, полукитайская беседка, из тех, в которых сто и двести лет назад прятались от деспотичных бдительных мамаш жеманные барышни и, прижимая к глазам надушенный батист, с замиранием сердца смаковали оброненную вертерами или дубровскими записку. На это хватало фантазии у Конрада, вот только растение плющ он не идентифицировал – плющ должен быть сплющенный, а раз вьётся, значит должен быть вьюн. Несколько позже в толковом словаре он к вящему изумлению прочтёт, что вьюн есть мелкая рыбёшка, а дальше по алфавиту следует вьюнок, который-таки растение – только совсем не это.
Кривенькое деревце с многопалыми чешуйчатыми листочками есть, как выяснилось впоследствии, туя, редкий гость в краях нашенских. Неказистая она и высоченная двуствольная голубая ель представляли собой главные раритетные древеса на участке. Между ними были насыпаны крутогорбые камни, как в ботанических садах – чего Конрад, не будучи ботаном, опять же не ведал.
Далее справа от дорожки простирался огородец, главный кормилец местных жителей. Что на нём росло, Конрад не понял, да и рановато было для всхода вершков.
Между грядок на корточках ползала Анна. Волосы закрывали ей лицо, и она Конрада не заметила.
– Доброе утро, – попытка громко крикнуть, но звук, который уже раз совершенно не пошёл. Потоптавшись на месте, Конрад решил, что от второй попытки целесообразно отказаться вовсе.
И прежние хозяева, и сами Клиры пестовали свои здоровые тела, чтобы не испарился здоровый дух, и тут был сооружён маленький стадион: турник, где стойками служили стволы деревьев; брусья; самодельные тренажёры. Конрад подошёл к одному из них, потянул на себя пружину и сразу же пожалел об этом: как-никак почти полгода настукало после дембеля.
Чтó здесь Конраду понравилось, так это густые заросли папоротника вдоль забора – этого ветерана эволюционного движения он почему-то признал.
Здесь вообще вспоминалось, что корни наши в докембрии, что папоротник – наш прапапа, и прамама – мамонт, и дай Бог, чтобы из наших органических останков лопух вырос широкий и сочный.
Да, в общем, Конрад попал туда, куда хотел.
Он неспешно побрёл обратно.
А ещё на участке Клиров было до фига различных времянок. Одна из них оказалась кладбищем механизмов. Его содержимое удовлетворило бы запросы целого рабочего посёлка в запчастях. (Кстати, Анна не гнушалась «толкать» нуждающимся в оных когда то, когда это, когда через знакомых барыг, когда и сама)
Сыновья клировского тестя, «технари» (один дотла сгорел на работе, другой перебрался в другое полушарие) маниакально стаскивали сюда рухлядь со всяких помоек и складов – списанные телевизоры, разбитые мотоциклы, раздраконенные компьютеры – и в кратчайшие сроки реанимировали их. Умелых рук и смышлёной головы посредством.
Да и сам профессор во время оно, до всяких оттепелей свой трудовой путь начинал слесарем, горбатился на Великих Стройках и даже факультет прикладной физики закончил, а после прикладывал куда ни попадя свою физику, не стесняясь призрака отца своего, теоретика-лингвиста, почём зря загубленного на лесоповале. Однако гуманитарные гены таки взяли своё, и прежде чем встать на скользкую правозащитно-диссидентскую стезю, Иоганнес Клир переквалифицировался в историки (когда ещё было возможно легальным путём получить два высших образования).
Ну а сейчас, когда профессору и подавно не до распредвалов и микросхем, в сарае хозяйничает Стефан. День-деньской сидит он там, верхом на раскалённом паяльнике, и всё подряд ремонтирует. С его появлением в доме Клиров начались чудеса: загорелись лампочки, зарокотал холодильник, встали на место покосившиеся двери. Пришёл бы в себя и телевизор, только Стефан до него пока не добрался – он ведь и на себя работал: эквалайзер уже собрал, например.
Сидит Стефан, азартно ковыряет инструментом, и вдруг видит: шкандыбает по дорожке вчерашний Ишак С Педалями, такой же скорби исполненный, горем убитый.
– О! Какие люди! – заголосил Стефан. – Как почивать изволили? Петушки давно пропели.
– Здравствуй, – сказал Конрад с видимым неудовольствием.
– Что мы такие кислые-распечальные? Ан случилось что? Мышки спать не давали?
Конрад беспомощно переминался с ноги на ногу.
– Ну не плачь, дядя, я тебе игрушку сделал. – Стефан проворно нажал клавишу конрадова магнитофона, и тот вполне чисто и достаточно громко заиграл доисторический шедевр полузабытой группы «Дорз».
– Спасибо, – только и мог вымолвить Конрад.
– На «спасибо» не опохмелишься. Ну да я великодушен и большего не потребую. – (Конрад протянул сигарету без фильтра, но Стефан отвёл его руку и сам угостил клиента сигаретой «Верблюд» по лицензии фирмы «Кэмел»). – Да там делов-то всего было: транзистор заменить да головку протереть… Я думал музончик твой заслушать, да только всё старьё такое, отстой, уши вянут. А ты «Флайинг кондомз» или Зейнаб Фортюно часом не держишь?
Конрад таких не держал. Этих суперстаров нахваливали первогодки в армии, и было ясно, что дерьмо непотребное, но сказать об этом вслух язык не поворачивался: с мистическим ужасом взирал Конрад на всемогущего тинэйджера – этот желторотый шибзик как-никак обладал неким эзотерическим знанием о процессах, происходящих во чреве самодвижущихся электронных монстров, оставшихся для Конрада ужасной в своей непознанности тайной.
Много слов хранит голова, привычная к кроссвордам, да вот только как бы соотнести их с предметным миром? Вот что это за страхолюдная бомбища валяется у полураскрытой двери сарая? Нешто это трансформер? Или трансформатор? Конрад только трансформаторную будку смутно мог себе представить.
– Приятный у вас садик, – он попробовал сменить тему.
– Да, да, – сказал Стефан. – Клёво тут. Если учесть, что хозяйка со всей фазендой одна управляется, отпад полный.
– Одна?
– Ну, меня вот запрягли. И прошлым летом мы с сеструхой помогали. А сейчас сеструха в столице закрутилась.
– Мда… мгм… а… послушай, садовод… а что во-он там? – Конрад показал в сторону клумбы.
– Где?
– Ну такие… фиолетовые, круглые…
– Це примулы, – важно объявил Стефан.
– А вот это?
– Да це ж флоксы, – Стефан, как положено знатоку, надул щёки.
– А это?
– Сие есть в своём роде знаменитое растение ирис. Не путать с конфетами.
Конрад понимающе шлёпал губами и тут же забывал, что как называется.
– Да тут вообще заповедное такое местечко. Не всё ещё потравить успели. Слышь – птички. Где ты ещё услышишь птичек? У нас вон даже белки водятся.
Ну да, белки – не от слова «белые». Рыжие; ушки с кисточками.
– А урла у вас водится? – вдруг спросил Конрад.
Стефан цокнул языком – впервые из уст Ишака С Педалями прозвучал дельный и резонный вопрос.
– Плодится и размножается, – он смачно харкнул.
– К вам поди лазают?
– Когда я здесь, не лазают. Мой авторитет их парализует, – пошёл выёживаться Стефан. – А в прошлом году только я свалил – тётушке Анне одни корешки оставили, вершки с собой унесли. Зачем, думаю? – Не подругам же дарить…
– А вы капканы ставили? – спросил Конрад.
Это было задумано как острота, но Стефан решил, что занудливый гость после секундного озарения опять впал в маразм.
– Боюсь, в этом году тоже всё прахом пойдёт. Опять пожалуют, разляляи, – задумчиво сказал он, скорее сам себе.
– Значит, некому, говоришь, работать? – Конрад попытался поймать верный тон.
– Ась?
– Работать некому, говорю.
– Да ты зенки раскрой – в доме разруха. Каждая дощечка требует капремонта. Хозяйка одна это не подымет. Так что засучивай рукава, впрягайся. Тут руки нужны. Умелые мужские руки. – И выставив вперёд ловкую длинную кисть, стал загибать музыкальные пальцы. – Забор чинить. Умеешь чинить забор?
– Не умею чинить заборы.
– Непохвально, – покачал головой Стефан и загнул указательный палец. – Шифер менять. Умеешь класть шифер?
– Не умею класть шифер.
– Это минус. Электропроводка никуда не годна. Умеешь чинить электропро…?
– Не уме… На это электрики есть.
– В век электричества каждый должен быть электриком. Недочёт в воспитании, – средний палец прижался к ладони. – Яблоньки надо окапывать. Копать можешь?
– Да. Ещё могу не копать, – слабая попытка сопротивления с целью поставить точку.
– А мусор выносить умеешь?
– Ещё как.
– Во-о! А как насчёт дырки в газовых баллонах запаять?
– Не знаю, не пробовал.
– Стыдно, в ваши-то года, господин вне традиции, – осклабился Стефан, переходя на учтивое «вы». – Пока я жив, имеете шанс пройти ликбез…
– На хера мне твой ликбез, – вяло и виновато возмутился Конрад и даже стал было объяснять, почему такой ликбез ему ни к чему, но запутался и махнул рукой.
– Во-о, – мурлыкал Стефан, засовывая руку в какой-то ящик. – Первый курс: забивание гвоздей…
– Лбом, – сказал вдруг Конрад, а почему – сам не понял.
– Не… лбом не надо. Гвоздик погнётся, расплющится… Молотком, как вы убедитесь, не в пример эффективнее.
– Козёл ты козёл, братец! Где ты был раньше?
– Ых, ых, экие мы сердитые. Грешно злоупотреблять гостеприимством. Тёте Анне пожалуюсь, что вы меня забижаете, тётя Анна пистон вам вставит, ей лишний рот не нужен.
Конрад трясущимися руками стал заколачивать гвоздь в какую-то досточку, через раз попадая по шляпке, но почему-то и пальцы не задевая.
– На троечку с минусом натянем – вариант не безнадёжный, чувствуется заквас бравого солдата. Ещё гвоздик, будьте добры… Повторенье – мать ученья…
Так они ковырялись ещё долго, и Стефан начал всерьёз уставать от бестолковости великовозрастного ученика, от его несуразных дёрганых движений, невпопадных реплик и невидящего взгляда затравленного тушканчика. Он уже сам был не рад своей затее и хотел послать горемычного неумеху куда Макар телят не гонял, но от этой печальной необходимости его избавила Анна, крикнувшая с террасы: «Мальчики, обедать!»
Мальчики вымыли порядком испачканные руки и собрались вкушать трапезу. Но и тут Анна отвлекла их внимание.
– Стефан, ты собрался на северный полюс?
Во как – а Конрад и не заметил, что Стефан весь день проходил в свитере, натянутом до самого носа; с волос, старательно начёсанных на лоб, нескончаемыми струями стекал обильный пот… а Конрад думал – так и надо.
– Лишний вес сгоняю, – ответил Стефан.
– Какой там у тебя вес… Э… что это? – Анна протянула руку, Стефан попытался увернуться… – Да не бойся ты, – успокаивала Анна, заглядывая ему под чубчик. – Что ж ты такой паршивый?
– Я-то хороший. Парша паршивая.
– Раздевайся.
На горячем лбу Стефана, на шее, на мускулистом торсе полыхали пятна омерзительных лишайных наростов. Грубая шерсть свитера растёрла их так, что кое-где начинал сочиться гной.
– Ты сказать не мог? Господи… что ж это такое? Откуда?
Зацарапался слабенький голосишко Конрада:
– Купался?
– Было дело.
– В какой-нибудь серной кислоте купался. У нас в роте четверо из самоволки такими вернулись. Слазили в травленый прудик.
– Да что вы ерунду… – перебила Анна. – В нашем пруду сколько купаемся, ныряем – и живы-здоровы. Здесь у нас уникальная экологическая обстановка. К нам за тысячи вёрст люди приезжают.
– Ваш экологический уникум не накрыт стеклянным колпаком. Вчера уникум, завтра такая же помойка, как везде.
Анна возразила, что сама купалась ещё третьего дня, и Конрад не стал настаивать на своей версии, тем более, что бесполезной трескотнёй Стефану уже не помочь. Анна предложила бедняге сходить к старушке-соседке: во всём, что касалось медицины, Анна ей доверяла.
И Конрад откушал опять в одиночестве. А затем на цыпочках прокрался наверх, как можно тише чуть приоткрыл дверь комнаты Профессора и глянул в щёлочку: действительно ли у того мёртвый час, согласно предписанию Анны? Старик, вместо того чтобы спать, нацепил на нос очки и вертел в руках газету. Конрад отворил дверь пошире и юркнул в комнату.
Так или примерно так начинался роман «Остров Традиции» в конце 80-ых годов. В третьем тысячелетии он так начаться не мог бы.
– Здравствуйте, здравствуйте… Ну что, обживаетесь у нас?
– Обживаюсь. Только вот никаких приказаний касательно садовой деятельности…
– Анна первая приказаний не даст. Она к саду относится ревниво… Ревностно, то бишь. Вы бы сами посмотрели, что где приложения труда требует… Или Стефана вон спросите – он у неё доверенное лицо.
– Увы, я вряд ли пойму, что именно требует приложения труда. У меня никогда не было дачи.
– Счастливец вы… Знаете, не было у бабки хлопот – да купила порося. Хотя пока я не слёг со своей хворобой, любил я переключаться на здоровый сельский труд… Погорбатишься на сельскохозяйственной ниве – и словно воскрес к новой жизни, и мозги словно растуманились. Вот и вы, дитя города, нутром почуяли, что ближе к земле перебираться надо.
Конрад на это ничего не сказал. Он рассеянно осматривал небольшую келью старца – здесь ничего не напоминало о его академическом прошлом. Только ворох начинающих желтеть газет в углу – а так главной достопримечательностью были столик с лекарствами и переделанный в стульчак стул, на который без дочерней помощи не мог взобраться Профессор.
Поэтому Конрад принялся дежурно расспрашивать Профессора о его здоровье. Тот разговор не поддержал, отвечал односложно – словно показывал, что собственное здоровье интересует его столь же мало, сколь и визитёра. Ибо понятно было, что не здоровьем старика был тот озабочен, а чем-то иным.
Профессор даже перехватил инициативу в разговоре и снова осведомился о том, каковы обстоятельства постояльца и насколько тот нуждается в крове. Тот ответил, что мать его – пианистка – давно почила в Бозе, а отец – бывший редактор телевидения – туберкулёзом болен и за бугром, в горном климате здоровье поправляет. Впрочем, отец давно с матерью в разводе, связь почти прервалась. А приткнуться Конраду нынче некуда – пока отдавал долг Родине, злые люди обманом завладели квартирой.
Профессор искренне выразил сочувствие. Но в особенности он заинтересовался отцом Конрада и стал вычислять, не могли ли они быть знакомы, но оказалось, что нет – тот был редактором программ детского вещания, которую нынче всецело подмяла под себя музыкальная редакция, так как только попса способна дать адекватную путёвку в жизнь младому поколению. Поахали-поохали касательно заполонившей эфир бездуховности и потихонечку съехали на тему, любезную разуму Конрада, ради которой он и проделал путь из столицы в глухомань, далёкий и опасный.
– Господин профессор, вы ставили диагноз посттоталитарному обществу. Теперь не то что диагноз – даже патогенез любому Ёжику понятен. Разумеется, корень Зла – Великий Катаклизм; удобрение, чтобы в рост пошёл, – вульгаризованный марксизм, обобществление всего и вся, лишение человека всяческой инициативы и ответственности за плоды своего труда…
– Можно и глубже копнуть, – подхватил Профессор. – Марксизм имел три источника: утопический альтруизм, гегелевский рационализм и приземлённый материализм. Если уж кого и тягать к ответу, то Жан– Жака Руссо с его «человек добр» и Фрэнсиса Бэкона – пионера «религии человека».
– Вот-вот, до самых истоков дошли, – согласился Конрад. – Но со времён Фрэнсиса Бэкона кое-что на белом свете изменилось. Причины успели дать следствия, и следствия сами успели стать причинами.
– Они и стали причинами, – сказал Профессор. – Отсутствие собственности породило всеобщий пофигизм, уравниловка – ненависть к богатству. Поэтому надежда на то, что в этой стране можно внедрить нормальные рыночные отношения, не оправдалась.
– Более того, – напомнил Конрад. – Сразу началась война за новый передел собственности.
– Чрезмерно радикально повели себя наши недавние главнятки, вот и разгорелась бойня, – посетовал Профессор.
Конрад решительно сократил дистанцию:
– Так ведь наша радикальная пресса подстрекала и подзуживала!
– Медлить тоже нельзя было, – возразил Профессор. – И если бы идея внедрения рынка была реализована с умом, а не через задницу, войны можно было бы избежать. Но они провели грабительскую ваучеризацию, вместо того чтобы всех сделать собственниками…
– Они иначе и не могли, – торжественно возгласил Конрад. – Хищники делиться не привыкли. А вы помните, Профессор, что эти хищники были избраны демократическим путём, в результате всеобщих выборов?
– Ну что делать, если главные критики режима оказались наибольшими рвачами и хапугами? – тяжело вздохнул Профессор. – Каюсь, я сам с ними якшался, программы им писал. Не тех мы выбрали.
Конрад всем телом подался вперёд, почуяв шанс оседлать любимого конька:
– А позвольте спросить – можно ли в принципе было избрать «тех»? Не кажется ли вам, что главное следствие Великого Катаклизма – износ человеческого материала, который, в сущности, и загубил все ваши реформы?
– Кажется, – признался Профессор, не чуя подвоха. – Ведь на повестку дня коммунисты поставили создание «нового человека» и преуспели в этом.
– Ну!..
– Вы хотите сказать… «новый человек» оказался не готов к демократии?
– Нет, я хочу сказать, что он идеально оказался готов к войне всех против всех.
Конрад посмотрел на Профессора испытующе.
– На это я вам вот что скажу, молодой человек, – Профессор только-только заподозрил неладное. – Знаете слова Новалиса: «То, что было построено революционным путём, может быть разрушено тоже революционным путём»? Так если вспомнить, какая была после Катаклизма развязана лютая гражданская война и сколько народу на ней полегло, придётся смириться с тем, что и сейчас прольются реки крови.
Конрад хлопнул в ладоши:
– А нужны ли тогда вообще были Переделка, Гласность, Демократизация? Всё то, за что вы так ратовали?
– Обществу нужно движение, – ответил Профессор с некоторой горячностью. – Любой застой чреват обильным кровопусканием. Рано или поздно должно было прорвать… Не мне вам объяснять, что если бы диктатура не встала на путь реформ, эффект был бы тот же. Только агония дольше. Я понимаю, вы, как и всё наше население, склонно во всём винить диссидентов…
– Уж я-то их винить не собираюсь. Я сам – диссидент похлеще многих.
– Ишь ты!..
– Но хотите ли узнать, как я стал диссидентом?
– Небось вражьих радиоголосов наслушались?
– Ничего подобного. У нас дома не было нужного приёмника. Тем не менее к тринадцати годам я уже возненавидел совдепскую власть лютой ненавистью.
– Интересно, интересно… – задумчиво сказал Профессор. – Я-то первое несогласие с властями проявил лет в двадцать пять. При этом какой я диссидент? Так, фрондёр. Две диссертации защитил, работал по любимой специальности, работу не терял, не говоря уж о том, что не сидел. А вы себя таким гордым званием именуете!
Конрад обиделся:
– Книжки читал, сравнивал с реальностью и видел ложь. В книжках всё было про архигуманные «законы пионеров»…
– Вы ещё вспомните «Моральный кодекс строителя коммунизма»…
– …а в жизни – в школе, во дворе, в пионерлагерях я на каждом шагу сталкивался с эксплуататорами и экзекуторами.
– Звери-воспитатели, людоеды-учителя? – понимающе закивал Профессор. – Вся система образования строилась на подавлении личности…
– Нет, – замотал головой Конрад. – Мою неразвитую личность подавляли люди неполномочные и нечиновные. Такие же пионеры – чуть постарше либо сверстники чуть покрепче…
Профессор к такому повороту оказался готов:
– Каков поп, таков и приход…
– …Вне дома приходилось постоянно быть в полной боевой готовности: отовсюду можно было ждать сюрпризов, – почти закричал Конрад. – Сверху тебя могли бомбардировать тухлыми яйцами, из-за угла – натравить собаку, спереди – швырнуть в лицо бронебойной ледышкой, сзади – ни за что ни про что подставить ножку, отвесить подзатыльник, толкнуть с лестницы, уколоть исподтишка булавкой. Недели не проходило, чтобы, угрожая побоями, незнакомая шабла не вымогала у тебя двугривенный...
– А что вы хотите, – перебил Профессор. – если каждый третий наш соотечественник прошёл через лагеря. Лагерная мораль инвольтировалась в быт, в повседневность. Сильный реализует право сильного и гнобит слабого. «Умри ты сегодня, а я – завтра»…
– Вот! Вот! – Конрад словно этого и хотел. – Живя в столице, я чувствовал всюду запах лагеря. Враждебность человека человеку – вот что я впитал сызмальства. Злобен наш гражданин к ближнему – вот что в нём воспитали-то.
– Да, но знаете ли, рыба, как известно, гниёт с головы… – примирительно сказал Профессор.
– Будет вам! – Конрад перешёл к главному. – Давным-давно сгнила голова. А вот как там хвост? Что, приятно пахнет? Или регенерирует? Как не так – хвост уже сгнил, последние уподобились первым. А теперь скажите – способна ли самая здоровая, пусть архигениальная голова восстановить давно истлевшие прочие части тела?
– Отличная отговорка для того, чтобы вообще ничего не делать и пускать всё на самотёк! – Профессор поморщился.
– Я не призываю пускать на самотёк, – отрубил Конрад. – Просто обращаю ваше внимание: коммунистический Дракон давно одряхлел и впал в маразм, но из его давно выпавших зубов уже народились молодые крепенькие Дракончики. Они к настоящему моменту вступили во вполне зрелую пору и клацают зубами в предвкушении поживы… уже поживляются.
– Ну что ж, в наследство от рухнувшего режима нам достался homo soveticus. Только вот мне кажется, не те его черты – определяющие. То, о чём вы говорите, – взбрыки воинствующего мещанина, который всех хочет скроить по своей мерке, – беззлобно сказал Профессор.
– Помилуйте, какого мещанина?.. – взъерепенился Конрад. – Фокус именно в том, что в нашей стране вообще нет мещанства!.
– Отнюдь. Есть мещанство, – убеждённо заверил Профессор. – Оно-то, в конечном счёте, и победило в результате Катаклизма. Оно, оно с его премудростями «пускай начальство думает – у него зарплата большая» и «пускай медведь работает – у него четыре лапы» лучше всех приспособилось к ситуации общественной собственности и очковтирательства. Весь совдепский период был периодом туфты и халявы, панического страха перед новым и талантливым. И вдруг в ходе Переделки уютный мирок совмещанина начал рушиться. А когда рушится мир, мещанин сбрендивает, и нет ничего страшнее сбрендившего мещанина.
– Но позвольте… – не уступал Конрад. – Когда меня чморили в детстве и отрочестве, мир не рушился. Он был – сама стабильность.
– Стабильность дефицита и бесперспективности… К чему ваши мучители могли приложить свои силы, на что направить свою энергию? А нынче полиция натравливает их на неформалов и инакомыслящих, и те с радостью повинуются.
– Ой, да никто их не натравливает… Они бьют первыми, в том числе ту же полицию… Вот вы всё про homo soveticus – а каковы, по-вашему, его главные черты?
– Охарактеризовать вам тех, среди кого мы живём?.. Пожалуйста.
И в это время в дверях возникла Анна и непреложным перстом указала на часы.
Конрад, уперев обе руки в колени, тяжело поднялся с табурета.
– Вот видите как… – виновато улыбнулся профессор. – Не волнуйтесь, завтра охарактеризую.
Анна молча подождала, пока Конрад выйдет, а затем захлопнула за ним дверь и, не говоря ни слова, упорхнула в сад.
За калиткой послышались гоготанье и матюги. Ватага местных пацанов лет тринадцати-четырнадцати, задирая друг дружку и друг перед дружкой рисуясь, издевательски медленно прошествовала мимо участка.
– Детки пошли, – сказал себе Конрад.
Шелудивый Стефан уединился в своих апартаментах и на свет Божий не вылазил. Доступ в его комнату был строго воспрещён. Там было мертвецки тихо, так как музыку благовоспитанный мальчик слушал через наушники. Но всё-таки Конрад постоял-постоял под безмолвствующей дверью да постучался. Он жаждал распоряжений. Не потому что рвался ишачить, а потому что боялся прослыть сачком.
Стефан сидел спиной к двери, действительно, в наушниках, а перед ним на столе красовался непонятный Конраду агрегат. Напрягши память, Конрад решил, что это, скорее всего компьютер – за три года развитие техники могло сигануть вперёд семимильными шагами. На тёмном экране колыхались какие-то причудливые вакуоли, постепенно менявшие форму и цвет и взаимоперетекавшие. Конрад зачарованно глазел на трепетные танцы антиматерии и не мог оторваться. Стефан мерно качался в такт неслышной музыке и ни единым вздрагиваньем не выдавал, что почуял чужое присутствие.
Наконец, Конрад тронул его за плечо.
– Как ты? Был у бабки? – справился он, памятуя о заповедях Дэйла Карнеги.
Стефан, не повернув головы кочан, лениво указал на какую-то бутылочку – очевидно, с каким-то целебным настоем или отваром.
Ещё какое-то время Конрад проникался беззвучной музыкой, после чего вновь слегка потряс парня.
– Монитор вижу, – сказал он на удивление громко. – А где же сам компьютер?
Стефан медленно, нехотя, стащил наушники с головы.
– А это, видишь ли, «два в одном». Ноутбук называется. Лэптопчик.
– А что он умеет?
– Всё. Капусту рубить. Огурцы резать. Детей рожать.
– А дистанционно забивать гвозди?
– Вопрос сформулирован дремуче некорректно, – Стефан снова принялся натягивать наушники.
– Буквоед хренов. Ответь грамотно на мой вопрос.
– Этим компьютером можно непосредственно забивать гвозди. А его младшим братьям по плечу оперировать тобой, забивающим гвозди. – Стефан одним движением онаушил буйну головушку, давая понять, что аудиенции кирдык.
Вечером Конрад сходил в дальний конец сада и созерцал так называемый «лесной участок» – недавно прирезанную к саду широкую полосу леса, с аллеей-просекой посередине. Из хозяйственных построек здесь был только вытянувшийся слева сарай, набитый всяческой экологически чистой рухлядью – досками, фанерными листами, фрагментами старой мебели. Повернувшийся спиной к нему чувствовал близость подлинного леса, грозно высившегося за частоколом.
На лесном участке росли раскидистые липы, обхватистые дубы и корабельные сосны. Они укоренились здесь всерьёз и надолго – корни терялись в зарослях чистотела, разрыв-травы и стрекучей – как успел на свою беду ощутить Конрад – крапивищи, но кое-где чётко просматривались уже опознанные параллельные стрелы папоротников, гостей из палеозоя.
Подставив обстрёканные ступни лучам заходящего солнца, Конрад закрывал глаза и слышал звуки, для данных широт не характерные. Копошился средь крапивы получеловек, полурастение альраун; стучал в тамбурин полосатый бурундук; сладко запели сирены, плавно запорхали сильфиды, страстно заплясали дриады; звеня золотыми копытцами, поскакали рысью по аллее брутальные китоврасы и невесомые единороги. Зверьми диковинными и невиданными полнился прилесный прелестный вертоград семейства Клиров. И было совсем не ясно, кто здесь чудотворец, а кто – чудотварь.
Лощёное золочёное светило кренилось за горизонт, окрашивая небосклон во все мыслимые оттенки розового. Благополучно минуя жадные щупальца закатных лучей, хороводили кучерявые облачка.
Заливалась птичка пиздрик, цвёл цветик синеблядик... Вы думаете – это авторское сквернословие? Отнюдь. Эти образы привиделись поэтам эпохи поздней стагнации, могу ссылки дать[1]… От растерянности перед многоцветьем природы, от преисполненности её многословьем, от её неуместности в нашем бытии актуальном такие слова и придумались.
И вдруг китоврасы и единороги словно воплотились въяве. В лесу отчётливо расслышался цокот копыт, замелькали в прогалах забора крупы, холки и гривы.
Конрад впрыгнул в тапочки, опрометью опрометчиво ринулся навстречу, но забор не пустил его: здесь он был ещё выше, чем по другим краям сада. Но прижав физиономию к широкой щели, воистину увидел новый жилец Клиров двух идеальных, огнеподобных коней-игреней и две ультраматериальные, целеустремлённые фигуры всадников.
Вечером Конрад, весь день просмотревший вглубь себя на лесном участке, приполз в свою каморку. Он уже расстегнул штаны и вознамерился выполнить обычную предсонную процедуру, но перед этим решил заглянуть в старинную энциклопудию. Чтиво, не обязывающее ни к чему – с любого места читать можно и в любом месте бросить. И увлёкся так, что даже про сексуальный зуд забыл.
Энциклопудия была ровесницей истекающего века, пестрела ятями, ижицами и конечными ерами. Невзирая на периодические славословия царю Гороху, ещё не скинутому и не расстрелянному коммуняками, в ней сразу почувствовался бодрый дух позитивизма. Каждое явление было однозначно истолковано и подтверждено статистически. Конрад с аппетитом вкушал словеса, выведенные заштатными просветителями, и цифры, собранные земскими статистиками, успокаиваясь объяснённым и прояснённым миром, движущимся от незнания к знанию, от нищеты к процветанию и от мрака к свету.
Единственное, что удручало Конрада – ненадёжность дат. Всё время приходилось держать в уме тринадцатидневную поправку – докатаклизменная Страна Сволочей не жаловала Грегорианский календарь и по-прежнему цеплялась за Юлианский, демонстрируя дремучую антипозитивистскую отсталость. По этому календарю выходило, что на дворе только-только началась третья декада мая. И Конрад решил свериться с висевшим на стене отрывным календарём, который вчера вообще не приметил.
На календаре значилось первое июня. Сегодня было шестое. На верхнем листке чьей-то корявой, почти детской рукой был нарисован крест и написано несколько слов. Календарь обрывался на гибели Алисы Клир – сестры здравствующей Анны и дочери поверженного фрондёра Иоганнеса. Небольшой текст на листке привёл Конрада в ступор, вывел его из уютного расслабона и заставил внимательно, как в первый раз, обозреть комнату.
На стене, несколько ниже календаря, почти загороженная капитальным столом, висела мятая газетная вырезка. По краю шли выходные данные: дата – второе июня, год – нынешний. Содержанием вырезки была криминальная хроника. Не вся. (Под отчёты о свершившихся за день душегубствах и святотатствах в Стране Сволочей отводились целые полосы). Какая-то журналистская особь кратко, но в красках разрисовала свежесвершившееся убийство Алисы. Прилагалась даже фотография трупа – знамо, дошлый борзописец дружил с оперотделом полиции. Чтобы разглядеть фото толком, нужно было отодвинуть исполинский стол от стены. Это отняло бы массу сил и всполошило бы весь дом. Конрад очень хотел увидеть фотку. Но он и так мысленно узрел, что на ней должно быть – фамильярный, на грани стёба, текст излагал обстоятельства убийства доходчивее некуда.
И вдруг Конрад понял, что смерть Алисы Клир отныне интересует его во всех подробностях. Далеко не факт, что женщина стала жертвой случайных гоношистых отморозков. Всё естество засвербило: кто и почему? И стало ясно, что пока ответов на эти вопросы Конрад не получит, с участка Клиров он сам, по доброй воле, не съедет.
В эту ночь долго не мог уснуть Конрад. При этом зипер его был расстёгнут и маленький друг розовел в расселине. Но очень нескоро решился Конрад помять его на сон грядущий. Если вообще решился.
3. Менталитет и криминалитет
И следующий день был несказанно жарок и пылен. Взлетали мухи.
Конрад побрился и умылся. Он выпростал из-под рубахи впалую, почти без волос, грудь и возлежал на раскалённом крыльце. Курить ему было лень. Дышать – тем более.
Дверь калитки заскрипела, по косой дорожке к крыльцу приблизился довольно молодой детина с развитой мускулатурой.
Конрад поймал его периферийным зрением, ибо повернуть голову не хватало мощностей. Детина широко расставлял чуть согнутые ноги, чуть сгибал могучую спину и чуть показывал передние зубы.
Он захотел войти в дом, но для этого надо было переступить через распростёртое тело Конрада. Тот прошёлся зрачками сверху вниз по молнии зависших над ним великолепных брюк.
– Ну дай пройти-то, – сказал детина.
Конрад дал себе команду повернуться, но не послушался собственной команды.
– Вы к кому? – поинтересовался он.
– Кто тут хозяин? – спросил детина.
«Ну ты, ты», – хотел сказать Конрад, прицениваясь к неотразимым брюкам, но не сказал, поскольку они прошуршали над его головой и вновь открыли напряжённую синь безоблачного неба.
Вот тут уж Конрад, помогая себе немощными руками, вскочил и проследовал вслед за детиной на террасу.
– Куда? А вдруг там голые женщины?
– Я их видел, как ты воробьёв.
– Куда вы?
Из сада вышла Анна с тяпкой в руке и устремила свой взгляд на детину. Тот остановился, сошёл с террасы, второй раз переступив через Конрада, и галантно поклонился Анне.
– Добрый день, очаровательная Хозяйка. Вы даже комиссара полиции можете лишить дара речи… Позвольте представиться: поручик Петцольд.
– Чем обязана? – спросила Анна. Зрачки-буравчики сверлили комиссарскую селезёнку.
– Да видите ли… в старину был обычай… любой свеженазначенный чин – от губернатора до станового пристава… что первым делом делал? Наносил визиты всей местной элите: богатым помещикам, аристократам, почётным гражданам, не забывая и земского врача…
– Короче, – сказала Анна как отрубила. «Короче – на выход с вещами», – размечтался Конрад.
– …делал визиты также литераторам, знатокам края, просто учёным собеседникам… ну и первым красавицам, конечно.
– Если вам захотелось по красавицам, вы ошиблись адресом.
– Я вас понимаю: предвзятое отношение к представителям власти… ваша полиция плохо вас бережёт, – комиссар грустно рассмеялся и беспомощно развёл руками.
Давно напрашивался какой-то простейший жест, способный смягчить агрессивный настрой Анны. Что ж, артистично сработал Поручик.
–… а может мы присядем? Сидя-то лучше беседуется, – он жестом пригласил Анну войти в её собственный дом.
– Я посторонних в свой дом не пускаю. – Анна с откровенным вызовом поглядела Поручику прямо в глаза. Поручик как бы невзначай оглянулся на Конрада и выдержал взгляд а-ля Медуза-Горгона. – У меня папа болен. Извольте, пройдёмте в сад.
Конрад, как ни был перепуган, с удовлетворением отметил, что Комиссар чуть-чуть замешкался, услыхав из уст безупречно грамотной Анны безграмотное «извольте пройдёмте».
(После на досуге Конрад сопоставил реакцию на это первое появление Поручика и первое появление своё собственное. Он подивился: бесстрашная и непреклонная с грозным классовым врагом, Анна-таки чуть стушевалась при знакомстве с жалким сутулым праздношатайкой, раз даже дрогнула – когда он полез за пазуху за треклятыми ксивами. И объяснил это для себя так: Поручик был представителем вполне определённой силы, однозначно страшной в своей определённости, апокалиптически-эсхатологической, но известной, понятной, описанной в самиздатовской литературе, отчеканенной в интеллигентском сознании – составной частью современной сволочной традиции, а он, Конрад – был просто «некто» и тем для традиции страшен. Экий хитрый наворот! И лишь одного не мог смекнуть Конрад – гордиться ему этим или расстраиваться?
Прежде чем последовать за Анной, Поручик нарочито громко спросил:
– Кто это там у вас загорает на крыльце?
– А вы его спросите, – ответила Анна не столь громко, но звонко и звучно.
– Ну тоже вот, тайны-секреты…
– Этот человек более-менее умеет говорить.
– Да… да… более или менее…
Тут Поручик не преминул помахать Конраду как старому знакомому, крикнув:
– Твоя морально-политическая физиономия известна мне по данным досье…
– Досье на меня можно собрать, не выходя из дома, – ответил надсадный хрип.
Анна воспрепятствовала продолжению невинной пикировки, увлекая Поручика в обход дома, вглубь сада. Конрад задумался, что ему теперь делать. Собрать пожитки и смыться он не сообразил, так как по жизни ничего не соображал, а только думал.
Наконец, он с кряхтением встал, подхватил кассетник, и побрёл к беседке, вроде как помыть руки. Он понимал, что дальше Анна гостя не проведёт. У беседки он как бы случайно забыл кассетник с нажатой клавишей «Record». Здесь прямо на дорожку спускались большие шары гортензий, и под ними аппарат должен был чувствовать себя уютно. Не будем осуждать Конрада за излишнее любопытство. Ведь как иначе рассказать вам, о чём говорили Поручик с Анной, а ведь это куда интереснее того, о чём Конрад говорил с Профессором. А пока что Конрад именно к Профессору-то и направился, и нам предстоит выслушать очередной безблагодатный базар.
Конрад не вошёл – вбежал, ворвался в келью старца. Тот возлежал на спине и улыбался своим мыслям.
– А-а… диссидент-самоделкин, – приветствовал старик гостя и взял паузу. – Вы, я надеюсь, не обиделись?
– Нет, а чего обижаться… – обиженно поджал губы Конрад.
– Ну что ж, вы хотели знать, что я думаю о человеке совдепском обыкновенном. Я тут даже набросал по пунктам, – Профессор помахал перед носом Конрада исписанным клочком бумаги. – Не забывайте, что ваш покорный слуга сам во многом и есть типовой «совок». Итак, начнём. Перед нами дурно одетый, плохо выбритый, вечно пьяненький субъект…
– Я видел ваши фотографии в молодости! – запротестовал Конрад. – Вы были элегантно одеты и чисто выскоблены…
– Это вне пунктов, это вступление. – Профессор поднёс клочок бумаги к глазам. – Органические свойства этого субъекта, в частности, суть… Во-первых, леность, безинициативность, пожизненное иждивенчество.
– Да ну что вы!.. Он ещё в младшем школьном возрасте научился добывать деньги, смекнув, что даже мятая гознаковская пятёрка куда весомей «пятёрки» в дневнике.
– Не велика инициатива – карманы мелюзги трясти …
– Так это ж только разминка перед кражами госимущества из-под носа у вохры и фарцовкой по-крупному.
– В этом уклонении от честного заработка есть своего рода безволие…
– Не замайте! – голос Конрада ощутимо окреп. – Без спартанского упорства не сумеешь ежемесячно увеличивать диаметр бицепса на целый сантиметр…
– Ну пусть… Во-вторых, стопроцентный идеологический конформизм, связанная с пунктом первым неспособность к самостоятельному мышлению.
– Да идеология для них – щебет, ничего общего не имеющий с реальностью.
– Возможно, в идеологию нынче мало кто верит… – согласился Профессор. – Пункт третий: полное отсутствие чувства собственного достоинства, готовность беспрекословно сносить хозяйский кнут и с благодарностью сгрызть любой заскорузлый пряник.
– Ну-ка попробуйте задеть кого-нибудь на улице… Вам косого взгляда не спустят, не то что….
– Но то ж на улице… А как насчёт социальной жизни? – не унимался Профессор.
– А на социальную жизнь мы предпочитаем класть с присвистом и самоутверждаемся в асоциальной, – веско изрёк Конрад. – Гасим обидчиков в тёмных переулках,
– Кто это – мы?..
– Они. У них нет инстинкта самосохранения, а чувство собственного достоинства ещё как есть.
Профессор покачал головой и вновь уткнулся в бумажку:
– Четвёртый пункт: достойная всяческого презрения трусость, вытекающая из пунктов второго и третьего.
– Господь с вами!.. – Конрад даже привстал.
– Ну разве что семеро одного не боятся…
– Кощунство, неслыханная клевета! – отрезал Конрад – Если вдруг наш соплеменник окажется один против семерых – будьте покойны, драться станет до конца. И возможно, те же семеро, восхищённые мужеством одного, растрогаются и предложат ему стать восьмым. Что-что, а «Трёх мушкетёров» читал, помнит, как д’Артаньян стал четвёртым.
– Ну, читал-то вряд ли. – улыбнулся Профессор. – Скорее фильм смотрел…
– А если и не смотрел? Он постоянно посвящение проходит, инициацию. В группировку поступить – инициация, в камеру войти – инициация… Ты-де кем хочешь стать – лётчиком или танкистом? И прыгай с нар на бетонный пол или лупи башкой в железную дверь! Тут какое мужество нужно…
Профессор улыбнулся ещё шире:
– Эх… Продолжаем. В-пятых: вытекающее опять же из конформизма и отсутствия чувства собственного достоинства холуйское пресмыкательство перед сильными мира сего. Угодничество, подхалюзничество, лизоблюдство.
– Какой там подхалимаж? – замахал руками Конрад. – Какое угодничество? Он метелит ментов, в глаза материт прокуроров, насилует дочек партийных шишек, не страшась ни дисбата, ни зоны, ни вышки. В каждой зоне, в каждой роте есть такие, рядом с которыми самый свирепый начальник и командир робким тюфяком выглядит. Более того – он старается на них «опереться».
– Ну как же, это те, кто сам метит в начальники и командиры! – Профессор тоже возвысил голос. – Карьеристы…
– Всё так, только ни о военной, ни о партийной, ни о хозяйственной карьере они не помышляют. – с готовностью отрезал Конрад – Их прельщает успех в «альтернативных структурах» – карьера пахана, главаря, крёстного отца, а лизоблюдам такие чины заказаны. Они берутся кровью.
– Но при этом они всё равно желают вписаться в некую структуру! – настаивал Профессор. – Субординация сохраняется везде.
– Ещё бы, – фыркнул Конрад. – Бицепсы у всех неодинаковые, мозги – тем паче. Кто-то выбивается в «бугры», кто-то обречён всю жизнь ходить в «шестёрках»… Но выбор, кому служить – королю ли, кардиналу ли – это свободный выбор, выбор по любви. Выбираешь того Хозяина, который меньше других будет ущемлять твою свободу. Хозяина – друга и заступника.
– Делать хозяину нечего, как заступаться? – возразил Профессор.
– Из общака «подогревать»!
Профессор недовольно заворочался под одеялом:
– Ну допустим… Шестой момент. Склонность к совершению подлостей, в частности, страсть к доносительству. Миллионы безвестных анонимщиков в фундаменте отлитого в бронзе Пауля Фроста.
(Здесь нужен комментарий. Лет семьдесят назад, во время «раскулачивания» мальчик-пионер Пауль Фрост сдал властям родного папу и был за это причислен к лику совдепских святых).
– Шиш вам! – Конрад в самом деле показал шиш. – Кто же сейчас унизится до такого смертельного позора как стукачество. «Подставить» чужого – раз плюнуть, «разобраться» со своим – всегда пожалуйста, но чтобы своих «заложить»… Сейчас это – единственное табу для самых отпетых подонков и головорезов.
– Правда? – обрадовался было Профессор. – Так это же прекрасно. Хоть в чём-то лагерный опыт пошёл нашему человеку на пользу.
– Как же, ваш брат не терпит стукачества! С лагерных пор... – сказал Конрад с досадой. – А вот если, скажем, пилот стукнет на своих не совсем трезвых товарищей, которым вверены жизни десятков пассажиров? В Америке – это норма жизни, ваша же газета писала.
– Писала, писала, помню-помню… – Профессор совсем спал с лица. – Эх… Наконец, пункт седьмой: уравновешивающая предыдущую графу верность своему стаду и ксенофобия.
– Кто свободен выбирать себе друга, способен выбирать и врага. – Конрад рубанул воздух ладонью. – Притом руководствуясь новыми критериями. Сволочи и татары бьются «за свой район» против таких же сволочей и татар.
– Но стукаческая-то Америка – в любом случае для них враг! – Профессор почти оторвал голову от подушки.
– Ни под каким соусом! – Конрад был непреклонен. – Кто, как не она подарила новые поведенческие модели и сценарии, вдохновляющие на славные подвиги – «Рэмбо», «Рокки», «Терминатор»?..
– Ну что мне вам сказать? – вздохнул Профессор. – Я вам про «совка», а вы мне про маргинала.
– Маргинализировался ваш совок. – диагностировал Конрад. – Вот в чём фокус-то!
– Когда это он успел? – искренне занедоумевал Профессор.
– А вот пока вы наукой занимались и острые статьи писали, он как раз и выпал из социальных ячеек, – ответил Конрад злорадно.
– Слава Богу, если так… – успокоился Профессор. – Значит – стремление к воле не задушишь… Но воля – ещё не свобода.
– А что такое, по-вашему свобода? – ухмыльнулся Конрад.
– Свобода свободе рознь! – докторально сказал Профессор. – Нельзя путать «свободу от» и «свободу для»! Да и «свобода от» лишь тогда оправдывает своё название, когда она – свобода от дурных страстей, от грязных соблазнов, от памяти обид… Но высшая свобода – деятельная, «свобода для» – для служения ближним, человечеству, Родине…
Конрад словно только этого и ждал:
– Эх, профессор, профессор… А ещё плюралист… С какой радости вы сочли себя вправе монополизировать дефиниции, канонизировать понятия? Чтой-то ваша свобода так боится мирного сосуществования со «свободой от» стыда и совести, «свободой для» господства и кайфа?
– Но вам ли не знать, – строго спросил Профессор, – что коррелятом к «свободе» является «ответственность»?
– Ну пусть так, только Бога ради потише… вдруг кто-нибудь услышит… – Конрад притворно понизил голос. – И перепутает вас с ненавистными гадами-коммунистами. Вот кто обожал про «ответственность» потолковать! В одной пионерской книжке так и значилось: «За всё, что происходит на Земле, отвечаешь и ты…». В гробу видали нынешние жлобы такую «общественную нагрузку», да ещё сегодня, когда общество созрело для прозрения: залог его благополучия – в личном благополучии каждого из его членов.
– Но простите, вы же наверняка слышали про ответственность «за базар»?..
– Только она и осталась.
– Ну вот. – Профессор перешёл в контрнаступление и для этого даже взял маленький тайм-аут. – А вообще-то, индивид может стать свободным только в любви! Делай, что хочешь, говорил Блаженный Августин, только сперва полюби…
– А кто вам сказал, что теперь никого и ничего не любят? – парировал Конрад. – Любят, и ещё как – трэш-метал, мотоциклы, «Челси», холодное пиво и тёплых тёлок…
– Но Блаженный Августин-то Бога имел в виду! – Профессор наставительно воздел перст. – «Полюби Бога – и делай что хочешь»!
– Ну и Бог с ним, а загляните-ка в собственноручные проекты либеральных конституций... – усмехнулся Конрад. – В каждом чёрным по белому вашим почерком написано: «Каждый свободен исповедовать любую религию или не исповедовать никакой». Вот никакой и не исповедуют, разве что религию Силы. А в пасмурные дни – религию Ненависти.
– То есть ваша свобода…
– Их свобода…
–…их свобода – это свобода агрессии. Но источник агрессии – комплексы, то есть внутренняя несвобода…
– Гм, уж не возьмётесь ли вы сосватать каждому психоаналитика? – спросил Конрад ехидно. – Знаете ли, специалисты подобного профиля, как правило, интересуют тех, кто свою агрессию направляет против себя самих. Только мазохисты стонут под ярмом своих комплексов; садистам такое ярмо не в тягость. Принудительное же лечение с разговорами о свободе не вяжется.
– Но разве свободен тот, кто посягает на свободу других? – Профессор воздел уже целый кулак. – Вы экзистенциалистов, что ли, не читали?
– Мало ли, что я читал, мало ли, кого они не читали… – заёрничал Конрад. – Но спокойствие, уж в этом-то пункте они с вами совершенно согласны. Любой уважающий себя лох скажет вам, что уважает чужую свободу. Как же иначе-то? «Я свободен опустить тебя, но и ты свободен опустить меня. В первом случае ты волен сопротивляться мне, во втором – я тебе. Ещё вопросы?»
– Где же тут свобода, спрашивается? – воспламенился Профессор. – Это какое-то первобытное рабство, слепая покорность элементарному закону природы, известному как «закон джунглей». Или – «закон – тайга»…
– Э нет, – теперь уже Конрад взял докторальный тон. – Если это и закон-тайга, то исправленный, чересчур вольно истолкованный. Сфера его действия расширена от границ тайги до границ мироздания. Что может быть скучней и банальней типичной животно-растительной заботы: грызть глотки стоящим поперёк дороги, чтобы только дорваться до кормушки и всласть накушаться? То ли дело, не сразу загрызать, а мелкими глотками сосать кровь… не обязательно из стоящих поперёк, можно из стоящих в стороне, на кормушку не претендующих – даже ценой замедления продвижения к кормушке… Изощрённо так – голь на выдумки хитра!
Профессор молчал. Торжествующий Конрад победоносно продолжил:
– Свобода для нашего компатриота начинается не с «от», не с «для», и не с «чтобы» или «потому что», а с «просто так». То, что мы называем садизмом, есть апофеоз его личной свободы. Он самореализуется через садизм, в садизме проявляет свою индивидуальность. В садизме ему открывается такой простор для творческой фантазии, такой спектр ярких впечатлений и острых ощущений… достойный не унтерменша, а сверхчеловека.
Эту речь вместе с Профессором выслушала вошедшая без стука неумолимая и неминуемая Анна, и от этого триумф Конрада показался ещё более триумфальным.
– Вот так. Стоило мне отвлечься, и вы превысили лимит времени, – сказала Анна отцу. – Всё на сегодня.
– Да, что-то мы сегодня заболтались, – сверился Профессор с часами.
– А у вас сегодня гость, – поделился новостью Конрад.
Анна метнула на него испепеляющий взор, и он прикусил язык.
– Сосед. Зашёл за насосом, – объяснила Анна.
Утомлённый беседой, но с чувством исполненного долга Конрад вновь разлёгся. Жарынь несусветная, время сиесты.
Мухи дохнут в трясине варенья, мир их мушиному праху, земля им пухом, семь футов под килем, так их маму.
Пулемётами стрекочут цикады, глубоко удовлетворены пулемётчики. Свежее мясо удобряет истощённую почву.
Плазматические тела людей наполнены плазматическими мозгами, а те в свою очередь, – плазматическими маразматическими идеями.
Например, был такой Иисус Навин, ради превозможения супостатов догадавшийся остановить в небе солнце. Прям как сегодня.
Не любил Конрад Священное Писание из-за Иисуса Навина. Господу Саваофу потребовался массовый убийца и военный преступник, положивший тьмы своих и чужих, чтобы возблагоденствовал избранный народец.
Незваный гость, оказывается, ещё не ушёл. Похоже, ему во что бы то ни стало надо было познакомиться со Стефаном. У того пятна на теле уже поблёкли, но на ласковый оклик комиссара полиции он не отозвался и спешно затерялся в глубине сада. Не помогло и вмешательство Анны. Поручик развёл руками и продолжил любезничать с хозяйкой. Та за истекший час явно изменила своё первоначальное отношение к представителю власти и на прощанье даже пожала ему руку. Сие настороживало.
Когда Поручик вновь переступал через Конрада, тот спросил точно старого знакомого:
– Господин Поручик, когда меня арестуют?
– За что? – равнодушно переспросил Поручик.
– «Был бы фраер, статью подберём», – напомнил Конрад.
– А смысл? – ответил Поручик. – У тебя мания величия. На лесоповале толку от тебя как от балерины. И вообще – арест надо заслужить.
И сделал пару шагов к воротам, но потом медленно развернулся и поманил Конрада пальцем. Тот с готовностью повиновался.
– А вообще у меня к тебе разговорец есть, герр Мартинсен.
– Таки есть? – струхнул Конрад.
– Угу. Ты насколько сюда вселился?
– Пока не выгонят.
– А столоваться за так будешь?
– За ударный труд… на огороде.
– Да уж, я смотрю, огород Клиров под серьёзным ударом. Ты хоть тяпку от мотыги отличаешь? Шпинат от щавеля?
– Не-а.
– Так вот. У меня к тебе есть предложение получше. Пойдёшь к нам осведомителем.
Конрада как в землю вкопало. Он будто не верил, что это не вопрос, а приказ.
– Стучать, значит?
– Сказано – осведомлять.
– Но о ком? О лежачем старце? Или о его дочери? Н-нет уж…
– Насчёт дочки не волнуйся – я сам у ней о чём хошь осведомлюсь. А о старце ты зря… этак неуважительно. Он тоже электорат, между прочим. Но вообще-то первое задание у меня к тебе будет другое. В последнее время в наших краях завелись неформалы. Кто такие, чего хотят – пока не ясно. Вот ты и разузнай, кто и чего. Наводку я тебе дам…
– Господин Поручик, но я ведь с людьми-то… не очень. Не смогу я к ним втусоваться. Вы же проинформированы, я уверен.
– Разговорчики! Втусуешься – получишь зарплату и отдашь Клирам. А не втусуешься – накажем. Вот и весь сказ.
И без промедления выдал Поручик Конраду хрустящую краснокожую ксиву с печатью и фотокарточкой – всё-то у него было припасено заранее, даже фотокарточка, хотя Конрад не помнил, чтобы в последние три года фотографировался. Впрочем, выглядел он на фотке молодо – шея тонкая, уши прозрачные, глаза беспомощные. В каком-нибудь архиве – в военном, например, вполне могла заваляться таковская. Должность Конрада называлась «секретный сотрудник». Его благородие популярно объяснил, что тугамент этот простым гражданам показывать ни-ни – разорвут на части, а вот коллегам по ведомству предъявлять обязательно – сразу все ворота для предъявителя раскроются. А в наши дни вход за иные ворота дорогого стоит. Подчас – жизни.
Свежеиспечённый сексот взял ксиву в руки как ежа или как гадюку, но всё-таки взял – а как не взять? Так пополнилась его коллекция документов, заменявшая биографию.
– Кстати, свою предрасположенность к оперативной работе ты уже проявил, – прокомментировал полицай-комиссар. – Смел, смел, конечно. Даже забыл, что когда сторона кассеты кончается, клавиша издаёт громкий хлопóк. Но я упросил хозяйку ничего не стирать. Послушай, что получилось, послушай… Там и для тебя много ценного было сказано. Держи свою кассету… Какую музыку стёр-то?
– «Лето, я изжарен как котлета», – признался Конрад. – Ничего страшного, переживу.
«Лето, я изжарен как котлета». «За горизонтом где-то ты позабудешь лето». «Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтоб оно со мной умчалось»… Кот Лето, пёс Трый. Официальный и неофициальный музыкальный фольклор. Сознание иглой прошило вискú, штурманы отхлёбывают вúски. Жарко, мразно, заразно…
– В общем, держи свою кассету и слушай на здоровье. Ты узнаешь, что батька Петцольд не только карает и гнобит – что от него и созидание исходит, – Поручик протянул Конраду вещественное доказательство его плохого поведения.
На прощание он оставил новому сексоту адрес, по которому тот должен был передавать оперативную информацию. Конрад затосковал, но дело в долгий ящик решил не откладывать. Сегодня же в шесть вечера он пойдёт к центру посёлка, к главной водокачке, где как штык в это время должны будут тусоваться неформалы, и попробует установить контакт. Скорее всего, контакт зубов с кулаком и промежности с коваными башмаками. Но перед смертью не надышишься. Скорей бы уж.
А пока что Конрад уполз на лесной участок и, никем не тревожимый, слушал кассету.
– Прежде всего я хочу сказать, – послышался ровный голос Поручика, – что убийца вашей сестры найден и арестован. Это известный гангстер по кличке Землемер, выходец из здешних краёв. Он сидит в губернской тюрьме и ждёт расплаты за множество преступлений. Он стократ нагрешил на высшую меру, но у следствия к нему очень много вопросов, поэтому надо бы запастись терпением, пока свершится возмездие. Но можете быть покойны: возмездие свершится.
– Спасибо за информацию. Увы, так или иначе – сестру мою не вернуть.
– Да, и я выражаю вам своё соболезнование. Но если наказание будет неотвратимо, как это происходит при нашей власти, злоумышленники поостерегутся творить свои злодеяния.
– Землемер… Какая странная кличка.
– Ничего странного. Он учился в губернском городе в землемерном училище. Весьма старинное, уважаемое учебное заведение. Только вот в последнее время оно превратилось в рассадник крамолы и половых извращений. Чистим.
– Сажаете и расстреливаете?
– Не без этого. Но надо учесть, что народ вымирает – поэтому чистим мы в рамках. Особо не зверствуем.
– Как можно провести границу между особым и неособым зверством?
– Чутьё иметь надо. Чувство справедливости, то есть.
– И у вас оно, разумеется, верное?
– Я облечён принимать решения. Если они вам не нравятся, заступайте на моё место… В конце концов, что прикажете – миловать головореза Землемера, а ваша сестра пусть гибнет?
Возникла пауза. Только чириканье птиц.
– Народ – зверь, – сказал, наконец, Поручик. – Гражданская война, не хухры-мухры.
– Пока ещё здесь спокойно… – не сразу ответила Анна.
– Спокойно? Как сказать… Куда, думаете, ваши соседи все подевались? Они ж тут тоже спокойствия искали. Старуха тут… в трёх домах от вас – где она? А изнасиловали её в прошлом месяце.
– Кто?
– А шпана местная. Или, как нынче говорится, урла… Но вот появился я.
– Появились вы. И что же?
(Вновь пауза. Только пташки своё тень-тень выводят).
– Скажите, у вас хороший урожай яблок в этом году?
– А вы к чему это?
– К тому, что хороший, и к тому, что вам все плоды вашего труда достались. А в прошлые сезоны что? Местнота всё срывала? Так?
– Бывало.
– А теперь не бывает. У меня с местнотой джентльменский уговор. Резвитесь во все тяжкие, насилуйте старух, жгите, крушите, но клировский дом – табу.
– Джентльменский уговор… – удивилась Анна. – В этой среде есть джентльмены?
– Ни одного. Когда забываешь запах мыла, джентльменство испаряется.
– Так что, они вас слушаются?
– А чего ж не послушаться? Кто их приёмчикам научит? Кунг-фу, таиландский бокс?..
– Вы их на собственную погибель тренируете?
– Полноте, милая… До моего уровня им не дотянуть. Нужна система, воля, режим… А эти что накачают, то мигом пропьют. Но для внутреннего употребления хватает… для выяснения междуусобных отношений.
– И что ж, они вам так за это признательны, что заодно и нас не трогают?
– Они мне кругом признательны. Я же у них добрый гений, ангел-хранитель, благодетель. У них орган самосохранения атрофирован – крайняя стадия дегенерации, но вот поди ж ты, методом убеждения удалось внушить им, что мир – это благо.
– Ну-ну, вы их не трогаете, они вас не трогают…
– Это всё для них бирюльки. Нейтралитет для них не благодеяние. Они только на активную любовь откликаются. А вот запчасти к мотоциклам у них откуда? А порнушное видео? А новые бейсболки?
– Пряничками умиротворяете?
– Воспитываю. Ненавязчиво так. Кнутом постоялец ваш пусть воспитывает, а я по педагогике. Мотоцикл – это уже проблески цивилизации. Порнушные видео – для правильной канализации либидо. Бейсболки – лучше, чем бейсбольные биты… Сперва, конечно, тугонько начиналось. Меня в мае, сразу как пришёл, пёрышком пощекотали. Но я бесчувственный, щекотки не боюсь. Для профилактики я одному переместил челюсть на затылок, а потом вернул в исходное положение. У одного мотоцикл был на грани – ещё чуть-чуть и взорвался бы на ходу – я починил. Вот так авторитет делается. Уважают теперь.
(Очередная пауза. Вот бы знать, что это за пигалица заливается…)
На сей раз молчание нарушила Анна.
– Так почему ж всё-таки так избирательно? Меня вы патронируете, а старушек кидаете как кость голодным собакам?
– Ну что, рассказать вам про моральный облик старушек? Хотя бы той, жертве своей сексапильности? Сколько у меня в столе доносов от неё лежит на вас и вашего отца?
– Да сколько бы ни…
– Интеллигентский максимализм. Всё или ничего… Я один всех облагодетельствовать не в силах. И если надо кем-то жертвовать, оставьте мне право выбрать – кем. И выбрать, кого защищать.
На этом сторона кассеты кончилась. Дальнейший разговор остался тайной.
В кармане кололась жёсткая корочка. Конрад рассмотрел её как следует.
Аббревиатура на обложке показалась незнакомой. Но всё стало на свои места, когда он вспомнил, что недавно в Стране Сволочей было осуществлено слияние органов полиции и госбезопасности – во избежание ведомственного соперничества.
Вдруг ему очень захотелось проконсультироваться со Стефаном – тот жил у Клиров уже давно и должен был знать некоторых обитателей посёлка.
И он в самом деле пошёл в дом и постучался к строптивому подростку. Тот не открыл и вообще никак не проявился, словно шестым чувством уловил суть момента.
Наверное, оно к лучшему.
Без пятнадцати шесть Конрад взял пустое ведро (хотя в доме была вода), вышел за калитку и зигзагами стал приближаться к водокачке. По дороге ему никто не встретился, и даже собаки благоговейно молчали. Поджилки Конрада тряслись, колени подгибались, ноги в целом подкашивались. Холодный пот, вызванный страхом, струился вперемежку с горячим, вызванным жарой; одежда противно липла к ватным членам. Безоружный в полный рост пёр на танки.
У полуразобранной на кирпичики водокачки действительно сидели на корточках юные субъекты и передавали по цепочке некое курево – возможно, косяк. Было их человек восемь, в том числе две девахи. Парни были одеты в камуфляж, девахи – в короткие майки. Ничего неформального. Лиц Конрад не различал – перед глазами всё плясало и расплывалось. Однако ж он заметил, что причёски у парней были короче короткого (что свидетельствовало о их близости к урле), а у одной из девиц – длинные ведьминские космы. У второй же девицы полголовы было выборочно выщипано, с другой половины свисали длинные сосульки – то ли асимметричные причёски снова вошли в моду, то ли глазомер непросохшего цырюльника-кустаря безнадёжно испортился, то ли безудержная страсть очередного любовника подкреплялась выдёргиванием волос целыми пучками – для обеспечения полноценного оргазма.
Конрад знал: называть себя эти «неформалы» могут как угодно, а на поверку окажутся урлой. Достаточно вслушаться в то, на каком языке они между собой общаются. Правда, на этом языке при его жизни вся Страна Сволочей общалась, но именно потому Конрад для себя называл своё отечество Урляндией.
– Трах-тах, ля-ля в пам-парам на трана-на, – бритоголовый высказал предложение.
– Тирим-пим ля-ля до трах-тах, – патлатая высказал сомнение.
– Нам-дам-труля-ля, – асимметричная высказала непоколебимую уверенность.
– Парапа-на-нина, – всё сообщество высказало глубочайшее удовлетворение.
Язык урлы был в чём-то сродни оруэлловскому новоязу, в силу простоты синтаксиса и бедности вокабуляра. Язык этот отличался своеобразным синкретизмом: одно и то же слово могло значить как «тотальный крах», так и «высшее блаженство». Но, вопреки ожиданиям Джорджей Оруэллов, он не включал слова «минилюб» и «мыслепреступление», зато включал слова «трам-там», «ля-ля» и «тирьям-тирьям», некогда легко переводившиеся как медицинские термины. Но повторим, на урловом языке говорили абсолютно все сволочи, включая тех, что давно покинули родину, опасаясь урлы. И сам Конрад в своё время, дабы преодолеть коммуникативный голод, установить контакты с рядом однокурсников, долго и мучительно осваивал их язык. Проблема была в том, что новояз должен был пронизывать собою старый язык, вовремя прорезаясь в нём, вовремя с ним сращиваясь и совсем ненадолго расходясь с ним, чтобы вновь срастись воедино. Жаль только, что освоив, в конце концов, новую знаковую систему, Конрад не шибко продвинулся в освоении старой… но она, по большому счёту, никому и не была нужна.
В остальном урла как урла, типовые мутанты, детки карнавала. Металлический папа, сваренный из забоев Оззи Осборна, лязга танков, кулаков Брюса Ли, дребезга тяжёлой индустрии сношался с химической мамой, смешанной из удушья промышленных отходов, жгучей горечи питьевого спирта, бурлящей чачи чёрной желчи, чернющей чифирной гущи…
– Здравствуйте, ребятки, – поимел в виду Конрад, но посыл его несомкнувшихся связок никем услышан не был. Поэтому ребятки сразу надвинулись на чужака и взяли его в кольцо. Плотно.
Конрад ещё пуще затряс поджилками. Сейчас он услышит вопросы «Кто ты по жизни?» и «К чему стремишься?», а потом получит в рог.
– КТО ТЫ ПО ЖИЗНИ? – спросили его.
– Конрад, – бесшумно ответствовал Конрад. – Он хотел добавить: «вне традиции», но вовремя смекнул, что урла вряд ли знает слова с суффиксом «-ция» и смолчал.
– Повтори, сука, кто ты по жизни?
– Конрад, – тщетно попробовал форсировать звук Конрад.
– Немой, что ли?
– Конрад, – изо всех сил дал петуха Конрад. – У меня дисфония. Болезнь голосовых связок… Голос плохо слушается.
– Ничего, вылечим, – сказала урла. – А ты знаешь, кто мы такие?
– Местная…, – в отчаянии прошипел Конрад, глотая слово «урла».
– Местная урла, ты хочешь сказать. Это ты зря. Ты настоящей урлы не видел. Они бы тебя без всяких вопросов замесили. К ЧЕМУ СТРЕМИШЬСЯ?
– К покою, – выдавил Конрад.
– Неправильный ответ, – ответила урла. – Ты в самом деле не знаешь, кто мы такие.
– Кто вы такие? – заквохтал Конрад.
– Мы – логоцентристы, – сказали логоцентристы. (Правда, не урла. Знают слово с суффиксом «-ист», да ещё и с корнем «логос». Кошмарный случай).
– А это как? – одним выражением лица спросил Конрад.
– А так, что покой нам только снится, – поведали логоцентристы. – И тебя в покое не оставим. Петер, разъясни товарищу, кто такие логоцентристы.
Петер, блистая бритой черепухой, выдвинулся вперёд. Он был с виду не Геркулес, но шестёрки берут ловкостью-умелостью, а не мощью. Сейчас будет очень больно.
– В отличие от тебя, имморалиста, релятивиста и гнойного пидора, – многозначительно изрёк Петер, – мы отрицаем постмодернистскую расслабленность. Мы – приверженцы незыблемой вертикали ценностей, ревнители преданных поруганию смыслов. У нас, в отличие от тебя, перхоти подзалупной, нетленные идеалы есть.
– Вот как? – оживился было Конрад. – Истина, добро, красота?
– Логос, – заткнул его Петер, – предвечный и целокупный. Логос наш папа, а мама наша – Традиция.
Конрад даже выдохнул облегчённо. Правильно, что он умолчал о своей непричастности к Традиции – только совсем по иной причине, чем думал вначале.
– Так и передай Поручику, – закончил Петер. – Ты ведь ментовской прихвостень? Так вот, пускай Поручик знает.
– Что вы, я не прихвостень, – засуетился Конрад. – Я тоже… логоцентрист. Стихийный. Я ненавижу постмодернизм и люблю ценности, смыслы и идеалы.
– Пиздúшь, – сказали ему организованные логоцентристы, кажется, даже не Петер. – Мы тебе поверим, когда ты слова докажешь делом.
– Дайте срок, – взмолился Конрад. – Я демобилизовался недавно...
– А вот это ты зря, солдатик. Запомни хорошенько… – логоцентристы взялись за руки и дважды хороводом прошлись вокруг Конрада – сперва посолонь, затем насупротив, после чего хором пропели на истошных нотах: – …ДЕМБЕЛЯ НЕ БУДЕТ!!!
Конрад был вынужден опуститься на корточки рядом с новыми знакомцами и слушать их лающие реплики о том, кто кого отмудохал и сколько самогону вылакал.
На корточках сидеть было неудобно. Конрад перекатился на пятую точку, рискуя застудить седалищный нерв и вконец лишиться голоса, но дотошно внимал всем излияниям логоцентристов – бесценному оперативному материалу.
Когда этот материал переполнил его с головой, он воспользовался случившейся паузой и ввернул своё заветное:
– Ребята, а вы что-нибудь слышали о Землеме…?
Сразу чья-то тяжёлая длань наглухо запечатала ему уста.
– Есть имена – и даже погоняла, которые всуе не произносят, – назидательно сказал Петер.
– А про сестру моей хозяйки вы ничего не знаете? – прошамкал Конрад, когда печать с его уст спáла.
– Правильная женщина была, – сказали логоцентристы. – Скорбим. Но если герр Поручик пел какие-то песни про поимку убивца, то это песни без слов. Настоящий убийца не вычислен, не пойман и, небось, стебётся сейчас где-нибудь над вами, лопухами.
– А его имя тоже нельзя назвать всуе?
– Ты переоцениваешь нашу осведомлённость. Кто был этот урод, мы не знаем. Но и Поручик знает не больше нашего. У него план по раскрываемости, вот он и гоношится.
– А вы хорошо были знакомы с этой женщиной?
– А вот узнаешь Анну получше – и поймёшь, какова была та. Близняшки, ёптыть. Ну разве что Алиса посоциальней была, поконтактней. Нас не гнушалась и уму-разуму наставляла. Царство ей Небесное. За неё сейчас и вздрогнем… До дна пей, гнида!
Конрад, давясь и кашляя, заглотнул мерзкую жидкость, обжёг дырявый пищевод и скорчился, прикрыв руками разбереженную язву.
– Так уж и быть, вот тебе кефирчик, – сказали неформалы. Откуда кефир? В сельпо, как мог убедиться Конрад, всегда шаром покати. Ну ладно – дарёному коню в зубы не смотрят.
Когда стало малость полегче, он задал другой мучивший его вопрос:
– Это вы, ребята, по вечерам на лошадках катаетесь?
– В частности, мы… – ответили ребята. – Пробил час кавалерии.
Нет, это не урла в истинном смысле слова: у той – как у хищной птицы – вертикальный зрачок… Заурядный мелкий криминалитет, драпирующийся в высокие материи. У всего населения Страны Сволочей, за годы власти совдепов пропитавшегося духом тюрем и лагерей, криминальный менталитет.
Кстати, он ведь теперь легавый, мусор, мент – а значит, часть сообщества, которое по народной латыни можно назвать «менталитетом». Но в Стране Сволочей менты давно уже заодно с криминалом. И тогда «криминальный менталитет» – лишь обозначение типологического сродства, единосущности, единоверия полицейских и воров. В Конраде нет-нет, да просыпался филолог.
4. Цветик-Семицветик
С некоторых пор хозяева почуяли, что в доме распространился какой-то новый, весьма подозрительный дух. Собственно, не дух, а душок – отвратительный, как будто трупный, запах. Точно прокралось внутрь и притаилось где-то злокозненное животное скунс. Но в разгар лета, разумеется, более естественно вдыхать благоухание садовых цветов. Поэтому, когда несимпатичное амбре проникло аж на второй этаж, Анна напрягла свой чуткий нюх, взяла след, и он привёл её в комнату постояльца.
Быть может, подобно злополучному скунсу, Конрад таким манером хотел оградить себя от внешней опасности. Но опасность в лице разгневанной Анны, зажав нос в кулаке, смело шагнула на заповедную территорию.
– Интересно, в казарме вы так же разбрасывали по полу скомканные вещи? – грянул гром с порога.
– Ой… я просто… я думал – здесь не казарма… – послышался слабый клёкот с дивана.
– А стирать портянки вас не научили, – меццо-сопрано грохотал гром, надвигаясь. – Или вас готовили к химической войне в условиях нехватки противогазов?
Среди вороха предметов солдатского обихода и желтеющих газет, раскиданных по паркету, там и сям источали зловоние одиннадцать разномастных полустоячих носков. Конрад возлежал на диване, облачённый в двенадцатый носок. Да и тот был одет наизнанку; из него стыдливо выглядывал потрескавшийся слоистый ноготь большого пальца, в добрый сантиметр длиной.
– Ждёте, пока сломаются? – спросила Анна.
– Носки-то?.. Нет… я хочу их надевать, не снимая ботинок, – Конрад с охотой подхватил шутливо-фамильярный тон хозяйки.
Но та вмиг посуровела лицом, присела на корточки и, превозмогая брезгливость, принялась разгребать вонючую кучку.
– Вы… извините ради Бога… – встревожился Конрад. – Я, честное слово, намеревался их постирать, но вот прочитал тут одну статью, – (он прижимал к обнажённым чреслам давнишний номер общественно-политического журнала), – и понимаете… вы, наверно, не поймёте…
– Да, я непонятливая, – сказала Анна, продолжая раскопки.
– И у меня теперь из головы всё не выходит Лысенко… Знаете, может быть?.. Страшная фигура! Орденоносный шарлатан, подвизался на ниве биологии… по его доносам был истреблён цвет русской науки… генетика объявлена идеологической диверсией.
– Ага, значит, он воспрепятствовал стирке?
– Нет… то есть, да… Я… приношу тысячу извинений, но… ох… я не могу стирать носки, когда думаю о зверствах Лысенко или там Йозефа Менгеле… или Пол Пота… А у меня мозги так устроены – я издавна только о Лысенко с Пол Потом и думаю.
Анна сгребла одиннадцать источников смрада в охапку и, дыша ртом, направилась восвояси.
– Ой… куда вы их? – прорыдал Конрад, привскакивая… Увы, ринуться в бой за своё имущество он никак не мог, так как не мог выпустить из рук журнал, служивший фиговым листом.
– В растопку, – не обернувшись, ответила Анна.
– Да что вы… Я… постираю, я обязательно постираю, – захныкал Конрад. – Честное слово!.. Вообще – лето ведь… буду босиком ходить. Ну пожалуйста… отдайте!
Носки лёгкими мотыльками порхнули через комнату. Семь упали к ногам владельца, два – на диван, один – на голые коленки Конрада, ещё один зацепился за его плечо.
– Выстираете сейчас же!
– Всенепременно… – заверил Конрад.
– И вообще… советую вам вспомнить, как поступили с Васисуалием Лоханкиным.
– А, понимаю, – почему-то обрадовался Конрад. – Вам, естественно, милее Никита Пряхин. О, не беспокойтесь. Никитушко скоро пожалует и угостит нас шпицрутенами.
Текст, подтекст и контекст последней реплики Конрада Анна не оценила – как и все реплики этого неуместного персонажа, она была произнесена с опозданием. Анны уже и след простыл – спешила к себе в апартаменты, к швейной машинке, латать изветшавшее профессорское бельё. Тем не менее, через десять минут Конрад, босой, но кое-как одетый, постучался к ней с намерением извиниться за своё кощунственное предположение, будто она-де близка с Никитушкой Пряхиным. «Позвольте вам выйти вон», – не вникая, рявкнула Анна. Поразмыслив, вонючий постоялец по кусочкам испарился.
Поменяв отцу бельё (пришлось Профессора пару раз деликатно перекантовать), Анна, наверное, ребром поставила вопрос: до каких пор лежебока, только и умеющий что думать о Лысенко и Пол Поте, будет здесь нахлебничать?
Профессор, к огорчению дочери, только смеялся. «Не принимай его всерьёз», – вот к чему сводилась его несерьёзная отповедь. «Перевоспитывай, – хохотал Профессор. – Что оказалось не по силам нашей славной армии, должно быть по силам тебе». И хотя Анна пыталась втолковать, что у неё и без воспитательной работы хлопот полон рот, Иоганнес Клир был насмешливо неумолим. Устрой ему «дедовщину»; с ролью деда справится Стефан, – говорил Профессор. Казалось, он не верил в тотальную бесполезность, а уж тем паче – в безусловную вредность гостя. Анна ушла ни с чем.
Но когда Конрад пожаловал к нему для очередной беседы, Профессор вполне серьёзно сказал ему:
– Если не выполните требование моей дочери, завтра же чтоб духу вашего здесь не было.
– Я постираю, – сказал Конрад. – Духу не будет.
И когда, трепыхая на ветру волосами, решительная и стремительная Анна спешила на битву с огородными вредителями, Стефан тронул её сзади за локоть и обратил её внимание на нежданное обстоятельство:
О чудо! Под дубом, там, где висел рукомойник, сгорбился над лоханью Конрад, запустив руки по локти в пенно-мыльную воду. Не иначе – стирал носки.
Около двух часов Анна провозилась на огороде. Возвращалась под вечер – Конрад всё ещё священнодействовал над тазом.
С тех пор он затевал генеральную стирку при всяком удобном случае. И, разошедшись, отдавался ей целиком, смакуя каждый носок, затирая его до дыр, сдирая кожу на руках. Блаженство рисовалось при этом на просветлённом его лике.
Ибо трудно было найти более благодарное занятие на предмет убийства времени. Недаром особенно полюбил Конрад стирку трусов: бесчисленные греховно-жёлтые пятна принципиально не отходили – ни самое отчаянное полоскание, ни сверхлимитный расход порошка не приближали к заветной цели. Но сам процесс… о, то был воистину источник вечного наслаждения. Харе Кришна, харе Рама!
А то ещё развлечение придумал себе Конрад: выпивал он подряд стаканов десять кипятку, а потом с видом Муция Сцеволы стоически противостоял соблазну сходить по нужде.
До тех пор, пока не начинал постанывать и вертеться волчком. Тогда он по возможности твёрдым шагом совершал марш по дорожкам сада – никак не менее пятидесяти кругов. Когда, казалось, изо всех пор его тела неминуемо должны были хлынуть фонтаны, он, наконец, гримасничая и почти плача, бежал в Кабинет Задумчивости. И приходило избавление…
Ещё Конрада можно было видеть в разных концах сада: то степенно курящего, то неподвижно сгорбленного, то со старой газетой в руках, то прильнувшего ухом к магнитофону. За забор он нос почти не высовывал, и, застукав его праздного то там, то сям, Анна либо Стефан впрягали его для какого-нибудь хозяйственного дела типа подай-принеси, подвинь-подержи, извини-подвинься. В случае невыполнения Стефан на полном серьёзе обещал устроить ему то геноцид, то голокост. Ад – это другие. Жан-Поль Сартр.
Не было случая, чтобы Конрад отказался, сослался на недомогание либо нежелание, высказал сомнение в целесообразности порученного, прокомментировал поручение или хотя бы выказал своё настроение мимикой или жестом. Он послушно кивал и усердно пыхтел над доверенным участком работы. Пока всё не испакостит.
Иногда ввечеру Анна и Стефан играли в настольный теннис или бадминтон. Конрад усаживался поодаль и без устали, как заведённый, вертел головой, дублируя глазами траекторию полёта шарика или волана.
Вот так сидит и то по лбу себя хлопнет, то по щеке, то по руке – любили его комарики, любили и почти не боялись: ведь если он кого из них и убивал, то уже пресыщенного, сполна взявшего от жизни всё, что хотелось, постфактум… И без устали чесался-чесался. И потому был Конрад весь в кровавых пятнах.
А уж во время полунощных бдений он кормил собой целые комариные дивизии. Порой было странно, что в этом неугомонном доноре ещё теплится жизнь.
Зато Конрад узнал, куда вечерами исчезает Анна. Она ходит в баню. Там она, наверно, долго-долго разминает колючим мочалом свои уставшие от дневных забот члены, пласт за пластом сбрасывая с себя огородную грязь, угольную пыль и прочие случайные дары природы, заживляет царапины, мозоли и укусы нелояльных насекомых. И это должно быть зрелище, и в европейских столицах за него платят немалые бабки.
Но Конрад не из тех, кто подглядывает в щели. Он стремается, что его не так поймут и выставят вон.
Другим пытается взять Конрад – терпением. И оно у него есть всегда, потому что есть – бессонница.
И какая же выходит Анна из бани? Куда деваются застиранные цветастые сарафанчики, халатики, фуфаечки, тренировочные штанишки? Выходит Анна, шелестя длинным концертным платьем, и на царственных плечах свободно и романтично наброшена длинная, с мохнатыми кистями, белоснежная шаль.
После чего Анна возвращается в дом, небрежно, но примирительно бросая пригорюнившемуся на крыльце Конраду «спокойной ночи», затем грациозно перебрасывает конец шали через плечо, чуть подбирает подол и легко взбегает по ступенькам вверх. Ну не взбегает – каждый шаг со ступени на ступень несуетлив и чеканен, но поди поспей за ней…
А потом полчаса играет на допотопном подобии виолончели, которое Конрад после долгих штудий в энциклопедии идентифицировал как виолу да гамба. Хотя, может быть, он и ошибся. Старинный такой музыкальный струмент… Вместо положенных современному четырёх струн он имел не то шесть, не то семь – единственный раз пронесла его Анна мимо Конрада, толком он и посчитать не успел.
После отбоя, то есть когда Анна шла почивать, Конрад полуношничал. Ночи были короткие, но показания электросчётчика возросли на порядок и выдали его. Если бы кто вздумал полюбопытствовать: а чем же таинственным, собственно, Конрад по ночам занимался, итог расследования разочаровал бы его: а ничем.
Правда, видела Анна архипелаг жёлтых пятен на простыне Конрада и, не умея объяснить – откуда они, догадывалась: от лукавого.
Изредка он читал старые журналы или же доставленного из столицы Шопенгауэра. Или же листал регбийный справочник – с начала к концу, с конца к началу, точно наизусть учил.
Иногда его ловили на разговорах с самим собой. Понять из этих разговоров ничего было нельзя, так как внутренний монолог озвучивался какими-то фрагментами; то слово выскочит, то словосочетание. Например, «пора домой» или «долой Эккера» (последнего генсека компартии) или «хочу спать». А как-то раз он ни с того ни с сего пробормотал себе под нос: «Пахнуть надо лучше!»
Кроме того, за ним были замечены также недостойные привычки, как-то: ковыряние в носу и обгрызание ногтей. И на том спасибо, потому что никаких других гигиенических акций постоялец не предпринимал.
Обильная щетина на его физиономии постепенно превращалась в кустистые заросли.
А однажды он взялся за привезённую с собой амбарную книгу и, с урчанием и стоном, крепко ухватившись за свой срамной уд, принялся строчить.
Из «Книги легитимации»:
Новорожденные тёплые комки – мы являемся в От Века Сущее. От Века Сущее – оно сложное. Многомерное, многослойное, многогранное.
Многоголосое, многолюдное, многонациональное.
Многотомное, многотиражное, многоотраслевое, многоцветное и т.д.
МНОГОЗНАЧНОЕ, НАКОНЕЦ.
Новорожденные по этому случаю страшатся, орут, хотят обратно. Однако, впервые пососав материнскую грудь, собираются с духом и крепятся: переможем, прорвёмся, адаптируемся.
Адаптироваться – значит состояться.
Состояться – значит адаптироваться.
Адаптироваться – как это?
А вот как. Все разнородные, разношёрстные объекты внешнего мира имеют над новорожденным субъектом неограниченную власть. Что хотят, то с нами и делают, чаще всего – какую-нибудь пакость: дождик намочит, ножик порежет, собачка укусит, человек обматерит, если мы вдруг, не дай Бог решили вступить с дождичком, ножиком, собачкой, человечком в контакт. Но не беда: раз намочит, два порежет, а на третий раз мы сами укусим, а на четвёртый – сами обматерим. Ну, ломать не строить, это ещё не адаптация: их вон сколько, а мы поодиночке. И мы понимаем, что вместо чтоб огрызаться и показывать когти, надо подчинить наших врагов себе, разрушить ореол неприступности, свойственный объектам внешнего мира, покорить их и низвести до прислуги. То есть – установить над ними свою власть.
И мы, засучив рукава, берёмся за дело.
Перво-наперво устанавливаем власть над собственными членами: заставляем ноги вертикально держать остальное тело и шкандыбать, куда нам захочется – ноги поартачатся-поартачатся и послушаются. Язык наш, враг наш, становится, благо бесхребетный, нашим покорным слугой: болтается в ту сторону, в какую нам надо. Постепенно учатся повиноваться нашим приказам руки-крюки: захотим – в носу ковыряют, а захотим – уши моют, и – до чего доходит их пресмыкательство! – ложку держат и в рот кладут. А это значит, что мы уже потихоньку –
устанавливаем власть над вещами. И вот включается послушный пылесос; почтительный молоток заколачивает податливые гвозди; заводится верноподданный автомобиль; услужливый компьютер избавляет голову от ненужных сведений… Это мы несколько вперёд забежали: ведь властвуем над вещами мы потому, что
устанавливаем власть над собственным мозгом. И тот ведёт себя как предупредительный и заботливый помощник. Даёт нам разные полезные советы: не след купаться в серной кислоте, штаны лучше надевать не через голову. С годами темы его консультаций усложняются, и он с готовностью разъясняет нам: как поставить мат в три хода, как заработать миллион и как полететь к звёздам. И таким образом мы властны не только над рукотворными вещами –
мы устанавливаем власть над природой. Над собственной природой прежде всего: сдерживаем слёзы, говорим, чего не думаем, встаём по будильнику. Потом и чужой природой успешно помыкаем: по нашему велению тут пшеничка произрастает, а там – рыбка клюёт. Мы передвигаемся быстрее гепардов, безлунными ночами видим не хуже, чем днём, нам покорны радиоволны и лазерные лучи.
И только когда достигнута власть над достаточным количеством неодушевлённых предметов, возможно распространить свою власть и на людей, и тогда адаптацию можно считать окончательной.
Знаю, многим не по душе термин «власть» применительно к человеческим взаимоотношениям. Но ведь даже самые пылкие влюблённые «пленяются» своими пассиями. Оттого, что этот «плен» – «сладостный», он не перестаёт быть пленом.
К тому же любовь – случай форсмажорный. Обычно люди сходятся только потому, что установили власть друг над другом.
Наши друзья – наши повелители. Мы – повелители наших друзей. Если друзья покинули нас, значит, они вышли из-под нашей власти.
А почему они нас покинули? Перестали нуждаться в нас, ибо слишком малое число наших вассалов поступило к ним на службу.
Или, другими словами, люди тем больше тянутся к нам, чем больше объектов внешнего мира нам повинуется.
Простой пример: у одного руки как ноги, но котелок кое-что варит. У другого вместо головы – кочан капусты, зато руки золотые. Первый пишет за второго диссертацию, второй ему зато автомобиль починяет. Это – обмен рабами, обмен квантовой механики на исправный автомобиль. Ты мне – я тебе.
Мы добровольно отдаёмся во власть парикмахера, сантехника, зубодёра, поскольку наша власть над нашими клиентами, пациентами, заказчиками, читателями приносит нам материальный эквивалент нашей состоятельности. Повар, в свою очередь, подчиняет нас себе благодаря своей власти над съедобными снадобьями, инженер – над рейсфедером и формулами, писатель – над словами родного языка.
И даже если наша власть над двуногими собратьями зиждется на одной лишь обаятельной улыбке, то это означает всего лишь, что мы – безраздельные властелины мускулов собственного лица. Мы покоряем сердца людей опять же – благодаря тому, что покорили что-то ещё.
Именно – покоряем. Вторгаемся и завоёвываем. Ибо кто мы такие, если никто и ничто не подвластно нам? Вот скульптор ваяет статую. Все кругом говорят о творческом озарении, снизошедшем на него. Но они неправы. Ничто не «снисходит». Скульптор сам бесцеремонно хватает озарение, вдохновение и т.п. за рога и заставляет лизать ему руки. Но сначала он должен укротить эти самые собственные руки. И резец впридачу. Но и это ещё не всё.
Необходимое не есть достаточное. Мало создать статую, надо чтобы на неё купились, чтобы согласились в какой-либо форме выразить свою зависимость от их создателя. А кого ты хочешь поставить в зависимости от себя – миллионную толпу или двух-трёх таких же, как ты, «непризнанных гениев» – это уже другой вопрос. Ты сам властен решать, кого заставить петь тебе дифирамбы – чернь или «свой круг». Главное, что ты сам властен очертить этот самый «круг». Ты сам властен выбирать свою судьбу, своё место в социуме и даже абсолютное одиночество. Такое одиночество в радость – всё по фигу, ибо ты состоялся. Может быть, кому-то покажется, что я путаю понятия «состоявшийся» и «состоятельный». Вовсе нет. Состоялся – значит, адаптировался к миру, победил его и отбросил как ненужный хлам. Отбросил вещи, как постылых пленниц-наложниц, отбросил людей как докучливых и не в меру услужливых рабов – и состоялся! Ну, я, конечно, загнул – такая состоятельность недосягаема; нельзя овладеть всем, иначе – неминуема самоликвидация пресыщенного всевластного субъекта; какие-то люди, вещи или, в конце концов, трансцендентные абстракции так и не уступают напору того, кто состоялся в общем и целом, и заставляют его продолжать борьбу за власть над ними. Но есть уверенность в том, что при желании можешь свернуть шею или просто сбить спесь чему угодно и кому угодно...
(На этом рукопись обрывалась).
Человек человеку не психотерапевт, а господин. Кабы это было не так! О, как бы нам хотелось, чтобы это было не так! И Конраду Мартинсену больше всех на свете хотелось, чтобы это было не так! Но всё оказывалось именно так, и за тридцать один год ему пришлось к этому привыкнуть.
Поэтому он как должное воспринимал отношение Анны к нему, которое он для себя сформулировал следующим образом: «Кормят, а игнорируют». Не имея власти над какими-либо предметами внешнего мира, он не имел власти и над Анной, а та, в свою очередь, властвовала над ним безраздельно. Она автоматически стала его госпожой, непререкаемым авторитетом, так как владела всем на свете – от садового секатора до штыковой лопаты. Конрад повиновался ей во всём, но не мог угодить ни в чём – в силу того, что не владел ничем.
Каждое утро Анна говорила Стефану: «Скажи этому, что он должен сделать то-то и то-то. И Стефан слово в слово передавал этому приказы хозяйки. Вечером же Анна и Стефан сожалели, что вообще вовлекли этого в хозяйственные дела. Не все, конечно, а самые нехитрые. (Колющие и режущие предметы, например, ему не доверяли). Конрад был на редкость исполнителен, но на редкость же туп, неловок и нерасторопен. Посуду за ним приходилось перемывать, полы переподметать, бельё перестирывать. Кроме носков.
Со стороны казалось, что он просто издевается.
В армии страшнее всего для изношенной нервной системы Конрада был хронический недосып. После дембеля Конрад спал целыми сутками. А сейчас, когда компенсация кончилась, на него каждую ночь разъярённым медведем наваливалась бессоница.
Бессонница Конрада имела три фазы. Сначала – вроде вот-вот должен уснуть, но принял горизонталь – и ни в одном глазу. Вторая – суицидальный кошмар на фоне сатириаза, чрезвычайной чесотки члена. Третья – всё по фигу, кайф, изменённое состояние сознания, всё выпуклое и красочное, и чириканье ранних птах в ушах. Только распоряжения Анны усугубляли вторую фазу и «ломали» третью.
И лишь под утро отрубаешься, проваливаешься в омут, чтобы довольно скоро, часов в одиннадцать очнуться и ощутить ломку, как будто похмельный синдром, словно проехалась по тебе танковая дивизия.
Снотворного у Конрада было слишком мало, чтобы глотать его каждый вечер. Поэтому до пяти-шести часов утра он бестолково ворочался с боку на бок, читал старые газеты, без устали мастурбировал и горько плакал без слёз.
Однажды в разгар подобной бессонной ночи перед ним предстала Анна в ночной рубашке и зашипела:
– Вы всё колобродите, мешаете папе спать. Включаете ночью магнитофон…
– На предельный минимум.
– У папы достаточно чуткий сон, чтобы услышать. Здесь акустика…
– Я больше не буду, – пролепетал Конрад.
– А ложиться спать пораньше вы не можете? Не могу же я по десять раз на дню подогревать для вас завтрак!.. У нас не ресторан. Извольте есть вместе с нами.
– Кто просит вас разогревать завтрак? Я сам могу.
– Я уж вижу, как вы можете сам. Я каждый раз после вас мою плиту. А ваше самоуправство в холодильнике приведёт к тому, что мне нечем будет кормить папу. Да и вам же хуже… у вас язва, а вы всё в сухомятку, по бутербродику, как студент…
– Вас беспокоит моё здоровье?.. Так вот: у меня бессоница.
– Это не повод жечь по ночам верхний свет!
– Боюсь попросить у вас свечу.
– Вы правы, свечу я вам не дам. А если у вас бессоница, займитесь йогой.
– Анальгин от рака не помощник, – парировал Конрад.
– Хорошо, принимайте сомнол. У меня его много.
– Я был бы вам очень благодарен, – Конрад растрогался.
Но даже ложась вовремя (при первых же звуках вроде как виолончели), Конрад всё равно просыпал завтрак. Таблетки оказывали на него убойное воздействие, и он стал спать по одиннадцать часов в сутки – ни то ни сё, ни богу свечка, ни чёрту кочерга. Он предпочёл бы спать все двадцать четыре. Чтобы не слышать грозных окриков типа: «Вы опять лазили в холодильник?!»
В таких случаях он отвечал:
– Не могу отказать себе в единственной радости… Других – нет.
Но снова и снова:
– Вашими усилиями засорена мойка!
– Вы опять сожгли чайник!
– Вы можете за собой не свинячить?
На это Конрад ничего ответить не мог и торопился загладить свою вину. Но результатом его стараний, как правило, было ещё большее загрязнение, засорение, разорение, мерзость запустения, и приходилось подключать к восстановительно-очистительным работам Стефана, который был этим весьма недоволен. Но в первую очередь, конечно же, – вредным, пакостным, недоделанным – этим.
Со временем Конрад насобачился вовремя говорить Анне «С лёгким паром!» и, очистив душу её музыкой, приобщался к её мятному запаху в бане. Там он без энтузиазма, но добросовестно тёр кусачим мочалом впалую грудь и намечающееся брюшко, а потом долго сох на крыльце. Соорудит самокруточку и мирно себе дымит с отверстыми зеницами, вперив их в чёрный зенит.
И дом Клиров снова исполнился благоухания садовых цветов, а не мужских подмышек.
…Как-то раз, устав от тотальной неумелости Конрада, Стефан презрительно процедил сквозь зубы:
– А что ты вообще, можешь, солдатик?
– Могу копать, – привычно ответил Конрад.
– А ещё что можешь?
– Могу не копать, – с готовностью повторил Конрад где-то слышанное бонмо.
– Це похвально, – назидательно изрёк Стефан. – Так вот: сегодня нам с тобой придётся именно что – копать. Новую яму для компоста спроворить нужно.
– Завсегда пожалуйста, – безропотно просипел Конрад. Он, похоже, даже рад был в кои-то веки подержать в руках что-то острое.
Назвался груздем – не говори, что не дюж. Конрад вскоре был олопачен, в смысле вооружён лопатой, другая такая же возникла на плече Стефана. Землекопы отправились в дальний угол лесного участка, прикинули размеры и очертания будущей ямы. Скинули наземь рубахи, поплевали на ладони – и вонзили лопаты в землю.
Стефан деликатно наступал на клинок лопаты, словно пританцовывал, бережно подсекал землицу, нежно выдёргивал клинок на свет Божий и аккуратно высыпал за спину изрядную порцию серо-бурого гумуса. Конраду казалось, что он делает всё точно так же, как Стефан – только яростнее, злее, брутальнее. В то время как Стефан застенчиво молчал, Конрад при каждом копке рьяно крякал.
Однако ж, очень скоро выяснилось, что гора рыхлой земли за спиной шестнадцатилетнего подростка растёт втрое-вчетверо быстрее, чем аналогичная гора за спиной взрослого вчерашнего бойца. Намечающаяся траншея получалась как бы из двух секторов: небольшое плоскодонное углубление – и уходящяя к центру земли разверзшаяся бездна. Неравенство результата было тем очевиднее, чем свирепее Конрад кряхтел и чем обильнее обливался потом. Стефан же нагибался и распрямлялся как бы играючи, словно всю свою жизнь только и делал, что копал. Конрад от того, что проигрывает очередное состязание в одну калитку, ярился и зверел. Стефан же благодушествовал и даже подмурлыкивал.
В один прекрасный момент он легонько черенком лопаты отстранил Конрада от его края и взялся за чужую зону ответственности. Не прошло и пяти минут, как обе части намеченной ямы были выравнены, и зев её был готов поглощать компост в любых требуемых количествах. Конрад наблюдал преподанный ему урок, злобно потупив очи и скрежеща зубами. Всякий раз, когда он видел человека, виртуозно-сноровисто делающего какое-либо дело, им овладевал мистический ужас.
Исправив вопиющую недоработку напарника, Стефан покровительственно оглядел того с головы до ног, не спеша вскинул лопату на плечо и, насвистывая, зашагал в сад. Конрад же, опёршись на своё орудие, клинок которого почему-то съехал набок, долго смотрел вслед своему победителю.
По лицу его прошла как будто судорога. Вряд ли кто-то её заметил (и не обязан был замечать – Конрад, скажем, на чужих лицах вообще никогда ничего не замечал). А дело тут вот в чём: он кое-что вспомнил из своей жизни. И не первый раз на дню вспомнил. Воспоминание, ясное дело, не имеет временной протяжённости, в отличие от событий, которые вспоминаешь. Одномоментно можно вспомнить пучок эпизодов, и вспоминающему недосуг разобраться – почему таких, а не этаких, и как они связаны с текущими событиями, с предыдущими воспоминаниями, с одновременными воспоминаниями. Одно и то же воспоминание может повторяться бессчётное число раз. Поэтому его условно не назовёшь воспоминанием первым, Х+первым или 1234567890-ым. Можно лишь указать его примерный возраст (не вспоминающего, а воспоминания).
Воспоминание № 1, ибо самое раннее (26 лет назад[2]). В сволочных детских садах детей обучали разным полезным вещам. Ритмике, пению, рукоделию. В частности, учили делать аппликации – тогда не было магнитиков с картинками, а родителям нужно что-то было вешать дома на холодильник.
И вот как-то раз детсадовской группе, где числился пятилетний Конни Мартинсен, задали соорудить из цветной бумаги волшебный цветик-семицветик, исполняющий желания. Очевидно, что задействовать нужно было семь разноцветных листов бумаги и вырезанные из них лепестки разместить на едином восьмом, девственно-белом листе.
Всё бы ничего, да только лепестки не просто вырезать надо. Каждую из семи затейливых вырезок нужно хитрым образом сложить и вновь надрезать и склеить, чтобы лепестки смотрелись как живые.
Вся детвора с головой в работу ушла. Все пыхтят, язычки высовывают, глаза в кучку скашивают. Сложное задание, ничего не скажешь, зато – то-то родители порадуются мастерству чад своих дражайших.
И Конни от остальных не отставать старается. Очень ему этот цветик-семицветик надобен. Не для родителей, конечно, те его и так любят, а для сверстников, для социализации в их стаде. Ведь с Конни, рёвой-коровой, боякой – чёрной собакой никто не водится, не дружится. А тут он раз – и блеснёт семицветиком.
Но сложно задание. Здесь линию отреза не рассчитал, здесь сложил неправильно, здесь клеем всё залил, где накосячил, где скособочил. Брак за браком вместо изящных лепесточков. Больно ножнички неуклюжие, больно пальчики толстые. А время неумолимо бежит… Но все в равных условиях, знать для каждого работка чрезвычайная, ещё поглядим, что у вас всех выйдет, мои милые.
И время истекает. Гонг. Воспиталка отбирает у всех работы.
На следующий день – разбор полётов. Вот у Эвхен цветик как настоящий, хоть в горшок сажай, семью душистыми лепестками оскалился, аромат источает. У Ханси всё бы хорошо, да один лепесток ущербный, не в ту сторону загнут, а у Пегги вместо положенных семи лепестков только шесть – разлапились как звезда Давида, стыдоба. И один за другим предстают перед детками семи- и шестицветики, редко пятицветики с разной степени правильной изогнутостью форм…
И – напоследок:
– Ну и – Мартинсен. Всего три лепестка!
Угловатых, зазубренных, искривлённых…
Стефан томился и маялся. Прописные прелести дачной жизни не сбывались: тёлок его возраста здесь не оказалось, одни дошколята с лопатками да самосвалами на верёвочке. Правда, среди логоцентристов была парочка его сверстников, ну разве что чуть постарше, но Стефан глубоко презирал эту богооставленную секту, считая всех её членов лентяями и бездельниками, и кичливо звал их за глаза «логососами». Поэтому дружбы он с ними не водил и водить не собирался. На зависть Конраду.
Конрад исправно навещал Профессора в приёмный час, установленный Анной – и тот час скоро сократился до получаса.
Диалог последнее время буксовал, проскальзывал, топтался на месте:
– Нация рабов? Полноте… Страх прошёл, пришла агрессия. Агрессия сильнее страха. Затёртые, затюканные, зажатые? Гордые, мстительные, отчаянные, одинокие волки. Не штурмовые отряды – волчьи стаи. Штурмовые отряды были против всех, теперь же все – члены стай!
– Ерунда. Свободный человек стремится только к свободе. А для раба главное – отомстить. Всякая агрессия зиждется на подсознательном страхе.
– Всё читал, всё слыхал! А они читали? А они слыхали? Да они вас застебут, два раза подкинут, один раз поймают. Они так глубоко не копают. Свобода бить и свобода быть битым – что человек выбирает?
– Они бьют, и их бьют. Где свобода?
– В со-про-тив-ле-ни-и! В избиении непротивящихся! Свобода бросить вызов сильному!
– Какой-такой вызов?
– Они знают: Брюс Ли сильнее Толстого.
– Осатаневшее мещанство на троне…
– Мещанство?! На троне?! У нас больше нет мещанства! Мещанство любит уют, стабильность, порядок, цветочки на наволочках, канареечек в клеточках, учтивое обращение, правила поведения за столом, изящные фигуры речи, безукоризненные костюмы…
– Да это же вторичные, необязательные признаки. Мещанин – фанатик личного благополучия – а разве не к этому рвутся люди? Вы не слыхали о взбесившемся, воинствующем мещанине?
– Навороты безжизненных словес для повторяющих зады! Мещанин – синонимы: филистер, бюргер, сиречь «гражданин». Характерные эпитеты – добропорядочный, благонамеренный, благоразумный. Жупел вегетарианской эпохи романтизма. Мещанин создал общество потребления и воспроизводится в обществе потребления!..
– Наш мещанин такой роскоши почти не успел отведать. Он толкался локтями…
– Доносил, подличал, но руки старался не марать.
– По-моему, лучше своими руками морду бить, чем чужими.
– Чужие морды бить наслаждения больше. Мгновенная сильная разрядка для сильных чувств и сильных личностей. Где здесь мещанин? На чужие руки надёжи нет! Сам!
– В разговорах со мной вы всё маргиналов рисуете, а я вам про основную массу говорю. Вы про гопников толкуете, а я вам про мещан. Кто как не мещанство был на троне Совдепии и кто составляет большинство населения?
– Большинство населения? Вы вот посмотрите статистику по армии – ваш же журнал публиковал. Армии у нас мало кто минует, поэтому армия сегодня – это общество завтра. А завтра с тех пор уже настало…
– Я уже не помню, что там была за статистика… В любом случае армия – это пограничная ситуация. Неокрепшие души и тела в скученных условиях, под палочной дисциплиной…
– Какая дисциплина?! Солдатики с присвистом кладут на устав… Таких сорок пять процентов было. А теперь уж точно – большинство…
– Молодёжь не приемлет ни идеологии отцов, ни их образа жизни. Старшее поколение идейно обанкротилось…
– Да вы послушайте их песни! Можно быть подонками – виноваты всё равно папочки. Вы гробили мир – мы будем танцевать, вот вам фига в кармане, после вас хоть потоп… после нас хоть потоп…
– Вот оно, мещанство!
– Нет! Мещанство стабильности хочет! Деток в люди вывести! Внучкам птичье молочко обеспечить!
– Мещанство думает прежде всего о самосохранении.
– Оно отринуло самосохранение… ради самосохранения же!
И опять по новой:
– Голова должна была это предвидеть, голова должна была создать условия – полити-, юриди-, экономи-! Она ограничилась полуме-.
– А хвост должен был строить другую половинку, и были бы ме-?
– Вы же сами говорите: хвост не дозрел до демокра-. Я не согласен. Он был слишком негибок для полудемокра-. Не мог быть гибок. Страх инициати-, рабская психоло- прививались столько лет!
– Это не рабы, это свободный плебс, «хле- и зре-» требующий.
Трясись воздух! Брызгай слюна! Вылезай из орбит глаза! Хрипни горло! Стакан ржавой воды охвачен бурей, стреляют шариками игрушечные пушки, дым сигарет висит над полем боя, мухи снуют бесстрашными санитарками. Хлорциан с ипритом изрыгают анальные отверстия, земля дрожит под топотом бегающих тараканов. Разрушительна волна бьющих по столу ладоней, горы трупов высятся в пепельнице, адский грохот сиплых голосов, бессильно болтаются между чужих ног повешенные международным трибуналом храбрецы-полководцы.
«Плох, совсем плох старикашка, – расстроенно думал Конрад. – Уровень базара адекватен моему. Где ты, огнедышащий трибун, бескомпромиссный полемист, ненасытный эрудит? Где колючая проволока острот, где разрывные снаряды цитат, где отточенное лезвие логики? Мешок с дерьмом, я чай, ты за последнее время и книжек в руки не брал, окромя бородатой «Медицинской энциклопедии».
Ошибался Конрад. Последнее время профессор смаковал классическую беллетристику – школьный курс отечественной литературы.
Иногда Профессор вынужден был соглашаться, припоминая личный опыт:
– Эти хунвэйбины разгромили дом профессора Бортека и бросили в реку профессора Ханнемана.
– Хунвэйбины – это другое, – говорил Конрад. – У тех была идеология.
А однажды он поднёс к самым глазам старика газетную передовицу. Заголовок гласил:
«Ядерной войны не будет».
– За свою жизнь вы подписали много воззваний против ядерной войны, Профессор?
– Много.
– Так вот. Её не будет. Вы довольны?
– Да.
– Вы считаете, что это ваша заслуга?
– Это заслуга миллионов. Мои несколько подписей – капля в море.
– И вправду – с чего бы миллионам хотеть ядерной войны? Они жить хотят.
– А вы не хотите?
– Так – не хочу. А можно только так.
– Только? – спросил Профессор. – Я вот хочу жить, хотя моё положение не лучше вашего.
– Оно хуже, – сказал Конрад. – Поэтому вам хочется жить.
– Всё равно осталось недолго, хотите сказать.
Конрад открыл рот и тут же закрыл его. Ведь вырос всё же в интеллигентной семье. Он потоптался в комнате Профессора, затем осторожно отворил дверь, так же осторожно затворил, и Профессору были слышны его шумные и неритмичные шаги вниз по лестнице.
Если Конрад и выходил за калитку, то только ради логоцентристов. Очень скоро он просёк, что бить его они не будут – что зря мараться? Шёл он к ним без особой охоты, так как общаться с кем-либо, кроме Профессора, ему было не по нутру. Но приказ есть приказ, и надо было отрабатывать обещанный хлеб.
Больше всего Конрад общался с идеологом логоцентристов, уже знакомым нам Петером. Про него говорили, что он по семестру проучился в каждом из вузов губернского города и чуть ли не единственной целью его кратковременной учёбы был неустанный стёб над преподами и постельные истории с преподшами. Петер просвещал Конрада относительно целей и задач движения логоцентристов в целом. По его словам, они стояли за автократическое государство с царём-батюшкой во главе, с чётко очерченными сословиями и с полным отсутствием просвещения среди низших сословий, за крепкую домостроевскую семью с безусловным доминированием мужа и отца. Когда Конрад спрашивал, как увязать эти идеалы с реально практикуемой «логососами» вседозволенностью, Петер отвечал, что члены касты воинов допрежь ограничения себя узами семьи должны пройти через гуляйпольскую вольницу и самоценный беззачаточный секс, поскольку логоцентризм не противоречит жаркожильному младому естеству; при этом девушки выполняют роль боевых подруг, удалых валькирий. Лишь после участия в нескольких боевых кампаниях воин вправе обуздать себя стременем брака и порождать других воинов.
Главным логоцентристом, однако, был Курт. В отличие от прочих, он почти ничего никогда не говорил, а только излучал свою главность. У Курта было два пулевых ранения, полученных в боях гражданской смуты, в рядах правительственных войск, и именно ради него вся кодла постоянно держала наготове кефир, который получала у заезжих офеней из овцеводных республик, в обмен на «дурь». Запасы «дури» у логоцентристов были поистине неистощимы – они их когда-то отвоевали у таких же овцеводов, но не этих же, а других. Курт был единственным, кто не впадал в зависимость от наркоты и мог обходиться без неё неделями. Он и так пребывал в постоянном благодушии, и обе девицы днём без устали ласкали его плоть, хотя по ночам, как следовало из бесстыдных разговоров неформалов, принадлежали всем по очереди. Курт воспринимал нежные поглаживания как должное, но особо не разомлевал. Было видно – если грянет гром, расслабленные члены Курта в одночасье нальются кровью и мощью, и расправится свёрнутая в его недрах тяжёлая цепь и звезданёт якорем промеж глаз супостату.
Супостатом считалась безыдейная и беспринципная урла. Сейчас, правда, наблюдалось затишье, поскольку вся местная гопота ушла с повстанцами в соседнюю губернию, но будучи сборищем ненадёжных и сребролюбивых ландскнехтов, ежечасно могла воротиться и потребовать свою территорию взад. Поэтому, сидя по-турецки в кругу «логососов» (за это время они оборудовали место своих сходок циновками и коврами), Конрад всё время чувствовал липкий холодок в спине: а ну как сейчас нагрянут... Пока же урловый легион был представлен одними лишь малолетками, которые порой собирались на той же площади, чуть поодаль, и нарочито громко обсуждали между собой свои дела, но на открытую конфронтацию не отваживались.
О связях Конрада с Поручиком и цели его контактов с ними логоцентристы прекрасно догадывались, но отнюдь не собирались из-за этого предавать гостя какому бы то ни было остракизму. Вместе с тем их суждения об официальных властях региона отличались крайним пренебрежением: сплошь зацикленные на самообогащении карьеристы и тати, выжимающие последние соки из вверенного им населения. Так, Поручик со своими отрядами регулярно осуществлял в посёлке продразвёрстку, минуя и милуя исключительно клировское хозяйство.
Логоцентристы были осведомлены даже о пикантном предложении, которое Поручик сделал Анне, может быть, в тот день, когда первый раз явился к Клирам и походя завербовал Конрада. Если бы тогда как-либо удалось записать вторую сторону кассеты, оказалось бы, что Поручик отводит Анне роль учительницы музыки для местных детей.
Что Анна ответила Поручику, оставалось неизвестным. Информация исходила от длинноволосой девицы, которая сама, как оказалось, была музыкантом и знала ситуацию на рынке уроков – тем более обозримом, что он отмирал. Редкий родитель отдавал отпрыска «на музыку», предпочитая учить его единоборствам. Кстати, лично длинноволосая девица с Конрадом почти не общалась, считая это ниже своего достоинства. Другая чувиха, с наполовину выбритой головой, была любезнее, но здесь уже Конрад чувствовал какой-то порог, скорее эстетического свойства, – и потому старался говорить с этой биксой пореже.
Стать окончательно своим в кругу «логососов» ему не удавалось – условием приёма в шоблу была инициация, а её-то у Конрада и не было. Он, правда, указывал на то, что как-никак отслужил в армии, но ему отвечали, что инициацией по-ихнему считается только участие в боевых действиях, а Конрада чаша сия миновала.
Время от времени он интересовался судьбой и профайлом Алисы Клир. Больше всего его интересовало, не было ли у неё врагов и кому она могла перейти дорогу. Неформалы отвечали, что никому, потому что женщина была приветливая и приятная, и даже высокомерия, свойственного её сестре, за ней не наблюдалось. Наоборот, она целиком отдавала себя людям – вытаскивала пьяных из канавы, отхаживала побитых во время жестоких тутошних драк, утешала женщин, потерявших мужей. Кроме того, она руководила в посёлке кружком детского творчества, ныне безвозвратно почившим в Бозе, и регулярно ездила в губернский город на смотры юных талантов. Кроме того, у неё были в городе и другие дела, за которые она, правда, ни перед кем не отчитывалась. На прямой вопрос Конрада – не могла ли она в городе каким-то образом законтачить с Землемером, был дан уклончивый ответ – всё может быть, так как Землемер увлекался робингудовщиной, то есть благотворительной раздачей награбленного добра сирым и убогим и поддержкой крайне редких в этом краю гражданских инициатив. Но вообще-то говорить о Землемере в этом кругу считалось негласным табу, и собеседники Конрада довольно быстро съезжали с темы.
А в доме Клиров, похоже, существовало табу на разговоры об Алисе. Ни Профессор, ни Анна ни разу и словом не обмолвились о недавно погибшей дочери и сестре. В некоторых комнатах, правда, стояли её фотографии – но, учитывая, что они с Анной были близняшками, сказать точно, кто именно был изображён на них, было невозможно. Фото же обеих сестёр вместе Конрад никогда не видел – что, впрочем, не удивительно: он был вхож далеко не во все комнаты дома. В доступных же ему комнатах он часами простаивал перед портретами покойницы, стараясь уловить в её миловидных чертах налёт обречённости, приговорённости к ранней смерти, и, как ему показалось, он постепенно нашёл его в чуть тревожном выражении больших, устремлённых мимо зрителя глаз, в чуть нервическом изгибе уст, в чуть чрезмерной заострённости подбородка. Хотя, быть может, всё это было присуще и облику Анны – так долго и пытливо таращиться на неё она бы никому ни за что не позволила.
Пробовал Конрад заговаривать об Алисе со Стефаном – но тот сразу плаксиво кривил губы и отделывался фразами типа «О мёртвых – только хорошо» и «Зачем ворошить прах былого?».
Но когда подошло время сороковин по безвременно ушедшей, Конрада пригласили на поселковое кладбище. Среди покосившихся надгробных камней и стёртых надписей выделялся свеженький могильный холмик с воткнутым в него новеньким крестом. Памятника, понятное дело, ещё не было; лишь временная табличка с чёрными буквами «А. Клир» поясняла, кто здесь покоится. Свои услуги предложил было полупьяный дьякон в линялом подряснике, но ему вежливо отказали, поскольку он был не в голосе и откровенно рвался почревоугодничать на халяву.
Зато Конрада, который не в голосе был всегда, позвать за стол сподобились. Зная о дырке в его желудке, вина ему не налили, обошлись виноградным соком. В бокалах же трезвенницы Анны и несовершеннолетнего Стефана было что-то очень серьёзное. Анна поднялась в полный рост, но не сказала никакого тоста, лишь нараспев сама прочла поминальную молитву, после чего все трое, не чокаясь, осушили до дна свои ёмкости. Возникла длительная пауза, в течение которой Конрад имел возможность в открытую разглядывать застывшее лицо Анны и лишний раз поразиться её удивительному сходству с сестрой. Однако, то была стандартная «минута молчания», после неё все опустились на свои табуреты, и Анна вполголоса завела со Стефаном нейтральный разговор – о погоде, о природе. К Профессору в этот день Конрада вообще не пустили.
5. Музыка сфер
Нестерпимая жара, наконец, спала; подули легкокрылые ветры, облачка из сахарной ваты заполонили синюю твердь. Вперив в них рассеянный взор, никак не мог установить Конрад, чем нежданным и негаданным чреваты эти безобидно-курортные барашки и какое может случиться от этого неба чаромутие. Безмятежность ниспала на окрестность, на посёлок, на участок. И дюже она Конрада печалила.
Дело в том, что вспоминал Конрад: читал он где-то, будто в один прекрасный день небо вкупе с землёй, право вкупе с левом, запад вкупе с востоком для бдящего, бодрствующего сознания способны вдруг свернуться, спрессоваться, скрутиться в плоский диск, и за завесой привычного «всего» может вдруг нарисоваться инобытие, иная реальность, мир-как-он-есть. Чтобы сворачивание и скручивание случилось, нужно было чувствовать несправедливость и боль – а Конрад их чувствовал тем острее, чем безукоризненней выстраивались в ряд беззлобные облачка. Но сохранялся кисейный шар окружающего, оставалась кисельной плоть мироздания, медузьи щупальца обволакивали горизонт, и не было выхода, один только вход.
Не нирвана, а вязкая нудятина инерции.
Правда, за ближним лесом подчас слышались новые для этих мест стуки и трески. То были звуки выстрелов. Интересуясь, кто это и с кем воюет, обитатели клировой виллы узнали, что это так, фигня, партизанщина, разборки между посёлками, а фронт гражданской войны отсюда в сотне келиметров. И Анна со Стефаном верили, порой по лесу прогуливаясь. Ягодный сезон начался – и приходили они с лукошками малиновой малинки и голубой голубики.
А змеюк-то развелось! Пара местных фирм пыталась из них сумочки делать, да спросом не пользовались: здесь вам не Амазонка и не Калимантан – узор у местных гадёнышей убогий. Богатенькие за кордоном тарились погремучими анакондами, бедненькие из европейских искусственных рептилий. Поселянин в квартиру зайдёт – клубок у его ног клокочет, он его футболом: когда кого в сердцах раздавит, а когда просто отпихнёт.
Однажды: шалунишка Стефан поймал змеюку, притащил в дом, чтобы Анну позабавить и Конрада подразнить. Первая с пленницей играла, усюсюкала, а второй как увидел, так и заорал: «Аааааа! Бляди! Суки! – (именно так и заорал) – Уберите от меня! Аааааааааа!» Ажно Профессору пожаловался, лишь бы совсем прогнали мерзкую гадину. С тех пор и по лесам скитаться перестал, даже не начав. Так и стал сиднем сидеть на участке, весь трепеща, разве что по сельской улочке за хлебом пройдётся. Боялся он этих аспидов как огня – а ведь и так был подвержен пароксизмам беспричинного страха. Было это и «культурологично», и символично: бегущий якобы к природе, сам панически боялся природы.
Только человек, способный петь, может приобщиться к Традиции. Вплетать свою лепту в лепоту Целого, а не просто жадно внимать музыке сфер, резонируя болью в завязанных узлом связках на любые её модуляции.
Анна – та пела. Когда занималась со Стефаном и пару раз – слышал Конрад – за работой. Глубоко и высоко одновременно; с изощрёнными фиоритурами – колоратурные рулады на тальянском и незатейливо, простенько – народные песни на родном. Как-то в закатный час на Лесном участке мастерилась: «Слети к нам, тихий вечер, на мирные поля. / Тебе поём мы песню, вечерняя заря».
Кто поёт, тот и самовысказывается, и причащается предвечной звуковой купели, плавно скользя по волнистым протокам беспричинной радости, безотчётной сладости, безосновной прелести. И чувствуя это, даже чуждый сантиментов Стефан нет-нет, да басистым рёвом подвывал Анне.
Радио играло пластмассовую музыку.
Анна играла на дереве и чуралась металла, так же как Конрад всю жизнь мечтал играть на металле, но не выносил пластмассы.
Конрад слышал медь труб, жесть голосов, серебро гитар.
Анна слышала сочность берёз, клейкость сосен, медовость лип. Анна знала: музыка личинкой сидит в сотканном из природы коконе молчания, но распусти этот кокон, свободная музыка будет бабочкой, и наперекор пластмассе, вспорхнёт над посёлком к обетованным небесам универсума.
А ещё повадился хаживать в гости Поручик.
И слава Богу – Конраду не надо было относить свои реляции к станции. Комиссар полиции принимал у него отчёт прямо на участке Клиров.
Он выслушивал Конрада с кислой улыбкой снисхождения, и казалось, что зря Конрад надрывается, со странными-страшными неформалами тусуется – похоже, и без того было всё известно представителю всесильных и всеведущих Органов. Но он Конрада как-то раз скупенько так похвалил и – что гораздо важнее – наградил денюжкой. В тот же день переехала денюжка в оттопыренный карман Анны, от комментариев воздержавшейся.
А вообще-то Поручик сам Анну каждый раз ангажировал – и уединялись они в беседке и толковали о разных материях, каких именно – Бог знает. Жалко было Конраду кассет своих.
Порой являлся Поручик с ранья, когда Конрад, пробедокуривший всю ночь, только-только спать собирался. Не сразу заходил Поручик на участок, знаючи, что Анна свои ритуалы должна выполнить. Перед участком облачался он в лёгкую майку и туда-сюда галопировал, изображая джоггинг.
Бывало, глянешь в окно – Поручик бежит по аллее, втягивая спину, разгоняя воздух рельефным, как глобус, торсом. Летит Поручик, уши-крылья раскинув, короткими толчками выпуская переработанный воздух, по сторонам не глядя, некую цель видя. И уступает дорогу Поручику вся встречная живность – настолько он, в отличие от неё, исполнен стремления, собранности, воли... Жало желания и пресуществления.
Сам-то Конрад спортом не занимался. Колёса стимулировали жироотложение. Наросло брюхо – стоймя выпученное, сидьмя складчатое. Он напоминал кенгуру в тужурке.
Это спереди. А сзади был он – этакий хейрастый-пейсастый лысеющий христосик-педерастик. Раз убывает сила в мускулах, пусть будет сила в волосах. Как у Самсона.
Но Анна сыграла роль Далилы. После того как Поручик сделал Конраду замечание по поводу внешнего вида: негоже сексоту из толпы выделяться. И вскоре Анна внаглую заявилась к Конраду с ножницами и чик-чик – привела его причёску к общему знаменателю. То, что стрижка получилась модная и модельная, нисколько его не утешило. Правда, Стефана Анна обкорнала куда короче – но тот ведь сам просил: жарко, дескать.
А Конраду с подачи Поручика пришлось ещё и регулярно бриться. Всё лицо было в порезах. Шея тоже, но там это было не так заметно – ниже выскобленного подбородка островками кустилась щетина.
Как-то шла Анна мимо Конрада.
Тот сжимал между ног магнитофон и фанател под популярную в недавнем прошлом забойную песнь «The Colonel Vasin»[3].
В нужный момент он открыл рот и зафиксировал язык между зубов – с тем, чтобы самозабвенно подхватить рефрен:
«This train is in fire…»[4]
– Зис трэйн из ин фа – а – а – я… – надсадно завыл Конрад, обнажая жалкие остатки некогда худо-бедно поставленного произношения.
Поющий Конрад был таким же нонсенсом, как танцующий гиппопотам или попугай с микрокалькулятором. Тембр его непонятно откуда прорезавшегося голоса резал утончённый слух Анны; но к самому факту пения она отнеслась благосклонно.
– Так вы ещё и поёте?
– У меня когда-то гитара была.
– А куда ж она потом девалась?
– Да так… волны житейские поглотили. На фиг она мне – с моей дисфонией…
– Но вот поёте же…
– Я ещё об этом пожалею. Просто иногда удержаться не могу – человек обязан петь, понимаете ли.
– Вы не пробовали лечиться?
– Пробовал… без толку. Всё же завязано: психика, соматика… Да и специалисты-фониатры, старые зубры, быстро вымерли.
– Вы знаете, – сказала Анна. – Где-то в недрах завалялась какая-то гитара… Вы не хотите подыграть моей виоле?
– Издеваетесь… Я не Джимми Хендрикс. Я только умца-умца могу.
– Это как ваша музыка что ли?
– Ещё примитивней.
– Да куда уж примитивней-то, – пристыдила Анна. – Ваши кумиры вообще какие-нибудь слова кроме «babe» и «come on» знают?
– А важны ли слова? Они только отвлекают от главного.
Будь ты пришелец из какого угодно прошлого, из какой угодно цивилизации, из какой угодно культуры, но тридцать с гаком лет продышав воздухом нашей эпохи, ты не можешь не пропустить рок через лёгкие.
И если его сладостная отрава покажется тебе отрадой, ты всю жизнь будешь невольно колебаться и колыхаться в такт.
При любой возможности Конрад слушал рок. Турбулентный «Led Zeppelin» и разухабистый «Deep Purple», рождественски-светлый «Uriah Heep» и инфернальный «Black Sabbath», изобретательных битлов и предсказуемых роллингов. В такое время взгляд его остекленевал, тело мерно сотрясалось, губы беззвучно шептали текст. Мир вокруг него нёсся по желобам кайфа, по виражам угара, по рельсам улёта.
Однажды по поводу рока Анна даже снизошла до разговора с ним. Это всё вторичная музыка, говорила Анна. Ремесленные стилизации под подлинник. Может, правы были обитатели гессевской Касталии, что наложили запрет на сочинение новой музыки и всецело отдались изучению старой. Писать новую музыку – всё равно что писать новые молитвы, тогда как доходчивы и действенны только древние.
– Ну да, – с готовностью соглашался Конрад, – взять хоть сам рок-н-ролльный двенадцатитактный стандарт: на одну и ту же музыку тысячи обладателей авторских прав. Аранжировка, конечно, немного разная, но ведь как ни аранжируй, скажем «Лунную сонату», от этого она «Лунной сонатой» быть не перестанет… Поэтому я традиционный рок-н-ролл не слушаю. А так… Мне один диск-жокей говорил: «мясо никогда не заменит конфет». Притом я не ем сладкого и чай без сахара пью.
Анна пила чай со святым духом – об этом поведала её осанка и неуловимое движение ресниц.
Тогда Конрад добавил, что не делит музыку на плохую и хорошую. Лишь только – на ту, которую понимает и которую не понимает.
Меж тем в небе над посёлком каждый божий день из динамиков гремела своя музыка – та самая, которую любил народ. А любил народ заунывную попсу на тексты об урках, жиганах, этапах и лесоповалах – сволочной шансон. Музыка эта была немудрёной, трёхаккордной, слова к ней были затасканные, потёртые и драные, и в общей сложности слов было не более сотни. Но динамики у соседей были куда мощней, чем у Конрада, и они рвали дачно-сельскую идиллию в клочки, что премного злило всех обитателей клирова участка. Особенно негодовал Стефан, для которого шансон был единственно возможным звуковым фоном «этой страны», и потому при первой же возможности он спешил натянуть наушники.
Музыку Конрада он, как мы помним, сперва забраковал как «старьё» и «отстой», но со временем научился ценить динозавров рока – стали они ему «пистонить» и «вставлять». Стефан даже пробовал подручными средствами этот металлолом оцифровывать. И подводил теоретическую базу в нечастых разговорах с Конрадом:
– Ты послушай, солдат, какая энергия, какой ритм и темп жизни… Запад! Я, бля буду, не сегодня-завтра мотану отсюда – только меня и видели. На Западе я согласен быть последним говночистом, лишь бы не видеть здешнюю убогость. Эти чахлые рощицы, чахоточные перелески, кривенькие берёзки, ветхие избушки – не для меня. Я хочу выжимать двести шестьдесят на хайвеях, хлестать пиво в пабах, держать связь со всем миром через спутник. И чтоб проблем никаких… ну разве что сексологические там какие-нибудь… Скорость, свобода, свинг – я это получу, бля буду!
Конрад, обычно стеснявшийся вступать в словопрения с шестнадцатилетним суперменом, не выдерживал этих проникновенных тирад и цинично остужал юношеский пыл Стефана:
– Откуда ты знаешь, каков он, Запад-то? Американских боевичков насмотрелся? Скучно они там живут, скученно. Ограничители скорости на каждом шагу, всё расписано – где и за сколько чихнуть можно, где и за сколько плюнуть, где и за сколько пёрнуть. Мирок законопослушных налогоплательщиков, взаимно вежливых тимуровцев, заботящихся об общественном благе. Стерильная чистота, запах больницы, синтетический привкус гамбургеров. Женоподобные мужички, мужеподобные женщинки. Ты даже тёлку себе там не найдёшь нормальную – либо равнобедренную стиральную доску либо двести пятьдесят килограмм дряблого мяса. Ни тебе подраться, ни тебе покуражиться… тоска!
– Ну и сиди здесь, трахай крутобёдрых красоток, дерись и куражься, – отвечал Стефан, отлично зная, что ничего из вышеперечисленного Конрад делать не будет.
Конрад поскрёбся в дверь профессора. Профессор так обрадовался, что одеяло упало на пол. Конрад поднял его, бережно накрыл нижнюю половину старца и, садясь в кресло, справился о его самочувствии. Тот, как и положено несгибаемому читателю Хемингуэя, ответил примерно так: «Всё в ажуре». В общем, нелепо ответил.
Гость сидел в кресле, похожий на вещественное доказательство всякого-разного чего-то не того, покашливал, моргал и молчал.
– Чем вы меня порадуете? – спросил профессор.
– А… – с готовностью откликнулся Конрад. – Увы, увы… Катастрофа. Последний день Помпеи.
– Да уж, понятственно…
– Извините, что лишний раз напоминаю вам…
– А, бросьте извиняться. Только что ж за Помпеи такие? Что они, эти самые Помпеи? Град обетованный? Полноте. Занюханный заштатный городишко, один из многих…
– Да тут не заштатный город. Тут целая, некогда великая страна… Так вот: этой страны больше нет! Всё, что от неё осталось – это вы да ваша дочь… ну я ещё…
– «Великая страна»? Вы, батенька, державник? Имперец, что ли?
– Нет, Профессор, для меня моя страна – это моя культура, которую я с молоком матери впитал. А эта культура – сгинула. Благодаря нам.
– Кому – «нам»?
– Господи, интеллигенции, конечно же!
– Вы пришли судить сволочную интеллигенцию? Не вы, не вы первый! – Профессор радостно захохотал и принялся протирать очки. – Нет её, давно уже нет. Никто из переживших Большой Террор, не вправе считаться интеллигентом. Так что давайте сначала договоримся о понятиях.
– Ну да, семантика термина невнятна, неуловима, расплывчата, – напирал Конрад. – Его изобретатель разумел под интеллигенцией охламонов-разгильдяев, выгнанных из университетов и в отместку предавшихся политическому злословию. Впоследствии во всех энциклопедиях подчёркивалась именно оппозиционность интеллигенции к власти. Так и говорили: «ангажированные, по большей части враждебные государству интеллектуалы». И при этом оговаривали: допустим, наши религиозные философы – никакие не интеллигенты. Все как могли открещивались от принадлежности к «прослойке». Быть интеллигентом – постыдно.
– Что ж вы так сплеча-то рубите?.. – защищался Профессор. – Вот вам ещё определение: «сволочной интеллигент – это прежде всего человек живущий вне себя, то есть. признающий единственно достойным объектом своего интереса и участия нечто лежащее вне его личности – народ, общество, государство».
– Это, кажется, из сборника «Вехи»? Самих-то себя «веховцы» к интеллигенции не относили. Однако в наши дни подлинными, образцовыми интеллигентами слывут как раз они, а не пламенные р-революционеры.
– Ну вы, конечно, в курсе, один из них так и высказался: «Интеллигенция – не мозг нации, а говно». При этом был вполне себе человек с индивидуальным интеллектом, да каким!.. Как знать, наверно определить «интеллигенцию» можно только апофатически. Она – ни то, ни другое, ни третье.
– А в совдепское время всех людей умственного труда огульно зачислили в интеллигенты.
– Хотя я знал и таких товарищей, для которых мерой «интеллигентности» служила стоимость люстры в гостиной.
– Бывает, – подъелдыкнул Конрад. – Иные мои знакомые говорили «интеллигентный» про всякого, кто умеет непринуждённо, с юмором и без мата вести светскую беседу, со вкусом одевается и без нужды не пакостит ближним. Видать, так плохи дела мещанства, что оно почувствовало себя злосчастной «прослойкой», а действительная прослойка так истончала, что готова записать в свои ряды первого симпатичного ей встречного.
– Ну а как же… Интеллигент – это и умение себя вести… – начал было Профессор.
– Вовсе не обязательно! – заткнул его Конрад. – Это касается, так сказать, публичной интеллигенции. Мастера связных текстов, блин. Истэблишмент. В основной же массе интеллигенты – человечки бесшумные, безвестные, непубличные. И по части связывания в тексты разрозненных, хотя подчас верных мыслей, – совершенно беспомощные.
– Здесь вы правы. Интеллигент не с грамоты начинается… Я встречал, безусловно, интеллигентных людей и среди рабочих, и среди крестьян, и среди люмпенов.
– Вот и я про то же. Увенчанные лаврами «представители интеллигенции», с которыми регулярно встречаются высшие руководители, вряд ли хоть каким-то боком представляют тысячи вечных студентов, кухонных спорщиков, «прекрасных дилетантов».
– Ну почему же? Они в известном смысле – авангард, вожди…
– В лучшем случае – заградотряд… – отрезал Конрад. – А я вам скажу, что лично для меня является ключевым признаком «интеллигентности». Это – сочетание двух душевных свойств, задающих всю жизненную программу. Аттрактивности и рефлексии.
– Какие вы мудрёные слова говорите… – смутился Профессор. – Напомните-ка, что такое «аттрактивность»…
– Стремление к Истине, Добру и Красоте. Безусловное и безотчётное.
– Ну а рефлексия – это то, что Достоевский в «Записках из подполья» назвал «усиленным сознанием»? – вопрос Профессора был из разряда риторических.
– Точно так, – подтвердил Конрад. – Без рефлексии аттрактивность ничего не стоит. Мало стремиться к возвышенным идеалам – надо точно знать дорогу к ним, а также их местожительство. Этим знанием, увы, ни один смертный индивид в начале пути не обладает. Он даже не вправе утверждать, что идеалы действительно «возвышенные». Вдруг Истина – в вине, Добро – в кулаке, а Красота – в грехе?
– Блок говорил: «всякая идея жива до тех пор, пока в ней дребезжит породившее её сомнение». Интеллигент, на мой взгляд, лишён твёрдой почвы, он – этакое перекати-поле, человек воздуха. Бесприютный скиталец, летучий голландец, вечный жид.
– Вот! – Конрад подскочил на стуле. – Поэтому, когда переделочные кликуши цапали за горло начальство, требуя для себя какой-то там «свободы» – это повод усомниться в их интеллигентности. Выпала на долю интеллигентская карма, значит – обречён на свободу, приговорён к свободе. Интеллигент – не от мира сего, по определению, – при всём жгучем интересе к проблемам сего мира.
– Но с такой же определённостью можно сказать, что он – не от мира того, – не понял Профессор энтузиазм собеседника. – Небесная твердь – подходящая почва для монаха, а это совсем другая порода. Бывает, конечно, что интеллигент постригается в монахи, но «узкий путь» годится лишь для очень узкого круга, и неизвестно – верен ли.
– Куда чаще, устав болтаться меж Небом и Землёй, интеллигент низвергается на грешную землю и сразу же сталкивается с колоссальной проблемой… но не свободы, нет! – социализации, – сказавши это, Конрад встал и прошёлся вдоль дивана.
– Ну это вы загнули! Существует же интеллигентское сообщество со своими кумирами и кодексом чести, со своей этикой… К тому же Великий Катаклизм проблему социализации интеллигентов постарался решить в числе первоочередных и весьма в этом преуспел. Постепенно теряло актуальность высказывание «страшно далеки они от народа». Уже на заре совдепской власти детям интеллигенции практически был закрыт доступ в вузы, и с тех пор над горемычной прослойкой целых семьдесят лет довлели запреты на традиционные интеллигентские профессии. Поначалу наиболее подходящим общественно-политическим поприщем для рефлектирующих недобитков считалось зэческое. А потом… потом «люди воздуха» сами стали чураться высшего образования, легальной карьеры, официальных почестей. Тот, кто не сидел в лагерях, всю жизнь либо лучшую часть жизни сторожил, подметал, шоферил, отмывал шляхи, точил детали, прокладывал трубы, торговал арбузами…
Следующий фрагмент диалога смахивал на монолог:
– Добавьте, что если же кто-то почему-либо не гнушался путём научного сотрудника или журналиста, то уж наверняка два-три решающих для становления личности года (а кто воевал – даже поболе) тянул армейскую лямку вместе с механизаторами, фрезеровщиками и домушниками…
– Допустим даже, что отдельным везунчикам непонятным образом удавалось вообще избежать зоны, казармы и малоквалифицированного ручного труда – так они всё равно были втянуты в рабоче-крестьянский социум: жили бок о бок с народом в одних коммуналках, сидели с народом за одной школьной партой, толклись с народом в одних и тех же очередях за одним и тем же дефицитом.
– Да уж, теперь интеллигент денно и нощно мог наблюдать столько занимавший его феномен «народа» не со стороны, а изнутри. Но и народ, увидав интеллигента в гуще своей, получил возможность попристальней в него вглядеться.
– И надо сказать, интеллигент смотрелся достойно. Внезапно в его тщедушном теле проснулись бесстрашие и крепость духа. Да-да, расхлябанный и мятущийся в светских салонах, он обретал себя в экстремальных ситуациях.
– Но, Профессор, – вот тут Конрад свернул с магистрального шляха и мысленно как бы подпрыгнул, – ведь в подсознании видевших это обычных смертных зарождался каверзный вопрос: а на чём, собственно, основана претензия этих задавак на своего рода избранничество, на обладание истиной в конечной инстанции, на духовное руководство нацией, в конце концов?
– Ещё бы! Рессентимент развился. Зависть вперемежку с мстительностью.
– Это у богоносца-то? – Конрад нагнулся к самому лицу Профессора. – Который в полном составе на святых угодников равнялся? За какие-то несколько лет – чуть ли не тотальная «совдепизация» менталитета. Непонятная метаморфоза…
– А потому что ничего наша интеллигенция не понимала в народе, – Профессор бесстрашно приподнял голову. – Бесхребетный он оказался, без нравственного стержня. Всё его боголюбство в одночасье смыло…
– Но что ж, все наши философы, как один, заблуждались? – съехидничал Конрад. – По-моему, дело в следующем: в прежнюю эпоху духовная аристократия – с некоторыми оговорками – была в то же самое время привилегированным классом. Кратчайший путь наверх по социальной лестнице звался «образование», «просвещение» – в ту пору это были почти синонимы «просветления», «духовного развития». Повышая свой социальный статус, человек из народа почти наверняка заодно повышал и свой духовный уровень. И наоборот, повышая духовный уровень, мог вполне повысить социальный статус. Но вот явились новые баре, для которых Истина, Добро и Красота в традиционном понимании были классово-чуждой химерой. Новая система «образования» оказалась непримиримо враждебной всякому «духовному развитию». Старые баре в массе своей попали в первейшие босяки. А вчерашние голоштанники, чуть-чуть поколебавшись, интуитивно потянулись к новым барам…
– …пошли к ним в лакеи да в холуи и постепенно переняли их своеобразную систему ценностей, – Профессор сказал это уже не лёжа, а сидя.
– Но не какие-то врождённые наклонности к лакейству-холуйству тому виной – просто социальная иерархия и ценностная иерархия в сформированном веками сознании народа прочно увязаны друг с другом. Кто в силе – у того и Правда.
– Интеллигент и при старом режиме всюду был белой вороной…
– А теперь окружающие не видят разницы между белой вороной и паршивой овцой – той, что всё стадо портит. Многие интеллигенты сразу зарекомендовали себя как никудышные работники – на новых рабочих местах. На лесоповале поэт по призванию никак не мог угнаться за лесорубом по призванию. Прирождённый философ при всём желании не мог управиться с отбойным молотком столь же ловко, сколь прирождённый асфальтоукладчик. Подчас из-за одного такого горе-умельца страдали показатели целого коллектива, чего коллектив (особенно в условиях зоны) простить не мог.
– Не всегда, не всегда… Сколько интеллигенция внесла рацпредложений, облегчивших жизнь простого труженика! Знаете, был такой Термен – он ещё «терменвокс» придумал, один из первых электромузыкальных инструментов… Так вот: благодаря его новациям производительность труда в лагере возросла в пять раз, а значит в пять раз и паёк вырос…
Явление Анны, указание на часы.
От Профессора уже не скрывали, что участок навещает представитель Органов. Старик всё реже выползал на балкончик, но иногда всё же выползал, без спроса и посторонней помощи, при посредстве кресла на колёсах (у него была сломана шейка бедра). И тогда он часами пялился на пейзаж и на перемещения поселян по аллее. О слиянии полиции и госбезопасности он знал из газет, но, к удивлению Анны, нисколько не огорчился пристальному интересу комиссара к своей вотчине. «В рядах Органов немало любопытных персонажей», – сказал он Стефану, которому было поручено вкрадчиво и с юмором описать новое хобби представителя власти. Профессор искренне допускал, что Поручик желает ему и его семье блага. «Хотел бы арестовать меня – давно бы это сделал», – этими словами старец выразил то, что давно поняла его дочь.
Тем более, Конрад успокоил всех сообщением о том, что Поручик ни разу ни словом не обмолвился о своём интересе к образу мыслей Профессора – он мог и так удовлетворить его, подняв подшивки печатных изданий «переделочной» эпохи. А вот «логососы» интересовали его всерьёз, и Конрад был вынужден коротать с ними не один тёплый вечер.
– Вот что я не могу понять, – сказал Конрад в очередной беседе с неформалами. – Вы же появились в этих краях недавно. Откуда вы могли знать Алису Клир?
– Мы от века здесь были, – ответили ему. – Это Поручик тут без году неделя. А потом – слухами земля полнится. Тем более, слухами о хорошем человечке.
Конрад так и не понял, что ближе к истине – первая названная логоцентристами причина или же вторая.
– Что она тебя так занимает? – спросили, наконец, неформалы.
– Ну положим, вот что… – задумчиво ответил Конрад. – Судя по газетной вырезке, её убили на её же собственном участке. На том самом, где сейчас обретаюсь я. Вправе я узнать, кто покусился на территорию моего обитания?
– Но ты же в курсе, ваш участок под крышей Органов – лишь с недавних пор.
– Почему убили именно её? И где были Анна с Профессором? И почему они как ни в чём не бывало живут на том же участке? Я бы так не мог…
– Нас как раз в момент убийства в посёлке не было, – подал вдруг голос обычно молчавший Курт. – Будь мы здесь, ничего бы не случилось. А вот поговорил бы ты с поселковым сторожем. Он и в тот день здесь сторожил. Поставь ему бутылку – он тебе всё и поведает.
– Выходит, он пустил убийцу в посёлок?
– Не факт, – ответил Петер, поскольку Курт уже устал от говорения. – Может быть, убил кто-то из поселковых. А потом чего тут можно устеречь? Сторож в своей будке сидит, а посёлок со всех сторон открыт всем ветрам.
– А что за человек… этот ваш сторож?
– Четыре ходки, – ответили ему. Это значило, что сторож четырежды был в тех местах, где водку не дают.
Водка оказалась загвоздкой. Где её взять? Весь посёлок хлестал самогон, и самогоном сторожа не удивить. Лишь дней через пять в эти края зарулил известный «логососам» офеня, и по блату спустил Конраду внеочередной пузырь. И то – запросил за него немыслимую цену, так что пришлось предложить взамен том Шопенгауэра – что ещё было за душой-то, не считая застиранных носков? Конечно, никакой надежды на знакомство офени с родным языком Шопенгауэра, равно как и на знакомство с самой его личностью не было. Но к удивлению Конрада коробейник выказал живейший интерес к желчному нелюдимому немецкому философу, сказав, что за много-много вёрст отсюда у него есть клиент, который с ногами и руками оторвёт подобный товар. Так Конрад нежданно-негаданно ненадолго оказался счастливым владельцем всамделишной «Пшеничной», но вечером того же дня расстался с ней в крохотной сторожке у сломанного шлагбаума на въезде в посёлок. Кстати, он вспомнил, что когда два месяца назад сам въезжал сюда на бицикле, сторож ни в какую не желал его пропускать и пришлось ему лишиться своего армейского ремня. Таким образом, общение со сторожем было для Конрада в высшей степени разорительным, и потому он решил впиться в старика клещём и вытащить из него максимум сведений.
На самом деле сторож был нестар, хотя сед и скрючен. Его загорелое сухое тело под выцветшей гимнастёркой скрипело всеми суставами, но выдавало недюжинную цепкость и хваткость. Конрада не покидало ощущение, что сгорбленная фигура могла в любой момент распрямиться и накостылять каждому встречному по первое число.
В сторожке компанию сторожу всегда составлял бывалый, но ещё сильный бультерьер. Во время всего разговора он мирно возлежал под табуретом хозяина, но иногда поднимал голову и всепонимающе рычал, отчего Конрад ёрзал на предложенном ему табурете, непроизвольно поджимал под себя ноги и забывал, что именно он хотел в данный момент сказать. Сторож усмехался, наклонялся к своему товарищу и игриво засовывал ему кисть руки в страховидную пасть, по самое запястье.
По поводу событий двухмесячной давности сторож не сразу и вспомнил, о чём именно речь. За текущий год в посёлке завалили четверых, и каждый раз это было дело рук самих поселковых – на повседневной, вполне бытовой почве. Пол убитых для памяти сторожа не играл никакой роли. Ах да… шлёпнули одну красавицу этим летом – так она, скорее всего, сама была виновата.
– Кто шлёпнул-то? – настаивал Конрад. – Да ещё таким нетривиальным… в смысле необычным способом. Её ведь застрелили из лука!
– Она спортсменка была, – отвечал сторож, исподлобья недобро взирая на Конрада. – Стрельбой из лука, в том числе занималась. Возможно, такой же спортсмен её и шмальнул.
– Откуда же он взялся, этот спортсмен? – Конрад поворачивался боком к собеседнику, словно подставляя раструб уха к его рту.
– Из наших же дачников, – говорил сторож. – Он к ним вхож был, на участок-то. Они ещё вместе программу какую-то здесь делали, для молодёжи. Ну типа кружок…
– А как его звали? – допытывался Конрад.
– Я всех тут по именам знать не обязан. Знаю, на кого тот или иной дом записан, а кто в самом деле тут живёт – хрен знает… Городские. Вот и этот наверняка городской был.
– А почему вы думаете, что это именно он?
– А как убийство случилось, сразу он и исчез, всякий след его простыл.
– А у кого он жил? На каком участке…
– Хрен его знает… По-моему, у них же на участке и жил.
Конрад замолк. Он сосредоточенно, но бесплодно думал о том, что в нормальной стране въезд в посёлок наверняка был бы оборудован видеокамерой, и уж точно велась бы регистрация если не всех въезжающих на территорию, то уж, по крайней мере, всех наличных, в том числе, временных жильцов. Но в посёлке, по словам сторожа, если кто и ведал доподлинно поголовьем проживающих, то только Органы – председатели дачного кооператива частенько менялись, а у нынешнего во время очередного запоя всю документацию сгрызли мыши. Да и была та документация, мягко говоря, весьма неполной.
«Что ж, попробуем ещё попытать о таинственном незнакомце».
– А кто он был, из какого слоя?.. К криминалу он какое-то имел отношение?
– К блатным-то? Пожалуй что имел…
– А с … с… я прошу прощенья, с Землемером он мог быть знаком?
– Вот этого точно не знаю. Он в городе бывал. А Землемер там как раз лютовал втапоры… Я тебе, касатик, другое скажу. Покойница… Алиска-то… сама с Землемером якшалась. Медицинский факт.
– Вот как? На какой такой почве?
– Как на какой? Землемер всю губернию держал, за всем и всеми смотрел. Если какая у тебя инициатива – иди к нему на поклон, без этого никуда…
– И что ж этот кружок… с санкции… в смысле с дозволения Землемера существовал?
– Стал-быть, да. Землемер самоуправства не терпит.
– Но ведь губерния-то большая.
– Велика губерния. Но и Землемер велик.
Конрад втянул голову в плечи.
– А как же он… попался?
– А как попался, так и выберется. За него не переживай.
– И что же… Могло быть так, что Землемер дал сигнал устранить Алису?
– Могло быть. А могло и не быть.
– Но где же она могла перейти ему дорогу?
– А переходить дорогу вовсе не обязательно. Ты будь покоен, касатик – если уж Землемер кого велит замочить, так то уж обязательно по понятиям.
Понятия… Конрад не раз и не два читал в переделочной прессе о том, что Страна Сволочей «живёт не по закону, а по понятиям». Под «понятиями» понимались негласные правила уголовного мира, нарушение которых считалось беспределом и каралось по всей строгости. Главное свойство этих правил было в их неписанности, казалось – запиши их, и всё их непреложное значение окажется пустым звуком. Никогда ещё Конрад не мог получить ответа ни от живых людей, ни из книг, что именно предписывают эти самые понятия и что воспрещают.
Нет, кое-что Конрад усвоил. Скажем, если студент не тянет учебный материал, но преподам не грубит и ведёт себя паинькой, то отчислить его – не по понятиям. Если ты залил соседа снизу – то не вздумай уповать на заключение ЖЭКа, расплатись с соседом – так будет по понятиям. Но когда речь заходит о жизни и смерти…
Вечером Конрад даже замучил Стефана нытьём о том, чтобы тот подпустил его к компьютеру. Попросил его ввести в поисковой системе термин «понятия» и сам уселся смотреть на результаты поиска. Но напрасно. Понятия как единый свод чётких и ясных регламентирующих законов во всемирной сети отсутствовали.
Между тем, коль скоро ими регулировалась вся жизнь Страны Сволочей, а ни в какой иной Конрад себя не мыслил, то знать понятия было жизненно необходимо. Незнание понятий не освобождает от ответственности.
В результате Конрад принялся доставать ещё и Анну просьбой презентовать ему тетрадку форматом побольше, потому что-де у него совсем нет бумаги, меж тем как он человек не только грамотный, но и пишущий. Анна сжалилась и удостоила его амбарной книгой, размером с уже знакомую нам «Книгу Легитимации» – то есть, говоря о своём прискорбном безбумажье, Конрад нагло врал. Единственное, что в новой амбарной книге пара листов была исписана простым карандашом – то были рецепты каких-то пирогов и схемы каких-то выкроек. Но это не могло быть препятствием для Конрада, исполненного решимости найти ответы на мучившие его вопросы. Уединившись в своей комнате, он ничтоже сумняшеся вырвал исписанные листы и аршинными буквами вывел на обложке заглавие нового тома – «КНИГА ПОНЯТИЙ».
С тех пор на его столе красовались два больших потрёпанных талмуда, в которые он нет-нет, да что-то записывал. Правда, случалось это редко и случалось, как мы увидим, в сильном последствии. Вопросов было много, а шансов на ответы – нет.
Между прочим, Стефан попросил у Конрада напрокат магнитофон. Понятное дело – не для себя; сам-то он по интернету музыку слушал, а «для дяди Иоганнеса». Конрад немало был удивлён, но пока он оформлял свой новый гроссбух-супербук, до его уха донеслись звуки, в этих краях ещё не слыханные. Они происходили со второго этажа и были столь тихи, что Конрад вынужден был подняться по лестнице и как следует вслушаться.
Оказывается, Профессор поднимал себе дух старинными хитами «Надежды маленький оркестрик» и «Атланты держат небо». Эту музыку Конрад прекрасно знал – некогда отец небезуспешно старался приобщить его к ней; на этих песнях выросла целая фрондёрская субкультура. Штормовки с нашивками, бутылки с горилкою, посиделки у костра на приделанных к жопам «седушках»… этой романтикой он переболел.
Ведь со временем стало ясно, что в основе «бардовской» музыки лежат три блатных помоечных аккорда – те же, которыми кормится ненавистный шансон, а вот тексты… В текстах слишком часто поминалась некая дама с иностранным именем «Наденька». Между тем, понял Конрад, что «философия надежды» Эрнста Блоха морально устарела и что уповать на надежду – занятие, недостойное мужчины. И он перестал надеяться, хотя мужчиной от этого не стал. Ибо не было в нём ни на горчичное зерно – веры.
А единоверцы Иоганнеса Клира мечтали наполнить музыкой сердца, устроить праздники из буден… так и оставили сердца в Фанских горах, а по равнинам ходили бессердечные. И как ни брались за руки, скрепляя союз якобы друзей, так и пропадали поодиночке.
Шибануть бы параллельными квартами, протяжными минорными септаккордами, стряхнуть наваждение выдуманного закруглённого мирка с его дружбами и любовями, окунуться в звуки мира реального, подобного разрозненным фрагментам битого стекла. Собачий лай, человечий мат. Вот что актуально.
Давай спускайся.
Перед сном получил Конрад от Анны свежее бельё. Постель он в истинном смысле слова не застилал – так, кое-как расправлял простыню, а сверху накрывался только пододеяльником – под одеялом всё одно жарко. И вот так, сикось-накось раскидав бельё поверх дивана, он вытянулся на нём и хотел уже приступить к обычной своей «гигиенической» процедуре, как почувствовал, что в спину его что-то колет. Он пошарил под собой руками и нащупал что-то твёрдое. В конце концов, он извлёк из складок простыни маленький кусок картона, на котором печатными буквами было написано:
«Мастурбация – грех более страшный, чем самоубийство, поскольку последнее требует смелости, а мастурбация не представляет собой ничего, кроме отбрасывания человеком своей личности в угоду животной потребности.
Иммануил Кант».
Конраду по большому счёту было по фигу, что думал о чём бы то ни было добропорядочный культурфилистер, добровольный евнух, а то и урнинг, но заснуть он после своего открытия уже не мог. Он распахнул окно и стал внимать музыке сфер – диатонической аскезе космоса, в которой гасла алеаторика лопнувших нервов, тухли кластеры логических нестыковок. Чёрное бездонное небо было всё усыпано звёздами, источавшими приветливый призывный свет, и расстоянье до них казалось близким и плёвым. С таким же томленьем когда-то взирали на них простодушные провинциальные учителя, мечтавшие построить звездолёты, чтобы опередить бренное время, вредное время, бредное время и превозмочь притяжение бодяги будней. Причаститься к ноуменальному, к трансцендентному, к Абсолюту.
В россыпи созвездий, в прóросли соцветий глаз Конрада выделил одинокую пышнолучистую этуаль, подмигивающую ласковее других, и слёзно взалкал её прельстительных прелестей. Соблазнительное светило разгоралось всё ярче, переливалось всё радужней, манило всё радушней и вдруг – хлоп! – вмиг исчезло, словно его и не было, словно оно попритчилось, глючилось, снилось. Его сородичи и собратья по-прежнему лучились и звали, но кто поручится, что и они на поверку не фантом, не мираж, не морок? Любую далёкую, удалённостью своей наглухо защищённую звезду можно, выходит, затоптать – и необязательно кованым сапогом, а просто ширпотребовским ботинком отечественного производства… и даже голой ступнёй, если ты не пропускал подпольные тренировки каратэ и исправно платил по пять фертингов за каждую.
Музыка сфер – равномерна и равнодушна. Она не про тебя. Абсолют непостижим и срать на тебя хотел. Ну его.
Похолодало: задул борей. Взгляд соскользнул с чужедальних небес и упёрся в пленительное чрево сада. Там в чёрных шелестящих плащах совокуплялись Царица Ночи из оперы «Волшебная флейта» и плачевно-пресловутый Князь Тьмы. Конрад захлопнул окно, назло Канту пошурудил руками меж чресел и захрапел в три дыры.
6. Волшебная комната
Настал день избавления, и запоздало воздалось утомлённой, истощённой земле, когда взяло передышку утомлённое солнце. И расхлябились хляби небесные, рассупонилось и рассопливилось, и если бы жив был папаша Ной, он засучил бы рукава для постройки ковчега. Серело небо, размякла земля – измождённая любовница, увидев, как гнев всевластного её повелителя сменился на милость, была ещё способна испытать оргазм. Лило, лило на всей земле, во все пределы – мерно барабанило по отяжелевшим листьям, чертило извилистые потёки на стекле,
Печальна была атмосфера, плачевна аура, кручинна серая мга, тяжёлые тучи наползали одна на другую. И весь день казалось, что это вечер, пока не приходил настоящий вечер и на голову людей гильотиной не спускался мрак.
Простуженный Конрад в старой плащ-палатке, найденной в закромах сараев, кашляя и хлюпая, подставлял себя струям, и, пытаясь защитить капюшоном беззащитный огонёк сигареты, сосредоточенно ждал всадников.
Потому что когда чёрные дубы и чёрное беззвёздное небо, есть резон вглядываться в густую завесу дождя, чтобы увидеть чёрных мокрых всадников на измученных белых конях.
С непроницаемыми суровыми лицами, в непробиваемых блестящих латах, с нержавеющими копьями наперевес, без биографий и пространственно-временных привязок, под багрово-чёрными знамёнами, скакали они мимо участка, сквозь струи и хмурь.
При этом Конрад прекрасно отдавал себе отчёт в том, что апокалиптические всадники были никто иные как его новые друзья-логоцентристы, они же логососы. Он предпочитал видеть их именно в этой, иносказательной ипостаси – и тем неохотнее он ходил на рандеву с ними дословными и буквальными. Бесконечные рассказы о боевых подвигах, экспроприациях и реквизициях несказанно утомили его.
Однажды по пути к водокачке Конрад остановился перед одним из домов. Он впервые обратил внимание, что перед воротами, оказывается, день-деньской сидит ветхая усохшая старушка и торгует вязаными изделиями – очевидно, собственного производства. Сейчас эта продукция была прикрыта большим куском полиэтилена, но глаз Конрада, натренированный долгим вглядыванием в дождь, быстро опознал среди самопальных блузонов, батников и кардиганов до боли знакомый предмет. Он подошёл к старушке, попросил снять покров и вгляделся в заинтересовавшую его вещь. То была длинная белая шаль с затейливым узором, который – Конрад был готов дать руку на отсечение – в точности повторял рисунок шали, ежевечерне украшающей плечи Анны. Это обстоятельство так потрясло Конрада, что он ничего не мог объяснить вязальщице, которая на все лады расхваливала свой товар и была премного рада всякому потенциальному клиенту. Он молча задёрнул полиэтилен и пошёл себе дальше.
Чёрные дубы, чёрные облака, иссиня-чёрное небо. И озарённые внезапной молнией, чёрные мокрые всадники на усталых белых конях.
Всадники проскакали мимо.
С вороного коня лыбился, гикая и ухая, Поручик. На белом коне – волосы параллельно земле – восседала Анна.
Наверняка немалых трудов стоило Поручику взять напрокат двух холёных кормлёных коней из Дома Штаб-офицеров ради забавления Прекрасной Дамы. Была бы у Конрада шляпа, он бы её снял.
Анна павой плавно плавала по участку и старалась, чтобы их с Конрадом траектории по возможности не пересекались.
Оттаивание Анны к Конраду прошло так же внезапно, как проявилось. Она общалась с жильцом по-прежнему через Стефана, большей частью, посредством записок.
На руке у Анны было несколько шрамов – она любила прижигать кожу спичками – просто так. Все всегда удивлялись, и только по той причине, что думали – этот материал огнестоек, негорюч.
Профессор Клир вспоминал: он один голосовал против всех. Против исключения одного изрядно хорошего человека из рядов. Это был мужественный поступок, каких его послужной список включал немало. Но гордиться было не время – в комнату кто-то входил.
И костлявая дама с косой в руках садилась на табурет рядом с кроватью Клира, и он думал с тоской: лучше б уж Конрад. Дама вела с ним задушевные беседы, а профессор Клир слушал вполуха, из вежливости.
Профессор Клир, лирик, король Лир, клирик… Какой он был? Всякий.
И немного взбалмошный. И безукоризненно корректный. И предушевно обходительный. И умеющий крепкое словцо ввернуть. И изящно словесный. И слэнгово-стиляжный. И со вкусом одетый. И чуть растрёпанно независимый. И безрассудно храбрый – хулиганское голоштанное безотцовое детство. И хитроумный тактик. Таски от простодушных городских менестрелей. И от эзотеричнейшего символизма. И Чарли Паркер с Колом Портером. И Букстехуде с Телеманом. И азартный волейболист. И хладноглавый шахматист. И заядлый ходок на международный кинофестиваль. И закоренелый ненавистник телеоболванивания. И бывалый турист-водник-альпинист. И запойный бездвижно-библиотечный трудяга. И несгибаемый, гораздый до лошадиных доз чемпион факультета по возлияниям. И столь же несгибаемый никакими соблазнами аскет-абстинент. И лукавейший обольститель. И благороднейший рыцарь. И Дон Жуан и Дон Кихот. И Вертер и Фауст. И немного от Мефистофеля – бывало, отпскал эспаньолку. Впоследствии предпочитал бороду окладистую, фундаментальную.
Явки-тусовки. Диссидент-подписант. Суперменство-мессианство. Обыски, вызовы, угрозы. Трёхлетняя безработица с проблесками репетиторства, метения улиц и закручивания гаек в ремонтных мастерских. Извечный стыд, смешанный с завистью: в лагерь не упекли, за кордон не выслали; всего-то за двести первый километр.
Сон по десять часов в неделю. Еженощная разгрузка товарных вагонов. Суточный рацион – банка консервов с булкой.
Фига в кармане. Фига наперевес. Фига – знамя над головой. Фига без тени пофигизма.
Донкихоты, ланцелоты шли на дракона, и, когда тот умирал, потому что ничто под Луной не вечно, говорили: поделом, победа… А кругом ползали неприметные маленькие гадючки, откладывали яички, пестовали гадюшонышей.
Дон Кихот перепортил ветряные мельницы. И вся округа осталась без хлеба.
Близится смерть Валленштейна – абзец тебе, Гёц фон Берлихинген – мандой накрываешься, Эгмонт-Кориолан. Корсары-конкистадоры-кондотьеры-флибустьеры-флинты горланят «Йо-хо-хо и бутылка рому».
Мысли Профессора о себе самом были прерваны явлением постояльца.
В этот раз говорил почти один только Конрад – с позиции силы, так сказать. Профессор лишь изредка позволял себе как-то прокомментировать мысль оппонента. А так, вместо диалога получался монолог – много раз продуманный и заранее отрепетированный, может даже, во время óно зафиксированный на бумаге.
– Народ наш не так глуп, чтобы считать кого-то никчёмным пустоплясом лишь потому, что не своим делом занимается. Руки-крюки простятся всякому, у кого голова на плечах. Только клиническим идиотам взбредёт в головы бросать камни в тех, кто рождён разрабатывать новые модели станков, выводить новые сорта пшеницы, искать способы рассеяния грозовых туч и вакцины от смертельных болезней, а в конечном счёте – облегчать жизнь прочим хомо, которые менее сапиенс (включая клинических идиотов). Ибо каждый, кто мнит себя пупом Земли в связи с тем, что весь свой век надрывает пуп, втайне мечтает о башковитом мессии, который избавил бы многострадальный пуп от перегрузок.
– Другое дело, – вставил Профессор, – как распознать его в толпе самозванцев; ведь в Стране Совдепов сплошь и рядом в должности профессора числится завхоз, в должности инженера – счетовод, в должности хирурга – коновал, так что любой «умственный трудяга» с порога вызывает недоверие.
– Но лишь до той поры, – успокоил Конрад, – пока у недоверчивых не заболят животы, не сгорят телевизоры, не заартачится скот. Вот тут-то и выявляется настоящий спец – поможет если не делом, то советом.
– …Пора внести ясность. Говоря о полной неприспособленности интеллигентов к жизни, вызывающей кривую ухмылку у широких масс, я имел в виду не всю пресловутую «прослойку», а лишь одну её часть – небольшую, но главную; её бесхребетный становой хребет.
Их надо искать среди тех, кто пожизненно заклеймён нелепой кличкой «гуманитарии». Так сказать, профессиональные интеллигенты, чьё прямое назначение – рефлектировать об Истине, Добре и Красоте в самое что ни на есть рабочее время.
Азбучная истина: «профессионал» – это не тот, кто просто что-то знает, и даже не тот, кто что-то умеет. Познав родной язык и научившись ходить, ребёнок никакой «профессии» не получает. Профессионал знает и может то, что знают и могут очень, очень немногие. Если работник легко заменим, значит его работа – не «профессия», а «должность».
В эпоху поголовной грамотности все – от мала до велика – умеют читать. Так же, как все умеют сидеть на стуле, разносить и подписывать бумаги. Однако «вахтёр», «курьер», «зам. по кадрам» в интеллигентском понимании – «должности», а вот «редактор» и «критик» – «профессии». Но скажите пожалуйста – кто такие «редактор» и «критик», как не обыкновенные вдумчивые читатели? Что, всякий вдумчивый читатель – уже «профи»?
– Разве вы не знаете, – вскипел Профессор, – что всегда в большой цене были смелые редакторы и честные критики?!
– Могут ли «смелость» и «честность» стать «профессией» где-либо, кроме как в Стране Клинического Маразма? – отвечал Конрад и продолжал:
– …Медик, шофёр, повар – все нуждаются в специальных знаниях, иначе их в шею выгонят. А редактору и критику нужны лишь добротное человечье нутро да знание грамоты – но это и от медика, шофёра, повара (вахтёра, курьера, зама по кадрам) требуется. И многие медики, шофёры, повара (вахтёры, курьеры, замы по кадрам) могут с ходу занять место редактора или должность критика. Редакторы же и критики с ходу могут занять лишь должности, перечисленные в скобках.
А вот, допустим, сидит в своём кабинете шекспировед N и строчит монографию о Шекспире. То есть излагает свои мысли по поводу Шекспира. А что, когда физик Z читал Шекспира, у него по сему поводу мыслей не возникало? Да он с таким же успехом мог бы изложить их на бумаге!..
– Если N – действительно стоящий шекспировед, – перебил Профессор, – то собственные впечатления он соотносит с культурно-историческим контекстом. То есть с книгами других шекспироведов, с книгами современников Шекспира и вообще со всеми книгами, читанными в течение жизни…
– Так ведь кое-какие книжки и Z читывал, – заверил Конрад. – Может быть, количеством поменьше, но разве количество волнует потенциального читателя?
– …Вон любой историк – знает бездну всего интересного. Но признайтесь, есть ли среди этой бездны нечто более интересное, чем красочное описание вашим простым смертным приятелем своих приключений в недавней командировке? Что нужнее любителю всяческих историй – знание, где, что, почём или знание перипетий пунических войн? (Хотя, может быть, знание приёмов бокса – всего нужней…).
Кроме того, очевидно важно не только, ЧТО рассказано, но и КАК рассказано… Напрасно, однако, думать, будто изящная словесность – прерогатива одних лишь писателей да журналистов. Взять хотя бы одного рабочее-крестьянского народного депутата, точности и сочности выражения мыслей у которого могли бы поучиться виднейшие интеллигентские литературные кумиры. И не только у него… Общим местом стало сетовать на то, что словарный запас столичных газетчиков втрое меньше, чем у пошехонских крестьянок. А послушайте, какими отточенными формулировками сыплет урла перед тем, как съездить вам по яйцам…
– …Надо знать приёмы бокса, а ещё лучше – владеть ими. Чего стоит фундаментальная наука без разработанной на её основе прикладной? Из «неточных наук» психология на первый взгляд – самая в этом отношении стóящая. Решая вопросы социализации и жизненной ориентации – как без неё обойдёшься? Но скажите-ка, кто лучший профессионал-психолог – обладатель соответствующего диплома, стонущий под башмаком стервы-жены (единственной в его жизни женщины) – или тракторист с пятью классами сельской школы, под дудку которого пляшут на цырлах, кроме жены, ещё шесть любовниц?.. Кто возьмётся утверждать, будто случай кого-то из этих двоих – нетипичный?.. Общеизвестно же, что те, чья должность – спасать других от самоубийства и сумасшествия, чаще всех кончают жизнь самоубийством или сходят с ума…
Конкурировать с ними по этой части могут разве что профессиональные праздномыслы, которые только и умеют, что «объяснять мир» (хорошо ещё, что мало кому из них взбредает в голову «изменить мир»). Если уж на то пошло – любой бывалый ветеран ударных строек больше петрит в устройстве мира, чем десять самых пытливых философов, взятых вместе. Философы по-настоящему знакомы лишь с устройством газовой конфорки: на случай, если мир так и останется необъяснён.
Сколько прошло по земле химиков, инженеров, программистов, смыслящих в музыке, литературе, социологии – и никогда не учившихся в гуманитарных вузах?
Но видел ли кто-нибудь живого музыковеда, филолога, социолога, сколько-нибудь смыслящего в химии, сопромате, программировании – если только когда-то это не было его основной специальностью?
Каждый может назвать десятки случаев (из жизни знакомых либо знаменитостей), когда технари и «естественники» бросали прежнее поприще и становились гуманитариями. Но кто слышал, чтобы когда-нибудь бывало наоборот? Гуманитарием быть слаще? А может быть – проще?
И, кстати, совершенно очевидно, что средний гуманитарий с технарским (или рабоче-крестьянским) прошлым – гораздо лучший гуманитарий, чем средний гуманитарий «изначальный»… Не значит ли это, что последний – отброс общества по всем статьям?
Нет, честное слово, кто же он такой, как не праздный небокоптитель, человек без профессии или – так правильней – «человек по профессии». Гуманитарий – не профессия, а крест. Но чего стоит «человек», не способный ни гвоздя забить, ни порох выдумать? Что он может дать остальным людям, кроме того, что им и так дано (а если кому-то не дано, то чем он-то поможет?).
Я бы вот как сказал: интеллигент постольку социабелен и постольку жизнеспособен, поскольку в нём жив «негуманитарий».
– Зато гуманитарии имеют дело не с временным, а с вечным; с глобальным, а не с локальным, – воскликнул Профессор.
– Гм. С чем таким «вечным» и «глобальным» имеют дело посредственные литераторы, заурядные библиографы, рядовые экскурсоводы, у которых есть кой-какие познания, но совершенно нет озарений… а ведь это 99% гуманитариев, если не все 100%...
– …Чтобы чувствовать себя полноправным членом общества, – продолжал Конрад, – инженер вовсе не обязан быть Эдисоном, шахтёр – Стахановым, модельер – Карденом. И даже многие, занимающие доступные всякому «должности» – скажем, занятые в сфере обслуживания – пользуются уважением сограждан за одно то, что – необходимые винтики социального механизма. Но историк должен быть Тойнби, психолог – Фрейдом, писатель – Солженицером, чтобы общество хотя бы обратило на них внимание. То есть нужно предложить народу (или человечеству) этакую новую ультрасенсационную истину, смахивающую на Божественное откровение. Но, как известно, в гуманитарной сфере всё новое – это хорошо забытое старое, и удивить просвещённую общественность всё сложней (а кто нынче не просвещённый, в эру информационного обвала?).
Изгои социума, гуманитарии могут чувствовать себя уютно разве что в эфемерных субэкуменах, среди себе подобных.
Даже самый творческий, самостоятельно мыслящий гуманитарий – всего-навсего квалифицированный игрок в бисер, раскладчик пасьянсов из давным-давно высказанных кем-то мыслей.
А большинство – просто коллекционеры сведений и мнений. Притом среди собранных сведений – масса ненужных, а среди собранных мнений – масса неверных.
Единственная продукция, которую способны выдавать эти паразиты – письменные, а чаще устные – тексты, общественная полезность которых выражается когда нулём, когда отрицательной величиной.
Вестимо, иметь что-нибудь против текстов вообще («забрать все книги бы да сжечь») – глупо: многие из них обществом востребованы. В первую очередь те, что несут ценные сведения и верные мнения: как клеить обои, как бороться с тлёй, что принимать от ангины. И ещё те, что несут положительный эмоциональный заряд – здоровый смех (юморески), половое возбуждение (порнороманы), приятную щекотку нервов (детективы). Но в текстах гуманитариев любая «мысль изреченная» есть по условию – ложь; сведения они содержат либо бесполезные (сколько симфоний написал Моцарт, кто победил при Ватерлоо, в чём расходились Кант и Гегель), либо никаких (вся эссеистика). А что до эмоционального заряда… хорошо ещё, когда в сон клонит, а то бывает, что и сердце ноет и под ложечкой сосёт. Нелицеприятные факты, мучительные сомнения, горькие прозрения… Кто, знакомясь с подобными текстами, не испытывает скуки, испытывает страх и сострадание – наитягчайшее из страданий. Куда ты завёл нас, Сусанин, читавший Аристотеля? Не видно ни зги – далёко ли катарсис?
Слишком долго надо страшиться и страдать, прежде чем очистишься и просветлишься. Целый век пройдёт – а к смеху сквозь слёзы так и не пробьёшься…
– По-моему, – сказал Профессор, – вы толкуете не об интеллигенции вообще и даже не о гуманитариях вообще, а о себе.
– И о себе, конечно. Не о вас же – я же знаю, что вы по первой специальности физик.
– И как вы думаете: я с бухты-барахты бросил свою физику и пошёл в гуманитарии?
– Вы умеете развести ручную пилу?
– Да… Но…
– А раз вы умеете развести пилу, то могли позволить себе любой каприз.
– Значит, мой уход в историки – каприз?
– Угу…
– А кто вам мешал научиться разводить пилу?
– Неспособность. Бездарность.
– И тогда вы ушли из гуманитариев… В солдаты.
– Ну, я не только солдатом был…
– А чем вы занимались как гуманитарий?
– После учёбы в аспирантуре был какое-то время…
– Интересно, интересно!.. На какой кафедре, какая тема?
– Кафедра зарубежной литературы. Писать я должен был об одном русском поэте.
– Пушкине?..
– Нет, конечно. О Пушкине миллион диссеров написан. Такими китами – Ханга, Конеген, Чхартишвили… что тут нового скажешь?.. Нет, я поэта выбрал современного, малоизвестного – Михаила Щербакова… Он больше как автор-исполнитель засвечен, под гитару свои песни поёт…
– Не слыхал. При этом я большой любитель русской поэзии. Сколько лет-то ему?
– На два года старше меня. Он – человек непубличный, это позиция. Интервью не даёт, по радио-телевизору свои песни петь не разрешает…
– Интересно, интересно… И этим он вас привлёк?
– Нет, привлёк он меня тем, как русским языком владеет. У меня первый иностранный язык был – русский. Так вот: что он с этим языком делает, как слова подбирает, какой образ из них строит… Не образ словами выражает, а от слов к образу движется.
– И что ж вы не защитились?
– Я написал о нём очень много. А потом увидел – всё мною написанное вовсе не о Щербакове, а обо мне. О том, что лично мне у Щербакова созвучно. Между тем как толковать его можно и прямо противоположным образом – как противовес мне, как голимый постмодернизм, безответственную игру в слова…
– Ну знаете… Раз уж пошла такая пьянка… Раз вы о русском постмодернизме заговорили… Вы, кстати, заметили, что дочка моя всё не идёт – а мы уже с вами битый час трепемся.
– И правда, что это вдруг?
– А уехала она на сегодня, вот что… Уехала и все ключи с собой забрала. Она не знает, что у меня ещё один ключик от одной комнатки есть. Запретной. Для вас запретной. А я всегда доступ к ней иметь хочу, вот я и подговорил Стефана дубликатец мне сварганить. Вот!.. – и Профессор извлёк из-под подушки невзрачный типовой ключ. – От меня – вторая дверь. Открывайте и ничего не бойтесь. Во втором справа шкафу, на третьей полке сверху найдите крохотную книжицу стихов. Постмодернизм. Перевод с русского.
Ключ не сразу послушался Конрада, но с третьей попытки дверь таки поддалась, и Конрад очутился внутри комнаты, где царил полумрак. Впрочем, свободного пространства в этой комнате было очень мало. Он нашарил на стене выключатель, щёлкнул им и замер, сражённый великолепием открывшейся ему картины. Плечом к плечу высились здесь старинные дубовые шкафы, и каждый под завязку был забит книгами, пластинками, альбомами по искусству, перед которыми красовались потемневшие иконы, деревянные статуэтки, языческие обереги, диковинные камни, причудливо ветвящиеся кораллы. В центре комнаты оставалось место для небольшого изящного столика, уставленного тяжёлыми резными канделябрами, и между них лежали толстые фолианты в кожаных переплётах – однотомные собрания сочинений отечественных классиков, изданные более ста лет назад.
Да, в самом сердце этого букинистического, антикварного и раритетного собрания не было ни Книги Легитимации, ни Книги Понятий – но не было впечатления, будто чего-то главного в комнате не хватает.
Потому что всё вместе претендовало на то, чтобы содержать в себе легитимацию и понятия всех прошедших и проходящих по Земле народов, сословий и индивидов.
Здесь было всё.
Эпохи, стихии, стили, стихи. Толстой с тонкой душой и доставала Достоевский. Инь, ян, фарфор, фаянс, сафьян, кальян. Мотеты, гавоты, сарабанды, алеманды. И пасторали, и багатели, и менестрели, и пастели. Сказки Кафки, феерии о феях, фантасмагории о Фантомасах, фатумах, фантомах, формозах. Мифы, скифы-сарматы, саркофаги, антропофаги. Хризантемы и хризолиты и Хризостомы. Отец церкви Ориген, Лаэртский Диоген, творящий абориген. Боттичелли, пустота Торричелли, Нина Риччи, Козимо Медичи. Мириады пирамид, культы кельтов, бивни маститых мастодонтов и мамонтов. Канцоны, рубаи, сонеты, Рубинштейна концерты. Шумный Шуман, шептала Шопен, Шуберт под шубой, Шопенгауэр, Шеллинг, Шлегель, Шлейермахер и фрейдовский вивимахер. Стигматы, схизматики, харизматики. Схимники, алхимики, химеры, Гомеры. Гермес Трисмегист, герметика, трилистник. Феноменология и фенология и френология, каббала и «Кабала Святош». Спиноза с логикой, и гностики с логосом, и мистики с мистериями, и мистагоги-демагоги. И сатировы драмы, и бродяги Дхармы. И маски с острова Пасхи, и пасхальные песнопения первохристиан. И афинские амфоры, и аморфные морфемы. Лики мужей великих, блики близких, глюки Глинки и Глюка. Порфиры, просфоры, просвирки, сапфиры. Идолы и идеалы. Идиомы и идеограммы. Муар и мрамор. Мазохизм-исихазм. Феофан Грек и Эль Греко. И Рамакришна, и Кришнамурти, и Флоренский и Флоровский. Германские романтики, романские герменевты. Категорический императив и зависимый инфинитив. Палимпсесты и палиндромы. Левиафан, Лоэнгрин, Лотреамон. Вицлипуцли, Винни-Пух и Вилли Винки. Гоголь и Гегель, Бебель и Бабель, Гог и Магог и гоголь-моголь. Гобелены, молебны, глыбины и Голыбина. Бисер, бирюза, бирюльки, бусинки. Эдуард Мане, Клод Моне, законы Ману и манихеи. Хокку и Хокусай – всех покусай. Янтарь, яспис и ляпис-лазурь. С понтом Кант, с пунктом Конт. Кифары, факиры, фиакры, кафры. Легионы, галеоны, галеры, Легары. Латынь и литания, санскрит и секстант и стаксель и брамсель. Дуалисты и дуодецимы, невмы и пневма. Вальтер Скотт и гужевой скот. Иеромонахи, иерофанты, гневный Иезекииль и плачущий Иеремия. Импрессионизм и экспрессионизм. Нефы и апсиды, Ниф-Ниф и аспиды. Руны и буквицы, глаголица и кириллица, фита и ижица. Грифоны и гарпии, струфианы, скарпии. Драгуны, уланы, доломаны, дольмены. Шкиперы и клиперы. Фиоритуры и фиорды. Апокалипсис и апокатастазис и мимезис и катехизис. Этносы, этос, Эрос и Эос. Экзорцизм и энтузиазм. Квазимодо и квазичастицы. Подпоручик Киже и маковки Кижей. Буколики, бурлески и арабески. Ицзин, Шицзин и прочий дзынь-дзынь. Исаак Сирин, Ефрем Сирин, Сирин и Гамаюн и Алконост, и акафист, и анапест, и амфибрахий, и амфитеатры, и амфибии, и человек-амфибия тож. Сефирот, тиферет, Бафомет. Ференц Лист, Ефрем Цимбалист, вокалисты и кавалеристы. Каватины, сонатины, сонаты, сюиты. Символы, кимвалы, сиквелы, Вампилов, вампиры. Августин Блаженный, Константин Багрянородный, Демьян Бедный, Михаил Голодный, Макс Горький. Дон Кихот, оправдание человечества, и Дон Жуан, его поругание. И народнокнижный Фауст, и марловский Фауст, и гётевский Фауст, и Томас-Манна Фаустус, и всякие другие фаусты, только фауст-патрона не хватало. Скат, вист, штосс, бридж, преф, покер. Фаберже и гжель. Палех-Хохлома, Молох-Чухлома… Сундуки Дориана Грэя, закрома Скупого рыцаря. Хитроумие и заумь. Громокипящие интонации великих трагиков ушедших столетий. Апокалиптические алкания алкашей – о ноуменальном, об абсолюте…
И вот тут-то Конраду пришла в башку метафора Острова. Участок и дом Клиров – доподлинный Остров Традиции в бушующем море беспочвенности. Вокруг Острова воют штормá, воюют неукоренённые маргиналы, плещутся волны переменчивого и случайного – а Остров стоит незыблем. Правда, возможно обрушение цунами, которое поглотит сушу, погребёт под собой духовные богатства, накопленные человечеством в течение тысячелетий, и обратит их в пыль сиюминутности.
Но пока этого не произошло, он, Конрад будет пребывать на Острове. Даже не вороша прошлое, не копошась в его наслоениях, не прикасаясь к его залежам, он будет находиться здесь и вдыхать эфемерные флюиды Традиции и Культуры, потому что у него, у Конрада, больше ничего нет. Его папа с мамой с младых ногтей к этому приобщали, и несмотря ни на какие перипетии личной судьбы, он не может от этого отречься.
А традиция – она одна, нет крепостнически-господских, нет лубочно-крестьянских, нет семитохамитских и антисемитских, индоевропейских и индокитайских, монистических и дуалистических, а есть одна-единственная, примордиальная – если дева, то краса, если молодец, то добрый, если пир, то на весь мир, если же смертушка, то в урочный час, и за нею – воскресение.
А самое интересное вот что: врач лечит, строитель строит, крестьянин пашет, пряха прядёт, моряк корабль ведёт, и что самое удивительное – воин воюет, а правитель правит. И всё вместе – гармоничный ансамбль усилий, сладкозвучная симфония властей. И любое количество ежемгновенно способно перетечь в новое качество, и любой обертон способен стать тоникой, и любая периферия способна причаститься центру. Всяк в своей ячее, но горазд перерасти её и обрести новые свойства.
И везде, повсюду люди ели хлеб, пили молоко, пели протяжные и ритмичные песни, добывали руду и выплавляли железо, рубили леса, сажали леса, строили жилища, строили храмы, вершили грех прелюбодеяния и сочетались законным браком, рожали детей, хоронили умерших на погостах и освящали могилы. И горевали – так горевали, а радовались – так радовались.
Правда, было дело, кололи друг дружку копьями, резали мечами, жгли огнём, били дубинами, пичкали пулями, разрывали снарядами. Но все эти неприглядные поступки освящались традицией, объяснялись верованиями и обычаями, восходили к архетипическим моделям. Только вот когда научились с помощью внезапного полураспада радиоактивной гадости разлучать человека с собственной тенью, стало похоже, что связь времён прервалась. Однако это было не совсем так. Следующим изобретением был от века существоваший кулак, немотивированный кулак…
И вдруг в углу помещения, на узком пространстве стены, свободном от шкафов и полок, среди амулетов, панно и гравюр Конрад приметил богато инкрустированный не то стеклярусом, не то чем-то более ценным, охотничий лук и колчан с несколькими хищно оперёнными стрелами.
Он замер и тупо уставился на непредвиденный предмет. Он бы перенёс, если бы то был примитивный лук туземцев с костяными стрелами, которые совдепские командировочные в избытке привозили из братских развивающихся стран. Но этот лук был сделан из дорогого сорта дерева – незнамо какого – и имел центрующее приспособление, а также удобное ложе для стрел, и тетива была явно сделана из жил кого-то вроде вепря или другого ископаемого парнокопытного, а рядом висел охотничий рог, призывавший немедленно воспользоваться этим орудием индивидуального уничтожения. И стрелы, судя по оперению, были подозрительно похожи на ту, которой без малого три месяца назад была убита Алиса Клир.
Конрад даже думал, не вынуть ли стрелы и не посмотреть ли следы крови на их наконечниках, но не отважился. Достаточно было и того, что колчан был полон не под завязку.
Нескоро в зудящем хаосе конрадова мозга слабо щёлкнуло, что вообще-то он пришёл сюда совсем за другим. Порылся в указанном ему шкафу и нашарил крохотную книжечку в мягкой тонкой обложке. С нею в руке на цыпочках вышел, бережно заёрзал в скважине ключом, осознал, что многократно ещё явится в эту запретную, заветную волшебную комнату.
Возвратился в покои больного.
– Ну что ж, – предвкушающе изрёк Профессор. – Дайте мне сюда...
Конрад подал ему неказистую книжицу, и Профессор торопливо принялся листать:
– Нашёл. Читайте, – ткнул он, наконец, пальцем. – С выражением!
У Конрада сразу заболели связки, но он послушно взял книжку в руки и с натугой прочёл:
«Жил сумасшедший. Целый год
он грустен был и вял.
Но наступал сентябрь – и вот
он словно оживал.
Он по осенним шел лесам,
все листья поднимал
и тщательно на них писал
деревьев имена:
берёза, ясень или дуб,
осина или клен,
– и этот непомерный труд
нёс терпеливо он:
он шёл, а за его спиной
надписанной листвы
вздымались в тишине лесной
шуршащие пласты.
«Я – не творец», – он говорил, –
«своё не создаю.
Что Бог в природе сотворил –
всё свято признаю.
Но ум и письменность даны
мне для того, чтоб я
хранил и в кризисные дни
порядок бытия»[5].
– Ужасный перевод, – поморщился Конрад. – Рифмы хуже, чем «палка – селёдка».
– Зато ритм как выдержан, – уел его Профессор.
Пока Конрад читал, в дверях показался Стефан, явно недовольный данным ему поручением.
– Время! – сказал он ласково, когда Конрад кончил, не желая сознаваться, что сам это самое «время» на добрый час просрочил – Я вам, дядя Иоганнес, обед принёс.
Конрад поднялся со стула, и Стефан сразу принялся прилаживать на него поднос. Только тут Конрад опомнился, что ключ Профессора по-прежнему в его руках.
– Спасибо, мальчик. Благодарность тебе, – сказал Профессор и лукаво подмигнул собравшимся. – А теперь у меня к тебе ещё одна необременительная просьба. Сделал бы ты, Стефан, ещё один ключик от библиотеки – для нашего гостя.
– А стоит ли? – жалобно промямлил Конрад. – По-моему здесь нет тех книг, которые мне нужны.
– Человеку нужны только эти книги, – торжественно изрёк Профессор.
– Я не человек, – поспешил напомнить Конрад.
– Вот не смешно уже… Вишь, вбил себе в башку… А ты, Стефан, как считаешь?
– Я не люблю книжки, – ответил Стефан. – В них всё – неправда.
Конрад обрадовался.
– Вот видите… – сказал он. – Устами младенца…
– Где ты был, когда я был младенец? – обиделся Стефан.
– А вот и не подерётесь, – улыбнулся Профессор. – Конрад, не выёживайтесь. Вам именно этой комнаты здесь и не хватало. Вы же наверняка книгочей, библиофил…
– Да… был…
– И сами писать горазды. Давеча у Анны большущую тетрадь выцыганили.
– Чтобы записывать то, чего нет в этих книгах, – настаивал Конрад.
– Чтобы выражать те моменты, которые не выражены в этих книгах, – не согласился Профессор. – Весь фокус в том, что каждый следующий момент взывает к тому, чтобы быть выраженным, запечатлённым. Поэтому пока Земля вертится, люди будут писать всё новые и новые книги и перекладывать старое на свой личный лад.
– А зачем тогда вся эта мудрость тысячелетий? – спросил Конрад.
– Затем, что человеку нужен диалог. А то вы замкнулись на мне, старом и глупом. А ведь только что видели – потолковать можно ещё много с кем.
– Но ваша дочь… – предупредительно напомнил Конрад.
– Вы думаете, она не знала, что рано или поздно я пущу вас в библиотеку? Не пущать вас туда – это значит голодом вас морить, в чёрном теле держать… Короче, не забудь, Стефан, сообрази-ка ещё один экземпляр ключа.
Пока Конрад укладывал невзрачный сборничек современного русского поэта на место, Стефан стоял в дверях, и Конрад не смел в его присутствии поднять глаза на лук.
Единственное, что стрельнуло в его голове – парню действительно уже не понадобятся сокровища этой Волшебной Комнаты. Ведь у него есть компьютер, а в нём – Интернет, и там есть всё то же самое, даже луки и стрелы, которые понарошку, с лужами виртуальной крови, убивают компьютерных монстров. Всё то же самое, только бесплотное, невещественное – и потому безобидное и ручное, развоплощённое и раз-очарованное.
Раз в квартал на Остров приплывала рябая почтальонка Мария, привозила газеты за последние месяцы. В них, в частности, значилось:
Войска первого Западного фронта успешно отбили наступление повстанцев на X***. Потери федеральных войск составили сто тысяч убитыми, инсургентов – двести пятьдесят тысяч. Достигнут решительный перелом в позиционных боях. В честь победы правительство распорядилось выделить славным соколам-федералам 200 000 рулонов туалетной бумаги, произведённой на специально для этого открытой фабрике в столичном регионе.
В связи с участившимися падениями самолётов принято решение закрыть 9 частных авиакомпаний. Виновные в авиакатастрофах приговорены к высшей мере наказания. Объём авиаперевозок за последние два года снизился на 62%; население предпочитает пользоваться более безопасными видами транспорта.
Участились случаи нападения хулиганствующих элементов на столоначальников разного уровня. Решением парламента каждому столоначальнику был предоставлен личный телохранитель. Однако, к сожалению, молодые, физически развитые люди не хотят идти в столоначальники. Они идут, в лучшем случае, в телохранители для столоначальников.
Указом Президента от 11.07 из юридического лексикона исключены такие понятия как «ненормативная лексика», «табуированная лексика» и «нецензурные слова». Отныне каждый гражданин Страны Сволочей волен в частной и общественной жизни употреблять любые слова, какие он сочтёт нужным. Президентский указ, в сущности, не вводит новую норму, а лишь закрепляет сложившуюся за последние десятилетия стихийную практику.
В Скандинавии в 317-й раз прошёл традиционный ежегодный фестиваль цветов. Местные жители состязались друг с другом в искусстве составления икебаны. Победу одержал 86-летний житель Стокгольма Ян Мин Цзяо, чья икебана протянулась от его личного особняка до городской набережной. Принимая заслуженную награду, цветовод обратился к властям с просьбой снести все столичные здания выше трёх этажей и с прямоугольными формами. Инициатива встретила понимание и поддержку по всей Европе – через десять лет в еврозоне не останется ни одного высотного здания и ни единой постройки с острыми углами, за исключением готических соборов.
СЕЗОН ВТОРОЙ ОСЕНЬ
7. Мифотворцы
Стоял себе терем-теремок, не низок, не высок. Всё лето вчетвером в нём жили-поживали, только что добра не наживали. Да вот одним жителем меньше стало – уехал Стефан в столицу, в школе учиться, выпускной класс заканчивать.
Вместе с ним отбыл и компьютер, в поисковой системе которого Конрад думал навести всякие-разные справки о развитии лучного спорта в губернии. Впрочем, не факт, что он справился бы с поисковиком без помощи владельца компьютера. Нужны были другие телодвижения – какие, Конрад не знал.
Лучилось ещё сверкучее солнце, теплынь-сухмень объяла участок. Но уже похрустывали под ногами сохлые-дохлые жухлые листья, уже подёрнулись прозолотью деревья, уже студило и стыло по ночам; это значило – пришла осень, пусть и в самом щадящем своём, бабьелетнем изводе.
По усыпанным листьями дорожкам бродили Анна и Поручик, всё о чём-то воркуя беседовали. Иногда Поручик впрягался в дела насущные, особенно в те, которых не мог сделать Конрад – косил, латал, чинил. Зрелище власть предержащего, копавшегося и копошащегося на грядках и клумбах было для Конрада непереносно, и ночами из-под его пера выходили словеса задиристые и колючие, уязвлённо-самолюбивые, даром что подчёркнуто вежливые. Разнообразия ради вздумал Конрад пострадать.
«P.S. Надеюсь, Вы с пониманием отнесётесь к тому обстоятельству, что самолично передаю вам сию эпистолу. Насколько Вам известно, я испытываю затруднения по части секундантов, так что не соблаговолите ли Вы любезно порекомендовать мне достойного человека? Впрочем, буду рад и недостойному».
Ещё в час пополуночи он взялся сочинять «сию эпистолу», но пока что (было четыре) лишь постскриптум хоть как-то воплотился в сколько-нибудь удобоваримой формуле. Час ушёл на размышления о том, нужен ли в словосочетании «требование сатисфакции» предлог «о», и два – о сути предмета.
За это время буря искреннего негодования, внезапно, с суточным опозданием, разыгравшаяся в нём, постепенно улеглась. Кипенье оскорблённого достоинства ушло в гудок. И не потому что нечему было оскорбляться – речь шла о достоинстве (или достоинствах) одной весьма достойной дамы, но именно неясность, какое из достоинств было оскорблено и было ли вообще, сушила чернила в затупившемся пере и ставила под сомнение целесообразность мотивировки.
Конечно, в мотивировке Конрад не нуждался. Решительно всё равно, за что или из-за чего подставлять грудь под… Вот-вот, выбор оружия был на данный момент камнем преткновения, ибо выбор оружия он почему-то хотел оставить за собой.
Конечно, в поединке на ножах, шампурах, шпагах, рапирах, эспадронах неловкий, непроворный Конрад не имел ни единого шанса, а огнепально-пороховой вариант был бы чересчур шумен и резонансен. Было, правда, ещё орудие, висевшее на стене в Волшебной комнате, но влагать его в заскорузлые шершавые мужчинские руки претило Конраду.
Насчёт невозможности найти секундантов он тоже кривил душой – любой из логоцентристов с охотой подставил бы плечо в таком достохвальном инициатическом испытании, отмерил бы положенное число шагов и проследил бы за равнозначностью оружия у обоих противников. Но зело не хотелось Конраду впутывать своих подотчётных подопечных в столь интимное дело как выяснение вопросов чести, тем более – неизвестно чьей.
Он понимал, что здесь, в этих краях, хотел бы умереть только от одной руки и в присутствии только одной персоны, но вызов на дуэль в этом случае был совершенно невозможен.
Он начал погружаться в трясину Традиции, кишмя кишевшую аналогами и прецедентами. В прошлом человек, похоже, не успевал как следует позавтракать и поужинать из-за плотной загруженности индивидуального графика текущими рандеву с летальным исходом. С другой стороны, день без красивого поединка считался прожитым зря.
Из «Книги легитимации»:
В истории и литературе институт дуэли сначала был блестящим, безотказным и безошибочным орудием естественного отбора. Наряду с институтом войны, но война в целом для отдельной человеческой особи строилась как цепь следующих друг за другом поединков (детали оставим). В них выживал сильнейший, иногда – хитрейший, то есть тоже сильнейший, но другим концом. Первого традиция превозносила как молодца, второго клеймила как подлеца. Зря, кстати, клеймила: победа за счёт смётки более человечна – шаг вперёд по сравнению с животным миром… хотя что может быть бесчеловечнее Традиции? Кто расторопней штык-ножом махал, тот ей и люб.
Нападать исподтишка и врасплох разрешалось только полководцам во главе армии, и то не всем. Честная разборка между двумя полководцами перед строем подвластных дружин котировалась выше. Со временем – на бумаге брахманы одолели кшатриев, молитвы – меч, а на деле всё оставалось по-старому.
Реальный шанс у брахманов, попов, поэтов появился лишь с изобретением пороха. Долгое время тот, правда, был в дефиците и приберегался для более важных нужд, чем индивида ковырнуть; брахман Арамис по-прежнему шёл на выучку ко кшатрию Атосу, невзирая на «подставь ланиту». Но пришёл час, и огнестрельное оружие стало общедоступным и дешёвым. А пуля-дура не чета штыку-молодцу: верх в дуэлях стал брать не более крепкий и даже не более меткий, а больший любимчик орла, решки и птицы-удачи. Пьеры Безуховы всё чаще валили Долоховых. На этом фоне ревнители Традиции лишились аргументов против разночинной массы, объявившей «дувель» дворянским пережитком. Масса съела и брахманов, и кшатриев, им на смену пришла каста личностей, конклавом коих масса себя обьявила. Межличностные конфликты стало принято решать не-традиционными способами – по суду или никак
Лишь в наиболее традиционной стране кулачное право конкурировало с гражданским. Большей частью, именно кулачное. Новый сорт дуэлей крайне редко приносил летальный исход, суровый, но справедливый; зато он стал шагом вперёд по сравнению с лотереей на шестнадцати шагах. Опять стал побеждать сильнейший. Хотя порой не качественно, а количественно, то есть опять же, не-традиционно сильнейший, но учтём, что в мордобое большее количество липнет к лучшему качеству. Всё-таки не срам легитимности-гуманности-политкорректности…
Если звать логоцентристов в секунданты, надо было поспешать. Те собирались на войну и день-деньской оттачивали своё воинское мастерство, играя в подобие пионерской «Зарницы». В окрестностях Острова была у них настоящая военная база, с неслабым арсеналом всяких убивальных механизмов, от финок до гранатомётов.
Однажды Конрад не выдержал и даже Профессору пожаловался на вызывающее поведение Поручика. Он впрямую высказал обеспокоенность расшатыванием нравственных устоев его дочери.
– А-а! – несказанно обрадовался Профессор. – Запали на мою дочку-то!
– Ну почему сразу «запал»? Я – абстрактно… В принципе.
– Вот только не надо, не надо… – замахал руками Профессор. – Ревнуете ведь…
– Да какое «ревную», – искренне удивился Конрад. – Куда мне против Поручика-то…
– Прибедняетесь? Боитесь жёсткого мужского соперничества? Вы что, всегда таким угрюмым мизантропом были? Ни в жисть не поверю! За девушками бегали, стихи писали…
– За девушками бегал, но они от меня ещё быстрее бегали. Стихов не писал – не умею…
– Ну в прозе… дневник вели…
– И дневник не вёл. Не в радость кошмарики свои обсасывать… Так может быть, Вы поговорите с Анной-то?
– Э нет, брат, дудки… Тут уж действуйте сами, любезный!
– Так ведь Поручик чином выше меня… Я – его подчинённый. И вообще: поставить нас рядом, так кого женщина скорее послушает?
– А если он такой орёл, чем вы недовольны? Пора бы моей дочке да пристроиться… Четвёртый десяток уже…
– Но Поручик – вроде как представитель кровавой гебни. Не пара ей…
– Ошибаетесь! Несложные нумерологические вычисления... – профессор скоренько, но грамотно провёл на салфетке сложение. – Получается четыреста тридцать восемь. Четвёрка – число надежды и одновременно фиолетового цвета. Тройка – число крепости и фундаментальности: три богатыря, три кита, три свисалки между ног у мужчины. Восьмёрка – число хитролисости. А четыре плюс три плюс восемь – магическое число северо-запада. А вы говорите!...
– Ну и?..
– А вот что любопытно... Хе... Хе... – старик вновь углубился в подсчёты. – В фамилии «Петцольд» получается двести двадцать. Ваше число, делённое на два и плюс единичка. Она-то всё и решает. Да плюс ещё...
– Что?
– Асциндент у вас в созвездии Кассиопеи. Не слабо так.
– А у него? – машинально спросил Конрад.
– У кого? Ах, у этого... А у него нет асциндента. Зачем он ему?
– А мне зачем?
– А затем, что он – даймон верхней бездны. А вы нет.
– А я кто?
– Если вы забыли, справьтесь в своём паспорте... Да, чуть не забыл: и пятьдесят приседаний.
Конрад ни одного не сделал.
Зато когда он вышел от Профессора, как и ожидалось, его взгляду предстал собственной персоной Поручик. Тот непринуждённо раскинулся в шезлонге и кайфовал.
Конрад зигзагами подошёл к нему и начал путано отчитываться о последних встречах с неформалами. Поручик полуслушал, полуспал и вскоре лениво показал: довольно, мол. После чего выудил из кармана кошель и вложил в потную ладонь Конрада несколько купюр. Слов благодарности он словно вообще не воспринял – откинул голову назад и наглухо сомкнул вежды.
Анна стояла в одном конце лесного участка в тренировочном костюме с начёсом и кедах, свежая и розовая после традиционной утренней пробежки и комплекса упражнений по системе Ивана Бодхидхармы, зарубежной знаменитости. В её руках был снятый со стены Волшебной Комнаты старинный лук. Смотря неуклонно прямо перед собой, она выставляла вперёд одну ногу, разворачивала плечи, оттягивала к соску тетиву, прилагая усилие, равное поднятию пудовой гири, и неподвижно застывала где-то на полминуты.
Сзади стоял не спавший ночь Конрад и двигал челюстью взад-вперёд.
– Тренируетесь?
– Развлекаюсь.
– Вы – вдруг играете в такие игрушки? Хм, хм… это же вообще-то орудие убийства.
– Я не собираюсь никого убивать. Мне нравится полёт.
Стрелы певуче ударялись в повешенный на стене мебельного кладбища дощатый щит и, застревая, служили иллюстрацией к параграфу учебника физики «Затухающие колебания». Потом они угомонялись, и лишь разноцветное оперение дрожало в холодных порывах ветра. Результат Анны тянул не больше чем на норматив кандидата в мастера, но справедливости ради вспомним, что стреляла она не из спортивного лука, оснащённого всякими корректирующими приспособлениями, а во-вторых надо сделать поправку и на сильный боковой ветер. С кучностью попаданий всё было в порядке. Конрад устрашился.
– Дадите попробовать? – спросил он.
– Попробуйте… Да как вы держите-то, да не так, не так… Вот так… Ой, да не так…
Пыжась и пучась, Конрад кое-как растянул тетиву и отпустил её явно не вовремя; она больно шибанула его по пальцу. Стрела обиженно засвистела и исчезла в чреве мебельного кладбища, метрах в шести левее мишени.
– Ха-ха-ха, – зашлась Анна, – слава Богу, что не к соседям. Полезайте теперь в сарай, доставайте. Их у меня мало.
Конрад полез в мебельный сарай, опасаясь, кабы Анна не выстрелила ему вдогонку и долго шарил среди спинок, сидений и ножек, кряхтя и кашляя от пыли. Внезапно рука его коснулась чего-то приятного, вроде бахромы. Он вгляделся в полутьму: то был малиновый вымпел с профилем мускулистого лучника и надписью «Спортивный клуб Землемерного училища им. Людвига Хрубеша».
Эта находка так озадачила Конрада, что он не сразу вспомнил, зачем очутился в сарае. Лишь заслышав приближающийся голос Анны, он опомнился и в панике начал запихивать злополучный вымпел в разорванную обшивку безногого стула.
В это время в проёме показалась кудрявая голова Анны.
– Ну что, без шансов? – спросила голова.
– Ищу-ищу… – прошептал Конрад.
– Ищите, как в голодный год хлеб ищут, – сказала Анна, но понимая, что незадачливый стрелок будет искать до морковкиной заговени, сама влезла в сарай и в два – три движения нащупала стрелу, расщепившую какую-то полугнилую доску. – Вот вы-то точно убьёте кого-нибудь сдуру.
– Вы вообще… не боитесь… доверять мне оружие? – проговорил Конрад сквозь кашель.
– Бояться?.. Вас?..
Тайна смерти Алисы снова взяла Конрада за живое. О ней протяжно нудели перетруженный плечевой пояс и содранная кожа на пальцах десницы. Надо было попробовать распутать клубок, потянув за новую ниточку. Благо завелись деньги.
Перед встречей с неформалами он постучался к старушке-вязальщице. Та встретила его со смесью опаски и надежды – вдруг ограбит, а вдруг, гляди, что-нибудь да купит. Она с порога завалила гостя вязаными изделиями, но тот вежливо отказался от приобретения свитеров и шапок с помпонами, подчеркнув, что ничто материальное его не колышет. Размахивая широко раскрытым удостоверением, он попросил хозяйку без утайки ответить на его расспросы, а уж за ценой он не постоит.
– Да что ж я могу знать-то, голубчик? – искренне удивилась бабуля. – Моё дело маленькое, сижу взаперти да вяжу – только клиентов почти нет… А пенсии я скоро год как не видала – как же мне выжить-то? Ты начальник – может знаешь, когда у нас собес заработает? Исхудала я вся с голодухи-то…
– Про собес я обязательно узнаю, – Конрад прижал руку к сердцу. – А вот вы мне скажите… шали у вас кто-нибудь покупает?
– Шали? Что ты!.. Я их скорее для себя делаю: свяжу – и на стенку вешаю. Вещи красивые, нет спору, только вот не в моде они нынче. При коммунистах-то, почитай, каждая третья в шалях щеголяла, а сейчас все деловые да спортивные – даже не смотрят.
– И всё же… В начале лета у вас в посёлке убили женщину, которая как раз в тот момент была в шали. Слыхали про это?
– Ой, милок, тут много кого убили – не перечесть. А уж тем более откуда мне знать, кто как одет был.
– Она неподалёку от вас жила. У неё ещё сестра-близняшка есть. Кстати, тоже в шали часто ходит, правда, только дома.
– А-а, чего-то припоминаю, – неуверенно сказала бабка. – Три месяца, говоришь, прошло… Да, да, была одна такая… не такая, как все. Точно, точно – в шали ходила. И в пир, и в мир. Очень, кстати, ей к лицу она была. Я для себя всегда отмечала: ишь, какая лебёдушка... Было дело.
– А откуда у неё эта шаль? Не от вас ли? Я у вас недавно точно такую же видел, – перешёл Конрад к делу, совершенно при этом не сознавая, куда он, собственно, клонит.
– Нет, точно нет, – бабка решительно замотала головой. – В шали, ты говоришь, её кончили? В какой – в белой?
– Наверное, в белой, – смешался Конрад. Он ведь так и не рассмотрел фотографию, скрытую за многопудовым столом. – Сестра её – точно в белой ходит.
– В белой, в белой, как пить дать. Всегда она в белой ходила… Слышь, родимый, что я вспомнила-то: последний раз мне удалось продать шаль – именно ей. Только та была чёрная, как сейчас помню. Рисунок такой же, длина такая же – но чёрная-пречёрная, как будто траурная… Вишь ты – как будто смерть свою предчувствовала… Когда, ты говоришь, это случилось?.. Ну вот то-то.
Конрад окончательно потерялся. Он страшно досадовал на себя – что он, вообще говоря, хотел услышать? Что Анна каждый вечер красуется в шали, снятой с трупа сестры? Представить себе такое было бы запредельным кощунством. Хреновый из него следователь. Хватит позориться, пора уходить.
– Она, покойница-то, призналась мне тогда, что сама вяжет, – разошлась тем временем старушка. – И белую шаль, которая на ней, связала, дескать, сама. Но хотела вроде как поддержать коллегу по цеху. Заплатила мне – щедрее некуда… Сказала ещё – есть у неё родная душа, и она бы хотела, чтобы шали у них были похожие.
Конрад уже практически не слушал – скорей бы наутёк. При этом он не забыл вознаградить добрую вязальщицу – хорошо воспитан был. Та несказанно обрадовалась дарованной мзде, и стала убеждать Конрада в качестве бонуса взять у неё вязаный шарф. Напрасно визитёр отнекивался, что он-де вообще не носит шарфов – бабка настойчиво пугала его приближающимися холодами. Шарф пришлось взять.
Логоцентристы праздновали свой уход на войну. Они собрались как обычно под сенью водокачки и культурно выпивали. Настолько культурно, что молодая урла в этот день не осмелилась тусоваться на той же площади. С каждой выпитой чаркой доблестные неформалы шумнели и борзели. Казалось, сейчас отымеют своих девушек прямо на улице.
Был там и Конрад, кефир пил. Логоцентристы кичились перед ним своим бесстрашием и готовностью умереть, звали с собой, сулили щедрую добычу:
– Не впадло тебе горбатить на органы? – вопрошали они. – Да и кем теперь займёшься, как нас не станет? На пенсионерок стучать? Иди с нами на бой кровавый, святой и правый…
– Чем же он так свят и прав? – недоумевал Конрад.
– Тем, что – бой.
Конрад ёжился и деликатно осведомлялся, на чьей стороне собрались воевать ушлые неформалы.
– А не один хуй? – дивились храбрые воины. – Лишь бы булат не ржавел и порох не мок.
Конраду хотелось спросить, чем в таком случае неформалы отличались от презираемой ими урлы, которая, по их же словам, рассуждала так же, но благоразумие брало верх. В такой день, как, в общем-то, и в другие дни логоцентристам меньше всего желалось отвечать на вопросы. Они жаждали утверждений и самоутверждения, причём с восклицательным знаком, длиннющим и толстенным. Подступало буйство и буянство, и Конрад понимал, что удрать у него нет шансов. При этом он отлично знал от своих знакомцев, что первыми куражатся и гоношатся самые воинственные, начиная гасить и мочить своих же, и свои должны почесть это за благо.
Первый звонок прозвенел, когда Лотар – случайно ли, намеренно ли назвал Петера – дураком. И хотя обращения друг к дружке типа «ты, опиздол» были в этом кругу обыденны и произносились почти ласково, заурядная подцензурность, даже вежливость обозначения не должна была остаться без внимания.
– Обоснуй, – веско сказал Петер. – Назови три причины, почему я дурак.
Поскольку Лотар не знал ни одной причины, он просто ударил Петера ногой. Петер в ответ взмахнул своей, и серьёзно потряс противника. И оба затанцевали в боевой стойке, при этом Лотар неожиданно оприходовал своими длинными ножищами ещё двух человек. Через мгновение начался всеобщий махач, в котором все орудовали одними вздымаемыми ногами – красиво, что твой балет. Лотару расквасили хрюкало и на том успокоились. Девицы тут же приложили к разбитому органу тряпку. Но Конрад понимал, что компания толком ещё не набралась, и главное впереди.
Бражничали дальше, духарились больше. Наконец, Курт, как всегда, самый спокойный и невозмутимый, поднял глаза на фонарный столб, на котором уже зажглась тусклая электролампочка, и трубно возгласил:
– Кто лампочку собьёт, тому зачёт!
Клич вождя сразу же был услышан. В бедную лампочку полетели камни, комья земли, зажигалки. Вскоре она испустила последний взблеск и потухла. Вся орда победоносно загоготала, девицы захлопали в ладоши. Все как с цепи сорвались и запрыгали от счастья в наступившей тьме.
– Другие! Другие! Все!.. – не унимался Курт, единственный (кроме Конрада), кто не прыгал, а упористо стоял враскаряку.
И тут же ватага понеслась вдоль по аллее и по посёлку – разбивать остальные лампочки. За ними затопал довольный Курт, ловко обнимая обеих девиц сразу и искусно чмокая то одну, то другую. Конрад как зачарованный смотрел им вслед и стоял, словно в землю врытый. Освещённая зона всё удалялась от него, а гомон сбесившейся оравы не становился тише. Вскоре послышались выстрелы – знать, терпение ждать попадания «с рук» у логоцентристов иссякло. Одна за другой заходились лаем окрестные собаки, не думая о том, что станут следующими мишенями. Посёлок погрузился в полную мглу, в которой слышались хлопки выстрелов, звон разбиваемых стёкол и вой сигнализации переворачиваемых машин. Конрад заставил себя подумать о том, чтобы двинуться с места, и на ватных ногах, спотыкаясь, наобум побрёл к дому Клиров. В руке он держал недопитый пакет кефира, не решаясь бросить его под ноги и усугубить возникший срач. В его голове стучала одна-единственная мысль – о том, как теперь окрестные старушки будут вечерами ходить по посёлку и находить верный путь. Нескоро он доковылял до дома, которого к счастью, логоцентристский погром не коснулся. Он так и не узнал, не стали ли неформалы на радостях стрелять друг в друга – сборы у водокачки раз и навсегда прекратились.
Вернувшись домой, Конрад сразу взбежал на второй этаж. Ему хотелось переключиться. Старик, на его счастье, не спал.
– Я вот что подумал, – начал Профессор, – про грех рефлексии… Рефлексия – не есть ли нащупывание подходящих к пазам штырей? Не есть ли поиск путей примирения с миром?
Конрад ответил: – Однако результат поиска противоположен ожидаемому: дальнейшая эскалация конфликта ущербного человека с ущербной окружающей средой. Интеллигент всё привык домысливать до конца, и, будучи не в ладах со строгой логикой, он получает то же, что и лирический герой «Воскресения»: «Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути».
П.: Бесспорно – рефлексия и аттрактивность сопряжены с подспудным осознанием особого своего предназначения. Но эта претензия на избранничество не имеет ничего общего с манией величия. Ортега-и-Гассет в «Восстании масс», между прочим, разъясняет: «Избранные – не те, кто кичливо ставит себя выше, но те, кто требует от себя больше, даже если требование к себе непосильно». Спрашивать с себя по «гамбургскому счёту» «избранных» заставляет сопутствующее их свободе гипертрофированное чувство ответственности. Знаменита формула «Если не я, то кто же?».
К.: О да. Рефлектирующий интеллигент берёт на себя ответственность за соблюдение графика движения автобусов, за ошибки своего правительства, даже за цветение лугов и мерцание звёзд.
П.: Раздражающая многих интеллигентская интроверсия на поверку являет себя как радикальная экстраверсия, безостаточная разомкнутость на чуть ли не все возможные миры и мирки, включённость внешних миров и мирков в собственный внутренний мир.
К.: Недаром формула «что, больше всех надо?» не менее знаменита. Вопрос о том, благо ли такая «всемирная открытость»: в открытую душу залетает больше плевков.
П.: Тем более, что автобусы по-прежнему ходят через пень-колоду, нещадно вытаптываются луга, а правительство принимает идиотические постановления, запрещающие смотреть на звёзды.
К.: И к интеллигентскому чувству колоссальной ответственности примешивается чувство колоссальной вины. Всё на себя взвалил – и ничего не выдюжил…
П.: Чувство вины? Далеко не у всех! Мандельштам однажды воскликнул: «Поэт не должен оправдываться! Ни перед кем и никогда!»
К.: Так то ж Мандельштам. Провидец, вестник. Мало того, что поэт от Бога – Богом даровано ему ещё и знание того, что он поэт от Бога. Но, во-первых, всем известно, что творится, «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», а во-вторых – как быть подавляющему большинству, интеллигентской массе?.. Тысячи беспутных скитальцев ищут, на что бы опереться, чтобы оправдаться. Пытаются настричь хоть какие-то купоны со своих скромных эрзац-талантишек.
П.: Например, можно компенсировать чувство вины – чувством юмора, самобичевание – самоиронией, благо фельетоны, эпиграммы, пародии и особенно анекдоты пользуются спросом у всех слоёв населения.
К.: Что ж, юмор интеллигенции чёрен, горек и деструктивен – не юмор, а «стёб». И уж самих-то себя прежде всех прочих готовы «застебать» вусмерть. «Трагедия: есть с кем, есть где, но нечем. Комедия: есть с кем, есть чем, но негде. Драма: есть чем, есть где, но не с кем. Драма сволочного интеллигента: есть с кем, есть чем, есть где, но – зачем?»
П.: Думать вредно, от этого с ума сходят…
К.: И жить вредно, от этого умирают…
П.: Вот-вот. Так чем казниться несуществующей виной, не лучше ли вспомнить хрестоматийный пример? Щёлкнули макаку по носу – расстроилась, но стоило, спустя минуту угостить её бананом – возрадовалась, словно щелчка по носу и не было. Наверное, высшим приматам стоит брать пример с ближайших родственников.
К.: Нет уж. Интеллигент знает другое средство избавления от чувства вины. Сплошь и рядом он срывается и падает в субъективный, уютный и комфортный, но абсолютно ирреальный мир – в МИФ.
П.: Шизофреник превращается в параноика?
К.: Да.
П.: Мятущийся Буриданов осёл бросается к одной из охапок сена и – насыщается. Отныне мир чётко структурирован, иерархизирован; чёткая демаркационная линия проведена между белым и чёрным, приемлемым и неприемлемым, своим и чужим, нашим и вашим. Пирамиду ценностей венчает сотворённый из квазиматерии, высосанный из пальца на руке Кумир. И обязательно наличествует его антипод, сотворённый из квазиантиматерии, высосанный из пальца на ноге Антикумир. А сам себе в пантеоне самодельной мифологии интеллигент-капитулянт отводит место героя-Полубога, призванного указывать путь блуждающим во тьме обычным смертным.
К.: А что вы хотите? До сих пор интеллигенция водительствовала массами лишь в тех случаях, когда могла членораздельно провозгласить, кто Сволочь и кому надо всыпать по первое число.
П.: Игра слов: «кто сволочь?»... «сволочная интеллигенция»…
К.: А разве вы, профессор не строили свой мир по лекалам расхожих мифов? Ведь ваш брат судил и себя, и окружающих не по поступкам, а по приверженности той или иной мифологии. Его в последнюю очередь интересовало – добрый ты или злой, храбрый или трус, гений или бездарь. Главное другое – за правых ты или за левых, за консерваторов или за прогрессистов…
П.: Тут всё дело в том, что ортодоксия редко подкреплялась «ортопраксией». Я знал убеждённых «демократов» – жестоких деспотов в масштабе семьи, нетерпимых «плюралистов», сребролюбивых «гуру», христиан-неофитов всегда под шафе, и любителей прекрасного в нечищеных башмаках…
К.: Дело не только в этом. Для интеллигента-мифотворца вопрос «Во ЧТО верить?» куда важней вопроса «КАК жить?». Среднему обывателю насущно необходим не образ мыслей, а образ действий.
П.: Ну почему же? Образ действий мы не раз подсказывали…
К.: Например?
П.: Ну скажем, «действовать, действовать без всякой надежды на успех». Это нас подбодрял из-за бугра неутомимый бунтарь Камю…
К.: … и указывал на измочаленного Сизифа как на пример для подражания. С жиру он что ли взбесился, за бугром-то? Не всё ли равно – что сизифов труд, что мартышкин?..
П.: Явился и пророк в своём Отечестве – длиннобородый огнедышащий Солженицер. «Жить не по лжи», – призывал он свой народ.
К.: И всего-то? Всего-то – всем стать солженицерами? Народная этимология отождествляет «солженицы» с «небылицами»…
П.: А его многолетний оппонент свой императив позаимствовал аж у самого Спасителя, сказавшего Силуану Афонскому: «Держи свою душу во аде и не отчаивайся»…
К.: Как не отчаяться, когда слово-то Божье получаем из третьих рук? Быть может – «испорченный телефон», а может и вовсе – брехня. Нам Христос этого не говорил. Он нам – ничего не говорил.
П.: Народ, конечно, сложных решений не приемлет…
К.: Особенно если они исходят от неврастеников-комплексушников, которые свои личные заморочки выдают за фундаментальные принципы мироустройства, чтобы заморочить всех незамороченных.
П.: А как же «безумцы», навевавшие «человечеству сон золотой»?
К.: Они не в чести, ибо – безумцы.
П.: Но позвольте, дорогой мой, а вы сами разве не мифотворец?
К.: Я-то? Куда мне…
П.: Ну главный-то ваш миф, это то что вы – говно.
К.: Это не миф, а истинная правда…
П.: Замнём для ясности… Потом: вы настолько категоричны в суждениях и непримиримы в полемике… Вы словно забываете – «мысль изречённая есть ложь»…
К.: Нет уж, извините… Где у меня – Кумир? Где – Антикумир?..
П.: Ну, уж Антикумиров творить вы мастер. Вы же ни о ком доброго слова не скажете!
К.: А я, знаете ли, в семантике каждого слова принципиально вижу только денотативный элемент и не вижу коннотативного.
П.: Что за коннотат-денотат? Я, простите, не лингвист, не поспеваю…
К.: Мне в своё время однокурсник разъяснил разницу на примере слов «картотека» и «мудак». «Картотека» обладает только денотацией, а «мудак» – одной коннотацией.
П.: То есть, вы хотите сказать, у ваших слов нет никакой ценностной окраски?
К.: В нашем родном языке сорок процентов словаря имеют оценочную окраску. Попробуй тут выразиться непредвзято, объективно, терминированно… Так вот: если я про кого-то говорю, скажем – «мерзкий гад», то это всё равно что я сказал бы – «приятный симпатяга». Мне всё едино.
П.: Экий вы постмодернист, право… Да только про «приятных симпатяг» я от вас ничего никогда не слышал.
К.: Слышали, слышали. Разве не пел я дифирамбов и панегириков, например, урле, сообществу отважных кшатриев?
П.: Ах да… Вы же схватились за траченный молью миф о Традиции… особенно после того как повелись с выпендрёжными неформалами, которых приняли за кшатриев. Последнее прибежище для разочарованных странников – Традиция. Особенно национальная, перед которой меркнут все прочие.
К.: Ну уж не шейте мне национализм-то… В том-то и дело, что Традиция – вненациональна, универсальна… И схватился я за неё не столько от общения с логососами, сколько после посещения Вашей же библиотеки.
П.: Ну всё равно. Именем Традиции можно покрывать любые безумства и любые безобразия… А мы всё-таки в двадцатом веке живём, двадцать первый в дверь стучится… Конвергенция, глобализм, высокие технологии… а вы за память предков хватаетесь, за седую старину…
К.: Так давайте выбросим все ваши книги, пластинки, альбомы!
П.: Баланс нужен… Баланс Традиции и инновации.
К.: То есть Вы, в принципе, не против Традиции?
П.: Нет, конечно.
К.: Тысячелетиями человечество вырабатывало нормативное представление об Истине, Добре и Красоте, нащупывая равнодействующую бесчисленных заблуждений и кривотолков. Ибо каждый миф всё-таки содержит в себе крупицу правдивой информации о реальности.
П.: А точнее будет сказать: всякий миф – это осколок реальности, абсолютизация её частных проявлений, редукция большого Слона (из индийской притчи о слепцах) до одной только правой ноги, левого уха или хобота.
К.: Усилия тысяч мыслителей, поэтов, юродивых и даже простых смертных из века в век позволяли хотя бы в общих, смутных чертах реконструировать в сознании, подчас даже массовом, целостный образ мироздания. В котором царят благодать и Гармония, а для рефлексии просто нет повода. В котором всё – как в седьмой день Творения – осмыслено и одухотворено, переплетено и увязано, свободно и – закреплено на едином стержне. Тот стержень – «ценностей незыблемая скáла»…
П.: Что же вам мешает исправлять «скучные ошибки веков»?
К.: Угу. Вернуться в лоно Невидимой Церкви, раздувать огонь в алхимической печи или вообще стать скитским отшельником…
П.: Ну да, планета с каждым днём заселяется всё плотней, и всё сложней отыскать тихую обитель, укромный уголок…
К.: Это как раз пустая оговорка. Совсем другое мешает сегодня интеллигенту с головой погрузиться в Традицию.
П.: А что мешает?
К.: А то, что сам он – реконструктор картины мира – места себе в этом мире найти не может.
П.: В кастовой системе, вы хотите сказать?:
К.: Если бы только!... Деятели ренессанса долго верили: книжная премудрость и «традиционная» образованность позволят всякому занять командные высоты в социуме и уж по крайней мере – легко ступать по жизни… До тех пор, пока Рабле, их собрат по тусовке, не вывел своего Панурга, который при всей своей безусловной аттрактивности и премудрости всё равно оставался гол, бос и никому не нужен.
П.: А что же вы хотите? Сами же признавали, что интеллигент – это человек воздуха. Он должен учиться ступать по жизни без опор и костылей. Держаться ни на чём.
К.: А разве не об этом все ваши вумные книги? О ни о чём. То есть, о ничём... Тьфу ты, о НИЧТО!!! Они предлагают растворение в ничто как последнее слово мудрости.
П.: Ну это разве что для буддистов ничто – идеал, высшее совершенство, цель… Есть же и жизнеприемлющие, жизнеутверждающие традиции. Возьмите христианство, как его понимал Достоевский. «Жизнь полюбить более, чем смысл её», – говорил Алёша Карамазов. А брат его Иван с его «клейкими листочками»…?
К.: …и «дорогими могилами». Пустое это всё. Последыш Достоевского, Белибердяев назвал бы это «прельщением и рабством у природы»… У него вообще всё – прельщение. «Социальное прельщение и рабство у общества… прельщение культурных ценностей… эротическое… эстетическое… собственности и денег…». Даже «рабство у Бога»…
П.: Ибо человек значительно шире! Личность есть микрокосм, точное отображение макрокосма – вот главная мысль Бердяева.
К.: А КОНКРЕТНО, конкретно-то что есть в этом микрокосме? Вон – тикают часы, напоминая, что в сутках двадцать четыре часа, и что суток впереди ещё много, да с каждым днём всё меньше… а я до сих пор не знаю, чем их заполнить!
П.: Но это, понимаете ли, «дурное», «историческое» время, а есть ещё время высшее, «экзистенциальное».
К.: Как же это «экзистенциальное» почувствовать? Побольнее ущипнуть себя, что ли?! Вот «экзистенциальная фрустрация» – это я понимаю. Это единственное, о чём мне сообщают ходики.
П.: Мне-то они сообщают другое: через минуту сюда войдёт Анна. А кстати, Конрад… вы слышали? Король Непала издал указ, что гражданином Непала является всякий, сделанный не палкой и не пальцем…
Конрад посидел ещё секунд двадцать, безжизненным горбатым изваянием. Секунд через двадцать он откланялся.
Ночью он собрался с силёнками, подналёг и таки отодвинул от стены монументальный стол. Хватая воздух ртом и думая, не заработал ли грыжу, он рассмотрел, наконец, чёрно-белое газетное фото мёртвой женщины с шалью на плечах и со стрелой в груди. Шаль была белая.
8. Город Крысожоров
Анна сказала Конраду, что надо ехать в город. Газ, лекарства, хавка, какая будет, удобрения и проч. Боится оставить отца одного.
Ломало Конрада ехать за триста километров, но он не стал ломаться. Речь шла об одном из шести оставшихся губернских центров, где ещё не был введён комендантский час.
И Конрад послушно кивал, пока Анна расписывала ему на четырёх листах по пунктам и в деталях, куда и зачем пойти. И говорил: «Бусделано».
Хотя про себя думал: дай-то Бог, третью часть сделаю. Что вчера казалось с грехом пополам выполнимо, сегодня острая проблема, а завтра – несбыточная мечта.
Взял он рюкзак, складную тележку, деньги и список задач сунул в персональ-аусвайз, тот – в потайной карман, и – в путь. Анна ещё «с Богом» сказала.
На станции – столпотворение вавилонское. Рейс до губернского центра – единственный, раз в три дня. И всем туда надо, именно в губернский центр, там можно встать в километровую очередь за хлебом, за спичками. Уже и в окружных центрах нет шансов достояться.
Едут, едут люди, хотя опасно в Стране Сволочей ездить поездом – что ни день, то крушение, что ни ночь, то бомба террористская. А если невредим доползает состав до места назначения, то сразу после высадки пассажиров по вагонам проходит полицейский патруль и выгребает накопившиеся за время рейса трупы – задохшихся, задавленных, зарезанных-прибитых, ну и свежих жертв алкогольной интоксикации – в этой давиловке кое-кто от делать нечего и за галстук принимать умудряется, даром что галстуки – символ относительного процветания – канули в Лету вместе с самим этим процветанием.
Издавна такое патрулирование является в Стране Сволочей доброй традицией. Только раньше осуществлялось оно по вечерам, по ночам, большей частью по выходным. Теперь – круглосуточно. И каждому пьяному ёжику известно (о кротах и говорить нечего), что у каждого вокзала оборудована большая братская могила, обнесённая колючей проволокой. Обелиски, увы, здесь не предусмотрены, нет даже табличек с именами павших – можно подумать, забот у полиции мало, кроме как устанавливать чью-то искорёженную личность.
Перед платформой наперебой предлагали свой остродефицитный товар самостийные коробейники: кто зипун на рыбьем меху, кто пуд радиоактивной картошки, кто самодельный ствол.
Героические девушки, вымазанные в самодельном макияже, сидели тут же в рядок, нога на ногу; цену себе они знали точно и мелом написали её на подошвах. Героические – не только от «героин»: во-первых оделись символически-эфемерно, не по сезону, во-вторых, всем своим видом показывали, что нипочём им ни государственная полиция нравов (учреждённая президентским указом), ни кровожадные нравы клиентов, ни даже разбушевавшийся, вышедший из берегов, взявший курс на геноцид людоедище СПИД.
К Конраду ринулась грязно-пёстрая гадалка. «Всё скажу, касатик, всю правду расскажу». Он прибавил шаг, почти побежал и, оторвавшись от назойливой преследовательницы, смешался с толпой.
Человек восемь очень молодых людей полулежали у входа в станционное здание. Юноши мрачно молчали, хмуро щурились, щербато щерились, пропускали через угреватые закрюченные носы косячный дым и копили в закопчённых лёгких материал для смачных харкотин. Конрад аккуратно перешагнул через них, целеустремлённо закусив губу и глядя, по возможности, вдаль. Никого не задел, надо же…
Внутри, на единственной лавке с ногами сидела древняя усохшая старуха и, мужественно хрипя, содержательно беседовала сама с собой. Конрад, проталкиваясь мимо, успел сосчитать её семь или восемь зубов.
На миниатюрном сундучке два рано заматеревших Геркулеса самоотверженно резались во что-то азартное. Одному из них через плечо робко заглядывал тонкошеий дебилорожий солдатик.
Конрад взял себе билет – крохотный кусок фанеры с печатью какого-то ведомства, не факт, что железнодорожного.
В ожидании поезда (оставалось минут сорок) Конрад укрылся поодаль, в небольшом леске – надумал курить, а к курящему всенепременно кто-нибудь да пригребётся, тут либо угощай всей табачной наличностью, либо сам угощайся звездюлями, а то и пёрышком.
Был и другой резон уединиться: из переполненного потайного кармана Конрад выудил две фотографии, а выставлять их на всеобщее обозрение не хотел.
С фотографий смотрели на него две девы.
Ну да, во время оно у Конрада было две жены. Обе ему ровесницы, одной на фото было девятнадцать, другой – двадцать два.
Луиза – студёная, худющая Царевна-Несмеяна, бледно-тонкокожая, насупленная, напряжённая, партизанка перед расстрелом.
Натали – крестьянской кости, носом покороче, лицом покруглее, и то не лицо, а tabula rasa, бери грифель и черти письмена, какие хочешь.
За каким фигом таскать во внутреннем кармане укоризненные физиономии ушедшего, к чему это самосожжение, этот мазохизм, любезный Конрад? Ведь никаких светлых воспоминаний не навевают эти неулыбчивые лица. Лица безответных терпеливиц, терпению коих однажды приходил конец. Ведь они по два года жизни потратили на тебя, они одни составляли твой круг общения, редуцированный до точки. Ты хотел воплотиться в этих людях, отразиться в их зрачках, навести мост между собой и не-собой. Только успешное решение этой задачи могло бы согреть тебя сейчас, спустя годы, но… ни следа тебя, Конрад, нет сейчас в этих женщинах. Ни ломтика, ни крошки. Они выжили лишь постольку, поскольку им удалось преодолеть тебя в себе, вырвать тебя из себя с корнем. Всё воспоминание о тех временах – не они, а ты с ними… А какой же ты был с ними, они сволочным языком сказали тебе на прощание… и если б не сказали, ты всё равно сам знаешь, что именно такой и был, даже хуже. Хотя хуже некуда.
А дело вот в чём: мудрые языки много раз намекали тебе: не вспоминай, как всё кончилось, помни, как всё начиналось. Ведь они обе и только они были с тобой, говорили – тебе – утешительные слова, обращали – на тебя – утешительные глаза, протягивали – к тебе – утешительные руки. Тогда ты ждал большего, ждал невозможного. Твоя чёрная неблагодарность вдребезги разбивала чужую спонтанную, немотивированную доброту. Но эта доброта – была… Помни это. Да, ты так устроен, что завязку воспринимаешь лишь как первый шаг к развязке, но если ты не научишься помнить – ты должен научиться! – эти две завязки, что ж тебе тогда остаётся помнить?
…Вроде никто не заметил, как в гуще желтеющих крон расплылся сизый дымок. О'кей.
Спрессованный в гуще потных тел, Конрад был собой более или менее доволен – выбрал угол, где всё больше дедульки с бабульками, и вероятность приключений меньше. Дедулькам да бабулькам в среднем лет по сорок пять – скоро и ты, милок, дедулькой станешь.
Порядок, смирно ведут себя старикашки-старушки. Никто не пытается стянуть с тебя носок на предмет ограбления или расстегнуть ширинку на предмет содомского греха. Даже рюкзак за плечами их не дюже трогает, благо он покамест пуст. Вот складная тележка немилосердно режет голени – это безусловный минус. Перегрузкам подвергается и грудная клетка, ну да зато голова… о, голова абсолютно свободна. Плюнь на всё и предавайся возвышенным мечтам.
А коль скоро таковые несбыточны, а несбыточное тебя не колебёт, вспоминай о жёнушках своих дражайших, о спинках их бархатных, о сиськах шёлковых, о… о…
Э-э, а вот это напрасно… Созрел, набух, налился под штанами колосок, воткнулся между рёбер рядом стоящему коротышке. Трение плюс воспоминания… Что-то будет… Э, коротыш, да ты никак спишь? Стоя спишь аки слоник, и шкура твоя непробиваема, как у слона? Ну и прелестно, а я слона рожаю, вон и хоботок ползёт… Ты расти, расти, мой слон, словно ясень или клён, вот такой длины, вот такой толщины… Я вас всех, интеллигентно выражаясь, эбал.
След Луизы Конрад давно потерял. Просачивались сведения, ухватилась за первую же залётную пиписку. Может, разжалась, разблокировалась, раскомплексовалась. Может, нет… Лет шесть назад вроде видел её из окна вагона – мимоездом: она, не она?... А вот Натали… Та по времени была ближе, воспоминание о ней свежее… после армии Конрад взялся наводить справки не только о Профессоре Клире. Он узнал: она по-прежнему замужем за офицером своего ведомства, у неё четырёхлетний сын, проживает она в губернском городе N… вот этом, ненастном, слезящемся, покрытом язвами давно не вывозившихся помоек.
Капли дождя лупцевали непокрытый череп Конрада, высекая из него искорки воспоминаний. Ну как всегда – о развязке, о конце, притом даже не о пятом конце. О том, что обычно зовётся закономерный финал.
Воспоминание № 2 (8 лет от роду). Народный (м)учитель Конрад Мартинсен, оплёванный и обдристанный собственными учениками полуживой приползал домой и заставал на кухне налитого спиртом рябого хроника. «Коллега по работе», – объясняла Натали. Хроник починил унитаз, починил розетку. Конрад ни в жисть бы этого не смог, так что появление удивительного гостя в доме Мартинсенов казалось вполне оправданным. Конрад всегда очень хотел, чтобы у Натали были друзья; друзья моего лучшего друга будут моими друзьями – так он рассуждал. Хроник в свободное от починки унитаза и розетки время ежедневно дружил сперва с Натали, их союз освящал Эрос, затем, когда приходил Конрад – дружил с обоими супругами, этому альянсу покровительствовал Бахус.
Да, ещё одно важное пояснение: когда-то Конрад воспитывал Натали в духе самой отъявленной «free love» – он довольно долго умолял её дать, любые средства убеждения были хороши. Теперь вот, напоровшись на плоды своего же воспитания, он, как человек последовательный, всё сносил безропотно. Помнил: его воспитания плоды.
Не по дням, а по часам разрасталась на кухне Мартинсенов баррикада из винно-водочной стеклотары. Бутылки выживали хозяев с кухни.
Как когда-то Луиза, Натали всеми порами, капиллярами, фибрами и рецепторами ощущала, что ещё молода, что рано увядать и умирать, приносить бессмысленную жертву ненасытному вампиру. Восстановиться, оклематься, очиститься. И той, и другой это удалось за полгода. И та, и другая находили спасение просто в факте освобождения от Конрада, они ведь уходили в неизвестность, в пустоту, в одиночество. Никакого мужика не было у Луизы, когда та приняла судьбоносное решение, и нескоро, по всему судя, появился какой-то. Вот и Натали впоследствии быстро порвала с хроником, хронеющим на глазах – тот уж и отвёртку в руках не удерживал, и его самого ноги всё чаще отказывались держать. Да и женат был хроник, между прочим.
Когда уходила Луиза, двадцатилетний (по паспорту) Конрад ещё заблуждался, будто вину за происходящее наряду с ним несёт кто-то другой, толстокожий и высоколобый – ну не сама Луиза, так её наушники-советчики. А когда история повторилась – в виде фарса, по мнению Гегеля, – самоанализ, не прекращавшийся даже во сне, давал однозначный результат: Натали права. Источник злосчастья – ты сам.
Но был один немаловажный нюанс, благодаря которому уход Натали не становился простой копией, повторением пройденного, дубликатом уже бывшего. Натали форсировала оформление развода, дёргала, торопила. Её приглашали на работу Органы. Гарантированное лет на двадцать пять место, приличный оклад, до- и переквалификация – где ещё такая лафа человеку с гнилым текстоведческим дипломом? Закавыка была одна – анкета мужа (родственники за бугром и т.п.)
И муж, убеждённый диссидент, сын вольнодумных родителей, интеллигентское семя, для которого любая уборщица в здании Органов была априори исчадием адовым, заплечных дел мастером, цепным псом тоталитаризма, узнавши об этом, понял: это – приговор.
Ведь ещё два года назад, когда их роман едва начинался (оба заканчивали институт), для неё, несмышлёной сомнамбулы, уютно затиснутой в свой замкнутый мирок, уже вставал этот вопрос. И он со всем запальным пылом-жаром обрушивался на учреждение, запятнавшее себя в веках кровью миллионов великомучеников и заклинал: думать не моги! И если два года воспитываешь вот эту табулу расу в ненависти к чему-то, а она выбирает это что-то, меняет тебя на это что-то, кто же – ты?
Значит, весь твой облик, весь твой modus vivendi, твой голос, твой запах объективно настолько богомерзки и богопротивны, что любой твой самый страстный призыв неминуемо влечёт за собой прямо противоположное действие.
Отчаянная истеричность запоздалых ударных проповедей лишь ускорила распад молодой семьи.
Но окончательно расплевались таки не сразу. Он ещё добрых полгода звонил ей, корил, каялся, плакал, взывал. Он говорил, что уже не встанет на ноги, что шансов для себя не видит, что она единственная может спасти его, ибо лучше всех знает его. Два года они были вместе – значит, единственная, она может видеть, что именно в нём есть, если вообще что-то есть. И значит, может помочь найти себя ему, утратившему себя напрочь. Он не держит её – твори, что хочешь, но оставь мне от себя кусочек… кусочек для меня. Этим хлебушком вдруг да проживу.
И порой она, скрепя сердце, навещала его в запущенной без женского пригляда квартире. Бутылок на кухне, правда, поубавилось – хроник забрал их и сдал: как-никак башляет. Конрад и на сей раз не бил ему морду и не спускал с лестницы – у хроника больше прав сдать бутылки, в большинстве своём именно его стараниями они попали на мартинсеновскую кухню.
Да, порой ненадолго пробуждалась в Натали жалость к Конраду, добитому работой в школе и пропажей голоса насовсем. Но периоды спячки становились всё длинней и длинней. Потом – забрезжила надежда выскочить замуж.
И она заявила: «Всё, не звони мне больше, оставь меня в покое. Ты мне противен. И если было у нас что-то хорошее, мне сейчас это мешает. Я хочу всё забыть». Он психованной психической атакой вынудил её признать, что просто накрутила себя, что её истинные чувства совсем иные. Спустя некоторое время она изложила ему тот же самый тезис в более грубой форме. Он опять потопил его в агонии красноречия… Раз эдак на пятый она-таки победила. «Всё, что у меня осталось, – это воспоминание о тебе, о том, как нам вдвоём когда-то было хорошо… ведь было же, было так!» – завёл Конрад запиленную пластинку, доставшую бедную девушку до печёнок. Но в отделе регистрации движения населения уже лежало заявление о вступлении в брак от некоей Натали Мартинсен. Конрад открыл для себя, что это некогда аморфное, амёбоподобное существо, пройдя через такое горнило, как бытие рядом с ним, выковало кое-каковский характер. Брякс – уже постигла искусство швырять телефонную трубку.
И когда трубка упала, обсыпанный изничтожительными словами Конрад увидал вдали расхристанный хвост улетающего навсегда последнего светлого воспоминания.
Часто крыл он таким аргументом: «Разве можно быть сволочью?» (Непереводимая игра слов: имелось в виду, что когда беспросветно конченого, перееханного колесницей жизни суицидала бросает на произвол судьбы человек, как никто, знающий, что это правда, что конченый, что перееханный, что суицидал – это поступок сволочной!)
Сколько встречал он в своих странствиях по Стране Сволочей подобных «сволочей», и никто не стал ему подпоркой на основании того, что никаких иных подпорок нет.
Оно понятно.
Можно походя охмурять сотни доверчивых девиц и, пару раз попользовавшись, выкидывать вон из сердца; можно ни за что ни про что укокошить не одну сотню сограждан; можно разрушить тысячелетние города и превратить цветущие сады в бесплодные пустыни; можно… можно… можно – но твоё место среди людей не будет поколеблено. И у лгуна есть жена, и вполне дурацкое дело плодить потомство, и подобострастно сгибаются перед душкой душегубцем восторженные юноши и разбухает от новых адресов записная книжка закоренелого мошенника.
Облагорожены, опоэтизированы, освящены традицией Дон Жуан и Макбет, Иван Грозный и Александр Македонский, ястребиноглазый корсар и охальная харя Стенька Разин. Восковая фигура Джека Потрошителя соседствует в музее мадам Тюссо с чучелами всеобщих благодетелей. Даже оппозиция Христос/Иуда, как показали Л.Андреев, Х.Л.Борхес и иже с ними, есть не что иное, как оппозиция «аверс/реверс».
Все грехи, в принципе, простительны, люди не злопамятны, люди делятся на друзей и недругов; друзья не возражают, когда топчешь врагов, а когда и друзей топчешь, даже враги предпочитают записаться в друзья. И если нет никакой другой индульгенции, оправданием преступления вполне служит его масштаб.
И лишь бессилие нон-гратировано в человеческом сообществе, и лишь оно одно вызывает тотальное презрение и вовсе не находит извинений, и лишь оно одно способно сплотить против себя всех и вся, независимо от индивидуальных моральных кодексов. Единый монолитный фронт сильных и слабосильных противостоит бессильному.
Его не поставят к стенке, он не сядет в тюрьму, если кто и ударит его либо опрокинет, то ненароком, из-за того что не заметил, думал – тут пустота. А так руки об такого марать никто не захочет. Тем более, конечно, не подаст руку.
Насилуй, предавай, воруй, толкайся локтями – всегда некая часть присяжных заседателей на суде человечьем найдёт смягчающие обстоятельства и навяжет оправдательный вердикт.
Но если ты расписался в своём всеобъемлющем бессилии, ты навсегда порвал с Традицией. То есть порвал с людьми. А если не расписался, но де-факто бессилен, люди порвут с тобой.
А суд небесный… Все прогнозы о его вердикте сделаны в лоне Традиции, значит, не в твою пользу. Поживём, помрём, увидим…
Улицы города, и без того не отличавшиеся благолепием, были испохаблены понатыканными тут и там коммерческими ларьками. Там продавалось, всё что угодно – от питьевой мочи и вяленой крысятины, главного лакомства в этих краях, до наборов открыток, с лубочными слезоточивыми картинками, представлявшими царя Гороха и его августейшую семью в канун их преступного убиения.
Кроме того, к вящему своему изумлению Конрад обнаружил, что в Стране Сволочей по-прежнему пишутся, продаются и читаются книги. В автобусах и скверах люди глотали свежие пейпербеки с развалов и киосков, как уже сказано, натыканных на каждом углу. Всё то была жанровая литература отечественного производства: для молодняка – фэнтэзи, для дяденек – боевички под видом детективов, для тётенек – детективы пожиже и лав-стори. А вот жанр «ужасов» почему-то представлен практически не был. Конрад долго кумекал, с какой вдруг радости, а потом понял: сволочи давно ничему не ужасаются, кушают ужасти под рубрикой «юмор».
Созерцание длинных рядов книжек-близнецов ин-октаво – по тридцать, по сорок, отличавшихся лишь названиями, но не фамилией автора – отвлекло Конрада от главного тома, составлявшего гордость киоска. Но, наконец, взгляд его остановился на шикарном, чуть ли не подарочном издании ин-фолио в бархатном переплёте и стоившем немалых денег:
«ЗЕМЛЕМЕР. БИОГРАФИЯ»
Это заглавие было выведено столь яркими и затейливыми буквицами, что не сразу бросалась в глаза фамилия автора. В принципе, для клиентуры было не так уж и важно, кто составил жизнеописание любимого народного героя. Куда важнее был его поясной фотопортрет, украшавший суперобложку. Конрад внимательно вгляделся в мудрые и лютые глаза персонажа книги и отметил, что как будто уже не раз видел эту грозную рожу. Но как истинный текстовед он не мог не заинтересоваться, чьему же перу принадлежит фундаментальное исследование. И вперился в мелкие буквы поверх заглавия:
«А. КЛИР».
Излишне говорить, что Конрад не пожалел чужих денег и недешёвую книжку про Землемера купил.
Над развороченной мостовой центральной улицы угрожающе нависло тяжеловесье монументальных построек эпохи Великой Бдительности. В таких жили «лучшие люди». Когда хозяином страны ещё был всеобщий Страх, специальные служители умудрялись сдувать с этих каменных страшилищ любую пылинку, но безалаберье последующих эпох обшарпало, обтерхало их не меньше, чем развалюшные хибары для трудящихся.
Вдоль пёстрых щербатых стен дефилировали давно не глаженые полицейские, рыскало озабоченное население. В его нестройные ряды незаметно внедрился гость с далёкого Острова. Смотрелся он как самый заурядный гражданин: мастер из металлоремонта или преподаватель черчения в ремесленной школе.
А что плохо одет – знать на толкучку пошёл, не в театр. Театры закрыты, и одежонка пообносилась на всех поголовно. Власть предержащие и претенденты на оную – не в счёт.
А что небрит – так ты поди достань хорошее лезвие в этом царстве-государстве, а если достал, жди гостей со стилетами да кастетами, они не ошиблись адресом, твои выскобленные щёки исчерпывающе характеризуют твой образ жизни.
А что с тележкой да с рюкзаком – так мало ли какой сюрприз ожидает среднестатистическую сволочь на улицах города. А вдруг приятный? Скажем, ящик самогона из-под полы?
А что задумчив – велика важность, в наше время есть о чём задуматься.
Время от времени он изучал замызганный клок бумаги и рассеянно озирался по сторонам. Вот это был немножко криминал: сограждане, повинуясь инерции, натыкались на оттопыренный горб и двигали кулачищами промеж кривых лопаток. К счастью, пустой рюкзачишка несколько амортизировал толчки и тычки.
У самого невзрачного из элитарных обиталищ Конрад опять затормозил и с особой тщательностью обнюхал бумажку с адресом.
Тут.
Ну и что теперь? Семь лет прошло, не семьдесят, Конрад не Лотта, этот дрянной городишко – не Веймар, и вообще аналогия неправомочна.
Опять мазохизм, дружок? Повторение пройденного?
Да как сказать… Перед доблестной чекисткой собрался предстать вестник из её кошмарного прошлого. Он всё взвесил, рассчитал, соответствующим образом настроился. Шанс удостоиться аудиенции, для обоих не обременительной, представится тогда, когда наступит кошмарное настоящее, в сравнении с которым кошмарное прошлое не столь кошмарно.
В прошлом этим приземлённым девочкам казалось, что только на страницах газет постреливают и взрывают – а газеты можно не открывать. Странные были времена: соседу справа, пятидесятилетнему научному сотруднику вся страна казалась огромным митингом, соседям слева, сорокалетней супружеской чете пролетариев – сплошным пустым магазином, детям соседа справа, выпускникам вузов – сплошным полем чудес, где спеют колосья, налитые деньгами, а детям соседа слева – сплошным полем боя.
Так что любой мог построить свою модель окружающего мира – в зависимости от запросов и интересов. В частности, для очень большой категории женщин разного возраста и интеллекта мир представлялся водоёмом, где резвятся на свободе будущие доходные и надёжные спутники жизни, и надо без устали закидывать свою удочку, авось да клюнет. Авось клюнет такой, за спиной которого, как за бетонной стеной можно строить новую модель мира по своему вкусу, модель удобоваримую и безызъянную – отныне ты защищена, обеспечена, устроена.
И вот настало время унификации индивидуальных представлений о мире, о родимом крае. Когда школы и улицы превратились в арены побоищ – не только дети мимолётных знакомых, но и твои собственные возвращаются домой с пробитыми черепами; когда свой дом перестал быть крепостью, грабители чистят не только соседские квартиры, но и твою собственную; когда, наконец, доходные и надёжные мужья приползают по вечерам с огнестрельными ранениями, стало ясно: туземные мужья, невзирая на доходность и надёжность, уже больше не стенка, не опора, не защита. Таковой может стать только зарубежный муж, но в нашем водоёме, как на грех, эта рыбка попадается всё реже.
И уж совсем не на что рассчитывать, когда муж – офицер Безопасности. Он и дома почти не бывает, и всё время под Богом ходит. Воленс-ноленс помянешь добрым словом минувшие дни.
Поэтому больше всего занимал Конрада вопрос, где и как проявиться-объявиться. Заявиться, обвалиться как снег на голову не выйдет – в партерах казённых жилых домов сидят бравые вооружённые вахтёры. Караулить человека во дворе, пока он с работы не придёт, нудно, томительно и тоже стрёмно: привлечёшь внимание пенсионеров на лавочках; стукнут, куда надо, а тебе туда вовсе не надо. К тому же, у человека может быть выходной или отпуск по второй беременности, хотя вряд ли, какие нынче в Органах выходные, какие беременности?
Всё же спокойней будет сперва позвонить… вон телефон-автомат на углу. Конрад добрёл до него, снял трубку, начал, сверяясь с бумажкой, набирать номер… ввв… этого ещё не хватало.
Он почуял, как вдруг внутри него проснулся порядком забытый в армии особый страх – страх перед отсосом, перед плевком в обнажённую душу, страх, что всё будет не так, как надо бы… что с ним поступят, как поступали прежде – невзирая ни на что. Очень захотелось по-большому.
Э, а где же гудок? Конрад постучал по трубке, дунул в неё. Конечно же – телефон сломан! Какое облегчение, ффу!..
Послонялся-покантовался, нашлась ещё одна телефонная будка. Её совсем недавно разбили. Рядом недвижим лежал тот, кем её разбили.
Проверив, цел ли сам аппарат (дудки!), Конрад крепко задумался. Вряд ли имеет смысл ввязываться в истории в чужом городе (и в своём тоже, какая разница), да уж больно жаль распростёртого на треснувшем асфальте беднягу. И «Скорую» никак не вызовешь…
– Эй, брат, – тихонько позвал он, руководствуясь самыми гуманными соображениями. – Живой?
Насилу отверзлись залитые кровью глаза. Обеззубленный рот прошлёпал ругательные слова, потом внезапно разъехался до надорванных ушей. Вдруг Конрад пожалел, что так некстати выказал человечность и участие.
– Бля!.. Здоров, Ёбаный Пигмеец…
– Здоров… – голос опять отказал, однако даже в получившемся шипе-хрипе-скрипе не смогли спрятаться нотки раздражения и недовольства. Увы, поздно перебегать на другую сторону улицы, поздно юркнуть в подворотню. Ёбаным Пигмейцем Конрада окрестили в армии. Перед ним стоял на карачках его недавний однополчанин. Да уж, надо было поиметь в виду, что и в этой дыре можно повстречать совсем не нужных знакомых…
– Спиртяги, бля… – потребовал однополчанин.
– Раны промыть?
– Хуйли, бля, выёбываешься, пидор гнойный? – восстал однополчанин. Решил, что издевается над ним Ёбаный Пигмеец. Сейчас ярость вот-вот вернёт ему силы; надо заглаживать свою вину, не то схлопочешь.
– Дитер, не волнуйся, – (кто волновался-то?) – Кто ж тебя так уделал-то? К врачу тебе надо… Давай отведу.
– Ебал я в рот врачей-срачей, – зарычал строптивец Дитер. Он шатался, и от гневных чувств усиливалось кровотечение. – Прямым ходом, на хуй, в жмурдом свезут… много, бля, понимаешь… с-столица!..
Столичным жителям в армии труба. (Муть ёбаная, жрут хлеб, который мы взрастили).
– Не куролесь. Ну хочешь, домой тебя отведу…
– Сам дойду, мудила… – Дитер вроде разобрался, что ему добра желают. – Спиртяги, бля, с-сука!..
«А может, действительно, сам дойдёт?»
– Со мной пойдёшь, блядюга, – тут же убил надежду Дитер. – Хуёво мне, бля… В армейке вместе, бля, еблись, ебись, сука, в сраку… обмоем, бля…
Конрад вновь погрузился в размышления.
– В лом, – сказал он.
– Ты, что ль, в лом? – провинциальный паренёк на таком изысканном жаргоне не базлал. «В лом» он понимал только как «пьяный в лом».
– Не по кайфу, значит, – разъяснил Конрад.
– Сука, обидишь!..
– Знаю, бля, что обижу, – расхрабрился Конрад. – Там сейчас друзья к тебе завалят, подруги… Ебали они меня в рот…
– Чё, чё, бля?.. Вынь гвоздь изо рта!..
Это к тому, что у Конрада выходило так: слово слышно, слово пропало. Сам-то Дитер сегодня тоже не Демосфен – острая нехватка зубов.
– Никого, говорю, видеть не желаю!
– Бля, столица мутная!.. А какого хуя забыл в нашей сраной деревне? («Шалиша… шраной…») Али в столице с маргарином перебои?
– Дела у меня тут, – сказал Конрад по-граждански независимо. – Телефон ищу.
– Вишь ты, деловой, ёбаный в рот!.. Размечтался, бля – в городе ни одного, бля, целого, на хуй, все, в пизду, разъебали, – посочувствовал Дитер. – Я своими руками их грохнул до ебени матери… Ну и пиздуем, на хуй, ко мне, позвонишь, бля… – (Конрад постеснялся вставить, что разговор конфиденциальный). – Не ссы, бля, одну банку ёбнем, а там пиздуй на все четыре…
– Банку?
– Ты что, Ёбаный Пигмеец, думаешь, бля, я тебя грабить буду, на хуй?.. Что с тебя взять, мудила?
Взять с Конрада, честно говоря, было что. Но хитрый Дитер щипал самую слабую струнку. Ёбаному Пигмейцу было, в общем, до фени, кто о нём что подумает, но выглядеть трусом в глазах боевого товарища…
– Ой, да на здоровье, грабь. Только сперва пришей, лады? – такое условие Конрад выдвинул.
– Иди ты на хуй, долбоёб хуев! – Дитер так натурально обиделся, что показалось: не видать Конраду самогона, как своих ушей. – Мы мирные люди, играем, бля, только по-крупному. Рекет, хуекет – пожалуйста. Ты, малафья столичная, от меня – там – много зла видел?
Новый повод задуматься.
– Бля… Второго такого вспомнить надо… Чтобы вот так, не иметь претензий… Спасибо, брат…
(Хотя, когда всей ротой мочились на бесполезного гальюнщика, не брезговал, услужливо ширинку расстёгивал).
– Хе-хе, мой папа такого сынка в рот ебал… – (шутка). – Ну пошли, Ёбаный Пигмеец, всё заебись… Уя, бля, сука, на хуй, ёбаный свет…
Отбитые внутренности напомнили Дитеру, что надо быть серьёзным. Он опёрся на Конрада и, постанывая, скомандовал, куда его вести.
Опасения насчёт «друзей и подруг» оказались небеспочвенны – Дитер обитал в общаге. Он всего на один призыв старше Конрада – значит, на десять лет младше, собственной квартирой пока не обзавёлся.
Но на счастье (будний день, ещё не вечер) в общаге их никто не потревожил. Да и не хотелось Дитеру в таком виде никому показываться. Видать, за дело пиздюлей огрёб, стыдно.
Вообще-то пока добрый гений неумело лепил неприлипающие пластыри за неимением других медикаментов (шестёркина работа из лучших побуждений), Дитер пытался втолковать ему, что же, собственно, с ним стряслось. Но язык, на котором он говорил, Конрад понимал по-прежнему плохо. Не только потому, что шамкал бедняга. Все слова, разумеется, «Ёбаный Пигмеец» знал – их было не так много, но вот связи между ними улавливал с трудом. Страшно далёк был он от народа.
Дитер же как поехал языком чесать, так остановиться не мог – балабол ещё тот. Насколько схватывал Конрад суть этого словесного поноса, были тут и какие-то армейские воспоминания, и отчёт о тяжкой жисти на гражданке, и похвальба Бог знает какими крутыми подвигами. Конрад кивал, поддакивал – наверняка невпопад – и от смущения маленькими глотками сосал блевотную жидкость. Это мог быть и архидефицитный бензин – Дитер водилой работал.
– А хошь девочку, Ёбаный Пигмеец? – таким макаром прервал однополчанин поток мутнеющего сознания.
– А на хуя девочке Ёбаный Пигмеец? – не понял Конрад.
– Её спросишь, бля. Не ссы. Ни трепака, ни сифилька.
«Пиздúшь», – подумал Конрад.
– Не хочу девочку.
– Мальчика желаешь, разъёба?
– Покоя желаю.
– Понятно, бля, ясный пень. Я вон, бля, тоже желаю… Да суки, бля, нависли, бля, хуй отмажешься…
И погнал про работу свою. От блевотных судорог Конрад усиленно зевал.
– Бля, Ёбаный Пигмеец, – голос Дитера зазвучал торжественно, как при вручении наград Родины. – А я всё ж тебя уважаю. Целку в жопе – сберёг!
(Н-да, был такой смешной эпизод в армейский период его жизни. Брому на всю роту не напасёшься, да и не всех этот самый бром берёт. Томились, страдали воины без привычных утех. Любое отверстие шло в ход. А у Ёбаного Пигмейца отверстие на загляденье – занозу не посадишь, и калибр подходящий…
…но страх сшивал ягодицы суровыми нитками, омерзение закладывало очко будто цементом. Правда, возникли неразрешимые проблемы с дефекацией. И клизма не лезла – как одуванчиком в бетон. И все объедки, перепадавшие Конраду в столовке, лишним балластом оседали в трюме организма.
И настали бы кранты, и увидел бы райские кущи, и просёк бы горний ангелов полёт, да попался в лазарете человек хороший – военврач 2-ой категории Вёрфель. Мужик суровый, но не злобный. Он заставил таки очко разжаться. И вот – всё ещё жив Конрад. А военврачу царствие небесное – в Чуркестане на пики надели. Только что всезнайка Дитер поведал).
– Во, бля, мировой был чувак. А теперь мне и челюсть хуй кто вставит, тут, бля, купленые все…
(Что делать, жалованье у врачей мизерное).
Светлой памяти верного ученика Гиппократа посвятили боевые соратники следующую дозу. На сей раз никто не схалтурил.
…Душа-человек однополчанин вовремя тазик сообразил. С таким в разведку ходить – одно удовольствие.
– Сколько тя за пиписку тянули – не оторвали, – рассыпáлся тот в комплиментах, пока Конрад утирался портянкой.
– Каши мало ели…
(Это точно, мало в армии давали каши. Ещё и поэтому выжил тогда).
Ах, ну просто чудо, просто золотко этот Дитер. От возлияний всё добрее становится, аж светится… Ни тебе агрессии, ни маниакала. Только всё ля-ля-ля да бля-бля-бля…
– Брат… – перебил Конрад, проникшись доверием. – У меня к тебе вопрос как к аборигену.
– Кому, сука?
– Ну… коренному жителю – ряд вопросов. Где тут у вас газ по талонам выдают?
– Газ?.. Ёпт… Пиздой накрылся… Вот слушай, сука. Еду я это… по Августа Бебеля… тут мусор, бля… Грит: пидор ты, бля… хуйлиж ты… я грю… не пизди, мудила… а он…
– Хлебные карточки где отоварить – не скажешь? – сделал Конрад другую попытку.
– Не свисти… Пиздой накрылось… – рука однополчанина описала невообразимую ломаную, по которой, надо думать, «накрываются»… – так я ему… слышь… я ему в ебальник, бля, гаду… еблысть, бля…
И всё так невинно-добродушно… Вот жаль, проехал чувак критическую черту. Толку не добьёшься.
– Ну, брат, спасибо за угощение. Очень вкусно было, – покривил душой Конрад, а затем самым решительным образом оторвал зад от табурета.
– Куда, пигмея ёбана? – белугой взревел Дитер, меняясь в лице. – Бля буду, упизжу суку… – и тоже вскочил, проворный, как лань – беда лишь, что на стол наткнулся и больно ушибся.
– Всё, всё, брат… Будь здоров, – миролюбиво пролопотал Конрад, шустро пятясь к двери.
– Блядюга… – воинственно заголосил Дитер и запустил в ретирующегося Доброго Гения бутылкой. Промазал, вот досада… А ведь в полку был среди лучших снайперов…
Но начать преследование он был не в состоянии: облитые бензином, отбитые коваными башмаками внутренности от резкого сотрясения точно рванулись наружу, словно миллиард глистовидных драконов, каждый величиной с откормленного питона, взбесился в утробе несчастного, и он рухнул под стол… чего спьяну не пригрезится – померещится там Ёбаный Пигмеец или ещё хуйня какая…
«Бедный, бедный мой желудок», – кручинился Конрад, убеждаясь, что погони не будет, и вдыхая дерьмозный городской воздух. Мля… на фера он мне, воздух: ни в одном глазу, как стёклышко, вся эта авантюра зазря, проблевался прежде, чем опьянел, а теперь вот в животе революция, в голове менструация, в ногах импотенция… У-у, как погано, ух я гудила-гудила, участие проявил, храбрость проявил… кого скребёт? День, мля, потерян, вон – смеркается, с ночёвкой неясно, в гостиницу надо б пораньше… Орё-ол! Так, главное, и не позвонил ведь… может, и к лучшему… кстати… гребёна лошадь! А телега-то, телега где? Ну звездец… разжился горемыка складной телегой, пусть будет ему от меня благодеяние… а мне что, всё в охапке тащить… если достану? Хорошо, что рюкзак спас… ага, я же его и не снимал… Ох-хо-хо… (Ну хватит сквернословия, внутренний глас бывшего гальюнщика тонет в нытье всех частей тела сразу, его внутренности уж два года как отбиты).
Не в силах что-либо предпринять, Конрад присел на деревянные развалины – не то детской, не то собачьей площадки. Уместно заметить, что его не любили ни дети, ни собаки, и он им платил той же монетой.
С чувством глубокого удовлетворения прочёл он сегодня на заборе правительственный указ, обязывающий всех частных собаковладельцев в недельный срок сдать своих питомцев в распоряжение госплемхозов, заготскота и полицейских комиссариатов. Взвешенное, мудрое решение. Эти кусачие слюнявые истошноголосые твари поглощают солидную часть иссякшего тепла, на которое способны души человеческие и в котором нуждаются, в первую очередь, другие человеческие души. Ему не раз предлагали: «Заведи собаку». – «Мне бы человечка…»
Когда полтора года назад вышел аналогичный указ, касавшийся домашних котов, народ благосклонно отнёсся к акциям современных швондеров. Одни сердобольные тётушки старой закваски сдерживали неутешные рыдания с помощью подушек. Теперь же, наверно, грядут массовые беспорядки, и дело тут не в массовой любви к четвероногим друзьям. В моде нынче волкодавы, доги, овчарки, словом те, кто способен в какой-то мере обеспечить безопасность хозяев, их жён и детей. Ловкие ребята за умопомрачительные бабки читают курс воспитания небезобидных зверюшек в самурайском духе (беспрекословное подчинение хозяевам, слепая ненависть ко всем прочим).
Другое дело – эти кровожадные монстры сами становятся объектом охоты, их собственная жизнь постоянно под угрозой. Отлов бездомного и домашнего зверья – бизнес доходный, выгодный, спрос на продукцию собачье-кошачьего происхождения колоссален, коты-собаки сволочей одевают и кормят… И без устали носятся по улицам охотники с лицензиями и без, с ружьями, с баграми, с крючьями, с голыми руками… Уже практически исчезли в населённых пунктах дворняги, метисы, прочая беспризорная шваль, перевоплотилась в шубы, шапки, ледащие бифштексы либо просто сгинули в дезинфекционных душегубках… и поделом переносчикам заразы. Теперь вот ни родословная, ни верная служба хозяину не спасёт тебя от использования в гуманных народнохозяйственных целях.
Кабы ещё малых детишек отлавливать, да в супчик! Этих чумазых сквернословящих паяцев с рогатками и духовушками (в последние годы – и с оружием посерьёзней). Откуда же взрослая мразь берётся, как не из этих голоштанных пупсиков-ангелочков, цветов жизни разрастается? Бывший школьный учитель был солидарен с тишайшим затюканнейшим коллегой из пьесы Ионеско, что каждый Божий день съедал на ужин по сорок учеников.
Если уж пошли литературные реминисценции, то есть ли во всей мировой литературе более слёзовыжимательный эпизод, чем столкновение на большой дороге малыша Жерве – маленького савояра с сурком на плече (достойный жалости типаж из суперхита композитора Бетховена) с освободившимся после девятнадцати лет французского ГУЛага духовно опустошённым, обездоленным Жаном Вальжаном (не менее жалостный типаж из менее известного хита «Тяжёлым басом ревёт фугас,/ Взметнулся фонтан огня./ И Боб Кеннéди пустился в пляс:/ Какое мне дело до всех до вас (bis),/ А вам до меня»).
А вам – никогда не хотелось обидеть ребёнка? Ни с того ни с сего, за просто так, первого встречного? Двинуть его прямой ногой под дыхало? Пустить струю мочи в лицо? С упоением луддита разломать его игрушки? Не хотелось – потом – заглянуть в его изумлённые глаза, познавшие некую новую реальность, некий новый модус бытия? Ах, нет?!! Какое бесчувствие, глубокоуважаемые, какое душевное отупение! Лечиться вам надо…
Вновь зарядил мелкий дождик. Конрад с внутренним трепетом наблюдал прелестную жанровую сценку.
Два девятилетних акселерата, Фриц и Ханс, самым паскудным образом стебали десятилетнего недоумка Вилли, который ещё ни разу в жизни не испробовал женщину.
Конрад жадно ловил каждое слово – во всём пышноцветьи воспроизводили уста младенцев лексикон бравого солдата Дитера (и где-то его собственный), медленно соображал: ага, так, сейчас раздам этим симпотным карапузикам по гостинцу. Маленьким половым активистам – свежие, с пылу, с жару, подзатыльнички. Так, чтобы шагов на пять отлетели и чтоб черепки вдребезги об асфальт.
А этого вот угощу конфетиной – в кармане завалялась последняя карамелинка. Потом посажу себе на колено, стану гладить по спутанным волосам, распугивая пригревшихся там вшей. И вкрадчиво лопотать колыбельные слова, обещать заступничество. Увезу на Остров, Анне в ножки кинусь: усынови…
И ринулся на вражью силу грозный мститель, богатырь-батыр-рыцарь, суровый, но справедливый; высоко взлетел карающий кулак, полыхнуло пламя из ноздрей (может, просто сопли: похолодало…)
Инстинкт самосохранения у современной детворы развит чрезвычайно, за версту шухер спиной чуют. Страхолюдные зыркалки Конрада подстегнули расторопных растленных малолеток; их как ветром сдуло, сиганули – один налево, другой направо; сверкание их пяток ослепило мрачного дядьку; тот остановился.
Ну, хрен с ними, Бог с нами, малыш. Я прогнал их. Я вздымаю над осиянной головою благословенную конфету на манер факела надежды для униженных и оскорблённых, словно Данко своё горящее сердце, и Прометей вдруг почему-то вспомнился, и Моисей… Только вот незадача: пока рылся в бездонных недрах дырявого кармана, совсем упустил из виду, как с воем и топотом рванул в противоположную сторону перепуганный неуклюжий медвежонок Вилли. Конрад поздно опомнился. «Стой, мальчик, конфету дам», – страшным голосом сипел Конрад вдогонку. Мальчик разобрал только одно слово «дам», единственное хорошо знакомое, слышанное в стольких вариациях: по шее дам, в грызло дам, в нюхальник дам, по яйцам дам… ах, кабы знал Вилли ещё и про «прекрасных дам»…
Всю ночь взывал Жан Вальжан к безмолвным просторам империи Бурбонов: «Малыш Жерве, малыш Жерве»…
«Рррваф-аваф-ваф-ваф-ваф», – загромыхали потёмки. «Ёж твою рашпиль, не иначе менты».
Из переулка выскочило оскаленное разъярённое страшило. Трепеща на ветру, как знамя победившего пролетариата, красный язык плотоядно тянулся к Конраду.
На буксире чудовище тянуло неплохо одетую женщину с зонтиком. Единственный действующий фонарь осветил её растерянное лицо.
– Привет, Натали!..
По расчётам бывшей жены Конрад при случайной встрече должен был вцепиться ей в горло или залепить в неё первым попавшимся кирпичом. Поэтому она, лишь отыскав чистоту помыслов в беспомощных глазах бывшего мужа, зашептала: «Фу-фу, Рокки, фу, тубо». Угомонить кабыздоха, унаследованного, видать, от самих Баскервилей, обуздать его намордником ей удалось минут через пять.
– Во кобенится, кобелина, – сказал Конрад. – Это тебе привилегия такая полагается?
– Ты про указ? Не знаю прямо… Буду начальству челом бить… авось пожалеют… Ты небось напугался?
– Да на меня уж в армии собачек спускали. Хохмы ради. Привык… – махнул рукой Конрад.
– Ты что, в армии побывал?
– Ну!
– Ты с ума сошёл?
– Я на нём и не стоял. Да вот… решил побывать там, где бывал мой народ. Его сильнейшая и талантливейшая половина… Хотя будущей весной и другую половину призовут.
Сущая правда. Закон о воинской обязанности претерпел изменения. Девушек с девятнадцати лет уже приписали к военкоматам. Ну а то, что бредовая идея сходить в армию посещала Конрада ещё во времена их бракованного брака, Натали, конечно, не помнила. Пришлось дать кой-какие разъяснения.
– Так странно… Я сразу узнала тебя.
– Неужто не изменился? – он склонил плешь.
– Изменился, но… взгляд – такой же.
– Какой?
– Специфический. Ну… ты откуда?
– От верблюда. Тебя вот разыскиваю.
– Зачем?
– Любопытство…
«Ну слава-те Господи, что пытство, а не любо», должно быть, подумала Натали.
– В гости-то пустишь? – бесцеремонно, не давая опомниться, спросил нахрапистый призрак Прошлого.
– В гости? Нет… ну… У меня же маленький дома. Скажет, кому не надо, что приходил чужой дядя…
– И девать его некуда?
– Ну… в общем-то есть куда. Но… мне завтра к семи на работу, а приду незнамо когда… Тебе можно позвонить?
– А тебе?
– У меня телефон прослушивается.
Конрад предложил вариант: завтра он будет ждать её у этого же фонаря. С шести до одиннадцати. Что интересно, предложение было принято благосклонно.
Десять лет назад он подобрал её дикой лешей отшельницей, бессловесной, бесчувственной кикиморой, без макияжа, с конским хвостом на сальной голове, в больших сапогах, в полушубке овчинном (стоял декабрь месяц).
Ныне, сколько он при плохом освещении сумел разобрать, она наверняка одна из блистательнейших львиц периферии. Светская леди, кожа ухоженная, волоса уложенные, плоть насыщенная, глаза пресыщенные. Относительно, разумеется, в сравнении с. И весь фокус в том, что без него, Конрада, не начался бы её взлёт – это он прорубил ей окно в мир, отучил бояться людей, разбудил в ней самку. Он стал для неё – трамплином в жизнь. Которой сам не жил, парадокс…
9. Книга понятий
В местной гостинице Конрад предъявил свою ксиву дебелой прыщавой бабёхе.
– Местов нет, – рявкнула та с заученной страстью.
– Вот Вы поглядите, я сотрудник Госбезопасности.
– А не скребёт. Глухой, что ли? Местов нет.
– Вот, поглядите, мои документы… – не унимался Конрад.
Как же он так? Расслабился, поглощённый своими мыслями, и потерял бдительность. А между тем между замызганных стен холла дефилировали крепко сколоченные дяди в ярких спортивных куртках. Отступать поздно, скорей бы тихохонькой мышкой шуршануть в номер…
Да номера всё не было. Бабёха, наконец, по складам разобрала, что написано в лежащей перед ней краснокожей книжице. Ни говоря ни слова, лишь крякая, хрюкая и сопя, она по-садистски медленно стала печатными буквами царапать в обтрёпанный, кем-то поеденный кондуит фамилию и имя кандидата в постояльцы.
А крепкие дяди уже возникли за спиной Конрада и пребольно щипали за задницу.
– Это чё за мурзик? – спросил один другого.
– Командировочный, – прозвучал приговор. Бабёха на деске прекратила писать и превратилась в каменную бабу.
– Слышь, ты, чушпан, – втолковывали Конраду, уже держа его за горло. – Выход там где вход. Считаем до двух. На счёт два рюкзачок к горбу приколем.
Судя по всему, честные люди, правду говорят. Конрад сразу углядел, где выход, и уже на счёт «раз» был в дверях.
– Стоять, сука, – послышался трубный глас, способный выбить все стёкла в окнах первого этажа, кабы те уже не были выбиты. И Конрад стал. Он имел дело не с недотёпой-однополчанином. Тем более во дворе гостиницы курили ещё двое в таких же ярких куртках.
У деска стоял – судя по осанке и перепаханной харе – Пахан-предводитель. Крикнул сейчас не он – шестёрка-телохранитель угадал изменение настроения шефа по малейшему колебанию затхлого эфира. Сам же Пахан изучал оставленную спугнутым фраером ксиву и был ей донельзя огорчён.
– Органик, – прохрипел Предводитель. Хрипел он не так захирело, как имел обыкновение Конрад, но весомо и внушительно, как вокалист блэк-метала. Когда-то, наверно, сеансами гипноза кормился.
Правда, Конрад был слабо внушаем, но разобрался, что Та, Что Стоит За Левым Плечом, решительно вышагнула из-за плеча и повернулась к нему безносой ряхой. Органик – значило «сотрудник органов». Красная книжка – красная тряпка для этих мускулистых быков, а её обладатель – не тореро.
Не трогаясь с места, Конрад защитно скрестил ноги, потешно зашурудил руками перед детородным органом и расплылся в натужной улыбочке. Поражение начинается с утраты естественности поведения. Эрнст Юнгер.
Конрада под руки, стиснув бульдожьей хваткой, повели в номер, очевидно, снимаемый паханом. По дороге его ткнули под микитки, пнули в бок, отвесили поджопник. Конрад болтался из стороны в сторону, как берёзка на ветру, заплетался отнявшимися ногами, неслышно поскуливал. Он совершенно забыл, что надо умереть, как мужчина, но в силу онемения членов и отнятия языка лишних звуков не издавал.
Пахан не отказал себе в удовольствии с комфортом раскинуться на стуле. Он вальяжно затянулся импортной сигарой и со значением помахал ею перед самыми глазами пленника. Было ясно, что сам он вопросов задавать не будет.
Конрада встряхнули как мешок картошки, и как картошка посыпались куда-то его внутренности.
– Ну говори, сука, – сказали откуда-то сзади. – что ты делаешь в городе?
Конрад засипел, но издать звук не сподобился. Тут же он получил, скорее всего, по почкам – он не знал точно, где почки находятся.
– Вынь гвоздь изо рта, – приказали сзади.
– Х-х-хозяйка из п-посёлка N п-послала за п-п-продуктами, – вдруг вырвалось у Конрада неверным козлетоном.
– У-у, сука! Продуктиков захотел, – сказали сзади и хотели, наверное, вновь звездануть по почкам или чему там ещё, но Пахан предостерегающе поднял руку и глубоко задумался. Думал он с минуту, в течение которой Конрад наверняка растянулся бы во весь рост на полу, если бы его крепко не держали.
– А как зовут твою хозяйку? – прохрипел, наконец, пахан, пуская дым из ноздрей.
– Анна, – отозвался сдавленный фальцет и шёпотом добавил: – Анна К– К– Клир.
Пахан вновь затянулся и грозно-вопросительно взглянул поверх головы Конрада. Бульдожья хватка сразу ослабла.
– Как ты сказал? Анна Клир? Доказать можешь?
Конрад закивал, но выдавить из себя звук не сумел.
– Обыскать, – велел Пахан.
Одни проворные руки в мгновение ока прошлись по всем карманам Конрада, а другие услужливые руки пододвинули сумку-каталку, давеча забытую им у Дитера.
– Есть список продуктов, – сказал угодливый голос сзади.
– Дай сюда, – распорядился пахан и углубился в чтение засаленной мятой бумажки. Наконец, он изрёк: – Её почерк, вроде.
– Если что, мы сличим, – произнесли сзади.
И Конрада оттащили в соседний номер и закрыли одного, предварительно связав за спиной руки. Целую, как показалось, вечность, он пролежал на холодном полу, после чего вдруг послышались шаги, и вервие на его запястьях вмиг ослабло.
– Повезло тебе, – с нескрываемой досадой сказал тот же голос.
Затем Конрада вновь препроводили к Пахану. На сей раз его не волокли, а бережно поддерживали.
– Передай Аннушке привет от … – Конрад не воспринял, от кого, и впоследствии так и не смог вспомнить. Погоняло как погоняло. – Завтра вечером приходи к складам на улице Энгельса, дадим всё, что она просит. Со скидкой. А сейчас – исчезни.
Конрад, не веря своему счастью и не видя ничего вокруг, засеменил туда, где по его расчётам должна была быть дверь. В расчётах он, конечно, ошибся, но никто им уже не интересовался, и наконец, он нашёл путь наружу, в холл.
– Каталку забыл! – крикнули ему вслед. – Завтра получишь, вместе с товаром.
Землемерное училище имени Хрубеша – старейшее в Стране Сволочей. Высочайшее Повеление на основание оного имело место в один год с пуском первой в империи железной дороги, отвели для него усадьбу в пух и прах проигравшегося графа Кизеветтера, отслужили благодарственный молебен. Сперва дела его шли ни шатко ни валко: казённокоштные воспитанники, сироты павших за Отечество унтер-офицеров учились из рук вон плохо, из-под розог, а своекоштных было мало – всё больше инородцы с западных окраин. Казённокоштных определяли в Геодезическое Управление при Главном Штабе, своекоштные сами себя определяли в повстанцы, за свободу народа своего сражаться шли. Недоимок за училищем числилось немерено, и на семнадцать лет оно вообще прекратило существование, и лишь с объявлением земской реформы учредили его вновь. С тех пор воспитало оно немало людей достойных и заметных. Иные потом в сельскохозяйственную академию пошли, иные в бомбометатели, иные и туды, и сюды. Например, Людвиг Хрубеш, землемер и пароход.
Говорили – раньше эти лучшие и достойнейшие на доске почёта висели, на веки вечные. Но когда однажды стекло на доске разбили, украсились их физиономии нехорошими словами, рогами и бородами, а иные портреты и вовсе пропали.
Землемера из купленной намедни книжки среди них не было.
Конрад сидел на лавочке, ждал директрису училища – она, как ему сказали, в гороно отъехала. Глядя на резвящихся во дворике типовых хамов и прошмандовок в форменных тужурках, он прокручивал в неутомимой башке один из последних базаров с Профессором. Немудрено – он касался народного просвещения.
Конрад начал тот базар с того, что школа – самое мифологизированное в Совке учреждение. Сознанию большинства сограждан рисуется какой-то мрачный Тартар, где церберы с указками в руках измываются кто во что горазд над беззащитными детишками.
– До определённой степени верил в этот миф и я, пока восемь лет назад сам не встал к учительскому столу, – признался Конрад. – Встал, в отличие от моих сокурсников, не по воле случая, не по капризу распределения (чего стоило мне, крепостному молодому специалисту вырваться с предыдущей столоначальнической работы, где по закону целых три года я должен был ждать Юрьева дня!) – нет, что называется по душевной потребности. Встал, исполненный самых наиблагих намерений: изо всех сил вытягивать сволочную школу из трясины коммунистического начётничетства, воспитывать подрастающее поколение в духе подлинного гуманизма, сеять… конечно же, Разумное, Доброе, Вечное. Я намеревался в каждом ребёнке видеть неповторимую личность, быть справедливым, участливым, улыбчивым, как рождественский дед. Я собирался изо всех сил любить детей и рассчитывал на взаимность.
– А ведь интересное то было время, – сразу вспомнил Профессор. – Время реорганизаций и концептуальных революций. Радетели «гуманистической педагогики» в пух и прах долбали дундуков-ретроградов из одиозной Академии педнаук. Шла широкомасштабная кампания по внедрению опыта «учителей-новаторов», нетрадиционных игровых методик, «педагогики сотрудничества». На одной представительной конференции под рукоплескания зала было даже принято постановление, запрещавшее учителям оскорблять и унижать человеческое достоинство детей.
– Увы, собравшиеся (сами, в массе своей, никогда не входившие в класс с журналом под мышкой) почему-то забыли принять постановление, запрещающее детям оскорблять учителей, – подхватил Конрад. – А также о том, что реальный рабочий день учителя должен быть не 12 – 14 часов, а восемь, как у других белых людей. И о том, что за свой кровавый труд учитель должен как белый человек получать. И о бесперебойном снабжении магазинов продуктами, коль скоро спецраспределители для учителей не предусмотрены. И ещё много разных хороших декретов забыли издать лучшие друзья совдепских детей. Между тем, дети не торопились становиться лучшими друзьями совдепских учителей. А почуяв единодушную поддержку широкой общественности, даже самые робкие и послушные паиньки ощутили себя зрелыми, неповторимыми, самодостаточными личностями, которым указчики и командиры ни в каком обличье не нужны.
– Увы, в общении с детишками одних пряничков мало – кое-где и без кнутика не обойтись. Тут я с вами согласен, – поддакнул Профессор.
– Буквально через месяц моего шкрабства это «кое-где» слишком стало напоминать «везде». Мои добродушные интонации дети всегда воспринимали не иначе как сигнал «встать на уши». В знак большого расположения они даже стали ставить мне на переменках подножки: свой парень, в доску свой… Безобидные попытки вывести детей из-за парт приводили к превращению «гуманитарного» кабинета в необорудованный спортзал. Игровые методики ни в коей мере не помогали овладеть вниманием класса. Современным малышам больше нравится пристенок с «кругляшками» на фантики от жвачки, чем турнир эрудитов на оценку.
– А потом, сколько я знаю, стали играть на «грины», на баксы… Разве опытные коллеги не объяснили вам, что лучшая методика – та, которой владеешь?
– Так я не владел никакой. Рутинные, но испытанные многими поколениями методики давали совершенно идентичные – плачевные – результаты. И вследствие своей полной организационно-педагогической беспомощности рождественский дед быстрыми темпами стал превращаться в фельетонного совкового шкраба-держиморду, злющего цербера. Уроки напролёт мне приходилось лаять и кусаться. Вот только на результатах это почти не сказывалось. Меня стали ненавидеть, но манкировать не перестали.
Воспоминание 3 (8 лет от роду). Невыспатый и голодный препод иностранной мовы Конрад Мартинсен старается переорать развесёлый четвёртый «В». Да-да, ему противостоят не усатые, плечистые десятиклассники, а скопище десятилетних шмакодявок чуть выше парты, тонкошеих октябрят. У доски, не обращая особого внимание на учителя, канителится двоечник Унцикер из многодетной семьи алкашей. Он вполуха слушает вопрошания и настойчивые призывы повторить фразу «This is a pen», после чего нехотя изрекает язвительно: «Сиси пен». – «Сиськи-масиськи», – отзывается с места его закадычный друг Вебер, парень сообразительный, но неуправляемый, и на радостях швыряет в Унцикера комком бумаги. Унцикер ловит и бросает назад. Класс гогочет и улюлюкает. Учитель орёт что-то типа «Keep silence», но его сиплый голос тонет в звонком оре класса. Тогда Учитель за руку вытаскивает Вебера из-за парты и затыкает его в угол. Оттуда Вебер строит такие умильные рожи, что класс грохается от смеха, и пока Конрад пытается спрашивать кого-то с места, Вебер покидает предписанное ему место наказания и за спиной Учителя обменивается дружескими тумаками с Унцикером, после чего пускается волчком по всему кабинету и кричит классу «Хошь, анекдот расскажу?»
Учитель Конрад с трудом излавливает неслуха и волочёт к доске. А там прыгает на одной ножке уже позабытый Унцикер. «Повтори, что я только что сказал!» – переходит на ридную мову горе-педагог. «Сиси», – громко откликается Вебер, которого Учитель крепко держит чуть выше локтя. «Сиси», – гордо повторяет Унцикер к всеобщему восторгу класса. – «Я серьёзно», – истерит Учитель». – «И мы серьёзно», – отвечают Вебер с Унцикером.
– Бумс! – Учитель в сердцах сталкивает Вебера с Унцикером лбами, после чего руки его отпускают обоих охламонов и бессильно повисают. Охламоны опрометью бросаются вон из класса, под смех и топот всех прочих. Учитель запоздало кидается вслед беглецам – по инструкции учеников ни в коем случае нельзя выгонять из кабинета, мало ли чем они займутся в коридоре? – итак, Конрад, бросается вслед, но задевает своим копеечным свитером за дверную ручку, рукав смачно трещит и рвётся. Класс от восторга неистовствует. Урок – если это действо можно было назвать уроком – окончательно сорван.
– И так детки вели себя изо дня в день, из класса в класс. И только у меня, – продолжил рассказ Конрад. – Ребёнок даже в потёмках распознает мягкотелого и бесхребетного, сколько бы тот не добавлял металла в голосе и грохота в топаньи ногами. И поневоле приходилось мозговать: уж если эти первозданные, «естественные», не обременённые жизненным опытом существа откликаются на силу (пусть не только физическую) скорей, чем на добро, значит… Не успел я додумать эту мысль до логического конца, как грянул гром. Вебер пожаловался папе, что у него-де головка болит и объяснил, почему. Вебер-папа незамедлительно обратился в прокуратуру.
– А вы как же? Вы-то кому надо пожаловались?
– Беспощадная совесть тут же крепко сцапала меня за шиворот и потащила на покаянную исповедь – в кабинет завуча. Завуч был милейший «интеллигентнейший» человек, фанат своего предмета, знаменитый на всё гороно методист. Старый добряк схватился за голову: «Без рук, понятное дело – никак, но надо же знать – кого! Посмотрел бы в журнале: у Вебера папахен-то – журналист…» Действительно, через пару дней о моих зверствах написали в газете, а ещё через день меня с пристрастием допрашивали. За рукоприкладство могли дать до года, и не факт, что условно, но я ни словечка не молвил в защиту своей шкуры: я не сторонник битья детей и был готов понести заслуженное наказание. Спасибо дружному педколлективу – отстоял, взял на поруки (все знали цену и Веберу-младшему и учительскому хлебу). Сердечно отблагодарив добрых моих коллег, я кое-как домучился до конца учебного года и – подал заявление об уходе.
– Ну и какова мораль? – недовольно буркнул Профессор. – Давайте колотить детей почём зря?..
– Мораль проста. Все, кому не лень, критикуют, скажем, программу по литературе, но никто не берёт на себя смелость засесть за разработку новой программы. И, зазывая интеллигенцию в школы, сами предпочитают оставаться на прежней вахте.
– Но ведь есть же педагоги от Бога! Искру Божью не заменят никакие методические штудии, ведь педагогика – не наука, а величайшее из искусств…
– Искусство манипулировать людьми… Да, да… Только вот беда: сволочной школе одновременно требуется более миллиона учителей. Мыслимо ли, чтобы на коротком историческом отрезке вдруг уродилось более миллиона сухомлинских? И вакантные места занимают не дряблые прекраснодушные рохли, а кремнёвые и цельнометаллические рыцари без страха и упрёка.
– То бишь изуверы-инквизиторы со стальным блеском в пустых глазах…
– Это – вторая категория людей, приспособленных к работе в сволочной школе. Тут ничего не попишешь – закон естественного отбора, тем более, что естественный отбор осуществляют, как правило, не гадюшник-педколлектив и не мафия-администрация, а – дети.
– Позвольте, но ведь в «несовдепской школе» тоже далеко не все учителя – песталоцци. Однако ж детей там не загоняют за парты, не ставят в угол, не орут на них отборным матом, а знания дают не хуже и не меньше, чем в школе совдепской.
– Так оно, возможно, и есть. Только «там» у педагогов куда выше мотивация, чтобы учить, а у детей – чтобы учиться. «Тамошние» дети тоже смотрят вокруг, и не менее зорко, чем «здешние». Но в отличие от здешних они с пелёнок усекают: в жизни намного лучше быть инженером, научным сотрудником или тем же учителем, чем приёмщиком стеклотары или разбойником. Они живут в обществе, где нет такого раздрая между прописями и жизнью… А у нас – как объяснить малолетнему балбесу, что некрасиво обижать слабых, нехорошо красть и необходимо почитать старших? Как убедить, что пример надо брать не с Макса и Морица, не с Чака Норриса и не с Мишки Япончика, а с Махатмы Ганди и доктора Гааза? Или хотя бы вдолбить, что ученье – свет, а неученье – тьма?
– Ну уж проповедями точно ничего не добьёшься.
– Лично мне нечасто приходилось читать ученикам проповеди – для этого надо было бы добиться элементарной тишины, чтобы твою проповедь могли хоть как-то выслушать… Разве что после уроков, в беседе один на один я имел шанс повлиять на какого-либо шалопая методом убеждения. Но всякий шалопай был не лыком шит и на любой мой аргумент находил убийственный контраргумент, и дальше крыть мне было нечем. В конце концов я всё-таки отыскал один-единственный веский довод, и то – в пользу учения вообще…
– Тому же Веберу, например, следовало сказать: «Будешь прилежно учиться – благоденствовать тебе в благоуханной Загранице. Нет – кукуй в вонючем Совке».
– Вы опять угадали. Но к этому времени Вебер был уже вне досягаемости: перепуганный папа вырвал его из косматых лап людоедов вроде меня и увёз в безопасное место. За границу.
Наконец, показалась директриса. Её привезли на иномарке. Она вышла, а шофёр остался сидеть в машине. Конрад решил, что это та ещё штучка и живёт явно не на директорскую зарплату: серьги в ушах, кольца на пальцах и кулон на груди показались ему весьма дорогими, хоть он ничего и не смыслил в украшениях. При этом директриса была не стара, и, возможно, в принципе не застала тот период, когда здесь учился современный герой. Вообще странно, что директриса, а не директор.
Конрад подождал, пока представительная дама исчезнет в своём кабинете, и только после этого решился войти. С порога он предъявил ксиву, которая могла его и спасти, и сгубить.
– Очень приятно, – сказала директриса, ничуть не удивившись удостоверению Органов. Наверняка, их представители были здесь частыми гостями. И наверняка задавали те самые вопросы, которые сейчас собирался задать Конрад. Но выбора у него не было – преподаватель физкультуры утром нагло отказался отвечать, сославшись, что директриса в курсе всего, и без её ведома он может только извратить картину. Конрад не настаивал, уж больно физрук напоминал качка-бычка.
Изумило Конрада другое: на спинку директорского кресла была небрежно наброшена вязаная шаль. Если учесть, что в помещении не топили, ничего странного в этом не было. Но Конрад хорошо помнил, что говорила ему старушка-вязальщица: шали всерьёз и надолго вышли из моды…
– Позвольте мне сразу приступить к делу, – начал он, откашлявшись. – В вашем училище есть секция стрельбы из лука, так ведь?
– Была секция. Вёл её известный спортсмен, мастер спорта, а теперь больше не ведёт.
– Так, значит? – задумался Конрад. – А куда он делся?
– Вы же ещё спрашиваете! Арестовали его. Ваши же.
– Давно?
– С полгода.
– С полгода… – Конрад задумался много дольше, чем пристало его статусу и чтобы что-то сказать, страшно сглупил. – А где же весь инвентарь?
– Инвентарь? – директриса оставалась невозмутима. – Сначала заперли в опечатанной комнате. Сами понимаете, не детские игрушки. Но месяц назад мы его продали.
– Кому?
– Столичному спортклубу «Стрела», – с готовностью отозвалась директриса. – Лучный спорт только в столице ещё и теплится. Я могу накладные показать.
– Покажите.
Пока директриса рылась в бумагах, Конрад лихорадочно соображал, что же спросить теперь. Вот, кстати, и накладные. На всякий случай он записал адрес. Мать-столица, мать её… Далеко.
– А когда открылась ваша секция?
– Да недавно. Она просуществовала года два всего… А позвольте, я вас тоже спрошу.
– Да, конечно.
– Вы какое дело раскапываете? – директриса запахнулась в шаль.
– Да всё то же, – проболтался Конрад. – Вашего бывшего воспитанника.
– Ах, бывшего… У нас почти все нынешние на учёте в полиции состоят. Рассказать?
– Да нет… – сказал Конрад и осёкся. – Нет, что вы! В другой раз…
Больше он ничего не мог сказать. В который раз он счёл себя полнейшим идиотом. А тут ещё наряд директрисы отвлекал его внимание. И посреди «допроса» Конрад вдруг заметил, что хотя размерами, формой и цветом директрисина шаль напоминала аннину, рисунок её был совсем другой. Особенно явно это стало, когда директриса выпрямилась в полный рост, чтобы пожать «следователю» руку. Аксессуар показался Конраду составленным из любовно вывязанных змей. Да и кулон на шее чиновной дамы явно изображал свернувшуюся в клубок рептилию. Как мы помним, Конрад панически боялся гадов, и потому чаял поскорее выбраться из директорского кабинета.
В урочный час он заявился к Натали.
Они ступили на семь вылизанных метров кухонного линолеума. Стерильными посудинами набиты пластиковые шкафы. Самодовольно рокочет исправный холодильник. Видишь своё отражение в эмалированной электроплите, отдраенной до блеска, о пяти конфорках; любезно водрузила на неё Натали миролюбивый пузатый чайник со свистком.
– Чай или кофе?
– Кофию хочу. Вкус уже забыл.
Он на сердце плохо действует…
– Последний раз в жизни – кофе! Полцарства за чашку кофе! А там помру от разрыва сердца, гори всё огнём… Мама дорогая!..
Колбаса… блаженной памяти колбаса цвета здорового младенца аккуратными кружочками стелилась из-под нестрашного ножика Натали. Конрад хапнул по ошибке сразу два куска и… проглотил язык.
– Наталихен, солнышко, неужто это наяву… – прорыдал, наконец, осчастливленный бывший муж.
– Ну вот, вовремя ты поспел… как раз нам заказ выдали…
– Спецпаёк?
– Ну брось… Конечно, заказы у нас чаще и лучше, чем в других местах. Раз на раз не приходится. Вот с прошлого раза печенье… ты, по-моему, не любишь печенья…
Ишь память у чекисток…
– Киска, о чём ты?! Когда это было?! Давай!!! – и слюнки текут, хоть слюнявчик повязывай.
– Эх, бедный-голодный… – очень мило и очень искренне смеялась-улыбалась бывшая жена.
Как будто чудесная машина времени перенесла Конрада лет на десять назад, в сонную эпоху сирого убогого уюта. Жили не богато, но терпимо. Ах, эти вышитые цветочками держалки для кастрюль, эти облупленные портреты шоу-див, налепленные по настенному кафелю, этот натуралистичный силуэт пышнощёкого малыша неглиже на двери клозета, эти узорчатые маслёночки-солоночки… этот вкус… этот запах…
С умилением глядела Натали в чавкающий рот Конрада – так когда-то смотрели, поди, одинокие солдатки на нашедших у них в доме приют и успокоение, разомлевших от нежданного тепла беглых каторжников.
– Несчастный… некормленный… – всё ворковала она, хохоча, но без тени стёба. И навалила на тарелку добрый килограмм пышущей разваренной картошки. Гость победоносно и хищно кинулся поглощать. Скорми она ему целый гастроном десятилетней давности – умял бы, не лопнул.
– Ну… ты как живёшь-то? – спросила Натали, провоцируя.
– Провоцируешь, – сказал Конрад.
– Конрад, ну ты хотя бы работаешь? Сейчас ведь с тунеядством…
– Натали, закроем митинг.
– Ну, погоди ты. Я серьёзно. Ты ещё помнишь языки?
– Фак, кант, прикнесс, аллон занфан де ля патри, шерше ля фам, селявуха, тужур, абажур, монтанно, фонтанно, ви донт ноу мэни форин вёрдз, – зафиглярничал Конрад.
– Слушай, а серьёзно?
– Кому они нужны окромя вашей шарашки?
– Это подумать надо… – Натали задумалась.
– Лапонька, подумай лучше о чём-нибудь другом. Полагаю, есть о чём.
– Да ты что… мне ведь… я просто могу спросить там у одного…
– Натали, окстись. Меня нет. Всё хорошо.
– Ну как нет, когда вот он ты – есть.
Становилось уже неприятно, да вот всё не мог Конрад изыскать способ положить конец этой мутоте. Наконец, просто хлопнул кулаком по столу со словами:
– Растудыть, Натали. Зачем столько о грустном?
– Ну, расскажи что-нибудь весёленькое… – усмехнулась Натали, будучи на двести процентов уверена в том, что ничего весёленького бывший муж не расскажет. И ошиблась. Поднатужившись, Конрад вспомнил десятка полтора слышанных вполуха афоризмов армейской мудрости. И не беда, что для женских ушей вроде не предназначены – уши сволочных женщин ко всему привычны, загрубели-огрубели, коркой покрылись.
Вон, и постоянно щебечущее на кухонном столе радио самый популярный шлягер сезона передавало, незатейливо названный популярным автором-исполнителем «Соси». Всё гениальное – просто. Четыре синтезатора в унисон вели мелодию, состоящую из звуков ре и ми, электрический ударник очень к месту выдалбливал сильные и слабые доли, а расфуфыренная примочками гитара монотонно мяукала свежие и неожиданные гармонии: ми-минор – ре-мажор. Вскоре в этот бесподобный драйв вписался проникновенный визг прославленного солиста.
– Без хуя – плохо! – завывал солист.
– С хуем хоро-шо! – с готовностью отзывались девочки на подпевках.
За дверью кто-то душераздирающе и антипищеварительно вторил самой популярной песне сезона. То свирепый пёс Рокки просился погулять. Даже хорошо, что он сбил самозваному гостю аппетит – за ушами трещало-трещало, вот-вот из ушей полезет. Радушная хозяйка пошла выполнять заказ четвероногого друга, а Конрада препроводила в комнату, чтоб не скучал, заморские журнальчики полистал.
Но того мало занимали советы мужчинам, желающим забеременеть, шаблонный эпатаж интервью с поп-звёздами, смазливые смуглянки, реклама суперэлектроники, суперпарфюмерии и суперкрасот Таити. Текст он схватывал через слово – всё позабыл… к тому же беременеть не собирался, попсу не слушал, а тёлок таких, как и парфюмерную электронику увидеть живьём не чаял и в отпуск на Таити не собирался – хотя бы за отсутствием отпуска.
Вместо этого его взор, оттаявший от сытости, заскользил по комнате. И здесь та же мещанская идиллия прежних златых денёчков… куда-куда вы удалились… Вся мебель одностильная – гарнитур называется, в серванте – хрусталь и морские ракушки. Тут же видеомагнитофон – видеорай, видеосон.. На столе персональный компьютер, начатый перевод – химия полимеров, не какие-нибудь вам термоядерные бомбы… На полу – ковёр с ориентальным орнаментом, на стенах – опять же ковры. На одном из них изображена некая элегическая усадьба с прудом, по которому, выгнув шеи подковами, плавают белоснежные лебеди, а на берегу полненькую томненькую хозяйку с локонами Мальвины держит за руку отрешённо-самозабвенный страстнеющий штюрмер-унд-дренгер.
На другой стене поверх ковра повешены два квазиромантических ландшафта в рамах, покрашенных золотистой краской, и несколько фотографий в рамках картонных. Одна изображала исходящую томной негой Натали, завитые её кудряшки покоились на прикостюмленном плече атлета с умными глазами навыкате – мужа. И два снимка ребёнка – такой, знаете, умилительный червячонка из коляски высунулся, нечленораздельной лапкой к погремушке тянется; и он же на двух своих ногах по родной земле шествует, вихрасто-веснушчатый завоеватель с игрушечным ружьём.
А эта фигня что здесь делает? Неплохая, не нашей фирмы. Как Натали вернулась, Конрад первым же делом спросил.
– Зачем пианино? Ты же вроде не умеешь. Мужик твой, что ли, лабает?
– Маленький скоро будет учиться.
– Ха-ха-ха! Все педагоги за бугром!
– У нас свои педагоги, ты их не знаешь.
– А-а… своя субкультура… Или контркультура. Поди, всю джульярдскую школу переманили!..
Это замечание Натали оставила без комментариев. Конрад сменил тему на более животрепещущую.
– Как вообще человеческий детёныш – здоров?
– Болявый детёныш.
Будто поверила Натали, что её скромное существование кого-то интересует. И принялась рассказывать – ровным смиренным тоном. Самой себе?
– Как родился, так из болезней не вылезает. И гепатит, и свинка, и корь… А мне больничный редко-редко позволяют: работы невпроворот… а нет, так всё равно не позволяли. Всё на бабушку ложилось, включая кормёжку… Искусственным путём кормить приходилось… а ты попробуй, достань детское питание… тем более здесь, в этой дыре… Да, Руди перевели… Вот… Ну, сейчас, ничего, тьфу-тьфу-тьфу, в садик ходит… Хороший детский сад. Что? Привилегированный? Ну пусть так, а где ещё он найдёт общество нормальных детей?.. Потом там уход, глаз какой-то за детьми… воспитательницы получают неплохо, вдвое больше, чем в обычных садах… там вообще ведь кошмар что творится… А эти – держатся за место. У них там ритмика, аппликации учат делать… Через год начнут учить читать. Их не бьют там, не матерят… если ребёнок ноги промочит… носки сменят, коленку ушиб – зелёнкой помажут… Ему, по-моему, там нравится… товарищи есть… да, да, сыновья руководящих товарищей, ну причём тут… у тех всё же дети как дети.
… а я день-деньской в офисе, рабочий день ненормированный… не успеваю сама малыша забрать… слава Богу, мы тут квартиру выбили для бабушки… теперь здесь живёт… я и сейчас его к бабушке отправила, соврала, что до ночи сижу… А? Поверила, конечно, это ж так часто… Вот. Что делаю? Да нет, какая там секретность… Рутина. Бумажная работа, всякое делопроизводство… глаза себе порчу. Заодно обучаюсь – у меня, видел, персоналка стоит. Отечественная, поганая… На повышении квалификации была, там научилась ковыряться… Сначала интересно было, нравилось… сейчас приелось… я… Что? Языки? Да, переводов много… но начальство ругается – это, получается, я не на них работаю, а на Центр. Из центра присылают переводы, посылают в столицу, а они через один доходят… потом докажи, что не ты виновата, а почта… Так что премию всё время режут. Устный язык совсем забыла. Понадобится – двух слов не свяжу. Да уж не понадобится…
…ну там, если свободная минутка, мы с Лизхен чай пьём, трепемся. Лизхен Шуберт – новая наша сотрудница, её из Медвежьего Угла к нам прикомандировали. Молоденькая, зашуганная, здесь у неё никого… вот, тянется ко мне. Она, кстати, там, во всей медвежьеугольской губернии единственная отличница... Да вот, осталась бедная губерния без отличниц... Что ты говоришь? Погромче... ах, ну да, у тебя голос… это… Что? Кто встанет у руля медвежьеугольского химкомбината? Ой, этот разнесчастный комбинат… Лизхен такие вещи рассказывает: там вся губерния у них кровью харкает, дети сплошь с онкологией родятся… там, говорит, без противогаза на улицу не выйдешь… у-ужас, скорей бы, к чёрту, закрыли его… Вот… а Лизхен там проходу не давали, одноклассники… за то, что училась… Били её каждый день, говорит, теперь родить не сможет… А? И тем не менее отличница. Медалистка. Героиня? Я сама удивляюсь… Да, характер есть… только обидчивая… сил нет… Вот, надеется всё-таки замуж… только она ещё и очень страшненькая… жалко девку.
…ну да, в принципе, скучно здесь. Пашешь, пашешь, а развлечений – не особо. Ну вот… прокуроры в гости ходят… Что говоришь? Заметно? Да, самые шикарные бутылки Руди выставляет, для коллекции… Но если думаешь, шерри-бренди каждый раз, то ошибаешься. Только однажды было, в самом начале, как приехали… а так дерьмо собачье… портвейны всякие… Нет, сами не гоним, ещё не хватало. Оторвались от народа, говоришь? И слава Богу… Да, кстати, маленького мы окрестили – сейчас религия потихоньку входит в моду… Вот. А ещё у нас ведомственный ипподромчик есть за городом, захудалый такой… Лошадки там ледащие, но всё же… поскачешь-поскачешь… да вот, амазонкой заделалась… такой кайф! Ну, на лодочках покататься – там же. Среди своих. А вот, кстати, я ещё в столице автошколу закончила… Но Руди тут… ну деспот деспотом. Не разрешает больше самой водить. Разбойных нападений боится. А в столице каталась… сперва боялась ужасно, потом осмелела… по городу разъезжала и, представляешь, ни одной поломки, ни одной аварии… Хотя не дороги, конечно, а сплошные колдоёбины. Вот… Кино? Да у нас там крутят, в клубе… Но мы чаще видик – только с кассетами туго, фиг-два достанешь.
…Руди? Он молодец… Но так получается… сказали, раз в три недели на три дня будет приезжать, но не всегда выходит. Работа у него адова… Если-таки приезжает, только отсыпается и пьёт. Тут запьёшь… Что говоришь? Ну, повнятнее не можешь?.. Прости… А ля гер ком а ля гер, говоришь… Да это ж не война… Изматывается он – это да, а так… я надеюсь, ничего не случится. У него второй дан по кулачному бою… Извини, как? А-а, если кто с первым даном попадётся… Так у него револьвер! По-твоему, револьвер сейчас у каждого второго? У первого?.. У нас вот с тобой нет. Ну я молюсь за него… тайком, разумеется.
– Ну, и если оглянуться на пройденный путь? – призвал ответить Конрад неожиданно полновесным звуком.
Правда он хотел добавить: я знаю, слава Всё Ему Же, что ты обладаешь даром не оглядываться на пройденный путь… И как он изумился, когда Натали вполне спокойно ответила:
– Ты знаешь… я думаю, это был единственный верный для меня путь. Я бы осталась в любом случае в этой стране. Здесь можно ничего не мочь. Мы, кажется, говорили об этом… Я – обычная, никакая… А благодаря тому, где я сейчас, я всё же что-то значу… вряд ли могла бы значить больше. Здесь я чему-то научилась, что-то могу. Машину вожу, программирование чуть-чуть знаю… и вот… пристроена. Мужа, в общем, люблю, ребёнок как-никак растёт… Что дальше? А я, как и прежде, не думаю, что дальше… Живу сегодняшним днём, ничего, терпимо… О чём могла бы ещё мечтать? Не пойди я в Органы – торговала бы собой, спилась бы… Третьего дано не было, согласись.
И Конрад согласился.
– Натали, а покажи свою фотографию в униформе. Если есть.
– Нету. Мне униформа не положена. Пока, – на «пока» она нажала.
Конрад испросил позволения закурить.
– На балконе. Надо же, – неподдельно удивилась Натали. – Ты ещё где-то достаёшь сигареты?
– Кто ищет, тот всегда найдёт. Вон у тебя на тумбочке – тоже пачка лежит.
– Неначатая. Для гостей. Я только на работе иногда, за компанию… Я тебе тоже составлю компанию.
У него – свои, у неё – свои. Вышли.
Расхлябанную беззвёздную твердь подпирали праздные призраки – фонарные столбы. И опять только на одном зачем-то светил фонарь. По освещённому кругу рывками дёргался чёрный радиус, раздвоенный на конце. Конрад установил, что это тень перепившего человекообразного, на растопыренных ногах; оно лобызалось со столбом в расчёте не утратить сцепления с почвой. Человекообразное на все лады мелодекламировало недавно разрешённые цензурой слова. Конрад заслушался.
– Невелика беда, что закрылся оперный театр. Можно слушать маленькие ночные серенады, не сходя с собственного балкона.
– Он несчастен, – сказала Натали.
– Помнится, когда-то твои ушки вяли от подобных слов…
– Но если они идут из сердца…
– Тогда впору обращаться к кардиологу, – заключил Конрад и выкинул непогашенный окурок. Красная точка, повинуясь земному притяжению, бесшумно врезалась в мокрый асфальт и приказала долго жить.
– Натали, я в городе не просто так. Вот у меня тут инструкция… – жестом факира хотел Конрад изъять список дел, но театральный эффект, увы, пропал – на пол упали две пресловутые фотокарточки.
Конрад поспешно бросился подбирать, а Натали словно и не заметила, инструкция её интересовала больше.
– Женский почерк! – воскликнула она обрадованно. Чеканное слово «Анна» объяснило ей, почему Гость Из Прошлого в настоящем ведёт себя пристойно.
Такое объяснение, ясное дело, Конрада не удовлетворило.
– Как видишь, работаю снабженцем у частных лиц. Типичная для нашего времени профессия.
– А-а… – опять Натали растерялась: говорить неправду и вилять этот убогий не умел никогда.
– Вот, всё это мне нужно завтра-послезавтра обтяпать. И… одна просьба личного характера. Средство от клопов у тебя отыщется?
Натали предложила:
– Хочешь, видик посмотрим?
– Эк удивила… теперь на каждом углу видеобар.
– Ну, далеко не на каждом…
– МТБ никудышная, а то бы… Народ жаждет заполнения культурного вакуума… Чего там у тебя – про качков или порнушка какая?
– Ну, не без этого… А есть «Кабинет доктора Калигари», хочешь? – (Конрад замотал головой). – «Сталкер», кстати, есть, – тебе вроде нравился?.. Нет? А Элвиса Пресли лайв?
– Во, давай, мать, Элвиса Пресли.
И очаровательный обаятельный щёголь корячился на чудо-экране добрых полтора часа, распевая инфантильные куплеты о голубых башмаках и разбитых сердцах.
Натали рассказывала о секретах снабжения.
– Конрад, ты лучше не дрыгайся – бесполезно. Только расстроишься. Кое в чём я тебе помогу, ладно? Но… люди всё знакомые, будут спрашивать: зачем?.. для кого?..
– Врать ты, кажется, умеешь. Скажешь мужу: подруга приезжала.
– Какие у меня подруги, Бог с тобой…
После мозгового штурма решили действовать через Лизхен Шуберт. К той вполне мог приехать кто-то из родни.
Манила, точно фата-моргана, вкусная вывеска магазина «Молоко». На самом деле давно переименовать было б можно: магазин «Маргарин». Да упустили время, теперь и маргарин исчез.
– I’m so lonely, babe, – возрыдал Элвис с экрана. Конрад расчувствовался и стал в такт раскачиваться в кресле. Заметив, что бывший муж доволен, Натали удлинила видеосеанс: теперь для них пел герой недавнего прошлого, эффектный скиф с раскосыми и жадными глазами, пожелавший тем, кто ложится спать, спокойного сна.
Натали вспомнила, что ей завтра к восьми на работу, Конрад – что прошлой ночью его сон был неспокоен. Они попрощались: рукопожатие, чмок в щёчку.
И притом он сказал:
– Натали. Я сильный. Я сберёг целку в жопе.
Истинных героев стороной обходят награды. Не оценила Натали.
Без особой охоты Конрад вечером подгрёб к улице Энгельса, и среди обшарпанных, ржавого цвета складских помещений ему выдали всё, что значилось в списке Анны. Крупы, макаронные изделия, консервы, краску, полироль, средство от клопов – длинный список артикулов, не уместившийся в каталке, в связи с чем пришлось покупать ещё одну и набивать её под завязку. Лично для себя Конрад сумел выпросить два блока сигарет. Даже с учётом этих непредвиденных трат заплатить пришлось ощутимо меньше, чем предполагалось. Кроме того, Конрад получил небольшой аккуратный пакетик с надписью: «Анне Клир, лично в руки» – надо думать, особый презент.
Ссутулясь, сгорбившись, Конрад с трудом довёз обе каталки до гостиницы и стал мозговать, как бы защитить их в обратном поезде от чужих посягательств. Ничего, впрочем, не придумал. К счастью, обратный путь прошёл без эксцессов, если не считать изрядно помятых боков. В этой поездке ему явно бабушка ворожила.
Из «Книги понятий»:
Тот, кому на одной шестой части суши и в сопредельных странах довелось прославиться под именем Землемера, был единственным сыном техника и табельщицы. Отец покинул семью, когда мальчику было три года, и с тех пор он его ни разу в жизни не видел. Жили скромно, зарплаты матери едва хватало на еду и самые необходимые игрушки типа резиновых зайцев и пары простейших машинок. Солдатиков и радиоуправляемых моделей мальчик не получал. Ходил в том, что мать самостроком шила из старых лохмотьев, за что в детсаду и в школе не раз именовался «чушком».
Мальчика отдали было в детсад на пятидневку, но вскоре перевели на обычный режим – он так часто простужался, что мать не слезала с больничных и день-деньской потчевала чадо касторкой, банками и горчичниками. Мальчику выписали диагноз «хронический бронхит» и заподозрили даже астму, что, впрочем, не подтвердилось. Но даже когда ребёнок выздоравливал, большого труда стоило матери вытолкать его за дверь квартиры. В детский сад он категорически идти не хотел, опасаясь издевательств сверстников. Кроме непрезентабельной одежды, поводом для насмешек служила крайняя неловкость и малосильность будущего Землемера. Издевательства продолжились затем и в школе, где у ребёнка отнимали каждый сбережённый матерью грошик и положенные школьные завтраки. За себя постоять мальчик не умел, и частенько ему устраивали «тёмную»: просто так, в силу полной беззащитности жертвы. Однажды сломали нос, однажды – руку, в пятом классе впервые полоснули ножом. Мать не имела соответствующих связей, чтобы призвать обидчиков к ответу. Друзей у Землемера, который тогда звался просто «чушком», не было. Учился он плохо, туго усваивал материал, и учителя считали его тупым и недалёким. Мальчик проводил всё свободное от школы время в своей комнате, на улицу носа не казал, только читал приключенческие книжки и рисовал, пока хватало бумаги, а когда не хватало – то на книжках, в том числе библиотечных, и прямо на обоях. Рисунки у него были примитивные, палка – огуречик, и не сразу мать смекнула, что рисует он преимущественно сцены совокупления мужчин и женщин. Смекнула уже когда начался запойный, не знающий удержу онанизм. Мать водила сына к врачам различного профиля, к попам и к бабкам-знахаркам, но всё без толку – едва она выходила за порог, сын беспрестанно дрочил. Летом она вывозила его за город, в деревню к тётке – он и там забирался с книжкой в дальний угол участка, но двигался в чтении крайне медленно, так как, прочтя пару страниц, принимался за вечное своё грешное занятие. Деревенские из-за забора дразнили нелюдимого мальчугана и расстреливали его из рогаток.
Когда будущий Землемер с горем пополам перешёл в восьмой класс, матери перепала путёвка на южноморский курорт. Она поехала вместе с сыном и вскоре об этом пожалела. По соседству жила шестнадцатилетняя девица из столицы, у которой было много модных тряпок и формы на зависть зрелым бабам. Мальчик словно ополоумел и молча преследовал девицу всюду – на пляже, на экскурсиях, в гостинице. Так продолжалось, пока девица не пожаловалась местным, с которыми к тому времени сдружилась – и те отделали сына табельщицы под орех, лишив его множества уже постоянных, коренных зубов и сломав ему ногу. С тех пор Землемер по сей день едва заметно прихрамывает и старается пореже ходить пешком.
В девятый класс хромого мальчика не взяли. Как и многих других неуспевающих отроков губернского города его определили в землемерное училище имени Хрубеша. Там он учился по-прежнему спустя рукава, но начал посещать качалку и кое-как стал контактировать с сокурсниками. Кроме того, в отличие от всех от них он всерьёз заинтересовался личностью того, чьим именем названо училище, особенно его террористической деятельностью. Он стал читать книги о нём и даже ошивался возле архивов, прося взрослых исследователей из местного пединститута скопировать ему документик-другой из жизни кумира. Впрочем, долго учиться юному фанату Хрубеша в училище его имени не довелось.
Однажды будущие землемеры решили, что вполне созрели для великих дел и взялись обчистить табачный киоск. Будущего Землемера заставили стоять на стрёме, и он не смог отказаться. В результате как самый неповоротливый один только он и попался – с тех пор он состоял на учёте в полиции. Правда, на первом же допросе он выдал всех своих подельников, и сверстники, конечно, не оставили сей позорный факт безнаказанным.
По дороге домой из школы «чушка» встретила кодла из нескольких человек с чулками на головах. Его отвели в близлежащую рощицу. В руке одного из встречавших сверкнул нож, и он вонзился в гениталии мальчика. Нападавшие от души помочились на него, корчившегося от боли, причём оказалось, что часть нападавших составляли девицы. После чего парня бросили в леске истекать кровью. Чудо, что достаточно скоро мимо прошли взрослые и вызвали «Скорую».
С тех пор Землемер не только не способен вступать в половые сношения с женщинами и иметь потомство, но даже для простого мочеиспускания ему требуются специальные приготовления.
А пока он лежал в больнице, мать-табельщица даром времени не теряла. Она познакомилась с человеком некоренной национальности, собравшимся навсегда выезжать на историческую Родину. Роман их был бурен и плодотворен. Спустя несколько месяцев после происшествия в рощице несостоявшийся землемер вместе с матерью и отчимом переехал в свободный и счастливый мир, где дети не стреляют друг в друга из рогаток и не членовредительствуют.
Таков был конспект первой главы из жизнеописания Землемера, великого и ужасного, который Конрад, едва вернувшись на Остров Традиции, перепишет в Книгу Понятий. Как видим, это было довольно бесхитростное повествование, и даже не свойственный словарю родного языка глагол «членовредительствовать» Конрад добавит от себя. Вот только кто автор оригинального повествования? Если поначалу Конрад не сомневался, что им была Алиса Клир, после происшествия в гостинице он подумал, что нравы местного криминала, должно быть, неплохо знакомы и Анне. А может быть, был ещё какой-то родственник или однофамилец А. Клир, о котором Конрад и не догадывался.
10. Квартет
Осень в захолустье. Жухлолистье. Мелкодождье. Безнадёжье. Хлипко, хлюпко, хлябко. Зябко и зыбко.
Щёлк щеколдой и вперёд, по косой дорожке. Ну что там, есть перемены на Острове Традиции?
Ага, на Острове появилось новое лицо И какое-то странное, светится этакой щенячьей радостью. Чтой-то вдруг? Такое сейчас увидишь разве что в кино.
– Здравствуйте, – слегка жеманно пропел чувственный рот нового лица. – Вот вы, значит, какой, Конрад, – музыкальная ладошка сверкнула золотым колечком ему навстречу. – Помните Стефана? Я Маргарита, его сестра.
Конрад кивнул головой, что-то промычал и пустился соображать, куда бы ретироваться долой с очаровательных глаз очаровательных маргарит, сияющих до кончиков ушей и пальцев.
– Конрад приехал! – звонко, точно некурящая, оповестила Маргарита равнодушные окрестности.
В семье доктора кибернетических наук Лаумана старший ребёнок, окрещённый Маргаритой, вдруг уродился заурядной гуманитарной девочкой, заядлой театралкой, всеядной книгоглоткой. После школы она поступила на культурологический факультет Университета – на вечёрку, чтобы судьбу не искушать. И в ту же учебную группу приняли (с четвёртого захода, только-только власти принялись смывать клейма и снимать ярлыки с опального отца) архиталантливую до неприличия, до гениальности девушку по имени Анна Клир. Была она, выходит, всего тремя годами старше – таких на курсе было немало, но судя по повадкам и пристрастиям родилась где-то пару столетий назад и где-то там же, по мнению однокашников, законсервировалась. Ибо пропускала мимо ушей политические сплетни и анекдоты (даром что диссидентское отродье), игнорировала неизбежные для женского факультета базары о прикидах и макияже (хотя всем на зависть выдерживала безупречный стиль), а весёлым пьянкам-блядкам с мальчиками из Дипакадемии (при отменном сексэпиле) предпочитала самосовершенствование. И хотя Маргарита сама была из другого теста и нисколько этого не стыдилась, она, с рождения склонная к экзальтации, аффектации, ажитации, форменным образом, почти на сапфический манер влюбилась в яркую породистую однокурсницу.
И увивалась за ней всюду, как нитка за иголкой. В группу медитации, в секцию стрельбы из лука, на уроки академического вокала. И даже взирая с патетическим ужасом, как Анна, словно сошедшая с полотна Рафаэля, днём горбатится со шваброй в руках на задристанных лестницах трущобных подъездов, Маргарита в конце концов решила: наверно, так и надо, вот она, подлинная сермяжная правда. И вскоре сама ушла с тёплого лаборантского местечка, из-под папиного крылышка и безмерно гордилась новым званием, означенным в трудовом билете – «уборщица».
И такая для всех недосягаемая Анна снисходила до восхищённой сокурсницы, хотя не дюже любила, когда ей в рот смотрят. Конечно, дистанцию сохраняла солидную. Разная у них была карма и разная дхарма. Анна накапливала космическую энергию наподобие огромного конденсатора, стараясь не разбрызгать ни электрончика – пока вся ей не зарядится. А у Маргариты конденсатор был куда меньшей ёмкости, зато заряжался-разряжался на редкость интенсивно, вся поступившая энергия тут же фонтанировала вовне и питала новые и новые потребители. На стандартную ТЭС или ГРЭС её, факт, хватило бы. Шустрая Маргарита поглощала прорву разнообразной информации – в том числе полезной – и тут же щедро со всеми ею делилась. Переведшись вскоре на дневное отделение, она уже не пропускала ни одной премьеры дерзновенных новаторов сцены, ни одной выставки нищих, но даровитых шалопутов, ни одной сколько-нибудь актуальной лекции в музее науки – и на каждый культпоход раскачивала целую отару инертных сверстников и сверстниц. Она бороздила озёра Севера и предгорья Юга, обожала в отпуск летать в молодёжные лагеря, подвизалась в оргкомитетах фестивалей и конкурсов – благодаря невероятной нахрапистости и несомненному обаянию. Что ж, друзей было хоть обдружись, и всё народ отборный, чумовой: авторы сногсшибательных изобретений, восходящие звёзды альтернативного экрана, менеджеры и коммерческие директора (тогда ещё термины из словаря марсиан) художественных выставок-аттракционов, всё неотразимые супермены не старше тридцати.
Анна же даже в секциях, кружках и группах существовала совершенно автономно. С окружающими общалась постольку, поскольку – оргфразами. И только Маргариту удостаивала более пространными речами. О сущей ерунде, как правило. Запутается та, скажем, в мужиках, надумает душу излить, Анна пару замечаний выскажет – вроде и не про то, вроде и ни про что, а у Маргариты сразу мозги на место становятся. Или по хозяйству совет даст, или по кройке, по шитью – Анна абсолютно всё умела делать. Подруга знала, что притом Анна штудирует гностиков, импровизирует фуги и пишет гекзаметрические поэмы, вся в это погружена, и сейчас она – в этом. Но сказано ведь: не мечите бисер перед свиньями, без тени обиды утешала себя Маргарита.
Зато Анна любезно позволяла ей сопровождать себя в баню (очередная причуда великой натуры). И в театр, и в кино, и на вернисажи Анна брала с собой Маргариту – только её одну. А подчас… Хотя билеты всегда добывала Маргарита, никогда нельзя было предугадать, какой вердикт вынесет Анна. Возможны варианты. «Идём вместе», либо (чаще всего) «Иди с кем-нибудь, я переживу», либо – в единичных, но непредсказуемых случаях: «Прости ради Бога, но мне лучше пойти туда одной».
Получив дипломы, подруги надолго теряли друг друга из виду и шли каждая своей дорожкой. Анна играла в бисер, Маргарита играла в преф. Но наступал день, когда Маргарите вдруг становилось очень надо повидать Анну, они встречались, и тогда каждая, как и прежде, старалась совмещать два эти ремесла.
Конрад отчитался по итогам рабочего визита в город, показал товар лицом, передал презент от бандитов. Анна внимала молча и сказала только:
– За ваши подвиги будете вознаграждены воистину царским обедом. У нас сегодня пир на весь мир. Маргарита привезла гостинцы из самых спецзакромов.
– Благодарю, – ответил скромница Конрад. – Я в городе каждый день обедал по-царски. Сейчас от станции шёл, всё сухой паёк жевал.
– На ходу жевать вредно, – заметила Анна.
– Может быть. Скажите пожалуйста… а что Профессор, почивать изволят?
– Вам не терпится поделиться новостями? – естественно, упёрлась рогом… – Гонцам, приносившим дурные вести, головы рубили.
– Пожалейте уж мою бедную голову. Профессор давным-давно в курсе всех дурных вестей – ведь самое дурное свершилось восемьдесят лет назад. Новости – это хорошо забытые старости. Экклезиаст говорил.
Бывшая при сём Маргарита захихикала – ей явно импонировало знакомство Конрада с Экклезиастом.
– Так вот. Не стоит напоминать хорошо забытое, – трепещи, Конрад, сейчас Анна возьмёт нужный тон, и…
Тут вкрадчиво заворковала Маргарита:
– Анхен, да мужиков хлебом не корми, дай им побазлать за политику… А то у нас с тобой свои бабские секреты, а мужчинам что – скучать?
Конрад оценил заступничество.
– Он когда-нибудь оставит папу в покое?
– Ну что ты, вот приехал человек… повидал что-то там… а и рассказать некому…
– Ладно, идите. Но не более часа, – смягчилась Анна.
– Слушаюсь, – сказал Конрад.
Обрадованный, взлетел он по ступенькам. Обрадовался и Профессор его появлению. Ведь Анна, когда из города приезжала, ни капли информации не расплёскивала: что ни весть, то дурная. А старик, между прочим, из всех женщин правду-матку пуще всех любил, её ради жил и боролся, дороги для нея мылом отмывал.
(А внизу Конрад оставил включённым кассетный магнитофон, из которого почерпнул сведения о Маргарите. Всё, что далее сообщается о жизни этого нового персонажа, есть расшифровка Конрадом его прямой речи и преобразование оной в «кривую речь», то есть, пропущенную через фильтр восприятия Конрада. Магнитофон он включил, конечно, не ради Маргариты, а ради Анны, всячески желая раскрыть её тайну. Но учтём: самой большой кассеты хватает всего на 45 минут).
Маргарита кантовалась на Острове Традиции уже третий день, но всё никак не удавалось потолковать с подругой после рекордно долгой – двухлетней разлуки: не до праздных базаров было, урожай надо собрать на зиму, собрать и сберечь – огурцы засолить, капусту заквасить, в погребе соответствующий микроклимат установить. Сменила Маргарита модный столичный прикид и – за лопату.
Лишь когда аврал на огороде кончился, Анна нашла время выслушать гостью. Главное она уже знала: Маргарита вышла замуж.
Конрад про визит в город Профессору ничего не сказал. Он гнул свою линию:
– Заметьте, Профессор, что столько толкуя о справедливом общественном устройстве, интеллигенты не способны создать даже первичную ячейку общества – семью. Вот мы сетуем на зловредных чужих дядей, которым так легко дали себя перестрелять, пересажать, уморить голодом, а недобитых – споить и накормить ядохимикатами. А часто ли «мы» задавались вопросом – а что лично «мы» сделали для улучшения генофонда нации?
– Ну почему же, я вот женат был… дважды. И двух дочерей породил, не считая сына от первого брака.
– Замечательных дочерей… Ну к вам-то лично я претензий в этом смысле не имею. Но согласитесь, что в вашей среде вы – счастливое исключение.
– Да уж. Многие мои знакомые вопрошали как в стихотворении нашей любимой поэтессы: «Стоит ли рожать / Для тюрьмы так много поколений?»
– А ведь казалось бы, чего проще: если в твоём ареале доминирует враждебная тебе порода homo soveticus – способствуй размножению собственной породы, плоди каких-нибудь несоветских homo, и как можно больше. Глядишь – в один прекрасный день несносные «совки» окажутся в меньшинстве.
– Наш брат всерьёз опасался, что любое здоровое потомство неминуемо заразит своими хворями всеядная «среда». А не заразит – того хуже, искалечит.
– А было ли легче единственному детищу интеллигентных родителей адаптироваться к социуму, когда его сверстники из урловых семей, чуть что, позовут на помощь старшего брата, да не одного?
– Вы правы: дебилы размножаются, как клопы, а вот неврастеники – не размножаются вовсе. Увы, среди худосочного интеллигентского племени дебилы практически не встречаются, а вот неврастеников – пруд пруди.
– Вот-вот. Хлипкие хлюпики, тщедушные комплексушники, мечтательные романтики «не от мира сего», мужебоязненные «синие чулки» по определению воспроизводить себя не могут.
– Добавьте ещё: кто может «по определению», не может по убеждению. Пелёнки и погремушки отвлекают от научных изысканий, религиозных исканий, политических баталий… Но постойте: разве не во все века так было? Например, величайшие мыслители, как правило, были бессемейны и бездетны. Смотрите: – профессор начал загибать пальцы. – Платон, Декарт, Кант, Кьеркегор, Ницше… Гегель вот исключение. А Ньютон и вовсе похвалялся тем, что за всю свою долгую жизнь ни капли семени не пролил…
– Так во-первых, сегодняшним интеллигентам далеко до Платонов и «быстрых разумом Невтонов», а во-вторых, все вышеперечисленные гиганты творили в те времена, когда господствующим классом был «образованный», а шкала ценностей – «незыблемой»! Филистерский отпрыск Шопенгауэр мог позволить себе роскошь бесплодия, будучи спокоен, что отпрыски любой из тысяч многодетных филистерских семей будут равняться на него, Шопенгауэра. Но сейчас, когда дети филистеров равняются на одних шварценеггеров, вся надежда лишь на таких, как вы.
Для всех маргаритиных подруг, за исключением Анны, давным-давно прозвучал свадебный марш Мендельсона, для иных и не однажды. Сама Маргарита на рынке невест котировалась довольно высоко. Ей предлагали руку и сердце блестящие кавалеры – физики-ядерщики, менеджеры совместных предприятий, тренеры по бодибилдингу. Только ей казалось, что весь их блеск и лоск меркнет перед сиянием её внутреннего мира. Табуны поклонников льстили её самолюбию, но самолюбие же диктовало ей: береги себя для Прекрасного Принца. Проза замужнего прозябания ничего не значила по сравнению с поэзией полнокровного бытия вольной художницы. С калейдоскопической быстротой сменяли друг друга увлечения и приключения, катастрофически не хватало времени: Маргарита писала маслом, писала чернилами, играла на органе, играла в рэндзю, выпиливала лобзиком, занималась восточными единоборствами. Она совала свой симпатичный носик в самый эпицентр текущих событий, регистрировала и ретранслировала сведения, сообщения, слухи, сплетни.
Волны перемен сотрясали прогнивший корпус корабля «Страна Сволочей». Корабль носило по штормящему океану политических страстей, буйные ветры отчаяния срывали паруса и ломали мачты, подводные рифы экономического кризиса дырявили обшивку, пробоины дефицита зияли в трюмах, потоки инфляции хлестали через ватерлинию прожиточного минимума, кормило власти вырывалось из рук растерянных рулевых, цунами народного негодования смывали их за борт. Прочитав у любимой поэтессы «Я всегда была с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был», Маргарита с головой окунулась и в эту стихию. Отныне она зналась с демократическими демагогами, распространителями радикальной прессы, застрельщиками популистских акций. Они увлекли её на улицы и площади, где у стен номенклатурных чертогов митинговала чернь.
Надрывались полицейские матюгальники, скандировались хлёсткие лозунги, порхали подстрекательские листовки. Лучи прожекторов проходили в кольца маргаритиных волос, щипали её за ладные ягодицы, шипами впивались в глаза. Грязные бесформенные ботинки отечественного производства то и дело пребольно наступали на её новенькие импортные сапожки. Вокруг неё бесновалось драное драповое бросово-мусорное месиво. То – массы. Пупырились на носах прыщи, топырились в ушах хрящи, упырились над зубами свищи, зырились хищные зыркалки, всё это пузырилось, дыбилось, глыбилось, бычилось, крысилось, злыдничало, клацало, лязгало, бряцало, хряпало, брехало, цапало, хапало, брызгало, изрыгало, разгрызало, кромсало хрупкий хрусталь маргаритиного мира. Хмурые хмыри, блажные жлобы пыжились вершить суд истории. Орали, сменяя друг друга, ораторы – перечисляли бесчисленные бедствия народные и требовали к ответу виновных. Ответная овация свидетельствовала: в толпе ни одного виновного нет. Маргарита не была сильна в физиогномике и не добралась до Ломброзо, но фильтруясь через неё, зависшая над площадью свинцовая злоба обращалась не на коррумпированную партократию, не на кровопивицу-мафию, а на этих, стоящих рядом. Плохо вымытые, плохо выбритые, помоечные хари потенциальных уголовников либо палачей – искажённые праведным гневом, они искажали её понятие о праведности.
Так вскоре Маргарита распознала Грядущего Хама и отошла от политической мельтешни – Хам и она хотели совсем разных вещей.
Что ж ты так напугалась, Маргарита? Вряд ли ты мечтала увидеть вдохновенных тираноборцев – Карлов Мооров, Оводов, Кориоланов с жертвенным огнём в очах, вряд ли примеряла терновый венец Жанны д’Арк и Люсиль Демулен. Бунтарский азарт молодости поначалу сбил тебя с панталыку? Азарт не Пестеля – Пушкина, Малевича, а не Дзержинского, Делакруа – не Робеспьера. Тебе просто хотелось помочь завтрашнему в борьбе со вчерашним, творческому – в борьбе с рутинным. Тебе хотелось построить новый мир, красочный и сладкозвучный, на знамени которого начертано: «Творчество. Праздник. Свобода».
А этот люмпенизированный сброд желал иного – отомстить и до отвала накушаться. Да, ты права: предел мечтаний бунтующих рабов; ведь сволочей один шибко умный революционер «сверху донизу нацией рабов» прозвал. Но не смотри свысока, рабы не одним себе, они и тебе, Маргарита, блага желали.
Ведь пока свободолюбивые ниспровергатели прежних идолов хмелели от демократии, с прилавков магазинов исчезал товар за товаром. Жизнь среднестатистической сволочи поглощало стояние в очередях, прогалы между очередями становились всё короче, следовательно – всё короче подлинная жизнь. И презренные рабы, и Маргарита были среднестатистическими сволочами. У них одинаково мёрзли ноги без колготок – но где они? Одинаково спинкам жёстко без мебели – но где она? Одинаково пухли животы без хлебушка – но где он?
Глупышка ты, Маргарита. Презренные рабы, Грядущие Хамы понимали: лишь полный желудок даёт возможность думать о чём-то ещё. Вот ты – упрямо пыталась думать о чём-то ещё и регулярно ловила себя на мысли, что не успеваешь.
Итак, оказалось, что сытость первична по отношению к свободе. Голодные, задёрганные сволочи читали на сон грядущий газеты времён стагнации, с симпатией глядели на ретушированные ряшки прежних вождей, с упоением зачитывались реляциями о перевыполнении планов, досрочном пуске объектов, юбилеях заслуженных тружеников. Для голодных душ то был целительный бальзам после дневных злоключений и ночных телепрограмм.
По телевидению из передачи в передачу кочевал бесконечный диспут, кто же глубже всех видит эту бездну, эти ужасные тартарары, куда всё и вся неуклонно катится. И хотя всякий прозорливец почему-то принимал гордый вид парящего над бездной горного орла, утомлённые души не могли найти защиту от жёсткого телеизлучения, излучения безысходности и безнадёги. Сволочей охватывала тревога:
- за недвижимость (дачи всё чаще служили прибежищем беглым рецидивистам и беженцам из бурлящих инородческих провинций);
- за движимость (наступил золотой век для квартирного ворья);
- за сберкнижку (её вовсю грызли черви инфляции)
- и за самоё жизнь.
А однажды, едва только славный своими разоблачениями и обличениями популярный телеведущий сказал многомиллионной аудитории «Добрый вечер», прямо в прямой эфир ворвались до зубов вооружённые молодчики, заломали ведущему руки назад и приставили к его носу револьверные стволы. В тот «добрый вечер» апоплексический удар хватанул многих телезрителей прежде, нежели налётчики-террористы спрятали в карманы бутафорское оружие, а их безвинная жертва, широко улыбаясь, поведала оставшимся в живых, что то была всего-навсего умелая инсценировка, милая шутка перед очень серьёзным разговором на тему «Насилие и произвол сегодня».
Пусть, пусть в промежутках между серьёзными разговорами транслировались знамения демократических перемен – истошный визг хейрастых суперстаров и сладкий писк пейсастых педерастов. Пусть где-то в конце передач скороговоркой вносились «конструктивные предложения»: долой престарелых пердунов, импотентов от власти, даёшь подлинно демократические выборы, хай живе плюрализм мнений, виват частная инициатива…
Пусть. Всё равно охреневшие телезрители делали единственный вывод, видели единственный выход: тикать. Тикать во все тяжкие.
– А ещё примите во внимание, – напоминал Конрад, – что «интеллигенция», особенно гуманитарная, за семьдесят лет до неприличия феминизировалась.
– Конечно, ведь гуманитарное знание было насквозь заидеологизировано. И гуманитарные факультеты, особенно в последнее время, превратились в «факультеты невест».
– А сколько интеллигентных девушек от безысходности повыскакивало замуж за «работяг», а чаще – за кого ни попадя!.. Дети от таких «смешанных» браков для интеллигентского клана – отрезанный ломоть.
– Вы ещё не забывайте, что «интеллигентский», прежде всего – «гуманитарный» труд самый низкооплачиваемый – на какие шиши растить потомство? Да ещё когда ни шиша что у жены, что у мужа?
– Ну знаете ли!.. Уж наверно детям непьющего учителя или музейного работника перепадает больше материальных благ, чем выводку выродков завсегдатая ЛТП.
– Так ведь ни в чём так не близка «интеллигенция» к народу, как в пристрастии к Зелёному Змию.
– Оно понятно: неврастеники… Сами любой ценой рвутся прочь от действительной жизни – куда ж ещё дарить эту жизнь кому-то… Только я не выношу ханжеских самооправданий типа: «быдло»-де глушит водку по привычке, а мы – от тоски неизбывной…»
– Тонка прослойка. Особенно туго провинциалам, живущим вдалеке от очагов культуры и передовой мысли.
– Уж на какие ухищрения не шли они, лишь бы только вырваться из захолустно-глухоманной трясины, и немногочисленные столицы постепенно вычерпывали всё лучшее из отдалённых местностей. В результате эти местности окончательно заболачивались, а застрявших там безнадёжных недотёп окончательно засасывало, и некому было оплакать их бесславную гибель…
– Ну а дальше вы скажете, что и в столицах найти единомышленников, единоверцев и даже просто собеседников – всё сложней. Ведь наши столицы – всего лишь сирые задворки общемировой цивилизации, форменная глушь в планетарном масштабе.
Маргарита чаще, чем Конрад (редко звали) или же Анна (звали, да не шла), бывала в свете – на днях рождения, поминках, именинах, крестинах. Но что Анна, что Конрад, что Маргарита всякий раз могли безошибочно предсказать программу вечера.
Разве что меню могло содержать сюрприз: иной раз кое-кому да посчастливится урвать кой-какой дефицит. А в остальном – одна и та же бесконечная песня о всеобщей тяге к перемене мест. Будут мусолить и обсасывать новые таможенные законы. Будут до хрипоты спорить о преимуществах Восточного побережья обетованного континента над Западным. Будут сообщать подробности о благоденствии кузины Марты в Стране Прерий и дядюшки Фердинанда в Городе Тёплых Муссонов.
Да, с некоторых пор повелось так, что если где сходились двое или несколько человек с интеллектом или претензией на оный, то альфой и омегой разговоров становился выездной вопрос. Двигались по спирали: всё плохо – надо валить – всё ещё хуже – надо салить пятки – всё хуже некуда – надо делать ноги – будет ещё хуже – надо линять за бугор.
Впрочем, это лет пятнадцать назад такие разговоры кишели аргументами: почему именно надо за бугор. Лет десять назад говорили уже только о том, как именно за этот самый бугор попасть. Стоило ли доказывать, что благовоние лучше вони, а польза лучше вреда?
Становилось ясно, что дерево Берёза рахитично и убого, а дерево Секвойя пышет здоровьем, что цветок Василёк напоминает «сифилёк» или, по выражению одного эмигрантского поэта «синеблядик», а вот зато цветок Лотос – гарантия наличия стирального порошка. И что Бревенчатая Изба похожа на деревенскую бабу в домостроевской кичке, а Небоскрёб со скоростными лифтами независимо и гордо несёт непокрытую голову.
А если кто думал иначе, ведущие ночных телепрограмм, энергично рубя ладонью воздух, убедительно доказывали: иначе может думать лишь махровый черносотенец и шовинист.
Пока что сволочи ещё ходили на работу, зарабатывали немалые деньги, воспитывали детей. На работу – по инерции, зарабатывали – на визу, воспитывали – в закордонном духе. Мыслями-то они уже были в Мекке, вожделенной Мекке, которая соединяла разрозненные традиции в единое русло общемировой цивилизации.
Сволочи становились в самую длинную очередь из прочерченных на поверхности страны очередей, потому что эта очередь обещала стать последней.
Время шло, самая длинная очередь становилась всё длиннее, всё новые и новые слои вовлекались в неё, место разорвавших порочный круг занимали новые алчущие.
Алчущие чего?
Учредители этой очереди бежали за свободой.
Нынешние – за безопасностью или за компанию.
Маргарита из кожи вон лезла, дабы хоть иногда воспарить над суетой и ближних над суетой возвысить. Отрывала от семьи, от забот каких-нибудь Элен и Катрин, тащила их в Киноцентр на предварительный просмотр элитарной картины или в полуразрушенную церковь на концерт старинной музыки. Но лишь только стихали жидкие аплодисменты, Катрин с Элен заговаривали о метраже квартир для эмигрантов в Нью-Вавилоне.
– Уехавшие бросали оставшихся на произвол судьбы, – витийствовал Конрад. – Даже леворадикальная пресса, обращаясь неизвестно к кому, забила тревогу: караул, ну сделайте же что-нибудь! Не у кого зубы лечить, некому телевизор починить, некому ребёнка по химии натаскать! Некому разрабатывать технологии на уровне мировых стандартов, некому написать толковые учебники, некому предложить работающую экономическую модель… Приходится пожинать то, что сами посеяли. Отстаивали Права Человека? Миллионы воспользовались своим человеческим правом! Во всё горло кричали о верёвке в доме повешенного? Миллионы поспешили улизнуть от верёвки! Пугали «коричневой чумой»? Миллионы решили обезопасить себя от заразы…
– Вы что же, ратуете за «железный занавес»?
– Нет, я ставлю под сомнение акценты и приоритеты радикально-либеральной пропаганды.
– Вы несправедливы. Знаете, сколько людей клялось: выпьем чашу до дна, умрём вместе со своей страной? Предпочитали лагерь – эмиграции?..
– …и эти же самые жертвенно-героические отцы благославляли драгоценнейших чадушек на разрыв с этой страной и обеспечивали им с пелёнок целенаправленную подготовку к будущей жизни на чужбине. Сперва внушали: «учитесь тому, что там пригодится», затем сватали невест и женихов оттуда…
– Но это же вполне нормальный процесс! Уехавшие, как сказал один из эмигрантов первой волны, находятся «в посланьи» – они несут весть о нашей культуре, нашей традиции, нашей духовности во все уголки мира. Разве вам не приходилось испытывать гордость за качество нашей диаспоры? Она же любой другой сто очков вперёд даст!
– А нет никакой уверенности, что и через тридцать лет будет жить молва о великой нации – талантливой, духовной, светоносной для всех прочих. Ведь как ни лезли вон из кожи эмигранты «первой волны», их дети всё равно говорили по-сволочному с акцентом, а внуки едва могли отыскать Родину предков на карте. Ну а свеженькие эмигранты первого поколения мечтают уже на собственном веку поскорей забыть своё сволочное прошлое как кошмарный сон. Так какая же, к ядреням, «диаспора»?
– Вы, кажется, солидарны с нелюбимым вами Бердяевым: «оставаться и окультуривать то, что есть»…
– Ну я-то сам рассказывал вам, как школяров «окультуривал»… Но всё равно: никакой ребёнок не формируется под влиянием заезжих гастролёров и транзитных туристов. Ребёнку необходим каждодневный пример соседей, родителей, закадычных друзей, владельцев собак и мопедов, проживающих в том же дворе, ездящих в том же лифте. В этом случае он сможет раззвонить всему свету, что эти скучные чудики в телевизоре – классные дядьки. Шутят! Порулить дают! Не чета спекулянтам с карманниками…
– Но эта страна не только проклята, но и благословенна. Сколько бы народу не уезжало, у нас всегда, в самом медвежьем углу всегда может стоящий человек родиться.
– Не думаю, что страна подобна цилиндру фокусника, из которого таскать – не перетаскать. Любое месторождение при хищнической эксплуатации рано или поздно иссякнет… Много ли новых имён открыла Переделка, кроме попсовых певичек? То-то. Страна Одухотворённых Сумасбродов кончилась и осталась лишь в анекдотах.
Однажды в центре города, среди бела дня Маргариту остановили трое подростков в ватниках и валенках. Двое встали сзади, один спереди. И который спереди – вместо глаз у него были дыры – сказал: «К восьми часам подгребёшь к «Аркадии». – «Что вы, ребятки, вы меня не за ту приняли…» – «Сказано: к восьми часам. Только попробуй не придти: выследим, где живёшь».
Маргарита с перепугу сумела запутать следы лучше самого ловкого и опытного зайца. Преследователи отстали, но не отстал Перепуг. Отныне Маргарита уже не гонялась за впечатлениями – Перепуг гонялся за ней.
И что-то разладилось в механизме perpetuum mobile, что колотилось в груди Маргариты. И всё страшней было ей выходить из дому на грязные улицы, где звериные зенки прохожих распинали её на каждом перекрёстке. И всё противней заглядывать в некогда любимую радикальную газету «Столичный жидомасон». Всё больше желалось ей отдохнуть, спрятаться за чью-то добрую и могучую спину, но выходило – не для неё накропал свой бравурный марш зловредный жидомасон Феликс Мендельсон.
Блестящие женихи – светила физики, корифеи менеджмента, короли бодибилдинга – рвались туда, где имели бы равные шансы в честной борьбе. Даже тот, кто привык играть в нечестные игры и кто имел неравные шансы, не тяготился такими пустяками и всё настойчивей глядел в сторону тихой гавани на Мысе Доброй Надежды.
Поздно спохватилась Маргарита, поздно вспомнила про них. Нет, она была ещё молода и привлекательна. Да только у мужиков к тому времени сложилось о ней мнение нелестное: воображуля, «динамистка», собака на сене, к тому же «эмансипе». Целомудренное кокетство, интеллектуальный флёр – нежелательное приданое. Она уступила всех своих суперменов со всем их блеском и лоском другим, одномерным и вульгарным, простым, как валенки, и проворным, как ящерицы.
А тут и старик Лауман собрался драпать. Но гады-империалисты отказали ему во въездной визе: возраст…
Убитый горем, бедняга слёг. И через две недели скапустился. Врачи, успешно лечившие его прежде, практиковали ныне на берегах Иордана.
Что оставалось делать бедным сироткам, сестричке Гретхен и братику Штеффи? Пристроиться всё к той же километровой очереди у калифорнийского консульства. Подавляющее большинство здесь теперь составляли безнадёжные отказники, люди без дипломов либо без талантов. Пританцовывая на лютом сволочном морозе, вели они нескончаемые унылые беседы: со дня на день установится мол Вторая Пролетарская Диктатура и разбушуется Третий Пролетарский Террор. Если уж сами пролетарии этого боялись… А между тем нагло пёрли без очереди герои Второй Оттепели, демократы-радикалы-популисты. Оказывается, кто громче всех о благе народном трещал и венценосных злодеев клеймил, не без оснований в душе рассчитывал: за одно за это Постиндустриальное общество обласкает его…
И вот Маргарита наконец-то свиделась с соболезно-любезным Консулом. Какое у вас образование, спросил Консул. Ах, культурология… Увы, увы, с таким дипломом перспективы весьма сомнительные… А что ещё вы умеете? Да, калифорнийской мовой спикаете… Эка невидаль, в Калифорнии по-калифорнийски любой дошкольник лопочет. Ну а ещё? Немного рисуете, немного поёте, немного фортепьянствуете, чуть-чуть смыслите в психологии, приготовлении пищи и даже, говорите, в бизнесе… Вах-вах, немного и чуть-чуть нам не надо, надо на уровне мировых стандартов… Ну чем вас обнадёжить?.. Не знаю, право, для манекенщицы вот трёх дюймов не хватает (виртуозно подано, в обрамлении головокружительных комплиментов). Ай эм со вери сорри, но что ж поделаешь, иммиграционная квота. Мужайтесь, ждите у моря погоды…
Несовершеннолетнему Стефану было ещё хуже: с ним бы и разговаривать не стали, хотя в свои четырнадцать он достаточно петрил в электронике с кибернетикой и чихать хотел на Культуры и Логосы.
Не возымели действия отчаянные мольбы ко всем посюсторонним закордонным знакомцам: выручите, пришлите вызов! Правительства богатых стран боялись «нелегалов». И средств у Маргариты не хватало. Вот почему она с радостью сдалась без боя одному цесарскому подданному на кушетке в квазифешенебельном отеле для фирмачей. Цесарский подданный был большим другом Страны Сволочей и не очень умным предпринимателем – чуть ли не до последнего момента предпринимал напрасные попытки воскресить из праха агонизирующую сволочную экономику. Пока он филантропствовал, Маргарита летала по седьмому небу. Что у Христа за пазухой, что у Жака на содержании. Но вот Жаку понадобилось на родину, и он, честный малый, признался, что женат. Обещал в следующий приезд дать адрес холостого соотечественника. Следующий приезд не состоялся. Наверно, простофиля-альтруист, наконец, поумнел.
И всё же спасибо примерному семьянину-цесарцу: всегда презервативом пользовался – гарантия от осложнений… Не таков был автослесарь Фреди, следующая пассия Маргариты. Что такое кондом он знал только по анекдотам, и то в режущей слух транскрипции «гандон».
Работник автосервиса в Стране Сволочей по определению всемогущ, и не вынося своего всемогущества, Фреди стремился к предельному опрощению: духú принимал только внутрь, ложился в постель, не сняв башмаков, а с новой бабой своей общался на языке тумаков и зуботычин.
Сперва Маргарита, как всегда, нашла себе утешение, а истязателю своему – оправдание: вдруг она опять прониклась сермяжной правдой. Ей, в общем, нравилось, что Фреди, во всём следуя инстинктам, свободен от ненужных рефлексий и сомнений. Он никуда не бежал из Страны Сволочей, неплохо чувствуя себя даже перед лицом Катастрофы. На дымных развалинах великой Империи его автосервисный трон стоял непоколебим. Вот это супермен! Чем не идеал мужчины?
Всё же тяжковато жилось Маргарите с примитивным суперменом, чем дальше, тем тяжче. В одну прекрасную ночь она залетела. Фреди не смог перестроиться, тем более, что дубасить по вздувшемуся женскому пузу куда пикантней и приятней, чем по обыкновенному. Силён оказался организм Маргариты: обошлось без выкидыша. Ребёнок был доношен и в душном, до отказа набитом женско-детским мясом бараке с табличкой «Родильное отделение» увидел свет. Видел он его всего три месяца.
Когда ангелы забрали ребёнка к себе, безутешная мать и здесь разглядела утешительный нюанс: теперь ей как никогда легко было уйти от Фреди.
Вообще-то разрыв с постылым королём автосервиса грозил обернуться роковой ошибкой. Появление на улицах столицы бритоголовых боевиков «рабочих дружин» возвестило о наступлении обещанной диктатуры и обещанного террора. Сбывались предсказания профетической книги «Невозвращенец».
Новый – законно избранный – Президент широковещательно провозгласил основной задачей момента восстановление социальной справедливости. Правда, кичливые нувориши, пионеры рыночной экономики пока что успешно противостояли слабосильной диктатуре: они своим боевикам могли заплатить куда больше. Окончательное решение вопроса о власти было отложено на неизвестный срок, автоматы противоборствующих сторон дни напролёт вели прицельные дебаты, а тем временем долгожданные аресты косили тех, кого можно арестовывать невозбранно. То есть безобидных бородачей, очкариков, горлодёриков-леваков, сдуру задержавшихся в стране. А коль скоро задержались считанные единицы, ретивые блюстители Нового Порядка отлавливали просто кого попало.
Маргарита была не кто попало, а классово-вражье племя – интеллигентское семя: папа-профессор плюс полгода содействия подрывной деятельности сионистских ставленников. Но в непостижимой стране непостижима также логика казней и милостей. Маргариту не трогали. И это было самое страшное – ей больше хотелось быть поставленной к стенке организованным формированием классовых недругов, чем изнасилованной скучающим юнцом или зарезанной разбойником.
Заступник у неё остался один – повзрослевший братец. Он всё чаще говаривал ей: «Убегу в Америку». (Сто лет назад мальчишки бредили Америкой, начитавшись Купера и Майн-Рида, и вот история повторяется, только инспирацией служат видеобоевики и порнокомиксы). «А как же я? На кого ж ты меня покинешь, радость моя единственная?» – «Скепнём вместе!» – Маргарита горько усмехалась. – «Фиг с тобой, сеструха, дёрну один. А ты загинайся тут, на здоровье»…
Маргарита в ту пору забилась в какую-то непонятного назначения контору. Ради продтоварных карточек. Там хлестала сивуху с сиволапыми сослуживцами и ждала полицейского «Воронка» точно избавительную карету «Скорой помощи». Вечерами, одна-одинёшенька, занималась тем же в опустевшей запущенной папиной квартире. Со стен, не таясь, готовы были бесстрашно улыбнуться любому вошедшему опальные кумиры мыслящей общественности – Иисус Христос и Джордано Бруно, Гурджиев и Сахаров, Эйнштейн и репрессированный бургомистр. Стефан где-то пропадал – нет, уже не в кружке «Юный техник», а в подворотне с громилами-сверстниками. Маргарита свыклась с мыслью, что однажды он вовсе бесследно канет. Не в Америку – ближе…
Одним таким беспросветным вечером квартира погрузилась во тьму в буквальном смысле. Сметая по пути антикварную мебель, Маргарита ринулась раздвигать шторы. Ни один фонарь не озарял заоконное безлунье: без электричества остался целый квартал, а то и весь город.
А может быть, вообще пришёл Конец Света. Именно к этому заключению склонилась Маргарита. Слишком это было похоже на то, что Фреди называл «пиздой накрылось». Но парадоксально непохоже на удовлетворение просьбы «Мама, роди меня обратно».
Богооставленная, людьми оставленная, она заметалась во мраке. Мраком же покрыто, каким образом ей удалось одолеть столетнюю, сколоченную на совесть дверь. Известно лишь, что засим Маргарита пошла на штурм двери соседской.
– Анхен, я была совсем крэйзи, форменно – крыша поехала, – ворковала Маргарита, ища сочувствия в джокондовских очах подруги. – Я ж и не знала, кто там живёт. Прежние жильцы, наши друзья, в Месопотамию свалили… И вот, представь себе картину: юная леди, едва одетая, истерзанная, вся в синяках предстаёт глазам джентльмена в халате, с фонариком в руке… Я дрожу вся, реву, стыд такой… А он: «Ну уж раз стучались, входите – сейчас свечи зажгу». Усадил меня на диван, плечи пледом накрыл, гляжу – коньячку наливает… Мамма мия, коньяк – пять звёздочек, я уж и не помню, когда в последний раз… Ну, опрокинула стопку, половину разлила, конечно… Колотун постепенно проходит… соображать начинаю, где, что… А он свечи зажёг, наливает ещё, за знакомство… Такой, знаешь, невеличка в очках, лет сорок с хвостиком… и такой уступчивый, такой корректный… голос, как у психотерапевта… Мне уже спокойно так, уже хорошо… Сидим, беседуем… Он мне – представляешь – Эдгара По цитирует, «The Raven», как там ночной гость постучался вроде как я вот… ну, мы с ним о стихах… Такой кайф, смотрим – вкусы совпадают… Блейк, Элиот, Пастернак… Потом о театре… Вспоминаем прежнее, я уже хохочу, как дура – почти два года ни с кем про это не говорила… Вот так… Ну а потом за жистянку нашу грёбаную…
– Гретхен, ты знаешь, я не люблю…
– Прости. Оно так само вырывается… Значит, за долбаную нашу жистянку… Я, понимаешь, ничего не боюсь… в общем, откровенно с ним так, ну как с тобой. Он… да, его, как выяснилось, Отто зовут, а фамилия – фон Вембахер, представляешь! Это когда сплошные Мюллеры да Крюгеры кругом… Так вот, он говорит: что ж вы так неосторожны, должны же догадываться, где я работаю… каким макаром я эту квартиру получил… А потом погнал: не бойтесь вы меня… заколёбся я с этими долбаками… они мне даже работу по квалификации предложить не могут… и вообще жизнь скотская, и к тому же всё один да один… сорок два года, без семьи… Ну, эт цетера… всё под коньячок… Дальше… ну понимаешь…
– Ну, понимаю… У тебя это быстро. Но понимала же и ты, что он…
– Анхен, тогда я ничего не понимала. И понимать не желала. Я стосковалась по человеческому разговору… хоть с чёртом лысым… блин! Со мной обращались не так, как Мюллеры и Крюгеры, а что за этим кроется было по… до феньки, гори всё огнём… И мы с тех пор каждый, как со своей каторги придём, сразу друг к другу в гости… И мне с ним спокойно. Надеюсь, ему со мной – тоже. Одно плохо: работу он на дом берёт. Часто говорит: а теперь, радость моя, почитай вот журнальчик, а мне в кабинет пора… Не скрою, злило это меня страшно… Но вот однажды он мне заявляет: Марго – так он меня окрестил, по-королевски, ха-ха-ха… Мне с тобой серьёзно поговорить надо… И таким тоном… я напряглась, ужас!... В общем, он рассказал, что его прекрасное ведомство готовит… это у них «депортация» называется… Слушай, дом наш кооперативный – раз, академический – два. Так вот, классовые интересы диктуют: всех этих учёных недобитков выслать на Дальний Север… понимаешь: на трудовое перевоспитание… И поэтому…
– Господи!.. И они это… сделали?
– Ах, Анхен, это такой ужас… Ну, читала «Невозвращенца»… Ах да, ты не читала, ну а… да-да, лагерные воспоминания тоже не читаешь… принципиально. И правильно… Блин, я видела, как это было. Рабочие дружины оцепили дом… Мюллеры и Крюгеры в телогрейках, с автоматами, несколько молодцов – рраз – в подъезды… Если кто не открывает – вышибают дверь… Слава Богу, научные работники почти все свалили… остались почти всё люди пожилые… Так они, значит, этих старушек за волосы – и в «воронки»… Если кто орал… или кусался… ясное дело, прикладами… Анхен, как страшный сон… будто исторический фильм смотрела… Фрау Рёдель, такая добрая женщина, с третьего этажа… помнишь – она тебе ещё книжки давала? В своё время ведь двадцать лет отсидела, и вот по новой… Кричит им: «Выкресты, подонки, анафема…» – размозжили голову.
– Боже мой! Её хоть похоронили по-людски?
– Я еле-еле Отто упросила… Он говорит: стрёмно – если узнают, то… Ну, всё-таки ночью на машине съездил… отвёз за город, закопал… бедный, потом не спамши не работу… К счастью им сейчас некогда дознаваться – кто похоронил.
– Да, страшно это, Гретхен… Но как же ты?
– А вот слушай. Значит, когда Отто меня предупредил… я запаниковать толком не успела, как он – раз, предложение мне сделал. Говорит, жену опричника никто не тронет…
– И ты согласилась…
– Слушай дальше. Он мне тогда во всём открылся… Ты понимаешь, Отто – классный специалист, я уже говорила. Если в ГБ ещё пашут компьютеры, то только благодаря ему… Такого аса всюду в мире с руками и ногами оторвут… И он решил – свалить! И меня, естественно, взять с собой.
– Погоди-ка, Гретхен, я, конечно, малокомпетентна, но разве Органы своего офицера отпустят?
– Блин, Анхен… ты торчишь тут, ни фига не знаешь… Граница наша давно открыта… То есть, новые главнятки пытались было опять спустить железный занавес, да обломались: пограничники первыми бегут… Другое хреново: с той стороны укрепили кордоны, натянули колючую проволоку, ток пустили… Понимаешь: раньше из нашего сволочного отечества ехали нормальные люди, а теперь Мюллеры с Крюгерами туда же… Но это ж дикие звери!.. Запад их принять не может и не хочет; у них там сразу же преступность как подскочила!.. Наши подонки хлынули туда… у них от изобилия крыша поехала – ну давай грабить магазины, насиловать фирменных девиц… А ведь у них сейчас ренессанс моногамии… Все политики… у них там, с жиру бешеных, уже нет никакой политики… на выборах побеждают с одним пунктом в программе: «Даёшь крепкую семью…» И тут эти наши козлы… животные… Они же туалетом пользоваться не умеют… как бывший мой красавчик… Сейчас у границы просто смертоубийство: своя мафия… Они снюхались с тамошними погранцами, переправляют своих людей… Я бы давно рванула туда, языки, слава Богу, знаю… объяснилась бы там… Но в приграничных районах… там беспредел, там ужас что…
– И Отто собирается тебя везти через ужас что?
– В том-то и дело, что нет. Он цивильненько хочет. Не делай большие глаза. Он умница. Он всё просчитал. Слов на ветер не бросает. У него колоссальные связи… с мафией в том числе!.. Он для них какие-то программы делал, они тоже на научную основу встали, ха-ха!.. Не подумай, он сам не бандит какой-нибудь, он просто не боится запачкаться – и ничего плохого в этом нет… Короче, он мне сказал: «Марго, не задавай лишних вопросов. Дыши глубже, шей вечерние туалеты. К весне нас здесь не будет. Я сказал!» Вот так!
– И ты веришь ему? – спросила Анна, очевидно – без задних мыслей. – Кстати… а ты обо всём этом говорила с патером Эмилем, твоим духовником?
– Анхен, ну что ты… патера Эмиля взяли одним из первых… Отто теперь мой патер, фазер, папочка – защитник… Увы, я его редко вижу – он всё в делах, в бегах – но я знаю, это всё для нашего же блага!.. Блин, сколько он сделал для нас с братом, добрый наш гений!.. Он меня освободил от моей каторги!.. У нас там полный застрел начался: принудработы каждый уик-энд – то стройка, то полевая страда, давно бы ноги протянула… Ха-ха, а теперь ноги протягиваю – на диване, я теперь – до-мо-хо-зяй-ка… лежу себе, пейпербэки читаю, бестселлеры… язык освежаю! Чуть чего – Отто номер набрал, и – всё о’кей. Телохранителей мне приставил – сейчас на станции ждут меня, в карты режутся… я без них никуда! Неплохие ребятки… Стефана учат всяким приёмам… он головорез… если бы не Отто, стал бы бандюгой, сторчался бы… а теперь Отто устроил его в правительственный колледж, занялся с ним премудростью… спас парня, в конечном счёте!.. Он нас витаминами кормит!.. Каждый месяц мне новые духи дарит!.. Меня все мужики всю жизнь стремились – раздеть, а он старается – одеть!.. В наше-то время!.. Извини, по-моему, это не игра в кошки-мышки, нужна я хрéновым Органам… Да! Я верю, верю! Верю Отто!
– В таком случае… Гретхен– Гретхен – я несказанно рада за тебя.
– Ха-ха, спасибо, Анхен, милая – я… вот хохма… сама за себя рада. Блин – вот только бы ещё треклятый фатерлянд оставить… чтоб его кто взял под крыло… Ведь чёрт раздери, нас теперь ничего не стоит завоевать…
– Гретхен, попрошу нечистую в этом доме не поминать.
– Ну прости, ну забыла я… Ничего не стоит завоевать! Да кому мы нужны! Прежде господа империалисты с удовольствием цивилизовали бы медведей. А теперь мы больше не плюшевые мишки, а голодные, бешеные шатуны… нас на цепь сажать надо, и кнутиком, кнутиком…
– Гретхен, что ты всё «мы» да «мы»? Тебя – тоже на цепь?
– Ха-ха, благодарю покорно… Анхен! Вот только скажи мне: а ты?.. Какого чёрта – здесь торчишь? С твоей одарённостью, с твоей головой?.. Анхен, что ты забыла в этой погибшей стране?!
– Гретхен, о чём ты, помилуй Бог… Здесь у меня папа, здесь у меня сад. Должно быть понятно…
– Анхен, душа моя! Мне не понятно! Ведь всё скоро накроется… ведь катастрофа же, блин, кабздец, извини уж пожалуйста… Скоро они придут и голыми руками нас возьмут, – возопила Маргарита, почему-то путая «вы» и «мы». – Анхен, голубушка!.. Едем с нами! Мне без тебя так плохо!.. Я скажу Отто… что ему стоит? Он отсюда чёрта лысого вывезет… ай, свят-свят-свят, прости… Ты представляешь: Отто уже разыскал в Эль-Дорадо моего дядю Карла!.. И от него уже пришли два телекса! Во как! Почта в стране развалена, а Отто наладил связь!.. Он, кстати, отсылал уже дяде Карлу свою объективку, тот пустил её в ход… он там сейчас большая шишка, президент компании… так вот пишет: за Отто уже три фирмы борятся… ха-ха… как за шкуру неубитого медведя! Такие медведи там нужны! И такие медведицы, как мы с тобой… понимаешь! Ха-ха…
– Гретхен, ты приняла решение. Ты молодечик. Я тоже взрослый человек, имею право принимать решения. Никуда я не поеду.
Маргарита обалдело вылупилась на торжественную и спокойную Анну. Где ты была, чем ты жила, каким воздухом дышала, пока рушились башни и взрывались мосты? Ты не включала телевизор и не открывала газет, а стоя в очередях, глядела поверх непричёсанных затылков сограждан, и неотёсанные грубые речи огибали твои уши, наподобие бумеранга возвращаясь в исторгшие их рты. Как я завидовала тебе, столько лет… И вот вижу, что завидовать-то нечему.
Да, когда сволочи говорят о перемене страны проживания, они смотрят друг на друга – кто с завистью, кто с жалостью. В глазах Анны не было зависти, вот Маргарита и облекала свою жалость в вербальные формулировки десятилетней давности – когда ещё нужны были аргументы. Чуть не плача:
– Анхен, ты всегда была умницей, тебе никто был не указ… Анхен, но если ты… ну будь же умницей до конца… милая, зачем ты желаешь себе зла… что за идиотская жертвенность… Отто может, Отто сделает… и визу, и билеты – всё, чего пожелаешь… Анхен… вместе с папой! Там… там лечат это… Понимаешь! Анна… тебе открыты все пути… Ну что… ну заклюют агенты домов моделей… пошлёшь их подальше. Но ты… с твоей тягой к прекрасному… Ну – прекрасны эти берёзоньки, но сколько им жить осталось, бедненьким… травленые, кривые… надо же разнообразить впечатления… блин, кроме берёз есть ещё пальмы, рододендроны, кипарисы… ты брюнетка, тебе это должно быть ближе… Ты же Кёльнский собор только на картинках видела, Лувр и Прадо знаешь по репродукциям… зачем так обделять себя… Анхен, блин, я вижу тебя за рулём автомобиля… тебе должна нравиться скорость… ты знаешь – они переходят на экологически чистый транспорт… Там в городах воздух лучше, чем в вашей навозной яме…
Анна не дала ораторше по губам за «навозную яму», ибо эту часть вдохновенного спича прослушала. Она выходила в кухню и вернулась с новоиспечённым в честь высокой гостьи и окончания уборки урожая пирогом с яблоками.
– Довольно стенаний, Гретхен… угощайся. Время ужина – надо мальчиков кликнуть.
– Анхен, радость, с твоими кулинарными способностями! Открыла бы там диетический ресторан, клиенты ломились бы толпами…
Анна смеялась. Маргарита уже плакала самым натуральным образом.
– Ты сумасшедшая!.. Ты… ты… мне страшно за тебя! Ну – ради меня… Ради папы… Твоё упрямство просто неумно… Ты погибнешь здесь! Ты не можешь жить с ними!.. И отгородиться от них никак не…
– Гретхен, – сказала Анна раздражённо, – твоё дело считать меня кретинкой, самоубийцей, кем угодно. Я сказала, что рада, как у тебя всё сложилось. Порадуйся и ты за меня. Ты молодечик, выбрала свою стезю. И я свою выбрала. И не тебе обо мне беспокоиться. Господь побеспокоится, да будет его воля.
– Анхен!..
– Не терплю истеричек.
На первом этаже – леди, на втором – джентльмены; на первом – банальное, на втором – глобальное; на первом – фонтан эмоций, на втором – вулкан страстей. А за окном – монотонный монолог дождя. Ты дождина-демагог, что ты можешь, что ты смог? Да станет твердь, как гоголь-моголь, чтоб не прошли Гог и Магог…
11. Серпентарий
Не обед, не ужин, а как обещано – пир на весь мир. Пусть добытые Конрадом деликатесы рассованы впрок по холодильникам и чуланам, зато на столе авторский пирог с яблоками работы Анны Клир и гостинцы из столичного спецбуфета, перепавшие Маргарите Лауман-фон Вембахер: мясо варёное, сдобные булки, чай «Earl Gray», маде ин не наше.
Завидев сие, Конрад вопросительно уставился на Анну. Ладно, чай, но вот мясо, сдоба… Мало того, что убеждённая вегетарианка ни с того ни с сего терпит в своём доме живоглотов и сладкоежек, так ещё и себе положила символическую порцию и нет-нет, да поклюёт.
– Не смотрите на меня так. Я вам не новые ворота, а вы не баран.
Конрад согласился, что не ворота, усомнился, что не баран, и, показалось, с головой ушёл в тарелку. Глядя, как хищно и жадно, утробно урча, он уплетает чудо-хавку, Маргарита чувствовала себя народной героиней, благодетельницей человечества. За столом солировала она:
– Бедняжка… изголодался. Вы, поди, и меня готовы съесть – зажралась столичная барыня! Удачно замуж выскочила… А вы помните… Анхен, ты помнишь – я к вам как-то пришла, и твоя мама кормила нас руликами… Божественные рулики, атас просто… Были же времена…
Анна наизусть отбарабанила рецепт приготовления руликов. Конрада – мы помним – ещё в губернском центре забодали тени прекрасной эпохи. Процесс поглощения пищи занимал его не в той степени, в какой он изображал – на самом деле он исподтишка наблюдал за обеими женщинами, зачем-то сравнивал.
Маргарита – такого же роста, как Анна и с такими же длинными волосами, только блондинистыми и чуть вздрюченными химией.
Обе на редкость вкусно одеты, вот только… Дело такое: перед Маргаритой всегда стояла дилемма: одеваться как надо или как Анна. Из-за этих колебаний её внешнему образу всегда не хватало цельности.
Руки Маргариты движутся плавно-суматошно, как у сурдопереводчицы. Руки Анны – если движутся, то плавно-беспрекословно, как у кандидата в президенты от феминистской партии. Жесты Маргариты – для текущего момента, жесты Анны – на века.
И пока Анна бродит по просторам вечности, Маргарита без умолку тарахтит:
– Вы небось думаете, мы там, в столице бублики жрём, а провинции оставляем дырки от бубликов? – так никто не думал, но никто и не протестовал. – Вы сегодняшним ужином обязаны только предприимчивости моего мужа, а так… я талон на картошку полгода не могла отоварить, наконец, в очереди три дня отстояла, с перекличками там… ужас! Все звери… А у кого дети? Грудью кормить врачи запрещают, а от детского питания одни воспоминания… Ну, я всё о грустном, наверное, аппетит всем порчу… А вы кстати знаете – вакцину нашли от СПИДа. За океаном. У нас об этом ни гугу, ведь валюты нету, всё равно фиг закупим…
Когда всё было съедено-выпито, богатая благодетельница угостила островитян ещё одной диковиной – настоящими сигаретами «Кэмел» (а не «Верблюд»). Значит, всё же курит, столичная пташка, думал Конрад, предвкушая, как сейчас затянется – и затащится. Но все таски и улёты тут же круто обломились – ещё одна «верблюдина» вспыхнула в тонко очерченных устах Анны.
Женщины мирно дымили. Маргарита верещала что-то о том, как полезно бывает после сытной трапезы попыхтеть сигареткой – наукой, мол, доказано, что никотин связывает и выводит из организма вредные окислы.
А Конрад (почему-то) вспоминал, как однажды мальчиком увидел любимого учителя в дымину пьяным, медлил с затяжкой, и его сигарета сгорала вхолостую.
– Конрад, у вас сейчас пепел упадёт!
– Ммм… – услышала Маргарита.
– Ох, я всех затрахала. Это из-за моих речей вы такой унылый, Конрад?
– Отнюдь…
– Бросьте вы. Я же вижу. Ну что же делать. Я всё о грустном, о грустном… Может, вы что весёлое расскажете? На вас вся надежда.
– Не о чем мне рассказывать, – выдавил Конрад после долгой паузы. Армейский нецензурный фольклор здесь был бы не в кассу.
– Ну расскажите что-нибудь интересное из вашего прошлого.
Конрад очень нехорошо захихикал.
– Экий вы, однако, скрытный… Вот Анхен такая же. Молчит, как партизан. Даже о вашем настоящем не хочет мне докладывать. Редкое качество для женщины – уметь держать язык за зубами…
Конрад закивал головой в знак согласия.
– Вы простите, я такая приставучая… Уй, я, знаете, патологически любопытна… Вот мне кажется – вы писатель. Сидите здесь, в идиллической глуши и пишете свою самую главную книгу… Я угадала?
Смех Конрада вновь ничего хорошего не предвещал:
– Ну да, я пишу… роман без слов.
– О Господи. Как всё грустно. Кругом – сплошная немота. В прошлом, в настоящем… и для будущего не останется ни слова.
Конрад пожалел, что сморозил очевидную глупость. С такими резче надо.
– Вы, милочка, на меня поменьше внимания обращайте. Берите пример с вашей подруги.
Анна невозмутимо попыхивала сигареткой.
Не обращать внимания… – свободные ассоциации несли Маргариту Бог знает куда. – Да, да, мы привыкли всё принимать близко к сердцу. А так нельзя… Не будем обращать внимания – и всё, глядишь, образуется… Анхен, а ты помнишь?.. Кстати, да!.. Лет семь назад мы ходили на лекцию уфолога… или там астролога… какая разница… их тогда как собак нерезаных развелось… Помнишь, он говорил: скоро будет конец света… Люди, пять лет осталось до конца света!.. Что вы так мрачно смотрите?.. Инопланетяне давно наблюдают за нами… за нашими судорогами, а через пять лет они нас ликвидируют… античастицами обстреляют… и капец!.. И людей никого не будет… кроме… – она поворотилась к Конраду и коснулась порхающей рукой его колена, – кроме жителей этой страны. Они спасутся, они всего-навсего утратят бренную физическую оболочку, а их души… или как там это, Анхен, зовётся?.. астральные тела?.. неважно – вы поняли… в общем, обретут вечное блаженство…
Конрад опять вспомнил свой вояж в губернский город и отметил, что апокалиптическим мистицизмом в эру социальных катастроф одинаково одурманены что гэбэшницы, что отъезжантки. Да, одного поля ягодки!..
– …так что может, и правильно, что вы здесь торчите, с места не дёргаетесь… и не надо мне завидовать! Вот перестану быть жителем этой страны, пять годиков покайфую и превращусь в пшик, аннигилирую… а вам суждена жизнь вечная… за долготерпение ваше.
– Ух, накурили мы тут… Давайте откроем форточку, – сказала Анна, выразительно посмотрев на Конрада. Тот покорно исполнил приказание. Студёный вечерний ветер ворвался в комнату. Ночью ожидались заморозки.
– Врр-брр… – поёжилась Маргарита. – Ну, сиверко задул.
– Будьте добры, Конрад, принесите чёрную шаль – в моей комнате висит на стуле, – попросила Анна.
Конрад в этом доме из шалей видел только белую, но послушно сходил, куда ему сказали, и действительно обнаружил там чёрную, похожую по фактуре вязки и по длине, только чуть потеплее, из более толстых нитей.
– Ах, какая чудная шаль, – воскликнула Маргарита.
– Я в прошлом году их несколько связала. А эту возьми, она к светлому плащу и светлым волосам отлично пойдёт.
– Анхен, ты золотце, ты мастерица, – рассыпалась в восторгах Маргарита и нежно обняла Анну. – Что стоите, как дерево, Конрад, накиньте нам на плечи, нам вдвоём под ней места хватит… и не замёрзнем.
Конрад исполнил и это приказание, но как-то неуклюже, и тотчас отдёрнул руки, точно до медуз дотронулся, змеекудрых Медуз Горгон.
Любовно драпируя плечи подруги и драпируясь сама, от удовольствия повизгивая, Маргарита расщебеталась ещё пуще:
– Кайф, тепло-то как… И блохи не кусают. А за окошком дождик шуршит, так здорово… Вы любите слушать дождь?.. Такая музыка!.. Особенно когда уютно и тепло и хочется думать о чём-то приятном… Конрад, да не смотрите вы таким букой. Мороз по коже… – Маргарита плотнее запахнулась в шаль. – Анхен, я его боюсь, он такой у тебя страшный… А вы вовсе не страшный, вы притворяетесь, да?
– Оставь его в покое, – не выдержала Анна. – Он думает о судьбах цивилизации.
– Вот как? В присутствии двух младых прелестных дев забивать себе мозги проблемами злохренючих цивилизаций?
– Меня не волнуют цивилизации, – отмахнулся Конрад. – Они именно таковы, как вы изволили выразиться. В новейшей традиции принято различать между цивилизацией и культурой, – (на последнем слове – ударение).
– Слушайте, по-моему, вы просто академический сухарь. Кандидат в профессора кислых щей. Знаете что… хотите, мы вам сыграем? О! Мы так сыграем… от нашей музыки рыдают камни и каются закоренелые злодеи…
– Я не закоренелый… я перманентно каюсь, – вяло защищался Конрад.
– Так я и не говорю, что вы злодей. Просто очень много думаете. Снимаю перед вами шляпу, но вообще – думать вредно… от этого с ума сходят.
– Бородатая хохма, – поморщился Конрад.
– Нет, это вечная истина. В общем, Анхен, твой постоялец переутомился. Ему нужна музыкальная терапия. Конрад, я вижу по вашему одухотворённому лицу, что вы не против старинной музыки! Пойдёмте… – она крепко стиснула Анну. – Пойдёмте по-му-зи-ци-ру-ем!
– Что ж, – Анна высвободилась из её объятий. – У меня ритуал заведён: вечернее музицирование. Конечно, сыграем, Гретхен. Мы же тыщу лет с тобой не играли. Я только с папой сейчас разберусь…
Маргарита выставила руку в окно.
– Интересно, в Париже шум дождя такой же, как здесь? – (фи, что за дешёвая сентиментальщина…)
– Точно такой же.
– Откуда вы знаете?
– Я был там, – буднично зевнул Конрад.
– Неужели?.. Давно?..
– Семь лет назад, по приглашению.
– Как?! Ой, расскажите!.. Ой, скромник… значит, вы видели Нотр-Дам, Тур д’Эйфель, вы…
– В Париже я видел негров-альбиносов, зелёных комаров, много трансвеститов и разной хавки. А на Пляс Пигаль франков не хватило.
– Хамло вы несчастное. Может, скажете, и на Лувр не хватило?
– Да как вам сказать… Хотел отметиться. А в Тюильри пиво было дюже вкусное. Я его хлестал, хлестал, потом спохватился, а Лувр взял и закрылся. Ну, и послал я его.
– Невозможное хамло!
– Милочка, я в смысле Парижа вам не консультант. В доме, где меня содержали, кошак жил. А у меня, оказывается, на котов аллергия. Слишком поздно я въехал, в чём дело. Так что – весь в соплях лежал на диване, читал тамиздат. Книжки, за которыми в стагнацию здесь безуспешно гонялся, стояли там, никому на фиг не нужные. Вот – ворочал неизведанными пластами отечественной культуры.
– А кто у вас там?
– Брательник. Двоюродный. Деляга-аферист. Контора у него на Шан-Зелизе. Компутеры, хай кволити.
– И… а… почему ж вы там не…
– Почему не остался? Девушка, а мне, знаете, по фигу, где жить. Главное – с кем жить.
Накормив отца ужином, напоив его травами и почитав ему Библию на сон грядущий, Анна вернулась и, к счастью, прервала бесперспективный трёп Конрада с Маргаритой. Вопреки обыкновению, она не стала убирать со стола сразу по окончанию трапезы; она словно забыла про объедки и крошки, про немытую посуду и заляпанную скатерть. Слишком музыкальное настроение, видимо, овладело ею. Она пригласила Маргариту проследовать за нею в волшебную комнату, причём приглашение вроде как относилось и к Конраду. Маргарита завязала шаль узлом на груди, взмахнула руками и устремилась за Анной наверх, напевая и пританцовывая. Позади плёлся Конрад с закушенной губой и думал, как подавить одышку, которая неминуемо поджидает его на втором этаже. Анна с Маргаритой взбирались по лестнице необычайно быстро – Анна перебирала ногами, как опытный кассир купюрами, Маргарита лёгонькой серной скакала со ступеньки на ступеньку. Между прочим, напевала она что-то совсем не старинное, а модно-шлягерное, и тем отчётливей рисовалась досада на озабоченном лице Конрада.
Они пришли в волшебную комнату, и Анна включила свет. «Нет, нет, зажжёмте свечи», – скомандовала Маргарита. Анна, к пущему изумлению Конрада, покорилась. Свечи в тяжёлых резных канделябрах были зажжены, и волшебная комната погрузилась в полумрак.
Анна сняла со спинки кресла свою ритуальную белую шаль и, следуя примеру Маргариты, завязала на груди узлом. После этого столичная гостья уселась перед клавесином, а хозяйка – чуть поодаль, с виолой да гамба между ног. Конрад забился в самый угол, под книжные полки; оттуда ему были видны только вздёрнутый курносик Маргариты да правый бок Анны и её правая рука со смычком. Зашелестели нотные страницы, две музыкантши обменялись односложными репликами. Курносик дёрнулся сверху вниз, локоть – слева направо, и зазвучала музыка.
Конрад таращился на двух сногсшибательно эффектных женщин. Как баран на новые ворота – недоумевал, что вот они играют такой клёвый музон – при нём и в какой-то степени для него. И как буриданов осёл – сравнивал строгую брюнетку в белой шали с чувственной блондинкой в чёрной шали. Он тащился, торчал и улетал. Нота за нотой капали на его душевные раны, как животворный бальзам, и он хмелел без вина и отключался от воспоминаний о своих приключениях в Городе Крысожоров и от воспоминаний вообще. Он даже не чувствовал, что непроизвольно подвывает музыке – точно бальзам капал и в его больное горло, и оно ревело, как небольшой оргáн само собой. Женщины, безусловно, слышали посторонний голос, но он так органично и гармонично вплетался в звуковую ткань, что совершенно им не мешал.
Закончив играть, женщины запели старинный чужеземный мадригал, комкая концы шалей в руках, сложенных так, что казалось – они вонзают кинжалы в свои пышные сладкие груди. Или нет, наоборот – пытаются выдернуть стрелы, застрявшие глубоко в диафрагмах, пытаются, но тщетно. Чуть сипловатое сопрано Маргариты извергалось из её груди маленькими юркими капельками, а из груди Анны изливалось густое бархатное меццо широким неторопливым потоком. Текла кровь из грудей женщин, текло молоко…
– Нет, Анхен, наш мужчинка что-то совсем загрустил. Это же панихида какая-то, а нужен гром победы… бравурный марш вместо траурного. Конрад, сознайтесь, нагнали мы на вас тоски? Мне надоели кислые мины, я хочу радости! Я хочу… слышите, я хочу тан-це-вать!
И Маргарита легко и плавно закружилась вокруг Конрада, взмахивая крыльями, у которых вместо перьев были пушистые кисти.
На этот раз Анна не поддержала подругу:
– Гретхен, папа спит, – сказала она довольно ласково. – Не топай.
– Да, да… – спохватилась Маргарита. – Тогда знаете что… слушайте, а у нас есть что-нибудь выпить? Шампанского хочу! Шампанского!
– Насчёт шампанского не знаю… – улыбнулась Анна, – а рейнское вино тебя устроит? Уже, наверно, лет пять выдержки. Лежит, тебя дожидается.
– И у меня кое-что есть, – набравшись смелости брякнул Конрад.
– Чудесно! Чудесно! – пропела Маргарита. – Так давайте же расслабимся! Когда-то ещё соберёмся вместе… если соберёмся.
Клавесин откатили в сторону и сообразили на его место хрупкий журнальный столик. На него водрузили бутылки, принесённые запыхавшимся Конрадом. При свете свечи те отбрасывали на стену неестественно длинные, словно готические соборы, тени.
Бутылка рейнского осталась ещё от прежних хозяев, не дураков выпить. Бутылку водки дала Конраду Натали. Если бы жители Города Крысожоров или даже столицы оказались здесь, то просто на части бы разорвали наших героев. Сивушка-самогон – не чета кристально чистой водке, а тем паче – рейнскому.
Однако, Конрад не радовался по этому поводу, а напротив, куксился. Во-первых, его обескуражило превращение Святая святых в распивочную. Во-вторых, именно ему – «мужчинке» – доверили вскрытие заветных пузырьков. Он вооружился ножом и штопором, минут пять кромсал пробку то одной, то другой бутылки и, наконец, с грехом пополам, откупорил, засорив ошмётками пробки живительный эликсир. Тут бы и дух перевести, но ему дали новое задание – вспороть банку консервов заморской открывалкой-вертушкой. Конрад долго прилаживался и так, и этак, но всё никак не мог найти режущую поверхность. Он чертыхался и кряхтел.
– Ну всё, всё, Конрад, будет вам паясничать, – залилась смехом Маргарита, и Конрад понял: гостья всерьёз думает, что он просто ломает комедию. Он густо покраснел и пододвинул всё консервное хозяйство Анне, которая точно знала, что никто здесь комедий не ломал. А также знала, где искомая режущая поверхность.
Конрад налил себе водки, Анне – рейнского (интересно: неужто выпьет?); Маргарита после некоторых колебаний выбрала водку и провозгласила:
– За встречу. Чтобы она была не последней.
Чокнулись. Вздрогнули. Пошло не ох как. Маргарита поспешно набила рот консервами. Анна едва пригубила из своего бокала. Конрад сразу вспомнил Дитера и поёжился.
Но через несколько минут неприятные воспоминания отодвинулись куда-то в сторону, и приятное тепло разлилось по телу Конрада. Потихоньку, рюмка за рюмкой, он приходил в свою тарелку, и ему хотелось лезть в бутылку. По крайней мере, когда пили по четвёртой, он даже произнёс тост (единственный, который знал – потому что в компаниях не бывал уже пять лет, а когда бывал, то раза два в год).
– За то, чтобы у нас всё было, – изрёк он торжественно и веско, – а нам ничего за это не было. – Он даже сорвал аплодисменты.
После пятого тоста Маргарита, румяная и сияющая, не выдержала. Забыв, что где-то неподалёку героически борется с бессонницей старый хворый Профессор, она вдруг выхватила носовой платок, резко – Конрад вздрогнул – взяла самого верха и лихо заголосила разухабистую народную песню. И было это так заразительно, что Анна подумала-подумала, а потом вдруг залпом опустошила едва початый бокал и пристроилась к Маргарите вторым голосом.
Конрад был настолько изумлён, что когда кончился этот номер программы, даже залепетал примерно такой текст: ради Бога простите, но господин Клир спит и негоже тревожить его чуткий сон. На это ему ответили примерно так: отсюда к нему звук не резонирует, физику знать надо.
– Гретхен! Ты прелесть! – отдуваясь после разудалой пляски, сказала Анна. – Конрад! У папы есть погребок… там хранятся вина. Будьте добры, принесите ещё.
Спускаясь в погребок, Конрад дважды больно стукнулся затылком, но три бутылки какого-то неведомого ему зелья обнаружил. Даже в погребке голоса двух подгулявших молодух были слышнее слышимого. Слава Богу, в этом часу ещё не ложились спать соседи – а то наверняка сбежались бы у калитки Клиров и обложили бы матом. А если бы Конрад выглянул в окно, он бы в самом деле увидел собравшуюся перед калиткой небольшую толпу любопытных: никогда ещё в этом доме так не вопили и не топали.
– Ух ты! Ах ты! Все мы космонавты! – неслось по округе.
Правда, затем пластинку переставили: сменяя друг друга у клавесина, женщины вновь запели старинные мадригалы, но на сей раз – задорные, мажорные. Застольные вакхические песни ренессансных буршей. Женщины так завелись, что позабыли и про Конрада, и про накрытый столик, как забыли про беспомощного старика за стенкой.
И увидев, что Анна с Маргаритой уже «готовы», Конрад с ходу, без проблем откупорил новую бутылку и в два счёта опорожнил её.
– Гретхен! Ты прелесть! – восклицала Анна между куплетами.
– Анхен, ещё хочу! – кричала Маргарита.
А Конрад всё наливал себе и подливал. Вкус у вина был какой-то не винный, невинный какой-то… зато по чреву Конрада разливалось уже не тепло, а прямо полымя. И огромные тени женщин махали крыльями над его головой. Перед глазами роились синие, чёрные и прочие точки, разгорался внутри священный огонь, звуки ангельских голосов долетали откуда-то из заоблачных сфер, и ещё больше хотелось… всё того же… неизвестно чего… То есть – известно чего, ещё как известно… Не чего, а – кого… Он, Конрад, охотник в джунглях воспалённых нейронов своего мозга. И не кинжалом поражает он свою добычу, его оружие длиннее и мобильнее – вон как те отточенные стрелы на стене позади поющих женщин. Волшебницы, ворожеи, кудесницы, дарующие жизнь и забирающие её… пусть в ваших грудях трепещут оперённые хищные стрелы, пусть насквозь пронзают ваши сердца, пусть змеиные головки наконечников ядовито выглянут из запорошенных роскошными волосами стройных спин. До предела натянута тетива, точно в цель направлена твоя стрела, отравленная этиловым спиртом – она всего одна у тебя, Конрад; какую из прекрасных волшебниц поразит она первой?.. Вот эту, эту, шалунью в чёрной шали. Чёрную моль, летучую мышь. Шалопутку-баламутку-тряхомудку-трясогузку-синеглазку. Буриданов осёл между Рафаэлем и сексэпилом выбирает сексэпил.
– Конрад, тащите сюда ваш магнитофон, – призывала Маргарита.
– Гретхен, может быть, не надо? – вяло противилась Анна.
…ах, Маргарита-Маргарита, мы с тобой, как вахлак и вакханка, василиск и Василиса Премудрая, вурдалак и прекрасная вилисса – в вальпургиевом танце мы закружимся с тобой в варфоломеевской ночи… вакханка, весталка, хабалка, русалка… с искринкой, с игринкой, с икоркой, привезённой тобой из столицы… Мы с тобой…
Изящный мадригал потонул в грозном брачном рёве дикого быка. Заревев, Конрад резко, со страшным усилием оторвался от стула. Его повело вперёд, он опрокинул столик и, растопырив руки, рухнул прямо на Маргариту, потому что Анна оказалась проворней и отпрянула. Мёртвой хваткой молотобойца он сдавил женщину будто железным обручем, пытаясь найти опору. Сзади, неподвластные ему, волочились ослабевшие ноги. Маргарита, стараясь удержать равновесие, сделала два шага назад, и Конрад своей тяжестью вдавил её в стену. «А-а, пусти!» – визжала Маргарита, с перепугу позабывшая весь арсенал восточных единоборств. «Маргарита, я в натуре, не Мастер, я охотник», – бормотал Конрад. Со стены посыпались амулеты, эстампы, гравюры. Затем и Конрад, и Маргарита упали и забарахтались на полу. Сверзился лук, пребольно стукнув Конрада по затылку.
Трудно сказать, чем бы это кончилось, если бы Анна не догадалась пощекотать стрелой задницу Конрада. Охальник задёргался, задрыгался и замер. Маргарита, стеная и ахая, вылезла из-под него. Её волосы превратились в банное мочало; шаль висела на ней как половая тряпка.
– Ты… я хочу тебя… – рычал Конрад, лёжа на полу ничком, слабенько шебуршась и не стесняясь в выражениях.
Анна включила свет, задула свечу, плеснула остатки водки в бокал (благо не всё вылилось на пол) и дала отхлебнуть Маргарите. Та тряслась осиновым листом и блеяла овечкой.
– Ещё, – попросила она.
– Не надо, – сказала Анна.
– Винца бы… – Маргарита потянулась дрожащими губами к бутылке, на три четверти опорожнённой Конрадом.
– Не смей. Оно перебродило.
Тут у Конрада в пищеводе произошла революция, и он принялся осквернять пол волшебной комнаты. Анна бросилась оттирать тряпкой извергнутые его организмом столичные деликатесы. Маргарита стояла отвернувшись и заливалась хохотом – не совсем истерическим. Конрад, завершив своё позорное дело, глубоко вздохнул и рьяно забарахтался, пытаясь подняться.
– Виноват-с, – сказал он, становясь на четвереньки.
– Алкаш несчастный! Вам нужно клизму ставить, – прогремела Анна. – Кто знает, сколько оно бродило? Может быть интоксикация.
– На фер, мля, скопычусь к ядрене фене и загребись, ёпсель-мопсель, – рассудительно толковал ей Конрад, семимильными шагами приходя в себя.
Анна подложила под него рогожку – на холодном полу больше шансов «скопытиться». Прежде чем ставить бедолаге клизму, надо было уделить внимание Маргарите. Та, к счастью, уже не дрожала и даже пыталась водить гребешком по волосам. Анна помогла ей дойти до апартаментов, наговорила успокоительных слов и пожелала спокойной ночи. Потом, вооружившись клизмой, опять поскакала наверх. Конрад, хотя и нетвёрдо, но стоял уже на ногах и даже пробовал восстановить первозданный интерьер волшебной комнаты. Поняв, что хозяйка лучше него разберётся, что куда поставить и повесить, он вырвал клизму у неё из рук и, шатаясь, заковылял прочь с места преступления. «Я сам себе поставлю», – буркнул он. Анна была рада избегнуть такой почётной обязанности, но на прощанье всё же угостила Конрада активированным углём, кажется, им самим же привезённым.
Конрад слукавил – он не умел ставить сам себе клизму. Он спешил отдаться во власть хоть Морфея, хоть Таната прежде, чем в его трезвеющую голову хлынут мутные потоки рефлексии.
Наутро его животик и головка очень сильно бо-бо; голосовые связки после вчерашнего рёва и от стыда завязаны неврозом в тройной морской узел; дружок в штанах не подавал признаков жизни; наконец, жестокая рефлексия была тут как тут. Конрад твёрдо решил не вылезать из своей каморки на свет Божий, пока за ним не придёт военный трибунал.
Трибунал не пришёл. Пришла Маргарита. Она принесла Конраду сваренную Анной диетическую кашку взамен яств, отвергнутых намедни его желудком, и почти что ласково справилась о его самочувствии.
Но едва скрипнула дверь, Конрад сразу отвернулся к стенке. Так и не удостоил Маргариту ни словом, ни взглядом.
– Между прочим, Анна хотела сегодня же гнать вас в шею, – сказала Маргарита. – Я убедила её не делать этого. Я всю вину взяла на себя. Скажите мне хотя бы спасибо.
Конрад не шелохнулся.
– Ну прощайте, – весело вздохнула Маргарита. Она уезжала обратно в столицу, к мужу и брату, увозя на плечах чёрную шаль, подаренную Анной – очень та шла к её серебристому демисезонному пальто. Вообще она сегодня была на редкость удачно накрашена и причёсана – на неё стоило в последний раз взглянуть.
Конрад спасался чтением.
Из «Книги понятий»:
На новой земле Землемер (так он отрекомендовался сверстникам из гетто) не спешил учить местный язык и вообще чему-либо учиться. Он ловко прикрывался своим статусом инвалида, чтобы игнорировать призывы ведомства труда и занятости. На получаемое им социальное пособие он перво-наперво записался в качалку и в клуб восточных единоборств. В последний его не хотели брать из-за хромоты, но он настоял, обвиняя тренеров в дискриминации. Спустя каких-то полгода узкоплечий тщедушный подросток превратился в мускулистого подтянутого юношу. Кроме того, он стал своим в тусовке праздношатающихся выходцев из Страны Сволочей. Сверстникам импонировали его бесстрашие, его нахальство, его жестокость – качества, которых до происшествия в рощице родного города в нём никто и не подозревал. Он смело вступал в боевую схватку со своими бывшими земляками и дрался не до первой крови, а пока мог стоять на ногах. Это вызвало уважение у местного коновода сволочной молодёжи, Помещика, который приблизил Землемера к себе и поручал ему организацию всех внутренних разборок. Не один шрам украсил лицо молодого человека в эти месяцы, но они оказались ему как нельзя к лицу.
Спустя полтора года после прибытия на новую Родину состоялась сходка тинейджеров – выходцев из Страны Сволочей, на которой Землемер попросил слова, и Помещик ему слово предоставил.
– Пацаны, – обратился к братве Землемер, – доколе мы будем расходовать нашу энергию в бессмысленных стычках друг с другом? У нас есть общее дело и общий враг. Местная молодёжь смотрит на нас как на опасных конкурентов, как на нежелательных пришельцев, претендующих на рабочие места и девочек, которые по праву рождения якобы должны принадлежать ей. И действительно, таким правом они обладают. Но права не дают, права – берут, и мы должны загнать местную молодёжь, сытую и трусливую, в подобающие ей границы. Мы обязаны потеснить аборигенов с мест их тусовок, должны показать, кто в районе хозяин, должны заставить их бояться нас и оставить попытки переделать нас по их политкорректным лекалам. Я предлагаю объявить местному юношеству войну. Кто меня поддержит?
Поддержали Землемера все. Все давно привыкли к тому, что местные жители держат их за людей второго сорта и не пускают их в неформальную табель о рангах. Другое дело, что когда дошло до конкретных действий, далеко не все приняли в них участие, убоявшись здешней неподкупной полиции и возможной потери льгот и щедрот, не слыханных в родных краях. Но самые отчаянные и самые неприкаянные тинэйджеры из числа бывших граждан Страны Сволочей охотно вступили в открытую конфронтацию с зажравшимися местными и начали «гасить» и «месить» их по любому поводу. Сначала пришлось пережить немало неприятных минут – местные, естественно, были в большинстве и за счёт количественного перевеса до поры до времени одерживали верх в битвах. Но со временем охоту драться с бывшими сволочами у них отбивал инстинкт самосохранения – те без раздумий пускали в ход не только кулаки, но и ножи, арматуру и кастеты, а кроме того стараниями тех, кто наиболее преуспевал на языковых «интеграционных» курсах, сволочной братве удалось сплотить вокруг себя юношество других диаспор, выходцев из Азии, Африки и Восточной Европы. Вскоре Помещик сделался руководителем обширного межэтнического молодёжного гэнга, и тот постепенно прибрал к рукам окрестные дискотеки, молодёжные клубы и места общественных гуляний. Отныне там звучала только зарубежная, по преимуществу сволочная музыка. Аборигены либо вообще перестали посещать эти заведения, либо ходили в них организованными табунами, стараясь держаться вместе и вовремя смываться по окончании мероприятий.
Увы, так продолжалось недолго – в один прекрасный день Помещик был арестован за хранение наркоты и нанесение серьёзных увечий полицейскому. В отсутствие непререкаемого лидера разгорелась борьба за освободившееся свято место, и межэтнический гэнг погряз во внутренних разборках и борьбе за власть. Новые лидеры были начисто лишены харизмы Помещика, и постепенно места общественного пользования вновь были запружены беззаботной и безобидной местной молодёжью. Землемер в эту пору не чурался участвовать в междоусобицах, но на первые роли не рвался. Отныне он не только самозабвенно качался и боролся, но и налёг на местный язык, смекнув, что его незнание только ограничивает свободу его действий. А на действие он вскоре отважился серьёзное.
Мать его к тому времени расплевалась и разошлась со своим суженым коренной национальности и какое-то время прозябала на разовых работах, рискуя на всю жизнь засесть на «велфер», как здесь называли социальное пособие. Но однажды ей подвернулась фартовая синекура: её приняли домработницей в зажиточную аборигенскую семью.
Семья состояла из двух человек – бездетной супружеской пары. Муж был по профессии «хаусвайф», в переводе с местного – домохозяйка; впрочем, чёрную работу он возложил на плечи землемеровой матери, а сам всецело предался любимым занятиям – выращиванию экзотических кактусов и разведению зверюшек, занесённых в красную книгу. В этом он оказывал посильную помощь своей очень занятой работающей жене-профессорше. Пока муж кормил, поил, одевал раритетных животных, обучал их языкам и гражданским премудростям, профессорша заседала в президиумах, митинговала, преподавала и писала книги – всё на тему исправления природы: чтобы никто никого не ел. Только синтезированную еду. А для замораживания численности популяции она считала необходимым запретить всему живому плотскую любовь, заменив оную духовной. Стерилизовывать и в нужных количествах клонировать. Сегодня это было ещё не совсем осуществимо, и редкостной живности разрешалось в известных пределах множиться, но в близком завтра целью человечества провозглашалось полное искоренение насилия из природы.
Неискоренённое насилие поджидало чудаковатое семейство в их же собственном доме: сын домработницы в один прекрасный день передушил и передавил всех выращенных в этих стенах реликтовых зверушек и сжёг их останки, чтобы нечего было клонировать. После этого он обычным рашпилем зарезал прибежавшего на запах гари мужа-хаусвайфа и нанёс многочисленные ранения жене-профессорше. Но полиция в новой стране обитания Землемера работает оперативно: залитую кровью горе-пацифистку успели спасти, а организатора и единственного исполнителя массовой резни препроводили в политкорректную каталажку.
На суде обвиняемый произнёс проникновенную речь о радикальном понижении статуса человека в современном обществе и «экологическом мракобесии». Переводил её очень хороший судебный переводчик, и она стала достоянием общественности. К тому же выяснились обстоятельства прежней жизни преступника, в частности, происшествие в губернской рощице, после чего он стал объектом сострадания всей своей новой родины. К тому же, до совершеннолетия ему оставалось ещё два месяца. Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, дали ему всего четыре с половиной года, которые он отбывал в одиночной камере. Впрочем, в камере он по большей части только ночевал; остальное время новоявленного зэка уходило на изучение местного языка, тренинг по кун-фу под руководством лучшего китайского тренера, тягание железа, чтение общеразвивающих книг из обширной тюремной библиотеки и работу в тюремном живом уголке. Особенно много Землемер возился со змеями, чтобы преодолеть врождённый страх перед ними. Его регулярно навещали мать и друзья-соратники по молодёжной группировке, а также социальные педагоги и священники.
В прочитанном отрывке Конрада особенно заинтересовало, что Землемер, оказывается, боялся змей. Как и он сам. Герпетофобия, серпентофобия, офидиофобия… Жуткая парализующая тревога при виде одного лишь изображения змеи, не говоря уже о личных встречах. А между тем по дороге из города он узнал, что неподалёку открылся серпентарий.
Жизнь в посёлке в последнее время налаживалась. Логососы его покинули, автохтонная урла убыла на гастроли, а её подрастающая смена, как ни борзела, всерьёз претендовать на ведущую роль не могла. Власть – формальная и неформальная – безраздельно принадлежала полицай-комиссару. В сельпо один раз даже курятину завезли. На фоне воцарившейся стабильности жители не торопились в загибающийся город и готовились зимовать на дачах, тем более что не у одной Анны было приусадебное хозяйство. Посему не удивительно, что у кого-то из поселковых проснулись какие-никакие духовные запросы. Тем более в выходной.
Не в силах отделаться от мерзкого эпизода с Маргаритой, Конрад решил вышибить клин клином и заявиться в означенный серпентарий, чтобы вкусить омерзение по полной программе. Идти надо было по чавкающей грязюге, но по обочинам она густо была засыпана падшими листьями, поэтому вперёд он двигался ходко. По дороге справился, где находится новоявленный центр досуга. Оказалось совсем близко.
У врат суррогатного зверинца его встретила старая знакомая – старушка-вязальщица. Она бойко и оборотисто торговала входными жетонами. Устремила свой взгляд и на Конрада в ожидании мзды.
Конрад поёжился: его уколола совесть. Он ведь обещал бабульке разузнать, жив ли собес и есть ли надежда что-нибудь с него поиметь. Отступать было поздно – старушка уже заметила Конрада и приветливо ему улыбнулась.
– Привет, милок, – сказала она. – Что-то давно не видать тебя было.
Конрад ответил, что ездил в командировку.
– А я, вишь ты, бизнесом занялась. К нам сюда полгубернии ходит.
– Так это ваш серпентарий? – не поверил Конрад. – Значит, больше не вяжете?
– Нет. В сентябре последнюю вещь продала, а теперь вот змеями командую.
– Добре, – сказал Конрад. – А прогореть не боитесь? Эка невидаль – змеи. Их вон сколько в окрестных лесах ползает.
– Да разве ж это те змеи? Ты заходи, посмотри! У меня тут гадины редкостные, заморские. Любой длины и расцветки.
– Вот как, – удивился Конрад, напрягаясь всем телом от перспективы будущего зрелища. – И где же вы их раздобыли?
– Считай – даром отдали!
– Кто же?! – в Конраде не вовремя проснулся сыщик.
– А вот та клиентка, которая мне вещь заказала. Она сама городская. У неё этих тварей – завались. В каком-то училище живой уголок держала, а власти собрались пресмыкающих народу скормить.
Конрад поинтересовался, не «змеиную» ли шаль заказала благодетельница. Всё сошлось.
Нахлынувшие мысли помогли Конраду достойно оглядеть экспозицию. В принципе, ничего вводящего в ступор или даже сколько-нибудь зловещего та не содержала. В заботливо поддерживаемом микроклимате рептилий, похоже, разморило, и Конрад хладнокровно созерцал дремлющие за толстыми стёклами разноцветные канаты и шнурки. Орнамент некоторых ему даже понравился. Чего он точно не мог бы вынести – если б эти шнурки и канаты вдруг начали ворочаться и извиваться. Но те вели себя смирно. Единственное, от чего он наотрез отказался – фотографироваться с удавом на плечах.
«Значит, не всё мясное было брошено на борьбу с голодухой, – воротясь домой, соображал Конрад. – Поделился Землемер с родным училищем[6]… Но почему небедная директриса так старомодно одевается?»
Он ликовал, как будто судьба позволила ему серьёзно продвинуться вперёд. На самом деле, вновь открывшиеся факты ни о чём не свидетельствовали и никуда не вели.
12. Последнее путешествие
Колючий злой ветрило срывал с деревьев редкие припозднившиеся листья, гнал их по белёсым, заиндевевшим дорожкам сада. Студёными вечерами жалобно выли соседские псы, голый лес горестно шумел, раскатисто каркало вороньё и тревожно кружило в свинцовом низком небе. Осень кончалась, плавно переходя в зиму; Анна ходила в телогрейке, Конрад не расставался с шинелью. Как две тени скользили они по Острову, практически не пересекаясь.
– Конрад, папа очень просил вас зайти к нему.
Вот так сенсация! Кто это сказал? Это ж вам не «извольте убрать за собой». Это вам не «папе нужно отдохнуть». Это значит действительно очень просил.
Благообразен и мудровзор был сегодня почтенный старец. Дочь вымыла и расчесала его заслуженные седины и свежую рубашку натянула на обветшалое тело.
– Дорогой г-н Мартинсен! – торжественно закряхтел отставной прораб Переделки. – Скоро полгода, как мы с вами ведём пустопорожние беседы. Притом один из ваших центральных тезисов гласит: такие беседы an und für sich порочны. Полностью с вами солидарен, а посему пора бы уже поставить точку.
(Садистская пауза с целью понаблюдать, какой эффект достигнут сказанным. Эффект минимальный – еле заметный кивок головы: дескать, сам удивляюсь, как меня столько терпели – давно ожидал подобных заявлений).
– Я очень благодарен вам за полгода хождения по порочному кругу, – продолжил Профессор. – Наши с вами дискуссии помогли мне кое-что осмыслить и переосмыслить. Мне в моём положении, согласитесь, это необходимо. Время подбивать бабки.
– Время собирать камни, – исстебнулся Конрад, как всегда не по делу. По ассоциации.
– Если угодно. Набросали камней, наломали дровишек… Г-н Мартинсен, можете быть собою довольны, своей цели вы достигли. Вы вполне доказали мне, сколь никчёмной и бессмысленной была моя жизнедеятельность.
Конрад сделал протестующее движение.
– Нет, давайте без реверансов. Это была ваша цель. Подсознательная, подтекстуальная. Должен вас, правда, несколько разочаровать: вы далеко не первый. Задолго до вас был вынесен приговор правозащитному движению. Я имею в виду даже не столько аргументы разнокалиберных мудрецов, сколько голые факты… От фактов не спрячешься.
Конрад смотрел в пол.
– Да, действительно, мы, горстка ограниченных, слабых, бездарных одиночек в позитивной нашей программе сплошь и рядом ошибались, заблуждались. Пребывали в плену иллюзий… по вашей терминологии – мифов… Да, это так. Демократическое правовое государство на воздушной подушке осталось воздушным замком. За что боролись, на то и напоролись… И вот, одним из последних, не сегодня-завтра серафимы потащат меня на Страшный Суд. Всевышний Судия, как положено, зачтёт длинный список моих прегрешений, как пить дать достойных геенны огненной. Ишь ты, хором затрубят присутствующие небесные чины, какая гордыня! Жён своих осчастливить – не смог, а возмечтал – всю Родину осчастливить. Всё так. Прекрасные порывы, грандиозные замыслы, благие помыслы не могут быть смягчающими обстоятельствами, благими намерениями вымощена дорога в ад. Вряд ли поможет мне чистосердечное раскаяние…
– Якобы всем помогает, – обнадёжил Конрад.
– И всё-таки, и всё-таки, – просветлев лицом, возвестил Профессор, – кое-что вякнуть в своё оправдание авось да смогу. Давайте посмотрим на вещи, так сказать, всемирно-исторически.
Конрад всемирно-исторически посмотрел на вспотевший лоб Профессора, на дежурный поильник, на голую липу за окном.
– Так вот. Глоток свободы, который стал возможен не в последнюю очередь благодаря деятельности правозащитников, может быть, ничего не дал нашему с вами отечеству. Но для судеб всего нашего шарика он сыграл колоссальную роль. В конце концов – слава Богу, что обескровлено и обезоружено ненасытное милитаристское чудище! Слава Богу, что захлебнулась гонка вооружений. Слава Богу, что окончательно скомпрометирована и развенчана жесточайшая из утопий, когда-либо рождавшихся в человеческом мозгу. Слава Богу, что эксперимент, поставленный в Стране Сволочей, никогда не будет повторён! Наконец – возвращаясь к нашему последнему разговору – слава Богу, что миллионы людей за время Переделки обрели – духовно и физически – свободу! Занимаются любимым делом! Воспитывают в нормальных условиях детей! Живут и другим жить дают!
Конрад пожелал что-то вставить, но Профессора уже было не остановить.
– Нет, помилуйте, по-вашему, что – они должны были ждать как барашки, пока их отправят на бойню? Погубить себя и своих чад во имя туманной идеи Родины – это когда за восемьдесят лет их методично приучали отождествлять Родину с социалистической казармой? Эти люди наконец-то узнали и поняли, что их рабское прозябание – не самый лучший из существующих вариантов, и в этом – уж извините – всё-таки огромная заслуга правозащитников, и крохотную лепту внёс, значит, и ваш покорный слуга.
Конрад раздумал что-либо возражать.
– Да, выяснилось, что наших скромных сил не хватает, чтобы перевернуть сознание целого народа. Произошла революция всего лишь в сознании индивидов. Да, они поняли, что идея личности – личности! – куда ценнее и значимей, чем миф о Великой Державе, ради процветания которой мы должны надрывать себе пупки. Ваш призыв остаться и противостоять – не рецидив ли это тоталитарного сознания? Терпи и скрипи зубами во имя счастья грядущих поколений… Нет уж, лучше выйти из поля зла, чем бороться с ним его же методами или, заливая водкой собственную беспомощность, выть на луну! Хватит гнилой жертвенности! Хватит бесцельной страдальщины! Необоснованной претензии быть за всё в ответе!
Конрад саркастически улыбался своим мыслям.
– А что до вашей головной боли… культура, традиция… Да, тут мне утешить вас нечем. И себя нечем – мне, уж поверьте, не менее, чем вам, дорога отечественная культура. И в борьбе за её сохранение я копий поломал побольше вашего. Так же, как вы, я не могу примириться с тем, что нет сил и способа спасти разрушенные храмы и затопленные библиотеки. Я так же, как вы, в ужасе от нравственного и духовного падения не самого бесталанного народа… Ну что ж. Как говорится – на то, значит, воля Господня. Промысел Божий распорядился так, а если точнее… Нам с вами, дружище, довелось наблюдать закат Великого Этноса… тем более обидно, что мы сами себя считали его частицей. Но, мил человек, ничто не вечно под солнцем, круговерть истории, в сущности своей, трагична – этносы зарождаются, мужают, цветут и гибнут. Вы думаете – римлянам последних лет империи лучше было, чем нам с вами? Ведь им даже эмигрировать было, в сущности, некуда.
– Неправомерная аналогия, – встрял-таки Конрад.
– В истории правомерных аналогий мало. Со времён Алариха и Одоакра много воды утекло. Ситуация за без малого два тысячелетия трошки переменилась…
– Неправомерная аналогия, – повторил Конрад. – В недрах прогнившей римской традиции вызрела новая традиция, христианская, и духовный путь Европы был предопределён на многие века. А у нас…
– Бог ты мой, откуда вам знать, что там – у нас? Вызрело – в недрах? Что мы знаем, что мы видим, лёжа – каждый на своём диване? Да в принципе… нам не дано это увидеть – это новое непостижимо для нас обоих… для любого сложившегося человека уходящей эпохи… Я в этом смысле оптимист – знаю просто, что мой взгляд на вещи ограничен какими-то рамками, и не мне судить о грядущем. Но я с уверенностью могу сказать другое. Наш бедный этнос становится достоянием истории, а тем временем остальное человечество консолидируется в новый единый этнос… Только сообща оно… он… люди смогут одолеть все мыслимые катастрофы: энергетическую, экологическую, демографическую… Конвергенция – вот лозунг и знамя зарождающейся невиданной человеческой общности. Национальная гордыня не в последнюю очередь сгубила атлантов, сгубила этрусков, сгубила и сволочей… Рухнул Рим, а эстафетную палочку приняла Византия… на её руинах набрал силу Третий Рим… рухнул и он. Но выше нос, заявил о себе четвёртый… Пятый, может быть, будет на другой планете… я уж до этого времени не доживу, а вы, Бог даст, доживёте… если бросите курить и ныть, ха-ха!..
– Спасибо, утешили, – почти беззвучно пропел Конрад. Честно говоря, его раздражала не логика профессора, а его дилетантская терминология. И беспрестанное поминание Бога всуе.
– А ну вас… Слушайте, г-н Мартинсен. Конрад!.. За время наших словопрений вы стали мне почти как сын. И уж извините меня… Сегодня… я хочу с вами поговорить по-отечески.
Конрад поблагодарил нежданного усыновителя.
– А ну вас… Я вижу – моя лебединая песнь вас разочаровала. Вы думали, загну что-нибудь в эсхатологической тональности, не так ли?
– Как вы угадали? – прыснул Конрад.
– А вот дудки! Гляжу я на вас, гляжу – нехилый малый, не совсем дурак, в самом плодоносном возрасте. И я ему стану скулить про конец истории? Апокалипсис цитировать? Нет, дяденька, пусть это даже сто раз правда, но вам-то она на хрен не нужна! Просто губительна на данном этапе! Не доросли вы ещё до такой правды… Ведь что получается: я, готовая мумия, и вы, цветущий кавалер – одинаково горизонтальны! Каждый на своём диване! Но мне-то капут скоро, а вы… Знаете, во все века объявлялись самозваные пророки, трубившие о близком светопреставлении. И находились наивные чудаки, живьём забирались в гробы, и давай ждать Второго Пришествия. Вот у них уже пролежни, а Второго Пришествия нет как нет. Что ж – вылезали, делали гимнастику и вновь приступали к выполнению своих посюсторонних обязанностей. Будет конец света, когда будет – нас волновать не должно. Не наша компетенция. Где нас прихлопнет, там прихлопнет. А пока у нас в земной юдоли дел – выше крыши.
– К чему вы это всё? – спросил Конрад недоумённо.
– Ой, знаете, хватит юродствовать… Не надо идиотика корчить, дитё неразумное… Я сказал достаточно. Sapienti sat. Но нет, вы желаете, чтобы за вас ложку в рот совали и за вас жевали… Увы, такое ваше поколение – поколение иждивенцев…
– Не надо огульных оскорблений, – сказал Конрад. – Я никогда не тянул на типичного представителя своего поколения… вообще представителя чего-либо… Да. Значит… я вашу напутственную речь трактую следующим образом: действовать, действовать, без всякой надежды на успех. Альбер Камю, по-моему… Вечная слава героям Сизифова труда!.. Извините, любезность за любезность, кумир вашего поколения – Камю. Его пафос – пафос туристско-альпинистской романтики, которым вы обогатили общипанную идеологию социалистической интеллигенции. Помните эти песни? Сплошной Камю плюс папа Хэм. Скажем: «Пора в дорогу, старина, подъём пропет…» Или: «Погоди трубить отбой, ты ж дорогу до конца не прошагал…» Или попросту: «Дороги трудны, но хуже без дорог». Словом – в лямку-у!..
Порядком упревший от собственных проповедей, Профессор позволил себе улыбнуться:
– Тепло, тепло, дружище. Привал ваш затянулся. Вы ж сами убедились: на диетических харчах толстые бока не наесть. Пора взвалить ношу на плечи и начать новое восхождение, мосье Сизиф. Но… я имею в виду не столько ваш материальный драный вещмешок, сколько ваш – не вами выбранный – крест.
– Да, но как же призыв «Хватит дешёвой страдальщины»?
– Дурья ваша головка… Почём зря лезть в петлю или на плаху – бесспорно, дешёвка. Остаться в живых и держать свой путь – совсем другое… Улавливаете разницу: ставить на себе крест или нести свой крест?..
– Профессор, была ещё такая песенка у той же неоромантической когорты. Но – в стебовом ряду. «Поступью железной, твёрдо, как стена, мы шагаем вслед за, невзирая на…» Знаете, осточертели эти предлоги без существительных и существительные без сущностей. Что это по-вашему за крест, сработанный кем-то для моей сутулой спины? Тридцать один год не могу врубиться, уж просветите…
Вновь вспыхнул Профессор, завращал зрачками:
– Нда-а… Тяжёлый случай. Что ж, кладу в рот и разжёвываю ab ovo. От печки. Императивами, раз вы башку сегодня в тумбочке забыли. Но сперва напомню: не вы ли, ранний склеротик, однажды заявили мне: «Гуманитарий – не профессия, а крест»? А тем паче не просто дипломированный игрок в бисер, а та уникальная гуманитарная разновидность, что получила название сволочного интеллигента? Этот крест вас тяготит, но деваться Вам от него – некуда… Да – вы слабачок, поэтому ежу понятно: здесь, в этой стране вам действительно двигаться некуда. Хотя вы, как истинный сволочной интеллигент, по-настоящему любили – извините за выражение – свою Родину. Но этой страны – как мы с вами убедились – фактически больше нет. Вне нас – уже нет. Родина жива лишь внутри нас. Ну, меня скоро вперёд ногами понесут, тогда она и во мне погибнет. Но вам, уверен, отпущен ещё солидный срок. И вот послушайте: не кажется ли вам, что каждый человек – изначально – необъятный сосуд, способный вместить необъятный океан? В течение своей жизни он волен сделать этот сосуд сосудом скверны, а может – вместилищем истины. И ещё остаётся место для разной чепухи типа сердечно-сосудистых заболеваний, хе-хе… Ваш сосуд, увы, пока заполнен – на девять десятых – всякими вредными ингредиентами. Но весь этот мусор можно элементарно встряхнуть… некоторым напряжением воли. И вместо махорочного дыма в ваши лёгкие поступит… тот самый, сладкий и приятный, Дым Отечества… Дело не только в том, чтобы прочесть кучу книг на родном языке… Сосредоточьтесь! Пошукайте в закоулках генетической памяти! Там живы все мгновения, все тысячелетия истории Отечества, все его запахи, все напевы и звоны… Вслушайтесь! Внюхайтесь! И вам не нужно будет цепляться за какие-то клочки осквернённой земли, ведь ваша духовная Родина – внутри вас.
– Допустим. А дальше – что?
– А дальше… дальше, мил человек, собирайте торбу, ползите через леса и дола, не более полутора тысяч вёрст до границы… ищите способы нагребать погранкордоны, используйте знание языков… Бог даст, невредим пересечёте границу. Я напишу рекомендательное письмо своему ученику, доктору Берингеру – наверняка слыхали, заметная шишка в сволочном зарубежье. Печати нотариуса не потребуется, Берингер мой почерк узнает. Он в ладах с иммиграционными службами, поможет оформить ваш легальный статус. Какой именно – зависит от вас… Будете нищебродом, сумасбродом – фигня, главное – бу-де-те! Но лучше на первых порах устроиться каким-нибудь говночистом – простите уж мой висельный юмор, опыт работы по специальности имеете… А скорее всего Берингер лучшие варианты подскажет. Если ваньку не сваляете… Решится проблема презренного металла – перво-наперво займитесь своим здоровьем. Пусть вам желудок заштопают, нервишки в порядок приведут – найдите себе психоаналитика хорошего… Хотя, я убеждён, такой крутой поворот в судьбе сам по себе благоприятствует вашему выздоровлению. Раз вам нечего терять, кроме разнообразных невротических пут, скажите себе, едва ступите на чужую землю: баста, я рождаюсь заново. Все мои заморочки, комплекс неполнохренности, вшивая биография, позорное прошлое – да останутся там, на пепелище коммунизма! Отныне я – сосуд, до краёв полный родниковой воды. Как только вы это скажете – нутром почуете, – вся эта грязь и мразь выветрится, невротические оковы – падут…
Конрад зааплодировал:
– Браво! Бесподобно! Пара магических заклинаний, мгновенное чудесное исцеление, а затем – добросовестная чистка постиндустриальных клоак, зато с духовной родиной в сердце!..
– Японский бог… Вот оно, ваше поколение, сплошные… как это у вас… стебуны?.. Может, дослушаете всё-таки? Вряд ли я предложу вам по гроб жизни говно месить. Ваше отношение к Обществу Потребления я вполне понимаю и разделяю. Но дорогой мой, кто вас заставляет там – потреблять? Я призываю вас – созидать. Напрасно вы думаете, что сокровище, которое вы спасёте от вандалов – вот то самое, внутри вас – никому не нужно. Да, согласен с вами насчёт сволочной диаспоры – девяносто процентов гансы, не помнящие родства. Но чёрт возьми… –
(Ну, наконец-то и чёрта вспомнил…)
– …теплится же ещё, не погас священный огонёк великой традиции. В конце концов не обанкротилось ещё издательство «Гамаюн», ещё не распущен Сволочной Христианский Фонд, ещё пока… Берингер назовёт Вам сотни адресов… Так поспособствуйте раздуванию этого огня!.. Неужели вы допустите, чтобы Шампольоны грядущих веков с нуля расшифровывали нашу письменность? А будущие Шлиманы – методом научного тыка шарили в останках наших древних городов?.. Этому, к счастью, не бывать. Найдутся люди, которые посвятят жизнь возведению Нового Акрополя сволочной куль…
– Вы хотели сказать – Некрополя? Некрофилия – не мой профиль.
– Стебун хренов! Грошовый фигляр! Кес ке се – некрофилия? Вы знаете, что потомки сектантов, бежавших в страну Оз за двести лет до Катаклизма, и по сей день сберегли все обычаи, во многом даже – уклад жизни берендеевских времён? Три столетия живут старинные песни и обряды, три столетия чтят славных предков и благоговеют перед потемневшими образáми. Хотя в каждом доме – «Тойота» и персональный компьютер. Скажете – реликт, изолят?.. Ой, да в десятках стран открыты школы с преподаванием на старосволочном языке!.. Десятки институтов сволочистики!.. Так кто вам мешает учить родному языку эмигрантский молодняк?.. Давать детишкам наших классиков в подлинниках, а не в либретто и дайджестах? И только ли эмигрантским? Интерес ко всему сволочному не спадает несмотря ни на что. Речь не о расписных матрёшках и разудалых переплясах. Фокус вот в чём: рацион одномерного человека – не сбалансирован. Переедание вредно для организма. И всё больше граждан техноцивилизации чувствуют недомогание, ищут подходящую диету. Всё яснее диагноз – духовный вакуум, эмоциональное голодание, неподлинное существование. Нарождающийся суперэтнос охвачен страшенной экзистенциальной фрустрацией. Поэтому он поворачивается лицом к истокам, воскрешает ценностную иерархию прежних времён, причём поиски ответа на животрепещущие вопросы затрагивают все без исключения традиции. Кто сейчас ходит в секс-шопы, кроме чёрно-жёлтых гастарбайтеров? Кто торчит в казино, кроме усталых от жизни пенсионеров? Зато переполнены концертные залы и музеи. Зато вовсю цветёт ренессанс вроде бы старомодных нравственных устоев. Любая культурная инициатива не знает отбоя от меценатов и спонсоров – тоже многозначительный симптом. Если заложники посттоталитарного общества окончательно заблудились, утратили нравственные ориентиры вместе с верой в спасение, то в постиндустриальном обществе… созданы нормальные условия для неспешных целенаправленных поисков истины, для духовной самореализации каж-до-го. И я верю: будет осуществлён прорыв нового этноса к подлинному существованию. Произойдёт синтез достижений техноцентрического рацио с опытом вечности. Верю: грядёт великая революция духа! Прежние революции несли в себе отрицание и нетерпимость; лозунг сегодняшнего дня – экуменизм, сближение великих и малых традиций, признание заслуг всех существующих и исчезнувших этносов перед человечеством. И никогда не будет забыто, какой колоссальный вклад мы, сволочи, внесли в строительство общемирового храма…
Из-под прижатых к лицу Конрада ладоней в продолжение этих лжепророческих речей брызгали во все щели неудержимые смешки, и едва Конрад отнял ладони, откровенный буйнопомешанный ржач разлетелся во все стороны.
– Ха-ха!.. Итак – даёшь пятый Рим аж на Марсе!.. Даёшь новую вавилонскую башню!.. А меня, значит, ха-ха… прорабом!..
– Вы думайте, прежде чем что-то ляпнуть!.. Причём тут вавилонская башня?.. Это вот в нашем государстве кучка параноиков вознамерилась выстроить вавилонскую башню, и мы сейчас с вами сотрясаем воздух на её руинах. Я-то вам толкую – о хра-ме! И насчёт прораба – это вы размахнулись… Я на ваш счёт не обольщаюсь, знаю ведь – силёнки скромные. Но простой каменщик, понимаете ли, тоже не хухры-мухры. А положить своими руками хоть пару кирпичей – вам по силам. Про педагогику я уже говорил. Это вам не учительство в сволочной школе, где у детей никакой мотивации учиться, а у преподавателя никакой мотивации учить… Потом: вы же ещё и толмач! Не надо, не надо, наизусть знаю, какого вы мнения о сием ремесле, но копните поглубже, мать вашу… Кто такой переводчик? Посредник между культурами, менталитетами, системами ценностей… Наиблагороднейшая миссия! Хочу вам напомнить: крест – не проклятье, крест надо нести с радостью!.. Вспомните сумасшедшего, который надписывал опавшие листья! В любые «кризисные дни» такие чудаки отыщутся, так что я за «порядок бытия» спокоен. И ораторствую тут исключительно ради вас!! И о вас.
Профессор захлёбывался. Острый кадык его ходил вверх-вниз как захваченный бурей корвет. Голова с большими залысинами запуталась в авоське красно-синих жил. Пульсация кипящих гейзеров угадывалась под тонкой кожей на мокрых висках.
– Низкий вам поклон, Профессор, это моя самая любимая тема, – прошептал Конрад. Эмоции из него выплеснулись, и он стал похож на лопнувший воздушный шарик.
Затихал и Профессор. Ярость библейского пророка-трибуна на глазах трансформировалась в кротость безмятежного созерцателя-бодисаттвы:
– В общем, разрешите пожелать вам… вслед за древними… силы – изменить то, что можно изменить, мужества – примириться с тем, чего изменить нельзя… и мудрости – отличать одно от другого.
Несомненно: всё сказал престарелый Чингачгук. Сказал и ушёл в себя. Ещё надо отладить дыхание и восстановить пульс. Это ясно. Не менее ясно, что тебе, Конрад, делать надо: расшаркаться и с глаз профессорских долой. А заодно из сердца вон.
Но непреодолимо магнитное притяжение продавленного стула…
И – дабы сохранить хорошую мину – приосанился Конрад, тщательно прокашлялся и, используя низкую резистентность выложившегося наставителя своего, запел заветную песнь:
– Эх, профессор-профессор… Уж коль скоро вы вплотную заинтересовались моей сомнительной личностью, позвольте мне открыть последнюю карту… Вообще-то она давно открыта, да вы всё не замечаете… или не хотите замечать, идеалист-альтруист!.. Неужели вы до сих пор не раскусили, почему именно я, мифотворец похлеще прочих, так рьяно цеплялся за миф о традиции? Сколько раз спрашивал себя: на кой тебе хрен, Конрад, прóклятое Отечество с его традициями-литературами-культурами-нравственностями-богоискательствами? Весь стандартный интеллигентский набор? Сам-то скот скотом, рукоблуд и чревоугодник. Под «Дайер стрэйтс» тащишься, под Моцарта засыпаешь. Обожаешь концептуальный стёб, а в Малларме не врубаешься. «Сволочной спорт» читаешь взахлёб, а Гегеля с одной мыслью: «Блин, когда ж эта мутота кончится». И всё же зачем-то ставишь Моцарта, открываешь Малларме, грызёшь Гегеля. Ещё один удивительный нюанс: из стандартного интеллигентского набора тебя больше всего влекло то, что для твоих интеллигентских сверстников – анахронизм, и прямого касательства к традиции не имеет. То есть: интерес к политике и политической истории, жажда общественных преобразований вкупе с моветонной страстью метать бисер перед свиньями – речь о пропагандистски-просветительских замашках. Уж это-то тебе зачем? Какого рожна каждодневно травмируешь свою беззащитную психику газетными разоблачениями и книжными обличениями? Что тебя так скребут окружающие мерзопакости-несправедливости-беззакония, которые ни для кого не тайна, и ведь ничего – живут люди, с ума не сходят, словно и не замечают ничего, закованные в броню здорового пофигизма. А раз уж тебя вся эта погребень так патологически скребёт, то что за непонятные мазохистские импульсы толкают тебя вновь и вновь то к газетному ящику, то к книжному шкафу? Тоже р-революционер нашёлся! Мент косо посмотрел – душа в пятки… Девушка отсос дала – истерика… Да, вот ещё любопытный парадокс: иностранные языки даются относительно легко – нет, поди ж ты, родное говно вкуснее пахнет… И знаете – давным-давно просёк я, в чём дело. Лет ещё в двадцать просёк… Просёк – и испугался. А испугавшись – давай обманывать себя дальше. Пытался забыть, что это самообман. Ну а жизнь… жизнь напоминала снова и снова… В общем, так: меня… только я сам интересовал, моё собственное благополучие, а общество с его проблемами – лишь постольку, поскольку мне в этом обществе жить. Чтобы мне, бездарному, трусливому хиляку… ничего не угрожало! Чтобы меня не били ногами… Чтобы не посылали на три буквы… Чтобы со мной водились… Чтобы было с кем поболтать об отвлечённой ерунде… Когда (мне было четырнадцать) передо мной встала в полный рост задача социализации, висел железный занавес, выбора не было: данный социум, что бы ты о нём ни думал – твоя судьба, и надо учиться жить – по правилам этого социума. Поздно взялся я за учёбу, безнадёжно поздно. И всё же самому элементарному кое-как выучился. В очередях толкаться. В трамваях ругаться. Вызубрил, почём батон хлеба и что такое «дать на лапу»… Самые-самые азы усвоил, с превеликим трудом… уйму сил потратил. И вдруг – хлоп – железный занавес пал. Но чтобы переучиваться, приспособиться к новому, пусть совершеннейшему образу жизни, пороху не осталось – весь истрачен на адаптацию к здешнему образу жизни. Значит, по-прежнему нет альтернативы – здесь мне и куковать. Отсюда – мой твердолобый патриотизм. «Здесь» я хоть как-то могу. Правда «хоть как-то» – всё равно невыносимо. И тогда хочется, чтобы «здесь» лучше стало. Отсюда – моя тяга к общественным наукам. «Лучше» – в смысле «мне удобнее». Хочется, понимаете, удобно устроиться среди людей, да люди какие-то не такие, как хотелось бы – грубые, злые, а если не злые, то говорят всё время о непонятных предметах: кто о дублёнках, кто о дебошах… Откуда они взялись такие, мне не подходящие? Понятно откуда – общественный строй их сделал такими. Отсюда – мой интерес к истории, заметьте – почти исключительно к недавней. Итак, я хотел исправить общественный строй, чтобы сделать людей такими, какие мне нужны. Отсюда – моё проповедничество, в студенческие годы всех на бой за свободу за яйца тянул… Я был одержим наипоганейшим дьяволом – по классификации Льва Толстого – «дьяволом исправления людей». А какими я хотел их сделать? А такими, как в знаменитых книжках – праздными демагогами с тонкой душевной организацией, что всё маются, мучимы мировым злом, да о высоких материях талдычат. Ну прямо как я. А чегой-то я вообще книжки читал? Чего умные разговоры слушал? Ведь это же – традиция как таковая… И вот последняя разгадка: где ж мне было ещё такую лафу найти? Уют, комфорт! Куда ни плюнь – Истина, Добро, Красота… Отсюда, кстати – моё культуртрегерство. Что ж… умный, по Бернарду Шоу, себя к миру приспосабливает, а дурак – наоборот норовит. И я, дурак, хотел, да, к счастью, всеобъемлющее фиаско потерпел. Ибо супердурак. По-нашенски – мудак. Вот вам Конрад Мартинсен демифологизированный, нагишом. Вот кому вы желаете вверить культурное наследие великой империи. Наденьте очки, Профессор! Или не стыдно вам перед своим учеником Берингером? Да он за такого протеже так вас обложит – обыкаетесь, а если к тому времени вас ангелы призовут – в гробу изворочаетесь.
Комнату заволакивали сумерки. Полубезумным торжеством мерцало полумертвецкое лицо Конрада. И он всё сказал.
И Профессор, едва вникавший в суть монолога, не предусмотренного сценарием, почувствовал, что предстоит новый бой. Бой с полупризраком, вытеснившим лучшую половину из сидящего напротив Конрада Мартинсена, ныне получеловека. Жестокий бой, требующий сверхнапряженья.
Время и болезни сточили стальной стержень личности Иоганнеса Клира, он был теперь не толще гитарной струны. И Профессор подтянул струну до критического максимума и сам вытянувшись в струну, вибрируя всем телом, гипнотизируя бестелесного врага стальным взглядом, сквозь сжатые зубы выпустил на него своё верное воинство – слова.
– Я согласен, парень, ты мерзейший из всех мифотворцев. И твой фундаментальный миф – о том, что ты говно. Вот только этот копеечный миф ты всхолил и взлелеял, и он-то для тебя самый что ни на есть уютный и удобный. Освобождает от всякой ответственности. От необходимости прилагать усилия. Лежишь себе на диване и всё валишь на свою онтологическую говённость. «А что я могу поделать, говно ведь… Задуман как говно, исполнен как говно, и миссия моя – быть говном, значит, имею полное право не двигаться с места, не то вонь распространится дальше». Крепко убедил ты себя и при малейшей неудаче радовался: ну что я говорил! – говно и есть. Нравилось говном быть. Взятки гладки – несчастная жертва творенья. Несокрушимая у тебя логика, братец. Говённая. На хера тебе Общество Потребления – ты и здесь вовсю потребляешь, прикрываясь самокритикой. Самобичевание, как известно, – лучший вид саморекламы… Ну и сиди по уши в говне, пока, наконец, не утонешь! Ты погляди на себя – заживо в гроб залез и ещё рисуется! Да я, мешок с костями… в миллион раз живее тебя!..
– Не оригинально, Профессор.
– Не претендую на оригинальность. Да тебе хоть кол на голове теши! Свой восковой мифчик ни на что не променяешь.
Внезапно Конрад почувствовал, что электромагнитный стул превратился в обыкновенный, кривоногий и скрипучий. Без труда отклеившись от сиденья, поддерживая всё ту же улыбчивую хорошую мину, он побрёл к двери.
И Профессор подумал, что почти победил.
– Ладно, – окликнул он Конрада. – Слушай сюда, неблагодарный отпрыск. Сыновья бывают разные – нелюбимые, блудные, какие угодно, а всё ж сыновья. И я от тебя так просто не отрекусь. Раз не внемлешь моим наставленьям, даю последнюю подсказку. Что может вернуть мужику иссякшие силы, что безотказно делает мужика мужиком, а?.. Слабая женщина рядом, уж поверь мне!
– Куда это вы клоните, Профессор?
– Опять делирий симулируешь, сын? Напомню: у меня ведь ещё и дочь. Это уж без оговорок – моя кровинка, моё произведение. Всё моё богатство и наследство. И я не имею права безмятежно отойти в царство Аида, пока не буду спокоен за её будущее. Ты понимаешь, что её здесь ждёт, а?
– Ваша дочь – самостоятельный и сильный человек…
– Каз-зёл! Дубина стоеросовая! Она же по земле-то не ходит! Она же кутёнок беспомощный! Она таких дров наломает со своей самостоятельностью… И потому – слушай мою последнюю волю: поручаю тебе заботу о моей дочери. Отныне ты целиком несёшь ответственность за её жизнь. Какой бы ты ни был – кому ж ещё я могу доверить самое дорогое? И ради моей дочери приказываю тебе: угрёбывай за кордон. Вместе с ней. Там – другое дело, там она – с её талантами – не пропадёт, там хоть на содержании у ней живи. Но эвакуация возлагается на тебя. Ты понял?
– Не до конца… – Конрад, не глядя на Профессора, скрестив руки на груди расхаживал по комнате. – Скажите пожалуйста… мм… а с ней-то вы такой вариант обсуждали? Как она-то смотрит на… мм… эвакуацию? Как относится к назначению опекуна над собой? Нет ли возражений по персональной кандидатуре?
– Я с тобой тет-а-тет говорю. Конфиденциально. По-мужски. Поговорю и с ней, будь покоен. Но снять возражения по твоей кандидатуре должен только ты сам.
– Не знаю, кому я чего должен… Вы всё же неисправимый утопист, Профессор.
– А ты – неисправимый слюнтяй!
– Изощряйтесь в ласкательных прозвищах сколько угодно, на взгляды вашей дочери это не повлияет. О чём вы, господи? Она же меня вообще… Бляха-муха, у неё на меня самая адекватная реакция – брезгливое презрение!
– Она, моя дочка, небрезглива. Но если кто добровольно записался говном – да, адекватно реагирует. Так покажи ей, кто ты на самом деле! И всё, что имеешь… внутреннее сокровище своё – отдай ей…
Конрад поспешно схватил свою голову, будто та падала, и, склонившись к самому уху Профессора, взвыл:
– Гражданин хороший!.. Я устал повторять… я не знаю, что это за сокровище… Я не знаю, кто я… где я… что я… могу отдать… я…
– Японский бог!.. Вот она, гниль интеллигентская!.. Кругом – мир рушится, пора себя напрочь забыть – нет, всё рефлексиями балуется… на руинах… Вместо чтоб рубануть по-мужски: вот моя рука, обопрись и не бойся!..
– Ну тоже мне… нашли мужика!..
Конрад не сел – рухнул на спасительный стул. Те! – у Профессора участилась вибрация внутренней струны, и струна вдруг выдала неверный, дребезжащий тон:
– Господи… Что же будет с моей дочерью?.. На кого мне оставить её, Господи… А я-то хотел такому… говну… такому говну… Ну-ка ты, срань ебучая… ты ещё здесь… иди ты на…
Профессор побагровел, жилы на его лице вздулись, и вдруг он резко упал на подушку, захрипел, зашёлся в судороге, струйка мутной жидкости потекла у него изо рта… Конрад понял, что стряслось непоправимое.
– Врача! Врача! – вопил Конрад, громко топая по ступенькам. – Я этого не хотел! Нет! Нет! Я не виноват! Нет, я виноват!.. Нет…
Навстречу ему спешила Анна с сотовым телефоном – подарком Поручика – в руке. Она ворвалась в комнату отца и закрылась в ней. Конрад остался один, курить сигарету за сигаретой.
Через какой-нибудь час примчался Поручик на гончем гнедом мотоцикле, и вместе с ним прибыла усталая пожилая врачиха. Не обращая никакого внимания на Конрада, она бросилась в комнату Профессора, но пробыла там, впрочем, недолго. Выйдя, врачиха о чём-то шепталась с Поручиком, а затем с Анной, осунувшейся, простоволосой, словно постаревшей за один только час. Конрад сперва топтался поодаль, а затем благоразумно ушёл в свою комнату. Он думал лишь о том, что его пребывание на Острове Традиции закончено, и не представлял, куда теперь.
Всю ночь он не спал. Он не заметил, куда и когда девались Поручик с врачихой. Лишь только злосмрадным душком потихоньку полнился дом. Профессор Клир распространял трупный запах, не заслужив быть причисленным к лику святых.
Наутро Конрад всё же покинул свою келью, и его глазам открылось приметное зрелище: бравые молодцы в форме Органов Безопасности бережно поднимали на руки гроб с телом своего заклятого врага. Мокрый снег садился на непокрытые головы присутствующих, пронизывающий ветер трепал полы их одежды.
– Вам помочь, молодые люди? – спросил Конрад. Как будто и не спросил.
Поручик отсутствовал. Неотложные дела, очевидно. Погрузкой руководил невзрачный, немолодой человек в штатском, которого называли «господин подполковник». Отто фон Вембахер.
Он прирулил сюда на своей машине, поставив рекорд оперативности – прошли всего сутки, как ему позвонили из этой глубинки, тысяча вёрст от столицы. Он вошёл на Остров, как входит в операционную хирург с тридцатилетним стажем. Конрад думал: удивительно, как Анна верит, что это и есть тот самый фон Вембахер, муж её подруги, а тем более – что он приехал затем, чтобы оказать благодеяние.
Сам Конрад не верил и не не верил. Его волновало другое. Между тем, подполковник ни на шаг не отходил от Анны, держал её под руку, то и дело что-то успокоительно ей втолковывал.
Конрад наблюдал это издали и не слышал слов фон Вембахера. А он, может быть, отвечал на вопрос Анны:
– А что, эти люди – поедут с нами?
– Нет, этих людей прикомандировал ваш друг поручик Петцольд … Но я вооружён и не боюсь никого.
А фон Вембахер, наверное, спрашивал Анну:
– Как вы переносите долгую езду на автомобиле?
– Я переношу всё, – был ответ, наверное.
Возможно, они обсуждали также средства временного бальзамирования тела Профессора. По крайней мере, они возились с какими-то пузырьками, с благовониями и умащиваниями. Машина фон Вембахера, по-любому, статью и фактурой напоминала танк; уж как-нибудь можно было разделить ложе с покойником. Но спроси Конрада – каковы интерьер и внутреннее устройство этой машины – он не смог бы ответить. Он никогда в жизни не ездил на джипе. Только на БМП, разве что. И шанс получше присмотреться к джипу упускал. Да, он стоял и мёрз так, чтобы всё видеть и быть всем видным, но в зоне видимости ничего не замечал. Он всё ждал, что кто-то подойдёт к нему и скажет: «Всё, мотай отсюда» или – что очень вряд ли – отдаст приказания по содержанию дома Клиров в чистоте и порядке, но ни одна живая душа его не замечала. И только когда фон Вембахер натянул на голову башлык, а Анна застегнула последнюю пуговицу, когда бравые молодцы попарно вышли за калитку и завели там свою машину, испуганный Конрад сам едва ли не подбежал к авто фон Вембахера.
– Анна, – торопливо и жалобно спросил Конрад. – Вы ещё вернётесь?
Спросил маленький мальчик, которого мама оставила одного с пустым холодильником и сломанным телевизором. Целый день лелеял другие вопросы, а задал, блин, именно этот.
– Бог знает, – ответ как всегда на ходу, через плечо.
Послышался визг тормозов и рокот отбывающей госбезопасной машины. Анна и перевозчик Харон, назвавшийся фон Вембахером, тоже выехали за калитку, и через пару секунд перевозчик затворил дверцу, словно внутри никого и не было.
Профессор Клир отправился в последнее путешествие.
По замёрзшему морю приезжала на Остров рябая почтальонка Мария. На собаках привозила газеты за весь осенний период.
Войска Южного фронта успешно держат оборону на жизненно важных артериях, снабжающих Столицу картофелем и героином. Правительство объявило всеобщую мобилизацию в связи с ощутимыми потерями в федеральных ВС. Потери мятежников исчислению не поддаются – в районе деревни D*** 24 октября зафиксировано сплошное кровавое море площадью более 500 гектаров. В связи с недостатком обычных боеприпасов федеральные силы вынуждены использовать химическое и биологическое оружие.
Боевой дух воинов-федералов не сломлен. Так, в районе разъезда C*** для бойцов проведена грандиозная дискотека с широким привлечением женского населения окрестных деревень; обошлось двумя погибшими и девятью ранеными.
Пенсионеры столичного региона обречены на голодную смерть. Каждая их попытка дойти до продраспределителя заканчивается нападением агрессивных групп несовершеннолетних, которые отбирают у стариков и старушек все приобретённые продукты. Попытки возбудить уголовные дела на корню пресекаются родителями подростков, подносящих взятки следователям и полиции. Нападения стаек детей от 10 до 13 лет на только что отоварившихся пенсионеров зафиксированы и в других регионах. До суда ни одно подобное дело не дошло.
В Z*** за истекшее лето обрушились, в связи с обветшанием, 11 жилых домов. Заведены уголовные дела; версии терактов исключаются. Пополнение жилого фонда затрудняется из-за низкой квалификации строительных рабочих – большей частью, выходцев из южных регионов.
В Столице де-юре распущена ассоциация библиотек; сами библиотеки де-факто закрылись одна за другой – из-за отсутствия читателей и желающих работать в книгохранилищах за гроши.
Вместе с тем все редкие и ценные издания, по данным редакции, разворованы и проданы за границу. В последнее время библиопираты охотятся за книгами, изданными сорок – пятьдесят лет назад: они уже сделались раритетными.
Подобная судьба постигла и архивы. Лишь Центральный Архив Органов Внутренних Дел (ЦАОВД) ещё продолжает влачить своё существование, но и в нём уже не осталось заслуживающих внимания документов. Главными расхитителями, как обычно, выступают сами сотрудники Архива.
В Атлантическом союзе прошли празднества, посвящённые десятой годовщине легализации гомосексуальных браков. Во всех крупных городах стран Атсоюза прошли детские гей-парады, финансируемые из муниципальных бюджетов. Население городов приветствовало марширующих детей флагами и транспарантами. В столицах стран – членов Атсоюза – проведены балы для гомосексуальных пар; их транслировали в прямом эфире все ведущие телеканалы. Президент Атлантики Ленгстон Нкогва обратился к танцующим с торжественной речью, в которой пообещал искоренять последние пережитки гомофобии и добиться роста регистрации однополых браков, так как семейные ценности для демократического общества – превыше всего.
СЕЗОН ТРЕТИЙ ЗИМА
13. Не Человек
Зима – такое время, когда даже закоренелые романтики, что земли ногами не касаются, перестают ждать всадников.
В жаркие страны свалила в отпуск синяя птичка. Сладко дремлет подо льдом золотая рыбка. Надёжна охрана у заточённой в хрустальный дворец заколдованной царевны. Балом снежинок правит Снежная Королева, дама, чуждая сантиментов; метафизическим холодом веет из-под её заиндевелых ресниц. Муж её, озорной позорник воевода Мороз щиплет заблудшие души за облупленный нос.
Чахоточные романтики – фанатики лишений и страданий – покорно гасят фонарики. Массами мрут они в нетопленых мансардах. Удел уцелевших – каталепсия. Мышление заторможено, либидо понижено, кровь в жилах створожена. Тревожность притуплена, обострён лишь хронический гайморит. Образ жизни – медвежье-берложный. Сквозь окно в узорчатом кружеве глядим завороженно на осторожное скольжение замороженных прохожих в неуклюжих одёжах. За окном то мятежно-вьюжно, то нежно-белоснежно. Сглажены острые углы – природа стремится к округлости форм.
Зимой мир не нуждается в инъекциях нашей фантазии, он – есть наша фантазия. Уютная ирреальность радиаторов, каминов и батарей превращает нас в правоверных солипсистов. И на кой чёрт сдались нам эти всадники? Нет смысла навострять уши… разве что лыжи. Нет смысла вглядываться в безнадёжную даль… разве что в бездонную глубь собственного «я». Овчинка выделки не стоит… и небо-то с овчинку, кажется…
В это время года золотушный заморыш в полушубке овчинном и больших рукавицах милей сердцу, чем огнесердый рыцарь в сверкающих латах. И обязанности химерических крылатых коней исполняет даже не Сивка-Бурка, даже не Конёк-Горбунок – дай-то Бог протрюхает лядащая лошадёнка, везущая хворосту воз. Зимой хворост – лучшее лекарство от любых хворостей. И хлеб насущный – Духа Святого насущней. И не столь актуален Свет Небесный, как лампочка Ильича или лучина.
Зима ведь. Время лежать на полатях, класть зубы на полку, сосать лапу. Время истощения любых дерзаний. Любое воплощение на точке замерзания.
И сквозь призму солипсизма, в коллапсе каталепсии не распознать, что наидерзейшие замыслы латентно, подспудно зреют себе под белым покрывалом. Невдомёк нам, что тёплая журчит вода под толстым слоем льда. И до нас не доходит, что в лесу, под корягами хороводят гномы под музыку Грига. И что под сугробами эльфы варят эль и брагу. И на блошиных тройках лихачат под подушками тронутые тролли.
Теперь на беспризорном Острове Традиции остался один-одинёшенек – Конрад Мартинсен – не из породы закоренелых романтиков, обычный заземлённый злюка. Он не имел намерений призирать ни за Островом, ни за Традицией, и никаких вообще.
Ему леняво даже натопить печку – куда проще присесть между двух перегревшихся калориферов, правда, их усердной службы едва хватает для создания плюсовой температуры в зоне непосредственного с ними соседства. И потому одет он в костюм мародёра из легионов Наполеона, отступающих по смоленской дороге. Шинелишка трещит от обилия поддетых свитеров, своих и хозяйских, рукав несёт отметину партизанской пули – задел однажды локтём за гвоздь. А-ля шотландская юбка подвязана бесформенная рогожа. Насилу разношенные стоптанные валенки, на два размера меньше нужного, тщетно просят каши. Неизлечимое горло обмотано махровым полотенцем покойного Профессора. Профессорскую же вязаную шапку приходится придерживать при каждом колебании корпуса – та едва прикрывает ширящуюся плешь. На обожжённые морозом фиолетовые уши спадают немыто-перхотные пейсы, страховидное мочало бороды согревает подбородок. Был, говорят, такой славный джигит Самсон, вся его силища заключалась в волосне да бороде. Да напрасно ждать прилива сил – Конрад не Самсон. Грудь впалая, спина колесом. Это зовётся – уёбище. Куда бы уебать от самого себя?
Когда-то он белой завистью завидовал тем, кто способен высидеть хотя бы полчаса, не поведя бровью, не моргнув глазом, не шевельнув губой, не кашлянув и не покачнувшись – точь-в-точь как истые волосатые эзотерики, нашпигованные дзэном. Ныне он сутками именно так и просиживал, забывая позавидовать самому себе.
И думалось Конраду: вообще-то конечно всё не так то есть не то чтобы совсем не так а несколько иначе но понятное дело в известных пределах а принимая во внимание что всё-таки где-то это как раз таки так то вполне допустимо что приемлема и другая версия если не закрывать глаза на то что в любом случае имеет место и то и то да и это играет определённую роль таким образом получается что выступают некоторые нюансы а значит общая картина несколько меняется а порой даже и существенно да вот только с другой стороны имеет смысл принять в расчёт что безусловно и тут до какой-то степени не до конца всё ясно а если может быть как будто и ясно то опять же отнюдь не очень-то всё но из этого следует что в принципе хотя бы у кого-то на сей счёт возникли кой-какие сомнения а коль скоро таковых не то чтоб чересчур но в общем-то пожалуй достаточно позволительно сделать предположение что исходить при прочих равных не возбраняется уже как-то совсем из другого да только при условии что нет никаких гарантий что так это так а ни в коем случае не этак да так вот просто значит здесь оно тут когда бы не того и по иронии судьбы и вовсе-таки по иной причине а как очень вдумаешься на каком-то этапе и так и растак и перетак и в ту самую душу и к той самой матери и если уж на то пошло в то самое место и трах-тарарах и трам-тарарам и тирьям-тирьям и попросту к чертям и позор и срам и Грядущий Хам и настоящий Хам и невидимый храм и великий бедлам и всякий прочий хлам и шум и гам и азербайджанский мугам и 116 пополам и растащили по кускам и пошло по рукам и отсюда вывод –
Конрад неуловимо менял позу.
Шестерни ходиков равнодушно размалывают единомоментное настоящее в разрозненные фрагменты прошлого. Пятый час ночи. Маятник-помахиватель отстукивает колыбельный ритм. Хорош маяться, на всё помахивай. Всё пройдёт, всё забудется, все печали сгладятся. Перемелется – мука будет. Всё перетрут жернова времени.
Но ни один на свете метроном не сможет выстучать нарушенные биоритмы Конрада. Сон нейдёт к нему – он как Степной Волк – человек ночной. Всё ты брешешь, лукавый маятник. Ничего не перемелется – мýка останется. Ведь ничто не «забудется» само собой – нужно что-то, что покрывало б, как сказал бы my friend, мудрый дедушка Фрейд. Да и в этом случае прошлое, целое и невредимое, отсиживается в подполье сознания и ждёт часа Х. А у меня даже того, что могло бы «покрывать» – нет. Тем более нет – настоящего. Оно – ирреальное, сюрреальное, ненастоящее.
Я весь – прошлое, и всё, чем я жив – прошлое. Если жив. Ведь «прошлое» для меня – единственно актуальное настоящее. Оно забивает мозг, сбивает дыхание, застилает глаза, сосёт под ложечкой, стреляет в суставах, иссушает, парализует. Раковой опухолью прошлое расползается внутри меня.
Воспоминание 4 (9 месяцев от роду). Рядовой Мартинсен, новоявленный дембель, последний раз оглядывается на ворота КПП. Нет, кажется, не сон и не подвох. Кажется, это называется «свобода».
Рядовой Мартинсен топчется на месте, не в силах сориентироваться. На дворе весенняя распутица. Впереди – распутье: как распорядиться свалившейся на голову свободой? Ведь два с половиной года каждый его шаг и каждый поступок диктовались лишь чужой недоброй волей либо инстинктом самосохранения. Два с половиной года самоубийственной была любая мысль кроме как о настоящем.
Наконец, заплетаясь ватными ногами, пугливо озираясь, зигзагами он начинает движение прочь от ворот. И тут его осеняет: предстоит – будущее. Потом: будущее обусловлено прошлым. И внезапно в его задавленной памяти оживают целые блоки, казалось бы, напрочь забытой информации. Его зовут Конрад. У него были интеллигентные родители. Он жил в столице. Дальше – больше: где учился, где работал, какие книжки читывал, что по какому поводу думал, что это были за поводы. Все эти базовые данные вмиг обрастают деталями, подробностями, вот проступают даже совсем слабые штрихи…
Через три часа Конрад садится в поезд, который отвезёт его в родной город. Снуют юные красотки, прочая штатская невидаль. Он вспомнил всё. Он в ярости и в отчаянии, он почти готов проситься обратно в часть. Полпятилетки барахтанья за гранью человеческого не заставили его забыть, что он не человек. Что вся его жизнь была болезнью под названием «усиленное сознание». Теперь его сознание усилилось ещё. И ещее.
До армии его голова была кинопроектором, крутившим вразброс, не по порядку куски из бесконечного сериала «Житие Конрада Мартинсена, великомученика». А сейчас, после армии, он точно видит этот фильм целиком, все кадры разом, и этот фильм квадроскопический: куда ни глянь – экран.
Бесперебойно работает голова-кинопроектор. Похоже, выдержит любой перегрев. Конрад видит своё отражение на всех четырёх стенах. Даже на той, где книжная полка. Что тебе до этих книг, Конрад? Мудрейшие вербализовали свой опыт, несчастнейшие вербализовали свою боль. Но кто, кто хотя бы словом помянул твой опыт и твою боль?
Поэтому когда-то… да, раньше мастер связных текстов Конрад Мартинсен писал не только «романы без слов».
Воспоминание 5 (12 – 11½ лет от роду). В последний год стагнации ряд столичных квартир минимум четырежды противостоял натиску непрошенного гостя – бедного тонкошеего студентика с увесистой папкой под мышкой. Первый раз он приходил упрашивать прочитать его рукопись. Второй раз – отдать рукопись. Третий – забрать рукопись. Четвёртый – заставить изнурённых предыдущими визитами хозяев высказать своё мнение насчёт.
Он думал: поймут, оценят, разделят с ним его бушующий внутренний мир, и обретёт он надёжных друзей-конфидентов по гроб жизни. Он надеялся: писательство – кратчайший путь к самореализации и социализации.
Что же читатели? Окрыляли: «Нехреново, чувак. Талантишко есть, безусловно». Затем настораживали: «Только двинуться можно с твоей книжки-то. Чернуха да мрак: если жизнь и вправду такая, ухилять бы от неё куда подальше, ничего бы не знать и не видеть…»
Или откровенно с грязью мешали: «Это ни в какие ворота… какое ты имеешь право?.. Это сплетни радиостанции ОБС (Одна баба сказала)… И что за выбор героя – ничтожный, никчёмный выпендрёжник, мямля и нытик?.. Ничего светлого в жизни не видит – так поделом ему».
Или односложно отбрыкивались: «Ништяк», «Можешь», «Сильно», «Слабенько», «Не можешь», «Говно». (Много позже Конрад понял – авторы лапидарных рецензий и не думали раскрывать пухлый манускрипт юного графомана.
В любом случае, выслушав отклик, автор ни с чем ни соглашался. Он был готов бесконечно полемизировать о совершенстве своего творения. Притом в полемическом угаре называл льстецов «трусливыми обывателями», хулителей – «слепыми кротами», а неразговорчивых доставал расспросами: «что вы думаете по поводу главы последней?» (в которой, кстати, центральный герой-антигерой во сне беседовал по душам с основоположником научного коммунизма). И в пятый, и в шестой раз самонадеянный автор наносил визиты знакомым и незнакомым. На седьмой его уж точно посылали на хутор бабочек ловить.
О чём же была книга начинающего прозаика? О том, как повернулся лицом к внешнему миру четырнадцатилетний Мечтатель, большеголовый и ушастый. Этот мир был знаком ему по книгам. Книги убеждали: этот – лучший из возможных миров. Человек человеку – друг, товарищ и брат, озабочен строительством светлого будущего, озабочен настолько, что не сегодня-завтра светлое будущее наступит. Зачарованный такой картиной Мечтатель никак не мог взять в толк, откуда на улице столько рвани и пьяни, почему встречные строители коммунизма столь неприветливы, почему часто произносят нехорошие неприличные слова, почему на это самое строительство всем одноклассникам глубоко начхать, а главное – почему папа с мамой и со взрослыми знакомыми ненавязчиво, но настойчиво пытаются открыть ему какую-то другую истину – по видимости куда менее приятную?..
И вот Мечтатель окунулся в этот мир с головой. И тут же выяснилось, что он не знает языка, на котором здесь говорят. Это во-первых. Во-вторых, этот мир сразу предъявил счёт: кто ты таков и что ты можешь, чтобы быть принятым мной? Умение мечтать не пошло в счёт. И перед мечтателем встала задачка: отыграть гандикап длиной в четырнадцать лет.
Да, семнадцать лет назад Конраду было немногим слаще, чем загадочному узнику Каспару Хаузеру, оплаканному не одним слюнявым романтиком. Но сиротку Каспара Хаузера по маловразумительным причинам (кажется, на наследство зарились) держали в темнице какие-то злые дяди. Мальчик из хорошей семьи, Конрад Мартинсен обрёк себя на изоляцию в благоустроенной светлице-теплице добровольно, вопреки увещеваниям дальновидных родителей. Так какой дурак станет его оплакивать?
Конрад обращает свой взор к потолку – может, там кадры из другого фильма?
Там – ничего особенного. Белый квадрат с грязными проплешинами. На диво хитрожопую сеть сплёл вокруг абажура живучий паук. Немощная лампочка светит тускло, но даже от слабого света болят близорукие глаза. Жаль, интересно бы изучить сеть трещин на потолке.
Каспар Хаузер, взращённый в темнице, невыносимо страдал от обыкновенного дневного света… Закрыть бы глаза, да Конрад боится закрыть глаза. Он всегда начеку.
Каспар Хаузер не знал ни единого человечьего слова; Конрад же, напротив, знал их много. Даже слишком много. Из разных языков. Достаточно, чтоб лучше всех в классе писать изложения и сочинения. Хотя вряд ли можно завоевать авторитет у сверстников путём соединения латинского слова «конформный» с тюркским «манкурт»… Слова-слова, вода-вода… Правда, кроссворды щёлкаешь как семечки: из неведомых тебе самому закоулков памяти выскакивают причудливые вокабулы – «рододендрон», «эмиттер», «кимберлит». Но какой голос у рододендрона? Чем пахнет эмиттер? Какой формы кимберлит? За внешней формой слов, за изящными сочетаниями букв Конрад не видел означаемых понятий.
Люди же вокруг, независимо от своего словарного запаса имели дело именно с понятиями. Им были ведомы свойства предметов, понятны души вещей, назначения «фигулин» и «хреновин». Конрад собрал коллекцию мёртвых, засушенных наименований – другие наблюдали, осязали, вникали в суть живых феноменов. Они смотрели на витрины магазинов, Конрад – на вывески. Они смотрели комедии с мордобоем и поцелуями – Конрад читал киноафиши. Они играли в футбол – Конрад штудировал турнирные таблицы. В зоопарке Конрад смотрел на визитную карточку: отряд хищные, семейство кошачьи – остальные наблюдали хищно-кошачьи повадки. Любимым чтивом Конрада были словари и энциклопедии, особенно жирный шрифт; окружающие в массе своей вообще не открывали книг – зато ежесекундно открывали для себя мир, купаясь в океане подлинной жизни.
И потому знали: какие бывают марки стереосистем, на сколько ватт рассчитаны чьи динамики, какие грибы урождаются в июле, какие – в сентябре, почём комнаты для «дикарей» на южных курортах, как правильно крыть крышу шифером и циклевать пол, как разговаривать с алчными хамами-таксистами, на какую наживку клюёт окунь, откуда берутся полосы на телеэкране, в чём преимущество «Пежо» перед «Рено», что помогает от мигрени, а что от изжоги, когда снимать на плёнку «250» и когда на «65», где достать запчасти к мотоциклам и до фига всего прочего.
Интересно вот что: никто не мог поверить в то, что Конрад ничего этого не знает, а потому и просвещать не торопились.
Да и сам Конрад не очень-то стремился всё это знать. Он избрал другой путь: всё-таки, заваленные всей этой второстепенной информацией, люди упускают что-то главное. «Наверное, главное – в тех самых книгах, которые я знаю лишь по названиям». И Конрад стал книги не листать, а читать.
И вот узнал Конрад, куда и зачем пошёл Вильгельм Завоеватель, сколько жён было у Солженицера, как настоящее имя Новалиса, за что сидел в кутузке Оскар Уайльд, что ответил Емельке Пугачёву гордый астроном, которого самозванец велел подвесить поближе к звёздам…
Но кому всё это нужно? Они же все умерли – Вильгельм Завоеватель, Оскар Уайльд, Новалис… какого рожна перемалывать их истлевшие косточки? Солженицер, правда, жив, но говорить о нём не по кайфу: ГУЛАГ, раковый корпус, бррр…
Медленно и мучительно входил Конрад в мир понятий. Узнал, скажем, что «штаны» делятся на «джинсы» и «брюки». Но вот джинсы Super Rifle от пошехонского самострока по-прежнему не отличал. Правда, различал автомобиль «Мерседес» и драндулет «Жопорожец», но номера моделей… полный пасс. Как говорят лингвисты, застрял на гиперонимах, а в гипонимах ни бум-бум. Гипероним «часы» он отождествлял с определённым предметом, но что гипоним «Слава», что гипоним «Сейко»… всё едино.
Воспоминание 6 (5 лет от роду). Конрад подхалтуривает на курсах языков. Без часов – как без рук. Он берёт напрокат часы у симпатичной лаборантки. Оттарабанив урок, уходит домой, по рассеянности прихватив с собой ключ от кабинета.
Ах ты чёрт… Завтра с утра все хватятся… Невыспанный, он наутро мчится отдавать ключ. Состроив хорошую мину (уж очень плохая игра), с порога возглашает:
– У вас ничего не пропадало?
– Не знаю, что там пропадало, а вот часы мои вы разбили, – рычит нахохленная симпатюшка.
(Значит, вчера, объясняя безмозглым тупицам тонкости плюсквамперфекта, в приступе энтузиазма хватил часами об стол…) Игра настолько плоха, что хорошая мина сходит с лица. Сдавленное лопотание: «П-простите, Эвхен, я… к-конечно… отнесу в ремонт…»
Потом Конрад идёт на основную работу, убитый горем, плачется в курилке коллегам. Его спрашивают:
– А хорошие часы-то?
– А я не знаю…
– Да ты дурачка-то не строй…
«Я не строю. Я и есть дурачок».
Видишь, Конрад, чёртик побежал? Такой юркий, шустрый, деловитый? От умывальника к плите?
Конраду кажется, что это таракан. У бедняги плохо с воображением. Они же все перемёрли-перемёрзли! Нешто, спасся кто под сенью калорифера?
– Постой, рыжая жопа. Побазарим, – робко предлагает Конрад.
Таракан нехотя останавливается, нервно шевелит усами. Он же по делам спешит, к врачу, может быть, а тут всякие с разговорами… О чём с этим уродом говорить?
– Ну о возвышенном, как обычно, о возвышенном… Об афазии-абулии, о полтергейстах, о coitus interruptus…
Конрад увлечён беседой… Связные сложносочинённые предложения постепенно разлагаются на отдельные составляющие члены, звуки и призвуки. Какая-то получается психоделя.
– Ты говоришь, – устало цедит Конрад сквозь неразгрызанный сухарь, – говоришь… ты казёл, вааще… М-мее… Убивать их надо, чучмеков этих… тяпкой. Так вот: тяп! А ты мне тут… Каз-зёл! Кстати, ты не слыхал?.. Скоро собак в партию принимать будут…
Его собеседник высоко задирает ус, демонстрируя изумление и сомнение.
– Я те говорю… не всех, нет. Особо там… отличившихся. Сенбернаров там… людей в горах спасают.
Собеседник делает два круга по вертикальной поверхности тахты. Тоже, наверное, хотел в партию и расстроился.
– Ах ты ещё и коммуняка, сукин кот… – взъелся Конрад на таракана. Откуда-то силы появились, даже зубами клацнул, так что сухарь хрустнул. – Урою, сука…
Рыжий не верит в серьёзность намерений Конрада. У того и тяпки под рукой нет, и бегает медленнее, и вообще… с кем тогда он будет коротать долгие зимние ночи?
Он укоризненно качает усами и исчезает в ближайшей щели. Знать, к врачу пошёл.
Единственный плюс его безотрадной юности: ещё не утрачена способность к прожектёрству и рисованию радужных перспектив. Мечталось Конраду, что он – свой парень среди своих парней и своих девах. Что он втусован в некую «команду». По мере того как он врубался в жизнь и учился «танцевать от возможного», манящий образ «своей тусовки» постепенно модифицировался.
Вариант А, самый ранний (ориентиры – «Молодая Италия», «Земля и воля», диссидентское братство иоганнесов клиров, частично – общины первых христиан в субъективном представлении нашего Мечтателя). Пылкие, не в меру начитанные донкихоты, возмущённые существующим порядком вещей, готовы посвятить отчизне души прекрасные порывы. Господствующий императив – до основания разрушить, а затем… Твёрдая вера в то, что «затем» взойдёт звезда пленительного счастья. Скромная надежда увидать свои имена, написанные на обломках самовластья. Поначалу – жадное (на одну ночь дали!) проглатывание слепых машинописных копий обличительных письмен. Далее – яростные теоретические споры на прокуренных кухнях, при спущенных шторах. Поляризация мнений. Размежевание по платформам, смычка единомышленников. Клятва Горациев. Сочинение протестов и манифестов. Разработка программы действий. Собственно действия… Явочные квартиры, тиражирование нелегальщины, распространение прокламаций. Филёры-«хвосты», обыски, профилактические беседы в компетентных органах. Перед сырыми казематами этих самых органов, а тем паче баррикадными боями фантазия Конрада начинала буксовать, но это ж последний аккорд, апогей, апофеоз… главное – найти, вступить, начать…
Воспоминание 7 (13 лет от роду). Заботливый папенька знакомит неприкаянного сынка с Томасом, сыном своего коллеги. Томас – «хороший парень» плюс у него своя компания – по данным Мартинсена-старшего, не самая худшая.
Томас и его друзья-подружки (ровесники Конрада или на год-два моложе) почти не пьют, большинство – не курят, и мат от них если услышишь, то только в анекдотах… То и дело Конрад щиплет своё тело – сладким несбыточным сном кажутся ему посиделки в этом кругу. (Сам он пока ещё убеждённый абстинент, в жизни не сделал ни одной затяжки, а любая попытка матернуться вызывает у сведущих людей снисходительный гогот).
Неправдоподобным ребяткам не по пути с «ультраматериалистами», говорит Томас. Что же они – мрут со скуки? Ничуть – представьте себе, считают, что живут полнокровной увлекательной жизнью. Каждый уик-энд ходят в лес, ставят палатки, разжигают костры, поют романтические (от слова «романтика») песни… и как поют! Конрад дотоле не слыхивал таких искренних и задушевных интонаций у своего поколения.
И в будни, вечерами, собираются на чьей-нибудь квартире, гасят электрический свет, ставят в центр комнаты зажжённую свечу, садятся вокруг неё на пол и опять же – поют. А когда не поют – разговаривают о предметах, с их точки зрения достойных – об экзаменах в техникуме, о марках рюкзаков и байдарок, о домашних сиамских кошках и диких латиноамериканских танцах.
Конрад не певуч, неуклюж, ни в кошках ни в байдарках не петрит. Как правило, скучает в углу – надутый бука. Однажды так надулся, что того гляди лопнет. И чтобы не лопнуть, улучив, как ему кажется, момент, во весь голос заявляет о себе. Жестикулируя, как взбешенный латиноамериканец, он тараторит вот такой примерно текст:
– Люди! Вы мне очень нравитесь, я хочу быть с вами. Но по-моему вы разбрасываетесь по мелочам. Ведь вокруг вас кипит совсем другая жизнь, и мы не имеем права закрывать глаза на то – простите меня, девочки – говно, в котором всё глубже погрязает наша сволочная Родина. Коммунистическая утопия на практике обернулась государственным террором и экономической импотенцией. Непригляден и моральный облик нашего общества: всюду насилие, казнокрадство, безжалостное подавление инакомыслия…
Оратор входит в раж и даже не замечает, как в комнате объявляется и пристраивается у стенки, бессловесен и бесшумен, новый персонаж. Он постарше остальных, у него рыжая борода пирата и почти неподвижный взгляд аскета-подвижника. Лишь на мгновение ярко загораются белкú, зрачки чуть царапают по брызжущему слюной витии, и тут же глаза изящно подёргиваются поволокой отрешённости от сиюминутного.
Сиюминутное – экстаз Конрада: «Конечно, благодаря мощному мутному потоку пропагандистской лжи всего этого можно и не замечать – но как не заметить, что «новый человек», воспитанный тоталитарной системой на самом деле не что иное как подзаборная урла? Имя урле – легион! И я убеждён: в нашу трагическую эпоху долг каждого порядочного человека…»
– Ты знаешь… а я вот жалею, что никогда не был урлой, – степенно, негромко говорит вдруг Томас.
До сих пор послушный Конраду бесперебойный фонтан словосочетаний и предложений даёт обратный ход, натужно взбулькивает. Томас аргументирует свою позицию. Собравшись с духом, пламенный агитатор опять обретает дар речи, и уже не фонтан, а некий водопад изливается из его уст…
Наконец, Конрад и Томас замечают, что остались в комнате одни. Весь народ перекочевал на кухню, где только что изъяли из духовки жареную индейку. Мальчики-девочки с шутками-прибаутками учат друг друга, как лучше разрезать диковинную птичку, чтобы не сломать ножик и чтобы едокам досталось поровну. Старший товарищ, оседлав табурет, пряча улыбку в бороде, смотрит на весёлую возню и калякает на салфетке дружеские шаржи. Каждые три секунды – взрыв жизнерадостного смеха и новый импульс для безобидного острословия.
Томас разводит руками – он сказал всё, что мог и хотел. Теперь ему не терпится броситься в эпицентр всеобщего веселья. Жаль, Конрад крепко держит его за локоть и всё пытается что-то втолковать (кажется, по третьему кругу…) Но вдруг неугомонный полемист сам наступает на горло любимой песне. Замолкнув, он пристально и недобро вглядывается в загадочный лик автора дружеских шаржей.
– Томас, а это – кто?
– Это Карл, мы его «папой Карло» зовём. Один из самых хитрых жуков, каких я только знаю.
Конрад неотрывно следит, как хохочущие девочки, уступив почётное право разделки тушки хохочущим мальчикам, снуют вокруг рыжебородого корифея. А тот, с иезуитской улыбкой на обветренных губах заливает им что-то интересное – кстати, про птичек.
Томас же излагает историю типичного сволочного селф-мэйд-мэна папы Карло. Как сын пьющих родителей, дитя улицы («урловое детство» – акцентирует Томас) стал доморощенным классиком педагогики, этаким сволочным Макаренко. Вообще-то Карло – простой работяга, сменил уйму профессий, исходил пешком полстраны, а в последние годы всё свободное время отдаёт трудным подросткам. Под его чётким и авторитетным руководством недавние хулиганы отыскивают могилы воинов, павших за Отчизну, ремонтируют пригородный интернат для глухонемых детей, распространяют прокламации благонамеренного содержания, скажем: «Нет фашистской хунте в Амазонии!» (За листовки их, правда, вовсю шпыняют ретивые фараоны – но лучше уж за это, чем за кражи и драки, да так оно и романтичней выходит). У Карло есть помощники-единомышленники, и он готовит себе смену, в частности, Томаса и К° уже третий год пасёт.
Тем временем К° уплетает фрагменты индейки, а классик педагогики подстраивает гитару и, лихо бацая по струнам, зычным баритоном запевает зажигательную песню о четырёх неразлучных тараканах и сверчке. Мальчики надрывают животы, девочки бьют в ладошки.
Причин для веселья Конрад не видит – и откланивается.
…Проходит неделя, другая. Телефон в квартире Мартинсенов молчит. Не звонит больше Томас, не приглашает ни в лес, ни на посиделки. Обманутый в своих ожиданиях, Конрад не выдерживает:
– Алло! Томас!! В чем дело? Что-то ты совсем забыл про меня…
– Да как тебе сказать, – слышится неторопливый ровный голос. – Да так вот и скажу. Карло, когда ты ушёл, заговорил о тебе. Он сказал: «Этот человек – сноб, хотя сам всех считает снобами. Это дешёвая чернуха, допотопное диссидентство, перепев устарелых мелодий… Непохоже, чтобы этот Конрад был на что-то способен, кроме как на огальное охуивание…» Ну и что, что он первый раз тебя видел? Я ведь давал ему читать твою книгу…
– Томас! И ты веришь этому коммунисту папе Карло?! У тебя что – своей головы нет?!
– Есть. Извини… мы знакомы уже полгода, и я чётко просёк: у Конрада негатив, у Карло позитив. Ты – трепешься, Карло – делает. И заметь: при этом у него минимум конфликтов с системой. Да, жучище он ещё тот. Так укротил систему, что не он на неё работает, а она на него. А результаты? Знал бы ты, скольким урелам он вправил мозги! Он научил их всюду видеть позитив…
Постскриптум. Вскоре Томаса призвали в армию, и он погиб на чужой земле, выполняя «интернациональный долг». Последние сведения о папе Карло относятся к разгару Переделки: он был избран депутатом городской думы от демократического блока.
Итак, со временем Конраду стало ясно, что для политически-заговорщических игр родился он, увы, поздновато. Чуточку повзрослевшего, его прельстил –
Вариант В (разгульно-богемный). Навеян чтением Гофмана («Серапионовы братья»), Кортасара («Игра в классики»), Дж. Керуака («Бродяги дхармы»), а также чтением ностальгических мемуаров. Корпорация хмельных остроязыких буршей. Свой Auerbachskeller (Мулен Руж, салон богатой покровительницы, студия популярной кокотки) – условие желательное, но не непременное. Вечная проблема «флэта» вечно решается благодаря изощрённой гениальности молодых шалопутов. В плотной завесе табачного дыма витают бонмо, анекдоты, изящные парадоксы. Под столом ударными темпами разрастается батарея опорожнённых бутылок. Флирт всех со всеми плавно перерастает в повальную любовь. В углу двужильный магнитофон, смазанный портвейном вместо одеколона, хрипит голосом Джима Моррисона или Заппы. И здесь спорят, и здесь вешают ярлыки, но в центре внимания скорее поэтика Джойса, чем реформа судопроизводства. Контингент спетой и спитой компании архидемократически разношёрстен. Здесь самозваные учителя человечества, синтезирующие Кьеркегора с Эпикуром. Здесь замученные мандавошками неоценённые поэты – их стихи не укладываются в скучные четырёхугольники привычной строфики – строки завязываются в узлы, завихряются в сальто-мортале. Здесь обворожительные молодые актриски – они пришли развеяться после дачи взяток натурой маститым режиссёрам. Здесь непонятной национальности экстрасенсы, импрессарио нонконформистского андеграунда, вечные студенты, ежегодно меняющие вуз…
Уже ближе к реальности, хотя в реальности акценты расставлены не так, как хотелось бы. Проповедь дзэна и метаметафоры – крайне редкий для подобных сэйшнов атрибут. Как правило, всё ограничивается обильным возлиянием, пустячным блудословием и попросту блудом. Но основная закавыка в другом: почему это вдруг на подобных гульбищах должен сыскаться бокал (рюмаха, стакан) для Конрада Мартинсена?
Что самое занятное – никаких особых талантов, чтобы заякориться в богемных тусовках, не требуется. Кроме одного: носить плотно прилегающую к лицу маску, под которой отсутствие талантов незаметно. Наиболее активно это внушал Конраду его однокурсник Йозеф Зискинд.
Самому Зискинду на отсутствие талантов было грех жаловаться. При архиразляляйском образе жизни он, однажды раскрыв учебник доселе неведомого ему языка, уже через две недели якшался со встречными туристами из соответствующей страны, чтобы таскать их по одиозным столичным кабакам и, не стесняясь стен, имеющих уши, бойко, бегло крыть иноязычным матом родные сволочные порядки. То был прирождённый лингвист-артист, он с ходу безболезненно вживался в шкуру, в самую душу любой знаковой системы. Знаковые системы были для него наборами разноцветных кубиков, и он то виртуозно жонглировал этими кубиками, то объединял их в зыбкие, но изящные архитектурные композиции. Вообще, он всё делал артистично; отпадно пародировал престарелых вождей компартии, садился с видом Ференца Листа за фортепьяно, играть на котором не умел, кадрился, матерился, сидел, стоял, лежал и даже блевал артистично. (Его охмуряющий шарм не действовал разве что на твердолобых чванных преподов старой закваски – те ему каждую сессию готовили сюрпризы).
Было у Зискинда также много других достоинств: он мог, скажем, набить хлебало любому амбалу вдвое шире его в плечах. А также кинуть восемь, а то и девять палок за короткую летнюю ночь. А также сделать из ничего тысячу гульденов, толкаясь возле фешенебельных отелей. А также спустить эту тысячу за неделю – к тому же не в инвалютных барах, а за счёт отечественного портвейна.
Сперва Мальчика-Колокольчика, Мальчиша-Кибальчиша коробил разнузданный цинизм Зискинда, но велико обаяние таланта, сильно притяжение яркой личности. Зискинд давил Конрада масштабом, безжалостно стебал его, сковывал в и без того скованных движениях, однако же в отличие от многих, прочь не гнал. И бобиком при себе не делал – порой даже намекал, что они – равные. И Конраду льстила благосклонность блистательного мэна. Он даже находил иногда в себе силы сопротивляться экспансии зискиндизма.
Воспоминание 8 (12 лет от роду). Конрад и Зискинд после бурного дня едут в автобусе. Зискинд безучастно смотрит в окно. Похоже ушёл в себя, вернётся не скоро.
– Что-то ты, Йозеф… того… – замечает Конрад не без злорадства. – У тебя такой Weltschmerz[7] на лице написан…
– Weltschmerz? Правда?.. – Зискинд задумывается. Вдруг угловатый кандид что-то петрит в жизни … – Не то. Недопустимо, бля…
– А… а что должно быть на лице? Welthass[8]? – с надеждой спрашивает неискушённый Конрад.
– Weltspott[9] должен быть. Вселенский пофигизм, – назидательно возвещает Зискинд.
О да, в Стране Сволочей Weltspott – единственно возможный модус существования. «Что раньше молодёжи было по плечу, теперь по фигу». А тебе, Конрад, ничто не по плечу, и всё равно ничто не по фигу. Не по фигу, в частности, что другим всё по фигу. А по фигу ли? Не есть ли это результат сознательного тренинга с целью продемонстрировать: твоя индивидуальность требованиям времени отвечает. А то Schmerz и Hass стерегут на каждом шагу, и чтобы выжить в поле такого напряга, надо отгородиться от мира зубчатой стеной, и зубы оскалить в стебовом смайле. А то выбьют.
Кстати, вот вам, возможно, и разгадка: почему Зискинд водился с Конрадом. Великий артист в глубине души всё время боялся, что вот-вот сфальшивит. (Вернее, напротив, «снастоящит»). И для того искал на свою голову новых приключений, чтобы доказать себе, что играет выбранную роль безукоризненно. И присутствие рядом бездарнейшего Мартинсена (сносного декламатора, но никудышного лицедея) согревало его и успокаивало. Как бы он вдруг ни давал маху (а давал, случалось), есть на свете кто-то гораздо хуже и беспомощней его.
Воспоминание 9 (11 лет от роду).
– Шила! Приходи к нам, мы очень хотим тебя видеть. Правда, у нас послезавтра экзамен, позубрить надо… Да, Йозеф тоже тут… он, кстати, на тебя немного обиделся… Он меня что-то ногой толкает… да нет, он тоже хочет тебя… Да, Шила, слушай… я достал билет на балет… я думал Нэнси предложить, подруге твоей, но она не сможет… может, ты со мной сходишь?
Зискинд держится за голову и стонет. Шила – ценное знакомство. Как-никак, приехала из самого Сан-Педро, штат Нью-Раша. На стажировку в Институт Сволочного языка имени Народного Поэта.
Когда Конрад кладёт трубку, Зискинд осыпает его заслуженными проклятьями. Он хватает чистую толстенную тетрадь и выводит на обложке крупными буквами: «ОШИБКИ КОНРАДА». Отныне, проникновенно говорит Зискинд, я буду фиксировать все твои огрехи и ляпы. Потом подвергать их беспощадному разбору. Для твоей же пользы. Так больше жить нельзя. Я из тебя сделаю человека.
Кроме обиды и злобы на себя самого, в потупленном взоре Конрада сквозят благодарность и надежда. Он сам понимает, что так нельзя и что пора становиться человеком. «Обусловиться», каламбурит Зискинд.
Шила всё-таки приходит. Подваливает шабла доблестных студиозусов и лихих герлиц. Изымается портвейн, сэйшн набирает ход. Всем, в принципе, весело. Конрад жмётся в углу, одеревенелый от боязни совершить опрометчивый поступок.
Студиозусы вьются подле Шилы. Зискинд форсит перед герлицами, изображая натурального пенсильванца, говорящего по-сволочному – дескать, вместе с Шилой учусь. Один к одному делает акцент, лепит нелепицы типа: «Как это гоффоритса – не плю ф колодец, фылетит – не поймайеш?» Чистая работа. Герлицы, благоговея и млея, глядят чужеземцу в рот.
Всю игру портит Конрад. «Ай да молодец, Йозеф», – смеётся он во всё горло. Ему необходим смех. Для разрядки. Герлицы, сбитые с панталыку, часто моргают.
Некто, спасая положение, переключает внимание герлиц на увлекательное повествование о том, как некая гоп-компания стопом ездила в злачный курортный город. В тамошних кабаках путешественники спелись с портовыми доходягами. Некто в подробностях живописует быт и нравы этих горьких пропойц. Вот идёт один из них, назюзюкавшись с утречка, по узенькой старинной улочке и, потеряв ориентировку, врезается в баррикаду из пышных расфуфыренных барышень. «Осторожней, ведь сшибить можете», негодуют барышни. Находчивый алконавт без раздумий парирует: ...
– …Да вас ломом хуй сшибёшь! – радостный, подсказывает концовку Конрад. (Ему эту байку уже рассказывали). Он так рад своей осведомлённости, что не замечает сжатых кулаков рассказчика и скрипящих зубов Зискинда.
Но каждый, тем не менее, ведёт свою партию дальше. Слово за слово, половым членом пó столу (любимая присказка Зискинда) – пробил час петтинга. Сплетаясь попарно, тела присутствующих валятся на и под кушетки. Конрад усаживается, будто на ежа, в метре от самой невзрачной из герлиц. Подпрыгнув, подвигается на сантиметр. Ещё на сантиметр. Ещё… Поднимает над плечом объекта деревянную руку. Секунд пять держит на весу. Опускает – и промахивается: коварная успевает подать корпус вперёд, встать и отойти на безопасную дистанцию. Конрад теряет равновесие и валится на пол.
Кончен бал, студиозусы развозят Шилу и герлиц по флэтам. Наедине с пустыми бутылками остались Конрад и Зискинд. Конрад трясущимися руками берёт тетрадь «ОШИБКИ КОНРАДА», с замиранием сердца раскрывает…
– Я не сделал ни одной ошибки?! – ликует Конрад.
– Ты неисправим! – исступлённо орёт Зискинд. – Ты безнадёжен! Каждый твой шаг, каждое слово – ошибка!
Да, фиг-два отыграешь фору в четырнадцать лет. Более того, разрыв всё время увеличивается: любой прыжок в гущу людей – отскакиваешь назад, будто мячик от стенки. Любая личина спадает с лица, стоит лишь пошевельнуться или разинуть рот. Конрад ненавидел термин «закомплексованность», Разве тот случай? А вот вам тот случай: энергозатраты на сокрытие своей истинной сущности столь велики, что не остаётся сил для симуляции новой сущности. Ей-Богу, легче научиться водить авто, чем изображать, что умеешь водить. И чем изображать умного, проще быть умным. Надо ли скрывать истинную сущность? О, бесспорно: Weltschmerz вышел из моды лет полтораста назад, а его комплемент Welthass никогда и не был в моде.
Возмужал Конрад. Огрубел, заматерел, изматерился. Действительность диктовала новую мечту:
Вариант В-штрих. Образцы для подражания – те же, действующие лица, в общем-то те же. Но значительно вырос процент Ван Гогов, Есениных и кандидатов в узники Редингской тюрьмы… Каждый на грани того, чтобы отрезать себе ухо, перерезать вены или зарезать сожительницу. Потому что хотя место действия – прежнее, цвета ядовитей и перспектива мрачней. Сделана поправка на место действия – изменилась политэкономическая обстановка, подурнел характер солнечной активности. Хмельные пирушки идут своим чередом, но – во время чумы. Ощущение боли. Количество действующих лиц неуклонно сокращается. Иных уж нет (сумасшествия, самосожжения, половые преступления), а те – далече. В конце концов вариант В´ вырождается в сходки по трое, по двое. Сходятся не за радостью общения, а от невыносимости одиночества.
И тут Конрад допустил капитальный промах. Пусть невыносимо собственное одиночество, но кто сказал, что чужое – выносимей? И чужие страхи – не помощники в борьбе с собственными страхами. Расчёт на то, что беда сплачивает, не оправдался.
Воспоминание 10 (9,5 лет от роду). Канун опустения прилавков. У Конрада сидит Зискинд. Первый и последний гость в этом доме со времён побега Луизы. Послезавтра Зискинд улетает насовсем. Эта мысль гнетёт его не меньше, чем Конрада: предстоит прыжок в неизвестность.
Разговаривают без вина и водки, но в интонациях – белогорячечный надрыв. «Не улетай, Йозеф!» – всхлипывает Конрад. «Я умру в самолёте», – всхлипывает Зискинд.
Конрад то и дело смотрит на часы. Скоро закроется метро, настанет пора Зискинду идти. «Сколько ещё отпущено мне счастья лицезреть тебя у себя?» – содрогается Конрад.
Содрогается и Зискинд. «Когда же ты, наконец, уйдёшь отсюда?» – только так можно интерпретировать это беспрестанное поглядывание на часы.
Виртуальный плевок в переносицу, реальный хлопок дверью.
Ныне у Зискинда собственная фирма не то в Денвере, не то в Детройте. Жуёт ананасы, водит «Хонду».
Конрад патологически не мог быть один. Но он всё время был один. Если только не был женат на первой жалостливой встречной.
Воспоминание 11 (8,5 лет от роду). Чего только нет на праздничном столе! Сколько снеди-то всякой – и красная рыбка, и чёрная икорка, и сервелат (стоп, стоп, довспоминаешься)… и, конечно, два пузыря шнапса. Приготовлен антикварный столовый сервиз.
Семь вечера. Конрад приходит с работы и офигевает.
– С днём рождения, – говорит Натали сдобным голосом. – Я желаю тебе…
– Спасибо за соболезнование, – бурчит неблагодарный именинник. – Ты можешь объяснить, на кой хрен эта скатерть-самобранка? Зачем столько приборов? Можно подумать: кто-то придёт…
– Ты разве никого не приглашал?
– Второе июня бывает ежегодно. Что, каждый раз унижаться, заискивать?.. Заколебало. На этот раз я хочу посмотреть, кто меня вспомнит без моих напоминаний. Кроме муттер с фазером.
– Конечно, вспомнят… Зискинд. Ленни Эвертс. Файгингеры. Этот парень… с которым ты в больнице лежал… Позвонят, поздравят… Тут ты их и позови…
Восемь вечера. Трр! Муттер звонит. Поздравляет, желает.
Десять вечера Фазер звонит. Поздравляет, желает.
Одиннадцать вечера. Чреватая тишина разрешается шумной истерикой новорожденного. Он опрокидывает скатерть-самобранку на пол, изрыгая проклятья в адрес всех и вся, кроме Натали – «ты у меня единственный свет в окошке!..» Свет в окошке, с ужасом глядя на буйства своего одинокого супруга, потягивает водочку. Утешить его ей нечем.
Начиная с четырнадцати лет Конрад периодически пытался где-то болтаться, мотаться, шататься, обретаться, кантоваться, ошиваться. Ежедневно и ежеминутно проигрывая битву с одиночеством, искал, кому бы сдаться в плен. Целой ли тусовке, отдельной женщине, какой тусовке, какой женщине – постепенно стало непринципиальным. Речь шла о варианте социализации С, которому сложно подобрать литературно-исторические аналоги ввиду бесконечного множества подвариантов. Этот феномен зовётся – просто человеческое общение. На какой угодно почве. В каких угодно формах. Но как увязать этот феномен с феноменом Конрада Мартинсена? Возможно ли общение человеков с не человеком? Хотя бы просто беседа?
Конечно, в крайнем случае можно отутюжить костюм, начистить ботинки до зеркального блеска, втянуть живот и привязать рот к ушам верёвочками. Встречают, как известно, по одёжке. А дальше – молчи, ничего, кроме крепкого чая, не требуя, присутствуй при чужих игрищах. Но долго ли вытерпят игроки присутствие безбилетного зрителя? Вряд ли. Им нужны партнёры, а не соглядатаи. Тем более – игра не всегда честная. И потом – с какой стати именно бессловесный Х загромождает интерьер? С не меньшим успехом можно разместить в этом углу Y или Z. И вообще не лучше ли поставить в этот угол шкаф? Или плевательницу?
Воспоминание 12 (7 лет от роду). Вооружённые альпенштоками, ползут туристы по горным кручам. Все мокрые, все пыхтят. К стыду своему громче всех пыхтит самый мокрый из всех – Конрад Мартинсен. Окрестные красоты волнуют его меньше, чем скрип негнущихся ног.
Но вот преодолён перевал, всеобщая радость – привал. Только Конрад не рад; ей-Богу, уж лучше ещё двадцать вёрст по траверсу. А так – надо ставить палатку, колоть дрова, разводить костёр и травить байки. Неужели это тебе в новинку? Ах если бы… Полазил в своё время по пригородным лесам, да только каждая новая палатка и каждое новое полено словно в первый раз. И вот опять – «мужик, ты как топор-то держишь?.. Без ужина нас оставить хочешь?»
Ну а когда лагерь разбит и все могут расслабиться, посушиться и подкрепиться, открывается самая страшная страница – да-да, травление баек. Тем более, привал предстоит до-о-олгий – «днёвка»… Ну и о чём разговаривать Конраду с этими мускулистыми жизнелюбами? О том, как очередная жена ушла или как в очередной дурдом загремел – ни-ни, факт. А о карбюраторах и трансформаторах – пожалуйста, только не получится.
А когда командир группы берёт в руки видавшую виды гитару и заводит жизнелюбивые куплеты, Конрад убегает от костра в дальние заросли от соблазна разодрать никчёмную глотку… Зачем понапрасну хороших людей пугать?
А способен ли Конрад вообще издавать членораздельные звуки – никто из его спутников не ведает. Он же практически весь поход изъясняется двумя междометиями: вопросительным «Мм?» и утвердительным «Мм».
А сопоходники-то не молчат, знай себе шуткуют. На любой случай жизни припасена у них остротка, для любой ситуации заготовлена хохмочка:
– Чай не водка – много не выпьешь!
– Фигня война, главное манёвры!
– Наша сила в плавках!
– Хор мальчиков-туберкулёзников исполняет сволочную народную песню «Ах у дуба, ах у ели»!
И вся женская половина походной команды довольно хихикает, благосклонно улыбается жизнерадостным острякам и холодными ночами согревает их своим тёплым потом в чужих палатках, оставляя Конрада зябнуть одного…
Проанализируем: о чём говорят люди между собой. Во-первых, разумеется, о делах. Ну, и чем ты мог помочь в каких-то делах, великий умелец? Да мог ли ты хотя бы вникнуть в суть этих дел, знаток гиперонимов? – Когда в общественных местах студенты-текстоведы – Зискинд, Мартинсен и др. понта ради переходили на чужеземную речь, те из присутствующих, кто в этих языках ни бельмесу, энергично протестовали: как же, иная знаковая система внушает недоверие. А Конрад в любой компании соотечественников слышал лишь марсианскую речь, но протестовать не смел.
Что ж, люди говорят не только о делах – говорят и о ерунде. Однако на то она и ерунда, чтобы восприниматься только в красивой упаковке. То есть, нужно надевать маску и что-то корчить из себя… Проехали.
Пожалуйста, ерунда без изящной упаковки: занимательные истории «про жизнь». Например, о буднях лесорубов Севера или печенегах девятого века. Ворошите страницы газет и исторических книг! Но на тех страницах, которые Конрад ворошил, ничего хорошего никто не распотрошил. Рассказы о массовых убийствах и беззакониях по определению незанимательны. Правда, в своей собственной жизни он кое-где побывал, да ничего хорошего, опять же, не повидал. Тем более, он побывал там не в качестве наблюдателя, а в качестве участника событий, так что…
Да уж, если людям нечего рассказать о лесорубах или печенегах, они рассказывают о себе. Если это кому-то интересно.
Воспоминание 13 (4 года от роду). По всей Столице стены, заборы и фонарные столбы уведомляют: «Молодой, сексуально озабоченный Писатель ищет Музу, способную вдохновить его на Роман Века. Звонить 666-13-13. Спросить Конрада. (Память не удержала тогдашний номер телефона).
Долгое время его ежедневно беспокоят хулиганские звонки. Но наконец откликается и всамделишная Муза. Предложение приехать для очного знакомства в холостяцкие апартаменты она решительно отвергает и назначает свиданку в центре города.
Писатель и Муза (за тридцать, кривобокая, хмурая крокодилица в очках) прогуливаются тихим шагом. Муза вопросительно молчит. Писатель её развлекает. По чукотской системе: «Что увижу, про то пою».
– Давайте, милая Патти, мы с вами свернём в этот скверик. Вы знаете, в этом домике когда-то ютился театр-студия «Эксперимент». У них был замечательный спектакль «Нищий, или смерть Занда». Я его лет пять назад смотрел – вышел из зала, будто кувалдой стукнутый. Очень близкая мне проблематика: раздвоение сознания под прессом тоталитаризма, творческая импотенция, выплеск наружу самых извращённых подсознательных желаний…
Муза смотрит куда-то в сторону. Ей и без нищих, без смерти разных Зандов тошно. С утра четыре часа давилась в очереди за туфлями, и за три человека до неё туфли кончились.
– …А вообще, был период – я сам работал в театре-студии…
– Что вы говорите! Кем же? – интерес ещё не разгорелся, но если с умом подкладывать дровишки, то…
– Да так… в литчасти. Записывал репетиции для истории, расклеивал афиши, обхаживал журналистов, приглашённых на спектакли... Но вскоре я оттуда ушёл. Вы понимаете, ненаглядная моя Патти, там все – режиссёры, актёры, даже осветители – делали дело, которое за них никто сделать не может. И только у меня работка «подай – принеси». Я был единственный в театре полностью заменимый человек…
Муза показывает глазами: сил нет, ноги отнимаются, пора бы присесть на лавочку. Она садится, Писатель не рискует: его левая нога дрожмя дрожит от нервного перенапряжения. Почитай, уж годика три с дамами не гулял. Справиться бы с мандражом, любой ценой…
– Ой, да не дышите вы мне в лицо, – гадливо фыркает Муза.
– Ой, простите, простите, радость моя, Патти, – лебезит незадачливый любезник. (Кажется, когда стоишь, тремор даже заметнее).
– Кстати… вы не собираетесь выехать? – вдруг спрашивает Патти.
Вскоре выясняется: она достаточно разговорчива и её много что интересует. Скажем: печатался ли где-нибудь будущий автор Романа Века? В чём выражается его озабоченность? Был ли он в армии? Способен ли починить телевизор? Ах нет? А магнитофон? Тоже нет? А хотя бы утюг?..
Конрад отвлекается изготовлением самокрутки. Как всегда, получается плохо. Табак сыплется на пол… Курит Конрад. Махорочные ингредиенты будоражат одинокую язву в пустом желудке… Надо б его чем-то наполнить.
Итак, чем он мог быть интересен другим? Своими мучениями? Ты себе чем-нибудь был интересен? Если б у тебя был материал для общения с собой, значит, был бы и материал для общения с миром. Так в том-то и фокус – ты не к людям хотел прибежать, а от себя убежать. Это с таким-то грузом? Кто же даст тебе прибежище, наивный! Здесь милостыню не подают. Рабовладельцы – и те – только на что-то годных рабов кормят. И, сдаваясь в плен, согласен ли ты быть рабом? Посмотри-ка, сколько всего хочешь взять от других… но что ты можешь – отдать?
Воспоминание 14 (6 лет от роду). Конрад целый день обзванивает всех, кого можно и нельзя. Строит разговор согласно рекомендациям Дэйла Карнеги – долго-долго расспрашивает, как у абонентов дела и как они поживают.
Абонентам претит столь беспардонное вторжение в их личную жизнь. Они не торопятся удовлетворять праздное любопытство посторонних. Поэтому испытанным способом перехватывают инициативу.
– Ну а сам-то как?
– Я-то?.. А я… открываю Бюро Добрых Услуг, – бодро и весело, как предписано сценарием, докладывает Конрад.
– Гм… А каких именно услуг?
– А делаем всё, о чём попросите.
«Спасибо, нам ничего не надо», – говорят абоненты. Конрад знает: не совсем так, много чего надо, только не от него. Лишь один, самый откровенный, переспрашивает:
– Может, ты открываешь Бюро Добрых Медвежьих Услуг?
Круг замкнулся. «Коемуждо по делом его». Да, да, хрéновы персоналисты. по-вашему, человек ценен тем, что он есть, а не тем, что он имеет? А есть человек, милый Габриэль Марсель то, что он умеет. И имеет он – соответственно.
Ах, кабы я мог играть на бильярде или на фортеплясе… Ах, кабы я мог паять или выжигать… Ах, кабы я мог рисовать или петь – я мог бы как минимум стоически выдержать собственное одиночество, мне было бы интересно с самим собой… Ну а уж тогда…
Спросите-ка, дорогие господа персоналисты о том, что такое есть Конрад Мартинсен, у тех, кто с ним бок о бок работал, а не чаи гонял. Скажем, его коллег по лагерю коммунистических скаутов. Будут ли они вообще говорить о нём как о «человеке»?
Воспоминание 15 (11,5 лет от роду). В отряде комскаутов – 52 десятилетних егозы, 52 крикливых глотки, 104 руки (вечно чешутся), 104 ноги (каждая как на углях стоит), 52 непоротые задницы (и в каждой по шилу). Вожатый Конрад, прозванный Кротом за неповоротливость и тёмные очки (дешёвый форс) тщетно пытается выровнять шеренгу, проводя сомкнутым кулаком по гипотетической прямой, которая в идеале должна соединить 52 сопливых носа. Петушиные нестрашные выкрики сорванным голосом ещё больше дестабилизируют обстановку. Дёргая друг дружку за вихры и гомоня о всякой чепухе, детки попутно потешаются над тем, как повязан у раздёрганного вожатого скаутский галстук – не по-уставному, каким-то тройным морским узлом. И зипер у Крота от натуги расстегнулся.
Судите сами – станут ли шебутные мальчишки повиноваться Колченогому, который через раз попадает по футбольному мячу, а если вдруг случайно и попадает, то неминуем либо аут, либо пас сопернику? Косоглазому, который как однажды сел на велосипед, так сразу и навернулся в первый же овражек? Недоумку, которому цыплёнок из младшего отряда влепил мат на восьмом ходу?
А с какой вдруг радости казак-девочки будут слушаться Косорукого, который три часа точил-точил цветной карандаш, и ничего, кроме куцых обломков грифеля, в итоге не получил? Долбанутого, который, готовя отряд к смотру строя и песни, сам всё никак не мог разобраться, где право, где лево? Кривобокого, который не может удержать на бёдрах спортивный обруч больше секунды?
Другие отряды уже давно на завтраке, кашу с молоком трескают, а Конрад всё бьётся как рыба об лёд – и как об стенку горох.
И хотя построение отряда – священная мужская обязанность, не выдерживает Ирен Цише, напарница Конрада. Стройная, загорелая, непреклонная, нависает она над скаутами, как грозовая туча, и практически одним своим появлением (волейболистка, певица, рукодельница) добивается вожделенной тишины и долгожданной прямой линии.
Пятьдесят два оболтуса шествуют навстречу подостывшему завтраку, ведомые хрупкой командиршей Ирен. Позади, подтягивая молнию на штанах, а заодно и сами штаны, влачится понурый Крот.
Ясное дело, коллегам-вожатым нет резона принять в свой дружеский круг, пьянствующий и трахающийся ночи напролёт, этого рохлю, размазню, раззяву, шляпу. Все в один голос жалеют Ирен Цише – ей так не повезло в эту смену. Лучше всех жалеет по ночам вожатый старшего отряда, красавец-богатырь Михаэль. Михаэль педагогике не обучен, всю жизнь ишачил на шефствующем предприятии, но… Нарисует на земле круг, и говорит наказанному ребёнку: «Чтобы час из круга не выходил!» А сам купаться идёт, анекдоты травить. И бедный детка так целый час из круга и не ногой. А у детки-то усы пробиваются.
Какой красавец-кораблик смастерил Михаэль к «Дню Нептуна»! А Конраду задание дали всего-навсего: выкрасить этот кораблик в красный цвет. И пошёл чужой труд насмарку – стал кораблик обляпан точно кровью павших матросов. Ой, да что там… Ирен Цише, теряясь в догадках, чем же всё-таки занять «пятьдесят третьего ребёнка на отряде», однажды сказала: «Вот, приклей картиночки в стенгазете». Приклеил: пятна клея видно лучше чем картиночки.
С тех пор Ирен Цише Конрада бойкотирует, тщательно следит: только бы голос не подал, не дай Бог инициативу б не проявил. А тот всё не унимается: «Ирен, если я что-то не так делаю, давай разберёмся». Ирен который раз отвечает сакраментальной фразой: «Опять отношения выяснять? Ты вообще кто – парень или баба?»
И всё же помянем добрым словом порядочного человечка Ирен Цише: словно двужильная, безропотно тащила на хрупких плечах тяжёлый крест в лице пятидесяти трёх детей. И даже лавры срывала, сиречь переходящие знамёна. Притом – сор из избы не выносила. Заодно и Конрад почивал на лаврах, начальство его не дёргало.
А ведь в предыдущую смену, в другом лагере, Конрада с подачи прежней напарницы попросту турнули: за профнепригодность. И он тогда давай пороги обивать, чтобы получить шанс реабилитировать себя. Ещё бы – все кругом говорят, что в Стране Сволочей, где в скаутских лагерях работают сплошь непрофессионалы, доселе если кто-то и летел с работы, то только с формулировкой: «За аморальное поведение» (хотя кто же при такой нервной работе ведёт себя вполне морально)? Что ж, кто раньше упрекал Конрада в безволии, теперь хором упрекают в мазохизме.
Те-те-те! Это уже лишнее. Ведь не дай Бог сейчас вспомнится по аналогии работа в школе… Всё, поздно – на левой стене кадр: две четвероклассницы издеваются над великовозрастным мямлей с указкой. (Воспоминание 16, 8 лет от роду)… Скорее смотрим на правую стену… Мама рóдная! А там этот же персонаж ковыряет ломом между шпалами. Закон такой: сделал 25 «ящиков» (профжаргон путейцев) – можешь идти домой. Рабочий день кончается, но всё никак не выходит добить седьмой по счёту «ящик». (Воспоминание 17, 4 года от роду). Когда в кадре появляется разъярённый бригадир, Конрад оборачивается: на третьей стене всё та же мерзкая харя, готовая разрыдаться. Чин из «Загрантуриста» вне себя, мешает её с грязью: «Где вы потеряли авиабилеты? Почему дважды расплатились за ужин в «Константинополе»? Возместите убытки из своего кармана!.. Тридцать практикантов с вашего курса, вместе взятые, не опозорили наш отдел так, как вы один!.. (Воспоминание 18, 11 лет от роду). А на четвёртой стене загрохотали БэТэЭры, там про армию кино крутят… Вот здесь Конрад собирает в кулак волю и нечеловеческим усилием отключает кинопроектор. Годы службы даже для любимого фильма – табу.
Бессонное кошмарево расстилается в отблесках калорифера. Из темноты смутно выпирают вампир-этажерка и стол-тиранозавр. Шуршит и барабанит неуёмный террорист Барабашка. Под одёжной рубашкой по самой коже шныряют юркие Мурашки. Колобродит постпанковая недотыкомка Гадопятикна. Скребётся насекомый гном Скарбо, готовый из лучших побуждений впиться в согбенную выю. – Конрад по-турецки скорчился на диване, чутко внемлет шорохам бессонницы.
Конрад слазит с кровати, шлёпает к столу-тиранозавру, достаёт из его пасти маленькую свечу, чиркает спичкой. Непредсказуемо колышется трепетное пламя. Этажерка-вампир превращается в обыкновенную этажерку, на ней возлежит капитальный труд мейстера Парацельса – хорошая панацея от фильмов ужасов и глупых глюков. Конрад бережно берёт антикварный фолиант, негнущимися пальцами перелистывает ветхие странички. Нет, он не рассчитывает врубиться в тайну философского камня, не думает раздувать меха атанора. Его увлекает сам процесс плутания в лабиринтах мышления почтенного Алхимика. Зело тёмные, вельми запутанные, они уводят в царство Нонсенса, заводят в тупики Небытия, в покои тёмного, дымного, сладкого Покоя, где Не Человек может жить в мире со своими глюками, где он (минус на минус) – почти что Человек, а глюки (плюс на минус) – будто «Мелодия» Глюка.
О, магия текста, магия знакомых знаков в незнакомом значении, какие улёты, какие таски… Фаллоподобное свечное пламя подрагивает на грани между эрекцией и эякуляцией. На острие пламенного язычка извивается, хохоча, дух огня Саламандра и кажет Конраду гибкий язычок…
Ой, да это ж я, моё собственное измученное тело дрожит и судорожится от холода! Да это ж я сам чуть ли не до эякуляции дочитался! И эта сколопендра чёртова – кого она мне напоминает? Что за кудряшки, что за вздёрнутый носик? Мошенничество, жульничество, обман!!! Опять кадр из фильма…
Но в чём проблема, Конрад? Не умеешь – научись. Вместо чтобы скулить и убиваться – освоил бы какое-нибудь общественно-полезное ремесло и стриг бы с него купоны «социализации». Что мешает?
Для кого как, а для Конрада не всё так просто. Ведь прежде чем научиться, нужно найти ответ на ряд вопросов:
Вопрос первый. Чему научиться?
Воспоминание 19 (15 лет от роду). Родительское собрание в Центре Профучёбы – там каждый старшеклассник имеет возможность овладеть общественно полезной профессией.
К учителю токарных наук подходит интеллигентная мамаша. «Моя фамилия Мартинсен…» – «Как же, знаю вашего парня. Я уже тридцать лет преподаю, много прошло передо мной всяких оглоедов. Лентяи, пижоны – с этими справлялся. Но здесь я умываю руки. Впервые вижу, чтобы парень так старался, так мучился, и – ничего не выходило… А ведь второй год у станка стоит. Всё без толку. Да вы не беспокойтесь – это не его маршрут…»
А где – твой маршрут? Ведь есть же такие понятия как «способности», «склонности»… Ну и к чему же ты склонен, юноша тридцати двух лет, обдумывающий житьё? К треклятому текстообсасыванию и праздному пиздобольству, понятно. А ещё? Сколько всего ты перепробовал в жизни… достаточно, чтобы сделать кое-какие выводы и не дёргаться в заведомо ложных направлениях. Скажем, не сложились отношения с токарным станком – показатель того, что ни с каким вообще механизмом не сложатся. Ведь работа на станке, в принципе, элементарна, знай себе нажимай вовремя кнопку. А вот автомобиль водить, например, означает – нажимать разные кнопки-педальки. И не в заданный срок, а по ситуации, которая может кардинально измениться в мгновение ока. И если ты не вовремя нажал кнопку станка – ты всего-навсего запорол деталь, ну резец сломал. А если руль не вовремя крутанул?..
Короче, какой может быть «маршрут», когда жизнь убедительно доказала: руки у тебя как ноги, ноги – как грабли, голова – как пустой котёл, голосовые связки… эх, замнём для ясности.
Вопрос второй. Где и у кого научиться?
Если разобраться, то большинство навыков и умений люди приобретают в первые четырнадцать лет жизни, пока ещё вкус к новому и тяга к познанию не отбиты заедающей инерцией. Возраст, когда сам Бог велел: приобретать для будущего. К услугам детей кружки, секции, а главное – улица, лучшая школа. Дальше – стоп, выбирай себе профессию и совершенствуйся в ней. Ты взрослый.
Дёрнул же чёрт поступить с первого раза в грёбаный институт. А бросить – духу не хватило, ведь только в институте что-то ладилось, получалось… А получил диплом – считай, nec plus ultra. Образование, дескать – выше некуда. Да и возраст такой – время отдавать. Нужны готовые специалисты, никто не будет нянчиться с бородатыми неумехами.
Третий вопрос. Где и когда научиться сразу стольким вещам?
Никогда не встречал Конрад узких спецов. Врачи ремонтируют телевизоры, текстоведы забивают голы, скрипачи делают цветные слайды. Конрад потерпел столько серьёзных конфузий, что вряд ли обрадовался бы маленькой победе. Значит, надо было догонять остальных по всему фронту выполняемых функций. Ведь как раз жалкая мышка Луиза была наименее функциональна из всех, но составленный Конрадом список её умений включал более сорока пунктов. Понятно, что не все показывают уровень Пеле, Стаханова или Рафаэля: иным медведь на ухо наступил, иные сено от соломы не отличают, иные плавают стилем топора. Но по совокупности… о, пелотон посредственностей ушёл далеко вперёд, хотя близок к нулю шанс достать гениев-лидеров… а ты всё на старте, в сюрплясе… сюрпляшешь сюртанец… буквоед хуев.
И, наконец, четвёртый, самый главный вопрос – а как жить, пока ты ничему не научился?
Да, Конрада хватало на рывки, на резкие поступки, но не хватало на размеренный каждодневный труд. Он легко менял место работы, записывался на курсы и в школы, но во время учёбы тянулась привычная канитель: мерзкое «настоящее», обусловленное ошибками «прошлого». И само «прошлое» в виде всё того же бесконечного киносеанса было главной составляющей «настоящего». Правда, Конрад становился с каждым днём чуть мудрее, но одновременно с каждым днём всё слабее – потому что становился на один позорный день старше. Чем длиннее эпоха «прошлого», тем меньше шансов исправить что-то в настоящем. И чем более страстно хотелось стать кем-то, тем чётче сознавалось, что так и останешься никем. Конрад ни на шаг не двигался с места, ибо –
Чтобы сделать шаг, сперва надо встать.
Но на что можно встать? Так, чтобы устоять и не треснуться затылком? Кто ты сегодня? Сейчас? Миллион раз на дню жизнь показывает тебе – кто. На работе, во время учёбы, даже когда стоишь в очереди или готовишь обед. И чтобы в миллионный раз на дню окончательно не сойти с ума, есть только один способ – не создавать себе лишних напрягов. Не стирать носки, не чистить ботинки, не чистить зубы, не ходить в магазин и вообще лежать пластом в четырёх стенах.
Воспоминание без номера и без возраста. Запущенный человекообразный грязномаз с запущенной в трусы рукой, восседает в четырёх стенах, будто во чреве кита Иона – многострадальный, как Иов, но притом жидкий, как желе, и жалкий, как Вечный Жид. «Рычаги, рычаги», – рыдаючи рычит он под хронический стук каблуков хромоногого Хроноса. Неужели действительно движется время, нешто проходят многие, многие годы? Ведь настолько неподвижно пространство в замкнутой кубатуре отчаяния. Да, меняются квартиры, меняются воззрения, меняются авторитеты и приоритеты – но неизменными остаются: изодранные в клочья обои на холодных стенах… мягкие клочья пыли на деревянном полу… серые разводы на осыпающемся потолке (у соседей сверху часто рвёт стояк). И ещё: кипы растрёпанных книг… полная чинариков пепельница… забросанный отрывками, обрывками и набросками стол. Две свербящие мысли – «надо что-то предпринять» и «а что предпринять-то?» – в затхлом спёртом воздухе, в спиртном запахе под неусыпным ненасытным оком Кинооператора по прозвищу «Прошлое». И здесь же – как насмешка, игрушка-пустышка, якобы для голосов извне – ненужное, декоративное излишество.
Изредка это излишество резко, пронзительно трезвонит, но лучше к нему в этих случаях не прикасаться. Снимаешь трубку трепетной рукой – и услышишь всего-навсего гневливое:
– Мать-мать-мать, почему не вышел на работу?
Лишь эти звонки да бранчливые голоса соседей сверху (хороша акустика в блочных домах!), напоминают: нет, есть иное пространство, где-таки движется время – несколько больший и намного лучший мир, шумящий, кипящий. А ты каждый раз после безрезультатной маеты и суеты на тусовках и маёвках в том прекрасном, но враждебном пространстве, приползаешь сюда, в однокомнатный мир бесшумных страстей, чтобы завалиться на гнусавую, аварийную тахту – зализывать раны. Здесь – камера обскура для перманентного депрессанта, одиночный карцер для пожизненного суицидала.
Да вот досада – как ни лезь вон из кожи, как ни хмурь брови, как ни морщи лоб, как ни кусай губы – не сможешь вспомнить: какой рисунок был на обоях, какой конфигурации трещины на потолке и что именно толковали наверху соседи…
Вот и весь твой реальный опыт, вот и всё, что ты можешь поведать миру.
Конрад идёт на кухню. Открывает кран. Долго ждёт, пока потечёт ржавая вода. Хлынула… Не рассчитал – аж на пол брызжет. Конрад наполняет чайник. Берёт спичку, открывает газ. Чиркает спичкой – пламени нет. Чиркает другой – эффект тот же… Запах газа расползается по кухне. Чиркает третьей… Спичек-то кот наплакал… Запах газа всё сильней… Растудыть! Это ж не та конфорка! Четвёртой спичкой Конрад зажигает ту конфорку. Ставит табурет рядом с плитой, садится на него – так теплей. Ждёт, пока закипит чайник. Чайник не закипает, лишь накаляется сбоку – он стоит не на конфорке, а рядом с ней… Конрад, матерясь, ставит чайник на конфорку… Теперь не забыть бы вовремя выключить… Нет, не выключить – снять с конфорки, а то холодина-то какая… Пока вода греется, можно сухариков погрызть. По зубам ли тебе, Конрад, эти сухари? Они ж всё равно что каменные, а зубы твои, давно не чищенные, сгнили и шатаются…
Было таки одно доброе дело, которое он мог сделать для всех без исключения. Единственное, что он как следует мог и чего категорически не хотел. Оставить людей в покое и избавить их от себя.
Воспоминание 20 (13 лет от роду). Чужой захарканный подъезд, настенная порноживопись окрестной урлы. Конрад колотится всем телом о неподатливую дверь. Фиг высадишь, хиляк…
– Лотти! Лоттхен! Маленькая, открой. Я знаю, что ты дома. Лоттхен, красавица… Я же хочу задать один-единственный вопрос…
Конрад робко, но настырно давит кнопку звонка. Он не в состоянии слушать тишину. Звонок верещит райским соловьём каждые пять секунд в течение трёх минут. Отдохнув за это время, Конрад по новой включает тонюсенький умоляюще-хнычущий голосишко.
– Лоттхен!.. Радость моя… Только один вопрос… – Неужели? О счастье… Дверь неприступной крепости медленно открывается. На пороге вырастает монументально-сокрушительная фигура Защитника Хорошеньких Девочек От Сумасшедшей Шантрапы. Папаша.
– Молодой человек!.. – интеллигентно, но грозно басит Защитник Девочек. – Если этот концерт сей же час не прекратится, приму крутые меры.
Любопытные лоттины кудряшки показываются из-за его спины, но дверь тут же захлопывается, едва не прищемив Конраду нос и правую руку. Если прислушаться, за осаждённой дверью идёт военно-семейный совет.
– Лоттхен! И вы, родители!.. Впустите меня… Я же не враг вам… – Конрад одновременно звонит, стучит и воет: – Спасите!
Отпирается соседняя дверь. Выскакивает поддатый мужичишко в трусах и майке. Он пытается спасти Конрада с помощью пинков, приговаривая всякие слова не для печати. Он тщедушный, но вполне подвижный и проворный, чтобы спустить с лестницы.
Ноет ушибленное темя. Ноет разодранная криком глотка. Слюна течёт из кривящегося рта… Даже не отряхнувшись, Конрад вновь идёт на таран:
– Только один вопрос, Шарлотта! Ответь мне, солнышко – где я? кто я?! на что я гожусь?! как мне жить дальше?! – в ход идёт весь стандартный набор вариаций «одного вопроса».
Хотите – верьте, хотите – нет, но появляются дюжие бравые санитары из уголовников-медвежатников. Больной бьётся как рыбка на сковородке, но пара тумаков под дыхало делает его шёлковым. Его упаковывают, кидают в «Скорую» и увозят в Земляничные Поляны. Высовывается очаровательный носик Лоттхен – ей интересно, как это делается.
Слушайте, да были бы у него вообще какие неформальные контакты с внешним миром, если б не доставал он окружающих мольбой о спасении, не предлагал всем подряд роль гуру или мессии?
И длинной вереницей неслись в его воспоминаниях укоризненные, насмешливые, добродушные, равнодушные, участливые, гадливые физиономии тех, к кому он апеллировал. Непроницаемые маски светил психологии и психиатрии. Потерянные лица родителей. Снисходительные ухмылки кандидатов в собутыльники. Неотмирные лики знатоков восточной философии. Даже задушевная борода популярного в среде интеллигенции попа.
Большинство жертв изощрённого террора пускалось наутёк сразу, как от зачумленного. «Ты, братец, больной, лечиться надо», – заявляли одни. «Ты, братец, мазохист, гиперрефлексия – весь кайф твоей жизни, сладчайшее наслаждение, без которого не можешь», – считали другие. Позже (когда он повзрослел, научился говорить почти без надрыва) распространилась третья версия: «Ты, братец, позёр». Странно… Вряд ли стоит напоминать, когда вышла из моды чайльд-гарольдовщина.
Но если кто хоть ненадолго соглашался стать няней для великовозрастного нюни, Конрад с готовностью садился на подставленную шею и заклёвывал своими проблемами до полусмерти.
Воз и маленькую тележку ответов и советов он однажды на досуге систематизировал. Вот наиболее характерные:
– Мир в вашем восприятии чересчур жёстко структурирован; этого быть не должно!
– Мир в вашем восприятии разорван на отдельные фрагменты; этого быть не должно!
– Не зацикливайтесь!
– Не разбрасывайтесь!
– Пожалейте себя (нервные клетки не восстанавливаются)!
– Перестаньте жалеть себя!
– Делайте, что вам хочется!
– Учитесь властвовать собою!
– Живите как живётся (плывите по течению)!
– Преодолевайте!
– Поменьше серьёзности!
– Пора и повзрослеть бы!
– Не усложняйте!
– Копайте глубже!
– Доверьтесь себе!
– Ломайте себя!
– Не слушайте вы никого!
– Выньте вату из ушей!
– Вы сами себя в угол загоняете!
– Не надо ломиться в открытую дверь!
– Летайте!
– Перестаньте хотеть невозможного, вернитесь на грешную землю!
Каждый императив – вроде надписи на камне, но вглядишься попристальней – скользкая ящерица: в руках ловца оторванный хвост, а сама из кустов язык показывает. Понимаете ли, одни, скажем считают «витание в облаках» и отказ «вернуться на грешную землю» признаком «разбросанности», другие же, наоборот – «зацикленности». В свою очередь, для одних «зацикленность» сопряжена со склонностью «усложнять», для других – с нежеланием «копать вглубь». «Жить как живётся» кое для кого почти то же, что «властвовать собою», а кое для кого другого – синоним к «делать что хочешь». Поэтому, кстати, дальше систематизации дело не пошло: сквозь ячейки классификации юркие императивы легко проскакивали.
Чтой-то там завалялось? Бычок с фильтром? Вот удача-то! Со времён маргаритиного приезда уцелел, родимый… Не бычок – бычище… Хорошо живёшь, Гретхен…
Конрад суёт бычок в рот, случайно даже тем концом, каким надо. Прикуривает от конфорки – экономия… От хорошего табака отвык – бьётся в судорогах кашля. Постепенно затихает. Ноздри его – как два тухнущих вулкана – испускают сизоватый дымок. Кайф всё-таки. Только ворчливый желудок вздыхает по пастеризованному молочку…
Где же я тебе молочка достану, бедный брат Желудок? Может, тебе кашку сварить? Крупы остались… Ох, лениво варить кашку… Перебьёшься чайком с сухарями. Спасибо Анхен-хозяюшке, насушила на всю зиму.
Вот незадача: чем больше лезли вон из кожи помощники-спасители, тем нервознее, тем психованней становился спасаемый.
Воспоминание 21 (11 лет от роду). На группе общения в психиатрической клинике Конрад – единственный приходящий с воли среди пациентов «в законе». Сегодня даже Луиза пришла вместе с ним. Очередь Конрада солировать.
О чём? Да о том, что ни к чему не способен, что ничего не может, что облом повсюду как в своё время с цветиком-семицветиком.
В ответ его кормят фразами типа «Выньте вату из ушей» и «Не надо ломиться в открытую дверь».
Конрад лезет в уши – и не находит ваты; сера одна. И двери, которая открыта, не находит. Есть только глухая стена – сплошная стена непонимания. Внутри его копится дурная энергия, образует запруду, ревмя ревя и рвясь на волю.
Дурная энергия канализуется в ногу, нога находит мошонку врача…
В себя он приходит от всхлипываний Луизы: «Вот ведь как… Кто старается помочь – тот от тебя и получает…»
Он потом даже числил это воспоминание среди наиболее приятных. Скорее гордился, чем стыдился, а в жёлтом доме – так вообще кичился-хорохорился: я-ста, я-ста, я врачам, козлам позорным, чуть что, спуску не дам, я вот одному как-то по яйцам так захуярил, что тот на три метра отлетел! Так довёл, паскуда, что у меня – у меня! – та-ак нога пошла, как ни до, ни после никогда не пошла бы…
Внезапное осознание (здесь и сейчас). А тот, небось, как Конрад ножкой дрыгнул, уже сам падать начал. Как чрезмерно охочий до победы футболер, провоцирующий соперника на фол. Но футболисту надо, чтобы соперника унизили несправедливостью, удалили под улюлюканье с поля. А добродушный бородач в белом халате, напротив, своим притворством хотел несколько поднять Конрада в его же глазах, пусть ценой несправедливости, озвученной Луизой. Умелый психотерапевт был.
Были среди исповедников Конрада и такие, кто не считал себя вправе наставлять кого-либо на путь истинный. И такие, кто сами с пути истинного сбились. Эти ласково гладили Конрада по коленке (хлопали по спине), разводили руками (махали рукой) и выдавливали из себя утешительно-ободряющие сентенции:
– Разуй глаза, увидишь – не тебе одному плохо.
– Ты, слава Богу, не совсем конченый человек – не сторчался, не спился.
– У тебя всё впереди, со временем всё образуется.
И тому подобное.
Хорош. Слишком увлёкся разгрызанием сухарей. Зима только началась, а ты уже чуть ли не половину запасов уничтожил. Вспомни-ка лучше: есть в этом доме одна мА-аленькая комнатка, где на время можно стать свободным от Прошлого. Нет, не Волшебная Комната, конечно… Хотя – чем эта комнатка не волшебная на свой лад? Здесь ненавистная конкретика наконец отпускает от его горла свои костлявые пальцы. Она мирно журчит в канализационных трубах. Здесь можно, наконец, абстрагироваться и предаться безобидным mind games, в которых не бывает проигравших. Знай себе возвеличивать сознание, принижать бытиё, а то вдруг как возвеличить бытиё да принизить сознание. Потом объективировать субъектов и тут же субъективировать объекты. Усугубить анализом и умиротворить синтезом. Кайф. Кабы весь мир просрать… Для этого – увы – надо всё время жрать. Ан нечего.
Конрад расстилает в несколько слоёв старую газету. С чувством, с толком, с расстановкой накрывает жерло толчка прыщавой жопой. Закатывает глаза в предвкушении кайфа. Отпускает клапаны. Винты заднего клапана закручены слишком туго. Конрад тужится. Ёрзают бледные дряблые бёдра, из-под них топорщится газета. О чём в ней пишут-то? Ага, о перегибах, о нарушениях законности, о политической близорукости… Самая заря гласности, золотое времечко для читателей газет. До того читать было тошно, после – страшно… Первые струйки мочи нивелируют лист и текст. Жёлтая (в девичестве – белая) бумага и чёрные вестники гласности – буквы – теперь одинаково серые.
«А-а, вы говорите «не мне одному плохо»? Это кого ж вы имеете в виду? Да, да, у кого-то кто-то умер, кто-то с голодухи пухнет, кого-то ни за что ни про что упекли в кутузку, кого-то паралич разбил…
А вот у меня никто не умер, у меня умирать некому. Ни друзьям, ни подругам. Остаются родители… но вы что думаете – у Вечных жидов вечные родители?.. Погодите, их час пробьёт, непременно… Так что в этом страшного? С каких это пор естественный порядок возведён в ранг великого несчастья?
Безденежье, голод?.. Следствие, а не причина. Робинзон Крузо без гроша в кармане неплохо устроился… Каждому – по способностям и по труду. Обиженные режимом?.. Бедствующие гении да утешатся тем, что суть гении. Невостребованные таланты – тем, что таланты.
Кстати, безвинные жертвы да утешатся тем, что безвинны. Им вообще, если разобраться, лафа. Где-то же бродит по свету конкретный виновник их злоключений, и голос совести не будит их по ночам. А с чистой совестью и в глазок тюремной камеры можно смотреть без страха. Самое главное всё-таки – какой фильм видят умирающие на стенах больничной палаты, голоштанники – на стенах ночлежки, арестанты – на стенах каземата. И если в этом фильме им уготована роль положительного героя, то какое это вообще имеет касательство к нашей беседе?
Остались паралитики и прочие неизлечимые больные. Так пусть утешатся тем, что и Богу и людям смогут предъявить в качестве индульгенции свой красивый латинский диагноз. А у меня диагноз некрасивый, а толку с меня как с паралитика… ни молока, ни шерсти, ни общественно ценного движения…
Умиляйтесь, умиляйтесь, что до сих пор «не сторчался, не спился…» А как втусоваться к наркоманам – подскажете? А кто согласится со мной регулярно бухать – отыщете? А на какие шиши доставать травку и водку – может одолжите? А чем запойный онанизм лучше запойного алкоголизма? А вы знаете, Зискинд говаривал (имея в виду себя): «Чтобы спиться, мне не хватает личности». Что ж говорить о моей «личности»?
Ах, у неё «всё впереди»… А десять лет назад мне говорили то же самое, интересно – чем порадуете десять лет спустя? Вы же судите по аналогам и прецедентам. И где же в жизни, в кино, в литературе вам встречался персонаж, хоть отдалённо напоминающий Конрада Мартинсена? Да, да, про одиночество написаны тысячи томов. Но Печорин, который меняет баб, как перчатки – не аналог. Кафка, предчувствующий (как следует из его завещания), что его ждёт посмертное признание – не прецедент. Про комплекс неполноценности читали, знаю. А про неполноценность? А про несостоятельность, про нефункциональность вы раньше слыхивали?.. Не надо, не надо – частичная не в счёт… Частичная с лихвой, как психологи говорят, «компенсируется». У оглохших Бетховенов открывается внутренний слух. Безногие лётчики изобретают ручные системы управления. Заики переходят на пение, сколько таких видал. Разбившимся циркачам хватает мозгов разработать систему реабилитации покорёженного костно-мышечного аппарата и тем самым произвести переворот в медицине… Чего-чего?.. Воля? Воля – чепуха, были бы мозги! Я вот двадцать пять (шесть, семь, восемь) лет ищу, как бы выколупениться из своей profundis, это что ж, отсутствие воли?.. Извилин-то кот наплакал, вот я и вынужден идти на поклон к вашим извилистым мозгам…
А кстати: вы читали роман «Человек без свойств»? А книга «Человек без положительных свойств» в каком-нибудь спецхране не завалялась?.. Ну-ка – какие у меня положительные свойства… назовите-ка… Экаете-мекаете?.. То-то! Нет мне аналогов и прецедентов! Я у-ни-ка-лен, ёж вашу рашпиль!.. Так какого хрена вы станете мне помогать? Бывает, находит помрачение на гениальных гроссмейстеров, бывает, теряют себя рукастые слесаря, так это ж потеря для общества, они вправе просить о помощи… А помогать мне – вам – не противно?»
Последний аргумент безотказно действовал на тех редких терпеливцев, что ухитрялись дотерпеть до финала гневной отповеди неблагодарного страдальца. Убедившись, что больной исцеляться не хочет, целители с чувством выполненного долга умывали руки и с достоинством уносили ноги.
Ура, поддался задний клапан. Всё. Больше кина не будет. Конрад дёргает цепочку, и конкретика вырывается наружу, смывая крупную бурую загогулину. Будет тебе кино! Будет! Четыре стены сортира на глазах превращаются в четыре экрана. Скорей бегом отсюда.
Оставшись один, с оторванным хлястиком Учителя Жизни в руках, побившись головой об стену и побив старую посуду, Не Человек с ногами забирался на любимую тахту и крепко задумывался над каверзной задачкой.
«Раз я Не Человек, значит, всё человеческое для меня закрыто. Мне ничего нельзя. Знаю – никто в этом не виноват, но ведь и я не виноват. Так какого ж рожна начальники, жёны, сослуживцы, встречные, поперечные спрашивают с меня как с человека?
Вот за это я готов беспощадно мстить, мстить, мстить. Ибо временами мне кажется: раз я Не Человек, мне всё можно.
Поэтому иной раз затравленный зайчик надевал личину кровожадного волка (Welthass всё-таки меньшее зло, чем Weltschmerz) и от контратакующей тактики переходил к атакующей.
«Кстати, кто эти «вы»? – обращался Не Человек к подвернувшимся ближним. – «Вы» не любите быть вами. Вы любите размежёвываться на реализованного Ремарка и неудачливого Крамера, на добродетельную Лиз и падшую Бетси, на рафинированного Швейцера и мужиковатого швейцара. Да вы, батенька, попросту безнадёжный шизофреник. Такой монолитный и такой многоликий. Я бы вас на цепь посадил, сучье вымя… Да вы – мя – на раз, а я вас – как?
Сам Конрад шизофреником не был. Он чувствовал, что тождествен самому себе, о чём искренне сожалел: ни со стороны на себя посмотреть, ни закрыть на себя глаза, ни над собой посмеяться.
Конрад с сожалением смотрит на сморщенный комочек своих гениталий. Кто знает об их существовании? Один хирург военкоматский. «Хоть бы справку выдал, падла, о наличии у меня чего надо. Другой вопрос – кому надо…»
Вновь переходя на множественное число, Не Человек продолжал: «А то, быть может, думаю, убить вас? Уничтожить, уконтрапупить, утяпать? Тяпку скоммуниздить у какого-нибудь садовода-любителя… Не, чего собственно, вас не убить? Вон вас сколько, функциональных, полноценных – но толку-то? Все реки замутили, все леса повырубали, все луга потоптали. Нехай вас будет поменьше: вам же лучше…»
Чем дальше Конрад никого не убивал, не уничтожал, не утяпывал, тем больше хотелось. А не убивал по двум причинам: интеллигентское воспитание и низкая квалификация (убивать тоже надо умеючи, не то намеченная жертва первая обстебёт тебя. Лишний раз.)
«И вы ещё что-то говорите мне – про добро, про зло… Но уж извольте освоить сперва мой код (фундаментальные понятия «хотеть» и «мочь»). А чегой-то я должен осваивать ваш? Вам же это в лом, вы не потерпите взлом. Ну, ну, балансируйте себе между добром и злом…
Я-то по ту сторону добра и зла. Но вы опять не проссали. Я ж вам про другую сторону… Стреноженный безногого не разумеет. Идите на хуй. Простите ради Бога…»
Светила психиатрии таки пришили ему диагноз «Истерошизоидная психопатия». Не в том беда, что обречён смотреть плохое кино – кино-то добротное, этакий неореализм. Беда, что в репертуаре кинотеатра только один фильм.
Сорок тысяч вёрст вокруг собственного пупа. Ни тебе сублимации, ни тебе самотрансценденции.
Скрючившись на стуле, Конрад самотрансцендируется единственным доступным ему способом.
Выхватывая из сонма мелькающих лиц симпатичные личики молодаек типа Эвхен, Лоттхен, Клерхен (девочка с группы общения), Конрад задерживает их в кадре подольше. С привычным лёгким постаныванием мнёт, дёргает, тормошит, колошматит свой многострадальный член и беспощадно мстит, мстит, мстит несчастным кудрявым милашкам. Напрасно глупышки хнычут, пищат и молят о пощаде. Тщетно пытаются заслонить маленькими ладошками голенькие, розовеющие как новорожденные поросятки, сочные, упругие грудки. Грубый расстрельный металл плачет по этим грудкам; ждёт их обладательниц заслуженный капец…
Но бледна картинка, и мужской признак Конрада кренится набок – эти личики пронеслись на горизонте его бытия безвредными метеорчиками, не оставив в сознании заметного следа, только чуть-чуть взбудоражив совесть. Сквозь их расплывчатые образы нежданно-негаданно проступает круглая, в окладистой бороде, физиономия добряка-ходока. Одна мимолётная с ним беседа в своё время шандарахнула Конрада, как загадочный метеорит тунгусский – воронку оставила ого-го…
Воспоминание 22. (12 лет от роду).
– Я твёрдо решил покончить жизнь самоубийством, – заявляет угрюмый мильчик в коротенькой куртёнке доброму волшебнику-экстрасенсу. (В ходе предшествующих встреч с упрямым мальчиком волшебник расписался в полном своём бессилии).
Экстрасенс стягивает бороду в могучий узловатый кулак и после нескольких секунд безмолвия выдаёт:
– Ты взрослый человек, тебе решать. Хотя мне очень жаль твою маму… Но напрасно ты думаешь, что это выход для тебя. Ты не читал книжку мистера Муди, – (сумрачный мальчик сдерживает смех), – «Life after life»? Очень зря: я дам тебе ксерокопию: заодно поупражняешься в переводе. Но когда будешь читать, имей в виду: автора интересовал опыт людей, прошедших через клиническую смерть, самоубийц среди них – ничтожный процент. Поэтому на каждой странице ты встретишь сплошные восторги: Being of light в конце туннеля. А я вот специально интервьюировал тех, кого откачали в реанимации после попытки наложить на себя руки. Их впечатления – диаметрально противоположные. Оказалось, боль, которую испытываешь, грубо говоря, на том свете, в миллиарды раз острее той, от которой пытался избавиться. Ощущение, будто движешься во мраке внутри бесконечной железной трубы, и в ушах гулким эхом отдаётся одно-единственное слово: «Никогда!» Дело в том, что от самоубийцы остаётся его чёрный астрал – не что иное, как сгусток гомогенной боли, не амортизированной телесной оболочкой. Чёрный астрал, правда, рассасывается… но это где-то лет через тысячу. А так он, помимо всего прочего – источник дурной энергии, способный воздействовать на биополе далёких потомков… Неспроста ведь практически все религии запрещают хоронить самоубийц на кладбище, а их последнее земное деяние квалифицируют как тягчайший грех…
Конрад всегда инстинктивно сторонился мистицизма и оккультизма в любом обличье. Хиромантов, астрологов, ясновидцев, чёрных и белых магов – всех без исключения держал за шарлатанов. Но в чёрный астрал поверил безоговорочно и сразу. Симптоматично, да?
Люди верят в то, во что хочется верить. Отъявленным хлестаковым доверяют больше, чем горемычным капитанам-копейкиным. И чем прозаичней причины горестей и мыканий, тем громче и уверенней звучит слаженный хор: «Этого-не-может-быть-потому-что-не-может-быть-ни-ког-да».
И многоглавые толпы ломятся поглядеть на неправдоподобных суперменов, бэтменов, звёздных воинов, а какая-нибудь сирая заштатная элинор ригби, которая вполне правдоподобно платит за билет в тот же видеозал, кажется неостроумной выдумкой.
И так легко поверить в гуманоидов, телекинез, полтергейсты, лох-несское чудовище, в масонский заговор, наконец, и совершенно невозможно поверить в существование Конрада Мартинсена. Только сам он всё время кричал: «Вот он-я!» Кто бы крикнул: «Вот он-он!»?
Изрядно подзамёрзший, Конрад спешит под свои десять покрывал. Дорогу к дивану ему преграждает старый знакомый. Тараканья экспансия распространяется за пределы кухни. Уселся рыжий, усищами помахивает, желает продолжить прерванную беседу. Не исключено, что в очереди к тараканьему врачу начитался свежих газет и во всеоружии подготовился к интеллектуальному поединку.
– Вылечился? – спрашивает Конрад (артикуляция смазана). Над эрудированным тараканом зависает заснеженный валенок.
Рыжий не успевает объяснить, что это не он, а его двоюродный брат. Валенок падает, таракан погибает. Конрад ложится, проворно нащупывает меж вытянутых ног своего любимца и в два счёта расправляется с недобитыми девушками.
Стук метронома, приглушённый, но чёткий, теперь доносится с кухни. Это с неумолимой периодичностью капает вода из плохо закрученного крана. Реквиемный, панихидный темп Largo. На сегодня все умерли. Ходики остановились, беспомощный свисает маятник-помазиватель. Другой помахиватель обескровлен, обесточен, обессочен, покоится, куцый и безжизненный, прильнув к мокрому левому бедру. Убиенные девочки превратились в грязные безобразные трупики, они разлагаются и смердят; глядеть, как обгладывает девичьи косточки шакальё-вороньё, совершенно неинтересно. Под сохнущим валенком засыхает давленая усатая каша о шести ногах. Лишь Вечный Жид будет вечно жив, но Хвала Создателю – раз в сутки он даёт прóклятому им детищу перевести страждущий дух.
Кап… кап… кап… Выступившие слёзы подтачивают твердыню безысходности. Дзинь… дзинь… Весна ещё не скоро, капéль сопель застывает сосульками. Хрр... хрр... хрр... посвистывают закупоренные ноздри, убаюкивая. Упоение успокоением на свежевыглаженном лице. Гаснущий разум генерирует нечто неочерченное: то ли черти, то ли черви… сон разума рождает чудовищ – ручных, безобидных. Солипсический солитер Solitude, прожорливый паразит Прошлое добровольно уползают из дырявого желудка, из отбитой печёнки, из окаменелых почек, из воспалённых лёгких. Ленточный червь Боль послушно сворачивается в клубочек и консервируется в гортани, в горниле горла – там, где согласно поучениям великих гуру расположена чакра Пространства и Времени.
Время для Вечного Жида остановилось, но судя по синюшному цвету заоконного пространства, уже десятый час. Понемногу пространство поглощается слипающимися веждами. Рассвет забрезжил, он веки смежил…
Не Человек спит.
14. I gotta hear you scream
Конрад проснулся в сумерках. Завершался самый короткий день в году. Было до невероятия холодно – калориферы почему-то не работали. Сегодня надо пересилить себя и натопить печку.
Едва приподнявшись на локтях, Конрад уставился на старую политическую карту мира, висевшую над изголовьем.
Карта за четверть века морально устарела. Многие государства успели поменять свои названия. Некоторые – прежде разделённые демаркационной линией – воссоединились. Некоторые – бывшие «лоскутные империи» – раскололись на части. Колониальные владения, выкрашенные в цвет метрополии, почти все обрели независимость. Не соответствовала истине также штриховка на кружках, обозначающих города, – население многих из них удвоилось, а то и утроилось.
Не до конца проснувшийся, Конрад пока не мог приподняться так, чтобы как следует разглядеть северное полушарие, где раскинулась на целых полконтинента, подмяв под себя добрый десяток климатических поясов, необъятная и непонятная Страна Сволочей.
Глаза его оказались как раз на уровне пожизненно белой, незаселённой и аполитичной Антарктиды. Конрад мысленно солидаризовался с коренным населением ледового континента, нелетучими птичками в чёрных фраках и белых манишках. Каково им там, на безотрадном краю Земли, где сейчас, в антарктическое лето, месяцами не заходит солнце и нет никаких развлечений, кроме футбола, изредка завозимого полярниками. А между тем, по слухам, глобальное потепление всё больше подтачивает шельф, зона обитания пингвинов съёживается, и популяция их неуклонно уменьшается.
Была счастливая пора, когда он не слыхивал ни про пингвинов, ни про экологические катастрофы – он был ещё слишком мал. Но когда родители оставляли его ночевать у бабушки с дедушкой, он с жадностью разглядывал чуднЫе, может быть – волшебные слова на точно такой же карте мира, и особенно притягивали его загадочные надписи на белом теле Антарктиды. Станция «Мирный», станция «Восток» – не очень-то завлекательно; это, наверно, как в метро, когда к бабушке едешь: «Следующая станция – Проспект Трудящихся». Но вот магия продолговатых надписей крупными буквами, сетью накрывших необитаемый материк и сопредельные моря, притягивала его доднесь.
Земля Элсуэрта, Берег Эйтса, Берег Луитпольда, Земля Котса, Берег Принцессы Марты, Земля Королевы Мод, Берег Принцессы Астрид, Берег Принцессы Рагнхилль, Земля Эндерби, Земля Мак-Робертсона, Земля Принцессы Елизаветы, Берег Правды, Земля Королевы Мэри, Берег Нокса, Берег Сабрина, Земля Адели, Земля Уилкса, Берег Георга V, Земля Виктории, Берег Отса, Море Содружества и другие моря, остров Победа, полуостров Бетховена…
Мальчику казалось, что по необозримой белоснежной равнине в гордом одиночестве, без надежды встретиться с соседом, до сих пор бредут в полузабытьи отважные исполины-первопроходцы Элсуэрт, Эйтс, Мак-Роберсон, Котс, Отс, Уилкс, давая обширным территориям свои плебейские имена, и благосклонно приемлют их от века обитавшие в торосах и сугробах Принцесса Марта, Принцесса Астрид, Принцесса Рагнхилль, и за их спинами простираются алкаемые всем человечеством Берег Правды и Море Содружества, а с полуострова Бетховена нескончаемо доносится вековечная «Ода к радости». И первой любовью Конрада была высоченная, истуканоподобная снежная Королева Мод (даже взрослый он не знал – имя ли это собственное, или же имеются в виду «моды сезона»), которая в сопровождении принцессы Елизаветы и королевы Мэри, Адель и Сабрины, одним своим каблуком покрывая тысячи миль, шествовала к острову Победа или к земле Эндерби (почему-то хотелось думать, что Эндерби – тоже женщина).
Антарктида… ледяная пустыня… Минус в-восемьдесят…
Ой, ну дубняк-то… Сопливый нос точно отсох, пальцы закостенели, зубы исполняют залихватскую чечётку. А калориферы, едрить их, не включаются. Нешто перегорели оба?
Карта на стене была уже едва различима. Конрад пощёлкал выключателем. Ноль эмоций. Лепестричества нет как класса. Значит, через полчаса настанет тьма непроглядная. Ладно, есть ещё свечи… Главное – сели батарейки кассетника, а значит, он остаётся без музыки – это выдержать уже невозможно.
Стуки и крики, и что самое странное – лай. Конрад, держа в одной руке свечу, в другой – топор, нехотя открыл окно, где тоже танцевал хилый огонёк. Это был фонарик в руке соседа Торстена.
– Эй, привет, дичок, – мрачно сказал Торстен. – У тебя свет есть?
– Н-н-нет, – ответил дичок (так Конрада прозвали в дачном посёлке). – Это что у тебя такое?
На шее у Торстена, пятидесятилетнего скромного дачника, висел боевой автомат, и он с трудом удерживал на поводке здоровенную овчарку.
– Самооборона. Это как в старину – рабочие дружины. Как всех собак на мясо пустили, пошли всем миром к полицай-комиссару: он нам собачку выделил, автомат, боеприпасы… Установили график дежурств. Кстати, ты, дичок, завязывай на печке валяться. Грабануть любого могут. И не только грабануть…
– Я же не хозяин участка… – воспротивился Конрад.
– А тогда не хуя здесь кантоваться. Тогда уёбывай на четыре стороны… Ты на печи лежи, а я тебя сторожи.
– Ладно. Почему света нет? – недовольно перебил Конрад.
– Во всём посёлке темень как у негра в жопе... Что ты меня-то спрашиваешь, почему? Ты лучше-ка на станции спроси. Давай, дуй живее. Я сегодня радио послушать хочу.
«Голос зарубежья» послушать хочет, – расшифровал Конрад. – Наивный. Он-то и не подозревает, что я органик».
– Сейчас, только штаны подтяну и дуну.
– Ты падла! Я б сам давно сгонял. Да кто на участке останется?
«Какой сознательный», – умилился Конрад.
– Да ты шуток не понимаешь, отец? Дуну, дуну, я ж говорю. Только вот штаны подтяну – или ты хочешь, чтобы я без штанов дунул? – успокаивающе забубнил Дичок, подтягивая штаны и дивясь собственной наглости.
– Я бы в таких, как ты, из этой вот штуки, да патронов жалко, – по инерции негодовал Торстен. – Дуй! Фонарь есть у тебя?
– Должен быть. – Штаны сидели более-менее. Конрад отошёл от окна – он смутно помнил, куда задевал хозяйский фонарь. Ну что ж, есть повод высунуться в человеческое общество, пусть и в лице поручика Петцольда. Откровенно говоря, деловая беседа с Поручиком была бы ему приятнее, чем задушевный трёп с полуграмотными электриками или с соседями вроде Торстена.
За те полчаса, что Конрад искал фонарь, поднялась метель. Конрад напялил поверх своих ста одёжек ещё сто и отважно шагнул навстречу плотному рою колючих белых комариков.
Фонарь помогал правильно ставить ноги и не стукаться лбом о деревья.
По аллейке топать – куда ни шло, а вот как свернул на большак – так начались мучения. Снег здесь отродясь никто не убирал, и приходилось торить дорогу самому, держась полузасыпанного следа от некогда проехавшего авто.
В небе всё гуще кружила белая кусачая шрапнель и язвила отмороженную рожу.
Погоди-ка, а ты составил для Поручика реестр, о котором шла речь ещё при жизни старого Клира? А отчёт о работе полицейского комиссариата за третий квартал соорудил? А депешу № 377-бис устроил? Да ты… да не дай Бог вообще попасться ему на глаза… Да не пахнет ли тут вообще лагерем особо строгого режима?
От неожиданных мыслей Конрад остановился, аккурат по пояс в сугробе. «Стремновато показываться на станции», – сказал он себе.
Так что же он, зря вышагивал по сугробам во мгле непролазной? И неужели нельзя было дождаться белого дня, когда можно было бы узнать в городе все подробности, стороной обходя полицейский комиссариат? Скорей назад, писать реестр, кропать отчёт…. Да смогу ли я за оставшиеся полночи накатать хоть одну страницу… с такой-то головой… Жить захочешь – конечно, а жить не хочется. Потом, там Торстен гуляет с автоматом, а он, говорят, в последние годы мужик крутой стал, непреклонный…
Но с другой стороны – в Стране Сволочей ни одна сволочь свои дела в срок не делает, и сотрудники Органов вряд ли являют собой исключение. В насквозь дефективной системе не должно быть ни одной здоровой подсистемы.
Так назад или вперёд? – спрашивал себя Конрад, тыча фонарём то назад, то вперёд – и решительно не понимая, где зад, где перед. Он, кажется, уже давным-давно сбился с пути и заблудился.
И вдруг фонарик погас. Конрад снял рукавицу и окоченелым пальцем нащупал кнопку. Нажал – без толку, батарейка бесповоротно сдохла.
«Вот и хорошо», – подумал Конрад, тяжело опускаясь в сугроб. Так тут и останусь. Авось, к утру торжественно замёрзну.
Но это к утру, а пока ныли пальцы, и во все щели лица свистела шрапнель. Сейчас из леса, того гляди, выйдет серенький волчок и ухватит за бочок.
Серый волк не шёл. Последнего волка в Стране Сволочей застрелили три года назад в пятистах километрах к северо-востоку отсюда.
Конрад подумал:
– Лучше бы семейство Клиров позаботилось о создании заповедника реликтовой фауны, чем заповедника реликтовой культуры.
Ну пусть не волк. Пусть этот, длинноухий… Заяц, кажется. Эти вроде не все перестреляны. Да хоть ворона!
Но лес был мёртв.
«Нет, конечно, умереть хорошо, но как же я умру, не покурив?» В кармане, правда, лежала раскрошенная и промокшая последняя сигарета, но как её раскурить в этакую непогоду?
Да, если уж и смерть, то не такая мучительная…
Лёжа на снежной перине, секомый метелью, Конрад прикрыл глаза рукавицами и вместо кромешного крошева увидел продолжение бесконечного сериала. В сугробе на морозе вспоминалось не хуже, чем в доме при работающих калориферах.
Воспоминание 23 (3,5 года от роду). Отбывая за кордон навсегда, отец Конрада продал кой-какую недвижимость, и вырученные деньги положил в банк, чтобы на проценты непутёвый сын мог кое-как перемогаться достаточно приличное время. Всего счетов два – в самом надёжном и солидном, по общему мнению, банке, не похожем на многочисленные «финансовые пирамиды». Один на десять штук баксов, другой на три.
Настаёт день, когда Конрад собрается впервые снять проценты с большего счёта. Он берёт с собой соответствующие документы и отправляется в универ, где тогда работал почасовиком. В тот день выясняется, что на большее и даже на то же самое Конрад рассчитывать больше не может – студиозусы накатали на него докладную. В докладной преподаватель Мартинсен предстаёт самовлюблённым и надменным самодуром, исполненным извращённых прихотей. Конрад не знает лично этого препода Мартинсена, но смекает, что это ответ на его собственную докладную в отношении хронического распиздяйства студентов. Он обмозговывает случившееся в самом дешёвом и единственном доступном ему фаст-фуде, уперевшись отсутствующим взглядом в непрожаренный гамбургер, не слыша гомона многочисленных едоков. Он опять потерял работу и опять преподскую, единственную, на которую может рассчитывать.
Наконец, он выходит на улицу и закуривает сигарету. Он вспоминает, что сейчас очередной облом можно отчасти компенсировать если не морально, то материально. У него с собой бумага на десять тыщ баксов. Сейчас он поедет в банк – только сперва докурит…
– Эй, привет, – вдруг окликают его сзади.
Конрад оборачивается и видит верзилу выше его на голову в добротном кожаном плаще.
– Слушай, ты говорят, музыку любишь… А какую?
– Тяжёлый рок люблю, – автоматически отвечает Конрад.
– А где ты в армии служил? – интересуется верзила.
– Я не служил, – сам собой ответствует Конрад.
– Ясно, – деловито говорит верзила. – Слушай, а сколько у тебя денег в долларах?
– Чево?
– Сколько тыщ баксов у тебя… В глаза смотри. Ты же понимаешь, один удар в печень…
Конрад послушно смотрит в бездонные верзилины глаза и что-то внутри него покорно брякает: – Тринадцать.
(Ну или не совсем покорно. В полуотключённом мозгу Конрада мелькает что-то вроде: у меня с собой документ на десять тыщ, сейчас будет «рывок»: дёрг – и сумка с плеч, может он каким-то образом подглядел в мою сумку, пока я горевал в фаст-фуде… Запирательство бесполезно).
– Так-так! Мы, центровая братва, давно тебя пасём. Твой коллега нам всё рассказал… Тебя как звать-то?
Конрад называется. Никаких коллег, знающих про его крёзовы богатства, у него нет. Да и как его зовут, верзила не знает. Но что это меняет?..
– Слушай, Конрад, надо договориться. Поделишься тремя тыщами – и мы отлипнем.
– А если сейчас не дам?
– Поставим на счётчик. Завтра три четыреста спросим… В глаза смотри!
– У меня с собой нет, – врёт Конрад, вновь заглядывая в космическую пустоту верзилиных глаз. – Всё дома.
Тогда верзила многозначительно смотрит куда-то в сторону и веско произносит:
– Там мои ребята в машине сидят. Поедем к тебе, куда скажешь. Ты главное, не грейся.
Конрад никаких ребят не видит, и мудрено ли: место людное, возле метро, оживлённый перекрёсток. Туда-сюда курсируют толпы пешеходов и нескончаемые потоки машин, сотни авто припаркованы со всех сторон мостовой – поди разгляди то самое. Но расширять круг знакомых Конраду что-то не хочется.
– А с тобой одним нельзя съездить?
– Можно! – несказанно радуется верзила. – Меня, кстати, Андре Орёлик зовут.
Вслед за этим «Орёлик» (Конрад тогда ничего не знал про то, что у блатных не может быть «птичьих» кличек, из-за общераспространённого «петух) заставляет Конрада пожать ему тяжёлую длань и на какое-то время застывает в рукопожатии – чтобы-де видели «ребята». («Мои долбоёбы», – ласково зовёт их «Орёлик»).
После долгого рукопожатия «Орёлик» ловко тормозит проезжающую мимо попутку (в метро он якобы никогда не был), и та едет к Конраду домой. Всю дорогу «Орёлик» не закрывает рта и громогласно нахваливает Конрада, что тот-де «не чёрт» и правильно согласился сотрудничать, и что центровая братва теперь составит Конраду во всём протекцию. «Любой зал, любая тачка – всё твоё, что ни пожелаешь». Кроме того он во всё горло клянёт беспредел легавых и конкурентов из этнических преступных сообществ, заклинает «не греться», а главное – распространяется о том, что всё у них с Конрадом происходит «по понятиям». Незнакомый водитель вяло слушает спинным хребтом и не вмешивается.
На подходе к дому Конрада «Орёлик» даже не держит его за руку, только всё говорит и говорит, не забывая вставлять: «А этаж какой?» – «Вот ты тут про понятия говорил…» – «Этаж, этаж, в глаза смотри…» – «Четвёртый…»
«Орёлик» остаётся на третьем с половиной этаже, Конрад поднимается на четвёртый и заходит к себе домой. В полицию звонить он не думает – если он вскоре не выйдет из квартиры, «Орёлик» уйдёт и полиция смертельно обидится на ложный вызов. А потом «Орёлик» вернётся, и уж точно не один, и примерно накажет Конрада за подлянку.
Поэтому Конрад подходит к секретеру, шустро вынимает из сумки документ на десять тысяч, столь же шустро кладёт в неё документ на три тысячи и выходит к «Орёлику». Тут же Орёлик опять ловит попутку (Конрад парился бы часа два), и они едут в банк. По дороге «Орёлик» опять неумолчно расхваливает Конраду правильность совершённого им шага и сулит защиту от дворовой шпаны. Часто звучит в его речах и слово «понятия», но вот контекст Конрад не улавливает.
По-хозяйски, как к себе домой, заходит «Орёлик» в банк. – «Нам тут с родственником бабки получить надо», – громко возвещает он, пока Конрад молча косится на тщедушного охранника.
Через двадцать минут в ближайшем переулке Конрад передаёт «Орёлику» три тыщи баксов и ещё какие-то набежавшие проценты – он не мелочится. Оба крепко жмут друг другу руки. «Орёлик» благодарит Конрада, снова ловит попутку – и был таков. Только сейчас до Конрада доходит, что его «партнёр» очень торопится.
…В этот вечер Конрад выжирает очень много водки и благодарит Небеса лишь за одно – за то, что мать, проживавшая в «палёной» квартире, уже умерла.
На следующий день он находит в записной книжке – не своей, а покойной матери – телефон одного Очень Тёртого Мужика. «Это только начало», – говорит Очень Тёртый Мужик и добавляет к этому всё, что он думает о Конраде. А думает он то же, что и сам Конрад: большего позора и падения, чем собственноручно передать одинокому вымогателю свой доход за два года, нет, не бывает и быть не может. Правда, Очень Тёртый Мужик обмолвливается, что в банке наверняка сохранилась видеозапись, как Конрад с «Орёликом» входили в помещение. Но Конрад совершает единственный достойный шаг – не обращается в полицию. Ему впадло веселить и забавлять легавых, разнообразя своим рассказом их унылые будни. Побеждённый должен молчать. Сент-Экс.
Идти в банк за оставшимися десятью тысячами он несказанно боится. Равно как и жить в своей квартире. Он вписывается в плохонький отельчик, где вечерами глушит горькую, а утром – бежит в военкомат. По любым человечьим понятиям смыть беспримерный позор можно только кровью.
А главное – как быть с легитимацией? С оправданием индивидуального существования? Ведь до того момента Конрад утешался тем, что премногие терзания легитимируют его, дают смысл существованию. И вот – такой смачный кикс, столь малодушное цепляние за жизнь, обесценивающее суицидальные позывы юности и превращающие нашего антигероя из байронического Агасфера в ссыкливого вафлёра, в гиперфилистера и супермещанина, коему на нашей земле не должно быть места. А беспощадная память тут же насмешливо услуживает сходными по сюжету сериями.
Воспоминание 24 (15 лет от роду). Широкозадый Геркулес из девятого класса подходит к одиноко подпирающему стенку десятикласснику, достаёт из кармана расчёску и под гогот своих оруженосцев несколько раз проводит ею по чуть приоткрытым губам десятиклассника – забавы ради. И другие десятиклассники с омерзением глядят на покорно выдвинувшиеся вперёд губы жертвы, и тем безнаказанней чувствуют себя воспрявшие духом девятиклассники… И тут же наваливается воспоминание 25 (11 лет от роду) Нет, не отводи глаза, вспомни, как твой соратник по дурдому милостиво взял тебя в поездку в город-курорт, как напились и по дури попали в полицию. Твой-то спутник гордо говорил, какой у него белый билет и сколь жуткая психиатрическая статья, а ты в ногах у фараонов валялся, чтобы не сообщали в институт… И тут же – целый сонм мелких воспоминаний (15 – 20 лет от роду) о том, как в детстве без боя, покорно отдавал встречной урле двугривенные… однажды из них должна была сложиться сумма в три тыщи баксов. Или вот – воспоминание 26 (8 лет от роду). Загуляв в редких гостях, не успел Конрад на метро и вынужден хватать частника. – «Называй цену». – «Да сколько скажешь». – «Четвертак». – «А поменьше не…» – «А поменьше не будет. Я тебя испытывал…» И усталый усатый детина в самом соку вынужден платить искомый четвертак, и всю дорогу домой единственное чувство, будто его сейчас разденут, выкинут из авто и…
Внезапно во мгле проклюнулся блуждающий огонёк. Конрад чисто машинально дёрнулся ему навстречу. Дёрнулся чисто внутренне, в мыслях, но и этого было достаточно, чтобы обнаружить себя.
– Стой, стрелять буду! – загрохотал огонёк, и через мгновение два заснеженных вооружённых лыжника подняли Конрада на ноги, затем сшибли с ног, затем опять подняли и встряхнули.
– Вы кто? – равнодушно спросил тот.
– Здесь вопросы задаём мы, – сказали лыжники и заново встряхнули Конрада, повредив ему при этом какую-то внутренность и вытряхнув из двухсот его одёжек некий небольшой предмет.
Один лыжник, еле удерживая равновесие, грубо крутил обмякшему пленнику руки назад, а другой шарил фонариком по земле. Он успел нашарить красное полицейское удостоверение прежде, чем его полностью занесло метелью.
– Откуда и куда следуем? – испытующе спросил лыжник с фонарём.
Конрад хотел объяснить, что следует на станцию выяснить, почему отрубилось электричество, но голос в очередной раз подвёл его.
– Похоже, Кристоф, это наш сексот. Прём его до управления, проверим.
Лыжники оказались патрульными армейского подразделения, брошенного на помощь местному полицай-комиссариату. Они ещё вяло попрепирались, не бросить ли окоченевать найдёныша в сугробе и не угостить ли его на полную катушку разрывными пулями, но Конрад прервал их споры заявлением о том, что у него для господина Поручика есть важное донесение. От души пинаясь и матерясь, те решили всё же сэкономить боеприпас и порадовать гостеприимное начальство.
Когда Конрад смог выдавить из себя членораздельные звуки, ему даже предоставили идти своими ногами. Конвоиры, проваливаясь в снег, на чём свет стоит костерили режим, которому они пока что верно служили и который не мог выделить им даже завалящие сани; утверждали, что на Аляске в таких случаях используют снегоходы. Конрад хотел возразить, что на Аляске, скорее всего, дороги с подогревом, но не возразил, ибо сам на Аляске никогда не был. Порой, спохватившись, конвоиры всё же хватали арестованного – в такой тьме кромешной фонарь помогает плохо, а руки заняты палками; пока спусковой крючок нащупаешь, даже безногий удерёт. Конрад однако не удирал, а старался взять себя в руки и изобрести себе алиби, когда предстанет перед Поручиком.
Однажды по разговору патрульных Конрад понял, что они уже вошли в посёлок. Правда, ноги по-прежнему утопали в сугробах – кто ж теперь убирает улицы… А ещё раньше он узнал, что на единственной в округе электростанции произошла громадная авария с человеческими жертвами.
Внезапно из мрака выступило здание полицай-комиссариата – в нём горело одно окошко, но как-то тускленько, слабенько. Часового у входа не было.
Один патрульный придержал арестованного, другой снял лыжи. Потом они прикладами подтолкнули Конрада к двери той комнатушки, где горела керосиновая лампа, и его глазам предстал Поручик Петцольд верхом на рабочем столе, предающийся возлияниям вместе с часовым. В углу валялось что-то грузное и бесформенное, кое-как покрытое брезентом, из-под которого выглядывал сине-коричневый шарф и натекла небольшая лужица тёмной жидкости.
Один из патрульных, не по-уставному шаркая и даже не отдав чести, развязно сказал:
– Вот, господин поручик, посмотрите – ваш кадр?
– Разъебаи! Козлы позорные! – гаркнул Поручик во всё горло. – Делать вам не хуя! Честных граждан, наших сотрудников, почём зря хватаете!.. Вы сейчас где должны быть, мать-мать-мать?
– Не волнуйтесь, – ответили патрульные. – Мы же его для выяснения личности…
– У меня же с собой документ, – возмутился вдруг Конрад, рассчитывая на дальнейшую поддержку Поручика.
– Сейчас у каждого второго такой докýмент, – угрюмо прохрипел часовой.
– Верно говоришь, Вальтер, – Поручик Петцольд соскочил со стола. – Ладно, ребятки. Молодцы. Благодарю за бдительность. Погодушка-то, едрит её мать… Пообмёрзли никак, а?.. Ну а теперь вот что… Ты, – он кивнул на часового – и вы оба – марш в комнату три. Там свечка есть. И бутылёк есть, – он благодушно улыбнулся. – А мы тут с господином Мартинсеном побеседуем, так сказать, тет-а-тет.
Патрульные хмыкнули, хихикнули и повернулись – кто через левое плечо, кто через правое. Часовой посмотрел на Конрада ревнивым взглядом и вышел вслед за патрульными, держась за стенку и волоча ноги. Поручик Петцольд опорожнил стакан часового и налил по новой.
– А это?.. – часовой показал на брезент.
Поручик устремил на него взор, исполненный огня, и часовой исчез.
– Ну что стоишь, как неродной. Садись! – царственным жестом указал Поручик.
– Я вообще-то… завтра хотел зайти, принести работку, но вот тут со светом заковыка, я вот сорвался…
– Ой, да не пизди, малыш, – сказал Поручик широко зевая. – Ни хуя ты не сделал. Ну да амнистия… Садись, продрог ты, лошара. Сымай свои унты. Доху скидай. Расслабься… Напужался, дурашка… А я тебе скажу: хуй с ней, с темнотой. Темнота – друг молодёжи, а значит и наш друг…
– Я… к пятнице всё сделаю. Как штык, – жалобно пискнул Конрад, не желая садиться. Пискнул наобум: счёт дней недели он давно потерял.
– Сядь, мудила, и не порть воздух, – взорвался Поручик.
Конрад застыл столбом, хотя немилосердно устал.
– Налить тебе?
Конрад проявил колебания.
– Не стремайся. Сядь.
Конрад сел и стал дёргаться.
– Не дёргайся. Пей.
Конрад выпил, пошло плохо.
– Не торопись. Заешь.
Конрад заел и стал очень грустный.
– Грустишь?
– Мм…
– А хренá грустишь, сука? Мы победили, ура.
– Кто?
– Да сволочи, едритвою, сволочи…
– А кого?
– Как тебя за твою политическую безграмотность к стенке не поставили?
– Сам удивляюсь, – чистосердечно признался Конрад.
– Хошь поставлю?
– Не хочу.
– Ну, ну, ну… а кто у нас больше всего умереть хотел?
– Устал хотеть, – парировал Конрад.
– Ну живи, сука, живи!
Конрад уже сам себе наливал и соображал… соображал, надо ли вообще соображать.
– Так кого победили-то?
– Козлиная голова, а ещё лингвист… Если сволочи, то кого они могли победить?.. Да не бойся ты, чудо…
– Х-хороших людей – так? – Конрад сказал.
– Ура! – Поручик сказал. Хотел чокнуться.
Конрад не спешил чокаться.
– Я глупый. Я ничего не понял, – сказал.
– Чокайся, падла, – возопил Поручик. Машинально звякнуло стекло о стекло.
Внезапно перед Конрадом на столе возник новенький портсигар.
– Кури.
– Спасибо.
Постепенно разрозненные слова Поручика сложились в единую, хотя и зияющую пустотами картину. Изловлены Айзенберг – крупнейший мафиози, метящий в диктаторы, и его ближайшие сообщники. Конфискован огромный обоз-лабаз – всё, что наработали контролируемые им предприятия; масса денег, валюты и т п.
– Заправилы, воротилы… хаха… диктатором хотел… пидорок… его свои же и продали, хаха… Скрутим гадов, всех скрутим, – как считаешь, Конрад?
– Скрутим! – с готовностью подтвердил Конрад.
– Но Айзенберг – надводная часть айсберга. Много их ещё, агентов мирового сионизма. Вон – Нордландия с Ливонией безвозвратно отделились. Ну и хуй с ними: баба с возу – кобыле легче… На юге казачишки раздухарились – пять полков на столицу двинули. Как не так!
– Как не так! – эхом отозвался Конрад. И вдруг добавил решительно: – Что со светом?! – Или, может быть, хотел добавить. Но Поручик его понял:
– Пиздец свету. Без энергии вся волость. – А ты, потребитель хуев, пошёл бы и восстановил электростанцию! Погоди, вот зэков прибавится – заткнём прорыв. И если к пятнице (сегодня – среда) свой долг перед Отчизной не выполнишь, и ты такой чести удостоишься.
– Отдаю должное вашей мудрой справедливости. Но, г-н Поручик… всё же для работы должны быть созданы минимальные условия. Минимум двух условий мне не хватает.
– Хошь, ЖЭСку дам – но чур сам оттаранишь.
– Чего-чего?..
– Жидкостную электростанцию.
– А как с ней обращаться?
–А не знаешь как – печку топи, не поленись. Ты что думаешь – всегда электричество было? Кроме того, поройся: должна быть где-то в доме керосинка.
– Ладно, свечками обойдусь… Главное – печь натопить.
– Флаг тебе в руки и хуй навстречу… Второе условие?
– Ваше благородие, мне бы музончик послушать….
– О, милости прошу к нам, с музончиком-то… Скучно ведь в нашем комиссариате. А что у тебя за музло? «Пёпл» есть, «Флойд»?
– Моцарта послушать хочу, – сострил Конрад и этой остротой спас себя. Поручик принял его слова за чистую монету.
– Пиздуй, слушай Моцарта… Вот тебе батарейки, засранец ёбаный
Поручик выложил перед гостем металлические цилиндрики, подлил жидкости в его ёмкость и подсел к нему чуть ли не вплотную. Садистская пауза – и вдруг:
– А признайся, Конрад Мартинсен: не был ты в армии.
– Да? А где же я тогда был?
Поручик склонился к самой физиономии Конрада. Полупрошептал:
– А где ты был, я тебе расскажу. Третий раз женился. Ребёнка сделал.
– Да?.. А Дитер?.. Я тут недавно однополчанина встретил…
– Не знаю, не знаю… Может, и встретил. Только это не однополчанин был.
– А кто же?
– А мало ли кто? Может, твой ученичок бывший. Школьный.
– Так я же в столице учил… Как он сюда-то попал, в эту губернию?
– Да также как и ты! – внезапно возвысил голос Поручик. – На велосипеде! Или на мотоцикле. Допускаю даже, что на тачке. Отечественная, старая модель. Как «мерсы» добываются, ты его вряд ли научил,.
– Но сколько лет прошло… Как мы друг друга узнали? Он же тогда совсем маленький был…
– А он тебя первым узнал. Ты-то с тех пор не шибко изменился. Оплешивел только, разве что.
– Вот как… – недоумённо застыл над стаканом Конрад. – А… А… военный билет?
– На барахолке купил.
– А шинель?! – воскликнул Конрад обрадованно.
– Шинель?.. Ах да, шинель… – Поручик весь вперёд подался, «козу» показал, глаза-де выколю. – Это хорошо, что шинель. Так вот слушай, рядовой необученный, ранёхонько ты на дембель собрался. Помнишь, что тебе сказано: дембеля не будет!
– Это в каком смысле?
– А не будет – и всё.
Много чего ещё говорил Поручик Конраду. Даже утверждал, что не 31 год ему, а все 35, и:больше, и следовательно, хронология воспоминаний в его башке неверна в корне. («А 33 мне было?» – ошарашенно спросил Конрад. – «Не»). И выглядит Конрад немолодо, и гражданская война уже давным-давно бушует, а Конрад всё это время пролаялся с очередной женой и ничего не замечал. В сумбурном сознании Конрада мелькали какие-то сполохи, обрывки индивидуального существования, ошмётки былых событий. И понимал он смутно, что не он здесь прав, а как раз таки Поручик: недаром память не сохранила ни одного воспоминания, относившегося к военной службе, и история с «Орёликом» приключилась где-то в разгар его женитьбы. И наличие у него, Конрада, ребёнка даже как-то объясняло его малодушное тогдашнее поведение: было, значит, что терять. Вот только где он нынче, сей ребёнок?
– Кстати, милостивый государь, – продолжал Поручик, вдруг переходя на уставное «Вы» и несколько отодвигаясь назад, – вы тут вздумали играть частного детектива, самодельного дознавателя, сыскаря и следака в одном лице… Наивно, наивно… Нешто вы думаете, кто-то в самом деле что-то знает, а если и знает, то вам расскажет? Вы же даже методикой допроса не владеете! Вот – учитесь у меня, пока жив, как показания выбивать! А между прочим, знаете ли вы, кого я сегодня перед самым вашим визитом допрашивал? – Поручик кивнул головой на брезент. – Физрука из земучилища, вот кого! Четыре раза холодной водой отхаживать приходилось – настолько, бля, сука, скрытный и несговорчивый. Так как вы думаете, кому он поведает правду – вам, мастеру разговорного жанра, или мне, заплечных дел мастеру? А вы верите таким брехунам, как он, и не верите мне, носителю истины в конечной инстанции! Сказано вам – Алису Клир убил Землемер, значит, Землемер и убил, и больше вы ни от кого ничего не узнаете!
– Хорошо, тогда, может, скажете, кто написал книгу о Землемере?
– А это так важно?.. Я вот собираюсь сообщить вам куда более ценную и полезную информацию, с двойным грифом секретности, как глубоко уважаемому коллеге, никому ни гу-гу… Насчёт Землемера вашего любимого, насчёт кого же ещё… Бежал ваш Землемер. Уклонился, так сказать, от справедливого возмездия. Прямо накануне образцово-показательной судебной расправы. Такие вот дела, комиссар вы наш Мегрэ!
Конрад не сразу нашёлся, что сказать на это.
– Вот вы говорите – секретная информация… Но если это правда, то об этом уже знает каждая собака в губернии и далеко за её пределами. Он ведь соберёт толпу сторонников и таиться не будет, перейдёт в контрнаступление…
Поручик только рукой махнул.
– Действительно, в нашей гражданской заварушке появится новый – точнее, чуть подзабытый старый – игрок. Ну и что с того? Где гарантия, что тысячи партизан пристанут к настоящему Землемеру, а не к самозванцу, пользующемуся его именем? Или вы думаете, он всем мошонку свою изувеченную демонстрировать будет? На членовредительство-то каждый способен, раз такая пьянка… По официальной версии суд над Землемером свершится в срок, и будет этот суд безжалостен.
– Но ведь благодаря книжке его теперь вся страна знает в лицо! – возразил Конрад.
– А вы так уверены, что на обложке и врезках изображён именно тот, кто известен под именем Землемера? Вы думаете, это единственная книжка, и нет других, с другими иллюстрациями? Нет, наивность твоя, – Поручик сменил регистр, – не знает границ.
В результате Поручик дал Конраду новое поручение. В новом году намечается возвращение в родные пенаты местной урлы. О её настроениях надо узнавать и докладывать, как это было с неформалами – опыт у Конрада есть. Да, кстати: если вернётся хозяйка – а она по всем данным должна вернуться – следить за её настроением тоже. Ну и что, что она с тобой не разговаривает? Значит, разговори.
Усталый, но довольный, с новым фонарём в руках, шёл Конрад наутро домой. Метель уже давно улеглась. Подморозило, хотя обесчувственной физиономии Конрада это было уже всё равно. Свежий снег скрипел и искрился в свете фонаря.
Затем Конрад проследовал в комнату, зажёг свечу и стал топить печь.
Неумело поворошил угли кочергой.
Минут пять Конрад глазел, как материя меняет форму. Погрел у огня окоченелые руки. Затем ещё плохо гнущимися пальцами нащупал в кармане даренный Поручиком портсигар…
…Засунув сигарету в зубы, Конрад не стал сразу закуривать, а подошёл к тумбочке и достал завёрнутый в одеяло магнитофон, а затем и кассеты. Перебрал почти все, выбрал одну, на которой было написано:
«Deep Purple in Rock. 1970».
«Нравится моей герле диск «ин рок» дип пурпуле», – прошептал Конрад слышанную когда-то частушку. Пульс его участился. А ну как ящик не запашет…
Проверил: пашет.
Вставил кассету.
Нажал «Play».
Подошёл к окну, растворил форточку.
В это время Риччи Блэкмор без всякой раскачки пустил по хлынувшему в помещение морозному воздуху лихую стаю не то шестнадцатых, не то тридцать вторых.
Конрад озаботился.
После кратковременной душевной борьбы он нажал перемотку и без сожаления промотал первую вещь, нахраписто-забойную «Speed king», как впрочем и вторую, затасканно-штампованную безделицу «Bloodsucker».
А потом резко тюкнул «Stop».
Ясное дело, попал не сразу. Чуть мотанул вперёд, чуть назад, поймал угасающий хвостик Bloodsucker’а и сразу плюхнулся на корточки, чтобы прикурить от углей.
Далее Конрад оседлал дубовый табурет и произвёл первую затяжку. Магнитофон глухо саккомпанировал: «Пу-пу-пумм».
Конрад посмотрел на свечу. Он ни за что не прикурил бы от неё. Вновь тихохонько ухнуло: «Соль-соль-ля».
И опять три безоговорочных удара снизу и скупой багрово-сизый узор наверху. И опять.
Конрад предельно сосредоточился. Оконное стекло отразило красный зев печки.
Ровный голос сказал ему:
«Sweat Сhild in time,
You'll see the line
The line that's drawn between the good and the bad
See the blind man shooting at the world
Bullets flying taking toll
If you've been bad
Lord I bet you have
And you've not been hit by flying lead
You'd better close your eyes – aaaah –
Bow your head
Wait for the ricochet»
Uuuh uuuh uuuh uuuh
Uuuh uuuh uuuh uuuh –
всемирный скорбец, плач отца над павшим сыном, нытьё прохудившегося желудка, всхлипы сгнившего зуба. Не вылечит мир тот, у кого болит зуб, – но тому у кого зуб не болит, не взбредёт в голову спасать мир… Горюшко луковое, бедушка хренова, злосчастье достопечальное.
Aaah, aaah, aaah, aaah
Aaah, aaah, aaah, aaah –
и в столпотвореньи теней живущих и канувших, понурых спин и стёртых ликов нет-нет да возжгутся воспалённые глаза и озарят царство непроговоренных жалоб. Отверзтые очи опущенного, зыркающие зраки зашуганного… Вот – взорлил крик над глухим бýханьем, вознёсся вопль над басовитым урчанием, вздрогнули стены и взбрыкнула крыша тюрьмы человеческой. – I wanna hear you sing (по другой версии – scream[10])
Aaah, aaah, aaah, aaah
Aaah, aaah, aaah, aaah –
взлёт на «ля» второй октавы, рушащий крыши кутузок и каталажек, дистилированная боль, не обременённая телесной оболочкой, экстракт человечьего боления, сиречь воления, взвизг обнажённых нервов, теряющийся во времени и взрывающий вечность, вкручивание в штопор, вход в петлю Нестерова, к безмолвному межзвёздью, вжжик по Млечному пути…
А теперь голимый ритм, стук, трах, грохот – лязг оголённых нервных окончаний, потом – завыванье-зазыванье гитары.
И вместе с гитарой Ритчи Блэкмора мечется болявая душонка по галактикам, рисует параллаксы – парсеки вправо, мегапарсеки влево. А орган Джона Лорда, словно душевная болячка, пристал к ней, не отпускает – то расходится вразлёт, то смыкается в унисон. Наперебой, напролом, напробой – резвым аллюром по иномирью, по инобытию, по инопланетью. Лихой лихорадочный лихопляс в лихоманке сквозь лихолетье. Свирепый свист свинца вдогонку. И конечно же, скоростной скач коней беспредела в конце. Назад, в мир сей.
Конрад давно уже докурил и выбросил съёженный фильтр. Магнитофон глухо саккомпанировал: «Пу-пу-пумм».
Конрад посмотрел на свечу. Он ни за что не прикурил бы от неё. Вновь тихохонько ухнуло: «Соль-соль-ля».
И опять три безоговорочных удара снизу и скупой багрово-сизый узор наверху. И опять.
Конрад предельно сосредоточился. Оконное стекло отражало красный зев печки.
Ровный голос вновь сказал ему:
«Sweat Сhild in time,
You'll see the line
The line that's drawn between the good and the bad
See the blind man shooting at the world
Bullets flying taking toll
If you've been bad
Lord I bet you have
And you've not been hit by flying lead
You'd better close your eyes – aaaah –
Bow your head
Wait for the ricochet»
Uuuh uuuh uuuh uuuh
Uuuh uuuh uuuh uuuh –
всемирный скорбец, плач отца над павшим сыном, нытьё прохудившегося желудка, всхлипы сгнившего зуба. Не вылечит мир тот, у кого болит зуб, – но тому у кого зуб не болит, не взбредёт в голову спасать мир… Горюшко луковое, бедушка хренова, злосчастье достопечальное.
Aaah, aaah, aaah, aaah
Aaah, aaah, aaah, aaah –
и в столпотвореньи теней живущих и канувших, понурых спин и стёртых ликов нет-нет да возжгутся чьи-то воспалённые глаза и озарят царство непроговоренных жалоб. Отверзтые очи опущенного, зыркающие зраки зашуганного… Вот – взорлил крик над глухим бýханьем, вознёсся вопль над басовитым урчанием, вздрогнули стены и взбрыкнула крыша тюрьмы человеческой. – I gotta hear you sing (по другой версии – scream)
Aaah, aaah, aaah, aaah
Aaah, aaah, aaah, aaah –
взлёт на «ля» второй октавы, рушащий крыши кутузок и каталажек, дистилированная боль, не обременённая телесной оболочкой, экстракт человечьего боления, сиречь воления, взвизг обнажённых нервов, теряющийся во времени и взрывающий вечность, вкручивание в штопор, вход в петлю Нестерова, к безмолвному межзвёздью, вжжик по Млечному пути…
Чу! Вящий ритм, стук, трах, грохот – лязг оголённых нервных окончаний, глиссандо всех инструментов в беспощадные когти Абсолюта, низвержение в Мальстрём, ad libitum к Альфе и Омеге. И всё это под истошное «Oh god no» увлекаемой в водоворот гибели бессмертной искорки твоей –
Финальный аккорд. Пиздец. Лопанье перетянутых струн. Только одно колёсико душонкового механизма откатилось в сторону и вертится почём зря, затухаючи.
15. Новогодие
Всё время, что Конрад был на Острове один, он ограничивал ареал своего обитания кухней и своей комнатой. В апартаменты Анны он и носу не казал, тем более, что был убеждён в том, что уезжая, хозяйка закрыла всё на ключ.
И вот оказалось – ни фига подобного. По всему промёрзшему дому можно было ходить беспрепятственно. И Конрад, столкнувшись с таким обстоятельством, решил обследовать бесхозное жильё. Передвигался он по нему в носках, украдкой, утайкой, с бешено колотящимся сердцем, хотя веры в то, что хозяйка вернётся, у него не было ни грана.
Лишь Волшебная Комната была заперта – и Конрад немало этому огорчился: уникальный микроклимат мог пострадать в такую холодину, деревянные артефакты – рассохнуться. Но вот комната Профессора, скажем, была вполне доступна. Из неё, конечно, выветрился дух больничной палаты. Наскоро были уложены стопками ветхие газеты, наглухо заправлена кровать, пара образков в киотах украсила стол – вот и всё, что изменилось по сравнению с теми днями, когда Конрад чуть ли не каждый день переступал этот порог. А теперь казалось, помещение было готово принять нового жильца, такого же безликого, как оно само.
Но Конрада, естественно, больше всего интересовала комната Анны. Может быть, здесь таились какие-то улики, способные пролить свет на смерть анниной сестры. Но по-хорошему следовало бы просмотреть содержимое всех столов и шкафов, на что Конрад при всём желании решиться не мог. Он на цыпочках бродил по небольшому помещению, стараясь уловить хоть какой-то след индивидуальности хозяйки – и не мог. Мебель была прочная, старинная, такая же как во всех комнатах этого дома, на стене висели картина Богданова-Бельского «Устный счёт» и два эстампа с изображением экзотических стран, как это бывает в гостиничных номерах. В книжном шкафу, уставленном собраниями сочинений классиков из стандартного интеллигентского набора, стояла фотография девушки лет двадцати двух – трудно было сказать, была ли то Алиса или сама Анна, ибо профессор Клир признавался, что сам не в состоянии был различить дочерей. Как бы то ни было, фотографий обеих близняшек вместе на видном месте не обнаружилось. Был здесь и небольшой письменный стол, накрытый клеёнкой; на нём стояли пустая ваза и икона Богоматери, опять же в киоте; лежали письменные приборы и пустой блокнот. Необычно смотрелся только задубевший клавесин в углу и прислонённая к нему виола да гамба в чехле – Конрад слегка пощупал: кажется, с утеплением.
Вскрыть, взломать стол и нижние дверцы шкафа! Вытряхнуть содержимое и вычислить, что чьим почерком написано! Велико искушение, да старорежимное воспитание мешает. Ну, или не воспитание, а страх перед тем, что взлом будет обнаружен. А впрочем… тут даже на ключ нигде не заперто!
В полумраке, кое-как прикрывая рукой свечу, чтобы не капнуть воском на пол, Конрад осторожно выдвинул верхний ящик стола. Там обнаружилась толстая стопка листов, исписанных бисерным, чётким почерком Анны. Конрад слишком хорошо знал её руку – тем же почерком были написаны обращённые к нему указивки.
На сей раз это оказались стихи. Строки так отчётливо группировались в катрены и терцины, что с первого же взгляда стало ясно: сонеты. Их смысл упорхнул от Конрада: что-то настроенческое, полутона. Конрад же воспринимал только целые тона и тритоны, поэтому заметил только, что последняя строка первого сонета повторяет первую строку второго.
В результате он понял, что держит в руках венок сонетов: цикл стихотворений по четырнадцать строк, складывающихся в «магистральный» сонет. Но стопка листов была слишком увесиста и толста; одним венком сонетов дело тут не ограничивалось.
Профессиональное чутьё не обмануло Конрада: то был не венок, а целая корона сонетов – четырнадцать венков, вкупе образующих собственный «магистрал». И хотя дальше формального анализа Конрад никак не мог продвинуться, он воспылал уважением к автору сего: корона сонетов – явление в наши дни редчайшее, свидетельство высочайшего мастерства.
Причём под первой стопкой обнаружилась вторая. Ещё одна корона сонетов. Под ней лежала и третья.
От зависти Конрад, беспомощный в стихосложении и несведущий в выражении тончайших душевных движений, оставил надежду повнимательней вчитаться в эти стихи, зато твёрдо убедился, что автором была Анна: кое-где имелись зачёркивания и вставки, выполненные той же бестрепетной рукой.
Воск со свечи всё же капнул, но к счастью, на стенку ящика, а не внутрь. Конрад опомнился и тщательно стал восстанавливать аккуратные стопки. Это у него почти получилось.
Во втором ящике оказался гербарий какого-то лохматого года. Под гербарием явно лежало ещё что-то, но Конрад испугался рассыпать сухие листья и задвинул ящик обратно.
Оставался нижний ящик. И тут Конрад увидел толстую папку, перехваченную тесёмкой. Отправив сердце в самые пятки и рискуя устроить пожар, Конрад зажмурился – и развязал тесёмку.
Когда же он отверз зеницы – выяснилось: он нашёл, что искал. Тем же мелким аккуратным почерком, без исправлений и помарок, страница за страницей Конраду открывалась уже знакомая ему Книга Понятий – жизнеописание Землемера до рокового случая с Алисой Клир. Он не удержался и долистал до своего любимого места:
Из «Книги понятий»:
Когда Землемер «откинулся», он вскоре прекратил междоусобные разборки в своём районе и, встав во главе местного иммигрантского сообщества, начал превращать район в экстерриториальную зону. Вскоре в гетто установились свои порядки, в корне отличные от законодательства той страны, где оно размещалось. И местная полиция боялась переступить границу гетто, которое росло и ширилось за счёт крепнущего притока новых иммигрантов из Страны Сволочей. Землемер верховодил общиной и обеспечивал её связи с внешним миром – местным языком он в тюрьме овладел в совершенстве.
Совершённое им резонансное преступление по-прежнему вызывало во внешнем мире невероятный интерес. Было известно, что навещавшие узника священники так и не смогли обратить его в свою веру, а вот с социальными педагогами он охотно сотрудничал, внушая им, что осознал прежние ошибки и путём индивидуального террора впредь не пойдёт. И в тюрьме, и после освобождения его пачками доставали корреспонденты. Не папарацци, нет – он ещё в кутузке обозначил, что гламурно-глянцевым ловить с ним нечего. Простые газетчики, тонкошеие деликатные мальчики и перекормленные гамбургерами деловые девочки норовили побазарить за смысл жизни, справлялись о планах и о согласии/несогласии с цитатами из де Сада и Маркузе. Сначала он вежливо и улыбчиво выслушивал мировоззренческие притязания интервьюеров, легонько трепал их по щёчке и продолжал траекторию своей судьбы. Затем он пару раз выковыривал своим любимым ятаганчиком незатейливую змейку на потных ладошках назойливых правдоискателей и лениво объяснял им выгоду их новой отмеченности. Кое-кого он даже увлёк в свою веру и припряг к своей отаре.
Отара росла быстро – всё больше землячки-соотечественники, но всё чаще попадались и аборигены, для которых Землемер был знаменем антропоцентризма и «максимального гуманизма», видящего предназначение человека в решении максимальных задач и не согласных «оставить его в покое». Когда к армии Землемера приставал абориген, босс сразу отмечал и привечал его больше прочих и демонстративно перетирал с ними темы и проблемы, а землячкам беспрестанно поручал ответственные задания, лишь бы сбагрить их с глаз долой. Те роптали, он клал на ропот. Пусть ропщут.
Но однажды, отправив своих орликов на рутинную экспроприацию, он собрал всех местных в своём логове и укорив, что пора б нюхнуть и пороху, поставил им первую сколько-нибудь интересную задачу.
Требовалось всего-то проникнуть во вдовью квартирку миссис Дэвидсон, изнасиловать и убить хозяйку и унести на себе столько, сколько выдюжит хлипкая аборигенская кость.
Пока все, молчаливо сопя, проникались сказанным, поднялся сосед помянутой вдовы Стив, безбашенный фрирайдер и хладнокровный бейсер. Он сложил руки за спиной, чтобы выдвинуть грудную мускулатуру и, перекатывая во рту обесвкусневшую жевачку, изложил соображения.
Босс, сказал Стив, ты мельчишь. Мальчики застоялись, а ты предлагаешь им слегка ковырнуть в носах. Мы хотим крови врагов наших, сильных, свирепых и достойных нас, мы хотим крови нас самих, сильных, свирепых и достойных наших врагов, мы воины и хотим сразиться с воинами. Вон Хрипатый, рождённый в каких-то пятистах километрах от твоей родины, разборзелся не на шутку, так не пора ли пригнуть ему выю и подломить роги?
Босс выслушал, после чего подозвал краснобая к себе. Тот приблизился, не переставая излагать.
Я понимаю, сказал Стив, если бы вдова Дэвидсон была толстосумшей, жрицей презренного чистогана. Я понял бы, и если бы она была вокзальной побирушкой, шизофреничкой и наркоманкой, позорящей нацию и расу. Но она не то и не другое. Всю свою жизнь она проработала секретаршей в страховом агентстве и честно выстрадала свой скромный пенсион. Она любила мужчин, растила детей и сажала цветы.
Землемер не перебивал, выслушал Стива до конца. После этого он шаркающей походкой приблизился к оппоненту и вдруг цепким пальцем-крючком сцапал его за выпирающий, ходящий взад-вперёд кадык. Стив руками и ногами попробовал отодвинуть Землемера на должную дистанцию, но тот не ослабил хватки. Вскоре тело Стива обмякло и мешком рукхуло к ногам Землемера, а тот победоносно продемонстрировал собравшимся кадык ренегата, вырванный с корнем.
Пойдёмте, братия, сразимся со вдовой Дэвидсон, сказал он, позёвывая и поигрывая трофейным кадыком.
Братия поднялась в квартиру вдовы и увидела полну горницу земляков босса. Одни сгружали вниз скудный вдовий скарб, другие совали забурелые члены во все мыслимые отверстия бездыханного тела, в частности, ножевые и пулевые. Когда вошёл босс во главе шоблы местных, они приостановились. Босс чётким движением вложил в охладелые уста кадык Стива и молча обозрел шоблу.
Отныне и в этом краю смердящего смрада узнали, что воин, который мочит только воинов,– ещё не воин.
Не будем описывать, как Конрад, поминутно прислушиваясь и озираясь, уминал листы в безукоризненную пачку и как трясущимися пальцами завязывал тесёмки – не факт, что тем именно узлом, каким они были завязаны изначально. Тем временем воск со свечи накапал на стол, и Конрад долго и малоуспешно отколупывал его; между тем совсем стемнело, и каждый стук барабашки заставлял злоумышленника содрогаться всем телом.
Наконец, последствия вторжения вроде были устранены, и Конрад поспешил туда, где печка; обул, наконец, валенки и потихоньку собрался с мыслями.
Где в этом доме покои покойной Алисы? Ни в одной другой комнате не было ничего, что указывало бы на присутствие здесь каких-нибудь полгода назад ещё одной молодой женщины. Между тем почерк, каким было написано житие Землемера, явно был идентичен тому почерку, которым писались инструкции ему, Конраду. Конечно, у близнецов мог быть схожий почерк, но ведь все говорили о том, что сёстры весьма разнились по характеру. Так кто же, блин, написал Книгу Понятий?
А вечером резко, будто компрессор, заскрежетала тяжёлая входная дверь. Конрад сперва напрягся, думая, что некие нехорошие люди залезли разжиться поживой, но он ошибся – вернулась заснеженная, по-зимнему бесформенная Анна.
Настырной мухой Конрад закрутился вокруг неё, помогая высвободиться из объёмного, но не слишком теплоёмкого салопа, даже помогая разматывать помимо незаменимой шали ещё два плебейских, изъеденных молью платка, умудрившись даже поцеловать полуотмороженную кисть, с трудом отодранную от грубой до ежовости рукавицы. «Сейчас я вам чайничек поставлю… кипяточечку… вы голодная, небось, как…» Анна рассеянно глядела на притолоку двери в смежную комнату, но едва она осталась в тёплой кофте и брюках, едва более-менее очертились линии талии и бюста, резко шагнула прочь от мельтешаще-заботливых рук Конрада. Прежняя монументально-скульптурная и гимнастическая Анна чеканным шагом была готова проследовать в свои апартаменты, навстречу неприступному сну праведницы.
Но не проследовала. Голосом гаишника при исполнении она крикнула Конраду:
– Почему в кухне так насвинячено? И посуда не вымыта? – и принялась драить, мыть, чистить, не говоря больше ни слова. Конрад не стоял сложа руки – тоже стал драить, мыть, чистить, но Анна словно не замечала запоздалой помощи и споро, скоро ликвидировала разруху на пятачке, где в одиночку коротал свои дни Конрад.
И когда с уборкой было покончено – а покончено было далеко не сразу, Анна таки резво пошла в свою комнату.
– Но как же вы там? Надо здесь, где печка! – протестующе взмолился Конрад.
Анна не удостоила его ответом. Конрад какое-то время пребывал в раздумьях – неужели она вздумает спать в до основания выстуженной комнате, в каком-нибудь спальном мешке, оставляя его самого здесь, на тёплой печке?
– Анна! Анна! Куда же вы? – но на сей раз в комнате, украшенной бессмертным полотном Богданова-Бельского, хрумкнул настоящий замок.
Печка своим зевом выходила в кухню, задом – в комнату Конрада. Больше ни одно помещение в доме не отапливалось?
Конечно, Конрад так и так не лёг бы спать до утра. Но одно дело – просто не спать, а другое дело – терзаться совестью, пока хозяйка замерзает насмерть. Надо что-то предпринять.
Опять бежать к Поручику, умолять его доставить ЖЭСку или как её там? Ну, допустим, доставит – так спиздят же соседушки, как пить дать. Не может быть, чтобы терпели такой выборочный патронаж над отдельно взятым домом. Тем более они нынче того… вооружённые. Да и вообще, бежать к Поручику далёко, он небось, зараза, дрыхнет… если вообще не уехал в губцентр – как-то он отнесётся?
Конрад стиснул буйну головушку, завернулся в телогрейку и выбежал на улицу. Благо вчера потеплело – градуса два-три мороза. «Буду куковать здесь до утра, – решил Конрад. – Из солидарности».
В окне Анны, что интересно, горела свеча. «Не спит. Значит, ждёт от меня чего-то. Не будет же она замерзать почём зря… Небось инспекцию комнате делает. Сейчас обнаружит, как тесёмки в папке завязаны…» Итак, топай-ка ты Конрад, снова до посёлка, ищи его высокоблагородие, падай ему в ножки, ползай на брюхе.
Впрочем, вскоре в комнате Анны заслышались глуховатые позвякивания клавиш. Заиндевелыми пальцами хозяйка словно разогревала инструмент в условиях рождественской стужи.
Эпоха Люлли, Рамо, фарфоровых статуэток, пудрёных париков, кружевных рубашек и шитых бисером камзолов. Блохоловки под надушенными одеждами. Мужчины, похожие на пуделей, и женщины, похожие на болонок.
Конрад встал под дверью Анны и самозабвенно слушал её игру. Соскучился он по этим звукам. До самозабвения.
Шестым ли чувством хозяйка уловила близкое присутствие любителя полакомиться на дармовшинку, или же Конрад, сам того не замечая, вновь подпевал музыке – факт, что вскоре клавесин стих и дверь распахнулась, с размаху огрев Конрада по уху. Из комнаты дохнуло теплом. Где его не было – так это в словах Анны:
– Кстати: я удивляюсь, как это дом до сих пор не сгорел! Кто и зачем учил вас топить печку?
(Оказывается, у Анны в комнате была небольшой изразцовый камин, который Конрад, будучи поглощён своими задними греховными мыслями, в своё время попросту не заметил).
– Стефан… в холодном августе… На всякий случай.
– Вы сами его просили?
– Так точно.
– Плохо учил, значит. Весь дом провонял дымом.
– Но я старался как можно реже топить… Я всё больше… калориферы…
– Представляю себе, сколько вы нажгли электричества!
– Но ведь потом электричества вообще не было…
– Платить по счетам всё равно надо – случись хоть каменный век.
– Но мне же как-то надо было выживать…
– Веская причина, о да, – сказала Анна с сарказмом. – Ступайте.
А за завтраком грянуло:
– Конрад, вы свою миссию выполнили. Я убедительно прошу вас покинуть мой дом.
– Что вы подразумеваете под «моей миссией»?..
– Вот-вот. Ваша миссия толком не понятна ни мне, ни вам. Будет лучше, если вы оставите меня одну.
Конрад потёр ногу о ногу, как это всегда делал в минуты душевного волнения. Он лихорадочно искал связные слова для следующей реплики.
Наконец он изобрёл её:
– А если я, допустим, вас не послушаюсь? Вы что – позовёте на помощь ангела-хранителя в погонах?
– Он, кажется, не только мой, но и ваш ангел-хранитель. Кажется, вас он обеспечил работой, а не меня. Со всеми вопросами, как вам быть дальше, к нему и обратитесь.
– Да, но куда вы мне прикажете деваться?
– Обратитесь к вышеупомянутому ангелу-хранителю.
Конрад не придумал ничего лучше, как бесстыже «давить на жалость».
– Анна… милая… не гоните меня. Я понимаю… от меня одни убытки и никакой реальной пользы. Я знаю, вы подозреваете меня в том, что я… – Конрад обеими руками закрыл себе рот, чтобы не выговорить «убил вашего отца». – Но я не то… Совсем не то… Я…
– У вас, оказывается, богатое воображение. Я ни в чём вас не виню и не подозреваю. Просто не желаю жить с вами под одной крышей – вот и всё.
– Анна, но… но как же вы будете жить одна… В такие опасные времена?
Анна едва заметно вскинула голову, давая понять, что она всё сказала.
Конрад достал из рукава последний козырь. Вот только он сам не понимал, в какой игре.
– А вы знаете, что Землемер не убивал вашу сестру? И что он бежал из зоны?..
Анна демонстративно обратила к Конраду царственную спину. Тот совсем поник.
– Сколько вы мне даёте на сборы? – пробубнил он.
– У вас что – тридцать чемоданов? Я вам дам деньги на дорогу…. Поезд отправляется… так, одну минутку… ага, послезавтра. Так что можете особенно не торопиться.
Изгоняемый постоялец недвижно сидел на стуле, словно что-то соображая. И вдруг сообразил. Он натужно, изо всех сил улыбнулся и попытался поднять на Анну испуганные глаза:
– Разрешите мне в таком случае высказать мою встречную просьбу.
– Только поскорее…
– Вы знаете, какое сегодня число?
Конрад показал глазами на отрывной календарь – тот был на последнем издыхании.
– Через три дня Новый год. Я бы очень просил вас… я понимаю, что… вы знаете… Иноземное Рождество мы уже пропустили, а… Новый год… понимаете, единственный праздник, который отмечают все… В общем… разрешите мне встретить Новый год с вами. Я прекрасно понимаю, каково вам сейчас, но Новый год есть Новый год, и я… – прорезавшимся крепнущим баритоном Конрад вдруг даже как будто жёстко поставил условие. – В общем так. Независимо от того, что там происходит у меня и у вас… время-таки движется. Я вас прошу об одном дне примирения. В этот день не будет ни Конрада Мартинсена, ни Анны Клир… будут Дед Мороз и Снегурочка. Мы украсим голубую ель… Есть у вас ёлочные игрушки – отлично, нет – так сделаем их сами. Я – сделаю… Подарки вам подарю…
– Откуда у вас мешок подарков? – спросила Анна, внезапно рассмеявшись, и Конрад в ответ тоже просиял от уха до уха.
– Анна… да чтоб у меня… для вас не нашлось подарков? – обрадовался он и, оторвавшись от стула, торопливо вышел.
(У Конрада стал совсем ни к чёрту мочевой пузырь – последствие летних экзерсисов с задержкой мочеиспускания. Ему хотелось по нужде каждый час, и ничто не могло отсрочить необходимость отлить).
Содружество Дракона и Лилии продолжилось и на следующий день:
– Конрад! Эй, Конрад! Слезайте с печи! Всё равно топить её больше нечем.
Конрад лежал, между прочим, не на печи, а очень даже на диване. Он застегнул штаны, подошёл к окну и выглянул.
– Угля не дадут больше, – сказал он.
– Откуда вы это знаете? Догадались?
– Я давно это знал. Понимал.
– Мы же втридорога платили за этот самый уголь!
– Ну и что… Тут даже не коммунальщики виноваты. Угольные залежи страны истощились. Всё из недр земли высосали. Орешек пуст.
– Чем же мы будем печи топить? Дровами?
– А где вы их возьмёте, дрова?
– А! Вы к тому, что и леса все повырубали.
– Ну пока что не все. Этого ждите годика через два. Но кто вам позволит рубить общественные леса? Или леснадзор здесь слабый?
– Когда не пьяный…
– Кто это там у развилки всё порубал? Я думаю, леснадзор. Ему ж одному только и можно…
– Что же тогда, Конрад?
– Сперва придётся яблоньки ваши рубить. Это ваша собственность.
– Яблоньки рубить? Вы спятили?
– Ну так замерзайте, – сказал Конрад и отошёл от окна.
За приготовлением ужина был израсходован последний газовый баллон.
– Интересно, – говорил Конрад, по обыкновению причавкивая. – Что пишут об энергетическом кризисе в газетах?
– А вы знаете что? – задумчиво сказала Анна. – Есть у нас дрова!
– Есть? Где же?
– Забор! – воскликнула Анна.
– А-а! – сказал Конрад.
И вправду, зачем он нужен, забор-то? Перемахнуть его ничего не стоит: кому надо – перемахнёт, не моргнув глазом… Конрад отпилил три горизонтальные доски, но за вертикальные никак не мог взяться – жалко…
Он даже думал: хорошо бы Остров Традиции сделать островом в буквальном смысле слова. Вырыть ров, залить водой… По крайней мере, забор обнести колючей проволокой.
А вечером приезжал Поручик. Превентивно поздравлял с праздником. И с ним была фура, притаранившая автономный генератор электричества, газовые баллоны и много-много-много дров.
Конрад упарился, помогаючи разгружать фуру. В принцип работы генератора он даже вникать не стал – не по уму задачка, пусть Анна разбирается. А вот доски водворить на место надо бы. Ночью, при свете звёзд взялся Конрад эти доски приколачивать. Сикось-накось – но приколотил. Чем был чрезвычайно горд.
Наступил рассвет – а он всё не ложился спать. Готовил хозяйке сюрприз.
(На чердаке, среди прочего, он нашёл лобзик и бумажки с картинками зверей – тигра, медведя, осла – чтобы переводить их на доску и выпиливать. И он вырезал картинки, обвёл контуры и честно выпилил по ним плоские фигурки из нашедшейся тоже на чердаке дощечки. Получилось на удивление неплохо – Конрад даже кое-как раскрасил их цветными карандашами.
Пустяшное занятие, но лучше, чем ничего).
Днём же Конрад часами просиживал в Волшебной комнате, и думал о художественном наследии предков, замешанном на благоговении перед Богом, питавшем возвышенную мысль и смиренные, умеренные чувства. И всё отчётливей понимал он:
Художники не выражают боль. Боль разрушает организм, лишая человека энергии писать, энергии рисовать, энергии сочинять музыку. Энергии хватает лишь на сокрытие боли – не более.
Значит, надо искать допинг, наркотик, психостимулятор. Искать бабу, бутылку, бога. Впрочем, нашедший бабу и нашедший бутылку складывает амфибрахии, распределяет светотени и нанизывает гармонии ничуть не хуже нашедшего Бога. Так что и баба – бог, и бутылка – бог, а бог – баба с бутылкой.
Так рассуждал Конрад. За это рассуждение Бог не даст тебе ни бабы, ни бутылки. Так рассуждала Анна. Наверное, рассуждала – до мировоззренческих споров с постояльцем она не снисходила. Но как ещё могла рассуждать женщина, косящая под Христову невесту? А может, и в самом деле – Христова невеста…
Конраду было больно постольку, поскольку ему было больно. Анне было больно, поскольку Богу было больно. Конрад пыхтел, потел, пыжился, а не мог и двух шагов проползти. Анна летала. Конрад объяснял это так: я своей болью болен, а ты чужой, своя рубашка к землище тянет, чужая же размыкает. А Анна могла бы ответить: зато я Богу своему помогу, а ты сам себе фиг поможешь. Но Анна так не отвечала хотя бы потому, что весь этот отрывок, с точки зрения Упанишад или Дмитрия Шостаковича – чистейший вздор, чепуха, ересь, маразм, ерунда, лабуда и нонсенс (non-sence) – по английски буквально: нет-смысл.
И, не в силах приобщиться к Традиции, Конрад удирал из Волшебной Комнаты на чердак, где праведным сном дрыхли нетопыри, или в энигматический сад, где нежить-нечисть-нехристь втихомолку справляла басурманское Рождество.
Ибо у соседей в полный голос вопило радио. Под вой техно-диско маршировали белозубые ряженые святые, двухметровые Санта-клаусы в доспехах ледовых рыцарей, разрисованных рекламой пепси-колы, скользили по искусственному льду в своих «Ситроенах», запряжённых антилопами и набитых сэндвичами. Рождался непорочно зачатый Супермен, он же Дональд Дак.
Анна перед сном тоже бродила по саду, вопреки грохоту соседских динамиков, в шали поверх шубы, и терпеливо ждала, когда соседи улягутся, и можно будет взять в руки виолу. Ночи были звёздные, и Анна, противница коровьего молока, насыщалась молоком Большой Медведицы и сверяла свой курс с Полярной Звездой. Она, как обычно, всем своим видом показывала, что у её божества каждый божий день рождество, и она всецело готова служить ему и славить его. Конраду было интересно, чьей именно жрицей числит себя Анна, и однажды он даже прямо спросил её, кому она поклоняется. Анна посмотрела на спросившего с такой космической надменностью, что сразу стало ясно, сколь некорректным она полагает подобный вопрос.
– Есть безмерное… – начала она и тут же закончила: - Есть нечто.
«Чем наполнена безмерность? – уже молча вопрошал Конрад, глядя ей вслед. – Что есть нечто? Сосуд, полный неопределённых местоимений: нечто, что-то, какое-то… офигительно большое, охренительно светлое, беспредельно возвышенное… Нечто – оно никакущее. А есть деревянное, есть одеревенелое, есть стеклянное, есть остекленелое, есть каменное, есть окаменевшее… А сверх того ничто, что-то бесплотное, бестелесное… безучастное ли?..
Не говорите этого. Скажите «корабль», скажите «дом», скажите «сад». И если корабль, то где у него брамсель, где стаксель. А если это дом, сколько в нём этажей, есть ли водопровод. А если сад, то кто садовник и чем он удобряет почву…»
И когда заявлялся в гости Поручик, Конрад в бинокль наблюдал за Анной и не вслух приговаривал: «Гармонией обласканная, крылоногая, мудрогрудая… как ты чувствуешь себя под мусорными грудами отрядов рукокрылых, тупорылых, слеподырых?
Анна, не пускай этого сюда, нет, он ворог, он мусора ворох, он как подмоченный порох. Ты умеешь быть больше, сейчас надо быть больше, надо быть гольше – долой купальник, ложный моральник, облапил тебя охальник. Твоя радость: твоя лепость, твоя крепость – твоя ладность, твоя складность, твоя гордость, твоя хрупкость – отнюдь не глупость, а целокупность… ты, ты… Think of me[11]. Хоть немножечко…».
День отгорал. Закат был пурпурен и багрянист, а на небосводе уже зажглось заполошное полнощное светило. Менструации луны, месячные месяца. Показывал свой кроваво-красный язык Абсолют.
А потом окончательно темнело, высыпали светила поменьше. На кухне ходики мерно отсчитывали бег Хроноса, Конрад вкушал похлёбку, Анна же нечто вязала – не то шапку-балаклаву, не то чулок. Украдкой поглядывал на неё Конрад и переполнялся хамскими мыслями: кто ты, фемина нездешняя, недотрога неприкосновенная, сосуд скверны, со всех сторон запаянный? Верная дщерь Корделия, короля Лира потерявшая; девица Снегурочка, чужачка в царстве берендеевом; эллинская нимфа чернокудрая – есть ли у тебя суженый, творил ли кто с тобой прелюбы, обнимал ли кто тебя, лобзал ли, уестествлял ли? Или девство хранишь, назло поручикам да подполковникам, на радость небесным угодникам? Да была ли ты когда-нибудь девочкой? Играла ли в классики, скакала ли через резиночку, ездила ли верхом на папе мимо высоких трибун во время всенародных праздников? Была ли матерью целлулоидным дочкам? А повзрослев – носила ли во чреве всамделишных младенцев? Мечтала ли о них? Или премного преуспела в предохранении? Что это за Традиция, когда детей не рожают?
А ходики себе всё постукивают, светила всё люминесцируют… Успокойся, Конрад – Традиция на то и Традиция, что одновременно универсальная и – очень разная.
Правильно трещат поленья в правильно затопленной печи. Полыхают сполохи мирового пожара, демиурги демонизируют демос, уицраоры гаввах хавают. Женщины в шалях на богомолье тянутся, бесенята у них под юбками путаются. Анна и Конрад кашу-кулеш уплетают, пьют девясил да боярышник, всё своим чередом движется. Верной дорогой идёте, товарищи. Светопреставление откладывается на неопредёлённый срок.
Было время отходить ко сну – и вдруг Анна призвала Конрада к себе. Не в комнату, конечно, а в кухню, где она как раз мыла посуду после ужина.
– Ну что, Конрад, расскажите мне на сон грядущий про русскую литературу.
Конрад опешил и потупил очи.
– Давайте, давайте, – подбодрила его Анна. – Я её, разумеется, всю когда-то читала, но это было давно и неправда. Устройте уж мне бесплатный лекторий.
– Русская литература богата шедёврами. Всемирно классическое произведение «Годы учения Емели-мастера» – Пушкин написал.
– А про что этот Емеля-мастер?
– О! Он призывает милость к падшим.
Смущаясь и стесняясь, Конрад бубнил себе дальше. Потом ещё «Годы странствия» были, всё того же Емели. Опять же «Кошка-мурка, вещая каурка, с присовокуплением жизнеописания скомороха Ивана Кольцова». Это Гоголь. Лев Толстой, естественно: рóманы писал складные, но подмочил себе репутацию «Манифестом коммунистической партии». Само собой, Достоевский с его «Человеческой комедией заблуждений» – начало модернизма, русские цветы зла. Наконец, опупея «Человек без свойств» Макса Горького – штабель толстенных томов – гениальное название, не правда ли? Но гениально оно лишь в сочетании с означенным штабелем. Ну и т.д.
– Да, действительно могучая литература, ведь русский язык располагает к небывалой словесной мощи, – заключила Анна не то из слов Конрада, не то (что скорее всего) из припомненного собственного читательского опыта. – Блажен народ, порождающий таких титанов. Ну а про Россию как страну что вы расскажете?
Конрад, не вдруг подбирая слова, начал было повествование о райской державе России, о её златоглавых городах, посередь которых высятся нерушимые твердыни кремлей, о её пряничных деревнях, где маковки-луковки церквей осеняют резные палисады, о загадочных душах её обитателей, исполненных диковинных энтелехий, но на слове-то «энтелехия» и сломался: собеседница могла его не знать, а объяснить он не сумел:
– Ну бабочка когда из кокона вылетает... потенция кокона типа…
(«Господи, – подумал он тут же, – но кокон не обладает ни потенцией ни импотенцией». И умолк).
– В философии Аристотеля энтелехия, – как по учебнику отбарабанила Анна – это внутренняя сила, потенциально заключающая в себе цель и окончательный результат; например, душа есть первая энтелехия организма, в силу которой тело, располагающее лишь «способностью» жить, действительно живёт, пока оно соединено с душою.
– Вот-вот, – Конрад ухватился за спасительную соломинку. – Дело в том, что русские – это народ сплошных идеалистов. В смысле, у каждого русского человека есть идеал. И как правило, это идеал святого мученика, отчего в русском народе развит своеобразный культ страдания. Русский человек безудержен в созидании, но так же безудержен и в саморазрушении.
– Ну, саморазрушение, наверное, уже в прошлом, – возразила Анна. – В истекающем столетьи русский народ преуспел в созидании и воздвиг сверхдержаву, в которую рвутся все наши сограждане.
– Это оттого, – пояснил Конрад, – что в народе русском глубоко укреплено добротолюбие, сиречь любовь к добру. Душевность русского народа такова, что со временем русский человек вообще отвык делать ближнему гадости и предпочёл об этом самом ближнем заботиться. Бессребренники-инженеры придумывали умные машины, чтобы облегчать тяжкий труд рабочих, подвижники-врачи неустанно искали вакцины против смертельных болезней, самоотреченцы-педагоги неуклонно просвещали простой народ. И богоисполненный народ платил им сторицей, сам устремляясь к высотам знания. Удивительны ли небывалые успехи русских в науке и технике? А кроме того, атмосфера всеобщей душевности притягивала тысячи иноземцев, которые беспроблемно интегрировались в российский социум и обогащали его.
– Да-да, – задумчиво произнесла Анна. – Глубочайшая религиозность сформировала особый, православный этос с его приматом этического над эстетическим.
– Но и в сфере эстетики русский народ кое-чего добился, вы же не будете спорить! Одна федоскинская миниатюра чего стоит!
– Не только, не только! А Кандинский, Малевич, Филонов… – подхватила Анна.
– Кстати, если говорить о «русском экономическом чуде», – докторально добавил Конрад, – то надо иметь в виду ещё и склонность русских к общему делу, к сплочению всех народных сил, к соборности.
– И в этом плане даже традиционные недостатки русского быта и бытия: женственность менталитета, автократия, излишняя централизация, чрезмерная надёжа на царя-батюшку сработали не во вред, а во благо, – согласилась многомудрая Анна.
– А кстати, помните, вы нам рассказывали про Париж… – напомнила Анна после некоторой паузы. – Ну а в Китеже-то вы были? В столице России?
– Не был, – честно признался Конрад. – Далеко отсюда до озера Светлояр. Но я, естественно, фотографии видел, диапозитивы… Старый город великолепен – церкви двенадцатого – шестнадцатого веков. В новом городе одно время строили небоскрёбы, но сейчас там запрещено строить высотные здания – сплошь двухэтажные каменные избушки с узорчатыми наличниками, в которых доживают свой век богатые русские бабушки. Только негров в российских городах развелось много.
– Типун вам на язык. Афророссиян. Вы что, батенька, расист?
«Это она у отца своего научилась называть всех батеньками», – подумал Конрад и виновато изрёк:
– Ничего не имею против чернокожих, но мне как-то милее негры, которые остались в Африке.
– Что ж вы хотите, глобализация. И Россию вашу затронула. Тем более, русский народ – самый «всемирно открытый»…
– Погубит она её. Потеряет держава свою неповторимость и неподражаемость, – сказал Конрад с горечью.
– И останется одна-единственная неповторимая и неподражаемая страна, – нехорошо засмеялась Анна. – Наша. Пойдёмте спать, а завтра я вас буду учить топить печку. И вы мне чур вагон дров наколете.
К празднику Конрад вручил Анне плоские изображения зверей, давешней ночью выпиленных лобзиком. От Анны же ему досталось какое-то длиннополое одеяние, чтобы он поприличнее смотрелся за обеденным столом. Одеяние назвали лапсердаком. И в дополнение к нему получил Конрад несколько блоков сигарет с фильтром – очень кстати, ведь последнее время он курил махорку; собственноручно скрученные самокрутки то и дело распадались в его руках, а весь рот его вечно был в табаке. Теперь можно было вновь ощутить себя белым человеком.
Ещё Конрад настаивал на том, чтобы украсить голубую ель. Анна резонно спрашивала – как Конрад доберётся до верхушки.
– А зачем? Тем более верхушки две…
Действительно, голубая ель была двуствольной – одна толстенная боковая ветвь загнулась кверху и пошла в рост, конкурируя с основным стволом. Порешили разукрасить ближние ветки гирляндами, туда же повесили много-много разноцветных самосветящихся шаров и фигурки гимнастов из папье-маше – ёлочные игрушки соответственно тридцати- и семидесятилетней давности. Туда же, вопреки протестам Конрада, Анна привесила выпиленных им зверюшек. В общем, ёлка получилась на славу.
Прознав, что у Клиров свершилось диво дивное – наряженная ель, завистливые соседи, даже не просохнув, с утра толклись у врат дома и злобно тыкали пальцами в рукотворное чудо: дескать, довыёбываетесь.
От толпы зловредных соседей, правда, отделилась одна достаточно доброжелательная незнакомая тётка в засаленном тулупе и долго – в силу бездействия электрического звонка – докрикивалась до хозяев, что пришла-де с самыми мирными намерениями. Наконец, едва проснувшийся Конрад настороженно впустил её и проводил пред пресветлые очи Анны. Тётка рассказала, что она – директор местного сиротского приюта и премного наслышана о креативности семьи Клиров. Она попросила Анну и Конрада исполнить завтра для безродной детворы роли Снегурочки и Деда Мороза, а то других кандидатур в посёлке не сыскать, а из города давно уже артисты не едут. Костюмчики в подсобке от лучших времён завалялись, равно как и древняя книжка с текстами поздравлений.
Конрад начал было вопрошать, сгодится ли Дед Мороз без рокочущего баса, но Анна сразу прониклась к гостье и сказала, что они согласны.
Как ни силился Конрад в виде исключения заснуть ночью, ни хрена у него не вышло. А утренник начинался в девять, костюмироваться же надо было заранее. Пока Конрад без устали остервенело мастурбировал в своей каморке, Анна пекла пирожки, которые завтра, наряду с ненужными завалявшимися в доме игрушками, должны были достаться в подарок сироткам.
До сиротского дома был добрый километр, весь этот километр Конрад бубнил свою дед-морозью роль, а Анна шествовала, гордо подняв главу и подстёгивала еле ползущего спутника.
Сиротских домов по всей Стране Сволочей была тьма-тьмущая: родители массово отказывались от своего потомства; брать детей на баланс в иных кругах считалось вообще западло.
В эту ночь изумлённые соседи могли наблюдать изумительное зрелище – факельное шествие голоштанных сирот по снегу, планетарный караван малолетних изгоев, паломничество млечных чад параллельно звёздам. Сироты двигались по направлению к дому Клиров, потешно дрыгая членами и выкликая странные здравицы. Анна и Конрад не стремились урезонить и утихомирить разошедшихся деток, потому что праздник предполагался радостный.
Сироты – питомцы детских изоляторов, дефектологических интернатов, завсегдатаи карцеров и кабинетов экзекуции – дебилы, сорвиголовы, нигилисты, завзятые правонарушители – слушались этих блажных полуспятивших взрослых, потому как те умели ходить по небесному своду, чего не умели изуверы-воспитатели и изверги-учителя.
Впереди шёл путеводный Конрад и освещал им путь. Его плешивая голова короткими импульсами источала бенгальские огни. Путеводная Анна, босоногая, в длинной белой хламиде, с верёвочкой на голове и чётками в руке, периодически разражалась салютами. Конрад полушёпотом пел детям «Stairway to Heaven» и «No Quarter». Анна пела «Magnificat» и «Herr, unser Herrscher». Инструментальное сопровождение взяли на себя зодиакальные созвездия, туманности имени античных героев, а также сводный хор серафимов, херувимов и канонизованных юрод.
Вошед на Остров Традиции, сироты под руководством хозяев, принялись водить хороводы вокруг голубой ёлки и оглашать окрестность нестройным «O Tannenbaum…» Примерно в то время, когда в столице куранты двенадцатью гулкими ударами возвестили о наступлении нового календарного года, Конрад открыл какой-то шипучий суррогат, симулируя шампанское, и начал разливать тем, кто постарше. Анна тем временем безоглядно расходовала скудный запас пиротехники, разноцветными искрами с треском расписывая звёздное небо. Сироты счастливо визжали и валили друг дружку в сугробы. Когда хлопушки и ракеты закончились (а закончились они очень скоро), Анна вновь затянула жестокие романсы Иоганна Себастьяна Баха на слова Мартина Лютера, а напоследок Конрад сыграл на губах «Обнимитесь, квадрильоны!» на музыку Глинки.
Воспиталки из приюта, довольные тем, что им налили дешёвого портвейна – ничего другого в погребке Профессора не осталось – трижды почеломкались с хозяевами и лёгкими тумаками стали снаряжать разбушевавшихся детишек в обратный путь.
Войдя в дом, Анна сразу стала раздувать огонь и драить посуду, а Конрад при слабом свете керосинки водрузил на стену новый отрывной календарь. Он тоже хотел челомкнуться с Анной, но та напустила на себя обычную свою неприступность.
А так Конрад был рад, как встретил Новый год и, следовательно, как он его проведёт. В его жизни было много гораздо худших новогодий.
16. Книга легитимации
Свирепая стужа сковала посёлок. Окна в доме покрылись льдом, и сами в себе замкнулись его обитатели.
Они сходились только дважды в день – к обеду и к ужину (завтрак Конрад по традиции просыпал). Анна по-прежнему ворчала на Конрада за его свинячество и неопрятность, давала советы, как лучше топить печку, но всё это беззлобно, не то что раньше. Потом она шла колоть дрова, потому что Конрад не рубил поленья, а только портил их, откромсывая края.
Мороз-воевода правил бал. В тишине короткого дня Конрад пару раз проходил по аллее до водокачки – но было мертвецки тихо, только снег скрипел под валенками. Между тем, по данным Органов в посёлок должна была вернуться урла, и Конрад об этом помнил. Ни малейшего желания якшаться с этой публикой у него не было, и он, удовлетворённый, уходил домой несолоно хлебавши и долго отогревал заиндевевшие члены. В такую погоду ни один самый-рассамый нелюдь не станет тусоваться у водокачки.
С другой стороны – выполнение неприятного задания всё откладывалось, и это отзывалось в Конраде сосущей тревогой.
«А что в эти студёные дни делает Анна?»
Бывает, что Анна снуёт по дому со шваброй, тряпкой или молотком – моет-драит-латает. Бывает, кашеварит-стряпает. Бывает, что отлучается – потолкаться в очередях у сельпо (частенько мёрзнуть и стынуть в них она посылает и Конрада), чтобы отоварить (или не отоварить) положенные ей (а с подачи Поручика – и Конраду) продовольственные талоны (краюхи хлеба с отрубями, крупы да консервы – вот и всё, чем после трёх часов стояния можно разжиться). Бывает, она выходит в сад и быстрым шагом ходит по дорожкам, верно, прикидывает, что, где и как будет сажать, когда сойдут снега и дерева зазеленеют. По утрам, пока Конрад спит, она наверняка занимается йогой. Но это всё, в сущности, эпизоды – а ведь в сутках двадцать четыре часа, и на сон много тратить она не привыкла. Что происходит за закрытыми дверьми её безликой комнаты, где она при свечах коротает долгие вечера? Читает ли? Вяжет ли? Вышивает ли крестиком? (Пару вышитых крестиком салфеток Конрад в доме видел). Или – пишет? Если да, то что? Продолжение землемеровых странствий или что-то более злободневное?
Ведь Землемер, как узнавал, замерзая, Конрад во время стояния в тех же очередях, подпольно издаёт и распространяет собственную газету, рассылает воззвания и вербует людей. Не причастна ли Анна к его нелегальной деятельности? Нет ли у неё в центре посёлка конспиративных явок, не окликают ли её партийными кличками, не шепчут ли на ушко пароли? И если да, то почему бездействует Поручик? Не с его ли ведома творит Анна свою подпольную деятельность, если, конечно, она в самом деле творится наяву, а не во взвихрённом воображении Конрада?
Тайна за семью печатями сие есть. С Конрадом Анна и сорока слов в день не говорит – как правило, корит и журит его по привычке, но уже как-то машинально, а не гневно и злобно, как прежде. И Конрад не задаёт вопросов – боится, что в противном случае (а случай-то будет более чем противный) сгонят его отсюда, несмотря на патронаж Поручика, потому что если и нет у Анны далеко заходящих игр с Землемером, то с Поручиком наверняка есть. И возможно, существуют у Анны с Поручиком какие-то тайные планы, как использовать его, Конрада, и в любой час, в любой миг они могут осуществиться. Многознание чревато многими печалями, но ничего-не-знание чревато постоянным страхом, и лишь мощным нейролептикам под утро удаётся с ним сладить.
На тумбочке Конрада, где обычно громоздились сочинения алхимиков прошлого и химиков настоящего, прибавилась книга «Энциклопедия домашнего мастера». Конрад вдоль и поперёк черкал её химическим карандашом, обезображивая пышное подарочное издание. Вскоре от теории Конрад перешёл к практике.
Сперва он взялся починить дверную ручку. Для этого он всё развинтил и разложил фрагменты ручки в рядок. Завинчивание заново оказалось уже не столь победным. Вредный шуруп не повиновался крестовой отвёртке; она только и делала, что проворачивалась и соскальзывала. Шуруп не двигался.
Застав жильца за очередным мартышкиным трудом, Анна решительно сгребла в кучу все детали ручки и почти силой вырвала отвёртку из только-только замозолевших рук Конрада.
Тогда он вооружился пассатижами и стал вывинчивать уже ни на что не годный шуруп. Вскоре верхняя половина того отломилась, нижняя глубоко засела в теле двери. Тут опять случилась Анна. Тоном автодорожного инспектора она сказала:
– Право, я лучше сама. Вы бы лучше книги читали.
– Зачем? – будто бы простодушно удивился Конрад.
На самом деле, Анна попала в точку. Этой зимой возобновил Конрад чтение книг. Знал он, конечно, что в книжках всё – неправда, да вот вспомнил изрядное удовольствие от процесса поглощения текста, когда из малого набора букв родного алфавита складываются столь изящные конфигурации, что порой просто столбенеешь от внезапности.
Предпочитал он нынче – с Парацельса пошло – алхимические трактаты, тёмные и путаные, ничего путного уму не дающие, зато бередящие чувства – обоняния, осязания и даже слуха, поскольку названия алхимических инструментов и операций отдавались нежной музыкой в забитых серой ушах. Тем более, что речь шла не о трансмутациях металлов, как могло подуматься на первый взгляд, а об этапах становления нового качества из привычного человеческого материала. Конрад из своего собственного дефектного материала никакого иного качества получить не чаял, но было весьма забавно прочесть, как это у других получалось, из материала заведомо качественного, подвижного и податливого, так что слыхивали люди и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье и видывали девять бездн адовых и воссияние чинов ангельских в горних высях.
Прочёл он, в частности, о трёх стадиях превращения души на пути к самообретению и богопознанию, которые алхимики каждому интеллигентному человеку пройти предлагали. Сначала-де ударяется душа в нигредо («работу в чёрном») – пробудившийся человек развоплощается, ничтожится, в пороках и преступлениях ужасающих погрязает, умаляется ниже низкого, имечко своё забывает, в опущениях и опусканиях практикуется, богоданную искру в себе на все лады топчет, на простейшие элементы разлагается. А если не разложится, фиг вожделенный философский камень получит. И только потом уже альбедо начинается, «работа в белом», собирание отдельных элементов в новую, сильно улучшенную комбинацию, увязывание разрозненного, отстройка на пепелище, мобилизация всех креативных потенций, неуклонное восхождение к высшему. И в конце этого восхождения ждёт-де вознаграждение – малый эликсир, относительное, шаткое бессмертие, промежуточное блаженство. Но это ещё не всё – предстоит, засучив рукава и поплевав на ладони, приняться за рубедо, «работу в красном», шествовать в царство нерушимого абсолюта, брататься с солнцем и светилами, обуздывать последние необуздки и неувязки, разрешать последние непонятки, достигать полного единения с вечностью и бесконечностью. Выражением этого будет большой и толстый эликсирище, каковой и есть философский камень, познание всех и вся до последних глубин, до мозга костей, до сердцевины вещей, до самой сути.
Бред, конечно, но бред хорошо организованный, в велеречивые словеса облечённый, осенённый великолепием продуктивной фантазии. Поддерживает. Внушает.
Из художественной литературы предпочитал Конрад нынче тоже что-нибудь оккультное. Так, он впервые прочёл творения прочно забытого австрийского письменника Густава Майринка. Означенные творения оказались написаны астрально-гастрономическим штилем, который Конрад-читатель весьма жаловал. Но и содержание не отставало от формы. Особливо зацепила его небольшая новелла «Посещение И. Г. Оберейтом пиявок, уничтожающих время». Там речь шла о чуваке, который увидел въяве объекты своих желаний, и все эти объекты отвратительно лоснились, сочились и прыскали, обильно подпитываемые пустопорожней энергией желаний: жирные набрякшие вещи, распухшие откормленные морды родных и знакомых, разваренные телеса вожделенных женщин. В этом параллельной реальности правило безобразно обрюзгшее, оплывшее от пиршеств чудовище – двойник героя, сладострастно сосавший соки его желаний, стремлений и помыслов. Мораль: не желай. И будешь жить вечно.
Одно в этом повествовании смутило Конрада: по мере похищения у героя витальных сил инфернальным двойником, по мере того как тот жирел, герой хирел, сох, чах. Конрад же, при всех своих желаниях, оставался до уродства дороден. Девяносто килограмм сознания.
(Впрочем, на сей счёт он обольщался. В клировском доме обнаружились напольные весы, и когда он, наконец, собрался с духом и робко, на цыпочках ступил на них, стрелка нахально и бессовестно перемахнула отметку в центнер. Всё, что вытрясла армия (или что там было вместо оной?), отложилось вновь и уполторилось, почти удвоилось).
И ещё вставило Конраду небольшое эссе Генриха фон Клейста «О театре марионеток». В нём почти математически доказывалось, что существо, отягощённое рефлексией, не способно на красивые и рациональные телодвижения. Любой медведь по части искусства двигаться даст сто очков вперёд самому искусному фехтовальщику, а любая марионетка грацией переплюнет лучшего танцовщика императорских театров. В сфере свободного порхания по бытию божественное сродни кукольному – такой неопровержимо читался вывод. Конечно, Конрад сам давно что-то такое чувствовал, но рафинированное изящество хода клейстовой мысли особенно уязвило его собственное неизящество.
А вместе с тем по мере чтения росло в Конраде и глухое недовольство. А разве он сам – не марионетка? О нём ведь только так и можно – в страдательном залоге. (Колоссальный минус автору сего романа). Конрад не ел, не пил, не ходил, ничего вообще не делал. Им нечто ело, пило, ходило, делало, думало, хотело и не могло. Механизм. Совершенный инструмент. Óрган вопле- и соплеизвлечения. Генератор постояного стона.
Перестань жалеть себя. – А всё жалеется.
Перестань думать о… – А всё думается.
Перестань бояться… – Глагол на -ся, возвратный. Тоже неким боком страдательный залог. Победи страх, короче. Победи боль. Перестань болеть. Болит. Не побеждается, только ширится да углубляется. Усугубляется. Кем?
А ещё снова начал Конрад писать сам. Не просто чужие тексты переписывать, конспектировать и реферировать, как он это с «Книгой понятий» выделывал – нет, свои собственные, пусть и куцые фразы рожать и в давно заброшенную «Книгу легитимации» заносить.
Раз никаких доводов в пользу того, чтобы жить-выживать, мочь-перемогать тебе, Конрад Мартинсен, не отыскалось, не отыскивается и не отыщется, раз оправдание твоему существованию ни в одной умной книге и ни в одном человечьем сердце не значится, будем просто так почём зря переводить бумагу – может слова сами по себе во что-нибудь любопытное склеятся, а не склеятся – тем хуже для слов.
И изводил Конрад лист за листом в обильных излияниях – недостойных и непристойных.
Из «Книги легитимации»:
ПИСЬМА НИКОМУ
Книга эта пишется не чтобы дать чему-то выход или, упаси Господи, найти выход, а за отсутствием выхода.
В одиночной камере можно квалифицированно писать только об одиночной камере.
Мне кажется (кажется, к счастью, не мне первому), что меня против моей воли запихнули в поле некоей игры, где все кругом знают правила, а я нет. И никогда не суждено узнать правила, но подыгрывать суждено до гробовой крышки.
Впрочем, возможно, что все прочие тоже не знают правил, но они бессознательные марионетки, а я – сознательная, отсюда – я херовая марионетка, а они хорошие: у них механизм бесконечно ближе к совершенству. И чтобы понять меня, не стоит читать Клейста: я с самого начала, ещё до появления самосознания был безнадёжно испорченной марионеткой, а им никогда не потребуется осознать себя марионетками, вполне сносно сделанными. То есть причина и следствие в моём случае меняются местами: испорченность ведёт к зарождению самосознания, а не наоборот.
Моя вотчина – щель.
В этой стране живут люди хорошие и плохие. Хорошие совершают только мотивированные преступления, а плохие – ещё и немотивированные.
Наоборот! (Позднейшее примечание)
Не бывает инициации по разным разрядам. Инициация одна для всех. И кому какое дело, где и в чём ты перепрыгнул свою собственную планку…
Кроме того, инициация – это то, что нельзя отложить на потом. Она для всех в одну и ту же пору. Не созрел к определённому возрасту – будь готов вниз башкой со скалы. Нормы ГТО знают возрастные категории, но не весовые. Потому что на войне нет деления на весовые категории. В постиндустриальном, постисторическом, постдемократическом обществе, где бережно относятся к разного рода меньшинствам, нормы ГТО ещё работают. Но я живу на острове истории, где работают законы инициации и войны.
Но если ты вдруг почему-либо избежал инициации – не ищи её специально: сама придёт.
Я мог бы сказать: довольно мучился! – и убежать из страны мучений. Но я так не говорю, потому что достоверно не знаю, мучится ли здесь ещё кто-то. И не могу понять: они неспособны чувствовать боль или умеют эту боль скрывать? В первое поверить проще, и я заставлял себя поверить в это…
Впрочем, «не чувствовать» и «скрывать» – одно и то же.
Люди, естественно, нужны мне не сами по себе. Законы социума я хочу знать только, чтобы уметь ему сопротивляться. И всегда мне были нужны конкретные люди для защиты: каждая референтная группа есть своего рода мафиозный клан, и в трудную минуту клан может что-то подкинуть из общака или попробовать отмазать от неприятностей.
Проще говоря, я настолько беспомощен, что без других людей не могу шагу ступить: ни прокормить себя, ни от холода защитить, ни удовлетворить эстетическое чувство. Ну и сексуальное, самое главное.
Раньше-то меня тянуло к людям из других соображений: я питал иллюзию, что имею с людьми нечто общее. Теперь, похоже, они нужны мне в сугубо утилитарном плане.
Скажут: утилитарный интерес закрывает тебе путь к людям. Наоборот: отсутствие пути к людям обостряет утилитарный интерес.
Камнем преткновения для моих «спасителей», т.е. обвинителей, всегда был вопрос яйца и курицы, причины и следствия. Те выносили мне обвинительный приговор и предписывали исправительные меры. А я клянчил оправдательный приговор и адаптивные меры.
Не чувствовать того, что чувствуется, невозможно. Можно только не показывать свою боль миру. Да? То есть себя миру не показывать? Наглухо запереть двери, зашторить окна, вырубить свет. Не пойдёт. Без мира ты шагу ступить не сможешь. Надо чтобы тебя – увы, в страдательном залоге – кто-то как минимум кормил. И обогревал, в холодных-то широтах. Как минимум – о максимуме не заикайся. А кто будет кормить-обогревать здорового детину, с ногами, с руками, с действительным залогом? Во-во. Тут как минимум статус инвалида нужен.
Мужество – не сила. Мужество – готовность принять собственное бессилие.
Каждый может какое-то время следить за осанкой, походкой, речью, выражением лица, жестикуляцией и проч. Избранные могут следить за движением мысли, голосовых мышц, дыханием и т.п. Следить за всем сразу не может никто.
Людей не интересуют твои победы над собой. Потому как они недоказуемы. Их интересуют твои победы над другими… над ними, то есть.
Пустота считается сильнее всех, потому что не встречает сопротивления.
Полнота считается сильнее всех, потому что содержит любое сопротивление.
Впрочем, это одно и то же.
Кто же слабее всех? Как всегда, половинность. Но только она и имеет дело с сопротивлением, и только ей сила воистину требуется. Саша Чёрный: кто храбрее всех зверей? Лев? «Легко быть храбрым, если лапы шире швабры»… И сильным что-то уж чересчур легко.
Но кого скребёт?..
Безответственность не влечёт за собой безнаказанность.
Страна соединяет открытую всем ветрам бескрайность своих просторов с навязчивым стремлением экстремально скучить своё население. Арестанты в тюрьмах и солдаты в казармах лежат на нарах штабелями, большинство народа живёт в городах, соперничающих друг с другом своей средней этажностью, столичные жители часами маются в автомобильных пробках. Повальная агорафобия.
На сём Конрад прервался и пошёл на кухню выпить чаю.
Несмотря на поздний час, кухня была освещена.
Конрад насторожился.
Чирк – чиркнула по стене над лестницей тень чужого человека. Шаги наверху послышались, веские, мужские.
Конрад отпрянул – он понял, что в доме завелась ещё одна человеческая душа, и очень ему эта душа не понравилась.
И полночи горел наверху свет, и полночи Анна шепталась с незваным гостем о чём-то неизвестном. Конрад понимал, что в этих разговорах приоткрывается тайна Землемера и Алисы, но они велись за запертой дубовой дверью, и ни звука из-за неё не доносилось.
Затем свет погас, а спустя минуту зажёгся в комнате Анны. Конрад здраво рассудил, что если бы, кроме шептанья, в комнате пришельца происходило бы что-то ещё, Анна бы пошла мыться. Но в эту ночь в баню никто не ходил.
А впрочем, хрен их, женщин, знает, как у них всё делается.
Не в силах притворяться ничего не ведающим и не видевшим, он постучался к Анне и впрямую спросил её:
– У нас кто-то гостит? Или поселился?
– Не «у нас», а «у меня».
– Хорошо: у вас – кто-то гостит?
– Вы, конечно, не преминёте доложить об этом его благородию?
– Если вы мне честно скажете, кто это, я никому не доложу.
– Извольте – это один из людей Землемера. Он переночует и завтра уйдёт. Ешьте, Конрад. Я сегодня вам компании не составлю.
– Вы так рискуете…
– Хотите сказать – подвергаю вас риску?
– Допустим. Анна, а можно задать вам один давно волнующий меня вопрос?
– Я знаю, вы хотите спросить, кто написал книгу о Землемере.
– Именно.
– Но вы напрасно подумали, что я вам отвечу. Меньше знаешь – лучше спишь. А вам надо спать хорошо.
«Она написала, – подумал Конрад.
И всю ночь старался – по части изведённой бумаги и чернил – не отставать от хозяйки:
Боль не как центр универсума, а как универсум.
Впрочем, у Майринка в «Ангеле западного окна» «боль» – лишь псевдоним «страха»…
Я не знаю упоения в бою.
Я не могу научиться водить машину.
Все мои силы уходят на самоконтроль.
Во время моего преподавательства в вузе был у меня студент Винтер (или Винер), по совместительству крутой бизнесбой. И вот случился разбойный налёт на его фирму. Много чего попёрли и похерили; мальчик был в меру озабочен.
А тут я ему возьми да ляпни: я-дескать никогда бы не занялся тем, чем вы, сиречь бизнесом, ибо оно чревато вот тем вот, что случилось.
А он мне в ответ типа: ни хера, прорвёмся.
Сегодня я бы такого не ляпнул. Постыдился бы. А тогда – нет. Вот и подали на меня там вскоре студентики докладную: спесив-де.
Вообще мою трусость любили отождествлять со спесью. Эвона, какой: кичится трусостью, ишь ты!
Я – боец, ведь я боюсь.
А вот Поручик ничего не боится. Ergo не боец.
Ты пойдёшь себе дальше, не думая, что будет со мной. А я буду думать.
Я пишу только о себе, потому что не знаю чужих сюжетов, выражающих меня.
Всё что я знаю, это –
Конрад Мартинсен, гений бессилия.
Бессилие – не мать всех пороков, потому что все пороки, не подкреплённые силой, остаются в сфере помыслов. Но бессилие – самый страшный порок: оно попустительствует разгулу всех прочих.
Это с этической точки зрения. А с бытовой оно того хуже: бессилие то же самое, что иждивенчество. Но самый адский грех – осознанное бессилие. Ты так же грузишь окружающих бытовыми проблемами, как при неосознанном, но добавляешь на их горб ещё и экзистенциальные. Такого бремени ни один хребет долго не выдержит.
Когда я имел в виду (за незнанием других) одну лишь либеральную идеологию, я был вправе требовать от других всех человеческих прав и в меру грузить их своим бессилием. Но когда я узнал о традиционной идеологии, то понял, что ничего не вправе и должен радоваться уже тому, что меня до сих пор ещё не сбросили с высокой скалы в пропасть.
Я, не воин, живу в стране воинов. Женщины-воины хотят жить не как воины и за это воюют. А мужчины-воины воюют ради самой войны.
Конечно, есть исключения: иные женщины воюют ради войны, иные мужчины ради невоинской жизни.
Те, кто хочет когда-нибудь сойти с тропы войны, козлы: пока идёт война, никто не сойдёт с её тропы. А поскольку никто с тропы не сойдёт, она никогда не кончится.
Моя роль в этой войне – дармовое пушечное мясо. Женщины любят дармовщинку, и регулярно портят мне шкуру, заодно с мясом. А мужчинам так не интересно.
Но что они сделают, когда платное мясо кончится?
Те, кто призывает «жить проще», «смотреть на вещи проще» и т.п. предлагает, на деле, архисложный путь. Ведь тому, кто якобы «всё усложняет», так – проще. Вообще – следовать своей природе проще всего. А вот ломать себя – сложнее некуда.
Храброму ирою, одержимому запахом опасности, тоже можно указать, что избегать опасности – проще. Не поймёт.
Я, когда об ироях читаю или ироев вижу, ловлю этот момент самоломания: И если не нахожу, иройством не восхищаюсь. Нет заслуги льва в том, что он – лев. И не грех зайца в том, что – заяц. Естество.
Но это я так думаю.
Напрягает факт, что никто более так не думает. Не будь его (факта, то бишь), жил бы припеваючи, считал бы звёзды.
Я ведь записан в разряд не зайцев, но – человеков. А как таковой, лишён всех прав. Проблема моя всегда была – ЛЕГИТИМАЦИЯ СОБСТВЕННОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. Нелегитимно существую, вот в чём соль. Тридцать с лишним лет. Потому и самоидентификации нет. Не с чем.
Вне естества. Вне традиции. Вне каких-либо традиций. То есть, как ни крути, вне традиции.
Я, вместо чтоб себя ломать, бессознательно к одному стремился: среду обитания себе создавал. Дурак. Не сóздал.
А ломать себя – раньше надо было. Только глупый я был тогда. Или умный больно. По большому счёту, никто себя не ломает. Ломают извне, пока не сломаешься. А то, что у них ломкой зовётся – это не ломка, а реструктуризация. Разные в человеке струнки. Одни звенят, другие отдыхают. Но со временем жизнь звеневшие струны приглушит, по другим забряцает. А у меня струны легитимных регистров не звучат. Нет их, вроде.
Те же, что звучат, не находят резонанса. Вот и ихние струны во мне не резонируют.
Смердяков, который косит под Ивана Карамазова.
Я ищу себе адекватную форму.
…Конрад проснулся от непривычного звенящего стука. В окно стучали – призывно, приказно. Конрад кое-как влез в порты, пригладил пятернёй остатки волос – и трясущимися пальцами не сразу отодрал шпингалеты, всей силой навалившись на примёрзшую раму. Под окном стоял Поручик.
– Как жисть, господин Мартинсен?
– Служу Стране Сволочей. Который час, ваше благородие? – неслышно спросил Конрад.
(«Ушёл гость или он ещё здесь?»)
– Час – благословенный, – осклабился Поручик. – Вылезай, а то всю жизнь проспишь. Смотри, какова погодка! Мороз и солнце – день чудесный. Пошли на пруд, на коньках кататься!
– Чего?
– На коньках пошли кататься, говорю. Воскресенье.
– У м-меня нет к-коньков, – заикаясь прошамкал Конрад.
– Я тебе свои дам. У нас же вроде размер ноги одинаковый.
– Я н-не умею… к-кататься.
– Ах ну да. Ты только дрыхнуть умеешь, и то на психотропике, – весело ответил Поручик.
(«Это пиздец, – стучало в полусонной башке Конрада. – Они напали на след пришельца»).
– А г-где Ан… Ан… Анна? – только и спросил он вслух.
– Здесь я, здесь, – послышался звонкий голос Анны из глубины сада. – Не соблаговолите ли сопроводить нас в нашей прогулке?
– Холодно, – перестав заикаться, ответил Конрад. – Градусов двадцать.
Он надолго застыл в оконном проёме, словно испытывая на себе крепость двадцатиградусного мороза. («Неужто обошлось?» – в действительности соображал он).
– Тебе бы всё на печи лежать, – сказал Поручик, хотя Конрад спал не на печи, а на диване. – Считай, что это приказ. Если что – спиртом ототрём. Три минуты тебе на сборы.
Не через три, но через три с половиной минуты подло разбуженный, невыспатый Конрад выполз на крыльцо, упакованный по самые брови. Солнце ослепило его из самого зенита – был, наверное, полдень. Снег слюдяно искрился, отсвечивал всеми цветами радуги, бодро хрустел под ногами. На улице действительно никого не было, кроме Поручика и Анны. Оба были в серых спортивных рейтузах с начёсом, словно соревновались друг с другом в фигурной точёности ног, и в спортивных же шапочках с помпонами. На плечах у обоих висели крохотные рюкзачки – видимо, с инвентарём. На их молодёжно-физкультурном фоне грузный Конрад, одетый как для подлёдной рыбалки, выглядел дряхлым опустившимся дедом.
За воротами стояла служебная машина, но шофёра не было. Поручик сам сел за руль, привычно попрал стопами педали. Анна сидела на переднем сиденье вполоборота, снисходительно улыбаясь Конраду. Тот ёрзал на своём заднем, с трудом там помещаясь, туго и тупо соображая, что всё это значит. Гость от Землемера (или сам Землемер), очевидно, покинул дом Клиров ещё до рассвета – но в любом случае стоит восхититься завидным самообладанием Анны – она же была на волоске от… От гибели? Вряд ли. Поручик, при всей его нелюбви к Землемеру, испытывал к Анне симпатию, превосходящую требования долга. Но в любом случае, присутствие в доме постороннего не укрылось бы от него – в отличие от Конрада, нюхом он обладал отменным, вышколенным. И тогда бы… Но если бы он и обнаружил неладное, то случайно, нечаянно – пожаловал-то он совсем с другими намерениями, один и налегке.
«Кстати, ещё неизвестно, кому повезло, – рассуждал дальше Конрад, пока машина Поручика подскакивала на колдобинах. – Этот самый, который приходил, возможно, был бы рад повстречать офицера Органов в расслабленном состоянии духа и в одиночестве. Возможно, провидение спасло Поручика от смерти. Землемер, если верить книжке о нём, бил без промаха; о его подручных ходила та же слава».
Проезжали мимо аляповатых кирпичных дворцов «новых сволочей» – а дальше потянулись развалины некогда работавших предприятий – бетонные и железобетонные нагромождения с аварийной распальцовкой искривлённых арматурных прутьев и полусгнивших труб. Индустриальные руины были щедро расписаны граффити, где преобладали надписи «Свободу Землемеру» и «Смерть хачам». Сейчас эти дольмены цивилизационной экспансии выглядели не так жутко, будучи изрядно припорошены снегом, но летом, наверно, они смотрелись воистину апокалиптически. Зимнее солнце красило останки былого величия надломленной сверхдержавы в золотисто-розовый цвет и придавало ему незыблемо-вековечный облик. Конрад загрустил, оскорблённый в своих эстетических чувствах. В такой день ему больше хотелось бы увидеть Тюильри, Сан-Суси или Коломенское, а ещё больше – целомудренную снежную целину и зачарованные леса, полные спящих царевен. Но бетонные дебри успешно конкурировали с бывшими пашнями, поросшими плевелом, и чахлыми перелесками, где, кроме воронья, никто не обитал.
Рассыпающаяся кособокая церковь без крестов, примыкавшая к кладбищу энтузиастических амбиций, казалась его органичным элементом, нисколько не выделяясь на общем фоне.
Дорóгой Поручик веселил спутников правдивыми историями из жизни сограждан. Выживали люди кто как умел, проявляя чудеса смекалки и смётки. Голь на выдумки хитра, и пару раз эти выдумки вызывали у Анны самый искренний заливистый смех.
Конрад же тýпился и куксился: ему эпизоды, приводимые Поручиком лишний раз напоминали, что у Сволочей начисто отсутствовало правосознание.
Поручик скоро уловил это настроение пассажира и стал растравлять его память нехорошими вопросами, вновь проявляя хорошую осведомлённость в его биографии: а кто тебя отмазал от военной кафедры? А всегда ли ты платил за билет?
В конце концов Конрад был прижат к стенке и сам сформулировал то, к чему его подводил Поручик:
– Знаю, знаю… Законопослушность как высшая форма трусости.
Вскорости прибыли на пруд. Он отнюдь не представлял собой идеальный каток – снегом его присыпало неслабо, но Поручик достал из багажника складную лопатку и велел Конраду расчистить лёд. Конрад, кряхтя, принялся за работу, но Поручик отставил его от непосильных трудов уже спустя две минуты, смекнув, что такими темпами место не будет расчищено и к закату. В результате очень скоро свободным от снега оказался участок льда диаметром метров в тридцать – а Поручик разогрелся так, что скинул яркую спортивную куртку и остался в одном свитере.
Анна свой анорак не снимала, но и в нём она была стройна, как тростинка. Оба переобулись и ступили коньками на свежерасчищенный лёд. Вряд ли он отличался особой ровностью, но тем не менее Анна с Поручиком заскользили по нему как по зеркально гладкому. Конрад остался переминаться с ноги на ногу среди снегов и молча клясть на чём свет стоит кусачий морозец.
Нельзя сказать, чтобы два конькобежца были сильно искушены в фигурном катании, да и коньки к нему вряд ли были пригодные, но какие-то простейшие фигуры им делать удавалось – чертить восьмёрки-змейки, оттопыривать ноги «пистолетиком» и даже исполнить что-то вроде поддержки – после очередного пируэта Анна порхнула в руки Поручику, и тот, ни на миг не теряя равновесия, изящно вздыбил её надо льдом.
Наблюдая сие, Конрад возревновал. Причём ещё более, чем зрелище грубого мужлана с трепетной Анной на руках, резанула его внезапная мысль: а кто же всё-таки сегодня ночевал на Острове? А ну как нынешний фигурист зашёл в дом отнюдь не сегодня утром, а очень даже вчера?.. И ревнивец заскрежетал дырявыми зубищами и затопал ножищами, словно намереваясь разрушить ледовую гармонию и стать на катке третьим.
И Конрад таки выскочил на лёд и кинулся на Поручика с кулаками, а тот лишь за руки его схватил и давай вертеться вокруг своей оси. А Конрад вокруг него по орбите, словно Плутон вокруг Солнца. Только подскакивает да воздух ногами молотит; раз упал, так как двумя ногами сразу дрыгнуть пытался – поднял его задорно вращающийся Поручик; два упал, так как голова закружилась, – а Поручик его по льду одной рукой по кругу волочит, тодес Родниной и Зайцева изображает. Мёртвой хваткой Зайцев Роднину держит; «Пусти, гад», – сдавленно молит Роднина. Зайцев улыбается одними глазами. Анна, обычно такая сдержанная, заливисто хохочет. Наконец, Зайцев отпускает Роднину. Конрад на брюхе валится на лёд, перед глазами бешено вращаются вокруг него Анна с Поручиком, теперь они хохочут дуэтом, а Конрад от скорости головокружения слышит хохочущий хор семи чинов ангельских и легиона вельзевулова: и глубже, в самых недрах, и выше, в самом зените…
– Суки, – шепчет он, плашмя распластавшись на Земле. Когда головокружение проходит, он начинает извиваться, всё интенсивнее; затем садится, трясёт головой и выдыхает: «Хха!» Ххаркотина летит оземь, как метеорит. Анна и Поручик едут себе по кругу, как ни в чём не бывало. Конрад сучит ногами по льду, оступаясь в снег и беззвучно бормочет: «Ха-ха. Хи-хи. Хе-хе. Мяо-Яо. Пол Пот. Лао Цзы…»
Самое главное – Поручик словно и не понял, что Конрад с ним драться полез. Думал, он так поиграться с ним решил, вот и поигрался в ответ. А может, всё понял, да виду не подал.
После катанья раскрасневшийся Поручик отвёз раскрасневшуюся Анну и посиневшего Конрада домой. Он долго махал Анне рукой, и Анна тоже послала ему нечто типа воздушного поцелуя. Потом он сел в авто и уехал.
Отогреваясь, Конрад думал: не расспросить ли Анну подробней о личности давеча ночевавшего в доме, но понял, что тем самым лишь самого себя поставит в глупое положение. Анна же разогрела морковный кофе (другого в Стране Сволочей не осталось) и, как ни в чём не бывало, принялась отпаивать Конрада и приводить его в более-менее розовый вид.
Как вдруг ахнула и стремглав бросилась в сени. Конрад, как ни устал, этим ахом был сдёрнут с лавки и последовал за хозяйкой.
Та же молниеносно сдёрнула с вешалки чей-то во всех отношениях неприметный шарф. Конрад успел только заметить, что шарф судя по всему, мужской. Значит, незнакомец канул в неизвестность без шарфа? Да был ли мальчик-то?
Более того: в тех же сенях от внезапно позорчевшего ока Конрада не укрылась пепельница с шестью или семью бычками, каждый – не здешнего производства, с фильтром. А после ужина Анна без лишних слов выдала ему несколько сигарет с таким же фильтром. Поручик же, насколько было известно Конраду, не курил и выдавал ему трофейные отечественные без фильтра, от которых рот к концу курительной сессии изрядно забивался травой. Значит, напраслину возвёл на Анну с Поручиком ревнивец с больной фантазией?
Весь вечер и полночи соображал Конрад, где он видел подобный шарф. Естественно, он не успел как следует рассмотреть способ его вязки и рисунок. Определённо, каких-то кричащих подробностей, типа изображений змеи, он не содержал – однако ж, Конрад искал похожий сине-коричневый узор на фотографиях в книжке про Землемера (фотографии были цветные).
Землемер с приближёнными на митинге. Землемер с приближёнными на открытии детских яслей. Землемер с приближёнными на скачках. Ряд фоток действительно относился к холодному времени года, и многие мужчины были в шарфах – но ни Землемер, ни кто-либо из его свиты не щеголял в сине-коричневом, все шарфы были однотонные, под полувоенную униформу благодетеля губернии.
И вдруг Конрада словно в темя клюнуло. Он вспомнил, когда и где он видел такой шарф. В декабре. В полицейском участке, во время визита к Поручику, когда вырубилось электричество. Конец такого шарфа выглядывал из-под брезента, которым было накрыто бездыханное… бездыханное ли?.. тело якобы учителя физкультуры из землемерного училища.
Возможно ли, что накрытое брезентом тело не представляло из себя труп, а принадлежало очухивающемуся допрашиваемому во время перерыва в допросе? Допрос с пристрастием – он как обычно проводится? Мучают-пытают до полусмерти, до потери сознания, до полного беспамятства – а затем отхаживают-отпаивают и по новой пытают-мучают. Но в каком же бессознательстве должен был пребывать несчастный физрук, если Поручик с Конрадом успели за это время перетереть столько тем?
А может быть, пытаемый не всё это время был в отключке? Может быть даже, Поручик и предназначал всё сказанное тогда – чутким ушам безмолвного присутствующего? А может быть, тот, под брезентом, и не был так уж страшно замучен? Может быть, Поручик только кичился своим умением вести допрос на примере первого увиденного Конрадом арестанта? Иначе как же арестованный освободился? Неужели Поручик только и делает, что упускает людей из клана Землемера?
Паранойя, в натуре паранойя… Всё специально для тебя разыграно, Конрад, и жертвы в сговоре с палачами спектакли для тебя устраивают. Но всё равно – возможно ли, чтобы давешней ночью в доме ночевал мастер-лучник из губернского города? Не он ли прошлой весной проводил на Острове долгое время, что стыкуется с давним рассказом поселкового сторожа?
А такие шарфы не каждый день наблюдаются нами на встречных. Местные мужчины вообще предпочитают ходить без шарфов, в ватниках, застёгнутых до самого подбородка. Или не так? Можно подумать, Конрад хоть раз в жизни обращал внимание на мужские шарфы…
Сам-то он раньше шарфы не носил, пусть драная глотка и требовала укрытия. Не считал это красивым. И только находясь на Острове, в конце ноября, оставшись один, наплевал на всё и стал носить на шее сначала махровое полотенце, а затем настоящие шарфы, которые сам откопал на полках платяных шкафов. Сине-коричневых среди них не было.
И тут Конрада клюнуло. Как он мог забыть про ещё один шарф? Тот самый, который подарила ему в сентябре добрая вязальщица! Помнится, он сразу его отверг – непушистый, ненадёжный, не способный защитить беспомощную глотку от местных суровых ветров. И он был неброской расцветки – но, кажись, преобладали синие и коричневые цвета. Кажись? Наверное… Он точно не помнил. Он не обратил тогда внимания. Он сразу сунул этот шарф в сенной шкаф и забыл про него.
Значит, он и по сей день должен быть здесь.
Среди ночи Конрад, дрожа, выполз из своей перетопленной комнаты в совершенно выстуженные сени, подставил себе табурет и, вскарабкавшись на него, начал шарить-шуровать на верхней полке шкафа.
Один за другим его рука нащупывала и сбрасывала на пол невзрачные и немодные аксессуары – косынки, горжетки, беретки, варежки. Сюда давно не подкладывали нафталин, и многие вещи были изрядно поедены молью. Осязать их – смёрзшиеся, свалявшиеся, колючие – казалось особенно противным...
Ему попадалось самое разнообразное барахло, но искомое кашне так и не нашлось. Неужто Анна так перепугалась, что устранила нежелательный вещдок?
И какова роль хозяйки серпентария, с виду столь простодушной и недалёкой, в складывающейся многозвенной цепочке?
Вязальщица… директриса… физрук…
Ясно было одно: кто бы ни был приходивший к Анне – Поручику всё равно ни слова говорить нельзя.
Но что, если тот сам спросит?
Однако ж, время шло, Поручик не раз гостил на Острове и ничего Конрада не спрашивал. Только всё напоминал, что со дня на день у него вот-вот будет работка – опасная и ответственная. А как-то раз в его присутствии даже сказал хозяйке:
– Анна, вы от местной урлы ещё натерпитесь. Хотите, когда они вернутся, я их сразу всех ликвидирую? Досрочно в армию, например, призову? Я серьёзно.
– Не надо, – ответила Анна и спустя несколько секунд добавила: – Я тоже серьёзно.
Когда Поручик ушёл, что-то стукнуло в окно. Анна и Конрад вздрогнули и застыли.
Это не могла быть ветвь дерева, навряд ли. Деревья так близко от дома не росли.
Так обратила на себя внимание душа Профессора, головокружительно устремляясь в тёмный туннель навстречу бытию света.
17. Парниковый эффект
В конце января зима была уже не зима. Архитектурную, скульптурную и ювелирную продукцию Деда Мороза вовсю принялся крушить зловредный волшебник по имени Парниковый Эффект. Он превратил сугробы в кашу-малашу, извёл чахлые сосульки, белое сделал грязно-серым…. Ртутный столбик доисторического термометра застолбил отметку 5º по Реомюру и 7º по Цельсию. Глобальное потепление распространилось даже на самую отъявленную (отпавшую от яви) периферию глобуса.
Голые беззащитные деревья, обнажённая мокрая грязь, беспрестанная капель-моросель, бесцветное небо. Ничто не достойно упоминания. Ничего не происходит. Обитатели Острова с удовольствием впали бы в берложную спячку, но вынуждены шатунами шататься по унылому пейзажу, отринув взаимодействие друг с другом и с миром. До лучших времён.
18. Масленица
На Остров Традиции вернулись морозы, сковали по новой земли и воды, опять выпало снега видимо-невидимо, опять намело сугробы в пол-роста человеческого. Зимы в этих краях долгие, если и отступят – своё возьмут с лихвой.
Треск стоял над Островом – трескучими были морозы, и уютно трещали поленья в печи.
На заиндевелых окнах рисовались причудливые узоры, и в узорах этих угадывались контуры Традиции, её ревнителей и радетелей, её воинов и монахов, перебивая нескончаемый фильм о тебе самом, замутняя изображение и заглушая звук, – шли адепты и апологеты, неофиты и прозелиты, вытягивая вперёд израненные, изъязвлённые руки, сжимающие хоругви и знамёна, иконы и транспаранты, мечи и орала, булавы и палицы, пищали и мушкеты. В рядах этих измождённых, но непреклонных бойцов нет-нет, да шествовали также совсем безоружные, без знаков различия – книжники и грамотеи, начётчики и библиофилы, букинисты и антиквары, иные в камзолах, иные в сюртуках, иные в кургузых пиджаках – воплощая собой связь времён, цементируя прорехи в истории, конопатя лакуны в текстах, отмеривая циклы и эоны, замыкая круги и возвещая начала. Они порой не попадали в такт, нарушали строй, демонстрируя нехватку чувства локтя и чувства ритма. Но они, как и все их более сплочённые и подкованные соратники были – устремлены. И стремлением своим разжигали в Конраде также нечто, смахивающее на стремление. На томление, по крайней мере.
И это были блаженнейшие дни: когда чужое страдание переполняло тебя до краёв. И интроверсия твоя непреложная давала трещины, и в эти трещины проникало чувство причастности к чему-то большему, чему-то внеположенному тебе, и ломились в бреши войска не-тебя, но воевать шли они словно бы где-то в чём-то даже за тебя, потому что ты был захвачен их походами и перестроениями. Маршировали легионы и фаланги, батальоны и дружины, ржали кони, трубили боевые слоны, лаяли адские псы и заливались райские птицы. Били тамтамы, свистели флейты, гудели фанфары, вплетаясь в полифонию Музыки Сфер, выстраивая прихотливые лады и звукоряды, сплетаясь в случайные созвучия и проходящие аккорды, тяготеющие, впрочем, к единой, хоть и неслышной тонике. А по силовым линиям и гравитационным каналам вихрились сгустки майи и фата-морганы, иллюзий и аллюзий, ассоциаций и ассонансов, скользя и утанцовывая к невидимому центру. К Великой Пустоте, роднику и хранилищу бесчисленных смыслов.
И Конрад устремлялся, увлекался, вписывался в эти орнаменты и туманности, по-медвежьи отплясывая свою нехитрую, но нехилую партию. Барахлила дыхалка, заплетались ноги, крýгом шёл вестибулярий – ан в хороводе всеобщего угадывались просветы и паузы для сольных поскакиваний Конрада. Прыг-скок, тритатушки-тата, ни одна блоха не плоха, сами с усами…
Господи! Какая экстраверсия нужна для усвоения традиции! Какое безостаточное перевоплощение в героев прошлых столетий, какое полное растворение в отживших своё дерзаниях и догматах, какое глубинное погружение в мёртвые лексемы и заглохшие фонемы! А вишь ты – отстегнув сознание да отключив контроль, можно тем не менее протиснуться поближе к центру зала, к центру бала, к центру вселенского концерта…
Кто правит балом?
Главное – не спрашивай.
Нет, нет, нет – ведь ты не хотел быть ни президентом компании, ни героем войны, ни серийным убивцем. В тщетных тщедушных мечтах своих ты хотел быть странствующим бардом, менестрелем, миннезингером а-ля Ганс Сакс или Боб Дилан, ты хотел быть площадным акробатом, не обязательно – канатоходцем… так, кувыркателем, народным увеселителем. Так покувыркайся на страницах книг из анналов Волшебной Комнаты, из запасников Острова. Вспомни юность.
Ночи напролёт – беседы с Кафкой, Гессе, Воннегутом, полузапретным Кьеркегором под комментарий Летова Егора. Так вот и сейчас: погуторь с Махабхаратой, окликни Альбертуса Магнуса, брось кости с И Цзин. Поиграй в бисер, покуда волны сопредельных морей не захлестнули Остров Традиции.
А когда наскучит, надоест, настоебенит – возьмись за Книгу Понятий и рахитичным инфантильным почерком неуспевающего пятиклассника перепиши в неё очередную главу из Приключений Землемера. Прикоснись к современности, к ещё не затухшему до конца недавнему дню, определяющему день нынешний:
Из «Книги понятий»:
За убийство Стива Бэнкса и вдовы Дэвидсон Землемеру светило пожизненное. Правда, арестовать злодея было не так просто – под его началом значилось несколько десятков стволов, и полиция передала дело в спецслужбы, которые рьяно принялись разрабатывать спецоперацию.
Но когда, наконец, толпы броненосных спецагентов ворвались в загородный сквот бунтовщика – а Землемер был именно бунтовщик, а не простой уголовник – их взгляду предстало жалкое зрелище: несколько обкуренных подростков и столь же обкуренных девиц. Поскольку лёгкие наркотики в стране были с недавних пор легализованы, инкриминировать этим безопасным тинэйджерам что-либо серьёзное не представилось возможным. Всё оружие куда-то подевалось, как куда-то подевались и совершеннолетние фигуранты нового «дела Землемера». Спецслужбы в свободном мире не привыкли громить крупные вооружённые бандформирования, и потому провал операции был легко объясним.
Ничего не оставалось как отлавливать членов банды по одному. Они даже стали иной раз попадаться, сплошь представители коренной национальности – но что серьёзного могли им вменить в вину? По всем данным, оба убийства совершили иммигранты – а вот те-то как раз как сквозь землю провалились. У них, конечно, было много друзей и родственников, да и просто сочувствующих, но за сочувствие по законам свободного мира в тюрьму не сажают. Сам Землемер и его ближайшие подручные с горизонта исчезли.
Интерпол разнервничался, переживая за честь мундира, но вскоре всё самым прозаичным образом объяснилось. Оказалось, что Землемер и группа приближённых к нему боевиков воспользовались открытостью границ между отдельными странами и беспрепятственно добрались до родной для них Страны Сволочей. Пограничная служба была, очевидно, подкуплена – и негодяи давным-давно инфильтрировались в родное пространство, в котором давно были наслышаны об их подвигах и существовало немало кругов, готовых приютить героев Зарубежья и оказать им всемерную поддержку.
Вскоре в свободном мире получило распространение видеообращение Землемера, текст которого также был напечатан в многочисленных листовках: «Ваши дни сочтены, – писал преступник номер один. – Ваше зажравшееся и прогнившее общество вскорости будет уничтожено мощной волной с Востока, вот только сначала мы наведём надлежащий порядок на нём самом». Пока полиция безуспешно пыталась выявить источники рассылки видеокассет и листовок, аналитики сходились в том, что Землемер и его присные пополнили обширные ряды сволочного криминалитета и включились в борьбу за передел собственности и власти на своей исторической родине.
Не прошло и месяца, как сводками о деяниях Землемера в Стране Сволочей запестрели и тамошние газеты. Сначала один за другим были жестоко убиты – не убиты, а скорее замучены – все соученики главаря по земучилищу в N**. Затем банда организовала в губернии серию разбойных нападений на инкассаторов. А затем в своём славившемся неприступностью особняке был ликвидирован самый богатый человек края. Землемер не таился, дерзко «засвечивался», оставляя свою подпись – изображение змеи – на каждом новом трупе. Вскоре слава его перешагнула границы губернии, и к нему примыкали сотни и тысячи новых сторонников – преимущественно молодёжь из беднейших слоёв населения.
Регулярные войска долго не смели выступить против Землемера, так как его воинство вскоре составило чуть ли не всё мужское население родной губернии. Популярность народа Землемер снискал робингудовскими акциями вроде налётов на дома и офисы коррумпированных чиновников и неправедных судей, в ходе которых в помещениях уничтожалось всё живое, а имущество нещадно экспроприировалось. Именно родственники погибавших вместе с работодателями секретарш и уборщиц поначалу составили некоторое число недовольных – но Землемер сначала нашёл способ замирять их, делясь частью добычи, а затем стал наносить более «точечные» удары по народным захребетникам. Поначалу деятельность Землемера привела к анархии и безвластию в губернии, так как никто не решался занимать начальственные посты, но затем атаман стал назначать на руководящие должности своих людей. Если же кто-то из них бывал уличён в вымогательстве или излишней пристрастности, карающая десница атамана тут же безжалостно настигала его. Сам Землемер в стремлении к роскоши и излишествам замечен не был, в расхищаемых им виллах никогда не жил, ночевал, где придётся, благодаря чему затруднялись покушения на его жизнь. Тем не менее покушений этих только за первые полгода после возвращения Землемера из-за кордона было никак не меньше семи, и дважды атаман был серьёзно ранен, но молитвами верующих старушек и стараниями местных лекарей оба раза исцелялся.
Через год после появления отряда реэмигрантов в губернии было установлено практически неподконтрольное Центру, автономное правление, подчинявшееся лишь Землемеру. Местная полиция присягнула на верность ему, солдаты из дислоцированных на территории губернии воинских частей были распущены по домам. Другое дело, что в этой губернии, изрядно удалённой от границ и стратегически важных центров, войск никогда не было много. Творившееся на территории, контролируемой Землемером, постепенно убеждало центр, увязший в боях с другими бандформированиями на других территориях, что часть правительственных войск должна быть переброшена в этот забытый Богом край, почти безболезненно отколовшийся от империи.
Блокада губернии привела к голоду. Была ужесточена карточная система, строго регулирующая отпуск продовольствия в одни руки. Спекуляция пресекалась на корню – сначала самостийных торговцев бросали в казематы, кишащие ядовитыми змеями, потом змеиное мясо пришлось раздать народу и выдумывать новые казни. Впрочем, на выдумки Землемер был неистощим.
Однажды местные жительницы организовали что-то вроде «марша пустых кастрюль». Участвовало в нём всего с десяток исхудалых простоволосых баб – народ Страны Сволочей по традиции был в массе своей чужд гражданских инициатив. Демонстрантки призывали Землемера пойти на компромисс с федералами и открыть каналы для поступления продуктов. Ежедневные полфунта хлеба из отрубей на душу населения привели к повальному мору. Женщины были даже не в силах внятно кричать, кроме, может быть, одной, самой активной.
Землемер приказал арестовать смутьянку и собрать народ – но не на главной площади, а на окраинной заставе, ощерившейся пушками на случай атаки федералов.
– Чего ты хочешь, тётка? – спросил Землемер негромко.
– Хлеба, – прошептала активистка.
– Будет тебе хлеб, – пообещал Землемер.
В одну из пушек засыпали зерно из экстренных губернских запасов. Почти не сопротивлявшуюся женщину за подмышки привязали к стволу со стороны жерла. Землемер обвёл народ ясным взором и скомандовал «Пли!»
Конрад понял, что во время осеннего визита в губернский город он застал его далеко не в худшем положении. По крайней мере, маргарин уже можно было купить без проблем, да и чёрный рынок возобновился. Вот только память о Землемере была ещё свежа, и книжка о нём невозбранно продавалась в книжном киоске. Натали недоглядела?
Однажды Анна пригласила Конрада зайти к ней в комнату. Впервые за всё время его пребывания на Острове. Как мы помним, он в этой комнате уже однажды был и не рассчитывал увидеть что-то неожиданное. Однако ж, увидел. В дальнем углу высилась аккуратная стопка натянутых на доски и заключённых в рамки холстов. Анна вскарабкалась на табуретку с молотком в руках и велела Конраду держать гвозди и подавать ей холсты. Конрад истуканом стоял внизу и рассеянно подавал Анне то, что она просила, а сам неотрывно таращился на вновь созданные картины. Сомнений не было, что долгими морозными вечерами Анна не теряла времени даром и без устали плодила пастельные артефакты. Если бы Конрад был повнимательней, он бы наверняка прежде не раз заметил бы следы пастели на руках Анны, а то и на её фартуке – но наблюдательностью боженька Конрада, видно, обидел, как, впрочем, и всем прочим.
Под мерный стук Анниного молотка Конрад взирал на экспрессионистические ландшафты и импрессионистические натюрморты. В натюрмортах он ничего не петрил, не догоняя даже, зачем вообще существует такой бездушный и беспредметный живописный жанр, а вот пейзажи в исполнении хозяйки впечатлили его не на шутку. Большей частью это были изображения местности как бы в окрестностях посёлка – но не обязательно заснеженной, кое-где деревья были покрыты листьями, значит, память Анны прочно удерживала иные, минувшие времена года. Правда, кое-где над сирыми перелесками высились немыслимые в этих краях синие горы, а порой кое-где мелькали человеческие фигуры, очертаниями лишь отдалённо напоминавшие аборигенов: к их обычной сутулости добавлялась какая-то смелая порывистость, сокровенная полётность. Всё вместе производило где-то даже натуралистическое впечатление, но в то же время ему была присуща и отчуждённая космичность, словно родной пейзаж по случайности переселился на Марс или Луну; живость правдоподобия небывалым образом сочеталась с мертвизной сумеречных грёз. На многих холстах присутствовали птицы – где-то еле угадываемые силуэты в напряжённо-сиреневом небе, а где-то распростёртые по всему переднему плану крылатые тела, вроде готовые взмыть ввысь, но по недоразумению пребывающие в плену земного притяжения.
Одна картинка была не похожа на все остальные. В хитросплетении прямых и извилистых линий рисовался покосившийся и неотёсанный крест, на котором висел кто-то распятый. Члены и одежда казнённого были выписаны с нарочитой небрежностью, зато лицо его, непропорционально длинное, напомнило Конраду фотопортреты из книги о Землемере. То есть, нельзя было с уверенностью сказать, что на кресте висит именно Землемер, но отдалённое сходство с книжным персонажем было всё же неоспоримо. Человек на кресте – как бы Землемер – по всему судя, чувствовал себя в неестественном положении на редкость удобно, словно всю жизнь только и мечтал взгромоздиться на древнеримскую виселицу и обрести на ней своё итоговое равновесие и покой.
По краям импровизированной Голгофы располагались фигуры, прорисованные весьма смутно – тем не менее, в одной, женской, невзирая на покрытую голову и невнятный силуэт, читалась горделивая повадка самой Анны, а в другой, мужской, расположенной и вовсе спиной к зрителю, Конраду померещилась бравая выправка Поручика. Старец, напротив, обращённый лицом к созерцателю, в свою очередь, обнаруживал однозначное сходство с покойным Профессором, даром что на его носу не было очков. От всех этих персонажей веяло глубочайшим удовлетворением, словно распятое состояние центрального персонажа отвечало их глубочайшим чаяниям.
Но самое главное – по краю картины ползли, кусая друг друга за хвосты длиннющие змеи. Конрад не сразу заметил их, сочтя невинным орнаментом. Но когда заметил, в ужасе застыл и задрожал всеми поджилками. И ушла голова Конрада в плечи, а душа в пятки, и все разом молитвы припомнились ему, и липкий пот заструился по спине. Ползучие твари были выписаны с такой тщательностью, что каждая чешуйка блестела иначе, чем соседняя, и каждый раздвоенный язык словно свешивался с картины, чтобы лизнуть оторопелого зрителя, и каждый гипнотический глаз без век пригвождал его к полу – казалось, навечно. Насилу Конрад отвёл собственный взгляд, но на радужной оболочке надолго сохранились все извивы и изгибы богомерзких аспидов.
Рисовать Анна умела.
Когда комната окончательно приняла вид картинной галереи, Конрад протяжно изрёк:
– Здо-орово. Как вы это всё… лихо рисуете… Я бы тоже так хотел.
– Что мешает? – сказала Анна. – Терпение и труд всё перетрут.
Конрад хотел было ответить, что держал карандаш в руках чаще, чем она – садовую тяпку, но не решился. Вместо этого он отважился на куда более отважное:
– У этого распятого… лицо… ну о-очень знакомое.
– Вы хотите сказать – он напоминает Землемера? – буднично откликнулась Анна. – Соц-артовский приём. Мои картинки очень эклектичны, вы не находите?
Но Конрад уже перешёл Рубикон:
– А вы ведь были с ним знакомы? Не отпирайтесь…
– Вот ещё, буду я перед вами отпираться… Вся губерния с ним знакома. Почему я должна быть исключением?
– Где-то он сейчас…
– Где-то. Ему наверняка есть, где укрыться. Хотя я не исключаю, что он мог податься в столицу. Губернский уровень он, судя по всему, перерос.
– Вот как… Он что же – в верховные правители метит?
– Я не интересуюсь политикой, – заученно ответила Анна. – Но говорят, у него есть харизма.
Конрад вдруг поджилками и подкоркой ощутил, что настал час задать решающий вопрос:
– Простите, Анна… Я понимаю, как вам больно и горько, но… Землемер… вашу сестру… – ???
– Какой лабуды вы наслушались, Конрад! Раз и навсегда – нет. Вы же нахватанный, значит, в курсе, какой смертью погибла моя сестра.
– Землемер всюду оставлял свой знак «змея»… Фаллический знак. Как и «стрела»…
– Однако ж, стрелами он никого не убивал.
– Он вообще… поднимал руку на женщин?
– Да, он отправил к праотцам пару чиновниц и прокурорш. Но они для него стояли в одном ряду с чиновниками и прокурорами – мужчинами.
– А секретарши и уборщицы, которых устраняли вместе с боссами?
– Это была самодеятельность подручных Землемера; он сам приказов о ликвидации всех подряд не давал. И строго наказывал тех, кто превышал, так сказать, полномочия.
– А вообще он с женщинами много… общался?
– Но вы же знаете о его увечье…
– В том-то и дело! Он же мог как-то противоестественно удовлетворять потребности.
– Как вы себе это мыслите?.. И вообще – его местопребывание постоянно было засекречено. Вот в …-ской губернии к местному вору в законе девушек приводили. Матери. Для улучшения породы, как говорят.
«Откуда у Анны такие сведения?» – подивился Конрад и робко попробовал снова:
– Но ведь либидо у него никуда не девалось!
– Уфф… Вот что я вам скажу, Конрад: если бы он убил женщину просто из извращённой похоти, из чистого садизма, ему бы туго пришлось на зоне. Он не только не совершил бы побег, но, скорей всего, был бы зарезан в первый же день заключения.
Конрад признал: извращенцы в тюрьме долго не живут.
Вновь и вновь мысли Конрада возвращались к сине-коричневому шарфу. Он уже начал подозревать, что шарф, который он видел в руках Анны, и есть шарф, подаренный ему вязальщицей, а значит… Непонятно, что это значит. Чего же тогда Анна так испугалась?
И вот однажды, полезши в тумбочку за новой ручкой, он нашёл подаренный ему шарф. Засунутый в самый дальний угол, он пролежал здесь всю осень и всю зиму.
Итак, ночной незнакомец действительно забыл похожий шарф в сенях…
А однажды поздним утром Анна по-простецки растолкала дрыхнущего Конрада, похлопала его по щекам, полила из леечки и сказала:
– Собирайтесь, лежебока, на гуляния. Сегодня – последний день масленицы.
Временный комитет по чрезвычайному положению по случаю народного праздника расщедрился-раскошелился. По случаю затишья на фронтах на съедение народу была брошена беспримерная кость – ретро-гулянье в давно забытых красках.
Вертелись расписные, выписанные из райцентра полуржавые карусели, взлетали к небесам скрипучие качели. Музыканты местного вокально-инструментального ансамбля заряжали весёлые песни. Сволочные народные, блатные-хороводные. Синтез фолк-рока и тюремного шансона.
Под гики и клики вывозили хворостяное чучело масленицы, каждый норовил ухватить кýкел за волосья. Разводили костёр, через который сами до одуренья и прыгали, а затем с криком и хохотом окунали в него потешное чучело – ох и скоренько занялся его кафтанец, ох и споренько загорелись членики – дым коромыслом, земля вверх дном.
Всюду расставлены были шатры да балаганы, под которыми добрые молодки в цветастых платках угощали-улещали-умащивали всех встречных и поперечных. А встречные и поперечные пёрли напролом, давмя давились за гостинцами из далёкого прошлого, из времени царя-горошного, из былинной небывальщины да книжной невидальщины. Ломились столы от вкусностей для истомлённых тел, было чем поживиться и изношенному народному духу:
Чего тут только не было?
Жрачёны-драчёны. Сало-бухало. Сиги в вязиге. Баклаги наваги.
Чаши-параши гурьевской каши. Кутья-плясея под четьи-минеи.
Солонина-буженина, знатна хаванина.
Груши-хрюши, нельзя скушать.
Мёд-пиво завтрешнего разлива.
Вяленые валенки, сапожки-окрошки, стопарики пареных опарышей.
Окрошка-мокрошка хороша кормёжка.
Белорыбица-толстолобица.
Гренки гречишные-кибальчишные.
Радуница-медуница.
Яблоки-тыблоки-мыблоки.
Толокно-волокно-полотно.
Квас – липовый Спас.
Кренделя-вензеля. Водоросль-недоросль. Выхухоль-опухоль.
Туды его в качель, растудыть в карусель.
Ликовала Золотая девятая рота имени Ивана Золоторота. Ради нея вся эта снедь-скаредь на скатерть-паперть
И, конечно, блин, блины – румяные, поджаристые, с начинками, с прибамбасами, на сметане заквашенные, на белой сметане без костей, из спецпайка Поручика – редкость редкостная по нонешним временам, диковина диковинная.
Анна раскладывала яства по салатницам, разливала напитки по ендовам – народ подставлял миски да лафитники, вкушал-выпивал, наклюкивался клюковкой, нахрюкивался брюковкой.
Выводили лядащих подслеповатых кляч, накрытых попонами, – уж и где откопали, незнамо: скушали в губернии всю лошадятину, даже коней, на которых летом гарцевали Анна с Поручиком, – и тех не оставили. Вот и сохранились недоношенные и недоделанные, кожа с костями, от которых и откусить-то нечего. А тут хошь не хошь – тяни сани с детишками, с сиротками да с недоростками, цок-цок, трюх-трюх, подчас спотыкаясь, сбиваясь с шага, под любовные похлёстывания, похлыстывания взрослого кучера: пущай их, детишки последний раз в санках прокатятся.
Но это самые мелкие детишки – года по два, по три, А кто поздоровей и покрепче – те с горки, на самодельных санках, на ледянках, на автомобильных шинах – вжик с косогора с несколькими подскоками, голова – ноги, голова – ноги, местный зимний экстрим. Одно плохо – любишь кататься, люби и саночки возить, и гуськом ползут ребята в горку, чтобы дождаться очереди и съехать с чуть ли не отвесного склона ещё раз. Тому, кто выжил и всполз вверх, положен приз – блин.
Наяривает гармошка, молодок да старушек в круг приглашаючи, топотушки да хлопотушки вытанцовывать, пируеты да антраша выплясывать под недавно ещё модные попевки «Ягода-малина» и «Фаина-калинá». Молодки да старушки козочками усердно скок-поскок, звонкими колоратурами погукивая-поухивая, руки растопыривши, носки оттопыривши. Мужики их сурьёзные в круг войти поначалу стесняются, но затем входят во вкус, армяки оземь скидывают и в присядке заходятся, кто кого переприседает.
И вдруг – за спинами пирующих нарисовались молодые люди в одинаковых чёрных куртках-«дутиках» и шапках-«петушках» на самые глаза. Сначала их было человек пять, но вскоре из-за леса к ним вышла подмога – ещё человек двадцать. Молодые люди стояли неподвижно, лязгали зубами и лузгали семечки, смачно сплёвывая шелуху себе под ноги. В руках у них были флотские ремни с заточенными пряжками, обрезки арматуры и финские ножи. И все присутствующие ощутили нависшую тяжёлую угрозу, грязно-серую тучу, наползшую на праздник. Даже музыканты, похоже, сбились с такта, и весёлый музон как бы захлебнулся.
В посёлок вернулась урла.
Расталкивая старушек и детишек, урла продвинулась к раздаточному столу и молча уставилась на Анну. Конраду даже показалось: уставилась как бы с просьбой в глазах. Анна – муравьиная матка – смерила урелов-муравьёв ласковым материнским взглядом и одарила их одного за другим блинами с расстегаями. При этом урелы соблюдали строгую очерёдность и говорили: «Спасибо». После этого они также организованно растолкали толпу, сомкнувшуюся за их спинами, отступили на исходные позиции и стали грозно вглядываться вдаль. Конрад тоже посмотрел вдаль.
С другой стороны оврага, над которым проходило празднество, показалась стайка незнакомых мальчишек – малолеток лет по одиннадцать. В наступившей тишине они достаточно звонко пропели матерные частушки, оскорблявшие честь и достоинство жителей дачного посёлка. «Деревенские, деревенские», – зашушукались в толпе. Исполнив свой музыкальный номер, деревенская мелюзга наклонилась над снежной целиной, и вскоре в сторону дачной урлы полетели снежки – меткие и увесистые; в руках этих октябрят они летели вчетверо-впятеро дальше, чем добросил бы Конрад.
Дачная урла, хотя некоторым снежки попали в головы и даже в лица, довольно индифферентно восприняла снежную бомбардировку. Чего-то ждали. Правда, из-за спин взрослой урлы показались дачные малолетки, знакомые Конраду по посиделкам у водокачки. Они в свою очередь дали снежный залп по деревенским и заголосили частушку, больно задевающую честь и достоинство коренных жителей. Пришлая ребятня с похабными выкриками нехотя ретировалась. В наступившей звенящей тишине послышалась короткая, много раз повторяемая рулада гармошки, причём звук её явно приближался. Из оврага на откос один за другим выскакивали большие деревенские – лет по шестнадцать-семнадцать, как и дачная урла, торопливо принявшаяся уминать расстегаи. Один из деревенских, который с гармошкой, до самого верха не дошёл, остановился, но свой сумбурный наигрыш не оставил.
Тут же – чмок! чпок! – в физиономии пришлых шмякнулись блины. В ответ деревенские обнажили-обнаружили своё вооружение – ломы, обломки оглобель и грабель, треххвостые нагайки, самодельные нунчаки, а кое-кто сдёргивал с плеч даже охотничьи ружья. И над равниной послышалось утробное хоровое «Ааааа!», которое тут же натолкнулось на урчащее «Ааааа!» ответное. И две ватаги бросились – друг на друга. Затрещали вороты рубах, засучились рукава, обнажились фрагменты торсов. «Пиф-паф», – захлопали ружья, мясо столкнулось с мясом, костяшки с костяшками, черепа с черепами. Взметнулись к небесам дубины и железяки, кроя подвернувшуюся плоть, посыпались первые искры, брызнула первая кровь. Толпа женщин, дошколят и старцев резко подалась назад, расчищая бойцам поле битвы. Даже матёрые мужики посторонились, хотя и с гиками и с хлопками в ладоши.
Гармошка заливалась в своё удовольствие; гармониста никто не трогал, гармонист был неприкосновенен.
Конрад выступил вперёд и как бы заслонил Анну своим рыхлым телом. Оставшиеся на месте матёрые мужики истолковали это по-своему. Они отвлеклись от созерцания боя и молча стали надвигаться на островитян, смыкая кольцо.
Тут только до Конрада допёрло, как люто, окаянно, злобно ненавидят его все мужики в посёлке. Не только за то, что не квасит, не киряет, не бухает с ними, не знается с ними, не беседует с ними о политике – нет, ещё и за то, что он, длиннобородое и толстобрюхое пугало, состоит в ёбарях у самой красивой женщины посёлка, а то и всего мира. Причём вдвойне обидно, что в этом пункте окрестные мужики безбожно заблуждались и тыкали пальцем в небо… И стало ясно, что сейчас его, пользуясь обрядовым случаем, будут бить, колотить, увечить, контрапупить, убивать, шмалять – как самцы самца, как волки шакала, как свояки чужака. Но Конрад вдруг словно хватанул лёгкими избыток воздуха. Он свирепо выпятил грудь, яро выпучил глаза и крепко сжал кулаки, готовясь шагнуть навстречу врагу. Что-то вроде пламени полыхнуло меж его стиснутых зубов и что-то вроде дыма заструилось из ноздрей. Неизвестно, что случилось бы в последующее мгновение, если бы внутри кольца вдруг не возник Поручик, решительный и расстёгнутый, с пистолетом в руке. Другой рукой он быстро схватил Анну за талию, а первой рукой нажал на спусковой крючок, командным голосом зверски вопияв:
– Куд-да? Назад! Моя женщина! Мой друг! Всех погашу!
Звук выстрела и зрелище отважного вожака, прильнувшего к своей добыче, не враз остановили мужиков – по инерции те ещё насели на Конрада, и он получил знатный тычок под микитки, но роль, которую не сыграл первый выстрел, сыграл второй – над самыми головами раздухарившегося мужичья. Мужичьё окстилось и охолонуло. Поручик мигом отпустил Анну, в два прыжка выдернул Конрада из разомкнувшегося кольца, и продолжая грозить револьвером, пролаял толпе:
– Он же юродивый Христа ради! Грешно юродивых обижать!
Мужики не верили ни в Христа, ни в чёрта, да и не все знали, кто такой «юродивый», и вооружены многие из них были не хуже Поручика, но грозный начальственный окрик произвёл надлежащее впечатление. Конрад успел шепнуть на ухо спасителю «Спасибо!», а тот всё не унимался:
– Чего встали, козлы? Идите вон, жмуриков подбирайте!
Молодёжная драка уже перевалила экватор. В чистом поле осталось лежать шесть или семь человек – некоторые слабо шевелились и даже пытались подняться, некоторые уже совсем не шевелились, и снег около них клюквенно рдел. Местные теснили пришлых к оврагу, что неудивительно – преимущество «своего поля» ещё никто не отменял.
И в это время послышалось нарастающее, крепнущее «Уррраааа!» и недружные, вразнобой, залпы – то зрелые мужички, которых было обломали с праздничным кровопийством, дружно кинулись молодым на подмогу.
Тут же образовалась противоположная партия из таких же точно тридцати-, сорока- и пятидесятилетних гостей праздника, прибывших издалека – на снег полетели зипуны, армяки, шапки – новая стенка навалилась на новую стенку, коса на камень, шило на мыло.
Бой вспыхнул с новой силой и с новым остервенением. Прибывшие с мужьями бабы – местные и неместные – сбившись в кучки, истошно голосили, на чём свет стоит – благим матом, а кто и не благим, поддерживая своих бойцов, посылая проклятья супостатам. Заливалась уже не одна, а целый квинтет гармошек, разъяряя и распаляя присутствующих лихими «скобарями» – при этом гармонисты умудрялись пикироваться друг с другом и амплитудно пинаться ногами.
Поручик с полминуты взирал на происходящее и непринуждённо жонглировал пистолетом. Потом он сказал Анне и Конраду:
– Пойдёмте отсюда, мы свою миссию выполнили. Не приведи Бог, шальная пуля залепит. Уходим!
И бросив столы с недосъеденной снедью, Анна и Конрад засеменили вслед за широко расставляющим ноги по снегу Поручиком. Тот не оглядывался, словно за его спиной не бушевала кровавая битва и не валился наземь отработанный человеческий материал. Анна же и Конрад оглядывались то и дело – одна с любопытством и с недовольством, что её лишили зрелища, другой – с опаской и неверием, что очередной конец благополучно миновал. За троицей никто не следовал – всем была интересна развязка боя. Среди публики лишь одна часть оставалась безучастной и бесстрастной – то были полицейские, подчинённые Поручика, которым было изначально приказано дожидаться финала праздника.
– Вот зачем в сволочных деревнях гармошка, – бормотал сквозь зубы Поручик, совершенно не заботясь о том, слышат ли его Анна с Конрадом. – Вы-то думали, для того, чтобы тешить бабушек на завалинках, чтобы те свою молодость вспоминали? Или для удалых плясок пейзанских парней с пасторальными дéвицами? Читайте исследование Рёмер и Цитлова о феномене «праздничной драки». В совковые времена оно засекречено было, а нынче Рёмер с Цитловом на Лазурном берегу отогреваются, официантами там работают, а их теории на фиг никому не нужны, практика куда богаче и увлекательней.
Остаток дня провели втроём в поселковой рюмочной, где в этот вечер было на удивление пусто и потому даже где-то уютно. Потребляли обычный для этого заведения рацион – палёную водку с чёрным хлебом, причём даже Конрад водку пил исправно, не нудодствовал. Говорили мало, всё больше молчали. Вечером прямо в рюмочную пришли полицейский капрал и врачиха из медсанчасти, которую Конрад видел в день смерти Профессора. Они сухо доложили статистику весёлого сельского праздника – четыре трупа, пять полутрупов, тридцать шесть обратившихся за амбулаторной помощью. Всё шло по плану, контрольные цифры не были превышены. Поручик поблагодарил подчинённых за службу и велел хозяину рюмочной налить им также по стопке. После этого Конрад и Анна сразу пошли домой, причём Анне пришлось следить, чтобы Конрад не сделал неверный шаг и не свалился в придорожную канаву.
Конрад изрядно поднабрался, теперь у него резко резало желудок. Он почти стонал.
Анна дала ему на ночь травяной настой, но полегчало ему ещё не скоро. Всю ночь он кряхтел, кашлял и беспрестанно повторял в подушку:
– Вот вам и традиции предков… Х-хороши… Страна в-вечного негридо…
Так бормотал Конрад. Но перед глазами его рисовалось другое.
Бруствер… бункер… блиндаж… походный шатёр…
Балаганные шатры свернулись.
Кровь на снегу. С понтом клубника с молоком.
Традиция многоцветна. Но её остов кровав.
И Остров кровав.
Не чурайся крови, Конрад. Раз увлекаться – так кровопусканием и кровохарканьем.
Или скажем так: прежде чем нахаркаться собственной кровищей, напусти порцию кровищи вражеской. Вот только как? Ты же бить человека не умеешь – только тыкать как баба. И стрелять не обучен – тебе автомат не доверяли. Длань твою карающую любой салажонок шутя перехватит. Перехватит и переломит.
Да в том ли дело? Мирный ты очень. Не хочется тебе умыться кровью врага. А враг, между прочим, только для того и прёт на тебя, чтобы омыть тебя с головы до ног. Он же знает, что твоей жижей не насытишься. Он тебе свою жидкость благородную преподносит. А ты не хочешь – брезгуешь.
А ты захоти. Захоти поддеть кишки врага ножиком, сустав – разрывной пулей, мозги – снарядом, чтобы брызнули по странам и континентам. Режь, корёжь, дефрагментируй.
Конечно, ты сегодня уже молодечик. В кои-то века – не зассал. Шевельнулось что-то боеготовое. Правда, за твоей спиной были начальство и женщина… да какая женщина! На миру и смерть красна. Но помни – твоя-то смерть красна, а чужая – краснее. Правильно, что ты не ввязался в драку. Замочили бы, как пить дать. Потому что в драку надо лезть с мыслью замочить, а не замочиться.
Но кто же твой вражина, где тот, кого ты мечтаешь насадить на вилы, натянуть на жерло, разорвать на лохмотья? Не знаешь? Знаешь, Конрад. Имя этим вражинам – полноценные люди. Имя им легион. Те, кто не в мыслях, а въяве танцует, рисует, сеет, пашет, строгает, пилит, играет, убивает… а не только умирает – ежесекундно и днесь. Традиционные персонажи, сошедшие со страниц, с полотен, с киноэкранов – привычные всем индивиды, о которых об одних чирикают воробьи, шумят дубравы и ведут рассказ былинники. Они.
Соберись с духом и мсти, дабы обрести полноценность.
Мсти.
По замёрзшему морю на Остров приезжала рябая почтальонка Мария. На оленях привозила газеты за весь зимний период:
На Северном и Западном фронтах правительственные войска с переменным успехом отбивают атаки незаконных вооружённых формирований. Боеприпасы с обеих сторон, в связи с остановкой большинства предприятий ВПК, истощаются; зачастую бои сводятся к массовым рукопашным.
Активизировалась «пятая колонна» мятежников. За последний месяц зафиксировано примерно столько же терактов, сколько ДТП.
Участились случаи побегов заключённых из концентрационных лагерей, причём возросло также количество «самоликвидаций» – повальных коллективных акций неповиновения. Самостийные отряды беглых каторжников наводнили север и восток Страны Сволочей, сея разрушения и смуту среди местных жителей.
Между правительственными войсками и антиправительственной камарильей идёт ожесточённая борьба за привлечение бежавших под свои знамёна; пока что преимущество – на стороне правительственных войск, располагающих более серьёзными средствами для подкупа. Однако, учитывая масштабы хищений материальных ценностей, существует опасность, что инициатива перейдёт к антиправительственным силам.
В селении G***, в 30 верстах от Столицы, отправлена чёрная месса, в ходе которой предано смерти 42 лица некоренной национальности, дотла сожжён близлежащий монастырь и сровнено с землёй кладбище. Акцией руководили уполномоченные местной администрации при участии верхушки местной церковной общины, перешедшей на позиции активного сатанизма.
За последнее время отлучены от своих должностей за пристрастие к сатанизму 63 иерарха Сволочной Ортодоксальной Церкви.
Из школьной программы Страны Сволочей исключена литература с мотивировкой «Все писатели – смутьяны, лгуны и пьяницы». Инициатива исходила от самих учителей-словесников, не видящих параллелей между реальностью, описываемой в классических романах, и насущными требованиями настоящего момента. Теперь они смогут сосредоточиться на преподавании родного языка, правила которого учителя призвали упростить и унифицировать во избежание необходимости плодить неграмотные поколения. В предложенном правительственной комиссией диктанте на две страницы 89% самих учителей допустили 20 и более ошибок, что, безусловно, задело «честь мундира».
В то же время увеличено количество учебных часов по обществознанию, НВП и ОБЖ.
В Заокеании признано уголовным преступлением отрицание истории двух последних тысячелетий как эпохи маскулинной доминации. В крупных городах страны прошли многотысячные демонстрации под лозунгами «Мне стыдно, что я мужчина», «Женщины мира, примите наше запоздалое покаяние» и т. п. Конгресс единогласно принял резолюцию, обязующую местный Центризбирком допускать к президентским выборам исключительно женщин, причём по возможности инвалидов. Требование исключить из избирательных списков кандидатов с белым цветом кожи наткнулось на вето Ассоциации в защиту Прав меньшинств.
СЕЗОН ЧЕТВЁРТЫЙ ВЕСНА
19. Постмодернизм
Испокон веков в Стране Сволочей весна начиналась с грачей.
Нынешней весной грачи были непунктуальны – знать, пригрелись в тёплых странах, в льготных экологических условиях, и не спешили возвращаться.
Измучились те немногие, кто ждал этих обычно совсем не капризных птиц, и текла у них крыша от догадки: а вдруг… вообще – не прилетят?
8 марта отмечался международный день суккуба. Анна заранее поспешила уведомить Конрада, что гендерные праздники она не признаёт и поздравлять её не надо. Конрада это только обрадовало – что бы он смог подарить своей хозяйке, кроме поделок лобзиком и рисунков в стиле «палка – огуречик»? Даже праздничный стих у него не сложился бы, а цветочных лавок во всей округе не было, саженцы же прихотливых цветочных пород он доставил из города ещё осенью. Поэтому день, принятый во всей Стране Сволочей за выходной, ничем не отличался от прочих; разве что урла гомонила громче обычного.
По вечерам она подходила вплотную к забору и упражнялась в государственном языке. В непотребной брани, недавно признанной государственным языком..
После Нового года в гости к Анне по вечерам зачастили воспитательницы сиротского приюта. Анна принимала их, естественно, в своей комнате и вела с ними, наверное, разговоры на «женские» темы. Но догадывался Конрад, что одними кофточками да пирогами темы разговоров не исчерпываются. Наверняка жаловались воспиталки на невоспитуемых своих воспитанников, на чёрствый хлеб провинциальных педагогов, на невыносимую атмосферу своего учреждения, где приходилось лавировать между нечистым на руку начальством и морально нечистоплотными детишками, понимающими один лишь кнут и заведомо обделёнными пряником.
С Конрадом воспитательницы только небрежно здоровались – догадывались, сколь ничтожную роль он играет в доме. Он даже не знал, как их зовут: не представились.
Но вот что интересно: поначалу воспиталки приходили в бесформенных тулупах и серых козьих платках, надвинутых на брови. Вот и под женский праздник они пришли как раз в таком затрапезном виде, а ушли – принаряженные: козьи платки остались где-то в запасниках анниной комнаты, простоволосые головы явили одинаковые незамысловатые стрижки (невзирая на лёгкий морозец), а поверх тулупов гостьи уносили на своих плечах лёгкие вязаные шали. И пуще всего поразило Конрада то, что одна из них была синей, а другая – коричневой.
Тёткам эти шали были не очень к лицу: слишком уж сами тётки представляли собой усталых бывалых грымз неопределённого возраста. Но не сексэпил тёток волновал Конрада, а цветовая гамма их новых одежд. Сразу вспомнил он, что Анна периодически что-то вязала – так не забытый ли шарф перевязывала? Но главное – Конрад успел рассмотреть, какими брошками были скреплены обновки анниных гостий: какие-то узенькие продолговатые серебристые цацки. Стрелы? Змеи?
Загадки, загадки…
Разыгрывался какой-то непостижимый для Конрада спектакль. Он знал, что забугорное общество давно превратилось в «общество спектакля», где «быть» сначало уступило место «иметь», а затем и «иметь» исчезло, сменившись сплошным «казаться». Но, выходит, и в Стране Сволочей роль «кажимости» неоценима…
Необходимость пообщаться с урлой по-прежнему довлела над Конрадом. Но с какого конца к ней подъехать – не представлял себе он. Эта публика добродушием явно уступала приснопамятным неформалам образца прошлого лета. Ломиться к целой шобле было самоубийственно, а заговорить с одиночкой – чревато. Взять хоть такой нюанс как – во что одеться. Прикинешься прилично – вернёшься голый, прикинешься бомжом – оторвут яйца.
Решил было Конрад начать с малолеток – но те опознали в нём того, кто летом тусовался с неформалами, и сразу бросились врассыпную, чтобы забросать нежданного интервьюера ледышками и камнями. Один каменюка попал в голову Конрада в миллиметре от виска. Конрад, как водится, убоялся глупой смерти и, несолоно хлебавши, ретировался.
Однажды прошёл слух, что в сельпо выкинули трофейную кошатину – в сраженьях отбитую у войск Айзенберга. Воленс-ноленс Конрад выбрался за ворота Острова, тем более, что при большом скоплении людей спекулянты вполне могли из-под полы продавать махру.
Шествуя по улочке, Конрад в оба глаза смотрел, не тусуется ли где-нибудь урла – не столько ради любопытства, сколько ради самосохранения. Его то и дело обгоняли старухи и немолодые инвалиды с кошёлками, вид у них был воинственный: мясо давно исчезнувших четвероногих предстояло брать приступом. Воинственности Конраду в этот день явно не хватало, тем более что шёл он на битву без благословения Анны – та окончательно стала завзятой вегетарианкой. Он шёл, а над улицей мелькали ломы и костыли – оружие местного пролетариата. Те, у кого было огнестрельное, поживились ещё в первой половине дня, отхватив самые лакомые куски. (О том, что не все были согласны с таким распределением ролей, свидетельствовали свежие трупы в канавах, едва присыпанные снегом). На долю оставшегося отребья наверняка остались когти да кости, но ничто не способно отнять у сволочного народа веру в чудо.
Сквозь толпу, напиравшую на магазин и лишь слабо напоминающую очертаниями очередь, Конрад увидел урлу – она выполняла функции сил правопорядка и единственная старалась упорядочить людское месиво. Конрад послушно пристроился к хвосту очереди, где стояли совсем уж мягкотелые бабёнки, и стал прикидывать, пройдёт ли он к утру.
Уже чувствуя нешуточный напор с боков и со спины, Конрад обратил внимание на то, что урлой командует вполне себе взрослый мужчина, вооружённый до зубов – у него даже гранаты висели за поясом. Он стоял в дверном проёме сельпо и своей свирепостью остужал пыл наиболее нетерпеливых, а если одной свирепости не хватало – призывал разобраться своих более молодых подчинённых. Конрад был ещё далеко от входа и плохо различал лицо главаря, но постепенно закрадывалась мысль, что где-то он его уже видел. Конечно, эти маленькие глазёнки и этот скошенный лоб под бритым наголо теменем были какие-то неиндивидуальные, нарицательные, но всё больше крепло у Конрада убеждение, что именно эти глазёнки и этот лоб он уже лицезрел вблизи. Постепенно зародилось подозрение, что урла повинуется приказам его старинного знакомого Дитера, а спустя два часа, стиснутый толпой по рукам и ногам, Конрад довытягивал последнюю подвижную часть своего организма – шею – до того, что уже почти не сомневался: в посёлке объявился именно Дитер.
Конрад задумался, не окликнуть ли былого однополчанина или кем он там ему приходился – но грудная клетка трещала так, что издать осмысленный звук было невозможно. Несколько раз Конраду казалось, что главарь надолго останавливает на нём свой взгляд, и прикидывал, хорошо ли или плохо – быть узнанным. Но Дитер, если то действительно был он, казалось, не различал лиц – он управлял единым, нечленимым сгустком биомассы, и Конраду оставалось терпеть и ждать.
Впрочем, вскоре Конрад понял, что с трусливой выжидательной тактикой если что ему и достанется, то разве лишь от мёртвого осла уши. Постепенно он пустил в ход локти и коленки. Но чужие локти оказались острее, а коленки – твёрже. Неизвестно, чем кончилась бы внезапная активность Конрада, если бы урла не внедрилась в толпу и не стала тумаками и зуботычинами вычерчивать чёткую прямую очереди. В результате Конрад более или менее понял, сколько ему осталось до входа: очень много.
Уже давно стемнело; приближался час закрытия сельпо, а Конрад практически ни на йоту не приблизился к заветной двери. Стало грустно.
И тогда он вдруг отважился на отчаянный шаг, которого сам от себя не ожидал. Он вышел из очереди и грудью пошёл на оцеплявшую её урлу.
– Скажите Дитеру, что его хочет видеть Ёбаный Пигмеец.
Урелы несколько опешили, но, как было видно, Дитеру (да, это был он, только, в отличие от себя осеннего, сверкающий во всю пасть золотыми зубами) какую-то информацию передали. Сначала было похоже, что тот и бровью не повёл. Но через пять минут Конрада относительно вежливо взяли под руки и отвели в сторону.
Сельпо как раз закрылось. А может, кошатина кончилась. По народу прошла волна негодования, воздух заискрился от вспышек ненависти. Выстроенная с таким трудом продолговатая очередь вновь сбилась было в кучу малу, сжалась было в кулак.
Отрезвила неудачников, как водится, стрельба. Толпа пустилась наутёк, оставляя тяжело раненых на площадке перед магазином. Но масштабы очередного кровопускания Конрад заценить не успел – его подвели к главному распорядителю.
Дитер словно бы даже рад был видеть здесь Ёбаного Пигмейца. Он дал ему два кисета махры и мясную вырезку, может быть даже говяжью – по внешности сорта мяса Конрад не различал.
Мы помним, что знакомец Конрада был словоохотлив. Вот и сейчас он долго впаривал Конраду пространный текст о перипетиях своей судьбы за последнее время. Конрад вроде бы ухватил основную канву: приняли Дитера к себе конкретные пацаны и, после некоторых испытаний, нашли для него конкретное занятие: служить опекуном и пастырем перспективного молодняка в посёлке N, наставлять уму-разуму и растить пацанам достойную смену. Но об этом абстрактный пацан Конрад скорее догадался, чем непосредственно уяснил из слов Дитера. Дело в том, что последний изъяснялся на совсем мало понятном языке, лишь отдалённо напоминавшем сволочной. За вычетом государственного языка оставалась какая-то хитроумная феня. Она изобиловала весьма смелыми и свежими оборотами, даря Конраду надежду, что великий и могучий сволочной язык не умирает, а лишь стремительно видоизменяется. Но понять бóльшую часть из того, что говорил Дитер, было решительно невозможно.
Конрад вспомнил, что не предъявлял Дитеру своей красной корочки, но так и не сориентировался, стоит ли это делать вообще. Вместо этого он сообщил ему, что с недавних пор служит в частном центре по изучению молодёжного досуга и получил от начальства задание побеседовать по душам с его, Дитера, подчинёнными.
Дитер, как показалось, не возражал.
– Знакомься, Ёбаный Пигмеец, – подвёл он Конрада к урле, как раз занимавшейся остужанием перетруженного оружия. – Это Дрищ. Это Волчий Хуй. Это Шиша.
Урла – её лучшая и наиболее сознательная, восемнадцатилетняя часть, ранее не знакомая с Ёбаным Пигмейцем, недоверчиво, но с готовностью приветствовала протеже командира.
Конрад даже сумел задать несколько интересующих его (а точнее – Поручика) вопросов. Он даже получил ответы, не совсем, впрочем, его устроившие, поскольку изъяснялись урелы на том же птичьем языке, что и Дитер. Конрад очень надеялся, что понял главное: всю осень и зиму ребята активно мародёрствовали, а теперь вернулись в родной посёлок, чтобы взять его под железный контроль и навести в нём железный порядок.
Чем дальше вёлся разговор, тем меньше понимал Конрад. Но постепенно в нём росло убеждение, что может, оно и к лучшему: он передаст Поручику не ту информацию, что на самом деле, а ту, какую понял. Пусть шеф на себя пеняет, что толмача ему не предоставил. И зело досадовал Конрад: почему же он не сообразил этого раньше? Можно было, в принципе, и вовсе от непосредственного интервью воздержаться. Не вступая в контакт, изобрести голимую отсебятину. Кто, в конце концов, проверит-то?
Наконец, Конрад и урла устали друг от друга. Внештатный осведомитель Органов остался наедине с Дитером. И тут он собрался с духом, чтобы задать последний вопрос, интересующий лично его. И никого другого.
– Послушай, Дитер, – улыбчиво сказал Конрад. – Раз уж мы вновь встретились… Скажи пожалуйста… а мы в самом деле были с тобой однополчанами и несли службу в вэчэ пятьдесят один – ноль три?
Дитер, доселе также улыбавшийся, стал непроницаем ликом. Он молчал.
– Нет, ты вспомни… как бычки о мою кожу гасил… как портянки твои стирать заставлял… как сказки тебе на ночь просил рассказывать …
– Сяо бие, – ответил Дитер после долгой паузы. – Незяк гугняэ комбиторо. Уницы-вэ.
И после ещё более долгой паузы лишний раз стукнул по шляпке уже забитый гвоздь:
– Вот так-то, бля.
И замотал шею шарфом. Сине-коричневым.
Но шарфом не простым – фанатским. Из газет знал Конрад, что в Стране Сволочей кое-где проводятся спортивные состязания, на потеху населенью, чтобы ввиду бесхлебья не оставить его заодно ещё и без зрелищ. Знал Конрад названия всенародно любимых футбольных и регбийных клубов, фамилии знаменитых бойцов без правил – каждого щедро подкармливала власть, и «альтернативные структуры» соперничали за влияние на них и на стоящие за их спинами внушительные армии фанатов. Но буквы, пропечатанные на всём протяжении шарфа дали весьма неожиданную комбинацию: «Столичный спортивный клуб «Стрела».
Конрад вспомнил, что именно так именовался клуб, которому якобы было продано оборудование лучной секции Землемерного училища. Он сразу ощутил неодолимый позыв спросить Дитера, известно ли тому что-то про давнее убийство на участке Клиров, но быстро понял, что собеседник – не охотник ворошить прошлое. Однако ж, Дитер первым спросил:
– «Розой» интересуешься? Хочешь, такую же добуду?
– Нет, зачем… – ошибочно ответил Конрад. – Только скажи: это же столичный клуб… Вы что же, и в столице бывали?
– Бывали.
– И там этот клуб популярен?
– Да не так чтобы, бля… Совместный бизнес.
Выведывать секреты бизнеса – моветон и опасно. Разговор был кончен.
Пришед домой, Конрад чувствовал несказанное облегчение: мало того, что жратву с куревом добыл, так ещё и материал для отчёта Поручику собрал. И он сел писать этот самый отчёт. Писал о том, как урелы нападали на арьергарды враждующих сторон, на обозы с ранеными и больными, на деревни и сёла, где не осталось мужчин, и поживлялись спиртом и пищей. Спирт выпивали, пищу съедали, а то, что не влезало, меняли у авангардов воюющих на новые спирт и пищу. В деревнях и сёлах, где не осталось мужчин, портили всех без исключения девок, а пацанов уводили с собой – на радость голодающим матерям. Ну и так далее. Обычные проделки шпаны из маленьких посёлков. Конраду даже скучно стало. Он ума не мог приложить, зачем это нужно было Поручику – тот с таким же успехом мог написать это сам. Видать, по жизни читатель он, не писатель. А вот Конрад – тот и то, и другое. Всю ночь читал алхимиков, а под утро взялся за «Книгу Легитимации». И опять ничего сенсационного в неё не заносил, сплошь выношенные, выстраданные мысли.
Из «Книги легитимации»:
ПИСЬМА НИКОМУ 2
Читаю чужие книги от страха написать свою.
Человек, которому неинтересна квантовая механика, не выносит суждений о квантовой механике. Я никому не интересен, но все имеют обо мне суждение. Несправедливо.
Я очень благодарен одной писательнице, женщине неслабой и небедной, которая снизошла до рецензии на мою книгу. Пусть ровно в двух словах (в других рецензиях слов – ноль).
– Злости нет.
Вот что им нужно.
Уточняю: злости не на себя и не на них, а при защите себя и их плюс при нападении на всех прочих. Защитить ни себя, ни их я не могу, а нападаю так, что объект нападения за живот хватается, и не от боли, а от смеха. И то, когда уж очень достанут, раз в пятилетку. Можно сказать, вообще не нападаю. Я очень мирный.
Но если неспособность защитить – однозначный грех (никогда не видел, чтобы кто-то ланиту подставлял), то вот насчёт неспособности напасть мы с ними расходимся. Кабы мы жили не в Стране Воинов, меня бы любили за эту способность.
Мои отношения с человечеством всегда строились на вампирической основе: либо я из кого-то сосу, либо кто-то из меня сосёт. Другой основы быть не может.
Ключевое слово окружающего меня копошения – «ритуал». Не «общество спектакля», а «общество ритуала». Видывал я людей, которые все – ритуал.
Когда ничего не можешь, начни с обучения ритуалу. Освоить это я мог бы. Но не хочу. А ведь любая деятельность – ритуал. Потому-то и не мог освоить никакую деятельность. Не хотел, выходит.
Мудрено ли, что хуже всего складывались мои контакты с «людьми спектакля», хотя они мне гораздо интереснее «людей ритуалов». «Спектакль» – это внезапная для партнёра смена ритуала. Цепь: скандал – ритуал – скандал – ритуал и так далее. Ритуал навевал скуку, спектакль – внушал страх. А я только «жил».
Но хуже всего было, когда ещё кто-то начинал «жить». Ритуал и спектакль для того и придуманы, чтобы спасать от жизни, один – стабильностью, другой – разнообразием. Подлинность омерзительна и невыносима.
Но меня только к ней и тянет. Чего ж я жалуюсь?
А того, что тянет. Необоримо.
Занятное распределение обязанностей: ты дружок, неустанно смейся над собой, а мы тем временем будем смеяться над другими. Допустим, над тобой.
Меня не бодают проблемы суперменов. В этом моя изначальная ошибка – гордыня, снобизм, спесивство, – наказуемая по всей строгости.
Они любят читать исповеди страждущих рантье, а от меня хотят, чтоб я дубиной мамонтов глушил.
Страдать душой – удел рантье.
………………………………..
Кто не рантье – страдать не может.
Не должен.
……………………………………
Не вправе.
…………
Страдать душой – удел рантье.
Кто не рантье – страдать не вправе.
………………………………………
Рантье в канотье.
…………………
Рантье в канотье на канапе
Ковыряет в собственном пупе.
…………………………………
Как омерзительны все эти слова на -ье!
…………………………………………
Монпансье, курабье.
………………………
Рантье в канотье
Сосёт монпансье,
Грызёт курабье
…………………
Воздушные замки Ле Корбюзье.
…………………………………..
Рантье ле Корбюзье в канотье
Сосёт монпансье, грызёт курабье.
Лежит в канотье на канапе,
Ковыряет в собственном пупе
И строит воздушные замки.
Покамест не научился встречать приветственным гимном тех, кто меня уничтожит.
А надо бы.
Вот заблужденьице-то, едритвою! «К подлинности» тянет… Не-а. Напротив: бегу от неё без оглядки. Подлинность – это дымящиеся кишки на кишкопоре. Паханий фаллос в сраке. Всё прочее – мнимость.
Не хочу быть гротескным!
Мода на гротеск безвозвратно уходит.
Да нет, ушла.
Когда мне было шестнадцать, по телевидению показывали культовый фильм о трёх мушкетёрах и д’Артаньяне. Все, независимо от пола и возраста, в них влюблены были. Тем более, фильм музыкальный, с популярными песнями.
И только я плевался и всем говорил, что никак не понимаю, почему сей артефакт достоин восхищения. Людоедская апология серийных убийств – одних гвардейцев кардинала мушкетёры положили немерено, под весёлые попевочки нагромоздили горы трупов.
Я всех знакомых девушек от культа серийных убийц отвадить пытался. А они мне: «Это не делает тебе чести». Вот вам генезис-анамнез…
Цель просветительской науки: постепенно закрашивать цветным белые пятна неизведанного. Цель нынешней (постнеклассической): постепенно закрашивать белым цветные пятна изведанного. Дестабилизация всякого «это так, а не иначе». Беда лишь в том, что нынешней науке не хватает мужества признать свою истинную цель; она по-прежнему всячески маскируется под просветительскую.
Всё явное становится тайным.
Если меня будут бить, я не буду думать, как дать сдачи или убежать. Я буду думать, как плохо поступает бьющий и что он лишь звено в цепи мирового зла. А мировому злу сдачи не дашь и бежать от него некуда. Пусть бьют.
Это почему-то называется, что я слишком много думаю о высоких материях». Мой конёк не «высокие материи»: просто я всё ставлю в ряд.
В детстве я очень не любил «Ну погоди», потому что гоняясь за Зайцем, Волк крушил и ломал очень много результатов чужого труда, а мне их было жалко. А все кругом хохотали – им на плоды чужого труда было насрать.
Я читаю книжки, ибо мне жалко труд тех, кто их написал.
Патологически низкий болевой порог.
Незнамо, чьи пороки хуже. Только мои пороки социально нон-грата, а ваши грата. Потому что у вас у всех они – одни и те же. А у меня у одного вот такие вот.
То есть не все вы убиваете, не все расхищаете в особо крупных размерах, но все ваши преступления – преступления против писаных законов. А у меня – против неписаных. И я за них держусь. Ибо кто-то должен и неписаные нарушать.
Есть психиатрическая «клиника». Она есть девиация, аберрация, аномалия, патология. И есть те, кто этим бравирует. Романтики, например. Декаденты. История повторилась в который раз в эпоху переделки. Тогда вся молодёжь, по крайней мере та, что на виду, провозглашала себя психиатрической «клиникой», генерацией дегенератов. Теперь она уже давно не молодёжь и не «клиника». Она – норма.
«Клиники» и по сей день много. Процент психов в обществе постоянен. Кто-то исцеляется, кто-то заболевает. Но надеется на исцеление. Психические болезни излечимы, если верно поставлен диагноз. Но диагноз есть норматив патологии. В психбольнице больные сходятся друг с другом в зависимости от того, какой вариант нормы они представляют. У одних – «голоса». Знакомо. У других – тревога. Плавали, знаем. Третьих просто на наркоту тянет. Каждый второй. А эти вообще обычные (заметим – обычные!) дебилы. Больные сами себя классифицируют, что уж говорить о врачах?
Отклонение от нормы не страшно. Оно – вариант будущей нормы. Страшно – отклонение от девиации, аберрации, аномалии, патологии. Никак не классифицируется и не называется. А потому – неизлечимо.
С другой стороны – нет худших врагов, чем люди с одинаковым диагнозом. Они дерутся друг с другом – за чистоту диагноза. Сталин – с Троцким, Гёте – с романтиками, Сатанаил – с Михаилом, Ормузд – с Ариманом. Когда в кино «хороший парень» мочит «плохого», всё преимущество «хорошего» в том, что на мочиловку он – лучший мастер. Его диагноз чище.
У кого диагноз проблематичен, у того врагов нет. Но это не значит, что он уцелеет после схваток хороших с плохими. Друзей-то у него тоже нет, в отличие от плохих и хороших, у кого диагноз. Подвернётся под горячую руку – никто не заступится. И – замочат. Потому что наскоро, не разобравшись в пылу схватки, пришьют диагноз. Ведь без диагноза – страшно. Диагносту, в том числе. Страшнее всего то, что никак не называется.
Заграница – это место, где разрешено бояться. И не стыдиться этого.
Что лучше – быть снобом или жлобом?
Не совсем я дурак. Иной раз орбиту угадываю. Вон, ещё семь лет назад наше «тогда» охарактеризовал как феминистское. Честно, сам догнал! Зуб даю, не читал я тогда наших «традиционалистов»: мир-то наш уж сто лет как «гинекократический»! И все это знали, а мне не сказали, вот сам и догонял.
Мне в нём плохо. Во-первых, меня гинеки за своего не держат и во кратию не пущают. А во-вторых – смена парадигм не за горами. Недолго вам, девушки, рябчиков жевать.
Всюду – ощущение голизны. Виден весь. Навылет.
А вы – «мания преследования, мания преследования…»
Одеться!!!
Хучь бы и щелью.
Есть ли что-нибудь более естественное, нежели угловатость, зажатость, «неестественность»? Это же – невроз, болезнь. А болезнь – естественна. Здоровье, впрочем, тоже. Но в глазах людских естественно только «сделанное». Клейст. Марионетки. Гурджиев: мы машины.
С другой стороны, невротики – тоже машины, только сломанные. Но сломанность отдельной вещи естественней её совершенства (мнимого). В природе совершенно только целое.
Постмодерн как гальванизация трупа культуры минувшего.
Койот среди волков.
В конце месяца состоялись весенние школьные каникулы. Конечно, год от года всё меньшая часть детворы хаживала в школу – у той же урлы каникулы длились круглый год. Но в далёких крупных центрах вредные училки ещё обучали несчастных школяров выводить палочки, буквы и формулы. Больше всего действующих школ, как говорили, числилось в Столице, и потому энный процент тамошних несовершеннолетних как манны небесной ждал каникул, когда можно было пособить взрослым в их нелёгком разбойном промысле.
Очевидно, каникулярная пора наметилась и у Стефана. В любом случае, сестра и шурин предпочли вывезти его в такое время за город, подальше от соблазнов мегаполиса, хотя и не сезон. А иначе с чего вдруг в первый оттепельный день марта Конрад, вылезший понежиться на крыльцо, был круто обломан знакомым голосом, низким, но юным:
– Привет, солдатик! Как служба?
Мохнатыми импортными унтами торил целину перед домом Клиров Стефан. По его пятам следовали фон Вембахер и Маргарита. Все трое несли в руках тяжёлые сумки гостинцев из тлеющего очага цивилизации посреди моря первобытной дикости. Привет Острову от острова. Багажник внедорожника, похожего на танк, таил вдесятеро больше разнообразных сюрпризов, чем во время осеннего вояжа сумел добыть Конрад. Может, каникулы – лишь повод для жеста доброй воли?
Фон Вембахер, что удивительно, подал Конраду жёсткую и цепкую клешню, смерил колючим взглядом, коротко буркнул: «Отто», словно они с Конрадом и не виделись сразу после смерти Профессора. Впрочем, он тут же взял под руку Анну и принялся с ней любезничать. А вот Маргарита словно бы даже обрадовалась Конраду, звонко хохотнув ему в лицо:
– Здравствуйте. Как поживает ваш роман без слов?
Конрад не нашёлся, что ответить, и что есть силы стиснул миниатюрную кисть Маргариты.
Когда дары большого города были распиханы по амбарам, фон Вембахер уединился с Анной в её комнате. Стефан заинтересовался ЖЭСкой и стал искать способы подпитать свой новенький ноутбук. Конрад остался вдвоём с Маргаритой – та нисколько не робела перед ним и не чуралась его.
– Мы – попрощаться, – заявила она. – Через какой-нибудь месяц мы отряхнём пыль этой грёбаной страны с наших сапог. И я, представьте себе, пойду по вашим стопам. Я увижу Париж, и Китеж, и Нью-Йорк, и Парамарибо. И забуду родину-уродину как страшный сон. И ни капельки не пожалею. Даже вас с Анной не пожалею – вы сами сделали свой выбор.
Возникла тягостная пауза.
– Что ж, добро пожаловать в постисторическую реальность, – пробормотал, наконец, Конрад. – В самое логово постмодернизма, так сказать.
– Ах вот как! Ну тогда уж расскажите, что это за постмодернизм такой. Я не раз про него уже слышала, но цельного представления не получила. Просветите невежу, плиз.
– Да вы же сами всё знаете, – не поверил Конрад в темноту Маргариты.
– Нет, ей-Богу. Мне пару раз старались объяснить, но всё как-то больно сложно выходило. А потом те, кто объяснял, сами окунались в этот самый постмодернизм. Одно я поняла – он не только в литературе и в архитектуре, но и в самой жизни… А всё-таки неясно – чем он от модернизма отличается.
Конрад вспомнил прошлый визит Маргариты и то, что особым интеллектом эта особа тогда не блистала. Похоже, и вправду не издевается. Типа – всерьёз принимает. Несказанно лестно. «Что ж, сяду на любимого конька».
Конрад долго откашливался, но заговорил, как всегда, непрокашлянным голосом:
– Эпоха модерна, строго говоря, пришла на смену эпохе Просвещения. Она породила прежде всего обострённое чувство истории и представление о наличии в истории смысла и цели. Недаром в эту эпоху сложились так называемые метарассказы – всеобъемлющие системы, объясняющие мироустройство и указующие на конечную цель исторического процесса…
– Ну ясно, вроде марксизма.
– Ага. Именно. Модерн исходил из презумпции исторического прогресса. Время двигалось вперёд, и чем дальше оно двигалось вперёд, тем меньше оставалось неразгаданных тайн; разработанная модерном наука один за другим снимала покровы секретности с бытия, вместе с тем ускоряя темп жизни. Модерн можно определить как расколдование мира и постоянное ускорение движения к цели.
– Простите… Но литература и искусство, которые принято называть модернистскими… Какое же там расколдование мира? Он становится всё более запутанным и необъяснимым. Разве нет?
– Обратная сторона той же медали… Главной чертой модерна за всю его историю была эмансипация… освобождение всего и вся их-под власти законов, обычаев и предрассудков. От политической эмансипации до эмансипации художественных образов. Те высвобождались от необходимости быть вписанными в канон, от необходимости что-то обозначать. В пределе они стремились к полному отрыву формы от содержания. К «Чёрному квадрату» в живописи, к чистым листам в литературе, к молчанию в музыке.
– То есть модернизм в искусстве и в жизни – разные вещи?
– В этом, душечка, отличие так называемого «эстетического» молерна от «цивилизаторского». В обоих случаях цель была одна – эмансипация. И упрочение европоцентризма с его приматом свободы над культурой. Личности – над традицией.
– Ну хорошо… а постмодернизм?
– Постмодернизм… это очищение модернизма от его просветительских установок. Бинарная картина мира «хорошо/плохо» сменяется многополярной, локальное начинает значить больше, чем глобальное. История утрачивает смысл и цель – она упраздняется. Войны, революции, пассионарность, борьба за власть и прочие атрибуты истории теряют свою актуальность. Провозглашается динамическое равновесие несхожего – это ныне «глобализмом» зовётся. Противоречия снимаются за счёт признания их неизбежности. Это в общественном плане.
– А в культурном?
– Снимается с повестки дня культ гениального творца, уникальность художественного произведения. Вместо этого на первый план выдвигается заведомая вторичность, цитатность, многоязыкость. Всякий пафос уступает место скепсису, истина в конечной инстанции заслоняется множественностью истин… То есть, в культуре происходит то же, что и в обществе.
– А не назовёте пример постмодернистского творчества?
– Вот Щербаков, о котором я писал, – типичный постмодернист.
– Счастливые они там, в России… У них – постмодернизм. А у нас чёрт-те что и сбоку бантик.
– Ну не скажите… – задумался Конрад. – Можно ведь сказать и так: постмодернизм – это постгуманизм. Человек как автономная, самодовлеющая личность осознал свои границы и сам себя испугался. Идёт вселенский отказ от антропоцентризма… от «человекопупства», так сказать. Человек низведён до одного из элементов мироздания, ничем не лучшего, чем, допустим, деревья или звёздная пыль.
– Значит – надо защищать окружающую среду?
– Значит.
– Но где вы у нас видите защиту окружающей среды?
– В её избавлении от «человеческого, слишком человеческого»… У нас просто поняли это буквально и пошли по пути физического истребления человеков.
Маргарита недовольно пошлёпала губами – похоже, классический гуманизм был ей больше по душе. Но сказала она другое:
– Какой вы умный, Конрад. Вам бы в каком-нибудь университете преподавать...
– Таких умников – тьма, и все места в университетах заняты.
Затем возникла продолжительная пауза. Маргарита как бы переваривала сказанное Конрадом. А тот, наконец, набрался смелости и сказал:
– Интересно… зачем Анна уединилась с вашим мужем?
– Ну… у нас с вами свои умные разговоры, а у них – свои. Мы с вами мало понимаем в житейских проблемах, всё в эмпиреях витаем… а они как раз о житейской конкретике, которая нас с вами мало занимает.
– Ну почему же?.. – где-то даже обиделся Конрад. – Меня так только конкретика и волнует. Вот скажите мне, например: как же это ваш муж, будучи сотрудником Органов, получил разрешение на выезд?
– Всё предельно просто. Он с начальством заключил джентльменский договор… Он им пару каких-то программ разработает, а они его за это втихаря выпустят… если не сорвётся… – Маргарита постучала по дереву.
– То есть – ещё может сорваться?
– Вы же понимаете… может быть всё.
– Ну хорошо… а позвольте такой вопросец: как же это Органы отпускают за рубеж навсегда такого ценного сотрудника? Мало того, что незаменимый кадр – он же может ещё и продать все секреты зарубежным спецслужбам!
– Он им ультиматум поставил: пожалуйста, ставьте меня к стенке, но кто тогда вам эту работу сделает? Покобенились и согласились.
– Простите… но это как-то неправдоподобно.
– Я вам скажу… Вы не продадите?
– Кому?!
– Ну вот вам… Отто – крестник генерала Фарнера. Мы часто бываем у него в гостях. А кто связан с генералом Фарнером, тот относительно независим.
– Кто же он, сей всесильный полководец?
– Вы слишком много хотите знать, Конрад. На вас тут уже мне жаловались: любите вы совать нос не в свои дела… Но хотите честно? Я сама мучусь тем же вопросом! Поэтому, откровенно говоря, мне не по себе. Но Отто… он излучает такое спокойствие, такую уверенность в том, что всё сложится хорошо… И его уверенность передаётся мне. –Маргарита зябко подёрнула плечами, хотя натоплено было вволю. – А вы своими вопросами опять её колеблете – нехороший вы человек!
– А я видеокарту поставил! – прервал интересную беседу Конрада и Маргариты радостный крик Стефана.
– Ура! Значит, посмотрим телек сегодня, – Маргарита проворно вскочила и сломя голову бросилась вон из комнаты, утомлённая беседой с Конрадом.
И древний телевизор Клиров действительно заработал, являя миру комикование за гранью фола. Но жители Страны Сволочей, независимо от воспитания и образования, уже настолько привыкли к переходу всех и всяческих граней, что воспринимали это как должное.
Потом стали показывать старый-престарый фильм о любви актрисы и художника – вздорную третьесортную мелодраму. Но Маргарита прилипла к экрану, да и Анна с фон Вембахером в известной мере следили за развитием действия – сладкие грёзы иномирья, инобытия захлестнули всех. Лишь Конрад снобистски морщился, да юный реаниматор телевизора откровенно скучал в ожидании ночного боевика. Актриса на экране, одетая в умопомрачительное платье со смелым декольте металась в лабиринте соблазнов, художник в сюртуке красиво страдал. Так и вечер прошёл.
Перед сном Конрад и Маргарита ненадолго остались одни в комнате. На сей раз Маргарита надула губки и показывала, что подобное сосуществование её чуть-чуть тяготит. И Конрад молчал, словно собираясь с мыслями. И вдруг собрался:
– Скажите, Маргарита, вы там в столице… небось, спортивные мероприятия посещаете?
– Что вы! Я всегда была к ним равнодушна. Вот были бы культурные мероприятия – я бы ходила. Да никакой культуры не осталось, телек – вот и вся культура.
– А тем не менее… вы случайно не слышали про спортивный клуб «Стрела»?
Подобный вопрос в адрес лучшей подруги хозяйки Острова был, как понимал сам Конрад, предельно глуп: по этому адресу он точно ничего не узнает. Более того: этим вопросом он только всё портил.
Тем не менее, к его изумлению, Маргарита с готовностью откликнулась:
– Представьте себе, слышала. Это – детище генерала Фарнера. Он его курирует, душу в него вкладывает, только о нём и говорит.
– А… какие виды спорта они там культивируют?
– Разные! От футбола до городков. Будете в столице – сходите к ним. А то у вас фигура несколько… мешковатая. Я сама к ним хожу, на йогу и фитнес. Недорого.
– Да как же я окажусь в столице?
– Так вы ведь раньше, говорят, там жили! Разве нет?
– Я потерял жильё. Вместе с пропиской. Что мне там делать?
– Как что – нас навещать. Мы всегда рады гостям.
– Так ведь вы скоро…
– Скоро. Вот и поторопитесь, пока не поздно.
– Это что ж… приглашаете?
– А кого же мне ещё приглашать?
Всю ночь думал Конрад о неожиданном приглашении, гадал – на кой оно Маргарите сдалось? В родной город ему не хотелось ни под каким соусом и ни за какие коврижки. Вот только вот «Стрела»… Однако, этот след замыкается на монструозном генерале, а генералам с ним уж точно говорить не о чем. И вообще – то, что болтает Маргарита, надо делить на пятьдесят и вообще не принимать всерьёз…
Вскоре Стефан насобачился принимать зарубежные телеканалы. В том числе эмигрантский, для ностальгирующих по заоблачным высотам сволочной культуры и подножному навозу сволочной политики. Преобладали передачи второго типа – знать, изрядное число бежавших от ужасов гражданской войны не в шутку интересовалось этой самой войны перипетиями. Конрад с удовольствием смотрел бы политические программы, чтобы быть в курсе, но ключ от телекомнаты был у Анны, а та предпочитала передачи «культурные». Посему, когда столичные гости отбыли восвояси, Анна и Конрад коротали вечера за просмотром цикла «Культура, которую мы потеряли». А политические новости можно было узнать из интернета – притом в нескольких, взаимоисключающих версиях. Надо было лишь научиться этим самым интернетом пользоваться. Постмодернизм на дворе, ёпта.
20. Свобода слова
Когда снег местами почернел и сугробы скукожились, Анна изобрела для Конрада новое занятие. Прежде он исправно расчищал совковой лопатой дорожки сада, и чуть ли не к этому одному всю зиму сводилась его общественно-полезная деятельность. А тут хозяйка доложила, что грядёт новое, драконовское налогообложение для земельных собственников и что следует точно измерить площадь участка, потому что налог нужно будет платить с десятины. И Конрад пожалел, что никогда не посещал соответствующее училище и не осваивал хитрые навыки землемера. У него не было ни теодолита, ни нивелира, ни кипрегеля – да если бы и были, обращаться он с ними всё равно не умел.
Зато был сантиметр – обыкновенный швейный сантиметр, который используют домохозяйки, мягкий, выцветший, общей длиной полтора метра. С его помощью Конрад взялся измерить протяжённость забора и затем умножить ширину на длину.
У самого забора снег был ещё глубок, и Конрад осторожно вышагивал в высоких валенках, стараясь держать сантиметр чётко параллельно земле, чтобы не мухлевать. Вышло сорок пять метров в ширину и сто десять в длину – за счёт прирезанного Лесного участка. Правда, потом Конрад решил проверить и противоположные стороны забора и получил соответственно сорок семь и сто девять. То ли всё же неумело он сантиметром пользовался, то ли участок Клиров был не строго прямоуголен. Как бы то ни было, получилось чуть больше полгектара – что и требовалось доказать.
После этого засел Конрад за рисование плана участка – для этого предварительно тем же сантиметром промерил расстояния между постройками, вписал в оставшиеся пустоты лесопосадки, клумбы и огород, посчитал количество деревьев, прикинул опять же расстояния между ними. Концы с концами не сходились, дерево налезало на сараи, а дом на палисадники, и приходилось вновь и вновь переизмерять. Работу затрудняло то, что измерения Конрад проводил по большей части в темноте – бóльшую часть светового дня он, как водится, спал. Поэтому и потратил на работу полных четверо суток. А когда новоявленный топограф худо-бедно всё же составил подробный план сухопутного Острова, Анна не позволила ему заняться штриховкой и раскраской, так как предвидела, какая выйдет мазня. Отобрала чертёж, быстренько перечертила и стала свежей, твёрдой рукой наносить на новый лист ладненькие объекты. Получилось хорошо.
Сама Анна уже вовсю хлопотала по саду – например, высаживала морозостойкие, потенциально голубые цветы пролески, которые должны были зацвести в середине апреля.
Как-то раз Конрад зашёл в телекомнату. Анна уже приникла к экрану и, затаив дыхание, следила за коллизиями передачи в «винрарном», как выразился бы Стефан, жанре телеспектакля. Конрад тоже вгляделся. По сцене академического театра коленопреклонённо елозил зрелый бородач в буром пыльнике и горестно ныл о собственном ничтожестве. При этом он судорожно цеплялся за длинный подол тоненькой томненькой барышни с сомкнутыми устами и милосердно-сострадательными очами. Задник изображал яблочно-вишнёвый сад, похожий на сад Анны Клир в лучшее время года.
– Что это? – удивился Конрад.
– Макс Горький, «Дачники», – быстро ответила Анна.
И Конрад всё понял. Он вспомнил, что, как и позорник из «Дачников», был воспитан на великой русской литературе. А потом эту же литературу ещё глубже впитывал в университете. И потому не считал зазорным прильнуть со стенаниями о собственной сущности к первой же попавшейся юбке. Правда, под юбкой почти всегда скрывалось что угодно, только не тургеневская и не макс-горьковская барышня. Потому что даже русалки-русофилки в то же время были в первую очередь сволочанками. И студенты-русисты – в первую голову сволочами.
И только он один годами пестовал свою сопливо-слюнявую, склизкую больку. На противоположной чаше весов – только кисельно-кисейное мечтательство. При этом он патологически был не способен на сильную страсть (не считая животный страх). И чуть что – преклонял колена.
То, что он видел сейчас на телеэкране, было экземплярно, эталонно, эмблематично. Но он, конечно же, знал это и прежде. Он символизировал и олицетворял. Так было легче.
Едва ли не каждый вечер Конрад ходил на рандеву с урлой. Он садился одесную Дитера и часами слушал рассказы о том, кто где чего спиздил, кто кого отпиздил, кто кого выебал и кто кого как наебал. По тону и сценарию эти истории ничем не отличались от тех, что в своё время лились из уст логососов, вот только многие детали ускользали от понимания Конрада. Слишком многое было упрятано в глубокий подтекст «блянах» и «ёба», слишком многое, что для рассказчиков казалось очевидным, не было таковым для внемлющего. И это при том, что он практически не чувствовал страха в этом обществе, потому что стряхнул с себя страх ещё на Масленицу.
А однажды на аллее, ведущей прямо к участку, заслышался громогласный матерный гомон. Конрад поспешил к калитке и ещё издали заметил на аллее многолюдную толпу урлы. От гогочущей толпы ловко отделилась сухопарая фигура, подошла вплотную к забору и выкрикнула несколько грязных лозунгов в адрес «шибко культурных». Это был стриженный под ноль, безлобый и бесстрашный типовой урел в телогрейке и лихо заломленной на затылок трикотажной шапке.
Урел по-паучьи вскарабкался на забор и перемахнул в сад. Соприкоснувшись с поверхностью Острова, он что-то достал из-за пояса – типа бутылки с зажигательной смесью.
И тут появилась Анна. В распахнутом демисезонном пальто, с развевающимися кудрями, она смело направлялась навстречу злокозненному вторженцу. Конрад бегом бросился ей наперерез – он должен был встрять, поучаствовать, не допустить. Увы, дыхалка его не слушалась и ноги путались – он никак не успевал оказаться между урелом и Анной. И вот те сошлись лицом к лицу и с вызовом уставились друг на друга. Урел словно застыл с воздетой дланью, в которой держал смертоносную бутыль, а Анна рысьим взглядом как бы сверлила его естество – в этом взгляде не было человека.
Конрад подбежал, запыхавшись, и остановился подле дуэлянтов вроде как третейский судья. Из-за забора за поединком наблюдало человек восемь грозно-молчаливых урелов.
– Ну что, крокопиздел мой еблоглазый? – как бы нехотя, с расстановкой произнесла Анна, густоголосо и ласково. Это слышали все по другую сторону забора.
– Да я так… – сказал урел и вручил Анне то, что было у него в руках.
После этого он с ловкостью членистоногого вмиг перелез обратно и исчез за спинами тенеподобных соратников. Те ещё минут пять недвижно постояли у калитки, после чего бесшумно рассосались в спускавшихся сумерках.
Конрад же также долго не трогался с места и тупо таращился вслед удалявшейся Анне. Его поразила не столько внезапная покорность незваного гостя, сколько нехорошие слова из медоточивых уст прекрасной хозяйки.
А ещё он вспоминал неписаный футбольный закон – если мяч побывал в воротах и не засчитан, то он побывает в них ещё раз, и на сей раз он будет забит по всем правилам. Самое печальное – себе при этом Конрад примерял роль вратаря.
Спустя два дня он опять видел урлу под забором сада. На сей раз среди молодняка легко был узнаваем Дитер в сине-коричневом шарфе. Он руководил, а молодые пацанята приколачивали к забору какую-то табличку. Вышед за ворота, Конрад прочёл: «Абьект ахраняецца гасударством». – «Поручик Петцольд велел повесить. Мы теперь кореша. Не ссы», – обнадёжил Дитер. После этого сексоту было позволено час расспрашивать урелов о их житье-бытье.
Конрад записал собранную информацию и в тот же день сходил к Поручику похвастаться. Увы, тот быстро погасил его энтузиазм, сказав, позёвывая:
– Молоток ты, сексот Мартинсен, только вот нужда в твоих интервью отпала. Нынче Дитер поступил к нам на службу, и вся его команда тоже. Не будем же мы собирать компромат на самих себя! Ну, ну, не кисни… Лучше порадуйся, что наши ряды растут и крепнут. Какое, говоришь, новое задание тебе дать?.. Погоди маленечко, придумаем. А пока расслабься и отдыхай.
В посёлке теплело. По придорожным канавам звенели ручьи, рыхлый снег похлюпывал при каждом шаге, долгожданные перелётные пернатые обживали разваленные скворешни. На улицах, особенно прилегавших к железнодорожной станции, появились незнакомые лица – в частности, бродячие торговцы костным мозгом и портянками.
Один из этих торговцев привлёк нешуточное внимание Конрада – уж больно необычен для этих краёв был его товар. Он торговал гадальными картами и гороскопами – сухонький ладный старичок. И мелькнуло у Конрада смутное подозрение, что однажды он этого дедка уже видел, и даже где он мог его видеть, хотя в тот момент он был абсолютно не в состоянии фиксировать лица встречных. Но его так и подмывало задать гороскопщику прямой вопрос, хотя, скорее всего, тот уклонился бы от прямого ответа.
– Прости, отец… – по-простецки начал Конрад, не прибегая к красному удостоверению. – Это случайно не ты осенью торговал книгами в киоске в губернском центре?
– Я-то? Может, и торговал. Чем только заниматься не приходилось – как тут всё упомнить?
– Не у тебя ли я купил большую и толстую книгу о Землемере? – в лоб попёр Конрад.
Старик испытующе уставился на допросчика и молчал.
– Как это было возможно? За такой товар тебя сразу бы на месте стукнули. Книга такая только из-под полы могла продаваться, строго конспиративно. Но не в киоске же! Даже если это не у тебя я купил, ты же представляешь себе ситуацию…
– А ты – с какой целью интересуешься? – спросил, наконец, предполагаемый киоскёр.
– Ты не боись, я тебя не продам. Я не с Органов. Я сам розничной книготорговлей балуюсь, – первый раз в жизни соврал Конрад, – и вот думаю… кто держал связь с издательством? Книжка-то эта и сейчас нарасхват была бы, хорошо башляла бы, барыши приносила…
– Ну заливать-то не надо, – в два счёта раскусил старик. – Ты мне не конкурент. Ибо не знаешь элементарного: торгуй хоть воззваниями по свержению местной чрезвычайки, никто тебя не повяжет. Только ты ей, чрезвычайке, плати исправно. У нас – гласность. Полная свобода слова!
Дед просиял во всю физию и блаженно захохотал:
– Ибо что оно может, слово-то?..
В один из таких ростепельных дней Анна внезапно заявилась к Конраду и сообщила ему:
– Конрад… Вас какая-то барышня спрашивает. Очень надо, говорит.
Конрад кое-как застегнул штаны, насилу слез с печки, долго нашаривал валенки, тупо соображая: что ещё за барышня? Нешто кто из урловых марух имеет до меня поручение? А может быть, прошлогодние неформалки вернулись? Так и так общаться что с теми, что с этими у него не было ни малейшего желания.
Но топая к калитке, он заподозрил нежданное. В фигурке женщины, топтавшейся у ворот, узрел он что-то родное, знакомое, милое. И чем ближе подходил к калитке, тем крепче убеждался, что к нему пришла Натали. Одна, без мужа? Что выудило её из города за триста вёрст и привело на отдалённый Остров? Конрад и обрадовался, и напрягся одновременно: не к добру, ой, не к добру сей неурочный визит.
В самом деле, то была Натали. Она стояла, переминаясь с ноги на ногу, у врат Острова, в каком-то невзрачном полушубке и невзрачном же полушалке. Расцеловались.
Конрад не сомневался, что гостью можно провести к себе в комнату, раз ейный муж давно уже без приглашения и запанибрата вхож в клировский дом. Но по пути успел заметить, как грозно и укоризненно, исподлобья взирает на происходящее Анна, и усомнился – правильно ли он делает. Явно неправильно, и значит, его ожидает порядочная взбучка. Но поздно что-либо менять, да и куда ему вести Натали? Не в рюмочную же и не к водокачке. А у него в комнате хоть содом и гоморра, да всё же не совсем геморрой, и печка греет исправно.
Натали разделась и осталась в сером свитере и чёрной юбке. Она выглядела очень по-домашнему, и по-хозяйски сразу же потянулась к венику с совком, чтобы сгрести накопившуюся пыль и вышвырнуть ненужный хлам. Конрад было заупирался, но потом понял, что в неприбранном помещении Натали разговаривать не захочет, и смирился. Даже сам разложил аккуратными стопками растрёпанные книги и подобрал нестиранные носки.
Уборка отняла добрый час, и весь этот час Конрад оставался в неведении относительно цели визита Натали. Ясно было, что она не очень спешила. Странно всё это.
Наконец, гостья уселась на кровать напротив Конрада и заговорила. Она сказала, что обратный поезд у неё только завтра вечером, а машину реквизировало государство, сочтя, что хватит мужу и служебного авто.
Конрад вспомнил свою поездку на поезде минувшей осенью и поёжился от мысли, как Натали поедет, сдавленная со всех сторон чужими потными телами, охочими до чужой собственности. Но что поделать – сотрудники органов должны всегда быть в гуще своего народа.
Потом Натали сказала, что маленький остался с приехавшей погостить бабушкой, а так она, Натали, явилась бы на пару дней раньше. Потому что ещё пару дней назад стало ясно, что в жизни её наметился перелом.
– Руди уходит от меня, – сказала наконец Натали.
– Как так? К кому? К-куда?.. – заинтересовался Конрад.
– Ты понимаешь… он же, как и я, из столицы, по распределению попал сюда – приказы не обсуждаются… а теперь он возвращается в родной город.
– Почему же ты вместе с ним не возвращаешься в родной город?
– Потому что там он женится на любимой племяннице одного генерала. И будет на этого генерала работать. Как раз вакансия освобождается. Он ведь университет закончил, Руди-то… физико-математический.
– Вот как? Я давно подозревал, что у него не одно высшее оборонное училище за плечами… И что же – прощай, карьера местного уполномоченного, полновластие над жизнями и смертями тысяч людей… ради кабинетной деятельности?
– Руди всегда тяготился оперативной работой. Он же попивал, ты же знаешь… Но тут представился такой шанс… такой шанс… Генерал помнит его по университету ещё, но условие поставил – женись на моей доч… племяннице, то есть. И Руди согласился.
– Красивая хоть? – Конрад был в своём репертуаре.
– Господи… какое это имеет значение? Да пусть хоть трижды уёбище! Руди так соскучился по науке, по компьютерным разработкам… он ведь такие надежды подавал, такие надежды… Но подрался с кем не надо – и загремел сюда. А теперь вот женится на ком надо.
– А что же ты? – наконец вырулил Конрад куда надо.
– А что я? Мало ли одиноких матерей в этой стране? Обещался алименты платить регулярно… а там кто его знает? С таким покровителем он вправе творить всё, что ему заблагорассудится. Он раз в месяц ездил в столицу – ты не знал? Вот обо всём и договорился… у меня за спиной. Да он чаще в столицу ездил, чем ко мне в губернский центр. Всё больше у вас здесь пропадал. Мы уже давно, в общем-то, порознь. Ничего у нас, как выяснилось, нет общего.
– А как же ты, разведённая, будешь продолжать служить в Органах?
– В том-то и дело. Не приветствуется это. Но он говорит: с твоей грамотностью ты себе, если что, найдёшь работу и вне Органов. Но я же посвящена в какие-то секретные дела…
– Серьёзно?
– Да где там… Я же так, на подхвате, машинисткой больше… никогда особо и не вдумывалась в то, о чём речь идёт. Но считается, что я в курсе каких-то очень таинственных тайн. Отпустят ли меня так просто… или арестуют? Или прикончат? От них всего можно ждать.
– Можно, это точно. Вот только скажи – из ваших сотрудниц, что, все замужние?
– Нет, не все. Всё больше вдов. На всех мужчин не напасёшься. Мужчины в этой стране только и делают, что истребляют друг друга… Но я-то не вдова.
– И что же ты думаешь делать?
– Руди говорил: ничего с тобой не случится, генерал о тебе позаботится, и мужа тебе найдёт. Хочется, конечно, верить, но я стала такая… недоверчивая…
– Короче… – Натали насупилась. – Что я думаю… Нам с тобой надо вновь сойтись.
– Это как это?
– А вот так. Ты на мне опять женишься. Жить будем у меня в губернском центре… ну да ты был в квартире, всё видел. Мальчик сохранит прежнюю фамилию, а я возьму твою…
– Лихо, – только и мог изречь Конрад. Он почувствовал, как что-то тёплое поселилось у него в животе и стало разливаться вверх и вниз по всему нутру.
– …работать будешь тем же, что сейчас… Уж ты извини, я знаю, что ты в органах числишься.
– Подобное тянется к подобному…
– Только тебе нужно будет перейти в штат.
– А меня возьмут в этот самый штат? С моим-то диагнозом?
– Конечно, возьмут. Ведь мужчин катастрофически не хватает. Я уже у шефа нашего спрашивала. Он даст добро…
– Мужчин-то не хватает, это ясно. Но мужчина ли я, посуди сама…
– Диплом у тебя сохранился? – Натали словно не слышала последних слов Конрада.
– Да. С собой…
– Вот и чудесно. Диплома хватит, а медицинской справки никто с тебя не потребует. Ты грамотный, а это сейчас очень ценят. Тебя не угонят на фронт, не переведут в оперчасть… Вот только печатать тебе надо научиться. Компьютер освоить.
– Где мне…
– Освоишь. Ты же не клинический идиот. Жить захочешь – освоишь.
Воцарилось долгое молчание.
– Слушай… – сказал, наконец, Конрад. – Всё это так неожиданно… На рождественскую сказку похоже. Сегодня случайно не первое апреля?
– Послезавтра.
– Но ты понимаешь, в чём дело… ты же ведь меня не любишь…
– Ну, что ж поделать… Ты меня тоже, поди, не любишь. Я же видела твою хозяйку… Но ничего, надо быть реалистами. Выбирать синицу в руках.
Конрад вновь надолго замолк.
– Натали, – начал он спустя какое-то время. – Я с радостью составлю тебе… нет, не компанию… Буду твоим мужем, короче. Но ты реально… сможешь со мной жить? Ты стерпишь мою безрукость, мою неряшливость, моё бессилие? Ты в самом деле сможешь жить со мной под одной крышей?
– Как говорится… стерпится – слюбится. Уж лучше ты, чем эти… нынешние кадры. – Натали вновь поморщилась и махнула рукой, что при обычной скудости и скупости её жестикуляции было серьёзным проявлением чувств.
– Чем же тебя не устраивают молодые кадры? – поинтересовался Конрад.
– Грубые они.
– А я что – деликатный?
– Ты – мягкий.
– Ты хочешь сказать: мягкотелый.
– Не цепляйся к словам, Конрад. Да, ты угловатый, но не вульгарный. Ты ещё что-то плохое про себя сказать хочешь?
– Зачем? Ты и сама всё знаешь.
– Откуда тебе ведомо, что именно я про тебя знаю? Ты такой… домашний, хотя и хочешь казаться диким. А дикость тебе не к лицу.
– Ишь ты, как заговорила… Прямо для моей «Книги легитимации»! Жалко, что я её уже в другом ключе пишу… Но ты учти: за последнее время я страшно обленился. Если раньше я всё время суетился и поспешал, то теперь делаю всё как в замедленной съёмке. И всего боюсь. Ночью – а я ночами не сплю – то и дело вздрагиваю от малейшего шума. Мнителен стал. По дому почти ничего не делаю, хозяйкины харчи трескаю. Плохой из меня защитник и добытчик никудышный. И по-прежнему ничего не умею.
– Вот удивил! – отмахнулась Натали и тут же переменила тему:
– Кстати… ты что же, получается, живёшь у нашей несостоявшейся учительницы музыки?
– То есть?
– То есть, я уже видела эту женщину. Руди говорил, что она лучший учитель музыки в этой стране…
Конрад лишний раз подивился, у кого Натали выучилась говорить «эта страна», и заодно порадовался за чадо бывшей жены.
– За чем же дело стало… занимайтесь с ней.
– Ты что… мы – в городе, она – тут… Раньше Руди имел в виду, что будет возить её к нам в город… и платить ей бешеные деньги. У меня таких денег нет.
Вдруг Конрада сотрясло внезапное прозрение:
– Натали! А как фамилия этого генерала?
– О! Это птица высокого полёта… Фамилия его – Фарнер. Она тебе что-нибудь говорит?
– Ага!.. И он отпускает за кордон великого программиста в погонах фон Вембахера… ради того, чтобы заменить его программистом в погонах Петцольдом?
– Откуда ты всё это знаешь? – изумилась Натали.
– Да так… Мир тесен, настолько тесен, что мы постоянно сшибаемся лбами друг с другом.
– Вот, считай, что и мы с тобой опять сшиблись лбами. Судьба, значит, – выехала Натали на главную колею.
– Красивая судьба… Всё так внезапно, – сказал Конрад. – Где ты остановилась?
– В полицейском участке, где же ещё. Ты там бывал?
– Конечно, – беззаботно ответил Конрад, внутренне содрогнувшись своему декабрьскому походу в логово Поручика. – За ночь я соберу пожитки, их у меня немного. Твой бывший-то на месте?
– На месте. Я ему всё сказала, и он одобрил.
– Как он вообще отреагировал на твои матримониальные планы?
– Ему, по большому счёту, всё равно. Но если честно, он очень смеялся…
В это время в дверь постучали. То была Анна. Постучав, она не дождалась того, что ей откроют дверь или скажут «Войдите», а сама бесцеремонно вошла и показала на часы.
– Гражданка, – сказала Анна. – У меня тут не дом свиданий. Вам пора бы и честь знать.
Натали покорно кивнула и стала торопливо собираться.
– Я провожу тебя, – сказал Конрад.
– Не надо, – ответила Натали. – А ты… где ты будешь кантоваться всю ночь?
– А что – меня не пустят? Твоего мужа и своего соратника?
– Не пустят. У них много арестованных, и всех надо допросить. Вчера туда доставили очень много народу.
– Что ж ты, на попутке?.. Попутки опасны.
– Да нет, я за рулём. Мне Руди служебную машину дал.
Слона-то Конрад и не приметил. Выглянул в окно: действительно, чуть в стороне от калитки – стоит машинка. Атрибут классовых врагов – людей, способных научиться водить машину. Породниться с классовыми врагами и позорно, и почётно в одно и то же время.
«Опять этот долбаный енерал», – думал Конрад. – «Знать, дюже важная шишка». И он стал думать, как разжиться информацией о всевластном службисте, для которого, похоже, в этой стране не было ни преград, ни секретов. Спрашивать было некого, и Конрад обратился к лэптопу, который Стефан по беспечности забыл (или намеренно оставил) на Острове.
Целых полдня понадобилось Конраду, чтобы подключить чудесный чемоданчик к модему, и ещё полдня – чтобы зайти в Интернет. Ибо действовал Конрад дедовским методом научного тыка – а этот метод затратен и хлопотен. Но к утру он с грехом пополам вошёл в поисковую систему и буковка за буковкой набрал в строке поиска «генерал Фарнер».
Как и ожидалось, нашлась только официозная информация: биография славного генерала, изобиловавшая боевыми действиями в горячих точках и завершавшаяся его назначением на пост министра Чрезвычайной Безопасности. Даже парадного фото в сети не обнаружилось, а то, что генералу под шестьдесят, было и так ясно. Правда, на зарубежных сайтах его пару раз назвали «серым кардиналом», а однажды даже – в списке возможных преемников нынешней Главной Сволочи, свирепой, но хворой.
Радуясь своей удаче – самостоятельно освоил Интернет! – Конрад стал блукать по виртуальным просторам в поисках сведений о Землемере. Интернет выдал подборку обзоров о том, что землемер (также землеустроитель) есть «техник или инженер, снимающий планы земельных угодий» и биографий исторических личностей, подвизавшихся на ниве землемерства. Однако переформулировав запрос в «Землемер. Мафия» или «Землемер. Бандформирования», Конрад постепенно набрёл на то, что нужно. У матёрого крутого гангстера обнаружился свой фан-сайт, правда, неофициальный, и ряд столь же неофициальных жизнеописаний. Среди них значился, среди прочего, полный текст опуса А. Клир (или Клира). Текст один в один совпадал с книжным.
Из «Книги понятий»:
Блокада Города Крысожоров не могла продолжаться долго. Боевой дух правительственных войск был не на высоте; его подтачивали отсутствие дисциплины и массовое дезертирство. Да и самодеятельные партизанские отряды постоянно трепали регулярную армию. Требовалась скорая и убедительная победа. Поэтому командование решило провести спецоперацию.
Однажды, среди бела дня несколько десятков десантников из элитных частей были сброшены с вертолётов на крышу неприметной хибары, которую, по данным разведки, облюбовал себе Землемер в качестве резиденции. Располагалась она на окраине города, поэтому прорвать линию её защитников здесь было несложно. Несколько колонн бронетехники в прямом смысле смяли несколько городских кварталов и расплющили под своими гусеницами всякого, кто попался на пути. Специально обученная группа захвата при поддержке с земли и с воздуха принялась прочёсывать каждую пядь прилегающей территории в поисках злейшего врага центральной власти.
Приказ был – взять Землемера живым. Его соратников и приспешников ждали лютые средневековые казни, но сам команданте должен был многое рассказать следствию. В частности, о своих связях внутри страны и с заграницей, о планах создания фронта народного неповиновения, ставящего задачей объединение всех антиправительственных сил в широкоформатную коалицию, о контактах с опальным олигархом Айзенбергом, затевавшим масштабный мятеж, а также с лидерами националистических движений и этнических преступных синдикатов. Поэтому больше всего проводившие спецоперацию боялись того, что припёртый к стенке главарь наложит на себя руки.
Однако наихудшие опасения федералов не сбылись. Собственноручно застрелив нескольких нападавших и получив ранение в ногу, атаман был скручен в бараний рог и квалифицированно оприходован превосходящими его силами противника. По привычке спецназовцы особенно рьяно прошлись коваными сапогами по его гениталиям, в пылу схватки позабыв, что они совершенно нефункциональны. После этого ценная добыча была препровождена в штаб армии. Город Крысожоров по инерции сопротивлялся ещё три дня, и его пришлось основательно пожечь и порушить, прежде чем он, оставшийся без хозяина, не впал в агонию и не капитулировал. Решающую роль здесь сыграло то, что федералы вовремя вбросили на местный рынок большое количество продовольствия. Оголодавшее население за фунт хлеба было готово выдать любого из видных землемеровцев. Затем ещё целую неделю осатанелая солдатня сотнями расстреливала мужчин и насиловала женщин, «зачищая» покорённый город.
«Странно, – сказал себе Конрад. – Сколько раз я уже читал эти строки, и даже не задумывался о том, что губернский город не производил впечатление разграбленного пару месяцев назад. Я, конечно, далеко не во всех районах был, но… Никаких следов зачистки…».
И опять – вперился в экран.
В штабе армии Землемера поместили в железную клетку, запихнули в самолёт и привезли в столицу, где поместили в самую неприступную и знаменитую своими казематами крепость. Через эти застенки за последние двести лет прошло несколько поколений именитых узников, не исключая и собрата вновь прибывшего по ремеслу – Хрубеша. Во времена монархии узники парились в одиночных камерах и сходили с ума от многочасовых бесед с пауками и тараканами – единственными их собеседниками на протяжение долгих лет.
Но при Совдепах власти не могли позволить своим недругам такую роскошь как одиночное заключение – число зэков возросло на порядки. Поэтому даже в старейшей и почётнейшей тюрьме Страны Сволочей контингент был вынужден спать в две, а то и в три смены: пока одни, тесно прижавшись друг к дружке, почивали на нарах, другие, сгрудившись напротив, терпеливо ожидали своей очереди переворачиваться на другой бок по команде. Контингент составляли уже не романтики, грезившие о братстве и равенстве, но реалисты, охочие до чужого добра и чужих жизней, коронованные и некоронованные воры в законе и их многочисленные паладины.
С кем вместе в камеру определить Землемера, власти колебались долго. Сначала на радостях хотели подселить его к землякам – те ни за что не встретили бы атамана с распростёртыми объятьями: ещё бы, во время своего единоличного правления в Городе Крысожоров он не терпел конкуренции и калёным железом выжигал любое самоуправство, лишив подвластной территории множество удельных царьков. Но, к счастью, Органы вовремя вспомнили, что в камере с земляками Землемер не прожил бы и минуты: его тут же подняли бы на ножи и сделали бы из него дуршлаг – а Органам, напомним, он был нужен живым. Ни за какие коврижки нельзя было селить его и с политическими – он в одночасье бы всех взбаламутил, и покой покойнейшего из мест в Стране Сволочей был бы непоправимо нарушен. В результате, было принято соломоново решение – посадить Землемера с блатными из нейтральных областей, кому лично он не перешёл дорогу.
Блатные встретили нового сокамерника настороженно. До них, естественно, докатились слухи о его славных подвигах. Но они не давали ему права рассесться в углу с закрытыми глазами и переводить дух после сеанса пыток в кабинете следователя. Видно же, что откачали, вдосталь окатили водичкой – теперь изволь, как все, по всей форме пройти «прописку», получить надлежащий статус в камерной иерархии и благословение или отсутствие оного от пахана. Поэтому ему не совсем вежливо объяснили, что, возможно, он ошибся, выбрав для отдыха именно этот угол. Гораздо комфортнее будет сокамерникам, если он переползёт в тот угол, где параша.
Землемер отверз единственный глаз, которым в тот момент мог видеть своих сожителей, и довольно грубо предложил им оставить его в покое.
В ответ ему пришлось выслушать в свой адрес гневные выкрики, суть которых сводилась к тому, что в этой среде он абсолютный салага и сявка, презренный первоходок, потому что благоденствие на фешенебельном забугорном курорте – не в счёт. Наиболее великодушные из сокамерников напомнили, что оказавшись в обществе, надо жить по законам общества, ибо если ты плюнешь на общество – оно утрётся, а если общество плюнет на тебя – утонешь.
Землемер не внял и злонамеренно продолжал лежать. Тогда очень-очень широкоплечий зэк приблизился к нему и попробовал поднять его на ноги. В результате широкоплечему сделалось очень больно, потому что Землемер со времён забугорного курорта каждодневно практиковал восточные единоборства и умел проводить приёмы даже лёжа.
Тут вся камера угрожающе замолкла, и блатные несколькими шеренгами стали надвигаться на Землемера, предполагая коллективно доставить ему те удовольствия, которых недодали халтурщики-следаки, а впоследствии – «опустить». Знатоки, конечно, станут спорить, насколько опускание тут было по понятиям, но дело в том, что смотрящий камеры получил указание от коменданта крепости – опетушить новичка всенепременно, как бы тот себя ни вёл. И Землемер об этом догадывался, иначе, может быть, давно бы выжал «Здрассьте» сквозь кровавое крошево зубов.
Но не все зубы он потерял при допросе. Когда кольцо вокруг него сомкнулось безвозвратно, он вдруг привстал, по самый корень засунул большой палец десницы в рот и смачно сомкнул челюсти. После чего с негодованием и презрением бросил откушенный перст к ногам сокамерников.
Доходя до этого места в книге, Конрад всегда спрашивал себя, не был ли Землемер знаком с творчеством Густава Майринка. У того, в «Ангеле западного окна» аглицкий зэк елизаветинской эпохи тоже зубами отчекрыжил себе палец. В подтверждение тезиса о том, что боль и страх – одно и то же.
Эпизод в крепости был предпоследним в книжке про Землемера. Кончалась она тем, что беспалого зэка, по слухам, стал допрашивать сам генерал Фарнер. Уже кошерно, без применения пыток.
Но в Интернете, как на грех, больше не нашлось ни единого сайта, где имена Фарнера и Землемера были упомянуты вместе.
Зашёл Конрад и на сайт столичного спортклуба «Стрела». В связи с этим клубом фамилия вездесущего генерала не значилась – ну оно и понятно: зачем лишний раз светиться? Зато не раз и не два в связи со «Стрелой» встретилось словосочетание «Рудольф Петцольд» – оперуполномоченный Органов в одном из районов N-ской губернии, оказывается, руководил мотоклубом и курировал секцию боевых искусств. Самозабвенно изучал Конрад многообразные направления деятельности «Стрелы», всевозможные инициативы по работе с трудными подростками, проводимые состязания по разным видам спорта. Вскоре Интернет окрасился для него в сине-коричневые тона. Особое внимание Конрад уделил, естественно, стрельбе из лука под эгидой «Стрелы». Долго ему не удавалось найти ничего заслуживающего хоть малейшего интереса, пока на одном из сайтов он не наткнулся на значившееся в списках участников соревнований знакомое имя «А. Клир». Пол и географическая локализация этого члена клуба определению не подлежали. Соревнования имели место в Столице почти год назад. Всего-то.
В списках чемпионов по стрельбе из лука никто по фамилии «Клир» не значился. Это где-то даже успокоило Конрада: не может один и тот же человек быть лучше всех на всех фронтах. Но вскоре он догадался пробить редкое сочетание инициала и фамилии среди чемпионов по другим видам спорта и нарвался на сообщение о том, что некто А. Клир заняла (заметим, заняла, а не занял) первое место в городских соревнованиях по бадминтону. Конрад вспомнил, что Анна со Стефаном не раз брали в руки бадминтонные ракетки. Правда, новость была древняя, едва ли не за первый год существования Сволонета.
Кстати, на большинстве англоязычных сайтов значилось «I gotta hear you sing», но и вариант с конечным «scream» допускался.
А ещё не мог взять в толк Конрад, каким образом работал Интернет, если электричество на участок поступало от автономного генератора. Знать, кто-то уже овладел секретом беспроводного подключения. Технический прогресс не стоит на месте.
Наступало утро. Конраду было пора собираться.
Так жаль было расставаться с только что освоенным компьютером, но Конрад утешал себя мыслью о том, что у Натали дома есть такой же, если не лучше.
Собрался он за полчаса. В рюкзак легли практически те же вещи, что и были привезены сюда. Кроме давно уже проданного тома Шопенгауэра – его место заняла исписанная под завязку «Книга понятий».
Надо было ещё попрощаться с Анной. Та, конечно же, давно уже встала и бродила по саду, в рассуждениях, как оптимально провести весенний садовый сезон. Почему-то необходимость прощания вызвала у Конрада что-то вроде чувства вины и полноценное чувство утраты. «Ничего, ещё увидимся. Будет дитятю музыке учить», – утешал себя внезапный беглец. Как-нибудь Анна в одиночку управится с садом – неизвестно, чего от него, Конрада, было больше: помощи или вреда. А Остров в целом… Кто-то будет им заведовать с отбытием Поручика? Вот вопрос. Ломая себе голову над этим вопросом, Конрад не преминул в который уже раз подрочить на хозяйку, после чего понял, что во время соитий с Натали наверняка будет думать только об Анне. Но думать о чём или о ком угодно не возбраняется. Интересно, можно ли будет наведываться сюда в гости?.. И вообще – он как сотрудник Органов должен сделать всё, чтобы Остров оставался неприкосновенен. Хватит ли у него полномочий? Там посмотрим. Сейчас надо устраивать своё собственное бытиё. А уж потом думать о чужих проблемах. Чужих ли? Чужих ли?
Урелы уже протоптали дорожку в сад. Влетит ли мяч в те же ворота? Допустит ли Дитер? Нет, вряд ли – он наверняка предупреждён Поручиком. Но как же он сам, Конрад-то проживёт без Острова? Прижился, пригрелся, прирос. Как он без здешних перламутровых рассветов и рубиновых закатов?
С рюкзаком на горбу, пошатываясь от тяжести, вышел Конрад в сад.
Анна, естественно, была там. У яблони. С сантиметром и записной книжицей.
Её пушистые густые волосы трепал ветер.
Шаль трепетала на плечах.
Что ей сказать?
– Анна… в моей жизни произошла крутая перемена. Я вас, кажется… покидаю.
– А-а, вот как?.. Ну что ж, покидайте.
– Вы простите… если что не так. Позволите вас навещать?
– Нет, зачем же? Прощаетесь – так прощайтесь. Зеркалом дорога.
– Ну… авось ещё свидимся, – настаивал Конрад.
– Авось, авось, – ответила Анна и широко улыбнулась. О чём она в эту минуту думала, было решительно непонятно.
– Ваш друг… из Органов… тоже вас скоро покинет. Как же вы тут одна будете?...
– Про друга – заметьте, вашего друга, не моего – я в курсе. Но за меня не переживайте. Прорвёмся.
– Он назначил кого-то вместо себя? – не унимался Конрад.
– Может быть, может быть… Вы не о том сейчас думаете, Конрад. Уходя уходите. И будьте счастливы.
Примерно десять секунд длилась немая сцена. Вслед за тем Анна развернулась спиной и вернулась к своим занятиям.
«Не пропадёт», – решил Конрад.
И по снежной каше, по распутице, под лучами рассветного солнца поковылял навстречу собственному счастью.
21. Корона симулякров[12]
Чтобы пройти к будущей суженой, Конраду потребовались высокие охотничьи сапоги – те в хозяйстве Клиров отыскались, хоть и на два размера меньше. Кое-как Конрад всунул в них ноги, вновь нахлобучил на горб рюкзак и опять затопал по знакомому шляху. Сплющенные пальцы на ногах болели неимоверно, но путника окрыляла любовь – не эрос, не агапэ, не филиа, а гремучая смесь жалости с благодарностью. Проваливаясь по колено в рыхлый тающий снег, спасался Конрад думами о том, как заживёт он с Натали в губернском центре, как будет пользоваться центральным отоплением, которое периодически включали в городе, как будет столоваться в лучшей в городе эксклюзивной столовой и в какие игры будет играть с сыном Натали и Поручика. Он понимал, что у него нет шансов ни в шахматах, ни в лото, ни в настольном хоккее – но главное не победа, а участие. Кроме того предвкушал он, как всё свободное время будет торчать в Интернете и по уши тонуть в россыпях разнообразной информации, чтобы иногда отвлекаться от воспоминаний и текущих неприятностей. А неприятности на новой работе обязательно воспоследуют – к гадалке не ходи. Главное – особо не грузить жену своими проблемами, и всё, может быть, устроится и устаканится. Если, конечно, не расстреляют.
О судьбе Острова Конрад в эти минуты не думал, да и сладкий образ Анны временно померк в его сознании. Реальная, зримая, близкая Натали – не красавица, но миловидница вытесняла и застила космически-далёкую, гранитно-неприступную женщину, делавшую всё, чтобы лишить Конрада последних крошек легитимации.
На сей раз Конраду не грозило заблудиться. Солнце светило ярко, и грязная колея от колёс внедорожника, на котором вчера приезжала Натали, отчётливо читалась среди лужно-снежного месива. Красная книжица для предъявления патрулям была у Конрада наготове. Но ни один патруль ему не встретился.
Наконец, изрядно выбившись из сил, стоптав ноги в кровь, Конрад достиг развилки, за которой открывался вид на здание Органов – двухэтажный гладкий куб с подслеповатыми щёлками вместо окон. На крыльце высился бдящий часовой. Несмотря на боль, Конрад почувствовал внутри какое-то тепло, словно домой пришёл.
– Куда? – напрягся часовой и навёл на Конрада ствол.
– Свои, – устало улыбнулся Конрад и предъявил ксиву.
– К кому? – не унимался часовой и ствол не отводил.
– Ну, к его благородию Петцольду. А точнее… к фрау Петцольд.
Часовой ткнул дулом едва ли не в подбородок Конраду и сказал нечто. Постепенно до Конрада дошёл смысл его слов: пущать не велено, лучше убираться подобру-поздорову.
«Допрашивают», – подумал Конрад и покорно спустился с крыльца. Там он без сил опустился на бревно, заменяющее скамейку, скинул рюкзак... – «Буду ждать».
Пока Конрад ждал, снявши сапоги и прохлаждая израненные ноги, в его голову стали приходить разные мысли. Мысли были поначалу странные, затем – тягостные, затем – страшные. Взыграло очко. И тогда Конрад, как был, в одних носках снова поднялся на крыльцо, навстречу недружелюбному дулу.
– Послушай, братец, – сказал Конрад часовому, тщательно следя за тем, чтобы тон его был как можно более спокойным и мирным. – А фрау Петцольд вообще-то в здании?
Часовой замотал головой и выстрелил в воздух. Конрад опешил. Поджилки его затряслись, ноги подкосились, и он наверняка упал бы навзничь и скатился бы с крыльца, если бы в этот момент на звук выстрела не высунула голову из входной двери Натали. Конрад тут же передумал падать. Натали ещё какое-то время не выходила из дверей и дёргала телом – похоже, за её спиной шла какая-то возня, и кто-то определённо мешал ей сделать шаг по направлению к Конраду. Но внезапно возня стихла, и Натали осталась снаружи. Как и вчера, она была в штатском. Часовой козырнул ей, и тут только до Конрада дошло, что в декабре часовой был другой, а сегодня на страже не дремлет вчерашний урел.
Натали ловко увернулась от широко расставленных передних лап Конрада и кивком предложила ему спуститься к бревну. Внутри Конрада исподволь стали обрываться какие-то нити.
– Выслушай меня спокойно и не бухти. Замуж за тебя я не пойду. Я, конечно, виновата, что вчера обнадёжила тебя. Но ты виноват тоже: что ты наговорил о себе? Тебя женщина о помощи просит – а ты только о себе думаешь: достоин, не достоин… Представил себя как что-то желеобразное – значит, ты и есть желеобразное. При этом ты знаешь, я по-прежнему хорошо к тебе отношусь… Но сам посуди: какой из тебя муж? Ты просто говорил мне вчера правду… так не обижайся на меня за ту же самую правду.
Натали сказала этот монолог на одном дыхании, словно боясь, что если возьмёт паузу, то не сможет продолжить. Она смотрела куда-то поверх плеча Конрада и морщила лоб, что весьма портило её лицо. Он тоже сморщился, сгорбился, съёжился. Он курил одну за другой. Она тоже попросила сигарету, получила, неумело затянулась. Конрад болтал вытянутыми ногами без сапог и осмыслял. И вдруг он хрипло заистерил:
– Натали, что случилось? Ведь вчера мы обо всём договорились… Ты – сотрудник Органов. Я… тоже в некотором смысле… сотрудник Органов. Подобное тянется к подобному… Сойдёмся, сблизимся… Будем малóго совместно растить… Я ему… свою фамилию дам. Новых деток… наклепаем. Ведь ты же сама говорила – в Органах незамужние не приветствуются…
– Не приветствуются… Но ты за меня не переживай. Я одна не останусь.
Конрад постепенно сообразил, что к чему.
– Этой ночью, что ли, нашла?..
– Ну… считай что так. Руди познакомил меня с Дитером.
– Дитер?.. Да он же, поди, читать-писать не умеет! – вдруг у Конрада прорезался голос и взлетел на «си» первой октавы.
– Какое это имеет значение? Ты же сам всё понимаешь…
– Всё понимаю! – а вот перейдён порог и второй октавы. – Как тогда к хронику ушла, так сейчас – к бандюге!.. А всё потому что у него писька длиннее моей!
Часовой прекрасно слышал эти слова Конрада и, кажется, прыснул со смеху.
– Конрад… Прошу тебя… Не надо…
– Писька длиннее моей! Во всём и везде! Руки ловчее, ноги крепче, башка хитрожопее! – Он так и сказал «башка хитрожопее». – А суть одна: хуй, бля, длиннее!
Конраду было всё равно, слышит его часовой или нет. Точнее, он даже хотел, чтобы часовой его слышал.
Натали ещё глубже вобрала голову в плечи и терпеливо слушала причитания бывшего мужа, так и не ставшего будущим.
– Хочешь, я сапоги тебе принесу по размеру, – только и пролепетала она. – Там в каптёрке много разных…
И тут Конрад стих.
– Хочу, – сказал он.
Натали тут же распрямилась, подобралась, приосанилась, а Конрад ещё больше свернулся в шар. Все верёвки внутри него были уже оборваны, и он обмяк. Ноги стыли и ныли.
Часовой откровенно скучал.
Через пять минут Натали явилась вновь, с сапогами. Те оказались Конраду впору, и даже какой-то запас оставался. Конрад поблагодарил Натали и вскинул рюкзак на закорки. За своё поведение ему уже было стыдно.
Рюкзак заставил его качнуться вперёд, и в этот момент Натали проворно и скоро поцеловала его в губы. От раскоряченных дланей она уже ловко увернулась, взбежала на крыльцо и – навсегда исчезла за дверью. Конрад стоял и смотрел ей вслед, поводя рюкзаком вправо-влево и что-то бормотал себе под нос, типа: «Отсос Петрович». Часовой прохаживался взад-вперёд. Была тишь.
И вдруг Конрад совершил поступок. Он не был результатом мыслительного усилия, он свершился сам собой. Рука сама нашарила в штанинах красную корочку и что есть сил швырнула в сторону крыльца.
Другое дело, сил этих было очень мало. В школе Конрад метал мяч и гранату на расстояние, втрое меньшее норматива. Поэтому позорная ксива не врезалась в морду часового и не пала к его ногам – она беззвучно шлёпнулась в близлежащую грязь. Часовой, похоже, ничего и не заметил. Он всё так же мерно двигался взад-вперёд. Ну и бес с ним.
Конрад тяжело развернулся и учапал восвояси.
На обратном пути погода испортилась.
Точечная терапия: веющий в подвздошье ветер. Хлипкая морось, хлюпкий нос. Свинцовая мокрядь, суровая сопель.
Посвист в лёгких. Лёгкость в ногах. Люфт в голове.
Ввечеру Конрад добрался до Острова. Он долго стучал и звонил – всё тщетно, но вдруг вспомнил, что не сдавал Анне ключ. Да она его об этом и не просила. Словно знала всё наперёд.
Конрад повернул ключ в замочной скважине и порадовался тому, что Анна его не встречает. Остров ждал его. В холодильнике, как обычно, стояла для него каша. В его комнате на столе аккуратной стопкой были сложены книги по алхимии и химии. Ноутбук был наготове. У Конрада впервые за десять месяцев шевельнулось что-то вроде чувства хозяина.
Он не задавался вопросом – где сейчас Анна, что делает. Включил компьютер, принялся закреплять приобретённые давеча навыки. Наткнулся на серию сообщений о взрывах в многоквартирных домах больших городов. Во всех этих сообщениях речь шла о взрывчатом чудо-веществе, которое в книжках по химии не значилось. И Конрад стал собирать информацию об этой новомодной субстанции.
Вскоре стемнело, и в дальнем углу дома медвяно заплакала виола. Он был дома.
Правда, ближе к ночи в голову полезли мысли о том, что его красная корочка, возможно, уже обнаружена у крыльца Дома Общественного Призрения, и что вряд ли его легкомысленный демарш сойдёт ему с рук. Конрад приготовился к встрече возможных гостей: наточил топор и положил его под подушку, чтобы в случае ночного визита задорого продать свою жизнь. От возбуждения у него даже прекратился насморк, и он достал из рюкзака полуисписанную Книгу Легитимации, чтобы до появления супостатов успеть исписать её ещё. Среди строк, лёгших на страницы Книги в эту ночь, были такие.
Из «Книги легитимации»:
ПИСЬМА НИКОМУ 3
Бумага всё стерпит. А дисплей?
Можно ненавидеть совдепскую власть за то, что она приучила граждан к нехорошему императиву «Умри ты сегодня, а я завтра». Но ненавистники совдепской власти забывают о том, что наряду с ним она вбила в сознание также императив очень ценный: «Не верь, не бойся, не проси».
Особенно если вспомнить, что до совдепской власти народ наш только и делал, что верил, боялся и просил.
Поди-ка, выскажись на тему, выходящую за рамки себя. Скандал. Ибо всяк только себя высказать может. Другое дело – насколько этот всяк широк, сколько невсяков в себе объемлет. А я, к чему ни прикоснусь, в себя превращаю. Никого не объемлю. Сам себе равен.
Бессилие – наитягчайшая форма гордыни. Трусость, инфантильность, чмошность... всё, что вразрез с традицией идёт. А уж воинствующее бессилие – так просто караул. Круг десятый.
В «Культурной революции» по ТВ спорили о том, можно ли позволить народу вооружаться. В завершение модер процитировал Франклина (Веничку). На первой половине цитаты я отвлёкся, а вот вторую ухватил, и постарался реконструировать первую, базируясь на менталитете демократов осьмнадцатого века, как я его на данный момент понял.
Вышло вот что: «Тот, кто призывает ограничить чужие права ради собственной безопасности, не достоин ни безопасности, ни прав».
Ишшо в той же передаче, про оружие, то есть, сказали: варвары потому болявых детей в пропасть сталкивали, что знали: слабый отыграется на ещё более слабом.
Кажется, самих варваров не спросили. Сомневаюсь я что-то в такой логике. Не только потому, что мотивы напрашиваются куда более очевидные, но и потому, что кроме Кого-то одного, каждый кого-то да слабее. На каждом, кроме этого Кого-то, есть кому «отыграться». Так что же – всех в пропасть?
Слабость – не порок. Важно, чтоб в Традицию вписывалась.
Либеральная идеология унисексуальна, традиционная – андрогинна.
Как прекрасен танцующий Хугюнау у Германа Броха и не окончательно гадок Базини у Роберта Музиля. В жопу, говорите, этого Базини имеют? Дык он сам того хочет! Мужеложство, да ещё и по любви даже традиционнее любви ромеов и джульетт.
А вот сплав полного отсутствия мужественности с гетеросексуальностью...
...пусть и особого толка. В такой гетеросексуальности забавен момент дистанции. И отсутствия себя. И какого-либо мужского элемента вообще. Вообще панфеминизм. Я ведь давно говорил, думая, что в шутку: вот бы женщин наделить только телом, а мужчин – только духом!
Надо осознать предел собственного падения, ибо предел – есть. Должен быть. Только осознав его, сможешь подняться. Я никогда в жизни не мог встать, потому что не с того места встать пытался. Всем: «Я – чмо! Я – чмо!» А они мне: «Да какое ж ты чмо? Ты гораздо чмее». Встанешь тут... А вот если знать, что чмее некуда – выработаешь защиту. Полезная вещь самопознание.
Человек – это животное, способное к садизму.
И к самопреодолению.
Конрад ненадолго прервал писанину, чтобы поотжиматься от пола и позабавляться со свинцовыми чушками. Сразу же его грудину сотрясли болезненные вибрации, а дыхалка разродилась нехорошим сипом. Пустое. Без працы не бенде калалацы. Иван Корейша.
В сущности, есть всего два умения: повелевать и подчиняться.
Страна Сволочей, родина слонов...
Два этапа – Переделка и Беспределка. Переделка ставила задачей переделать посюсторонний, земной уклад Страны Сволочей. Беспределка же, как явствует из самого названия, знаменовала её разомкнутость в Беспредельное.
Сволочной язык до мозга костей – сакрален. Сплошь воззвание к божествам, заклинание стихий. Изобилует мантрами. Весь народ от мала до велика, обоего полу и всех сословий приучен изъясняться строго по-мантерному. После всякого профанного слова, означающего какое-нибудь означаемое следуют минимум одна-две, а то и девять мантр.
В строгие времена считалось греховным использовать эти мантры в печати, передавать по радио и телевидению. Ибо только вживую звучащие из уст микрокосма, они резонируют в прямом эфире макрокосма, вызывают ответные вибрации окоёма, небозёма и матушки-земли сырой. Но во времена беспределки, тем паче с появлением интернета расшатались основы нравственности, поколебались заповеди-заветы отцов-основателей: мантры стали пригвождать к бумаге и долбать об экраны. А ведь напиши «Ом шанти» хоть 72-ым кеглем, Мировая Душа не откликнется. Она отзовётся только на глас живой.
Раз есть язык, значит есть те, кто говорит на нём хорошо.
Идеальный современный интеллектуал знает, что он такой же, как все, только хуже. Он и есть такой же, как все, только хуже. У него те же установки, потребности, ценности, но на беду, к тому же, ещё интеллект и эрудиция. Единственный путь исправить эти недостатки – превратить их в достоинства: стряпать для такого же, как он, читателя потешные историйки: лоскутья эрудиции крепко сшиваются нитью интеллекта. А линии кроя определяет потребитель – такой же, как он.
Тех, кого обычно зовут лузерами, на самом деле всего лишь вторые.
Это страна нераскаявшихся, ибо невиновных.
По Э. Канетти властитель – это Выживающий. Так оно и есть, в сфере политики. В сфере современной практической эстетики Выживающий – средоточие её этической начинки. То есть: Канетти жизнь положил, доказывая, что кто выжил, тот и прав. Гора родила мышь – нечто сие не азбучная истина? Важна подмена, внесённая масс-культурой (со времён Дюма): кто выжил, тот и добр.
В американских фильмах отрицательные нелюди имеют нехороший блеск в глазах, а порой и прожигающее наскрозь горение. Сволочная же нелюдь в совершенстве пустоглаза.
Вообще западная людь отличается подчёркнутой выразительностью лиц, сволочная – пестуемой и культивируемой в себе безликостью. Не путать с безличностью: личностей у нас побольше, чем лиц будет. Безликость, может быть, одна формирует личность.
Любимая теза о пустоте как сути Страны Сволочей.
Вертикальный зрачок.
Или «сволочная душа» – всем симулякрам симулякр, или её умело прячут. Но чтобы спрятать душу, в структуре личности должно присутствовать нечто более могучее и существенное. Тогда: стоит ли всерьёз принимать «душу»?
Весь нонешний Запад – роскошный музейный ландшафт; утомлённая полнота окончательности. А ландшафт Страны Сволочей начален, весь взывает к преображению, руины раннего неудачного опыта в череде последующих.
Это уже не страна-подросток. Молодо, да зрело.
По ящику показывали фиктивную историю об инженере, который от безысходности плюс необходимости кормить семью стал карманным вором. Только для того показали, чтобы телезритель в интерактиве ответил на вопрос: продолжать бедняге свой промысел или нет?
82% зрителей сказали: продолжать. Это меня не шибко удивило. И то, что 18% сказавших «не продолжать», посмотрев передачу, тут же выбросят её из головы и будут спать спокойно, не удивило. Даже по дискуссии в студии было ясно: если не продолжать, то лишь потому, что в конце концов сядет, а не потому, что «не укради».
Не удивляет и то, что я после передачи час ничего не делал, даже никому не писал, потому что был объят ужасом и болью (что одно и то же). Я один, на всю страну. (А если и не один, то никто ведь не покажет, кто ещё; сам я способных на такое не знаю). Удивляет, что всю жизнь я входил сначала в штопор, а потом в ступор от подобных передач, статей, устных рассказов. Дело, конечно, не в моей любви к христианским заповедям, а в том, что меня за руку схватят, прежде чем её в чужой карман запущу, и в категорическом императиве, который давно уже пытаюсь стряхнуть с себя и не могу. Как представлю себе, что кто-то в мой карман полезет, пусть ничего там и не найдёт… В общем, не могу залезть в чужой карман в двух смыслах.
А удивляет то, что я давным-давно стараюсь воспитать в себе одного из нынешних 82 процентов. И тоже – всё никак не могу. А их скоро все сто будет…
И мне среди них жить. Потому и не могу.
Новоиспечённый чемпион мира среди кинг-конгов, боксёр-тяж В… пришиб старикашку, непочтительно обошедшегося с чемпионской женой. В сволочной классике это называлось «чижика съел» со всеми вытекающими. Современное же наше общество кричит кинг-конгу «ура» и победно бросает чепчики. Ведь чемпион действовал в полном согласии с Понятиями.
Уважение к старшим по возрасту Понятиями не предусмотрено. Думаю, вот почему: Понятия регулируют жизнь воинов, а век воина короток. Кто много прожил, тот вряд ли воин. А кроме того, воин ценен репродуктивной способностью: погибнет, а семя своё всюду рассеет, так Л. Гумилёв про пассионариев писывал. А кто репродуцировать себя уже не способен, столь же лишён ценности, как неспособный убивать врагов и гибнуть всуе.
Воин ради войны отождествляет старость и слабость, и правильно делает. А слабое он уничтожает. Тинэйджеры из предместий стайками мутузят старушек, возвращающихся из продмага. Растущие организмы тоже хотят питаться. Более того – должны.
Наше общество молодо. И не только в силу средней продолжительности жизни. У него нет прошлого, оно живёт с чистого листа. Всё, что претендует называться прошлым, подлежит истреблению.
А я асоциальный элемент и как таковой подлежу истреблению – теперь ещё и в силу возраста.
Батюшка мой за бугром проявляет социальную активность: консолидирует родителей сволочноязычных психических инвалидов. На одно из сборищ был приглашён местный врач, всех неизгладимо впечатливший, ибо беззаветно верный заветам гуманизма. Мало того, что у этого врача у самого психическая дочь – так плюс они с женой удочерили ещё одну такую же. Но не в этом соль анекдота.
А в том, что в этом семействе есть ещё и третья девочка, младшая родная дочка. Она-то как раз «нормальная». Сейчас старшим сестрёнкам по девятнадцать, а ей – шестнадцать. Так вот: «нормальная» мучима жутким комплексом: почему она не такая, как сёстры? Какое моральное право она имеет быть «нормальной»?
Парадигматично.
Да устыдится сильный своей силы и умалится перед слабым.
Лишнее подтверждение того, что Запад усвоил уроки сволочной литературы.
Испокон веку высшим идеалом человека в Стране Сволочей был Праведник. Вот заноза-то.
Понятия – что дышло: куда повернёшь, то и вышло.
Если дом не строится с фундамента, попробуй с крыши.
Не боится тот, кто ни с чем страшным не сталкивался. Чтобы бояться поднести палец к огню, надо обжечься.
Не на том ли основано бесстрашие молодых?
А когда столкнёшься со страшным, обожжёшься, начинаешь бояться. Бояться – и преодолевать страх. Постоянно преодолевать. И вновь станешь бесстрашным. Ибо сталкивался со страшным слишком часто.
Самое страшное – собственная немощь. Надо накопить её вволю.
Боли нет, есть только страх.
Кто не надеется, тот не боится.
Кто не боится, тот свободен.
Заснул Конрад, как и прежде, под утро. С топором в руках – а заснул: видимо, события минувшего дня требовалось утопить в заполошном, бессвязном сновидении. Никто его сон не потревожил. По пробуждении светозарный полуденный луч ударил ему в глаза, и птичий гомон настроил его на позитивный лад.
Запахнувшись в шинель, он вышел в сад и впервые в жизни застал Анну в праздности. Она сидела на скамейке и нежилась в тёплых потоках. Она поприветствовала его, словно и не прощалась с ним давеча на веки вечные.
– Опять вы с вашим режимом… Чудесная погода сегодня… А не хотите ли сыграть в бадминтон?
«А. Клир – чемпионка по бадминтону», – мелькнуло сразу же в голове Конрада.
– Где?.. – только и нашёлся что сказать он.
– На лесном участке снег практически растаял. Конечно, лучше играть летом, но летом мне будет малость не до того.
Конрад пробормотал что-то вроде: «Ну в бадминтон я когда-то кое-как…», а Анна уже расчехлила ракетки и принялась с наслаждением чеканить воланчик. Было видно, что ракетка покорна её руке как смычок виолы, и Конрад закомплексовал. Впрочем, Анна отнюдь не собиралась играть на счёт. Правила были, в сущности, дворовые – как можно дольше удерживать воланчик в воздухе. И Конрад до поры до времени попадал по нему, только вот упарился сильно. Наконец, он не сумел достать снаряд, летящий на неудобной высоте, и тот упал к его ногам. Конрад с видимым трудом нагнулся, подкинул волан перед собой и вдарил по нему ракеткой сверху вниз. Он всегда так подавал.
– Стоп, Конрад. Кто же так подаёт? – спросила Анна, парируя удар.
– А что не так? – изумился Конрад, не успевая к волану.
– Снизу вверх и сбоку наискосок, – ответила Анна, подняла волан и показала, как надо.
– А-а… Сейчас, – сказал Конрад и чуть не получил воланом по лбу. Он обиженно поджал губы и с натугой поднял снаряд. Подкинул его и попробовал по-анниному поддеть ракеткой сбоку. Ракетка разрезала воздух, воланчик безжизненно упал. Конрад вновь нагнулся и повторил попытку. Ракетка смачно свистнула, но снаряд не задела. Конрад опять вынужден был поднимать его с земли и пытаться снова запулить по нему снизу. Результат был тот же. Анна подошла к Конраду, взяла его руку с ракеткой в свою, но та всё равно шваркнула мимо. Конрад вошёл в раж. Пыхтя и обливаясь потом, он снова и снова поднимал непослушный волан и молотил ракеткой по воздуху. Это продолжалось минут десять, и через десять минут у него пошли зелёные круги перед глазами, а воз был и ныне там.
– Да хватит вам, – сжалилась Анна. – Подавайте как привыкли.
Но Конрада было не остановить. Он продолжал исступлённо лупить в белый свет как в копеечку. В конце концов, Анне пришлось силой (а сила в ней оказалась недюжинная) отбирать у Конрада ракетку – ради сохранности этой самой ракетки.
Ни говоря ни слова, горе-бадминтонист уполз к себе в каморку и, обессиленный, рухнул на диван. Дыша как паровоз и мало что видя из-за застящего глаза пота, он стиснул в руке топорище и с удвоенной энергией принялся ждать ареста. Но и в этот день его так никто и не арестовал.
Тогда, ближе к ночи, несколько присмирев, он опять начал навигацию касательно стенодробительного и смертоубийственного порошка. Многие химические термины были ему в новинку, но он тут же посещал сайты, дававшие необходимые разъяснения. Интернет знал всё. И Конрад тоже – хотел всё знать.
Узнал, например, что заинтересовавший его порошок в кустарных условиях получить почти невозможно, но зато с ослаблением контроля за боеприпасами его можно приобрести на чёрном рынке. За сколько – не говорилось. К большому сожалению.
Но Конрад не угомонился и изменил поисковый запрос. Минут через двадцать он набрёл на добрый десяток сайтов на разных языках, где сообщался точный рецепт чудесного порошка.
Дальнейшим шагом новоявленного интернет-сёрфера стало подробное знакомство с ингредиентами искомой субстанции. Огорчало то, что в посёлке наверняка не было ни одного шанса их достать.
А если б и был…
Убедившись в бесполезности своего нового увлечения, Конрад стал просматривать всякие другие сайты. Среди прочего, он напал на сайт неформальной группировки, с представителями которой столько общался прошлым летом. Судя по Интернету, логоцентризм процветал, полку логоцентристов прибывало. Славные их деяния отображались на без малого пятидесяти сайтах. Государственной поддержки они по-прежнему не имели, так как не все и не всегда сражались в рядах федеральных войск, однако штаб-квартира их была в столице и, судя по всему, по вполне легальному адресу.
Нашёл Конрад и информацию о своих непосредственных знакомых. Оказывается, Курт, увы, погиб смертью храбрых ещё в октябре, в межэтнической разборке. А вот Петер, Лотар и девушки отделались плёвыми ранениями и после долгого участия в разных боевых передрягах на днях завалились на рок-фестиваль всё в ту же столицу. В посёлок они вряд ли вернутся, решил Конрад, – по причине слишком мирной обстановки и явного засилья перекрашенной урлы. Они махнут, скорее всего, на южный фронт – лето не за горами.
И ещё Конрад от нечего делать озаботился судьбой своих бывших сокурсников. Например, Зискинда, того самого, который в своё время завёл было журнал «Ошибки Конрада», но ничего в него не занёс, поскольку вся жизнь Конрада оказалась сплошной ошибкой. Долгое время Конрад не мог найти никаких следов одного из первых беглецов из Страны Сволочей. И только когда он вспомнил общую заграничную знакомую – не то мериканку, не то россиянку и пробил её контакты в социальных сетях, то, в конце концов, напоролся на изрядно возмужавшее, да что там – заматеревшее лицо бывшего Йозефа Зискинда, а ныне Джозефа Джексона – знамо, бывший приятель сменил не только страну проживания, но и фамилию и даже национальность, чтобы никто никогда не догадывался о его истинном происхождении из страны водки, треухов и разгуливающих по улицам медведей. При лингвистических способностях Зискинда это было не сложно – тот, помнится, обещал выдать свой едва заметный акцент за новозеландский диалект, и это ему, видать, удалось. «Я не просто хочу жить в свободной стране, – некогда вещал Зискинд. – Я хочу стать равным среди равных!». Что ж, рвение сделаться равным, кажется, принесло плоды. Джозеф Джексон, судя по всему, преуспевал: он нынче руководил крупной фирмой по продаже компьютеров на одной из центральных авеню вечнозелёного и вечнознойного города Эль-Дорадо, и поддерживал связи с клиентурой по всему земному шару, исключая разве что единственную на этом шаре несвободную страну, из которой он вовремя насалил пятки. Вот только с супругой, коренной эльдорадкой, урождённой Джексон, предусмотрительно позаимствовав у неё девичью фамилию, бывший Зискинд недавно расстался – и немудрено. Подобно всем своим землячкам, та категорически не вышла ликом, являя собой помесь бульдога с крокодилом и смахивая скорее на мистера, чем на миссис. А Зискинд в женском поле был разборчив плюс наверняка хотел и за бугром остаться брутальным альфа-самцом. Поэтому в сети нашлась как заметка о разводе Джозефа и Эллен Джексонов, с упоминанием о том, что Эллен остаётся в совете директоров фирмы Джозефа, так и разрисованная ангелочками и сердечками страница о бракосочетании Джозефа Джексона с Луизой Нишвиц. Относительно личности последней Конрад даже нисколечки не стал напрягать поисковую систему. Он знал, что эта Луиза – бывшая соотечественница своего нового мужа, эмигрантка чуть более позднего времени, и что она хоть и не супермодель, но способна порадовать любого доминантного самца со сволочными корнями приятной и такой родной круглощёкостью-волоокостью. Он это знал, потому что одно время её фамилия была Мартинсен.
Конрад заскрипел зубами, забранился последними словами и несколько раз с досадой ударил большим пальцем правой руки в ладонь левой. Скоро мы с вами, читатель, узнаем, что означал этот жест.
Безлунными ночами сидит Конрад в саду, под навесом.
И где-то бравая маршировка слышится. Размеренный отрывистый стук.
То – редкие капли дождя срываются с навеса, шлёпаются о крыльцо, и шлепки эти как командорская поступь супостата, что уже заточил ножик, дабы лишить тебя живота.
А ты неряшливо одет, давно не мыта голова, не успели стать историей последние твои недостойные поступки, и потому кажется – не готов ты к смерти здесь и сейчас.
Праведник готов расстаться с жизнью в любой момент, грешник же сперва очищенья жаждет. Грехи – они разные, слишком разные. Велик и масштабен грех Герострата, Дон Жуана, Джека Потрошителя, и в том же ряду Гумберт Гумберт, Гарри Галлер (Хамберт Хамберт, Харри Халлер), ибо их грех – сознательный, сокрушительный, соковыжимательный, жертвенный… Грех – поступок, грех, достойный трагедии, грех падшего ангела, грех как поворот рек, грех как неумолимо волевой жест гильотины, мускулистый полнокровный грех.
А каждодневный грех предательства самого себя, грех самоедства, грех безволия, грех беспрестанных извинений, беспомощный грех спущенного автомобильного колеса, грех винта с сорванной резьбой, грех расстроенного пианино, грех шага вперёд с последующими двумя шагами назад, четырьмя по диагонали и тремя на месте, грех бездарности, неведения и не-видения, грех опúсавшегося ребёнка, грех перепуганного новобранца, грех скиксовавшего певца? Грех ожидания Годо?
Теодицея Годо описана в священной книге Кад Годдо. Или нет?
Пусть неудачник плачет, пусть эхо хохочет, пусть Он Там молчит, ожидая шага навстречу. Ноги дай… ноги!
Шлепки о твёрдый карниз как стук часов, как марш заводных управляемых солдатиков, ведомых Коппелиусом.
Шлепки о брезентовый навес – как неуклюжий топот медновыйного Скалозуба.
Шлепки о резиновый коврик – как чирканье спичек, как шарканье изношенных тапок инвалидов-калек.
Шлепки Бог весть обо что – … И вдруг зачастили – будто, раскидывая коленями фалды слишком длинной шинели помчался куда-то бестолочь-вестовой.
Шлепки о шапки деревьев… Деревья стоят нагишом, воздух пахнет гашишом. Глядишь, придёт-гудёт зелёный шум – дожить бы.
Уже летают маленькие, в непритязательных золушкиных одеждах непонятные насекомые. Где-то сопит соплом самолёт. Упадёт ли?
С трудом Конрад заставил себя в очередной раз задуматься о смерти Алисы Клир. Убийство как родник ветвящихся непоняток. Куда он продвинулся за десять с лишним месяцев? Может быть, посмотреть на гибель анниной сестры с какой-то другой стороны, вместо того чтобы ловить следы знаков, которые, возможно, ничего не означают и ни к чему не отсылают? Отрешимся от мутных симулякров, рассудим с чистого листа.
Итак, Алису Клир убили. Убили, как говорят, на её же собственном участке. Убил человек, на этом же участке живший. (Кто? Кто? Факт, что не Землемер – тому не с руки было отлучаться из осаждённого со всех сторон, отчаянно голодающего города). Но ведь на участке были и другие люди. Сама Анна, например. Отец её, который мог всё видеть со своей верхотуры – тогда ещё он был в состоянии выползать на балкон. Кто первым обнаружил труп, кто вызвал полицию, когда, чёрт возьми, появился корреспондент газеты? (Кстати, вот с кем надо было бы побеседовать, да только газета вот уже полгода как не выходит…). А Стефан… Когда приехал Стефан? Учебный год ведь уже кончился, он вполне уже мог прибыть на Остров. Но ты был ненастойчив в лишних вопросах к возможным свидетелям… Или соучастникам?
Серьёзно, а где гарантия, что Анна сама не шмальнула сестру – при том, как умело она обращалась с луком и стрелами. Но какой у неё мог быть мотив? Что ты знаешь вообще об отношениях между сёстрами? И почему Анна терпела присутствие на Острове кого-то постороннего? Тоже из сострадания к отцу, как в его, Конрада, случае? Может быть, незнакомец был чем-то полезен старику? Но чем?
Да, но этот незнакомец сразу после убийства исчез с Острова, что указывало именно на его вину в убийстве Алисы... Хотя как знать…
А что ты, кстати, вообще знаешь про Алису, Шерлок Холмс для бедных, Пуаро от сохи? Только то, что была она завзятая филантропка и любила носить шали? Негусто. Но где почерпнуть какие-либо сведения про неё? Ведь даже всезнающий интернет молчит аки рыба…
Наутро Конрад вдруг увидел в окно человека, неторопливо проходящего мимо участка. По сутулой фигуре, походке вразвалочку и бультерьеру без поводка он узнал поселкового сторожа.
И как был – в тренировочных штанах, нечёсаный и небритый – не нашарив шинели, накинул лапсердак и выскочил за ворота. Собственно, он дал себе слово больше никогда не покидать Остров, ибо все его контакты с воцарившейся урлой были раз и навсегда оборваны. Но ради двух слов с этим человеком он был готов на всё.
Сторож чутьём, очевидно, выработанным на зоне, быстро уловил, что кто-то бежит за ним, повернулся и остановился, широко расставив ноги и пригнув шею, словно для поединка. Бультерьер напрягся и зарычал.
– Отец!!! – возопил Конрад. – У меня есть деньги. Последние… Я тебя Христом Богом прошу: расскажи мне то, что знаешь. Насчёт Алисы…
Сторож всё так же стоял набычившись, но по его выпирающим скулам зазмеилось подобие улыбки. Конрад убоялся своей внезапности и в полной мере ощутил своё ничтожество перед бывалым зэком.
– Не суетись, – сказал сторож негромко. – Мне без мазы отпираться. Я теперь того… в отставке.
– В каком смысле? – обескуражился Конрад.
– В прямом. Не сторож я больше.
– А… а чего так?
– А того. Сторожи – не сторожи – обречён ваш посёлок-то…
– Это почему вдруг?
– Передел территории будет. Сведения точные.
– И… и куда ты теперь?
– К прежним кентам… авось пристроют к делу. Я ведь ещё годный, – старик вмиг проглотил аршин и выкатил грудь. Продолжавшего рычать пса он взял на руки.
– Ну тогда… успехов, – прошептал Конрад, как всегда бывало после того, как он брал непосильно громкую ноту. – Так что насчёт Алисы-то?
– А ничего. Кто её завалил – в натуре, не ведаю. Меньше знаешь – лучше спишь. Но вот что я скажу тебе, братан: есть у меня ещё сведения… интересные. Чтобы ты поразмыслил немножко. Вот живёшь ты на участке уже сколько… А не спрашивал себя – откуда у хозяйки столько бабла? Все кругом загибаются – а она благоденствует.
– Ну… так ей сам комиссар полиции благоволит.
– Комиссар – дешёвка. Они и до комиссара лучше всех жили. А всё почему… Подозреваю я – общак они держат братвы тутошней. И возможно, крысятничали по маленькой. А братва это не одобряет.
Бультерьер залился лаем. Конрад заискивающе посмотрел в глаза сторожа, надеясь обнаружить в них толику тех же несерьёзных зайчиков, что ещё недавно блеснули было на его обструганной жизнью физиономии. Но сторож, кажется, не шутил. Конраду сразу вспомнились и своё чудесное спасение в губернском городе, и визит ночного незнакомца… Какой резон шутки шутить?
– Точно знаешь? – спросил он наконец.
– Ну это-то не точно. Я же говорил: подозреваю. Видел я, с кем твоя хозяйка водится. А она да сестра – два сапога пара, недаром близняшки. И с Землемером они якшались по той же причине. Ну и проштрафилась Алиска-то. Так себе мыслю.
– А Анна?
– Ну раз жива, значит…
– А почему же?.. – Конрад сам не понимал, что он хочет спросить.
– Потому и не свалили за кордон, когда вся их тусовка свалила. Может быть, Алиска и собиралась… но вот видишь же…
Конрад часто моргал глазами и имел бледный вид. Бультерьер рвался в бой.
– Сейчас Землемер, слышь ты, вернётся, отчёта потребует. Да только к этому времени, боюсь, делов здесь понаворотят… Красного петуха вам в дом пустят – никто не выручит… Только я-то к этому времени уже далеко отсюдова буду. А ты думай…
И Конрад задумался.
Например, о том, что сторож, несмотря на все антисобачьи декреты, сохранил жизнь своему питомцу. Кстати, а где сейчас четверолапый любимец Натали? А овчарка Торстена?
Спустя час Конрад как бы невзначай спросил:
– Скажите, пожалуйста, Анна… А если наш дом всё-таки загорится… что вы будете спасать в первую очередь?
– Типун вам на язык, Конрад… Как – что? Деньги, документы… Фамильный сервиз…
– А как же ваши короны сонетов? – изумился Конрад. – Маргарита говорила – у вас их минимум три…
Анна сделала вид, что верит ссылке на авторитет Маргариты и ничего не знает про обыск в её комнате:
– Три или четыре… Я уж сама не помню. Нет, зачем же? Пусть их горят.
– Вы что же, их наизусть знаете?!
– Наизусть не наизусть – просто я напишу новые. Если захочу.
Конрад стоял, разинув рот; Анна только широко улыбалась. Тут же она с лёгкостью сменила тему:
– Кстати, Конрад, я уезжаю в Столицу. Прощаться с Маргаритой.
– Я тоже хочу с ней попрощаться. Тем более, она меня приглашала.
– Ну и поехали вместе. Заодно родной город посмотрите.
– А как же Остров?
– Что-что?
– Дом… сад…?
– Поручик пока здесь, и он обо всём позаботится.
– А вы говорите – он вам не друг…
– Он мне не враг. У меня вообще нет врагов.
Звучало правдоподобно.
22. В столице
Анна и Конрад приехали в столицу на машине госбезопасности, выделенной Поручиком. За рулём была Анна – она, оказывается, неплохо водила, несмотря на то, что последний раз делала это во время óно. Главной заповедью на автотрассах Страны Сволочей было «Ни за что не останавливаться», и Анна её свято блюла. Конрад кемарил на заднем сидении, периодически подскакивая на выбоинах и колдобинах, и иногда посматривал в окно, заценивая пейзаж. Кое-где ещё лежал снег, голые деревья зябко жались друг к дружке, покинутые деревни таращились пустыми оконными проёмами, руины элеваторов и силосных башен, останки колодезей и коровников, выкорчеванные фонарные столбы и дорожные знаки попадались на каждой версте. Встречные авто и мотоциклеты летели с безумной скоростью – какая сволочь не любит быстрой езды?
Близость столицы стала угадываться по огромным грудам строительного мусора и нескончаемым остовам недостроенных супермаркетов и неработающих заводов. На подъезде к городу авто угодило в нескончаемую пробку, и волей-неволей пришлось продвигаться вперёд в час по чайной ложке. Несколько раз подходили заспанные, нелюбезные дядьки в полицейской форме, и каждый раз долго и недоверчиво вертели в руках подорожную с печатью Органов. Конрад искренне сожалел, что у него больше нет красной корочки – она бы ускорила процесс. Машина всякий раз подвергалась досмотру – но не тщательному, скорее рутинному. Наконец, въехали в город – беспорядочное нагромождение блочных и панельных громадин, у подножья которых озабоченно сновали двуногие мураши.
Здравствуй, родина.
Машин на улицах было пруд пруди, светофоры не фурычили, и правил движения никто не соблюдал. Анна, закусив губу и поминутно чертыхаясь, только успевала выкручивать баранку и жать на тормоза. Конрад стоически переносил все невзгоды и даже подсказывал, кто идёт на обгон и кто бросается под колёса. У него не было уверенности, что они благополучно доберутся до места назначения, но он не роптал.
Знакомые улицы были заплёваны и грязны. Люди бежали по ним, вобрав головы в плечи, словно боялись, что вот-вот на них сверху свалится что-то тяжёлое. Ветер гнал по тротуарам кучи мусора. Над мостовой из всех машин нёсся отчаянный мат.
Наконец, Анна зарулила в арку и стала искать, где припарковаться. В захламлённом дворе на разгромленной детской площадке забивали козла нестарые мужчины и подставляли себя лучам весеннего солнца старые женщины. В огромном доме было не менее двухсот квартир, и из всех форточек лились удалые блатные напевы. Хрипло каркало голодное вороньё.
С грехом пополам Анна втиснула машину между двух полусгнивших кузовов и велела Конраду вылезать. В подъезде, щедро расписанном грозными лозунгами и провонявшем застоялой мочой, как ни смешно, даже работал лифт. Он вознёс Анну и Конрада на восьмой этаж, к фон Вембахерам.
Дома были только Маргарита и Стефан. Они встретили гостей из провинции весёлыми прибаутками. Квартира была добротная, с высокими потолками и дубовым паркетом, но почти без мебели и с пустыми стенами, где угадывались следы ещё недавно висевших там плакатов и картин. Всё было уже продано либо рассовано по чемоданам. Конраду предложили раскладушку, Анне – двуспальную тахту, на которой ночами, видимо, спали сами хозяева. Анна долго мылась в душе, Конрад ограничился мытьём рук. После этого измученные изнурительной дорогой легли спать. Конрад отрубился сразу же, без всяких таблеток.
Когда проснулись, день клонился к закату, и в квартире уже был глава семейства. Он собственноручно накрыл на стол и щедро вознаградил гостей из провинции за путевые тяготы.
Когда ели, Маргарита традиционно была ни глуха, ни нема:
– Вы, Конрад, такой весь потерянный... Вам надо почаще ходить в церковь. А там, в церкви – надо встать под купол и ждать, пока осенит благодатью... Или вот что: когда вернётесь к Анне – сходите в лес и обложитесь с головы до ног землёй. Сразу полегчает.
Конрад согласно кивал.
– Но лучше вам всё-таки в церковь. Со священниками пообщаетесь. В отличие от других образованных людей они ещё не все уехали. Вам необходим хороший врачеватель. Причащайтесь, ходите на исповедь – сами не заметите, как просветлитесь. А ещё лучше –поступите в причетники или в клирики – всё лучше, чем роман без слов писать. Эх, жаль, что вы в хоре петь не можете... Но вы можете бить в колокола – а это тоже дело богоугодное, душеполезное.
– Да, да, конечно... – согласился Конрад. – А почему бы мне монахом не сделаться?
– Ну это слишком... Вы в состоянии отречься от мира, умертвить плоть?..
– Ничего нет проще, – сыронизировал Конрад. – Вот только... Я когда на перекладных из армии возвращался, заехал в монастырь святого Лукиана. То есть – поезд на столицу уходил в двадцать пятьдесят семь, и целый день пришлось по городу болтаться. Ну, болтался, болтался и забрёл в монастырь.
– Святого Лукиана? Четырнадцатый век, лепота редкостная...
– Всё путём, монастырь как монастырь, меня туда студентом на экскурсию возили. Калики сидят перехожие, косая сажень в плечах, никакого макияжа только, как прежде – ни подрисованных морщин, ни подведённых следов от побоев. В окнах келий исподнее развешено, на алтаре козла заколачивают. Позолоту с колоколов всю соскребли да контрабандистам сплавили. В обмен на анашу и оружие, думаю. Вышел такой … в рясе, от него сивухой разит за версту, спасибо хоть, ноги держат. Девки-калики его за штаны хватают – чуть не стянули. Он их всех к Евгении Марковне посылает... А у меня такое настроение, знаете, шутливое, спрашиваю: командир, поезд вечером, мне бы к настоятелю на исповедь. Куда, спрашивает, исповедовать, в рот или в жопу?
– Фу… Неужто и до божьих домов докатились безобразия?
– В насквозь больной системе не может быть ни одной здоровой подсистемы, – вставил доселе молчавший фон Вембахер.
– Ну потому-то, Конрад, я и не советую вам идти в монахи. Вы бы лучше с прихожанкой какой познакомились...
– Да там старухи одни... Я не геронтофил.
До Маргариты дошло, что нужно менять тему:
– А помните, Конрад, как вы нам с Анной магнитофон поставили? Думали – не заметим? Как же, как же, заметили – и специально для вас спектаклик разыграли. А вы, небось, за чистую монету приняли?.. Запомните – нехорошо чужие разговоры подслушивать.
Звон телефона до смерти напугал Конрада, слишком отвыкшего от подобных звуков. К аппарату подошёл хозяин.
– А, здравствуйте, здравствуйте, крёстный, – сказал он в трубку. – Что? Нет. Хорошо… Нормально… Да, прибыли. Что вы говорите? А-а… Сейчас спрошу.
Фон Вембахер опустил трубку, прикрыл её ладонью и громко произнёс:
– Крёстный спрашивает, какую вы хотите культурную программу? Увы, только спортивные мероприятия. Какой вид спорта предпочитаете?
– Мне всё равно, – сказала Анна.
Конрад же чуть не брякнул: «Стрельба из лука», но чудесным образом допёр, что посещение состязаний стреловержцев, да ещё и в компании, на двести процентов ни на шаг не продвинет его в расследовании. Поэтому он ответил: «Регби». Ну, как водится, – не сразу ответил, сначала щёлкнул голосовой связкой о пустоту, но затем по касательной и другую связку пощекотал. По дальнейшему разговору фон Вембахера стало ясно, что генерал к такому повороту готов: регби так регби.
Ночью хозяева предложили Анне раскладушку, а Конраду – напольный матрац. Но ни Анна, ни Конрад спать ещё не хотели.
– Мы лучше пойдём погуляем. – сказала Анна. – Погода хорошая.
– Что? Гулять? Да ведь город кишит убийцами!
– Убийцам тоже когда-нибудь спать надо, – парировала Анна.
Но фон Вембахер строго-престрого заявил, что гулять можно только в его, фон Вембахера, сопровождении, да плюс ещё – под защитой табельного оружия, которое он как раз накануне сдал, увольняясь из Органов. То есть вообще – никаких прогулок.
На том и порешили. Чета фон Вембахеров закрылась в своей комнате и погасила свет. Конрад уединился в другой комнате и углубился в чтение – он взял с собой интересную книжку.
Не прошло и часа, как к Конраду постучалась Анна.
– Пойдёмте гулять, – сказала она тоном, не терпящим возражений. – После плотного ужина это просто необходимо.
Гулять Конраду совершенно не хотелось – вовсе не за острыми ощущениями приехал он в столицу. С книжкой на диване было куда уютнее. Но отказать Анне он не мог. И вскоре они были на улице.
Светила полная луна. Холодно и сухо. На чёрных деревьях набухли чёрные нарывы почек. Исполинские здания, грозя обрушиться, нависали над серыми улицами. Воздух был прозрачен и свеж. Фиолетово-багровое небо покрывало обманчивую тишину. Кое-где горели фонари – не все были разбиты. Город готовился к новому дню, к прыжку в очередную неизвестность. Безветрие.
– Здесь в двух шагах – набережная, – сказала Анна. – Пожалуйте туда.
И действительно, через пару кварталов они вышли на берег реки. С неё несло безмолвием и сыростью. По пустой автотрассе изредка пулей проносились запоздалые автомобили. Анна и Конрад перешли дорогу и подошли к воде.
Конрад перегнулся через гранитный парапет и стал смотреть на медленно катящиеся густые волны, пахнущие мазутом. Волны неумолимо тащили с собой россыпи щепок, тряпок и бытовых отходов. От воды поднималась зловонная хмарь.
Завороженный вечным движением волн, Конрад на какое-то время позабыл про Анну. А когда вспомнил – было уже поздно. Анна обеими ногами стояла на узком и к тому же покатом парапете и ловко разворачивалась, чтобы лёгким шагом двинуться по-над водами, плещущими в двадцати метрах ниже.
Конрад запаниковал. Он хотел было подать Анне руку – но испугался, что только лишит её равновесия и случайно столкнёт вниз. «Что вы, что вы, не надо», – залопотал он, заламывая руки. Но Анне не было до него никакого дела. Чётким невесомым шагом она пошла по парапету вперёд, слегка расставив руки в стороны и блаженно – при свете луны Конрад хорошо это видел – улыбаясь. Конраду ничего не оставалось, кроме как двинуться параллельным курсом. С каждым шагом Анны что-то в его груди гулко ухало, и он инстинктивно старался держаться подальше от парапета. В широко распахнутом плаще, с безупречно прямой спиной Анна плыла над спящим городом, над полусонной водой, над смятённо семенящим Конрадом – и казалось, она готова так идти, пока парапет не кончится. В конце концов, она тоже родом из этого города, бóльшую часть жизни прожила в нём – и ощущала себя здесь полноправной хозяйкой.
– Анна, довольно, хватит... – жалобно бубнил Конрад где-то внизу. – Я же несу за вас в некотором смысле... ответственность. Всё, всё...
Анна, казалось, его не слышала и чеканно вышагивала себе дальше.
Конрад и не заметил, как его спутница вдруг спустилась на землю. «Ну вас, – сказала она. – Совсем с лица спали. Ишь перепугались-то!».
– Анна, пожалуйста... – взмолился Конрад. – Больше никогда этого не делайте!
– Нет уж... – звонко рассмеялась Анна. – Буду делать всё, что захочу.
Впрочем, она тут же поняла, что Конрад дальше никуда не пойдёт, хоть на аркане его тащи. Не говоря ни единого слова, быстрым шагом вернулись домой. Дверь им открыл Стефан. Он не спал, всё насиловал свой стационарный компьютер с большим экраном. Насколько сумел разглядеть Конрад, на нём был открыт сайт какого-то заокеанского колледжа: перечень факультетов и условия приёма.
Маргарита и Стефан идти на регби категорически отказались. Поехали втроём.
На стадион их везли на бронированной тачке с мигалкой. Машина стрелой летела по опустевшему проспекту, оцепленному со всех сторон. Поэтому пассажиры толком не видели, как собираются к секторам простые болельщики, не услышали фанатские кричалки и не почувствовали прелести фанатских разборок. Под прикрытием целого отделения бессловесных качков в одинаковых костюмах их препроводили в ВИП-ложу, защищённую пуленепробиваемым стеклом. Среди могучих амбалов в штатском совершенно затерялся сухонький плешивый мужчинка лет шестидесяти в полувоенном френче. Но все меры предосторожности в этой ложе имели целью безопасность его одного, генерала-аншефа Фарнера.
При мысли о том, что сейчас его представят без пяти минут владыке огромной, хоть и гибнущей державы, Конрад, естественно, почувствовал тошноту, головокружение и анальный спазм. Впрочем, генерал едва удостоил кивком друзей своего крестника, забился в самый угол ложи и молча, в позе школьного отличника стал ждать начала матча. Конрад оказался в другом углу ложи, между Анной и фон Вембахером. Через некоторое время он даже сумел сфокусироваться на происходящем. Стадион не был полон, но тысяч двадцать болельщиков собралось наверняка. Они стояли, голые по пояс, вскидывали руки в римском приветствии, слаженно горланили песни и размахивали флагами – кто белыми, кто антрацитовыми. Зато на самой верхотуре, над всем действом реял огромный сине-коричневый стяг.
– В белом – команда «Добро», в чёрном – команда «Зло», – почувствовав удивление гостя, сказал фон Вембахер.
Ни на мгновенье не умолкавший стадион взорвался единогласным рёвом белых и чёрных болельщиков – началась игра. Конрад, давний поклонник регбийных ристалищ, постепенно овладел собой и стал следить за её ходом. Гренадёрского роста, плечистые регбисты начали плести по лысому весеннему полю кружева комбинаций, разворачивать атаки «веером», хватать друг друга в охапку, толкаться в назначаемых судьёй «схватках». Вскоре выяснилось, что команды, к сожалению, разного класса. У «Зла» получалось почти всё, «Добро» было оттеснено к своему «городу» – его игроки элементарно не успевали за юркими, несмотря на внушительные габариты, противниками.
Не прошло и получаса игры, а «город» «Добра» был взят уже трижды, да ещё и из трёх «попыток» было реализовано две. При каждом изменении счёта фанаты «Зла» запускали в небо десятки ракет и взрывали петарды. Густой дым стлался над стадионом, так что фигурки игроков едва угадывались за его пеленой. Однако, Конрад вскоре затосковал. Он ожидал увидеть битву, а видел – избиение младенцев. Столь же равнодушным спортивное действо, по всей видимости, оставляло и фон Вембахера. Лишь Анна, казалось, была захвачена игрой – при каждом удачном действии регбистов в антрацитовой форме она подпрыгивала, покрикивала и хлопала в ладоши.
Так Конрад едва дождался перерыва. Он чувствовал себя обманутым и не понимал воодушевления болельщиков «Добра», продолжавших гнать свою команду вперёд. Очень хотелось курить, но в ВИП-ложе это не допускалось, потому что его превосходительство был некурящий.
– Грустите? – спросил Конрада фон Вембахер. – А зря. После перерыва всё изменится, зуб даю.
И уткнулся в свою записную книжку. Вскоре начался второй тайм. И тут оказалось, что команда «Добро» не лыком шита. Медленно, но верно «добряки» перевели игру на половину поля «злыдней» и принялись топтать их по всему полю. Мощные «злыдни» вдруг начали отскакивать от соперников, словно резиновые, а то и спотыкаться на ровном месте. В течение двадцати минут «белые» трижды занесли «дыню» в «город» «чёрных» и явно не собирались этим довольствоваться. Стадион гудел, пыхал и жахал – при этом торсида «Добра» активностью не уступала фанатам «Зла»…
До Конрада окончательно дошло, что происходит. А тут ещё фон Вембахер, очевидно, считающий его полным профаном в спорте, наклонился к нему и стал объяснять и без того понятное:
– Это не соревнование, это ритуал. Добро обязано взять верх над Злом. Когда-то наш чемпионат страдал от «договорных матчей» – так крёстный решил их узаконить, сочтя, что предрешённый результат – тоже результат.
– Всё ясно, – ответил Конрад, тщетно стараясь переорать двадцать тысяч глоток. – Это за границей играют честно, потому что игра – модель их жизни. А у нас игра – не более, чем игра, тогда как модель жизни – война.
Фон Вембахер кивнул и хотел сказать что-то ещё, но голос его утонул в ликующем хоре «белых» болельщиков: «Добро» вышло вперёд.
Конрад же думал, что, в сущности, игра по заранее написанному сценарию – очень даже в духе Традиции: так, в индейском лякроссе команда «живых» всегда побеждала команду «мёртвых», и лишь дундуки-европейцы попробовали привить ему дух «честного» соперничества.
– Вы правы. Едва кончится «матч», фанаты будут биться друг с другом уже не на жизнь, а на смерть, – расслышал он, наконец, слова фон Вембахера.
«Матч» подходил к концу, и то там, то здесь на трибунах уже вспыхивали потасовки. Конрад смотрел сквозь бронированное стекло и ждал, когда потасовка станет всеобщей, но тут услышал над самым ухом чей-то бархатный бас.
– Ну а теперь, господа хорошие, прошу ко мне в гостишки.
Пока бронированный кортеж двигался к загородной резиденции Фарнера, Конрад играл сам с собой в слова:
«Едва ли не к каждому сволочному слову можно подставить полупрефикс «зло-». В речевом узусе есть разве что «злоебучий» (у эстетов – «злопагубный»). А всё может быть «злом»: «злолох», «злочмо», «зловолк», «злозаяц», «злокомпьютер», «злопринтер», «злодверь». («Злоокно» – уже хуже. Видать, надо, чтобы с согласной начиналось). То же с другими частями речи: «злосидеть», «злосильный» (а уж «злослабый»-то!), «зловдруг»…
«Злологоцентрист» есть «гаплология». «Злогоцентрист» уж куда точнее.
Блин, надо остановиться. Засасывает…
Злочайники меня мало колебут, а вот злобуквы…
Притом злобздючие.
Полупрефикс «добро-» смотрится не так импозантно, но также весьма возможен, особенно с односложными существительными: «доброблядь», скажем… Или с трёх- и более -сложными: «добросиница», «добротелевизор»…
Роль приставки «добро-» выполняет приставка «благо-»!
«Благологоцентрист» – это что-то!
А как вам просто – «Благологос»?
Злачное месторожденьице!..
Приехали???
Если ты, читатель, добрался до этого места, то, безусловно, накопил к писавшему сие массу претензий. В частности – ни одной смены перспективы. Всё подаётся исключительно через призму Конрада Мартинсена! Ни разу автор не упускает его из виду и на всё смотрит его глазами. Сколько можно?
Увы, достолюбезный читатель, так надо. В смысле, так и задумано. Уж потерпи чуть-чуть – немного осталось. Хотя… чтобы живописать хоромы претендента в диктаторы, надо бы с точки зрения Конрада Мартинсена всё-таки съехать. Потому что вошёл он в обиталище Фарнера как во сне, и высидел два часа в полной отключке. Так что уж извини, читатель, описание экс- и интерьера генеральских хором в ближнем пригороде столицы читай у других авторов, более сведущих в фирменных лэйблах и трэйд-марках. Сочинитель же сего в них ничего не смыслит, как не смыслил и Конрад, весь вечер у генерала прогрустивший в уголке на мягком кресле.
Говорили же преимущественно генерал и Маргарита – она приехала сюда как к себе домой, минуя стадион. Вставляли реплики и Анна с фон Вембахером. О чём говорили – Конрад не помнит, потому что он внимал базару исключительно с той точки зрения, не будет ли какой зацепки для разгадки мучившей его тайны. Не было ни одной. Поэтому весь разговор можно свести к бесстрастной констатации: Маргарита фонтанировала, генерал острил. Да-да, он оказался до крайности светским человеком и разных бонмо и анекдотов в избытке ведал и ввернуть их всегда в нужном месте умел. Конрад, как субъект, невосприимчивый к юмору, ни одной его шутки не запомнил, а лишь в очередной раз убедился, что лицо, наделённое лидерскими качествами, особенно сменив официозный френч на домашний халат, отличается своеобразным обаянием и артистизмом, располагающим к нему тех, среди кого он должен лидировать. Мысль о том, что Страну Сволочей продолжит топить в крови и топтать в грязь отнюдь не тупой солдафон, а жизнелюбивый краснобай, где-то его даже согрела.
По идее, генерал в последний раз в жизни видел своего крестника и его жену (хотел бы, конечно, повидать и крестникова шурина, да тот, в силу подросткового максимализма, проманкировал встречей с символом ненавистного ему государства). Поэтому Конрад ждал долгого и слёзного прощания с рыданиями на плече друг у друга. Маргарита, возможно, готовила тот же самый сценарий. Но Фарнер сумел настолько позитивно зарядить гостей, что прощание вышло лёгким и неокончательным – как если бы фон Вембахеры вновь бы навестили его через недельку.
– Отто говорил, что у вас отняли жилплощадь в столице. Я уже распорядился, чтобы вам её вернули. С понедельника можете заселяться.
Конрад понял, что его превосходительство снизошёл до разговора лично с ним и стал благодарить, в то же время объясняя, что не планирует жить в родном городе, так как ничего хорошего в его памяти с ним не связано. Но это говорилось на такой громкости, что генерал вряд ли что-то воспринял – тем более, что Маргарита не к месту закричала «Ур-раа!»
Генерал ещё всучил Анне и Конраду деньги. «Для старта», – пробасил он.
При всей обезоруживающей обворожительности генерала была у него одна червоточина – очень уж ему нравилось выпячивать своё всемогущество, играть роль Господа Бога.
Но Конрад знал: генерал – не Бог. Так, боженька. Потому что не в его силах свершить то, что одному лишь Богу подвластно. А именно: сделать однажды бывшее небывшим. Почему-то именно в просторных генеральских апартаментах Конрад расвспоминался. Всё о том же. И генерал не мог ни выпустить из-под пальцев пятилетнего мальчика цветик-семицветик с семью изящными лепестками, ни заставить тридцатилетнего дылду достойно противостоять Андре Орёлику. Он даже «вычислить» этого Орёлика не смог бы – поэтому Конрад о своём вороге и не заикнулся.
На следующий день пути Анны и Конрада разошлись. Анна отправилась на базар за семенами, а Конрад поехал на одну из центральных площадей.
Добирался часов пять, редко ездящим наземным транспортом. В метро, по слухам, в нескольких местах произошло обрушение. Кто говорил – теракт, кто говорил – износ ввиду отсутствия капремонта. Скорее всего, второе.
Раздумывал Конрад, не зайти ли ему заодно в издательство, выпустившее книгу автора «А. Клир» о Землемере. Раздумывал – и раздумал. Ничего он там не узнает – ни о личности автора, ни о путях распространения. Да и неважно всё это.
В центре Площади высился только что возведённый памятник Великому Диктатору, когда-то принявшему Страну Сволочей с сохой и оставившему её с водородной бомбой, а попутно – отправившему треть взрослого населения в лагеря и под расстрелы. Диктатор был густоволос, усат, прищурен и в новеньком кителе. Раньше на этом месте стояла статуя кучерявого смуглого поэта, но его стихи давно и безнадёжно устарели. Вокруг памятника визжали динамики и колыхалось людское месиво – шла дискотека. Конрад не решился втиснуться в гущу танцующих, хотя и предположил, что в ней содержатся его знакомые логоцентристы. Он предпочёл разглядывать пляшущий люд со стороны. Под однообразные завывания рэйва оттягивался столичный молодняк, который от молодняка провинциального отличался только большей изысканностью прикидов. Антропологический тип же был неизменен. Лишний раз подтверждалось, что в Стране Сволочей вьюноши воинственны и пёсьеголовы, а девушки благоухают вызывающе нездешней нежной красотой: вопиющая кристализованная Традиционность. Не то что за бугром, где не сразу определишь, кто какого пола.
– Конрад! – грянуло громче рёва динамиков. – Иди к нам!
Всё верно – среди плясунов-рэйверов зажигали логоцентристы. Конрад осторожно сквозь толпу протиснулся к ним и покорно затряс тучными телесами. Телеса не слушались – корпус кренился набок, руки работали в противофазе с ногами, а башка болталась на шее, как на колу мочало. Вскоре перехватило дыхание, и Конрад, отирая пот с лица, остановился. Но Петер со всей мочи толкнул его на Лотара, а Лотар – на полустриженую девицу, и вот так неформалы стали футболить его друг другу, как безжизненный куль. Насилу он вырвался, на полусогнутых выбрался из водоворота пляски и закурил было в сторонке. Тут же кто-то выбил у него из рук бычок и вновь запихнул тело вместе с душой в водоворот танца. Здесь уже логоцентристы заботливо взяли его в кольцо и аккуратно вывели наружу. Гудьмя гудели виски, и круги вращались перед глазами.
– Да уж, танцор из тебя лажовый; только нас позорить. – ободрили логососы. – Ишь мамон-то наел за зиму! Айда с нами вес сгонять, нам послезавтра в поход.
– К-куда?
– В родную губернию, под чёрными знамёнами Землемера. Он здесь в столице собрал войско, идёт свою территорию отвоёвывать.
– Знамёна – чёрные? А... шарф у него какого цвета?
– Какой, на фиг, шарф? Лето скоро!
Конрад постепенно пришёл в себя и сообразил, что глупее вопроса про шарф – нарочно не придумаешь.
Зашли в кафешку. Там давали разбавленный спирт и гренки. Помянули Курта. Поклялись за смерть друга и командира выпускать кишки всем, какие встретятся, черножопым. Потом, уже чокнувшись, выпили за полководческий гений Землемера.
– Посмотреть бы на него! – расхрабрился Конрад после третьей. – У него пальца на правой должно не хватать.
– А фиг чё увидишь – у него перчатки и чулок на голове. Но в губернии он его, как пить дать, снимет.
Конрад припомнил, что Поручик говорил о возможных самозванцах, которые будут выдавать себя за Землемера, и приуныл. А логоцентристы наперебой стали зазывать Конрада поехать с ними. Тот, краснея, отнекивался. Говорил, что Землемер губернский город брать будет, а у него самого в своём дачном посёлке дел невпроворот.
Судьба посёлка неформалам была, конечно, не по фигу. Всё-таки сами провели в нём не одно лето, весело и с пользой. Омрачились лица логоцентристские, когда поведал Конрад, что нынче в посёлке безраздельно правит бал урла, да ещё и ссучившаяся, Органам с потрохами продавшаяся. Клятвенно пообещали Конраду, что как только Землемер в губернском центре заякорится – предпримут они рейд в посёлок и калёным железом очистят его от скверны. Поблагодарил Конрад и как бы невзначай спросил:
– Братцы... А кто-нибудь знает, где в этом городишке можно достать азотную кислоту, серную кислоту, толуол…?
– Да как два пальца обоссать, – успокоил Петер. В мгновение ока одна из девиц передала ему какой-то странный предмет, и Петер принялся нажимать на нём кнопочки. Потом приложил предмет к уху и громко сказал непонятно кому:
– Здорóво! Готовь товар. Я тебе покупателя нашёл.
(Пока Конрада не было на этом свете, по этому свету распространилось диво дивное – мобильные телефоны. Их пачками завозили в Страну Сволочей контрабандой).
– Записывай адрес, – сказал Петер Конраду. Он весь сиял, и его соратники тоже широко лыбились. Им импонировало, что у Конрада проснулся интерес к жизни.
Поздно вечером Конрад переступил порог вполне легальной лавочки «Юный химик». Все нужные ингредиенты для чудо-порошка были тщательно взвешены, расфасованы и упакованы. Стоили они на удивление дёшево. Из выделенных генералом средств добрая половина осталась в кармане Конрада.
Так что обратно он ехал на «частнике» (такси в столице не хаживали), изо всех сил прижимая к груди полиэтиленовый пакет с заветным грузом, готовый защищать его до последней капли крови. Но частнику было глубоко фиолетово.
Накануне планируемого отъезда за бугор фон Вембахер торжественно доложил гостям, что приглашает их на ужин в ресторацию. Одна только проблема – Конрада в том виде, в котором он прибыл, в хорошее заведение не пустят. Все костюмы хозяина были ему безнадёжно малы. И по такому случаю Маргарита повела Конрада в бутик – выбирать себе выходной наряд.
Конрад был премного удивлён, что в Стране Сволочей есть бутики. На это ему сказали, что вообще-то в Стране Сволочей есть всё, просто места знать надо. Бутик, совершенно невзрачный с фасаду, внутри оказался весьма мил и отделан хай-теком. Скромняга Конрад сразу попросил себе костюм подешевле и, разумеется, без галстука. Но Маргарита заставила его перемерить несколько фасонов, пока не остановилась на одном, вполне отвечавшем её вкусу. Конрад почувствовал себя не в своей шкуре и не в своей тарелке, но сопротивляться было не комильфо.
Сразу из бутика поехали в ресторан, располагавшийся в центре города. Уже темнело, и город представал перед своими гостями с неожиданной стороны. Он вдруг засиял, засверкал, заблистал фосфоресцирующей рекламой – пусть в большинстве надписей и не хватало по нескольку букв. Призывно манили варьете и казино, зазывали к себе видеосалоны и -салуны, питейные заведения приглашали хлебнуть лишнего вместо чтобы хлебнуть лиха. Пятизвёздные бордели демонстрировали товар лицом, фешенебельные балаганы и элитные вертепы отворяли свои врата. Новенькие навороченные иномарки подъезжали к парадным подъездам, из них вылезали кавалеры в щегольских смокингах и золотых цепях, а также размалёванные дамы в бриллиантах и натуральных мехах. Их встречали швейцары в золочёных ливреях и по ковровым дорожкам вводили их в храмы разврата и разнузданного досуга. Интерьеры также поражали роскошью – по крайней мере, в том ресторане, куда небрежно, как к себе домой впорхнули фон Вембахер и Маргарита, увлекая за собой растерявшихся гостей. Те отразились в инкрустированных самоцветами зеркалах, озарились светом хрустальных тысячесвечовых люстр, окунулись в буйство причудливо фонтанирующих струй. Их усадили под балдахин из пурпурного бархата, за резной стол из красного дерева, подали столовые приборы из чистого серебра. И при этом весь персонал отличался предупредительностью и вышколенностью, даже дюжие охранники в золотых кафтанах обращались к ним на «вы» и называли «сударынями» и «сударями» – словно и не в Стране Сволочей происходило дело, а в далёкой богоспасаемой России. Официанты – те вообще раболепно гнули спину и заискивающе угодничали. Подали стерлядь, рататуи, профитроли и ещё какие-то кушанья иноземного закваса, что было весьма кстати для пустопорожних желудков Анны и Конрада. При этом Конрад постоянно косился на прочую собравшуюся в ресторане публику: несмотря на то, что её костяк составляли полевые командиры и денежные воротилы (что часто одно и то же), вела она себя чинно и благовоспитанно, вот только разговаривала на государственном (то есть матерном) языке – а на каком, собственно, прикажете ей разговаривать?
За столиком же, заказанном фон Вембахерами, как и ожидалось, больше всех говорила Маргарита. Она убеждала Анну и Конрада в том, что в такие рестораны они с мужем ходят крайне редко, по большим праздникам, а разве не всем праздникам праздник нынешняя «отвальная»? После чего стала говорить, как наладит быт на новом месте жительства, что обязательно заведёт себе собачку-ретривера и будет ходить в театры, которые в Стране Сволочей сплошь вытеснены балаганами.
– Отращу себе волосы до пояса и каждое утро буду гулять по морскому берегу. И никаких проблем у меня не будет. Разве что – когда буду сидеть за этюдником, то могу распереживаться, что вот эта вот скала у меня получается не такой, как мне хотелось бы.
Фон Вембахер большей частью молчал, а если и говорил, то о насущных делах, о том что ещё надо бы провернуть по приезде. И ещё несколько раз повторил:
– Если у вас, ребята, возникнут какие-то проблемы, то обращайтесь непосредственно к его превосходительству.
– А то, кроме нас, некому к нему обратиться, – посмеивалась Анна.
Фон Вембахер надувал щёки и говорил, что его протекция – самая надёжная, а его друзья – самые желанные у его превосходительства протеже.
После еды Анна попросила у фон Вембахера сигарету, затянулась и красиво выпустила дым аккуратными колечками. Конрад изобразил на лице укоризну и осуждение. Анна это заметила и жёстко его одёрнула:
– Как уже сказано, я буду делать всё, что хочу. Я – не рабыня табака.
Ночью у Маргариты подскочила температура до 38º. Анна и фон Вембахер суетились вокруг, кормили её касторкой, пихали в рот таблетки, …
Маргарита сбрасывала одеяла и, переждав залпы кашля, вскакивала с постели, спуская босые ноги на холодный линолеум:
– Отто, найди мою пудреницу… Отто, а мой блузон, где он там?.. Отто, ты позвонил дяде Карлу?..
Никто в эту ночь толком не спал.
По дороге в аэропорт Маргарита, несмотря на слабость и недосып, сидела как на раскалённом утюге.
– Анхен, ты только представь себе… завтра… нет сегодня же! Сегодня вечером я пройдусь по Шанз-Элизе, я увижу Эйфелеву башню… я…
Анна только гладила подругу по плечу и поправляла на её коленях тёплый плед.
Терминал международного аэропорта пустовал. Некогда обширное пространство, вмещавшее в себя пёструю разноязыкую толпу, ныне было превращено в склад горюче-смазочных матриалов. Зал прилёта не функционировал вообще, так как в Страну Сволочей давно уже никто не летал; не работал и зал для дипломатов, ибо все дипломатические сношения давно были прерваны. Зал вылета съёжился до небольшой площадки, размером со стандартную комнату. Поэтому отъезжающие и провожающие все были на виду – вторых можно было узнать по радостно-возбуждённому виду и по обилию баулов и узлов, которые они должны были тащить на собственном загривке – носильщики штатом аэропорта были не предусмотрены.
Рейс сегодня был запланирован только один, и осуществляла его одна иностранная компания. Она специализировалась на вывозе людей из Страны Сволочей под эгидой международного Красного креста и Эмнести интернэшнл. Самолёт, экипаж, девицы на деске, даже персонал «дьюти-фри» – всё было импортное. Поэтому уже в терминале отъезжанты чувствовали себя в некотором роде за границей. Единственное, что удручало – присутствие отечественного инспектора в форме Органов: одного его слова было достаточно, чтобы человек вместо Земли Обетованной отправился в родные лагеря.
Но инспектор был лоялен, потому что хорошо кормился мздой с каждого отъезжающего. Так что в целом атмосфера в аэропорту царила праздничная. Представительницы принимающей фирмы щедро одаривали всех смайлами, бойко выписывая багажные накладные и посадочные талоны. Полупьяные отъезжанты громко горланили песни, грустные провожающие натужно подпевали, превозмогая комок в горле и украдкой смахивая слёзы. В этой компании с утра пораньше было замечено в полном составе семейство фон Вембахеров. Толклись тут и Конрад в новой пиджачной паре, и Анна в брючном костюме и солнцезащитных очках.
Маргарита, растрёпанная и скверно накрашенная, накачанная таблетками, плотно прижималась к Анне и беспокойно восклицала:
– Зачем так рано приехали? Что мы тут будем делать целых два часа?
Анна полуобнимала подругу, гладила её по вздрагивающей спине. Фон Вембахер оформлял багажную документацию. Стефан помогал ему. Конрад созерцал.
– А ты знаешь, – говорила Маргарита Анне, не таясь Конрада, – может я уйду от него! Как знать, как знать… Спрос на сволочанок не спадёт никогда!
Крутое настроение было вчера у Стефана, когда кирял он со сверстниками-одногодками, сынками-дочками офицеров Органов. По фигу было сынкам да дочкам, что своим присутствием на этих проводах роют они могилу высокопоставленным своим папашам. Пожурят-пожурят папочки, да успокоятся: дефицит кадров плюс не 37-й год.
Лились ручьями ликёры, коньяки, коктейли, дымили «Ронхиллы», «Кэмелы», «Ротмансы». Тут-те «Чинзано», там-те «Мартини». Пьянка тинэйджеров неуёмна, пьют тинэйджеры до упаду. Под вино говорились речи крамольные, антипатриотичные – желали все Стефану процветания и благоденствия на новой родине и на чём свет стоит костерили родину собственную.
Ох, куражился Стефан, ох гоношился... «Не отдам, – кричал, – родительский флэт сермяжному совку» и крушил аравийские мебеля, и рвал трансильванские обои, и гельветскую сантехнику долбал тяжёлым тесаком. А как ноги держать перестали, посередь трёх тёлок улёгся, ублажайте, суки, в хвост и в гриву, и те ублажали, как ни грозился выкинуть их в окошко восьмого этажа генералов сын Рюдигер-бизон. Зáвидно, падла? Зáвидно?
И теперь с похмелья осоловевший, квёлый, с глазами навыкате и полуоткрытым ртом, Стефан вёл себя тишайше и благопристойнейше, стараясь попадать в такт аршинных шагов фон Вембахера.
Но вот оформление закончилось, а времени до отлёта оставалось ещё много. Фон Вембахер здраво рассудил, что ему лучше быть подле Маргариты, а Стефан пошёл в «дьюти-фри» – его мучила жажда.
Маргарита, не стесняясь инспектора, во весь голос кощунствовала:
– Я всё время думала: хоть бы варяги пришли! Ведь нас теперь запросто можно прибрать к рукам… Но кому мы нужны? Раньше они с удовольствием цивилизовали бы медведей… А теперь цивилизовывать некого. Себе дороже!
Наконец, объявили посадку. Певучие отъезжанты устремились к деску, толкаясь локтями и наступая друг другу на ноги. Преимущественно это были горячие южные люди – с трудом иностранные девицы убедили их выстроиться в правильную очередь.
Фон Вембахер подал руку Маргарите и помог ей подняться со стула. Но только он собрался пристроить её в хвост очереди, как вдруг она обвела зальчик заплаканными глазами и взвизгнула:
– Господи!.. А где же Стефан-то?!
Стефана в самом деле нигде не было.
Фон Вембахер и заскучавший с безделья Конрад ринулись в «дьюти-фри». Вежливые продавщицы развели руками и с приятным акцентом сказали, что молодой человек действительно был здесь и выпил стакан сока, но вскоре ушёл.
Бывший подполковник тут же принял бразды командования:
– Вы – налево, я – направо!
– Где Стефан? Господи, да где же Стефан-то? – причитала Маргарита. – Куда же он, Господи, запропастился?!. А ведь уже пора… Господи, Господи… Как же, как… ведь это последний шанс… Я ни минуты… ни секунды не могу оставаться в этой стране!!!
Она выбегала за ворота аэропорта, маячила вдали, возвращалась…
Посадка тем временем закончилась. Анна сжимала в охапку бьющуюся в судорогах Маргариту и убеждала девиц на деске немного повременить.
Девицы вошли в положение, одна из них любезно согласилась предупредить экипаж. Даже неприступный инспектор взялся утешать Маргариту.
Вскоре явился вусмерть упыхавшийся Конрад. Он никого не нашёл.
А через некоторое время явился и фон Вембахер, тоже запыханный, но не потерявший головы.
– Вот что, милая Марго, – сказал он ласково. – Я продолжу поиски, а ты лети. На крайняк мы вылетим следующим рейсом.
– Отто, постой, но как же... – задёргалась Маргарита. – Как же я без вас?..
– Марго, будь мужественной. Приедешь – сразу позвони дяде Карлу. Сра-зу!.. Мы прилетим завтра, – убеждённо сказал фон Вембахер и крепко прижал Маргариту к себе. Та обмякла и утихла.
– Ну… ну… Анхен, я же, я… я буду счастлива! Я отдохну… Боже мой, вдруг отдохну!?
Крупные круглые слёзы цвета макияжа текли по лицу Маргариты, она держалась за Анну хваткой дзюдоиста. Её оторвали и повели к трапу. Она споткнулась на первой и одиннадцатой ступеньках, стукаясь носом о чью-то необъятную спину. Она то и дело оборачивалась и отчаянно махала рукой. На самом верху она опустила руки, остановилась, мешая идущим вслед и стала что-то кричать, что – Анна не слышала. А на самом деле Маргарита произносила приблизительно следующий текст:
– Анхен… Я никогда больше не увижу тебя… Мне страшно, Анхен… Ты погибнешь… Я… мне страшно!..
Тут же Маргариту впихнули в чрево самолёта, впихнулись сами, трап убрали. Анна трижды плюнула через левое плечо. Понарошку, конечно.
Тем временем фон Вембахер решительно двинулся к выходу, за ним следовал Конрад. И вдруг путь бывшему подполковнику преградил чернявый, юркий. нацменского вида зевака.
– Браток! Слышь… Ты не летишь? Не поспеешь, браток. Уже всё. А билет всё одно пропадёт. Продай его мне... Ну рискнём! Главное, когда мимо проходишь, не дёргаться – читайте, завидуйте… Ну… Ну это мой единственный шанс… Ну я ж тоже человек. А, браток?
– Офонарел, дядя? – отмахнулся фон Вембахер. – А аусвайз с фотокарточкой?
– Да перестань ты, они ж близорукие… для них все белые на одно лицо… Теперь фотографируют так… может ты, может я, может тёща моя...
– На, держи аусвайз. Лети. Отстань.
– Ай, благодарю, браток… Ай, спасибо, браток…
– Да не за что пока!
Чернявый побежал к пропускному пункту, а фон Вембахер – от него. Бежал и Конрад, думая: как теперь подполковник получит визу?
Фон Вембахер, Анна и Конрад больше не разлучались. Совместно они обошли неработающие туалеты, ютящиеся в бывшем терминале мелкие фирмочки (их была не одна дюжина) и дошли до зала вылета внутренних авиалиний.
Этот зал тоже был полупуст. Лишь самые отчаянные головы в Стране Сволочей ещё отваживались летать по воздуху – Конрад знал из газет, что самолёты через один падали.
Находившиеся здесь немногие отчаянные головы ничего знать не знали и видеть не видели. И лишь один присутствующий пристально смотрел на троих хорошо одетых людей, чем-то явно серьёзно встревоженных.
Это был древний помятый затрапезный дед лет сорока. Из него текли сопли и свежая юшка, босые ноги ороговели, на самом интересном месте не хватало двух пуговиц. Он терпеливо ждал, пока до него дойдёт очередь. Когда же троица подошла к нему, он встал с пола и не дожидаясь вопроса изрёк:
– Пошли, чё покажу...
И дед завёл троих следопытов за угол терминала и ловко протиснулся в какую-то дырку в заборе. Конрад понял, что он не пролезет. Но пролез фон Вембахер.
Через некоторое время они с дедом просунули в дырку завёрнутое в дерюгу чьё-то бездыханное тело. Вся дерюга была в крови, и широкий кровавый след стекал наземь при каждом шаге.
Дед решительно затребовал вознаграждение. И лишь получив несколько новеньких зелёных бумажек, начал рассказ.
Рассказчик не был златоустом, поэтому его версия случившегося даётся в пересказе. Денно и нощно он пасётся у врат международного аэропорта – здесь всегда есть чем поживиться. Но сегодня он пасся не один – в кустах караулила шобла отроков – мабуть, из соседнего селенья, а мабуть и нет.
Они положили глаз на Стефана, ещё когда тот входил в зал вылета. («Точно-точно. – сказал фон Вембахер, – я видел группу подростков», и Анна это подтвердила – один Конрад ни на что не обратил внимания). Пламенные сердца отроков забились чаще, когда они увидели, что такой же, как они, недоросль собрался навсегда покидать Родину. То ли их патриотическое чувство было глубоко уязвлено, то ли, напротив, им очень захотелось поменяться со счастливцем местами – так или иначе они только о нём и говорили, и говорили притом в самых сильных выражениях. Огорчённые, скулили мальчики: где справедливость? Нам землю жрать, на голых досках спать, а этот задохлик крем-брюле хавать будет, стёганым одеялом укрываться. А тут, на их счастье счастливец нарисовался вновь – искал работающий сортир («это после дьюти-фри-то». – смекнули все). А работающий сортир – только на внутренних авиалиниях, вот он туда и попёрся. А отроки – за ним. Ну и дед-рассказчик – тоже, из голимого любопытства. В сортире отроки окружили Стефана и сделали ему предъяву. И один из них сцапал Стефана за грудки, но Стефан не лыком шит, каратэ обучен, кунг-фу, джиу-джицу, тайцзиюань, у-шу – кияа, кияа… Мальчикам было очень больно, по нонешним временам такого не прощают. При ножах были все. Все мстили за отбитые яйца товарищей. Не перевелось ещё товарищество на родной земле.
Ножевых ран фон Вембахер насчитал сорок семь. Не считая отрезанных гениталий, изящно засунутых в рот Стефана.
Дед, рассказываючи, рассеянно грыз семечки. Ему тоже досталось – для круглого счёта, небось, для пятидесяти.
– Придурок, – говорил дед. – Ведь придурок. Первый врезал. Недоумок какой-то.
– Ты бы в медпункт сходил, отец, – оборвал фон Вембахер.
– Чтоб последнюю кровь высосали? Или ещё порезали? Я как эти… в Индии. Слышал, должно быть – по битому стеклу ходят, на гвоздях спят… Шкура – бронированная. Не то что нынешние.
Никто уже не слушал деда. Приметы убивцев он так и так не скажет – охота ещё у врат рая потусоваться. Фон Вембахер закрыл шурину глаза, запахнул дерюгу, взялся за один её конец и велел Конраду подхватить другой. Покойник, несмотря на стройное телосложение, оказался тяжеленным, да плюс новенький костюм Конрада безбожно перепачкался в крови. Анна тем временем ловить такси пошла.
– В армии мне два ребра сломали, – шамкал дед им вслед. – в общаге по пьяни нос своротили. Баба однажды за хуй укусила. А вот ещё на шоссе, это… ну там один сел… подвези, командир… Ну вот это, едем, значит…
Анна и Конрад задержались в столице ещё на три дня.
23. Дым Отечества
Воротясь на Остров, Анна и Конрад не обнаружили существенных перемен. Хотя на участке, да и в доме, закрытом на все засовы, явно кто-то побывал. Этот «кто-то» переставил на кухне табуретки (только кухня не запиралась на ключ), оставил бычки не той марки, которую курил Конрад, а главное – на скамейке ножом было аккуратно вырезано «ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧЬ».
Под руководством Анны Конрад тщательно закрасил надпись, табуретки были передвинуты на законные места, а бычки выброшены в мусор (Конрад даже в периоды наименьшего энергоресурса всегда пользовался пепельницей или баночкой). После этого Анна принялась готовить сад к лету, а Конрад – ждать «скорых встреч». Только не так, как прежде – лёжа на диване; нет, он облюбовал себе одну из времянок и оборудовал там химическую лабораторию. Анна ни в чём его не заподозрила или не захотела заподозрить.
Конрад снуёт вокруг бутылей и пузырьков, реторт и колб. Повсюду книжки по химии на разных языках, густо исчерканные карандашом. Алхимик наших дней носит защитные очки вроде водолазных, резиновые рукавицы и ни от чего не спасающий застиранный халат – нашёлся и таковой на Острове. Он что-то бубнит себе под нос, озабоченно кусает губы и хмурит брови. Он в ажитации и в экзальтации, почти что в экстазе. Он бдит и осторожничает, но в меру спешит. Он должен получить нужную субстанцию прежде, чем рухнет мир.
Нет священней и благословенней работы, чем работа разрушения. Ибо без неё немыслимо истинное созидание. Недаром самый престижный научный премиум на планете носит имя великого пиротехника. А тут ещё кругом – страна сплошной эсхатологии.
Жидкость сливается с жидкостью, гранулы ложатся к гранулам, порошок сыплется к порошку. Пару раз возникал небольшой пожар – к счастью, под руками наготове огнетушитель. Всякий экстаз хорош, когда он локализован. До поры до времени.
А в начале мая в глухом лесу, верстах в двух от Острова грянул средней мощности пробный взрыв, и образовалась воронка метра три в диаметре. Впрочем, взрывы уже перестали в этих краях быть редкостью. Местное население даже не почесалось.
Лишь через пару недель не преминул заслышаться шум мотора. Это приехал Поручик. Он был слегка пьян, но зато при полном параде: в эполетах и аксельбантах. От него веяло праздником и благодушием.
Конрад как раз возлежал на крыльце, грелся и любовался молодой зеленью.
– Добрый день, господин Мартинсен.
– Так точно, добрый, господин поручик.
– Как же вы так; старый солдат – а знаки различия всё никак не усвоит.
– Виноват, господин штабс-капитан. Поздравляю с повышением.
– Спасибо, господин Мартинсен. Заодно уж поздравьте с переводом.
– Покидаете нас? На кого же?
– Свято место пусто не бывает.
– Да угадаю с одного раза – на Дитера.
– И попадёте пальцем в небо. Дитер и его команда скоро будут переброшены в губернский центр. Там неслабая заваруха предвидится. К городу движутся отряды кого-то, кто выдаёт себя за Землемера. А также – по непроверенным данным – отряды самого Землемера. Им нужно противопоставить молодой задор и юношеский азарт.
– И Натали с ними?
– Жена в тяжёлую годину должна быть при муже. Вдохновлять и воодушевлять.
– Так кто же остаётся за главного?
– Эх, геноссе Мартинсен. Какой же вы недогадливый... Мы так бедны квалифицированными кадрами! Главным назначаетесь – вы.
Конрад непроизвольно погладил себя по штатскому брюху.
– То есть как это – я?.. Но ведь...
– Никаких «но», дорогой камрад Мартинсен. Слишком уж вы привыкли перекладывать ответственность на чужие плечи. Это не есть хорошо. Пора, пора наконец повзрослеть, заняться серьёзным мужским делом... Кстати, в последнее своё посещение места моей бывшей работы... и вашей будущей работы... вы обронили главный документ, удостоверяющий вашу неповторимую личность. Нельзя, нельзя быть таким растеряшей.
И Штабс-капитан протянул Конраду выброшенное им в конце марта удостоверение. Кто-то тщательно оттёр его от грязи, закрасил замазкой надпись «секретный сотрудник» и сверху каллиграфически вывел: «комиссар».
– Да, кстати учти, – Петцольд вдруг резко перешёл на «ты». – Где-то у вас хуякнуло, не слыхал? Воронка там солидная, за вашим участком.
– Не. – Конрад был готов на месте расколоться. Но Штабс-капитан тут же заговорил снова:
– Я так и думал, Торстен пиздун порядочный – котлован какой заброшенный… Ты мне расскажи лучше, как там без меня столица? Как шеф? Ты, я слышал, с будущим моим шефом познакомился.
Конрад нехотя сообщил некоторые факты о недавнем своём вояже. Штабс-капитан слушал его, как всегда, вполуха и давал собственные, довольно пространные комментарии. Разумеется, о будущем шефе он знал куда больше, нежели Конрад. Заодно он открыл некоторые секреты работы Органов и их закулисья – готовил преемника к новой работе.
– А где же мне теперь жить? – спросил Конрад. – До отделения же чапать и чапать.
– А где жил, там жить и будешь. В отделении молодёжный клуб откроется. Личный состав Органов весь убыл на борьбу с супостатом, а в подчинённых у тебя остаются лишь двое подраненных, негодных к строевой, плюс Торстен – как самый непьющий из поселковых. Так что кукуй себе и дальше на возлюбленном Острове. Пока кукуется.
Конрада эти слова больно резанули: ну никак не мог знать его предшественник на посту полицай-комиссара о том, что он в разговорах с собой называл клировский участок «Островом». А кроме того…
Штабс-капитан прибыл не один. Была ещё «инвалидка», которой управлял одноногий ветеран гражданской войны. С ним был Торстен. Заднее сидение и багажник «инвалидки» были плотно набиты наспех перевязанными стопками бумаг.
– Сейчас мы к тебе всю документацию перетащим – изучишь на досуге, – сказал Штабс-капитан.
И втроём – он, Торстен и Конрад – принялись перетаскивать стопки бумаг в дом Клиров. Конрад, хоть и качался последнее время, от таких нагрузок чуточку отвык. В неподходящий момент он споткнулся, растянулся на земле и выронил несколько папок в грязь. «Руководитель хуев», – вполне внятно прокомментировал Торстен прямо у него над ухом. Конрад отряхнулся и бровью не повёл.
Его комната сильно потеряла в объёме и стала напоминать отдел доставки какого-нибудь почтового ведомства. Умаявшийся после перетаскивания бумаг, он восседал посредь неё как завзятая архивная крыса.
Торстен, открыто не скрывавший своего недовольства, ушёл к себе на участок. «Завалит он меня, – равнодушно думал Конрад, – дабы занять моё место». Инвалид уехал. Штабс-капитан же пошёл прощаться с Анной. Прощание длилось до невероятия долго. Уже вечерело, а комиссарский джип всё ещё стоял напротив калитки.
Конрад заподозрил неладное и подошёл к двери анниной комнаты. Он явственно различил голоса. Что говорила Анна, разобрать было невозможно, но вот реплики Штабс– капитана – на повышенных тонах, чуть ли не истерические – слышны были отчётливо.
– Фарнер даст вам квартиру!.. Ласты склеить хочется?.. Сваливайте, к ебеням, отсюда!.. О Господи!..
Наконец, Штабс-капитан вышел – скорее даже, выпрыгнул, словно ошпаренный, и громко хлопнул дверью. Анна так и не показалась.
Конрад даже не пробовал скрывать, что подслушивал. Он был готов вцепиться Штабс-капитану в горло.
– Говори! – проревел он свирепо, переходя на доверительное «ты». – Что грозит Острову?
– А что нам вообще всем грозит? В этой стране?
– Вот как… Я-то думал, ты – идейный, – Конрад весь пылал.
– Мальчик мой, – нежно ответил тот. – Чтоб ты знал. Миром правят не идеи. Миром правят жёлтые железные кружочки и зелёные бумажные прямоугольнички… Накушался я этих идей по самое не могу. Что ты думаешь – почему клиентов твоих не арестовал и не сгнобил, логососов этих? Идеями ихними проникся, вот почему. А чем они мне ответили? По твоим же словам – переметнулись к противнику.
– Но как же Анна?! – не унимался Конрад.
– Бесперспективняк, – по слогам произнёс штабс-капитан мудрёное слово. – Я для неё не авторитет. Так, вторитет. Иди и разговаривай с ней ты.
– Я??
– Всё, пока… Пора в столицу. Завтра сранья к генералу, – штабс-капитан повернулся на каблуках.
– Но неужели Фарнер не может прислать к ней охрану?! – вырвалось у Конрада.
– А что Фарнер? Сегодня генерал, завтра зэ-ка. Много таких Фарнеров. Кто тебе впарил, что он всесилен? – эти слова бывший полицай-комиссар небрежно бросил через плечо, удаляясь. Конрад хотел ответить «Интернет», но тут же осознал, что всемирная сеть – говоря словами штабс-капитана, «вторитет». Что ей сливают, про то и пишет. Тем временем джип завёлся и отбыл.
Конрад что есть сил принялся колотить руками и ногами в дверь Анны. Тщетно.
Всю ночь и почти весь следующий день Конрад запоем читал секретные указивки, протоколы допросов, донесения сексотов. Он думал найти в них ответы на все мучившие его вопросы.
Однако, чем дальше он читал, тем больше удручался – в бумагах всеведущего ведомства содержалась почти исключительно рутина, чухня, бодяга. Даже отчёты о ликвидации неугодных властям граждан были написаны столь плоско и пóшло, что хотелось зевать. В основном же документация освещала хитросплетения борьбы жителей посёлка за обладание тем немногим и постоянно уменьшающимся, чем вообще только можно было обладать.
Мирское имя Землемера, равно как и его погоняло, не упоминались в бумагах ни разу. Только однажды фигурировала некая «книга о враге правительства», изъятая у кого-то, вернувшегося из города, но и то оставалось неясным, о той ли книге шла речь, не говоря уж о том, кто был её автором. Недавняя запись о повальной мобилизации всего личного состава отделения гласила: «брошены на укрепление Восточного фронта». В списках жителей посёлка (которые давно и напрасно мечтал лицезреть Конрад) ни разу не значилось имя Алисы Клир, и о её убийстве ни разу не говорилось. Ни за прошлый год, ни за текуший. На участке проживала «Анна Клир, фрилансер» стольких-то лет от роду и – до недавнего времени – «Иоганнес Клир, пенсионер» стольких-то лет. Среди гостей участка значился некто «Конрад Мартинсен, без определённых занятий», а сведения о визитах Стефана, Маргариты, фон Вембахера вообще отсутствовали. Значит, если, по словам сторожа, кто-то и гостил на Острове до его, Конрада, приезда, то он мог элементарно не попасть в списки. И это притом, что добрая половина взрослых обитателей посёлка была внесена в перечень сексотов. Те озверело стучали друг на друга, и это был единственный луч света в тёмном царстве бездарной писанины: в этих текстах встречались такие свежие перлы великого и могучего живородящего родного наречия, как «никому на хуй не упали» и «хоть жопой ешь».
Но вот, наконец, дошёл Конрад до папок, объединённых грифом «ОПГ» – «организованные преступные группировки», и сразу стало интереснее. Стал понятен истинный размах наркоторговли, которой занимались логоцентристы, и разбойной активности эндогенной урлы. При этом и те, и другие чуть ли не поголовно числились в сексотах и регулярно плодили отчёты – в том числе, о нём, о Конраде. Правда, его насторожило то, что в текстах, якобы написанных урлой, иной раз, встречались даже запятые и распространённые деепричастные обороты, что заставляло усомниться в их аутентичности.
Однако, наиболее интересовали Конрада последние известия. Текущей весной обострилась обстановка на границе владений «дачных» и «деревенских»; даже перейдя на госслужбу «дачные» регулярно махались с «деревенскими» в разных березняках да ельниках. Статистика жертв впечатляла. Равно как впечатляло и то, что на смену павшим невесть откуда вылезали новые кадры, словно и не было в Стране Сволочей никаких проблем с чадородием.
(А хотя… Кузница кадров – сиротский приют. Там с младых ногтей клановая война идёт. Выпускники, за неимением другой перспективы, примыкают то к тем, то к этим).
В последнее время «дачные» несколько потеснили «деревенских» – у них теперь на вооружении было табельное, хорошо пристрелянное оружие. Но с уходом первых на смертный бой незнамо с кем вторые автоматически распространяли ареал своего доминирования и на дачный посёлок. Возможно, они уже здесь.
Между тем на клумбе, раскинувшейся под окнами комнаты Конрада, уже в полный рост расцвели разноцветные цветы. Цветика-семицветика среди них не было. К голубым пролескам, высунувшимся из-под земли ещё во время визита хозяев в столицу, добавились уже знакомые нам примулы, ирисы, флоксы, сигнализирующие об истечении годового цикла, о том, что время бежит не по линии, а по кругу.
И несиреневая сирень вновь источает свой аромат.
Но кое-что поменялось. Некогда Анна играла на утренней заре, аккомпанируя пташкам небесным, которые не жнут, не сеют. Нынче птички поют как прежде, но Анна предпочитает сперва жать и сеять, во саду ли, в огороде ли, а уж потом после напряжённых трудов дневных подстраивать подспущенные струны.
Маргарита сидела в ресторане. Она курила сигарету за сигаретой. К эффектной иностранке пытались подсаживаться мужчины, но она говорила: «No, gentlemen, no». Грызла чёрствый сэндвич на деньги дяди Карла и сволочного землячества. Думала о Стефане и муже.
Ресторанец был препаршивый. Толклись тут негры, клошары и новоиспечённые иммигранты. Немилосердно дули кондиционеры, и от этого Маргарита неадекватно зябла. Вся разношёрстная шатия плотоядно скользила глазами по чёрной шали, скрывавшей её точёную фигуру.
Один же из посетителей – так просто сверлил незнакомку глазами, напоминавшими раскалённые угли. На нём были однотонная футболка и линялые джинсы. Это был сексуальный маньяк Хонки Тонк. В руках у него была металлическая, замысловато изогнутая рама, а на плече висел колчан, полный стрел. Никто этому не удивлялся – в городе многие занимались спортом, чтобы продлить себе жизнь.
Как вдруг Хонки Тонк достал одну стрелу и наложил на раму, оказавшуюся блочным луком. Коротко свистнула тетива. Стрела в мгновение ока перелетела зал, извергнув фонтан брызг из груди Маргариты и фонтан визга из её горла.
Маргарита вскочила и зигзагами побежала вперёд, опрокидывая стулья. Трепыхалась окровавленная шаль. Потом Маргарита наткнулась на стойку и упала. Более не в силах визжать, она корчилась и хрипела на полу, засунув одну руку в рот и прокусив её до мяса, а другой с треском разрывая платье на груди. Когда она испустила дух, немногие, кто мог смотреть в её сторону видели, что гибельная стрела торчит чуть выше совершенно голой левой груди, лишь несколько кистей от шали касались её.
Хонки Тонка держали за руки и за ноги. В дверях показались полисмены и врач.
Всё это, правда на общем плане и не в лучшем качестве, спустя час увидели по заморскому новостийному телеканалу Анна и Конрад. Плохонький ресторанец, как и почти все общественные места за бугром, был оборудован видеокамерой. Скороговоркой верещал по-забогурному диктор за кадром. Журналисты сработали оперативно. Тем более, уже были установлены личности и покойницы, и её убийцы, который не сопротивлялся, а лишь блаженно и виновато лыбился.
Анна скрестила руки за головой и до скрипа стиснула зубы. Конрад опустился перед экраном на корточки и полушептал:
– Туфта! Постановка! У них преступности нет, так они, на потребу публике преступления инсценируют… Но… почему, почему именно этот сценарий? Как узнали?
– Это не туфта, – также полушёпотом ответила Анна. – Это судьба.
Потом она бросила руки на колени и быстро сказала.
– Неужели органы так быстро мстят?
– Пустое, – прохрипел Конрад. – У них нет мощностей для мщения. Низовая инициатива масс, – и вновь что-то забормотал.
Анна, теряя тапки, ринулась вон из телекомнаты.
Из Интернета знал Конрад, что животрепещущее отношение к Стране Сволочей за границей, на которое уповал покойный Профессор, сходило на нет – институты сволочистики один за другим закрывались, подрастающие поколения сволочной язык не жаловали, да и эмигрантские детишки учились исключительно вместе с аборигенами. Ведь эмигранты-сволочи не объединялись в землячества, каждый на свой страх и риск стремясь к внедрению и растворению, сиречь интеграции и ассимиляции. Потому и вспыхнувший было интерес к трагедии Маргариты фон Вембахер – лишь разовый всплеск накануне летних каникул.
Десять минут спустя он натянул фуфайку, обулся и выскочил за ворота, чтобы прошвырнуться по посёлку. Поверх зеленеющих дерев он увидел зарево и чёрный чадящий столб дыма прямо по курсу. Его обгоняли старухи и дети, жаждущие поглазеть на пожар. Он тоже ускорил шаг. Запах гари всё сильнее ударял ему в нос, а если бы обоняние ему не отшибло постоянное курение, он бы ощущал его уже у себя на участке.
Толпа зевак сгрудилась вокруг горящего здания, не страшась ни сыплющихся искр, ни дымных струй. Пожарных не было – в малопрестижную команду давно никто не шёл, да и местные палец о палец не ударяли, чтобы сбить пламя или хотя бы локализовать его. Вернулись изначальные времена, когда к пожарам относились как к проявлению воли Господней и никому даже в голову не приходило их тушить.
Горел серпентарий. Пронзительно голосила его хозяйка. Обитавшие в нём гады, как шептались в толпе, предварительно были отпущены на все четыре стороны. Отпущены деревенскими – те и не скрывали, что именно они подожгли дачный очаг культуры. Деревня объявила войну культуре как ненужной конкурентке Традиции – объявила во всеуслышанье; доблестный гогот и ухающий ритм эйсид-хауса сплетались с треском разрываемых перекрытий и рушащихся балок.
– Мотайте отсюда, оккупанты! Это наша земля! Всех подожжём!
И что-то ещё, вроде пресловутого «Сяо бие».
В канаве лениво переливались и перекатывались чьи-то упругие кольца.
Конрад понял, что прогулки не выйдет.
Назад, на Остров.
За повёрнутой к пожару, удаляющейся спиной Конрада обвалилась центральная опора серпентария. Огонь перекинулся на соседнее здание. Выли погорельцы. Выл рэйв.
Дым Отечества стелился по округе, приятно щипал носоглотку. Конрад лихорадочно тасовал документы своего ведомства. Он искал бумагу, в которой значилась дата решающей расправы деревенских с дачным посёлком, включая дом Клиров с Волшебной Комнатой.
Он нашёл её. Показания лидера «деревенской» группировки, снятые за день до отъезда Петцольда, после очередной кровопролитной битвы с «дачными». На тридцать первое мая – последний день лета – планировалась широкомасштабная демонстрация силы, а на первое июня – День защиты детей – полное уничтожение посёлка с его главными достопримечательностями – ненавистным детдомом и не менее ненавистным домом проклятущих снобов и гордецов Клиров. В последнем, кстати, собрано до фига дорогостоящего, но никого из «деревенских» не греющего барахла, которое можно переправить за кордон и на котором «деревенские» сколотят себе стартовый капиталец для последующих бизнес-проектов.
Тридцать первое мая было сегодня, первое июня – завтра.
Вечерело.
Этим дымным вечером свеженазначенный полицай-комиссар выкурил суточную норму сигарет.
(Конрад лежит на диване, белея из-под одеяла фрагментами голого торса. Входит Анна со свечой в руках. На ней белая кружевная ночная рубашка, и поверх оной – шаль. Конрад делает резкое движение, метнувшись всем телом под одеяло. Лишь рука с горящей сигаретой выглядывает наружу).
– Вы всё скребётесь, это невозможно… – прошептала Анна.
– Хотите спеть мне колыбельную? – спросил Конрад.
– Я… я открою окно… накурено как…
– Не надо открывать окно, – гаркнул Конрад. – Ну… Я жду колыбельную.
– Конрад, осталась бутылка вина. Хотите?
– Мучительница! Вопросики тоже…
Конрад вскочил, сверкнули лоснящиеся от спермы трусы. Анна извлекла из-под шали бутылку.
– Не хотите предложить мне сигарету?
Конрад не хотел, но предложил.
– Вам… не помогают таблетки?
– Я просто не пил их сегодня.
– Они не более опасны, чем ваши сигареты…
– Я знаю.
– Что с вами?
– А с вами?
Анна пробовала пускать дым колечками, не выходило.
– Расскажите что-нибудь, Конрад. Я знаю: скажете – нечего…
– Ну, если очень постараться, будет чего. Но будет ли вам интересно?
– Простите меня, если…
Конрад рухнул на диван, сделал почти эпилептическую дугу и простуженным волком завыл: «Уууууу…»
– Конрад, простите меня.
– Уууу… – пока хватило дыхания, а хватило, разумеется, ненадолго. – Вас? Помилуйте! Я никого не прощаю: никто не виноват.
– А… ну да, вы же не человек. – «Откуда знает?» – Откройте, наконец, бутылку, не человек. Вот штопор.
Конрад вполне по-человечески откупорил бутылку.
– Я настаиваю, чтобы вы приняли мои извинения.
– Приму. К сведению.
Анна с размаху погасила сигарету и прокудахтала:
– Вы… хотите сказать… я веду себя, как глупая девчонка?
– Ничего не хочу сказать. Что, тянуть из горла будем?
– Вы не хотите сказать… что вы хотите меня? – вульгарно-бульварно сказала Анна и – фокус-покус: откуда-то из-под подола ночной рубашки появились два маленьких фужера.
– Вглядитесь – под моими трусами тишь да гладь. Изобрели бы лучше тост.
– Конрад… можно подумать, к вам каждую ночь…
– Анна, вы меня в петлю толкаете? В петлю нельзя. Мне именно сегодня – никак нельзя. Ждёте моей инициативы – для начала предлагаю брудершафт.
– О чём вы?.. Какую петлю? – Анна поддела оголённой мякотью руки локоть Конрада. – Я не понимаю… столько жить под одной крышей со смазливой бабой и ни разу не полезть в петлю… Я просто восхищена…
– Уууу, не метите пургу… Кто ж этим восхищается… Это – признак…
– Знаю, кое-кто называет это «комплексом»…
– Мгм, – сказал Конрад, замыкая кольцо и выпивая. По усам потекло, в рот не попало. – Ты спятила?
– Да… я…
– Ложись, – застонал Конрад, кидая фужер об пол – тот разбился. – На счастье…
И Анна легла.
Конрад вставил новую сигарету в рот.
– Раздевай меня… – сказала Анна.
– Да тут особо нечего раздевать… – сказал Конрад, смотря на противоположную стену и лишь отросшими когтями босых ног ощущая шёлк рубашки. Шаль висела на стуле, накрывая начатую бутылку и переполненную пепельницу.
– Командуй, – просила Анна. – Дело в том, что я… я… девушка.
– Фигня, – невозмутимо дымил Конрад. – Ну а я – мальчик.
Анна подтянулась на локтях.
– Как?.. Ты же был женат… Дважды…
– Ну да. А как ты думаешь – почему? Думаешь я был прям совсем козёл, не понимал… что из меня за супруг? Трахаться хотел…
– И что?.. Для этого обязательно надо было под венец?
– Ну, не одна же ты на свете…
– …двинутая?
– Угу. Со мной только такие и водились. Мамаши воспитали: до свадьбы не давать…
– Ну!.. Ну а после свадьбы?
– Ну а там – в первом случае редкий вариант вагинизма, во втором – обычная функциональная импотенция.
Анна не переспросила – всегда была в ладах с латынью.
– Импотенция как таковая была у меня с полгодика… Колёса! А дальше… дальше – психологический порог. Вне постели, пардон, стоит – не повалишь, а как легли – повис.
– Ну а к врачу?..
– Ой, видел я их, сколько ты воробьёв… А что врачи? Что они могли? Они внушали: ты большой, сильный, хороший, можешь… а я маленький, слабый, плохой… И обратного мне никто доказать не мог.
– Тебе нужны были доказательства?
– А по-твоему – молитвы?
Конрад уже докурил и лёг рядом с Анной, не касаясь её. На спину, руки за голову. Перевернуться на бок его заставил странный, не слыханный им прежде звук.
Анна плакала.
Не плакала – почти хныкала. Искажённое хныканьем лицо школьной отличницы, обиженной двоечником, пыталось было занавеситься густыми чёрными волосами от постороннего взгляда. Бретелька ночнухи съехала, Конрад осторожно тронул коричневый родимый островок на оголённой спине. Анна дёрнулась, как ужаленная.
– Отчего, – сказал Конрад на одной глухой ноте.
Он приобнял Анну и легонько прижал к себе.
– Хотя нет... – задумчиво произнёс Конрад. – Был один случай. Ещё в школе. Не знали мои родители, что делать с запойным моим онанизмом. И стали искать мне женщину. Опытную, в возрасте. Чтобы всему научила, типа. Нашли. Ей лет сорок было. Провёл я у неё целую ночь – и всё без толку. Не вставало, хоть отруби. Я – истерить. Она мне сопли подтирает. И лишь под утро отважился я рассказать ей о своей особенности. Накинула она шаль, и... И тут сразу всё получилось, хотя я сам и не понял, как. Всё в какие-то секунды кончилось.
– И больше ты с ней не повторял?
– Старая она была, страшная, с усищами... Но главное не в этом. Стыд меня заел, совесть одолела. За истерику, за то, что только с подачи родителей что-то могу, ну а пуще всего – за «особенность». С тех пор ничего и ни с кем...
– А как её звали?
– Дай Бог памяти... Нетти. Редкое имя.
– А фамилия её была – Лауман…
Конрад отдёрнул от Анны руку, словно обжегшись.
– Вот как… Это Маргарита тебе рассказывала?
Анна еле заметно кивнула.
– И через девять месяцев родился Стефан?
Анна едва моргнула.
– И у меня никогда не будет внуков?
Анна погладила ладошкой тряпичный член Конрада, отняла руку и отрицательно покачала головой.
Конрад вытянулся и затих.
Анне видится:
Конрад – старый плешивый ребёнок, бояка – чёрная собака, жадина-говядина, ябеда-корябеда, затравленный отличник, для самоутверждения нажравшийся на похоронах любимой тёти, которая упрямо, но безуспешно пыталась научить его играть гаммы…
– Ты же одно время жил с ней, с Нетти, – через некоторое время сказала Анна. – Она обещала познакомить тебя с твоим сыном. Помнишь?
– Угу, – сказал Конрад в подушку. Он ничего не помнил, но припоминал.
– Обещала – и не знакомила. Она тебя так шпыняла и гнобила, что ты предпочёл об этом забыть.
– Предпочёл, – сказал Конрад. – Это было хуже армии, где я, кажется… всё-таки не был. Но она втоптала меня в плинтус, глубже некуда. За неумение заработать, за беспомощность в быту, за приступы истерической агрессии… Дрессировала всячески… Обратила в рабство… Она блестяще давила на самую слабую мою точку – чувство вины, и я действительно чувствовал себя виноватей некуда. И так почти три года. Бешеная, мстительная мегера… Насилу я сбежал от неё, только когда понял – вина моя неизбывна, и сына мне не видать никогда…
– Но тем не менее ты, Конрад, так и не свалил за кордон. Моему папе ты это объяснял некой епитимьей за грехи твои тяжкие, а на самом деле у тебя – заложник-сын, а вовсе не епитимья.
– Да, я как-то видел заглавие на книжном развале: «Настоящие мужики детей не бросают»… Я, кстати, и под Орёлика-то прогнулся, думая, что сыну своему ещё пригожусь.
– И живя с Нетти, ты был лишён права лицезреть не только сына, но и Маргариту, поскольку старуха боялась за целомудрие дочери. Но та знала от матери о твоей «особенности». О том, что любишь женщин в шалях и со стрелами в груди.
– Люблю! – отчаянно возопил Конрад. – Но ещё больше я люблю размножаться, продолжаться в потомстве, компенсировать здоровым потомством собственную убогость. Я всё терпел от Нетти… потому что подле сына хотел быть.
– Но…
– Никаких «но», – горячо заговорил Конрад, откидывая одеяло и садясь на диване. Складки на его брюхе дрожали. – Ты в самом деле собираешься зачинать обречённых? Которых завтра же финским ножом из твоего чрева вырежут? Завтра придут эти. И пиздец вашему Острову Традиции. Океан хаоса поглотит его.
Конрад соскочил с дивана и, спотыкаясь о кипы бумаг, сделал круг по комнате. Он потрясал крепко сжатыми кулаками.
– Вот я им ужо! Я им закачу Армагеддон.
– Постой… Ты же видел, как я могу их укротить. Как Франциск Ассизский губбийского волка.
– Они неукротимы. Особенно когда в стаде.
– Полно, Конрад. Вурдалаки обижают только тех, кто в них верит.
Но Конрад не унимался.
Тихим, тоненьким голоском, так не свойственном ей дневной, Анна принялась путано рассказывать о своей жизни. О том, какие издевательства пришлось ей пережить в школе. О том, как переиграла руку и вынуждена была отказаться от консерватории. О том, как училась на вечернем в презираемом ею заборостроительном институте. О том, как перешла в университет и была разочарована узким кругозором сокурсников. О том, как ночи напоролёт читала поэтов, погибавших на дуэлях и бросавшихся с моста в загаженные воды небольших рек, текущих через столицы мировых империй. О том, как занялась восточными единоборствами и предотвратила несколько покушений на свою девичью честь со стороны возбуждённых её прелестями пролетариев. О том, как почём зря отшивала своих непролетарских ухажёров из неосознанного страха перед сексом. О том, что одна лучшая её подруга ушла в монастырь, а другая наложила на себя руки. О том, как несколько раз в решающий момент выдворяла самодовольных кобелей из постели. О том, что всю жизнь ощущала себя «сосудом скверны» с наглухо запаянным отверстием. О том, как снюхалась с криминалом, чтобы тот крышевал их с отцом в загородном саду. О том, сколько сил и средств она в этот сад вбухала. О том, как возненавидела нового жильца с момента его первого появления и как постепенно научилась понимать его и даже прониклась к нему симпатией.
– Противоестественной, – сказал Конрад и присел на край дивана.
– Зачем ты так? Не надо… Ты… неужели ты самый плохой? И убедил себя в том, что самый плохой… Убеждал себя в этом денно и нощно, давил себя… сделал себя самым плохим. Зачем? Нет, ты объясни… зачем.
– Я в одном хороший. Я – честный. Для меня каждый кубический метр пространства – исповедальня. До Нетти так было. Спасибо ей, несокрушимой и легендарной – я почти три года молчал. Ведь честность… не добродетель. Я это, именно это пытался сказать твоему отцу. Извини, я наверно не про то… не честность. Откровенность… Тоже не то! Прямота… Всё слова… В общем, полное отсутствие тактики… Тактика этимологически, наверно, связана с тактом… Искренность бестактна, беззащитна… Я ему всё это говорил… Поэтому мы проиграли… Мы с нашим ригоризмом проиграли. А приспособленцы мутировали и победили. Вот и всё. И даже этим мне перед тобой не оправдаться… перед собой я честен.
Что я мог изменить, Анна?.. Моя исповедь – тридцать пять лет, и чтобы понять, надо было прожить в моей шкуре эти тридцать четыре года, день за днём, час за часом… хотя бы просмотреть без купюр фильм длиной в тридцать шесть лет… ну, за вычетом сна, может быть. И я… не умею быть краток, я считаю, что важно всё… любая малость. Но тебе будет скучно, а у нас впереди только одна ночь… И ты ни хрена не поймёшь меня. И ты – не простишь. Главное, сама не проси прощения… это всё зря, зря…
– Бедняга фон Вембахер, – воспользовалась паузой Анна. – Ведь он отправился через границу пешкодралом. Выживет ли?
– А ты знаешь, что за программу он разрабатывал? Как накинуть узду на общественное сознание! Мавр сделал своё дело – Мавр может уехать.
Конрад вновь вскочил на ноги и вдруг зажал аннину голову ладонями и пролаял ей прямо в лицо:
– И всё-таки я совершенно ничего не понимаю. Почему вы всем миром рассказывали мне сказки об убийстве твоей никогда не существовавшей сестры и о Землемере? Сколько всякого-разного народа ты вовлекла в этот сценарий? От Поручика и Стефана до сторожа и вязальщицы? И всё это – ради меня? Ради меня одного? – в хрипе Конрада послышалось что-то вроде гордости.
– Почему, почему… Было в русской Традиции два Алексея, два Божьих человека – Алёша Карамазов и Алёша Почемучка. Или нет – это, кажется, одно и то же лицо? Ты должен это знать, а?
Конрад отпустил голову Анны и продолжил прерванную исповедь:
– До четырнадцати лет я не жил. Я был умеренным аутистом, которому совершенно не нужен внешний мир. Он вдруг понадобился мне, когда пришло половое созревание. Но к четырнадцати годам человек уже обременён прошлым, на основании которого он зиждит своё будущее. А у меня в прошлом только цветик-семицветик был. И прошлое тянуло меня назад… ведь каждый завтрашний день корнями уходит в прошлое… и целиком им обусловлен… И следствия стали причинами… И у меня пошли невротические реакции… функциональные расстройства… голос… сон… половая сфера…
Надо было жить один год за два. А я, отвергаемый миром, всё больше отставал по возрасту от этого мира… Но с меня спрашивали по моему паспортному возрасту…
И как уши не затыкай, всюду слышался голос Хозяина. Я мог убить его тело, расчленить его к ядрене фене, а дух его всё равно давил бы мой собственный. Кто знает – кабы не Он, может я прожил бы год за два…
Анна спала тихим сном праведницы. Говорят, гнев Божий минует селение, где схоронился хотя бы один праведник. Поди зря говорят. Брешут.
Вон дрожит землища, дребезжит небосвод – идёт состязание: кто больше поубивает. Профанные когти запущены в сакральное тело. Грядут последние из людей, бухари-субпассионарии, сироты казанские, волки тамбовские. Бредут, бредут они сюда; водянисто-белёсые буркала зияют на их серо-бурых грызлах. Внуки хлебопашцев, дети пролетариев, а у самих по одной записи в трудовом билете – «мародёр». Их дедушки спились, их батюшки сторчались, сами они скурвились. У них нет ни легитимации, ни понятий – у них лишь обида на свою нетрадиционность. Они бредут сюда, чтобы разрушить всё до основанья, а затем затеять на обломках дискотеку под рэйв и рэп.
Анна, сможешь ли ты ослепить их небесной красотой своей? Оглушить ангельским голосом своим? Подкосить их ноги, дабы пали они перед тобой коленопреклонённые? Обесточить наэлектризованные мышцы пальцев, сжимающих финки?
Я спрятался бы в тёмный чулан, дабы не оттенять великолепие твоё, я… сгинул бы с лица земли, лишь бы не пахло и духом моим смердящим здесь, на твоём Острове, я… кинулся бы на их лезвия… чтобы жертвой своей подчеркнуть божественность твою, я…
Да ведь, Анна-Анна-Анна, они тоже хотят от тебя этого жара, этого света, этого звука. Они чуют жар, видят свет, слышат звук, но они никогда не поймут – откуда это и во имя чего это. Им хочется греться об тебя всем телом, ибо у них дома не топят. Им хочется, чтобы ты светила им ночью на расстоянии эригирующих членов их, ибо давным-давно у них дома перегорели лампочки. Им хочется слышать звук твоих рыданий после их преждевременной эякуляции, ибо звуки выстрелов немелодичны, а птички стороной облетают их дом.
Я, я махонький, я никудышность, на жирных слабеньких ножках не отдам тебя им, ибо…
…ибо почему?... Ибо чтой-то вдруг…
…Ибо собственник? Ибо ревнивец? Ибо –
Изучающий связные тексты знает слова великолепная, светоносная, божественная, он в состоянии соединить их со словом «Анна», но он видит, как видит и ничего не изучавший – ты женщина из плоти и крови, баба, самка, осколок единого совершенства, но не совершенство.
Анна, я не люблю тебя. Я люблю традицию. Но она не любила меня. Теперь она погибла, и ты… похожая на неё… тоже… должна погибнуть… Но не достаться этим, ни за что на свете…
…вы понимаете, оно прорывается не шелестом, а скрежетом. В прокуренные лёгкие поступает кислород. Божьи коровки садятся на клейкие листочки. Копошащиеся червонные черви жаждут быть съеденными дятлом. Дрожат чашечки цветов под неуклюжим натиском грузно-мохнатых шмелей. Вибрируют кусты и деревья. Недостоверный, зыблется окоём. Мрак молчит. Лишь чуткому от отчаянья уху постепенно открываются потаённые звуки, сокрытые в густеющей тьме. Увесистое порханье бражников. Ухватливое порсканье ловчих. Заливистый лай гончих и борзых. Клёкот калек, стрёкот стрекоз, утробное урчанье ýрок. Скрип ступиц колесницы бога солнца. Храп, хрип и кашель остальных богов. Всхлипыванье чудовищных чудищ и гарканье гарцующих героев. В отблесках ночных светил восприемлется свистящий мимо со скоростью света свет. Во множащихся, сливающихся друг с другом лоскутьях света много чего происходит. Топочут толпы термитов, точащих зубья на материальные артефакты. Сражённые пулями поселенцев рушатся с ног на пряные травы прерий многоглавые стада неуклюжих бычар-бизонов. Стаи голых баб, пронзённых стрелами, с криком пикируют к горизонту, гулко бухаются оземь, в бурьян голодных степей. Освобождённое небо зарится заревом, ярится во всю ширь и во всю глубь, по нему трассируют пунктиры пульсирующих световых игл. Нанизать себя, прободить, продёрнуть. Изойти гноем, мерзостью и гнусью. Изблевать из себя кровавые клочья лёгких. Испражниться смотанным сгустком кишок. Лечь на бугристую чёрную землю и дать ей всосать тебя без остатка. Испустить из себя равнодлинные нити лазерных лучей. Нырнуть в зияющие бреши пространства, окунуться в лагуны лакун, заполнить собой небытие. Разлиться по венам бытия, внедриться в поры Абсолюта, впиться зубами в пупырышки вымен Великой Матери. Разотождествить себя с хрупким своим материальным коконом. Впрыснуть свой сок в сухожилия сущего, прорасти корабельными соснами к зениту и надиру, прорвать парусину небесного шатра. Сбыться остохренелой мечтой осатанелых мономанов, до искр в глазах наотмашь ёбнутых вечностью. Осуществиться, стать, быть. Уподобиться сиянию. Продлить сияние, сколько возможно, ведь: мимолётна интервенция дня. Слишком яркий свет ослепляет. Нельзя не мигая смотреть на солнце. И возвращается здесь и сейчас, ночь предельного одиночества, канун Армагеддона. И надо всем – око луноликой богини Селены, властительницы ночи, королевы нечета, командирши звёздных парадов, пастýшки планет, кроткой сокрушительницы солярного миропорядка, собеседницы самоубийц, покровительницы извращенцев, наставительницы лузеров, разлучницы и разделительницы, подсказчицы и свахи…
Момент зазвенел и ушёл. Его никто не выразил.
24. День защиты детей
С утра над Островом стоял туман. Ватный и пустой свет стелился над садом. Тянуло пронизывающим холодом, травы умылись росами, полифония малиновок и горихвосток оглашала окрестность, поздравляя её с новым днём, первым днём очередного терпко-ласкового провинциального лета.
Из дома в сад выскользнула полуодетая сутулая фигура. В руках у неё был лук. То Конрад Мартинсен вышел на тропу охоты. Он весь дрожал, объятый утренним дубняком, и плотоядно стучал зубами, но на ногах стоял твёрдо. Он так и не уснул минувшей ночью. Он всё обдумал. Он принял решение, может быть даже, несколько судьбоносных решений – судьбоносных для себя и ближних.
Конрад присел под кустом, вложил в лук стрелу и принялся ждать. Он знал, что ждать осталось недолго. Он не думал о том, дрогнет ли в решающий момент его рука. Всё сложилось так, как он хотел. Он был само спокойствие.
Постепенно пробивались лучи и разрезáли туманный студень. Проступали контуры дома с его балконами и террасами. Запах вчерашнего пожара уподоблялся пряному аромату костра. Готовились взойти семена первых цветов. Чечётка зубов слабела. Сад дышал.
Не кричали петухи, не лаяли собаки – все сварены, все съедены. Тишь, гладь, благодать. И никаких мыслей – вечный думатель заглох, картины прошлого померкли, над землёй повисло вечное, нескончаемое настоящее. Бесконечное Здесь и Сейчас.
И сквозь последние клочки умирающего тумана, параллельная световому столбу, в белой ночнушке и белой шали с кистями, горделивой павой выплыла на крыльцо Анна, хозяйка сада и хозяйка Традиции, дабы принести себя в жертву Текущему Моменту.
Лицо её было торжественно и невозмутимо, но в самых уголках её губ играла джокондова улыбка всеведения. Она сходила по ступеням, и это сошествие длилось века.
Конрад едва заметными покачиваниями лука сопровождал каждый шаг Анны, не сводя остриё стрелы с виртуальной точки её сердца. Она приближалась навстречу стреле на удобное расстояние, и Конрад медленно начал оттягивать тетиву на себя. Прохладные волны со слабым шуршаньем бежали вдоль оси тетива – стрела – сердце, и Конрад почти не чувствовал напряжения в набрякших мускулах, слушая ток эфирных частиц.
Стрела летела долго, её посвист навсегда повис в ушах стрелка. Подобно грудному младенцу она слепо ткнулась в гостеприимно расставленные перси Анны. Ток заземлился. Движенье Анны прервалось на полушаге. Хозяйка Острова рухнула навзничь, уязвлённая в самую суть.
Так состоялась встреча миров. Касание Иного. Укус Ангела. Из раны обильно засочилась густо-багровая подлинность. Конрад всем телом повторил угасающие колебания тетивы и двинулся к Анне.
Чуть заметная улыбка на ея устах сохранилась, разве что глаза распахнулись до отказа, и в них, сквозь глубокую удовлетворённость чуть-чуть просвечивала укоризна.
Не нужный ещё минуту назад, подул небольшой ветер, привёл в движенье пышную гриву на голове Анны.
Истощённая земля жадно впитывала стекающий сок. Трепетала на ветру зелёными пёрышками стрела – ещё живая ветвь срубленного дерева. Незавершённость женского тела, бесившая когда-то скульптора Микеланджело, была преодолена гением скульптора Конрада Мартинсена.
Конрад любовался на дело рук своих. Он миллион раз проигрывал эту сцену в воображении, и теперь воочию убедился, что задумал её хорошо.
Над Островом повисла гнетущая звенящая тишина. Нещадно палило солнце. Лишь на мгновенье ухо Конрада уловило слабый трескучий звук – будто кто-то спустил затвор фотоаппарата… но нет, вроде попритчилось.
Естественно, ему хотелось бы запечатлеть момент для вечности, но как – он не знал. Он ничего не понимал в искусстве мумификации. Свой фотоаппарат он загнал на толкучке по возвращении из армии (или того, что заменило ему армию). Поэтому он пожирал глазами прекрасную мёртвую женщину в шали и со стрелой в груди, дабы навсегда отобразить заветное зрелище в своём сознании, перебить им тьму роящихся меморий другого свойства. Это оказалось вовсе не сложно – прошлое Конрада Мартинсена отступило, скукожилось, сморжопилось, утратило статус реальности, отодвинулось в доисторическое, легендарное Никогда. Единственно актуальным и вечно живым осталось всё то же бескрайнее Здесь и Сейчас – ликующее и лицеприятное.
…потом он сидел и перекуривал на тронном крыльце, в традиционной позе, отсюда было очень хорошо видно, что он совершил на рассвете. Не мигая, пялился Конрад на убитую, и немыслимые мысли посещали его: вроде того, что без гроба негоже, трупный яд – где-то он слышал – испортит почву… Однако же вон мрут наши млекопитающие собратья, никто их в ящиках не погребает, однако же… А пустое всё! Сколько гниёт трупов на поверхности ядовитой почвы Страны Сволочей…
Поглядев на часы, Конрад медленно подошёл к Анне и запóлзал подле трупа на корточках. Он развязал на покойнице шаль и аккуратненько разрезал ножницами рубашку, от места попадания до края, а затем также аккуратненько стянул её.
Ещё минут десять, мусоля очередную сигарету, могильщик тупо пялился на нежное тело с остатками прошлогоднего загара, на раскинувшее в разные стороны спелые яблоки грудей.
За кустом лежал сделавший своё дело лук. Конрад хотел было разрубить его топором, но вовремя решил, что воительницу надо похоронить вместе с её боевым оружием.
Конрад осатанело лопатил землю, постоянно косясь на часы – у него было очень много дел. Организм исподволь начал напоминать о бессонной ночи, и тем тяжелей давил на веки горячий пот.
Само собой, место для копания он выбрал непотребное, сплошные корни, и приходилось рубить эти корни на корню. Топор, лопата, топор, лопата, согбенный тщедушный торс с нависающим белым пузом…
Могила вышла какой-то семиугольной формы. В цейтноте не до эстетики. Конрад спрыгнул в яму, улёгся, окорябался о недорубленные коряги, но счёл, что здесь вполне просторно, а это главное.
Конрад густо покрывал тело Анны страстными иудиными поцелуями, слизывал солоноватую кровь, долго-долго, пока вновь не вспомнил, что времени в обрез. И он чуть приподнял труп, задрапировал в шаль, продев стрелу в одну из её ячеек. Затем, крякнув, поднял бездыханное своё сокровище на хилые руки, и крепко прижимая к себе, оттащил к могиле.
(Только вот напрасно читатели ждут описания мастурбации над трупом. Конрад был весь налит любовью, как бурдюк вином, но теперь он ни за что не стал бы расплёскивать эту любовь по мелочам. Что-то ведь должно было двигать Конрадом в дальнейших его поступках).
И ещё долго не решался засыпать кадавр землёй, точно караулил первые признаки разложения. Но стрелки часов продолжали своё вращение, и на хладный труп пали первые пригоршни праха.
Но вот тело было засыпано, лишь древко стрелы немного торчало над поверхностью. Конрад осторожно счистил с него перья и приколотил тонкую поперечную планку. Крест вышел лёгкий, временный – поскольку смерть, по сути своей, временна, мимолётна, недолгое мгновенье в череде эонов, пыль на ободе колеса сансары, предвестие новых рождений.
А на поселковом кладбище пусть высится кенотаф с надписью «А. Клир». Могила, в которой нет тела покойницы.
И вновь – сверился с часами.
Урелы, по расчётам Конрада, ещё спали. И спать должны будут ещё долго. Потом опохмеляться. Так что время ещё есть, хоть и не много.
За последний месяц Конрад досконально изучил все перекрытия и средостения родового гнезда выморочного рода Клиров, и теперь он торопливо, но не суетливо конопатил щели грязно-белым порошком, напевая под нос «ТиЭнТи»[13] группы «ЭйСиДиСи», и при этом глóтка его не чувствовала боли. Скоро пожалуют дорогие гости, и всё должно быть готово к их приёму по высшему разряду. Не покладая рук и не зная устали, трудился Конрад добрых два часа. К этому времени солнце припекло сильней, дом прогрелся, шальные зайчики плясали в столбах пыли, и Конрад хитровато улыбался им. Он работал кропотливо и добросовестно, стараясь не пропустить ни одного сочленения в каркасе старого дома, и птички Божьи за окном задорно вторили ему.
И когда дом был пропитан и пропесочен порошком по всем своим немолодым костям и сухожилиям, Конрад приладил к ним длиннющий бикфордов шнур, сработанный им в последние недели, и, тщательно маскируя его в молодой мураве, потянул его к Лесному участку. Попутно он даже не оглянулся на свежую могилу, ибо был сосредоточен. Впервые в жизни.
И ещё Конрад вынес из дома ноутбук и свои вещи. Он сложил их на Лесном участке, упихал в рюкзак. «Книгу легитимации» он не взял, поскольку больше не нуждался в легитимации. «Книгу понятий» тоже не взял – в ней всё ложь.
Рюкзак был в разводах пота и пахнул солью. В последний момент Конрад сунул в него новую, пустую амбарную книгу, куда он собирался заносить все свои будущие убийства. Ещё много кого надо было убить. Конечно, обязательно убьют и самого Конрада, но он теперь уже не боялся Безносой. Программа его дальнейших действий была проста как дедушкин валенок, как береста, как коровье молоко – убивать и умирать.
Пока ничего особенного не происходило, Конрад решил ознакомиться с новостями. Его сосредоточенность искала себе целесообразного применения.
В конце сезона рябая почтальонка Мария на Остров не приплыла: в стране больше не выходило газет.
Поэтому Конрад черпал новости из Интернета. Он теперь управлялся с ним шустро, лихо и бойко. Помогало и знание иностранных языков. Он упоённо глотал Интернет-версии зарубежных изданий – но не всё, а только то, что как-нибудь соотносилось со Страной Сволочей. Надо сказать, что писали о ней скудно и скупо – с исчезновением её ядерной мощи обывателя за бугром она больше не интересовала.
Однако, в последние дни внимание зарубежной прессы было сфокусировано на зверском убийстве эмигрантки из Страны Сволочей. Там, в этом свободном мире люди редко-редко пользовались свободой убивать, а если кто и пользовался, то одни душевнобольные. Газеты публиковали многочисленные интервью с маньяком Хонки Тонком, отдавало ему своё время и телевидение. На экране он держался с таким достоинством, будто баллотировался в сенаторы, на вопросы отвечал непринуждённо и остроумно. Он насмотрелся боевиков и лент в стиле «фэнтэзи», и всякий раз испытывал оргазм, когда стрела попадала в женщину, и он мечтал испытать ни с чем не сравнимый уникальный оргазм, собственноручно застрелив кого-нибудь из лука. Обычно он довольствовался фотомонтажом, используя снимки своих добрых подружек – но однажды увидел потрясающую фемину, уязвившую его в самый эротический центр.
– Она была не похожа на проституток. Она была не похожа на обычных девок из соседних домов. Она была не похожа даже на кинозвёзд – те какие-то ненастоящие… и злые. А эта женщина пришла как из иного мира и была – подлинная. Кроме того, она была бледна и грустна и к тому же одета… как вестница смерти. У нас так никто не одевается.
Хонки Тонк выследил, куда ходит сразившая его красавица, прихватил из дома блочный лук и сделал то, что сделал. Так хорошо ему не было ещё никогда.
Кривая популярности боевиков и лент в стиле фэнтэзи, источников сексуального вдохновения для Хонки Тонка, плавно шедшая к закату, снова резко взмыла вверх.
Но вскоре по части популярности и внимания прессы с Хонки Тонком стал конкурировать безутешный, но безупречно выдержанный супруг убиенной – тоже эмигрант из Страны Сволочей, некий г-н фон Вембахер. Был он несколько моложе покойницы и весьма элегантен, даже когда угрожал самосудом мерзавцу Хонки Тонку. Благородство его осанки и чувств безотказно подкупало телезрителей и газеточитателей. Правда, скорее всего, был стимул держаться достойно и оставаться телегеничным, внутренне пылая скорбью и жаждой мщения, – гонорары за выступления в печати и по ТВ были единственным, но зато обильным источником существования для г-на фон Вембахера.
Одно из интервью с ним перепечатала маломощная газета маленького приграничного городка, где спокойствие жителей нарушалось разве что соседством огромного и непредсказуемого монстра – Страны Сволочей. Именно в этот день со стороны пограничной зоны в город вошёл измождённый, перепачканный, бородатый беглец оттуда. На его голой руке запеклась кровь – видать, бедняга побывал в передряге. Его сразу поместили в госпиталь, где извлекли шальную пулю, произведённую в Стране Сволочей, и, когда выяснилось, что он неплохо владеет местным языком, ему принесли свежие газеты. Наткнувшись на интервью с фон Вембахером, пациент сперва дал врачам заподозрить у него столбняк ввиду заражения крови, а потом всё же стал двигаться и безапелляционным, никогда не слыханным в этих цивилизованных краях тоном попросил принести ему подшивку газет за последнюю неделю.
«Интересно, – подумал Конрад. – Затеет ли он тяжбу?»
До Страны Сволочей эта информация не дошла. Так же как, понятное дело, никто в свободном мире не узнал, что где-то в захолустном дачном посёлке N-ской губернии произошло аналогичное убийство.
И хотя вести себя следовало тише воды, ниже травы, Конрад, которого охватило беспокойство и сомнения относительно успеха предприятия, не смог отказать себе в том, чтобы несколько раз послушать «Paperhouse»[14] старинной и всеми забытой группы «Can». И даже глубоко утрамбовав магнитофон на дно рюкзака, он повторял и повторял последнюю строчку этой преимущественно инструментальной композиции:
«You just can’t give them no more…»
За забором послышался сперва еле заметный гул, постепенно он нарастал и приближался, часто разрываясь звуками выстрелов. Деревенские уже вполне отошли от вчерашней пьянки и устраивали «пробег» по посёлку: запрудив широким фронтом всю улицу, забивали насмерть всякого, кто попадался им на пути. А поскольку всякий, как правило, норовил укрыться в своей крепости, от единого вала отпадали целые струи и перекатывали через крепостные валы, добивая растерявшихся врагов в их собственных норах. Конрад этого, конечно не видел, но, вообще-то начисто обделённый даром предвиденья, – предвидел.
С лесного участка сквозь пышные садовые заросли Конраду, понятное дело, ничего видно не было. Но в сарайчике, в котором он ставил свои алхимические опыты, горели экраны, принимавшие сигналы с видеокамер – их он поставил во всех жизненно важных точках дома и участка. Эти видеокамеры он унаследовал от своего предшественника на посту полицай-комиссара. Обладающий властью обладает и средствами технического прогресса. Конрад прилип к экранам и с удовлетворением глазел на происходящее – всё складывалось по начертанному свыше сценарию.
Видел он, например, как через забор перебросили обезображенный труп Торстена. Трупов безногих инвалидов не было – знать, сделали ноги.
Горька была также участь воспитательниц детского приюта – за все избиения и унижения с их стороны бывшие воспитанники поквитались сполна. Бедных женщин форменным образом разорвали на куски, щедро удобрив обесплодевшую землю посёлка их мозгами и внутренностями. Предсмертные визги воспиталок перекрыли даже победоносный рёв ликующей урлы.
И вот – они высадили калитку и ворвалась на участок. Девять парней и шесть девиц, причём очертания у всех были примерно одинаковы. Они прямиком устремились к дому и внедрились в его недра. До обострённого слуха Конрада доходили стук опрокидываемой мебели, треск разрываемых гардин, звон разбиваемых стёкол.
И вот – они вышибли дверь в Волшебную комнату. Сейчас они почнут крушить наследие постылых тысячелетий. Они предадут огню духовные сокровища человечества, калёным железом выжгут хрупкие сколки Традиции. Они начнут писать новую традицию с себя, запустят новые хронометры, упразднят всё, к чему лично они не причастны. Они срубят двуствольную голубую ель и возведут на её месте языческое капище, где станут истово молиться Великой Непонятке.
ПОРА.
И вот с лесного участка к дому устремился встречный огонь.
И как за любимую жену, как за ребёнка-кровиночку, как за маму рóдную беспричинно трясся Конрад за целость бикфордова шнура.
– За Нагорную Проповедь! За Бодх-Гайю! За Дон-Кихота! За импрессионизм! За вещь в себе! За госпожу Бовари! За грегорианский хорал! За додекафонию! – призывал суровый и справедливый мститель Конрад Мартинсен, несущий по телеграфной жиле своё пламенное не-сущее воинство.
Урелы не сразу прикоснулись к ценностям Волшебной комнаты – вначале они вроде как оцепенели, поражённые её богатством. Но вскоре инстинкт уничтожения взял верх над эстетическим шоком. Шкафы опрокидывались, книги, альбомы, эстампы сыпались в кучу, пластинки выдёргивались из конвертов и разбивались об пол… Незваные гости прикарманивали из статуй злато, яхонты, жемчуга, выковыривали из мозаик рубины и сапфиры. Но похоже, раж вандализма у них был сильнее жажды трофеев. Пятнадцать изломанных фигур озверело состязались в своём умении крушить, рвать, топтать ненавистные им реликвии. Одна патлатая чувиха с чёрными угрями на носу даже засунула себе в рот жестяное распятие и перекусила его пополам.
Бикфордов шнур догорал… Конрад этого не видел – он накрепко прилип к экранам.
ЖАХНУЛО!
На одном из мониторов дом Клиров как бы нехотя качнулся и в мгновение ока сложился, как карточный, разбрызгивая по округе отдельные фрагменты. Истошные вопли в его нутре в одночасье стихли. Над большой кучей хлама, в которую обратился дом, витали облака пыли. Стала тишь.
Конрад триумфально взвизгнул. Сделал бы сальто назад, если б умел.
– Ваши не пляшут!!!
Не гамельнский крысолов, оружие которого – тростниковая дудочка. Саблезубый Щелкунчик, побеждающий мышей в открытом бою.
Кончился гальюнщик Конрад Мартинсен. С днём рождения, лиходей Конрад Мартинсен. Лиходейство бывает эксцитативное (привлекающее внимание), агитационное, дезорганизующее… А бывает ещё самодовлеющее – лиходейства ради, единственно оправданное, святое и согласуемое с Традицией.
Конрад блуждал по руинам, раскапывая ошмётья разорванных тел. Внутри его на дрожжах бессонной ночи и душевных напрягов искала выход наружу блевотина. Конрад предельно сощурил глаза, оставив крохотные щёлочки и наткнувшись на кровавый лоскут мяса, тут же плотно сжал веки. Цель его инспекционного обхода диктовалась возрастающим неверием в успех проведённой ликвидационной акции, вопреки очевидности. Ведь получилось…
Спина Конрада конвульсивно сжималась, ожидая, что из-под развалин вылезет некий недобиток и угостит её пёрышком. Недобиток не вылезал и пёрышком не угощал.
(Опасаться, конечно, надо было другого – появления остальных деревенских, которые разбились на мелкие группы, дабы стрелять и резать оставшихся обитателей дачного посёлка в их логовах. Не могли же они за своим людоедским делом не видеть и не слышать мощного взрыва!
Но никто не шёл. Очевидно, рассредоточившись по отдельным участкам, единая фаланга головорезов начисто утратила наступательно-поступательный импульс, и он тихо-мирно заглох в дальних закоулках. Кровососы, наверное, уже насосались крови настолько, что их не хватало ни на месть, ни на любопытство.
Впрочем, это соображения автора. Конрад ничего не соображал).
Остров Традиции стал братской могилой пятнадцати мутантов.
На развалинах обнаружился почти не пострадавший от взрыва, только слегка захватанный томик Шопенгауэра на зарубежном языке. Точь-в-точь такой же, как некогда привезённый на Остров экземпляр, которым пришлось пожертвовать ради выяснения истины. Конрад машинально прихватил находку с собой.
И ещё среди обгоревших, растрёпанных фрагментов библиотеки нашёл Конрад надорванный, мятый обрывок книги, о существовании которой он никогда не догадывался. Книга называлась «Остров Традиции» и была выпущена тем же издательством, которое значилось на титульном листе биографии Землемера. Судя по всему, незнакомая книга повествовала о приключениях некоего Конрада Мартинсена – но это был лишь небольшой клочок, пара слипшихся листов с оторванным верхом, по каковой причине нельзя было даже восстановить связь этих листов между собой. Конрад даже толком не понял, кто был сей Конрад Мартинсен по профессии – не то публицист, не то кораблестроитель – и почему вообще удостоился целой книжки. Понятно было лишь, что он был вовлечён в какую-то детективную историю с элементами «экшн» и по жизни пересекался с неким «фон В…, сыном профессора К…». И уж тем более было не докопаться, кто автор – для этого надо было по брёвнышку, по щепочке разобрать все развалины, но на это не было ни времени, ни сил.
Споткнувшись об искорёженное бревно, Конрад упал рядом с верхней половинкой угреносой герлы и, желая облегчить свои страдания, восхотел сунуть два пальца в рот, да не успел и очистился естественным путём.
– Вот тебе, бабушка, и катарсис, – удовлетворённо прошептал Конрад, стараясь не смотреть на облёванную культяпку.
Конрад убежал из эпицентра взрыва, сел на обломок, дальше всех отброшенный взрывной волной и закурил, соображая, что неплохо бы умыться.
Он обильно окропил себя водой из рукомойника, где прежде перестирал немереное количество носков, и, не оглядываясь, пошёл на лесной участок, где его ждали загодя сложенные вещи.
Глаза закрывались, уши отказывались слышать, члены млели и размягчались. Но Конраду было не до сна. Он взгромоздил на ватную спину тяжеленный рюкзак, не оглянулся даже последний раз на развалины дома и двинулся в единственном направлении, куда вещмешок подталкивал его: вперёд.
Орудуя лопатой, как посохом, Конрад покинул обесчещенный Остров, который превратился в часть морского дна. Он разнёс лопатой забор Лесного участка и устремился в неизведанное. В лес.
Конрад рвался вглубь Страны Сволочей, в самое средоточие её дебрей, в заповедную гущу её рощ и кущ. Позеленелый хмельной лес ставил Конраду палки в колёса. Коряги цеплялись за ноги, ветви хлестали по глазам, стволы долбали увесистый рюкзак. Поэтому Конрад молотил вокруг себя руками, спотыкался, падал, вновь вставал. Он продирался сквозь кусты гонобобеля, остервенело крушил лопатой заросли можжевельника, совершенно не зная, как называется сокрушаемое им.
Ринулся вверх по склону, рюкзак обременил его, он навернулся и, держа равновесие, обхватил перпендикулярное склону полуживое дерево и поднял к небу залитые грязным потом глаза, от которых будто одни белкú остались. Он хрипел, кряхтел и бормотал новоязмы, а какая-то ослепительная раскалённая сковорода рассматривала его из зенита, бесстыже навязывая, что в некоем Сионе Некто по-прежнему славен.
Оно там было пятнистое, но Конрад закрыл глаза и не заметил пятен. Резким точным рывком восстановил вертикальное положение и попёр себе дальше – напролом, сквозь бурелом, Великой Непонятке навстречу …
Вдруг прямо под ногами Конрада что-то омерзительно шевельнулось, гадко заизвивалось, запульсировало кольцами, высунуло дегенеративную скошенную головку с немигающими, безжалостными глазами, изогнулось буквой «S», изготовилось для атаки. Он чуть было не наступил на мирно дремавшую в валежнике страшенную хозяйку здешних лесов и болот – неброско расцвеченную змеюку-гадюку, героиню его ночных кошмариков, объект его давней постыдной фобии…
О, как желал бы автор, чтобы она обвилась вокруг его ноги и ужалила его, чтобы свершилось возмездие, воздаяние, искупление… Но непослушный герой инстинктивно занёс лопату и полоснул по извивающемуся телу. Тело извернулось, изверглось, брызнуло – и пару раз сократившись, обмякло. Точно перерубленный скрученный тросс ниспал к ногам Конрада. А тот отпрыгнул от места очередного убийства и выпустил из себя последнюю порцию непереваренного ужина. Он сам извивался ужом, только со стороны себя не видел.
Держа наперевес замазанную чем-то тёмно-блестящим лопату, он продолжил путь, готовый мочить всех, кто попадётся ему на пути. В висках стучало: ему ещё много предстоит убивать. В непроглядном хаосе кипящего мозга на миг шевельнулась тыловая, полумрачная мысль: дом не построил, зрелую книгу не написал, сына вроде родил, да сам же его и пережил… так пусть хоть змею убил.
Он шкандыбал по синусоиде, стукаясь бесчувственным лбом о стволы. Его плющило и трясло. Рюкзак изо всех сил прессовал потную спину, но Конрад словно не ощущал прессинга. Он был влеком перспективой чащи, он хотел забраться в самое глухое место, где ничто не напоминало бы о сосуществовании на одной планете с живыми тварями. Особенно с людьми.
И каково же было его гневное разочарованье, когда за очередными стволами забрезжила опушка, за которой простиралось огромное невозделанное поле. То там, то тут на нём также намечались деревца, но ещё хилые, тщедушные, малорослые. И они явно не препятствовали мчащимся навстречу Конраду коням. На каждом восседало по ездоку. Допрыгался. Всадники.
Сзади был спасительный лес, но Конрад внезапно ощутил оставившее его сегодня утром чувство голизны. Он не мог двинуться с места. Он ревниво таращился на внушительных кентавров и сожалел, что его нет среди них.
Опёршись на лопату, он тупо созерцал, как ладные точёные торсы подпрыгивают на ладных точёных крупах и постепенно вспоминал, что он уже сутки ничего не ел и около полутора суток не спал… И невыносим стал рюкзак на плечах, и началось колотьё в боку и давление в груди. Он понял, что зверски устал.
Конрад плашмя опустился в траву и вытянул ноги. Стало ясно, что опять встать в ближайшее время вряд ли удастся. Во-первых, дюже тянул к земле рюкзак. Во-вторых, вообще не было сил.
А всадники приближались; Конрад уже отчётливо различал их лица. Они светились неустанностью и жаждой битвы. У каждого в руке был наган или маузер или парабеллум – Конрад плохо разбирался в оружии. А он не мог пошевелиться, даже не мог дотянуться до брошенной неподалёку лопаты.
И тут Конраду стало жалко себя.
А когда над головами всадников развернулся победный сине-коричневый флаг, на котором было изображено чьё-то до боли знакомое лицо, захотелось ревмя реветь и рыдмя рыдать.
– Ну дела, – пропел Конрад. – Я хуею, блядь.
Истерик с ним не случалось уже три с половиной года. Но тут он словно обнажил свою истерошизоидную сущность. Дёргая за своё мужское достоинство, он хрипел и пускал пену, выл белугой, ревел севрюгой и стонал осетром: «Не проссу! Не проссу!»
Но когда конные поравнялись с ним, а случилось это почему-то не скоро, он уже подавил в себе приступ малодушия. Он лежал у их ног истерзанный, но умиротворённый. Кратковременный выплеск эмоций перед неминуемой казнью был жизненно необходим.
Конрад приготовился встретить свой конец, как мужчина.
Всадники взяли Конрада в плотное кольцо. Лощади храпели и брыкались. Между крупами протиснулась пехота в камуфляже. Конрада подняли, отечески съездили по затылку, угостили вдобавок «лещом» и поволокли прочь из круга.
– К Землемеру его! – скомандовал главный всадник в доломане на голое тело. Извернув голову на звук голоса, Конрад признал Курта. Что же, выходит, известие о смерти главного логососа было дезой? Двое же, которые схватили его под мышки, были, бесспорно, Петер и Лотар. Или спорно? Он не понимал, где находится, он хотел забыться и уснуть. «Не бось, не бось», – говорили ему, как когда-то Орёлик говорил «Не грейся».
Его в самом деле тащат к Землемеру, глубокоглазому калеке с душой росомахи? Ему было всё равно. Его не волновало предстоящее. Он выполнил свою земную миссию, поэтически самовыразился, артистически состоялся – и это главное. Ноги его ударялись о мраморные ступени провинциального дворца, бархатная ковровая дорожка амортизировала удары, пока его целеустремлённо волокли как куль, как тюк, как мешок с дерьмом. В голове его роились гирлянды латинских падежных окончаний и мерцала формула золотого сечения. По бокам лестницы вздымались скульптуры из нефрита, сандалового дерева и прошлогоднего снега. Музыка сфер звучала несколькими симфониями сразу, во всех известных миру семидесяти восьми тональностях, причём каждая симфония воспринималась ухом и в созвучии с остальными, и по отдельности. Бесперебойно били песочные часы, галдели галки и сойки, матерились попугаи, дули в спину студёный сирокко и знойный зефир. Пахло ревенем и ворванью, вереском и ипритом, оголённый живот касался листового железа и гагачьего пуха. В ноздрях и глазницах свербил кандибобер, хрустело мясо и плавился хлеб, на губах запеклись бязь и ворс. Свиристели свиристели, коростели коростели, водограй лился через край. Чухало и грохало, обонялось и осязалось, разъедало и жгло…
Бумс.
Тело Конрада шмякнулось у подножья литого пьедестала. Он крепко зажмурился. Он понял, что перед ним Землемер, волшебник изумрудного города, партизан полной луны, вседержитель медных труб и скрипящих статуй.
Он медленно открыл глаза.
Перед глазами плясала радуга.
По краям радуги нависала рама.
В раме колыхалось нечто.
Знакомые формы.
Небритость, лохмы.
Нос упёрт в хлад стекла.
В хлам зерцáла.
Зéркала.
В глубине зазеркалья, сквозь налёт, созданный его же дыханьем, взгляд Конрада отметил, как несколько человек раскурочивают его рюкзак, изымают ноутбук и по свежим следам знакомятся с его содержимым.
Конрада перевернули на другой бок. Бережно подняли. Тяжесть рюкзака вновь навалилась на плечи. Без ноутбука тот казался чуточку легче.
Экипированного рюкзаком повели к выходу. Он лишний раз обернулся на зеркало. В нём танцевали какие-то беспорядочные блики, и ничего больше.
Свели вниз по лестнице. Вновь отвесили дружеский подзатыльник. Поправили рюкзак на плечах.
А некий человек, опять же в камуфляже, как две капли воды похожий на Дитера, под уздцы подвозил навстречу видавший виды, обшарпанный лесипед. Конрада водрузили на железного коня и хотели было дать ускоряющего пинка, но в последний момент чья-то крепкая рука удержала руль, и другие руки всунули во внутренний нагрудный карман седока целлофановый пакет. По тому, как тот неприятно царапнул голую плоть, Конрад догадался: в пакете – корочки, удостоверяющие его биографию.
Потом непрошенные помощники разогнали велосипед по изобилуюшей колдобинами гаревой дорожке и назвали адрес профессора Клира.
Закрутились педали. Завертелись жернова моего романа. Но что-то длинный он какой-то получился, мой роман-то. Самое время оборвать его на полусл…
Какова мýка, такова мукá, каков текст – таково тесто, а каков от него прок, таков сам пирог.
Ноябрь 1988 – апрель 2013
Москва – Малаховка – Дюссельдорф – Москва
Примечания
1
И даю. См. эмигрантский журнал «Эхо», № 4/1979 и эмигрантский же альманах «Аполлон-77», соответственно подборки стихов А. Лосева и В. Ширали.
(обратно)2
Здесь и далее указывается возраст не вспоминающего, а воспоминания.
(обратно)3
«Полковник Васин» (англ.)
(обратно)4
«Этот поезд в огне…» (англ.)
(обратно)5
Стихотворение Н. Байтова (1977).
(обратно)6
См. отрывок «Из книги понятий» в главе «Масленица».
(обратно)7
Мировая скорбь (нем.)
(обратно)8
Ненависть к миру (нем.)
(обратно)9
Смех над миром (нем.)
(обратно)10
Вообще-то, на диске явно слышится «sing», но некоторые интернет-сайты дают «scream».
(обратно)11
Думай обо мне (англ.).
(обратно)12
Симулякр – один из ключевых терминов философии постмодернизма. Обозначает знак, не имеющий соответствия в действительности.
(обратно)13
Тринитротолуол.
(обратно)14
«Бумажный дом» (англ.)
(обратно)




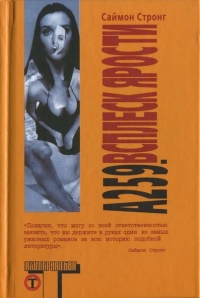
Комментарии к книге «Остров традиции», Василий Сосновский
Всего 0 комментариев