Уильям Берроуз ГОЛЫЙ ЗАВТРАК
Введение Письменное показание: заявление по поводу Болезни
После Болезни я очнулся в возрасте сорока пяти лет, в здравом уме и твердой памяти, а также сохранив сносное здоровье, если не считать ослабленной печени и ощущения где-то позаимствованной плоти, характерного для всех, кто выживает после Болезни... Большинство выживших не в состоянии вспомнить кошмар во всех подробностях. Судя по всему, я составил подробные записи о Болезни и бредовом состоянии. Точно не помню, как я писал то, что теперь опубликовано под названием «Голый завтрак». Название предложил Джек Керуак. До недавнего своего выздоровления я не понимал, что оно означает. А означает оно именно то, о чем говорят эти слова: ГОЛЫЙ завтрак — застывшее мгновение, когда каждый видит, что находится на конце каждой вилки.
Болезнью является наркомания, и я был наркоманом пятнадцать лет. Под словом «наркомания» я имею в виду пристрастие к «джанку» (общее название опиума и (или) его производных, включая и все синтетические — от демерола до палфиума). Джанк я употреблял в разных видах: морфий, героин, делаудид, юкодол, пантопон, диокодид, диосан, опиум, демерол, долофин, палфиум. Я курил джанк, ел его, нюхал, колол его в вену-мышцу-кожу, вставлял свечи в прямую кишку. В игле нет ничего особенного. Нюхаете ли вы, курите или запихиваете джанк себе в задницу, результат один — привыкание. Когда я говорю о пристрастии к наркотикам, я не имею в виду ни коноплю, ни марихуану, ни любой препарат из гашиша, мескалина, Bannisteria caapi, ЛСД-6, священных грибов, ни любые другие наркотики галюциногенной группы... Нет оснований полагать, что употребление какого-либо галюциногена приводит к физической зависимости. Действие этих наркотиков физиологически противоположно действию джанка. Прискорбное смешение этих двух классов наркотиков возникло благодаря усердию как американского, так и других бюро по борьбе с наркотиками.
За пятнадцать лет своего пагубного пристрастия я до конца понял, каким образом действует вирус джанка. В пирамиде джанка каждый уровень пожирается более высоким (не случайно занимающие высокое положение в джанке — всегда толстые, а уличный наркоман всегда тощ), и так до самой вершины или вершин, поскольку народами всего мира питается множество пирамид джанка — и все они построены на основных принципах монополии:
1. Никогда ничего не давать даром.
2. Никогда не давать больше, чем следует дать (всегда держать покупателя голодным и всегда заставлять его ждать).
3. При первой же возможности забирать все назад.
Барыга всегда вновь отбирает отданное. Наркоману требуется все больше и больше джанка, чтобы сохранять человеческий облик... откупаться от Обезьяны[1].
Джанк формирует монополию и одержимость. Наркоман лишь присутствует при том, как его джанковые ноги несут его по джанковому лучу прямиком к рецидиву. Джанк точно измеряется количественно. Чем больше джанка вы употребляете, тем меньше его имеете, и чем больше имеете, тем больше употребляете. Все, кто употребляет галюциногенные наркотики, считают их священными — существуют культы пейотля и культы Bannisteria, культы гашиша и культы Гриба... «Священные Грибы Мексики дают человеку возможность увидеть Бога» — но никто и никогда не допускал мысли о том, что священен джанк. Культов опиума не существует. Опиум — такая же земная, поддающаяся счету вещь, как деньги. Я слышал, что в Индии некогда был благотворный джанк, не образующий привыкания. Он назывался «сома», и описывают его как прекрасный голубой поток. Если «сома» и существовал когда-нибудь, то был и Барыга, который разливал его в бутылки, монополизировал и продавал, после чего он превращался в обыкновенный старинный ДЖАНК.
Джанк — это идеальный продукт... абсолютный товар. В торговых переговорах нет необходимости. Клиент приползет по сточной канаве и будет умолять купить... Торговец джанком не продает свой товар потребителю, он продает потребителя своему товару. Он унижает и упрощает клиента. Он платит своим служащим джанком.
Джанк соответствует основной формуле вируса «зла»: Алгебре Потребности. Лик «зла» — это всегда лик тотальной потребности. Наркоман — это человек, испытывающий тотальную потребность в наркотике. При частом повторении потребность становится беспредельной, над ней утрачивается контроль. Пользуясь терминами тотальной потребности: «А вы бы не стали?» Да стали бы. Вы стали бы лгать, мошенничать, доносить на своих друзей, красть, делать все, что угодно, лишь бы удовлетворять тотальную потребность. Потому что вы находились бы в состоянии тотальной болезни, тотальной одержимости и не имели бы возможности действовать каким-либо другим способом. Наркоманы — это больные люди, которые не могут поступать по-другому. У бешеной собаки нет выбора — она кусает. Напускная самонадеянность не ведет ни к какой цели, если только целью не является приведение джанкового вируса в действие. А джанк — это крупная отрасль промышленности. Припоминаю разговор с одним американцем, который работал в комиссии по афтозу в Мексике. Шестьсот в месяц плюс представительские[2].
— Долго ли еще продлится эпидемия? — поинтересовался я.
— Столько, насколько мы сумеем ее продлить... Да, и еще... возможно, скоро афтоз начнется в Южной Америке, — мечтательно произнес он.
Если вы хотите изменить или уничтожить пирамиду цифр в математическом отношении порядка, вы заменяете или убираете нижнюю цифру. Если мы хотим уничтожить пирамиду джанка, мы должны начать с основания этой пирамиды — с уличного наркомана — и прекратить по-донкихотски ломать копья в борьбе с так называемой «верхушкой»; все, кто ее составляет, способны моментально взаимозаменяться. Наркоман с улицы, который должен иметь джанк, чтобы жить, является единственным неизменным коэффициентом в джанковом уравнении. Когда не станет наркоманов, покупающих джанк, не станет и торговли джанком. Пока существует потребность в джанке, кто-то будет ей служить.
Наркоманов можно лечить или подвергать изоляции, выдавая им морфий и установив минимальный надзор, подобный надзору за разносчиками тифа. Когда это будет сделано, джанковые пирамиды во всем мире рухнут. Насколько мне известно, Англия — единственная страна, применяющая этот метод решения джанковой проблемы. В Соединенном Королевстве подвергнуты изоляции примерно пятьсот наркоманов. В следующем поколении, когда изолированные наркоманы вымрут и будут открыты болеутоляющие средства, действующие на «неджанковом» принципе, вирус джанка станет, подобно оспе, законченной главой — медицинской диковинкой.
Существует вакцина, которая способна отправить вирус джанка в прошлое и предать его забвению. Такой вакциной является Лечение Апоморфином, открытое одним английским врачом, чьего имени я не имею права называть, пока не последует разрешение на его использование и на цитирование его книги, описывающей тридцатилетнюю практику апоморфинного лечения наркоманов и алкоголиков. Соединение «апоморфин» образуется при кипячении морфина с соляной кислотой. Оно было открыто задолго до того, как стало применяться для лечения наркоманов. Долгие годы апоморфин, который не обладает ни наркотическими, ни болеутоляющими свойствами, использовался только для вызывания рвоты при отравлении. Он действует непосредственно на рвотный центр в затылочных долях мозга.
Эту вакцину я нашел в конце джанкового пути. Я жил в однокомнатной квартирке в туземном квартале Танжера. Целый год я не принимал ванну, не менял одежду и снимал ее только для того, чтобы ежечасно вонзать иглу в жилистое, одеревеневшее на последней стадии наркомании тело. Комнату я ни разу не убирал. Пустые коробки из-под ампул вместе с гниющим мусором были свалены в кучу высотой до потолка. Свет и воду давно отключили за неуплату. Я совершенно ничего не делал. Восемь часов кряду я мог разглядывать носок своего башмака. Если заходил кто-нибудь из моих приятелей — а они заходили редко: было ли кого (или что) навещать? — я сидел, не обращая внимания на то, что он попадал в мое поле зрения — серый экран, всегда пустой и тусклый, — и на то, что выходил из него. Умри он на месте, я и тогда продолжал бы сидеть, разглядывая свой башмак, а потом прошелся бы по его карманам. А вы бы?.. Мне ведь никогда не хватало джанка — и никому никогда не хватает. Не хватало и 30 гран морфия в день. А еще и бесконечные ожидания у аптеки. Промедление — одно из правил торговли джанком. Человек никогда не появляется вовремя. Это не случайно. В джанковом мире случайностей не бывает. Наркомана вновь и вновь учат тому, что произойдет, если ему не повезет и он не раздобудет свою дозу джанка. Гони денежки, а не то...
А моя доза внезапно подскочила. Сорок, шестьдесят гран в день. И этого было все еще мало. И нечем было платить.
Я стоял с последним чеком в руке и понимал, что это мой последний чек. Я купил билет на ближайший самолет в Лондон.
Доктор объяснил мне, что апоморфин действует на затылочные доли мозга, регулирует обмен веществ и нормализует кровообращение таким образом, что ферментная система наркомании разрушается за четыре-пять дней. Когда затылочные доли мозга отрегулируются, прием апоморфина можно прекратить и возобновить только в случае рецидива. (Ради удовольствия апоморфин никто принимать не станет. Не было отмечено ни одного случая привыкания к апоморфину.) Я согласился пройти курс и лег в частную лечебницу. Первые двадцать четыре часа я был настоящим безумцем и параноиком, как и многие наркоманы на тяжелой стадии отнятия. Этот бред исчез после двадцати четырех часов интенсивной апоморфинной терапии. Доктор показал мне схему. Я получал незначительные количества морфия, которыми, вероятно, нельзя было объяснить отсутствие у меня более тяжелых симптомов отнятия, таких как судороги в ногах и желудке, лихорадочное состояние, а также мой собственный, особый симптом — Холодный Жар, когда кажется, будто тело, натертое ментолом, окутывает пчелиный рой. У каждого наркомана есть свой собственный, особый симптом, из-за которого полностью утрачивается самоконтроль. В уравнении отнятия пропущен один коэффициент — им может быть только апоморфин.
Я видел, что лечение апоморфином по-настоящему действует. Через восемь дней я вышел из лечебницы с нормальным сном и аппетитом. Я совсем не употреблял джанк два года — рекорд за двенадцать лет. Рецидив на несколько месяцев все же был — как следствие боли и недомогания. Еще один курс апоморфина дал мне возможность обходиться без джанка и теперь, когда я пишу эти строки.
Лечение апоморфином качественно отличается от других методов лечения. Я перепробовал все. Резкое и постепенное снижение дозы, кортизон, антигистамины, транквилизаторы, лечение сном, толсерол, резерпин. Все эти курсы длились лишь до того момента, как появлялась первая возможность рецидива. Могу определенно сказать, что я ни разу не был излечен метаболически, пока не предпринял курс апоморфина. Ошеломляющая статистика рецидивов, приведенная Лексингтонским наркологическим госпиталем, заставила многих врачей утверждать, что наркомания неизлечима. В Лексингтоне применяют курс снижения дозы долофина и, насколько мне известно, никогда не пробовали апоморфин. И в самом деле, этот метод лечения сильно недооценивают. Не проведено никаких исследований ни с разновидностями формулы апоморфина, ни с синтетическими веществами. Без сомнения, можно получить вещество в пятьдесят раз сильнее апоморфина и избавиться от такого побочного эффекта, как тошнота.
Апоморфин — это метаболический и психический регулятор, прием которого можно прекратить, как только он сделает свое дело. Мир наводнен транквилизаторами и стимуляторами, но на этот уникальный регулятор никто не обращает внимания. Ни одна из крупных фармацевтических компаний не провела никаких исследований. Я считаю, что опыты с разновидностями апоморфина и синтезом его откроют перед медициной возможности, далеко выходящие за рамки проблемы наркомании.
Против вакцинации оспы возражала группа горластых безумных антивакцинистов. Нет сомнения, что раздадутся вопли протеста со стороны заинтересованных или неуравновешенных индивидуумов, когда из их рук вырвут вирус джанка. Джанк — это крупный капитал со своими механизмами и своими промышленниками. Им нельзя позволять вмешиваться в весьма важное дело лечения с помощью прививок и карантинной изоляции. Сегодня вирус джанка — это проблема мирового здравоохранения номер один.
Поскольку «Голый завтрак» затрагивает проблему здоровья, он, естественно, жесток, непристоен и внушает отвращение. Болезнь зачастую омерзительна, не для слабых желудков.
Определенные эпизоды книги, которые были названы порнографическими, написаны как трактат против Смертной Казни в манере «Скромного предложения» Джонатана Свифта. Эти разделы направлены на то, чтобы разоблачить смертную казнь как непристойный, варварский и внушающий отвращение анахронизм, каковым она и является. Завтрак, как всегда, голый. Если цивилизованные страны хотят вернуться к друидическим обрядам повешения в священной роще или упиваться кровью вместе с ацтеками и поить их богов кровью человеческих жертв, пускай же они увидят, что едят и пьют на самом деле. Пускай они увидят, что находится на конце этой длинной газетной ложки.
Я почти закончил продолжение «Голого завтрака». Математически Алгебра Потребности выходит за пределы джанкового вируса. Поскольку существует множество видов наркомании, по-моему, все они подчиняются основным законам. Говоря словами Хайдерберга: «Может, это и не лучший из миров, но он может оказаться одним из простейших». Если человечеству не откажет зрение.
Post scriptum. ..А вы бы ?..
А говоря от себя лично... ведь если человек говорит иначе, нам стоило бы взяться за поиски его Протоплазменного Папаши или его Материнской Клетки... Не желаю больше слушать старую, застрявшую в зубах джанковую трепотню и джанковое надувательство... То же самое говорилось уже миллион раз и даже больше, да и вообще нет смысла говорить, потому что в мире джанка НИЧЕГО Никогда Не Происходит.
Единственное оправдание этого опостылевшего пути к смерти — ЛОМКИ, когда цепь джанка размыкается за неуплату и джанковый мошенник помирает от нехватки джанка и передозировки времени, а Старый Жулик забывает о своем жульничестве, облегчающем путь под покровом джанка, путь, который жулики выбирают сами... Внезапное состояние абсолютной незащищенности, когда Переламывающемуся Наркоману ничего не остается — разве что смотреть, нюхать и слушать.
... Остерегайтесь автомобилей...
Ясно, что джанк — это толкание-опиумного-шарика-вокруг-света-по-маршруту-вашего-носа. Строго для скарабеев — доходяг и джанковых развалин. А уж в качестве таковых вам место на свалке. Надоело на все это смотреть.
Джанки вечно сетуют на Холод, как они это называют, поднимая воротники своих черных пальто и втягивая в плечи морщинистые шеи... чисто джанковое надувательство. Тепло джанки ни к чему, ему хочется ощущать Холодок-Прохладу-ХОЛОД. Но Холод ему нужен так же, как нужен его Джанк, — НЕ СНАРУЖИ, где он не приносит ничего хорошего, а ВНУТРИ, чтобы можно было сидеть себе с хребтом, подобным замороженному гидравлическому домкрату... его обмен веществ приближается к Абсолютному Нулю. Отпетые наркоманы зачастую по два месяца ходят не испражняясь и зарабатывают кишечную спайку, — а вы бы?.. — требующую вмешательства яблочного ножа или его хирургического эквивалента... Такова жизнь в Старом Ледяном Доме. Зачем болтаться вокруг да около и терять ВРЕМЯ?
Внутри есть Еще Одно Местечко, Сэр.
Есть твари, которые торчат от термодинамических забав. Они изобрели термодинамику... А вы бы?..
А некоторым из нас нужны Другие Забавы и кое-что неприкрытое, поскольку я люблю видеть, что я ем и наоборот, мутатис мутандис[3], как уж обернется дело.
Биллова комната для Голого Завтрака... Спешите видеть... Хороша для молодых и старых, людей и скотов. Нет ничего лучше капельки змеиного жира, чтоб смазать колеса и запустить балаган, старина. На чьей ты стороне? ЗамороДзэнного Гидравлика? Или хочешь взглянуть на все вместе с Честным Биллом?
Итак, ранее в этой Статье я говорил о Проблеме Мирового Здравоохранения. Перед нами Большие Перспективы, Друзья МОИ. По-моему, до меня доносится брюзжание по поводу персональной бритвы и некоего мошенника-скупердяя, который известен тем, что изобрел Вексель? А вы бы?.. Бритва принадлежала человеку по имени Оккам[4], а он не был коллекционером шрамов. «Трактатус логико-философикус» Людвига Витгенштейна[5]: «Если предложение НЕ НЕОБХОДИМО, оно БЕССМЫСЛЕННО и приближается к НУЛЕВОМУ ЗНАЧЕНИЮ».
«А что МЕНЕЕ НЕОБХОДИМО, чем джанк, если Вы в нем Не Нуждаетесь?»
Ответ: «Джанки, если Вы не СИДИТЕ НА ДЖАНКЕ».
Скажу по секрету, братва, каких только банальных речей я не слыхал, и все-таки всем прочим ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ далеко до старой термодинамической джанковой ЗАТОРМОЗКИ. Допустим, ваш героинщик вряд ли что-нибудь возразит, и это я стерплю. Но ваш «курильщик» Опиума более активен, ведь у него есть крыша над головой и Лампа... а может, и 7—9—10, что засели внутри и, точно находящиеся в зимней спячке рептилии, поддерживают температуру не ниже Разговорного Уровня: как низко пали все прочие джанки, «тогда как Мы — МЫ имеем крышу и лампу и лампу и крышу и лампу и крышу и здесь тепло и приятно приятно и тепло приятно ЗДЕСЬ ВНУТРИ приятно а СНАРУЖИ ХОЛОДНО-ХОЛОДНО СНАРУЖИ где эти пожиратели отбросов и любители уколов не протянут и двух лет да и полгода доходяги вряд ли протянут есть же низкого пошиба людишки... Зато МЫ СИДИМ ЗДЕСЬ и никогда не повышаем ДОЗУ... никогда-никогда не повышаем дозу никогда кроме СЕГОДНЯШНЕГО ВЕЧЕРА это ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ а все пожиратели отбросов и любители уколов там на холоде.
...И мы никогда не едим его никогда никогда никогда не едим его... Извините пожалуйста я отлучусь в путешествие к Источнику Живительных Капель который у них всегда в кармане а опиумные шарики запихиваются в задницу в напальчнике с Фамильными Драгоценностями и прочим дерьмом».
Внутри есть еще одно местечко, сэр.
Ну, а раз эта запись звучит уже миллиардный световой год и ясно, что никогда не сменится пленка, мы, неджанки, принимаем крутые меры, и люди покидают сторонников Джанка.
Единственный способ избежать смертельной опасности — это приплыть СЮДА и остаться на ночь с Харибдой... Гарантирую удовольствие, малыш... Сладости и сигареты.
Под этой крышей я пробыл пятнадцать лет. Внутри и снаружи внутри и снаружи внутри и СНАРУЖИ. Вышел — и точка. Так послушайте же Дядюшку Билла Берроуза, который изобрел хитроумный Регулятор для Счетной Машины Берроуза на принципе Гидравлического Домкрата — как бы вы ни дергали за ручку, результат для данных координат всегда один. Я рано всему научился... а вы бы?..
Опиатчики Всех Стран, Соединяйтесь! Нам нечего терять, кроме Своих Барыг. А ОНИ НЕ НЕОБХОДИМЫ.
Взгляните вперед ВЗГЛЯНИТЕ ВПЕРЕД на джанковый путь, прежде чем ступить на него и связаться с Гнильем...
Кто поумней, тот поймет с полуслова.
Уильям C. БерроузЯ чую, стрем нарастает, чую, как легавые суетятся снаружи, пытаясь расшевелить своих ручных стукачей, мурлычущих что-то о ложке и пипетке, которые я скидываю на станции «Вашингтон-сквер». Перескочив через турникет и стремглав спустившись на два пролета вниз по железным ступеням, я успеваю на поезд «А» в сторону жилых кварталов... Дверь мне придерживает юный, стриженный ежиком красавчик из интеллигентов, умник из умников и типичный фрукт — педик из педиков. Как видно, я соответствую его представлению о сильной личности. Ведь он из тех, что якшаются с барменами и таксистами, болтают о точных боковых ударах и «Доджерах»[6] да зовут по имени продавца у «Нэдика». Короче, засранец. На платформе появляется сыщик из отдела наркотиков — в теплой полушинели (представьте, что сидите у кого-то на хвосте, надев полушинель, — наверняка из кожи вон будете лезть, чтобы остаться незамеченным, точно последний пидор). Я так и слышу, как он говорит, держа мои причиндалы в левой руке, правая — на оружии: «Кажется, ты что-то обронил, приятель».
Но поезд подземки уже тронулся.
«Пока, ищейка!» — ору я, разыгрывая перед фруктом его второсортный спектакль. Я смотрю фрукту в глаза, отмечаю белые зубы, флоридский загар, костюм из синтетики за двести долларов, рубашку от «Братьев Брукс» с пуговицами на воротнике, а в руках «Ньюз» в качестве реквизита. «Единственное, что я читаю, — это комиксы про малыша Абнера».
Каждый правильный молокосос корчит из себя человека с понятием... Болтает о «травке», курит ее где попало и держит немного при себе, чтобы угощать голливудских развратников.
— Спасибо, малыш, — говорю я, — я гляжу, ты из наших.
Его лицо вспыхивает, окрашиваясь в дурацкий розовый цвет бильярда-автомата.
— Все-таки он меня выпас, — мрачно сказал я. (Примечание: на английском воровском жаргоне «выпасти» человека — значит на него донести.) Я придвинулся ближе и положил свои грязные наркотские пальцы на его блестящий рукав. — А ведь мы с тобой кровные братья по общей грязной игле. Скажу по секрету, его ждет горячий укол. (Примечание: это капсула отравленного джанка, продаваемая наркоману с целью его ликвидации. Нередко достается доносчикам. Как правило, горячий укол — это стрихнин, поскольку он по вкусу и виду напоминает джанк.)
— Видал когда-нибудь, как действует горячий укол, малыш? Я-то видел, как в Филадельфии на него нарвался Калека. Мы оснастили комнату односторонним зеркалом из борделя и брали за просмотр десятку. Игла так и осталась у него в руке. При достаточной дозе они никогда не вытаскивают. Так их и находят — из синей руки торчит полная свернувшейся крови пипетка. А его глаза, когда укол начал действовать, — вот это, малыш, было зрелище...
Помню, ездил я с Бдительным[7], лучшим вымогателем в отрасли. Было это в Чикаго... Мы обрабатывали педиков в Линкольн-парке. И вот как-то вечером Бдительный является на дело в ковбойских сапогах и черном жилете с громадной жестяной бляхой, да еще и лассо через плечо перекинул.
Я и говорю: «Ты что, перебрал?»
А он смотрит на меня и отвечает: «Получи сполна, чужак» — и вытаскивает старый ржавый шестизарядник, и я срываюсь через весь Линкольн-парк, а пули косят все вокруг. А пока легавые его не повязали, он еще трех педиков успел повесить. Я к тому, что не зря Бдительный получил свою кличку...
Замечал когда-нибудь, сколько выражений мошенники переняли у гомиков? К примеру, «у меня на это дело стоит», что должно означать, будто вы заодно?
«Возбуди его!»
«Возбуди этого опиатчика! Охмури этого лоха!»
«Ну, этот переусердствовал — сразу его облапал».
Как говорит Сапожник (это прозвище он получил, вытрясая деньги из фетишистов в обувных магазинах): «Впендюрь лоху с половым возбудителем, и он вернется канючить еще». А когда Сапожник засекает лоха, он начинает задыхаться. Щеки у него раздуваются, а губы делаются лиловыми, как у эскимоса в жаркую погоду. При этом он медленно подбирается к жертве и ощупывает ее пальцами с прогнившей эктоплазмой.
— У Деревенщины вид невинного мальчика, он весь светится этим видом, как голубым неоном, — точно сошел прямиком с обложки журнала «Сатердей ивнинг пост» с его вереницей болванов с рыбьими головами и законсервировался в джанке. Обманутые им простаки никогда не скулят, а жулики — те и вовсе носят для Деревенщины шприц. Но в один прекрасный день Голубой Мальчик[8] ускользает, и наружу выползает то, от чего сблевал бы любой санитар.
Вконец одурев, Деревенщина несется по пустынным ресторанам-автоматам и станциям подземки и орет: «Вернись, малыш!! Вернись!!»
Он гонится за своим мальчиком до самой Ист-Ривер — и вниз, мимо презервативов, апельсиновых корок и мозаики плавающих газет, вниз, в безмолвный черный ил с гангстерами в бетоне и пистолетами, расплющенными всмятку, дабы их не ощупывали пальцы похотливых экспертов по баллистике.
А мой фрукт думает: «Вот это парень!! То-то я расскажу о нем ребятам в «Кларке». Этот собиратель персонажей спокойно воспримет сцену из джо-гулдовской «Чайки», вот я и разыгрываю ее за десять монет и назначаю встречу, чтобы продать ему немного «травки», как он ее называет, а сам думаю: «Спихну-ка я сопляку кошачью мяту». (Примечание: когда кошачья мята горит, она пахнет как марихуана. Ее частенько подсовывают неосторожным или несведущим людям.)
— Ну что ж, — сказал я, похлопывая его по плечу, — пора и честь знать. Как сказал один судья другому, будь справедлив, а не можешь быть справедливым — будь своеволен.
Я захожу в ресторан-автомат, а там Билл Гейнз, закутанный в чужое пальто и похожий на страдающего параличом банкира 1910 года, и старый Барт, жалкий и неприметный, макающий в кофе сдобный торт своими грязными пальцами, лоснящимися поверх грязи.
На окраине у меня было несколько клиентов, которыми занимался Билл, а Барт знавал кое-какие старые мощи еще со времен курения хмеля: призрачных дворников, серых, как пепел; иллюзорных привратников, подметающих пыльные коридоры слабой стариковской рукой, кашляющих и харкающих на предрассветных ломках; отошедших от дел, больных астмой скупщиков краденого в театрально-роскошных отелях; Розу Пантопон, старую мадам из Пеории[9]; несгибаемых официантов-китайцев, вечно скрывающих свою болезнь. Барт терпеливо разыскивал их, осторожно двигаясь походкой старого джанки, а потом вливал в их бескровные руки несколько часов тепла.
Однажды я забавы ради совершил такой обход вместе с ним. Известно вам, что в отношении еды старики теряют всяческий стыд и, глядя на них, просто нельзя не сблевать? Старые наркоты в точности таковы с джанком. При виде его они повизгивают и что-то лопочут. С подбородка у них свисает слюна, в желудке урчит, все их внутренности скрипят в перистальтике, пока они второпях растворяют в джанке последний приличный кусок плоти, а вы каждую секунду ждете, что наружу шлепнется огромная капля протоплазмы и вберет в себя джанк. Подобное зрелище действительно внушает отвращение.
«Ну что ж, когда-нибудь и мои мальчики станут такими, — философски подумал я. — Разве не странная штука — жизнь?»
Так что — назад, в центр, на станцию «Шеридан-сквер», ведь сыщик может прятаться и в чулане.
Как я и говорил, долго это продолжаться не могло. Я знал, что там, снаружи, легавые вершат свои зловещие колдовские дела, науськивая на меня стукачей из Ливенворта[10] «Нечего сажать его на иглу, Майк».
Я слышал, что Чапина они с помощью стукача и схватили. Старый сыщик-кастрат сидел себе в подвале полицейского участка, а к нему на круглые сутки и на долгие годы прицепили стукача. А когда в Коннектикуте Чапин повесился, этого старого ползучего гада нашли со сломанной шеей.
— Он упал с лестницы, — сказали они. Вы же знаете, что за собачий бред несут эти гнусные копы.
Джанк окружен магией и связан с множеством табу, проклятий и амулетов. В Мехико я мог бы отыскать своего поставщика с помощью радиолокатора. «Нет, не эта улица, следующая, направо... теперь налево. Снова направо», — а вот и он — старушечье лицо с беззубым ртом и пустыми глазами.
Я знаю, что один барыга прогуливается, мурлыча некий мотивчик, и все, мимо кого он проходит, этот мотивчик подхватывают. Он такой серый, призрачный и безымянный, что люди его не видят, а мотивчик, который они принялись мурлыкать, принимают за возникший у них в голове. Так вот, клиенты подхватывают «Улыбки», или «Я расположен полюбить», или «Говорят, для любви мы еще молодые», или еще какую-то песенку, назначенную на этот день. Иногда можно увидеть около пятидесяти унылого вида наркотов, сетующих на ломки и бегущих за парнем с гармоникой, а еще есть Человек, сидящий на плетеной скамейке и бросающий хлеб лебедям, толстый гомик в бабском наряде, выгуливающий на Восточных Пятидесятых свою афганскую борзую, старый пьянчуга, ссущий у столба надземки, еврейский студент-радикал, раздающий листовки на Вашингтон-сквер, садовник, обрубающий ветки деревьев, крысолов-дезинсектор, фрукт-интеллигент, зовущий по имени продавца у «Нэдика». Всемирная цепь наркотов, настроенная на струну протухшей спермы, перетягивающая руки в меблированных комнатах, дрожащая на предрассветных ломках. (Люди Старого Пита глотают черный дым в подсобке китайской прачечной, а Меланхоличная Малютка умирает на ломках от передозировки времени или отнятия дыхания.) В Йемене, Париже, Нью-Орлеане, Мехико и Стамбуле, дрожа под отбойными молотками и землечерпалками, клянут друг друга джанковыми ругательствами, каких никто из нас не слыхал, а из проезжающего мимо парового катка высунулся Человек[11], и я вырулил ведерко гудрона. (Примечание: Стамбул сейчас сносят и перестраивают, особенно убогие джанковые кварталы. Героинщиков в Стамбуле больше, чем в Нью-Йорке.) Живые и мертвые, на ломках или в отрубе, подсевшие или слезшие и снова подсевшие, приходят они по джанковому лучу, а Поставщик жует Китайское Рагу на улице Долорес в Мехико, макает сдобный торт в ресторане-автомате, и его с лаем загоняет на Толкучку свора Людей. (Примечание: на нью-орлеанском жаргоне Люди — это легавые из отдела наркотиков.)
Старый китаец набирает в ржавую консервную банку речной воды и вымывает сифилис тяги, затвердевший и черный, как шлак. (Примечание: сифилис тяги — это пепел от скуренного опиума.)
Короче, мои ложка и пипетка у легавых, и я знаю, что они вот-вот выйдут на мою частоту, ведомые слепым стукачом по прозвищу Уилли Диск. У Уилли круглый дисковидный рот, обрамленный чувствительными, способными напрягаться волосками. Он ослеп от укола в глазное яблоко, нос и нёбо у него изъедены от вдыхания героина, нателе его, сухом и твердом, как дерево, — переплетение шрамов. Ныне он способен лишь пожирать это дерьмо своим ртом, а иногда выдвигать наружу длинную трубку эктоплазмы[12], нащупывающую безмолвную частоту колебаний джанка. Он идет по моему следу через весь город, в квартиру, с которой я уже съехал, и легавые натыкаются на каких-нибудь новобрачных из Сиу-Фоллз.
— Хорош, Ли!! Вылезай из койки, нечего тут натуралом прикидываться! Знаем мы тебя, — и дергают парня за член, отчего тот сразу кончает.
Тут уж Уилли приходит в настоящее возбуждение, и можно услышать, как он хнычет там, в темноте (он действует только ночью), и почувствовать жуткую назойливость этого слепого ищущего рта. Когда они являются кого-то вязать, Уилли теряет самообладание, и его рот прогрызает в двери дыру. Не успокой его полицейские зондом для скота, он высосал бы все соки из первого попавшегося наркота.
Я знал, и все остальные знали, что на меня натравили Диска. И если в суде мои малыши-клиенты заявят, что «в обмен на джанк он заставлял меня заниматься всяким ужасным сексом», мне останется лишь послать улице прощальный поцелуй.
Поэтому мы запасаемся героином, покупаем подержанный «студебеккер» и отправляемся на Запад.
Бдительный закосил под шизофреника: «Я стоял вне самого себя и пытался прекратить эти казни призрачными пальцами... Я — призрак, возжелавший того, чего жаждет каждый призрак, — тела, — Долгое Время бродивший по ничем не пахнущим закоулкам пространства, где нет жизни, один лишь бесцветный незапах смерти... Нельзя дышать, ощущая этот запах розовыми извилинами хряща, украшенного кристаллическими соплями, дерьмом времени и черными фильтрами плоти».
Он стоял в удлиненной тени зала суда, с лицом, расцарапанным, как старая кинолента, от вожделения и голода личиночных органов, шевелящихся в экспериментальной эктоплазменной плоти джанковых ломок (десять дней изоляции во время Первого слушания дела), плоти, которая исчезает при первом неслышном прикосновении джанка.
Я видел, как это происходит. Десять фунтов потеряно за десять минут стояния со шприцем в одной руке, другая поддерживает штаны, отрекшаяся от человека плоть горит холодным желтым огнем — там, в номере нью-йоркского отеля... ночной столик, заваленный коробками из-под сластей, каскады окурков в трех пепельницах, мозаика бессонных ночей и неожиданная потребность в еде, которая возникает на ломках у наркомана, выхаживающего ребенка — собственную плоть...
Бдительного судит федеральный суд по закону Линча, и он кончает в федеральной психушке, предназначенной специально для содержания призраков: четкое прозаическое воздействие предметов... умывальник... дверь... туалет... решетка... это там... это здесь... все связи оборваны... снаружи — ничто... безысходность... и безысходность в каждом лице...
Поначалу физические изменения происходили медленно, затем устремились вперед мощными зловещими толчками, пробивающими слабые ткани, стирающими человеческие черты... В абсолютной темноте рот и глаза стали одним органом, который норовит укусить прозрачными зубами... Но ни один орган не имеет ни постоянной функции, ни постоянного местонахождения... повсеместно произрастают гениталии... открываются, опорожняются и вновь закрываются прямые кишки... в ежесекундном приспосабливании меняются цвет и консистенция всего организма...
Из-за своих приступов, как он их называет, Деревенщина сделался всеобщей напастью. В нем рождался Внутренний Лох, и тогда его уже невозможно было унять. Неподалеку от Филадельфии он кидается проворачивать аферу с патрульной машиной, а легавые, взглянув на его лицо, забирают всех нас.
Семьдесят два часа, а в одной камере с нами пятеро больных джанки. Тут уж, дабы не транжирить свои запасы на этих голодных кули, приходится маневрировать и выкладывать надзирателю золотишко — и вот мы уже в отдельной камере.
Предусмотрительные наркоты, известные как «белки», делают на случай ареста заначку: каждый раз, делая укол, несколько капель я отправляю в жилетный карман, подкладка становится жесткой от наркотической начинки. В башмаке у меня лежит пластмассовая пипетка, а к ремню приколота английская булавка. Да вы и сами знаете, как люди управляются с булавкой и пипеткой: «Она схватила ржавую, в запекшейся крови, английскую булавку и выдолбила в ноге большую дыру, казалось, раскрывшуюся, точно непристойный гноящийся рот, ожидающий гнусной встречи с пипеткой, которую она целиком погрузила в зияющую рану. Но ее отвратительное страстное желание (голод насекомых в засушливых местах) обломало пипетку глубоко в плоти ее развороченного бедра (напоминавшего скорее плакат с изображением эрозии почвы). Но ей-то что? Она даже не потрудилась вынуть разбитое стекло и лишь разглядывает свою окровавленную ляжку холодными пустыми глазами мясника. Что ей до атомной бомбы, постельных клопов, злокачественной ренты — Кредитная Касса вот-вот отберет ее неоплаченную плоть... Сладких грез тебе, Роза Пантопон».
На самом-то деле вы слегка сжимаете кожу ноги и быстро делаете булавкой маленькую дырочку. Затем пристраиваете пипетку над дырочкой, а не внутри нее, и выпускаете раствор медленно и осторожно, чтобы он не разбрызгивался по сторонам... Когда я схватил Деревенщину за бедро, плоть поднялась, как воск, и осталась стоять, а из дырки медленно вытекла капля гноя. Никогда я не касался такого холодного живого тела, как у Деревенщины там, в Филли...
Я решил сбросить его с хвоста, даже если это и означало бы вечеринку с удушением. (Это английский деревенский обычай, направленный на то, чтобы избавляться от старых, прикованных к постели иждивенцев. Терпящее муки семейство устраивает «вечеринку с удушением», во время которой гости заваливают престарелую обузу матрасами, влезают на вершину этой кучи и напиваются вдрабадан.) Деревенщина — обуза для отрасли, его нужно вывести на задворки мира. (Это африканский ритуал. Официально известен как «многоточие», состоит в том, чтобы уводить стариков в джунгли и там бросать.)
Приступы Деревенщины становятся его обычным состоянием. При его появлении рычат полицейские, привратники, собаки, секретари. Белокурый Бог пал до низости неприкасаемых. Мошенники не меняются, они ломаются, разлетаются вдребезги — взрывы материи в холодном межзвездном пространстве, — уносятся прочь в космической пыли, оставляя пустые тела. Жулики всех стран, есть один простак, которого вам не обмануть, — Простак Внутри...
Я оставил Деревенщину стоять на углу: краснокирпичные трущобы до самого неба под непрерывным дождем копоти. «Пойду разыщу одного знакомого коновала. Вернусь с настоящим, чистым аптечным морфием... Нет, ты жди здесь — не хочу, чтоб он тебя засек». Жди меня на том самом углу, Деревенщина, жди сколько влезет. Прощай, Деревенщина, прощай, старина... Куда они уходят, бросая свои тела?
Чикаго: невидимая иерархия подвергнутых декортикации[13] итальяшек, запах атрофированных гангстеров, в Норте и Холстеде, в Сисеро и Линкольн-парке вас настигает бескрылый призрак — попрошайка снов, прошлое, вторгающееся в настоящее, прогорклая магия торговых автоматов и придорожных закусочных.
Вглубь: широкая боковая улица, телевизионные антенны — в бессмысленное небо. В жизненепроницаемых домах они парят над молодежью, понемногу вбирая в себя то, что она отвергает. Только молодые что-то совершают, да и они не слишком-то долго молоды. (За барами Восточного Сент-Луиса лежит мертвое пограничье, дни речных кораблей.) Иллинойс и Миссури, миазмы народов, образовавших могильный холм, подхалимское поклонение Источнику Пищи, жестокие и безобразные празднества, от Могилвилля до лунных пустынь перуанского побережья простирается безысходный ужас перед Богом-Многоножкой.
Америка — не молодая страна: она старая, грязная и злая еще до поселенцев, до индейцев.
Зло здесь, оно ждет.
И всюду копы: невозмутимые образованные копы штата, с хорошими навыками и извиняющейся скороговоркой — электронные глаза оценивают машину и багаж, лицо и одежду; рычащие сыщики большого города, вежливые провинциальные шерифы с чем-то зловещим и грозным в стариковских глазах цвета линялой серой фланелевой рубахи...
И вечные хлопоты с машиной: в Сент-Луисе меняем «студебеккер» 1942 года (у него встроенный технический порок, как у Деревенщины) на старый перегревающийся лимузин «паккард», еле добрались до Канзас-Сити и купили «форд», оказавшийся прожигателем топлива, сбагрили и его, взяли джип, который было слишком тяжело толкать (они не годятся для езды по шоссе), и что-то внутри сожгли, погрохотали на нем и вновь пересели в старенький «Форд V-8». Не стану пенять на мотор — добрались ведь, жжет он топливо или нет.
А тоска Америки смыкается вокруг нас, как никакая другая тоска в мире, мрачнее, чем Анды, высокогорные городишки, холодный ветер с открыточных гор, разреженный воздух, точно смерть в глотке, речные городки Эквадора, малярия, серая, как джанк под черным стетсоном, заряжающиеся через дуло ружья, грифы, клюющие что-то на грязных улицах, — и что поражает, когда вы выбираетесь с парома Мальмё в Швеции (на пароме не берут налог за горючее), вышибает из вас все это дешевое безналоговое горючее и приводит в полное уныние: испуганные глаза и кладбище в центре города (кажется, все города в Швеции построены вокруг кладбища), и днем нечего делать, ни бара, ни кино, я распечатал свою последнюю плитку танжерского чайку и сказал: «Давай-ка вернемся на паром, К. Е.».
Но нет тоски, подобной американской. Ее нельзя увидеть, нельзя понять, откуда она исходит. Взять хотя бы один из коктейль-баров в конце боковой улицы — каждый квартал имеет свои собственные бар и аптеку, универмаг и винную лавку. Вы входите, и она охватывает вас. Но откуда она берется?
Ни бармен, ни клиенты, ни кремового цвета пластик, окаймляющий сиденья, ни тусклый неоновый свет здесь ни при чем. Ни при чем даже телевизор.
А вместе с этой тоской формируются наши привычки, подобно тому, как кокаин будет формировать вас, пока на выходняке не наступит кокаиновая депрессия. Да и запас джанка уже подходил к концу. И вот мы здесь, в этом безлошадном городишке[14], строго под микстурой от кашля. И выблевывали микстуру, и ехали все дальше: холодный весенний ветер, со свистом продувающий старую колымагу, обдувающий наши дрожащие на ломках, потные тела, и озноб, который всегда возникает, когда из вас выходит джанк... Дальше, сквозь голый ландшафт, мимо дохлых броненосцев на дороге, грифов над болотом и кипарисовых пней. Мотели с фанерными стенами, газовым обогревателем, тонкими розовыми одеялами.
Заезжие наркоты — пройдохи и подлизы — уже успели выпотрошить техасских коновалов...
А луизианского коновала ни один нормальный человек и пальцем не тронет. Противоджанковый закон штата.
Наконец приехали в Хьюстон, где я знаю одного аптекаря. Я не был там пять лет, но он поднимает голову, сразу меня узнает, кивает и говорит: «Подожди за стойкой...» Короче, сажусь я и выпиваю чашечку кофе, а немного погодя он подходит, садится рядом и спрашивает:
— Что тебе нужно?
— Кварту настойки и сотню немби.
Он кивает:
— Приходи через полчаса.
А когда я возвращаюсь, он вручает мне пакет и говорит:
— Здесь на пятнадцать долларов... Будь осторожен.
Укол опийной настойки — жуткая морока; сначала вам нужно выжечь спирт, потом выморозить камфору и выбрать эту бурую жидкость пипеткой — колоть ее надо в вену, иначе вы получите абсцесс, а обычно абсцессом и кончается, куда бы вы ее ни кололи. Самое лучшее — это выпить ее с чумовыми колесами нембутала... Поэтому мы наливаем ее в бутылку из-под перно и отправляемся в Нью-Орлеан — мимо радужных озер и оранжевых газовых вспышек, болот и мусорных куч, аллигаторов, ползающих среди разбитых бутылок и консервных банок, неоновых арабесок мотелей, сутенеров, брошенных на необитаемых помойных островках и поливающих непристойной бранью проезжающие машины.
Нью-Орлеан — это мертвый музей. Благоухая настойкой, мы прохаживаемся вокруг толкучки и сразу же находим Человека. Район небольшой, и легавые всегда знают, кто там торгует, поэтому он решает, какое, к черту, это имеет значение, и продает всем. Мы запасаемся героином — и в обратный путь, в Мексику.
Назад, через Лейк-Чарлз и мертвую страну торговых автоматов; южная окраина Техаса, шерифы-убийцы-ниггеров окидывают нас взглядом и проверяют документы на машину. Что-то обрывается внутри, когда вы пересекаете мексиканскую границу, и вдруг вас поражает пейзаж — вас уже ничто не связывает ни с пустыней, ни с горами, ни с грифами; эти кружащие в воздухе пятнышки летают на самом деле так близко, что слышно, как крылья рассекают воздух (хриплый сухой звук), а что-то заприметив, они выныривают из голубого неба, этого гибельного, беспощадного голубого неба Мексики, и — черной спиралью вниз... Ехали всю ночь, на рассвете оказались в каком-то теплом туманном местечке: лающие собаки и звук струящейся воды.
— Заурядность, — сказал я.
— Что?
— Так называется этот город. Уровень моря. Отсюда нам карабкаться еще десять тысяч футов вверх. — Я принял дозу и улегся спать на заднее сиденье. Машину она вела хорошо. Это видно сразу, стоит кому-нибудь взяться за руль.
Мехико, где Лупита сидит, точно ацтекская Земная Богиня, скупо выдавая свои пакетики с паршивым дерьмом.
— К продаже привыкаешь сильнее, чем к употреблению, — говорит Лупита.
Неупотребляющие барыги имеют привычку к контакту, а ее не излечишь. Взять хотя бы Скупщика Брэдли. Лучший в отрасли агент отдела наркотиков. К джанку его никто не сумел бы приспособить. (Примечание: приспособить — в смысле заставить его полюбить или хотя бы попробовать.) То есть любого барыгу он охмуряет на раз. Он такой безымянный, серый и призрачный, что барыге его нипочем не запомнить, вот он и дурачит одного за другим...
Короче, Скупщик становится все больше и больше похож на джанки. Он не может пить. У него уже не стоит. У него выпадают зубы.
(Подобно тому как беременная женщина теряет зубы, вскармливая своего незнакомца, джанки теряют желтые клыки, кормя свою обезьяну.) Он вечно сосет леденец на палочке. Особенно ему по душе «Бэби Руте». «И впрямь противно смотреть, как Скупщик сосет свои мерзкие леденцы», — говорит один коп.
Лицо Скупщика окрашивается в зловещий серо-зеленый цвет. Его организм явно вырабатывает свой собственный джанк или его эквивалент. У Скупщика есть постоянный поставщик. Можно сказать, Человек Внутри. Во всяком случае, так он думает. «Больше не выйду из комнаты, — говорит он. — Ебал я их всех. Больно уж все правильные — что те, что эти. Единственный стоящий человек в отрасли — это я».
Но вот по его костям зловещим ураганом проносится тяга. И тогда Скупщик вылавливает молодого джанки и для начала дает ему пакетик.
— Годится, — говорит паренек. — Но тебе-то что надо?
— Мне бы только потереться о тебя, вот и вся моя раскумарка.
— Угу... ладно, так и быть... раз уж ты не можешь по-мужски возбудиться...
Позже паренек сидит с двумя коллегами в «Уолдорфе»[15] и макает свой сдобный торт.
— Ничего более омерзительного мне в жизни терпеть не приходилось, — говорит он. — Он делается весь мягкий, как кусок студня, и мерзко так меня обволакивает. Потом становится мокрый — весь в какой-то зеленой слизи. Оргазм у него такой жуткий, что ли... Я чуть не очумел от этой зеленой дряни, я уже весь в ней вымазался, а он вдобавок воняет, точно гнилая дыня.
— Да ладно, еще дешево отделался.
Паренек смиренно вздохнул:
— В общем-то ко всему можно привыкнуть. Завтра я опять с ним встречаюсь.
Привычка Скупщика становится всё опаснее. Каждые полчаса ему требуется подзарядка. Иногда он слоняется по полицейским участкам и подкупает надзирателя, чтобы тот впустил его в камеру к наркотам. Дело идет к тому, что никакое количество контактов не будет его удовлетворять. И тут он получает повестку от Окружного Инспектора.
— Брэдли, ваше поведение дает повод для слухов — а я надеюсь, для вашего же блага, что это слухи и есть, — столь неописуемо неприятных, что... Я хочу сказать, что жена Цезаря... гм... что наш Отдел должен быть вне всяких подозрений... и уж конечно — вне таких подозрений, каковые вы, кажется, вызвали. Вы ухудшаете общую моральную обстановку в отрасли. Мы готовы принять вашу немедленную отставку.
Скупщик бросается на пол и подползает к ОИ:
— Нет, хозяин, нет... Отдел — это вся моя жизнь.
Он целует руку ОИ, запихивая его пальцы себе в рот (ОИ должен почувствовать его беззубые десны) и сетуя, что потерял зубы «на шлушбе».
— Прошу вас, хозяин. Я буду подтирать вам задницу, буду стирать ваши грязные презервативы, буду чистить вам ботинки жиром своего носа...
— Право же, это крайне неприятно! У вас что, совсем нет чувства гордости? Должен сказать, что все это просто отвратительно. Точнее, в вас есть нечто... э-э... гнилое, да и пахнете вы как куча компоста. — Он прижимает к лицу надушенный платок. — Я вынужден просить вас немедленно покинуть кабинет.
— Я все сделаю, хозяин, все. — Его опустошенное зеленое лицо раскалывается на части жуткой улыбкой. — Я еще молод, хозяин, и очень силен, когда распаляюсь.
ОИ срыгивает в платок и слабой рукой указывает на дверь. Скупщик встает, мечтательно глядя на ОИ. Его тело начинает наклоняться, как прутик лозоходца. Он весь струится вперед...
— Нет! Нет! — кричит ОИ.
«Хлюп... хлюп, хлюп». — Часом позже Скупщика находят отключившимся в кресле ОИ. Сам ОИ бесследно исчез.
Судья: «Все указывает на то, что вы каким-то необъяснимым образом... э-э... ассимилировали Окружного Инспектора. К сожалению, доказательств нет. Я бы рекомендовал заключить вас в тюрьму, вернее, поместить в какое-нибудь учреждение, но не знаю места, подходящего для человека вашего калибра. Сам того не желая, я вынужден вас освободить».
— Такого надо держать в аквариуме, — говорит охранник.
Скупщик наводит ужас на всю отрасль. Исчезают наркоты и агенты. Точно летучая мышь-вампир, он испускает наркотическое зловоние, влажный туман, который обезболивает его жертвы и делает их беспомощными в его всеохватывающем присутствии. А добившись своего, он, словно обожравшийся удав, на несколько дней исчезает из виду. Наконец его застали за перевариванием дежурного офицера из отдела наркотиков и уничтожили огнеметом — следственная комиссия решила, что подобные меры оправданны, поскольку Скупщик лишился всех человеческих прав и обязанностей, а значит, превратился в существо, не принадлежащее ни к одному биологическому виду и представляющее собой угрозу для наркотической отрасли на всех уровнях.
В Мексике весь фокус в том, чтобы отыскать местного джанки с рецептом от властей, по которому каждый месяц получают определенное количество. Нашим Человеком был Старый Айк, большую часть жизни проведший в Штатах.
— Ездил я с Айрин Келли, развеселая была бабенка. В Жоппе, штат Монтания, у нее от коки бред начался, вот она и давай носиться по гостинице и орать, что за ней гонятся китайские легавые с большими мясными ножами. В Чикаго я знавал одного легавого, так тот обычно нюхал коку в виде кристалликов, голубых таких кристалликов. Так вот, одурел он, значит, как-то раз и как заорет, что его преследуют федералы, а потом бежит в переулок и сует голову в урну. Я и говорю: «С чего это ты?» — а он мне: «Убирайся, а не то пристрелю. Я запрятался лучше некуда».
Тем временем мы получаем по рецепту немного кокаина. Коли его в вену, сынок. Ты чувствуешь его запах, когда он входит, чистоту и прохладу в носу и в горле, потом наплыв чистого наслаждения прямо в мозгу, включающем свои кокаиновые связи. Твоя голова дробится на части белыми вспышками взрывов. Через десять минут ты захочешь уколоться еще разок... В поисках новой дозы ты обойдешь весь город. Но если не сумеешь раздобыть кокаина, ты поешь, ляжешь спать и забудешь о нем.
Это тяга одного только мозга, потребность без чувства и тела, потребность бескрылого призрака, протухшая эктоплазма, выметаемая старым джанки, кашляющим и харкающим на предрассветных ломках.
В одно прекрасное утро вы просыпаетесь, принимаете спидболл и чувствуете мурашки по коже. Черноусые копы 1890-х годов преграждают выход и лезут в окна, зловеще сжимая губы и сверкая синими рельефными кокардами. Наркоты маршируют по комнате и поют мусульманскую похоронную песню, неся тело Билла Гейнза, на котором неярким голубым огнем светятся нанесенные иглой стигматы. Целеустремленные шизофреники-детективы обнюхивают ваш ночной горшок.
Таков кокаиновый бред... Отдохните и не волнуйтесь, вколите себе побольше все того же морфия казенного образца.
День Мертвецов: Меня пробило на жор, и я съел сахарный череп моего маленького Уилли. Он заплакал, и мне пришлось сходить еще за одним. Прошел мимо коктейль-бара, где на чем свет стоит кляли хай-лайного букмекера[16].
В Гуэрнавако (или это был Тахо?) Джейн встречает сутенера-тромбониста и исчезает в клубах марихуанного дыма. Сутенер тот принадлежал к компании трусоватых сторонников диеты, с помощью которой и уродовал весь женский пол, вынуждая своих телок безропотно глотать все это дерьмо. О своих теориях он распространялся беспрерывно... нередко он устраивал одной из телок форменный экзамен и угрожал уйти, если та не выучит наизусть каждый нюанс его очередных нападок на логику и человеческий облик.
— Так вот, крошка, у меня для тебя кое-что есть. Но если гы этого не воспримешь, я уже ничем помочь не смогу.
Курение «чайка» было для него ритуалом, к джанку он, как и многие другие чаевники, относился крайне пуритански. По его утверждению, чаёк позволял ему входить в контакт с высшими голубыми гравитационными сферами. Он имел собственное представление обо всем на свете: какое нижнее белье полезно для здоровья, когда пить воду и как подтирать задницу. У него было лоснящееся красное лицо с широким приплюснутым носом и маленькими красными глазками, загоравшимися, когда он смотрел на какую-нибудь цыпочку, и гаснувшими при взгляде на все остальное. Его широченные плечи наводили на мысль об уродстве. Он вел себя так, будто других мужчин не существует, а ресторанные и магазинные заказы передавал мужскому персоналу через посредника — женщину. И ни один Мужчина ни разу не вторгался в его унылое тайное жилище.
Короче, он отвергает джанк и тащится от чайка. Я сделал три затяжки, Джейн взглянула на него, и плоть ее кристаллизовалась. Я вскочил и с криком «мне страшно!» выбежал из дома. Выпил пива в каком-то ресторанчике — мозаичный бар, футбольные результаты и афиши боя быков — и дождался автобуса в город.
Через год, в Танжере, я узнал, что она умерла.
Бенвей
Короче, мне поручили нанять доктора Бенвея на службу в «Ислам инкорпорейтед».
Д-р Бенвей был приглашен в качестве советника в республику Свободию — место, где все предаются свободной любви и непрерывным купаниям. Граждане там умиротворены, объединены, честны, терпимы, а самое главное — чисты. Однако вызов Бенвея указывает на то, что за этим гигиеническим фасадом не всё гладко: Бенвей является манипулятором и координатором знаковых систем, а также специалистом по допросам всех степеней, промывке мозгов и контролю. Я не видел Бенвея после его стремительного отъезда из Аннексии, где его заданием была ТД — Тотальная Деморализация. Первым шагом Бенвея стало запрещение концентрационных лагерей, массовых арестов и, кроме как при неких исключительных, особых обстоятельствах, применения пыток.
«Я против жестокости, — говорил он. — Она неэффективна. А вот продолжительное дурное обращение почти без насилия вызывает, при умелом его применении, тревогу и чувство определенной вины. В голове должны рождаться некоторые правила, скорее даже руководящие принципы. Объект не должен сознавать, что подобное дурное обращение является тщательно спланированным наступлением некоего бесчеловечного врага на его подлинную личность. Его надо заставить почувствовать, что он заслуживает любого обращения, поскольку с ним происходит нечто (не поддающееся никакому определению) в высшей степени отвратительное. Голую потребность контроломанов следует скромно прикрывать капризной, запутанной бюрократией, причем гак, чтобы исключить непосредственный контакт объекта с врагом».
Каждому гражданину Аннексии было предписано получить и всюду носить с собой портфель, набитый документами. Граждан могли останавливать на улице в любое время, и Ревизор, который мог быть одет в штатское платье, в разнообразную форму, нередко в купальный костюм или пижаму, а то и совершенно голый, если не считать значка, приколотого к левому соску, проверив каждую бумагу, ставил на ней печать. При каждой новой проверке гражданин должен был предъявить надлежащим образом проставленные печати последней проверки. Остановив большую группу, Ревизор проверял и проштамповывал карточки лишь у некоторых. Затем остальных подвергали аресту за то, что их карточки не были должным образом проштампованы. Арест означал «временное задержание», то есть арестованного должны были освободить, «если и когда» Объяснительная Записка, должным образом подписанная и проштампованная, будет утверждена Помощником Арбитра по Объяснительным. Ввиду того что этот чиновник почти никогда не бывал в своей конторе, а Объяснительную Записку следовало представить ему лично, объяснявшиеся неделями, а то и месяцами томились в ожидании, находясь в неотапливаемых помещениях без стульев, умывальника и туалета.
Документы, написанные исчезающими чернилами, превращались постепенно в просроченные закладные. Постоянно требовались новые документы. В бешеных и тщетных попытках уложиться в нереальные предельные сроки граждане сломя голову носились из одного бюро в другое.
В городе убрали все скамейки, отключили все фонтаны, уничтожили все цветы и деревья. Раз в четверть часа звучали громадные электрические сирены, установленные на крыше каждого многоквартирного дома (в таких домах жили все). Их вибрация нередко выбрасывала людей из постели. Всю ночь по городу шарили лучи прожекторов (никому не разрешалось пользоваться шторами, занавесками, жалюзи или ставнями).
Никто никогда ни на кого не смотрел ввиду строгого закона против назойливого приставания, с явными попытками или без таковых, с какой бы то ни было целью — сексуальной или какой-либо иной. Все бары и кафе были закрыты. Спиртное можно было приобрести только по специальному разрешению, а приобретенное таким образом спиртное нельзя было ни продавать, ни вручать, ни любым способом передавать никому другому, и присутствие другого лица в помещении расценивалось как достаточное доказательство передачи спиртного.
Двери запирать никому не разрешалось, а полицейские имели отмычки от всех комнат города. В сопровождении психоаналитика они врывались в чей-нибудь дом и принимались за «поиски».
Психоаналитик указывает им на всё, что человек хочет спрятать: тюбик вазелина, клизма, носовой платок, в который он кончил, оружие, нелицензированный алкоголь. К тому же они всегда подвергали подозреваемого крайне унизительному осмотру его голого тела, по поводу чего делали глумливые, оскорбительные замечания. На многих тайных гомосексуалистов надели смирительную рубашку в тот момент, когда они смазывали задницу вазелином. Недовольство мог вызвать практически любой предмет. Перочистка или колодка для обуви.
— А это еще что такое?
— Перочистка.
— Он говорит, перочистка.
— Что ты говоришь!
— Кажется, это нам и нужно. Эй ты! Пошли.
Через несколько таких месяцев граждане начали жаться по углам, точно запуганные коты.
Разумеется, полиция Аннексии возбуждала дела против попавших под подозрение агентов, диверсантов и инакомыслящих — на конвейерной основе. Что касается допроса подозреваемых, то Бенвей говорит так:
«Хотя применения пыток я, как правило, избегаю — пытка конкретизирует положение оппонента и мобилизует сопротивление, — угроза пытки помогает вызывать у объекта должное чувство беспомощности и благодарности следователю за ее неприменение. А пытку можно с пользой применять в качестве наказания, когда объект настолько поддается подобной обработке, что воспринимает наказание как заслуженное. С этой целью я разработал несколько разнообразных дисциплинарных мер. Одна из них была известна как Распределительный Щит. К зубам объекта подводятся электрические сверла, которые можно включить в любой момент, после чего его обучают работе с капризным щитом управления, учат в ответ на звонки и зажигание лампочек вставлять определенные провода в определенные гнезда. Каждый раз, как он ошибается, сверла включаются на двадцать секунд. Эти сигналы подаются с нарастающей быстротой, постепенно выходящей за пределы его реакции. Полчаса у распределительного щита — и объект не выдерживает, как перегруженная мыслящая машина.
Изучение мыслящих машин больше любых интроспективных методов помогает нам разобраться в работе мозга. Западный человек приобретает черты новейших технических устройств. Трескали когда-нибудь коку в вену? Она действует прямо на мозг, активизируя связи чистого наслаждения. Наслаждение от морфия — во внутренностях. После укола вы прислушиваетесь к самому себе. Но кокаин — это электричество, пропущенное через мозг, и удовольствие от кокаина — чисто мозговое, тяга без тела и без чувства. Мозг под воздействием кокаина — это обезумевший бильярд-автомат, где в электрическом оргазме сверкают вспышки голубых и розовых огней. Мыслящая машина, в которой начинает копошиться отвратительная жизнь насекомого, вполне способна почувствовать кокаиновое наслаждение. Стремление к коке проходит уже через несколько часов, когда прекращается стимуляция кокаиновых каналов. Разумеется, кокаиновый эффект можно вызывать, активируя кокаиновые каналы электрическим током...
Так что очень скоро эти каналы изнашиваются, как иены, и наркоману приходится искать новые. Вена со временем снова появится, и с помощью ловкого чередования вен джанки, если он только не становится попросту прожигателем топлива, может уравнять шансы. Но мозговые клетки, исчезнув, уже не возвращаются, а когда наркоман лишается клеток мозга, жизнь его превращается в жуткую поебень.
Старики, сидящие на корточках, экскременты и ржавое железо, раскаленное добела, и до горизонта — панорама из голых идиотов. Полная тишина — речевые центры у них уничтожены, — лишь потрескивание искр да постреливание опаленной плоти, когда они водят электродами вверх и вниз по хребту. В неподвижном воздухе повис белый дым от горящей плоти. Группа детей привязала одного идиота колючей проволокой к столбу, развела у него между ног костер и с животным любопытством глядит, как пламя лижет его бедра. Его охваченное огнем тело подергивается в ничтожной агонии насекомого.
Как обычно, я отвлекаюсь. Пока нет более точных знаний об электронике мозга, крайне важным инструментом следователя в его атаке на подлинную личность объекта остаются наркотики. Барбитураты, в сущности, бесполезны. То есть каждый, кого можно сломить подобными способами, не выдержал бы и тех детских методов, которые применяются в любом американском полицейском участке. При постепенно ослабевающем сопротивлении нередко эффективен скополамин, однако он ослабляет память: агент может быть готов выдать свои секреты, но совершенно не в состоянии их вспомнить, или же его «легенда» и сведения о тайной жизни могут быть безнадежно перепутаны. Во многих случаях успех приносят мескалин, хармалин, ЛСД-6, буфотенин, мускарин. Балбокапнин вызывает состояние, близкое к шизофренической кататонии... наблюдались случаи автоматического повиновения. Балбокапнин — это депрессант, действующий на затылочные доли мозга и, возможно, выводящий из строя двигательные центры в гипоталамусе. Другие наркотики, которые вызывают экспериментальную шизофрению, — мескалин, хармалин, ЛСД-6 — являются стимуляторами затылочных долей мозга. При шизофрении затылочные доли мозга стимулируются и угнетаются попеременно. За кататонией нередко следует период возбуждения и двигательной активности, в течение которого псих набрасывается на охрану, доставляя всем массу хлопот. Безнадежные шизофреники иногда полностью отказываются от движения и всю жизнь проводят в постели. Нарушение регулирующей функции гипоталамуса определяется как «причина» (с помощью причинного мышления невозможно точно описать процесс обмена веществ — недостатки существующего языка) шизофрении. Чередование доз ЛСД-6 и балбокапнина — балбокапнину придает силу кураре — дает самый высокий выход автоматического повиновения.
Существуют и другие приемы. Объекта можно довести до глубокой депрессии, вводя большие дозы бензедрина в течение нескольких дней. Психоз можно вызывать непрерывным введением больших доз кокаина или демерола либо резким отнятием барбитуратов после продолжительного приема. Можно вызвать привыкание к дигидрооксигероину и провести отнятие (это соединение вызывает привыкание впятеро быстрее и сильнее, чем героин, и отнятие переносится во столько же раз тяжелее).
Есть различные «психологические методы», к примеру — принудительный психоанализ. Ежедневно в течение часа объект должен вызывать у себя спонтанные ассоциации (в тех случаях, когда время не играет роли). «Ну-ну, давай не будем упираться, малыш. А не то папочка позовет страшного человека. Возьми-ка этот игрушечный распределительный щит».
Случай с агентессой, которая забыла собственную подлинную личность и слилась со своей легендой — она до сих пор работает поварихой в Аннексии, — натолкнул меня на другую мысль. Агента учат отказываться от собственной личности с помощью отстаивания легенды. Так почему бы не проследить за ним с помощью психического джиу-джитсу? Предположим, легенда и есть сю настоящая личность, и другой у него нет. Личность агента становится подсознательной, то есть выходит из-под его контроля, и докопаться до нее можно с помощью наркотиков и гипноза. Добропорядочного гетеросексуального обывателя можно поставить в положение гомика... то есть укрепляя и поддерживая в нем неприятие обычно скрываемых гомосексуальных тенденций, лишить его в то же время доступа к пизде и подвергнуть гомосексуальной стимуляции. Потом наркотики, гипноз и...» — Бенвей щелкнул слабым запястьем.
«Многие объекты страдают от сексуального унижения. Нагота, стимуляция половыми возбудителями, постоянный надзор, смущающий объекта и предотвращающий облегчение, вызываемое мастурбацией (при эрекции во время сна автоматически включается громадная вибрационная электрическая сирена, которая выбрасывает объекта из кровати в холодную воду, снижая таким образом до минимума вероятность «влажных снов»). Масса удовольствия — загипнотизировать священника и внушить ему, что он должен довести свою ипостасную связь с Агнцем до логического конца, а затем направить ему в жопу какого-нибудь визгливого старого барана. После этого Следователь может добиться полного гипнотического контроля — объект будет кончать по его свистку и срать на пол, стоит только сказать: «Сезам, откройся!» Нечего и говорить, что явным гомосексуалистам ситуация сексуального унижения противопоказана. (Кстати, надо быть начеку и не забывать о спаренных телефонах... никогда не знаешь, кто подслушивает.) Припоминаю одного малыша — я привел его в такое состояние, что он срал у меня на глазах. Потом я мыл ему задницу и дрючил. Это было подлинное наслаждение. Красавчик был что надо. А иногда объект плачет, как мальчишка, потому что не в силах удержаться от эякуляции, когда вы его дрючите. Короче, нетрудно понять, что наши возможности безграничны, как извилистые тропинки в большом прекрасном саду. Но едва я начал погружаться в манящую суть этой проблемы, как партийные простофили подвергли меня чистке. ...Ну что ж, son cosas de la vida[17]».
Я добираюсь до Свободии, а она — боже мой! — чиста и уныла. Бенвей заведует ВЦ, Восстановительным Центром. Я вхожу, и в ответ на «что с тем-то и тем-то?» — пошло-поехало:
— Сиди Идрисс «Стукач» Смизерс напел всё сендерам за сыворотку долголетия. Старого гомика могила исправит.
— Лестер Строганофф Смуун — «Эль Хассейн» — заделался латахом и пытается довести до совершенства ПАП — Процесс Автоматического Повиновения. Мученик отрасли...
(Латах — это состояние, характерное для выходцев из Юго-Восточной Азии. Нормальные во всех других отношениях, латахи вынуждены копировать каждый жест, как только их внимание привлекается щелчком пальцев или резким окликом. Один из видов принудительно-непроизвольного гипноза. Иногда они наносят себе раны, пытаясь копировать движения сразу нескольких людей.)
— Остановите меня, если услышите секрет атомной бомбы...
Лицо Бенвея сохраняет свои черты в фотовспышке целеустремленности, ежесекундно подвергаясь неописуемому расщеплению или метаморфозе. Оно мерцает, как фильм, то теряющий, то вновь обретающий резкость изображения.
— Идемте, — говорит Бенвей, — я покажу вам ВЦ.
Мы идем по длинному белому коридору. Голос Бенвея вплывает в мое сознание из какого-то неопределенного места... освобожденный от телесной оболочки голос, то громкий и отчетливый, то еле слышный, как музыка в конце продуваемой ветром улицы.
— Изолированные группы, вроде туземцев архипелага Бисмарка. У них нет явного гомосексуализма. Чертов матриархат. Во всяком матриархате царят антигомосексуализм, конформизм и адская скука. Окажешься в матриархате — иди, только не беги, к ближайшей границе. Стоит побежать, и тебя наверняка пристрелит какой-нибудь отчаявшийся латентный гомик из полиции. Так кто же хочет создать плацдарм для гомогенности в таком хаосе возможностей, как Западная Европа и США? Еще один ебучий матриархат, что бы ни говорила Маргарет Мид[18]... Вон там вышла неприятность. Бой на скальпелях с коллегой в операционной. А моя ассистентка-бабуин набросилась на пациента и разорвала его в клочья. В потасовке бабуины всегда нападают на слабейшую сторону. И они совершенно правы. Нам не следует забывать наших славных обезьяньих традиций. Противником моим был Док Браубек. Бывший подпольный акушер и толкач джанка (вообще-то он был ветеринаром), вновь призванный на службу во время нехватки рабочей силы. Так вот, Док все утро проторчал на больничной кухне, щупал там сестер и заправлялся угольным газом и «Климом» — а перед самой операцией он, дабы набраться храбрости, глотнул двойную дозу мускатного ореха.
(В Англии, а особенно в Эдинбурге, граждане барботируют каменноугольный газ в климе — жутком порошковом молоке вкуса тухлой известки, — а потом от всего этого тащатся. Чтобы оплатить счет за газ, они закладывают всё подряд, а если приходит человек отключить его за неуплату, их воплями оглашается вся округа. Когда кто-то из тамошних жителей страдает от своей потребности, он говорит: «Я спекся» или «Эта старая печь мне мл спину лезет».
Мускатный орех. Цитирую статью данного автора о наркотических средствах в «Бритиш джорнал оф аддикшн» (см. Приложение): «Заключенные и матросы иногда развлекаются мускатным орехом. Проглатывается примерно столовая ложка и запивается водой. Результаты смутно напоминают марихуану с побочными эффектами в виде головной боли и тошноты. Среди индейцев Южной Америки в ходу некоторые наркотики семейства мускатных орехов. Их обычно употребляют, вдыхая через нос сухой порошок из растения. Шаманы принимают эти ядовитые вещества и впадают в конвульсии. Считается, что их судороги и бормотания имеют пророческий смысл».)
— Я страдал похмельем от яхе и был не в состоянии принимать никакого браубекского дерьма. А он как налетит на меня и давай твердить, что разрез я должен делать не спереди, а сзади, после чего и вовсе понес околесицу: мол, обязательно надо отрезать желчный пузырь, а не то провоняет мясо. Решил, что потрошит цыпленка нa ферме. Я велел ему пойти и снова сунуть голову в печь, тогда он имел наглость отпихнуть мою руку и перерезал пациенту бедренную артерию. Кровь хлынула струей и ослепила анестезиолога, который с воплями бросился бежать по коридорам. Браубек попытался ударить меня коленом в пах, а мне удалось покалечить его скальпелем. Он ползал по полу и наносил мне удары по ногам. Вайолет, моя ассистентка-бабуин, — единственная женщина, к которой я хоть как-то отношусь, — очумела вконец. Я уже влез на стол и изготовился прыгнуть на Браубека обеими ногами и затоптать его, но тут ворвались копы.
Короче, этот скандал в операционной, «это неописуемое происшествие», как назвал его старший офицер, стало, можно сказать, последней каплей. Приближалась стая волков-убийц. Распятие на кресте — иначе это не назовешь. Разумеется, и я совершал кое-какие dumheits[19]. А кто нет? Как-то мы с анестезиологом выпили весь эфир, а больной нас застукал, к тому же меня обвинили в разбавлении кокаина саночистителем. На самом-то деле это натворила Вайолет. Пришлось, конечно, ее выгораживать...
Кончилось тем, что всех нас с позором изгнали из отрасли. Конечно, Вайолет диплома коновала не имела, да и Браубек тоже, по правде говоря. Мало того — даже мой собственный диплом поставили под сомнение. Однако Вайолет разбиралась в медицине лучше, чем вся Клиника Майо[20]. Она обладала необыкновенной интуицией и высоким чувством долга.
Короче, выставили меня коленом под зад, да еще и без диплома оставили. Стоило ли заняться другим ремеслом? Нет. Врачевание было у меня в крови. Мне удалось продолжить привычное занятие — я стал делать дешевые аборты в туалетах подземки. Я дошел до того, что начал заманивать беременных женщин на улицах. Это уж было решительно неэтично. Потом я встретил замечательного парня — Хуана Плаценту, Магната Детского Места. Сколотил себе состояние на выкидышах во время войны. (Выкидыши — это детеныши животных, рождающиеся недоношенными вместе с детским местом и бактериями, как правило, в антисанитарных и неподходящих условиях. Детеныш не может быть продан в качестве пищи, если родился ранее чем через шесть недель. До этого времени он классифицируется как выкидыш. Торговля выкидышами влечет за собой строгое наказание.) Хуанито контролировал целый флот торговых судов, которые он регистрировал под абиссинским флагом, дабы избежать надоедливых ограничений. Он взял меня судовым врачом на пароход «Филиарис» — более мерзкого суденышка по морям не плавало. Оперируя одной рукой, другой я отгонял от больного крыс, а с потолка градом сыпались клопы и скорпионы.
Итак, кому-то при подобном положении дел понадобилась гомогенность. Могу устроить, но это дорого обойдется. Лично мне вся эта затея уже давно надоела... Вот и пришли... Переулок Тоски.
Бенвей рукой выписывает в воздухе какой-то узор, и дверь распахивается. Мы входим, и дверь закрывается. Длинная палата, сверкающая нержавеющей сталью, белый кафельный пол, стены из стеклоблоков. Вдоль одной из стен — кровати. Никто не курит, никто не читает, никто не разговаривает.
— Подойдите, приглядитесь, — говорит Бенвей, — вы никого не смутите.
Я прохожу дальше и останавливаюсь перед человеком, который сидит на кровати. Я смотрю этому человеку в глаза. Никто, ничто не смотрит в ответ.
— ННП, — говорит Бенвей, — Необратимое Нервное Повреждение. Можно сказать, сверхсвободны... обуза для отрасли.
Я провожу рукой перед глазами человека.
— Да, — говорит Бенвей. — Рефлексы у них еще остались. Смотрите.
Бенвей вынимает из кармана плитку шоколада, распечатывает ее и протягивает к носу человека. Человек принюхивается. Его челюсти начинают работать. Он делает хватательные движения руками. Слюна капает изо рта и длинными нитями свисает с подбородка. Его желудок урчит. Все его тело корчится в перистальтике. Бенвей отступает назад, держа шоколад на весу. Человек бросается на колени, запрокидывает голову и лает. Бенвей бросает шоколад. Человек пытается схватить его на лету зубами, промахивается и принимается ползать по полу, издавая слюнявые звуки. Он ползет под кровать, находит шоколад и запихивает его обеими руками в рот.
— Боже! Что за низкого пошиба людишки, эти НП!
Бенвей подзывает санитара, который сидит в конце палаты и читает книгу пьес Дж. М. Бэрри[21].
— Уберите отсюда этих ебучих НП. Это уже ни в какие ворота не лезет! Да и туристическому бизнесу во вред.
— Что же мне с ними делать?
— Это меня не ебет! Я ученый. Чистый ученый. Уберите их отсюда — и дело с концом. Я на них смотреть не обязан. Мне это бельмо на глазу ни к чему.
— Но как? Куда?
— Как положено. Звякните Окружному Координатору или как он там себя именует... каждую неделю новый титул. Не удивлюсь, если его вообще не существует.
У двери доктор Бенвей останавливается и оглядывается на ННП.
— Наши неудачи, — говорит он. — Ничего, это в порядке вещей.
— Они когда-нибудь возвращаются?
— Они не возвращаются и не вернутся, раз ушли, — негромко напевает Бенвей. — Так... В этой палате кое-кто сгорает от нетерпения.
Больные стоят группами, переговариваясь и харкая на пол. В воздухе серой дымкой повис джанк.
— Вот зрелище, которое ублажает душу, — говорит Бенвей. — Эти джанки стоят и ждут Человека. Шесть месяцев назад все они были шизофрениками. Некоторые годами не вылезали из постели. И вот вам пожалуйста, взгляните на них. В своей практике я никогда не встречал джанки-шизофреников, а ведь для большинства джанки характерен как раз шизоидный физический тип. Если хочешь кого-то от чего-то вылечить, выясни, кто этим не болеет. Так у кого этого нет? Этого нет у джанки. Да, в Боливии, между прочим, есть место, где не бывает психозов. В горах там совершенно нормальный народец. Хотелось бы туда выбраться, пока там всё не испоганили грамотность, реклама, телевидение и кинотеатры для автомобилистов. Изучаю только метаболизм: питание, употребление наркотиков и алкоголя, секс и так далее. Кому какое дело, о чем они думают? Осмелюсь предположить, что о той же самой чепухе думает каждый.
А почему у наркотов не бывает шизофрении? Пока не знаю. Шизофреник может пренебречь голодом и умереть, если его не покормят. Но никто не в состоянии игнорировать отнятие героина. Сам факт наркомании предполагает контакт.
И это лишь одна сторона вопроса. Мескалин, ЛСД-6, испорченный адреналин, хармалин могут вызывать состояние, близкое к шизофрении. Самую лучшую наркоту выделяют из крови шизофреников, поэтому не исключено, что шизофрения — это наркотический психоз. Можно сказать, Человек Внутри, то есть шизофрения и наркомания метаболически связаны.
На последней стадии шизофрении постоянно подавляются затылочные доли мозга, а лобные доли практически лишены содержимого, поскольку лобные доли активизируются только в ответ на стимуляцию затылочных. Морфий, подобно шизофренической субстанции, вырабатывает противоядие, препятствующее стимуляции затылочных долей мозга. (Обратите внимание на сходство между синдромом отнятия и интоксикацией яхе или ЛСД-6.) Конечным результатом употребления джанка — а это особенно верно для героинизма, если наркоман получает большие дозы, — является постоянное подавление затылочных долей мозга и состояние, очень напоминающее шизофрению в последней стадии: полнейшее отсутствие эмоций, аутизм, фактическое прекращение мозговой деятельности. Наркоман может восемь часов подряд смотреть на стену. Он осознает свое окружение, но оно не вызывает у него никаких эмоциональных ассоциаций, а следовательно — никакого интереса. Воспоминание о периоде тяжелой наркомании подобно прослушиванию магнитофонной записи событий, воспринятых только лобными долями мозга. Унылое изложение внешних событий. «Я пошел в лавку и купил немного бурого сахара. И пришел домой и съел полкоробки. Я уколол себе три грана» — и так далее. В этих воспоминаниях полностью отсутствует ностальгия. Однако, как только потребление джанка падает ниже нормального уровня, организм заполняет субстанция отнятия.
Если всякое наслаждение — это избавление от стресса то джанк избавляет от жизненного процесса в целом, отключая гипоталамус, который является центром психической энергии и полового влечения.
Некоторые мои ученые коллеги (безымянные задницы) полагают, что джанк вызывает свой эйфорический эффект, непосредственно стимулируя центр оргазма. Представляется более вероятным, что джанк приостанавливает весь цикл напряжения, разгрузки и отдыха. На джанки функции оргазма не распространяются. Скука, которая всегда указывает на неснятое напряжение, наркомана никогда не беспокоит, он может восемь часов разглядывать свой башмак. Он пробуждается к действию, только когда иссякают песочные часы джанка.
В дальнем конце палаты санитар подбрасывает вверх закрытую металлическую коробочку и издает призывный клич борова. Наркоты бросаются к нему, хрюкая и визжа.
— Ну и умник, — говорит Бенвей. — Никакого уважения к человеческому достоинству. Теперь я покажу вам человека с небольшим отклонением от нормы и палату уголовников. Да, уголовник здесь — это человек с небольшим отклонением. Законов Свободии он не отрицает. Он всего лишь хочет обойти несколько пунктов. Предосудительно, но не слишком серьезно. Сюда, по этому коридору... Мы пропустим палаты 23, 86, 57 и 97... и лабораторию.
— Считаются ли гомосексуалисты ненормальными?
— Нет. Вспомните архипелаг Бисмарка[22]. Никакого явного гомосексуализма. Действующее полицейское государство в полиции не нуждается. Никому не приходит на ум, что гомосексуализм — это допустимая норма поведения... При матриархате гомосексуализм — это политическое преступление. Никакое общество не допустит явного отрицания его основных догматов. У нас здесь, слава Аллаху, не матриархат. Вам же известен эксперимент с крысами, при котором они подвергаются электрошоку и опускаются в холодную воду, если только пошевелятся при виде самки. Так все они становятся крысами-фруктами, и именно так обстоит дело с этиологией. А если такая крыса пропищит: «Я гомик, и я люблю-у-у-у это» или «Кто его тебе отрезал, ты, уродец с двумя дырками?» — значит, это пищит добропорядочная крыса. Во время моей весьма недолгой практики в качестве психоаналитика — вышли хлопоты с Обществом — один больной взбеленился и принялся поливать из огнемета Центральный вокзал, двое покончили с собой, а еще один умер в постели, как крыса джунглей (крысы джунглей, попадая вдруг в безнадежную ситуацию, как правило, подыхают). И вот его родственнички поднимают скулёж, а я им и говорю: «Это в порядке вещей. Забирайте своего жмурика. Моим живым пациентам от него одно расстройство». Я заметил, что все мои пациенты-гомосексуалисты имеют сильные подсознательные гетеросексуальные тенденции, а все гетеропациенты — подсознательные гомосексуальные тенденции. Что, голова кругом?
— И какой отсюда вывод?
— Вывод? Да никакого. Так, наблюдение мимоходом.
Мы завтракаем в кабинете Бенвея, когда звонит телефон.
— Что такое?.. Чудовищно! Немыслимо!.. Продолжайте и будьте начеку.
Он кладет трубку.
— Я готов немедленно перейти на службу в «Ислам инкорпорейтед». Похоже, электронный мозг спятил, играя со специалистом в шестимерные шахматы, и выпустил из ВЦ всех объектов. Перейдем на крышу. Необходим Боевой Вертолет.
С крыши ВЦ мы обозреваем невероятно жуткую картину. ННП толпятся перед столиками кафе, с подбородков у них свисают длинные нити слюны, с шумом вспениваются желудки, некоторые при виде женщин извергают семя. Латахи с обезьяньим бесстыдством подражают прохожим. Джанки ограбили аптеки и раскумариваются на каждом углу... Кататоники в парках украшают деревья... Возбужденные шизофреники со сдавленными нечеловеческими воплями несутся по улицам. Группа ЧВЗ — Частично Восстановивших Здоровье — окружила нескольких туристов-гомосексуалистов, скалясь жуткими ехидными ухмылками и демонстрируя под ними нордический череп в двойной экспозиции.
— Что вам нужно? — огрызается один из гомиков.
— Мы хотим понять вас.
Группа ревущих обезьянопатов раскачивается на фонарях, балконах и деревьях, испражняясь на прохожих. (Обезьянопат — специального названия этого расстройства я сейчас не помню — это тип, убежденный, что он — человекообразная обезьяна. Это заболевание свойственно исключительно армии, и демобилизация его излечивает.) Обезумевшие амоки на ходу отрубают головы, лица потные и отрешенные, с мечтательными полуулыбками... Граждане с начальной стадией банг-утота сжимают в руках свои пенисы и зовут на помощь туристов... Арабские мятежники с визгом и воем кастрируют, потрошат и поливают всё вокруг горящим бензином... Танцующие мальчики устраивают стриптиз с демонстрацией кишечника, женщины вонзают себе в пизду отрезанные половые члены и пританцовывают, вихляя задницей, после чего швыряют их в желанного мужчину... Религиозные фанатики разглагольствуют с вертолетов перед толпой и градом сыплют на людские головы каменные плиты с бессмысленными откровениями... Люди-леопарды, рыча и покашливая, рвут людей на части железными когтями... Куакеутльское Каннибальское Общество приступает к обряду откусывания носов и ушей...
А копрофаг просит тарелку, срет на нее и ест дерьмо, восклицая: «М-м-м-м-м, моя питательная субстанция».
По улицам и вестибюлям отелей бродит в поисках жертв целый батальон агрессивных зануд. Интеллектуал-авангардист — «Разумеется, из всего написанного в настоящее время достойны рассмотрения лишь научные труды и периодические издания» — сделал какому-то человеку инъекцию балбокапнина и готовится прочесть ему бюллетень «О применении неогемоглобина в контролировании множественной дегенеративной гранулемы». (Все доклады, конечно, — тарабарщина, которую он сам состряпал и напечатал.)
Англичанин из колоний, сопровождаемый пятью полицейскими, остановил в клубном баре какого-то субъекта:
— Послушай, ты знаешь Мозамбик? — И он пускается в бесконечное повествование о своей малярии. — А доктор сказал мне: «Могу лишь посоветовать вам покинуть эту местность. Иначе я вас похороню». Этот коновал держит на стороне небольшое похоронное бюро. Можно сказать, уравнивает шансы и время от времени подбрасывает сам себе выгодную работенку. — А после третьей порции розового джина, познакомившись с вами поближе, он переходит на дизентерию: — Испражнения какие-то странные. Светло-желтые такие, вроде как протухшая сперма, только волокнистые.
Путешественник в тропическом шлеме выпустил в одного гражданина из воздушной трубки отравленную кураре стрелу и делает ему ногой искусственное дыхание. (Кураре убивает, парализуя легкие. Он не обладает токсическим эффектом, строго говоря, не является ядом. Если сделать искусственное дыхание, человек не умрет. Кураре с огромной скоростью уничтожается почками.)
— Это было в год чумы рогатого скота, когда умирало все, даже гиены... А я остался в верховьях Бабуиновой Задницы без капли полового возбудителя. Когда возбудитель сбросили наконец с самолета, моя благодарность не знала границ... В сущности, а я никогда раньше не говорил этого ни одной живой душе — безнадежные недоумки, — его голос эхом отдается в громадном пустом вестибюле отеля в стиле 1890-х годов: красный плюш, фикусы, позолота и статуи, — я единственный из всех белых, кто вступал в Агутийское общество[23], наблюдал его отвратительные ритуалы и участвовал в них.
(Агутийское общество распущено из-за Фиесты чиму. В древнем Перу чиму нередко предавались педерастии, а иногда устраивали кровавые побоища с дубинками, доводя число убитых и раненых за день до нескольких сотен. Юноши, усмехаясь и подталкивая друг друга дубинками, движутся к полю. И вот начинается битва. Благосклонный читатель, уродливость этого зрелища лишает смысла любое описание. Кто способен быть съежившимся и обоссывающимся трусом и все же злым, как лиловозадый мандрил, чередуя эти скверные состояния, как водевильные скетчи? Кто способен срать на поверженного противника, который, умирая, ест дерьмо и мычит от наслаждения? Кто способен повесить слабого пассивного партнера и хватать ртом его сперму, как злой и порочный пес? Благосклонный читатель, я охотно избавил бы тебя от всего этого, но перо мое своенравно, как Старый Мореход[24]. О боже, что за зрелище! Неужели язык и перо в силах примириться с подобными постыдными фактами? Озверевший юный хулиган выдавил глаз своему собрату и ебет его в мозг: «Этот мозг уже атрофировался и высох, точно бабушкина пизда».
Он превращается в рок-н-ролльного хулигана: «Дрючу я эту старую манду — и получается вроде кроссворда, — какое отношение имеют ко мне последствия, если они последуют? Уже папаша, что ли, или нет еще? Нет, тебя, старина, я дрючить не буду, ведь ты мне вроде как папашей приходишься, надо бы поступить по справедливости — перерезать тебе глотку и отдрючить мамашу, не ебать же собственного отца, а может, и наоборот, мутатис мутандис, как уж обернется дело: перерезать глотку матери, этой святой манде, — самый лучший способ перекрыть ее словесный поток и заморозить добродетель. Я говорю, если то и дело переключаться с мужиков на баб и обратно, попадешь впросак и в толк не возьмешь, то ли жопу подставлять дряхлой «важной птице», то ли так и дрыгаться на собственной старухе. Дайте мне две пизды и хуй из стали и уберите свой грязный палец подальше от моей сладенькой попочки, я вам не какой-нибудь безответный лиловозадый ублюдок, я не с Гибралтара сбежал. Мужчину и женщину — совратил их он[25]. Кто ж не отличит мужчину от женщины? Я тебе глотку перережу, ты, белый распиздяй. Вылезай-ка, внучек, и сойдись со своей неродившейся матерью в битве с неясным исходом. Заебала мой шедевр неразбериха. Я ошибся личностью и перерезал глотку сторожу, он оказался таким же жутким разъебаем, как мой старик. А в угольном бункере все хуи одинаковы».
Однако вернемся на поле битвы. Один юнец пронзает своего товарища, а другой немедля ампутирует самый величественный орган трепещущего получателя хуя, отчего вошедший член выдвигается вперед, дабы заполнить пустоту, коей не терпит природа, и извергает семя в Черную Лагуну, где нетерпеливая пиранья подхватывает дитя, которое не только еще не родилось, но и — в свете определенных, точно установленных фактов — вряд ли родилось бы вообще.)
Другой зануда таскает с собой чемодан, набитый медалями и призами, кубками и лентами.
— Вот этот я завоевал на Иокогамском Конкурсе на Самое Остроумное Сексуальное Приспособление. (Держите его, он бешеный!) Мне его вручил сам император, на глаза его навернулись слезы, а все побежденные кастрировали себя ножами для харакири. А тот приз я взял на Конкурсе Деградации во время тегеранского собрания Анонимных Джанки.
— Продвигал себе всю морфу моей благоверной, а она мучается почечным камнем величиной с бриллиант «Надежда». Вот я и отдаю ей часть вагамина[26] и говорю: «Особого облегчения не жди... И вообще заткнись. Мне и самому не грех подлечиться».
— Стянул опиумную свечу из бабушкиной жопы.
Ипохондрик ловит арканом прохожего, надевает на него смирительную рубашку и принимается рассказывать о своей гниющей перегородке:
— У меня бывают ужасные гнойные выделения... подожди, подожди, сейчас увидишь.
Он демонстрирует стриптиз до операционных шрамов, направляя сопротивляющиеся пальцы жертвы.
— Пощупай эту гноящуюся опухоль у меня в паху, там есть лимфогранулемы... А теперь я хочу, чтобы ты пощупал мой внутренний геморрой.
(Здесь говорится о лимфогранулеме, «климактерических бубонах». Вирусное венерическое заболевание, родом из Эфиопии. «Не зря же нас величают блудострастными эфиопами», — усмехается эфиопский наемник, содомируя Фараона, ядовитого, как королевская кобра. В древнеегипетских папирусах то и дело встречаются упоминания об этих самых блудострастных эфиопах.
Итак, возникла болезнь в Аддис-Абебе, как джерси на острове Джерси, но теперь другие времена, Мир Един. Ныне климактерические бубоны набухают в Шанхае и Эсмеральдасе, Нью-Орлеане и Хельсинки, Сиэтле и Кейптауне. Однако душа тоскует по родному дому, и болезнь, питающая особое пристрастие к неграм, превратилась в любимый конек белых расистов. А знахари племени мау-мау изобретают, по слухам, чудненькую венерическую хворь специально для белых. Впрочем, белая раса тоже не обладает иммунитетом: пятеро британских моряков подцепили заразу в Занзибаре. А в арканзасском Округе Дохлого Негра («Самая Черная Грязь, Самые Белые Люди в США — Ниггер, Смотри, Чтобы Закат Не Застал Тебя Здесь») Окружной Коронер покрылся бубонами от носа до кормы. Когда стало известно о его интересном положении, члены ближайшего комитета бдительных, непрерывно извиняясь, сожгли его в уборной Здания Суда. «Ну что ты, Клем, представь, что ты просто корова, больная афтозом». «Или чумной цыпленок». «Не подходите близко, ребята, его кишки того и гляди взорвутся от огня». Эта зараза способна разноситься в два счета — в отличие от несчастных вирусов, коим суждено встретить свой жалкий конец в кишках клеща или москита джунглей, а то и в слюне подыхающего шакала, серебристой в лунном свете пустыни. А после первичного поражения инфекцией болезнь переходит на паховые лимфатические узлы, и те распухают и лопаются, образуя гноящиеся трещины, которые днями, годами сочатся гноем, тягучими гнойными выделениями с примесью крови и гнилой лимфы. Частым осложнением является слоновая болезнь половых органов, кроме того, отмечались случаи гангрены, при которой требовалась, но вряд ли помогала, немедленная ампутация всех членов больного ниже пояса. Женщины, как правило, страдают от побочной инфекции в заднем проходе. Лица мужского пола, которые примиряются с положением пассивного партнера и, точно слабые и быстро становящиеся лиловозадыми бабуины, совокупляются с зараженными, также могут вскормить в себе этого маленького чужака. Первичный проктит с неизбежными гнойными выделениями — которые в суматохе могут остаться незамеченными — переходит в сужение прямой кишки, требующее вмешательства яблочного ножа или его хирургического эквивалента, а иначе может дойти до того, что несчастный больной начнет непроизвольно пердеть и срать, приобретя при этом устойчивый дурной запах изо рта и непопулярность среди хомо сапиенс всех полов, возрастов и состояний. От одного слепого педераста сбежала даже овчарка-поводырь — а в душе легавая. До недавнего времени удовлетворительных методов лечения не существовало. «Лечение симптоматическое» — что в медицине означает полнейшее отсутствие такового. В настоящее время многие случаи поддаются интенсивной терапии ореомицином, террамицином и некоторыми новейшими видами плесневых грибков. Однако и до сих пор немало больных упрямятся, точно горные гориллы... Так что, мальчики, когда забористые нотки зазвучат над вашими яйцами и хуем и устремятся вам и задницу, словно выпущенные из невидимого голубого оргонного воспламенителя, говоря словами Дж. Б. Уотсона[27], задумайтесь. Отбросьте страсть и щупайте напасть... а уж нащупав бубон, тут же выходите из игры и гнусаво проскулите: «По-твоему, я так и рвусь подцепить твою гнусную хворь? И вовсе я не рвусь».)
На улицах всех стран буйствуют юные рок-н-ролльные хулиганы. Они врываются в Лувр и плещут кислотой в лицо Моны Лизы. Они открывают зоопарки, сумасшедшие дома, тюрьмы, разрушают отбойными молотками водопроводные магистрали, выдалбливают полы в туалетах пассажирских самолетов, меткими выстрелами гасят маяки, подпиливают лифтовые тросы, оставляя лишь тонкую проволочку, направляют в водопровод сточные трубы, бросают в плавательные бассейны акул и ядовитых скатов, электрических угрей и кандиру (кандиру — это маленькая, похожая на угря рыбка или червь, около четверти дюйма поперек и двух дюймов в длину, властвующая над некоторыми реками с дурной репутацией в Большом Бассейне Амазонки: проникает в хуй или в жопу, а на худой конец — и в пизду и удерживается там с помощью острых игл, причем точно не установлено, с какими целями, поскольку никто еще не решился пронаблюдать жизненный цикл кандиру в природных условиях), в гидрокостюмах таранят «Куин Мэри», на полной скорости идущую в нью-йоркскую бухту, играют в «цыпленка»[28] с пассажирскими самолетами и автобусами, надев белые халаты, врываются в больницы с пилами, топорами и скальпелями в три фута длиной, отрывают паралитиков от железных легких (подражая тому, как те задыхаются, шлепаются на пол и закатывают глаза), делают инъекции велосипедными насосами, отключают искусственные почки, распиливают женщину пополам двуручной пилой; они загоняют на Черный рынок стада визжащих свиней, они срут на пол в здании ООН и подтираются договорами, пактами, альянсами.
На самолетах, автомобилях, лошадях, верблюдах, слонах, тракторах, велосипедах и паровых катках, пешком, на лыжах, санях, костылях и детских пружинных ходулях туристы штурмуют границы, с непреклонной решимостью требуя убежища ввиду «невыносимых условий существования в Свободии». Торговая Палата прилагает тщетные усилия к тому, чтобы остановить это стихийное бедствие: «Просьба соблюдать спокойствие. Просто из одного сумасшедшего местечка вырвалось несколько сумасшедших».
Хоселито
И Хоселито, который писал плохие, проникнутые классовым сознанием стихи, начал кашлять. Немецкий доктор произвел беглый осмотр, касаясь ребер Хоселито длинными изящными пальцами. Доктор был также концертирующим скрипачом, математиком, мастером шахмат и доктором международного права с лицензией на практику в туалетах Гааги. Доктор бросил на смуглую грудь Хоселито тяжелый отрешенный взгляд. Он посмотрел на Карла, улыбнулся — один образованный человек улыбается другому — и вскинул бровь, как бы говоря:
«Also, при этом безмозглом хаме лучше слов не употреблять, не так ли? А не то он обосрется от страха. Кох и харкота — оба слова, по-моему, достаточно мерзкие».
Вслух он сказал:
— Это катарро де лос легкие.
Карл разговаривал с доктором у дома, под узкой аркадой, дождь брызгал с улицы ему на брюки, он думал, скольким людям ему уже приходилось это говорить, а перед глазами доктора стояли лестницы, веранды, газоны, аллеи, коридоры и улицы всего мира... душные немецкие альковы, больничные судна в штабеле до потолка, вкрадчивый зловещий запах уремии, сочащийся из-под двери, окраинные лужайки, оглашающиеся звуком дождевальной установки, тихая ночь в джунглях под бесшумными крыльями малярийного комара. (Примечание: это не метафора — малярийные комары действительно бесшумны.) Богато убранная коврами, благопристойная частная лечебница в Кенсингтоне: жесткий парчовый стул и чашка чая, современная шведская гостиная с водяными гиацинтами в желтой вазе, снаружи — прозрачно-голубое небо севера с плывущими облаками, на стене — плохие акварели умирающего студента-медика.
— Лучше шнапс, фрау Ундершнитт.
Доктор говорил по телефону, перед ним была шахматная доска.
— Поражение, я считаю, довольно тяжелое... конечно, не глядя во флюороскоп. — Он берется за коня, а потом задумчиво ставит его на прежнее место. — Да... оба легких... совершенно определенно. — Он кладет трубку и поворачивается к Карлу. — Я заметил, что у этих людей поразительно быстро заживают раны и инфекция при этом почти не распространяется. Здесь всегда легкие... пневмония и, разумеется, Добрая Старая. — Доктор хватает Карла за половой член и с вульгарным хамским гоготом вскакивает со стула. На лице его, несмотря на эту грубую ребяческую или звериную выходку, остается европейская улыбка. Он спокойно продолжает на своем до жути безакцентном, бесплотном английском: — Наша Добрая Старая Бацилла Коха. — Доктор щелкает каблуками и резко наклоняет голову. — А не то их идиотские хамские жопы так и размножались бы до самого моря, верно? — Он визжит, резко приближая лицо к самому лицу Карла. Карл отходит в сторону, и позади него — серая стена дождя.
— А могут его где-нибудь вылечить?
— Кажется, есть нечто вроде санатория, — это слово он растягивает с двусмысленным цинизмом, — в Столице Округа. Я напишу вам адрес.
— Химическая терапия?
Голос Карла с трудом пробивается сквозь сырой воздух.
— Это как сказать. Все они тупые хамы, а худшие из всех хамов — так называемые образованные. Этим людям нельзя позволять учиться не только читать, но и говорить. Нет нужды мешать им думать: об этом позаботилась природа.
— Вот адрес, — прошелестел доктор, не шевеля губами.
Он бросил в ладонь Карла скомканную бумажку. Его грязные пальцы, лоснящиеся поверх грязи, задержались на рукаве Карла.
— Остался вопрос о моем гонораре.
Карл сунул ему одну банкноту из пачки... и доктор исчез в серых сумерках, потасканный и неприметный, как старый джанки.
Карл увидел Хоселито в просторной, чистой, залитой светом комнате с ванной и бетонным балконом. И нс о чем говорить здесь, в холодной пустой комнате с водяными гиацинтами в желтой вазе и прозрачно-голубым небом с плывущими облаками, и страхом, мерцающим в его глазах. Когда он улыбался, страх улетучивался лучиками света, загадочно исчезавшими в высоких холодных углах комнаты. Да и что я мог сказать, чувствуя вокруг себя смерть и маленькие фрагментарные образы, которые возникают в голове перед сном?
— Завтра меня переведут в другой санаторий. Приходи ко мне. Я там буду один.
Он закашлялся и принял кодеиниту.
— Доктор, насколько я понимаю, то есть как мне дали понять... я читал и слышал — сам-то я не медик, да и не прикидываюсь таковым, — что теория санаторного лечения практически вытеснена или по крайней мере в значительной степени дополнена химической терапией. Как по-вашему, это правильно? Я хочу сказать, доктор, прошу вас, признайтесь мне со всей откровенностью, как мужчина мужчине, что вы думаете о соперничестве химического и санаторного методов лечения? Вы что, фанатик?
Индейское лицо доктора, выдававшее больную печень, было непроницаемо, как у сдающего карты.
— Вполне современно, как видите. — Лиловыми от плохого кровообращения пальцами он указывает в направлении комнаты. — Ванна... вода... цветы. Да и всё прочее. — Закончил он с акцентом кокни и с победной ухмылкой. — Я напишу для вас письмо.
— То самое письмо? В санаторий?
Доктор говорил из страны черных скал и больших радужно-бурых лагун.
— Обстановка... современная и удобная. Надеюсь, вы убедились, что это так и есть?
Карл не видел санатория из-за декоративного фасада, покрытого зеленой штукатуркой и увенчанного непонятной неоновой рекламой, мертвой и зловещей на фоне неба в ожидании темноты. Санаторий был, очевидно, построен на большом известняковом мысу, где цветут деревья и тянутся к морю усики ползучих растений. В воздухе стоял сильный запах цветов.
Команданте сидел за длинными деревянными подмостями, под увитой плющом решеткой. Он абсолютно ничего не делал. Взяв письмо, которое вручил ему Карл, он принялся читать, шевеля губами и водя по строчкам левой рукой. Потом наколол письмо на гвоздь над унитазом и начал что-то выписывать из гроссбуха, полного цифр. Он все писал и писал.
В голове у Карла мягко распускались фрагментарные образы, он неслышно и стремительно покидал свое тело. Ярко и отчетливо увидел он издалека самого себя, сидящего в закусочной. Передозировка героина. Его старуха трясет его и держит у него под носом горячий кофе.
На улице старый джанки в костюме Санта-Клауса продает рождественские брелоки. «Боритесь с туберкулезом, братва», — шепчет он своим бесплотным джанковым голосом. Хор Армии Спасения, состоящий из искренних футбольных тренеров-гомосексуалистов, поет «В предвкушении сладостной сделки».
Карл снова вплыл в свое тело — бескрылый джанковый призрак.
«Можно, конечно, дать ему взятку».
Команданте постукивает пальцем по столу и мурлычет «Вечером во ржи». Рассеянно, потом назойливо, почти как туманный горн за долю секунды до страшного кораблекрушения.
Карл наполовину вытащил из брючного кармана банкноту... Команданте стоял возле огромной панели запирающихся шкафчиков и ящиков для хранения ценностей. Он взглянул на Карла, больные звериные глаза погасли, умирая изнутри в безысходном страхе, отражающем лик смерти. В запахе цветов, с банкнотой, наполовину торчащей из кармана, Карл почувствовал страшную слабость, дыхание сперло, кровь застыла в жилах. Он находился в огромном вертящемся конусе, постепенно превращавшемся в черную точку.
— Химическая терапия?! — Его плоть испустила крик, пронесшийся по безлюдным раздевалкам и баракам, затхлым курортным гостиницам и призрачным, кашляющим коридорам туберкулезных санаториев, брюзжащим, отхаркивающим болезненный помойный запах ночлежкам и приютам для престарелых, большим пыльным таможенным ангарам и складам, мимо разрушенных портиков и замызганных арабесок, железных писсуаров, истертых в тонкую бумагу мочой миллионов педиков, пустынных, заросших сорняками отхожих мест с застарелым запахом дерьма, вновь превращающегося в почву, вертикального деревянного фаллоса на могиле вымирающих народов, унылых, как листья на ветру, через широкую бурую реку, где плавают целые деревья с зелеными змеями в ветвях, а печальноглазые лемуры пугливо глядят на берег, обозревая бескрайнюю равнину (с хрипом рассекают сухой воздух крылья грифов). Дорога усыпана рваными презервативами, пустыми капсулами из-под героина, тюбиками из-под возбудителя, выдавленными насухо, как костяная мука в лучах летнего солнца.
— Моя обстановка. — Лицо команданте пылало, как металл в фотовспышке назойливости. Но глаза его были пусты. Ветер занес в комнату слабый запах озона. В углу причитала у своих свечей и алтарей «новобрачная».
— Всё это «Трак»... современный, отличный. — Он по-идиотски кивает и распускает слюни. Желтый кот тянет Карла за штанину и убегает на бетонный балкон. По небу плывут облака.
— Я мог бы забрать свой вклад. Обзавестись где-нибудь небольшим делом. — Он кивает и улыбается, как механическая игрушка.
— Хоселито!!! — Мальчишки отрываются от уличных игр в мяч, корриды и велосипедных гонок, а имя со свистом проносится мимо и замирает вдали.
— Хоселито!.. Пако!.. Пепе!.. Энрике!.. — Теплый вечер оглашается жалобными мальчишескими криками. Вывеска с надписью «Трак» шевелится, как ночной зверь, и вспыхивает голубым огнем.
Черное мясо
— Мы ведь дружки, верно?
Чистильщик обуви нацепил зазывную улыбку и взглянул в безжизненные подводные глаза Матроса, глаза без тени сердечного тепла, вожделения или ненависти, да и любого чувства из тех, что мальчишка когда-либо испытывал сам или замечал в других, одновременно спокойные и настороженные, бесстрастные и хищные.
Матрос наклонился вперед и приложил палец к руке мальчика с внутренней стороны, у локтя. Он заговорил своим безжизненным джанковым шепотом:
— С твоими венами, малыш, я бы горя не знал!
Он рассмеялся: зловещий смех насекомого, который, казалось, выполняет некую непонятную ориентационную функцию, вроде писка летучей мыши. Матрос издал три таких смешка. Прекратив смеяться, он застыл, прислушиваясь к самому себе. Он поймал безмолвную частоту колебаний джанка. Его скуластое лицо разгладилось, как желтый воск. Он подождал полсигареты. Матрос умел ждать. Но глаза его горели чудовищной, невыносимой жаждой. Он сделал медленный полуоборот, стараясь ничем не выдать своей жгучей потребности, и засек только что вошедшего человека. «Толстяк» Терминал сидел, оглядывая кафе пустыми перископическими глазами. В тот момент, когда взгляд его миновал Матроса, он кивнул. Только обнаженные нервы джанковой болезни отметили бы этот жест.
Матрос вручил мальчишке монету. Своей плывущей походкой он подошел к столику Толстяка и сел. Они долго сидели молча. Кафе было встроено в один из склонов на дне глубокого белого каньона каменной кладки. Лица Города, запятнанные отвратительными пагубными привычками и ничтожными вожделениями, валили мимо, безмолвные как рыбы. Освещенное кафе было опущенным в черную пучину водолазным колоколом с оборванным кабелем.
Матрос полировал ногти лацканами своего шотландского клетчатого пиджака. Сквозь блестящие желтые зубы он насвистывал какой-то мотивчик. Когда он шевелился, его одежда испускала зловоние плесени, затхлый запах опустевших раздевалок. Он с фосфоресцирующей энергией изучал свои ногти.
— Хорошие новости, Толстяк. Могу раздобыть двадцать. Само собой, нужен аванс.
— На кой мне рисковать?
— Не в кармане же у меня эти двадцать яиц. Слушай, это же всего лишь студень. Ну что тебе стоит! — Матрос изучал свои ногти, словно некую диаграмму. — Ты же знаешь, я никогда не подвожу.
— Давай тридцать. Аванс — десятичная трубка. Завтра в это же время.
— Трубка нужна сейчас, Толстяк.
— Прогуляйся и получишь.
Матрос продрейфовал на Площадь. Уличный мальчишка пихнул в лицо Матросу газету, прикрыв ею авторучку. Матрос пошел дальше. Он достал авторучку и, расколов ее, как орех, своими толстыми и жилистыми розовыми пальцами, извлек оттуда свинцовую трубочку. Один конец трубочки он обрезал маленьким кривым ножичком. Вытекла и пеной повисла в воздухе черная дымка. Лицо Матроса растаяло в тумане. Его губы вытянулись и принялись всасывать черный пушок, вибрируя в сверхзвуковой перистальтике. Туман исчез в бесшумном розовом взрыве. Его лицо вновь очутилось в фокусе, невыносимо яркое и отчетливое, пылающее желтым клеймом джанка, выжженным на серых ляжках миллионов орущих наркотов.
— Месяц продержусь, — решил он, поглядев в невидимое зеркало.
Все улицы Города отлого спускаются меж углубляющимися склонами каньонов к огромной почкообразной площади, погруженной во тьму. Стены улиц и площади изрыты тесными жилыми ячейками и кафе, одни из которых уходят на несколько футов в глубину, другие тянутся невидимой сетью комнат и коридоров.
На всех уровнях — переплетения мостов, подвесных лесов и канатных дорог. К прохожим с молчаливой липкой назойливостью прижимаются юноши-кататоники, разодетые по-женски, в платья из дерюги и вонючих шкурок дохлых крыс, лица густо и кричаще размалеваны красками, скрывающими напластования побоев с арабесками рваных гноящихся шрамов до самых перламутровых костей.
Торговцы Черным Мясом, плотью гигантской черной водяной многоножки — достигающей иногда шести футов в длину, — которая встречается на узкой тропе между черными скалами и радужно-бурыми лагунами, демонстрируют в замаскированных гнездах площади, видных только Пожирателям Мяса, парализованных ракообразных.
Хранители устарелых немыслимых ремесел, лопочущие по-этрусски, наркоманы, пристрастившиеся к еще не синтезированным наркотикам, спекулянты с черного рынка Третьей мировой войны, ампутаторы телепатической восприимчивости, остеопаты[29] духа, исследователи нарушений, предрекаемых тихими параноиками-шахматистами, вручатели бессвязных ордеров, заполненных гебефренической стенографией и предписывающих отвратительные увечья души, чиновники неконституционных полицейских государств, торговцы изысканными снами и сладкими воспоминаниями, проверенными на клетках с чувствительностью, повышенной джанковой болезнью, и полученными в обмен на сырьевые ресурсы воли, любители выпить Тяжелую Жидкость, запечатанную в полупрозрачный янтарь грез.
Одну сторону Площади занимает Кафе Встреч: лабиринт кухонь, ресторанов, спальных ячеек, опасных железных балконов и подвалов, сообщающихся с подземными банями. На покрытых белым шелком табуретах сидят голые Отщепенцы, потягивающие через гипсовые соломинки полупрозрачные цветные сиропы. Отщепенцы не имеют печени и питаются исключительно сластями. Тонкие лилово-синие губы прикрывает острый как бритва черный костяной клюв, которым они частенько разрывают друг друга в клочья в драках из-за клиентов. Эти твари во время эрекции выделяют из своих пенисов вызывающую привыкание жидкость, которая продлевает жизнь, замедляя обмен веществ. (И в самом деле, оказалось, что все вещества, способствующие долголетию, вызывают привыкание в такой же степени, в какой они эффективны для продления жизни.) Наркоманов, пристрастившихся к жидкости Отщепенцев, называют Рептилиями. Гибкие кости и черно-розовая плоть некоторых из них колышутся над сиденьями. За каждым ухом растет веер из зеленого хряща, покрытый полыми, способными напрягаться волосками, через которые Рептилии впитывают свою жидкость. Эти веера, которые время от времени шевелятся от прикосновения невидимых потоков, служат также неким средством общения, известным только Рептилиям.
Во время возникающей раз в два года Паники, когда Город штурмует известная своими чувствительными, обнаженными нервами Полиция Грез, Отщепенцы спасаются в самых глубоких расщелинах стены, закупориваясь в глиняных ячейках и неделями пребывая в биостазе. В эти мрачные, страшные дни Рептилии все быстрее и быстрее мечутся по улицам, их вопли со сверхзвуковой скоростью обгоняют друг друга, их гибкие черепа колышутся на зловещих ветрах ничтожной агонии.
Полиция Грез рассыпается на катышки гнилой эктоплазмы, выметаемые старым джанки, кашляющим и харкающим на предрассветных ломках. Появляется Человек Отщепенцев с гипсовыми кувшинами жидкости, и Рептилии приходят в себя.
Воздух вновь неподвижен и чист, как глицерин.
Матрос засек свою Рептилию. Он продрейфовал поближе и заказал зеленый сироп. У Рептилии были круглый дисковидный ротик из бурого хряща и ничего не выражающие зеленые глаза, почти целиком прикрытые тонкой пленкой век. Матрос подождал часок, пока тварь не уловила его присутствия.
— Есть яйца для Толстяка? — спросил он, и его слова возбудили волоски на веере Рептилии.
Рептилии потребовалось два часа, чтобы поднять три розовых прозрачных пальца, покрытых черным пухом.
Несколько Пожирателей Мяса лежат в блевотине, не в силах пошевелиться. (Черное Мясо, подобно несвежему сыру, невыразимо приятно на вкус и вызывает тошноту, так что Пожиратели едят все больше, и блюют, и снова едят, пока не упадут в изнеможении.)
Накрашенный юноша проскользнул внутрь и схватил одну из больших черных клешней, которые издавали приторный, тошнотворный запах, клубившийся по всему кафе.
Больница
Заметки о дезинтоксикации. Паранойя раннего отнятия. Все приводит в уныние... Тело безжизненное, рыхлое, ослабшее. Кошмары отнятия. Кафе, уставленное зеркалами. Пустое... Чего-то жду... В боковой двери появляется человек... Хрупкий маленький араб, одетый в коричневую джеллабу[30], с седой бородой и серым лицом... У меня в руке кувшин с кипящей кислотой... Охваченный пароксизмом неотвратимости, я выплескиваю кислоту ему в лицо...
Все похожи на наркоманов...
Погулял немного в больничном дворике... Кто-то пользовался без меня моими ножницами, они испачканы какой-то липкой рыже-бурой мерзостью... Наверняка эта сука-санитарка обстригает ими свою мочалку.
На лестнице толпятся жуткого вида европейцы, они перехватывают сестру, когда мне нужно лекарство, выливают в раковину мочу, когда я умываюсь, часами занимают туалет — вероятно, выуживая напалечник с бриллиантами, который запихнули себе в жопу.
И в самом деле, по соседству со мной появился целый клан европейцев... Престарелой мамаше делают операцию, а дочь приехала вместе с ней — проследить, чтобы старую манду обслуживали как следует. Странные посетители, по-видимому родственники... Один из них вместо очков носит штуковины вроде тех, что вкручивают себе в глаза ювелиры, когда осматривают камни... Вероятно, спившийся огранщик алмазов... Человек, который угробил Трокмортонский Бриллиант[31] и был с позором изгнан из отрасли... Все эти ювелиры стоят в своих фраках вокруг бриллианта в ожидании Человека. Погрешность в одну тысячную дюйма полностью разрушает камень, и им приходится специально выписывать из Амстердама этого типа... И вот он, мертвецки пьяный, появляется с огромным отбойным молотком и, пошатываясь, крошит бриллиант в пыль...
Я не пытаюсь выяснить, что это за люди... Продавцы наркотиков из Алеппо[32]?.. Торговцы выкидышами из Буэнос-Айреса? Нелегальные скупщики алмазов из Йоганнесбурга?.. Работорговцы из Сомали? Коллаборационисты — по меньшей мере...
Непрерывные грезы о джанке: я ищу маковое поле... Контрабандисты в черных стетсонах направляют меня в ближневосточное кафе... У одного из официантов есть выход на югославский опиум...
Покупаю упаковку героина у малайской лесбиянки в теплой белой полушинели с поясом...
Выруливаю пакетик в тибетском зале какого-то музея. Она то и дело норовит выкрасть его назад. Я ищу место, где бы вмазаться...
Критическим моментом отнятия является не ранняя стадия острой болезни, а последний шаг из джанковой среды на свободу... Настает кошмарная интерлюдия клеточной паники, жизнь временно замирает между двумя способами существования... В этот момент страстная жажда джанка концентрируется в последней всеохватывающей тяге и, похоже, достигает сказочного могущества: случай то и дело подбрасывает вам джанк... Вы встречаете старого шмекера[33], вороватого больничного санитара, писаку-коновала...
Часовой в форме из человеческой кожи: черная кожаная куртка с кариозными зубами вместо пуговиц, эластичный пуловер, отливающий медным индейским цветом, брюки, покрытые юношеским северным загаром, сандалии из мозолистых подошв со стоп молодого малайского фермера, пепельно-бурый шарф, завязанный узлом и заправленный в свитер. (Пепельно-бурый — это цвет вроде серого, под бурой кожей. Иногда его можно обнаружить в смешанной семье, где есть негры и белые, если смесь не удалась и эти цвета разделились, как масло и вода...)
Этот Часовой — настоящий франт; поскольку ему нечем заняться, все свое жалованье он сберегает на покупку хорошей одежды и трижды в день переодевается перед громадным увеличивающим зеркалом. У него по-латински красивое гладкое лицо с карандашной линией усиков и маленькие черные глазки, пустые и жадные, бессмысленные глазки насекомого.
Когда я добираюсь до границы, Часовой стремительно выбегает из своей каситы, на шее у него висит зеркало в деревянной рамке. Он пытается стащить зеркало с шеи... Еще никто ни разу не достигал границы. Оторвав от зеркала рамку, Часовой поранил глотку... Он потерял голос... Он открывает рот, и внутри виден дергающийся язык. Гладкое и неживое молодое лицо и открытый рот с шевелящимся внутри языком невероятно отвратительны. Часовой поднимает руку. Все его тело подергивается в судорожном отрицании. Я подхожу к цепи, перегораживающей дорогу, и снимаю ее с крюка. Она падает с лязгом металла о камень. Я прохожу. Часовой стоит там, во мгле, и смотрит мне вслед. Затем он снова накидывает цепь на крюк, возвращается в каситу и принимается выщипывать свои усики.
Только что принесли так называемый завтрак... Яйцо вкрутую без скорлупы являет собой нечто такое, чего мне прежде видеть не доводилось... Очень маленькое яичко желто-бурого цвета... Наверное, снесено утконосом. В апельсине находился огромный червь и крайне мало всего остального... Он явно отвоевал там себе место раз и навсегда... В Египте есть червяк, который забирается человеку в почки и вырастает до громадных размеров. В конце концов от почки остается лишь тонкая скорлупа вокруг червя. Неустрашимые гурманы ценят мясо Червя выше всех прочих деликатесов. Говорят, оно неописуемо приятно на вкус... Интерзонный коронер, известный как Ахмед Аутопсия, сколотил состояние, торгуя Червем.
Напротив моего окна — французская школа, и я разглядываю мальчишек в свой восьмикратный полевой бинокль... Так близко, что я мог бы протянуть руку и дотронуться до них... Они в шортах... Холодным весенним утром я вижу у них на ногах гусиную кожу... Я мысленно переношусь сквозь бинокль на другую сторону улицы — призрак под утренним солнцем, раздираемый на части бесплотным вожделением.
Я когда-нибудь рассказывал вам о том, как мы с Марвом заплатили шестьдесят центов двум мальчишкам-арабам, чтобы посмотреть, как они будут дрючить друг друга? Я и спрашиваю Марва: «Думаешь, они это сделают?»
А он говорит: «Думаю, да. Они голодны».
А я говорю: «Именно такими они мне и нравятся».
Чувствую себя от этого грязным стариком, но «son cosas de la vida», как сказал Соберба де ла Флор, когда легавые бранили его за то, что он пришил одну пизду, а труп приволок в мотель «Бар О» и выебал...
«А чего она брыкается, — сказал он... — Да и шума я не перевариваю». (Соберба де ла Флор был мексиканским уголовником, отсидевшим за несколько довольно бессмысленных убийств.)
Туалет закрыт уже три часа подряд... По-моему, они используют его в качестве операционной...
СЕСТРА: Не могу нащупать ее пульс, доктор.
Д-Р БЕНВЕЙ: Может, она сунула его в напалечник и припрятала в своей щели?
СЕСТРА: Адреналин, доктор?
Д-Р БЕНВЕЙ: Ночной вахтер забавы ради вколол его весь себе.
Он осматривается и берет одну из тех резиновых вакуумных чашек на палке, с помощью которых пробивают засорившийся унитаз... Он приближается к больной...
— Сделайте разрез, доктор Лимпф, — говорит он своему перепуганному ассистенту... — Я займусь массажем сердца.
Д-р Лимпф пожимает плечами и начинает разрез. Д-р Бенвей моет кровососную чашу, размахивая ею в унитазе...
СЕСТРА: Разве ее не надо стерилизовать, доктор?
Д-Р БЕНВЕЙ: Очень может быть, но нет времени. — Он сидит на кровососной чаше, словно на трости-табурете, наблюдая, как его ассистент делает разрез... — Вы, юные выскочки, уже и прыщ ланцетом вскрыть не можете, вам подавай электровибрационный скальпель с автоматическим дренажом и наложением шва... Скоро мы будем оперировать с помощью дистанционного управления, не видя пациента... Будем только кнопки нажимать. Хирургия теряет все мастерство... Все знание и умение... Я когда-нибудь рассказывал вам, как делал аппендэктомию ржавой банкой из-под сардин? А однажды я остался без единого инструмента и удалил маточную опухоль зубами. Это было в Верхнем Эффенди, а еще...
Д-Р ЛИМПФ: Разрез готов, доктор.
Доктор Бенвей втискивает чашу в разрез и с силой жмет на нее. Докторов, сестру и стену струей заливает кровь... Чаша издает неприятный звук всасывания.
СЕСТРА: Мне кажется, она умерла, доктор.
Д-Р БЕНВЕЙ: Ну что ж, это в порядке вещей. — Он подходит к аптечке... — Какой-то ебучий наркоман разбавил мой кокаин саночистителем! Сестра! Немедленно пошлите мальчика отоварить этот рецепт!
Д-р Бенвей оперирует в заполненной студентами аудитории.
— Так вот, мальчики, вам не слишком часто придется видеть, как делается эта операция, и тому есть причина... Видите ли, она не имеет никакой медицинской ценности. Никто не знает, какова была ее первоначальная цель и была ли цель вообще. Лично я думаю, что с самого начала это было чистое произведение искусства.
Точно так же, как матадор с помощью знаний и опыта выпутывается из опасной ситуации, которую сам и создал, так и в этой операции хирург умышленно подвергает своего пациента опасности, а потом с невероятным проворством спасает его от смерти в последнюю возможную долю секунды... Видели когда-нибудь, как выступает д-р Тетраззини? Я не случайно говорю «выступает», ведь его операции были настоящими представлениями. Обычно он начинал с того, что через все помещение бросал скальпель в больного, а затем появлялся на сцене, словно танцовщик. Резвостью он обладал необычайной. «У меня они умереть не успевают», — говаривал он. Опухоли приводили его в бешенство. «Ебучие недисциплинированные клетки!» — обычно рычал он, набрасываясь на опухоль, как поножовщик.
Какой-то молодой человек спрыгивает в операционный театр и, выхватив скальпель, набрасывается на пациента.
Д-Р БЕНВЕЙ: Эспонтаньо! Остановите его, пока он не распотрошил моего больного!
(Эспонтаньо — термин из боя быков, обозначающий того члена публики, который спрыгивает на арену, вытаскивает припрятанную накидку и пытается совершить несколько пассов с быком, прежде чем его уволокут с арены.)
Санитары дерутся с эспонтаньо, который наконец изгоняется из зала. Воспользовавшись замешательством, анестезиолог извлекает изо рта больного большую золотую пломбу...
Я прохожу мимо палаты 10, из которой меня вчера перевели... Кажется, беременность... Подкладные судна, полные крови, котексов и безымянных женских субстанций, достаточных для загрязнения целого континента... Если кто-то придет навестить меня в мою прежнюю палату, он решит, что я выродил чудовище, а Государственный Департамент пытается это дело замять...
Музыка из «Я — американец»... На трибуне, задрапированной американским флагом, стоит пожилой человек в полосатых штанах и визитке дипломата. Опустившийся, затянутый в корсет тенор в лопающемся от тесноты костюме Дэниела Буна поет «Звездный флаг»[34] в сопровождении оркестра в полном составе. Поет он, слегка шепелявя...
ДИПЛОМАТ (читая по огромному свитку телеграфной ленты, который все растет и путается у него под ногами): И мы категорически отрицаем, что любой гражданин Соединенных Штатов Америки мужского пола...
ТЕНОР: Ты шкажи, ты ответь... — Голос его ломается и выстреливает высоким фальцетом.
В аппаратной Специалист готовит себе соду и срыгивает в руку. «Этот треклятый теноришка — просто жулик! — кисло бормочет он. — Майк! Хэ-э, — крик кончается отрыжкой. — Убери из эфира этого женоподобного пердуна и выдай ему лиловый листок[35] Он у меня уже в печенках сидит... Давай-ка лучше сюда того детину, что сменил пол и заделался лесбиянкой... Она у нас хоть штатный тенор... Костюм? А меня что, ебет? Я тебе не какой-нибудь там педик-модельер из отдела костюмов! Что такое? Отдел костюмов прикрыли из соображений безопасности? Что я вам, спрут, что ли? Ладно, посмотрим... Может, подойдет трафаретный индеец? Покахонтас[36] там или Гайавата?.. Нет, не то. Еще, чего доброго, найдется остряк, который решит, что все возвращают индейцам. Форма Гражданской войны: китель северян, а брюки южан, вроде как они опять заодно? Пускай выходит на сцену в роли Буффало Билла[37], или Пола Ривера, или того типа, что так и не покинул дерьмоут, то есть дредноут, а то и в роли вояки — пехотинца там или просто Неизвестного Солдата... Осенило!.. Накроем ее каким-нибудь монументом, чтобы никому не пришлось на нее смотреть...
Лесбиянка, укрытая Триумфальной аркой из папье-маше, набирает воздуха в свои огромные легкие и издает страшный рев.
«Ты скажи, все ль еще вьется звездный наш флаг...
Громадная дыра распарывает Триумфальную арку сверху донизу. Дипломат прикладывает руку ко лбу...
ДИПЛОМАТ: Что любой гражданин Соединенных Штатов мужского пола, родившийся в Интерзоне или в любом другом месте...
«Над свободной СТРАНОООООООЙ...
Дипломат шевелит губами, но никто его не слышит. Специалист зажимает уши руками. «Матерь Божья!» — вопит он. Его вставная челюсть принимается вибрировать, как варган, и вдруг вылетает... Он раздраженно пытается поймать ее ртом, промахивается и прикрывает рот рукой.
Триумфальная арка с оглушительным треском разваливается на части, и появляется Лесбиянка, стоящая на пьедестале и одетая лишь в суспензорий из леопардовой шкуры с громадными накладными яйцами... Она стоит с идиотской улыбкой, играя своими гигантскими мускулами... Специалист ползает по аппаратной в поисках своей вставной челюсти и выкрикивает невразумительные приказания: «Што-то шверх-жвуковое!! Жаткнишь же ты!»
ДИПЛОМАТ (утирая пот): Любому существу любого рода и звания...
«Над землей храбрецов...»
Лицо дипломата становится серым. Он шатается, спотыкается о свой свиток и виснет на поручнях, из глаз, носа и рта струится кровь, близка смерть от кровоизлияния в мозг.
ДИПЛОМАТ (еле слышно): Департамент отрицает... антиамериканский... Был уничтожен... Я хочу сказать, никогда не был... Категор... — Умирает.
В аппаратной лопаются приборные панели... с треском вспыхивают громадные вертикальные молнии... Специалист, голый, с обгоревшим дочерна телом, пошатывается, как персонаж «Гибели богов», и вопит: «Шверх-жвуковой!!! Жаткнишь!!!» Последний взрыв превращает Специалиста в пепел.
«И во мраке ночном Флаг останется с нами...»Заметки о наркомании. Каждые два часа колю юкодол. У меня есть место, где я могу вставить иглу прямо в вену, она все время открыта, как красный гноящийся рот, распухший и бесстыжий, после каждого укола образуется неторопливая капля крови, смешанной с гноем...
Юкодол — это химическая разновидность кодеина, дигидрооксикодеин.
Это вещество больше похоже на коку, чем на морфу... Когда вы делаете укол коки в вену, в голове возникает наплыв чистого наслаждения... Через десять минут вам хочется уколоться еще раз... Наслаждение от морфия концентрируется во внутренностях... После укола вы прислушиваетесь к самому себе... Но внутривенный кокаин — это электричество, пропущенное через мозги активизирующее кокаиновые связи удовольствия... У коки нет синдрома отнятия. Это потребность одного только мозга, потребность без тела и чувства. Потребность бескрылого призрака. Стремление к кокаину длится всего несколько часов, пока стимулируются кокаиновые каналы. Потом вы о нем забываете. Юкодол подобен комбинации джанка с кокой. Немцам можно доверять, они стряпают гнуснейшее дерьмо. Юкодол, как и морфий, в шесть раз сильнее кодеина. Героин в шесть раз сильнее морфия. Дигидрооксигероин должен быть в шесть раз сильнее героина.
Вполне возможно создание наркотика, ведущего к такому привыканию, что один укол вызовет наркоманию на всю жизнь.
Продолжение Заметок о наркомании. Взяв шприц, я непроизвольно касаюсь левой рукой жгута для перетягивания. Так я убеждаюсь, что смогу достичь единственной пригодной вены в левой руке. (Движения при перетягивании таковы, что обычно вы перетягиваете руку, которой достаете до жгута.) Игла легко проскальзывает внутрь у края мозоли. Я нащупываю вену. Вдруг в шприц врывается тонкий столбик крови, какое-то мгновение отчетливый и плотный, как красный шнур.
Тело знает, в какие вены вы колете, и выражает это знание в непроизвольных движениях, которые вы совершаете, готовясь сделать укол... Иногда игла указывает, как прутик лозоходца. Иногда мне приходится ждать сигнала. Но когда он появляется, я неизменно попадаю в кровь.
На дне пипетки расцвела красная орхидея. Он помешкал целую секунду, потом сжал пузырек, наблюдая, как жидкость врывается в вену, словно всасываемая немой жаждой его крови. В пипетке осталась тонкая радужно-кровавая оболочка, а белая бумажная манжета пропиталась кровью, как бинт. Он вытянул руку и наполнил пипетку водой. Когда он выпускал струю воды, доза ударила его в желудок — мягкий, сладкий удар.
Взгляните на мои грязные брюки. Не переодеваюсь месяцами... Дни скользят мимо, нанизываясь на шприц с длинной нитью крови... Я забываю о сексе и прочих телесных удовольствиях — серый джанкокрылый призрак. Испанские мальчишки зовут меня El Hombre Invisible — Человек-невидимка...
Двадцать отжиманий каждое утро. Употребление джанка устраняет жир, оставляя мышцы почти нетронутыми. Похоже, наркоману требуется меньше ткани... Появится ли возможность изолировать молекулу джанка, устраняющую жир?
Все громче в аптеке нытье, невнятная трепотня контроля, как в сорвавшемся с цепи телефоне... Прождал весь день и лишь в восемь вечера вырулил две коробки юкодола... Вены и деньги уже на исходе.
То и дело отключаюсь. Прошлой ночью проснулся оттого, что кто-то сжал мою руку. Оказалось, это моя другая рука... Заснул, читая, и слова приобрели значение кода... Преследует навязчивая идея кодов... Есть такие болезни, которые дешифруют кодированное донесение...
Принимаю дозу на глазах у Д. Л. Зондирую вену на моей грязной босой ноге... Чувство стыда у наркотов отсутствует... Они невосприимчивы к чужому отвращению. Сомнительно, что чувство стыда может существовать в отсутствие либидо... Стыд наркота исчезает вместе с его несексуальной общительностью, которая тоже зависит от полового инстинкта... Наркоман рассматривает свое тело безразлично, как инструмент для абсорбирования среды, в которой живет, он оценивает свои ткани холодными руками торговца лошадьми. «Нет смысла и пытаться сюда колоть». Безжизненные рыбьи глаза уставились на развороченную вену.
Принимаю снотворные пилюли нового типа, называемые «сонерил»... Сонливости не ощущаешь... Переносишься в сон без всякого перехода, внезапно попадаешь в самый разгар сновидений... Я провел годы в лагере для военнопленных, страдая от недоедания...
Президент — джанки, но ввиду своего высокого положения он не может употреблять джанк открыто. Поэтому он удовлетворяет свою потребность с моей помощью... Время от времени мы устанавливаем контакт, и я его перезаряжаю. На взгляд случайного наблюдателя, эти контакты напоминают гомосексуальную интрижку, но и действительности возбуждение — не в первую очередь сексуальное, и кульминация его наступает при расставании, когда перезарядка закончена.
Возбужденные пенисы приходят в соприкосновение — по крайней мере этот метод мы применяли вначале, но точки соприкосновения изнашиваются, как вены. Теперь мне иногда приходится засовывать свой пенис под его левое веко. Конечно, я всегда могу раскумарить его с помощью Осмотической[38] Перезарядки, что соответствует подкожному уколу, но это значит признать поражение. ОП на много недель приведет Президента в скверное состояние духа и вполне может ускорить атомную бойню. А за Извращенную Привычку Президент расплачивается дорогой ценой. Он пожертвовал всей властью и зависит от обстоятельств, словно неродившееся дитя.
Наркоман-извращенец страдает всем спектром субъективного ужаса, немым безумием протоплазмы, отвратительной агонией костей. Напряжения растут, и чистая энергия без эмоционального содержания прорывается наконец сквозь тело, бросая его из стороны в сторону, как человека, коснувшегося проводов высокого напряжения. Если его связь с заряжающим обрывается, наркоман-извращенец бьется в таких жестоких электрических конвульсиях, что его кости начинают вибрировать и он умирает, а скелет из последних сил выкарабкивается из невыносимой плоти и бежит прямиком к ближайшему кладбищу. Связь между НИ (Наркоманом-извращенцем) и ПП (Поставщиком Перезарядки) столь тесна, что они в состоянии выносить друг друга лишь в течение кратких и нечастых промежутков времени, не считая, разумеется, встреч для перезарядки, когда процесс перезарядки заслоняет весь личный контакт.
Читаю газету... Что-то о тройном убийстве на рю де ла Мерд, Париж: «Сведение счетов...» Меня куда-то уносит... «Полиция установила виновного... Пепе эль Кулито... Миниатюрная Жопа, ласковый тщедушный человечек». Неужели это и впрямь там написано?.. Я пытаюсь сосредоточиться на словах... Они распадаются в бессмысленную мозаику...
Лазарь, иди вон[39]
Нащупывая поблекшую пограничную полосу на рубеже обретения сил — в серой, безжизненной зоне, иссеченной миазматическими провалами, впадинами и следами уколов, — Ли обнаружил, что молодой джанки, стоящий в его комнате в 10 утра, вернулся с двухмесячной подводной охоты на Корсике и спрыгнул с джанка.
«Явился похвастать своим новым телом», — решил Ли, дрожа на утренних ломках. Он вспомнил, что видел, как... ах да, Мигель, спасибо... три месяца назад сидел в «Метрополе», отключившись над несвежим, желтым, как моча, эклером, которым через два часа отравился кот, и рассудил, что, потратив столько усилий на лицезрение Мигеля в 10 утра, он уже не сможет справиться со своей каторжной работой — поиском ошибки («Что я вам, нанялся, что ли?»). А может, он так перетрудился, что Мигель в своем нынешнем гнусном обличье ему просто привиделся?
— Ты изумительно выглядишь, — сказал Ли, стирая попавшейся под руку замызганной салфеткой явные признаки отвращения, глядя на серую липкую джанковую грязь на лице Мигеля и изучая узоры потертости; казалось, человек и его одежда годами блуждали в темных переулках времени без единой пространственной остановки, так и не удосужившись привести себя в приличный вид.
«К тому же, когда я исправлю ошибку... Лазарь, иди вон... заплати Человеку и иди вон... К чему мне глядеть на твою поношенную плоть, явно с чужого плеча?»
— Да, хорошо, что ты слез... Дело полезное.
Мигель плавал по комнате, вместо остроги пронзая рыб рукой...
— Там, под водой, о героине не думаешь.
— Ты стал куда лучше выглядеть, — сказал Ли, рассеянно поглаживая игольный шрам на тыльной стороне Мигелевой ладони, неторопливо петляя по завиткам и узорам гладкой лиловой плоти...
Мигель почесал руку... Он выглянул в окно... Его тело, по мере того как загорались джанковые каналы, начинало резко и возбужденно пульсировать... Ли сидел и ждал.
— Хоть нюхни разок, от этого, дружище, еще никто не подсел.
— Я знаю, что делаю.
— Все они знают.
Мигель взял пилку для ногтей.
Ли закрыл глаза: «Как это все надоело!»
— Ах, благодарю, это было здорово. — Штаны Мигеля упали к лодыжкам. Он стоял в уродливом одеянии из плоти, которое из смуглого сначала стало зеленым, а потом бесцветным в утреннем свете и свалилось, шариками раскатившись по полу.
Глаза Ли шевельнулись в веществе лица... резкий взгляд, холодный и мрачный...
— Убери все это, — сказал он. — И без того грязи хватает.
— Да-да, конечно, — Мигель вертел в руках совок для мусора.
Ли убрал пакет с героином.
Каждый третий день Ли обходился без наркотиков, то есть делал абсолютно... э-э... необходимые паузы, дабы подкинуть топлива в огонь, горевший в его желто-розово-бурой студенистой субстанции, и не подпускать к себе свою затаившуюся поблизости плоть. Поначалу его плоть Пыла просто мягкой, такой мягкой, что его едва ли не а вылет ранили пылинки, воздушные потоки и одежные щетки, в то время как непосредственный контакт с дверьми и стульями не причинял, казалось, никаких неудобств. Ни одна рана не заживала в его мягком ненадежном теле... Вокруг обнаженных костей вились длинные белые усики плесени. Плесневые запахи атрофированных яиц подбивали его тело пушком серого тумана...
Во время первого тяжелого заражения из закипевшего термометра внезапно вылетела в мозг медсестры ртутная пуля, и та с душераздирающим воплем упала замертво. Завидев это, доктор захлопнул стальные ставни выживания. Он потушил загоревшуюся койку, а ее обитателя тотчас изгнали из помещения больницы.
— Сдается мне, он сумеет выработать собственный пенициллин! — прорычал доктор.
Но та инфекция напрочь выжгла плесень... Теперь Ли жил в различных степенях прозрачности... Невидимым он, строго говоря, не стал, но по крайней мере узреть его было нелегко. Его присутствие не привлекало особого внимания... Его не было видно ни в тени, ни в отраженном свете, да люди и не желали его замечать, считая его самого тенью или отражением: «Это всё обман зрения или неоновая реклама».
Ли уже ощущал первые сейсмические толчки Доброго Старого Холодного Жара. Мягким, но неумолимым усиком он вытолкнул дух Мигеля в коридор.
— Господи! — сказал Мигель. — Мне пора! — Он выбежал из комнаты.
Розовый огонь гистамина полыхнул из накаленной докрасна сердцевины Ли и охватил его саднящую периферию. (Комната была жизненепроницаемой, железные стены покрылись пузырями и пятнами лунных кратеров.) Он принял большую дозу, нарушив свой график.
Ли решил навестить коллегу, Непутевого Джо, который подсел на джанк в Гонолулу, во время приступа банг-утота.
(Примечание: банг-утот, буквально — «пытающийся встать и стонущий»... Смерть наступает во время ночного кошмара... Эта болезнь встречается у мужчин родом из Ю.-В. Азии... В Маниле ежегодно регистрируется около двенадцати случаев смерти от банг-утота.
Один из тех, кто вылечился, рассказывал, что у него на груди сидел «маленький человечек» и душил его.
Жертвы нередко знают, что умирают, они испытывают страх перед собственным пенисом, боясь, что он вонзится в тело и убьет их. Иногда они в состоянии истерии, пронзительно крича, сжимают пенис в руках и зовут на помощь, зная, что пенис может вырваться и проткнуть тело. Эрекция, которая обычно бывает во сне, считается особенно опасной и может вызвать смертельный приступ... Один человек изобрел хитроумную штуковину для предотвращения эрекции во время сна. И все-таки умер от банг-утота.
Тщательное вскрытие жертв банг-утота не выявило никаких органических причин смерти. Часто встречаются признаки удушения (вызванного чем?); иногда — небольшое кровотечение в поджелудочной железе и легких, слишком слабое, чтобы привести к смерти, и также неизвестного происхождения. Автору пришло в голову, что причиной смерти является смещение центра сексуальной энергии, ведущее в результате к эрекции легкого с последующим удушьем... / См. статью доктора медицины Нильса Ларсена «Люди со смертельными снами» и «Сатердей ивнинг пост» за 3 декабря 1955 года. А также статью Эрла Стенли Гарднера для журнала «Тру мэгэзин»/.)
Непутевый жил в постоянном страхе перед эрекцией, так что его доза стремительно повышалась. (Примечание: это хорошо известная скучная истина, истина отъявленно унылая и давно набившая оскомину: каждому, кто плотно подсаживается из-за какого-то бессилия, каким бы оно ни было, в период нехватки или отнятия (а штука эта, как известно, куда как приятна) предъявляется донельзя раздутый, растущий в геометрической прогрессии счет.)
Электрод, прикрепленный к одному из его яиц, накалился докрасна, и Непутевый проснулся от запаха опаленного мяса и потянулся к наполненному шприцу. Он свернулся калачиком и вонзил иглу себе в хребет. С легким вздохом наслаждения вытащив иглу, он понял, что Ли в комнате. Длинный слизень, подрагивая, выполз из правого глаза Ли и вывел на стене радужной липкой грязью: «Матрос в Городе, он скупает ВРЕМЯ».
Я жду у аптеки, она должна открыться в девять часов. Два мальчика-араба катят бачки с мусором вверх, к высокой массивной деревянной двери в побеленной стене. Пыль перед дверью исполосована мочой. Один из мальчиков наклоняется над перегруженными бачками, и штаны плотно прилегают к его тощей юной жопе. Он смотрит на меня безразличным, спокойным взглядом животного. Я просыпаюсь потрясенный, как будто мальчик и вправду существовал и я пропустил назначенную с ним на сегодня встречу.
— Мы ожидаем дополнительных уравниваний, — говорит Инспектор в интервью Вашему Корреспонденту. — Иначе наступит, — Инспектор поднимает ногу, совершая типичное скандинавское телодвижение, — кессонная болезнь, не так ли? Но мы, вероятно, сможем создать подходящую декомпрессионную камеру.
Инспектор расстегивает ширинку и принимается искать мандавошек, испачканной дегтем ложкой черпая притирание из глиняного медового бочонка. Ясно, что интервью подходит к концу.
— Вы не уходите? — восклицает он. — Ну что ж, как сказал один судья другому, будь справедлив, а не можешь быть справедливым, будь своеволен. Сожалею, что не смогу рассказать о привычных непристойностях. — Он поднимает правую руку, покрытую вонючей желтой мазью.
Чей-то Корреспондент бросается вперед и сжимает в ладонях замасленные руки Инспектора.
— Это было наслаждение, Инспектор, невыразимое наслаждение; — говорит он, стягивая перчатки, скатывая их в комок и бросая в корзину для бумаг. — Представительские средства, — улыбается он.
Хасанова комната развлечений
Позолота и красный плюш. Бар в стиле рококо, отделанный розовым черепаховым рогом. Воздух насыщен пагубной сладкой субстанцией, напоминающей сгнивший мед. Мужчины и женщины в вечерней одежде потягивают через гипсовые трубочки разноцветные ликеры. У стойки на табурете, покрытом розовым шелком, сидит голый Отщепенец с Ближнего Востока. Длинным черным языком он вылизывает из хрустального бокала теплый мед. Его гениталии сложены превосходно — обрезанный член, блестящие черные лобковые волосы. Губы у него тонкие и лилово-синие, как губки пениса, а глазки пусты и равнодушны, как глазки насекомого. У Отщепенца нет печени, и он питается исключительно сластями. Отщепенец заталкивает на кушетку стройного белокурого юношу и со знанием дела раздевает его.
— Встань и повернись, — приказывает он телепатическими пиктограммами. Он связывает мальчику руки за спиной красным шелковым шнуром. — Сегодня мы проделаем всё до конца.
— Нет, нет! — пронзительно кричит мальчик.
— Да, да.
Хуи извергают семя в немом «да». Отщепенец раздвигает шелковые занавески, и на фоне освещенного экрана из красного кремня открывается виселица из тикового дерева. Виселица стоит на помосте, украшенном ацтекской мозаикой.
С протяжным «о-о-о-о-о-о-о» мальчик падает на колени, обсираясь и обоссываясь в ужасе. Он чувствует теплое говно между ляжками. Мощная волна горячей крови раздувает его губы и горло. Его тело сжимается и сворачивается в позу зародыша, и сперма струей бьет прямо ему в лицо. Отщепенец зачерпывает из гипсовой чаши теплой надушенной воды, задумчиво моет мальчику жопу и член и вытирает их мягким голубым полотенцем. Теплый ветерок играет над телом мальчика и колышет его волосы. Отщепенец подсовывает руку под грудь мальчика и ставит его на ноги. Схватив за локти, он толкает его вверх по ступенькам — и под петлю. Он стоит перед мальчиком, держа петлю обеими руками.
Мальчик смотрит Отщепенцу в глаза, пустые, как обсидиановые зеркала, лужи черной крови, смотровые щели в стене уборной, грозящие Последней Эрекцией.
Старый мусорщик, с лицом тонким и желтым, как китайская слоновая кость, что есть сил трубит в свою помятую медную трубу и будит спавшего с сухостоем испанского сутенера. Топча пыль, дерьмо и помет мертворожденных котят, ковыляет шлюха, она тащит охапки недоношенных эмбрионов, рваных презервативов, окровавленных котексов и говно, завернутое в яркие цветные комиксы.
Обширная спокойная бухта с радужной водой. На дымном горизонте ярким неровным пламенем горит заброшенная газовая скважина. Зловоние нефти и сточных вод. В глубокой воде плавают толстые акулы, изрыгающие из гниющих печенок серу и не замечающие окровавленного разбившегося Икара. Голый Мистер Америка выкрикивает в безумной горячке страстного себялюбия: «Моя жопа посрамит Лувр! Я пержу амброзией, а сру чистым золотым говном! В лучах утреннего солнца из моего хуя струятся нежные бриллианты!» — Он камнем летит с безглазого маяка, посылая во все стороны воздушные поцелуи и сдрачивая член на черную зеркальную гладь, потом наклонно скользит вглубь, туда, где таинственные презервативы и мозаика тысячи газет, мимо затонувшего города из красного кирпича, чтобы опуститься в черный ил с консервными банками и пивными бутылками, гангстерами в бетоне и пистолетами, расплющенными всмятку и потерявшими тот смысл, который видят в их облапывании похотливые эксперты по баллистике.
С окаменевшей поясницей он дожидается неторопливого стриптиза эрозии.
Отщепенец надевает петлю на шею мальчика и ласково затягивает узел под левым ухом. Пенис мальчика съежился, яйца напряжены. Он смотрит прямо перед собой, тяжело дыша. Отщепенец бочком обходит мальчика, сует ему палец в задний проход и ласкает его половые органы иероглифами насмешки. Прижавшись к мальчику сзади, он делает серию толчков и впихивает член в жопу мальчика. Он стоит, совершая вращательные движения.
Гости шикают друг на друга, подталкивают друг друга локтями и хихикают.
Неожиданно Отщепенец толкает мальчика вперед в пространство, высвобождая свой член. Он останавливает мальчика, положив руки на его бедренные кости, после чего вытягивает свои стилизованные иероглифические руки и сжимает ими шею мальчика. По телу мальчика пробегает дрожь. Его пенис вздымается тремя большими волнами, тянет за собой таз и тотчас извергает семя.
В глазах его распускаются зеленые искры. Сладкая зубная боль отдает ему в шею и — вниз по хребту, до самого паха, сокращая тело спазмами наслаждения. Всё его тело выдавливается через пенис. Последний спазм метеором выбрасывает через весь экран мощную струю спермы.
Затянутый мягким жадным всасыванием, мальчик падает и летит сквозь лабиринт пассажей с грошовыми лавочками и непристойными картинками. Из жопы вылетает огромный кусок говна. Его изящное тело сотрясается от пердежа. Над широкой рекой зелеными гроздьями распускаются сигнальные ракеты. Он слышит слабое тарахтение моторной лодки в сумерках джунглей... Под бесшумными крыльями малярийного комара.
Отщепенец тянет мальчика назад на свой член. Мальчик извивается, пронзенный, как пойманная на острогу рыба. Отщепенец раскачивается за спиной мальчика, его тело сокращается плавными волнами. По подбородку мальчика течет кровь изо рта, полуоткрытого, сладкого и мрачного в смерти. Отщепенец падает с жидким хлюпаньем пресыщения.
Одноместная спальня с голубыми стенами, без окон. На двери — грязная розовая занавеска. Рыжие клопы ползают по стене, роятся в углах. В центре комнаты голый мальчик бренчит на двуструнном уаде и выводит на полу арабеску.
Другой мальчик развалился на кровати, курит траву и выпускает дым над своим возбужденным членом. Чтобы решить, кто кого будет ебать, они играют на кровати в карты таро. Мошенничают. Дерутся. Катаются по полу, рыча и фыркая, как молодые звери. Побежденный сидит на полу, уткнувшись подбородком в колени и облизывая сломанный зуб. Победитель, притворившись спящим, свернулся калачиком на кровати. Как только второй мальчик подбирается к нему поближе, Али хватает его за ногу, зажимает ее под мышкой и обвивает рукой. Мальчик в отчаянии пинает Али в лицо. Другая нога скована мертвой хваткой. Али опрокидывает мальчика на лопатки. Член мальчика, покачиваясь и пульсируя, вытягивается вдоль живота. Али забрасывает руки мальчика ему за голову. Сплевывает на его член. Когда Али вводит себе член, второй глубоко вздыхает. Они трутся перепачканными кровью губами. Резкий затхлый запах проникновения в прямую кишку. Нимун загоняет член, словно клин, выжимая из другого члена длинные горячие струи спермы. (Автор замечал, что члены у арабов, как правило, широкие и имеют форму клина.)
Сатир и молодой голый грек в аквалангах изображают балет погони в чудовищной вазе из прозрачного молочного стекла. Сатир хватает мальчишку спереди и переворачивает. Они движутся резко, как рыбы. Мальчишка пускает изо рта серебристую струйку пузырей. Белая сперма извергается в зеленую воду и лениво плавает вокруг сплетенных тел.
Негр бережно сажает в гамак прелестного китайского мальчика. Подняв ноги мальчика над головой, он садится на гамак верхом. Он вводит член в маленькую худую жопу мальчика и осторожно раскачивает гамак. Мальчик пронзительно кричит — сверхъестественный высокий вопль нестерпимого наслаждения.
Яванский танцор в богато украшенном вращающемся кресле из тика, закрепленном промеж известняковых ягодиц, натягивает американского мальчишку — рыжие волосы, ярко-зеленые глаза — на свой член, совершая ритуальные телодвижения. Мальчишка сидит, пронзенный, лицом к танцору, который, вращаясь, поливает сиденье жидкой субстанцией. «И-и-и-и-и!» — визжит мальчишка, пока его сперма струится на тощую смуглую грудь танцора. Одна капля попадает танцору в уголок рта. Мальчишка пальцем пропихивает ее внутрь и смеется: «Вот это, приятель, я и называю отсосом!»
Две арабские женщины со зверскими рожами стащили трусы с маленького светловолосого француза. Они дрючат его красными резиновыми членами. Мальчик рычит, кусается, толкается, а когда его член встает и извергает семя, заливается слезами.
Лицо Хасана раздувается и набухает кровью. Губы становятся лиловыми. Он стягивает с себя костюм из банковских билетов и швыряет его в открытый погреб, который бесшумно закрывается.
— Здесь Зал Свободы, братва! — вопит он со своим псевдотехасским акцентом. Не сняв десятигаллоновой шляпы и ковбойских сапог, он отплясывает Ликвифракционистскую джигу, заканчивая гротескным канканом под мотивчик «Она пустила знойную волну»:
«Тому и быть! И нет запретных дырок!!!»
В воздухе, на причудливых подвесных системах с искусственными крыльями, вопя как сороки, совокупляются пары.
Одним точным соприкосновением извергают друг в друга сперму воздушные гимнасты.
Эквилибристы ловко отсасывают друг у друга, балансируя на шестах и наклоненных над пустотой стульях. Теплый ветерок заносит из туманных глубин запахи рек и джунглей.
Сотни мальчиков проваливаются сквозь крышу, подергиваясь и брыкаясь на концах веревок. Мальчики висят на разных уровнях, одни — у потолка, а другие — в нескольких дюймах от пола. Прелестные балийцы и малайцы, мексиканские индейцы со свирепыми невинными лицами и ярко-красными деснами. Негры (зубы, пальцы, ногти на ногах и лобковые волосы позолочены), японские мальчики, гладкие и белые, как фарфор, венецианские парнишки с золотисто-каштановыми волосами, американцы со светлыми или темными кудрями, спадающими на лоб (гости с нежностью убирают их назад), угрюмые белокурые поляки с карими звериными глазами, арабские и испанские уличные мальчишки, австрийские мальчишки, розовые и изящные, с едва заметной тенью лобковых волос, усмехающиеся немецкие юноши с ярко-голубыми глазами, вопящие «Хайль Гитлер!», когда из-под них вышибают трап. Соллаби хнычут и обсираются.
Мистер Богатей-Плебей жует свою гаванскую сигару, непристойную и мерзкую; он развалился на флоридском пляже в окружении глупо улыбающихся светловолосых катамитов[40].
— У одного типа есть латах, которого он вывез из Индокитая... Он это дело так понимает: латаха он повесит, а друзьям пошлет рождественский фильмец. Так вот, достает он, значит, две веревки — одну хитроумную, которая может растягиваться, другую — самую что ни на есть настоящую. Только вот латаха-то этого обуревает вдруг жажда кровной мести, он напяливает костюм Санта-Клауса и подменяет типу веревку. Тут тебе и рассвет. Тип надевает одну веревку себе на шею, а латах поступает как все латахи — надевает другую. Когда трапы выбиты, тип вешается взаправду, а латах так и стоит себе со своей балаганной резиновой веревкой на шее. Ага, латах имитирует каждое подергивание и каждый спазм. Три раза кончает.
Да, этому продувному латаху палец в рот не клади. Я взял его экспедитором на один из своих заводов.
Ацтекские жрецы снимают с Голого Юноши одеяние из голубых перьев. Они укладывают его спиной на известняковый алтарь и надевают ему на голову хрустальный череп, скрепляя две полусферы, затылочную и лобную, хрустальными винтами. На череп струится водопад, ломающий шею. В радуге, на фоне восходящего солнца, он извергает семя.
Резкий белковый запах спермы насыщает воздух. Гости лапают подергивающихся мальчиков, сосут их члены и вампирами виснут у них на спинах.
Голые телохранители вносят «железные легкие», полные парализованных юношей.
Из громадных пирогов ощупью выбираются слепые мальчики, из резиновой пизды выскакивают выродившиеся шизофреники, из черного пруда выходят на берег мальчишки с жуткими кожными болезнями (ленивые рыбы обгрызают желтое говно на поверхности).
Человек в белой сорочке с галстуком, голый ниже пояса, если не считать черных подвязок, галантно беседует с Пчелиной Маткой. (Пчелиные Матки — это старухи, которые окружают себя педиками, образующими «пчелиный рой». Это безобразный мексиканский обычай.)
— Но где же статуя? — он говорит одной стороной лица, другая перекошена после Пытки Миллионом Зеркал. Он бурно мастурбирует. Пчелиная Матка продолжает беседу, ничего не замечая.
Кушетки, стулья, да и весь пол начинают вибрировать, и гости превращаются в расплывчатых серых призраков, визжащих в хуекрылой агонии.
Под железнодорожным мостом дрочат два мальчика. Поезд сотрясает их тела, заставляя извергнуть семя, и медленно исчезает с далеким гудком. Квакают лягушки. Мальчики вытирают сперму с тощих смуглых животов.
Купе поезда: два больных молодых наркота, едущие в Лексингтон, в судорогах похоти срывают с себя штаны. Один из них намыливает свой член и по спирали разрабатывает жопу другого. «Бо-о-о-оже!» Оба извергают семя и тут же встают. Они отходят друг от друга и натягивают штаны.
— В Маршалле старый коновал прописывает настойку и оливковое масло.
— У старушки-матери прямо геморрой кровью обливается от жалости к Черному Дерьму... А если бы к вашей маме, Док, пиявками присосались эти гнусные вертлявые больничные врачи, которые только и знают, что оформлять ее в жопу... Дезактивируй свой таз, мамаша, ты же просто омерзительна.
— Давай сойдем и вытрясем из него рецепт.
Поезд мчится сквозь дымную, освещенную неоном июньскую ночь.
Изображения мужчин и женщин, мальчиков и девочек, зверей, рыб, птиц: вселенский ритм совокупления наводняет комнату — великий голубой поток жизни. Вибрирующий беззвучный гул густого леса — неожиданная тишина городов, когда джанки выруливает дозу. Мгновение безмолвия и изумления. Даже Пригородный Житель пытается дозвониться по засоренным холестериновым проводам.
Хасан визжит: «Это все ты, Эй-Джей! Ты обосрал всю мою вечеринку!»
Эй-Джей смотрит на него, лицо его непроницаемо, как известняк: «Засунь ее себе в жопу, недоумок разжиженный».
Врывается ватага обезумевших от похоти американских женщин. Взмокшие пизды с фермы и ранчо для отдыхающих, с фабрики и из борделя, из загородного клуба, роскошных апартаментов и с городской окраины, из мотеля, с яхты и из коктейль-бара; они сбрасывают одежду для верховой езды, лыжные костюмы, вечерние платья, джинсы, платья для чаепития, ситцевые платья, брюки, купальные костюмы и кимоно. С воплями, стонами и воем они набрасываются на гостей, как бешеные суки в жаркую погоду. Они запускают длинные ногти в повешенных мальчиков и терзают их, визжа: «Ну ты, педик! Ублюдок! Еби меня! Еби меня! Еби меня!» Гости с воплями спасаются бегством, мечутся среди повешенных, опрокидывают железные легкие.
Эй-Джей: «Вызовите моих швейцарцев, черт побери! Оградите меня от этих самок!»
М-р Хайлоп, секретарь Эй-Джея, отрываясь от своей книжки комиксов: «Швейцарцы уже превращаются в жидкость».
(Сжижение заключается в расщеплении белка и низведении его до состояния жидкости, которая впитывается в протоплазму какого-нибудь другого существа. В данном случае таким получателем жидкости наверняка является Хасан, известный ликвифракционист.)
Эй-Джей: «Никчемные хуесосы! Куда деваться человеку без его швейцарцев? Положение отчаянное, джентльмены. На карту поставлены наши хуи. В бой, мистер Хайлоп, они идут на абордаж. И призовите мужчин к оружию».
Эй-Джей выхватывает абордажную саблю и принимается обезглавливать Американских Девушек. Он страстно поет:
Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рома. Пей — и дьявол доведет до конца, Йо-хо-хо, и бутылка рома.М-р Хайлоп, унылый и безропотный: «Боже мой! Опять он за свое». Он вяло размахивает «Веселым Роджером».
Эй-Джей, дерущийся в окружении значительно превосходящих сил противника, запрокидывает голову и издает призывный клич борова.
Сразу же вваливаются около тысячи находящихся в половой охоте эскимосов. Визжа и хрюкая, с распухшими лицами, горящими красными глазами и лиловыми губами, они набрасываются на американских женщин.
(Когда у эскимосов наступает «сезон охоты», племена собираются вместе на короткое лето, дабы порезвиться в оргиях. Их лица распухают, а губы становятся лиловыми.)
Сквозь стену просовывает голову Штатный Детектив с двухфутовой сигарой во рту: «У вас тут что, бродячий зверинец?»
Хасан ломает руки: «Бойня! Грязная Бойня! Клянусь Аллахом, отродясь не видел ничего более мерзкого!»
Он поворачивается к Эй-Джею, который с попугаем на плече и повязкой на глазу сидит на морском сундуке и пьет ром из высокой пивной кружки. Он изучает горизонт с помощью громадной медной подзорной трубы.
Хасан: «Ты, дешевая фактуалистская сука! Убирайся, и чтобы ноги твоей больше не было в моей комнате развлечений!»
Университет интерзоны
Ослы, верблюды, гуанако, рикши, тележки с товарами, которые, пыжась от натуги, толкают мальчики с глазами, вылезшими из орбит и напоминающими языки удушенных, — пульсирующими, красными от звериной ненависти. Между студентами и лекционной кафедрой пасутся стада овец, коз и длиннорогого скота. Студенты сидят на ржавых парковых скамейках, известняковых глыбах, сортирных сиденьях, упаковочных корзинах, канистрах из-под бензина, пнях, пыльных кожаных подушечках, заплесневелых гимнастических матах. Одетые в джинсы, джеллабы... в костюмы с кружевными камзолами, они пьют кукурузную водку из мейсоновских банок[41], кофе из консервных банок, курят «план» (марихуану) в сигаретах, скрученных из оберточной бумаги и лотерейных билетов... колют джанк английской булавкой и пипеткой, изучают программки скачек, книжки комиксов, кодексы майя...
Профессор прибывает на велосипеде, волоча за собой вереницу рыбьих голов. Он взбирается на кафедру, держась за спину (подъемный кран раскачивает над его головой мычащую корову).
ПРОФ: Прошлой ночью меня отьебало всё султаново войско. К тому же я вывихнул спину, обслуживая своего постоянного гомика... Да и манду одну старую никак не выселю. Хорошо бы дипломированный специалист по электронике мозга разомкнул ей синапс за синапсом, а судебный исполнитель-хирург выбросил на улицу ее кишки. Когда Ма со всеми своими пожитками перебирается к какому-нибудь мальчишке, тот из кожи вон лезет, лишь бы выселить эту наглую приживалку...
Он смотрит на рыбьи головы и мурлычет мотивчики двадцатых годов.
— У меня приступ ностальгии, ребята, надо его выплеснуть, хочешь ты или хохочешь... мальчишки гуляют по ярмарочному проспекту и жуют розовые сахарные волоконца... лапают друг друга на сеансе кинетоскопа... дрочат в чертовом колесе и плещут спермой в луну, восходящую в багровой дымке над литейным заводом за рекой. На тополе, напротив Старого Здания Суда, висит нигра... Хнычущие женщины хватают его сперму влагалищными зубами...
(Муж смотрит на подмененное дитя прищуренными глазами цвета линялой серой фланелевой рубахи: «Уж не нигра ли это, Док?»
Доктор пожимает плечами: «Это старая армейская игра, сынок. Горошина под гильзой... Вот есть она, а вот ее нет...»)
А Док Паркер колет себе лошадиную дозу героина в подсобке своей аптеки — сразу три грана. «Тонизирует, — бормочет он, — вечная весна».
Ручонки Бенсон, Городской Извращенец, занял кверенсию в школьной уборной (кверенсия — термин из боя быков... Бык обязательно отыскивает на арене место, которое ему подходит, и остается там, а матадор должен либо войти туда и сразиться с быком на его бычьих условиях, либо выманить его оттуда — то или другое). Образованный шериф Недоумок Ларсен говорит: «Мы должны как-то выманить его из этой кверенсии...» А Старая Ма Лотти десять лет спит с мертвой дочерью, да и сама уже законсервировалась у себя дома и просыпается, дрожа на техасском рассвете... Снаружи, над черной болотной водой и кипарисовыми пнями, кружат грифы...
А теперь, джентльмены... полагаю, среди вас нет трансвеститов... хи-хи... и все вы джентльмены согласно Постановлению Конгресса, остается лишь убедиться в том, что вы — человеческие существа мужского пола, ведь Перебежчикам с любой из сторон вход в эту благопристойную аудиторию категорически запрещен. Джентльмены, предъявите «личное оружие». Вас всех уже проинструктировали, и вы знаете, сколь важно содержать ваше оружие хорошо смазанным и готовым к любому оборонительному бою — как на фланге, так и в тылу.
СТУДЕНТЫ: Знаем! Знаем! — Они устало расстегивают ширинки. Один из них размахивает гигантской эрекцией.
ПРОФ: Итак, джентльмены, на чем я остановился? Ах да, Ма Лотги... Она с дрожью просыпается на рассвете, нежном и розовом — розовом, как сахарные волоконца, розовом, как морская раковина, розовом, как свечи на именинном пироге маленькой девочки, розовом, как хуй, пульсирующий в багровом свете ебли... Ма Лотти... хм-хм... если не прекратить это бесконечное занудство, ее одолеет старческая немощь и она разделит общество своей дочери в формальдегиде.
«Поэма о Старом Мореходе» Колриджа, поэта... Я хотел бы обратить ваше внимание на то, сколь символичен образ самого Старого Морехода.
СТУДЕНТЫ: Он говорит, самого.
— В связи с этим обратите внимание на его собственную неприглядную личность.
— Зря вы это сказали, Учитель.
Сотня юных правонарушителей... на него наставлены щелкающие, как зубы, пружинные ножи.
ПРОФ: О, силы земные! — Он отчаянно пытается выдать себя за старуху в высоких черных башмаках и с зонтом... — Если бы не мой прострел — не могу даже нагнуться... я бы перехитрил их, подставив свою сладкую попочку, как это делают бабуины... Если на более слабого бабуина нападает более сильный бабуин, более слабый бабуин либо (а) подставляет свою, гм, тыловую часть — полагаю, это так называется, джентльмены, хи-хи, для пассивного совокупления, либо (б) будучи бабуином другого типа, более экстравертным и лучше приспособленным, он нападает на еще более слабого бабуина, если сумеет такового найти.
Растрепанная Декламаторша в платье двадцатых годов — похоже, она и спит в нем с тех самых пор — шатаясь переходит мрачную, освещенную неоном чикагскую улицу... в воздухе бескрылым призраком повис мертвый груз Славных Прежних Дней. Декламаторша (проспиртованный тенор): «Отыщите самого слабого бабуина».
Пограничный салун: Педрила-Бабуин, наряженный в голубое девчоночье платье, поет смиренным голосом на мотив «Голубого платья Элис»: «Нет бабуина меня слабее».
Профессора и юношей разделяет товарный поезд... Когда поезд проходит, у тех уже толстые животы и ответственные должности...
СТУДЕНТЫ: Мы хотим Лотти!
ПРОФ: Это было в другой стране, джентльмены... Как я уже говорил, в меня бесцеремонно вторглась одна из многочисленных моих личностей... беспокойный маленький зверек... Рассмотрим Старого Морехода без кураре, лассо, балбокапнина и смирительной рубашки, хотя они и могут привлекать и удерживать внимание публики... В чем его главный, хм-хм, секрет? Хи-хи-хи... В отличие от так называемых художников нашего времени, он не останавливает всех подряд, а значит, не столь часто навязывает людям свои скучные речи и напрашивается на неприятности... Он останавливает тех, у кого, благодаря уже сложившимся между Мореходом (каким бы старым он ни был) и... э-э... Брачным Гостем отношениям, нет другого выхода, кроме как слушать...
Не важно, что говорит Мореход на самом деле... Он может говорить бессвязно, невпопад, даже грубить и проявлять старческий маразм. Но что-то происходит с Брачным Гостем[42], как происходит это в психоанализе, когда это происходит, если происходит. Да простят мне небольшое отступление... Один мой знакомый психоаналитик говорит только сам — не важно, терпеливо слушают пациенты или нет... Он вспоминает прошлое... рассказывает сальные анекдоты (старые), достигая таких контрапунктов идиотизма, о которых не мечтал и Окружной Управляющий. В какой-то степени этим он наглядно показывает, что на словесном уровне никогда ничего нельзя добиться... К этому методу он пришел благодаря наблюдениям, доказывающим, что Слушатель — Аналитик — не читает мыслей пациента... Пациент — Говорящий — читает мысли Слушателя... То есть у пациента возникает экстрасенсорная осведомленность о снах аналитика и его планах, поскольку аналитик контактирует с пациентом строго с помощью лобных долей мозга... Такой подход характерен для многих агентов — они отъявленно многоречивые зануды и плохие слушатели...
Джентльмены, я метну бисер: вы больше можете узнать о человеке говоря, нежели слушая.
Свиньи вскакивают, а Профессор ведрами мечет во все стороны бисер...
— Вот это колосс! Я и ног-то его лизать недостоин, — говорит самый жирный боров.
— Да они же глиняные.
Ежегодный прием у Эй-Джея
Эй-Джей обращается к гостям: «Пизды, хуи и те, что и нашим и вашим, сегодня я представляю вам всемирно известного импресарио «голубых» фильмов и коротковолнового телевидения, единственного и неповторимого Великого Бейсуку!»
Он указывает на красный бархатный занавес высотой в шестьдесят футов. Сверху донизу занавес разрывает молния. Появляется Великий Бейсука, он стоит. Его лицо огромно и неподвижно, как погребальная урна чиму. На нем парадный вечерний костюм и голубая накидка, в глазу — голубой монокль. Огромные глаза с крохотными черными зрачками, кажется, извергают иглы. (Его пристальный взгляд способен выдержать лишь фактуалист столь же высокого ранга.) Когда он разгневан, образуется заряд, от которого монокль летит через всю комнату. Многим невезучим актерам довелось испытать на себе ледяной взрыв недовольства Бейсуки: «Вон из моей студии, это не игра, а дешевое очковтирательство! Вздумал устроить поддельный оргазм и надуть меня! ВЕЛИКОГО БЕЙСУКУ! Да я и по большому пальцу твоей ноги вижу, когда ты кончаешь. Идиот! Безмозглый мерзавец!! Наглая кошелка!!! Ступай торговать своей жопой и помни: для того чтобы работать на Бейсуку, требуются искренность, преданность и талант. Я не потерплю никакого гнусного надувательства — ни фонограммы с тяжелым дыханием, ни резинового говна, ни припрятанных в ухе пузырьков с молоком, ни уколов йохимбина, украдкой сделанных в руки». (Йохимбин, получаемый из коры дерева, растущего в Центральной Африке, является самым безопасным и весьма эффективным половым стимулятором. Он действует, расширяя кровеносные сосуды на поверхности кожи, главным образом в области половых органов.)
Бейсука извергает свой монокль, который уплывает из поля зрения и бумерангом возвращается ему в глаз. Он делает пируэт и исчезает в голубой дымке, холодной, как жидкий воздух... затемнение...
На экране. Рыжеволосый зеленоглазый парнишка, белая кожа с редкими веснушками... целует худую брюнетку в широких брюках. Костюмы и прически наводят на мысль о богемных барах всех городов мира. Они сидят на низкой кровати, покрытой белым шелком. Девушка нежными пальчиками расстегивает его штаны и вынимает член, маленький и очень жесткий. Капля смазки блестит на его кончике, как бриллиант. Она с нежностью ласкает залупу: «Разденься, Джонни». Он быстрыми уверенными движениями снимает одежду и голый стоит перед ней, его член пульсирует. Она жестом просит его отвернуться, и он, подбоченясь, делает на полу пируэт в пародии на натурщика. Она снимает блузку. Груди у нее маленькие и высокие, с напряженными сосками. Она выскальзывает из трусиков. Видны черные блестящие волосики. Он садится рядом с ней и протягивает руку к ее груди. Она его останавливает.
— Я хочу оформить тебя в жопу, милый, — шепчет она.
— Нет. Не сейчас.
— Ну пожалуйста, я хочу.
— Ладно, так и быть. Пойду вымою жопу.
— Нет, я сама.
— А, ерунда, она не грязная.
— Нет, грязная. Идем, Джонни, мальчик мой.
Она ведет его в ванную. «Ну, садись». — Он опускается на колени и наклоняется вперед, уткнувшись подбородком в коврик у ванны. «Аллах», — произносит он. Он оборачивается и ухмыляется. Она моет ему жопу горячей водой с мылом, засовывая палец в задний проход.
— Не больно?
— Неееееееет.
— Идем, малыш.
В спальню она входит первой. Он ложится на спину и забрасывает ноги себе за голову, скрестив руки под коленями. Опустившись на колени, она ласкает тыльную часть его бедер и яйца, а пальцы ее перебегают вниз, к извечному разделению. Она раздвигает его ягодицы, наклоняется и начинает лизать задний проход, медленно двигая головой по кругу. Раздвигая бока заднего прохода, она лижет все глубже и глубже. Он закрывает глаза и извивается. Она лижет извечное разделение. Тугие яички... На кончике его обрезанного члена появляется гигантский бриллиант. Ее рот смыкается над залупой. Она сосет ритмично, вверх-вниз, делая паузу наверху и двигая головой по кругу. Ее рука нежно играет его яичками, скользя вниз, а средний палец — ему в жопу. Когда она сосет, двигаясь вниз, к основанию члена, она насмешливо щекочет его простату. Он ухмыляется и пердит. Она уже сосет его член в неистовстве. Его тело начинает сокращаться, подтягиваясь к подбородку. Сокращения с каждым разом длятся все дольше. «И-и-и-и-и!» — визжит паренек, каждая мышца напряжена, все его тело деформируется, чтобы освободиться через член. Она пьет его сперму, которая мощными горячими струями наполняет ей рот. Его ноги вновь шлепаются на кровать. Он потягивается и зевает.
Мэри пристегивает себе резиновый пенис.
— Безотказный Мужик III из Йокогамы, — говорит она, лаская стержень. Через всю комнату струей бьет молоко.
— Смотри, чтоб молоко было пастеризованным. Не вздумай наградить меня какой-нибудь жуткой коровьей болезнью, вроде сибирской язвы, сапа или афтоза...
— В Чикаго я была лесбиянкой-трансвеститом и подрабатывала дезинсектором. Заигрывала с хорошенькими мальчиками — страшно нравилось, когда меня избивали как мужчину. Потом хватаю я одного из этих малышей и ломаю его с помощью сверхзвукового дзюдо, которому научилась у старого дзэн-буддийского монаха-лесбиянки. Я его связываю, бритвой сдираю с него одежду и ебу «Безотказным Мужиком I». Он так расслабился, что я его даже не кастрировала, — сказать по правде, я кончила в него своим клопомором.
— А что стало с «Безотказным Мужиком I»?
— Его разорвала пополам одна дюжая лесбиянка. Вот это было влагалище — смертельная хватка! Она могла вдолбить туда свинцовую трубу. Это была одна из ее салонных шалостей.
— А «Безотказный Мужик II»?
— В клочья изжеван подыхающей от голода кандиру в верховьях Бабуиновой Задницы. И нечего на этот раз вопить: «И-и-и-и-и!»
— Почему? Это же просто умора.
— Как можно сравнивать всех этих тупиц с твоей мадам, мальчуган ты мой босоногий!
Закинув руки за голову, он разглядывает потолок.
— Так что же мне делать? Срать, когда во мне эта штуковина, я не могу. Интересно, можно ли одновременно кончать и смеяться? Помню, во время войны в каирском Жокей-клубе мы с моим коллегой по заднице Лу, оба джентльмены согласно постановлению Конгресса... больше никто бы нам с ним такого не устроил... так вот, мы принялись так неудержимо хохотать, что обоссались с ног до головы, а официант и говорит: «Вон отсюда, гнусные анашисты!» То есть если я сумел высмеять из себя всю мочу, почему бы мне не высмеять и сперму? Так что скажи мне что-нибудь очень смешное, когда я буду кончать. Этот момент ты распознаешь заранее — возникнет дрожь в простате...
Она ставит пластинку — кокаиново-металлический би-боп. Смазав штуковину, она забрасывает ему ноги за голову и серией штопорообразных движений своих жидких бедер вводит штуковину ему в жопу. Медленными кругами она входит внутрь, вращаясь вокруг оси стержня. Жесткими сосками она трется о его грудь. Она целует его в шею, подбородок и глаза. Он проводит руками по ее спине вниз, к ягодицам, проталкивая ее себе в жопу. Она вращается быстрее, быстрее. Его тело подергивается и корчится в судорогах. «Быстрее, прошу тебя, — говорит она. — Молоко стынет». Он не слышит. Она прижимается губами к его губам. Их лица сливаются. Его сперма наносит легкие горячие удары по ее груди.
В дверях стоит Марк. На нем черный свитер с высоким воротом. Холодное красивое лицо самовлюбленного человека. Зеленые глаза и черные волосы. Он смотрит на Джонни с легкой усмешкой, склонив голову набок, руки на карманах куртки — грациозный хулиганский балет. Он делает резкое движение головой, и Джонни впереди него входит в спальню. За ними — Мэри.
— Ну что ж, мальчики, — говорит она, нагишом садясь на кровать с розовым шелковым балдахином. — Начнем!
Марк, плавно вихляя бедрами, начинает раздеваться; извиваясь, он вылезает из своего свитера, в шутливом танце живота обнажая прекрасный белый торс. Джонни с каменным лицом — дыхание учащенное, губы сухие — снимает одежду и бросает ее на пол. Трусы Марка спадают на одну ногу. Жестом девицы из кордебалета он ногой отправляет трусы через всю комнату. И вот он уже стоит голый, с тугим членом, растягивающимся вперед и вверх. Неторопливо окинув взором тело Джонни, он улыбается и облизывается.
Марк падает на одно колено, рукой обхватывая Джонки за спину. Встав, он швыряет его через шесть футов на кровать. Джонни приземляется на спину и подскакивает. Марк бросается на Джонни, хватает его за щиколотки и закидывает ему ноги за голову. Губы Марка стянуты в тугой узел. «Хорошо, Джонни, мальчик мой».
Его тело сжимается, и он медленно и плавно, как смазанную машину, заталкивает член в жопу Джонни. Джонни глубоко вздыхает, корчась в экстазе. Марк сцепляет руки под лопатками Джонни, натягивая его на свой член, который целиком погружен в жопу Джонни. Он громко свистит сквозь зубы. Джонни кричит птицей. Марк трется лицом о лицо Джонни, узел исчез, лицо невинное и мальчишеское, — и вот уже вся его жидкость струится в трепещущее тело Джонни.
Сквозь него с ревом и свистом проносится поезд... гудит пароход, воет туманный горн, над маслянистыми лагунами вспыхивает сигнальная ракета... грошовый пассаж ведет в лабиринт непристойных картинок... в бухте палит церемониальная пушка... пронзительный крик уносится по белому больничному коридору... наружу, вдоль пыльных улиц, обсаженных пальмами, пулей свистит над пустыней (сухой воздух рассекают крылья грифов), сразу тысяча мальчиков кончает в садовых сортирах и открытых всем ветрам школьных уборных, на чердаках, в подвалах и игрушечных домиках на ветвях деревьев, на чертовых колесах и в заброшенных жилищах, в известняковых пещерах, лодках и гаражах, в амбарах и на продуваемых ветром булыжных городских окраинах за стенами глинобитных домов (запах высохших испражнений)... ветер носит пыль над худыми бронзовыми телами... залатанные штаны упали к потрескавшимся и кровоточащим босым ногам... (место, где грифы дерутся над рыбьими головами)... в джунглях у лагун, злые рыбы хватают зубами белую сперму на поверхности черной воды, песчаные мухи кусают смуглую задницу, обезьяны-ревуны, подобные ветру в деревьях (страна больших бурых рек, по которым плывут целые деревья, ярко раскрашенные змеи в ветвях, печальные лемуры смотрят на берег тоскливыми глазами), в голубом веществе неба выводит арабески красный самолет, жалит гремучая змея, кобра поднимает голову, распускает капюшон, выплевывает белый яд, осколки жемчуга и опала медленным бесшумным дождем падают сквозь чистый, как глицерин, воздух. Время перескакивает, как сломанная пишущая машинка, мальчики превратились в стариков, юные бедра, дрожащие и подергивающиеся в мальчишеских спазмах, становятся дряблыми и отвислыми, их тяжесть принимают на себя сортирное сиденье, садовая скамейка, каменная стена в лучах испанского солнца, продавленная кровать в меблированной комнате (за окном — трущобы красного кирпича под ясным зимним солнцем)... они подергиваются и дрожат в грязном белье, нащупывая вену на утренних ломках, что-то бормочут, пуская слюни, в арабском кафе... «Меджуб», — шепчут арабы, пытаясь незаметно улизнуть (меджуб — это особый вид помешанного на религии мусульманина... среди прочих расстройств нередко встречается эпилепсия). «Мусульмане должны иметь кровь и сперму... Смотрите, смотрите, вот куда сперманентно течет кровь Христова», — воет меджуб... Он стоит, вопя, и черная кровь обильно струится из последней эрекции — потускневшее белое изваяние, — стоит так, будто он шагнул наконец за Великую Ограду, взобрался на нее, невинный и спокойный, как влезает на ограду мальчишка половить рыбу в запретном пруду — через несколько секунд он поймает гигантскую зубатку, — из маленькой черной лачуги с проклятиями выбегает Старик с вилами, и смеющийся мальчишка несется через поля Миссури — он находит красивый розовый стрелолист и срывает его на бегу, плавно устремив вниз свои юные кости и мышцы (его кости смешиваются с полем, он лежит мертвый у деревянной ограды, с дробовиком под боком, в зимнее жнивье Джорджии сочится кровь с застывшего красного языка)... За спиной у него бьется зубатка... Он подходит к ограде и через нее бросает зубатку в испещренную кровью траву... рыба лежит, извиваясь, а он с пронзительным криком перепрыгивает через ограду. Он хватает зубатку и удаляется по посыпанной галькой красной грунтовой дороге меж дубами и персиммонами, роняющими в ветреный осенний закат красно-бурые листья, зеленые и мокрые на летнем рассвете, черные ясным зимним днем... Старик выкрикивает ему вслед проклятия... его зубы вылетают изо рта и со свистом проносятся над головой мальчишки, он из последних сил устремляется вперед, шейные позвонки будто стягивает стальной обруч, на забор сплошной густой струей бьет черная кровь, и он бесплотной мумией падает в высокую колючую траву. Сквозь ребра его прорастают колючки, в его хижине бьются окна, пыльные осколки стекла в черной замазке — по полу бегают крысы, а мальчики дрочат летними днями в темной и душной спальне и едят ягоды, которые растут из его плоти и костей, рты вымазаны лилово-красным соком...
Старый джанки нашел вену... кровь расцветает в пипетке, как китайская роза... он заталкивает героин домой[43], и мальчик, который дрочил пятьдесят лет назад, еще непорочный, просвечивает сквозь опустошенную плоть и заполняет сортир сладким пряным запахом юношеской похоти...
Сколько лет нанизано на кровавую иглу? С дряблыми руками на коленях сидит он, глядя на зимний рассвет потухшими джанковыми глазами. Старый гомик корчится на известняковой скамейке в парке Чапультепек, а мимо идут подростки-индейцы, обняв друг друга за бока и шеи и заставляя его умирающую плоть вытягиваться в попытке овладеть юными ляжками и ягодицами, тугими яйцами и пускающими струи членами.
Марк и Джонни сидят лицом к лицу в вибрационном кресле, Джонни пронзен членом Марка.
— Все готово, Джонни?
— Включай.
Марк небрежно ударяет по кнопке, и кресло начинает вибрировать... Марк запрокидывает голову, снизу глядя на Джонни, лицо его бесстрастно, холодные насмешливые глаза изучают лицо Джонни... Джонни пронзительно кричит и хнычет... Его лицо теряет очертания, будто расплавленное изнутри... Джонни вопит, как мандрагора[44], и теряет сознание, сперма его бьет струей, и он тяжело опускается на тело Марка — отрубившийся ангел. Марк рассеянно похлопывает Джонни по плечу... Помещение напоминает спортзал... Пенорезиновый пол покрыт белым шелком... Одна стена сплошь стеклянная... Восходящее солнце заливает комнату розовым светом. Мэри и Марк вводят Джонни со связанными руками. Джонни видит виселицу и с громким «О-о-о-ох!» оседает, подбородок его утыкается в член, ноги гнутся в коленях. Почти вертикальная струя спермы дугой изгибается перед самым его лицом. Марк и Мэри вдруг становятся раздражительными и нетерпеливыми... Они заталкивают Джонни на помост виселицы, усеянный заношенными суспензориями и свитерами. Марк затягивает петлю.
— Ну, пошел. — Марк хочет столкнуть Джонни с помоста. Мэри: «Нет, дай мне». Она сплетает пальцы на ягодицах Джонни, прижимается к нему лбом, улыбаясь ему в глаза, и отходит назад, сталкивая его с помоста в пустоту...
Его лицо набухает кровью... Марк проворно протягивает руку и пальцами сжимает Джонни шею... звук такой, будто сломали палку, завернутую в мокрое полотенце. По телу Джонни пробегает дрожь... одна ступня бьется, как пойманная птица... Марк хватается за перекладину турника и, имитируя подергивания Джонни, закатывает глаза и высовывает язык. Хуй Джонни вскакивает, Мэри заправляет его себе в пизду, трется о тело Джонни и, извиваясь в плавном танце живота, стонет и визжит от наслаждения... по телу ее течет пот, волосы мокрыми прядями спадают на лицо. «Срежь его, Марк!» — кричит она. Марк вытягивает руку с кусачками, перерезает веревку и, поймав падающего Джонни, бережно укладывает его на спину вместе со все еще пронзенной и извивающейся Мэри... Она откусывает у Джонни губы и нос и с шумом всасывает его глаза... Отрывает большие куски щеки... И вот она завтракает его членом... К ней подходит Марк, и она отрывается от полусъеденных гениталий Джонни, лицо ее залито кровью, глаза фосфоресцируют... Марк ставит ей ногу на плечо и толкает ее на спину... Он набрасывается на нее и ебет как безумный... Они катаются по комнате из угла в угол, делают вертушки и кульбиты и подскакивают высоко в воздух, как огромная, пойманная на крючок рыба.
— Дай мне повесить тебя, Марк... Дай мне тебя повесить... Ну пожалуйста, Марк, дай мне тебя повесить!
— Ну конечно, крошка. — Он грубо ставит ее на ноги и сжимает ей руки за спиной.
— Нет, Марк!! Нет! Нет! Нет! — вопит она, обоссываясь и обсираясь в ужасе, пока он тащит ее к помосту. Связанную, он бросает ее на помост, в кучу старых использованных презервативов, а сам протягивает через комнату веревку... и возвращается с петлей на серебряном подносе. Он рывком ставит ее на ноги и затягивает петлю. Вонзив в нее хуй, он вальсирует по помосту и — в пустоту, раскачиваясь по большой дуге... «И-и-и-и-и!» — визжит он, превращаясь в Джонни. Шея Мэри с треском ломается. По ее телу прокатывается мощная жидкая волна. Джонни спрыгивает на пол и замирает, нерешительный и настороженный, как маленький звереныш.
Он мечется по комнате. С воплем безудержной тоски, вдребезги разбивающим стеклянную стену, он выпрыгивает в пустоту. Кувыркаясь и мастурбируя, три тысячи футов вниз — рядом с ним плывет его сперма, — он непрерывно вопит в хрупкую голубизну неба, его тело пылает в лучах восходящего солнца, словно облитое бензином, — вниз, мимо больших дубов и персиммонов, чтобы в жидком облегчении разбиться на разрушенной площади, вымощенной известняком. Меж камней растут сорные травы и ползучие растения, ржавые железные болты в три фута шириной пронзают белый камень, покрывая его бурым дерьмом ржавчины.
Джонни обливает Мэри бензином из непристойного кувшина чиму, кувшина из белого гагата... Он втирает бензин себе в кожу... Они обнимаются, падают и катаются по полу под громадным увеличительным стеклом, установленным в крыше... вспыхивают с криком, который вдребезги разбивает стеклянную стену, выкатываются в пустоту, с воплями ебутся в воздухе и лопаются в огне, крови и саже на бурых камнях под солнцем пустыни. Джонни в агонии мечется по комнате. С воплем, который вдребезги разбивает стеклянную стену, он стоит, широко раскинув руки, лицом к восходящему солнцу, из члена струится кровь... беломраморный бог, он камнем падает сквозь эпилептические взрывы на старого меджуба, корчащегося в дерьме и хламе у глинобитной стены в лучах солнца, которое обезображивает тело рубцами и покрывает гусиной кожей... Он — мальчик, спящий, прижавшись к стене мечети, и во «влажном сне» извергающий семя в тысячу влагалищ, гладких и розовых, как морские раковины, чувствуя наслаждение, когда вверх по его члену скользят колючие лобковые волосы.
Джон и Мэри в гостиничном номере (музыка из «Прощания с Восточным Сент-Луисом»). Теплый весенний ветерок дует из открытого окна и колышет линялые розовые занавески... На пустырях, где растет кукуруза, квакают лягушки, а под разрушенными известняковыми надгробьями, вымазанными дерьмом и оплетенными ржавой колючей проволокой, мальчишки ловят маленьких зеленых неядовитых змей.
Неоновый свет — хлорофиллово-зеленый, фиолетовый, оранжевый — вспыхивает и гаснет.
Джонни кронциркулем вытаскивает из пизды Мэри кандиру... Он бросает ее в бутылку мескаля, где та превращается в червя магеи[45] Размягчителем костей из джунглей он делает Мэри промывание, и вылетают наружу влагалищные зубы, смешанные с кровью и кистой... Ее пизда сверкает, свежая и душистая, как весенняя травка... Джонни лижет пизду Мэри — сначала медленно, потом с растущим возбуждением раздвигает губки и лижет внутри, чувствуя на своем распухшем языке колючки лобковых волос... Руки отброшены назад, груди торчат — Мэри лежит, прибитая к полу неоновыми гвоздями... Джонни движется по ее телу вверх, его член со сверкающим круглым опалом смазки у открытой щели скользит сквозь ее лобковые волосы и полностью входит в пизду, затянутый всасывающей силой голодной плоти... Его лицо набухает кровью, в глазах вспыхивают зеленые огни, и он уносится прочь по американским горкам мимо вопящих девиц...
Влажные волосы с тыльной стороны его яичек сохнут на теплом весеннем ветру и превращаются в травку. Горная долина в джунглях, в окно вползают лианы. Член Джонни набухает, распускаются большие роскошные бутоны. Из пизды Мэри, нащупывая землю, выползает длинный корневой побег. Тела разделяются с зелеными взрывами. Лачуга превращается в груды разбитого камня. Мальчик стал известняковой статуей, из его члена пускает побеги какое-то растение, губы растянуты в полуулыбке отрубившегося джанки.
Гончий Пес заначил остатки героина, завернув их в лотерейный билет.
Еще один укол — завтра лечиться.
Путь долог. Сплошь сухостой и депрессия.
Долог путь по каменистой пустыне сурового режима к оазису финиковых пальм свиданий, где арабские мальчишки срут в колодец и танцуют рок-н-ролл в песках целительного пляжа, жуют горячие сосиски и плюются самородками золотых зубов.
Беззубые и смертельно голодные, с рифлеными боками, на которых можно стирать грязную спецодежду, они с трепетом выпрыгивают из шлюпки на острове Пасхи и выходят на берег, с трудом передвигая онемевшие и хрупкие, как ходули, ноги... они клюют носом в окнах клубов... их одолевает жирная нужда-потребность, и тогда они торгуют своими тощими телами.
Финиковые пальмы погибли из-за нехватки встреч, колодец наполнен высохшим дерьмом и мозаикой тысячи газет:
«Россия отрицает... Министр внутренних дел с сожалением и тревогой смотрит... трап был выбит в 12:02. В 12:30 доктор вышел поесть устриц и вернулся в 2:00, чтобы весело похлопать повешенного по спине.
— Как! Ты еще не умер? Видно, придется дернуть тебя за ногу. Ха-ха! Нет, так долго висеть ты у меня не будешь — меня же Президент уволит. И потом — какой позор, если труповозка вывезет тебя отсюда живым! Да у меня от стыда просто яйца отсохнут, а ведь я пошел в ученики к опытному быку-кастрату. Раз, два, три — тащу».
Планер падает, бесшумный, как эрекция, бесшумный, как смазанное стекло, разбитое молодым вором с руками старухи и потухшими джанковыми глазами... В неслышном взрыве он проникает в дом, перешагивая через замасленные осколки, в кухне громко тикают часы, жаркий воздух ерошит его волосы, а голова раскалывается от слишком большой дозы... Старик достает красный патрон и делает пируэты вокруг своего дробовика.
— Ничего не выгорит, братва... Рыбы в бочке... Деньги в банке... юный распутник, да я ему с одного выстрела мозги вышибу, и он у меня шмякнется в похабном виде... Тебе слышно меня, малыш?
Когда-то и я был молод, и у меня в ушах звучал чарующий зов легких деньжат, женщин и худых мальчишеских задниц, только не выводи меня из себя ради всего святого, я намерен кое-что рассказать, пускай твой хуй встает и с песней тянется к жемчужно-розовой юной пизденке или выводит задушевный напев смазанной слизью смуглой, трепещущей мальчишеской жопе, слушай свой хуй, как магнитофон... и когда ты доберешься до жемчужно-ярких бриллиантов простаты, что накапливаются в золотистых мужских яйцах, неумолимых, как почечный камень... Прости, я должен тебя убить... Моя старая серая кобыла[46] уже не та, что прежде... не может публику завлечь... а публику надо покорять на лету и на бегу, ее надо с ног сбивать... К тому же меня, точно дряхлого льва, донимают гнилые зубы, а будь у меня зубная паста «Амидент», я бы и до сих пор грыз свежатинку... Эти старые дерьмовые львы начинают просто-напросто пожирать мальчиков... А кто их в этом упрекнет, раз мальчики так сладки, так прохладны, так чисты[47] в Сент-Джеймсском лазарете? Нет, сынок, не вводи меня в трупное окоченение. Уважь стареющего хуя... Когда-нибудь и ты превратишься в нудного старого мудозвона... А может, и нет... Уж больно ты похож на бесстыжего босоногого хаусменовского[48] катамита, на окоченевшую шропширскую инженю, таким быстроногим, как ты, перемен не избежать... Только вот убить этих шропширцев просто невозможно... одного так часто вешали, что теперь он сопротивляется, точно гонококк, наполовину кастрированный пенициллином, каждый раз сызнова набирает страшную силу и размножается в геометрической прогрессии... Так что в суде остается лишь голосовать за приемлемое оправдание и положить конец тем гнусным публичным представлениям, за просмотр которых шериф обдерет вас как липку — меньше фунта плоти никак не возьмет.
ШЕРИФ: Да за фунт я с него штаны спущу, братва. Спешите видеть! Ценный научный экспонат, связанный с местонахождением Жизненного Центра. Данный экземпляр достигает девяти дюймов в длину, дамы и господа — заходите и измерьте сами. Всего один фунт — такой же сомнительный, как трехдолларовая бумажка, и вы по крайней мере трижды увидите, как этот малый кончает, — а я никогда не унижусь настолько, чтобы подвергать этой процедуре кастрата, — и сделает он это, сам того не желая. Когда сломается его шея, глядите в оба — данный экземпляр, как пить дать, начнет ритмично вытягиваться по стойке «смирно» и всех вас забрызгает.
Мальчишка стоит на трапе, переминаясь с ноги на ногу:
«Боже мой, чего только не приходится терпеть на этой работенке! Того и гляди, какой-нибудь гнусный старый хрыч возбудится и вспомнит о плотских утехах».
Трап падает, веревка гудит, как ветер в проводах, шея ломается с громким, отчетливым звуком китайского гонга. Мальчишка сам перерезает веревку пружинным ножом и уносится по ярмарочному проспекту вслед за вопящим педиком. Педрила сквозь витрину бросается в кинетоскоп грошового пассажа, где оформляет ухмыляющегося негра. Постепенное затемнение.
(Мэри, Джонни и Марк раскланиваются, на шеях у них веревки. Они не так молоды, как выглядят в Голубом Кино... Вид у них усталый и недовольный.)
Заседание международной конференции психиатров-технологов
Доктор «Пальчики» Шефер, Малыш Лоботомия, встает и устремляет на делегатов холодный голубой поток своего пристального взгляда:
— Джентльмены, нервная система человека может быть сведена к компактному и укороченному позвоночному столбу. Мозг — лобный, центральный и затылочный — должен разделить участь аденоидов, зуба мудрости и аппендикса... Представляю вам свое выдающееся творение: Полностью Обеззабоченного Среднего Американца...
Звучат фанфары: голого американца вносят два чернокожих носильщика, которые с глумливыми усмешками зверски швыряют его на сцену... Человек извивается... Его плоть превращается в густое прозрачное желе, которое улетучивается зеленым туманом, открывая чудовищную черную многоножку. Волны неведомого зловония обрушиваются на аудиторию, обжигая легкие, схватывая желудок...
Шефер ломает руки и всхлипывает:
— Кларенс!! Как ты мог так со мной поступить?? Неблагодарные!! Все до одного неблагодарные!!
Делегаты в ужасе отшатываются и бормочут:
— Боюсь, Шефер зашел слишком далеко...
— А между прочим, я предупреждал...
— Шефер, конечно, малый незаурядный, но...
— Чего не сделаешь ради саморекламы...
— Господа, это омерзительное и во всех отношениях незаконнорожденное дитя извращенного мозга доктора Шефера не должно увидеть света...
— Он таки увидел его, старина, — сказал один из негров-носилыщиков.
— Надо раздавить эту антиамериканскую тварь, — говорит толстый, с лягушачьей мордой, доктор-южанин, налакавшийся кукурузной водки из мейсоновской банки. Он неверной походкой направляется вперед, но останавливается, напуганный внушительными размерами и угрожающим видом многоножки...
— Принесите бензин! — ревет он. — Мы сожжем сукиного сына, как обнаглевшего ниггера!
— Лично я на рожон не лезу, — говорит невозмутимый и проницательный молодой доктор, который тащится под ЛСД-25... — А вот ушлый Окружной Прокурор мог бы...
Затемнение.
— Суд идет!
ОП: Господа присяжные, эти «ученые джентльмены» утверждают, что невинное человеческое существо, которое они столь безответственно убили, превратилось в гигантскую черную многоножку и что их «долгом перед человечеством» является уничтожение этого чудовища, прежде чем оно любыми доступными ему средствами сумеет воспроизвести себе подобных...
Должны ли мы принять это нагромождение собачьего бреда за чистую монету? Должны ли мы клюнуть на эту беспардонную ложь, как на смазанную безымянную задницу? Где же она, эта удивительная многоножка?
«Мы ее уничтожили», — самодовольно заявляют они... А я хотел бы напомнить вам, Джентльмены и Гермафродиты присяжные, что эту Гнусную Скотину, — он указывает на доктора Шефера, — уже не раз вызывали в суд по обвинению в таком отвратительном преступлении, как изнасилование мозга... А если точнее, — он с размаху бьет кулаком по поручню скамьи присяжных, повышая голос до вопля, — если точнее, господа, принудительная лоботомия...
Присяжные в изумлении раскрывают рты... Один умирает от сердечного приступа... Трое падают на пол, корчась в невыносимом оргазме...
ОП театрально вытягивает руку с указующим перстом:
— Вот он... Не кто иной, как он, низвел население целых провинций нашей прекрасной страны до состояния, граничащего с крайней стадией идиотизма... Вот он, тот, кто ряд за рядом, ярус за ярусом заполнил огромные склады беспомощными существами, каждая прихоть которых должна исполняться... «Трутнями» цинично зовет он их, злобно глядя на них плотоядными глазами узкого специалиста... Господа, я взываю к вам: бессмысленное убийство Кларенса Кауи не должно остаться неотмщенным. Это подлое преступление, словно раненый педрила, вопиет по меньшей мере о справедливом воздаянии!
Многоножка в смятении мечется.
— Старина, твой мудозвон проголодался! — орет один из носильщиков.
— Лично я сматываюсь.
Делегатов захлестывает волна электрического ужаса... Вопя и царапаясь, они бросаются к выходу.
Рынок
Панорама Интерзонного Города. Первые такты «Прощания с Восточным Сент-Луисом»... то громкие и отчетливые, то слабые и прерывистые, как музыка в конце продуваемой ветром улицы.
Кажется, комната сотрясается и вибрирует от каждого жеста. Кровь и субстанция многих рас — негров, полинезийцев, горных монголов, кочевников пустыни, полиглотов с Ближнего Востока, индейцев, — рас, пока еще не зачатых и не рожденных, сочетаний, еще не реализованных, проникают сквозь тело. Миграции, невероятные путешествия через пустыни, джунгли и горы (стасис и смерть в закрытых горных долинах, где из гениталий растут деревья, где, взламывая панцирь, появляются на свет громадные ракообразные), через Тихий океан в челноке с выносными уключинами — к острову Пасхи. Причудливый Город, где по огромному безмолвному рынку разбросаны все людские ресурсы.
Минареты, пальмы, горы, джунгли... Вялая река, вздрагивающая от злых рыб, обширные, заросшие сорняками парки, где в траве лежат мальчики, играющие в таинственные игры. В Городе — ни одной закрытой двери. Любой может войти в вашу комнату в любое время. Начальник полиции — китаец, который, ковыряясь в зубах, выслушивает доносы очередного безумца. Время от времени китаец вынимает изо рта зубочистку и разглядывает ее кончик. В дверях, развалясь, сидят увешанные золотыми цепями хипстеры с гладкими лицами цвета меди и вертят усохшими головами, всем своим видом выражая слепое бесстрастие насекомого.
Позади них, за открытыми дверями — столы и кабинки, бары, кухни и бани, совокупляющиеся пары на стоящих рядами медных кроватях, на скрещениях тысячи гамаков, наркоты, перетягивающие руки для укола, курильщики опиума, курильщики гашиша, люди едящие, говорящие и вновь окунающиеся во мглу дыма и пара.
Игорные столы, где делаются невероятные ставки. Время от времени кто-то из игроков вскакивает с криком отчаяния, проиграв старику свою юность или став латахом противника. Но есть ставки и более высокие, чем юность или латах, есть игра, в которой лишь двое в целом мире знают, какова ставка.
Все дома в городе стоят вплотную друг к другу. Дома из дерна — в дымных провалах дверей щурятся высокогорные монголы, — дома из бамбука и тика, дома из самана, камня и красного кирпича, дома тихоокеанского юга и дома маори, дома на деревьях и речных пароходах, деревянные дома в сотню футов д линой, где находят приют целые племена, дома из ящиков и рифленого железа, где сидят, растворяя сухой спирт, старики в прогнивших лохмотьях, из мусора и болот тянутся на двести футов вверх громадные ржавые железные каркасы с опасными ячейками на многоярусных платформах, где раскачиваются над пустотой гамаки.
В неведомые места с неведомыми целями отправляются экспедиции. На плотах из старых упаковочных корзин, связанных гнилой веревкой, приплывают чужестранцы, они шатаясь выходят из джунглей с заплывшими от укусов насекомых глазами, спускаются по горным тропам, еле передвигая потрескавшиеся, кровоточащие ноги, и ковыляют через пыльные, открытые ветрам городские окраины, где люди рядами испражняются вдоль глинобитных стен, а грифы дерутся над их головами. Они спускаются в парки на залатанных парашютах... Пьяный коп ведет их в громадную общественную уборную, чтобы там зарегистрировать. Снятые показания нанизываются на колышки и используются в качестве туалетной бумаги.
Город окутывают кухонные запахи всех стран, дымка опиума и гашиша, красный смолистый дым яхе, запах джунглей и соленой воды, гниющей реки и высохших испражнений, пота и гениталий.
Высокогорные флейты, джаз и би-боп, однострунные монгольские инструменты, цыганские ксилофоны, африканские барабаны, арабские волынки...
Город охватывают эпидемии насилия, и брошенных на произвол судьбы мертвецов пожирают на улицах грифы. Мерцают в солнечных лучах альбиносы. На деревьях, апатично мастурбируя, сидят мальчики. Люди, пожираемые неизвестными болезнями, бросают на прохожего злобные, хитрые взгляды.
На городском рынке есть Кафе Встреч. Хранители устарелых немыслимых ремесел, лопочущие по-этрусски, наркоманы, пристрастившиеся к еще не синтезированным наркотикам, барыги, толкающие убойной силы хармалин — джанк, низведенный до чистой привычки и сулящий нестабильную растительную безмятежность, жидкости, стимулирующие латаха, Титоновы сыворотки долголетия[49]; торговцы с черного рынка Третьей мировой войны, ампутаторы телепатической восприимчивости, остеопаты духа, исследователи нарушений, предрекаемых тихими параноиками-шахматистами, вручатели бессвязных ордеров, заполненных гебефренической стенографией и предписывающих отвратительные увечья души, бюрократы из призрачных министерств, чиновники неконституционных полицейских государств, лесбиянка-карлик, усовершенствовавшая оперирование бангутота — эрекции легких, которая душит спящего врага, — продавцы оргонных[50] резервуаров и расслабляющих механизмов, торговцы изысканными снами и сладостными воспоминаниями, проверенными на имеющих повышенную чувствительность клетках джанковой болезни и полученными в обмен на сырьевые ресурсы воли; врачи, набившие руку на лечении болезней, дремлющих в черной пыли разрушенных городов и накапливающих смертоносность в белой крови безглазых червей, которые неторопливо, ощупью подбираются к поверхности и к человеческому организму-хозяину; болезней океанского дна и стратосферы, болезней лаборатории и атомной войны... Место, где в вибрирующем беззвучном рокотании встречаются неведомое прошлое и внезапно возникающее будущее... Личиночные существа, подстерегающие Богатого Лоха...
(Раздел, изображающий Город и Кафе Встреч, написан в состоянии интоксикации яхе... яхе, айуахуаска, пилде, натима — это индейские названия Баннистерия каапи, быстрорастущей лозы, произрастающей в бассейне Амазонки. Описание яхе см. в Приложении.)
Заметки, написанные под действием яхе: образы падают медленно и бесшумно, как снег... Безмятежность... пали все оборонительные укрепления... все входит и выходит свободно... Страх попросту невозможен... В меня струится прекрасная голубая субстанция... Вижу архаичное ухмыляющееся лицо, напоминающее маску народов южной части Тихого океана... Лицо лилово-синее, с золотистыми бликами...
Комната принимает вид ближневосточного борделя с голубыми стенами и украшенными кисточками красными фонарями... Чувствую, что превращаюсь в негритянку, в мое тело неслышно вторгается черный цвет... Судороги похоти... мои ноги принимают округлую полинезийскую форму... Всё шевелится в корчах тайной жизни... Комната — это Ближний Восток, негритянка, юг Тихого океана, в каком-то знакомом, но неузнаваемом месте... Яхе — это путешествие во времени и в пространстве... Кажется, комната сотрясается и вибрирует от каждого жеста... Кровь и субстанция многих рас — негров, полинезийцев, горных монголов, кочевников пустыни, полиглотов с Ближнего Востока, индейцев, — рас, еще не зачатых и не рожденных, проникают сквозь тело... Миграции, невероятные путешествия через пустыни, джунгли и горы (стасис и смерть в закрытых горных долинах, где из гениталий растут деревья, где, взламывая панцирь, появляются на свет громадные ракообразные), через Тихий океан в челноке с выносными уключинами — к острову Пасхи...
(Мне пришло в голову, что предварительная тошнота от яхе — это морская болезнь перехода в яхевое состояние...)
«Все шаманы используют его в своей практике, чтобы предсказывать будущее, находить украденные предметы, обнаруживать преступника, устанавливать диагноз и лечить болезни». Поскольку индейцы (смирительная рубашка для герра Боаса[51] — профессиональная шутка, — ничто так не бесит антрополога, как Примитивный Человек) ни одну смерть не считают случайной — а они не знакомы со своими собственными саморазрушительными тенденциями, с презрением приписываемыми им как «нашим голым двоюродным братьям», а то и догадываются, что эти тенденции являются, как правило, результатом происков чужой злой воли, — то любая смерть для них есть убийство. Шаман принимает яхе, и ему открывается личность убийцы. Как вы можете себе представить, размышления шамана во время одного из таких дознаний в джунглях вызывает у его доверителей некоторое беспокойство.
— Будем надеяться, что Старик Шиуптутоль не очумеет и назовет кого-нибудь из тех ребят.
— Прими кураре и успокойся. Мы-то ни при чем.
— А вдруг он все-таки очумеет? Все время тащится под этой натимой и ни разу за двадцать лет не опустился на грешную землю... Слушайте, хозяин, эта дрянь к добру не приводит... От нее сохнут мозги...
— Тогда объявим его некомпетентным...
И вот Шиуптутоль выкатывается из джунглей и принимается пенять на ребят с территории Нижнее Тцпино, что никого не удивляет... Поверь старому колдуну, дорогуша, они сюрпризов не любят...
По рынку движется похоронная процессия. Черный гроб — арабские надписи филигранным серебром — несут четыре носильщика. Процессия плакальщиков, поющих похоронную песню... Клем и Джоди присоединяются к несущим гроб, чересчур тесный для лежащего в нем трупа борова... Боров одет в джеллабу, во рту торчит гашишная трубка, в одном из копыт зажата пачка блудострастных картинок, на шее висит мезуза[52]... Надпись на гробе: «Это был благороднейший из арабов».
Они омерзительно пародируют похоронную песню на псевдоарабском языке. Джоди способен убийственно подделывать китайскую речь — точно кукла истеричного чревовещателя. Именно он спровоцировал мятеж против иностранцев в Шанхае, где было, как утверждают официально, 3000 жертв.
— Встань, Герти, окажи почтение здешним недоумкам.
— Сдается мне, они того заслуживают.
— Милый мой, я сейчас работаю над потрясающим изобретением... мальчик, который исчезает, как только ты кончаешь, оставляя при этом запах горящих листьев и звуковой эффект далеких паровозных гудков.
— Занимался когда-нибудь сексом в невесомости? Твоя сперма плавает себе в воздухе, точно живописная эктоплазма, а гости женского пола остаются незапятнанными, по крайней мере в переносном смысле... Есть у меня старый друг, один из красивейших мужчин, каких я когда-либо знал, один из самых безумных и вконец развращенный богатством. В свое время он постоянно носил с собой водяной пистолет и на приемах обстреливал деловых женщин спермой. Шутя выиграл все процессы об отцовстве. Сам понимаешь, он никогда не пользовался собственной спермой.
Затемнение... «Суд идет!» Адвокат Эй-Джея: «Заключительная экспертиза установила, что мой клиент не имеет... э-э... персонального отношения к... э-э... маленькому несчастному случаю с очаровательной истицей... Вероятно, она готовится соперничать с Девой Марией и зачать непорочно, а моего клиента обвинить, хм-хм, в духовном сводничестве... Мне напомнили об одном деле в Голландии пятнадцатого века, там молодая женщина обвинила почтенного пожилого колдуна в том, что он вызвал суккуба, который затем вступил... э-э... в половую связь с вышеупомянутой особой, а это привело к нежелательной в данных обстоятельствах беременности. Поэтому колдуну было предъявлено обвинение как соучастнику и похотливому соглядатаю до, во время и после события. Однако, господа присяжные, мы уже давно не верим в подобные... э-э... легенды, а молодая женщина, относящая свое... э-э... интересное положение на счет ухаживаний суккуба, рассматривалась бы в наши просвещенные времена как романтическая натура или, проще говоря, наглая лгунья, хи-хи-хи...
А теперь — Час Пророка:
«Миллинз погиб на илистых равнинах.
Легкие выдерживают лишь первый порыв ветра.
— Тут нужен глаз да глаз, капитан, — говорит он, выдавливая свои глаза на палубу... А кто вечером бросит якорь? Надо же поостеречься при подходе против ветра, ведь с подветренной стороны ничего похожего на ржавый жопный товар не отыщешь... В этом сезоне в Преисподней в ходу сеньориты, а я уже не в силах подниматься на пульсирующий Везувий чужих хуев».
Есть одно золотое место(рождение), туда ходит Восточный Экспресс, и шахт там видимо-невидимо... Каждый день копаю понемногу, убиваю время...
Фантомы суходрочки возбужденно шепчут в костяное ухо...
Пробей себе путь к свободе.
— Христос? — усмехается озлобленный, педерастичного вида старый Святой, уплетая блинчики из гипсовой миски... — Этот дешевый лицедей! По-вашему, я хоть раз опозорил себя сотворением чуда?!! А ему самое место в балагане...
«Спешите видеть, лопухи и лохи, приводите с собой юных лопушат! Полезно молодым и старым, людям и скотам... Единственный и неповторимый законнорожденный Сын Человеческий одной рукой излечит мальчишку от триппера — только прикоснется, братва, — другой сотворит марихуану, а заодно пройдет по морю аки посуху, пуская из жопы струю вина... Только отойдите подальше, братва, а не то схватите дозу облучения — под наркотой этот тип радиоактивен».
А я-то еще когда его знавал, дорогуша!.. Помню, разыгрывали мы один акт перевоплощения — между прочим, первоклассный — в Содоме, а это грязный такой городишко... Сами знаете, на безрыбье... А этот тип, этот ебучий филистимлянин забрел к нам по дороге от одного заштатного Ваала, а может, и еще откуда, и только вошел, как тут же обозвал меня гнойным пидором. А я ему и говорю: «Я три тысячи лет в шоу-бизнесе и всегда держусь от греха подальше. Да и ни к чему мне выслушивать собачий бред каждого необрезанного хуесоса».
Потом он пришел ко мне в гримерку и принес свои извинения... Оказалось, он — известный целитель. И миловидный паренек...
Будда? Отъявленный метаболический наркоман... Ну, то есть делает собственный джанк, ясно? В Индии, где ни у кого нет чувства времени, Человек частенько опаздывает на месяц... «Ну-ка постойте, это второй сезон дождей или третий? У меня вроде встреча в Кетчупоре или где-то там поблизости».
А все эти джанки знай себе сидят в позе лотоса, харкают на землю и ждут Человека.
Тогда Будда и говорит: «Нет, таких дел я просто не перевариваю. Я, с Божьей помощью, метаболизирую свой собственный джанк».
«Этого делать нельзя, старина. Тебе же налоговое управление прохода не даст».
«Меня они не тронут. Есть один фокус, ясно? С сегодняшнего дня я — злоебучий Святой».
«Господи Иисусе, хозяин, вот это поворот!»
«Нынче некоторые обыватели буквально чумеют, когда варганят Новую Религию. Эти полоумные не знают, с чего и начать. Низкого пошиба людишки... К тому же их наверняка линчуют — кому же понравится, если кто-то возомнит, что он выше всех прочих? «Ты что, парень, хочешь испортить людям жизнь?..» Так что давайте без эмоций, ясно? Без эмоций... У нас есть предложение, а вы, братва, как хотите.
Мы ничего не запихиваем вам в душу, не то что те дешевки, которые так и останутся безымянными, да и где они теперь? А ну-ка очистите пещеру! Я намерен выработать спид-болл и сочинить Огненную проповедь».
Магомет? Вы что, издеваетесь? Его выдумала Торговая Палата Мекки. Один спившийся египетский рекламный агент сочиняет сценарий.
«У меня есть еще кое-что, Гас. Потом, да будет на то воля Аллаха, я пойду домой приобщаться к новой Суре... Вот увидишь, утренний выпуск камня на камне не оставит от всей этой пьяни. Эх, с каким треском лопнут у меня «Объединенные Идолы»!
Бармен отрывается от программки скачек: «Ага, и их постигнет мучительная гибель».
«А... э-э... Именно. Ну ладно, Гас, выпишу тебе чек».
«Ты всего лишь самый знаменитый в Большой Мекке расклейщик бумаг. А я тебе не стена, мистер Магомет».
«Ну что ж, Гас, тебе известно, что у меня вроде как два вида рекламы — лестная и наоборот. Ты что, хочешь наоборот? Мне придется приобщиться к Суре насчет барменов, которые не дают в кредит нуждающимся».
«И их постигнет мучительная гибель. Занудовская Аравия! — Он перепрыгивает через стойку бара. — Все, Ахмед, больше ничего слушать не желаю. Забирай свои Суры и проваливай. Тебе же лучше будет. И держись отсюда подальше».
«Да я тебе всю вывеску разукрашу, хуесос неверный! Я заткну тебя крепко и насухо, как жопу наркота. Да будет на то воля Аллаха, я иссушу весь полуостров».
«Это же материк...
Болтовню Конфуция оставьте для Малышки Одри[53] и и для глупых пуделей. Лао-Цзы? Его и вовсе вычеркнули из списка... Надоели все эти сентиментальные святые с их жалобно-испуганным видом — точно их ебут в жопу, а они стараются этого не замечать. И потом, с какой стати мы должны позволять каждому занюханному старому актеришке учить нас всяким премудростям? «Я три тысячи лет в шоу-бизнесе и всегда держусь от греха подальше...»
Во-первых, каждый Факт отправляется за решетку вместе с проститутками мужского пола и теми, кто оскверняет богов коммерции и заключает сделки на улицах, и все же некий старый седовласый мудозвон ковыляет на улицу, дабы поделиться с нами своим законченным идиотизмом. Неужели мы никогда не избавимся от этого седобородого бездельника, который скрывается на каждой вершине Тибета, влачит свою жалкую жизнь в хижине на Амазонке и не дает никому прохода в нью-йоркских трущобах? «Я ждал тебя, сын мой, — и он выдает полный набор банальностей. — Жизнь — это школа, где каждый ученик должен выучить свой урок. А теперь я отомкну свою словесную сокровищницу...
«Мне от этого и впрямь не по себе». «Да, это стихийное бедствие не остановишь».
«Не могу остановить его, ребята. Спасайся кто может!»
«Слушай, уходя от этого умника, я даже не чувствую себя человеком. Мои живительные оргоны он превращает в тухлое бычье дерьмо».
Раз мне предоставлено исключительное право, почему же я не выдаю живого слова? Слово нельзя выразить прямо... Его можно, вероятно, в общих чертах наметить мозаикой сопоставлений, подобной набору предметов, забытых в ящике гостиничного комода, предметов, определяемых отрицанием и отсутствием...
— Думаю сделать желудочную складку... Может, я и стар, но еще желанен».
(Желудочная складка — это результат хирургического вмешательства с целью устранения желудочного жира и одновременно устройства складки в абдоминальной стенке, в результате чего образуется телесный корсет, подверженный, однако, различного рода деформациям, из-за которых ваши отвратительные старые кишки могут вывалиться на пол... Наиболее опасны, разумеется, худые и стройные модели ТК.
И в самом деле, некоторые последние модели известны в отрасли как ЕПП — Единственное Представление Проездом.
Доктор «Чума» Скотт заявляет без обиняков: «Постель — это самое опасное место для человека с ТК».
Музыкальная тема в рекламе ТК: «Верь мне и люби — я молод и прекрасен». Партнер с ТК и вправду может «уплыть из объятий, как зыбкие фей дары».)
В залитом солнцем белом музейном зале — розовые обнаженные статуи в шестьдесят футов высотой. Непрерывное юношеское бормотание.
Серебристые поручни... бездна в тысячу футов глубиной в лучах яркого солнца. Маленькие зеленые делянки капусты и салата. Смуглые юноши с мотыгами, за юношами с другого берега оросительного канала поглядывает старый гомик.
— Ах, неужели они удобряют человеческими испражнениями?.. Быть может, они это сделают прямо сейчас.
Он торопливо подносит к глазам перламутровый театральный бинокль — ацтекская мозаика в солнечных лучах.
Длинная колонна юных греков марширует с гипсовыми кубками, полными дерьма, они опорожняют кубки в известняковую мергельную яму.
На краснокирпичной Пласа де Торос послеполуденный ветер колышет ветви пыльных тополей.
Деревянные кабинки вокруг горячего источника... обломки разрушенных стен в тополиной роще... скамейки, гладко, как металл, истертые миллионами мастурбирующих мальчиков.
Юные греки, белые как мрамор, ебутся по-собачьи на портике большого золотистого храма... голый Отщепенец перебирает струны лютни.
Шагая в красном свитере по шпалам, он встретил Сэмми, сына Владельца Верфи, с двумя мексиканцами.
— Эй, Тощий, — сказал он, — хочешь, отдрючу?
— Ну... Да.
Мексиканец затолкнул его на ветхий соломенный тюфяк и поставил на четвереньки — вокруг танцует в ритме их движений чернокожий мальчик... розовое солнце высвечивает его член сквозь отверстие, оставленное в доске выпавшим сучком.
Пустыня голого розового стыда до пастельно-голубого горизонта, где громадные железные столовые горы врезаются в расколотое небо.
«Все хорошо!» — Сам Бог велит вам щеголять трехтысячелетним ржавым товаром...
Град хрустальных черепов вдребезги разбил теплицу в зимнем лунном свете...
После американской женщины на пронизывающе сыром сент-луисском приеме в саду остался слабый запах яда.
Пруд, затянутый зеленой ряской, в запущенном французском саду. Нелепая гигантская лягушка медленно поднимается из воды на сцену из ила и начинает играть на клавикордах.
В бар врывается соллаби и принимается чистить башмаки Святого жиром своего носа... Святой раздраженно пинает его в рот ногой. Соллаби вопит, поворачивается и срет на брюки Святого. Потом бросается на улицу. Вслед ему задумчиво глядит сутенер...
Святой зовет хозяина:
— Боже мой, Эл, что за гадюшник ты тут держишь? Мои новенькие брюки из рыбьей кожи...
— Извини, Святой. Сам не пойму, как это он мимо меня проскользнул.
(Соллаби — это каста неприкасаемых в Аравии, члены которой знамениты своей постыдной низостью. В роскошных кафе всегда имеются соллаби, которые оформляют гостей, пока те едят, — для этого предусмотрены специальные отверстия в скамьях. Обыватели, которые желают уронить свое достоинство и окончательно деградировать — а столь многие желают этого в наше время, надеясь хоть что-то урвать от жизни, — предлагают себя для пассивного гомосексуального совокупления в лагере соллаби... Ничто с этим не сравнится, рассказывают они мне... Однако в конце концов соллаби становятся богатыми и высокомерными и утрачивают присущую им низость. Каково происхождение неприкасаемых? Вероятно, каста падших священников. И действительно, неприкасаемые, беря на себя всю людскую низость, выполняют функцию, присущую духовному лицу.)
Эй-Джей бродит по Рынку в черной накидке, с грифом на плече. Он останавливается у прилавка агентов.
— Ну-ка послушайте. В Лос-Анджелесе есть паренек, пятнадцать лет. Отец решает, что мальчику уже пора поиметь его первый кусок жопы. Паренек лежит на лужайке, читает книжки комиксов, а папаша выходит из дома и говорит:
«Сынок, вот тебе двадцать долларов. Я хочу, чтобы ты пошел к хорошей шлюхе и получил с нее кусок жопы».
Короче, подъезжают они к одному плюшевому бардаку, и папаша говорит: «Ну вот, сынок, теперь дело за тобой. Позвони в дверь, а когда выйдет женщина, дай ей двадцать долларов и скажи, что хочешь кусок жопы».
«Железно, пап».
Короче, минут через пятнадцать паренек выходит.
«Ну что, сынок, получил кусок жопы?»
«Ага. Эта манда открывает дверь, а я говорю, хочу, мол, кусок жопы, и сую ей двадцатку. Приходим мы наверх в ее курятник, она стаскивает с себя всё тряпье, ну а я щелкаю ножом и отрезаю от ее жопы большущий жирный кусок, после чего она поднимает дикий скулёж. Тут уж я озверел, снял башмак и отметелил ее до полусмерти. Ну а потом я забавы ради ее натянул».
Остаются лишь смеющиеся кости, плоть — за тридевять земель, вместе с рассветным ветром и паровозным гудком. Существование данной проблемы не застало нас врасплох, и потребности наших избирателей никогда не выходят у нас из головы, поселившись там навсегда, да и кто может расторгнуть договор об аренде синапсов, заключенный на девяносто девять лет?
Новая глава из приключении Клема Снайда, Частного Засранца:
— Захожу я, значит, в притон, а в баре сидит одна шлюха женского пола, вот я и думаю: «Боже мой, да ты стала прямо поль де люкс». Я к тому, что вроде бы где-то эту манду уже видел. Так вот, сперва я на нее ноль внимания, потом гляжу, она сводит ноги вместе, задирает их за голову и принимается запихивать в себя собственные сопли да козявки, подмывается то есть, так что тело при этом только присутствует.
Айрис — наполовину китаянка, наполовину негритянка — пристрастилась к дигидрооксигероину, она делает себе укол каждые пятнадцать минут, к концу которых на ней повсюду торчат пипетки и иглы. Иглы ржавеют в ее высохшей плоти, которая кое-где накрепко срослась с суставом, образовав плоский буро-зеленый жировик. Перед ней на столе стоит самовар с чаем и двадцатифунтовая корзина бурого сахара. Никто никогда не видел, чтобы она питалась чем-нибудь еще. Только перед самым уколом она слышит, как кто-нибудь ей что-то говорит, или говорит сама. В этом случае она попросту излагает скучные факты, имеющие отношение к ее собственной персоне.
— У меня жопа закупоривается.
— У меня в пизде жуткие зеленые выделения.
Айрис — одна из научных разработок Бенвея. «Человеческий организм может существовать на одном сахаре, черт возьми... Насколько мне известно, кое-кто из моих ученых коллег, которые пытаются преуменьшить значение моего гениального труда, утверждает, что я тайно подмешиваю в сахар Айрис витамины и белки... Я бросаю вызов этим безымянным задницам, пускай выползут из своих гальюнов и сделают выборочный анализ сахара Айрис и ее чая. Айрис — это здоровая американская пизда. Я категорически отрицаю, что она питается спермой. И позвольте мне, пользуясь случаем, заявить, что я почтенный ученый, не шарлатан, не безумец и отнюдь не разыгрываю из себя чудотворца... Я никогда не утверждал, что Айрис может существовать исключительно на фотосинтезе... Я не говорил, что она способна дышать углекислым газом и выдыхать кислород, — признаю, было искушение провести эксперимент, но меня, разумеется, удержала этика медицины... Короче, гнусная клевета моих бездарных оппонентов неизбежно обернется против них самих — отольются этим гнусным стукачам слезы честного ученого».
Заурядные мужчины и женщины
Официальный завтрак Националистической партии на балконе, выходящем на Рынок. Сигары, шотландское виски, деликатная отрыжка... Партийный Лидер расхаживает в джеллабе, курит сигару и пьет виски. На нем дорогие английские ботинки, кричащие носки, подвязки — ни дать ни взять вырядившийся бабой преуспевающий гангстер с мускулистыми волосатыми ногами.
ПЛ (делая театральный указующий жест): Взгляните туда. Что вы видите?
ЗАМЕСТИТЕЛЬ: А? Я вижу Рынок, а что?
ПЛ: Нет. Вы видите мужчин и женщин. Заурядных мужчин и женщин, снующих туда-сюда, с их заурядными повседневными заботами. Ведущих заурядную жизнь. Что нам и требуется...
Через балконные перила перелезает уличный мальчишка.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ: Нет, никаких использованных презервативов мы не покупаем! Проваливай!
ПЛ: Подождите!.. Входи, мой мальчик. Садись... Сигару... Виски.
Он ходит вокруг мальчишки, точно возбужденный кот.
— Что ты думаешь о французах?
— А?
— О французах. О тех ублюдках колонизаторах, которые высасывают из тебя жизненные корпускулы.
— Слушайте, мистер. Отсосать мою корпускулу стоит двести франков. Не снижаю цены с года чумы рогатого скота, когда перемерли все, даже скандинавы.
ПЛ: Видали? Вот вам свеженький уличный мальчишка в чистом виде.
— У вас просто нюх на них, хозяин.
— Военная разведка не дремлет.
ПЛ: Слушай-ка, малыш, давай поставим вопрос таким образом. Французы лишили тебя права первородства.
— Это что, вроде Кредитной Кассы?.. У них этим занимается один беззубый евнух-египтянин. Они себе думают, будто он вызывает меньше враждебности, усекли? А он всякий раз спускает штаны и жалуется на судьбу: «Нынче я всего лишь бедный старый кастрат, мадам, и как бы ни старался, не в силах следовать своим привычкам. Я бы рад продлить срок аренды этой вашей искусственной почки, но поймите, это же моя работа... Отключайте, ребята. — Он демонстрирует десны в слабом рычании... — Не зря же меня прозвали Нелли-Изыматель».
Короче, отключают они мою родную мамашу, святую старую манду, она раздувается и чернеет, и вся, сука, насквозь провоняла мочой. Соседи жалуются в Отдел здравоохранения, а папаша говорит: «Такова воля Аллаха. Теперь уж ей моих доходов в сортир не выссать».
И вообще, больных людей я на дух не переношу. Когда какой-нибудь тип начинает рассказывать про свой рак простаты или про гниющую перегородку с гнойными выделениями, я ему говорю: «По-твоему, я так и рвусь выслушивать бредни про твою застарелую гнусную хворь? И вовсе я не рвусь».
ПЛ: Ну ладно. Довольно... Ты ведь ненавидишь французов, верно?
— Мистер, я ненавижу всех. Доктор Бенвей говорит, что это обмен веществ. Такой у меня состав крови... Он у арабов и у американцев особый... Доктор Бенвей и сам стряпает эту сыворотку.
ПЛ: Бенвей — это тайный агент Запада.
ЗАМ 1: Бешеный французский еврей...
ЗАМ 2: Боров мудацкий, черножопый коммунист и еврейский ниггер.
ПЛ: Заткнись, болван!
ЗАМ 2: Простите, шеф. Я довольно долго прослужил в Пиджин-Хоуле.
ПЛ: Держись подальше от Бенвея. (В сторону: «Интересно, дойдет ли? Как знать, насколько они примитивны...») Скажу по секрету, он — черный маг.
ЗАМ 1: При нем всегда находится джинн.
— Ага... Ну ладно, у меня свидание с шикарным американским клиентом. Правда, классный малый.
ПЛ: Разве тебе не известно, что продавать свою жопу каждому неверному заграничному хую — это страшный позор?
— Ну, это как посмотреть. Желаю повеселиться.
ПЛ: Более того. — Мальчишка уходит. — Они безнадежны, я вам говорю. Безнадежны.
ЗАМ 1: А что это за сыворотка?
ПЛ: Не знаю, но звучит зловеще. Хорошо бы применить против Бенвея телепатический пеленгатор. Этому человеку нельзя доверять. Способен на всё... Резню превращает в сексуальную оргию...
— Или в шутку.
— Вот именно. Типичный эстетствующий дилетант... Никаких принципов...
АМЕРИКАНСКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА (открывая коробку стирального порошка «Лакс»): И почему это в ней нет электрического глаза? А то коробка открывалась бы, когда меня увидит, и вручалась Автоматическому Подручному, а тот уж бросал бы все в воду... Подручный в четверг вышел из строя, его потянуло ко мне как к женщине, а я вовсе не закладывала этого в его программу... К тому же Мусоросборник кусается, а мерзкий старый Миксер-Универсал так и норовит залезть мне под юбку... Я ужасно простужена, а кишки мои страдают запором... Надо ввести в Подручного новую программу — пускай наконец даст мне сильное слабительное.
КОММИВОЯЖЕР (он — нечто среднее между агрессивным латахом и робким сендером): Помню, ездил я с К. Е., известнейшим генератором идей в отрасли бытовых приборов.
— Только подумай! — рычит он. — Молочный сепаратор в твоей собственной кухне!
— Да у меня голова кругом при одной мысли об этом, К. Е.
— Лет через пять, десять, а может, и двадцать... Но это будет.
— Я буду ждать, К. Е. Буду ждать столько, сколько понадобится. Когда начнется перекличка, я буду тут как тут.
Именно К. Е. разработал для массажных кабинетов, парикмахерских и турецких бань комплект «Спрут», с помощью которого можно получить сильное слабительное, фривольный массаж и шампунь; а заодно «Спрут» стрижет клиенту ногти на ногах и удаляет угри. А вот медицинский комплект «Будет сделано» для загруженных практикой врачей удалит вам аппендикс, вправит грыжу, вырвет зуб мудрости, вырежет геморрой и сделает обрезание. Да, К. Е. — такой атомный коммивояжер, что при нехватке «Спрутов» он на одном радиоактивном обаянии навязывает парикмахеру «Будет сделано», и тогда клиент очухивается с отрезанным геморроем...
— Боже мой, Гомер, что за гадюшник ты тут держишь? Меня же выебала целая банда.
— Ох, силы земные, Сай, я всего лишь хотел в честь Дня Благодарения угостить тебя нашим сильным слабительным. Никак К. Е. опять всучил мне не тот комплект...
ШЛЮХА-САМЕЦ: «Чего только не приходится терпеть на этой работенке! Боже мой! Ты не поверишь, какие гнусности мне предлагали... Меня хотят сделать латахом, хотят слиться с моей протоплазмой, хотят настругать моих копий, хотят высосать мои оргоны и овладеть всем моим жизненным опытом, а мне оставить лишь память о далеком прошлом, которое внушает мне отвращение...
Ебусь я с этим типом и думаю: «Наконец-то клиент без отклонений», — но только он доходит до оргазма, как превращается в жуткого краба... Я ему и говорю: «Слушай, я твои выкрутасы терпеть не намерен... Отправляйся промышлять в «Уолгринз». Есть же низкого пошиба людишки! А еще один гнусный субъект, так тот вообще только сидит, телепатирует да спускает сливки в свое тряпье. Просто омерзительно».
Бродяги в полном беспорядке отступают к краю советской системы, где казаки под дикие вопли волынок вешают партизан, а мальчишки маршируют по Пятой авеню и встречают Джимми Счастливчика с ключами от Королевства, которые он получил без всяких условий — носи себе в кармане, сколько захочешь...
Отчего так побледнел и осунулся, шельмец белокурый? Дохлыми пиявками из ржавой жестянки навсегда пропахла та открытая рана, они высасывают тело, и кровь, и кости Иисууууса, оставляя его парализованным ниже пояса.
Брось, сынок, отдай программку, пускай пари заключает твой сладкий папик, он сдал экзамен на три года раньше и как свои пять пальцев знает исход мировой бейсбольной серии.
Торговцы выкидышами исподтишка наблюдают за родовыми муками беременной коровы. Фермер провозглашает куваду[54] и с воплями катается в бычьем дерьме. Ветеринар сражается с коровьим скелетом. Торговцы обстреливают друг друга из пулеметов, петляя средь машин, силосных ям, закромов, сеновалов и яслей громадного красного коровника. Родился теленок. Утро растворяет в себе силы смерти. Исполненный благоговения фермерский мальчик преклоняет колена — его горло пульсирует в лучах восходящего солнца.
На ступенях здания суда сидят в ожидании Человека наркоты. Неотесанные южане в черных стетсонах и вытертых джинсах привязывают к старому железному фонарному столбу негритянского мальчика, окатывают его бензином и поджигают... Наркоты торопливо собираются вокруг и жадно вдыхают своими больными легкими дым горящей плоти... Им и впрямь становится легче...
ОКРУЖНОЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ: Там я и сидел, напротив лавки старого Джеда в Пизд-Лизе, доходяга мой под джинсами встал прямо, что твоя сосна, так и бьется пульсом на солнышке... Да-а-а, так вот, мимо идет старый Док Скрэнтон, тоже хороший старикан, во всей долине парня лучше, чем Док Скрэнтон, не сыщешь. У него выпадение прямой кишки, и когда он хочет, чтоб его отдрючили, то так и ходит мимо вас с кишкой в трех футах от жопы... Если у него это самое на уме, он может из своего кабинета зашвырнуть кишку прямо к Пивной Роя, а та уж тычется во все стороны, ищет доходягу, ну точно слепой червяк... Короче, видит старый Док Скрэнтон моего доходягу, делает стойку, как пес, и говорит мне: «С такого расстояния, Люк, я твой пульс не нащупаю».
Браубек и Молодой Сьюард дерутся ножами для кастрации боровов среди коровников, клеток и повизгивающей псарни... обнажают огромные желтые зубы тихо ржущие лошади, мычат коровы, воют собаки, вопят, как грудные дети, спаривающиеся коты, загон с громадными боровами — хребты поднялись дыбом, боровы издевательски улюлюкают. Браубек Нетвердый, пав от меча Молодого Сьюарда, стискивает в руках синие кишки, струящиеся из восьмидюймовой раны. Молодой Сьюард отрезает и сжимает в руке член Браубека, пульсирующий на туманной розовой заре..
Браубек пронзительно кричит... Тормоза подземки исторгают озон...
— Отойдите, братва... Отойдите.
— Говорят, кто-то его толкнул.
— Он плелся как-то нетвердо, точно плохо видел.
— Сдается мне, ему попросту дым в глаза лез.
Мэри, Гувернантка-Лесбиянка, поскользнулась в пивной на окровавленном котексе... С идиотским радостным ржанием ее затаптывает до смерти трехсотфунтовый педрила... Он поет отвратительным фальцетом:
Где вино из гроздьев гнева выжимает он ногами, Меч, как молния, ужасный там расправится с врагами.[55]Он обнажает позолоченный деревянный меч и принимается рубить воздух. Его корсет со свистом летит в мишень для дротиков.
Старый матадорский меч гнется, врезавшись в кость, и со свистом отлетает в сердце Эспонтаньо, пригвоздив к трибунам его нереализованную доблесть.
— И вот из Пизд-Лиза, штат Техас, приезжает в Нью-Йорк один моднючий педрила, самый дерьмовый щеголь из всех педерастов. А содержат его старухи того сорта, что помешаны на молодых педиках, беззубые старые хищницы, слишком слабые и слишком медлительные, чтобы справиться с другой добычей. Всем дряхлым, изъеденным молью дерьмовым тигрицам только и остается, что стать пожирательницами педиков... Ну а тип этот был себе на уме, к тому же для педрилы довольно мастеровитый, вот он и начинает делать драгоценные украшения и ювелирные гарнитуры. Каждой богатой старой манде в Большом Нью-Йорке хочется, чтобы гарнитур ей смастерил именно он, и он зашибает деньги — Эль-Марокко, Сторк, 21[56], — вот только сексом заниматься некогда, и он все время трясется за свою репутацию... Он начинает играть на скачках, полагая, что в азартных играх есть нечто мужественное, Бог знает почему — по его расчетам, если его увидят на ипподроме, то сразу зауважают. Мало кто из педиков играет на скачках, а те, что играют, проигрывают больше всех прочих, игроки из них никуда не годные: попав в полосу неудач, они азартно влезают в долги, а когда выигрывают — трусят рисковать... они и в жизни такие... Нынче каждый ребенок знает единственный закон азартной игры: выигрыши и проигрыши идут полосами. Будь азартен, если выигрываешь, и не лезь в игру, если проигрываешь.
(Я знавал одного педрилу, так тот запустил руку в кассу и, чтоб не угодить в Синг-Синг[57], должен был выиграть ни больше ни меньше как две тысячи. Не то что наш Герти... Для него и двушник-то деньги...)
И вот он проигрывает, проигрывает и снова проигрывает. Как-то раз он уже собирается вставить камень в оправу, но тут происходит то, чего и следовало ожидать. «Конечно, я его потом заменю». Знаменитые предсмертные слова. Так что в ту зиму бриллианты, изумруды, жемчуга, рубины и звездчатые сапфиры высшего общества один за другим отправляются под залог и подменяются искусными подделками...
А на премьеру в «Метрополитен» одна старая карга, считая себя неотразимой, заявляется в бриллиантовой тиаре. Тут подходит к ней другая старая шлюха и говорит: «Ах, Мигглз, как ты умна... оставить настоящие дома... Мы и впрямь сошли с ума, нельзя же то и дело испытывать судьбу».
«Ты ошибаешься, дорогая, это и есть настоящие».
«Ах, Мигглз, ну что ты, милочка... Можешь спросить своего ювелира... Да кого угодно спроси. Ха-а-а-ааа!»
И вот наскоро созывается шабаш. (Люси Брэдшинкель, взгляни на свои изумруды.) Все эти старые ведьмы разглядывают камни, как прокаженный — собственное тело.
«Мой рубин цвета цыплячьей крови!»
«Мои чегные упалы!» — Старая сука так много раз была замужем за всякими подонками и мудозвонами, что ее акцент уже не отличишь от пердежа...
«Мой звездчатый сапфир! — визжит поль де люкс. — Ах, всё это так ужасно!»
«Да это же все дешевка прямо от «Вулворта»[58]
«Остается только одно. Я вызываю полицию», — заявляет прямодушная эмансипированная старушенция; и, тяжело ступая по полу на своих низких каблуках, она идет звонить легавым.
Вот и схлопотал педрила свой двушник. В камере он знакомится с неким котом породы дешевых шлюх, и вырисовывается любовь или по крайней мере факсимиле таковой, к взаимному удовольствию убедительное для обеих сторон. Выпускают их почти одновременно, как по заказу, и они селятся в одной квартире в Нижнем Ист-Сайде... И прекрасно уживаются друг с другом, и оба имеют законную благопристойную работу... Так Брэд с Джимом впервые познают счастье.
Вмешиваются силы зла... Люси Брэдшинкель пришла сказать, что все простила. Она верит Брэду и хочет пристроить его в одну студию. Разумеется, ему придется переехать на Восточные Шестидесятые... «Здесь же невозможно жить, милый. А твой друг...» Надежные дружки хотят, чтобы Джим снова начал водить автомобиль. Это ведь явно шаг наверх. Предложение от типов, которые его и в глаза не видели.
Вернется ли Джим к преступности? Уступит ли Брэд ласковым уговорам престарелой вампирши, этой ненасытной утробы?.. Нечего и говорить, что силы зла обращены в бегство и удаляются, угрожающе ворча:
«Хозяину это не понравится. Не пойму, зачем я вообще когда-то теряла с тобой время, дешевый вульгарный педерастишка».
Мальчики, обнявшись, стоят у окна своего семейного гнездышка и смотрят на Бруклинский мост. Теплый весенний ветерок ерошит черные кудри Джима и прелестные, крашенные хной волосы Брэда.
«Ну, Брэд, что у нас на ужин?»
«Иди-ка в ту комнату и подожди». — Он игриво, пинком, выпроваживает Джима из кухни и надевает свой фартук.
На ужин подается saignant[59] из пизды Люси Брэдшинкель, приготовленное в papillon[60] из котекса. Парни с аппетитом едят, глядя друг другу в глаза. По их подбородкам стекает кровь.
Пускай пламенеет на том конце города голубая заря... За домами вырублены сады, и зольники не в силах скрыть упрятанных в них мертвецов...
— Не подскажете дорогу в Типперери, мадам?[61]
За тридевять земель, туда, где Голубая Трава... Через костяную муку лужайки к скованному льдом пруду, где застывшая золотая рыбка дожидается весеннего Рыбака...
Пронзительно кричащий череп катится вверх по ступенькам черного хода, чтобы откупить член у мужа-греховодника, который, угрюмо пользуясь тем, что у жены болит ухо, делает то, о чем и говорить-то неловко. Сухопутный морячок облачается в зюйдвестку и под душем до смерти избивает жену...
БЕНВЕЙ: Не принимай этого так близко к сердцу, малыш... «Jeder macht eine kleine Dummheit». (От глупых ошибок никто не застрахован.)
ШЕФЕР: Я же говорю: не могу избавиться от чувства, что в этом есть нечто... гнусное, что ли.
БЕНВЕЙ: Вздор, мой мальчик... мы же ученые... Чистые ученые. Беспристрастные исследования, и пусть будет проклят тот, кто крикнет: «Стойте, это перебор!» Подобные людишки ничем не лучше партийных простофиль.
ШЕФЕР: Да-да, конечно... и все же... не могу продышаться от того зловония...
БЕНВЕЙ (раздраженно): И никто из нас не может... Не припомню ничего даже отдаленно напоминающего ту вонь... Так на чем я остановился? Ах да, что будет в результате приема кураре плюс железное легкое при остром маниакальном синдроме? Вероятно, объект, не способный снять напряжение двигательной активностью, умрет на месте, как крыса джунглей. Интересная причина смерти, а?
Шефер не слушает.
— Знаешь, — импульсивно говорит он, — я думаю вернуться к заурядной допотопной хирургии. Человеческое тело вопиюще неэффективно. Почему бы вместо рта и заднего прохода, которые то и дело выходят из строя, не пробуравить одну дыру на все случаи жизни — чтобы и есть, и очищать организм? Мы могли бы закупорить нос и рот, заткнуть желудок и провести вентиляционное отверстие прямо в легкие, где ему, кстати, и место...
БЕНВЕЙ: Одна универсальная дыра? Я не рассказывал тебе о парне, который научил свою жопу говорить? Вся его брюшная полость то поднималась, то опускалась и при этом, ты не поверишь, выпердывала слова. Отродясь подобного звука не слыхивал.
Этот жопный разговор шел на некой кишечной частоте. И колебания были направлены прямо вниз — такое чувство, как будто вот-вот взлетишь. Знаешь, бывает, подопрет тебя толстая кишка, внутри чувствуется какой-то холодок, и остается лишь дать ей волю? Вот и разговор этот шел прямо вниз — булькающий, невнятный, застоявшийся звук, звук, который пахнет.
Надо тебе сказать, что парень этот работал в балагане и началось все как новинка в выступлении чревовещателя. Поначалу было очень смешно. У него был номер, который он назвал «Главная дыра», и это, прямо скажу, была умора. Я уже почти все забыл, помню только, что сделано это было талантливо. Нечто вроде «Эй, как ты там, внизу, старушенция?»
«Да вот, только что облегчилась».
Через некоторое время жопа начала говорить сама по себе. Он выходил на сцену, ничего не подготовив, а жопа порола отсебятину и неизменно парировала все его шуточки.
Потом в ней появилось нечто вроде зубоподобных, загнутых внутрь режущих крючков, и она начала есть. Сначала он решил, что это не лишено остроумия, и сделал на этом номер, но жопа принялась проедать штаны и орать на улице, во весь голос требуя равноправия. Вдобавок она напивалась и закатывала пьяные истерики: никто, мол, ее не любит, а она хочет, чтобы ее целовали, как всякий прочий рот. В конце концов она стала болтать непрестанно, день и ночь, за несколько кварталов было слышно, как этот малый вопит, чтоб она заткнулась, он лупил ее кулаком, затыкал свечами, но ничего не помогало, и однажды жопа сказала ему: «Кончится тем, что заткнешься ты. Не я. Потому что нам ты больше не нужен. Я сама могу и говорить, и есть, и срать».
Вскоре, просыпаясь, он начал обнаруживать, что рот его залеплен прозрачным, как хвост головастика, желе. Это желе было тем, что ученые называют Не-ДТ, Недифференцированной Тканью, способной врастать в человеческую плоть любого вида. Он срывал ее со рта, а обрывки прилипали к рукам, как желе из горящего бензина, и росли там, росли на нем всюду, куда попадал хоть катышек. И вот наконец рот его полностью закупорился и самопроизвольно отнялась вся голова (тебе известно, что в некоторых частях Африки, и только среди негров, встречается болезнь, при которой самопроизвольно отнимается мизинец ноги?) — правда, кроме глаз. То есть единственное, чего не могла делать жопа, так это видеть. Она нуждалась в глазах. Однако нервные связи были блокированы, инфильтрованы и атрофированы, так что мозг больше не мог отдавать приказания. Он был заперт в черепе-ловушке, герметически закрыт. Какое-то время в глазах еще можно было увидеть немое, беспомощное страдание мозга, и наконец мозг, вероятно, умер, потому что глаза погасли, и чувства в них осталось не больше, чем в глазках краба на кончиках стерженьков.
Именно секс минует цензора, протискивается между комитетами и бюро, поскольку всегда есть пространство между — в популярных песенках и второразрядных кинофильмах, — он разоблачает всю гниль Америки, бьет струёй, как из лопающихся фурункулов, разбрасывает катышки той же Не-ДТ, которые падают повсюду и вырастают в некую дегенеративную раковую жизненную форму, воспроизводя отвратительные беспорядочные образы. Одни целиком созданы из пенисообразной, склонной к эрекции ткани, другие — внутренности, едва прикрытые кожей, гроздья из трех-четырех глаз, скрещение ртов и жоп — человеческие органы, дрожащие и растекающиеся во все стороны, где бы они ни упали.
Конечным результатом полного замещения клеток является рак. Демократия канцерогенна, а бюро — ее раковые опухоли. В государстве бюро повсюду пускает корни, становится злокачественным, как Бюро по борьбе с наркотиками, и растет, растет, непрерывно воспроизводя все больше особей своего вида, пока не задушит организм, его питающий, если, конечно, не контролировать бюро или его не удалить. Являясь истинно паразитическими организмами, бюро не могут жить без «хозяина». (Кооператив, с другой стороны, может жить без государства. Этим путем и надо следовать: создавать независимые объединения, идущие навстречу потребностям людей, которые сами участвуют в деятельности объединения. Бюро же, дабы оправдать свое существование, действует на противоположной основе — основе изобретения потребностей.)
Бюрократия — такое же зло, как и раковая опухоль, поворот в сторону от эволюционного направления неограниченных человеческих возможностей, от дифференциации и независимых самопроизвольных действий к полному паразитизму вируса.
(Принято считать, что вирус образуется при вырождении более сложных жизненных форм. Некогда он мог обладать способностью к независимой жизни. Ныне — опустился на пограничную линию между живой и мертвой материей. Свойства живого существа он способен демонстрировать лишь в организме хозяина, используя чужую жизнь, — отказ от жизни как таковой, деградация до состояния жесткой неорганической машины, мертвой материи.)
Бюро погибают, когда рушится структура государства. Они так же беспомощны и не приспособлены к независимому существованию, как выгнанный солитер или вирус, который убил хозяина.
Однажды в Тимбукту я видел арабского мальчика, который умел жопой играть на флейте, и педики уверяли меня, что он совершенно неподражаем в постели. Он мог сыграть мелодию во всем диапазоне органа, достигая самых чувствительных эрогенных зон, у всех, разумеется, разных. У каждого любовника была своя особая, идеальная для него музыкальная тема, доводившая его до оргазма. Когда дело касалось усовершенствования новых гармоний и неповторимых оргазмов, этот малый становился великим артистом — некоторые из нот где-то в неведомом, сочетания мнимых диссонансов, которые внезапно прорывались один сквозь другой и обрушивались единым оглушительным, жарким и сладким ударом.
«Толстяк» Терминал собрал из мотоциклов и оживил лиловозадого пьянчугу-бабуина.
Охотники собрались на Охотничий Завтрак в «Болотном Баре», любимом месте сборищ моднючих гомиков. Преисполненные имбецильного нарциссизма, Охотники расхаживают в черных кожаных куртках с ремнями на заклепках, поигрывая мышцами и предлагая педикам их пощупать. Все они носят громадные накладные яйца. Время от времени кто-нибудь из них валит педика на пол и ссыт на него.
Они пьют «Пунш Победы», составленный из опийной настойки, шпанской мушки, крепкого черного рома, бренди «Наполеон» и сухого спирта. Пунш подает огромный пустотелый золотой бабуин, сгорбившийся от неизъяснимого страха и то и дело хватающийся за копье, воткнутое ему в бок. Если покрутить бабуину яйца, из его члена течет пунш. Временами из жопы бабуина с громким звуком пердежа вылетают закуски. Когда это происходит, Охотники заливаются скотским гоготом, а педики визжат и подергиваются. Владельцем Охотничьих Угодий является капитан Эверхард, которого с треском выставили из Гомик-Клуба «69» за то, что, играя в покер с раздеванием, он припрятал в руке суспензорий. Мотоциклы кренятся на сторону, скачут, опрокидываются. Харкающие, визжащие, срущие бабуины врукопашную дерутся с Охотниками. Мотоциклы без седоков, зарываясь в пыль, точно изувеченные насекомые, вслепую атакуют бабуинов и Охотников...
Сквозь орущую толпу с триумфом едет Партийный Лидер. Благородный старец срет у него на глазах и пытается принести себя в жертву под колесами автомобиля.
ПАРТИЙНЫЙ ЛИДЕР: Нечего жертвовать своей дряхлой сушеной персоной под колесами моего новенького «бьюик-роудмастера» с откидным верхом, белобокими покрышками, гидравлическими окнами и прочими прибамбасами. Это же дешевый арабский трюк — следи за акцентом, Иван, — а это оставь на удобрение... Просим пожаловать в отдел переговоров, там тебе помогут исполнить твои благие намерения...
Стиральные доски протерлись, и простыни, отправленные в прачечную-автомат, теряют пятна позора — Иммануил пророчит Второе Пришествие...
За рекой живет мальчишка с попочкой, как персик; увы, пловец я был неважный и Клементину упустил.
Джанки уже уселся и занес иглу для кровавой миссии, а мошенник ощупывает лоха пальцами с гнилой эктоплазмой...
Час Душевного Здоровья у д-ра Бергера... Затемнение.
СПЕЦИАЛИСТ: Ну ладно, слушай, повторяю еще раз, повторяю медленно. Да. — Он кивает. — И попробуй выдавить улыбку... Улыбку. — Он демонстрирует свои вставные зубы в отвратительной пародии на рекламу зубной пасты. — Мы любим яблочный пирог, и мы любим друг друга. Только и всего — и пускай это звучит наивно, по-деревенски наивно... Изобрази-ка бычачий вид. Ты что, опять напрашиваешься на распределительный щит? Или на бадью?
ОБЪЕКТ — Исцеленный Психопат-Уголовник: Нет!.. Нет!.. А бычачий — это как?
СПЕЦИАЛИСТ: Ну, вроде коровы.
ОБЪЕКТ — с коровьей головой: Муууу, муууу.
СПЕЦИАЛИСТ (отпрянув): Нет! Это чересчур!! Прими просто добропорядочный вид, вид славного деревенского парня...
ОБЪЕКТ: Лоха, что ли?
СПЕЦИАЛИСТ: Ну почему же лоха? Представь себе типа, который не способен украсть. У него легкая контузия... Ты же знаешь таких. У них удалены передатчик и приемник телепатической связи. Изобрази-ка военного... Мотор!
ОБЪЕКТ: Да, мы любим яблочный пирог. — У него громко и протяжно урчит в желудке. С подбородка свисают нити слюны...
Д-р Бергер отрывает взгляд от каких-то записей. Он похож на сыча-еврея в черных очках, от яркого света у него болят глаза: «Думаю, это неподходящий объект... Вы же видите — ему место на свалке».
СПЕЦИАЛИСТ: Ну что ж, можно убрать из фонограммы это урчание, вставить ему в рот дренажную трубку и...
Д-Р БЕРГЕР: Нет... Этот не подходит. — Он смотрит на объекта с таким отвращением, как будто тот совершает непростительную бестактность, вроде лицезрения собственных мандавошек в гостиной миссис Светски.
СПЕЦИАЛИСТ (уступая, сердито): Приведите исцеленного хлыща.
Вводят исцеленного гомосексуалиста... Он идет сквозь невидимые контуры раскаленного металла. Усевшись перед камерой, он по-деревенски неуклюже пытается принять удобную позу. Мышцы копошатся в поисках места, как автономные органы разрезанного насекомого. Полнейшая тупость затуманивает и размягчает черты его лица: «Да, — он кивает и улыбается, — мы любим яблочный пирог, и мы любим друг друга. Только и всего». — Он кивает и улыбается и кивает и улыбается и...
— Довольно!.. — вопит Специалист. Исцеленного гомосексуалиста, кивающего и улыбающегося, уводят.
— Дайте пленку.
Консультант-искусствовед качает головой: «Чего-то не хватает. Точнее, не хватает здоровья».
БЕРГЕР (вскакивая): Абсурд! Это же олицетворение здоровья!..
КОНСУЛЬТАНТ-ИСКУССТВОВЕД (натянуто): Ну что ж, если вы можете просветить меня по этому вопросу, я буду весьма рад послушать, доктор Бергер... Если вы, с вашим блестящим умом, способны сами осуществить эту программу, тогда не пойму, зачем вам вообще потребовался консультант-искусствовед. — Он выходит, подбоченясь и вполголоса напевая: «Я буду здесь, когда тебя не будет».
СПЕЦИАЛИСТ: Давайте сюда исцеленного писателя... Что у него? Буддизм?.. Ах, он разучился говорить. С этого и надо было начинать! — Он поворачивается к Бергеру. — Писатель разучился говорить... Сверхсвободен, так сказать. Конечно, можно наложить голос...
БЕРГЕР (резко): Нет, это никуда не годится... Пришлите кого-нибудь еще.
СПЕЦИАЛИСТ: Те двое были моими любимчиками. Я потратил на этих ребят сотню часов сверхурочно, за что до сих пор не получил компенсацию...
БЕРГЕР: Напишите заявление в трех экземплярах... Форма 6090.
СПЕЦИАЛИСТ: Вы что, будете учить меня, как писать заявления? Послушайте, Док, однажды вы кое-что сказали. «Называть гомосексуалиста здоровым — это все равно что называть здоровым типа с последней стадией цирроза». Помните?
БЕРГЕР: Ну конечно. Сказано неплохо. — Он злобно рычит. — Я же не строю из себя писателя. — Это слово он выпаливает с такой отталкивающей ненавистью, что Специалист в испуге отшатывается...
СПЕЦИАЛИСТ (в сторону): Не выношу его запаха. Словно старые сгнившие культуры копий... Словно пердеж растения-людоеда... Словно «хм-хм» Шефера (пародирует профессорскую манеру держаться), змей подколодный... Я вот к чему, Док: как вы можете считать здоровым тело, когда промыты его мозги?.. Или скажем по-другому. Может ли объект быть здоровым in abstentia[62], по доверенности?
БЕРГЕР (вскакивая): Здоровье у меня!.. Всё здоровье! У меня его на весь свет хватит, на весь ёбаный свет!! Я всех вылечу!
Специалист угрюмо смотрит на него. Он разводит себе соду, пьет и срыгивает в руку: «Уже двадцать лет я страдаю диспепсией».
Милейшая Лу, твоему папочке промыли мозги, и теперь он говорит: «Я строго за рыбу, я люблю-у-у-у ее... По секрету, девочки, я пользуюсь Иокогамой Безотказного Мужика, а вы бы? Мужичок никогда не подведет. Вдобавок это более гигиенично и избавляет от всяких там ужасных контактов, после которых человека парализует ниже пояса. У женщин ядовитые соки...
— А я ему так прямо и говорю: «Доктор Бергер, не думайте, что вам удастся спихнуть мне ваших занюханных дряхлых красоток с промытыми мозгами. Я самый старый педрила в Верхней Бабуиновой Заднице...»
Парики да шиньоны в грязной трипперной обираловке, где поддельные девицы на радость Заведения 666 награждают вас Бациллой, да и в девках трипперных ни на грош здоровья, они прогнили насквозь, до самого яблочного ножа — моего небезупречного одноствольного птенчика. Кто подстрелил Раннюю Пташку?.. Малая птица падает к моему доверчивому «Уэбли»[63], и на клюве ее выступает капля крови...»
Лорд Джим стал ярко-желтым в скорбном и поблекшем утреннем лунном свете, подобном белому дыму на фоне голубизны, а холодный весенний ветер полощет рубахи на известняковых утесах, что за рекой, Мэри, и рассвет расколот надвое, как Дилинджер в своем побеге из тюрьмы в «Биограф»[64]. Запах неона и атрофированных гангстеров, а несостоявшийся преступник собирается с духом, готовясь вломиться в платный туалет и нанюхаться аммиака... «Вперед, — говорит он, — я проверну этого дельца, то есть это дельце».
ПАРТИЙНЫЙ ЛИДЕР (смешивая еще виски): Следующий мятеж будет проще футбольного матча. Мы вывезли из Индокитая около тысячи отборных призовых латахов... Всё, что нам нужно, — это один лидер мятежа на всю команду. — Он торжествующе оглядывает собравшихся.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ: Но, шеф, может, мы попросту заставим их начать, а дальше пойдет цепная реакция: они же будут друг другу подражать.
По рынку шатаясь идет Декламаторша: «Что делает латах, когда он один?»
ПЛ: Вопрос непростой. Нам придется проконсультироваться с Бенвеем. Лично я считаю, что кто-то должен контролировать ход всей операции.
— Не знаю, — сказал он, поскольку не обладал чинами и достоинствами, необходимыми для получения этой должности.
— Эмоций у них нет, — сказал доктор Бенвей, разрезая пациента на куски. — Одни рефлексы... я требую развлечений.
— Совершеннолетия они достигают, когда начинают говорить.
— Пускай все твои неприятности будут маленькими, как сказал один растлитель малолетних другому.
— Право же, просто страх берет, милочка, когда призрачные двойники начинают примерять твою одежду и вдобавок пинают тебя ногами...
Обезумевший гомик пытается вцепиться в спортивную куртку уходящего парня.
— Моя двухсотдолларовая кашемировая куртка! — истошно вопит он.
— Вот он и вступает в связь с этим латахом, хочет кого-нибудь полностью себе подчинить — совсем из ума выжил, старый хрыч... Латах перенимает все его повадки и манеры и просто-напросто высасывает личность, как гнусная кукла чревовещателя... «Я уже вобрал тебя целиком... Мне нужен новый амиго». А бедняга Бубу за себя постоять не может, себя-то не осталось.
ДЖАНКИ: И вот мы здесь, в этом безлошадном городишке, строго под микстурой от кашля.
ПРОФЕССОР: Копрофилию... джентльмены... можно назвать... хм-хм... пороком излишества...
— Двадцать лет снимаюсь в голубых фильмах, но ни разу не опустился до имитации оргазма.
— Ни одна толковая джанковая пизда не откажется от своего неродившегося ребенка... От баб никакого толку, малыш.
— Я имею в виду этот однообразный осмысленный секс... Отнесешь старое белье в прачечную — и то больше радости...
— И в самый разгар страсти он говорит: «У тебя нет лишней колодки для обуви?»
— Она рассказывает мне, как сорок арабов волокут ее в мечеть и насилуют, скорее всего, по очереди... Так и быть, Али, я последний — хотя спихнуть их будет трудновато. Право же, детки, гнуснее истории я отродясь не слыхивал. Перед тем меня самого изнасиловала свора озверевших зануд.
У входа в «Саргассо», глумясь над гомиками и тараторя по-арабски, сидит группа озлобленных националистов... Величавой походкой приближаются Клем и Джоди, разодетые, как Капиталист на коммунистической фреске.
КЛЕМ: Мы пришли питаться вашей отсталостью.
ДЖОДИ: Говоря словами Бессмертного Барда, жиреть на этих маврах.
НАЦИОНАЛИСТ: Свинья! Мразь! Собачий сын! Ты что, не видишь — мои люди голодны!
КЛЕМ: Такими я их видеть и хочу.
Отравленный ненавистью, националист падает замертво... Подлетает д-р Бенвей: «Отойдите все подальше, дайте мне место. — Он берет кровь на анализ. — Ну что ж, больше ничем помочь не могу. Уходя — уходи».
Поддельная переносная рождественская елка ярко горит на мусорных кучах родного дома, где мальчики дрочат в школьной уборной — сколько юных спазмов на том старом дубовом сиденье, истертом гладко, как золото...
Спи долго в долине Красной Реки, где опутаны паутиной темные окна и мальчишеские кости...
Два чернокожих педрилы в ярости орут друг на друга.
ПЕДРИЛА 1: Заткнись, ты, дешевая гранулемная манда... Недаром клиенты зовут тебя Мерзкая Лу.
ДЕКЛАМАТОРША: А между ног-то у девочки кое-что аппетитное.
ПЕДРИЛА 2: Мяу-мяу. — Он напяливает леопардовую шкуру с железными когтями...
ПЕДРИЛА 1: Ого! Светская Дама! — Он с воплями бросается бежать по Рынку, преследуемый хрюкающим, рычащим трансвеститом...
Клем ставит подножку спастическому паралитику[65] и отбирает у него костыли... Он разыгрывает отвратительную пародию, подергиваясь и пуская слюни...
В отдалении шум мятежа — тысяча истеричных жителей Померании.
Ставни магазинов хлопают, как гильотины. В воздухе застыли напитки и подносы, а хозяева уже внутри — туда их всосала паника.
ХОР ПЕДИКОВ: Нас всех изнасилуют. Я знаю, я знаю.
Они врываются в аптеку и покупают ящик полового возбудителя.
ПАРТИЙНЫЙ ЛИДЕР (театрально вытянув руку): Глас Народа!
Пощипывая низкую травку, появляется Пирсон Денежная Кукла. По приказу безжалостного командующего кармой он прячется на пустыре с неядовитыми змеями, где его унюхивает постижимый пес...
Рынок пуст, если не считать пьянчуги неопределенной национальности, напившегося до потери сознания и сунувшего голову в унитаз. Мятежники с торжествующими воплями врываются на Рынок и с криками «Смерть французам!» разрывают пьянчугу в клочья.
САЛЬВАДОР ХАСАН (извиваясь у замочной скважины): Только посмотрите на эти лица, единое прелестное протоплазменное существо — все в точности, как один. — Он отплясывает Ликвифракционистскую джигу.
Хныкающий гомик в оргазме падает на пол: «О боже, это слишком возбуждает. Будто миллион жарких трепещущих хуев».
БЕНВЕЙ: Хорошо бы взять у этих ребят кровь на анализ.
Зловеще неприметный человек — седая борода, серое лицо и поношенная бурая джеллаба — поет, не разжимая губ, с легким акцентом неведомого происхождения: «О куклы, большие красивые куклы».
Рынок занимают появившиеся со всех прилегающих улиц наряды носатых, тонкогубых полицейских с холодными серыми глазами. С хладнокровной, методичной жестокостью они избивают мятежников ногами и дубинками.
Мятежников увезли на грузовиках. Поднимаются жалюзи, и граждане Интерзоны выходят на скользкую от крови площадь, усеянную зубами и сандалиями.
Морской сундук мертвеца находится в посольстве, а вице-консул сообщает матери дурные вести.
Нет... Утра... Рассвета... n’existe plus[66]... Знал бы, сказал бы с радостью. Любой из двух ходов — неразумный шаг к Восточному Крылу... Он ушел в невидимую дверь... Не здесь... Можете искать где угодно... Бесполезно... No bueno... Сам тусуюсь... Плиходи пятница.
(Примечание: Старые, бывалые шмекеры с лицами, побитыми серыми джанковыми бурями, вспомнят... В двадцатых годах многие здешние барыги-китайцы нашли Запад настолько ненадежным, мошенническим и несправедливым, что прекратили торговлю, и когда западный джанки приходил за товаром, они говорили: «Моя нет... Плиходи пятница...»)
«Ислам инкорпорейтед» и партии Интерзоны
Я работал на компанию, известную как «Ислам инк.», которую финансировал Эй-Джей, пресловутый Торговец Сексом, шокировавший международную общественность, появившись на балу у герцога де Вентра в образе ходячего пениса, защищенного гигантским презервативом с начертанным на нем девизом Эй-Джея: «Они Не Пройдут».
— Это довольно бестактно, старина, — сказал герцог.
На что Эй-Джей ответил: «Может, от интерзонного возбудителя и у тебя встанет».
Ссылка на скандал с возбудителем, бывший в то время еще в личиночной стадии. В остроумных ответах Эй-Джея нередко имеются в виду предстоящие события. Он мастер уничтожающих реплик замедленного действия.
Впутался в дела компании и Сальвадор Хасан О’Лири, Магнат Детского Места. Точнее, один из филиалов его фирмы сделал вклады пока не установленных размеров, а один из филиалов его собственной персоны был принят в организацию на правах советника, которому не дозволялось ни связывать себя обязательствами, ни принимать участия ни в чем, что касается политики, деятельности или целей «Ислам, инк.». Следует также упомянуть Клема и Джоди — братьев Спорынья, которые «покосили» население Республики Хасана отравленной пшеницей, Ахмеда Аутопсию и Гепатита Хэла, торговца подержанными фруктами и овощами.
Шумное сборище мулл и муфтиев, муссейнов и каидов[67], шейхов, султанов и святых праведников, а также представителей всевозможных арабских партий — это и есть очередное собрание рядовых членов организации; крупные воротилы от посещения этих собраний благоразумно воздерживаются. Хотя при входе делегатов тщательно обыскивают, кульминацией этих сборищ неизменно являются бесчинства. Ораторов частенько окунают в бензин и сжигают, или же какой-нибудь неотесанный шейх пустыни поливает оппонентов из пулемета, который он припрятал в брюхе ручной овцы. Мученики-националисты с гранатами в жопе смешиваются с собравшимися делегатами и неожиданно взрываются, что приводит к многочисленным жертвам... А был случай, когда Президент Ра повалил на землю британского премьер-министра и силой им овладел; зрелище это транслировалось по телевидению на весь арабский мир. Дикие вопли наслаждения были слышны в Стокгольме. В Интерзоне вышел указ, запрещающий собрания «Ислам инк.» в пределах пяти миль от городских границ.
Эй-Джей — с его темным ближневосточным происхождением — выступал одно время в роли английского джентльмена. Его английский выговор шел на убыль вместе с Британской империей, и после Второй мировой войны он, согласно постановлению Конгресса, стал американцем. Эй-Джей, как и я, агент, но никому еще не удалось выяснить, на кого или на что он работает. Ходят слухи, что он представляет трест гигантских насекомых из другой галактики... Я полагаю, что он на стороне фактуалистов (которых представляю и я); конечно, он может оказаться и агентом ликвифракционистов (программа ликвифракции предусматривает постепенное слияние всех в Одного Человека с помощью процесса протоплазменной абсорбции). Ни в ком в отрасли нельзя быть уверенным.
Легенда Эй-Джея? Богатый повеса мирового масштаба и любитель безобидных розыгрышей. Именно Эй-Джей запустил пираний в плавательный бассейн леди Саттон-Смит и разбавил пунш смесью яхе, гашиша и йохимбина во время приема в американском посольстве в честь Четвертого июля, что вызвало оргию. Впоследствии десять видных граждан — разумеется, американских — умерли от стыда. Смерть от стыда — достижение, принадлежащее исключительно индейцам племени куакиутль и американцам, все прочие попросту говорят: «Zut alors»[68], «Son cosas de la vida» или «Аллах меня выебал, Всемогущий...
А когда члены Цинциннатского антифтористского общества собрались выпить за свою победу чистой ключевой водицы, у них моментально выпали все зубы.
— И заверяю вас, братья и сестры, активисты антифтористского движения: в этот день мы нанесли такой удар врагам чистоты, что никогда уже не пойдем на попятный... Долой, повторяю, мерзкие заграничные фториды! Мы сделаем нашу прекрасную страну свежей и чистой, как тугой мальчишеский животик... А теперь я первый затяну нашу музыкальную тему «Старая дубовая бадья».
Источник освещен флуоресцентными огнями, которые играют в нем отвратительными цветами музыкального автомата. Антифтористы гуськом топают мимо источника и поют; каждый черпает себе напиток дубовой бадьей...
Старая дубовая бадья, золотистая дубовая бадья Глаблсаланабеш...Эй-Джей успел приложить руку к источнику, подмешав в воду южноамериканское ползучее растение, которое превращает десны в кашу.
(Об этом растении я слышал от старого немецкого старателя, который умирал от уремии в Пасто, Колумбия. Встречается предположительно в районе Путумайо. Ни разу не находил. Не слишком старался... Тот же тип рассказывал мне о насекомом вроде большого кузнечика, известном как шиукутиль: «Такой сильный половой возбудитель, что, если хоть один на тебя нападет и ты не сможешь тут же найти женщину, тебе смерть. Я видел, как индейцы носятся взад-вперед и отмахиваются от этого зверя». К сожалению, заполучить шиукутиля мне так и не удалось...)
На премьере в нью-йоркской «Метрополитен» Эй-Джей, намазавшись клопомором, выпустил рой шиукутилей.
Миссис Вандерблай пытается прихлопнуть шиукутиля: «О!.. О!.. ОООООО!!!» — вопли, бьющиеся стекла, рвущаяся ткань. Нарастающее крещендо хрюканья и визгов, стонов, хныканья и тяжких вздохов... Вонючие испарения спермы, пизды и пота, затхлый аромат пронзенной прямой кишки...
Бриллианты и меха, вечерние платья и орхидеи, костюмы и нижнее белье в беспорядке разбросаны по полу, покрытому бьющейся в корчах, взбешенной, вздымающейся массой голых тел.
Однажды Эй-Джей заблаговременно, за год, зарезервировал столик «У Робера», где здоровенный невозмутимый гурман погружен в приготовление самых изысканных в мире яств. Столь губительным и уничтожающим был его взгляд, что многих посетителей он испепелял, словно вспышка молнии, и тогда они катались по полу, обоссываясь с ног до головы в судорожных попытках снискать хозяйскую милость.
И вот прибывает Эй-Джей с шестью боливийскими индейцами, которые между сменами блюд жуют листья коки. И когда Робер во всем своем гурманном величии угрожающе приближается к их столику, Эй-Джей поднимает голову и орет: «Эй, приятель, принеси-ка немного кетчупа!» (Вариант: Эй-Джей хватает бутылку кетчупа и заливает им изысканные блюда.)
Моментально перестают жевать все тридцать гурманов. Слышно, как падает суфле. Что до Робера — он, подобно раненому слону, издает яростный рев, бежит на кухню и вооружается большим ножом мясника... Официант, ведающий винами, страшно рычит, лицо его окрашивается в необыкновенный переливчато-лиловый цвет... Он отбивает горлышко у бутылки сухого шампанского... 26-го года... Пьер, старший официант, хватает нож для снятия мяса с костей. Все трое с душераздирающими, нечеловеческими яростными воплями гоняются за Эй-Джеем по всему ресторану... Опрокидываются столы, с грохотом летят на пол марочные вина и несравненные блюда... В воздухе звенят крики: «Линчевать его!» Престарелый гурман с безумными, налитыми кровью глазами мандрила завязывает палаческим узлом красный бархатный шнур занавески... Видя, что загнан в угол и надвигается опасность оказаться по меньшей мере расчлененным, Эй-Джей идет с козыря... Он запрокидывает голову и испускает призывный клич борова; и сотня голодных боровов, которых он предусмотрительно разместил поблизости, врывается в ресторан и принимается с чавканьем уплетать изысканные блюда. Подобно огромному дереву, разбитый параличом Робер падает на пол, и его пожирают боровы. «Бедным ублюдкам не хватает образования, чтобы оценить его по достоинству», — говорит Эй-Джей.
Всплывает из своего уединения в местной психушке брат Робера, Поль. Он принимает ресторан, дабы радовать посетителей тем, что сам называет «трансцендентальной кухней»... Качество пищи постепенно снижается, и в конце концов он начинает подавать форменные отбросы, а клиенты слишком запуганы репутацией «У Робера», чтобы протестовать.
ОБРАЗЕЦ МЕНЮ:
Суп из чистой верблюжьей мочи с вареными земляными червями.
Филе из выдержанного на солнце ядовитого ската, политое одеколоном, с гарниром из крапивы.
Supreme de Boeuf[69] из Детского Места, приготовленное на отработанном машинном масле, подается с пикантным соусом из желтков тухлых яиц и раздавленных клопов.
Сахар из лимбургского сыра, засоленный на моче диабетика и опущенный в жестянку с сухим спиртом Flamboyant[70]
Так что клиенты тихо умирают от ботулизма... Потом Эй-Джей возвращается со свитой арабских беженцев с Ближнего Востока. Он пробует кусочек и вопит: «Отбросы, черт побери! Сварите этого умника в его собственных помоях!!»
Итак, легенда об Эй-Джее — забавном, милом чудаке — распространялась и обрастала подробностями... Затемнение. Венеция... Поют гондольеры, а с Сан-Марко и из заведения «У Гарри» доносятся громкие жалобные вопли.
Чудесная старая венецианская история про этот мост: кажется, некие венецианские моряки предпринимают кругосветное путешествие, в плавании все превращаются во «фруктов» и уже ебут юнгу, а когда они возвращаются в Венецию, женщинам, дабы возбудить желание этих сомнительных типов, приходится расхаживать по мосту с грудями нараспашку. Поэтому к Сан-Марко спешно направляется ударный батальон.
— Девочки, это МП, Массированное Наступление. Если ваши сиськи их не остановят, пускайте в ход пизду, не оставляйте этим педикам никаких шансов.
— Ах, Герти, это правда. Чистая правда. На том месте, где должна быть штуковина, от которой я просто без ума, у них мерзкая глубокая рана.
— Такого ужаса я просто не вынесу.
— От подобного зрелища недолго и окаменеть.
О чем только Поль не болтал! Чего стоят одни его дерьмовые россказни о том, как мужчины лежат с другими мужчинами и делают то, о чем и говорить-то неловко. Вот именно — неловко. Кому ж охота споткнуться о хуй на пути к пизде? Но только у человека появится желание натянуть манду, как врывается некий зловредный чужак и делает с его жопой то, о чем и говорить-то неловко.
Эй-Джей несется по Сан-Марко и кромсает голубей абордажной саблей. «Ублюдки! Сукины дети!» — вопит он... Шатаясь, он поднимается на борт своей барки, чудовищного сооружения в розовом и голубом с позолотой, с парусами из лилового бархата. Он одет в нелепую морскую форму, увешанную галунами, орденскими лентами и медалями, грязную и рваную, пуговицы кителя застегнуты наперекосяк...
Эй-Джей подходит к гигантской копии греческой урны, увенчанной золотой статуей мальчика с эрекцией. Он крутит мальчику яйца, и в рот ему бьет струя шампанского. Он вытирает губы и осматривается.
— Где мои нубийцы, черт побери? — орет он. Его секретарь отрывается от книжки комиксов:
— Нализались. Охотятся за пиздятинкой.
— Никчемные хуесосы! Куда деваться человеку без его нубийцев?
— Возьмите гондолу, что ли.
— Гондолу? — вопит Эй-Джей. — Я в море-то выхожу ради этого хуесоса и вдобавок должен плыть на гондоле? Взять рифы грота и вставить весла в уключины, мистер Хайлоп... Попробую управиться с одним помощником.
Мистер Хайлоп смиренно пожимает плечами. Он принимается тыкать пальцем в распределительный щит... Парус падает, весла втягиваются в корпус.
— И включите благовоние, что ли. Против ветра канал воняет.
— Гардения? Сандал?
— Нет. Амброзия.
М-р Хайлоп нажимает еще одну кнопку, и над баркой повисает густое облако духов. Эй-Джей охвачен приступом кашля...
— Врубайте вентиляторы! — орет он. — Я задыхаюсь!
М-р Хайлоп откашливается в носовой платок. Он нажимает кнопку. Вентиляторы с жужжанием разгоняют амброзию. Эй-Джей водворяется на возвышение у штурвала.
— Контакт! — Барка начинает вибрировать. — Аванти, черт побери!
Эй-Джей орет, барка отчаливает поперек канала, на огромной скорости опрокидывает полные туристов гондолы, проходит в нескольких дюймах от мотоскафи, поворачивает то к одному берегу, то к другому (кильватерная волна окатывает тротуары, поливая прохожих), в щепки разносит флотилию пришвартованных гондол и, наскочив у пирса на мель, кругами уносится на середину канала... Из пробоины в корпусе бьет столб воды в шесть футов высотой.
— Поставить людей к помпам, мистер Хайлоп! Судно черпнуло воды.
Барка внезапно накреняется, выбрасывая Эй-Джея в канал.
— Покинуть судно, черт побери! Спасайся кто может!
Затемнение под мелодию мамбо.
Торжественное открытие «Эскуэла Амиго», школы для малолетних преступников латиноамериканского происхождения, построенной на пожертвования Эй-Джея; присутствуют учителя и пресса. Эй-Джей, пошатываясь, поднимается на трибуну, задрапированную американскими флагами.
— Говоря бессмертными словами отца Фланегана[71], такого явления, как плохой мальчик, не существует... Где же статуя, черт побери?
СПЕЦИАЛИСТ: Вам прямо сейчас?
ЭЙ-ДЖЕЙ: Зачем же я, по-вашему, сюда явился, черт подери? Я что, должен сдернуть с сукиных детей покрывало in abstentia?
СПЕЦИАЛИСТ: Всё в порядке... всё в порядке. Уже везут.
Тягач Грэйма Хайми буксирует статую и устанавливает ее перед трибуной. Эй-Джей нажимает кнопку. Под трибуной включаются турбины, их звук нарастает до оглушительного жалобного воя. Ветер сдувает со статуи красное бархатное покрывало. В нем запутываются преподаватели, стоящие в первом ряду... Зрителей окутывают клубы пыли и строительного мусора. Постепенно затихают сирены. Учителя освобождаются от покрывала... Все, затаив дыхание, смотрят на статую.
ОТЕЦ ГОНСАЛЕС: Матерь Божья!
ЧЕЛОВЕК ИЗ «ТАЙМ»: Не может быть!
«ДЕЙЛИ НЬЮС»: Весьма пикантно.
Хоровой свист мальчиков.
По мере оседания пыли открывается монументальное творение из отполированного розового камня. Голый мальчик склонился над спящим товарищем с явным намерением пробудить его звуками флейты. В одной руке он держит флейту, другая тянется к кусочку ткани, прикрывающему талию и живот спящего. Ткань непристойно выпячивается. У мальчиков по цветку за ухом, одинаковое выражение лиц, мечтательное и жестокое, развращенное и невинное. Эти две фигуры венчают собой известняковую пирамиду, на которой фарфоровыми мозаичными буквами — розовыми, голубыми и золотыми — начертан школьный девиз: «С этим и ради этого».
Эй-Джей кренится вперед и разбивает об аккуратные ягодицы мальчика бутылку шампанского.
— И помните, ребята: вот откуда берется шампанское.
Манхэттенская серенада. Эй-Джей в сопровождении свиты партнеров пытается войти в нью-йоркский ночной клуб. Он ведет на золотой цепочке лиловозадого бабуина. Эй-Джей одет в льняные клетчатые брюки-гольф и кашемировую куртку.
ХОЗЯИН: Одну минуту. Одну минуту. Что это?
ЭЙ-ДЖЕЙ: Это иллирийский пудель. Редкая скотина, лучше не сыщешь. Он хоть повеселит слегка твою забегаловку.
ХОЗЯИН: Сдается мне, что это лиловозадый бабуин, и он останется на улице.
ПАРТНЕР: Ты что, не знаешь, кто перед тобой? Это же Эй-Джей, последний из великих транжир времени.
ХОЗЯИН: Так пускай катится отсюда вместе со своим лиловозадым ублюдком и транжирит свое великое время в другом месте.
Эй-Джей останавливается перед другим клубом и заглядывает внутрь.
— Моднючие педики и старые пизды, черт побери! Сюда нам и надо. Аванти, рагацци!
Эй-Джей вбивает в пол золотой колышек и привязывает бабуина. Он заводит светскую беседу, партнеры подают реплики:
— Невероятно!
— Чудовищно!
— Божественно!
Эй-Джей вставляет в рот длинный сигаретный мундштук. Мундштук сделан из какого-то непристойного эластичного материала. Он раскачивается и волнообразно шевелится, точно наделен отвратительной рептильной жизнью.
ЭЙ-ДЖЕЙ: А на высоте тридцать тысяч футов меня подвел желудок.
Несколько ближайших педиков поднимают головы, словно почуявшие опасность звери. Эй-Джей вскакивает с нечленораздельным рычанием.
— Ты, лиловозадый хуесос! — вопит он. — Я тебя проучу, ты у меня посрешь на пол!
Он вытаскивает из своего зонтика кнут и принимается хлестать бабуина по заду. Бабуин пронзительно визжит и срывается с колышка. Он вспрыгивает на ближайший столик и влезает на старуху, которая тут же умирает от разрыва сердца.
ЭЙ-ДЖЕЙ: Сожалею, мадам. Сами понимаете — дисциплина.
Он в бешенстве стегает бабуина, гоняя его из конца в конец бара. Бабуин, вопя, рыча и обсираясь от ужаса, перелезает через клиентов, носится взад-вперед по стойке, раскачивается на занавесках и люстрах...
ЭЙ-ДЖЕЙ: Ты у меня перевоспитаешься и будешь срать где положено или вообще срать не будешь.
ПАРТНЕР: Как тебе не стыдно огорчать Эй-Джея после всего, что он для тебя сделал!
ЭЙ-ДЖЕЙ: Неблагодарные! Все до одного неблагодарные! Уж поверьте старому гомику.
Никто, конечно, в эту легенду не верит. По словам Эй-Джея, он «независим», что должно означать: «Не в свое дело не лезь». Независимых больше не существует. .. Зона кишит простофилями всех мастей, однако нейтралов среди них нет. Нейтрал же на уровне Эй-Джея и вовсе немыслим...
Хасан является печально известным ликвифракционистом, и ходят слухи, что он — тайный сендер.
— Бросьте, ребята, — говорит он с обезоруживающей улыбкой, — я всего лишь старая вонючая раковая опухоль, вот и приходится разрастаться.
У Даттона Сухая Дыра, афериста из Далласа, он перенял техасский акцент и ни в помещении, ни на улице не снимает ковбойских сапог и десятигаллоновой шляпы... Его глаза скрыты за черными очками, лицо у него гладко выбритое и невыразительное, словно восковое; ладно скроенный костюм целиком пошит из недозрелых банкнот высокого достоинства. (Банкноты эти являются настоящими деньгами, но прежде, чем их можно будет реализовать, они должны созреть... Достоинство каждой банкноты доходит до миллиона зелененьких.)
— Они сами на мне выводятся, — застенчиво оправдывается он... — Это вроде как... фу ты, как бы получше выразиться... Ну, будто бы я — мамаша-скорпионша, которая вынашивает этих маленьких бумажных детишек на своем теплом теле и чувствует, как они растут. Черт возьми, надеюсь, вам мои россказни не наскучили.
Сальвадор, известный друзьям как Салли — он всегда держит подле себя нескольких «друзей», выплачивая им почасовое жалованье, — подлечился торговлей выкидышами во время Второй мировой войны. (Подлечиться — значит разбогатеть. Выражение, употребляемое техасскими нефтедобытчиками.) В досье министерства чистой пищи и лекарств имеется его фотография — крупные черты набальзамированного лица, словно под кожу, гладкую, лоснящуюся и непористую, ввели парафин. Один глаз — мертвенно-серый, круглый, как стеклянный шарик для детской игры, весь в трещинах и темных крапинках. Другой — черный и блестящий, глаз бесчувственного старого насекомого.
Обычно его глаз не видно за черными очками. Вид у него загадочный и зловещий — его жесты и манеры еще не постигнуты, — как у агента тайной полиции личиночного государства.
Волнуясь, Сальвадор переходит на ломаный английский. В такие моменты его акцент наводит на мысль об итальянском происхождении. Он читает и говорит по-этрусски.
На составление международного досье Сала положила жизнь целая команда бухгалтеров-следователей... Он непрерывно плетет опутывающую весь мир замысловатую, изменчивую паутину подставных фирм, филиалов и вымышленных имен. У него было 23 паспорта, а высылали его 49 раз — судебные решения по поводу депортации не вынесены еще на Кубе, в Пакистане, Гонконге и Йокогаме.
Сальвадор Хасан О’Лири, он же Сапожник, он же Дефективный Мавр, он же Лири Детское Место, он же Выкидыш Пит, он же Хуан Плацента, он же Ахмед Возбудитель, он же Эль Клоппо, он же Эль Кулито и т.д. и т.д. — всего пятнадцать густо исписанных страниц досье, — впервые спутался с законом в Нью-Йорке, куда приехал с типом, известным бруклинской полиции как Губастый Уилсон, который выруливает деньги на чумовые колеса, вытрясая их из фетишистов в обувных магазинах. Хасану было предъявлено обвинение в вымогательстве третьей степени и сговоре с целью выдать себя за полицейского. Он усвоил Первое Правило Вымогателя: СН — Скинь Наркоту, что соответствует ПСП — Поддерживай Скорость Полета — для летчика... Как говорит Бдительный: «Коли уж попался на крючок, малыш, скинь всю свою наркоту, в крайнем случае — проглоти». Ну а фальшивую кокарду ему так и не «пришили». Хасан дал показания против Уилсона, которому влепили Неопределенный Срок. (Наибольший срок по законам Нью-Йорка для осужденных за мелкие преступления. Осуждение на неопределенный срок означает, как правило, три года в тюрьме «Райкерз Айленд»[72].) В деле Хасана от обвинения отказались. «Я бы погорел ни за грош, — сказал Хасан, — не попадись мне приличный коп». Приличный коп попадался Хасану всякий раз, как его винтила полиция. Его досье содержит три страницы кличек, указывающих на его склонность к сотрудничеству с законом, к «игре в мяч», как это называют копы. Остальные называют это как-нибудь по-другому: Эб Любовник Легавых, Шпик Марк, Певунья Геба, Стукач Али, Гнилой Сал, Болтливый Нытик, Фальшивое Сопрано, Бронксовский Оперный Театр, Полицейский Джинн, Справочная служба[73], Писклявый Сириец, Сладкоголосый Хуесос, Музыкальный Фрукт, Грешная Жопа, Фискальный Педрила, Лири Доносчик, Гном Весельчак... Подпасок Герт.
Он открыл «лавку секса» в Йокогаме, толкал джанк в Бейруте, сводничал в Панаме. Во время Второй мировой войны он пошел в гору, приобрел в Голландии маслодельню и разбавлял масло использованной колесной смазкой, монополизировал рынок половых возбудителей в Северной Африке и, наконец, сорвал большой куш на торговле выкидышами. Он процветал и разрастался, наводняя мир разбавленными лекарствами и дешевыми поддельными товарами всех видов. Фальшивое средство для отпугивания акул, разбавленные антибиотики, бракованные парашюты, протухшие противоядия, неэффективные сыворотки и вакцины, протекающие спасательные шлюпки.
Клем и Джоди, два старомодных водевильных танцора, выдают себя за русских агентов, единственная цель которых — представить США в невыгодном свете. Когда в Индонезии их арестовали за педерастию, Клем заявил следователю:
— Какой уж тут гомосексуализм! Разве ж это дубьё до него додумается!
В Либерию они явились в черных стетсонах и красных подтяжках:
— Так вот, подстрелил я того старого ниггера, а он возьми да и шлепнись на бок, только нога и дергается.
— Да-а, но ты хоть раз ниггера сжигал?
Они то и дело разгуливают по бидонвилям[74], попыхивая гигантскими сигарами.
— Бульдозеры бы сюда, Джоди. Снести весь этот хлам.
За ними следуют толпы охваченных нездоровым любопытством обывателей, надеющихся стать свидетелями очередного величайшего американского надругательства над законом.
— Тридцать лет в шоу-бизнесе и ни разу не выступал с подобным номером. Я должен выселить всех из бидонвиля, треснуться героином, обоссать Черный Камень[75], в костюме борова проорать с минарета Молитвенный Призыв, отменить ленд-лиз, а заодно еще и поебаться в жопу... Что я вам, спрут, что ли? — жалуется Клем.
Они сговариваются с помощью вертолета похитить Черный Камень и поставить на его место свинарник; боровы обучены при появлении паломников издавать издевательское улюлюканье.
— Мы пытаемся научить этих визгливых ублюдков петь «Слава цветам красно-бело-синим», но пока никак не выходит...
— Насчет той пшеницы мы связались в Панаме с Али Вонгом Чапультепеком. Он говорит, это дерьмо высшего сорта. Один финский шкипер помирает в местном бардаке и оставляет весь корабельный груз мадам... «Она была мне как мать», — говорит он, и это были его последние слова... Вот мы честь по чести и откупаем товар у старой манды. Выложили ей целых десять доз героина.
— Героин тоже будь здоров. Вполне приличный алеппский героинчик.
— И молочного сахара хватило — как раз, чтоб она не окочурилась.
— Ладно уж, дареному коню в жопу не смотрят.
— А правда, что когда вы добрались до Хасана, то устроили в честь каида банкет, где подавали кускус из той самой пшеницы?
— Чистая правда. И знаете, эти типы так обкурились марихуаной, что в разгар банкета все очумели... Я-то лично ел только хлеб с молоком... язва, знаете ли.
— Да и я тоже.
— И вот они мечутся и вопят, что внутри у них все горит, а наутро большинство помирают.
— А остальные — на следующее утро.
— Чего ж вы хотите, они ведь постоянно губят себя восточными пороками.
— Ну просто умора — эти типы становятся все черные, а ноги у них отваливаются.
— Жуткие последствия пристрастия к марихуане.
— И я того же мнения.
— Ну, а мы столковались с самим стариком султаном, который к тому же еще и знаменитый латах. После этого, можно сказать, всё на мази.
— Но вы не поверите, отдельные элементы гнались за нами до самого катера.
— Правда, им немного мешало отсутствие ног.
— И состояние головы.
(Спорынья — это больная плесенью, сгнившая пшеница. В средневековой Европе людей периодически косили вспышки отравления спорыньей, которое называлось «Огонь Св. Антония». Частым осложнением является гангрена, ноги чернеют и отваливаются.)
Они сбывают эквадорским военно-воздушным силам партию бракованных парашютов. Маневры: парни камнем летят вниз, парашюты развеваются, как рваные презервативы, на пузатых генералов брызжет молодая кровь... Под оглушительные струи звуков Клем и Джоди исчезают за Андами в реактивном бегстве.
Точные цели «Ислам инк.» неясны. Нечего и говорить, что каждое из заинтересованных лиц имеет на этот счет свою точку зрения, и все они намерены где-нибудь стать поперек дороги друг другу.
Эй-Джей агитирует за уничтожение Израиля: «С этим настроем против Запада попробуй добейся прелестей юных арабов... Еще немного, и ситуация станет просто невыносимой... Израиль превратился в серьезную помеху». Типичная легенда Эй-Джея.
Клем и Джоди заявляют, что они заинтересованы в уничтожении ближневосточных нефтяных месторождений, после чего поднимутся в цене их венесуэльские акции.
Клем пишет вещицу на мотив «Речного рака» (Биг Билл Брунзи[76]):
Что ты будешь делать, когда высохнет нефть? Арабы будут дохнуть, я — сидеть и смотреть.Для того чтобы скрыть, по крайней мере от рядовых членов организации, свои ликвифракционистские происки, Сальвадор выпускает плотную завесу международной валюты... Но после нескольких крепких доз яхе он принимается изливать душу друзьям.
— Ислам — это уже застывший студень, — говорит он, отплясывая ликвифракционистскую джигу... А затем, не в силах сдержаться, разражается отвратительным фальцетом:
Дрожит он на краю, Толчок — и он в Раю, Пора уже напяливать чадру.— Короче, эти типы наняли на службу одного бруклинского еврея, который выдает себя за Магомета Второго Пришествия... На самом-то деле доктор Бенвей принял его в Мекке у одного Святого с помощью кесарева сечения...
« Если Ахмед не выйдет... мы сами его оттуда вытащим».
Это бессовестное надувательство проглатывается легковерными арабами без единого вопроса.
— Славный народец эти арабы... Славный невежественный народец, — говорит Клем.
И вот этот шарлатан выступает по радио с ежедневными сурами: «Итак, дорогие радиослушатели, говорит Ахмед, дружески расположенный к вам пророк... Сегодня я хотел бы поговорить о том, как важно обладать тонким вкусом и во все времена раздавать только свежие поцелуи... Друзья, пользуйтесь хлорофилловыми таблетками Джоди и не сомневайтесь».
Теперь немного о партиях Интерзоны...
Не вызывает сомнения, что ликвифракционистская партия, за исключением одного человека, целиком состоит из простофиль, и до последней абсорбции непонятно, кто кого надувает... Ликвифракционисты весьма склонны к всякого рода извращениям, особенно к садомазохизму...
В большинстве своем ликвифракционисты люди толковые. Сендеры же, напротив, печально известны своим невежеством в отношении природы и конечного пункта посыла, своими дикими и самодовольными манерами и безумным страхом перед любым фактом... Лишь вмешательство фактуалистов не дало сендерам упрятать Эйнштейна в сумасшедший дом и отменить его теорию. Несомненно, лишь немногие сендеры знают что делают, и эти высокопоставленные сендеры являются самыми опасными и зловредными людьми на свете... Поначалу техника посыла была несовершенной. Затемнение... Национальная конференция по электронике в Чикаго.
Делегаты надевают пальто... Докладчик говорит монотонным голосом продавщицы:
— В заключение хочу кое о чем предупредить... Логическим продолжением энцефалографических исследований является биоконтроль, то есть контроль над физическими перемещениями, психическими процессами, эмоциональными реакциями и мнимыми чувственными восприятиями биоэлектрических сигналов, подаваемых в нервную систему объекта.
— Громче и веселей! — Делегаты гурьбой удаляются в клубах пыли.
— Через некоторое время после появления человека на свет хирург сможет установить связь с мозгом новорожденного. Можно вставить миниатюрный радиоприемник, и поведение объекта будет регулироваться с помощью передатчика, контролируемого государством.
Пыль оседает в безветренном воздухе громадного пустого зала — запах раскаленного железа и пара; вдалеке гудит радиатор... Докладчик роется в своих заметках и сдувает с них пыль...
— Аппарат биоконтроля является прототипом одностороннего телепатического контроля.
Объекту можно будет выдавать восприимчивые к передатчику наркотики либо подвергать его какой-либо другой обработке, не устанавливая никакого прибора. В конце концов сендеры будут пользоваться исключительно телепатическим посылом... Рылись когда-нибудь в кодексах майя? Я это представляю себе следующим образом: жрецам — примерно одному проценту населения — удавалось с помощью односторонней телепатической трансляции приказывать работникам, что и когда им следует чувствовать... Телепатический сендер должен постоянно передавать. Он никогда ничего не сможет принять, поскольку если он принимает, значит, кто-то еще обладает своими собственными чувствами, что может испоганить весь сценарий посыла. Сендер должен передавать все время, но он никогда не сможет подзарядиться с помощью контакта. Рано или поздно у него не останется чувств для посыла. Нельзя иметь чувства, будучи одиноким. Никто не одинок так, как одинок сендер, — а вы понимаете, что в одном месте-времени сендер может быть только один... Наконец экран мертвеет... Сендер превратился в гигантскую многоножку... И вот появляются сознательные рабочие, сжигают многоножку и с пылким единодушием избирают нового сендера... Майя были ограничены изоляцией... Ныне один сендер сможет контролировать планету... Видите ли, контроль никогда не сможет стать средством достижения какой-либо практической цели... Он никогда не сможет стать средством достижения ничего иного, кроме как еще большего контроля... Как джанк...
Дивизионисты занимают промежуточную позицию, фактически их можно назвать «умеренными»... Дивизионистами они называются потому, что делятся в буквальном смысле слова. Отрезая крошечные кусочки своей плоти, они выращивают в эмбриональном бульоне точные копии самих себя. Представляется вероятным, если только не приостановится процесс деления, что в конечном счете на планете останется лишь одна копия одного пола: то есть один человек на свете с миллионами отделенных от него тел... Являются ли эти тела и в самом деле независимыми, способны ли они со временем приобретать собственные характерные черты? Я в этом сомневаюсь. Копии должны периодически подзаряжаться от Материнской Клетки. Это служит гарантией их преданности дивизионистам, которые живут в страхе перед революцией копий... Некоторые дивизионисты считают, что этот процесс можно приостановить, прежде чем будет достигнута окончательная монополия одной копии. Они говорят: «Дайте мне только вырастить еще несколько копий, чтоб я не был одинок, когда путешествую... И мы должны строго контролировать деление нежелательных лиц...» Любая копия, кроме вашей собственной, в конечном счете — «нежелательное лицо». Разумеется, каждому известно, что происходит, если кто-нибудь начинает наводнять местность Идентичными Копиями. Остальным гражданам приходится объявлять «шлюппит» (массовое истребление всех поддающихся опознанию копий). Чтобы спасти свои копии от уничтожения, граждане перекрашивают, деформируют и перекраивают их с помощью специальных форм для тела и лица. Только самые распутные и бесстыжие типы отваживаются штамповать ИК — Идентичные Копии.
Слабоумный альбинос Каид, продукт длинной вереницы рецессивных генов (крошечный беззубый ротик, обрамленный черными волосками, тело гигантского краба, вместо рук клешни, глаза выдвинуты вперед на ножках), накопил 20 000 ИК.
— Сколько видит глаз — ничего, кроме копий, — говорит он, ползая по своей террасе и издавая необычное стрекотание насекомого. — Мне не приходится скрываться, точно какой-нибудь безымянной заднице, мне незачем выращивать копии в выгребной яме, ни к чему украдкой выпускать их и маскировать под разносчиков магазинных заказов и водопроводчиков... Моим копиям ни к чему портить свою ослепительную красоту пластическими операциями, варварским перекрашиванием и отбеливанием. Они выходят на солнечный свет нагие, дабы все прониклись блистательным очарованием их тела, лица и души. Я создал их благодаря своему творческому воображению и наслаждаюсь тем, как они растут и размножаются в геометрической прогрессии, — ведь они унаследуют Землю.
Вызвали профессионального колдуна, чтобы навсегда обесплодить копийные культуры Шейха Аракнида... Когда колдун готовился испустить поток антиоргонов, Бенвей сказал ему:
— Ни к чему напрягаться. Атаксия[77] Фридриха вычистит этот выводок копий. Я изучал неврологию в Вене, у профессора Фингерботтома... он знал каждый нерв в человеческом теле. Изумительный старикашка... Кончил крайне неприятно... Его выпадающий геморрой вырвался из «Испано-Сюизы» герцога де Вентра и обмотался вокруг заднего колеса. Старик был полностью выпотрошен, а на обитом жирафьей шкурой сиденье осталась пустая скорлупа... Вылетели с отвратительным хлюпаньем даже глаза и мозг. Герцог де Вентр говорит, что перенесет этого хлюпнувшего страдальца в свой мавзолей.
Поскольку надежного способа обнаружения замаскированной копии не существует (хотя у каждого дивизиониста есть метод, который он считает безотказным), все дивизионисты — истеричные параноики. Если кто-то из граждан отважится открыто защищать свои либеральные убеждения, другой обыватель неизменно рычит: «Ты что, отбеленная копия какого-нибудь вонючего ниггера?»
Поражает число убитых и раненых после драк в барах. Страх перед негритянскими копиями — которые могут оказаться голубоглазыми блондинами — уничтожил население целых регионов. Все дивизионисты — тайные или явные гомосексуалисты. Злостные старые гомики говорят молодым ребятам: «Если свяжетесь с женщиной, ваши копии перестанут расти». А на культуры копий, принадлежащие кому-нибудь другому, обыватели то и дело напускают порчу. За выкриками типа: «Хочешь сглазить мою культуру, курица ощипанная!» — следуют шумовые эффекты нанесения увечий, звенящие на весь квартал... Дивизионисты крайне увлечены черной магией, они знают бесчисленное множество заклинаний различной силы, которые применяют для уничтожения Материнской Клетки, — известной также как Протоплазменный Папаша, — пытая или убивая взятую в плен копию... Власти в конце концов оставили попытки контролировать такие преступления дивизионистов, как убийство и нелицензированное производство копий. И все-таки они устраивают предвыборные облавы и уничтожают многочисленные культуры копий в горных районах Зоны, где скрываются копии-контрабандисты.
Секс с копией строго запрещен и почти повсеместно практикуется. Существуют гомик-бары, где бесстыжие обыватели открыто общаются со своими копиями. Штатные детективы суют головы в гостиничные номера: «Нет ли у вас тут копий?»
В барах, подверженных наплыву копий-любовников низкого происхождения, вывешивают объявления со знаками повтора:«— ׀׀ — Здесь Не Обслуживаются»... Можно утверждать, что средний дивизионист живет, пребывая в непрерывном кризисе, на грани страха и ярости, не в силах достичь ни самодовольного благодушия сендера, ни бесцеремонной развращенности ликвифракционистов... На практике, однако, эти партии не разделены, а смешаны во всевозможных сочетаниях.
Фактуалисты являются антиликвифракционистами, антидивизионистами и, что самое главное, антисендерами.
Бюллетень объединенных фактуалистов по вопросу о копиях: «Мы должны отказаться от поспешного решения наводнить планету «желательными копиями». Наличие неких желательных копий в высшей степени сомнительно. Подобные существа свидетельствуют о попытке нарушить и обойти естественный ход вещей. Даже самые разумные и генетически совершенные копии будут, по всей вероятности, представлять собой страшную угрозу жизни на нашей планете...
ПБ — Предварительный бюллетень по поводу сжижения: «Мы не должны ни отвергать, ни отрицать нашу протоплазменную сущность, мы неизменно прилагаем усилия к тому, чтобы достичь максимальной гибкости без впадания в болото разжижения...» Предварительный и Незавершенный бюллетень: «Подчеркиваем: мы не против телепатических исследований. Более того, телепатия, должным образом применяемая и понимаемая, сможет стать надежной защитой от любой формы организованного насилия и тирании со стороны влиятельных кругов или отдельных контроломанов. Мы выступаем как против атомной войны, так и против применения подобных познаний для контроля, подавления, унижения достоинства, эксплуатации или уничтожения индивидуальности другого живого существа. По своей природе телепатия не является односторонним процессом. Попытки установить одностороннюю телепатическую трансляцию должны рассматриваться как безоговорочное зло...
ОБ — Окончательный бюллетень: «Сендер будет характеризоваться отрицательными величинами. Областью низкого давления, засасывающей пустотой. Он будет зловеще безымянным, безликим, бесцветным. Не исключено, что он родится с гладкими дисками кожи вместо глаз. Он всегда знает, куда направляется, как знает это вирус. В глазах ему нет нужды».
— Почему же сендер должен быть только один?
— Поначалу-то их много. Но это ненадолго. Некоторые наивные обыватели решат, что смогут послать нечто назидательное, не сознавая, что посыл есть зло. Ученые скажут: «Посыл подобен атомной энергии... Надо лишь должным образом его использовать». В этот момент анальный специалист разводит себе соду и включает рубильник, превращая землю в космическую пыль. («Отрыжка... этот пердеж и на Юпитере будет слышен».) Художники перепутают посыл с творчеством. Они будут выпендриваться и кричать о «новых средствах выражения», пока не утратят всё свое мастерство... Философы будут до хрипоты спорить о целях и средствах, так и не поняв, что посыл никак не может быть средством достижения ничего иного, кроме как еще более мощного посыла. Как Джанк. Попробуйте употребить джанк в качестве средства для чего-то иного... Некоторые обыватели с контролируемыми привычками к «кока-коле с аспирином» будут говорить о злых чарах посыла. Но никто и ни о чем не будет говорить слишком долго. Сендер — он разговоров не любит.
Сендер не принадлежит к человеческому роду... Это Человеческий Вирус. (Все вирусы — это выродившиеся клетки, ведущие паразитическое существование... Особое влечение они испытывают к Материнской Клетке. Так, выродившиеся клетки печени стремятся попасть в вотчину гепатита и т.д. Короче, у каждого вида есть Вирус-Господин: Выродившийся Образ этого вида.)
Сокрушенный образ Человека вновь, минуту за минутой и клетку за клеткой, отвоевывает свои позиции... Нищета, ненависть, война, полиция-преступники, бюрократия, безумие — всё это симптомы заражения Человеческим Вирусом.
В настоящее время появилась возможность выделить Человеческий Вирус и подвергнуть его специальной обработке.
Окружной Управляющий
Кабинет Окружного Управляющего находится в громадном здании красного кирпича, известном как Старое Здание Суда. Там действительно слушаются гражданские дела, причем судопроизводство безжалостно затягивается до тех пор, пока противники не умирают или не отказываются от тяжбы. Это происходит из-за несметного количества документов, касающихся абсолютно всего на свете; все они хранятся в полном беспорядке, поэтому никто, кроме Окружного Управляющего и его помощников, не в состоянии их найти, а сам он, бывает, тратит на эти поиски долгие годы. И в самом деле, он до сих пор разыскивает материалы, относящиеся к делу о взыскании убытков, производство которого было прекращено в 1910 году. Большая часть Старого Здания Суда давно превратилась в руины, а та, что еще сохранилась, из-за частых обрушений крайне опасна. Наиболее рискованные миссии Окружной Управляющий доверяет своим помощникам, многие из которых лишились жизни на службе. В 1912 году двести семь помощников были погребены под обломками северо-северо-восточного крыла.
Когда против жителя Зоны возбуждается дело, его адвокаты потворствуют тому, чтобы оно было передано в Старое Здание Суда. Как только это сделано, истец уже проиграл процесс, поэтому в Старом Здании Суда слушаются только дела, спровоцированные чудаками и параноиками, которые требуют «публичного разбирательства», чего добиваются редко, поскольку лишь острая нехватка новостей приведет в Старое Здание Суда репортера.
Старое Здание Суда расположено в поселке Пиджин-Хоул, за пределами городской зоны. Обитатели этого поселка и окружающей его местности с ее болотами и густыми лесами — люди столь слабоумные, с такими дикими повадками, что Администрация сочла целесообразным изолировать их в резервации, огороженной радиоактивной стеной из железных блоков.
В отместку жители Пиджин-Хоула оклеивают свой поселок плакатами «Горожанин, смотри, чтобы закат не застал тебя здесь» — предписание бессмысленное, так как ничто, кроме неотложного дела, не привело бы в Пиджин-Хоул ни одного горожанина.
У Ли дело неотложное. Он должен немедленно подтвердить под присягой письменное признание в том, что страдает бубонной чумой, и таким образом избежать выселения из дома, который занимает десять лет, не внося квартирной платы. Он существует в вечном карантине. Вот он и набивает чемодан письменными показаниями и прошениями, предписаниями и характеристиками и автобусом добирается до Границы. Городской таможенный инспектор пропускает его взмахом руки: «Надеюсь, у тебя в чемодане атомная бомба».
Ли проглатывает пригоршню успокаивающих пилюль и входит в таможенный ангар Пиджин-Хоула. Инспектора три часа роются в его бумагах, справляясь в пыльных книгах инструкций и пошлин, из которых они зачитывают невразумительные и зловещие выдержки, неизменно заканчивающиеся словами: «А посему подвергается штрафу и наказанию согласно Постановлению 666». Они многозначительно глядят на Ли.
Они просматривают его бумаги через увеличительное стекло.
— Иногда между строк попадаются грязные стишки.
— Может, он задумал распродать всё это на туалетную бумагу. Этот мусор нужен лично тебе персонально?
— Да.
— Он говорит, да.
— А откуда нам это знать?
— У меня есть письменное свидетельство.
— Ну и хитрец. Раздевайся.
— Ага, может, у него неприличные наколки.
Они шарят по его телу, зондируя задницу на предмет контрабанды и обследуя ее в поисках доказательств педерастии. Они смачивают его волосы, а воду отправляют на анализ.
— Может, у него в волосах наркотик.
Наконец они конфискуют его чемодан, и он выходит из ангара, сгибаясь под тяжестью пятидесятифунтовой кипы документов.
На сгнивших деревянных ступенях Старого Здания Суда сидит примерно дюжина Судейских. Они наблюдают за его приближением взглядами бледно-голубых глаз, медленно поворачивая головы на морщинистых шеях (морщины забиты пылью), следуя за ним взглядом вверх по ступеням и в дверь. Внутри пыль густым туманом повисла в воздухе, падает с потолка, клубами поднимается с пола от его шагов. Он взбирается вверх по шаткой лестнице — признана негодной в 1929 году. Один раз ступня проваливается, и в мясо его ноги впиваются сухие щепки. Лестница заканчивается малярными лесами, с помощью веревки и шкивов прикрепленными к балке, почти невидимой в пыльном отдалении. Он осторожно втискивается в кабину чертова колеса. Его вес приводит в движение гидравлический механизм (звук струящейся воды). Колесо плавно и бесшумно движется, чтобы остановиться у ржавого железного балкона, местами протертого насквозь, как подметка старого башмака. Он идет по длинному коридору с двумя рядами дверей, большинство из которых заколочено досками, а то и просто гвоздями. В одном из кабинетов — «Ближневосточные острые ощущения» на позеленевшей медной табличке — ловит термитов своим длинным черным языком Отщепенец. Дверь кабинета Окружного Управляющего открыта. Окружной Управляющий сидит в кольце шестерых помощников и жует нюхательный табак. Ли стоит в дверях. Окружной Управляющий, не обращая на него внимания, продолжает говорить:
— Тут на этих днях наткнулся я на Теда Спигота... тоже славный малый. Нет лучше парня в Зоне, чем Тед Спигот... Да, вспомнил, это была пятница, моя Старуха как раз страдала менструальными коликами, и я пошел в аптеку Дока Паркера на Делтон-стрит, что напротив Добропорядочного массажного кабинета Мамы Грин, где раньше была старая платная конюшня Джеда... Ну Джеда, забыл фамилию, он еще слегка косил на левый глаз, а жена у него откуда-то с Востока, из Алжира, что ли, а как Джед помер, она снова выскочила замуж и нынче замужем за кем-то из Хутов, за Клемом Хутом, если память не изменяет, тоже славный малый, ну а Хуту в то время было года пятьдесят четыре, а то и все пятьдесят пять... Так вот, я и говорю Доку Паркеру: «Моя Старуха сильно мучается менструальными коликами. Продай-ка мне пару унций опийной настойки».
А Док Паркер и говорит: «Ладно, Арч, только ты обязан надписать книгу. Имя, адрес и дата покупки. Такой порядок».
Тут я и спросил Дока, какой сегодня день, а он сказал — пятница, тринадцатое.
Я и говорю: «Сдается мне, я уже свое отмучился».
«Вот-вот, — говорит Док, — заходил тут ко мне с утра один паренек. Явно городской. Уж больно пестро одет. Так вот, выкладывает он мне рецепт на мейсоновскую банку морфия... Ну просто умора, а не рецепт, на туалетной бумаге... А я ему так впрямую и говорю: «Мистер, я подозреваю, что вы наркоман».
«У меня ногти на ногах растут внутрь, папаша. Я в агонии», — говорит он.
«Ладно, — говорю. — Должен же я проявлять осторожность. Но раз уж у вас уважительная причина и рецепт от официозно признанного врача со справкой, почту за честь вас обслужить».
«Тот коновал и верно псих, справка имеется», — говорит он... А мне сдается, одна рука не знала, что делает другая, раз я по ошибке дал ему банку саночистителя... Так что, как ни крути, а он-то свою пятницу поимел.
«Самое оно для прочистки крови».
«Знаешь, и мне пришло в голову то же самое. Все-таки лучше серы с черной патокой... Слушай-ка, Арч, только не подумай, что я сую нос в чужие дела, но от Бога и аптекаря у человека секретов нет, я всегда так говорю... Ты все еще потягиваешь Старую Серую Кобылу?»
«Однако, Док Паркер... Ставлю вас в известность, что я человек семейный и являюсь старостой в Первой Несекстарианской Церкви. Я не имел ни кусочка лошадиной жопы с тех пор, как мы были детишками».
«Вот были времена, Арч! Помнишь, как-то раз я взял да и подмешал горчицу в гусиный жир? Всегда кто-то хватает не ту банку, сам знаешь. Визжал ты так, что аж в округе Пизд-Лиз слыхали, визжал прямо как горностай с отрезанными камушками».
«У тебя что, Док, мозги не на месте? Горчицу-то слопал ты, а мне пришлось дожидаться, пока ты не утихомиришься».
«Всё это досужий бредень, Арч. Это выраженьице я как-то вычитал в журнале, когда сидел в зеленом сортире за станцией... А вопроса моего ты и вовсе не понял... Старая Серая Кобыла — это же твоя женушка... Я хочу сказать, она уже не та, что прежде, со всеми этими карбункулами, катарактами, ознобышами, геморроем и афтозом».
«Да, Док, Лиз и верно нездорова. Так и не поправилась после одиннадцатого выкидыша... В тот раз вообще что-то странное уродилось. Док Феррис и не скрывал, он сказал: «Ни к чему тебе, Арч, смотреть на это существо». И такой долгий взгляд мне выдал, аж мурашки по коже... Да, Док, ты не ошибся. Она уже не та, что прежде. Да и от лекарств твоих ей вовсе не легче. Она даже день с ночью начала путать с тех пор, как стала принимать те глазные капли, что ты продал ей в прошлом месяце... Однако, Док, ставлю тебя в известность, что я уже давно не потягиваю Лиз, старую корову, хотя как мать моих дохлых уродцев глубоко ее уважаю. Я ведь подцепил одну пятнадцатилетнюю милашку... Да ты же знаешь ту желтую девчонку, что работала в Салоне Выпрямления Волос и Отбеливания Кожи у Мерилу, там, в Ниггер-тауне».
«Такты пощипываешь ту сдобную цыпочку, Арч? Ту сдобную негритяночку?»
«Да мы просто неразлучны, Док. Неразлучны. Ну ладно, как говорится, долг — что шило в жопе. Пора возвращаться к своей старой шестеренке».
«Бьюсь об заклад, ее надо хорошенько смазать».
«Вот уж точно сухая дыра, Док... Ну ладно, благодарю за опийную настойку».
«А тебя, Арч, благодарю за покупку... Хи-хи-хи... Слушай, Арчи, мальчик мой, как-нибудь ночью, когда тебе станет совсем невмоготу без ржавого товара, забеги ко мне выпить йохимбинчика».
«Так и сделаю, Док. Можешь не сомневаться. Это будет прямо как в старые времена».
Ну и вот, пришел я, значит, обратно домой, согрел воды, смешал опийную настойку с гвоздикой, корицей и лаврушкой, дал все это Лиз, и, сдается мне, ей полегчало. По крайней мере она перестала меня изводить... Ну а потом я опять зашел к Доку Паркеру — резинку купить... и только вышел, как наткнулся на Роя Бейна — тоже славный малый. Лучше парня, чем Рой Бейн, во всей Зоне не сыщешь... А он мне и говорит: «Видишь, Арч, вон того старого ниггера там, на том пустыре? Так вот, верно, как то, что есть дерьмо и налоги, — он приходит туда каждый вечер в одно и то же время, хоть часы сверяй. Видишь, вон он, за той крапивой? Каждый вечер в полдевятого он приходит на одно и то же место и трет себя до дыр стальной стружкой... Это у него вроде как вместо проповеди».
Вот так я и узнал, который там стукнул час в ту пятницу, тринадцатого, ну а минут через двадцать, самое большее — через полчаса, я взял в лавке Дока немного шпанской мушки, и она начала действовать на меня у Гренельского болота, что на самой дороге в Ниггер-таун... Там, где это болото уходит в сторону, раньше стояла негритянская лачуга... А самого ниггера сожгли в Пизд-Лизе. Он подхватил афтоз и от него совсем ослеп... А одна белая девица из Тексарканы визжит:
«Рой, этот старый ниггер так противно на меня смотрит! Силы земные, мне кажется, я с ног до головы в грязи».
«Ну что ты, милочка, не волнуйся по пустякам. Мы с ребятами его сожжем».
«На медленном огне, радость моя. На медленном. Уж избавь меня от этой головной боли».
Они и сожгли ниггера, потом тот малый забрал свою жену и укатил назад в Тексаркану, а за бензин не заплатил. А старая Сплетница Лу, что держит станцию обслуживания, всю осень только и твердила: «Эти городские являются сюда, сжигают ниггера и даже не расплачиваются за бензин».
Ну а Честер Хут разобрал лачугу того ниггера и снова поставил ее позади своего дома в Блед-Вэлли. Занавесил все окна черной материей, а что внутри творится — об этом лучше помолчим... Больно уж странные у этого Честера привычки... Да, короче, было это как раз там, где раньше стояла лачуга ниггера, прямо напротив дома Старика Брукса, который каждую весну сносит наводнением, только тогда Брукс там еще не жил... Там жил малый по фамилии Скрэнтон. А участок тот размежевали еще в 1919 году... полагаю, вам известно, что этим делом занимался и ваш хозяин... А парень по имени Хамп Клэренс попутно колдовал с водой и рыл колодцы... Тоже славный малый, лучше парня, чем Хамп Клэренс, в Зоне не сыщешь... Вот именно там или где-то около я и наткнулся на Теда Спигота, он дрючил какого-то грязного уличного молокососа.
Ли откашлялся. Управляющий взглянул на него поверх очков:
— Если позволишь, приятель, сперва я договорю, а потом займусь твоим делом.
И он окунулся в историю о том, как ниггер подхватил гидрофобию от коровы.
— Папаша мне и говорит: «Брось свои дела, сынок, пойдем глянем на этого полоумного ниггера...» — ниггера того приковали цепью к кровати, и он голосил, как корова... Насмотрелся я на этого черномазого вволю. Ну что ж, прошу извинить, но у меня дела в Тайном Совете. Хи-хи-хи!
Ли в ужасе слушал. Окружной Управляющий нередко уединялся и неделями удовлетворял тайную страсть к скорпионам и каталогам универмагов Монтгомери. Бывало и такое, что помощники взламывали дверь и выносили его на воздух в состоянии крайнего истощения. Ли решил пустить в ход свой последний козырь.
— Мистер Анкер, — сказал он, — я обращаюсь к вам, как один Южный Боров к другому. — И он извлек из кармана членский билет общества Южных Боровов, напоминание о своих юношеских годах, когда он шарил по карманам пьянчуг.
Управляющий недоверчиво взглянул на билет.
— Что-то не похож ты на настоящего откормленного Южного Борова... Что ты думаешь о евре-е-е-е-ях?..
— Сами знаете, мистер Анкер, еврей только и хочет, что отдудонить молодую христианку... В один прекрасный день мы с этим покончим.
— Ну что ж, для городского парня ты рассуждаешь разумно... Выясните, чего он хочет, и всё сделайте... Он славный малый.
Интерзона
Единственным уроженцем Интерзоны, который никого не домогается сам и никому не нужен, является шофер Эндрю Кейфа, и со стороны Кейфа это не жеманство и не извращение, а удобный предлог для разрыва отношений со всеми, кого он не желает видеть: «Вчера вечером вы пытались заигрывать с Аракнидом. В своем доме я вас больше принимать не смогу». Люди в Зоне то и дело отключаются, не важно, пьют они или нет, и ни один не может наверняка сказать, что не приставал к столь малопривлекательной персоне, как Аракнид.
Аракнид — никчемный шофер, едва способный управлять автомобилем. Как-то раз он сбил беременную женщину, ковылявшую с гор с мешком древесного угля за спиной, и та прямо на улице выкинула окровавленного мертвого ребенка, а Кейф вышел, уселся на обочину и, помешивая палкой кровь, принялся дожидаться, когда полиция, допросив Аракнида, арестует наконец женщину за нарушение Санитарного кодекса.
Аракнид — отталкивающе уродливый молодой человек с вытянутым лицом странного синевато-серого цвета. У него крупный нос и огромные желтые лошадиные зубы. Подыскать привлекательного шофера может кто угодно, но Эндрю Кейф не нашел бы никого, кроме Аракнида. Кейф — блестящий молодой романист-декадент, живущий в перестроенной уборной близ публичных домов туземного квартала.
Зона — это одно громадное строение. Стены комнат сооружены из пластичного цемента, который деформируется, давая людям пристанище, однако, если одна из комнат переполнена, раздается негромкий шлепок и кто-нибудь прямо сквозь стену протискивается в соседнее жилище, то есть на соседнюю кровать, поскольку комнаты состоят в основном из кроватей, на которых и заключаются все торговые сделки Зоны. От гула секса и коммерции Зона ходит ходуном, как огромный растревоженный улей.
— Две трети от процента. От этой цифры я не отступлюсь даже ради моих мужланов.
— Но где накладные, любимый?
— Не там, где ты их ищешь, милый. Это же так ясно.
— Партия джинсов в комплекте с накладными яйцами. Сделано в Голливуде.
— В Голливуде, Сиам.
— Шикарного американского покроя.
— Какие комиссионные?.. Комиссионные... Комиссионные.
— Да, золотко, судно, груженное возбудителем, сделанным в Южной Атлантике из натурального китового дрека, которое в настоящее время содержится Министерством здравоохранения на карантине в Тьера-дель-Фуэго. Комиссионные, дорогуша! Если мы сумеем его оттуда вытащить, то заживем припеваючи. (Китовый дрек — это признанное вредным вещество, которое образуется в процессе разделки кита и выдерживания его на солнце. Отвратное рыбное месиво, запах которого разносится на много миль. Никто еще не нашел ему применения.)
Сделку с этим возбудителем прибрала к рукам компания «Интерзона импорте анлимитед», которая состоит из Марви и Лейфа Неудачника. Вообще-то они специализируются на фармацевтических препаратах, а на стороне держат круглосуточный профилактический пункт, охватывающий все шесть случаев от носа до кормы. (В настоящее время известно шесть независимых друг от друга венерических заболеваний.)
С головой окунувшись в сделку, они оказывают конфиденциальные услуги страдающему спастическим параличом представителю греческого торгового флота и целой смене таможенных инспекторов. Компаньоны никак не могут поладить и в конце концов доносят друг на друга в Посольство, откуда их отсылают в Отдел «Слушать-Не-Хотим-Об-Этом», где от них в итоге отделываются, выгнав через черный ход на засранный пустырь, где грифы дерутся над рыбьими головами. Они в истерике молотят друг друга.
— Ты хочешь съебаться с моими комиссионными!
— Твоими комиссионными! А кто первый учуял выгоду?
— Но накладная-то у меня.
— Изверг! Зато чек будет выписан на мое имя.
— Ублюдок! Без гарантий, что я получу свою долю, ты накладной не увидишь.
— Может, лучше нам расцеловаться и помириться? Ведь не такой уж я мелочный скупердяй.
Они без особого энтузиазма обмениваются рукопожатиями и чмокают друг друга в щеку. Заключение сделки растягивается на много месяцев. Они заручаются услугами Экспедитора. Наконец Марви появляется с чеком на 42 туркестанских курда, выданным анонимным банком в Южной Америке, что позволит обойтись без пошлины в Амстердаме. Вся процедура займет около одиннадцати месяцев.
Теперь он может расслабиться в кафе на Площади. Он демонстрирует фотостатную копию чека. Разумеется, оригинал он ни за что не покажет, а не то какой-нибудь завистник, того и гляди, плеснет на подпись средством для выведения чернильных пятен или испортит чек как-нибудь по-другому.
Все упрашивают его поставить выпивку и отметить это дело, но он лишь жизнерадостно смеется и говорит:
— Дело в том, что выпивку мне покупать уже не на что. Всех курдов до единого я истратил на пенстреп от триппера для Али. Он опять заболел от носа до кормы. Я чуть было не выпихнул этого маленького ублюдка прямо сквозь стену в соседнюю постель. Но вам-то всем известно, какой я сентиментальный старикашка.
Марви все-таки покупает себе рюмочку пива, выдавив из своей ширинки на столик почерневшую монетку: «Сдачи не надо». Официант сметает монетку в совок для мусора, сплевывает на стол и удаляется.
— Брюзга! Он завидует мне из-за чека.
По словам Марви, в Интерзону он приехал «за год до незапамятных времен». Он «для блага службы» ушел в отставку с точно не установленного поста в Госдепе. Вероятно, в молодости он был не лишен привлекательности, но теперь его лицо обрюзгло, а подбородок провис складками, напоминающими оплывшую свечу. Он становился тяжеловат в бедрах.
Лейф Неудачник — высокий тощий норвежец с повязкой на глазу, лицо его застыло в неизменной глупой, заискивающей улыбке. За ним тянется эпическая сага безуспешных предприятий. Он терпел неудачи с разведением лягушек, шиншиллы, сиамских бойцовых рыб, китайской крапивы и искусственного жемчуга. Разными способами и без успеха он пытался воплотить в жизнь идею Кладбища «Пташка Любви» с Гробами на Двоих, монополизировать рынок презервативов во время нехватки резины, содержать публичный дом с заказами по почте, выпускать пенициллин в качестве патентованного лекарства. Он следовал гибельным системам заключения пари в казино Европы и на ипподромах США. Под стать невезению в делах были и невероятные превратности его личной судьбы. В Бруклине озверевшие американские моряки выбили ему ногами передние зубы. Глаз выклевали грифы, когда он выпил пинту опийной настойки и вырубился в Панамском городском парке. Он пять дней просидел в лифте между этажами, испытывая круглосуточную тягу к джанку, и перенес приступ белой горячки, когда плыл на пароходе без билета в солдатском сундучке. Кроме того, однажды в Каире он свалился с заворотом кишок, прободной язвой и перитонитом, а больница была так переполнена, что его положили в отхожем месте, и хирург-грек накачался нембуталом и зашил в нем живую обезьяну, после чего его выебала целая толпа санитаров-арабов, а один санитар стащил пенициллин, подменив его на саночиститель; в другой раз он получил триппер в жопу, и самодовольный английский врач лечил его клизмой с горячей серной кислотой, а немецкий специалист по технологической медицине удалил ему аппендикс ржавым консервным ножом и ножницами для жести (теорию микроорганизмов он считал «чепухой»). Потом, упоенный успехом, он принялся щелкать ножницами и вырезать все, что попадется на глаза: «Тело человека заполнено не необходимыми органами. Ты можешь обойтись одной почкой. Мы иметь две? Да, это есть почка... Внутренние органы не должны так тесно вместе толпиться. Им, как и фатерлянду, нужно жизненное пространство».
Экспедитору еще не заплатили, и Марви предстояло одиннадцать месяцев, до тех пор пока не будет оплачен чек, водить его за нос. Ходили слухи, что Экспедитор родился на Пароме, между Зоной и Островом. Его специальностью было ускорение доставки товаров. Никто толком не знал, была ли от его услуг какая-то польза, и одно лишь упоминание его имени вызывало споры. Приводились доказательства как его чудодейственной расторопности, так и полнейшей никчемности.
Остров, расположенный неподалеку от Зоны, был британской военно-морской базой. Англия удерживает Остров с помощью ежегодного договора о бесплатной аренде, и каждый год этот договор и разрешение на пребывание возобновляются по всей форме. Все население собирается на городской свалке, присутствие обязательно. Президент Острова, как того требует обычай, должен проползти на брюхе по мусору и вручить Разрешение на пребывание и Возобновленный договор об аренде, подписанные каждым гражданином Острова, Губернатору-Резиденту, который стоит, блистая парадным мундиром. Губернатор принимает Разрешение и запихивает его в карман кителя.
— Ну что ж, — говорит он с натянутой улыбкой, — похоже, вы решили позволить нам остаться еще на год? Очень мило с вашей стороны. И все этим довольны?.. Может, кто-нибудь недоволен?
Солдаты в джипах неторопливыми ищущими движениями скользят по толпе дулами пулеметов.
— Все довольны. Что ж, превосходно. — Он радостно поворачивается к поверженному ниц Президенту. — А бумаги ваши я сохраню на тот случай, если припрет. Ха-ха-ха!
Его громкий металлический хохот звенит по всей свалке, и вместе с ним под шарящими дулами смеется толпа. На Острове добросовестно соблюдаются все формальности демократии. Существуют Сенат и Конгресс, они проводят бесконечные сессии, где обсуждают удаление мусора и инспектирование уборных — единственные два вопроса, на которые распространяется их юрисдикция. В середине девятнадцатого века им было какое-то время разрешено контролировать Министерство Охраны Бабуинов, но затем они были лишены этой привилегии ввиду абсентеизма в Сенате.
Лиловозадые бабуины из Триполи были завезены на Остров пиратами в XVII столетии. Легенда гласит, что, когда бабуины покинут Остров, он падет. Перед кем и каким способом, не уточняется, однако убийство бабуина карается смертной казнью, а из-за гнусного поведения этих животных граждане теряют остатки терпения. Время от времени кто-нибудь, впав в исступление, убивает нескольких бабуинов и себя.
Пост Президента навязывается только особо гнусным и непопулярным гражданам. Избрание Президентом — самые большие несчастье и позор из всех, что могут постигнуть островитянина. Унижения и бесчестье таковы, что мало кто из Президентов дожил до окончания своих полномочий — как правило, через год-другой они умирают по причине сломленного духа. Экспедитор однажды был Президентом и прослужил все пять лет своего срока. Впоследствии он сменил имя и подвергся пластической операции, дабы как можно глубже упрятать память о своем позоре.
— Да, конечно... мы вам заплатим, — говорил Экспедитору Марви. — Но не торопитесь. Не исключено, что придется немного подождать...
— Не торопитесь! Подождать!.. Послушайте...
— Знаю, знаю. Ссудная касса снова изымает у вашей жены искусственную почку... А бабушку вашу они выселяют из железных легких.
— Это просто бестактно, старина... Сказать по правде, я жалею, что ввязался в это дело. В этом треклятом жире слишком много карболки. Как-то на прошлой неделе я был на таможне. Сунул в бак метловище, и жир тут же отъел конец. Да еще и вонь с ног сшибает — того и гляди, шлепнешься на свою злосчастную задницу. Вы бы прогулялись к порту.
— Я этого не сделаю, — проскрипел Марви. В Зоне, дабы не потерять положение в обществе, никогда не следует прикасаться и даже близко подходить к тому, что продаешь. Сделать это — значит возбудить подозрения в розничной торговле, то есть в том, что ты — обычный разносчик. Большая часть товаров продается в Зоне через уличных разносчиков.
— Зачем вы мне все это рассказываете? Это же просто омерзительно! Пускай об этом заботятся розничные торговцы.
— Вам-то хорошо, ребята, вы-то останетесь чистенькими. А мне приходится думать о своей репутации. Тут будет отчего поволноваться.
— Вы, случаем, не намекаете на то, что в этой операции есть нечто противозаконное?
— Да нет, не то чтобы противозаконное. Но что-то здесь нечисто. Явно нечисто.
— Отправляйся-ка обратно на свой Остров, пока он не пал! Думаешь, мы не знаем, что когда-то ты по пять песет торговал вразнос своей лиловой жопой в сортирах на Площади!
— И охотников тоже находилось немного, — вставил Лейф. Он произнес «тозе». Этого упоминания о своем островном происхождении Экспедитор вынести уже не смог... Он начал распрямляться, мобилизуя в себе воплощение самого невозмутимого из английских аристократов и готовясь ледяным тоном произнести сжатую «сокрушительную речь», но взамен с языка у него сорвалось скулежное, визгливое рычание побитого пса. В радужном ореоле ослепительной ненависти показалось его дооперационное лицо... Отвратительными, сдавленными гортанными звуками островного диалекта он принялся изрыгать проклятия.
Все островитяне делают вид, что не знают этого диалекта, а то и наотрез отрицают его существование. «Мы есть британские, — говорят они, — мы не иметь никакой проклятый диалект».
В уголках рта Экспедитора собралась пена. Он отплевывался шариками слюны, напоминавшими кусочки ваты. Зеленым облаком его обволокло зловоние материализованной низости. У Марви с Лейфом задрожали коленки.
— Он сошел с ума, — задыхаясь просипел Марви. — Пора отсюда валить.
Они дружно удирают, скрываясь в дымке, которая в зимние месяцы вьется над Зоной, как над холодными турецкими банями.
Обследование
Карл Питерсон обнаружил у себя в ящике повестку с требованием к десяти часам явиться к доктору Бенвею в Министерство душевной гигиены и профилактики...
«Какого черта им от меня надо? — раздраженно подумал он... — Скорее всего ошибка». Но он знал, что они не совершают ошибок... Особенно ошибок в установлении личности...
Карлу и в голову бы не пришло пренебречь вызовом, даже если бы неявка и не влекла за собой никакого наказания... Свободия была государством всеобщего благоденствия. Если гражданину хотелось чего-нибудь — от мешка костяной муки до партнера для секса, — соответствующее министерство готово было предложить эффективные услуги. Скрытая в таком всеохватывающем человеколюбии угроза подавляла всякую мысль о бунте...
Карл шел через Площадь Ратуши... В светящихся фонтанах купались никелированные обнаженные статуи шести футов высотой, с латунными гениталиями... Сооруженный из стеклоблоков и меди купол Ратуши врезался в небо.
Карл обернулся и уставился на американского туриста-гомосексуалиста, который тотчас потупил взор и принялся вертеть в руках светофильтры своей «Лейки»...
Карл вошел в стальной, украшенный эмалевым узором лабиринт Министерства, шагнул к справочному столу... и предъявил свою повестку.
— Пятый этаж... Комната двадцать шесть...
В комнате двадцать шесть медсестра взглянула на него равнодушными подводными глазами.
— Доктор Бенвей вас ждет, — сказала она, улыбаясь. — Входите.
«Будто ему делать нечего, кроме как ждать меня», — подумал Карл.
В кабинете стояла полная тишина, его заливал молочный свет. Доктор пожал Карлу руку, не поднимая взгляда выше уровня груди молодого человека...
«Я уже видел этого типа... — подумал Карл. — Но где?»
Он сел и положил ногу на ногу. Бросив взгляд на пепельницу на столе, он закурил... Он устремил на доктора пристальный вопрошающий взгляд, в котором сквозило нечто большее, чем простая дерзость.
Доктор казался растерянным... Он беспокойно ерзал и покашливал... и перебирал бумаги...
— Хм-хм, — произнес он наконец... — Ваше имя, полагаю, Карл Питерсон...
Его очки сползли на нос в пародии на профессорскую манеру держаться... Карл молча кивнул... Доктор не смотрел на него, но тем не менее, казалось, отметил подтверждение... Он пальцем затолкнул очки на место и открыл папку, лежавшую на крашенном белой эмалью столе.
— Ммммммммммм. Карл Питерсон. — Он ласковым тоном повторил имя, поджал губы и несколько раз кивнул. Внезапно он снова заговорил: — Вы, конечно, знаете, что мы стараемся. Мы все стараемся. Иногда, разумеется, безуспешно. — Его голос удалился, сделавшись слабым и тонким. Он приложил ладонь ко лбу. — Употребить государство — которое является просто инструментом — для удовлетворения потребностей каждого отдельного гражданина. — Голос прогремел так неожиданно низко и громко, что Карл вздрогнул. — Это единственная функция того государства, каким мы его себе представляем. Наши знания... разумеется, неполные. — Он сделал едва заметный пренебрежительный жест... — Например... например... затронем тему... э-э... сексуальных отклонений.
Доктор принялся раскачиваться в кресле взад-вперед. Его очки соскользнули на нос. Карл вдруг почувствовал себя неуютно.
— Мы рассматриваем их как несчастье... болезнь... разумеется, что-то запрещать или... э-э... разрешать тут можно не больше, чем, скажем... при туберкулезе... Да, — повторил он твердо, как будто Карл возразил... — При туберкулезе. С другой стороны, нетрудно понять, что любая болезнь возлагает определенные, ну, скажем, обязательства, определенные настоятельные требования профилактического свойства на органы власти, имеющие отношение к здравоохранению. Нечего и говорить, что подобные требования должны возлагаться при минимальных неудобствах и тяготах, грозящих несчастному индивидууму, который не по своей вине... э-э... заразился... То есть, разумеется, при минимальных тяготах, достаточных для защиты других индивидуумов, которые не в такой степени заражены... Мы не находим обязательную вакцинацию оспы неблагоразумной мерой... То же самое и с изоляцией определенных заразных больных... Я уверен, вы не станете отрицать, что индивидуумов, зараженных, хм-хм, как говорят французы, «Les Maladies galantes»[78], хи-хи-хи, следует принуждать к лечению, если они не являются добровольно. — Доктор продолжал посмеиваться и раскачиваться в кресле, как заводная игрушка... Карл понял, что от него ждут каких-то слов.
— Это кажется разумным, — сказал он.
Доктор прекратил посмеиваться. Неожиданно он застыл в неподвижности.
— Теперь вернемся к... э-э... вопросу сексуальных отклонений. Откровенно говоря, мы не делаем вида, что понимаем — по крайней мере до конца, — почему некоторые мужчины и женщины предпочитают... э-э... сексуальное общество одного с ними пола. Тем не менее мы знаем, что это... э-э... явление достаточно распространено и в определенных условиях является предметом... э-э... заботы нашего министерства.
Впервые взгляд доктора хлестнул по лицу Карла, и он увидел глаза без тени сердечного тепла, или ненависти, или любого чувства, которое Карл когда-либо испытывал сам либо видел в других, одновременно спокойные и настороженные, хищные и бесстрастные. Карлу вдруг показалось, что в этой тихой, напоминающей подводную пещеру комнате он загнан в ловушку, отрезан от всех источников тепла и надежности. Его представление о самом себе, сидящем тут молча, настороженно, с тенью умело скрываемого презрения на лице, сделалось смутным, как будто жизненные силы оставили его, чтобы смешаться с молочно-серой средой комнаты.
— В настоящее время лечение этих расстройств, хм-хм, симптоматическое. — Доктор вдруг откинулся назад и разразился взрывами металлического хохота. Карл испуганно смотрел на него... «Этот человек — сумасшедший», — подумал он. Лицо доктора сделалось непроницаемым, как лицо картежника. У Карла возникло необычное ощущение в желудке — точно при неожиданной остановке лифта.
Доктор изучал лежавшие перед ним документы. Он заговорил довольным, слегка покровительственным тоном:
— Не делайте такого испуганного вида, молодой человек. Всего лишь профессиональная шутка. Сказать, что лечение симптоматическое, — значит сказать, что нет никакого, разве что больного заставляют чувствовать себя как можно уютнее. А именно этого мы и пытаемся добиться в подобных случаях. — И вновь Карл почувствовал на своем лице импульс холодного интереса. — То есть, допустим, ему возвращают уверенность в себе, когда такая уверенность необходима... и, разумеется, предоставляют соответствующую отдушину в виде общения с другими индивидуумами, имеющими подобные тенденции. Не требуется никакой изоляции... хотя это заболевание куда заразнее рака. Рак, моя первая любовь, — голос доктора сделался далеким и слабым. Казалось, он и в самом деле ушел в невидимую дверь, оставив за столом свое пустое тело.
Вдруг он вновь заговорил решительно и твердо:
— И вам наверняка интересно, с какой стати мы занимаемся этим вопросом? — Мелькнула улыбка, сверкающая и холодная, как снег на солнце.
Карл пожал плечами.
— Это меня не касается... мне интересно только одно: почему вы просили меня прийти сюда и зачем говорите мне всю эту... эту...
— Чепуху?
Карл почувствовал досаду, обнаружив, что краснеет.
Доктор откинулся назад и свел вместе кончики пальцев.
— Молодежь, — снисходительно произнес он. — Вечно она спешит. Возможно, когда-нибудь вы поймете всю важность терпения. Нет, Карл... Могу я называть вас Карлом? Я не уклоняюсь от ответа на ваш вопрос. В случае подозрения на туберкулез мы — то есть соответствующее ведомство — можем попросить, даже потребовать, чтобы тот или иной человек явился на флюороскопическое обследование. Таков порядок, вы же понимаете. Большинство этих обследований дает отрицательный результат. Так вот, надо ли говорить, что вас попросили явиться сюда на психическую флюороскопию? Могу добавить: побеседовав с вами, я чувствую относительную уверенность в том, что результат будет фактически отрицательным...
— Но все это просто нелепо. Я всегда интересовался только девушками. Сейчас у меня есть постоянная девушка, и мы собираемся пожениться.
— Да, Карл, я знаю. И поэтому вы здесь. Анализ крови перед свадьбой — разумно это или нет?
— Прошу вас, доктор, говорите прямо.
Казалось, доктор не слышит. Он выплыл из кресла и принялся расхаживать позади Карла, голос его сделался слабым и прерывистым, как музыка в конце продуваемой ветром улицы.
— Могу строго по секрету сказать, что имеются определенные доказательства существования такого фактора, как наследственность. Давление общества. К сожалению, многие гомосексуалисты, как тайные, так и явные, все-таки женятся. Такие браки нередко влияют на... Коэффициент детского населения. — Голос доктора все звучал и звучал. Он говорил о шизофрении, раке, наследственном расстройстве гипоталамуса.
Карл погрузился в дремоту. Он открывал зеленую дверь. Легкие его наполнились отвратительным запахом, и он в ужасе очнулся. Голос доктора был на редкость монотонным и безжизненным — шелестящий джанковый голос:
— Флокуляционный анализ семени Клайберга-Станловски... инструмент диагностики... показателен, по крайней мере в отрицательном смысле. В определенных случаях полезен — рассматривается как часть общей картины... Вероятно, при данных обстоятельствах... — Голос доктора вдруг зазвенел жалобным криком. — Сестра возьмет у вас... э-э... образец.
— Сюда, пожалуйста... — Сестра открыла дверь в одноместную палату с голыми белыми стенами. Она вручила ему банку. — Воспользуйтесь, пожалуйста, вот этим. Просто крикните, когда будете готовы.
На стеклянной полке стоял пузырек с половым возбудителем. Карл чувствовал себя таким пристыженным, как будто мать выложила перед ним его носовой платок. А на нем вышито нечто вроде скромного письмеца: «Будь я пиздой, мы могли бы открыть галантерейную лавку».
Не обращая внимания на возбудитель, он изверг семя в банку, бесстрастно и грубо выебав встояка сестру — прижав ее к стене из стеклоблоков. «Старая Стеклянная Пизда», — он усмехнулся и увидел под северным сиянием пизду, полную разноцветных стеклянных осколков.
Он вымыл пенис и застегнул брюки.
Что-то с холодной презрительной ненавистью следило за каждой его мыслью и каждым движением, следило за ходом анализа, сокращениями его прямой кишки. Он находился в комнате, залитой зеленым светом. Там стояли деревянная двуспальная кровать, вся в пятнах, и черный шкаф с зеркалом во всю высоту. Карл никак не мог разглядеть своего лица. В черном гостиничном кресле кто-то сидел. На этом ком-то были крахмальная белая манишка и грязный бумажный галстук. Лицо распухшее, бескостное, глаза — как горящий гной.
— Что-нибудь не так? — безучастно спросила сестра, протягивая ему стакан воды.
Она с равнодушным презрением наблюдала за тем, как он пьет. С явным отвращением она взяла банку. Потом повернулась к нему.
— Вы что, ждете чего-то особенного? — рявкнула она. С Карлом еще никогда так не разговаривали в его взрослой жизни.
— Нет, а что...
— Тогда можете идти, — она снова повернулась к банке. С резким брезгливым возгласом она смахнула с руки каплю спермы. Карл пересек комнату и остановился у двери:
— Я должен прийти еще раз?
Она взглянула на него с неодобрительным удивлением:
— Вас, разумеется, известят.
Стоя в дверях палаты, она наблюдала за тем, как он идет по коридору и открывает дверь. Он обернулся и попытался беспечно помахать рукой. Сестра не пошевелилась, выражение ее лица осталось прежним. Когда он спускался по лестнице, его лицо стыдом обожгла кривая притворная ухмылка. Турист-гомосексуалист посмотрел на него и понимающе вскинул бровь:
— Что-нибудь не так?
Карл вбежал в парк и нашел пустую скамейку возле бронзового фавна с цимбалами.
— Отведи душу, птенчик. Сразу полегчает. — Турист склонялся над ним, его фотоаппарат раскачивался перед глазами Карла, как большая отвисшая сиська.
— Да отъебись ты!
Карл увидел, как что-то подленькое и отвратительное отразилось в глазах гомика, карих глазах кастрированного животного.
— Ах, на твоем месте, цыпленочек, я бы не выражался. Ты ведь тоже на крючке. Я видел, как ты выходил из Заведения.
— Что ты имеешь в виду? — резко спросил Карл.
— Ах, ничего. Абсолютно ничего.
— Ну что ж, Карл, — начал доктор, улыбаясь и удерживая взгляд на уровне рта Карла. — У меня для вас хорошие новости. — Он взял со стола синий бумажный бланк и проделал сложную пантомиму, сосредоточивая на нем взгляд. — Ваш... э-э... анализ... флокуляционный анализ Робинсона-Клайберга...
— Я полагал, что это анализ Бломберга-Станловски.
Доктор захихикал.
— Да нет же... Вы забегаете вперед, молодой человек. Наверное, вы неправильно поняли. Бломберга-Станловски — это... э-э... совсем другой анализ. Я очень надеюсь... необязательный... — Он вновь захихикал. — Однако, как я уже говорил, прежде чем меня столь очаровательно прервал... мой, хм-хм, юный ученый коллега, кажется, ваш КС... — он держал бланк в вытянутой руке, — абсолютно отрицательный.
Поэтому мы, возможно, больше не будем вас беспокоить. Итак...
Он аккуратно вложил бланк в папку. Потом перелистал документы. Покончив с этой процедурой, он нахмурился и поджал губы. Закрыл папку, прижал ее ладонью к столу и наклонился вперед:
— Карл, когда вы служили в армии... вероятно... да и наверняка бывали длительные периоды, когда вы были лишены тех... э-э... утешений и возможностей, которые предоставляет нам прекрасный пол. В такие, несомненно, мучительные, тяжелые периоды у вас, вероятно, имелась фотография красотки?? А то и целого гарема?? Хи-хи-хи...
Карл взглянул на доктора с нескрываемым отвращением.
— Да, конечно, — сказал он. — И не у меня одного.
— А теперь, Карл, я хотел бы показать вам несколько изображений девочек. — Он извлек из ящика стола конверт. — И попросить вас, если можно, выбрать ту, которой вы больше всего хотели бы... э-э... заняться. Хи-хи-хи... — Внезапно он наклонился вперед, веером держа фотографии перед глазами Карла. — Выбирайте девочку, любую девочку!
Карл вытянул руку и онемевшими пальцами коснулся одной из фотографий. Доктор положил снимок обратно в пачку, перетасовал и снял колоду, сунул пачку в досье Карла и резко хлопнул по нему ладонью. Потом разложил фотографии перед Карлом изображением вверх.
— Здесь она есть?
Карл покачал головой:
— Конечно, нет. Она внутри, где ей и подобает быть. Где место женщины??? — Он открыл досье и показал фото девушки, прикрепленное к таблице тестов Роршаха[79].
— Это она?
Карл молча кивнул.
— У вас хороший вкус, мой мальчик. Могу строго по секрету сказать, что некоторые из этих девочек... — пальцами профессионального игрока он разложил фотографии на пассы трехкартного монте[80] — на самом-то деле мальчики. В бабском наряде, полагаю, так это называется??? — Брови его взмыли вверх и с невероятной скоростью опустились. До Карла не сразу дошло, что он видит нечто необычное. На бесстрастном лице доктора не дрогнул ни один мускул. И вновь Карл испытал в желудке и гениталиях то же плавающее ощущение внезапной остановки лифта.
— Да, Карл, кажется, вы блестяще преодолеваете нашу маленькую полосу препятствий... По-моему, вы считаете все это довольно глупым. Так или нет?
— Говоря по правде... да...
— Вы откровенны, Карл... Это хорошо... А теперь... Карл... — Он растянул имя ласково, точно обходительный сыщик-мошенник, собирающийся угостить вас «Оулд Гоулдз» (и как только копы могут курить эти «Оулд Гоулдз»?) и входящий в роль...
Сыщик-мошенник исполняет короткое танцевальное па.
— Почему бы вам не предложить Человеку сделку? — Он резко поворачивает голову в сторону своего свирепого «суперэго», о котором всегда говорит в третьем лице как о «Человеке» или «Лейтенанте».
— Таков уж Лейтенант — если вы честно играете с ним, он честно играет с вами... Нам бы не хотелось на вас давить... Если б вы могли нам как-то помочь. — Его слова достигают бесплодной пустыни кафетериев, темных закоулков и закусочных. Джанки отворачиваются, чавкая сдобным тортом.
— Педрила «сгнил».
Ошалевший от чумовых колес Педрила, высунув язык, тяжело опускается в гостиничное кресло.
Он встает в нембутальном трансе и вешается, не меняя выражения лица и не втягивая языка.
Сыщик подергивается на пуфике.
— Знаешь Марти Стила? — Подергивание.
— Да.
— Можешь его сдать? — Подергивание? Подергивание?
— Он никому не доверяет.
— Но ты можешь на него выйти. — Подергивание. Подергивание. — Ты же встречался с ним на той неделе, верно? — Подергивание???
— Да.
— Так можешь встретиться и на этой. — Подергивание... подергивание... подергивание... — Ты можешь встретиться с ним сегодня. — Нет подергивания.
— Нет! Нет! Только не это!!
— Слушай-ка, ты собираешься сотрудничать??? — Три злобных подергивания. — А не то... Человек тебе жопу порвет!!! — Он вскидывает сросшиеся брови.
— Итак, Карл, будьте добры, скажите мне, сколько раз и при каких обстоятельствах вы... э-э... позволяли себе участвовать в гомосексуальных актах??? — Его голос уносится вдаль. — Если вы никогда этого не делали, я буду склонен считать вас до некоторой степени нетипичным молодым человеком. — Доктор грозит недоступно далеким пальцем. — В любом случае... — Он похлопал ладонью по досье и бросил на Карла гнусный плотоядный взгляд. Карл заметил, что толщина досье составляет не менее шести дюймов. Казалось, что с тех пор, как он вошел в комнату, оно сильно разбухло.
— Ну, когда я проходил воинскую службу... Эти гомики делали мне грязные предложения, и иногда... когда я оказывался на мели...
— Ну конечно, Карл! — пронзительно вскричал доктор. — В вашем положении я сделал бы то же самое, чего скрывать, хи-хи-хи... Ну что ж, полагаю, этот... э-э... популярный способ пополнения... э-э... казны можно... э-э... отбросить как не относящийся к делу. И все же, Карл, бывали, вероятно, — одним пальцем он постучал по досье, которое испустило слабые миазмы заплесневелых суспензориев и хлорки, — и другие случаи. Когда не затрагивались... э-э... экономические факторы.
В голове Карла вспыхнул зеленый свет. Он увидел смуглое худое тело Ханса — прижавшееся к нему, — и ощутил на своем плече частое дыхание. Зеленый свет погас. В его руке корчилось какое-то громадное насекомое.
Все его существо устремилось прочь в электрической судороге отвращения.
Карл вскочил на ноги, дрожа от ярости.
— Что вы там пишете? — резко спросил он.
— И часто вы дремлете подобным образом??? В разгар беседы?..
— Я вовсе не спал.
— Не спали?
— Просто все это нереально... Теперь я ухожу. Мне все равно. Вы не заставите меня остаться.
Он шел через всю комнату к двери. Он шел уже давно. С трудом волоча ноги, он пытался преодолеть ползучее оцепенение. Казалось, дверь удаляется.
— Куда вы можете уйти, Карл? — голос доктора настиг его из невообразимой дали.
— Отсюда... прочь... В дверь...
— В Зеленую Дверь, Карл?
Голос доктора был едва слышен. Комната взрывалась, разлетаясь в пространстве.
Вы не видали Розу Пантопон?
Держись подальше от Куинз-Плаза, сынок... Гиблое место, кишит сыщиками, они воплями призывают любовника-наркомана... Слишком много уровней... Легавые выскакивают из чулана, накачавшись аммиаком... как разъяренные львы... набрасываются они на бедного старого специалиста по карманам пьянчуг, от страха у него исчезают вены... Он неделю трескается под шкуру, а то и слезает на те пять двадцать девять, что Нью-Йорк щедро и даром выдает наркотам-карманникам...
Так что Педрила, Гончий Пес, Ирландец, Матрос — берегитесь... Взгляните вперед, взгляните вперед, прежде чем ступить на этот мучительный путь...
Мимо со зловещим железным скрежетом проносится поезд подземки...
Куинс-Плаза — гиблое место для ворюг... Слишком много уровней и потаенных мест в стремной подземке, и некуда спрятать вытянутую руку...
Пять месяцев и двадцать девять дней: приговор, выносящийся за «карман», то есть за прикосновение к лоху с очевидным намерением...
Невинных людей могут упрятать в тюрьму за убийство, но не за карман.
Педрила, Гончий Пес, Ирландец, Матрос — мои знакомые наркоты и карманники прежних времен... Старинная шобла 103-й улицы... Матрос и Ирландец повесились в «Гробнице»[81]... Гончий Пес умер от передозировки, а Педрила «сгнил»...
— Вы не видали Розу Пантопон? — спросил старый джанки... — Пора согреться, — надел черное пальто и одолел площадь... Задворками, к Музею Рыночной Улицы, где демонстрируются все виды мастурбации и самопоругания. Особенно пригодится мальчикам...
Вниз по речному руслу катится гангстер в бетоне... Его заковбоили в парилке... Кто эта Вишневая Задница — Джио Задира или Мамаша Джиллиг, Старая Тетушка с Вестминстер-плейс??? Лишь мертвые пальцы говорят по Брайлю...
Миссисипи выкатывает в тихий переулок громадные известняковые валуны.
— Убрать свет! — завопил капитан «Киноплавучей страны»...
Далекое урчание желудков... С северного сияния градом сыплются отравленные голуби... Резервуары пусты... На голодные площади и переулки изумленного города с грохотом рушатся медные статуи...
Нащупывают вену на утренних ломках...
Строго под микстурой от кашля...
Тысячи наркотов штурмуют клиники кристаллического позвоночника, залечивают Седых Старух.
В известняковой пещере встретил человека с головой Медузы в шляпной коробке и сказал таможенному инспектору:
«Будьте осторожны...» Окаменел навеки, с рукой в дюйме от двойного дна...
Очковтиратели, оглашая станцию воплями, обирают кассиров с помощью педерастической куклы... («Кукла» — это мошенничество при размене денег... Известно так же, как «Вексель»...)
— Множественный перелом, — сказал хвастливый врач... — Я крупный специалист...
Бросается в глаза чахотка, свирепствующая на галереях, скользких от коховых плевков...
Многоножка обнюхивает железную дверь, проржавевшую до состояния тонкой черной бумаги от мочи миллионов педиков.
Это вам не родной чистый товар, это никуда не годная пыль; ватки вторяков хранят в себе останки дозы...
Кокаиновые клопы
Серая фетровая шляпа и черное пальто висели на Матросе, как на вешалке, скрючившись в атрофированной тяге-ожидании. Утреннее солнце высветило контуры Матроса, окруженного желто-оранжевым сиянием джанка. Под его кофейной чашкой лежала бумажная салфетка — непременный атрибут каждого, кто подолгу просиживает над кофе на площадях, в ресторанах, на вокзалах и в приемных всех стран.
Любой джанки, даже такого уровня, как Матрос, работает на джанковом Времени, а прежде чем совершить свое назойливое Вторжение во Время, принадлежащее другим, он, как и все просители, должен ждать. (Сколько чашек кофе в час?)
Вошел и уселся у стойки паренек с приметами долгого и болезненного джанкового ожидания на лице. Матрос встрепенулся. Черты его лица сделались смутными, окунувшись во вздрагивающую бурую дымку. Его пальцы шевелились на столе, читая брайлевский шрифт паренька. Взгляд неторопливо, испытующе следовал по завиткам каштановых волос на его затылке.
Паренек шевельнулся и поскреб затылок.
— Кто-то укусил меня, Джо. Что за гадюшник ты тут держишь?
— Кокаиновые клопы, малыш, — сказал Джо, рассматривая на свет яйца. — Ездил я с Айрин Келли, развеселая была бабенка. В Жоппе, штат Монтания, у нее от коки бред начался, вот она и давай носиться по гостинице и орать, что за ней гонятся китайские легавые с большими мясными ножами. В Чикаго я знавал одного легавого, так тот обычно нюхал коку в виде кристалликов, голубых кристалликов. Так вот, одурел он как-то раз и как заорет, что его преследуют федералы, а потом бежит в переулок и сует голову в урну. Я и говорю: «С чего это ты?» — а он отвечает: «Убирайся, а не то пристрелю. Я запрятался лучше некуда!» Когда начнется перекличка, мы будем тут как тут, верно?
Джо посмотрел на Матроса и развел руками в джанковом пожатии плеч.
Матрос заговорил своим исполненным сочувствия голосом, эхом звучащим в голове слушателя. Он с трудом составлял слова холодными пальцами:
— Твой поставщик влип, малыш.
Паренек вздрогнул. Его лицо, изрытое черными джанковыми шрамами, лицо уличного мальчишки, все еще выражало остатки первозданной невинности. Сквозь серые арабески ужаса на Матроса смотрел испуганный зверь.
— Не понял, приятель.
Матрос резко оказался в джанковом фокусе. Он отвернул лацкан пальто и показал медную иглу для инъекций, покрытую плесенью и ярь-медянкой.
— Ушел в отставку на благо службы... Садись, угощайся свежим пирогом с брусникой за счет представительских. Твоя обезьяна его любит... От него лоснится ее шкура.
Через восемь футов утренней закусочной паренек почувствовал, как что-то коснулось его руки. Неожиданно он перетек в кабинку Матроса, приземлившись с неслышным хлюпом. Он взглянул Матросу в глаза — зеленую вселенную, взбудораженную холодными черными потоками.
— Вы агент, мистер?
— Я предпочитаю слово... наводчик. — Его зондирующий смех провибрировал сквозь субстанцию паренька.
— Товар при вас, дядя? Капуста у меня есть.
— Мне не нужны твои деньги, голубчик. Мне нужно твое Время.
— Не понял.
— Тебе доза нужна? Поправиться хочешь? Хочешь или нет?
Матроса обволокло что-то розовое, он задрожал и оказался не в фокусе.
— Да.
— Возьмем Независимых. У них и фараоны особые — пистолетов не носят, одни дубинки. Помню, как-то раз нас с Педрилой свинтили на Куинз-Плаза. Держись подальше от Куинз-Плаза, сынок... гиблое место... кишит сыщиками. Слишком много уровней. Легавые выскакивают из чулана, накачавшись аммиаком, как разъяренные львы... набрасываются они на бедного старого специалиста по карманам пьянчуг, от страха у него исчезают вены. Он неделю трескается под шкуру, а то и слезает на те пять двадцать девять, что Нью-Йорк щедро и даром выдает наркотам-карманникам... Так что Педрила, Гончий Пес, Ирландец, Матрос — берегитесь! Взгляните вперед, взгляните вперед, прежде чем ступить на этот путь...
Мимо со зловещим железным скрежетом проносится поезд подземки.
Дезинсектор делает доброе дело
Матрос мягко коснулся двери и неторопливым движением руки воспроизвел узоры крашеного дуба, оставив на нем едва заметные радужные завитки слизи. Его рука по локоть проникла внутрь. Он отодвинул внутренний засов и посторонился, пропуская паренька вперед.
Пустую комнату заполнял тяжелый бесцветный запах смерти.
— Эта берлога не проветривалась с тех пор, как Дезинсектор морил кокаиновых клопов, — извиняющимся тоном сказал Матрос.
Обостренные чувства паренька заметались в бешеном изучении обстановки. Дешевая квартира с проходными комнатами, вибрирующая от бесшумного сотрясения. Прибитый к одной из стен кухни металлический желоб — был ли он и впрямь металлическим? — переходил в нечто вроде аквариума или бака, наполовину заполненного полупрозрачной зеленой жидкостью. По полу были в беспорядке разбросаны обветшалые вещи, износившиеся на неведомой службе: суспензорий, предназначенный для защиты некоего деликатного органа плоской веерообразной формы; многослойные грыжевые бандажи, бинты и подвязки; большое дугообразное ярмо из пористого розового камня; маленькие свинцовые трубочки, обрезанные с одного конца.
Воздушные потоки от движения тел разгоняли застоявшиеся лужи запахов: истощенно-мальчишеский запах пыльных раздевалок, хлорки плавательных бассейнов, высохшей спермы. Прочие запахи витками розовых спиралей добирались до неведомых дверей.
Матрос пошарил под умывальником и извлек оттуда пакет в оберточной бумаге, которая тотчас расползлась в руках и рассыпалась желтой пылью. На стол, уставленный грязной посудой, он выложил иглу, пипетку и ложку. Но ни один тараканий усик не учуял крошек тьмы.
— Дезинсектор делает доброе дело, — сказал Матрос. — Иногда чересчур доброе.
Он сунул руку в квадратную жестянку из-под порошка от насекомых и вытащил плоский сверток в красной с золотом китайской бумаге.
«Как пакет с шутихами», — подумал паренек. В четырнадцать лет лишился двух пальцев... Несчастный случай во время фейерверка Четвертого июля... позднее, в больнице — первое неслышное, властное прикосновение джанка.
— Они уносят ноги отсюда, малыш. — Матрос приложил руку к затылку. Он непристойно вихлял бедрами, вскрывая пакет — сложное сочетание завязок и оберток.
— Чистый стопроцентный героин. Едва ли человек сейчас жив... и это все твое.
— Так что вам от меня нужно?
— Время.
— Не понял.
— У меня есть то, чего хочешь ты. — Его рука коснулась пакета. Он продрейфовал в прихожую — голос далекий и слабый. — У тебя есть то, чего хочу я... пять минут здесь... час еще где-нибудь... два... четыре... восемь... Быть может, я опережаю сам себя... Каждый день умираю понемногу... На это нужно Время...
Он вернулся в кухню — голос громкий и отчетливый:
— Пять лет за дозу. На улице так дешево не бывает. — Он ткнул пальцем в разделительную линию под носом паренька. — Самый центряк.
— Мистер, я не понимаю, о чем вы.
— Поймешь, малыш... в свое время.
— Ладно. Так что же мне делать?
— Ты согласен?
— Да как... — Он бросил взгляд на пакет. — Что бы там... я согласен.
Паренек почувствовал внутри неслышный зловещий удар. Матрос провел ладонью по глазам паренька, и в руке у него оказалось розовое мошоночное яичко с одним закрытым пульсирующим глазом. Внутри полупрозрачной плоти яичка бурлила черная пена.
Матрос ласкал яйцо явно нечеловеческими руками — черно-розовыми, толстыми, жилистыми, с длинными белыми усиками, растущими из сморщенных кончиков пальцев. Смертельный страх и смертельная слабость охватили паренька, дыхание сперло, кровь застыла в жилах. Он прислонился к стене, которая, казалось, слегка подалась. Сделав над собой усилие, он вновь оказался в джанковом фокусе.
Матрос готовил укол.
— Когда начнется перекличка, мы будем тут как тут, верно? — сказал он, прощупывая вену паренька и слабым старушечьим пальцем растирая гусиную кожу. Он вставил иглу. На дне пипетки расцвела красная орхидея. Матрос сжал пузырек, наблюдая за тем, как врывается в мальчишескую вену раствор, всасываемый немой жаждой крови.
— Боже мой! — сказал паренек. — Так меня еще не двигали! — Он закурил и оглядел кухню, подергиваясь от потребности в сахаре.
— Разве вы не фуфлите? — спросил он.
— Этим дерьмом — молочным сахаром? Джанк — это улица с односторонним движением. Разворота нет. Ты уже никогда не сможешь вернуться.
Меня называют Дезинсектором. Как-то, в одной точке пересечения, я действительно выполнял такие функции и видел, как исполняют танец живота тараканы, задыхающиеся в желтом порошке от насекомых («Нынче очень трудно достать, мадам... идет война. Сделаю вам немного... Два доллара»). Опрыскивал жирных постельных клопов на розовых обоях театрально-убогих отелей Норт-Кларка[82] и отравил зловредную Крысу, при случае пожиравшую человеческих младенцев. А вы бы?
Мое нынешнее задание: обнаруживать лохов и истреблять их. Не тела, а «формы», понимаете? Но я забываю, что вы не можете понять. Нам подвластны все, кроме очень немногих. Но даже в одиночку можно спутать нам все карты. Опасность, как всегда, исходит от продажных агентов: Эй-Джея, Бдительного, Черного Армадильо (носителя болезни Шагаса[83], не принимал ванну с самой аргентинской эпидемии 35-го года, помните?), Ли, Матроса и Бенвея. И я знаю, что какой-нибудь агент там, во тьме, меня ищет. Потому что все агенты продаются, а все Борцы Сопротивления предают...
Алгебра потребности
Толстяк Терминал — уроженец Городских Водонапорных Резервуаров, откуда бьют открытые струи с живыми существами миллиона видов, немедленно пожираемыми, пожирателей же уничтожает черная пена времени...
Лишь немногие достигают Площади, места, где Резервуары опорожняются в приливную реку, вынося туда уцелевшие виды, оснащенные защитными средствами из ядовитой слизи, черных гнилых грибовидных наростов и зеленых испарений, которые опаляют легкие и стягивают желудок в тугие узлы...
Обнаженные, чувствительные нервы Толстяка были способны реагировать на смертельные судороги миллиона дрожащих от холода наркотов... Поэтому Толстяк изучил Алгебру Потребности и выжил...
Как-то в пятницу Толстяк выплеснулся на Площадь: полупрозрачно-серый обезьяний зародыш с присосками на дряблых лилово-серых ручонках и окруженным холодным серым хрящом дисковидным ртом миноги, утыканным гнилыми и черными, способными напрягаться зубами, которыми он прощупывает шрамовые узоры джанка.
А мимо шел богач, он уставился на урода, и «Толстяк» плюхнулся в грязь, обоссываясь и обсираясь в ужасе, и сожрал собственное дерьмо, и богач, тронутый столь благоговейным отношением к его властному пристальному взгляду, выгреб из своей пятничной трости монетку (пятница — это мусульманское воскресенье, когда богатым полагается раздавать милостыню).
Так вот, «Толстяк» постиг секрет торговли Черным Мясом и вырастил жирный аквариум тела...
И его пустые перископические глаза простреливали поверхность земли... По пятам за ним плелись наркоманы, и полупрозрачно-серые обезьяны, точно рыбьи остроги, устремлялись к джанковой Жертве и присасывались к ней, а потом все это снова втекало в Толстяка, так что его субстанция росла и росла, заполняя площади, рестораны и приемные всех стран серой липкой джанковой грязью.
Бюллетени Партийного Начальства расшифровываются гебефрениками, латахами и обезьянами, превращаясь в непристойные шарады — пердежный код соллаби; негры открывают и закрывают рты, сверкая срочными донесениями золотых зубов, арабские мятежники подают дымовые сигналы, бросая в бензиновые костры, сооруженные из мусорных куч, жирных сальных евнухов — они образуют самый лучший дым, который застывает в воздухе, черный и густодерьмовый; мозаика мелодий, печальная свирель горбатого нищего, холодный ветер, налетающий с почтовой открытки из Чимборацци, флейты Рамадана, фортепьянная музыка в конце продуваемой ветром улицы, звучащие со всех сторон полицейские сирены; на рекламе, совпавшей во времени с уличной дракой, проступает сигнал SOS.
Два агента, сбивая с толку чужеземные микрофоны, опознают друг друга по особому набору сексуальных извращений и таким сложным кодом ебут во все дыры атомные секреты, что лишь два физика в мире напускают на себя понимающий вид, и каждый из них категорически отвергает теорию другого. Позднее агента-приемника повесят, признав виновным в незаконном обладании нервной системой, и он в судорогах оргазма воспроизведет донесение прикрепленными к его пенису электродами.
Дыхательные ритмы старого сердечника, призывные вихлянья танца живота, тарахтение моторки по масляной воде. Официант роняет каплю, подавая мартини Человеку в Сером Фланелевом Костюме, который сматывается на 6:12, зная, что его засекли. Джанки вылезают в окно уборной китайской закусочной, а мимо с грохотом несется поезд надземки. Калеку заковбоили в «Уолдорфе», и он производит на свет целый помет крыс. («Заковбоить» на жаргоне нью-йоркских бандитов означает: убить ебучего выродка, где бы его ни нашел. Крыса и есть крыса, крыса — это крыса. Это доносчик.) Взбалмошные девственницы во все глаза глядят на английского полковника, который едет мимо, угрожающе размахивая пронзенной копьем визжащей дикой свиньей. Моднючий педик постоянно ходит в соседний бар, надеясь получить информацию от Покойной Матери, которая все еще живет в синапсах и должна вызвать дух неотразимого Нянюшки-Битника. Мальчишки, которые дрочат в школьных уборных и знают друг друга как агентов с Галактики Икс, переходят во второразрядное ночное заведение, где и сидят с жалким и напыщенным видом, пьют виноградный уксус и закусывают лимонами, приводя в смущение тенор-саксофониста, унылого араба в синих очках, подозреваемого в том, что он — Вражеский Сендер. Всемирная сеть наркотов, настроенная на струну протухшей спермы... перетягивающая руки в меблированных комнатах... дрожащая на предрассветных ломках... (Люди Старого Пита глотают Черный Дым в подсобке китайской прачечной. Меланхоличная Малютка умирает на ломках от передозировки времени или отнятия дыхания... в Аравии... Париже... Мехико... Нью-Йорке... Нью-Орлеане...) Живые и мертвые... на ломках или в отрубе... подсевшие или слезшие и снова подсевшие... приходят по джанковому лучу, а Поставщик жует Китайское Рагу на улице Долорес... макает сдобный торт в «Бикфорде»... его с лаем загоняет на Толкучку свора людей. Малярийные больные всех стран кутаются в дрожащую протоплазму. Страх скрепляет донесение говна клинообразной печатью. Хихикающие бунтовщики совокупляются под вопли сжигаемого ниггера. Одинокие библиотекарши сливаются в духовном поцелуе дурного запаха изо рта. Гриппозное состояние, браток? Боль в горле, назойливая и мерзкая, как обжигающий полуденный ветер? Добро пожаловать в Международную Сифилисную Ложу — «Да благошловит ваш Методишкий Епишкопальный Бог» (фраза, применяемая для установления речевого дефекта, типичного при парезе), — а не то первые же признаки твердого шанкра сделают вас ее уважаемым членом. Вибрирующий беззвучный гул густого леса и оргонных аккумуляторов, неожиданная тишина городов, когда джанки крадет себе на дозу, и даже Пригородный Житель пытается дозвониться по засоренным холестериновым проводам. Над миром вспыхивают сигнальные огни оргазма. Чаевник вскакивает и с криком «мне страшно!» убегает в мексиканскую ночь, угнетая затылочные доли мозга всех стран. Палач обсирается в страхе при виде приговоренного. Мучитель орет что-то на ухо своей неумолимой жертве. Поножовщики обнимаются в адреналине. На пороге Раковая Опухоль с поздравительной телеграммой...
Хаузер и О’Брайен
Когда они пришли за мной в то утро, в восемь часов, я знал, что это мой последний шанс, мой единственный шанс. Но они не знали. Да и откуда им было знать? Всего лишь обычный арест. Однако не совсем обычный.
Хаузер завтракал, когда позвонил лейтенант:
— Я хочу, чтобы вы с напарником по дороге в контору взяли парня по фамилии Ли, Уильям Ли. Он в отеле «Минога». Дом 103, у самой транспортной развязки.
— Да, я знаю, где это. И его я помню.
— Хорошо. Комната 606. Арестуйте его, и все. И не переворачивайте там все вверх дном, не теряйте времени. Доставьте сюда только все книги, письма, рукописи. Все, что написано или напечатано в типографии и на машинке. Уловил?
— Уловил. Но что за новости... Книги...
— Выполняйте. — Лейтенант повесил трубку.
Хаузер и О’Брайен. Они двадцать лет прослужили в городском отделе наркотиков. Ветераны, как и я. Я сижу на джанке шестнадцать лет. По здешним меркам они были не так уж и плохи. По крайней мере О’Брайен. О’Брайен был мошенником, а Хаузер — непокладистым малым. Водевильная парочка. Для Хаузера было обычным делом, прежде чем что-то сказать, как следует вам врезать — просто чтобы растопить лед. Потом О’Брайен угощает вас «Оулд Гоулдз» — и как только копы могут курить эти «Оулд Гоулдз»?.. — и принимается за обработку полицейским мошенничеством явно тюремного разлива. Парень неплохой, и я не хотел этого делать. Но это был мой последний шанс.
Я как раз перетягивал руку для утреннего укола, когда они вошли с помощью общего ключа. Это особый ключ, который подходит к любой двери, даже если она заперта изнутри и ключ оставлен в замке. Передо мной на столе были пакетик джанка, игла, машина — в Мексике я приобрел привычку пользоваться обычным шприцем и больше не возвращался к пипетке, — а также спирт, вата и стакан воды.
— Ну и ну! — говорит О’Брайен... — Давненько не видались, а?
— Надевай пальто, Ли, — говорит Хаузер. Он уже вытащил револьвер. Он всегда его вытаскивает, когда кого-нибудь вяжет, — для психологического эффекта и чтобы у человека не возникло мысли скинуть улики в туалет, в раковину или в окно.
— Могу я сначала вмазаться, ребята? — спросил я. — Тут осталось полно улик.
Я соображал, как бы мне добраться до чемодана, если они откажут. Чемодан не был заперт, но в руке у Хаузера был револьвер.
— Он хочет уколоться, — сказал Хаузер.
— Ты же знаешь, Билл, что мы не можем этого позволить, — сказал О’Брайен своим ласковым мошенническим голосом, растягивая имя с елейной, вкрадчивой фамильярностью, отвратительной и непристойной.
Само собой, он говорил серьезно.
— А что ты можешь сделать для нас, Билл? — Он посмотрел на меня и улыбнулся. Улыбка оставалась на лице слишком долго, мерзкая и голая, улыбка старого разукрашенного извращенца, вобравшая в себя все запретное зло двусмысленных обязанностей О’Брайена.
— Я мог бы отдать вам Марти Стила, — сказал я. Я знал, что Марти им страшно нужен. Он барыжничал уже пять лет, а они всё никак не могли на нем повиснуть. Марти был ветераном, он очень осторожничал с теми, кого обслуживал. Прежде чем взять с человека деньги, он должен был его узнать, и узнать как следует. Никто не может сказать, что когда-либо отбыл срок из-за меня. Моя репутация превосходна, но Марти все же не стал бы меня обслуживать, потому что знал недостаточно хорошо. Вот таким недоверчивым был Марти.
— Марти! — сказал О’Брайен. — Ты что, можешь на него выйти?
— Ясное дело.
Они что-то подозревали. Человек не может всю жизнь оставаться копом, не выработав интуиции особого покроя.
— Идет, — сказал наконец Хаузер. — Но лучше тебе сдержать слово, Ли.
— Сдержу как миленький. Поверьте, я такие вещи ценю.
Я перетянул руку для укола, пальцы мои дрожали от нетерпения — архетип наркомана.
— Всего лишь старый джанки, ребята, безобидная, дряхлая и трясущаяся джанковая развалина. — Так я это дело изобразил. Как я и рассчитывал, Хаузер отвернулся, когда я начал нащупывать вену. Зрелище не из приятных.
О’Брайен сидел на ручке кресла, покуривая «Оулд Гоулдз» и глядя в окно с тем мечтательным выражением лица, с которым думают, «что-я-буду-делать-когда-выйду-на-пенсию».
Я сразу попал в вену. В шприц ворвался столбик крови, на мгновение яркий и густой, как красный шнур. Я надавил большим пальцем на поршень, чувствуя, как джанк с трудом продвигается по венам и питает миллион жаждущих джанка клеток, чтобы придать каждому нерву и каждой мышце силу и расторопность. Они за мной не наблюдали. Я наполнил шприц спиртом.
Хаузер жонглировал своим курносым полицейским кольтом и оглядывал комнату. Он был способен унюхать опасность, как зверь. Левой рукой он толкнул дверь стенного шкафа и заглянул внутрь. У меня засосало под ложечкой. Я подумал: «Если он заглянет еще и в чемодан, я пропал».
Хаузер резко повернулся ко мне.
— Всё, что ли? — прорычал он. — И не вздумай ебать нам мозги насчет Марти!
Слова прозвучали так угрожающе, что это удивило и потрясло его самого.
Я поднял шприц, полный спирта, и повращал иглу, дабы убедиться, что она насажена прочно.
— Еще пару секунд, — сказал я.
Я выпустил тонкую струйку спирта и хлестнул ею по его глазам, проведя шприцем из стороны в сторону. Он взревел от боли. Падая на одно колено и пытаясь дотянуться до чемодана, я успел увидеть, как он скребет левой рукой глаза, словно срывая невидимую повязку. Я толчком раскрыл чемодан, и моя левая рука сомкнулась на рукоятке пистолета — я правша, но стреляю левой. Сотрясение от выстрела Хаузера я почувствовал прежде, чем его услышал. Пуля вонзилась в стену позади меня. Не вставая, я дважды быстро выстрелил Хаузеру в живот, туда, где жилет задрался, обнажив дюймовую полоску белой рубахи. Мне показалось, он хрюкнул, после чего подался вперед и согнулся пополам. Одеревеневшая в панике рука О’Брайена рвалась к пистолету в наплечной кобуре. Чтобы хорошенько прицелиться, я сомкнул другую руку на запястье той, в которой держал пистолет, — у этого пистолета отшлифованный круглый ударник, так что использовать его можно только для двойного действия, — и выстрелил ему в центр багрового лба, дюйма на два ниже линии серебристых волос. Когда я видел его в последний раз, он уже был седым. Это было лет пятнадцать назад. Мой первый арест. Его глаза погасли. Он упал с кресла ничком. Руки мои уже искали самое необходимое, сметая записные книжки в портфель с моими записками, джанком и коробкой с патронами. Я сунул пистолет за пояс и, на ходу надевая пальто, вышел в коридор.
Я слышал, как, пыхтя, скачут вверх по лестнице портье с коридорным. Спустившись на лифте самообслуживания, я вышел на улицу через пустой вестибюль. Стоял прекрасный день бабьего лета. Я знал, что шансов у меня немного, но любой шанс лучше никакого, лучше, чем стать объектом для опытов с СТ (6), что бы там эти буквы ни значили.
Я должен был как можно скорее запастись джанком. Вместе с аэропортами, вокзалами и автобусными станциями они перекроют все джанковые районы и каналы. Я доехал на такси до Вашингтон-сквер, вышел, прошелся пешком по Четвертой улице и на углу засек Ника. Отыскать барыгу не составляет труда. Словно дух, он является, вызванный вашей потребностью.
— Слушай, Ник, — сказал я, — я уезжаю из города. Хочу взять немного героина. Можешь сделать прямо сейчас?
Мы шли по Четвертой улице. Казалось, голос Ника дрейфует в мое сознание из какого-то неопределенного места. Жутковатый, отделенный от телесной оболочки голос.
— Да, кажется, могу. Мне придется слетать на окраину.
— Можно взять такси.
— Ладно, но к этому малому я тебя привести не могу, ты же понимаешь.
— Понимаю. Поехали.
Мы ехали в такси на север. Ник говорил своим монотонным безжизненным голосом:
— Берем тут на днях чудную наркоту. Не то чтобы слабую... Даже не знаю... Какую-то не такую. Может, они подмешивают туда какое-то синтетическое дерьмо... Карамельки «Долли» или что-то в этом роде.
— Что?!! Уже?
— А?.. Но там, куда я тебя везу, всё в лучшем виде. Товар что надо... Останови здесь.
— Быстрее, пожалуйста, — сказал я.
— Минут десять, не больше, если только у него не кончилось, а тогда ему придется слетать... Лучше посиди вон там и выпей чашку кофе... Место тут стремное.
Я сел у стойки, заказал кофе и ткнул пальцем в миндальное пирожное в пластиковой упаковке. Обмакнув черствое резиновое пирожное в кофе, я принялся молиться, чтобы именно на этот раз, пожалуйста, Господи, пусть он сделает это сейчас, пусть не вернется сказать, что у человека все кончилось и ему придется слетать в Ист-Орандж или Грин-пойнт.
Ну что ж, вот он вернулся и стоит у меня за спиной. Я посмотрел на него, боясь спросить. Смешно, подумал я, вот сижу я тут, и у меня, возможно, один шанс из ста прожить ближайшие двадцать четыре часа — я решил не сдаваться и не проводить следующие три или четыре месяца в зале ожидания смерти. И все-таки я волновался по поводу джанка. Ведь у меня оставалось всего на пять уколов, а без джанка я был бы парализован... Ник кивнул.
— Здесь не отдавай, — сказал я. — Возьмем такси.
Мы сели в такси и направились в центр. Я протянул руку, схватил пакет и сунул в ладонь Ника пятидесятидолларовую банкноту. Он взглянул на нее и обнажил десны в беззубой улыбке:
— Благодарю... Я не внакладе...
Я откинулся на спинку сиденья, дав голове возможность поработать без напряжения. Напрягите свои мозги слишком сильно, и они заебутся, как перегруженный распределительный щит, а то и устроят вам диверсию... А я не имел права ни на какие пределы погрешности. Американцы испытывают сверхъестественный страх перед потерей контроля, перед вещами, происходящими независимо от них, без их вмешательства. Они были бы не прочь впрыгнуть в собственные желудки, чтобы самим переваривать пищу и выгребать дерьмо.
Ваш разум ответит на большинство вопросов, если вы научитесь расслабляться и ждать ответа. Как с обыкновенной мыслящей машиной — вы вводите в нее вопрос, а потом сидите себе и ждете...
Я подбирал имя. Мой разум сортировал имена, сразу отбросив Ф. Л. — Фараонский Любовник, Р. Г. — Рожденный Гнилым, С. М. Н. Т. — Славный Малый Но Трус, — откладывая их в сторону для пересмотра, сокращая, просеивая, нащупывая имя, ответ.
— Знаешь, иногда он заставляет меня ждать три часа. А бывает, получается сразу, как сегодня. — Ник издал короткий осуждающий смешок, который он применял как знак препинания, как нечто вроде извинения за то, что вообще разговаривает в телепатическом мире наркоманов, где лишь количественный фактор — сколько долларов? сколько джанка? — требует словесного выражения. Он знал, и я знал об ожидании все. Торговля наркотиками на всех уровнях происходит без расписания. Никто не приносит товар вовремя, разве что случайно. Наркоман работает на джанковом времени. Его тело — это его песочные часы, и джанк иссякает в нем, как песок в часах. Время имеет для него значение только в связи с его потребностью. Тогда он резко вторгается в чужое время и, подобно всем Чужакам и Просителям, должен ждать, если только случайно не запутается в сетях неджанкового времени.
— А что я ему скажу? Он же знает, что я буду ждать, — Ник хохотнул.
Ночь я провел в «Неостывающих Банях» (гомосексуализм — лучшая из всех легенд, которыми может воспользоваться агент), где рычащий служитель-итальянец создает нервозную обстановку, простреливая общую спальню полевым биноклем с инфракрасным устройством ночного видения.
(— Эй там, в северо-восточном углу! Я вас вижу! — включает прожектора, просовывает голову в люки и двери уборных — стольких гомиков вывели уже в смирительных рубашках...)
Я лежал там, в своей неперекрытой кабинке, уставившись в потолок... слушал визг, хрюканье и рычание в кошмарной полутьме беспорядочной, прерываемой похоти...
— Да отъебись ты!
— Возьми пару биноклей — может, хоть что-то увидишь!
Ранним утром я вышел на улицу и купил газету... Ничего... Я позвонил из аптечной телефонной будки... и попросил отдел наркотиков.
— Лейтенант Гонсалес... Кто говорит?
— Мне нужен О’Брайен. — Мгновение помех, висящих проводов, прерванных связей.
— В Отделе человека с таким именем нет... А вы кто?
— Тогда дайте мне поговорить с Хаузером.
— Послушайте, мистер, никакого О’Брайена, никакого Хаузера в нашем управлении нет. Так чего вы хотите?
— Слушайте, это очень важно... У меня есть информация о крупной партии героина... Я хочу говорить с Хаузером или О’Брайеном... Больше ни с кем я дела не имею...
— Не вешайте трубку... Соединяю вас с Алсибиадесом.
Мне стало интересно, сохранилась ли у них в отделе хоть одна англосаксонская фамилия...
— Я хочу говорить с Хаузером или О’Брайеном.
— Сколько раз можно повторять: нет в Отделе ни Хаузера, ни О’Брайена... Так кто это говорит?
Я повесил трубку и взял такси, чтобы выбраться из этого района... В машине я понял, что произошло... Меня отключили от пространства-времени — так отключается задница угря, когда он прекращает есть на пути к Саргассову морю... Вытолкали вон и заперлись изнутри... Больше никогда у меня не будет Ключа, Точки Пересечения... С этого мгновения Стрём меня не касается... я предан забвению вместе с Хаузером и О’Брайеном, отправлен в недоступное джанковое прошлое, где героин всегда по двадцать восемь долларов унция и где можно подхватить сифилис тяги в китайской прачечной в Сиу-Фоллз... Оказавшись по ту сторону мирового зеркала, ухожу в прошлое вместе с Хаузером и О’Брайеном... царапаюсь в «нет-еще-пока» Телепатических Бюрократий, Монополий Времени, Наркотиков Контроля, Наркоманов, пристрастившихся к Тяжелой Жидкости.
— Я думал об этом еще триста лет тому назад.
— Тогда твой проект был невыполним, а ныне он бесполезен... Как проекты летательных аппаратов да Винчи...
Атрофированное предисловие А вы бы?
К чему все это бумагомарание, переносящее Людей из одного места в другое? Вероятно, чтобы избавить Читателя от стресса, связанного с резкими перемещениями в пространстве, и сохранить его Благосклонность? И вот билет куплен, такси вызвано, посадка в самолет закончена. Нам позволено мельком заглянуть в теплую межперсиковую впадину, когда Она (стюардесса, конечно) склоняется над нами и что-то невнятно бормочет о жевательной резинке, драмамине[84], даже о нембутале.
— Прими опийную настойку, милочка, и я услышу.
Я не «Американ Экспресс»... Если одного из моих людей видят прогуливающимся в штатской одежде по Нью-Йорку, а в следующей фразе развязный парень из Тимбукту рассказывает о юноше с глазами газели, можно предположить, что он (субъект, не живущий в Тимбукту постоянно) добрался туда с помощью обычных транспортных средств...
Агент Ли (сорок четыре-восемь-шестнадцать) предпринимает курс джанкового лечения... пространственно-временное путешествие, зловеще знакомое, когда джанк на каждом шагу ставит наркоману рогатки... курсы лечения, прошедшие и будущие, челноком гоняют видения сквозь его призрачную субстанцию, дрожащую на неслышных ветрах ускоренного Времени... Сделайте укол... Любой Укол...
Непременная боль в костяшках пальцев, полокружительные уколы в камере участка... «Ну что, Билл, героинчика захотелось? Ха-ха-ха!»
Временные полуобразы, которые тают на свету... карманы гнилой эктоплазмы, обчищенные старым джанки, кашляющим и харкающим на утренних ломках...
Старые буро-фиолетовые фотографии, которые скручиваются и потрескивают, как грязь на солнце: Панама-Сити... Билл Гейнз обрабатывает аптекаря-китайца опийным мошенничеством.
— Мои собаки участвуют в бегах... породистые борзые... Все больны дизентерией... Тропический климат... дерьмо... Сабе[85] тебе — дерьмо?.. Мои Борзые Подыхают!.. — Он уже вопил... Глаза его вспыхнули голубым огнем... Пламя погасло... запах жженого металла... — Уколы делаю глазной пипеткой... А вы бы?.. Менструальные колики... моя жена... «Котекс»... Старушка мать... Геморрой... кровь... жалко...
Он отключился, навалившись на прилавок... Аптекарь вынул изо рта зубочистку, взглянул на ее конец и покачал головой...
Гейнз и Ли дочиста обобрали Республику Панаму от Давида до Дарьена[86], оставив ее без опийной настойки... С хлюпающим звуком они разлетелись в разные стороны... Джанки нередко сливаются в одно тело... Следует проявлять осторожность, особенно в стрёмных местах... Гейнз снова в Мехико... Жуткая скелетная ухмылка хронической нехватки джанка, глаза, подернутые пеленой кодеина и чумовых колес... сигаретные дыры в купальном халате... кофейные пятна на полу... дымящая керосинка... ржаво-оранжевое пламя...
Посольство отказалось сообщить подробности — только место захоронения на Американском Кладбище...
А Ли вернулся к сексу и боли, к времени и яхе — горькой Духовной Лозе с Амазонки.
Помню, как-то после передозировки маджуна (это конопля, высушенная, мелко истолченная до консистенции зеленой сахарной пудры и смешанная с какими-нибудь сладостями, по вкусу напоминающая рождественский пудинг с примесью песка, но выбор сладостей произволен...) возвращаюсь я от Лулу или от Джонни, или из Мальчишеской Детской (вонь атрофированного младенчества и сортирного воспитания), оглядываю гостиную той виллы, что близ Танжера, и вдруг не могу понять, где нахожусь. Вероятно, я открыл не ту дверь, и в любой момент Одержимый Держатель, Владелец, Который Попал Туда Первым, ворвется и завопит:
— Что Вы Здесь Делаете? Кто Вы Такой?
А я не знаю, что я там делаю и кто я такой. Я решаю отбросить эмоции и попробовать обрести способность разбираться в окружающем мире, прежде чем покажется Владелец... Короче, вместо того чтобы орать «где я?», остыньте, осмотритесь, и вы приблизительно выясните... вас там не было в Начале. Вас там не будет в Конце... Знание о том, что происходит, может быть лишь поверхностным и относительным... Что я знаю об этом желтолицем молодом разочарованном джанки, существующем на неочищенном опиуме? Я пытался ему внушить: «Как-нибудь утром ты проснешься с собственной печенью на коленях» — и объяснить, как обработать опий-сырец, чтобы он перестал быть обыкновенным ядом. Но глаза его стекленеют, и он ничего не хочет знать. Таковы джанки, большинство их, они не хотят ничего знать... и вы ничего не сможете им доказать... Курильщик ничего не хочет знать, ему бы только курить... И героиновый джанки ничуть не лучше... Строго на игле, а всё прочее — манная каша...
Так что, сдается мне, он все еще сидит там, в своей испанской вилле двадцатых годов, что близ Танжера, и пожирает необработанный мак, в котором полно дерьма, камней и соломы... всё подряд — в страхе что-то упустить...
Писатель может рассказать только об одном: о том, что непосредственно воздействует на его чувства в тот момент, когда он пишет... Я всего лишь записывающий прибор... Я не осмеливаюсь навязывать вам «повесть», «фабулу», «сценарий»... Поскольку мне удается напрямую регистрировать определенные стороны психического процесса, то не исключено, что я преследую ограниченную цель... Я не развлекатель...
«Одержимость» — так это называют... Время от времени тело внезапно оказывается во власти реально существующего «нечто» — контуры колышутся в желто-оранжевом желе, — и тогда руки чешутся распотрошить идущую мимо шлюху или придушить соседского ребенка в надежде умерить хроническую нехватку жилья. Похоже, я обычно в себе и лишь изредка чумею... Неправда! Никогда я не бываю в себе... Никогда, то есть я целиком и полностью одержим, однако каким-то образом в состоянии предотвращать опрометчивые поступки... Патрулирование — вот фактически мое основное занятие... Сколь бы надежна ни была Охрана, я всегда отдаю приказания где-то Снаружи и всегда нахожусь Внутри этой желеобразной смирительной рубашки, которая изнашивается и растягивается, но постоянно обновляется, опережая любой шаг, мысль, любой порыв, отмеченные печатью пристального изучения со стороны...
Писатели говорят о болезненно-сладком запахе смерти, тогда как любой джанки скажет вам, что у смерти нет запаха... и в то же время есть — запах, от которого спирает дыхание и стынет в жилах кровь... бесцветный незапах смерти... невозможно дышать, чувствуя его розовыми извилинами и черными кровяными фильтрами плоти... запах смерти — это, несомненно, и запах, и полнейшее отсутствие запаха... отсутствие запаха сразу же ударяет в нос, потому что вся органическая жизнь имеет запах... исчезновение запаха действует как тьма на глаза, безмолвие на уши, давление и невесомость — на чувство равновесия и ориентации...
Вы всегда ощущаете этот запах и даете почувствовать его другим во время джанкового отнятия... На ломках джанки своим смертным запахом может сделать непригодной для жилья целую квартиру... однако хорошее проветривание вернет в помещение прежнюю вонь и тело вновь сможет дышать... Вы чувствуете этот запах и оказавшись во власти одной из тех неодолимых привычек, которые вдруг усугубляются в геометрической прогрессии, как вздымающийся ввысь лесной пожар...
Лечение одно: Выбрось из головы! Прыгай!
Один мой друг оказался нагишом на втором этаже в гостиничном номере в Марракеше... (Он был обработан своей техасской мамашей, которая в детстве заставляла его носить девчоночью одежду... Грубовато, но эффективно против младенческой протоплазмы...) Остальные жильцы — арабы, три араба... в руках ножи... следят за ним... металлический блеск и точки света в темных глазах... медленно, как осколки опала в глицерине, оседают частицы убийства... Замедленная звериная реакция дала ему целую секунду на то, чтобы принять решение: скорей в окно и вниз, на запруженную народом улицу, как падающая звезда со сверкающим на солнце стеклянным хвостом... потери: сломанная лодыжка и уязвленное самолюбие... завернулся в прозрачную розовую занавеску с остатками металлического карниза и поковылял прочь, в Комиссариат де Полис...
Рано или поздно Бдительный, Деревенщина, Агент Ли, Эй-Джей, Клем и Джоди — Близнецы Спорынья, Хасан О’Лири — Магнат Детского Места, Матрос, Дезинсектор, Эндрю Кейф, Толстяк Терминал, Док Бенвей, Пальчики Шефер будут вынуждены сказать то же самое, теми же словами, чтобы занять в той точке пересечения ту же пространственно-временную позицию. Пользоваться обычным речевым аппаратом со всеми его метаболическими устройствами, то есть поступать как все, — самый неправильный способ выражать Одобрение: Голый джанки в солнечном свете.
Писатель всегда видит, как он читает зеркалу... Время от времени он должен сдерживать себя и убеждаться в том, что Преступление Независимого Действия не совершено, не совершается, не может быть совершено...
Любой, кто хоть раз смотрел в зеркало, знает, что это за преступление и что оно означает в свете утраченного контроля, когда отражение больше не подчиняется... Слишком поздно звонить в Полицию...
Лично я желаю положить конец своей деятельности, поскольку с этих пор больше не могу торговать сырьем смерти... Ваш случай безнадежен, сэр, и отвратителен.
— При нынешнем состоянии наших знаний защита бессмысленна, — сказала Защита, отрываясь от электронного микроскопа...
Отправляйся промышлять в «Уолгринз».
Мы тут ни при чем.
Кради все, что попадется на глаза.
Не знаю, что и возразить белому читателю.
Вы можете об этом писать, орать или вполголоса напевать... можете это рисовать... разыгрывать это на сцене... высирать это мобилями... До тех пор, пока сами этого не сделаете...
Сенаторы вскакивают и с непреклонной решимостью вирусной тяги истошно вопят, требуя Смертной Казни... Смерть наркоманам, смерть сексогомикам (я хочу сказать, сексоманам), смерть психопату, который соблазняет затравленную и непривлекательную плоть утраченной звериной невинностью гибких телодвижений...
Черный ветровой конус смерти вьется над страной, нащупывая, вынюхивая преступление независимой жизни; под громадной кривой вероятности дрожат манипуляторы скованной страхом плоти...
Народ монолитными группами исчезает в шашечной партии геноцида... Число играющих не ограничено...
Либеральная Пресса, Пресса Не Столь Либеральная и Пресса Реакционная горячо одобряют: «Прежде всего следует развеять миф об опыте иного уровня...» — и туманно намекают на некие прискорбные факты... на больных афтозом коров... на профилактику...
Правящие круги всех стран в бешенстве обрывают линии связи...
Планета дрейфует к непредсказуемой участи насекомого...
Первой приползла Термодинамика... Оргон застрял на старте... Христос истек кровью... Время вышло...
Вы можете включиться в «Голый завтрак» в любой точке пересечения... Я написал множество предисловий. Они атрофируются и самопроизвольно отнимаются, как отнимается мизинец ноги при западноафриканской болезни, характерной только для негритянской расы, а идущая мимо блондинка демонстрирует свою бронзовую лодыжку, напедикюренный пальчик скачет прочь по клубной веранде, и ее афганская борзая приносит его обратно к ее ногам...
«Голый завтрак» — это план, практическое руководство... Черное насекомое испытывает нескрываемую страсть к бескрайним инопланетным ландшафтам... Абстрактные понятия, простые, как алгебра, сводятся к черному говну или парочке стареющих метисов...
Данное Руководство умножает уровни восприятия, открывая дверь в конце длинного коридора... Двери, которые открываются только в Тишине... «Голый завтрак» требует от Читателя Тишины. В противном случае Читатель попросту щупает собственный пульс...
Роберт Кристи знаком с телефонистками Справочной службы... Убивает старых пизд... лобковые волосы хранит в своем медальоне... А вы бы?
Роберт Кристи, душитель сонмища женщин — звучит как венок сонетов, — повешен в 1953 году.
Джек Потрошитель, Педантичный Фехтовальщик 1890-х годов, которого так и не застукали на месте преступления... написал письмо в Прессу:
«В следующий раз я пришлю ухо — так, забавы ради... А вы бы?»
— Осторожней! Опять та же история! — вскричал старый гомик, когда лопнула его струна и яйца покатились на пол... — Хватай же их, Джеймс, никчемное старое дерьмо! Хозяйские старые яйца катятся в угольный бункер, а он знай себе стоит столбом!
Очковтиратели, оглашая станцию воплями, обирают кассиров с помощью Педерастической Куклы.
На этом делаудиде я просто прогорю (делаудид — убойной силы обезвоженный морфий).
Шериф в черном жилете печатает распоряжение о приведении в исполнение смертного приговора: «Необходимо узаконить казни и разгрузить отдел наркотиков...
Нарушение Закона о Здравоохранении 334... Достижение оргазма обманным путем...
Джонни стоит на четвереньках, а Мэри отсасывает у него, проводя пальцем вниз по ягодицам, добираясь до самой кромки площадки для игры в шарики...
Через сломанный стул, сквозь оконную побелку инструментального цеха, окунувшись в холодный весенний ветер на известняковом утесе над рекой... в прозрачно-голубом небе застыло облако лунного дыма... наружу, по длинной нити спермы, протянутой по пыльному полу...
Мотель... Мотель... Мотель... расколотая неоновая арабеска... одиночество жалобно стонет по всему континенту, как туманные горны над неподвижной масляной водой приливных рек...
Настырный тип, сморщенный, как кожура выжатого насухо лимона, оформляет жопу, а заодно отрезает ножом кусок гашиша для кальяна — бульканье означает, что это был я...
— Река свое отслужила, сэр.
Фонтан заполняется засохшей листвой, а там, где по лужайке пролег маршрут торгового автомата, сквозь герань буйно прорастает мята...
Стареющий повеса надевает подлинный макинтош двадцатых годов и запихивает в мусоросборник вопящую жену... Струя крови, смешанной с дерьмом и волосами, выводит на стене «1963»... «Да, сэр, да, ребята, наделает дерьмо шуму в шестьдесят третьем», — сказал надоедливый старый пророк — может стоять над душой, пока из вас во всех пространственно-временных направлениях не забьют фонтаны мочи...
— Да, вспомнил, это было как раз за два года до того, как в боливийской уборной обнаружился штамм человеческого афтоза, потом он выбрался на волю с помощью шиншиллового пальто и уладил дело о подоходном налоге в Канзас-Сити... А та лесбиянка, что претендовала на непорочное зачатие, рожает через пупок шестиунциевую паукообразную обезьяну... Говорят, там не обошлось без одного старого коновала, ему просто житья не было от обезьяны...
Я, Уильям Сьюард, капитан здешней перепившейся и обкурившейся подземки, уничтожу ротеноном[87] Лох-Несское Чудовище и заковбою Белого Кита. Я доведу до состояния Бессознательного Повиновения Сатану и очищу души второразрядных демонов. Я изгоню кандиру из ваших плавательных бассейнов. Я издам папскую буллу о Контроле за Непорочной Рождаемостью...
— Чем чаще происходит какое-нибудь событие, тем оно более необыкновенно и удивительно, — сказал претенциозный молодой скандинав на трапеции, изучая свое масонское домашнее задание.
— Евреи не верят в Христа, Клем... Они только и хотят, что отдудонить молодую христианку...
На стенах сральников всех стран поют юные ангелы.
«Приходи и дрочи...» — 1929 год.
«Калека толкал молочно-сахарное дерьмо...» Успел повеситься в последнюю минуту, в 1952 году.
(Опустившийся, затянутый в корсет тенор в бабском наряде поет Дэнни Дивера...)
Мулы не жеребятся в этом славном округе, над неслышным бормотанием упрятанных в зольники мертвецов... Нарушение Закона о Здравоохранении 334.
Так где же статуя, где комиссионное вознаграждение? Кто может сказать? Я не владею Словом... Возвращаюсь к своей резиновой спринцовке... Царь вырвался на волю с огнеметом, а цареубийца, символически замученный в чучелах тысячи бродяг, мчится мимо босяков по задворкам, желая посрать на известняковом теннисном корте.
Молодой Диллинджер вышел из дома и ни разу не оглянулся...
— Никогда не оглядывайся, малыш... А не то превратишься в соляной лизунец для какой-нибудь старой коровы.
Полицейская пуля в переулке... Разорванные крылья Икара, вопли горящего мальчика, вдыхаемые старым джанки... глаза пустые, как бескрайняя равнина... (крылья грифов рассекают сухой воздух).
Краб, престарелый Декан специалистов по карманам пьянчуг, надевает костюм-панцирь и выходит на свой ночной промысел... стальными клешнями выдергивает золотые зубы и коронки у всех бездомных лохов, спящих с открытым ртом... Если лох вскакивает и набрасывается на него, краб пятится и щелкает клешнями, пытаясь затеять битву с неясным исходом на полях брани, где сходятся Гомики.
Юный Грабитель, отъебанный во время длительного тюремного заключения и выселенный с кладбища за неуплату, берет просроченную закладную и с невнятным бормотанием на устах заходит в бар для гомиков, надеясь подцепить припозднившегося партнера из Палаточного Города, где кастраты-коммивояжеры распевают гимн Ай-Би-Эм.
Мандавошки резвились в его лесочке... всю ночь борясь с ангельским сухостоем; побежденные в героической гомосхватке, они спешат убраться восвояси в ржавую известняковую впадину.
Безудержная Страсть извергает семя над соляными болотами, где не растет ничего, даже мандрагора...
Теория вероятностей... Несколько цыплят... Единственный способ выжить...
— Ба, да вот и денежки!
— Ты уверен, что они здесь?
— Конечно, уверен... Пойдем вместе.
Ночной поезд в Чикаго... Встречаю в коридоре девицу, вижу, что она торчит, и спрашиваю, где бы раздобыть еще.
— Входи, сынок.
Цыпочка не так уж и молода, но скроена ладно...
— Может, примем сначала дозу?
— Ну уж нет, тогда тебе будет не до того.
Три палки подряд... Просыпаюсь на ломках, вздрагивая от теплого весеннего ветра из окна, вода жжет глаза, точно кислота...
Она вылезает нагишом из постели... Включает лампу «Кобра»... Готовит дозу...
— Повернись... Я сделаю тебе укол в задницу.
Она глубоко втыкает иглу, вынимает ее и массирует ягодицу...
Она слизывает с пальца каплю крови.
Он ворочается, в серой и липкой джанковой грязи тает сухостой.
В юдоли кокаина и невинности печальноглазые юноши призывают йодлем заблудившегося Мужичка...
Мы нюхали всю ночь и насчитали четыре палки... пальцы спускаются по черной классной доске... скребут белую кость. С героином и море — дом родной, да и с Векселем тусовщик всюду как дома...
Уличный торговец беспокойно ерзает: «Посиди-ка здесь, ладно, малыш? Надо повидать одного человека по поводу обезьяны».
Слово разделено на элементы, которые дальнейшему делению не подлежат, в таком виде их и следует воспринимать, но элементами этими можно пользоваться в любом порядке, можно объединять их на все лады, вставлять в любое место от носа до кормы, словно в увлекательной сексуальной аранжировке. Книга покидает страницы, рассыпаясь во все стороны на калейдоскоп воспоминаний, попурри мелодий и уличных шумов, пердежа и завываний бунта, стука стальных ставней торговых рядов, криков боли и энтузиазма и просто жалобного хныканья, визга спаривающихся котов и нытья насильно пересаженных рыбьих голов, пророческих бормотаний шаманов в мускатно-ореховых трансах, треска ломающихся шей, пронзительных воплей мандрагор, оргазменных вздохов, героиновой немоты, что настает на рассвете в страждущих тюремных камерах, Каирского Радио, горланящего, точно обезумевший табачный аукцион, и флейт Рамадана, ветерком освежающих больного джанки, как это делает в серой рассветной подземке ласковый специалист по карманам пьянчуг, нащупывающий чувствительными пальцами хрустящие зелененькие...
Вот они — Откровение и Пророчество, и ловлю я их без всякого транзистора своим детекторным приемником двадцатых годов с антенной из спермы... Благосклонный Читатель, мы зрим Бога сквозь наши задние проходы в фотовспышке оргазма... С помощью этих отверстий преображай свое грешное тело... Лучший Выход — это Вход...
А теперь я, Уильям Сьюард, выпущу на волю полчища слов... Мое сердце — сердце викинга — парит над широкой бурой рекой, где в сумерках джунглей тарахтят моторные лодки, где плавают целые деревья с гигантскими змеями в ветвях и печальноглазые лемуры следят за берегом с дальнего края полей Миссури (мальчик находит розовый стрелолист), замирает вместе с далекими гудками поезда и возвращается ко мне, голодное, как уличный мальчишка, не умеющий еще торговать вразнос ниспосланной ему Богом задницей...
Благосклонный Читатель, Слово набросится на тебя, выпустив железные когти человека-леопарда, оно отгрызет тебе пальцы рук и ног, словно не брезгующий ничем сухопутный краб, оно повесит тебя и, подобно постижимому псу, будет ловить ртом твою сперму, оно огромной ядовитой змеей обовьется вокруг твоих бедер и впрыснет тебе дозу протухшей эктоплазмы... А почему пес постижимый?
На днях возвращаюсь я с нескончаемого завтрака, нитью тянущегося от рта до жопы все дни нашей жизни, и вижу мальчика-араба с черно-белым псом, умеющим ходить на задних лапах... И тут к мальчику дружелюбно бросается большой желтый пес, а мальчик отпихивает его прочь, и тогда желтый пес рычит, явно намереваясь укусить этого едва начавшего ходить малыша, и ворчит, как будто вдруг обрел дар человеческой речи: «Это же преступление против природы».
Вот я и нарекаю желтого пса Постижимым... И позвольте мне заметить мимоходом — а я всегда хожу мимо, как настоящий черномазый, — что Непостижимому Востоку надобно слопать еще не один пуд соли... Ваш Корреспондент трескает себе тридцать гран морфия в день и сидит восемь часов, непостижимый, как говно.
— О чем ты думаешь? — смущенно поеживаясь, спрашивает Американский Турист...
На что я отвечаю: «Морфий угнетает мой гипоталамус, где локализованы либидо и эмоции, а так как лобные доли мозга включаются, только если хорошенько пощекотать затылочные, — они ведь лишены самостоятельности и способны лишь задницу для пинков подставлять, — я должен признаться в полнейшем отсутствии каких-либо мозговых реакций. Я сознаю твое присутствие, но поскольку оно не вызывает у меня никаких волнующих смысловых ассоциаций, а мой аффект отключен джанковым человеком за неуплату, мне твои постельные проблемы до фени... Можешь сколько угодно приходить и уходить, можешь обосраться или сам себя выебать хоть рашпилем, хоть колом осиновым — а гомику это в самый раз, — Мертвым и Наркотам все равно...» Они непостижимы.
— Как пройти между рядами в ватерклозет? — спросил я у блондинистой билетерши.
— Сюда, сэр... Внутри есть еще одно местечко.
— Вы не видали Розу Пантопон? — спросил старый джанки в черном пальто.
Техасский шериф убил своего соучастника — ветеринара Браубека Нетвердого, замешанного в афере с лошадиным героином... Если у лошадки афтоз, ей нужна уйма героина, чтобы унять боль, а часть этого героина уже скачет, наверное, через пустынные прерии и радостно ржет на Вашингтон-сквер... Туда с пронзительными криками бросаются джанки:
— Эй! Но-о-о, Серебристый!
— Но где же статуя?! — Ну как не посочувствовать тому типичному страдальцу, который так визгливо вскрикнул у стойки отделанной бамбуком кондитерской, Калле Хуарес, Мехико... Так и сгинул там по липовому обвинению в изнасиловании... сорвет с тебя пизда штаны, а потом тебя же и вяжут за изнасилование — вот тебе и статут[88], браток...
Вызывает Чикаго... входите, пожалуйста... вызывает Чикаго... входите, пожалуйста... Для чего, по-вашему, я надевал резинку, отправляясь есть гуляш в Пуйо? Очень сыро в этом городишке, читатель...
— Снимай! Снимай!
Старый гомик встречает самого себя, идущего навстречу, словно пародия на юность, и призрак дряхлого Старика Хаурда дает ему коленом под зад... задворками, к Музею Рыночной улицы, где демонстрируются все виды мастурбации и самопоругания... особенно пригодится мальчикам...
Они созрели для секса и позабыли обратную дорогу к заднему проходу... заблудились средь мимолетных удовольствий и жарких завитушек...
Читайте метастаз слепыми пальцами.
Окаменелое письмо артрита...
— К продаже привыкаешь сильнее, чем к употреблению. — Лола Ла Чата, Мехико.
Детский страх при виде игольных шрамов, вызывающий оцепенение подводный вопль, возвещающий наступление тяги, пульсирующий след укуса, вызвавшего бешенство.
— Если Бог и сотворил нечто лучшее, он оставил это себе, — говаривал Матрос, когда его трансмиссия тормозилась двадцатью чумовыми колесами.
(Медленно, как осколки опала в глицерине, оседают частицы убийства.)
Гляжу на тебя и мурлычу снова и снова «Джонни так долго на ярмарке».
Барыжничаем помаленьку, привычка есть привычка...
— И пользуюсь спиртом, — сказал я и с шумом швырнул спиртовку на стол.
— Вы, ебучие нетерпеливые и жадные джанки, только и знаете, что коптить мои ложки спичками... Мне же за одно это влепят Неопределенный срок — легавым только закопченная ложка и нужна...
— Я-то думал, ты собрался слезать... Заебался бы тебя выхаживать. Требуется немало мужества, чтобы побороть привычку, малыш.
Поиски вен в тающей плоти. Песочные Часы джанка роняют в почки последние черные песчинки...
— Крепко зараженное место, — пробурчал он, сдвигая жгут.
— У них бытовал культ смерти, — сказала моя Старуха, отрываясь от кодексов майя... — И огонь, и дар речи, и семена кукурузы им давала смерть... Смерть превращается в зерно маиса.
Не за горами Дни Уаба[89], промозглые, звонкие ветры горя и ненависти развеяли дозняк.— Убери отсюда эти ебучие непристойные картинки, — сказал я ей. Старый шмекер, накачавшийся водкой с чумовыми колесами, опирался о спинку стула... опозорил собственную кровь.
— Ты что, тоже из нембуталыциков?
Желтыми запахами бормотухи и закупоренной печени повеяло из его одежды, когда он джанковым жестом вытянул руку ладонью вверх, надеясь вырулить дозу...
Запах перечных забегаловок, промокших пальто и атрофированных яиц...
Он посмотрел на меня сквозь временную эктоплазменную плоть лечения... тридцать фунтов материализуются за месяц, когда вы переламываетесь... мягкая розовая мастика, которая исчезает при первом же неслышном прикосновении джанка... Я видел, как это происходит... за десять минут теряются десять фунтов... стоит со шприцем в одной руке... другой поддерживает штаны едкий запах больного металла. Шагаю по мусорной куче высотой до самого неба... разбросанные бензиновые костры... в неподвижном воздухе, черный и густой, как испражнения, застыл дым... окуривающий белую пелену полуденной жары... рядом со мной идет Д. Л. ...отражение моих беззубых десен и безволосого черепа... плоть размазана по гниющим фосфоресцирующим костям, охваченным неторопливыми холодными пожарами... Он несет открытый бидон с бензином, и запах бензина окутывает его... взобравшись на груду ржавого железа, мы встречаем группу туземцев... плоские двухмерные морды рыб, питающихся падалью...
— Облей их бензином и подожги...
на скорую руку...
белая вспышка... сдавленный писк насекомого...
Я восстал из мертвых с металлическим привкусом во рту принеся с собой бесцветный запах смерти детское место полудохлой серой обезьяны фантомные приступы боли после ампутации...
— Таксисты дожидаются пассажира, — сказал Эдуардо и умер от передозировки в Мадриде...
В розовых извилинах распухшей плоти полыхают бикфордовы шнуры... воспламеняющие фотовспышки оргазма... четкие фотоснимки прерванных телодвижений... гладкое смуглое тело, изогнувшееся в попытке закурить...
Он стоял там в соломенной шляпе двадцатых годов, которую кто-то дал ему... на темной улице еле слышно, как мертвая птица с карниза, сорвалась с уст просьба о подаянии...
— Нет... Больше нету... No mas...
Вздымающиеся волны моря отбойных молотков в лилово-буром сумраке, насыщенном гнилостным металлическим запахом канализационного газа... юные лица рабочих, вибрируя, сливаются с желтыми ореолами карбидовых фонарей... вырыты лопнувшие трубы...
— Они перестраивают Город.
Ли рассеянно кивнул:
— Да... Постоянно...
Любой из двух ходов — неразумный шаг к Восточному Крылу... Если бы я знал, то с радостью рассказал бы вам...
— Бесполезно... No bueno... Сам тусуюсь...
«Моя нет... Плиходи пятница».
Танжер, 1959Примечания
1
Обезьяна (жарг.) — наркомания, пристрастие к наркотикам. — Примеч. пер.
(обратно)2
Представительские средства — сумма, выдаваемая фирмой на организацию приемов, деловых встреч и т.д.; не облагается налогом. — Примеч. пер.
(обратно)3
с соответствующими изменениями (лат.). — Примеч. пер.
(обратно)4
Оккам Уильям (ок. 1300—1349) — английский монах-францисканец, философ-схоластик. Развил критику схоластического реализма, получившую название «бритвы Оккама» или «принципа бережливости», выраженного им в словах: «Сущности не должны быть умножаемы сверх необходимости» или «Бесполезно делать посредством многого то, что может быть сделано посредством меньшего». — Примеч. пер.
(обратно)5
Витгенштейн Людвиг (1889—1951) — австрийский философ, основатель лингвистической философии. «Логико-философский трактат» — одна из двух его основных работ. — Примеч. пер.
(обратно)6
бейсбольная команда. — Примеч. пер.
(обратно)7
имеется в виду организация «Бдительные», поддерживающая общественный порядок с помощью самосуда. — Примеч. пер.
(обратно)8
Прозвище является намеком на персонаж детских стишков американского писателя Ю. Филда (1850—1895). — Примеч. пер.
(обратно)9
Пеория — городок в штате Иллинойс на Среднем Западе. Название его стало именем нарицательным для обозначения провинциального застоя. — Примеч. пер.
(обратно)10
Ливенворт — федеральная тюрьма в штате Канзас. — Примеч. пер.
(обратно)11
Человек (жарг.) — торговец наркотиками. — Примеч. пер.
(обратно)12
Эктоплазма — наружная часть цитоплазмы клеток. Также субстанция, применяемая для материализации духов и телекинеза. — Примеч. пер.
(обратно)13
Декортикация — полное или частичное удаление в опытах на животных коры больших полушарий головного мозга. — Примеч. пер.
(обратно)14
Лошадка (жарг.) — героин. — Примеч. пер.
(обратно)15
кафетерий при гостинице «Уолдорф-Астория». — Примеч. пер.
(обратно)16
Хай-лай — игра типа ручного мяча, в которой участвуют два либо четыре игрока. — Примеч. пер.
(обратно)17
такова жизнь (исп.).
(обратно)18
Мид Маргарет (р. 1901) — американский антрополог. В системе наук англоязычных стран антропология часто объединяет всю совокупность наук, изучающих человека и его культуру, особенно культуру народов, находящихся на низком уровне развития. Примеч. пер.
(обратно)19
глупости (иск. нем.).
(обратно)20
клиника, основанная в 1889 году американскими хирургами, братьями Чарлзом Хорасом (1865—1939) и Уильямом Джеймсом (1861—1939) Майо. — Примеч. пер.
(обратно)21
Бэрри Джеймс Мэттью (1860—1937) — шотландский драматург и романист, автор пьесы «Питер Пэн». — Примеч. пер.
(обратно)22
острова в западной части Тихого океана, к северу от восточной оконечности Новой Гвинеи. — Примеч. пер.
(обратно)23
Агути — американский тропический грызун размером с кролика. — Примеч. пер.
(обратно)24
герой одноименной поэмы (1797—1798) английского поэта-романтика и эссеиста Сэмюэля Тэйлора Кольриджа (1772—1834). — Примеч. пер.
(обратно)25
Перефразированная цитата из Библии: «Мужчину и женщину сотворил их» (Книга Бытия, 1:27). — Примеч. пер.
(обратно)26
лекарственный препарат, оказывающий воздействие на блуждающий нерв. — Примеч. пер.
(обратно)27
Уотсон Джон Броудс (1878—1958) — американский психолог. — Примеч. пер.
(обратно)28
«Цыпленок» — детская игра; дети ложатся на мостовую, железнодорожное полотно перед проходящим транспортом. Победит тот, кто встанет последним. — Примеч. пер.
(обратно)29
Остеопат — врач, занимающийся пересадкой органов с добавлением терапевтических методов. — Примеч. пер.
(обратно)30
просторная африканская одежда.
(обратно)31
Намек на Трокмортон-стрит в Лондоне, где находится Лондонская фондовая биржа. — Примеч. пер.
(обратно)32
Алеппо (Халеб) — город в северной части Сирии. — Примеч. пер.
(обратно)33
гурман, кайфовщик, наркоман (нем.). — Примеч. пер.
(обратно)34
Бун Дэниел (1734—1820) — американский пионер, покоритель Дикого Запада; «Звездный флаг» — гимн США, написанный юристом Фрэнсисом Скоттом Ки (1779—1843). — Примеч. пер.
(обратно)35
Намек на «розовый листок» — уведомление об увольнении. — Примеч. пер.
(обратно)36
Покахонтас (1595—1617) — дочь индейского вождя Паухатана, жена английского колониста Джона Ролфа; Гайавата — легендарный индеец, герой поэмы Генри Уордсворта Лонгфелло (1807—1882). — Примеч. пер.
(обратно)37
Буффало Билл — прозвище Уильяма Фредерика Коди (1846—1917), ковбоя, покорителя Дикого Запада, впоследствии владельца ковбойского цирка; Пол Ривер — американский патриот, серебряных дел мастер. — Примеч. пер.
(обратно)38
Осмотический процесс — процесс абсорбции, или диффузии через полунепроницаемую перегородку. — Примеч. пер.
(обратно)39
«Лазарь, иди вон» — слова Христа из Евангелия от Иоанна (11:43). — Примеч. пер.
(обратно)40
Катамит — мальчик, которого держат для сексуальных извращений. — Примеч. пер.
(обратно)41
Мейсоновская банка (по имени изобретателя Джона Мейсона, XIX век) — банка с широким горлышком для домашнего консервирования. — Примеч. пер.
(обратно)42
персонаж «Поэмы о Старом Мореходе» Кольриджа, которому Мореход поведал свою историю. — Примеч. пер.
(обратно)43
то есть в кровь. — Примеч. пер.
(обратно)44
Мандрагора — род многолетних трав с корнями, иногда напоминающими человеческую фигуру, в связи с чем в древности мандрагоре приписывали магическую силу и использовали для вызывания зачатия, как слабительное, наркотик или снотворное. — Примеч. пер.
(обратно)45
Магея — сорт агавы. — Примеч. пер.
(обратно)46
так обычно называют сварливую жену, которая держит мужа под каблуком. — Примеч. пер.
(обратно)47
слова из популярной песни «Лазарет Св. Джеймса». — Примеч. пер.
(обратно)48
Хаусмен Алфред Эдвард (1859—1936) — английский филолог и поэт, автор произведения «Шропширец». — Примеч. пер.
(обратно)49
Титону, сыну Лаомедона, было богами даровано бессмертие, но не вечная юность. Затем он был превращен в кузнечика. — Примеч. пер.
(обратно)50
Оргоны — согласно Вильгельму Райху, вибрирующие жизнетворные атомы, находящиеся в атмосфере. Из-за их нехватки люди заболевают раком и т. д. Вот что пишет Уильям Берроуз в одном из подстрочных примечаний к роману «Нова Экспресс»: «Д-р Вильгельм Райх утверждает, что основным жизненным зарядом является голубой оргоно-образный заряд... Оргоны образуют вокруг земли сферу и заряжают человеческую машину... Он открыл, что оргоны легко проникают сквозь металл, но останавливаются и абсорбируются органической материей... Поэтому он соорудил обшитые металлом ячейки, под металлом — слой органических материалов... Субъекты сидят в... ячейках и аккумулируют оргоны... Оргоны вызывают ощущение покалывания, нередко связываемое с эротической стимуляцией и спонтанным оргазмом...» — Примеч. пер.
(обратно)51
Боас Франц (1858—1942) — немецкий антрополог и этнограф, живший в Америке. Написал трактат о языках и культуре индейцев и эскимосов. — Примеч. пер.
(обратно)52
небольшой пергаментный свиток, помещаемый в специальный ящик у входа в еврейские дома как знак благонадежности и набожности семьи. — Примеч. пер.
(обратно)53
Малышка Одри — беззаботная и доверчивая героиня комедии Шекспира «Как вам это понравится?». — Примеч. пер.
(обратно)54
Кувада — обрядовая симуляция отцом родового акта при рождении ребенка. Известна у многих народов. — Примеч. пер.
(обратно)55
слова песни «Боевой гимн республики», сочиненной Джулией Уорд Хау (декабрь 1861 г.), поется на мотив песни «Тело Джона Брауна». — Примеч. пер.
(обратно)56
фешенебельные клубы в Нью-Йорке. — Примеч. пер.
(обратно)57
нью-йоркская окружная тюрьма. — Примеч. пер.
(обратно)58
«Вулворт» — американская фирма галантерейных магазинов, продающая дешевые товары. — Примеч. пер.
(обратно)59
1. Кровяные выделения. 2. Недожаренное, с кровью (о мясе) (фр.).
(обратно)60
Фольга, в которой готовится пища.
(обратно)61
Не подскажете дорогу в Типперери... — слова из английской песни «Далеко еще до Типперери». — Примеч. пер.
(обратно)62
в свое отсутствие, заочно (лат.).
(обратно)63
система револьвера. — Примеч. пер.
(обратно)64
кинотеатр, где был убит Дилинджер. — Примеч. пер.
(обратно)65
то есть страдающему параличом, который сопровождается спазмами мышц. — Примеч. пер.
(обратно)66
больше не существует (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)67
Каид — губернатор в колониях. — Примеч. пер.
(обратно)68
«Черт возьми» (фр.).
(обратно)69
Рыбное филе из говядины (фр.).
(обратно)70
Пламенеющим (фр.).
(обратно)71
Фланеган Эдвард Джозеф (1886—1948) — американский католический священник, выходец из Ирландии. Основатель «Городка Мальчиков». — Примеч. пер.
(обратно)72
нью-йоркская тюрьма. — Примеч. пер.
(обратно)73
служба секретарей-телефонисток, отвечающих на звонки в отсутствие хозяев. — Примеч. пер.
(обратно)74
поселок городской бедноты с самодельными домами из жести, фанеры и т.д. — Примеч. пер.
(обратно)75
святыня, хранящаяся в храме Кааба в Мекке; является объектом паломничества. — Примеч. пер.
(обратно)76
Биг Билл Брунзи — негритянский композитор, музыкант и певец. — Примеч. пер.
(обратно)77
неспособность координировать мускульные движения, симптом некоторых нервных расстройств. — Примеч. пер.
(обратно)78
любовными болезнями (фр.). — Примеч. пер.
(обратно)79
Тесты Роршаха — набор рисунков на отдельном листе. Роршах (ум. 1922), швейцарский психиатр, создатель теста на умственные способности и эмоциональное восприятие, основанного на интерпретации рисунков, состоящих из чернильных пятен. — Примеч. пер.
(обратно)80
Трехкартное монте — карточная игра, в которой показываются и перемешиваются три карты, кладущиеся затем рубашкой вверх. Желающий должен вытащить определенную карту. (Аналог — «Три листика») — Примеч. пер.
(обратно)81
нью-йоркская городская тюрьма — Примеч. пер.
(обратно)82
Норт-Кларк — улица в Чикаго. — Примеч. пер.
(обратно)83
Болезнь Шагаса (Карлос Шагас (ум. 1934), бразильский врач) — тропический американский трипаносомиаз; распространяется с помощью бактерий, передающихся с укусами насекомых. Протекает в тяжелой форме, например сонная болезнь. — Примеч. пер.
(обратно)84
средство против морской болезни. — Примеч. пер.
(обратно)85
Понятно (Иск. исп.). — Примеч. пер.
(обратно)86
города соответственно на западе и востоке Панамы. — Примеч. пер.
(обратно)87
средство от насекомых. — Примеч. пер.
(обратно)88
Статут, или статутное изнасилование — изнасилование несовершеннолетней. — Примеч. пер.
(обратно)89
Дни Уаба — в майяском календаре — последняя пятидневка тропического года, считавшаяся крайне неудачной. — Примеч. пер.
(обратно)
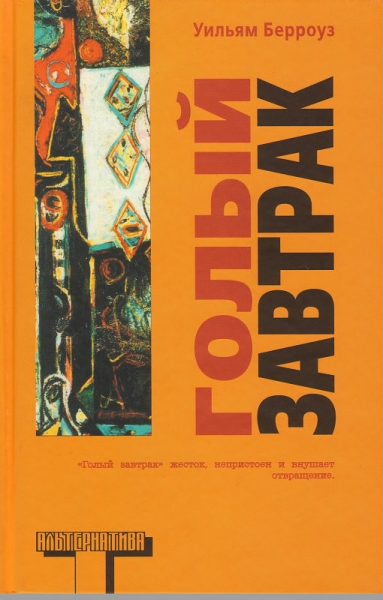

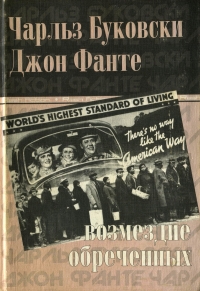
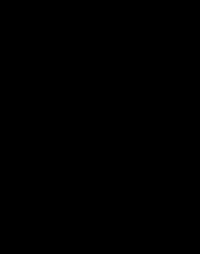

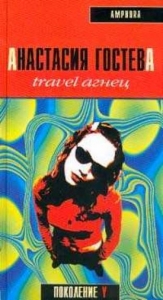


Комментарии к книге «Голый завтрак», Уильям Сьюард Берроуз
Всего 0 комментариев