Для чего нужны вступления? Ну, скажем, для того чтобы читатель плавно, без видимого ущерба для своего здоровья смог вникнуть в простоту хитросплетений сюжетной линии, обрамлённой канвой лирических отступлений. Или же, наоборот, для введения оного в частичное, а лучше, в полное заблуждение, и тогда удачная концовка практически обеспечена.
А вот необходимость вступления к вступлению для меня до сих пор остаётся крайне сомнительным действом, а посему, всё написанное выше вы смело можете не читать. Что, уже? Тогда просто забудьте.
Пролог зелёной формы комнатного цвета.
В мире столько интересного. И не выходя из дома.
В жёлтых журналах, посредством почты почти всегда всемогущей, зелёные формы комнатного цвета навсегда завладели политической ареной мира. Одного чуть не свергли, другой переспал с королевой Елизаветой, а принц Уэльский, что держит в кандалах своей памяти великие рифмы востока, вообще инопланетянин.
– Давай куда-нибудь сходим, – скука – вещь малоприятная, – чего-нибудь выпьем.
– Я пас, – весело отказал мне Алик, – мне надо с балконом разобраться.
– Твой балкон, как хит прошлого лета, – посетовал я.
Придётся напиться в гордом одиночестве.
Мусор с ангельской улыбкой на лице – другие части тела были суровы – прохаживался по карнизу здания местного муниципалитета. Зачем он это делал, непонятно, но видно его было очень хорошо. Вот было бы здорово, если бы он оттуда упал. Сам бы не мучился и других не доставал. А благодарные потомки спустя столетия несут и несут на вечно мокрое место трагического падения охапки полевых ромашек и одинокую черную розу «Наринэ». О вечности не хочется. О сиюминутном не стоит.
Далее, как в кино: задний план, на карнизе которого рискованно развлекается «человек в красной шапке», теряет резкость и пропадает в тумане кинематографической реальности. Контрабас начинает – едва е4 – и выигрывает сложное и очень вкусное соло. Постепенно, обретая чёткость, в кадре вместе с гитарным септаккордом, появляется небольшой стол. На нём из ничего возникает белая чашка. Из неё пронзительным – «я хочу спать» – хрипом саксофона поднимается в небеса терпкий кофейный аромат. Прямо к богу. Рядом с чашкой ждёт своей незавидной участи чистая пепельница. Она не знает, что в течение ближайших двух часов останется без работы. Ей не позволят издать ни одного звука. Нет, в её профессиональных качествах никто не сомневается. Просто курят не все.
Эхом отозвалось фортепиано. Ждать барабанов пришлось не долго. И вот привлекательная и немного загадочная молодая женщина сидит за столом и, глядя в какой-то нерусский журнал, ожидает, когда остынет кофе. Ветер захватил в плен волну солнечных волос и дождливой боссановой лета прогнал её по непослушной гамме осени. Саксофон, освоившись и оттого немного заскучав в небесах, горемычным пьяницей ринулся в пустоту, но…
– Стоп! – закричал режиссёр, – Не верю! – Станиславский отдыхает. – Где сценарист? Кто писал эту ахинею? – он выпил стакан мятного молока и запил его водкой, – Скажите мне на милость: кто видел, чтобы наши дамы, сидя в баре, читали какие-то иностранные журналы, пили только кофе и при этом ещё и не курили?
– Я.
– Что «я»? – он взглядом обнюхал помещение в поисках владельца последней буквы алфавита и уткнулся в меня.
– Я видел, как наши дамы, сидя в баре, читали какие-то иностранные журналы, пили только кофе и при этом ещё и не курили. По крайней мере, одна из них.
Я многозначительно посмотрел на незнакомку. Она ответила мне благодарной улыбкой.
– А ты кто, твою мать, такой? – вежливо поинтересовался режиссёр.
– Кто-кто. Конь в кимоно, – говорить ему, что я тот самый сценарист, я побоялся.
– А почему в кимоно? – раньше он видел коней исключительно в пальто.
– Нетрудно догадаться. Потому что я – конь японский.
Мимо нас, самурайским вихрем на танке пронёсся якудза, угрожая присутствующим трёхсторонним хайку.
Я был зол на новоиспечённого – подгорелая корочка – гения режиссуры за то, что он не дал мне услышать великого грехопадения саксофона. Теперь же хрип превратился в храп, и ничто его в этом несовершенном мире не разбудит. Песню оборвали, и на душе стало гадко.
Солнце, словно пыль на росу, село на горизонт и упало. По ту сторону. Давно это было. Лет сто прошло.
Я возвращался домой. Небо тяжестью всех пяти звёзд давило мне на голову. Я шёл по пустому городу и плакал.
Скупая мужская слёза. О! Это отдельная история. Если мужчина плачет, значит, у него есть веские причины. Вот, скажем, коньяк – причина веская. Я икал и плакал, потому что знал: в моём холодильнике нет креветок. Полцарства за креветку.
«В пьянке замечен не был, но по утрам жадно пил холодную воду», – вот наиболее чёткая характеристика того, что касается творчества Омара Хайяма. Зелёные формы комнатного цвета его рубайята растворились в песнях БГ, как «Титаник» в водах безбрежного океана. Как его не мой, не мой немой не заговорит. Сестра Хаос поселилась…
она просто поселилась и живёт, как котёнок под дощатым настилом на работе у Алика. Его, посчитав, что на этом вся любовь, бросила мать, а он орёт, как резаный. Кушать-то хочется.
Далее тургеневским слогом было написано о том, что Алик, желая уберечь маленький пушистый комочек жизни от голодной смерти, принёс его домой и щедро накормил. Котёнок ожил. Стал играть. Наигравшись, уснул. Уснул и не проснулся. Щедрость стала смертью.
Когда я стал кричать на свою кошку, Алик меня не понял:
– Ты чего это?
– Достала, – я выключил телевизор и включил радио, – ладно бы просила жрать, а то ведь просто так орёт. Для поддержки разговора.
– А причём здесь БГ? – и действительно, причём тут он? Он добавил картошку и лук и поставил аквариум на огонь. Но коль вопрос задан – хочешь, не хочешь – приходится отвечать:
– Я-то думал, что он выдохся. Устал, – «в каникулы мы едем на Jamaйку», – а его сестра, переходя эту реку вброд, посеяла в моей башке хаос.
Песня закончилась, и на душе стало тихо. Китайская инквизиция кухонного крана – кап, кап – прекратила измываться над нервами грязной посуды. Я замолчал. Звучала только тишина. И секунду спустя, мы, словно сговорившись, хором: «Тихий ангел пролетел», – это Алик, а я: «Мент родился», из чего следует: мент и ангел – синонимы.
Мусор с ангельской улыбкой на лице – другие части тела были суровы – прохаживался по карнизу здания местного муниципалитета.
О вечности не хочется,
О сиюминутном не стоит.
Глядя на то, как собака мочится,
Дикий мент наркомана доит.
А на том берегу незабудки
Не забудут никак об электрике -
О великом китайском эксцентрике.
Рыжий пёс проживает в будке,
В небе синем летает птица,
Продаёт огурцы продавщица,
На телебашню влезла высотница
Для того чтоб с неё помочиться.
Просто так. Потому что хочется.
Лучше нет красоты,
Чем, пардон, с высоты.
И жрица монтажа об этом знает,
Но орошает город только летом,
Поскольку только летом не летает
Дельфин зелёной формы комнатного цвета.
Впрочем, где-то это уже было.
Добрая сказка.
Интересно, что делать, когда в голову ничего не лезет? Может быть, попытаться написать детектив? Они вроде бы неплохо продаются. Чтобы кровь текла рекою, и в крутом, интригующем сюжете были замешаны деньги, наркотики, проститутки и любовь. Всё это, конечно, здорово, однако меня этот наборчик не вдохновляет. Даже любовь в обрамлении вышеперечисленного списка не вставляет. А ужастик? По-моему, ужасное чтиво сейчас пользуется популярностью… Чтобы кровь в нём текла рекою и в жутком, леденящем душу, повествовании были замешаны деньги, наркотики, проститутки и любовь. Ужастик – это хорошо, но, откровенно говоря, что-то на ужасы у меня тоже не стоит. Остаётся одно – написать сказку. И не просто сказку, а добрую. И для наличия интриги, сделать так, чтобы кровь в ней текла рекою, и… деньги, наркотики, проститутки и любовь.
Я, конечно, мог бы смеха для и забавы ради написать, что он был наркоманом, а она девушкой по вызову. Но любовь, объединив их сердца, вырвала их из лап пагубных пристрастий. На радостях они посетили казино, где выиграли баснословную сумму денег. Уехали из этой страшной страны и стали жить-поживать, да добра наживать. А что до рек крови, то можно отметить одну пикантную подробность: раз в месяц она страдала изрядно обильными выделениями. И всё. Сказка готова. Можно, довольно потирая руки, идти пить своё время. Но это как-то несерьёзно. А жанр сказки предусматривает всё – буквально всё – от искромётного юмора до трагической случайности. Всё, кроме несерьёзности. И посему мы, со всей обстоятельностью отнесёмся к сказке и приступим к написанию оной.
Город, убаюканный усталой колыбельной, спал. И жители его, утомлённые маршем повседневных забот и дел, тоже спали. Им снились хорошие добрые сны. Городу и его жителям. Город был небольшим и чистым. Стоял он на берегу моря.
Из моря появился человек и, походкой, присущей сразу тридцати трём богатырям, принялся выходить из пучины вод. Где тридцать три богатыря, там и пучина. Одет человек был в гидрокостюм, и за его спиной можно было разглядеть акваланг. Кто он – ночной незнакомец, – и что делает в столь поздний час в море? Ну, что ж. Ответ на этот вопрос мне известен. Это местный и единственный в городе водолаз дядя Вася. А вот о том, что позабыл он ночью в море, мы для создания интриги умолчим или, может быть, никогда не узнаем.
Дядя Вася – это огромный пятидесятилетний добряк. Однако же не дай вам Господь попасться ему под горячую руку. Здоровья в нём было немерено, и рука его была тяжела.
Жил он в небольшом уютном домике, приютившемся на самом берегу моря. Жену дядя Вася похоронил. Её забрало у него море.
Однако не всё так плохо. Боль утраты скрашивала ему дочь. И была она не просто послушным и добрым ребёнком. Она у него была красавица. Длинные стройные ноги. Высокая грудь. Талия – предмет зависти почти всех женщин городка, конечно, из тех, кто ещё думал о таких мелочах, как внешность. Красивые плечи и симпатичное озорное лицо с родинкой у краешка рта. Мне бы хотелось написать: «лицо, в обрамлении длинных, золотистых волос», но волосы её были черны, как смоль и к тому же коротко острижены.
Короче говоря, была дочка дяди Васи предметом ночных фантазий и поллюций ни одного пацана солнечного города. Зная, что по ней тайно вздыхают почти все мальчишки, она носилась от дома к пристани и обратно в короткой отцовской тельняшке. Ходили слухи, что под тельником ничего нет. Но это вздор. Я сам как-то случайно видел голубой шёлк её нескромных, но всё-таки трусиков.
Звали её Ивана. Ей было семнадцать. И была у неё мечта. Нет, Ивана была человеком практичным. Звёзд с неба не хватала и о принце на золотом коне не мечтала. Знаю, знаю, что не на золотом, а на белом. Не мешай. На золотом-то покруче будет. Принца ей заменял папа. Так уж повелось с детства, и отец являл для неё воплощение доброты и справедливости, силы и отваги, короче говоря, мужественности, и поэтому умудрялся заменять в её неглупой головке всех мужчин сразу.
Мечтала Ивана о большом городе. Москве, Питере или…
Нет. Свой городок Ивана любила и уехать из него хотела не потому, что он ей надоел. Манил её ветер свободы большого города. Ну, как ветер? Сквозняк.
А пока она по-прежнему носила в коротком тельнике – полоска чёрная, полоска белая – отцу на пристань обеды. И местные пацаны тяжело вздыхали, глядя на красивые загорелые ноги и упругую грудь под тельняшкой.
Иногда она купалась. О! Это отдельная история и за это можно брать деньги. Она просто снимала старенькую, но всегда чистую тельняшку. Оставаясь топлес, не спеша подходила к краю пирса и, немного постояв, прыгала в воду. Она любила море, и море любило её. Плавала она великолепно. Заплывала далеко-далеко и подолгу лежала на воде, разглядывая в небе вечно молодые облака. Затем возвращалась и медленно выходила из воды. Афродита. Красивая и недоступная. Как же жалело мужское население городка, что случалось это не так часто, как хотелось бы.
Дяде Васе не нравилось, что его девочка дразнила мужиков. Но он молчал. Его ребёнок уже достаточно взрослый для того, чтобы поступать так, как считает нужным.
Так они и жили, проводя лето в приятных заботах, а зиму коротая у камина, который дядя Вася поставил сам. Он вообще был мастером на все руки. Зимой с работой в городе было туго, но заработанных за лето денег хватало для того, чтобы, в общем-то, безбедно переждать мёртвое время года.
Иногда они читали. Ивана всё подряд, но чаще книги на каком-то странном языке по синей магии – они достались ей в наследство от бабки по материнской линии. А дядя Вася – газеты. Ему было совершенно не важно, какую именно газету он читает – свежую или пятилетней выдержки. К периодике он относился с благоговейным трепетом.
А иногда дядя Вася, сидя в кресле-качалке и раскурив трубку, рассказывал своей дочери морские байки, которых он знал несметное множество.
Рассказчик он был неплохой, а посему, давайте и мы послушаем одну из них.
Ну, что? Дядя Вася, мы расселись. Можно начинать. Итак:
Байка о Дельфине и скале «Парус», рассказанная дядей Васей в один из зимних вечеров дочери своей Иване.
«Случилось это давно. В пору, когда люди были честны и бесхитростны, и всего одно неловко оброненное слово могло послужить причиной для смертельного оскорбления. Судов тогда, моя девочка, не было, и правосудие вершилось просто». Иване не нравилось, когда отец называл её «моей девочкой», но, не желая перебивать его в самом начале, она промолчала. «Если ты не прав – отвечай за это. Нередко люди, отвечая за свои ошибки, расставались с жизнью.
Именно в это суровое, но честное время жил человек по имени Ял. Ял был моряком. И надо отдать ему должное, моряком он был отменным. Нередко он выходил в море тогда, когда остальные за всё золото мира не соглашались этого сделать. «Жизнь дороже», – так они говорили. А он выходил и возвращался. Целый, невредимый и богатый.
Как-то раз к нему подошёл странный такой тип. Одетый в чёрное и в широкополой такой шляпе, как у Д’Артаньяна, надвинутой на самые уши и предложил одно выгодное дело. К тому же, идти-то было всего ничего. До Херсонеса и обратно. Ял согласился, но обещанное вознаграждение потребовал вперёд.
В утро перед отходом судна сама природа, казалось, воспротивилась этому. И волны были, как никогда, велики, а ветер был настолько сильным, что, как пух валил огромные деревья. Однако в бухте было относительно спокойно, и Ял решил выйти в море. Я не знаю, что там и как, но, как только он покинул пределы бухты и с успехом преодолел пять гигантских волн, и казалось, что и на этот раз он сможет выйти победителем из схватки со стихией, как на самом гребне шестой, ослепительная молния ударила в корму корабля…
Всё это с утёса наблюдал человек в чёрном, и ураган обходил его стороной. Человек стоял на утесе и, воздев руки к небу, громко и оглушительно смеялся. А корабль, тем временем, превратился в огромный чёрный парус, окаменел и стал скалой, одиноко стоящей в море.
Все матросы Яла спаслись и в один голос уверяли жителей посёлка, что в момент, когда молния ударила в корабль, Ял превратился в дельфина и уплыл в море. Может быть, всё это неправда, но чайки, видевшие, как сатана посмеялся над человеком, заплакали. Ты до сих пор можешь слышать их плач».
– Кто это был? – спросила Ивана.
– Ты о ком? – не понял дядя Вася.
– Ну, тот тип. В чёрной шляпе.
– Говорят, что демон в человеческом обличье.
– Печальная история.
– Да уж, – ответствовал дядя Вася, – но поучительная.
– Ты о том, что не с каждым стоит общаться? – Ивана, выгнувшись кошкой, сладко потянулась.
– Да. И ещё о том, что не всякие деньги стоит брать.
– А говорят, что деньги не пахнут.
– Правильно, девочка моя.
Дядя Вася знал, что девочка его становится маленькой злючкой, когда слышит это. Когда она злилась, она так сильно была похожа на мать. Со дня смерти его жены прошло девять лет, семь месяцев и три дня. Дядя Вася был однолюбом.
– Ну, папа!
– Ладно, ладно, не буду, – пошел на попятную тот и добавил, – девочка моя.
Следующее лето мало чем отличалось от предыдущих. Только воздыхатели Иваны со слюной изо рта наблюдали, что грудь её стала ещё пышнее, ноги стройней и длиннее, а сама она начинала приобретать помимо красоты, то, что принято называть шармом.
Наверное, это случилось, оттого что дочь дяди Васи сменила отцовский тельник на мамино платье, которое было настолько лёгким, что при малейшем дуновении ветерка, стайкой проворных белых птиц вздымалось вверх, открывая зевакам её ноги. Да и декольте у платья было, мягко выражаясь, рискованным. В остальном же всё оставалось по-прежнему. И обеды, которые она носила отцу на пристань, и не частые её купания с открытой грудью, и толпа зевак.
Как-то раз, под вечер, Ивана влетела домой и с порога выпалила отцу, под чаёк мусолившему позавчерашнюю газету:
– Я его видела.
– Кого? – не понял дядя Вася, но, на всякий случай, снял с носа очки, годившиеся только для чтения.
– Яла, – она, не находя себе места, пантерой в клетке металась по комнате.
– Какого Яла?
Бедный дядя Вася. Он и не подозревал, что одна из его многочисленных сказок могла вскружить девчонке голову.
– Ну, как же? – недоумевала та. – Помнишь, ты зимой рассказывал мне историю о моряке, над которым посмеялся дьявол?
– Ах, эту? Только это не история, а байка, – он никогда ещё не видел свою дочь столь возбуждённой и не на шутку забеспокоился, – и от истории, малыш, она отличается тем, что от первого до последнего слова выдумана. Проще говоря, всё это враки, – будешь чай?
– Нет, – отрезала Ивана.
– Ну, тогда иди спать. Поздно уже, – сказал дядя Вася, надеясь на то, что к утру шторм девичьего воображения поутихнет, и всё вновь станет на круги своя.
Однако на следующее утро он обнаружил, что шторм не только не стих, но, продолжая бушевать, забрал его сокровище – его маленькую девочку – в неизвестном направлении. По истечении суток он заявил о пропаже в милицию. Там делали всё, что могли, но потуги их были тщетны.
Так и закончилась наша сказка. И прости мне, читатель, что не текла в ней кровь рекою, и не были замешаны в ней деньги, наркотики, проститутки и любовь.
Что же касаемо ночных вылазок в море дяди Васи, то объясняется всё это довольно просто. Любил он под водой… с аквалангом. По ночам особенно.
А Ивана? Кто знает, где она сейчас? Возможно, ходит по улицам, поражая своей красотой, огни большого города, а может, плавает в море в обществе гордого и красивого дельфина Яла.
Ивана.
Что за идиотская привычка – подавать по утрам чай в постель?
Она приоткрыла дверь в комнату и робко заглянула, как будто хозяин здесь я, а не она. Потом исчезла для того, чтобы появиться вновь с чаем и огромным куском чёрного шоколада в руках.
Она, отнюдь, не из тех, кого принято звать неотразимыми. Простая, вполне доступная молодая женщина. Даже очень молодая. Но, как это нередко случается, описать её просто невозможно. Ты когда-нибудь видел красивых женщин? Согласись, не смотря на красоту, там всё предельно просто. Я тебе рисую примерный портрет, и у тебя в голове возникает штамп – готовый обобщённый образ. А детали – это дело вкуса. Собственного, порой извращённого понятия. Тут же и зацепиться-то не за что. Разве что родинка у краешка рта. Довольно заметная, и то, не помню с какой стороны.
Осторожно дотронувшись до моего плеча, попыталась меня разбудить, словно не хотела делать чего-то подобного, но некто невидимый побуждал её к этому. Мне ничего не оставалось, и я открыл глаза. Плоть моя покинула мир иной и уже несколько секунд пребывает в мире этом, о чём свидетельствует тяжёлая головная боль.
– Сколько уже?
– Десять. Вставай. За мной сейчас должны зайти.
Ну, что мне до них, и до того, что сейчас за ней кто-то зайдёт? Впрочем, я не без благодарности принимаю два протянутых мне блюдца. На одном чашка с горячим чаем, на другом маленькая скала чёрного шоколада. Всё-таки, вчерашний вечер даёт о себе знать. Мне неловко, почти стыдно, но я не смог удержать в руках сие изобилие. Скала чуть не выпрыгнула на постель, и я не полил её чаем лишь потому, что у меня всё это вовремя отобрали.
Что за идиотская привычка: подавать чай в постель, да ещё с шоколадом, и, тем более, мне? На этот необдуманный шаг способен только незнающий меня человек.
Если я просыпаюсь в чужой квартире, значит, вчера вечером я проводил время не в библиотеке.
Полдень и дождь. Летом это большая редкость, и поэтому, пользуясь случаем, я иду под дождём с настроением ребёнка, которому позволили усесться в лужу. Он сидит в ней, шлёпает от радости руками, и ничто его больше не интересует. Я бы тоже уселся, но боюсь, прохожие, которых этот ливень не загнал в укрытие, неправильно меня поймут. Или того хуже, тоже плюхнутся рядом со мной. А эта перспектива меня не устраивает. Предпочитаю одиночество. Дождь и одиночество – для меня это синонимы.
На стоянке такси масса зелёных огоньков предлагала свои услуги. На скамейке, рядом со стоянкой, одинокий силуэт, отданный дождю. Это женщина. Лёгкое платье промокло и прилипло к телу, выгодно подчёркивая совершенство её фигуры. Хотя в тот момент ей, как мне показалось, было не до поз, и дождь не вызывал у неё тех радужных ощущений, какие распирали меня. И всё же он сделал её прекрасной. Мокрые волосы спадали на плечи. Глубокое декольте, благодаря дождю, практически исчезло, и от этого её высокая грудь, казалось, была обнажена, а под длинным подолом платья легко угадывались стройные ноги. Впрочем, всё это напоминало ужасно банальную картинку кисти свободных художников.
Она почувствовала мой взгляд. Отведя от глаз прядь волос, посмотрела. Чтобы как-то избавиться от этой неловкой ситуации, я не придумал ничего лучшего, чем заговорить с ней:
– По-моему, Вам наплевать на дождь, но Вам холодно.
– Да.
Пойди, разбери, что означает это «да», к тому же лицо её приняло довольно независимое выражение. Но отступать уже поздно, да и некуда.
– Тогда, почему бы нам ни согреться чашкой кофе? К тому же я тоже вроде бы не сухой.
– В Ялте нет хорошего кофе.
– В Ялте есть хороший кофе. Просто Вы не знаете, где его искать.
Усмехнувшись, она одарила меня многозначительным взглядом:
– Ну, и где же?
Да, хотя бы у меня. Масса зелёных огоньков предлагала свои услуги.
Бардак, что называется, классический. Это я о своей конуре. Вчера тут развлекался Алик. Похоже, они неплохо покувыркались, и, в знак благодарности, радость уборки оставили мне. А чтобы от нахлынувшего счастья я не скакал по квартире, как породистый жеребец, они забыли в холодильнике почти полную бутылку отравы, именуемую коньяком.
Алик. Он большой любитель «Двина» и длинноногих девочек, и, несмотря на то, что хорошие девчонки в Ялте кончились, он всё-таки умудряется их находить и, причём, такие экземпляры, что мне и не снились. Боже, ему почти тридцать, а он ведёт себя, как семнадцатилетний пацан. Наверное, именно этим он и берёт своих собеседниц. Интересно, как бы восприняла его моя новая знакомая?
– Ванная тут. Сегодня довольно удачный день, – пробурчал я, подавая ей полотенце и большой серый свитер. Самый большой, который нашелся в моём гардеробе.
– Что ты имеешь в виду?
Ну, вот. Мы уже на "ты". Впрочем, я не утруждаю себя ответом. Чего ради? В ванной зашумела вода, и она всё равно не сможет меня услышать.
Воспользовавшись паузой, я начинаю шататься по квартире, делая вид, что пытаюсь навести порядок.
Я успел заправить кровать, вымыть пепельницу, плюхнуться в старое кресло, укрытое бабушкиным пледом и закурить. Как там поёт Майк? «Я одиноко курю, пускаю кольцами дым, я уже не жду перемен…» Всё верно. Только, в отличие от героя его песни, я жду перемен. По крайней мере, сегодня. Да и колец пускать не умею.
Она появилась неожиданно. По-моему, свитер всё-таки немного коротковат, потому что её ноги… Далее должна последовать тирада лестных эпитетов в адрес её ног, но, чтобы этого не делать, я встаю и, ничего не говоря, иду на кухню готовить кофе, оставив свою гостью в некотором недоумении. Что это? Полное безразличие к женщинам, или импотенция? Ни то и ни другое. Просто я обещал своей собеседнице кофе.
Вообще-то я глубоко убеждён, что всякий истинный любитель кофе должен готовить его сам. Правда, я доверяю эту процедуру Алику. И не то чтобы кофе, приготовленный рукой Алика, мне нравился больше, чем мой. Нет. Всё гораздо проще. Просто мать-лень родилась раньше нас, и я – один из её сыновей. Однако Алика тут нет, и я, с чувством собственного достоинства, готовлю кофе сам, хотя особого удовлетворения от этого не испытываю.
Пока я возился на кухне, из комнаты не донеслось ни единого звука. В комнате тихо. Даже как-то неловко нарушать это спокойствие шлёпаньем своих домашних тапочек. Но ничего не попишешь. Я обещал своей гостье кофе.
Она по-кошачьи устроилась в моём любимом кресле, подобрав под себя упругие обнажённые ноги и, видимо, о чём-то думала, потому что совершенно не заметила моего появления. Её взгляд блуждал по полкам книжного шкафа, а пальцы разминали неприкуренную сигарету.
– Кофе, – кажется, я разбудил её. – Ты о чём-то думала?
Пока я разливал кофе в чашки, она молчала, и лишь сделав глоток, задумчиво произнесла:
– Ты когда-нибудь видел, как ночью падают листья?
Нет. Картин ночного листопада я не наблюдал. Но я видел двойственность радуг в день гибели цыгана. Была осень. Дул отличнейший ветер, но был шторм. Он был мастером виндсёрфинга и любил ветер, но не смог справиться с волной. Хотя, зачем ей такие подробности?
На выручку пришёл Алик. Вернее, не Алик, а та бутылка, которую он оставил в холодильнике. Коньяк. Три звёздочки. Армяшечка.
Тепло овладевает телом. Напиток явно располагает к более непринуждённому общению и, видимо, способствует восстановлению памяти, потому что, опорожнив вторую порцию и сладко затянувшись, я вдруг вспомнил, что до сих пор не знаю имени своей собеседницы.
Она звонко рассмеялась. Так могут смеяться только добрые, искренние люди. Их смех заразителен и добродушен. Их веселье неподдельно. Они радуются вашим удачам, забывая о своих поражениях. Они как-то очень по-доброму смеются над собой и над всеми. Они чисты, как родниковая вода.
Внезапный приступ веселья кое-как стих, и, угомонившись, она нарочито официально представилась: «Ивана», – после чего вопросительно посмотрела на меня. Мне ничего не оставалось, и я выдал ей информацию относительно своего «звучного» имени. Она улыбнулась, но промолчала. А я подумал о том, что появился серьёзный повод ещё раз испытать качество продукции Ереванского коньячного завода.
А за окном дождь, и уже давно перевалило за полдень. Как незаметно бежит время. Ещё вчера этого не наблюдалось, и виной тому, я полагаю, совсем не коньяк. Она, скрестив руки за головой, откинулась на спинку кресла. Похоже, она знает себе цену, но она действительно хороша, особенно в этом скупом наряде: серая шерсть старого свитера на голое тело. Ивана встаёт и подходит к окну.
За окном довольно выразительный пейзаж. Правда, сейчас он окутан пеленой дождя и, кроме моря и размытых очертаний Поликуровского холма, ничего не видно. Тонкими змейками вода стекает по стеклу с той стороны окна, рисуя на нём банальные картины печали и напоминая о музыке Montgomery.
Ивана стоит ко мне спиной и пытается повторить путь одной из капель, ведя пальцем по стеклу.
Начинает смеркаться. Скоро вечер. Вечера я пытаюсь проводить вне дома, чтобы не утруждать себя всевозможными приготовлениями к ужину. Тем более что ужинать в одиночестве скучно. Но сегодня я не один, и если сказать об этом Алику, он не поверит, но всё же я решаюсь на этот скорбный шаг и набираю его номер телефона. Три, один, пять, один… впрочем, это не важно. Я коротко пытаюсь изложить суть вещей относительно сегодняшнего вечера. Чего доброго, ещё припрётся сюда со своей очередной партнёршей по танго. Или как он их там величает?
За телефонной болтовнёй я, видимо, отвлёкся от основного объекта своих наблюдений, потому что не заметил, как этот объект освободился от серой шерсти старого свитера. Сделав несколько шагов в мою сторону, она остановилась. Прерванный разговор повис на телефонных проводах. Подошла. Близко. Очень близко. Лён её волос стелился по моей подушке. Мне бы хотелось, чтобы эта ночь не кончалась или хотя бы была полярной.
Проснулся рано. Солнце самым бесстыжим образом мешало сосредоточиться на том, что мы обычно называем сном. Самочувствие, как это не странно, вполне приемлемо, но что-то гнетёт. Рядом со мной никого нет. Странно. В преддверии ночи, впрочем, как и самой ночью, нас было двое. У соседа за стеной, опять играет «Анна». И, что он нашёл в их музыке? Под звуки соседской «Анны», я пью сладкий холодный кофе и разглядываю серое пятно на потолке.
Похоже на то, что она ушла.
От вчерашнего дождя остались только воспоминания. Я весь день просидел дома и лишь к вечеру выбрался к морю. Море, так же как и время, отлично лечит душевные раны. Правда, я не стал бы говорить, что это рана, скорее ссадина – не то, что бы больно, просто неприятно. Да и пройдёт вскоре.
Ты заставляешь читать меня это ещё и ещё раз. Я пробегаю взглядом строчки, перелистываю страницы, но не понимаю, зачем мне это нужно. В течение пятнадцати минут это уже третья сигарета. Слушай, от такой любви одни растраты – никакой экономии. Снова и снова я беру в руки листки изнасилованные старой печатной машинкой и пожираю глазами буквы в надежде поймать новый, неведомый ранее мне смысл, наделяя каждое слово тобой, уподобляя тебе содержание того, над чем я мучился более года назад. Мне кажется, что я выучил уже всё это наизусть.
Я хорошо знаю, что будет утром. Я знаю, что вечером ко мне опять придет желание повеситься. Я знаю, что смогу уснуть только после третьей сигареты. Все это я знаю так же хорошо, как и содержание этого злополучного рассказа. Но тебя нет. Я тебя только придумал и сам себе не даю покоя, потому что говорю: ты – это ты.
Но только где ты? Где тебя искать? Я искал тебя на конце сигареты, которую, не докурив, ты оставила в пепельнице и ушла раньше, чем я подумал о тебе. Господи, всего-то три ноты, и откуда ты взяла, что имеешь право на существование в моем мозгу, если я не позволяю этого даже себе. Так не бывает. Изъеденный любовью мозг хочет, требует тебя, но тебя нет, именно поэтому ты есть. Понимаешь? Послушай, это очень просто – быть именно тогда, когда тебя нет (по крайней мере, во мне), потому что, существуя в реальности, ты перестанешь меня интересовать, а значит, выйдешь из меня, даже не оставив недокуренной сигареты. Поверь, это просто. В этом даже не надо разбираться. Помнишь, когда мы сидели у тебя на кухне, я говорил, что ты нужна мне? Не верь. Мне нужно верить, но нельзя. Я не лгал тебе и не лгу, но это не повод для того, чтобы можно было мне верить.
Боль – это только искушение – желание избавиться от нее. Но, избавляясь, я боюсь лишиться того, что называю памятью. Почему, перемещаясь в пространстве, мы перемещаемся во времени только в том направлении, что зовется будущим, и никогда не можем вернуться в прошлое? В своей нереальности ты реальна настолько, что я могу прийти к тебе в прошлое, в будущее, но не в настоящее, потому что ты можешь войти только в мое прошлое, игнорируя настоящее и совершенно ничего не зная о моем будущем. Я неинтересен – знаю. Именно поэтому ты живешь во мне и не существуешь в реальности. В противном случае тебя не было бы нигде – ни во мне, ни в реальности.
Как это странно и просто – тебя нет, и поэтому ты есть.
Первое время я искал её, шатаясь по барам, дискотекам и ресторанам. Но тщетно.
Наверное, я был болен, потому что в один из вечеров, заявившись ко мне с двумя литрами конины и тремя куклами с ногами от ушей, Алик сказал, что будет меня лечить.
Продолжалось это не долго, и я успокоился так же быстро, как и загорелся. Всё стало на свои места. Я знал, это неизбежность, и я всё равно увижу её. Завтра или через год – какая разница? Важен конечный результат, а не то, сколько и каким образом к нему идти.
Я по-прежнему был предоставлен сам себе, и Алик по-прежнему ублажал своих партнёрш на моей кровати. Время не спешило одаривать нас щедротами неожиданностей и крутыми поворотами судьбы. Даже сосед за стеной слушал всё ту же «Анну» – музыку этих двух повёрнутых, – только пластинка была другой, и серое пятно на моём потолке стало приобретать зеленоватые оттенки.
Иногда я вспоминал о ней, но искать уже не пытался. Мы тащим крест на Голгофу и, подобно Сизифу, пыхтим и надрываемся, толкая наверх свой валун жизни. Но, в отличие от него, наш путь заканчивается на холме, и мы там непременно будем. Нас ждут. Быть может, я встречу её в садах Эдема, и ясность сознания возможно обрести только в мистике?
Я не думаю, что старая, побитая морем и временем, шхуна похожа на Ноев ковчег, а тем более на холм, где сын плотника стал Богом. Обычное, правда, несколько экстравагантное кафе под парусами. Когда-то она, рассекая морские волны и, гонимая упругим ветром, гордо называлась парусником. А теперь тут, выброшенная, но аккуратно «причёсанная», красуется у берега моря, зазывая заезжих ротозеев приобщиться к духу антиквариата и безбрежной морской романтики. Но Montgomery в этой сырости не устарел, и дедушка Богомил, войдя в этот дом, наверняка, остался бы доволен.
В кают-компании безлюдно. Если не считать обдолбленную, но мастерски танцующую девицу, меня и бармена сего заведения – Мойшу Идзевича, то в помещении никого.
Мойша Идзевич – еврей старой одесской закваски, но кофе у него всегда отменный. И он иногда угощает меня, зная, что я ценю его способности в области приготовления этого напитка.
Сегодня я не подхожу к стойке, а забиваюсь в угол, что потемней и, утопив своё тело в кресле, жду появления официанта. Сей чудотворец, почему-то напоминающий старый фрегат, появляется на горизонте незамедлительно и со скоростью звука приближается ко мне. Вместе с ним доносятся звуки рок-н-ролла. Наверное, он действительно носится со скоростью звука. Тут любят рок-н-ролл. Он почти всегда звучит здесь. Именно поэтому меня принесла сюда нелёгкая.
Заказав свою обычную дозу коньяка и чашечку кофе, я закуриваю и приступаю к процедуре, именуемой ожиданием. В центре небольшого дансинга молодая особа танцует рок-н-ролл. Она филигранно владеет своим телом, не обращая внимания ни на вновь прибывших зрителей, ни на то, что она в своём страстном танце совершенно одинока.
В сущности, вся наша жизнь ничто иное, как ожидание. Сейчас я жду кофе, потом буду ждать, когда он остынет, потом… Мы постоянно чего-то ждём. Дара любви или автобус на остановке. Какая разница? В суете дней, сами того не подозревая, в ожидании проводим всю свою жизнь. Мы просто ждём смерти. Боимся, но ждём.
Коньяк подан и выпит, кофе остывает, девочка танцует (сколько можно?), я бесцельно смотрю в чашку с кофе. Мне нравится вот так сидеть и смотреть на кофе, не преследуя совершенно никакой цели.
Официант-фрегат кружит надо мной, как стервятник. Чтобы он меня не клюнул, я заказываю себе ещё одну порцию коньяку и вновь начинаю думать о том, что жизнь и ожидание – синонимы.
В последний оплот рок-н-ролла завалилась свежая партия любителей морской романтики и горячительных напитков. Когда в помещении людей немного и тебе никто не портит настроение своим обществом, то невольно обращаешь внимание на вновь прибывших.
Ну, вот. Я же говорил, что мы встретимся. Ивана… Похоже на то, что, сама того не подозревая, она пришла ко мне. Правда, не одна, а в обществе двух мальчиков довольно внушительных размеров. Я не знаю, что там и как, но коньяк мне не помешает, и официант появляется вовремя. Благодарно принимая от него рюмку, я опрокидываю её в себя и посылаю его за графинчиком. Меня мучает жажда. Я хочу пить.
Пока он где-то ходит, я решаюсь выйти из своего укрытия. Обдумывая некоторую неуклюжесть своего положения, я направляюсь к стойке, чтобы поздороваться со старым Мойшей. Сухо кивнув в ответ на моё приветствие, он молча подаёт мне кофе. А я думаю, как бы мне подойти к ней? И желательно так, чтобы меня не помяли её молодчики. Не хотелось бы оказаться в объятиях этих крепышей.
– Ты когда-нибудь видел, как ночью падают листья?
Нет. Картин ночного листопада я не наблюдал. Но я молчу. Зачем ей об этом знать?
– Почему ты молчишь? Ты не хочешь спросить, почему я ушла?
– Значит, были на то причины. Оставим. Но зато я могу предложить тебе хороший кофе. К тому же идти никуда не надо, – я чуть было не сделал знак монументальному Мойше, но она вовремя заговорила:
– Ты знаешь? Мне кофе больше нравится в домашней обстановке.
– А твои мальчики? – я с неприязнью подумал о том, что драки мне, если и удастся избежать, то не в этот раз.
– Эти?! – она рассмеялась тем самым смехом, который может принадлежать только искренним и добрым людям, – это мой двоюродный брат с другом. Они затащили меня сюда, чтобы попить кофе, но мне кажется, что кофе – напиток домашний.
– Тогда поедем?
Я с ужасом подумал о своей конуре. Вчера там вновь побывал Алик, и побывал он там не один.
– Ко мне.
– ?!
– Я живу одна.
Осень. Я забыл сказать, что уже осень. Масса зелёных огоньков предлагала свои услуги.
Мы поменялись ролями. Теперь я сижу в кресле, наслаждаясь музыкой Grappelli, а она возится на кухне. Оказывается, она слушает хорошую музыку.
Кофе. Коньяк. Ещё кофе и ещё коньяк. Бесцельная болтовня о том, кто и как провёл этот год. Поддерживая беседу, я думаю о том, что хорошо тут. Спокойно и хорошо. Кажется, этот дом я знаю с детства, а с ней был знаком всегда. И никуда не хочется уходить. Боже! Как же давно я не чувствовал себя настолько легко и умиротворённо. Вечность, обретаемая в покое, подобна сладкому сну. Сколько прошло времени? Когда всё это началось? Неизвестно. Но точно знаешь, что не должно кончаться. Время летит так, что за ним невозможно уследить. А может быть, оно замирает, боясь помешать тиканьем своих неугомонных стрелок. И тогда часами, отмеряющими тебе положенное, становится коньяк.
С того момента, как мы переступили порог её дома, минуло бутылки на полторы. Мысль стала крайне затуманенной, но я, всё же удерживая её нить, решаюсь приступить к заключительной фазе своего визита. Ничего не говоря, раздеваюсь и заваливаюсь (хотелось бы мне написать «ложусь», но не судьба) на кровать. Меня заботливо укрывают и оставляют на некоторое время одного. Пространство розовато-серого цвета целиком владеет мыслью. Наверное, я отсюда никогда уже не выйду. Тут пахнет теплом и домом.
Она вошла в комнату и, подойдя, присела на кровать. Затем, встав, сняла с себя халат и стала причёсываться. Наверное, именно с таких великие писали свои картины. Она недолго испытывала моё терпение. Ночь. Я бы хотел, чтобы она не кончалась. Но конец, как и начало, присущ всему. Завершается ночь и наступает утро. Солнечное осеннее утро.
Она робко приоткрыла дверь и заглянула в комнату, потом исчезла, чтобы появиться вновь с чаем и огромной глыбой шоколада в руках. Дотронувшись до моего плеча, разбудила.
– Сколько сейчас?
– Вставай, уже десять. За мной сейчас должны зайти.
Ну, что мне до них и до того, что за ней сейчас кто-то припрётся. Впрочем, я не без благодарности принимаю два протянутых мне блюдца. На одном чай, на другом шоколад. Что за идиотская привычка, подавать чай в постель? Я не в силах удержать в руках это изобилие. Приходится вставать, одеваться и, лишь после паузы, запачканной табачным дымом, приступать к трапезе.
Ивана и в ванной,
И в ванной Ивана…
Так недолго и до высокой поэзии. Но мне это не грозит.
– Ты знаешь, я уйду часа на три. Ты посиди тут пока один, – доносится до меня из ванной вперемешку с шипением душа, – мне с подругой нужно сходить на примерку. Если что, в холодильнике есть немного водки.
– Хорошо.
А что хорошо? Непонятно. Хотя и плохого тоже мало. Но надо же что-то отвечать.
Через сорок пять минут она была готова выйти в людские массы – эдакий неотразимый вариант манекенщицы с обложки фешенебельного французского журнала для стареющих юнцов бундес-лиги. Вихрем вломилась болтливая подружка, накормила больного человека, коим являюсь я, различными вопросами-комплиментами и, забрав её, умчалась. В комнате тихо.
Немного пошатавшись по квартире, направляюсь в коридор, беру свой плащ и выхожу на улицу. Свежий морской ветер гоняет по дороге опавшие листья и чью-то старую шляпу. Иду по улице и думаю, что я, как эта шляпа, но я не знаю, кто ветер. Зато я точно знаю, что никогда не вернусь туда, откуда только что вышел. Там есть всё. Буквально всё, что мне нужно, и больше ничего не нужно искать. Именно поэтому мне там нечего делать…
Масса зелёных огоньков предлагала свои услуги:
– Куда?
– Давай-ка, шеф, к ближайшему пивбару.
Как же давно это было.
Горбун.
Стоял один из тех погожих осенних дней, когда сок винограда прямо в гроздьях превращается в вино. В такое время приятно не спеша пройтись по усыпанной опавшей листвой Царской тропе. Хотя, нет. Лучше по набережной, там, на её лице, можно совершенно безнаказанно замечать каждую новую морщинку. Города стареют так же, как люди. Затем зайти в любимую кофейню на углу Отчаяния и Надежды, выпить хорошего испанского кофе, а после – закурить и, наблюдая за филигранной работой дворника Сергеича, отдаться прозрачному дыханию осени.
Я сидел на полу в квадрате солнца посреди кухни и, освобождая от рыжей кожуры мутант огромного мандарина, с географической тоской подмышками, думал: «Почему я видел Гоби только на карте?». Частички пыли, не разделяя моей вселенской грусти, танцевали в снопе солнечного света своё нехитрое танго.
На развалинах моей кухни есть не только традиция в виде стола, двух табуреток, газовой плиты и вечно капающего крана, но и нечто необычное, позволяющее мне иногда возвращаться в детство – это древний, но исправно исполняющий свои функции, бобинный магнитофон «Сатурн 201». Монофонический, но зато имеющий, помимо девятой, ещё и девятнадцатую скорость. К нему у меня особое чувство – нежность, граничащая с тоской по безвозвратно ушедшим временам.
Я встаю с гостеприимного пола, но вместо того, чтобы подойти к магнитофону, подхожу к окну. С той стороны стекла, стоя на ржавом подоконнике, тужится (глаза, как у краба, на лоб) белый голубок без признаков стыда, совести и отдышки.
Кажется, получилось. Клюв птицы, как в пластилиновом мультике, растягивается в блаженной улыбке. Повинуясь закону фильмов-экшн, мой взгляд устремляется вместе с голубиным дерьмом вниз. Через две с половиной секунды он разбивается о ясную лысину Вертолёта, моего школьного преподавателя истории.
Я совершенно не помню, как его зовут, но знаю, что человек он хороший, а ушам его может позавидовать всякий уважающий себя чебурашка. Мне стыдно за глупую птицу и больно за изгаженную светлую голову школьного учителя. Утешает только одно: в своей печали он не одинок. Этот голубь срал на головы великих Гоголя и Достоевского, Маяковского и Пушкина, а также он залетал в Феодосию, дабы почтить своим дерьмом памятник Айвазовскому и омытую светлыми южными дождями крышу дома-музея революционера и бухаря Александра Грина.
Любовь, застывшая в искусстве камня – это хорошо, но кушать тоже надо. Зажигаю газ, ставлю сковороду, на два пальца наливаю в неё прозрачного, как слеза девственницы, вишнёвого сока и кладу туда варёную куриную ляжку. Затем, впихнув своё тело на табурет в узком пространстве между столом и отопительной батареей, беру с её ребра книгу Маркеса. Курица будет готова только после того, как я прочитаю один из его рассказов – через сто лет одиночества.
«В трёх верстах от ночи, среди мусора и вони они молча практиковали камасутру. Бриллиантов и Шанель № 5 хватило бы на то, чтобы Гондурас навсегда позабыл о своём существовании и больше никогда не чесался. Но кони стояли как вкопанные, а в очаге культуры ясным пламенем горели культурные ценности. И только там, где раньше текла Мойка, и теперь по-прежнему звучит ACID Jazz Леонида Утёсова».
В дешёвом романе, как в дешёвой гостинице, вечно холодные полы. А хорошая книга способна не только согреть ноги и помочь переварить собственные мысли, но иногда и явить миру новые оригинальные идеи. С музыкой та же беда. Но музыка, в отличие от литературы, более пластична. По крайней мере, мне она активно помогает в процессе пищеварения. И я включаю магнитофон.
«Ум мани падме хум», – через тысячелетия, равные пятидесяти сантиметрам, доносится до меня из его динамиков. Почему я никогда не видел Гоби? Беру в руки коробку от бобины и читаю: John McLaughlin «Molom – А Legend of Mongolia». Я никогда не видел Гоби! Не видел!!! Но зато услышал. В музыке эта пустыня так же, как Чёрное море, тиха и непредсказуема. Штиль, не успеешь глазом моргнуть, сменяется диким, саднящим душу штормом. Но в открытом море раны его неглубоки, и шрамы затягиваются песками так же быстро, как заживает отрезанная в этот мир пуповина новорожденного.
Горбун вторую неделю шёл по пустыне. За огромным его горбом, болталась маленькая холщовая котомка. В ней были только соль и спички. Ум мани падме хум. Воровал он громко, а отдавал тихо. Только вот оценить это было некому. Луна, песок, время и ветер были его единственными собеседниками. Больше разговаривать в пустыне не с кем. Правда, есть ещё солнце, но ему горбун не доверял и всегда обходил стороной.
Иногда, посреди ночи, утолив жажду и почувствовав нестерпимый зуд в горбу, сквозь одинокую песню голодной волчицы, он слышал дикий вой. Но происхождение этих странных звуков объяснить не мог. Он потратил на это долгое путешествие всю свою недолгую новую жизнь. Старую он оставил, словно грязную рубашку в прачечной, за углом своей памяти. Оставил да забрать забыл. Или не захотел.
В прошлой жизни в его синем паспорте значилось: Константин Трав. Но все, кто был с ним знаком, звали его просто Костиком. До недавнего времени он работал официантом в ресторане «Два крокодила». По иронии судьбы, вчера у прежнего владельца ресторан этот выкупили две некрасивых женщины. Но Костик об этом не знал. Неделю назад за то, что обсуживал он клиентуру исключительно через руку (привычка – вторая натура), его уволили с формулировкой: «Так у нас все клиенты облюются».
Не смотря на свою молодость – мать легко освободилась от его бремени 30 лет назад, – он прошёл и Крым, и рым, и медные трубы. В Крыму он действительно бывал (он там жил). К рыму относились его ратные подвиги, самым главным из которых являлся тот, что он, пройдя Чечню, не только остался жив, но и сохранил ясность ума. А что до медных труб, то кому из нас не слагали пространные любовные оды симпатичные и ветреные поэтессы?
Костик и сам иногда грешил стихами и баловался прозой. Но просто царапать пером бумагу ему было неинтересно. И он старательно выписывал облаками по лужам, рассветом по ночным птицам, призывом маяка по слепым фелюгам в прибрежном тумане. Всем тем, что давало ему воображение.
Он был сильным, молодым, стройным и красивым. Но не это отличало его от миллионов таких же молодых и красивых мужчин. Он, как песни, мог слышать мысли людей. «Ну и что тут особенного? Мало ли у нас психически неуравновешенных? Я и сам иной раз этим страдаю», – улыбнувшись, скажешь мне ты, а про себя тихонечко добавишь: «особенно с бодунища», – и окажешься прав. Но, согласись, слышать мысли других и при этом не уметь услышать самого себя – это нонсенс. Да-да, как он ни силился, к себе оставался глух.
Пожалел его и спас от необычной глухоты вечно пьяный дворник Сергеич. Сергеич был не простым дворником. Элита. Он, игнорируя шустрые бычки, пустые бутылки, ленивые обёртки от конфет с мороженым и прочую бытовую нечисть, читал свою нетрезвую рифму исключительно листопаду:
«Догони
агонию
поцелуй Иуды
нашёл пятый угол
посредством серебра
и только рыжая листва
мне заменяет твою память», – и осень, слушая монотонное бормотание, впадала в транс и, забывая о времени, засыпала на его сильных руках.
Летом Сергеич зарабатывал на жизнь-бутылку тем, что развлекался на пляже, как котят укладывая в армрестлинг загорелых заезжих качков; а зимой, в знак солидарности с бурыми медведями, впадал в спячку. Всякий раз, просыпаясь, он искренне радовался почкам набухшей весны, но любил только листопад, и тот отвечал ему взаимной привязанностью. Именно поэтому ранним утром, когда солнце взойдёт, но никогда уже не проснётся Сергеич, осень поднимет с земли опавшую листву и долго будет кружить её по маленькому прибрежному городу. Листья-печаль – рыжая память о навсегда ушедшем лете.
– Костик! – позвал Сергеич, разгоняя метлой по тротуару вечно опавшие листья, а сам подумал: «БУТЫЛКА!!!»
– Неужели тебе обязательно три восклицательных знака? – поприветствовал его Костя, – Чтобы понять, что тебе надо, не надо обладать никакими сверхъестественными способностями, – с этими словами он достал из кармана и протянул ему деньги.
– Спасибо тебе, добрая душа, – старик смахнул скупую мужскую слезу, – сколько я тебе уже должен?
– Я не считаю слёзы, – отмахнулся Костя, – к тому же, чужие, – и собрался было уходить, но помятый дворник остановил его:
– Погоди, – сказал он, – долг платежом красен, – и, достав из оттопыренного кармана замусоленное зеркало, молча подал ему.
Стоило Константину в него посмотреться и что-нибудь подумать, как невидимым дыханием времени слух тут же возвращался к нему. Бедняга не знал, но, правда, догадывался: он слышит своё отражение.
И всё в его молодой жизни было бы хорошо, если бы где-то через месяц-полтора, сначала по двору, а затем и по всему городу не поползли слухи. Их катали на санках, всюду сующие свой нос, дети и убирали вездесущие снегоуборочные машины. А упитанная татуированная соседка тётя Кдара, сидя на скамейке под густым, как вишнёвый кисель, небом, выражая мнение общественности, сделала вывод: «нашему Костику не нужны ни девочки, ни мальчики. Он тащится исключительно с себя».
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться: за это время звезда не успевает моргнуть, а он уже возненавидел и растреклятое зеркало, и тех, кто незаслуженно обвинял его в нарциссизме, и даже покойного к тому времени Сергеича.
Кстати, о птичках. Костику снились не только обычные ароматы, а иногда и люди, но помнил он их лишь до тех пор, пока его ноги находились под одеялом. Стоило им коснуться пола, как сон тут же испарялся. Но нет правил без исключений. Один сон Костя всё-таки запомнил. И, причём, очень хорошо: выставочный зал, галерея, какая-то рок-группа со странным названием «Кашель», молодая стройная женщина с осенью на лице и красная кошка. Одинокая, дождливая осень в женщине привлекательней безбрежной радости в ней же. Хотя, это одно и то же, и я не думаю, что ля-минор лучше, чем до-мажор.
Снег ложится на твои плечи. Уже давно за полночь, а тебе не спится. Ты танцуешь на заснеженных крышах домов, пугая бездомных котов, перепутавших зиму с весной. Сон с любовью. Чай с вином. Гарольда Бадда с Биллом Шарпом.
Нагая нагоняет нас. Ветер может многое, но не всё. Он может принести и унести лето, но не в состоянии удержать осень. Нас нагоняет нагая любовь. Ты танцуешь в ритме ночи, заслоняя полнеба вороньим крылом своих волос. Ты, как любовь, нага. Снег сгорает со стыда, стесняясь твоей наготы. И превращается в дождь. Крыши плачут, провожая в последний путь зиму. В город пришла весна.
Костя сидел на открытой террасе местного кафе и сквозь меню увлечённо изучал бёдра официантки. Он бы с превеликим удовольствием заказал себе именно их. В меню было всё, а бёдер не значилось. Что ж, придётся ограничиться традиционным кофе.
Негромко звучала старая, но до сих пор актуальная песня: «А женщины, те, что могли быть, как сёстры, красят ядом рабочую плоскость ногтей…»
– Пап, а для чего людям ногти? – «…и спросила кроха». Кроха была упитанным щекастым карапузом лет четырёх. Они сидели за соседним столиком и ели мороженое.
– Женщины с их помощью ловят самцов…
– А мужчины?
– Они их грызут. Некоторые на отходняке, а некоторые для того, чтобы завладеть этим несовершенным миром и сделать его лучше.
«Идиот», – подумал Костя – для этого зеркало ему не понадобилось – встал из-за стола и, не дожидаясь кофе, направился к дому.
Путь домой пролегал мимо выставочного зала, и поскольку часы на его руке имели сугубо декоративное значение, он решил зайти и приобщиться к прекрасному.
Работ было много. Он миновал зал скульптуры и, задержавшись в зале номер два – там размещались живописные полотна, – заинтересовался одной картиной. Она называлась «Галерея». Возле неё стояла молодая стройная женщина. Костя подошёл и, тихонько кашлянув, сказал:
– Интересная работа.
Она обернулась, оценивающе взвесила его взглядом и произнесла:
– Да. Моя любимая из тех, что здесь находятся, – женщина была не только стройна, но и красива.
– Я тоже частенько прихожу сюда, – соврал он, – и, похоже, наши взгляды совпадают.
– А что Вам ещё тут нравится? – спросила женщина.
Костик оглянулся по сторонам в поисках спасительной детали и, увидав огромного толстого кота, радостно ответил:
– Кот.
Она посмотрела на ленивое животное – тот лежал прямо посреди зала, – улыбнулась и, ничего не сказав, вновь повернулась к картине. Похоже, время его полуторанедельного воздержания станет взрослее ещё на одну ночь.
По причинам никому не известным, он прошёл свой двор и оказался в чужом, впрочем, как две капли портвейна, похожем на тот, где жил сам. Там красная кошка, играя со своими длинными волосами, запуталась в них и теперь жалобно мяукала. Костя подошёл и осторожно помог ей выпутаться из сложившегося положения.
– Спасибо, – услышал он.
– Ты умеешь говорить?
– Нет. Она не может.
Он обернулся. Перед ним стояла молодая и стройная женщина с осенью на лице. Та самая. Незнакомка с выставочного зала.
– Она может только убегать из дома и попадать во всякие неприятности.
– Необычный зверь, – намекнул Костя на редкий окрас и пышную шевелюру кошки, возвращая хозяйке её сокровище.
– Да, – подтвердила она его наблюдения, – очень редкая порода. Называется: «Необычная волосатая».
– Наверное, дорогая? – предположил он, а сам подумал: «Я бы с тобой покувыркался».
– Не знаю. Она мне досталась бесплатно.
– И как же зовут эту бесплатную драгоценность? – поинтересовался Костя.
– Москва, – ответила она, а потом, сказав: – пойдём, – взяла его за руку и потянула к подъезду.
– Куда? – он не упирался и спросил скорее машинально, нежели…
– Ни куда, а зачем.
– Ну, и зачем?
– Я помогу тебе, – тихо сказала она и поцеловала мирно мурлыкающую у неё на руках, необычную волосатую кошку прямо в нос. Розовый нос был холодным и мокрым.
Квартира, в которую они вошли, была самая обычная, если не считать огромного количества книг и полного отсутствия зеркал.
Она подошла к шкафу, взяла с полки диск Майлза Дэвиса "Ту-Ту" и вставила его в проигрыватель.
Труба с сурдиной выматывала нервы, натягивая их в струну, и грозилась оборвать ее еще до того, как та издаст первый звук. Но та же труба, с той же сурдиной заставляла забывать, что есть такой элемент человеческого организма, именуемый нервами, успокаивая их до полного отсутствия.
Огромные белые шапки хризантем слушали Дэвиса и, я не могу сказать точно, но, по-моему, им нравилась его музыка. Она и хризантемы. Хризантемы, она и Дэвис.
– Откуда у неё хризантемы? – подумал Костя. – Весна на улице.
– Из оранжереи, – сказала она, – Вот тут я и живу, – а потом, спохватившись, добавила: – меня зовут Ивана.
– А меня…
– Костя, – прервала она его, – «Кто не знает Константина, тот тупица и скотина», – процитировала она фольклор местных мальчишек.
Вообще-то, там ещё было продолжение: «Он сутки в зеркало глядит и всё время говорит: я ль на свете всех милее?…», но Ивана сделала вид, будто знакома только с первой частью.
– Они меня уже достали, – посетовал он, оглядел комнату и, увидев на стене часы с неправильным временем, сменил тему, – твои часы опаздывают.
– Знаю, – она вздохнула, – завтра они умрут.
– Ты хотела сказать: остановятся, сломаются, перестанут идти? – он посмотрел на часы так, как будто ему предстояло решать их судьбу.
– Видишь ли, это хорошие часы, – Ивана поймала его взгляд и улыбнулась, – а хорошие часы так же, как хорошие люди – редкость. Они не останавливаются, ломаются или перестают идти – они тихо и с достоинством умирают.
Костя не знал, что на это ответить и поэтому, не обнаружив в её комнате одностороннего окна в мир, тщательно, но тщетно скрывая радость, спросил:
– А где твой телевизор?
– Нет его.
– Почему?
– Слишком много ненужной информации.
– А! – понимающе протянул Костя, но, поскольку на самом деле, не понял ничего, то решил ещё раз сменить пластинку: – Ого! Сколько книг!
Все стены её комнаты от пола до потолка были заставлены стеллажами с книгами.
– Да, – согласилась Ивана, – они мне достались от бабушки, – и, предупреждая очевидный вопрос, пояснила: – все они написаны на древнем языке синероссов.
Константин взял одну из книг, раскрыл её и, глядя на странные буквы, прочитал:
– Синяя магия. 547 советов начинающим, – затем он удивлённо произнёс: – Но я понимаю этот язык.
– Ничего удивительного, – сказала она, – гены берут своё. Ты тоже синеросс.
Она облизала его память, и он, заглянув в далёкое прошлое, мыслями своими переместился в солнечный город Краффу. Город был большим, белым и красивым. Впрочем, так же, как и все города того времени. А всё, что не было большим, белым и красивым, городом просто не являлось. Там он узрел умных и сильных людей. Во сне они видели дельфинов, а наяву запросто общались с ангелами и поэтому поклонялись Воде. Костик почему-то не удивился, когда понял, что все они, как и он, могли слышать мысли других, а к себе оставались глухи. Но это их не заботило, потому что их собственные мысли становились частью чего-то единого. Огромного и светлого… общий банк информации.
– Утопия! – произнёс Костя, – Я не знаю, как это тебе удаётся, но кино отвратительное. Коммунизм какой-то.
– Этот, как ты выразился, «коммунизм» был первой и единственной цивилизацией на Земле. Все остальные – о нашей я просто молчу – жалкая пародия.
– Да? Ну, и где же теперь эта твоя ЦИВИЛИЗАЦИЯ? – съязвил он.
– Во-первых, не твоя, а наша, – Ивана протянула ему «Синюю магию» и, сказав: – дарю, – продолжила: – а, во-вторых, загляни-ка в мои мысли, а то ты со своим зеркалом никого, кроме себя, не замечаешь.
Он с огромным удовольствием выполнил её просьбу и к своему удивлению нашёл там только одну-единственную фразу: «Ты же хотел со мной покувыркаться». Как видно, в этом мире не только он умел читать чужие мысли.
В трёх верстах от солнца, прямо посреди хаоса застывшего времени они безмолвно практиковали камасутру. Слёз и пота им хватило на то, чтобы ночной пёс сна навсегда позабыл о своём существовании и больше никогда не чесался. Но верблюды в этих песках стояли как вкопанные, а в очаге культуры ясным пламенем горели культурные ценности. И только там, где раньше текла река, и теперь по-прежнему звучит закованный в каменные берега ACID Jazz Леонида Утёсова.
Они лежали на полу, курили и молчали.
– Я тебя видел во сне, – подумал он.
– Знаю, – ответила она.
– Откуда?
– Воруешь громко, да тихо отдаёшь, – сказала она. И он решил, что будет лучше поменять тему:
– Это даже не мысль, а так, простая констатация факта моих предпочтений, – предупредил он и поцеловал её в грудь, – дождь лучше, чем снег. Он не тает.
– Снег лучше, чем дождь, – молча не согласилась она, – он говорит, не проронив ни звука, – и добавила: – я научу тебя видеть сны.
Ночная. Твои волосы можно сравнить только с ночью. В них обитают звёзды. Звёздные запахи по колено погружаются в землю и наполняют собой уставшие за день ноги. Ноги пахнут не потом, а звёздами. Созвездиями. Телец и Весы. Ты и я.
Мы лежим под цветом твоих волос, над звёздной суетой. На улице Лето некто беспредельно одинокий обречено терзает гитару. Вчера, в пьяной драке ему выкололи третий глаз, но он, счастливчик, об этом не знает.
Ты что-то говоришь. Я слушаю, но не слышу. Мне достаточно мелодии твоего голоса. Она, словно спелое, налитое солнцем яблоко. Его хочется съесть. Если не всё, то хотя бы попробовать.
Надкушенное яблоко целее целого. Оно знает горечь утраты. Ночь. Спят подсолнухи и снег, подснежники и солнце, подберёзовики и кедры. Я иду опушкой леса. Слева меня безмолвно преследует моя серебристая ночная тень. На траве и в небе твоих волос копошатся светлячки звёзд. Закуковала, кем-то не ко времени разбуженная, кукушка. Кукушка-кукушка, сколько мне жить? Птица замолчала так же внезапно, как и заговорила. Я испугался. Но Млечный путь, берущий своё начало в речке Кара-Су, голосом моей мамы сказал, что тот, кто не услышал от кукушки ответа на свой вопрос, либо уже мёртв, либо будет жить вечно. И тогда я понял: это не я, а любовь шарится по ночному лесу. Моя любовь. Она жива. Она будет жить вечно.
Неритмичная линия горизонта задрожала и порвалась под натиском рассвета.
Бесцветная любовь.
Приехала и уехала Катя.
Моя бесцветная, но с запахом переспелой вишни любовь одиноко лежала на пыльном тротуаре. Её обронил и забыл подобрать пьяный апрель.
Ночь навалилась на макушку тяжестью всех своих звуков. Лён простыни звучал, как неспелый лист фанерный. Подушка мирно поскрипывала под моим чутким ухом, становясь припевом в единой песне цикад. Но продолжалось это не долго. Меня легко подмял под себя и размазал по рельсам тяжёлый локомотив сна. Чем тяжелее, тем легче. «Спи. Утро будет усталым», – сказала Анна Каренина.
Снилась Тамара – красивейшая женщина на всём белом свете. Карие с синим ободком глаза излучали желание. Высокая грудь томно вздымалась под лёгким топиком. Ноги, мечта порнографа, уверенно стояли на высокой шпильке. Да что там говорить? Эх! Это надо видеть. Одно железо чего стоит. О басовом барабане я просто молчу. А как звучит её рабочий! А альты с томами! Нет! Это всё-таки надо слышать. А всё от того что, вынырнувший из очереди за синими воздушными шарами, карлик с отвратительной бородавкой на носу – он один знал, куда на самом деле подевалась Атлантида – подпрыгнул и вылил мне на голову: «Уменьшительно-ласкательное от Тамара будет не Тома, а ТАМА».
Я проснулся довольно рано. Просто спать дальше мне помешало солнце, а, может быть, голодная и потому оравшая, как резаная, кошка. Не знаю, кому как, а мне надоедает все это хозяйство еще до того, как начинает происходить. Запустив в это милое животное тапочкой сорок пятого размера, встаю с постели и направляюсь на кухню для того, чтобы насыпать в кормушку этому троглодиту, этому спиногрызу с нежной шерстью и мягкими повадками немного корма. А, впрочем, нет. Пусть подавится. Пускай она объестся и… Вообще-то я люблю кошек, но когда они начинают орать, я готов на убийство.
Стоя возле газовой плиты, в одних трусах и одном тапке, замечаю, что душераздирающие вопли сменило довольно мелодичное, мелодично-довольное урчание. Господи! И всего-то! Набить утробу! И только для того, чтобы через некоторое время, проголодавшись, вновь орать. О времена! О нравы!
Радио. Supermax. “Miss You”. Supermax на радио – это раритет. Вот Hauenstein скучает по кому-то, даже песни для кого-то от скуки пишет. Живет человек. Горит. Как Данко с китайским фонариком в руке. А у меня в жизни никаких потрясений, и не люблю я никого. Одна радость в жизни – отходняк, потому что жить не хочется. Поймав себя на том, что я совершенно никчемное существо, я стал собираться не знаю куда. Просто куда-нибудь, лишь бы не сидеть дома. «…но прочь отсюда, скорее прочь». Сказано – сделано.
Я вышел из квартиры. Закрыл дверь. Ключи в карман, и стал спускаться по лестничным пролетам. Спустившись на один этаж, я вновь оказался на своем. Сомнений никаких. Все сходится: дверь моя, и надпись похабного содержания слева от нее. Это был мой этаж. Сначала я решил, что просто задумался и не обратил внимания на то, что еще не тронулся с места, после чего, сконцентрировавшись на этом, стал снова спускаться и вновь оказался на своем этаже. Это становилось уже интересным. Особенно, если вспомнить, что еще каких-то пятнадцать-семнадцать минут назад, я сетовал на то, что в жизни моей ничего, кроме пьянок и следующих за ними отходняков, не происходит… «Получи, фашист, гранату», «получи и распишись» в получении таковой. На часах – половина одиннадцатого. Я присел на лестницу и, пытаясь обдумать свое нелепое положение, закурил. Говорят, что никотин успокаивает нервы. Ерунда. Чепуха. Бред кобылы сивой. Не докурив даже до половины, я бросил сигарету на пол и снова пошел вниз. Результат оказался прежним. Проделав тот же, что и два предыдущих раза, путь, я вновь оказался у виртуального корыта, которое, к тому же, было разбито. Говоря иначе, без метафизических метафор, я опять очутился на своем этаже и еще дымившийся окурок был прямым тому доказательством.
И тогда меня осенило. Какого, спрашивается, меня постоянно тянет вниз, когда ещё имеется путь наверх? Закурив для храбрости ещё одну сигарету, я стал подниматься. Поднявшись на шесть лестничных пролетов, я оказался на последнем, пятом этаже. Дальше передо мной стоял путь на чердак и дилемма в виде огромного навесного замка, закрывающего этот самый путь. Не ломать же его, в самом деле? Да и возможности у меня такой не было. Немного постояв в раздумьях перед ржавым амбарным красавцем, я стал спускаться. До второго этажа всё шло просто замечательно, и в душу мою уже закралось радостное предчувствие, что, может быть, все обойдется. Однако предчувствиям сбыться было не суждено.
Прошло около двадцати минут. Странное дело, я перемещался во времени, не имея такой же возможности в пространстве. Я вспотел. А, вспотев, вспомнил о том, что буквально рядом есть выход из этого кошмара… И выходом была не какая-то мистически-символическая, а самая обыкновенная дверь. Дверь моей квартиры. Возился я с замком, как мне показалось, долго. Достаточно долго для того, чтобы понять: ключ не подходит. И когда, отчаявшись, я отошел от двери, она открылась. Не сама, конечно. Мне открыл ее Я. И ладно бы он, то есть я, был в трусах и одной тапочке. Так нет же. Дверь открыл гладко выбритый, отутюженный, холеный и к тому же, что противнее всего, аккуратно причесанный скот. Он, как ни в чём не бывало, смотрел на меня вопрошающим взглядом. Конечно, не таким диким, как у меня, а просто, как бы спрашивая: чего, мол, надо? А что я мог ему ответить? Тогда, ничего не говоря, он, пожав плечами, закрыл дверь перед моим небанальным носом.
Нужно ли говорить, что чувству моего гнева праведного предела не предвиделось. Хотя, если честно, плевать я хотел на свой гнев. Мне просто было страшно. Хичкок – ребенок со своими психологизмами. Что может быть страшнее отвергнувшей тебя действительности? Смерть не так страшна, потому что после смерти тебя все же, так или иначе, но куда-нибудь, да определят. А как быть тому, кто жив, здоров, но по какой-то непонятной, нелепой случайности, выпал из этого мира, не понимая, что именно с ним произошло, но зная, что место его занято? Мне было страшно. Страшно до такой степени, что я проснулся…
Крик голодной кошки – вот кошмар, неподдающийся описанию. Запустив в нее домашней тапкой, я встаю и приступаю к утреннему осмотру помещений своей не избалованной ремонтом квартиры: туалет-дерьмо, ванная-мыло, кухня… хочется кофе. Я завариваю себе чай. Как сказал Паша: «За неимением горничной, имеем дворника». Курю.
Радио. Supermax. ”Miss You”. Голодная кошка требует завтрака. По-моему, где-то это уже было. Может, не стоит сегодня выходить из дома, от греха подальше? А? Хотя, с другой стороны, такое возможно только в кино или, на худой конец, во сне. Снов бояться – из дому не выходить. Наплевав на предрассудки, я оделся в шлёпанцы и бодрым шагом вышел из квартиры.
За порогом меня ждал труп мужчины. Не дошёл. Бедолага. Если судить по внешнему виду – это был самурай. И торчащий из его живота классический японский меч подтверждал мою догадку. Харакири. Но почему у порога моего дома? Да, жизнь загадками полна!
В милицию звонить я не стал. Моё жилище находится на самом краю необъятной, как атом, вселенной. Иначе говоря, моя хата с краю. Я просто аккуратно переступил самураистого покойника (его открытые стеклянные глаза норовили заглянуть мне под шорты – не возбуждает) и пошёл за кормом для кошки.
Подходя к магазину, в его витрине я увидел: 1+1=1. Ностальгия. С математической точки зрения данное утверждение, наверное, ошибочно. Не мне судить. Но с точки зрения одиночества…………………………………………………
Андрей Тарковский, похоже, был одинок. В противном случае, чего ради ему стоять в очереди за этим «равно один»?
Худая роса, не успев расположиться на листьях пыльной травы, разложилась на солнце.
Дождь. Последний раз он баловал своим присутствием этот измученный город во времена первого пришествия Христа. Грянул гром – умер Иисус, и хлынул ливень, смывая следы и тех, кто их оставил.
– А что это за мальчик? – спросила ребёнка упитанная жизнью тётя Кдара и протянула ему апельсин.
– Я не мальчик. Я Анастасия, – гордо ответила девочка, взяла фрукт и, сказав: «Спасибо», удалилась.
Ей ещё и четырёх не исполнилось, а она уже была хозяином города, в котором две с лишним тысячи лет не было дождя. Смерти там тоже не было.
В изнеженный солнцем, последний день февраля маленькая птичка, пролетая над городом, немного потужилась и какнула балкой, основательно побитой шашелем, на голову скромному труженику гильотины. Прежде, чем нож упал на шею несчастного, палач познал истину, а приговорённый – радость амнистии.
В зияющих цельной пустотой глазницах окон погибающей цивилизации изредка колыхались разноцветные, легкомысленно весёлые занавесочки. Глазницы были, а самих окон… извините. Они, поддавшись зову сердца, вслед за перелётными птицами улетели в тёплые страны. А ведь бытует мнение, что форточки предмет неодушевлённый и, поскольку лишены крыльев, им чуждо чувство полёта. В детских мечтах любая фантазия становится реальностью,
и негоже взрослому дядьке топтать своими немытыми ногами детскую утопию. Я обошёл город десятой дорогой. Правда, сделать это было непросто. Анастасия, как всякий нормальный ребёнок, не могла долго оставаться на одном месте. Город передвигался вместе с её запахом – корица с молоком.
Вынашивая в кармане одинокие мысли, я, пройдя одну лишнюю зиму, понял, что пропустил мимо ушей – идеальный пробор – конечную цель своего путешествия: кошка, корм, магазин. Пришлось возвращаться.
Ловлю такси. Времена, когда они клевали только на червя, канули в Лету. Теперь его запросто можно поймать на пустой крючок.
С таксистом я обошёлся изуверски щедро.
«Ты душка», – таксист молнией взобрался на башню Эйфеля, прошёлся по карнизу, закурил и плюхнулся, словно коровья лепёшка, на землю. Суицид, однако.
«Это уже вторая за сегодняшнее утро смерть. Как бы не вошло в привычку», – подумал я и, сжимая подмышкой корм для кошки, направился к своему подъезду.
Первая любовь.
АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА – самая известная и крупная библиотека Древнего мира – была основана при Александрийском мусейоне в начале III века до нашей эры, при Птолемеях. Древние ученые насчитывали в ней от 100 тысяч до 700 тысяч томов-свитков.
Возглавляли библиотеку крупнейшие ученые своего времени – Эратосфен, Зенодот, Аристарх Самосский, Каллимах, являвшиеся также, как правило, воспитателями наследников престола. В ней занимались выдающиеся философы, ученые и поэты. Среди них – Аполлоний Родосский, Евклид, Архимед, Плотин.
Часть Александрийской библиотеки погибла во время пожара в 47 году до нашей эры во время войны, однако позднее библиотека была восстановлена и пополнена за счет Пергамской библиотеки.
В 391 году нашей эры при императоре Феодосии I часть библиотеки, находившаяся в храме Сераписа, была уничтожена христианами-фанатиками; последние остатки ее погибли при господстве арабов в VII-VIII веках.
Не успел я вскрыть пакет с кошачьей едой, в дверь настойчиво постучали.
– Редин, что ты знаешь о синероссах? – с порога, вместо «здрасте» выпалил запыхавшийся, как паровоз, Костик.
– Ты что, начал по утрам бегать? – ответил я, пропуская его в комнату.
– Ты не ответил.
– Ты тоже.
Минут пять мы препирались, после чего забрались в Интернет и под чай со свежими вчерашними пирожками задали ему вопрос, первоначально адресованный мне. Недолго думая, всемирная паутина послала нас, словно на святую Хуй-гору, в одно из семи чудес света – знаменитую Александрийскую библиотеку. Вместо того чтобы там же, в Интернете, выяснить, где именно находится эта святая гора, нетерпеливый Константин потребовал:
– Звони Кате.
– Зачем? – если бы я не знал, что он служил в спецназе, то пинком под зад отпустил бы ему грехи и выгнал к чертям собачьим.
– Ну, она же у тебя в Египте.
– Ну, – согласился я, – и что?
– Александрия тоже там, – блеснул познаниями в области географии он.
Пререкаться – бесполезная трата времени. Отмазки не катят. Я набираю пятнадцать цифр номера телефона Кати и прошу её зайти в Александрийскую библиотеку:
– Ты понимаешь, нашему Костику, как снег на голову, вдруг понадобилась информация о каких-то синих россах, – дышал я в трубку, а сам думал о том, что уже больше месяца не был с женщиной. Верность вредна для здоровья.
– Редин. Милый, – как можно мягче начала Катя, – твою библиотеку сожгли.
– Давно?
– Давно. Где-то году в 48, – она немного подумала: стоит ли меня расстраивать? А потом, сказав: – до нашей эры, – убила.
– И кто этот изверг? – по инерции поинтересовался мой труп.
– Гай Юлий Цезарь…
– А…
– А что не успел сжечь он, довершили местные придурки.
Так я узнал, что Константин Трав принадлежит к несуществующей нации синероссов.
Включаю радио. Там терзает свои связки некто Лебединский.
Профессор умирал. Жил он, вернее, пил (что в лоб, что по лбу) на небольшом, но довольно уютном островке. От людских глаз подальше. Водка кончилась. Началось похмелье. Лодки не было. Страдать без горькой профессор должен был ещё два с половиной дня. Именно через столько, учитывая предварительную договорённость, обещался приплыть к нему лодочник.
Лодка – водка.
Медленная мебель молчала.
Мело мелом мелодию мелодрамы: «Я люблю тебя, лодочник!», – запел профессор, увидев приближающуюся лодку.
– Странный он тип – этот профессор Лебединский, – сказал, расстроенный непредвиденным пожаром в Александрии, Константин, сожрал все мои пирожки и, не попрощавшись, вышел из дома.
Я допил свой чай, закурил и подошёл к окну. Что такое? Опять? Проклятый символ мира! Сколько можно срать? Кыш. Я кому сказал? Кыш!
– Кого ты там терроризируешь?
От неожиданности я выронил свою старость. Вздрогнул. Обернулся. Передо мной стоял Костик. В руках он держал двухлитровую банку. Похоже, самогон.
– Это не самогон. Это настоящая чеченская чача! – последнее слово он произнёс с кавказским акцентом.
– Ты меня так заикой сделаешь, – я знал о его способности читать мои мысли и поэтому акценту его не удивился.
Кухня, если не считать аритмичного протеста капающего на мозги крана, молчала. Да закрути ты его! На столе одиноко скучает большая спелая дыня – подарок из Джамбула. Выбрался из своего жилища сонный таракан. Затуманенным глазом с грустью посмотрел на дыню – предел его гастрономических потребностей и, осознавая тщетность своих желаний, вернулся в свои апартаменты. На прощание он помахал нам усами. Наверное, благодарил за то, что не убили.
В негромком кухонном кафеле болотного цвета живет образ старого Леонардо: на трезвый глаз – прожилки и больше ничего. Но стоит только накатить…
– Как, по-твоему, на что похожа первая любовь?
Я набрал в лёгкие воздуху, но ответить не успел. Костик встал, закрутил кран, сел на место, прикурил, сладко затянулся, задумчиво выпустил дым и, не дожидаясь ответа, сказал:
– Смотри. Видишь? Да Винчи, – на кафеле явственно проступил орлиный профиль ученого.
– Да. Да Винчи. Точно, – употребляемая между строк чача с профессиональной лёгкостью экскурсовода Третьяковской галереи объяснила, где именно надо искать абрис графического автопортрета великого художника.
Слово, словно слоёная слогами слюда. Его вставляют в глаза и смотрят на мир в розовом цвете. Камешек жёлтый, камешек зелёный. Из какой бутылки принесло этого нелепого джина, мастера трансформаций и перевоплощений, красивого одноногого юношу, и откуда взялась сама бутылка, я не знал, но я точно знал, что он приручил своего демона (о чём свидетельствовало отсутствие одной ноги), и мне хорошо было известно, что…
…в двух шагах от пляжа прибрежный лес нехотя позволял прятаться наглой, но пугливой сойке в шепоте своей листвы. Неспелый приморский ветер оставил едва различимый, словно вилами по воде, след в моей душе и навсегда поселился в твоих карих глазах. Горизонт – я его не видел, но отчётливо слышал – навалился нарисованной темнотой на картонную действительность, и в руки твои попросилась ночь. Цикады и звёзды то и дело подтрунивали друг над другом.
– Почему ты её застёгиваешь?
Моя рубашка постоянно расстёгивалась у неё на груди.
– Не знаю, – я действительно не знал, зачем я это делаю. – Лена.
– Что?
– Лена.
– Ну что?
– Мне просто нравится произносить твоё имя.
Загудел, отходящий от причала, последний прогулочный катер. Маленький, почти бумажный кораблик. На нём навсегда уходили в море к звёздам чьи-то радости и печали, страхи и надежды, желания и разочарования – всё то, что, наполняя существование дыханием жизни, мешает жить. Со мной осталась лишь истина. Но я, словно во сне, никак не мог разглядеть её лица. Какая она?
– Значит так. Берёшь большую спелую дыню. Разрезаешь её пополам. Затем наливаешь себе стакан водки, – его передёрнуло. В этот момент он познал истину – до него дошло истинное значение слова «вздрогнем», – выпиваешь его и погружаешь своё лицо в дыню. Прямо в середину.
– И что?
– Ну, ты же хотел знать, на что похожа первая любовь?
– Нет, – не согласился со мной Костя, – я вчера влюбился, но мне совершенно не хочется дыни, – он взял стакан и, сказав: – а вот выпью я с удовольствием, – выпил.
Кристина.
Пришёл Алик, с гастрономической тоской в голосе жадно посмотрел на стол, произнёс: «О! Дыня!» и выпил чачи. Потом закурил и принялся изливать нам свою, заляпанную портвейном, душу.
Фитобар. Стоя у стойки, он стойким оловянным солдатиком внимал наставлениям настоятеля. Закурил.
На стенах домов разрисованных радугой улиц висела весна. Он не заметил, как в это царство фитотерапии, сдобренное лёгкой музыкой, вошла она. Подошла к стойке, заказала какую-то хрень из апельсино-ананасно-грейпфруто-банано-вишнёво-яблочного сока и отошла к свободному столику. Оказывается, здесь и такое подают. Для полного счастья в этом коктейле не хватает томатного сока и пары чайных ложечек майонеза. Впрочем, каждый сходит с ума по-своему. По своему личному, сугубо индивидуальному рецепту. Вот, скажем, мне пришла же в голову мысль: закурить в этой кузнице здоровья, в этой житнице счастья и хорошего настроения, от чего у моего, непонятно откуда взявшегося, собеседника появилась причина для новой порции нравоучений, которой он без колебаний воспользовался.
От скуки я стал глазеть по сторонам и увидел… Высокий каблук, стройные ноги, короткая юбка. Поднимая глаза всё выше и боясь разочарования, понял, что в мире есть и приятные моменты. Этот был одним из них. На меня смотрела обладательница красивого, с лёгким оттенком ядовитости, присущим всем умным женщинам, лица. Длинные волосы подстать цвету её глаз – то ли чёрного, то ли тёмно-коричневого цвета. И вообще, девочка была, что надо. Только слегка подводила грудь, вернее, полное отсутствие таковой. Но зато в остальном наблюдался полный порядок.
Изучив меня, она отвела свой взгляд в сторону, чего я сделать не смог, да и не пытался.
Девочка и Весна.
Стояла ранняя весна. Чирикали воробьи. Пели коты и птицы. За моим окном был слышен французский гомон неугомонных голубей. На чьём-то неогороженном огороде нежился под ласковым весенним солнцем рыжий соседский пёс. Короче говоря, идиллия, лубок и прочая хохлома.
Как и подобает, в такую погоду на улице резвилось много детей. Некоторые играли с мячом, некоторые забавлялись со скакалкой, а одна милая маленькая девочка, вооружившись мелом, что-то старательно выводила на асфальте. Это что-то, судя по всему, было очень большое и достаточно масштабное, потому что девочка чертила длинные (больше метра) белые линии и асфальт терпел. Эх. Да что лукавить-то? Асфальту было приятно прикосновение детских рук.
Выкурив две сигареты и поняв, что дело, хоть и движется, но отнюдь не семимильными шагами, я решил, что будет лучше вздремнуть. Что мне снилось, не помню, но, проснувшись через два часа, я вышел на балкон для того, чтобы размять свои лёгкие табачным дымом. Затянувшись, посмотрел вниз. С высоты птичьего полёта взору моему открылась следующая картинка: на асфальте огромными белыми буквами, толстыми и тщательно заштрихованными было написано два английских слова: «Fuck off». И это всё.
Возможно, именно такой, не по годам эрудированной, маленькой симпатичной девочкой была обладательница стройных ног и чудесного коктейля, включающего в себя двадцать три наименования фруктового сока. Ей, судя по всему, надоел мой настырный и настойчивый взгляд, а может быть, просто понравился владелец этого взгляда. Не знаю. Но она встала из-за стола и прямиком направилась ко мне. Хороша. Ничего не скажешь. Даже очень. Наверное, она знала, что, если ею не восхищаются, то, по крайней мере, изучают. Это уж точно. Шла она, как модель по подиуму – дефиле среди столов с пустыми стаканами (нехватка рабочих рук или неоправданная экономия хозяина этого фито-заведения). Даже мой персональный лектор, так увлечённо рассказывающий о вреде всего вообще и табакокурения в частности, прервал на полуслове свой монолог и с открытым ртом наблюдал за её походкой. Подойдя, она произнесла:
– Меня зовут Кристина. Я люблю лето, диско, море, шумные компании и «Amaretto», – вот так и никак иначе мы привыкли представляться незнакомым людям.
– А. Бабоукладчик.
– Что? – её брови удивлённо взметнулись вверх.
– Да нет. Ничего. Меня зовут Олег. Я не люблю всё Вами перечисленное, но это не помешает попытаться нам найти общий язык.
– Где?
– Что где?
– Где мы будем пытаться его найти? У тебя или у меня? – более короткого перехода на «ты» мне наблюдать не приходилось.
– У меня дома мама, – солгал я, надеясь на то, что она пригласит меня к себе. Захотелось посмотреть, как и где живёт столь бескомплексный человек.
– А! Маменькин сынок?
Вообще-то это глупость, кажущаяся верхом крутизны для какого-нибудь пятиклассника, а, может, и того моложе, но я постарался пропустить эту ошибку мимо ушей.
– А, как насчёт того, чтобы поехать к тебе? Возьмём «Amaretto», пару дисков с диско-музыкой, наберём в канистру морской воды и станем шуметь до седьмого пота, чтобы было похоже на летнюю жару.
– А ты весельчак, – похоже, с «маменькиным сынком» она просто погорячилась, – только диски выбирать я буду сама. Да и без морской воды, я думаю, мы как-нибудь обойдёмся.
– Как скажете, сударыня, – иногда меня пробивает на псевдоинтеллигентность.
После непродолжительного вояжа по магазинам, в основном в поисках музыки, удовлетворяющей эстетические запросы незакомплексованной Кристины, мы пошли на стоянку такси. Она находилась в двух шагах. В Ялте всё рядом.
Весна, устав от бесцельно подвешенного состояния, спустилась на тротуар и, дойдя до ближайшего такси, забралась в него вместе с нами. Третьим, бесплатным пассажиром. Хотя, нет. Это просто мне показалось. В конце концов, было бы непростительным эгоцентризмом с моей стороны, взять и забрать всю весну себе. Пусть даже на время непродолжительной поездки. Пусть даже в такси. Однако, пребывая в таком приподнятом настроении, то ли от близкой близости, то ли от того, что весна сошла на тротуар, а может быть просто из-за лихой езды таксиста, я не заметил, как мы добрались до её дома.
В её однокомнатной квартире творился творческий беспорядок, но пыли, как это ни странно, не было. Её не было даже там, где она должна, просто обязана была водиться. Например, в каком-нибудь дальнем углу или, скажем, на кинескопе телевизора. Её не было нигде. Даже плафоны люстры были освобождены от её присутствия.
– У тебя уютно, – сказал я, и это было правдой.
– Я знаю, – ответила она, и это тоже не было ложью.
– А где у тебя водится холодильник? – зайдя на кухню, я не обнаружил этого домашнего представителя вечной мерзлоты там, где он должен был находиться.
– Он не водится, а живёт, и живёт он на балконе, – почти кричала она из комнаты, не зная о том, что у меня отличный слух.
– Привет, старина, – попытался я поделиться своим игривым настроением с холодильником.
– Привет, мудило, – холодильник был настроен отнюдь не игриво.
Ну, что ж, на нет и суда нет. Положив в сей неприветливый агрегат (одно слово – холодильник) бутылку водки, два банана, три мандарина и одно яблоко, я пообещал себе, что больше не буду общаться с этим грубияном. Ликёр я предусмотрительно оставил на столе.
– Что ты здесь делаешь?
Я был уверен: она знает о том, что её неодушевлённый сожитель обладает крайне сомнительной для холодильника способностью разговаривать.
– Да вот, только что поругался с твоим холодильником.
– Не обращай внимания. Он всегда груб с незнакомцами, но когда ты познакомишься с ним поближе, увидишь, что он умеет не только грубить…
– Но и хамить…
– Да. Этому его тоже не надо учить. Кстати, он так же, как и ты, любит джаз.
– Откуда ты взяла, что я люблю джаз?
Я был уверен в том, что не говорил ей о своих музыкальных предпочтениях. Не на лбу же у меня это написано.
– Да у тебя на лбу это написано, – я подошёл к зеркалу…, – не в прямом смысле, конечно. Я не знаю, как это объяснить, но почти всегда могу безошибочно определить людей предпочитающих джаз, другим музыкальным направлениям, не говоря уже о панках и рокерах.
– Интересно, как это у тебя получается?
– Я же сказала: не знаю.
– Не знаешь и ладно. Ну, что приступим?
– К чему?
– К поиску общего языка, – я открыл грубияна и извлёк из него водку.
Она достала из кухонного шкафчика две семидесятиграммовые рюмки.
– Приступим.
И мы приступили. Первый тост был поднят за успешный поиск. Второй – за весну. А третий, я не удержался и поднял за её ноги, как за красоту вообще.
Она поняла мой тост по-своему (впрочем, и по-моему – тоже). Встав из-за стола, она освободилась от одежды и, подойдя ко мне, уселась на мои колени. Дальше было… Мне бы очень хотелось написать о том, что было дальше и, причём в таких подробностях, чтобы волосы на голове, и не только на ней, встали дыбом. Но, как говорится, не судьба. Перлы типа: «он взял свой могучий горячий штык и погрузил его в её благоухающий цветок» – не по мне. А посему мы поставим в этом месте многозначительное многоточие… и даже снабдим это хозяйство на коду восклицательным знаком! Вот. Или даже тремя, чтобы не было сомнения, в том, что всё было просто прекрасно!!!
Выкурив сигарету, которая, как известно, приятна не только после обеда или с кофе, но и после вышеозначенного многозначительного многоточия, я сказал:
– Хочешь, я научу тебя жесту, который придумал сам?
– А что он означает? – она встала с постели и надела свой домашний халат.
– Он означает: ты и я – одно целое, – указав на неё правой рукой, я дотронулся до своей груди, а затем сжал её в кулак.
– Похоже на жест индейцев.
– Да. Наверное. Я не задумывался над этим…
– Нет. Вы должны мне ответить. Почему Вы курите?
Как же ты меня достал, демон в сутане. Помечтать спокойно, и то не даёт.
– Наверное, потому что нравится, – я с некоторым сожалением продолжал смотреть на обладательницу соблазнительных ног.
Ей, судя по всему, надоел мой настырный и настойчивый взгляд. Встав из-за стола, она, словно модель на подиуме, прошла мимо столов с пустыми стаканами и направилась к выходу. Мой католик-нервотрёп, на полуслове прервал свою тираду и с открытым ртом наблюдал за её лёгкой уверенной походкой.
– А теперь, Редин, представь себе такую картину, – докричаться до Костика – гиблое дело. Он, положив голову на руки, мирно похрапывал, – Она подошла к двери. Повернулась и, сначала указав на меня, дотронулась до своей груди правой рукой, затем сжала её в кулак, чему-то улыбнулась и вышла на улицу, – он выжидающе посмотрел на меня.
– Мечтать не вредно, – резюмировал Редин.
– Да не об этом я сейчас, – Алик вылил себе в рот остатки чеченского самогона. – Откуда она узнала про этот чёртов жест?
– Да. Жизнь загадками полна.
Эта фраза подействовала на Константина, как будильник. Он поднял голову. Наводя ориентир, покрутил ею по сторонам и, сказав:
– О! Стихи! Я люблю стихи, – стал декламировать:
В одних трусах на босу ногу,
Из кухни прямо в поднебесье,
Я пытаюсь нащупать дорогу
К Богу.
Но коварные хитрые бесы
Наличием стройных и длинных ног,
Обтянутых в лайкру, обутых в каблук,
Мешают мне. И я слышу, как слог:
Тук-тук. Тук-тук.
Тукумский – нет – тунгусский каменюка
Упал на Землю, расчесав тайгу
(слегка похоже на Эдемскую гадюку
Что шороху наделала в саду).
Стакан кефира на столе
Мне вдруг напомнил о тебе,
А в пепельнице сигарета
Лишь подтвердила мне всё это.
И кошка, сидя у окна
Зимой и ожидая лета,
Сказала мне, что ты одна,
Как безгарнирная котлета
И ждёшь меня…
Любовь – игра,
Как баскетбол или футбол
Где Стэнли Джордан Марадонна
Пытается в ворота гол
Забить. Но нету гола.
И мяч, увы, не кокаин,
А нос, похоже, не ворота.
И вот теперь сей ас один…
Однако Бог ему судья.
А Он – не я.
Зима – это не лето
И тьма мне не заменит света
А впрочем, так же, как свет тьмы.
И вот итоги: мы одни.
Война похожа на прогулку
По венам кайфа. И проулком
Дождливым и грязным к тебе я бреду,
Как подобает, в пьяном бреду
Я пытаюсь нащупать дорогу
К Богу.
В одних трусах на босу ногу
Из ночи прямо в поднебесье,
А может быть к морю, выйдя из леса.
Он замолчал, а я подумал:
– Неужто он сам написал?
– Нет, – ответил Костик, – не я.
– А кто?
– Не помню, – сказал он и свалился под стол.
– И что теперь делать? – Алик с сожалением посмотрел на пустую банку из-под чачи и любовно пнул Костика ногой в область печени.
– Ничего, – ответил я, – проспится. Сам уйдёт.
– Да я не о нём. Я об этом, – он показал мне пустую банку.
Azzillo.
…в поисках ключа от солнечной стороны Ай-Петри, построенной над морем дождём и ветром, они перелопатили три пляжа, две библиотеки, ящик пива и водки, обслюнявили телефонными звонками рыжую душу последнего поэта виноградно-целлофановой эпохи и, ничего не найдя, в расстроенных чувствах ушли в запой.
Похмелялись они матэ и солнечной музыкой Matia Bazar.
За спиной серого рассвета – он выдался дождливым – пытался спрятаться мой город. Но все его попытки оказывались тщетными. Музыка намокшего тротуара проникла в его переулки раньше, чем он успел засобираться в дорогу. Города так же, как птицы, редко сидят на одном месте. И ещё реже думают о предстоящем пути. Они вообще не думают. Просто собираются и идут…
Я не знаю, как у других, а вот у меня с бодунища, если и получается думать, то только членом…
– А откуда у тебя этот диск появился? – спросил один, добавляя в тыкву с травой горячую воду.
– Мне его Наташа прислала, – ответил второй.
– Это какая?
– Та, что сейчас в Италии.
– С неприлично огромной грудью?
– Неприлично огромная грудь у тёти Кдары. А у Наты просто высокая и, скажу я тебе, очень красивая грудь, – ожидая, когда подойдёт трава в тыкве, он закурил.
– Ну, это как посмотреть…
– Да как ни смотри. Красивая грудь – она и в Италии красивая.
– Ты хотел сказать: в Африке?
– Хоть на северном полюсе! – он непроизвольно поёжился. – Только там холодно и размеры не имеют никакого значения.
На матэ их подсадили Борис с Ромой. Нет, до этого был, конечно, Кортасар, но он почему-то ничего не рассказал им о рецептуре приготовления парагвайского чая. А вот Рома, добрая душа, и Борис, генерал Солнца, поделились знаниями. И теперь матэ – фаворит употребляемых жидкостей. По крайней мере, на ближайший час. Пока не пробьёт восемь утра.
Можно не мучиться и пойти в магазин, что работает круглые сутки, но ночники предназначены для ночи, а при свете солнечного света (даже если он с трудом пробивается сквозь тучи) лучше тариться в магазине, открывающем свои гостеприимно-скрипучие двери в восемь утра. Себе дешевле будет.
Разобрав по слогам Наташу с неприлично красивой грудью и споив кошку, хранительницу жилища, остатками матэ, они вышли под дождь.
Некто Ганг Кулебякин, для подтверждения своих атеистических заблуждений, в пьяном бреду зарезал Бога. Заблуждения стали мировоззрением.
В магазине сонный, плохо выбритый продавец отчаянно боролся с зевотой. Что-то должно произойти. Потому что так не может дольше продолжаться.
И ведь произошло же. Не успели они убить дилемму: порадовать истерзанную душу мускатом или ограничиться SV, в магазин вошла лошадь. Верхом на ней сидела обнажённая красивая женщина с окровавленным мечом в руке.
Три отвисших челюсти безмолвно говорили о том, что их обладатели не ожидали увидеть ничего подобного. Впрочем, отвисло только две челюсти. Третья корячилась в безудержном зевке. Похоже, продавец уже успел привыкнуть к подобным визитам.
– Что, опять в долг? – лениво подавляя очередной зевок, произнёс он и потянулся за бутылкой, стоявшей на солнечной стороне Ай-Петри (ключ они так и не нашли).
– Почему же? – ответила амазонка, – сегодня у меня для тебя кое-что имеется, – она достала из холщовой сумки, привязанной к седлу, голову Александра Македонского и брезгливо швырнула её на прилавок, – держи, извращенец.
– Ну, – промычал вмиг проснувшийся торговый работник, – это же совсем другое дело, – и стал расстегивать ширинку.
– Ты бы сначала рассчитался, – напомнила о себе воинствующая наездница.
– Бери что хочешь, – отмахнулся от неё тот и через рот стал насаживать омытую легендами голову великого полководца на свой член.
Но бардак этот продолжался недолго. Голая амазонка, затарившись водкой, ускакала по ту сторону дождя, а продавец, утолив свою историко-некрофилическую жажду, как ни в чём не бывало, зевнул и вежливо поинтересовался:
– Чего молодые люди желают?
– А что это было? – вопрос был задан хором (если только хор способен состоять из двух голосов).
– Вы это о чём? – не понял продавец.
– Ну, как же? А лошадь? – недоумевал один.
– И баба на ней, – вторил ему второй, – голая и к тому же с ножиком.
– И позвольте поинтересоваться, – продолжал первый, – что это Вы там делали с головой?
– С чьей головой и где это там? – зевота стала нервной и, немного погуляв по лицу продавца, уступила место испугу.
Испуга на лице торговца они не заметили.
Этот диалог мог продолжаться бесконечно долго, если бы они, наконец-то, не поняли: продавец – это Зоя Космодемьянская, и пытать его бесполезно. Проще провести его голышом через заснеженную тундру, а затем повесить. Поэтому, купив у него бутылку муската и литровую ёмкость SV, они ретировались из волшебной лавки и сквозь дождь направились домой. Похмеляться.
Матэ, конечно, хорош, но не идёт ни в какое сравнение с напитками, содержащими алкоголь. Они это поняли сразу после бутылки муската. Водка только подтвердила их наблюдения. Медленные молчаливые мысли, как-то сразу повеселев, стали похожи на солнечную татуировку тёти Кдары и никак не вязались с хмурым утром.
– Я задумал книгу написать, – сказал я, – уже и название придумал: «Синий роман».
– Хорошее название. Правильное, – одобрил Алик и осведомился, – и что?
– Как что? – оскорбился я, – напишу и продам. Стану богатым и популярным.
В ответ на это Алик, чтобы не сглазить, три раза постучал по металлическому боку холодильника, хотя рядом стоял деревянный стол. На мой удивлённый взгляд он заметил:
– Столько раз стучал по дереву. Не помогает. Может, по железу лучше. А о чём он?
– Кто?
– Твой роман.
– Ааа. Роман. Как всегда, ни о чём. Об одном парне. Он может слышать мысли людей, а свои – никак.
– Не повезло, – Алик плюхнул в стаканы водки и улыбнулся, – в отличие от нас.
Мы выпили, и я продолжил:
– Но стоит ему посмотреться в зеркало…, короче, он слышит своё отражение.
– Ты Павича начитался. Чувствуется, – вынес приговор Алик.
– Да, – подтвердил я его наблюдения, – как выясняется, Павич мне ближе, чем Кортасар. И не только географически.
– У латиносов кровь быстрее циркулирует.
– Да и культура православия существенно отличается от католической.
– Это уж точно, – согласился со мной Алик, – особенно в футболе.
Сгущались сумерки. Выходя из ванной, Архимед открыл дверь и свою теорему. С сигаретой в зубах прогулялся нагишом по тёмной квартире. Включил свет. Везде. Прошёл на кухню. Чисто. Заварил себе контрабандного монгольского чаю. Глубоко вдохнул-насладился его ароматом и осторожно, чтобы не обжечься, стал прихлёбывать из китайского фарфора. После чего направил стопы свои чистые в комнату, натянул на крепкое модное тело вечно молодые штаны от Пифагора и во всю глотку прослезился следующим откровением: «Эврика», – а про себя отметил:
Оказывается, хороший чай ничем не хуже водки. Наоборот, впрочем, тоже. В ванной его посещали гениальные мысли. Всегда.
– На берегах туманного альбиноса англоязыческие последователи Ричарда Львиное сердце…
– Чего-чего?
– А что?
– Не альбиноса, а Альбиона, и не англоязыческие, а англоязычные…
– Какая разница? – обиделся он, налил себе водки и выпил, чем вызвал зависть на грани отвращения всего прогрессивно непьющего населения моей головы.
После тридцатилетнего запоя – мои университеты – он смог-таки раскрыть свой мозг. Воодушевлённый этим фактом, китайский тайкунавт Сунь Хунь В Чань стартовал через третий глаз из моей головы, вышел на её орбиту и, совершив вокруг оной шестнадцать витков, успешно приземлился в районе моей Внешней Монголии. Кошки запели в совершенной душе:
– Аззилло! Я нашёл его!
– Кого?
– Ни кого, а что. Вот он! Смотри, – предчувствие радости нежно, но уверенно сжимало в руке ключ от солнечной стороны Ай-Петри.
– Ну, и на кой хрен он нам теперь? Выкини его нахрен, – сказал Алик, налил мне водки, выпил и закусил тертым хреном.
Я не понимал его, но, чувствуя женской стороной своего тела, что он прав, повиновался. Аккуратно расковыряв в горизонте маленькую дырочку, просунул в неё ключ и разжал пальцы.
Звука падения я не услышал. В дверь постучали, и я пошёл открывать.
– Где он? – это была она. Только без лошади и в одежде. Одетая женщина без лошади всегда более желанна, чем нагая. Одежда даёт простор воображению.
– На балконе, – я, снедаемый ревностью, провёл её в эпицентр синевы и показал на Алика, – вот он.
– Нет. Это не он, – и, чтобы прекратить не начавшиеся, но вполне возможные возражения, она пояснила: – мне нужен аззилло.
– ???
– Это ключ, который вы искали. Вы ведь нашли его?
…в поисках ключа от солнечной стороны Ай-Петри, построенной над морем дождём и ветром, они перелопатили три пляжа, две библиотеки, семь рассветов и…
Небо.
Книга, что подарила Костику Ивана, научила его слышать себя. Как выяснилось, для этого достаточно было вместе с сараной встретить рассвет и, пока не проснулся одуванчик, послушать своё сердце. «Только мысли сердца от Бога», – было сказано в Синей магии.
– Перестань пить, – ультимативно сказала Ивана, после чего со вздохом добавила, – с рыбами.
– А чем тебе рыбы-то не угодили? – Костику не хотелось ругаться, но, если вдуматься, то рыбы здесь не причем.
Четверг ел среду обитания среды и, облизывая свои костлявые пальцы, не подозревал, что сам он будет съеден пятницей с таким же наслаждением, с каким он поглощал ни в чём неповинную среду.
В дверь дважды позвонили и, не дожидаясь, когда откроют, вошли: две стерляди, три черноморских бычка и одна морская собака. С собой они принесли чекушку водки, два портвейна и пива. Это продолжалось каждый четверг на протяжении полутора лет. Квартира пропахла рыбой, как не пахло даже в рыбном магазине. И Ивана взорвалась.
Она одним умелым движением повесила бычков на бельевую веревку вялиться; стерлядь, предварительно накачав вином, чтобы была сочнее, аккуратно положила на сковородку, а собаку, больно ударив ложкой по голове, отправила на рыбное кладбище, по счастливой случайности, находящееся в пасти их кошки Москвы.
– Ну, что ты за человек? Говоришь, просишь, настаиваешь, угрожаешь… А ему, как о стену горохом, – миролюбиво говорила Ивана, подавая к столу две аппетитно зажаренные рыбины.
– А откуда ты взяла, что ещё живую стерлядь надо поить вином, перед тем, как положить её на сковородку? – Костик попытался уйти от её провокационного вопроса. Ему это удалось.
– Вычитала у Павича.
– А где?
– "Пейзаж, нарисованный чаем", – после чего, словно спохватившись, она вдруг вспомнила: – так ты ответь мне: почему ты такой непробиваемый?
– Потому что рыбы отучили меня от бесцельного брожения (это как бродит квас – ни вина, ни водки, даже браги нормальной и то не получается) по лабиринтам рифмы.
– Ты что, пишешь стихи? – она была удивлена, потому что на поэта он, мягко выражаясь, похож не был.
– Писал.
– Прочти что-нибудь.
– Ты это серьёзно? – Костику польстила её заинтересованность.
– Да.
– Ну, что ж. Сама напросилась. Слушай:
"О! Чудных звуков начинанье.
Всё это было, как в бреду.
Сношаться, право, на рояле я не могу.
Я б мог попробовать, конечно,
Обвить твой дивный стан руками…
Рояль, как томная беспечность
С тремя ногами.
Была б четвёртая нога, мне было б легче…
Но, что хочу тебе сказать – любовь не вечность…
Во мху уж пятая конечность,
Но онанизм –
Практически не афоризм,
А лишь беспечность.
Поэтому в воспоминаньях,
Оставив зыбкий, терпкий след,
Рояль напомнит об изгнаньях
В поёбке массовых побед".
– И это всё? – спросила озадаченная его рифмоблудством Ивана.
– Всё, – как на духу признался Костик.
Кровь с рубашки никак не отстирывалась, и что Ивана не пыталась сделать, все её попытки превращались в пытку и оказывались тщетными. Наверное, придётся её выбросить. А жаль. Это была его любимая рубаха, да и ей она тоже нравилась. Ослепительно белая (в оригинале) вещь от какого-то крутого латиноамериканского кутюрье, имени которого, в силу того, что это был не французский, а латиноамериканский кутюрье, они никак не могли запомнить.
– Да и хрен с ней, – в сердцах, крикнул Костя, – Богу на неё теперь молиться, что ли?
– Может быть, попытаться ещё раз? – скорее для самоуспокоения, спросила Ивана.
– Проще купить новую.
Два с лишним года прошло с того момента, как он научился видеть сны и обходиться без телевизора. Два с лишним года с того момента, как красная волосатая кошка познакомила их. Два с лишним года совместной жизни – не много, но и не мало. Некоторые через неделю после свадьбы разбегаются. А им за всё это время ни разу не пришлось пожалеть о том, что они вместе. Хоть и жили они во грехе. Но это достоинство или недостаток не помешали им понять, что они нужны друг другу. Нужны, как синяку необходим последний стольник белой; как наркоману первый куб чёрного; как спортсмену побитие рекорда; как музыканту наличие того аккорда, что был бы понятен простым смертным и чтобы коллеги, восхищаясь, с уважением говорили: «Ну, ты дал, чувак. Как тебе это удалось?»
– Что у тебя было с Рединым? – прикрыв книгу, спросил Ивану Костя.
– Ничего особенного, – ответила я, а сама подумала: – Ты ревнуешь. Но кого к кому? Меня к нему, или друга ко мне?
– Конечно, тебя. Ты спала с ним?
– Да.
– Долго?
– Да. Где-то около года, – на миг в моей голове пронеслись и летний дождь, и аромат кофе, и коньяк, и музыка, но, посмотрев на кислую физиономию Костика, я поспешила его успокоить: – два раза.
– И всё? – обрадовался он. – За целый год только два раза? Но почему?
– Все мужчины – зануды, а ты среди них number one. Загляни в рассказ «Ивана», – закрыла тему она. – И, вообще, пойдём спать, – она невольно зевнула, – извини. Так мы идём или да?
– Или.
– Тогда пойдём, – зевнула ещё раз, но извиняться уже не стала. Понятно и без того, что ей неловко.
– Ты иди, а я скоро. Только главу добью.
Он читал «Игру в классики» Кортасара и, забегая вперёд, скажу: только с пятой попытки он овладел этой интересной и сложной игрой. Спокойной ночи.
Была ночь, и было тихо. Тихо, как в ночи у моря, где плеск волн лишь усиливает ощущение тишины. Звуками французского рожка, словно прелюдия к поцелую, тишина звучала внутри огромного, как мир, колокольчика. Она звучала внутри меня.
Костя проснулся. Какой короткий сон.
– Ты знаешь, мне приснились стихи.
– Что за стихи?
Он прочитал. Что-то про кровь, любовь и баттерфляй на водной глади.
– Похоже, тебе не даёт покоя твоя рубашка, – Ивана взяла на руки Москву и принялась её причёсывать.
– Ты это о любви и крови?
– Конечно.
– Не знаю. Я не психолог. Во всяком случае, ничего подобного мне не снилось, – Косте захотелось сделать зарядку. Он закурил и: – а, вообще, как тебе мой зарифмованный сон?
– Ничего. Только мне не понравилось о том, где баттерфляй на водной глади, – теперь волосы кошки она заплетала в косу. Бедное животное.
– Ну, знаешь ли, я неволен управлять снами, пусть даже собственными.
– То есть, ты хочешь сказать, что написал это не ты? – она отхлебнула из кружки зелёный чай с жасмином.
– Конечно не я. Ты полагаешь, что Пушкин писал сам? – он посмотрел на неё. Она утвердительно кивнула, – Ты заблуждаешься, малыш. Просто Некто – называй его Богом или Высшим Разумом – выбирает кого-то из нас для того, чтобы донести закодированную информацию в виде стихов, картин, музыки и прочей ерунды до человечества.
В комнате повисло молчание. «Сегодня лучше, чем вчера, а вчера было лучше, чем позавчера. Прогресс налицо. Не правда ли? Так неужели непонятна надежда на завтра?», – написал как-то Алик.
Он, словно почувствовав, что речь идёт о нём, заявился в полдевятого утра. Наглый и синий до неприличия. Кроме двух дисков от Chick Corea в его пакете имелась бутылка «Ахтамара». Коньяк этот я пробовал первый и последний раз лишь на заре перестройки в Городе Королей. Не Chick Corea, а именно «Ахтамар» решил мою дилемму: гнать или оставить синего Алика в пользу последнего.
Убрав почти в одиночестве бутылку вышеозначенного напитка, мне открылась истина: не коньяк воняет клопами, а клопы пахнут хорошим коньяком. Ещё я понял, что 350 грамм хорошего коньяка – это только начало. Было бы начало, а концовку мы уж как-нибудь организуем. Похоже на рекламный слоган. Но эта фраза ничего общего с рекламой не имеет. Просто так говорили мои партнёры по портвейну в пору безоблачного детства, которое провёл я в Ливадии. Хорошо там было. Весело и беззаботно. Успокаивает только то, что я до сих пор бегаю где-то там. В своём босоногом детстве.
– Снег летом похож на дерматин.
– Почему?
– А кто его знает? Вот, скажем, пришла же сдуру в светлую голову Пикассо сомнительная мысль: обозвать голубя символом мира.
Он заглянул в распахнутое окно. Так летом смотрят в душу. Или в зеркало зимой. Душа от зеркала отличается лишь временем года.
Пьяные от любви воробьи, облюбовав вишню, занимались на ней любовью. Первый жёлтый лист под тяжестью солнечного света оторвался от ветки и маятником начал свой последний путь к земле. Полёт к смерти. «Скоро осень», – подумал он. Закурил. И…
…она, легко отталкиваясь от мелкой гальки, согретой бесшабашным солнцем, бежала по пляжу. Стройная, как молодость и беспечная, словно лето. Уже не девочка, ещё не женщина. Она не любила солнце, но ею восхищались звёзды. И я. Её проклял дьявол, потому что благословил Бог. Она читала небеса, а в книгах видела только небо. Беспечный ребёнок травы и моря.
Зная, что ей нравится смотреть на то, как я прыгаю в воду, я этим беззастенчиво пользовался. Забиравшись на скалу и выдержав паузу (смотрит. Теперь можно), я «ласточкой» устремлялся вниз. К морю. Полёт к жизни. Я люблю море, и оно до сих пор отвечает мне взаимностью.
Мы целый месяц провели вместе. Днём купались в море, и я кормил её мидиями. А вечером пили дешёвое сухое вино (дяденька, купи бутылку сухаря. А тебе зачем? Да, девчонка одна понравилась. Для храбрости) и танцевали на открытой танцплощадке. С ней я сосчитал все звёзды и стал мужчиной. Она со мной разучилась считать и познала радость разочарования, потому что я не любил её, и она об этом узнала в тот момент, когда последняя звезда упала в мой карман.
Странное дело, но память – штука избирательная. Я совершенно не помню, как познакомился с ней, но хорошо помню старый сад моего деда. Сад был большой и походил на лес с зарослями ажины, кустами малины, смородины и крыжовника. В абрикосовой тени черешни и двух яблонь до сих пор стоит деревянная скамейка. Рядом стол, покрытый простенькой белой скатёркой с синими цветами. Ими играет лёгкий приморский ветерок. На столе краплёные карты вперемешку со сливами всех цветов радуги. Над ними вавилонской башней возвышается недопитая бутылка дешёвого портвейна – путь к Богу. Я тихонько подкрадываюсь к столу, беру бутылку и, пока не видит бабуля, делаю два больших глотка. Глотку обжигает. И как только дед пьёт эту гадость? Хватаю со стола сливы и жадно запихиваю их в рот. «Кто закусил, уже не безнадёжен», – говорила мне Таня Кормилицына. Бабушка в летней кухне. Жарит картошку с салом. Сало на сковородке аппетитно шкварчит. Ворчит недовольная жизнью бабушка. Она умерла за два года до моего рождения. А моего деда не помнит даже его дочь. Но дождь об этом не знает и затевает своё упругое фанданго. Он прогоняет с вишни сексуально озабоченных воробьёв и сбивает с алычи сливы. Солнцем налитые плоды падают и разбиваются о жестокую поверхность стола. Из них брызжет сок. Постепенно летнее фанданго превращается в танго осени.
Завтра в школу…
Время. Нам только кажется, что оно движется. На самом деле, время – величина постоянная и мы навсегда остаёмся там, где нам было хорошо. В противном случае память бы просто отсутствовала. «Тогда, почему же мы помним не только хорошее?», – спросите вы. А я отвечу: «Это, чтобы жизнь малиной не казалась» или, как говорили древние: «Memento Mori».
После "Ахтамара" я начал чудить.
Страшные глубоководные рыбины, не обращая на меня никакого внимания, легко и грациозно летали там, где люди не имели простой возможности поплавать. Разогнав диковинных монстров, я, с чувством хорошо проделанной работы, присел на лохматый мхом камень и закурил. Как это здорово – курить на глубине в тысячу метров. Нихрена не видно, холодно и тесно (давление), но впечатления незабываемые.
Большой, но какой-то болезненно-хилый кит с татуировкой на всё пузо: "Не забуду мать родную" поедал планктон. Сначала я хотел дать ему пинка под зад, но, не обнаружив последнего, просто скорчил непростую рожу, от чего у него случился запор, и он, испросив у меня прощения, отлучился в ближайшую аптеку за пургеном.
Таксы и такси (уши по ветру, словно знамёна) сновали туда-сюда. Туда голимые. Сюда набитые до отказа. Водилам приходилось отказывать своим постоянным клиентам, не говоря уж о простых смертных, которых было большинство. Большевики з переляку взяли Зимний, три разведённых моста, телеграф, телефон, телевидение, телепузиков (всех) и напрокат проститутку Изольду Марсовну Подопристена. Она, оправдывая свою не экзотическую, но вполне городскую фамилию, ожидая клиента, стояла, подпирая собой стену.
– Лично мне больше нравится "Вам бы здесь побывать" или "Обратная сторона Луны". А "Стена" чересчур уж надумана…
– Молодые люди, – прервала музыкально-критическую мысль новоявленного Артемия Троицкого Изольда Марсовна, – не желаете ли поразвлечься?
Она с лёгкостью, присущей Игорю Кио, извлекла из холщовой сумки, татуированной изображением, отдалённо напоминающем группу ABBA, ящик портвейна "Агдам".
– Дёшево и сердито, – добавила Изольда.
– Насколько дешево? – сердито поинтересовался один из молодых людей, которому на вид было далеко за семьдесят.
– У тебя, касатик, отсосу бесплатно.
– Нужна ты мне…, – старый красноармеец скорчил рожу, проглотившую лимон, – я об ентом, – и он указал указательным пальцем с грязным, нестриженым третью сотню лет, ногтём на ящик.
– Ну, я не знаю…, – начала набивать цену женщина.
– Значит так, – в разговор вступил юный и потому более наглый соратник старика по революционно-сексуальным предпочтениям, – мы конфискуем у Вас этот ящик.
– Но на каком основании?
– Именем революции, – сказал боец и игриво ущипнул старца за сухощавый зад, – Да и ты тоже пойдёшь с нами. У нас в полку ещё остались извращенцы, предпочитающие баб.
Создавалось впечатление, что за красное и счастливое наше будущее боролись исключительно голубые.
Через неделю дама для плотских утех рабочих и крестьян, ополчившихся на русскую буржуазию и в её лице на весь белый свет, стала именоваться уважительным словом: "товарищ". А через месяц…
Муза революции – так окрестили товарища Подопристена певцы, художники, поэты и прочая творческая интеллигенция, примкнувшая к новому строю.
Ленин, сидя в своём скромном кабинете, точил мандарьсины с бананасами и строчил апрельские тезисы, которые он должен был довести до революционно настроенной общественности ещё в апреле. Но всё как-то было не досуг. А что до сук, сорвавших поставку партии кокаина («есть такая партия») от товарищей из Бразилии, то с ними разберётся металлический Феликс. Дзержинский, из всех музыкальных направлений, предпочитал heave metal, за что и получил революционную кличку «железный».
Владимир Ильич принял на нос изрядную дозу марафета и теперь работал как ужаленный. Работа спорилась. Слова, такие простые и необходимые трудящимся буквосочетания, сами ложились на бумагу и лишь потом пробирались в мозг вождя мирового пролетариата. Он писал, совершенно не задумываясь над содержанием своих каракуль. Почерк у постояльца мавзолея был прекрасно скверным.
«Ориентир на ориенталь», – сказал капитан судна и уверенной рукой направил корабль в сердце бермудского треугольника, где тот довольно удачно исчез. Пропал. Растворился. Без следа, седла, суда и следствия. По законам военного времени. Война продолжается. Она никогда не заканчивалась. Мой организм ведёт отечественную войну с захватчиком Киром Всеобъемлющим, но делает он это как-то вяло, без энтузиазма…
– Да пошёл ты в жопу, – это говорю не я, а коньячно-водочный коктейль приготовленный, впрочем, уже внутри меня.
– Вы, молодой человек, пьяны…
– Как кто? – перебил его он (он – это коктейль, о котором я только что распространялся).
– Как…
– Ну!
– Как…
– Ну!
– Как свинья.
Видимо, моё "ну" не дало ему возможности, как следует сосредоточиться для того, чтобы подобрать то самое оригинальное слово, которым он собирался окрестить моё крайне неприличное состояние. И, обидевшись на меня за то, что я не дал ему найти это слово, а не за то, что послал его в такую темень, он ушёл. Ушёл не столько от меня, сколько от своей обиды и, судя по всему, сам того не подозревая, он направился именно туда, куда я порекомендовал ему пойти. Так мне, по крайней мере, показалось.
– Куда же ты, мой друг любезный?
– Как это куда? Конечно в жопу, – раздалось у меня за спиной. Я медленно и неуклюже повернулся. Передо мной стоял выспавшийся и в меру трезвый Алик. Он с весёлой укоризной в голосе заметил:
– Да ты, парень, пьян.
– Как кто? – по всей вероятности, во мне что-то заклинило.
– Это уже не смешно.
По-моему, я ошибался, и Алик был трезв не в меру.
– Водочки? – вопросом предложил я.
– Пожалуй, я воздержусь. Да и тебе не рекомендую.
– Сандаловой, – не унимался я.
– Нет!
– Тогда поссать…
Туалет был испещрён наскальными рисунками и надписями. Граффити над писсуаром Алика гласило: "Не льсти себе. Подойди поближе", а над мочезаборным агрегатом Костика надпись была более лаконичной и, к тому же, аристократично англоязычной: "Shake it"…
И снились ему корабли с парусами,
Бананово-жёлтые синие страны
И, как бы вдруг, посреди одной
Торчал, словно мачта, розовый хой,
который был, почему-то, с руками в белых перчатках и ногами, обутыми в изысканные лакированные штиблеты. А, может быть, это был человек в дорогом костюме, вместо головы которого, находилась огромная залупа. И танцевал он некогда заморский, а с отдельного времени интернациональный (более интернациональный, чем сам "Интернационал") танец шейк, вопрошая при этом у невидимой партнёрши: "Ну и как тебе мой размерчик? Неужели при таких размерах возможно себе не льстить?". После чего он становился в позу декламирующего Маяковского (декорации при этом менялись на большевистскую пропаганду "Окон РосТА") и начинал, подражая Владимиру Владимировичу, читать:
достаю из огромных штанин
сам себя с консервную банку
завидуйте, люди, я гражданин,
а не какая-нибудь там гражданка.
И эхо, застигнутое врасплох, спросонья принималось вторить ему: "Анка, Анка, Анка". А он, довольный тем, что смог насолить безобидному эху, вновь брался за свой неистовый шейк, и танцевал его до тех пор, пока я не начинал понимать, что это просто Луна дарует мне свой свет.
Облака набегали на Луну со скоростью ветра, и это очень сильно мешало, даже, не смотря на то, что их прикосновение было приятно. Она была Луной и, домогавшийся ее уже которую тысячу лет, ветер дарил ей облака. Именно поэтому это мешало. Она бы с удовольствием отдалась Посейдону, но тот не замечал ее, влекомый прелестями земли, и земля отвечала ему взаимностью. Мы часто любим того, кто не любит нас.
Ивана, войдя в комнату и моё печальное состояние, принесла стакан минералки и чашку прекрасно приготовленного кофе (несмотря на то, что кофе она на дух не переносила, готовила его она мастерски), за что я был ей несказанно благодарен. Залпом осушив стакан минеральной воды, я отхлебнул кофе из чашки. Чуть не обжёгся. Не заметил и вместо сигареты прикурил её фильтр. Чертыхнулся. Оторвал обгоревший фильтр. Прикурив уже обезглавленную сигарету, подумал: отличная реклама для сигарет без фильтра. Но:
– Ты, когда дрочишь, о чём думаешь? – ошарашила Ивана Костю вопросом.
– То есть? – не понял он и сел в кровати.
– Ну, каждый ведь от чего-то возбуждается, – она присела рядом с ним, – я вот знаю одного придурка, так он кончает от "Красного квадрата" Малевича.
– А, – успокоился Костя, – ты об этом, – он с сожалением посмотрел в пустую кофейную чашечку и закрыл тему: – в туалете, на шкафчике "Playboy" лежит.
Ивана взяла у него чашку, снова наполнила её кофе и протянула ему.
– Знаешь? Мне приснилось, что я была Луной.
– А я Посейдоном.
– Да, – удивлённо подтвердила она, – Откуда ты знаешь?
– И тебя всю ночь, на протяжении не одной тысячи лет, домогался ветер. Интересно, кто ветер?
– Но откуда тебе…
– Интересно, кто ветер? – он, как будто не слышал её вопроса, но потом, спохватившись, успокоил её, – я был в твоём сне.
– Это как?
– Это, как кофе. Приготовила ты, а пью его я, – он отхлебнул из чашки и сладко затянулся. Однако прелесть подобных манипуляций была омрачена следующим вопросом:
– В таком случае, кто земля? – не смотря на то, что она улыбалась, голос её звучал угрожающе серьёзно.
– В смысле? – я понял вопрос, но, попытавшись прикрыться ширмой непонимания, добился лишь того, что улыбка её, эта милая пушистая кошка, выгнув на прощание спинку, гордо и чуточку лениво ушла с её лица. Необходимо было срочно восстанавливать status quo безоблачных и, что немаловажно, доверительных отношений, – я не знаю, кто она такая, но подозреваю, что какая-нибудь бяка. А если серьёзно, то не стоит всерьёз относиться ко снам (если, конечно, ты не Фрейд), по крайней мере, к таким, как этот, потому что если бы ты узнала, что мне снилось до того, как ты стала Луной, ты бы или рассмеялась, или расплакалась, а может быть и, что скорей всего, расплакалась бы от смеха.
Мне пришлось выложить ей содержание моего сна и предшествующее ему посещение неардельтальского туалета. Её очень развеселила надпись "Shake it". В английском она разбиралась слабо, но её познаний хватило на то, чтобы осознать неоднозначность конкретности фразы написанной в таком месте.
Я не планировал планировать на планере без плана, потому что у меня не было ни планера, ни плана, ни планов относительно их применения. Причём, если, скажем, на авантюру с планером я, пожалуй бы, подписался и, наверное, не без удовольствия (хотя для меня навсегда останется загадкой: как можно летать без мотора, используя лишь восходящие и нисходящие потоки воздуха? Если, конечно, ты не птица), то на план, сиречь, дрянь меня никакими коврижками не заманишь. Дрянь – она и в Африке дрянь.
«"Бог умер", – сказал Ницше и расплакался, умилённый собственной оригинальностью.
– Говорить, что Бог, как Ленин, жил, жив и будет жить – означает: обрекать себя на нападки не только неверующих, но и простых, не обременённых атеизмом людей, – сказал Фома и, погасив в пепельнице окурок сигареты, продолжил: – нападок я не боюсь. Мне противно слышать справедливую критику и, чем она справедливей, тем сильнее она мне ненавистна, – маленький, помятый трупик "Marlboro", испустив дух, еле слышно произнёс: "Аминь" и приказал долго жить.
– Мой саксофон простыл, – это означало, что Якудза (так звали грека с саксофоном в руках и к японской мафии, кроме своего имени, не имеющего никакого отношения) выражает непонимание относительно ненависти к правильным критикам.
– Ну, вот, скажем, ты, – Фома прикурил новую, но, при этом, последнюю сигарету, – играешь себе, дуешь в свой саксофон, никого не трогаешь. И вдруг появляется некий доброжелатель, который мягко, но довольно настойчиво начинает указывать тебе на твои недостатки… а ты-то был уверен, что играешь, как бог, что Он обделил тебя этими самыми недостатками… и, что самое отвратительное – ты понимаешь: доброжелатель твой прав.
– На октаву выше, – а это переводится как: "Неприятно, конечно, но я буду только благодарен ему за это".
– Да и я тоже, – Фома отправил на кладбище пепельницы ещё один труп сигареты, – но обрати внимание: в первую очередь ты сказал, что тебе неприятно.
– …, – Якудза разразился виртуозным и довольно вкусным пассажем.
– Вот. И я о том же. Впрочем, Бог мне судья за моё отношение к критикам, – Фома вскрыл новую пачку и достал из неё очередную, но, при этом, первую сигарету, – я, кажется, начал говорить о Боге, – он не стал дожидаться, пока грек отморозит очередной музыкальный термин, который ему придётся переводить на нормальный язык, а сразу же продолжил: – Бог не умер, как утверждает Ницше, и Он есть, что бы там не говорила Франсуаза Саган. Просто Ему лень. Он устал постоянно доказывать всем неверующим и сомневающимся факт своего существования. А их много. Очень много. Вот пара фраз из "Смертельного оружия": "Господь невзлюбил меня. А ты ответь ему тем же". Так всегда получается: если нам не везёт, мы обвиняем в этом Бога или вообще отказываем Ему в существовании, как будто мы – бог, а он – наше творение…»
– Я же сказала! Не здесь! – услышала Ивана.
Голос принадлежал женщине. Женщина была сильно пьяна и таким незатейливым способом пыталась пресечь сексуальные домогательства своего не менее пьяного ухажёра.
Ивана посмотрела в окно, закрыла книгу (придётся отложить на потом взаимоотношения Фомы с богом), встала и стала пробираться к двери автобуса. Она подъезжала к своей остановке.
Ивана вернулась домой мокрая (на улице шёл дождь) и довольная (на улице шёл дождь). Достав из пакета жёлтый журнал, раскрыла его на странице двадцать один и торжественно вручила Косте. Там он узрел следующее:
«Порническая Графия.
– Ну, что? Давай, выкладывай всё из карманов, – сказал очень строгий страж правопорядка и с осязаемой любовью посмотрел на маленький портрет бюста Дзержинского. Он всегда носил его с собой.
– Из чьих? – я сделал вид, что не понял.
– Ты что, за дурака меня держишь? – он спрятал Дзержинского в недра своего внутреннего кармана. Там, среди всякой прочей ерунды, находилась колода порнографических карт. Пять из них были склеены спермой сержанта.
– ??? – ах, если бы ты только знал, за кого я тебя держу, то ты непременно удавился бы или подался в монастырь, – тебе надо, ты и выкладывай.
Шмон – процедура малоприятная, особенно, если ты являешься его объектом. Из карманов моей одежды на пол, словно стая проворных белых воробьёв, полетели сигареты, зажигалки, деньги-слёзы, карты (точно такая же колода, как у сержанта. Приятно, знаете ли, иногда взять себя в руки) и… чёрт (упоминание сатаны всегда уместно, когда речь заходит о милиции). Как я забыл об игле? Именно её отыскал на мне очень строгий страж правопорядка. Он улыбался. Он был доволен, точно нашёл клад, а не простую одноразовую иглу. Правда, была она на машине, в которой находилось двадцать кубов кайфа.
В ближайшее отделение милиции я ехал в багажнике «копейки». Грецкие орехи («не вздумай съесть») и запах бензина были моими безмолвными собеседниками.
"На улице шёл дождь и, не смотря на то, что уже давно перевалило за полдень, выбираться из-под одеяла не хотелось.
Зазвонил телефон. Она нехотя встала и, не одеваясь, прошла в коридор. Разговор был неинтересным, но необходимым, и от скуки она принялась разглядывать в зеркале своё тело. Оно было молодым и красивым.
Она знала и любила свое тело. Но сейчас, в объятиях ещё не ушедшего сна, оно казалось ей незнакомой тайной, которую надо было постичь.
Свободной от телефонной трубки рукой она осторожно дотронулась до своего живота и не спеша, перебирая холёными длинными пальчиками, стала подниматься вверх по телу. Нежные прикосновения доставляли удовольствие. Дойдя до груди, она остановилась. Затем, зажав телефонную трубку между плечом и ухом, она подключила к этой игре вторую руку. Облизав большой и указательный пальцы, она несильно надавила ими на сосок. Наслаждение усиливалось, уступая место неге. По телу пробежала мелкая приятная дрожь.
Раньше она с собой так никогда не играла и теперь немного жалела об упущенном времени. Какого чёрта, думала она, потакать во всём этим мужикам. Всё равно, в любви они ничего не понимают и в постели ведут себя, словно кролики. Нежные, понимающие и всё знающие любовники остались только в кино, а в жизни всё иначе. Ей постоянно попадались толстые потные дядьки, которые только и знали, что вставить в неё свою штуку и, немного попыхтев, откинутся на спину и сразу же заснуть. Никакой поэзии – сплошная проза. Ни любви тебе, ни ласки. Проза жизни.
Внезапный и довольно настойчивый стук в дверь прервал её критически настроенную мысль… и испугал. Она положила на рычаг забытую трубку телефона (её разрывал зуммер коротких гудков) и, подойдя к входной двери, открыла её.
Перед ней стоял мужчина лет сорока. Лёгкая небритость на его лице создавала впечатление, что он был выходцем из страны Marlboro. А его отвисшая нижняя челюсть указывала на крайнее удивление, овладевшее им.
– Вы так устроите пожар, – сказала она, показывая взглядом на вывалившуюся из его открытого рта сигарету.
– Что? – не понял тот. Ему ещё никогда не открывали дверь красивые обнажённые женщины. Впрочем, некрасивые также.
– Сигарета. Она выпала у Вас изо рта, – наконец-то она сообразила, что стоит абсолютно голая перед совершенно незнакомым ей мужчиной, но отступать было уже поздно. Да и некуда, – Вы, наверное, электрик? – ей в глаза сразу бросился небольшой чемоданчик, с какими обычно ходит мастеровой люд.
– Да.
– Ну, тогда проходите. Проходите. Холодно же, а я не одета, – она, обняв себя за плечи, театрально поёжилась. Получилось правдоподобно.
Он забыл, что пришёл сюда для того, чтобы отремонтировать неработающий дверной звонок. У него перед глазами до сих пор стояла умопомрачительная картина обнажённой натуры. Не смотря на то, что женщина давно уже накинула халатик, электрических дел мастер по-прежнему видел её голой. И, к тому же, халатик её был похож на короткую рубашку и предназначался скорее для подчёркивания сексуальных форм его обладательницы, нежели для их сокрытия.
Она прекрасно понимала, что её наряд больше подходит для съёмок порнографического фильма, а не для общения с электриком…", –
всё это явилось попыткой, написав «Порническую Графию», заработать немного денег. Но попытка вылилась в пытку, и я, едва начав, как-то сразу погрустнел и, не дочитав, уронил конец главы в нескончаемую паузу.
Густые, но грустные волосы развевались под тяжелым ветром дилеммы: чай или кофе?
Опер уголовного розыска, капитан милиции Елена Прокофьева позавтракать дома не успела и довольствовалась несладким (а кому сейчас легко?) чаем. В кабинет постучали:
– Елена Викторовна, арестованный доставлен.
– Не арестованный, а задержанный, – она поставила чашку на подоконник, вздохнула и: – давай его сюда.
– Доброе утро, – сказал я, не глядя на объект своего приветствия. Меня кумарило, и единственной вещью, на которую я был способен смотреть, был баян (да хоть дешёвая трёхрядка, лишь бы) с дозняком.
– Вот так встреча, – банальнее не придумаешь, но и правдивей тоже. Она на секунду забыла, что была на работе. Это действительно была встреча из разряда «вот так».
– А ты… что? Из… работаешь в милиции? – невнятно забубнил я.
Осень моросит. А в душе моей вороны-женщины поют, как Пласидо Доминго вместе с Натали Коул. Светло и свободно. Хорошо быть свободным, не ограниченным в пространстве, человеком.
Я шёл по улице и размышлял о том, что как иногда полезно быть простым электриком из недописанного порнографического рассказа,
при условии, конечно,…»
– Ну, и что я должен сказать на это? – в его голосе она услышала апатию.
– Как это что? Тебя напечатали, – её восторгу не было предела.
– Напечатать-то напечатали, но не заплатили, – теперь апатия была слышна не только ей.
– Ну и что? Главное…
– Главное, что не заплатили. Хотя, было бы из-за чего расстраиваться.
Но Костик почему-то расстроился. Она подошла к нему и поцеловала. Он мог бы продолжить эту игру, так мило и непосредственно предложенную ею, однако взгляду его открылась ахинея в виде фотографии на странице двадцать два злосчастного журнала. Там расположился портрет Аллы Борисовны Пугачёвой.
Глядя на уже не молодое, но достаточно уверенное в себе лицо, мне вдруг пришла на память история появления на советской эстраде этой рыжеволосой бестии. Правда, сколько и как я не пытался припомнить, откуда именно она взялась в моей голове, сделать этого я не мог. Вкратце эта фантасмагория сводилась к следующему:
Правдивая история появления на эстраде А. Б. Пугачёвой, рассказанная неизвестно кем.
Вы, верно, слышали о Степане Разине и Емельяне Пугачёве? Правильно, были такие бандиты, поставившие на уши всю Россию. Об одном из них некий Баян даже песню сложил: «выплывали расписные Стеньки Разина челны». Но, то ли сказитель был в дым пьян, то ли Емеля не заплатил обещанное поэту и композитору с балалайкой в руках, и тот в знак протеста взял да перенёс содержание песни на сотню лет вперёд, в середину XVII века, где орудовал Степан Разин, а родителей Пугачёва ещё и в помине не было. И стал рассекать в песне на яхте с золотыми ручками и серебряным якорем не Емельян, а Стёпа, что является художественным вымыслом и к историческим событиям никакого отношения не имеет. Неоспоримо одно – история переврана, и сейчас я стану вершить историческую справедливость, то бишь поведаю вам о том, как всё было на самом деле.
Итак. Жил-был некто Ус – соратник Емельяна Пугачёва по пропою награбленных средств у зажиточного населения России. И была у него сожительница Алла по фамилии Денегмало, которая зарабатывала на жизнь тем, что пела в трактирахъ, а если звали, то на свадьбах, похоронах и других празднествах, коих на Руси всегда было предостаточное множество. Аккурат на одной из таких пьянок, её заприметил Ус, а заприметив, взял, да и забрал с собой. В те времена женщины ещё ничего не знали об эмансипации, а посему у убитого алкоголем Уса не возникло проблем с присваиванием того, что принято звать женщиной. Чуть, что не так – в лоб, и весь расклад.
Стали они жить вместе, и прожили достаточно долго (что-то, около двух дней), пока ни увидел её за оправлением естественных надобностей, всюду сующий свой нос, Пугачёв. Туалеты в те времена были доступны только избранным, коих и было-то, раз два и обчёлся. Остальные же ходили до ветру. И так заворожила Емельяна картина писающей девочки, что он как-то сразу весь обмяк и, как пацан, влюбился в ветреную гражданку Денегмало.
Мольбам атамана Ус не внял. И, только получив щедрый и размашистый удар в нос, пять копеек, бутылку "Абсолюта" и три пачки "Marlboro", уступил примадонну Емельяну Ивановичу. Тот на радостях закатил пьянку, плавно переходящую в свадьбу, которую играли то ли неделю, то ли месяц, дважды за это время, совершив в пьяном угаре, набеги на близлежащие имения для пополнения запасов продовольствия. А, что поделать? Пить-то на что-то надо.
Вот таким простым макаром
Стала Алла Денегмало,
В диком полупьяном вое
Примой. Аллой Пугачевой,
от чего, надо заметить, настроение её ничуть не испортилось, а, напротив, приобрело новые, доселе неизведанные краски власти и вседозволенности. О вокале новоявленная Пугачёва позабыла напрочь, что говорит о том, что пела она не искусства ради, а денег для.
Теперь же её развлекали заезжие цыгане, а она, сидя рядом со своим новоиспечённым мужем во главе стола, лишь отпускала реплики относительно их вокального мастерства. Нетрудно догадаться, что реплики сии были исключительно критического содержания.
Дальше – больше. Стала Алла совать свой нос в административные дела атамана: этот, мол, не так рубит, а этот, мол, не так стреляет, а тот, вообще, не рубит и не стреляет, по причине беспробудного пьянства. Короче говоря, достала она пугачёвских корешей. И пошёл по войску ропот: "нас на бабу променял", и ничего не оставалось Емельяну Пугачёву, как, словно Герасим Му-Му, утопить ненавистную казакам стерву, бросив последнюю "в набежавшую волну".
Но это ещё не конец истории. Это, можно сказать, только начало, поскольку для нас лишь с этого момента стала известна Алла Пугачёва. Ну, или почти с этого. Я бы попросил вас вдуматься в словосочетание "набежавшая волна". Не кажется ли оно вам несколько странным? Или, может быть, кто-нибудь из вас наблюдал явление стоящей волны? Сказитель знал о том, что произошло на самом деле, но, боясь быть посаженным за ересь на кол, предпочёл умолчать о произошедшем, завуалировав это событие под невинную "набежавшую волну". А между тем, за этой банальной, на первый взгляд, фразой скрывается, до сих пор неизвестный науке, факт совмещения временных колец, благодаря которому и появилась в нашем времени, с готовыми родителями и безоблачным детством, Алла Борисовна Пугачёва. Неспроста же она начала свою карьеру певицы в нашем времени с песни "Ой, хорошо!", которая является явной стилизацией под русские народные песнопения.
Костик не страдал муками творчества и, если не получалось, просто забывал наброски мысли на столе, холодильнике или на подоконнике. Мысль постепенно покрывалась пылью, и через неделю Ивана выбрасывала её в мусорное ведро.
Он давно хотел написать нечто вроде: "заварив себе матэ…", но не было основной составляющей. А тут приходит, к нему как-то пьяный Редин и приносит эту волшебную траву, воспетую Кортасаром. И Костик, словно истинный аргентинец, заварив себе матэ, выходит на балкон и, уставившись в ночное небо, ждёт пока он немного остынет.
Балкон. Летом это ещё одна комната. Вполне обжитая. При желании, там можно поставить телевизор, компьютер и музыкальный центр. Если у вас есть телевизор, компьютер и музыкальный центр.
А зимой… Рис. Гнилые яблоки. Гречка. Засохший хлеб. Кукурузная мука, как символ возрождения к жизни. Картошка. Лук (странно, но его всегда больше, чем картошки). Аккуратно остриженные ногти. Ноги (куриные). Укуренные подростки. Подмостки проституции. Прости меня, моя любовь. Книжная полка. Без книг. В ней вместо книг обитают две трёхлитровых бутыли с помидорами, сумка с морковкой и телевизионный кабель. Книги на полу. Маугли стал мужчиной. В джунгли пришла весна. Мухи сели на мёд, а пчёлы принялись обхаживать дерьмо. В итоге у них получился дерьмовый мёд. В джунгли пришла весна, и Маугли стал мужчиной.
"Я хочу тебя", – сказала дама.
Матрацы. Подушки и одеяла.
Обуяла, обувая обувь,
одутловатая особа без особых признаков отдышки.
Лодыжки.
Кисти рук. Глаза.
Всё запотевшее слегка.
Легка,
как тонна чугуна. Она
повадками пантеры напоминает мне мартышку.
Иртыш, как
чиж. Стрижа подстригли,
и стрижка у стрижа
кровавый ирокез
пить отказался наотрез,
потому что Редин умеет не пить,
а пить он, увы, не умеет.
Поэзия гнилых яблок. Рис. Пепельница, полная окурков. Пустые бутылки, хранящие в себе память вина. Иногда вино было хорошим. Холодильник. На нём два цветочных горшка с алоэ. Цветок жизни. Его используют по назначению лишь, когда поливают. А когда это делают, то заботливо, чтобы не залить, перекладывают с места на место одинокий томик Николая Гумилёва. С недавних пор он живёт на холодильнике.
На балкон вышла Ивана. Она была в чёрном вечернем платье.
– Мы что, куда-то идём? – удивился Костик.
– Нет.
– А по какому случаю парад?
Вместо ответа Ивана загадочно улыбнулась и тихо произнесла:
– Что ты думаешь об Атлантиде?
С неба свалилась последняя звезда. Он загадал желание и ответил:
– Сказки всё это.
– А о синероссах? – она облокотилась о перила балкона и посмотрела в чёрное небо.
Звёзд не было.
– А что я о них должен думать? – ответил он и отхлебнул всё ещё горячий матэ.
Ивана долго смотрела туда, где должна была родиться звезда, и, дождавшись её рождения, произнесла:
– Не стоит уповать на ноги, когда голова думает членом и, к тому же, о жопе.
– О чём это ты?
– Воруешь громко, а отдаёшь тихо, – сказала она, – Я знаю, о чём ты думаешь, когда дрочишь. Ты ведь давно хочешь трахнуть меня в задницу, – она, прогнувшись, выпятила аппетитную попку и, медленно поднимая подол дорого вечернего платья, спросила: – или я ошибаюсь?
Костя расстегнул ширинку, достал член похожий на смышлёного ребёнка и, прежде чем овладеть её задом, дважды кончил Иване в рот.
С губы скатилась и упала на пол непослушная капля спермы.
Ровно через минуту и двадцать две секунды рядом с ней появилась огромная изумрудная Муха.
Муха.
Мастер был недоволен. Всю ночь он плохо спал. Встал с постели разбитый и злой, словно с похмела, несмотря на то, что выпил он всего-то полтора литра мадеры.
Большая изумрудная муха беспечным мотыльком порхала от наливного яблока к свежему куску хлеба. Выбор был одинаково соблазнителен, а значит, труден, и она никак не могла решить дилемму: где ей выпустить свои грациозные шасси для совершения процесса посадки. Яблоко или хлеб? Хлеб или яблоко? Вот в чём вопрос. Копьетрясущее "Быть или не быть?" её не интересовало. Она есть и хочет есть. Вот только с чего начать? Хлеб – он всему голова. Но в яблоке масса железа (хоть в металлолом сдавай), которого вместе с прочими витаминами так не хватает весной.
– Кто у нас сегодня с визитом? – слова давались с трудом, и для облегчения выхода оных из больной головы он попросил: – налей-ка мне стаканчик мадеры.
– Какой-то русский поэт, – его жена была для него не только музой, но и секретарём-референтом.
– А как его зовут? – он с благодарностью принял из её рук стаканчик мадеры.
– Некто Низкопадший, – она заглянула в огромную амбарную книгу-ежедневник, сверяясь там со своими записями, – впрочем, нет. Извини. Я ошиблась. Не Низкопадший, а Вознесенский.
– Какая разница? – он выпил содержимое своего стакана, – значит так: встречаться я с этим низкопадшим Вознесенским не буду…
– Но ты же обещал, – перебила она, – человек может обидеться.
– А, чтобы этого не случилось, ты скажешь ему, что заболел мой любимый конь, – он с сожалением посмотрел в пустой стакан, – и задай ему от моего имени вопрос: "Чем похожи биде и гитара?"
– А чем они похожи?
– А хрен его знает.
Муха знала о своей исключительности, но виду не подавала.
"Большая изумрудная муха, попавшая в суп, за мгновение до того, как её съели", – так называлось новое эпохальное полотно. На нём была изображена, обезображенная слонами на длинных и стройных ногах, безбрежная тарелка с супом, из которого, словно, вновь рождённая из пепла, птица Феникс, Афродитой (её сопровождали тридцать три богатыря) выходила муха. Слюда переливается на солнце радужным спектром – это её крылья. Её лохматое брюшко напоминало, аккуратно подстриженный, английский газон. А глаза! Загляни в них и ты, утонув в этой чёрной бездне, навсегда потеряешь покой, затерявшись в бескрайних просторах вселенной. А лапки! А жопка! Эх! Да что там говорить? Это надо видеть.
– Это просто полный пиздюк! – мастер был раздражён.
– Не пиздюк, а пиздец, – Гала была русской женщиной и иногда давала сумасшедшему испанцу уроки русского литературного языка.
– А в чём разница? – перешёл на испанский мастер.
– Видишь ли, пиздюк – это человек, а пиздец – ситуация.
Так или иначе, но чего-то не хватало. У него была прекрасная идея и мастерство для её оживления на полотне. Более того, у него была уже практически законченная картина. Не хватало лишь последнего штриха, который отличает истинного мастера от банального писаки – марателя полотен, стен и своих несовершенных рук. Именно в этот момент он в сердцах воскликнул: "Это полный пиздюк!"
"Муха – белокрылая птица.
Муха – боевой самолёт.
Хотел я крылатым родиться,
Чтоб вместе с тобой устремиться в полёт…", – запел мастер, выводя дулю на шедевре.
То, что явило собой эпитафию на надгробной плите для "Большой изумрудной мухи, попавшей в суп, за мгновение до того, как её съели" читалось как: "Сон, навеянный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения".
Балкон.
Наконец-то, испепелив нежным взглядом своим пыльные останки Египетских пирамид, вернулась домой Катя.
– Вам нужно чаще себя любить, – сказала тётя Кдара.
– Какой рукой? – спросила её Катя.
Я улыбнулся и вспомнил, что сегодня видел мальчика, катающегося на санках. "Ну, и что же здесь необычного?" – спросите вы, и я отвечу: все дело в дате. А на дворе нынче, ни много, ни мало, июнь месяц. Санки не ехали, но пацан не отчаивался и с довольным выражением лица, как ошалелый работал ногами, пытаясь преодолеть трение асфальта, а в его лице законы физики, наплевав на последние. Захотелось ребёнку на санках покататься. И какое ему дело до того, что стоит лето? Жаркое и душное. Главное, есть желание и, что немаловажно, санки. Всё остальное – ерунда.
Я сидел за компьютером и пытался что-нибудь сотворить со звуком похожим на кляксу. Мне не писалось. А когда в мою голову ничего не лезет, я либо играю в бирюльки типа арканоида, либо раскладываю пасьянсы, либо, как в этот раз, ковыряюсь со звуком. Я, конечно, не Паша, но мне интересно. Теперь не грех бы объяснить, кто такой Паша, и почему мне никогда не сравниться с ним в отрасли обработки звука, но делать этого я не стану. Во-первых, лень (как-нибудь попозже. Обещаю), а во-вторых, речь сейчас не о нём, а о Володе…
… с архитектурнопристроечной фамилией Балкон, который заявился к нам с полным пакетом кира. Прописан он в Москве (не пакет, Балкон), а пропивает свои деньги в Ялте и выбирается в столицу некогда нашей родины, лишь, когда его наличность начинает дышать на ладан. Икебана из растения отпугивающего демона, тем не менее, являлась его деньгам нечасто, и поэтому Ялту господин Балкон покидал редко. Однако, исчерпав свои денежные запасы, он два месяца назад покинул южный город. В Москве он постился и из города, приютившего мавзолей Виленина, вернулся приятно похудевшим, помолодевшим и, что немаловажно, зафаршированно-упакованным. И сразу же с корабля на бля. В смысле: с поезда к нам. В гости.
Ай-Петри. Лето. Пять часов утра. Костя проснулся в то время, когда огромный масленый, с частичными вкраплениями сметаны блин Луны ещё висел на уже светлом, бесцветно розовеющем киселе неба. Перед тем, как выйти из балагана, он сначала минут семь искал свои штаны (футболка, старательно залитая вином, была на нём), затем две с половиной минуты ему пришлось затратить на поиск водки (он не знал, но чувствовал: что-то должно остаться) и полчаса на то, чтобы выпить окаянную. Ему вовсе не хотелось пить. Но есть такое слово: НАДО. Сделав один глоток над умывальником и основательно проблевавшись, он относительно легко влил в себя оставшуюся и часть смертельно-убийственной дозы живой воды.
Своих друзей, из которых он знал только Ржавого Лёшу и его подружку Марину, Костя нашёл на Серебряной беседке. Те пили. Что ещё можно делать в пять часов утра на вершине Ай-Петри?
Костик сидел, зарывшись в зелёное одеяло, на парапете серебряной беседки. Под ним постепенно просыпалась Ялта. Один из собутыльников, чьего имени он так и не запомнил, постоянно называл Костика Зелёной Горой.
– А как ТЕБЯ зовут? – спросил Костя.
– Зови меня, – его голый голос наполнился пафосом, свойственным героям Гойко Митича, – Быстрым Оленем.
С тех пор, как Ивана научилась готовить пьяную стерлядь, она каждый четверг пропускала с рыбой по стаканчику винца, после чего, обливаясь слезами, отправляла свою собутыльницу на сковородку. Особую пикантность блюду придавал вкус слёз.
Костя скучал дома. На море идти не хотелось. Скука зелёного цвета и жара всех цветов радуги. Зазвонил телефон. К нему подошла Ивана и, сказав: "Это тебя", удалилась на кухню в общество стерляди. Костика хотел (как собеседника) Лёша Ржавый.
– Слушай, я скоро уезжаю в Германию, – связь была отвратительной, но Костик его слышал.
– Когда?
– Где-то, через неделю, – внезапно слышимость стала настолько хорошей, что можно было подумать, что он звонит не из Ялты, а из каких-нибудь Штатов, – так что, давай, спускайся на "Спартак".
– Лёша, я не пью.
– Я тоже. Я хочу вернуть тебе гитару.
Сказав Иване, что вернётся примерно через час, Костик пошёл за гитарой.
Кинотеатр "Спартак". Весёлый и непредсказуемый Лёша. Его терпеливая подружка Марина. Ящик водки. Такси. Кара-Голь. Ай-Петри. Домой Константин попал только на третьи сутки. Без гитары.
Он сидел на парапете Серебряной беседки, закутавшись в зелёное одеяло, и размышлял над странностями судьбы, изобилующими вино-водочными поворотами или даже зигзагами.
Балкон стоял на балконе и курил женские сигареты «Vogue». Я и Паша потягивали «Приму». Когда-то давно, будучи почти в нежном детском возрасте, мы мечтали о «Приме» с фильтром. Нашим мечтам суждено было сбыться. И теперь, некогда рабоче-крестьянские сигареты приобрели статус респектабельного курева.
Катя пила Мартини с соком, Мартини с лимоном и просто чистый Мартини. Володя употреблял сухое красное. Мы с Пашей прохаживались по водочке, запивая её томатным соком – эдакая кровавая Мэри, разобранная на части. Alain Caron в пьянке участия не принимал. Он жил в музыке, а она жила на диске. Так что можно сказать, что Alain Caron живёт на CD.
В процессе употребления, верующий, но пьяный Вова поведал нам о том, что он сатана. Я не знаю, как насчёт сатаны, а вот дьявол-искуситель – это точно, потому что он не только накачал нас киром, но и затащил в Бильярд-клуб, являющийся обычным рестораном, в котором, помимо изобилия выпивки и закуски, стоят бильярдные столы. Я на бильярде играть не умею, чего не скажешь о Володе, Паше, а с некоторых пор и о Кате (научили-таки. Тренеры!!!). Пробыв около двух часов в царстве зелёного сукна и не менее зелёного змия, мы отправились в "Чёрное море", где поёт Катя.
… и играет дядя Миша – барабанщик и словоблуд. Как-то, представляя его, Александр Кириллович назвал этого человека с усами от Сальвадора Дали, ветераном ялтинского джаза. На следующий день он, появившись на горизонте нашей пьянки, с пафосом оповестил нас о своём прибытии: "Идёт ветеринар ялтинского джаза".
В другой раз – дело было на Пасху – он, повстречав своего друга-мусульманина, предложил: "Давай, я скажу тебе: "Аллах, Акбар!", а ты мне ответишь: "Во истину: Акбар!".
Но это ещё не всё. Дядя Миша – коллекционер. У него имеется огромная коллекция джазового винила, не менее джазовых галстуков. Но самая интересная его коллекция – лет на двадцать пять – это собрание охотничьих, военных и просто откровенно бандитских ножей.
Но и это ещё не всё. У дяди Миши есть мечта. Он мечтает открыть частный концентрационный лагерь. Мест на четыреста. Не больше. Тут всё дело в качестве. И, похоже, его не смущает даже тот факт, что содержание санатория подобного рода ничего, кроме убытков, принести не может. Я почему-то очень сильно сомневаюсь в том, что клиенты станут платить за услуги крематория частного концлагеря вообще, и из собственного кармана – в частности.
Вот такой он. Дядя Миша. И сейчас к нему на сцену, во время попытки донести продукт рок-н-ролла до раскрытых ртов благодарных слушателей, выделывая пьяные пируэты, но, стараясь выглядеть трезвым, пытался забраться господин с солнечной фамилией Балкон для дружеского рукопожатия. Но руки у дяди Миши заняты палочками. И ладно бы японо-китайскими, которые те используют вместо вилок (их в любой момент можно отложить, если только вы не заняты поглощением мяса тихоокеанского омара, приправленного соусом из малиново-брусничного варенья с горчицей и хреном), так нет же. В руках дяди Миши находятся барабанные палочки, с помощью которых он извлекает из барабанов достаточно обширный спектр звуков, необходимый для полноценного звучания. И поэтому, в ответ на протянутую Володей руку, он лишь виновато улыбается и что-то говорит о том, что сейчас не время и, мол, пускай тот подойдёт чуть-чуть попозже или немного подождёт. Одним словом извиняется, но пьяный Вова не слышит извинений. Он вообще ничего не слышит, кроме громовых раскатов рок-н-ролла, а посему, хотя нет, вовсе не поэтому, а просто, оттого что он пьян, как свинтус невменяемый и его душа требует продолжения банкета, он направляется к стойке бара…
После третьего полтинника конины до его чуткого, но, в силу известных обстоятельств, слегка притупившегося слуха, вдруг, ни с того ни с сего, словно снег на голову, свалилась девочка из Ипанимы. Он почти физически ощущал лёгкий бриз её желания, звоном серебряной монеты едва коснувшийся его сознания и тут же улетевший в ослепительную глубину голубой босса новы неба для того, чтобы вернуться к нему вновь. Вернувшийся звон серебра обрёл очертания голоса Кати. Она пела “The girl from Ipanema”, а мысли Володи были уже далеко. Там, где всегда тепло, и где даже мягкий климат Ялты покажется неискушённому и загорелому сукиному сыну пляжа (son of beach) холодом морозильной камеры его домашнего холодильника. Какой смысл сравнивать Ялту с Сибирью, если он там всё равно не был? Лето радовалось всякий раз, когда какой-нибудь сорванец, дарующий волнам свои следы, беспечно оставленные на песке, находил огромную морскую раковину, и, прижав её к уху, слушал песни моря. Песни лета. В них звучит утекающий шёпот белых скал и надрывный крик песка, непостоянство небес и высокая бирюза волны, лунная чернь ночи и магическая реальность солнца…
…оно, щекоча чувствительную ноздрю Балкона, остальным просто мило улыбалось. Потягиваясь в его лучах, нежилась и купалась кошка. Именно она была истинной хозяйкой ресторана, а не тот толстый дядька с лощёной, гладко выбритой мордой, которая, казалось, вот-вот треснет от обилия употребляемой в неё пищи и водки. Он пил исключительно водку, хотя, на самом деле, это она пила его.
Пила пела и пила опустошённые, опустившиеся на пол, опилки. Она, а не солнце, разбудила Балкона. Он с трудом поднял отягощённую свинцом вчерашних возлияний, голову с новенькой жовто-блакитной кожи стола и огляделся. Ресторан. Пустота. Она не только в помещении, но и в душе. В голове присутствует скорбь и тяжесть всех миров. Пятьдесят тон на один квадратный сантиметр. Ненавижу!!! Наверное, о нём забыли.
Стол. Бокал! Коньяк!!! Почему бы и нет. Если предлагают. Проходившей мимо него кошке он выдал народную мудрость о том, что больше всего в этой жизни ненавидит расистов и негров. Животное, не останавливаясь, не осуждая, но с каким-то ленивым удивлением посмотрело на него. Он воспринял её поведение, как одобрение своего миролюбивого мировоззрения и выпил. После чего вновь погрузился в царство беспокойного сна.
Проснулся он под вечер и с радостью обнаружил, что является помехой в подготовке места для праздничного стола. Сегодня у Пашиной жены праздник.
Кастрированное повествование.
Восемь утра. На полу валяются Паша с Наташей, в чём мама родила. В смысле, без подушек и простыней. Вчера у Наташи был день рождения, а посему они имеют полное право спать там, где им заблагорассудится. Хоть на потолке. Но на потолке, как известно, спать неудобно, и поэтому они смотрят свои пьяные сны, лёжа на полу.
…Меня, без всякого на то основания, с приходом рассвета, довольно часто оставляли одного. На бумаге. Женщины. Но то были чужие женщины, а вот, чтобы жена… Своя. Собственная. И ладно бы ушла в восемь ноль-ноль, так она просто ещё не вернулась с работы. Радость подобного разочарования – постепенного превращения в рогатого викинга – я ощутил не впервые, но привыкнуть к этому просто невозможно. Сон, как ветром сдуло. Лето. Сигарета. Курю.
Пришла. Привет. Как ни в чём не бывало. А ты почему не спишь? Наивная. Не спится. А я просто умираю.
В комнате тихо. Слышно лишь мерное мирное посапывание трёх носоглоток, да ворчание вентилятора, разгибающего липкую, скрюченную жару душной комнаты. Не спасает.
По утрам я пью кофе. Об этом знают даже те, кто обо мне вообще ничего ни сном, ни духом… Это утро – не исключение. Только в чудо арабской цивилизации я добавляю коньяк, предусмотрительно оставленный Наташей на самоопохмел. С бутылки можно так наопохмеляться, что впору на следующее утро вновь лечиться. Чтобы они с Пашей не попали в заколдованный круг дипсомании, я решаю освободить их от волшебного бремени алкоголизма посредством употребления половины половины литра.
"С утра поддал и день свободен", – предупреждал меня святой Веничка, но я никуда не спешу, и цитирую ему Пятачка: "До пятницы я совершенно свободен". А сегодня только воскресенье. Так что можно расслабиться. К тому же у меня есть отвратительно-шикарный повод – мне изменила жена. Но в одиночестве пить не хочется, и я иду к Костику. Жарко. Благо он живёт рядом. Плавятся термометры и асфальт.
– Где Ивана?
– На работе.
– А она что, разве работает? – искренне удивился я, – и где же?
– Как это где? В поликлинике. А тебе надо начать пить ноотропил или прекращать пить.
Но я, проигнорировав его предупреждение, произнёс сакраментальную фразу:
– Ну, что? Тогда иди за водкой, – на которую он, без видимого энтузиазма, отреагировал вопросом:
– В девять утра?
– "Кто ходит в гости по утрам,
тот поступает мудро.
То тут сто грамм, то там сто грамм…
На то оно и утро", – бодро ответил я ему, после чего добавил: – мне жена наставила рога.
Я пытался отыскать в его взгляде молнии праведного гнева, но никаких природных катаклизмов, кроме тумана ещё не ушедшего сна, не заметил. Ну, какой катаклизм из тумана? Так, лёгкая аномалия.
Он встал с кровати, всунул себя в шорты, а ноги – в тапочки и, заглянув в свой бумажник, вышел из комнаты. Через три с половиной секунды я услышал звук закрываемой входной двери, а через десять минут я с наслаждением наблюдал за процессом розлива по стаканам холодной, бодрящей, прозрачной, но не призрачной жидкости.
И как только люди пьют водку в такую жару? Отвечаю: с удовольствием. В противном случае, зачем её пить?
– Почему так тепло? – спросил меня Костик.
– Да. Тепло невыносимо, – подтвердил я его утверждение, спрятанное в вопросительную интонацию.
– А может быть, это холод пытается прикинуться жарой? – выразил сомнение относительно моего подтверждения он.
– Это уже не ты и, конечно, не я. Это Кортасар.
Жара издевалась над усердным, но маленьким вентилятором Костика. За стеной у соседа (я это видел) по телевизору показывали рекламу, иногда прерываемую американским боевиком средней руки.
– Я приснил тебе рассказ, – сказал Костик:
"Мыс доброй надежды.
– Есть будешь?
– Я уже завтракал.
– А сегодня ты ещё пища?
– Не понял.
– Ну, если завтра ты уже кал, то сегодня, как следствие, ты ещё пища.
Этот диалог был зачат, а, появившись на свет, взращён, обласкан, обсосан и выплюнут на побережье Атлантического и Индийского океанов, в самой южной точке чёрного континента.
На террасе стоял стол из красного дерева, покрытый белой вязаной скатертью. Вязание было лёгким и нежным, словно вышивка, сделанная прямо на воздухе. От этого, не смотря на то, что было душно, на террасе дышалось гораздо легче, чем у негра в жопе, где побывать мне почему-то не довелось, но я и без того знаю, что там тесно, темно и неуютно", – только я его не помню, – он вывел меня из анально-африканского транса.
– Что ты не помнишь?
– Содержание рассказа, – его мысли блуждали в лабиринтах сна и иногда натыкались на незначительные обрывки ночного повествования.
Он силился, собрав их воедино, восстановить в памяти то, что пришло к нему ночью и что растаяло, как утренняя роса под лучами беспощадного светила. Сил было недостаточно.
– Ладно. Не напрягайся, – пожалел я его, – лучше давай выпьем.
– А почему в твоих рассказах люди пьют, ходят, чешутся, но, при этом, в них ничего не происходит? – спросил меня Костик, разбавляя водку фантой.
– …, – и я выпил.
– А? – повторил он свой вопрос в укороченной версии.
– Но ведь они же пьют, ходят и чешутся…
– А может быть, они у тебя болеют чесоткой, ходят по докторам и в связи с этим пьют? – и после непродолжительной паузы он добавил: – С горя.
– Может быть. Откуда мне знать, чем они страдают и чему радуются?
– Но ведь придумал их ты?
– Придумал их я, но живут-то они сами по себе.
И я постарался изложить ему, насколько позволяла выпитая водка и недопитая жара, концепцию своих взаимоотношений с героями моих рассказов. Я не говорил, а пел, но, не смотря на это, получилась каша, которую мой друг съел без соли, без сахара и совершенно не запивая дезинфицированной хлоркой, водопроводной водой. Основной тезис моей оратории сводился к следующему: я просто наделяю своих героев какими-то повадками и описываю один довольно маленький эпизод из их длинной (я на это очень надеюсь) жизни, после чего оставляю их в покое, но, при этом, позволяю себе в любой момент вносить коррективы в их судьбы. И, в подтверждение своих слов, я ошарашил Костика вопросом:
– Хочешь, я тебе ногу сломаю?
– А будет больно?
– Конечно.
– Тогда, может лучше вывих?
… в одиночестве пить не хотелось. Я вызываю такси и еду к Костику. Плавятся термометры, асфальт и вентиляторы. Жарко. Благо он живёт рядом.
– Просыпайся, соня.
– А я уже, – один глаз у него закрыт (не иначе, как досматривает сон), зато второй проявляет немереную активность, пытаясь поймать фокус моего несколько размытого изображения.
– Тогда пойди, расплатись за меня с таксистом, а то я гол, как сокол, – для соблюдения рифмы, мне пришлось сделать ударение на последнем слоге последнего слова.
– Тогда возьми в лопатнике деньги и слетай сам к своему таксюристу, – он вытянул свою ногу, так, чтобы я мог её увидеть. Верхняя часть стопы (медики катаются по полу от гомерического хохота, поражённые моим невежеством в области анатомии) была неестественно раздута, – сокол.
– А что случилось?
– Вывих, – оповестил он меня, – два дня стать на неё не мог, – он с любовью и жалостью посмотрел на свою ногу.
– А кто же пойдёт за водкой? – расплатившись с таксистом, удивлённо спросил я и уже было приготовил для ответа песенку медвежонка с опилками в голове, но меня обломали:
– Вот ты и пойдёшь.
– А тебя не смущает, что сейчас только девять утра?
– Девять утра – не девять вечера, – резонно заметил он, а потом добавил: – Только возьми мужскую ёмкость.
– Литровую?
– Это для горилл, а двум нормальным мужикам, в такое пекло, вполне хватит пол-литра.
Ах, как жаль, что я не горилла.
Приговорив бутылку водки, мы возжелали продолжения банкета. Плавились термометры, асфальт, вентиляторы и мозги. Жара изнывала от жары, но, не смотря на это, мы забрались в такси и поехали в магазин. За водкой, благодаря которой Константин вновь обрёл веру в свои силы и дошёл до состояния стояния, а затем и передвижения. Правда, передвигался он как-то медленно, неуверенно припадая на больную ногу и сильно выбрасывая её вперёд, от чего шёл боком, напоминая хромого краба, направляющегося на собственные похороны.
Купив в магазине чекушку водки, литр фанты, пачку сигарет и две бутылочки слабоалкогольного напитка джин-тоник, мы направились ко мне. "Пьянка нуждается в разнообразии", – однажды философично заметил дядя Миша, разбавляя портвейн "Шипром". Мы же избрали не столь радикальный метод и для того, чтобы разнообразить наше весёлое времяпрепровождение решили обойтись только сменой места, оставляя неизменным качество и название напитка. Мы пили "отвёртку".
Белая крыса с красными икринками вместо глаз нарезала беспорядочные зигзаги по софе, стоящей на балконе. Своим непредсказуемым поведением она напоминала муху, или броуновское движение, что, в принципе, одно и то же.
А через стену, в квартире соседнего подъезда, с наслаждением бастурмировал полный кавалер ордена Сутулова, Григорий Кузьмич Ногузадерищенко. С бастурмой его познакомил во время Крымской кампании, взятый в плен турок, который, предвидя подобный, довольно печальный исход своей военной карьеры, всегда носил с собой в котомке НЗ в виде двадцати пяти килограммов сушёного мяса, упрятанного в розоватую корочку из специй. Его он отобрал у большого чеченца, которого убили неделю назад, и который сам к тому времени напоминал огромный кусок бастурмы. Именно благодаря ей, ветеран дожил до столь преклонного возраста. Странный народ эти ветераны. Хотя не только они.
Катя рассказала мне о человеке, который регулярно брил свою голову под ноль, но, стесняясь своей лысины, носил парик. Почему он так поступал, Катя не знала. Она спала.
Войдя в квартиру (дверь-предательница, открываясь, неприлично громко заскрипела), мы её разбудили.
– А где ты ходишь? Я проснулась, а дома никого.
– Он тоже утром проснулся, а дома никого, – ответствовал за меня Костя.
– Как это никого, – удивилась Катя, – а Паша с Наташей?
– Вот именно. Они есть, а тебя нет, – сказал я обиженно, но не обидевшись. Водка иногда примиряет. Даже с тем, с кем не пил.
Через пять минут все недоразумения были решены, и мне недолго пришлось упиваться своим горем, которого к тому же и не было.
На тротуаре лежал окурок, испачканный ярко-красной, неприлично-губной помадой. Я поднял его и, немного поразмыслив над своей бренностью и брезгливостью судьбы, отшвырнул в сторону Марса. На орбите воинствующей планеты одним русским спутником стало больше.
Поправив рогатый шлем и стиснув рукоять меча, я партизанской походкой направился в сторону железнодорожного вокзала, где назначила мне встречу длинноногая Диверсия. Ветер играл в КВН с моей капустообразной, рыжей бородой и трепал немытые от рождения патлы. Викинг и шампунь несовместимы. Внезапно, ослепив улицу фарами, из-за угла появился "Harley & Davidson". Он остановился подле меня. На нём восседала святая Екатерина. С ног до головы в рокерской коже. С укором глядя то ли на меня, то ли на мой шлем с рогами, она молвила: "Ну, и чего ты его напялил? Придурок! Тебе жена твоя верна. Так что, снимай. Не позорься", – и растаяла вместе с навороченным мотоциклом в месте, не указанном на карте…
Рука затекла, нога онемела. И так каждый час. Одна радость – засыпаю я так же быстро, как и просыпаюсь.
Рассказ был удачным во всех отношениях…
– Дайте мне стакан льда.
– Два доллара, – бармен был невозмутим.
– Но позвольте. За что?
– За бокал мартини.
– А! – у меня отлегло, – Вы, видимо, не расслышали. Я попросил только стакан льда, – и добавил: – жарко.
– Моему слуху позавидует сам Бетховен, – сказал профессиональный наливатель, не зная, что композитор, в последние годы своей жизни был глух, как тетерев, – и я повторяю Вам: два доллара.
– А за что? – наш диалог грозил перерасти в заколдованный круг, но мой оппонент, видимо опасаясь того же, решил прекратить эти бесполезные овальные речи:
– Мартини у нас подаётся со льдом, – терпеливо, словно неразумному ребёнку, объяснял мне бармен, – поэтому:
Ваш астрал (он увы не анал)
словно не тонущий фламинго
танцует танго или фламенко
Прямо на треугольной стене
Тебе беспечному и мне
И благодарный зритель…
– Ну, нет. Вы только посмотрите, – перебил я его, – Мало того, что он забрал мою кошку, все метафоры и уйму цитат, так он ещё и сомнительными стишками бросается, – я был взбешён.
– Вот Ваш лёд, – виновато произнёс смущённый бармен, – заведение угощает, – и он расплылся в профессиональной улыбке.
…Интрига, сюжет, море оригинальных сравнений… только не хватало коды. Солнечной либо печальной, но обязательно мощной концовки, без которой всё, что было написано выше, теряло всякий смысл…
По всей видимости, прошёл ещё один час, потому что я опять проснулся, но мне была необходима кода, и я заснул с намерением непременно приснить себе последнюю.
Опыт подсказывает, что иногда некоторым из нас удаётся увидеть во сне то, что мы пожелаем или продолжить, не вовремя оборванный, сон. Финал повествования, подаренного мне Морфеем, был даже лучше, чем я мог себе представить. Но, проснувшись, я обнаружил, что совершенно не помню содержание рассказа, приснившегося мне этой ночью. А конец, пусть даже самый мощный, без всего предыдущего, становится бесполезным членом без яиц. Спермоизвергататель есть, а самой спермы, извините… И поэтому (ну, что я могу здесь поделать?) придётся довольствоваться вам кастрированным повествованием.
Звёздное Лето.
Этим утром большинство обитателей моего города тщетно пытаются отыскать бесплатное место под солнцем на переполненных пляжах Массандры, Ливадии и Мисхора. Я же топчусь в поисках спасительной рифмы из можжевелового дерева, между фонтаном с мокрой женщиной и некогда цветочным магазином. К вино-водочному. Там уж точно смогу найти свой мост между прошлым и будущим.
Как же мне надоела моя трезвая рожа. Не спасает даже то, что отражение моё давно положило на меня большой и толстый и поддаётся общению только во сне. А там легко. Потому что все законы яви, словно кошка, сами по себе. Нарушаются. Этой ночью Каспий находился на пике славы эль Бруса, и мой далёкий знакомый, Леха Калмыков, с успехом овладев балалайкой, никак не мог найти 3, 2, 1, ноль отличий между Каспийским и Чёрным морями. Хотя для меня они были вполне очевидны, потому что Нил Армстронг, гуляя по лунной поверхности, был рад за мистера Горски, о чём и поведал, поедая звездную пыль, удивленным работникам ЦУП НАСА.
Чтобы хоть как-то разнообразить свою образину, побрился и за один час отрастил бороду, проколол себе ухо, левую губу и правую ноздрю, пупок, средний сосок и, на всякий случай, зашил алмазными нитками третий глаз, рот и очко. Не помогло. Мы – лишь вирус в крови Бога, и Он, конечно же, любит нас, но по вполне понятным, с точки зрения банальной медицины, причинам пытается избавиться. По крайней мере, мне так кажется. Иногда.
Хорал мрачного джаза моих снов в пределах улицы Таврической вдруг неожиданно зацвёл. Оттого что прокис. И как его теперь величать-то? Или, может, лучше подождать, когда…, а потом просто выпить? Накатить и лениво наблюдать за тем, как солнце встаёт между Адаларами; как богомол с росой на бирюзе уже раскрывшихся, но почему-то застывших крыльев, забыв о своём боге, лишь по привычке складывает свои лапки в молитвенном жесте жести жестокого, но красивого цветка; как цветы жизни поливаются сладким женским молоком, растут, распускаются и в один прекрасный день начинают источать аромат, в простонародье именуемый вонью. Я люблю детей, но, всякий раз глядя своими ушами на то, как этот юный жирный паразит начинает чавкать очередной горячей собакой, с завидной регулярностью вспоминаю доброго детского поэта Хармса: "… а когда я вижу детей, мне хочется, чтобы их всех хватил столбняк".
Если бы на дожде можно было бы повеситься, давно бы вздёрнулся.
Около двух часов пополудни. Почти сорок градусов по Цельсию. И полное отсутствие какого-либо присутствия. Не мудрено. В такую жару-то. Зелень, доставаемая белым пеклом, не вытерпев этого сорокаградусного безобразия, обиделась на светило и пожухла.
В том, что когда-то называлось травой, а ныне было просто пылью, лежал пьяный, но чистый человек. Казалось, он не валялся в пыли, а лишь прилег на минутку, которая выдалась у него в ожидании вызванного такси. Свои дипсо-эксперименты человек решил продолжать, пока не пойдет дождь.
Со словами из старого японского мультфильма: "Тулип, мой милый Тулип", он встал с земли и посмотрел на меня. Ба! Знакомые всё лица! Да это же Костик! Привет, Костик. Как дела? Но Костик молча прошёл сквозь меня и пошёл вслед за солнцем. Именно в том направлении находились питейные заведения, в содержимом которых он так нуждался в эту солнечную минуту скорби и отчаяния.
Подозреваю, что даже если бы сейчас пошёл долгожданный дождь, Константин всё равно отправился бы на запад. Да что дождь? Начнись сейчас вселенский потоп или упади на Землю астероид размером с Луну, он всё равно, и, возможно, даже не заметив этих катаклизмов, продолжил бы путь к намеченной цели. Его цель светла, как любовь, глубока, как мысль и непорочна, как святое зачатие.
Что может быть возвышенней, чем стакан портвейна? Если Вы страдали от синдрома алкогольного похмелья, то сможете меня понять. Ну, а если нет, то рекомендую. Стоит попробовать. Для полноты жизненных ощущений.
Добравшись до ближайшей точки общепита и приняв на грудь вышеозначенный стакан священной жидкости, Костик закурил и принялся размышлять на финансово-метеорологические темы. В кармане у него находилась хоть и скомканная, но сотка. Зелени. Да дома ещё одна, точно такая же купюра, только новенькая, ожидавшая своего часа где-то в недрах двухтомника Бродского. В каком из томов находилась денежка, он не помнил. И это хорошо. В противном случае, Иване ничего не стоило бы забраться сначала в его голову, а потом в книгу.
Прогноз погоды, услышанный по радио, не сулил ничего хорошего. Обещали жару и пекло. Адские муки обещали. И никакого намёка не то, чтобы на дождь, даже о вшивенькой облачности ничего не слышно. Вот и размышлял наш герой, как долго продлится эта пьяная жара и хватит ли у него на содержание оной денег?
– Володя, у тебя что, сегодня день рождения? – услышал он за своей спиной мужской голос и обернулся.
– С чего ты взял? – вопросом на вопрос ответствовал тот, кого мама нарекла Володей.
– Да вот, сидишь тут побритый, чистый и трезвый,… как мудак.
"Значит я не мудак. Потому что не трезвый", – подумал про себя Костик и для того, чтобы закрепить в глазах общественности данное утверждение, взял себе ещё двести грамм портвейна.
За портвейном последовал вечер, а вместе с ним, хоть и относительная, но прохлада.
Зажглась иллюминация, и музыканты стали настраиваться к ночному покосу.
Лабухов Костя любил, а посему собирался честно поделить пока ещё целую сотку между собой и ними. Правда, он ещё не знал, с кем именно из музыкантов ему придётся делиться, потому что на небольшом пятачке, находилось три точки. А в них такое же количество оркестров. Курорт не терпит пустых мест.
Посетителей хватало, и парнасовые бабки текли, если не рекою, то, по крайней мере, чем-то очень на неё похожим, в которую, полноправным зелёным ручейком, влился и полтинник Константина. Остальными деньгами он распорядился не по пьяному рационально. Купив себе на тридцатку выпить и поесть, на десять баков букет роскошных роз для не менее роскошной дамы, оставил десять грин про запас.
Безумству пьяных поём мы песню. Правда, никаких пьяных безумств Константин не вытворял, если не считать большого арбуза, что купил он у азербайджанцев и тут же отпустил в море: "В родную стихию". После чего, отхлебнув из бутылки, купленной в кафе с гансовским названием "Русалка", он выкурил сигарету и последовал вслед за арбузом. Однако море его не приняло и вытолкнуло на пляж, усеянный мелкой галькой и мусором.
– Ну, и что это значит? – вопрос был риторическим и не требовал ответа, но, не смотря на это, ответ последовал и, причём, незамедлительно:
– Да ты же пьян, как сапожник.
– Да. Ну и что?
– А то, что пьяному море по колено, – голос у моря был прокуренным, но приятным, – а для меня это оскорбительно и приходится вас топить, как котят.
– А как насчёт исключения?
– А с чего бы это?
– Я же тебе арбуз подарил.
– Это какой? Вот этот, что ли?
От арбуза остались только воспоминания, выраженные в полосатой, чёрно-зелёной окраске. Всё остальное напоминало ужас из "Чужих" любой части. И этот ужас с угрожающей скоростью и голодным желанием в глазах двигался в его направлении. Константин не испугался. Не успел. Уже через минуту он вопрошал:
– Вы чё, пацаны, в натуре, фуфло братве двигаете?
Через полторы – южане подсчитывали убытки.
А полчаса спустя пьяный Костик потешал ППСников рассказом об арбузах-монстрах. В отделении ему тоже не поверили, но, на всякий случай, от остальных задержанных поместили отдельно.
Проснулся он оттого, что кто-то настойчиво теребил его за плечо. Открыв глаза, Константин узрел сначала милицейскую фуражку, а уж потом её обладателя – огромного мордоворота в форме. В руках у того был поднос с пол-литровой бутылкой минералки, чашкой горячего кофе и бутылочкой коньяку. Рядом стоял пустой коньячный бокал.
– Как Вы себя ощущаете, Константин Щукович? – поинтересовался бравый страж правопорядка, – не желаете ли кофеёчку или коньячку?
– Спасибо за заботу. Отвратительно. Желаю, но сначала я выпью минералочки, – он вылил содержимое бутылки в своё горло и, спросив: – а что, давно вы практикуете подобный сервис? – налил себе коньяку и незамедлительно выпил.
– А мы его не практикуем. Это только для Вас.
– Почему же мне такие привилегии? – Костик принялся за кофе, – сигаретки не найдётся?
– Да. Конечно, – сержант достал из кармана пачку "Kent" и протянул её Константину. За ней последовала зажигалка, – а, что до привилегий, то я ничего не знаю. Мне просто сказали, чтобы я принёс всё это во вторую камеру, Константину Щуковичу Трав. Это же Вы?
– Да. Это я. А кто этот добродетель? Кого мне благодарить за свалившееся на мою голову счастье?
– Наш начальник. Подполковник Лаврентий, – сержант был горд. Только, непонятно почему.
– А фамилия, или хотя бы отчество у Лаврентия имеются?
– Так это и есть его фамилия.
Теперь становилась понятна причина гордости. Гордости подчинённого за своего боевого командира, по старинке рубавшего шашкой отбросы общества в лице рэкетиров и воров, взяточников и аферистов, а также самых обычных извращенцев, маньяков и убийц. Тех же, кого не удавалось прикончить на месте, комдив отправлял на скамью подсудимых, откуда их, после непродолжительной нотации, переправляли на зону. Варежки с домашними тапочками шить, или лес валить – это уж кому как подфартит.
Путь от камеры до кабинета начальника они проделали молча, но перед тем как войти в кабинет, сержант не выдержал и спросил:
– Я извиняюсь, но откуда у Вас такое странное отчество?
– От папы. Его зовут Щука, – ответил Константин и вошёл в кабинет. – Здравствуйте, – сказал он.
В одной его руке находилась початая бутылка коньяка, а в другой, работающая, как паровоз на станции Москва-Депо-Сортировочная, сигарета. Он довольно скоро привык к услужливому обращению к себе, а посему, кайфовал в милиции – там, где и самим милиционерам не очень-то нравилось находиться.
– Здравствуйте, Константин Щукович, – засуетился Лаврентий, вставая из-за стола и направляясь навстречу Костику для того, чтобы пожать ему руку, – как Вам у нас?
– Спасибо. Сервис на высшем уровне. Только вот кровать, мягко выражаясь, жестковата.
– Видите ли, дело в том, что подробности, связанные с Вашим задержанием, нам стали известны лишь к трём часам ночи, а Вы в это время уже спали. Вот и было решено оставить Вас у нас до утра.
– А что за подробности? – Костик плевать хотел на какие-то там подробности, однако правила этикета обязывали его задать этот вопрос.
– С Вашей помощью, Константин Щукович, – голос Лаврентия наполнился пафосом, – мы задержали триста семьдесят кило инопланетян, а также их распространителей.
Создавалось впечатление, что инопланетных товарищей по разуму продавали на рынке, словно картофель. Судя по всему, подобное сравнение пришло не только в мою бестолковку, но и в голову Костика:
– Как картошку что ли?
– Почти. Их, под видом арбузов, распространяли два азера, которые, правда, не знали, что именно они продают. Мы проверили. Они купили, по копейке за штуку, тонну арбузов и заплатили за это один рубль, – достав из недр своего дубового стола калькулятор, подполковник произвёл какие-то вычисления и продолжил, – не сложно догадаться, что арбузов было ровно сто, и каждый из них весил по десять килограммов.
– Должно быть, ребята не хило поднялись? – предположил Костя. Коньяк, возвращая его на грешную землю, не давал ему возможности подняться до высот инопланетного разума.
– Не успели. Они продали всего семь арбузов, один из которых купили Вы, а остальные Вы же и разбили, а что не разбили, то мы конфисковали, – в его голосе чувствовалась гордость за свою оперативность, – и, что интересно…
Его содержательный рассказ был прерван на самом интересном месте людьми в белых халатах – четырьмя амбалами, руководимыми сухонькой женщиной в пенсне. Они без стука вломились в кабинет и, не дав Лаврентию даже расстегнуть кобуры, скрутили последнего, а вместе с ним и Константина.
В психиатрической больнице имени Ф. М. Достоевского (Фёдор Михайлович был удостоен такой чести за написание романа "Идиот"), в кабинете главного врача их ждал радушный и радужный приём.
– Так значит, вы видели инопланетян? – голос главврача, сухонькой, но очень волевой и властной женщины в пенсне, был вкрадчиво мягким и профессионально приятным.
– Да. Конечно, – Лаврентий был возбуждён, а Костя, убаюканный действием продукции Ереванского коньячного завода, молча и как бы со стороны, взирал на происходящее, которое его вроде бы не интересовало.
– И что же это было?
– Арбузы.
– Арбузы?! – хмыкнула та.
Сарказма Лаврентий не заметил.
– Да. Арбузы, но не простые…
– …а золотые, – мысленно довёл за него фразу до логического завершения Костя.
– А какие? Золотые что ли? – прочитала мысли Костика обладательница раритетного пенсне.
– Ну, почему же золотые?
Продолжить ему не дали. Распахнулась дверь, и в кабинет ввалилась пьяная компания. Властная дама в пенсне хотела что-то возразить, но, как она ни силилась, ей не удалось даже рта раскрыть. Остальные сотрудники психиатрической лечебницы имени Ф. М. Достоевского ощущали себя так же, как и их шеф. Их парализовало. Психи же, напротив, почувствовав прилив жизненной силы, с утроенной энергией полезли на стены. К удивлению парализованных, но не утративших способности мыслить докторов и санитаров этого гуманно-оригинального заведения, некоторым из них это удалось.
Среди множества наполеонов, лениных, гитлеров и иже с ними, поражал своей прытью один ярко выраженный гомик, который мнил себя исключительно гетеросексуалом. Он умудрился забраться на потолок и совокупиться там с люстрой. После этого случая все люстры убрали, оставив голые стоваттные лампочки, которые, несмотря на свою обнажённость, никого не возбуждали…
Напрошенными гостями оказались, те с кем Лаврентий начал непримиримую войну и из-за кого угодил в психушку. Им очень понравилась настойчивость и неподкупность бравого командира. Именно таких не хватало в их космофлоте. Уговаривать Лаврентия не пришлось. Его ничего не держало на Земле. К тому же ему пообещали дать для начала в подчинение космолегион, что по земным меркам равнялось полку и для начинающего космического командира было совсем не плохо…
…Константин, со словами из старого японского мультфильма: «Тулип, мой милый Тулип», встал с пропитанной жарким летом земли и пошёл вслед за солнцем – на запад, потому что именно в том направлении находились питейные заведения, в содержимом которых он так нуждался в эту минуту скорби и отчаяния.
Deep Purple.
Я не знаю, почему так получается, но хочется думать, что виновата здесь она, а не я.
В том, что облака обнимают скалистые утёсы и от этого горы кажутся белыми и пушистыми. И мягкими.
Она сидела на кухне и, расположив на своих коленках книгу с репродукциями Дали, увлечённо рассматривала их. Я стоял рядом… Я поймал себя на мысли, что её ноги гораздо приятнее работ мастера. То есть, мне были интересны исключительно её ноги. Для меня они гораздо привлекательней картин Дали. В плане желания, в плане сексуальности и в плане живописи, как в плане совершенства. Дали – идиот. Хоть и гениальный. Он не видел её ног. Я же, в отличие от него, банальность, потому как он воспевал молочное тело Гитлера, а я всего лишь восхищаюсь её ногами.
Она налила мне какого-то рома и разбавила его апельсиновым соком. Получился коктейль, названия которого я не знаю. Я хотел пить (да и похмелиться мне тоже было нужно), поэтому залпом опорожнил содержимое своего бокала.
– Алик, это же long drink! – её удивлению, как и возмущению, не было предела.
– Я, извините, в английском слаб, – шутка прокатила, потому что она рассмеялась.
И повторила мой подвиг, одним махом уничтожив свою порцию хорошего настроения.
Разбавленная потом, потом была любовь. Затем, как водится, сигарета и…
Сон, словно большая спокойная река, протекал по полям моего сознания. Оно безгранично. Семьдесят лет советской власти. Дым и печаль третьего рейха. Нейроны Нерона. Тело, впёртое под воду. Гагарин. Рэп-группа «Ноги». Валерий Харламов. Рок-группа «Кашель». На заборе написаны три буквы: «Цой», а там дрова. Выпирает на природу. Мои, ныне покойные друзья. Дима. Игорь. Рома. Виталик. Алла Викторовна. Здравствуйте. Я могу забыть похмелиться, но я помню о вас. Слёзы. Радость, что они ещё есть. Злость за то, что их так много. Боль. Пытка кайфом. Попытка её забыть. Массу выпертой воды, тела, впёртого туды. Моя первая любовь, спасибо за то, что не забываешь. Полторы комнаты Иосифа Бродского. Собор Парижской Богоматери. Мэрилин Монро. Катя – стихия. Противостоять ей невозможно. Можно только спрятаться. Спрятаться от дождя, всё равно, что противостоять стихии. Огни большого города. А. Б. П. и её супруг. Стриптиз. Многоточие… Оргазм. Наслаждение разочарования. Глоссолалия тишины. Бедный Иуда. Иероглифы древнего граммофона. Граффити. Где туалет, там наскальные рисунки. Саксофон и Якудза. Уджаз. Якудза и Греция. Морская пена. Выходящая из неё красавица. Одетая женщина без лошади более желанна, чем нагая. Раста. Религия. Тридцать три богатыря. Подъезд моего старого дома. Квартира номер тринадцать. Семь ветров. Чайная горка. Точка. Хорхе Луис Кортасар. Хулио Борхес. Эрих Ремарк. Мария. Магдалина. Ария. Лягушка. Пятая авеню. Водка. Рок-н-ролл. Хорошего должно быть много. Дали и Дали. Это два разных слова. Первое принадлежит скорее к географии. Второе, несомненно, к живописи и придурку. Гений. Дерьмо. Дерматин. Зима, раскаты грома – Ялта. Виза. Америка. Юля. Питер Пэн. Игорь Костолевский. Молоко. Тиран солнечной долины. Лариса Долина. Танки и танки. Это тоже два разных слова. Первое относится к японской поэзии. Второе – просто железо. Дети старят. Последний танец вечной молодости. Зеркало и оставшееся отражение в нём. Когда меня нет.
Не пора ли просыпаться? Пожалуй, пора. Два волнистых попугайчика о чём-то неугомонно спорят между собой. Они живут на пальме, а она живёт у него в квартире. Он, спасая дерево от неминуемой гибели, забрал его из парфюмерного магазина, где работал грузчиком. Всё остальное – дело техники. Он давно хотел так поступить, но у него не было основной составляющей – пальмы. А тут такая удача и к тому же совершенно нашару. Он просто вынес всё из своей комнаты и, оставив только магнитофон и огромный матрац, поставил там (прямо посередине) тропическое дерево, на котором резвились две маленькие и шустрые птички. Ямайка (три восклицательных знака!!! Вот). Мама сначала возмущалась, но затем, махнув на него рукой, смирилась.
Его кошка, в отличие от мамы, восприняла перемены с бодрым энтузиазмом, и первое время охотилась за птицами. Зверь. Но, получив от него пару раз по пятнистой морде, догадалась, что данное занятие опасно если не для здоровья, то для настроения – это точно и оставила свои забавы. Умное животное. Попугаи тоже не дураки. Поняв, что огромный комок шерсти больше никакой угрозы для них не представляет, они буквально залезли на голову бедному хищнику и стали проводить там почти всё своё свободное время, которого у них, как выяснилось, было не так уж много. Занятой народ эти попугаи: перышки друг другу почистить, листья на пальме обгрызть, под пальмой нагадить, поворковать, полетать, пешком по полу походить – вот далеко не полный перечень их неотложных дел. И всё это надо. Не приведи Господи о чём-нибудь забыть. Горя не оберёшься.
Кошкам свойственно терпение. Моей особенно. Но и она долго не продержалась. Вернувшись как-то с работы, я обнаружил эту наглую, довольную рожу в птичьих перьях и пуху.
– Сожрала-таки? – вопрос был риторическим и ответа не требовал, но:
– Зачем же так грубо? Подумаешь, слегка перекусила, – я оглянулся, в надежде увидеть маму (голос был очень похожим), но дверь была плотно прикрыта, а в комнате, кроме меня и кошки, никого.
– Ты умеешь говорить?
– А что здесь удивительного, если у тебя даже холодильник наделён этой способностью? – и, видя мой немой вопрос, касаемый разговорчивого холодильника, кошка пояснила: – я прочла на досуге твой "Синий роман".
– Ну, и как он тебе?
Я был польщён тем, что являюсь первым человеком, кого читала (на досуге) кошка. При этом меня совершенно не удивила её способность читать. Если она может говорить, то почему бы ей ни уметь читать?
– Бред сивой кобылы. Но я дочитала до конца.
– Спасибо. Но не могла бы ты объяснить мне внезапно открывшиеся в тебе возможности?
– Холодильнику, значит, можно, а мне нет?
– Да, но говорящий холодильник – всего лишь плод фантазии.
– А я, по-твоему, настоящая? – посеяла в моей свежевспаханной голове семена сомнения кошка, после чего сделала контрольный выстрел: – да и ты, извини меня, всего лишь набор ничего незначащих слов.
Айвазовский. Море. Девятый вал. Если мне не изменяет память, на картине, помимо шторма, присутствуют обломки разбитого корабля. Огромный огрызок мачты беспомощно болтается в бушующем море. Но, несмотря на свою беспомощность перед стихией, он остаётся последней надеждой для тех несчастных, кому чудом удалось избежать гибели. Они спаслись. Фортуна улыбнулась им, но при этом, обрекая на страдания, сделала их несчастными. «Что наша жизнь? Игра». «Что? Где? Когда?» «Что делать?» «…где сидит фазан?» и, наконец, когда это прекратится? Вечные вопросы, ответа на которые не существует. И хорошо, что его нет, потому что, ответив на данные словеса с вопрошающей интонацией, можно смело идти в ближайший обувной магазин, покупать там себе ослепительно белые тапочки и, после примерки оных, с чистой совестью ложиться в гроб. Всё. План жизни успешно воплощён в жизнь (пардон за тавтологию) и её цель достигнута. Почему вы плачете, когда надо радоваться? Ведь покойный смог ответить на неразрешимые вопросы. Хотя, откровенно говоря, ему льстит соль ваших искренних слёз. И он с умилением и благодарностью взирает на вас ручьём, беззаботно пробегающим недалеко от вашего дома; дождём, сигаретой и кофе – этой Тринити, заботливо оберегающей вас от удушливой душевной тоски; «Боингом», с комфортом & free drink несущим вас к чёрту на кулички, через океан. Океан. Море. Девятый вал. Айвазовский.
Как-то внезапно на мою голову свалился вечер. И также внезапно она позвонила.
– Чем занимаешься? – после своего обычного "привет", спросила она.
– Пытаюсь не умереть от скуки, – это было правдой и неправдой одновременно. Просто ему очень хотелось провести этот вечер вместе с ней.
– Тогда приезжай.
– Может, лучше ты ко мне? – в его голосе звучала надежда, и она, услышав её, не раздумывая, ответила:
– Хорошо. Что привезти с собой?
– Я бы с удовольствием выпил сухого вина.
– Ладно. Привезу. Ну, всё. До встречи.
Через сорок минут дверной звонок, разразившись сиплыми, но ритмичными переливами, намекнул на то, что за дверью кто-то есть. Он открыл дверь. За порогом была она.
Подавая после приветствия ему пальто, она посетовала:
– А я в советских колготках.
Она была в чёрной короткой юбке. Он молчал, и поэтому она продолжила:
– Ты что, со мной не разговариваешь?
– Да нет. Я просто подумал о том, что на красивых ногах любые колготки хороши.
– Ну, вот. Напросилась на комплимент.
– Приходите ещё, – что в переводе на русский язык означает: "Мне приятно делать тебе приятное".
– Я подумала о том, что немного сухого вина не повредит и даже полезно для здоровья, – она достала из пакета, с вечно улыбающимся ковбоем Marlboro, бутылку "Ркацители".
Они пили вино. Они разговаривали. Они, уносясь к разноцветным островам Гогена, целовались.
Гоген – один из первых, известных мне растаманов. Его картины звучат в моей голове красочной музыкой реггей, которую Константин Трав как-то очень удачно сравнил с пляжем и кока-колой. Симпатичные, симметрично длинноногие девчонки в умопомрачительных бикини обнимают рыжеволосое солнце, и оно, как всякий нормальный мужчина, не в состоянии устоять перед такой красотой, одаривает их своим теплом и светом (читай: загаром), потому что больше ничего подарить не может. Море же, не желая отставать от светила, дарует мускулистым крепышам в very sexy плавках свою нужную нежность в виде солёной прохлады. А всемирно известная продукция компании «Coca-Cola» присутствует здесь в качестве утолителя жажды и бесплатного рекламного приложения. Эта беззаботная картинка из жизни потребителей солнца и моря – музыка растаманов. Но вся эта пляжная беспечность, в сравнении с картинами Гогена, производит на меня такое же впечатление, какое, по сравнению с живым концертом, может произвести музыка, звучащая с диска. Парадокс: пусть беспечную, но всё-таки жизнь я сравниваю с записью, а мультяшные картины Гогена – с жизнью.
В музыкальном салоне «Чёрное море» любят реггей. Впрочем, так же, как и любую другую музыку. Главное, чтобы она была хорошей. Но картин Гогена там не наблюдается. Впрочем, по вполне понятным причинам. И дело здесь, отнюдь, не в том, что участники этого музыкального некоммерческого проекта не любят живопись. Просто денег нет. Нет денег. На оригиналы. А тешить себя репродукциями – не в их стиле.
На открытие нового зала в "Чёрном море" собралось много людей. В основном это были друзья, но не только:
– Что тут будет? – услышал я из уст проходившего мимо меня молодого человека, вопрос. Его обладатель был чуть старше шекспировского Ромео.
– Не знаю, – ответствовал ему его сверстник, – я думал дискотека. А тут джаз какой-то.
Пьянка, разбавленная настоящим джазом удалась на славу. По домам развозил нас Раджа – лихой ялтинский таксист.
Квадрат. Что может быть печальнее квадрата, к тому же круглого и синего?
Опять он занимается словоблудием – скажете вы и ошибётесь, потому что Квадрат – это человек с именем геометрической фигуры и лицом, похожим на круг. Процесс преобразования классического равнобедренного треугольника в банальный круг с его радиусом, диаметром и окружностью описывать не буду, скажу лишь только, что нужно для этой геометрии совсем немного: водка с закусью, пиво и время для завершения этого священнодейства. Окружность стала значительно больше периметра.
В машине нас было семеро… с Раджей…, который, сдавая назад, сказал, чтобы мы убрали головы. На квадратный вопрос: "Куда?", он раздражённо ответил: "Между ног". Ответ, полный сексуальной грусти и эстетической неудовлетворённости, последовал незамедлительно: "Не, я между ног не могу. Я сразу у себя отсасывать начинаю".
Что может быть печальнее Квадрата?
Я позвонил Лене и сказал, что закончил этот рассказ. Кошка породы с неприлично пушистым хвостом сидела на моих коленках и о чём-то тихо мурчала. На том конце провода мне сказали, что это хорошо и пообещали прийти почитать. Дело было в пятницу вечером. Я прождал её весь субботний день (как дурак, с чистой шеей). С таким же успехом я мог ждать у моря погоды. Вместо неё пришёл Алик, и я отправил его за кайфом. Как-то лет пятнадцать назад я придумал нечто отдалённо напоминающее хайку. Данное произведение касалось одного рижского наркомана тире гитариста:
"Вчера приехал Лёша Мэй.
Забыл гитару прихватить.
И мы всю ночь играли на "баяне"", которая прошла бурно, беспокойно, но при этом совершенно бесцельно. Всё было именно так, только вместо Лёши был Алик.
Следующие сутки мы продолжили. Правда, порознь. В неосознанной изоляции друг от друга. В понедельник я спал. Весь день. А Алик (бедолага (не путать с Берлагой)) работал. После длинного и нудного трудового дня он явился ко мне…
…котята вдохновенно сосут кошку. Мне кажется, они не понимают, что это их мать, принимая её за большую молочную ёмкость, которая постоянно их облизывает и иногда куда-то уходит. Периодически, кошкины дети использовали лохматый бидон с молоком, на котором была не одна, а несколько сосок (удобно), в качестве мягкого матраца. Матрац был с обогревом.
Матрац – это не матрица, а "Матрица” – не "Аромат женщины", тянущийся за представительницей прекрасной половины прогрессивного человечества ядовитым шлейфом "Пуазона". Хотя вкусы у всех разные, и я не исключаю возможности того, что шлейф этот был насыщен тонким запахом "Тройного одеколона".
Тройняк (только белый, а не жёлтый) – прекрасное пойло. Вот уж, воистину, дешево и сердито, но мы употребляли внутрь себя водочку. Так уж повелось, и после белого нам необходимо было размяться синим.
Алик категорически хотел портвейна, я же не менее категорично настаивал на водке. Моя категория оказалась сильнее, потому что Алик, в отличие от меня, был неимущ. Кто девушку угощает, тот её и танцует.
Мы сидели на балконе. Алик в кресле, а я на диване. Сначала был Tom Waits. Он freeвольно расположился справа от меня и слева от Алика. Мне его творчество напоминает хороший анекдот, а звучание – "Зоопарк". Разница только в том, что Том платит деньги за то, что у Майка получалось само собой.
Затем мы приобщились к любителям хард-рока посредством прослушивания Deep Purple. Хорошая команда. Сильная и по-прежнему оригинальная.
– Я вчера кончил на "Красный квадрат", – оповестил я Алика после изумительного лордовского пассажа.
Алик выдержал паузу, давая возможность доиграть фразу Пейсу (они часто ведут перекличку. Лорд и Пейс), после чего спросил:
– Как?
– В буквальном смысле. Я копался в старых журналах и случайно нарвался на репродукцию Малевича. Чувствую: возбуждает. Ну, я член в руку и вперёд, – пауза. Звучит знаменитое гитарное соло из "Highway Star", – Через десять минут в палитру самого красного квадрата на свете добавился цвет моей спермы.
– А я не могу кончить, глядя на фотографию или в экран телевизора. Только воображение. Вот что помогает мне в борьбе за святую эякуляцию, – сказал Роджер Глоуэр и прослезился простым, но довольно вкусным соло на бас гитаре.
…которое рассказало мне о босоногом мальчике-ветре с копной волос цвета льна. Он шёл по лету уверенной и лёгкой походкой от солнца к звёздам. Он знал Дао. Он что-то слышал об увэй. Но восточную философию он постиг при помощи банальной мастурбации.
Сначала он просто его теребил. Ничего существенного, но приятно. А приятное принято продолжать. Продолжая свои самоудовлетворительные эксперименты, ему в голову вдруг пришла – реальность, как пошлость, возведённая в ранг самоубийства – сцена массового совокупления. Откуда у двенадцатилетнего мальчугана в пору тотального социализма такие видения? Никто (и тем более он сам) не знал. Но, приняв их, как должное, словно дар небес, он с утроенной энергией стал теребить своего красавца. Он такой большой и такой горячий. Мрачный король хард-роковой гитары помогал мальчику-ветру овладеть собой…
…ветер познал истину в тот момент, когда последний аккорд, на мгновение зависнув в воздухе, растаял в вечерней тишине. Deep Purple кончился. Мальчик кончил. И только вездесущий дух Мао как-то грустно и чуть устало заметил, что без увэй невозможно познать Дао…
– Я вчера утром видел Лену, – сообщил мне Алик.
Я об этом знал. Накануне она мне позвонила с извинениями относительно непроизвольно случившегося динамо (а я. Как дурак. Всю субботу. С чистой шеей), ну и конечно рассказала о встрече с ним в Приморском парке. Только, как выяснилось, она опустила подробности.
– Ну, и что? – я ждал продолжения.
– Она была не одна.
Я, наверное, удивился, потому что Алик выдержал паузу и продолжил: – а в обществе двух чувачков. Два таких представительных дядьки и, к тому же, в возрасте…
Теперь я не наверное, а точно был удивлён, и Алику ничего не оставалось сделать, как добить меня сделанным из вышесказанного выводом: – скорее всего, она сразу с двумя…, – он не продолжил, но добавил: – в тихом омуте черти водятся.
– А мне нравятся свободные женщины, – тихо, чтобы, не дай Бог, не нарушить молчания Луны, сказал я.
Пианист во фраке, играл "Танец с саблями" на умопомрачительно белом (или ослепительно чёрном) рояле, который стоял посреди зелёной, аккуратно подстриженной лужайки. На ней паслись овцы, козы и барсуки. Последние затесались в эту идиллию, потому что перебрал я вчера в обществе двух своих сестёр водки, а сегодня, дождавшись вечера и употребив внутрь бутылочку портвейна, я пребываю в лёгкой прострации. Вчера вечера просто были, а ныне… Данная среда, не уместившись полностью в четверг, протянула (в смысле вытянула) свои босые ноги в пятницу…
В Париже дождь.
Срать. Очень хочется срать. Не какать, не по-большому, а именно срать. Я встаю с дивана – за окном колбасится ночь – и на ощупь, чтобы не разбудить спящих хозяев, направляюсь туда, где по сведениям разноцветных лоскутков моей однотонной памяти должен находиться туалет. Но в туалете кто-то закрылся, о чём свидетельствует включенный там свет, и выходить не желает. Надо подождать. Это понимает моя голова, но не жопа. Она свербит моё сознание своим неестественно естественным желанием, и нет ей никакого дела до того, что я нахожусь в гостях у совершенно незнакомых мне людей, и элементарные правила приличия не позволяют мне постучать в злополучную, но такую желанную дверь. Терпи, маленький белый бегемот из гипса.
Чтобы как-нибудь отвлечь себя от мысли о естественных потребностях своего организма, пытаюсь вспомнить, как я попал (очень точное слово. Точнее можно только матом) к этим гостеприимным людям. Но избирательная сущность памяти весом в одну тонну – "Льдинка, льдинка, скоро май" – предлагает мне меню из репертуара Ларисы Долиной, и я, досконально его изучив, ловлю себя на мысли, что она совершенно не умеет петь джаз. Хотя и старается.
– Посмотри на себя, – с укоризной в голосе сказала мне ты, – ты являешься пределом мечтаний любого ихтиандра.
– Не понял, – налил я в унисон собственному голосу.
– Ведь ты же уже на самом дне.
– Знаешь, чем хорошо дно? – спросил я, выпил, скорчил рожу и, приняв позу роденовского мыслителя, продолжил собственную мысль: – Тем, что ниже уже некуда.
– Ну и залейся, – ты поставила на стол бутылку водки – спасибо – и вышла из комнаты и из моей жизни. Больше я никогда тебя не встречал. Даже во сне.
Пришёл Мисхорский – респектабельный мен в крутых заморских ботинках и недешёвом пальто до щиколоток. Остальные вещи на нём были подстать вышеозначенным. Обладатель дорогой одежды по призванию был бизнесменом тире аферистом, но, по странному стечению обстоятельств, все его аферы выходили ему боком. И если он кого и кидал, то только себя. Но, боже! С какой виртуозностью он это делал! Это не просто кидняк. Это песня! И я всякий раз удивлялся: как ему это удаётся? Но этот оптимист, со словами: "Под лежачий камень вода не течёт", выбираясь из одной кучи дерьма, умудрялся вляпаться в другую. Естественно, она была значительно больше предыдущей.
Но как собутыльник он был примером достойным подражания и с удовольствием поддержал меня в моих глубоководных вино-водочных исследованиях. Моё стало нашим. Мы пили и говорили. О том, что, благодаря наблюдениям Солнечного Генерала, я пришёл к выводу: эфирное тело не только не поспевает за своим физическим, но и обладает удивительными эластичными свойствами, и что россиянам повезло с их Путиным, а нам с нашим, как всегда, не очень, и что jazz выдохся – именно поэтому он обречён на второе дыхание, и что неплохо бы отправиться куда-нибудь за чудесами. В Минск за бульбой, в Москву за песнями, на Мальдивы за фруктами, в Монте-Карло за бабками, в Монтевидео за девчонками или, на худой конец, в Майами за растаманами.
– Ме-ли-то-поль, – прочитал Алик по слогам надпись на фронтоне здания железнодорожного вокзала, – ну и дыра.
– Да уж. Не Рио. – Мисхорский уверенной рукой опохмелённого человека наполнил стаканы, – Ну, давай.
И мы дали. Теперь я корячусь в ожидании, когда освободится туалет, не подозревая о том, что в нём никого нет. Предусмотрительные хозяева для того, чтобы я не заблудился в лабиринте незнакомой ночи, оставили там включенным свет, но дверь почему-то закрыли.
По-быстрому простирнув в ванной трусишки, остатки ночи я тщетно отстирывал своё сознание от похмельных угрызений совести. Посредством сна. Не получилось.
Утро после бутылочки красненького прекрасно и непредсказуемо. Мисхорский куда-то пропал, чему я, признаться, нисколько не огорчился.
На пути к вокзалу я обратил своё внимание на одну странность. Оказывается, в Мелитополе живут трезвые люди. И никто их там не удерживает насильно. И некоторые из них мне показались вполне вменяемыми. Воистину, чужая душа – потёмки.
Когда я уезжал из этой ошибки цивилизации вообще и градостроительства в частности, там шёл дождь. Впрочем, он, похоже, не прекращался там со времён всемирного потопа, и ошибка заключалась в том, что его не смыло совсем со всем ветхозаветным миром.
На перроне стоял маленький белый бегемот из гипса и, ожидая проходящий поезд Москва-Симферополь, мок под холодными осенними струями прощального танго Астора Пиаццоло. А рядом, на скамейке маялся помятый вчерашними возлияниями, но вполне приличный на вид мужчина.
– Парень, – обратился он ко мне, – скажи, где я?
– На ЖД вокзале.
– Это я уже понял. А город? Как называется этот город?
Алику повезло больше. Он хотя бы знал, куда занесла его нелёгкая запоя.
– Мелитополь.
– В Париже дождь.
– Не в Париже, а в Мелитополе.
– Да-да, – задумчиво отозвался тот, – вроде бы один и тот же дождь, а как сильно отличается…
Запах родины.
Когда Костик, после недельных поисков, приобрёл-таки себе новые скрипуче-моднячие ботинки, я обзавидовался. Из моих кроссовок посыпался песок. Старенькие они уже. Вслед за песком вывалились стельки, потом пауки. Завершилось всё маленькими черепашками с панцирями, похожими на разноцветные резиновые облака-ракушки.
Очень хотелось курить. Моя босоногая поза лотоса сидела в неугомонной тени алычи и лениво постреливала сигареты. Желающих расщедриться не было. А одна трёхрукая наивность (третья рука вяло болталась у него между ног) с огромной сигаретой в зубах, на мою невинную просьбу вообще ответил: "Если бы у тебя была баба, я бы с тобой поменялся". Дурачок.
Если бы у меня была, как он выразился, баба, я бы не сидел тут, а раскачивался на страстных качелях всеобъемлющей и потной любви. К тому же, у неё наверняка были бы сигареты, и курил я их, как свои, пока она курила мою нескучную писю.
– Фу. Пошляк, – сказала Катя, прочитав предыдущее предложение.
– А что тут поделаешь?
– Мог бы об этом не писать.
– Из песни слов не выкинешь, – возразил я.
– Так уж и не выкинешь…
И я поведал ей о том, как, пытаясь открыть дверь, я давал прикурить замочной скважине, потому что думал о чём-то своём и вместо ключа достал из кармана спички.
Марина, утомлённая двухмесячным солнцем по имени Сергей, спала на стареньком скрипучем диване в комнате. Её вхолостую утешал телевизор. На кухне, как резаный орал ребёнок – шестьдесят семь дней отроду. Его пытался успокоить папа: "Ну, Серёжа, твоя мама два месяца не спала. Она устала. Ей надо поспать. А ты плачешь и плачешь. Нельзя же быть таким мудаком".
– Воспитываешь? – я поставил на стол бутылку пепси.
– Ага, – он достал из-под стола бутылку водки. Затем, немного подумав, вернул её на прежнее место, – потом, – сказал он, – когда твоя сестра проснётся.
– А я что? – согласился мой внутренний голос, – я ничего.
Я был благодарен ему за то, что он избавил меня от скучной необходимости (кстати, Дима. Так его зовут) объяснять, кто такая Марина, и почему я так запросто, пытаясь попасть к ним в жилище, давал прикурить (в буквальном смысле) замочной скважине их входной двери.
На кухню залетел светлячок. Лето. Я поднялся (до небес?) с табурета и выключил свет. Откуда-то с улицы донеслось: "Мы погасим весь свет, и мы станем смотреть, как соседи напротив пытаются петь, обрекая бессмертные души на смерть…". Светляк, фосфорицирующим беспорядком маленького космического корабля, беспардонно нарезал круги в неизведанной вселенной тёмной кухни. Красиво, ничего не скажешь. Ребёнок устал кричать и, потребовав соску, замолчал. Минуту спустя он мирно сопел в две маленькие, но довольно продуктивно работающие ноздри. Заснул. Дима положил его в коляску – она стояла тут же, на кухне – и вновь достал из-под стола водку. Ничего не скажешь, приятно.
– Так Марина же ещё спит, – вяло возразил я.
– Теперь можно, – сказал он, – будет спать часа два.
Дима на ощупь открыл кухонный шкафчик и извлёк из его недр огарок свечи – роскошь, оставшаяся со времён борьбы государства с электричеством. Света, производимого летающим китайским фонариком, хватало только на восхищение темнотой.
Водка при свечах. Волшебно. Но на вкус – так же, как и при свете. И, причём, совершенно неважно, какой именно это свет: божественный или электрический.
Светлячок, оскорбившись наличием более яркого конкурента, полетел осваивать иные миры. Свеча прослезилась воском. Она одна заметила исчезновение насекомого, излучающего зелёный неон. Нам же было не до живности. Мы запивали пепси-колой горькую.
Поэзию изобрели пропойцы. Философия для непьющих аллергиков. А нам остаются лишь серые вечера прозы жизни.
– Хочу быть поэтом, – тихо прошептал я, не зная, чего боюсь больше: разбудить ребёнка, или вспугнуть мысль.
– Хочешь? Будь им!
– Легко сказать…
– Значит, не хочешь, – перебил меня Дима, – кстати, а знаешь ли ты, что делал Бернар Шоу, когда ему не писалось?
– Нет.
– Он выходил на улицу и начинал обнимать первую, попавшуюся ему молодую женщину и обнимал её до тех пор, пока та не испускала дух.
– А я поступал иначе, – мне было лестно, что у меня появилась возможность сравнить себя с великим Шоу, – я набирался алкогольных впечатлений в ближайшем баре, затем покупал цветы и дарил их первой понравившейся мне молодой женщине.
– О чём это говорит?
– ???, – вопросом на вопрос ответил я.
– О том, что ты не Бернар Шоу, – сказал он, после чего озадачил меня: – А ты хотел бы после смерти стать популярным?
– Конечно, – возбудился я, – кто бы отказался?
– Нет. Я думаю: ты хотел бы стать популярным ещё при жизни.
Я зашёлся беззвучным смехом, а он, аппетитно булькая, наполнил рюмки. Сейчас Дима бизнесмен. А ещё прошлой зимой он возвращал людей к жизни, прозябая в одной из одесских реанимаций.
– Ты трупов видел? – продолжил я тему популярности.
– Видел.
– Много?
– Много.
– А сколько, – я чуть было не ляпнул: "штук", – ты вернул к жизни?
– Я не считал.
– А тебе никто из них не рассказывал о свете в конце тоннеля, – я хотел закурить, но гад с рукой вместо члена, напомнив о ребёнке, отказал мне, – или о чём-нибудь таком?
– Нет. Но однажды к нам привезли мужика – здоровый такой. Детина. Он пять с половиной минут находился в состоянии клинической смерти. Откачали. Через какое-то время я встречаю его в коридоре с двумя пакетами кира и жратвы. "Ты в своём уме?", – говорю. "Ты же ещё месяц назад на том свете был". А он мне отвечает: "Пойдём, Дмитрий Викторович, выпьем. Сегодня у меня сорок дней".
Вошла заспанная, но красивая, как пожарная машина, Марина.
– Смородина пахнет родиной, – сказала она.
– А родина виноградом, – добавил я.
– Получается: смородина пахнет виноградом, – резюмировал Дима.
Я позволил себе не согласиться:
– Просто у каждого своя родина, и пахнет она по-разному.
Глава 99
Просто настроение у меня ни к чёрту. Дохлая курица прошлась своими корявыми окорочками по моей душе, нагадила там и с чувством собственного достоинства удалилась. Сегодня с утра я поругался с мамой. Вернее, она со мной. Бывает так: просыпается человек и встаёт с неправильной ноги. Вот и итоги: настроение у меня ни к чёрту. Моей маме почти семьдесят, но грецкие орехи она до сих пор колет кулаком. Сильная женщина.
По серому небу невразумительно карабкаются серые облака – не тучи, но уже не белые. А ведь ещё вчера в чистом багрянце вечернего неба одиноко резвились две вороны. Это засело в голове, словно обрывки моего лица в помятой памяти сгоревшей спички, от которой я прикуривал. Чирк, пых и на этом вся любовь.
"Весь мир – дерьмо. Засохшее дерьмо высшей пробы. Возблюём же, дети мои!.." – это Харуки Мураками. Возможно, в другое время я бы с ним не согласился, но только не сегодня. Серое небо, серые облака, злая мама и кушать очень хочется. Голод – не тётка.
Я, соблюдая меры предосторожности (бескрайний партизан крымского государственного заповедника), строевым шагом пробрался на кухню. Открыл холодильник – вечная мерзлота. Извлёкая из неё, словно свежеотмороженного мамонта, три куриных яйца, я подумал: если две вороны – это одиночество, то, что тогда означает одна ворона? Кстати сказать, я прекрасно готовлю. Могу – два пальца об асфальт – сделать яичницу с помидорами, а могу и без них.
– Дядя един, – это пришёл мой племянник Денис, по малолетству игнорирующий букву "Р". Сейчас начнет доставать меня своими сюрреалистическими вопросами, – сказы, зачем гъемит гъом? – ну, что я говорил? Сюр в чистом виде.
– Потому, что молния сверкает, – энтузиазм из меня вышел, пошёл в ближайший магазин за спичками и забыл обратную дорогу.
– А почему молния свейкает? – не унимался будущий Ломоносов.
– Потому что Господь пытается включить свет, но у Него ничего не получается. Злой электрик сделал так, что при любой попытке щёлкнуть выключателем происходит короткое замыкание. Потому и гремит, – и, чтобы предупредить очередной вопрос, я добавил: – ночью нужно спать, а днём и без того светло. Так что нечего зря расходовать мировые запасы электроэнергии, – полагая, что удовлетворил неуемную жажду познания Дениса, я расслабился.
Наивный.
– А кто главнее: Бог или электъик? – он, сам того не подозревая, задал вопрос, который терзает всё прогрессивное человечество с момента осознания, что оно таковым и является. Но однозначного ответа не существует.
– Пойди, спроси у мамы.
Через несколько секунд мой юный оппонент, взяв самоотвод, попросил замену. Я не возражал. В наш теософский диспут вмешалась Марина:
– Редин, у тебя с головушкой всё в порядке?
– А что такое? – я был невозмутим.
– Да так. В принципе, ничего. Только почему-то мой ребёнок приходит ко мне с идиотским вопросом: мама, кто главнее: Бог или электрик?
– Ну, и что ты ему ответила? – я выключил газ под сковородой и переложил жареные в томатном обществе куриные зародыши на тарелку, – меня самого очень занимает данный вопрос.
Правда, интерес этот не помешал мне приступить к поглощению трёхглазой яичницы. Одной религией сыт не будешь. Голод – не тётка.
– Я сказала ему, что его дядя придурок.
Вопрос спорный, но перечить я не стал. В конце концов, со стороны виднее.
Придурок сидел в комнате. Его, японским квадратным глазом, смотрел телевизор. То ещё зрелище. Всего один канал. Да и передача тоже одна. Ничего интересного.
Я взял пульт и, чтобы заставить телевизионный приёмник обратить внимание на бревно в своём глазу, воскресив его вселенскую печаль по нашим шоу-программам, стал гулять по каналам.
Каналы. Гондолы. Гондольеры – весло и руль в одном флаконе. Венеция. Город, утопающий в цветах и в канализации, как в любви. У меня на все цветы, кроме жёлтых в чёрную крапинку зловонных звёзд кактуса, аллергия. Поэтому – "жми кнопку, Макс" – я покидаю по колено мокрый город и не знаю уж каким образом, но оказываюсь на канале 99. Превратности судьбы – это разноцветные кнопки телевизионного пульта.
Странно, но раньше на девяносто девятом канале ничего, кроме солёной технологической ряби, не было. Теперь же там сушилось мокрое бельё: джинсы, лифчики, мужские трусы и женские трусики, сорок сорочек изгаженных сороками и постельное бельё пастельного цвета. Всё это развивалось на ветру под косыми струями дождя. Так что бельё не сушилось, а мокло. Данная Даная на берегу Дуная мне не по зубам. Метафизика какая-то. Я встаю и иду на балкон. Курить.
Небо, наконец-то, разродилось дождём. Как там у Райнова? Нет ничего лучше плохой погоды. Дядю Богомила можно любить уже хотя бы за то, что он любит дождь. И не какой-то мистически-телевизионный, а самый обыкновенный серый дождь.
Определённо, определение, определяющее пределы запредельного, непременно устарело. Босая баба Яга – причёска от Зверева, прикид от Юдашкина, макияж чёрт знает от кого, но крутой – вошла, аккуратно поставила подле несуществующего, но горящего камина канистру с бензином и в рискованной близости от оной закурила. Я поздоровался.
– Здравствуй-здравствуй, болт ушастый, – улыбнулась она, отчего я понял: шутит.
– Чем обязан?
– Прикинь, у меня TVset нагнулся и не разгибается, – оказывается, арго распространился уже и на лексикон персонажей из русских народных сказок.
– Мастера вызови, – что-то подсказывало мне: если я стану её звать на "Вы", она меня непременно съест.
– Не идёт паразит. Боится.
– Чего?
– Что я его изнасилую, – она многозначительно сверкнула глазами.
Многозначительность была однозначной.
– Радоваться надо, – на вид ей было не больше тридцати. И то, при условии, что выглядит эта тридцатилетняя не старше двадцати пяти, – а он…
– Вот. И я о том же.
Я не знаю, кто явился инициатором, но процесс совокупления с представительницей сказочной интеллигенции я опущу. На дно. Словно якорь. Он по пояс погрузился в илистое дно и зацепился там за корягу. Осталось только рубить концы… дело сделано. Концы в воду.
Я закурил. Она включила телевизор. Регалии всех религий не омрачат моего чела. Я буддатеист и мне глубоко по барабану, что мой телевизор на девяносто девятом канале показывает демоническую ерунду вечно мокрых тряпок. Мне наплевать даже на то, что он вообще ничего кроме них не показывает. При других обстоятельствах я, точно истый православный христианин, вызвал бы телемастера. Но секс с босоногой последовательницей, почитательницей и послушивальницей Л. Агутина, раздвинул грани моего познания запредельного. Я даже не удивился тому, что
внезапно повалил снег. Ещё минуту назад шёл дождь, а теперь…
Если времена года сравнивать с фазами жизни, то, несомненно, зима – это смерть. И мне непонятна поэзия зимнего сада, в которой под снегом наслаждаются жизнью девяносто девять белых хризантем.
Присядь. В ногах нагроможденье звуков,
Наличие столбов и хризантем,
Антенн,
приемщиц слухов.
Расслабуха потребна всем.
Вас потревожили не зря. Трамвая ради,
Скажите, сколько нужно хризантем,
Чтобы узнать об этой бляди,
Как можно меньше или не знать совсем?
Узнать – не больше, чем уйти.
Уйти – не больше, чем расстаться.
Но если довести, так может статься,
Что стану я кусаться
Или уйду совсем
В отвесное цветенье хризантем.
Мой хризантем поник, но я совсем не злой.
Не нужно для него искать стакан с водой.
Отсутствие воды приводит к размышленьям
О бренности трудов и праздности побед.
Сосед,
Привыкший мирно, по теченью,
Стоит и не поймет, в чем корень его бед.
Обед.
Кусок ржаного хлеба,
Стакан тягучего и сладкого вина.
И все бы в этом мире… Но какого хрена
Отсутствует вода.
Вот так всегда.
Отсутствие волос, наличие проблем
Восполнится цветеньем хризантем.
Последний штрих от хризантем –
Там нет проблем.
И действительно, какие могут быть проблемы? Водно-хризантемное пространство исключительно белого цвета, пустив под палящим солнцем корни в землю, просто стало снегом. Завтра или через неделю он превратится в воду и, оставив цветы умирать, устремится к моему морю. Любовь снега недолговечна. Как утро в Сан-Франциско.
Оно звучит мягкой навязчивой мелодией в моей голове. Хотя, на самом деле, это надрывается мой старенький кассетник: "San-Francisco morning…"
Даже если бы Joe Sample написал только эту песню, ему можно было бы…
– Выключи, – прервала мою хвалебную песнь сказочная женщина, – мешаешь.
– Чему? – я вошёл в комнату.
– Смотри, – сказала она и уставилась в рабочую сторону кинескопа.
Изменения были заметны невооружённым глазом. Несмотря на то, что в рамках девяносто девятого канала дождь по-прежнему лил, как из ведра, в кадре появилась радуга. Она окрасила безмолвное тряпьё в семь нот (каждый охотник желтый, зелёный, где сидит фазан), воскресив его из бесцветной печальной обыденности.
– Что это означает? – я никак не мог понять намёка, посылаемого мне телевизором.
– Что именно тебя интересует? Бельё, дождь или радуга? – баба (в смысле женщина, а не старушка) Яга извлекла из ниоткуда пенсне и водрузила его на свою переносицу.
– Всё.
– Это ты.
– ??? – спросил я.
– Видишь ли, твоё существование, – она так и сказала: существование, а не жизнь, – как это бельё. И оно не высохнет, пока идёт дождь. А радуга говорит о том, что что-то в тебе изменилось и, причём, в лучшую сторону.
Я хотел спросить её о том, что…, но зазвонил телефон. Это была она. Вообще-то, "она" надо бы написать с большой буквы, но я её давно уже схавал. Самая обычная и, при этом, довольно редкостная стерва. Радуга исчезла. Её, словно не бывало. Я вообще не знаю такого слова: РАДУГА. Интересно, почему я до сих пор с ней общаюсь? Наверное, это тоска по тем временам, когда я считал, что главное в женщине – ноги, попка, грудь и смазливое личико. С того времени в моих предпочтениях мало что изменилось, и я до сих пор считаю, что главное в женщине – это ноги, попка, грудь и смазливое личико. Но иногда хочется просто поговорить. А о чём можно разговаривать пусть с изящной, но задницей?
Подумав, что мешает, баба Яга ушла. Не прощаясь. Эта воспитанная женщина не по-товарищески оставила меня одного на растерзание телефонному монстру. Монстр о чём-то рассказывал, спрашивал и даже пытался требовать, но с меня, как с водоплавающей домашней птицы вода. Где сядешь, там и слезешь.
Просочившись сквозь замёрзшее окно, в мою комнату влетели два огромных попугая. Попугали меня своей боевой раскраской и улетели. Я позвонил в справочную службу и спросил: что бы это значило? Упитанные буквы – полная противоположность их хозяину – с трудом пробирались сквозь решето телефонной трубки.
На том конце провода, ограниченный огранкой огромный организм луны органично граничил с границей горизонта, в гордости которого грезило безграничное солнце.
Обрывок газеты.
Пришёл Алик, снял обувь и прошёл на кухню. В отличие от ног, глаза его были обуты в солнцезащитные очки.
– К чему яйца чешутся? – озадачил я его.
– К деньгам.
– Не, – не согласился я, – если бы они чесались к деньгам, я бы давно уже слыл миллионером.
– Тогда попробуй их помыть.
– Ты чего это в очках? – ну, ни дать, ни взять, дипломат. Как лихо я ушёл от его оскорбительного совета?!
– Да солнце сегодня у тебя какое-то безграничное, – он снял очки, сунул их в карман. Спросил: – А куда пропал Костик? – Извлёк из своей рабочей сумки два портвейна. Затем посмотрел на них, словно квадрат на Малевича и, сказав: – Нет. Сначала кофе, – убрал их под стол.
– Был дома.
– У Иваны или у себя?
– Там или там, – я поставил турку с кофе на огонь. – А что случилось?
– Работа для него есть, – деловито ответил Алик, – Надо написать несколько слоганов для нашей фирмы, – и, чтобы подтвердить серьёзность своих намерений, многозначительно произнёс: – шеф башляет.
– Позвони ему, – предложил я и, вспомнив, что давно самого его не видел, спросил: – А ты где пропадал?
– В Мелитополе, – ответил он и, не дожидаясь кофе, полез под стол за портвейном.
– А что ты там забыл?
– Мисхорского.
– Он что, там?
– Да хрен его знает, где он. Туда приехали вместе, – Алик открыл бутылку, наполнил стаканы и, произнеся, как тост: – возвращался я, слава богу, один, – незамедлительно выпил.
– Аминь, – сказал я и с удовольствием последовал его примеру.
– А ты сам-то где был? – он забрался в карман, вытащил оттуда пачку сигарет, положил её на стол и продолжил: – я к тебе вчера заходил, а…
– У мамы, – не дал я ему закончить, – решил проведать старушку.
– Ну, и как?
– Никак.
– Опять поругались?
– Я не пойму, что ей от меня надо?
– Внуков, – ответил Алик. В этом толк он знает.
– Ей что, Маринкиных детей не хватает?
– Дети Марины – не твои дети, – философично произнёс он, а потом спросил: – а, что с твоими руками?
– А, что с ними? – я посмотрел на свои руки.
Всё это так же странно, как смотреть на воду. Моя кожа, огромными снежными лохмотьями, стала покидать меня перед самым Новым годом. Обычно это происходило на яблочный спас.
В краю, где никто и никогда не видел Луны, из спасённых яблок делали сидр, разбавляли его самогоном и, добавив (для голоса) сушёных лягушачьих пенисов, пили. Потом молчали. Молчали до тех пор, пока кто-нибудь не отыскивал на дне колодца Полярную Звезду. Но новорожденный ребёнок, зачатый последним поэтом виноградно-целлофановой эпохи, сказал:
"На дне колодца каждый может
Узреть Полярную Звезду.
А вы попробуйте иначе".
И теперь они не открывают рта покуда не найдут отражения третьего глаза Большой Медведицы в штормящем море. Но там его нет. Глаза Большой Медведицы отражаются только в развалинах юного Херсонеса…
…в котором жил один старик, что выращивал зубы во рту, словно морковку на грядке. И, причём, делал он это не только со своими, но и с зубами любого желающего. Однако стоила эта процедура так дорого, что желающих просто не было. Поэтому выезжал зубастый старец по воскресеньям в Ак-Мечеть торговать дисками. Его дискотека – танцы здесь ни при чём – была богата, как евнух в плане воздержания. Но, не смотря на это, старик торговал только джазом.
– Почему иные яйца умнее кур перепелиных? – спросил я мудреца.
– Есть, – ответил мне он (потому что был мудр и зрил в корень), доставая из недр своей вопросительной котомки один из дисков Trilok Gurtu.
– А как бы его послушать?
– А чего его слушать? Надо брать, – мудрость хитра и ленива, как отобедавший удав в джунглях Амазонки, но не лжива. Расплатившись за диск, я всё-таки поинтересовался:
– И всё же, почему куриные яйца крепче перепелиных?
– Невзначай выпущенное на волю заката слово обрастает смыслом только к утру, и его мудрость видна лишь в лучах восходящего солнца, – я ничего не понял, но поблагодарил старика за бесплатный урок словоблудия:
– Спасибо.
– Пожалуйста.
– Пить будешь?
– Нет.
– Почему?
И он поведал мне печальную, но поучительную историю о том, как боги лишили его возможности нажраться. То есть, горькую пить он мог, но в определённый момент у него срабатывал тормоз – качество во всех отношениях замечательное и даже хорошее. Однако все знают, как важно для исконно русского идиота иногда ощутить себя синим в хлам человеком. Не меньше, чем опохмелиться. Но обитатели Олимпа наказали несчастного, и никто на свете не знал, за что ему такая несправедливость.
Такси так сильно затормозило, что сразу стало, как днём, ясно – наступила ночь. Разорванная акварель неприкаянной души святого Козьмы Пруткова окрасила бумагу бесцветного неба Млечным путём, и ловцы отражения раскосых глаз Большой Медведицы в мутной воде Чёрного моря, вновь вышли на свою, обречённую на провал, охоту.
Поймали они только мокрый клочок бумаги – обрывок газеты объявлений. Из того немногого, что в нём осталось, меня заинтересовал лишь текст в стиле кастрированного, но всё-таки трёхстороннего хайку:
"Ты знаешь, в Ялте выпал снег.
Такое для зимы – большая редкость.
Для лета, впрочем, тоже…", – и всё. Ни адресата, ни подписи. Дома я с помощью утюга высушил остатки останков старой газеты и, сложив вчетверо, аккуратно поместил их в задний карман. Для чего я это сделал, я не знал. Просто нахождение в чужом кармане моих джинсов этих пятнадцати слов, трёх запятых, одного тире и двух точек приводило меня в блаженное состояние близкое к смерти. Покой и тишина. Моя нирвана, впрочем, не только моя, эгоистична.
Я, как истинный рифмоплёт, люблю только себя, но Лёха Ржавый, последний поэт виноградно-целлофановой эпохи – исключение. Его стихи мне нравятся. К тому же у него есть автомобиль – старенький “Opel”.
Прочитав мне несколько своих новых работ, ржавый поэт поволок меня в горы. Пока Лёха прогревал свой агрегат, я успел позвонить Костику и пригласить его на бутылку чая в заснеженной идиллии ландшафта крымских гор. Он ждал нас на дороге.
– Тормози, – я показал Лёхе на Костика. Пальцем.
– Привет, – выдохнул Костик, проникая в салон.
– Привет, – сказал Лёша.
– Привет, – эхом отозвался я.
– А я стою, курю. Смотрю – вы едете, – стал как бы оправдываться Константин, – хотел было тормознуть, да вы сами меня заметили.
– Тебя тяжело не заметить, – резюмировал кто-то из нас.
– А вы куда направляетесь?
– В горы. Подальше от цивилизации, – я закурил, открыл окно и выпустил на волю – амнистия – струю дыма из тюрьмы своих лёгких.
– В город. Поближе к цивилизации, – испорченным ревербератором вторил мне Лёха.
– Не понял, – возмутился, как кот, падающий вместе с водопроводной трубой, Костя, – мне сказали, что мы едем в горы, пить…, – он осёкся, но было поздно.
– Как я вас развёл? – засмеялся счастливый обладатель "Опеля", – тоже мне, конспираторы.
С горами у нас не сложилось. С цивилизацией, впрочем, тоже. Потому что назвать ту халупу, в которую притащил нас Лёша, цивилизованным жильём трудно. Самый обыкновенный сарай. Правда, утеплённый, двухкомнатный и с шикарным, вместительным нужником, но всё же сарай.
Его хозяином был зубной техник Александр Рейган. Я так и не успел выяснить, являлся ли он родственником бывшему президенту Соединённых Штатов Америки или просто это у него кличка такая.
Пришёл злой, назойливый, как ночные комары (кошмар!!!) и невоспитанный мусор с фигурой отставного тренажёра из фитнес клуба "Bods-R-Us" и обломал нам такую попойку, что негодование своё я могу обозначить только восклицательным знаком! Этот паразит достал из своей малозначительной кобуры саблю-раскладушку и стал мне её показывать, то есть угрожать. Мои собутыльники куда-то испарились. Может быть, испугались, а, может, просто побежали за водкой. Слова липкие, как слёзы папоротника в ночь на Ивана Купала, забирались в мои уши и только после этого заставляли обращать на себя внимание:
– Тебе обязательно надо почитать Джойса, – он, словно Чапаев, взмахнул однорукой саблей.
– Я его и так почитаю, – чудом увернулся я.
– Я имею в виду, – новый замах, – ты должен его прочесть.
– А я его читал, – угроза оказалась мнимой.
– Ну, и как он тебе? – после перекура длиной в жизнь, поинтересовался мой оппонент и вновь обнажил свой перочинный мачете.
– Первые полсотни страниц я съел с удовольствием, а потом аппетит пропал.
– Но ты же ведь пишешь?
– Пытаюсь.
– Тогда тебе обязательно надо прочесть Джойса, – мы вернулись к тому, с чего начинали, – можешь даже брать у него предложения, а лучше целые абзацы, – это полный абзац, – переставлять слова местами и…
– Так ты предлагаешь мне заняться плагиатом в извращённой форме, – какой же я догадливый, – или, говоря иначе, обворовывая Джойса, ещё и в анальное отверстие его иметь, – я отнял у него саблю, трахнул эфесом по его бестолковой башке (а во лбу звезда горит!) и гордо удалился в непроглядную ночь солнечного города.
На солнце блестел девственно-грязный снег.
Блюститель порядка нисколько на меня не обиделся. Напротив, он превратился в женщину (не очень красивую. Ну, уж какая есть) и предложил мне сделать минет. Сначала я хотел отказаться, а потом подумал: когда ещё выдастся такой случай – отвафлить мента? И согласился.
Кончал я бурно, долго и нудно. Где-то, метрах в пяти от меня, возилась с моим концом не очень красивая дама в милицейской фуражке. Вообще-то размеры моего маленького Редина самые обычные, и пять метров – это всего лишь литературная вольность, заключённая в жидкую реальность сна. Но слово не воробей… И теперь я со страхом подумываю о пластической операции по укорачиванию своих гениталий. С Новым Годом. С новым счастьем.
Я проснулся в полдень первого января не очень тверёзый, не очень целый, очень больной, но счастливый, как Золушка, с прискорбием узнавшая (но душа – её не обманешь – поёт!), что она вдруг, освободившись от назойливой опеки своей мачехи, стала сиротой.
Всё-таки волшебство существует, а чудеса – это привилегия не только сказок. И новогодняя ночь – прямое тому доказательство.
Необходимость в операции отпала вместе с её предметом. В моём паху вместо пяти метров шлангообразной плоти находилось около двадцати сантиметров стоящего новогоднего чуда. У меня опять был мой любимый и такой знакомый размерчик.
Проверив (в ручную) на вшивость прочность моего агрегата – работает, как хорошие швейцарские часы и с опозданием всего на каких-то полминуты – я, удовлетворённый, но не побеждённый, покинул туалет.
Из туалета я пошёл в ванную, а оттуда – в запой. В нём тихо, спокойно и хорошо. Одно плохо – там нет Кати. И даже изредка появляющееся лицо Алика – гидрологичный контрреволюционер, подпоясанный звенящей струной ми от гитары бас – не спасало положения. А без любимого человека и запой не такой, и нирвана – всего лишь трамвайные рельсы, ведущие в сансару.
Я третьи сутки трясся в трамвае № 5; маршрут: Спартак-Ливадия. Иногда я доставал газетный обрывок и перечитывал понравившееся мне трёхстишие. От этого в трамвае становилось теплей и немного уютнее. Услужливый вагоновожатый неоднократно предлагал мне опохмелиться, но – без любимого человека и запой не такой, и нирвана только сансара – я всякий раз вежливо отказывался.
Холодный (пар на окнах и изморозь изо рта), но гостеприимный трамвай – рельсы, словно лыжи – я покинул в ночь под Рождество в заснеженной степи, недалеко от станции "Диканька". Он, прощаясь со мной, то ли грустно, то ли лениво звякнул в свой рождественский трамвайный колокольчик и укатил по несуществующей лыжне за чудесами. А я, сжимая подмышкой мистическую повесть Гоголя "Вий" ("поднимите мне веки, раздвиньте мне ягодицы"), пешком по снежной целине направился домой. Извилист, но совсем не труден путь в нирвану.
За несколько часов до этого по квартирам бегали предприимчивые дети и за сладости продавали своё бессмертное рождественское искусство.
А встрял ли я
Без мыла? Похоже, это так.
Австралия
На глобусе похожа на пятак.
Колядки утратили своё первостепенное значение и теперь больше похожи на попрошайничество, нежели на ту сказку Гоголя, близ которой я расстался с трамваеобразным врачевателем души трепещущей своей.
Некоторые просители читают стихи и пытаются петь песни. Получается у них отвратительно, но они работают, в отличие от большинства (те просто ограничиваются заявлением: "Сеем, сеем, посеваем…", при этом норовят намусорить просом у вас в прихожей и, довольные проделанной работой, ждут рождественских подарков). В лучшем случае, набирается у них небольшой пакет конфет, два-три яблока и денег не больше доллара.
Денис, старший сын моей сестры, пошёл, словно Ленин, иным путём. Он просто спел дуэтом со своим пьяным дедом песню о Щорсе (два раза), за что и получил двадцать гривен.
Я слушал рождественскую песню о лысом командире и думал: почему зимой меня посещают мысли исключительно о лете.
«Не убий». С недавних пор я следую этой истине неукоснительно, и не убиваю не только людей, но и разных тварей. Разными тварями были все, кто умел ходить, прыгать, летать и ползать.
Улика. Улитка не может её не оставлять.
Она ползла по раскалённому асфальту, и оставляемая ею, влажная серебристая полоска становилась сухой. Мгновенно.
Какого её занесло на мягкое покрывало трассы никто не знал. И вот теперь приходилось ей лавировать между колёсами больших грузовых и маленьких легковых автомобилей. Слалом. Спорт, как жизнь. Ради жизни. Стоит лишь на мгновение зазеваться, и ты становишься частью асфальта или шин. Или того и другого. И ничего, кроме сухой серебристой полоски, от тебя не останется. Да и та проживёт недолго. До первого дождя.
Я давил на акселератор газа. Я торопился. Меня ждал беспечный ветер Парижа. В лице Кати. Катя на Париж не похожа, но Париж, как две капли воды, похож на неё. У него тоже длинные, тяжёлые чёрные волосы и глаза – цветы цвета болота в обрамлении пышных ресниц. Я предвкушал музыку встречи с любимым человеком. Я торопился. Я давил на акселератор газа.
Из приёмника звучал хит этого лета – "Hotel California" на калмыцком языке. Немилосердно палило солнце. Не успел я от него прикурить, как внезапно попал в тень. Как будто кто-то взял и озорства ради выключил светило. Мне не светило ничего хорошего. На меня со скоростью 80 миль в час надвигался огромный – в половину неба – рекламный щит. Какая-то туристическая фирма настойчиво предлагала мне посетить пятую сторону света.
Улитка. Я заметил её в самый последний момент. Она чудом вывернулась из-под заднего колеса впереди идущего "мерса" для того, чтобы попасть под моё правое. Тормозить было бесполезно. Вывернув руль влево, я, спасая жизнь перепуганной твари, понёсся навстречу приключениям в виде потока машин, идущих по встречной полосе.
Итог налицо: я в гипсе, а Кортасар в шоколаде, потому что он описал в своём "Южном шоссе" великолепную автомобильную пробку, созданную мною, благодаря улитке, которая закончила свою жизнь на блюде в одном из придорожных ресторанов Франции.
Отец Марины – дед Дениса – попросил купить ему кефира или сметаны, а если не будет ни того, ни другого, бутылку пива. Марина рассмеялась. Папа заплакал. Так и живём. Смех сквозь слёзы.
Ночь прилипла к оконному стеклу так сильно, что её нос – греческий профиль – сплюснулся и стал похож на пятачок поросёнка. Пришёл Алик, сказал: «Христос воскрес» и сразу ушёл за красным портвейном – дёшево и сердито. Босая Луна строила мне рожи похожие на задницу – одна забавнее другой – и освещала его недалёкий путь.
Вернулся Алик довольно быстро, и пока он возился с пробкой, я решил провести с ним ликбез на тему теософии:
– "Христос воскрес" надо говорить на Пасху.
– Ты чё, за лоха меня держишь?
– А кто тебя знает? – я поставил стаканы в радиус действия бутылки, – Хватило же у тебя извращённого чувства юмора сказать "Христос воскрес" в Рождество.
– Да, богохульством попахивает, – это было отнюдь не признанием вины. Простая констатация факта.
– Я бы сказал: разит, – данное высказывание он пропустил мимо ушей – верное решение – и наполнил стаканы.
– Сегодня нам сам бог велел пить красное вино, – сказано это было, как тост. Я только заметил:
– Что мы и делаем, – и мы выпили.
В принципе, всякий праздник, за незначительным элиминированием наличия повода, мало чем отличается от заурядной пьянки, и Рождество, к моему искреннему сожалению, не исключение. А посему нет нужды насиловать себя живописанием, обычной, хоть и не рядовой (праздник всё же) попойки.
На следующее утро – кофе и сигареты – я, сидя на кухне в одном носке и майке, читал сказки Андерсена и слушал песни Гребенщикова. В голове моей была сплошная каша из Русалочки и сторожа Сергеева; пятнадцать голых баб, выйдя из горящей избы, подмигивали старику Дубровскому и тщетно пытались совратить Кая, а Герда остановить на скаку электрического пса.
Медленно, очень медленно открылась дверь на балкон. Тут нужна драматическая музыка. Сквозняк обидел мои голые коленки. Я поёжился, встал и вышел на свежий воздух.
Снег растаял. По улице шла дама. На её лице шёл дождь. Женщина сгибалась под тяжестью огромной авоськи. Авоська была набита помятой памятью. Память была желтого цвета. Тут опять нужна драматическая музыка.
Однако воздух слишком свеж. Одно слово – не май месяц, пора бы и одеться. Своих джинсов я не нашёл. Обычно на ночь я оставляю их под диваном или на кресле кремового цвета. Синее кресло для этих целей не годится. У меня нет синего кресла. Не смотря на то, что джинсы имеют ноги, сами ходить они не умеют. Я уверен в этом. Значит, их кто-то куда-то убрал.
Нашёл я их в ванной комнате. Они печалились в мыльной воде большого таза – синие, как смерть утопленника и одинокие, словно радость онаниста. Нехорошее предчувствие овладело моими руками. Руки беспокойно забегали по карманам заморских штанов. И хотя я знал, что сложенный вчетверо предмет моих поисков находится в левом заднем кармане… об этом знал я, но не мои руки. После суетливого осмотра всех пяти карманов (пистон. Мои пальцы побывали даже там) я извлёк из вышеозначенного кармана газетную жижицу. Стихи умерли. Я не мог вспомнить ни строчки. А говорят, что рукописи не горят. Они не горят, они размокают, превращаясь в кашу. С горя я решил нажраться. Благо, хоть это у меня ещё получается. Но в моём доме водка водится только непосредственно перед употреблением. Придётся идти. Напялив на себя свадебные брюки, свитер, плащ и кроссовки – хорош костюмчик, ничего не скажешь – я открыл входную дверь.
Передо мной стояла девочка лет четырнадцати. И только дождь на её лице сказал мне, что это та самая дама, которую я видел с балкона. Авоськи не было. Женщина, избавляясь от тяжести своей памяти, вновь становится молодой.
– Это Вам, – она протянула через порог почтовый конверт.
– Спасибо.
– До свидания, – сказала она, зная, что мы больше никогда не увидимся.
Я закрыл дверь и вскрыл конверт. Стоит ли говорить, что там были стихи:
"Ты знаешь, в Ялте выпал снег.
Такое для зимы – большая редкость.
Для лета, впрочем, тоже…", – и всё. Ни адресата, ни подписи.
Я вышел на балкон. На улице было белым-бело.
Глава 23.02. (Ялта-Рига).
Утро замёрзло. В похудевшем воздухе раздаётся лишь негромкий топот одуванчиков. Именно он разбудил одноглазого и вечно пьяного бога Ялты. Тот встал. Подошёл к окну. Ветром посмотрел на заснеженную Магоби и подумал: «Всё-таки никогда не понять мне людей, что, просыпаясь, видят Аю-Даг с западной стороны. А сколько тех, для кого слова: Аю-Даг, Магоби, Кара-Голь – не больше чем самая обыкновенная абракадабра».
Ленивое солнце нехотя облизывало мои пятки. До чего ж хорошо просыпаться трезвым. Ни тебе головной боли, ни похмельных угрызений совести тебе и никакого паскудства. Я посмотрел на календарь. 23.02. Год неразборчиво.
23 февраля – День Советской армии и военно-морского флота. Я служил на флоте. В стройбате. Основным отличием от сухопутного военного строителя являлись мои погоны. На них красовалась буква "Ф". Когда меня спрашивали: "Что означает буква "Ф"?", я без запинки отвечал: "Футболист".
Это сейчас 23 февраля – пафосный День защитника отечества, а тогда это был самый обыкновенный День СА и ВМФ – прекрасный повод для пьянки. Мы пили с Пузом на пляже гостиницы "Ялта". Весь день. Ближе к вечеру наша компания увеличилась вдвое. К нам примкнули не служившие, но исправно отмечавшие этот праздник, Русь с Базановым.
Миниатюры со знакомством.
1. Пузо – мой самый закадычный собутыльник. По совместительству он также являлся ялтинским фарцовщиком.
2. Кумиром Руся был Остап Ибрагим Берта-бей Бендер. Русь не только по профессии, но и по складу ума был аферистом.
3. Базанов только что вышел из мест не столь отдалённых за пьяный дебош в ресторане «Ванда» и, кроме своего немаленького роста, ничем существенным похвастаться не мог.
Всё началось с того, что Русь решил по легкому срубить деньжат. И с кого? С меня. Придурок. На его аферу я с радостью согласился и уже через пятнадцать минут стал богаче на пятьсот рублей, что по тем временам было очень даже не плохо.
Обмывая моё удачное приобретение в ресторане морвокзала, после второй бутылки водки мы решили поехать в Ригу. Попить томатного соку, ну и до кучи, за волыной для Руся. Сборы были недолгими. Моя пьяная рожа только заехала домой и объявила маме, что её сын отъезжает в Ригу. И отъехала.
Очнулся я на следующее утро. В обществе своих собутыльников. В каком-то автомобиле. Головушка бобо. Во рту кака. А похмелиться нечем. Ноль. Русь вышел из машины и, оглядев её, стал пересчитывать свои сбережения.
– Ты чего? – спросил его Пузо.
– Бабки считаю, – логично ответствовал Русь.
– Это я вижу. А зачем?
– Пытаюсь выяснить, за сколько мы купили эту девятку, – оказывается, мы находились в "Жигулях" девятой модели.
– Купили вы её за двести рублей, – сказал, вышедший из ворот молодой мужчина, – вернее, вы купили меня…
– В качестве извозчика, – догадался Базанов. Он вообще парень догадливый.
– Да, – водила обрадовался тому, что не нужно объяснять всех тонкостей предшествующей финансовой сделки.
– А в качестве похмелятора? – выразил я скромную надежду на поправку своего пошатнувшегося здоровья.
– Сейчас принесу, – сказал волшебный водитель и скрылся за таинственными воротами. Казалось, он ждал этого вопроса.
Бутылка водки на четверых – не ахти какое лекарство, но её хватило на то, чтобы мы смогли доехать до какого-то кафе в центре Симферополя. Потом было ещё несколько аналогичных заведений, в которых нам наливали только благодаря обворожительной улыбке Серёги (так звали нашего таксиста). Тогда время, с лёгкой подачи Эм Си Горби, до двух часов дня пахло исключительно кисломолочными продуктами.
В ресторан "Симферополь" мы заявились в 13 часов 41 минуту. Там наложили табу на нашу бутылку водки, сказав, что, во-первых: "В нашем ресторане запрещено приносить с собой", как будто в других кабаках эти действия поощряются; а во-вторых: "употреблять алкогольные напитки позволительно только с четырнадцати ноль-ноль".
В два часа пополудни, исполнив (стоя) гимн Советского Союза, мы извлекли из-под стола пузырь белой и, демонстративно разлив по фужерам его содержимое, выпили. Рюмки, глядя на это форменное безобразие, сначала оскорбились, а затем, обидевшись, просто ушли со стола. Обида была кровной. Несмотря на то, что это была та самая бутылка, которая подверглась унизительной процедуре запрета, ни официанты, ни метрдотель не имели ничего против. За двадцать минут мы их просто достали.
Пузо, откинувшись на спинку стула, спал. Его голова была запрокинута назад, а рот открыт. Базик с Русём играли в баскетбол на деньги. В качестве корзины они использовали открытый рот спящего Пуза, а мячом им служили маленькие кусочки поломанной шоколадной плитки. Шоколад во рту таял. Пузо уже начал издавать клокочущие звуки. Ещё немного и он утонет. В шоколаде. Я понимал, что, несмотря на всю красоту шоколадной смерти, это нехорошо, что надо спасать друга, бросить ему спасательный круг, но я прибывал в пьяном похуизме. Мне всё, решительно всё было по барабану. Скажи мне кто-нибудь в тот момент, что Христос спустился на грешную и, причём, исключительно для того, чтобы поговорить со мной, я, нисколько не удивившись (явление Христа Редину), плюнул бы на это диво. Мне все эти религиозные заморочки до женского полового органа. Я просто сидел и тупо смотрел на то, как два моих собутыльника пытались убить шоколадом третьего. Агонизирующего Пузо из сладкой пучины вывел наш извозчик. Он пришёл и сказал, что до отправления нашего поезда осталось пятнадцать минут.
В поезд мы вскакивали на ходу. Поблагодарив двух дам за прекрасно проведённое время, я бросил в них бутылку шампанского. По счастливой случайности, не попал. В отличие от девчонок. Но зато они не только слышали, но и смогли увидеть Брызги шампанского.
– Ты зачем их прогнал? – Русь не был огорчён. Он был в бешенстве. Но своё состояние скрывал умело.
Он знал, что дерьмо лучше не трогать. Вонять не будет. Я был тем самым дерьмом.
– А зачем они нам? – я не еврей, но многое мне у них нравится.
– Дурак. Они сосут.
– Ты хотел сказать: сосали. Кстати, где ты их откопал? – из машины мы выходили сугубо мужчинской (не мужики, а так, синие в хлам мужчинки) компанией.
– Да стояли на перроне, – более скоростного съёма мне наблюдать не приходилось.
Не успели мы зайти в купе, как Русь сразу же куда-то пропал. Впрочем, пропажу мы обнаружили, только когда он вновь появился перед нами. Русь был не один. С ним был ящик водки.
– Не в сухую же нам трястись трое суток, – оправдывался он, открывая бутылку, – жене от получки привет передай, сынишке пришли бескозырку, – продекламировал новоявленный Бродский, держа в руке алюминиевую пробку. Она действительно напоминала бескозырку.
– Ты где взял водку?
– Купил.
– Где?
– Отгадай с трёх раз, – и сразу: – у нашего проводника, – антиалкогольная кампания того времени на проводников не распространялась.
Время сгущалось сумерками и запивалось водкой. Я сделал большую ошибку, когда остался на ночь в нашем сумасшедшем купе и многострадальном вагоне.
Как только пассажиры стали взбивать голодные подушки и натягивать на уши то, что десять лет назад называлось одеялами, Русь с Базановым ощутили потребность в общении. Пузо спал. Я был неразговорчив. И они решили познакомиться с соседями.
Раздобыв где-то ведро с углем и металлический совок, они пошли по вагону в поисках потенциальных покупателей чёрного золота. Не спрос рождает предложение, а наоборот. Импозантная фигура Базанова была достойна кубизма Пикассо: стильные чёрные туфли, чёрные носки, модное чёрное пальто и жёлтые семейные трусы в синий горошек. Остальные предметы его туалета отсутствовали. Завершала этот ансамбль сорванная с окна занавеска. Она, словно официантский рушник, висела на правой руке Базика.
"Не желаете ли уголька?", – вежливо справлялись жаждущие общения продавцы. Но сонные люди не торопились расставаться со своими сбережениями ради синей чёрно-золотой химеры. Отказников Базанов помечал углем, рисуя им на лбу незатейливый крестик.
Я сидел в купе вкупе с водкой и спящим Пузом и втыкал. Фразы типа: "Сколько можно?", "Дайте покоя!" и "Вы что, с ума сошли, что ли?" давно уже стали привычными и почти родными, но кем-то оброненное слово: "милиция" заставило меня мгновенно протрезветь. Я выскочил в коридор. Или что там у них в вагоне вместо оного?
Базанов был занят бодиартом. Он рисовал на лбу возмущённой женщины очередной шедевр в виде креста. Русь смеялся, как сумасшедший. Извинившись перед дамой и заверив её, что больше такого не повторится, я пинками погнал продавцов угля в наше купе. Странно, но они не сопротивлялись. Наверное, они относились ко мне, как к своему папе, которого надо слушаться, но если он не видит, можно и пошалить.
– Я, наверное, застудил поясницу, – сказал Русь на следующее утро, – мне нужен массаж.
– Тебе нужен массаж мозгов, – ответил я и с помощью пилочки для ногтей сделал ему трепанацию черепа.
Мне нужно было извлечь из его серого вещества детище Ильфа и Петрова. Сначала мне попадались мелкие и довольно незначительные предметы: глобус, на котором ничего, кроме Северной Америки не было и старый трёхколёсный велосипед, женские трусики и их обладательница, пять пепельниц и афера века, рога и копыта, дети лейтенанта Шмидта и Марлен Дитрих, двенадцать стульев и золотой телёнок, Илья Ильф и Евгений Петров, и, наконец, сам товарищ Бендер.
Закрыв череп, я, довольно потирая руки, посмотрел на Руся. Передо мной была амёба. Инфузория-туфелька сидела передо мной. Тогда я, не соблюдая никакой последовательности, спешно запихнул обратно всё, что до этого извлёк из его серого вещества. Кстати, у него оно было нежного розового цвета.
– Почему? – спросил меня Русь.
– Что почему?
– Почему мне нужен массаж мозга?
– Забудь, – мне не давала покоя картина одноклеточного Руся, – давай лучше выпьем.
– Давай. А ты не будешь больше пинаться? А то, когда ты напьёшься, тебя клинит.
– Нет. Не буду, – заверил его я.
В вагоне-ресторане никого, кроме меня, не было. Я баловал себя кофе с коньяком. Оказывается, если как следует попросить, добавив для весомости к просьбе энное количество денег, то и в поезде можно получить хороший кофе.
Я не видел, как она вошла. За окном мелькали столбы, проплывали подо льдом реки, и стоял горизонт. Снег. Интересно, почему наш Дед Мороз передвигается пешком и с девицей, а их Санта Клаус в санях, запряжённых рогатыми животными и в гордом одиночестве?
Чехов. Она читала Чехова. Книга не лежала, а стояла на столе, поэтому я без труда смог ознакомиться с содержанием обложки.
– Вы Чехова любите или он Вам просто нравится? – я без разрешения уселся за её столик.
– Люблю, – оказывается, у неё приятный низкий тембр голоса.
– В таком случае, нам больше не о чем беседовать, – я заинтриговал её.
– Почему?
– Потому что, кроме того, что он жил в Ялте, я о нём ничего не знаю, – я встал из-за стола и, оставив даму в некотором недоумении, вышел из вагона, на котором было написано "Ресторан".
Я обманул её. С писателем меня связывало нечто большее, чем просто проживание в одном городе. Как-то, возвращаясь домой с очередной пьянки, я решил сократить путь и пошёл напрямик через территорию дома-музея А. П. Чехова, где и прихватил с собой лёгкое летнее кресло. Оно косило под плетёную дорогую мебель. На самом же деле, ничем, кроме того, что стояло на балкончике домика Чехова, оно похвастаться не могло. Теперь это кресло стоит на моём балконе.
Русь пытался всучить поварихе вагона-ресторана десять рублей за то, чтобы она позволила ему почистить картошку. Деньги она взяла, а работу доверить ему боялась. Он, как всегда, был пьян. Я устал одёргивать его и поэтому просто прошёл мимо. До чего же это утомительно – быть папой великовозрастного оболтуса.
Как это ни странно, в нашем купе было тихо. К спящему Пузу я привык (до чего же замечательный клиент – накатил и в люлю. Никаких проблем), но спящий Базанов – это нонсенс. На всякий случай, проверив его пульс (пульсирует родимый!!!), я устало сделал зарядку, совершил десятикилометровый кросс, принял контрастный душ (в мыслях), присел и закурил. Проводник давно махнул на нас рукой и, произнеся только одну фразу: "Главное, чтобы было тихо", удалился.
Прошлой ночью у нас гостил армянин с автомобильным именем Рафик. Русь подарил ему женскую косметику, купленную, по случаю, у цыган.
– На хрена она мне? – спрашивал болельщик ереванского "Арарата".
– Бабе своей подаришь.
– А на хрена она ей? – почти кричал любитель "Ахтамара".
– Не кричи, – я опять выполнял незавидную роль отца или надзирателя, – в соседнем купе спят дети.
– Да-да, – перешёл на шёпот потомок гостеприимных хозяев клочка земли, приютивших ковчег Ноя, – дети спят, – ревер работал исправно, правда, частично он выполнял функции реверса.
– Всякая женщина любит косметику, – продолжал свою мысль Русь.
– А моя не любит. И знаешь, почему?
– Почему?
– Потому что у меня нет женщины, – и он громко рассмеялся.
– Рафик, тише.
– Да-да, – спохватился он и, переходя с шёпота на крик, выдал: – дети. В соседнем купе спят дети. Я их мамочку ебал.
Находиться дальше (или дольше) я там не мог. По счастливой случайности, мне повстречалась любительница Чехова. Ночь я провёл у неё, с ней, в ней. Самое приятное воспоминание, оставшееся от той ночи – это мой маленький Редин в объятиях её необъятной груди.
Эдик из Шауляя – это отдельная история. Типичный мальчик из Гитлер-югенд. Белобрысый, застенчивый, очкарик. Где они его откопали, я не знаю, но, тем не менее, с помощью водки заставили его, выбросив руку в приветственном фашистском жесте, кричать на всю Ивановскую, которая пролегала через вагон-ресторан: «Люфт Ваффе», что позволяло усомниться в его советской добродетели.
Я молча поглощал солянку. Боже мой, как же я устал. Я устал от водки, которая никак не кончалась. От своих собутыльников, которые никак не унимались. От случайных людей, которые постоянно появлялись на горизонте моей юности. От поезда, который никак не мог добраться до Риги. Да и от самой Риги я, похоже, тоже устал.
– Редин, смотри, – тоном белорусского партизана произнёс Базанов, – Фидель Кастро после менингита, – и он рассмеялся.
– Отстань.
– Нет. Я серьёзно. Посмотри, – смех усиливался.
– Не хочу.
– Ну, посмотри. Тебе что, трудно повернуть голову? – не унимался он.
Я повернулся только для того, чтобы он от меня отстал. Сначала я просто улыбнулся, но потом, не в силах сдержать приступа смеха, заржал, как табун весёлых лошадей. За моей спиной сидел действительно Фидель Кастро после менингита.
Когда мы шли вдоль состава по перрону рижского вокзала, проводники излучали радость. Они радовались тому, что наконец-то кошмар вынужденного общения с нами в прошлом.
– А где же ваши вещи? – спросил кто-то из них.
– Какие вещи, мать?
1900
Из сладких воспоминаний меня извлёк настойчивый стук в дверь. Куда подевались мои тапки с трусами? Вечно они по ночам где-то шляются, а под утро у них не остаётся сил добраться до моей кровати. Входную дверь я открывал голый, как штакетник в палисаднике тёти Кдары, и босой, что тот сапожник.
Костик молча пожал мне руку, прошёл на кухню и устало опустился на табуретку. Я оделся, нашёл одну тапочку и довольный уселся рядом. Большой и лысый, как буква Q, Костик…
– Только вот этого не надо.
– Чего этого?
– Сравнений всяких витиеватых. Заебал уже своими рюшами. Ты можешь изъясняться просто?
– Попробую.
– Сделай милость.
– А что мне за это будет?
– Чупа-чупс, – сказал он и выкатил на стол две водки.
– Так с этого и надо было начинать. Люблю сладкое. По какому случаю праздник?
– Да, парень, – посочувствовал мне Костя, – что-то с памятью моей стало? Сегодня 23 февраля.
– Я знаю.
– Ну, а чё ты тогда?
– Я имею в виду: откуда деньги?
– Да я для фирмы, где Алик работает, написал пару слоганов, – с плохо скрываемой гордостью за свой талант, сказал Костик, – и мне заплатили.
– Дай почитать.
Я знал, что гений своей рифмы он принёс с собой. Для этого не надо обладать никакими сверхъестественными способностями. Достаточно хотя бы чуть-чуть знать натуру Костика.
Он не спеша извлёк из внутреннего кармана помятый листок бумаги. На нём мелкими, но размашистыми каракулями было написано:
"Чтобы ночью был день Вам лампа нужна
И не простая, а в 100 киловатт.
100киловаттная лампа – вещь нужная.
Включаешь её и день после ужина…
И Солнце в твой дом войдёт трансформатором,
Элекрорубильником в дом твой войдёт.
Доверь фирме "Экструм" квартиру и офис
"Экструм" тебя не подведёт".
Костик явно косил под Маяковского, но порадовал он меня не этим. Столько скрытого эротизма, сколько я прочитал в его следующем опусе, раньше мне никогда видеть не приходилось: "Как легко и мягко ложится ладонь на рукоятку электрорубильника, знает только тот, кто пользуется электрорубильником фирмы "Экструм".
– Ну, что… нормально, – я вернул Костику его каракули. – Хочешь, я расскажу тебе, как меня чуть не убили?
«Лучше бы убили», – подумал он, а вслух:
– Давай.
«Наливается из графина. Слово…»:
Год 1990. Гостиница «Ялта-интурист». Под ней утюги. Над ними Башмаки, сейлемские всякие и шушера помельче. Они даже не предлагали охрану, а просто тупо разводили бедных фарцовщиков на бабло. Хочешь утюжить – плати. Каратистов среди утюжья не водилось. Платили. Все. Пить-то хотелось.
Под благовидным предлогом «на раскрутку» я занял у мамы 1 тщ. руб. Через неделю от означенной суммы остались слёзы на пиво.
– Редин, ты волыну сделать можешь? – спросил меня Русь.
– Тебе зачем? – ответил я Русю.
– Отстреливаться.
– Идиот, от кого?
– Можешь или нет?
– Могу, но для этого надо ехать в Ригу.
– Поехали? – он нарисовал увесистую пачку зелени. Не сотрёшь.
– Поехали.
Как мы добирались до Риги – это отдельная песня. Скажу только, что проводник нашего вагона икал и плакал от счастья расставания с Русём. Начальнику поезда тоже кое-что перепало от радости.
Вот только с пистолетом для Руся не срослось. Потерялись мы. Рига хоть и не резиновая, но город всё ж таки немаленький. Побухав ещё недельки полторы, я решил, что с меня хватит и сел на иглу. Это в Ялте я алкоголик, а в Риге – ещё и наркоман.
По Риге Колобок славился своим великолепным гагаринским замесом. Но ценила местная наркота Колобка ещё и за то, что у него была вместительная жилплощадь.
– Что значит гагаринский замес? – спросил Костик.
– Это когда ты на приходе только машешь рукой, а сказать ничего не можешь.
– А как же его знаменитое «поехали»?
– Чьё?
– Гагарина.
– Ну, разве что «поехали».
Я из тех, кто красивой улыбке предпочитает красивую женскую грудь. Однажды на хату к Колобку зашла одна поэтка. Худая и ваще хуй проссышь какая. Но грудь у неё была отменная. Зашла, да так там и осталась. Народец в притоне собирался ещё тот. Поэтессу сразу же подсадили на иглу. Она втиралась и начинала бормотать стихи. Как же она заебала всех своим хореем с танкой. Первых пару дней я терпел, а после утомился и заткнул ей рот своим хуем. Ей понравилось. Потом было не оторвать. Правда, перед минетом она должна была хотя бы что-нибудь, но продекламировать. Дабы и овцы, и волки, всучил этой суке книжицу Омара Хайяма – на бормочи – и на слух приятно, и кончать не в падлу.
Бля, да хоть в падлу. Лишь бы кончить.
В Риге я проторчал месяц. Скинул десяток лишних кг., но лёгкости не обрёл. Перед отъездом Колобок протянул мне несколько металлических пилюль.
– Может, пригодится, – сказал он.
– Это что за хрень?
– Взрыватели для противотанкового гранатомёта. Работают от электроконтакта. Бензобак разрывают на раз.
– Зачем они мне?
– Продашь местным бандитам.
– А они меня мусорам не сдадут?
– Не сдадут. Торговцы оружием среди реальных пацанов неприкосновенны.
Осталось только выяснить, знают ли об этом наши пацаны… В поезде я спал. Все трое суток. И во сне жалел только об одном: что дорога была такой короткой.
– Привёз? – Русь мне.
– Да, – я Русю.
– Поехали покажешь, – тормознул он такси.
– А водки?
– По дороге купим.
В такси хорошо. Водила молчит. Погода шепчет. В кульке позвякивает. За окошком проносятся голые женские коленки, зелёные кусты лавра-вишни, птичий гомон и прочая хрень жизнеутверждающая. И если бы не потерпевшая Татьяна Буланова из динамиков, то, вообще, не жизнь, а сплошное молоко с малиной.
– А где волын? – огорчился Русь. – И что это такое?
Я объяснил и поинтересовался:
– Хочешь, тебе отдам их по дешёвке?
– Зачем они мне?
– Взрывать недругов будешь, террорист хуев.
Когда есть деньги, пиво я не люблю. Водка с утра тяжела и непредсказуема. Но её непредсказуемость – ничто в сравнении с похмельем. Приходится пить. Блевать. Опять пить. Русь никогда жмотом не был.
А вечером я спустился в «Прибой», накатил и, осмелев, подошёл к генеральному директору местной ОПГ с наивным вопросом:
– Юра, тебе ничего для твоей работы не надо?
– А что у тебя есть? – поинтересовался Юра.
– Десять взрывателей для противотанкового гранатомёта.
По всей видимости, он пропустил мимо ушей слово «взрыватель», потому что как-то нервно:
– Ты чего? Что я с ними буду делать?
– Недругов взрывать будешь, – посоветовал я и мысленно добавил: «Террорист хуев».
Объяснив ему, где и когда меня можно найти, я тихо вышел из «Прибоя» и с достоинством пошёл в запой. Благо, путь туда не так далёк, как этого хотелось бы моей жене.
А через неделю:
– Всем сосать, – почти по слогам произнёс синий в хлам Редин и, открыв дверь ногой, гордо вошёл в «Прибой». Там его ждали чудеса. Женщины меня там ждали. И хотели. Море мне было по колено, а всё остальное – похуй.
Но, чу:
– Эй! Ты кому это там сказал: «всем сосать»?
– Не понял, – я обернулся на голос.
Передо мной стояло три пары спортивных, несколько стоптанных ног. В руке одной из них многозначительно поблескивал мачете перочинный. Не большой такой, но вполне многообещающий ножик.
Всё. Надоело рассусоливать эту тему. Короче говоря, не подоспей вовремя начальник этих отморозков – Юра, носить бы вам с Аликом на мою могилу хризантемы. Очень люблю я эти цветы.
…и запой мне нравится. Хорошо там. Но как-то тревожно от того, что по утрам без пива посещают мысли о боге. А я по натуре агностик.
Пиво я не люблю. В противном случае, положил бы на табу и выдал спич-оду попускающему пивному дефекту.
Метель.
Пришёл Алик и, сказав: «С праздником», поставил на стол ещё одну пол-литровую ёмкость с водкой… да. Разнообразно провести день не удастся.
Как-то незаметно пролетело пятое время года – у каждого оно своё – и на город упал вечер. Ночь споткнулась.
Гамлет ел омлет и почитывал «Леди Макбет». Его шпага основательно затупилась (с её помощью он зарабатывал на жизнь, изготавливая зубочистки) и, поскольку точильщик был в декретном отпуске, она более ни на что не годилась. Разве, что для использования в качестве вилки.
К нему зашёл Отелло, весь чернее ночи.
Он перед этим Дездемону задушил.
Своею собственной могучею рукою.
За то, что та, не постирав платка,
завесой лжи во ржи укрывшись,
возьми и выдумай историю с изменой
(о, Брут, ты тоже тут!!!).
Лентяйка. Думала, сойдёт
ей это дело с рук.
Сначала нигер, взявши кнут,
собрался было выпороть родную,
затем подумав, мол, какого чёрта?
(ведь, всё равно, она урок поймёт едва ли)
Наняв двух плотников и заплатив вперёд,
Он виселицу сколотил
по-быстрому (ведь время поджимало)
и напоследок лишний раз спросив
(несчастная была уже с петлёй на шее):
«Где мой
платочек носовой?»,
но ничего в ответ не получив
(его post box забит был до отказа)
он со словами: «Сдохни же, зараза»
собственноножно выбил стул
из-под усталых тапочек её.
– Что случилось? – спросил своего чёрного брата Гамлет – большой, к слову сказать, почитатель рэпа.
– Ничего волшебного. Она меня достала.
Принц Датский знал о бесхозяйственности Дездемоны, а посему, его последующий вопрос имел скорее утвердительную, нежели вопросительную окраску:
– Похоже, тебе опять пришлось самому готовить себе яичницу?
– Да к этому уже привык я.
Тут похлеще дело.
Я дал ей свой платочек носовой
затем, чтоб от соплей моих она его освободила,
посредством порошка и мыла.
А эта сука выдумала бомбардира
и рассказала мне,
что он бомбил её и в хвост, и в гриву.
– И, что ты сделал?
– Убил её я на хрен.
До сих пор болтается…
Гамлет не понял, как может убитый человек где-то болтаться, спросил:
– Где?
– Ни где, а в чём. Она болтается в петле.
И злые чёрные вороны
клюют её глаза и уши.
Ну, и другие части тела тоже,
мне о которых, в столь прискорбный час,
распространяться как-то не с руки.
– Yo, DJ, что это с тобой?
Неужто вездесущий Вознесенский
забил твою курчавую башку
хорея с ямбом ерундой? – не заметив, что сам стал испражняться рифмой, спросил Гамлет у Отелло.
На мониторе утра нарисовалось солнце. Не сотрёшь. Где-то в потёмках предшествующей ночи эти двое бились над проблемой – почему же мавр вдруг стал излагать свои мысли рифмой? Версии, связанные с приготовлением Отелло по утрам собственными силами яичницы и затупившейся шпагой Гамлета, они отмели сразу, как несостоятельные, потому что далёкому предку Майкла Джордана постоянно приходилось готовить себе завтрак, но, однако раньше он не наблюдал за собой склонности к стихоплётству; а о том, что шпага Гамлета тупа, словно топ-модель, он вообще не знал.
– Быть может, смерть твоей супруги
так повлияла на тебя?
– Ерунда.
Не может смерть какой-то сучки
Так замутить мозги мои,
Что я вдруг пятистрофным ямбом
Стал излагать вдруг свои мысли.
Они ещё долго ломали голову в поисках причины, свалившейся на них метаморфозы, пока под сиянием Полярной звезды их не осенило: кто-то над ними издевается.
Я не знаю, каким образом, но они меня вычислили. Сначала, монитор моей машины погас. Затем, появившаяся на его экране, изумрудная точка стала излучать рассеянный, едва уловимый, но затем всё более отчётливый свет. Через минуту на нём появилась чёрная рука. Рука каллиграфическим почерком оповестила меня о том, что сейчас в мою дверь постучат.
В неё постучали. Встав из-за простуженного стола, я подошёл к двери и посмотрел в глазок. На меня пялились две вытянутые рожи. Одна из них принадлежала какому-то негру. Раньше мне никогда не приходилось общаться с представителем негроидной расы, и поэтому я, не смотря на предупреждения моего компьютера о мнимой опасности, с предвкушением чего-то необычного, открыл дверь.
Необычное не заставило себя ждать. Мне прямо в нос смотрело небольшое зло израильского производства, именуемое «Узи». Затем всё было коротко и просто, как смерть. Как смерть, разрывающая мои мысли и мозги, автоматная очередь. Боли не было. Это последнее яркое впечатление, запечатлённое моим, заляпавшим всю стену, мозгом. Потом всё погасло.
– Редин, пить будешь? – спросил меня пьяный Алик.
– Да, – сначала ответил я, а потом проснулся.
– Тогда просыпайся, – вкрадчивый голос Константина Трав забирался в подсознание, как перегар в чуткую ноздрю трезвенника и заставлял меня расстаться со сном.
Мы ехали, словно герой тоскливой русской песни, в санях, запряжённых шикарной тройкой лошадей. Хотя, Костик потом уверял меня, что передвигались мы менее романтично, но с большим комфортом, используя при этом последние достижения автомобилестроения: в джипе с каким-то индейским названием то ли "Черроке", то ли "Ирокез". А Алик был уверен, что мы неслись по заснеженным просторам в ещё более комфортабельном, нежели салон крутой машины, купе дорогого вагона скоростного поезда.
Пить мы начали в Ялте, и каким образом очутились в зоне вечной мерзлоты, никто из нас не имел ни малейшего представления. Однако водки у нас было предостаточно. А задумываться над бренностью судьбы и смыслом жизни начинаешь только тогда, когда кир кончается. Так что мы пока просто пили. Спали. Блевали. И снова пили.
Я очнулся, оттого что за окном очень сильно что-то завывало. Зелёными ритмами горячей самбы в пьянку ворвалась метель. Сначала я подумал, что это просто белая горячка, а не чёрная латиноамериканская музыка колючей стужи, но, выйдя во двор, понял, что разум мой, хоть и отправивший в отпуск память (за мой счёт), по-прежнему работает. На воле свирепствовала метель. Кони замёрзли, джип сломался, а железнодорожные пути замело.
Осталась только водка, да пельменей килограмм триста, чтобы не умереть с голоду. Откуда взялось сие изобилие, мы не знали. Люди, вообще, крайне редко размышляют над тем, откуда берётся то, что уже есть. Вопросы приходят значительно позже: лишь, когда лишаешься того, над возникновением чего никогда не размышлял.
На исходе второй недели нашего заточения Алик посетовал на то, что в нашем бунгало нет телевизора.
– Зачем тебе телевизор? – спросил его Костя, разливая по стаканам водку.
– Телевизор – это новости, – многозначительно произнёс Алик и выпил.
– А новости – это политика, – поддержал я после пельменя, которым закусил, беседу.
– Политику придумал Березовский, – сказал Костя, разливая по стаканам водку, – для того, чтобы отмывать свои бабки.
– А как же Америка? – многозначительно произнёс Алик и выпил.
– А что Америка? – поддержал я беседу и, закусывая, отправил уже не горячий, но ещё тёплый пельмень себе в рот.
– Вы что, не читали Пелевина? – спросил Костя, разливая по стаканам водку, – Америку тоже придумал Березовский для того, чтобы отмывать свои бабки.
– Что-то ты часто наливаешь, – многозначительно произнёс Алик, но при этом все-таки выпил.
– Да, – поддержал я беседу и отправил уже не тёплый, но ещё не холодный пельмень себе в рот.
– А что ещё делать? – спросил Костя и опять налил.
– Ну! – многозначительно промычал уже никакой Алик и снова выпил.
– А и действительно. Что ещё делать? – поддержал я после пельменя, которым закусил, беседу, – кстати, пельмени совсем остыли.
И мы взялись за их приготовление. Вернее, взялся за это хозяйство я. Поставив на огонь кастрюлю с водой, и не дожидаясь, пока закипит вода, я высыпал в неё пельмени. Затем, немного подумав, я отправил туда же щепотку соли и, закурив, стал ждать.
Ждать пришлось недолго. Через полчаса я извлёк из кастрюли один огромный пельмень, который Костик есть наотрез отказался. Это только голод – не тётка. Всё остальное является нашими непосредственными родственниками, которыми иногда можно и пренебречь.
А снег всё шёл. Казалось, никогда этому не будет конца. Лирика белого безмолвия, иногда окрашиваемая завываниями ветра, за две недели так надоела, что если бы не водка, взвыли бы мы похлеще всякой метели, раскладывая свой вой на три голоса. Водка заменяла нам все прелести жизни. Она была для нас книгой и телевизором, театром и дискотекой, а иногда и просто женщиной.
– А причем здесь Пелевин? – спросил проснувшийся Алик после того, как закурил. Он сначала прикуривал сигарету, а потом открывал глаза, – во-первых, он об Америке ничего не писал. А во-вторых, никакой Америки не существует. Мир заканчивается где-то в окрестностях Киева.
– А как же Москва? – я знал, что Алик бывал в Москве и, причём, провёл там достаточно много времени для того, чтобы понять: этот город не химера.
– Да. Ты прав. Но дальше Москвы уж точно нет ничего.
– А как насчёт Питера и Риги? – сначала я собирался вспомнить ещё и о Городе Королей, который в советском союзе окрестили Калининградом, но потом, несмотря на то, что провел в нём два года, усомнился в его действительности.
– Не знаю. Не знаю.
– Но я там был. Мне-то ты веришь?
– Тебе-то я верю, – задумчиво произнёс Алик, – Но как знать, что они там с тобой сделали? – он был серьёзен.
– Кто они, и где это там?
– Те, кто придумал Америку, – я уже было начал бояться, что он зациклится на этой ахинее, но тут на выручку пришёл Костя и, не дав объяснить Алику: где это там, подбросил свою галиматью. Буддистскую:
– Ничего нет и никого нет. Всё – лишь плод моего воображения.
– А как же мы? – хором спросили мы с Аликом.
– Вас я тоже только придумал.
– И водку, судя по всему, тоже? – спросил я, открывая очередную бутылку.
– Конечно. И водку тоже.
– В таком случае, спасибо тебе, Сережа.
– Редин, тебе надо повременить с выпивкой, – сказал, обидевшись на меня, Костя.
– Это почему?
– Что-то ты начинаешь имена путать. Где ты здесь видишь Серёжу?
– Да это просто прикол такой. Ты, что никогда его не слышал?
– Нет, – интерес был сильнее обиды, – расскажи.
– Рассказываю:
История о Серёже, которую я рассказал Константину Трав. А мне поведала её Майя.
Есть в Приднестровье небольшой, но многострадальный город Бендеры. В нём и произошла эта печальная и поучительная история.
Наш герой работал на стройке прорабом. После работы строители частенько задерживались для того, чтобы распить бутылочку-другую в своём тесном рабочем кругу. Беседы в основном сводились к производственной тематике. Пьянка, как правило, протекала спокойно и миролюбиво. Но на то она и пьянка, чтобы включать в себя различные неожиданности.
– Пошёл ты на хуй! – именно так (и никак иначе) отреагировал один из рабочих на замечание прораба, касающееся его работоспособности.
– Что ты сказал? – прораб был в бешенстве.
– Ты слышал, – строитель был пьян, и ему была совершенно по барабану и ярость своего начальника, и то, что тот таковым являлся.
– А ты повтори, – настаивал шеф строительного объекта.
– И что тогда будет?
– Повтори и узнаешь.
– Я-то повторю…, – сказал подчинённый и собрался, было узнать, что в таком случае случится, но начальник его перебил:
– Попробуй, – это слово звучало, словно приговор и, произнесший его человек был полон решимости порвать на куски любого, кто укажет ему обидное направление.
– Пошёл ты на хуй! – спокойно повторил апатично настроенный человек.
– Спасибо тебе, Серёжа!!!
На воле, тёплым ветром и девчонками в коротких юбках (чем короче юбка, тем длиннее ноги), в полный рост резвится весна, а я вынужден мусолить зимнюю тему. И далась мне эта метель? Но Костик в один из лунявых вечеров (небо было звездюльным, а на столе стояла литровая бутыль водки и целая миска горячих, аппетитных пельменей) сказал, что истинная романтика – это попасть в страшную метель в какую-нибудь забытую богом хибару и поглощать там море водки и много, очень много пельменей. Я с ним согласился и, согласившись, взялся за этот рассказ. Но писать я начал, когда было ещё холодно. А теперь весна. Птички чирикают. И впору писать о чём-нибудь тёплом, мягком и пушистом. А тут метель. Однако ничего не поделаешь. Назвался членом, полезай во влагалище.
Странное дело, но ни водка, ни пельмени заканчиваться не желали. За окном по-прежнему выло, а мы по-прежнему пили. Несмотря на то, что пельмени готовить я научился, к ним я больше не притрагивался. Почти. Есть мне их приходилось лишь потому, что есть больше было нечего. Чего не скажешь о Косте с Аликом. Они с нескрываемым удовольствием уплетали этот мясной фарш в тесте.
Ну, всё. Меня уже достали и метель, и водка, и, самое главное, пельмени, от которых меня сейчас, кажется, стошнит. Хороша романтика. Романтика блевотины. Тошнотворное влияние Урала, славящегося пельменями и Бутусовым.
Есть ещё, правда, красивые, словно сны, уральские малахиты и сказки Бажова, но это уже совершенно из другой оперы.
Сотки сутки буквами.
С третьим ударом ночи в домофон позвонили. Кто-то из друзей её. Сколько же их? Такое впечатление, что они не кончатся. Никогда.
Пить не хочется. Выгонять неудобно. Проходите, гости дорогие. Чтоб вы сдохли как можно позже, и реинкарнировали в какого-нибудь бога средней руки. Убогого.
Угомонились только под утро. Хочется спать, но в глазах спички. Тихо. Только взгляд чуть слышно скрипит по строчкам. Полынью пахнет.
Не вижу, но знаю: сейчас она, словно неуверенный в себе грабитель, подойдет ко мне со спины и…
Подходит. Целует в щеку.
– Как тебе Руслан?
– Ниче так. Пока не начинает высказывать своего однобокого мнения. Но блять, он же его постоянно высказывает.
– Не матерись.
– Ваще-то, я читать пытаюсь.
– Что читаешь?
Закрываю книгу. Показываю ей. Книжка без обложки. Начинается с тринадцатой страницы.
– А хоть о чём? – вздыхает она.
– Как всегда. Ни о чём.
– …или о любви?
– Может, и о любви. Невелика разница.
– Ничего себе, невелика! Я говорю: любовь; а ты: ничто.
– Всё зависит от угла взгляда на проблему. Если таковая, вообще, имеется.
– Кофе будешь? Варила, как ты любишь – на живом огне с полынь-травой.
– Нет.
– Сотки сутки, – обиделась она.
– Не понял.
– Сотки мне сутки. Буквами.
– Ага. Щас я всё брошу и буду делать тебе свистульку. Дура.
– Кстати, дура завтра уезжает.
– Куда?
– В Москву.
– Зачем?
– За песнями…
Как не изгаляйся, а воздух не выебать. Им можно только дышать. Не надышаться. Особенно по утру. Когда твоего нелепого шага ещё не слышит роса. Спит. Сон росы о морских ракушках, растущих на голых ветках платана, тревожен и краток. Что с неё взять? Пьянь – она и в китайской сказке беспробудная. Или прохладная капля на молодом побеге бамбука. В ней, смахнув слезу непрошенную, какой-то уже немолодой немой ирод рода человеческого пытается утопить свою любимую собачонку. Мучается. Уж который год подряд. Похоже, плачет он от обиды. Ну что за блядство? Не тонет сука. Хоть вой.
Ты разделась – стройна и спокойна, точно бронза. Вошла в воду. Самоубийство не состоялось. Через час покинула волну речную и, пройдя по террасе, подошла к столу. Большой. Дубовый. На нём бабочки разноцветно ебутся. Присела на край. Налила в бокал какого-то красного сока, пригубила, закурила лениво и, глядя на неторопливую возню насекомых, с наслаждением поставила к стенке мою надежду. Наивная. Умерь свой пыл. Её уже давно нет. Ни стены, ни надежды. Осталась только корявая надпись: «Я проверил музу реки». И та лишь в бутылке шмурдяка неизвестного поэта-пропойцы. А белокурые молодые дамы из расстрельной команды сжимают в руках автоматы, дырявят шпильками туфелек бесполезный грунт под стройными своими ногами и, нервно хихикая, никак не возьмут в толк, что они тут делают? Бесполезно смеяться. Плакать глупо.
Я сжег предстоящее лето. Мой внутренний водопад пересох. Ничего не попишешь. Не каждому даётся влага дней. Остается только петь. Сухо и нестройно.
Ближе к закату день чечевичный попытался найти смысл жизни. Отчаялся, да и повесился на фонарных столбах пыльного крымско-татарского городка без имени. Один на всех сразу. Теперь болтается на них, что твоя ночь жидкая, нелепая, но многообещающая. Свисает, раскачиваясь, подобно безнадежно-трезвому корсару-неудачнику на новенькой рее флегматичного флагмана флота её величества. Задорно и легкомысленно. Да хуле поддаваться беззубому ветру? Всегда найдётся тот, кто захочет плюнуть тебе в душу, и – вуаля – водопад твой снова многолик и труднодоступен.
Отхлебнул кофе. Обжегся. Она так и не научилась его готовить.
Джуманджи.
Ивана повезла свою волосатую Москву в Москву к какому-то ультрамодному парикмахеру. Здороваясь с мастером, она втихаря умыкнула у него мысль: «Сколько париков не покупай, а лысый всё равно останется лысым».
Костик, по древней русской традиции, тосковал два дня. Потом плюнул на это дело и, вспомнив о подаренной ему книге, взялся за изучение Синей магии. Книга была неинтересной, но полезной, и с её помощью Костик довольно скоро научился парить в воздухе на расстоянии двадцати сантиметров от земли.
Алик пообещал своему сыну компьютер и теперь вкалывал, как проклятый сразу на трёх работах. Но денег почему-то всё равно не хватало.
Я пил пиво с яркими собаками. В свободном полёте это делать особенно приятно. Собаки были ухоженными и блестели, словно на солнце снег.
– На солнце снега не может быть, – сказала мне ты.
– Может быть, ты права, – ответил я. Спорить с ней – бесполезная трата времени.
Днём он, словно потревоженный взгляд ночной птицы, сочинял стихи, надеясь, что их никто и никогда не прочитает, а ночью жил совершенно в ином ритме, потому что, гуляя по чужим снам, писал нескончаемый роман о ярких, как снег на солнце, собаках. По крайней мере, так ему казалось.
Десять тысяч лет спустя, историки смогли прочесть вторую страницу книги Джуманджи. Когда будет написана последняя, никто не знает. Так же, как не узнает никто, когда была написана первая страница вечной книги. Несмотря на то, что библиофилам хорошо известно о существовании двух первых страниц Джуманджи, исследовать их пока никому не удавалось. Нет, прочитать их – это проще простого. Но пересказ одного ученого мужа существенно отличается от того, что рассказывает о прочитанном другой.
Сны (тем более, чужие) – величина не постоянная. И содержание написанного на бумаге всё время изменяется, потому что писалось оно в чужих снах. Не чернилами и уж, конечно, не кровью, а самым обыкновенным страхом испуганных штормом чаек – лучшим из того, что даёт природа для написания подобных вещей.
Жизнь питается смертью, а его страх питался его же прозрачными надеждами – несбыточными мечтами – мачтами парусника в ожидании ветра, который наполнит его паруса. Они были необходимы ему, как ласточке слюна для постройки своего жилища.
И когда он впервые выпал из гнезда, то неожиданно для себя полетел. Страх заставил его расправить ещё неокрепшие крылья. Потом он ещё не раз вываливался из своей рифмы, но сильные крылья ни разу его не подвели. Постепенно рифма наполнилась гармонией и обросла ритмом. Раста. Она понравилась людям, но особо ею заинтересовались яркие собаки.
– Кто это поёт? – спросила меня одна. Эту суку звали любовь.
– Михей & Джуманджи, – ответил я и отхлебнул пива.
…через полгода в Интернете появилась информация: «Умер музыкант и композитор Михей (Сергей Крутиков) – вокалист одной из первых отечественных рэп-формаций Bad Balance и лидер сольного проекта „Михей и Джуманджи“. Как сообщает „Наше радио“, Михей скончался в 17:50 в воскресенье, 27 октября, в своей московской квартире. По неофициальным данным, музыкант умер от сердечной недостаточности».
– Значит, там он нужнее. Должен же кто-то писать книгу Джуманджи, – сказала ты.
– Может быть, ты права, – ответил я. Спорить с ней – бесполезная трата времени.
Алыча.
В саду, где каждый год белым зацветала алыча, танцевала вальс стройная женщина в трауре. Она двигалась между цветущих деревьев, словно Луна по небу, легко и грациозно. Почему она была одна и по ком носила траур, я не знаю, но если внимательно присмотреться к её затейливому танцу, то с первым дуновением цветочного ветра можно услышать песенку-бессмыслицу:
«От кира
(предупреждая возможный вопрос)
в голове не темно, а криво
и поезд, несущийся под откос –
паровоз –
в хитросплетении пьяного мира,
возможно, просто в гору полз
мурлыча песню (на три четверти) под нос:
И далее –
Италия –
Нога, сапог и талия
Обтянута экватором.
Ах! Как она стройна
Среди небес зелёной хмури!
Я это видела. В натуре», – которую в полголоса напевала женщина в чёрном с алой розой в длинных волосах цвета непроглядной ночи.
Красное так же хорошо гармонирует с черным, как и белое.
Пушистые ресницы её, подобно маленьким синим цветам, весной расцветали для того, чтобы летом принести плоды – огромные янтарные слёзы, – а осенью опасть. Зиму она проводила без ресниц и слёз. Легко и спокойно.
За пару недель до этого…
мне пришлось это сделать.
Её пес – маленькая и шустрая собачонка – раньше никогда не видел лошадей. Вот что я получил от неё по мыльной почте:
«…Daze loshadi. A nash Prints nikogda ne videl loshadey – nu, konechno, ego srazu chto-to smutilo v ih vneshnem vide, no on ne poddalsya panike i, zastivshi na meste, molcha nablyudal kak ony prohodili mimo nas.
Odin poziloy muzchina priostanovil'sya i, ukazivaya na loshad', skazal emu: «Bol'shaya sobaka, da?»
Я читал эту абракадабру и думал: «Неужели в Штатах нет ни одной клавиатуры с русским шрифтом?», а потом плюнул на это дело (мысли. Они только мешают творчеству) и попросил возможности украсть у неё этот милый сюжет. Она с радостью подарила мне его, поставив меня в неловкое положение, потому что случилось это в её День рождения.
Я, конечно, её поздравил, скупо пожелав ей здоровья, удачи и добра, но подарить ничего не смог. И тогда мне в голову пришла простая и, как следствие, гениальная мысль: я подарю ей эту миниатюру. К тому же, к написанию оной она тоже приложила руку. Ей будет приятно…
Как я ни старался, у меня ничего не получилось. Мысли (они только мешают творчеству), словно пчёлы в тесном улье, роились, наползали одна на другую, не давая мне сосредоточиться. Даже кофе и сигареты не смогли помочь.
На следующий день, рано утром я поднялся на крышу своего дома, выкопал в небе могилу и похоронил там сюжет о маленьком Принце, никогда раньше не видевшем лошадей. Теперь на этом месте всегда висит лёгкое, как весна облачко. На нём даже есть эпитафия: «В саду, где белым зацветала алыча, танцевала вальс стройная женщина в трауре с алой розой в длинных волосах цвета непроглядной ночи».
Красное так же хорошо гармонирует с черным, как и белое.
Паша.
Аккорд. Не каждый наделён богатством его звучания. Большинство из нас не способно даже на одну хиленькую ноту. А отдельные индивидуумы вообще… там глухо, как в танке. А ведь в детстве казалось, что танк – это верх крутизны.
Чёрно-белые кадры моего детства, погружаясь в галлюциноген памяти, медленно, но верно обретают цвет. Первая сигарета и первый стакан портвейна, первая женщина и первая любовь.
Откуда-то оттуда берет начало образ Алика. Алик – друг, и я с радостью закрываю глаза на его недостатки. Впрочем, так же, как и он на мои. Все мы не без греха.
Оказывается, Алик страдает неизлечимым недугом. Его одолевает синяя клептомания – болезнь тяжёлая, но проявляющаяся только в период алкогольной нирваны.
– А я думаю: куда это наши вещи пропадают? – улыбнулся Паша.
– Да за кого ты меня принимаешь? – мина оскорблённой добродетели совершенно не шла Алику, но при этом мягко легла на его чело.
– А, – стал оправдываться Паша, – то есть, ты хочешь сказать, что у тебя клептомания в хорошем смысле этого слова?
Помнится мне, я обещал вам Пашу. Паша – типичный представитель выходцев из Урала – голубоглазый блондин с красной мордой. Урал (ну, и Сибирь, пожалуй, тоже) – последний оплот русской нации. Все остальные – прямые потомки потных и пыльных детей монгольских степей. Пресловутые хохлы з москалями в их числе. Почему татарские монголы не пошли на Урал? Загадка. Хотя, с другой стороны, что им там делать? Разве что Настю с Бутусовым Чайфом запивать да читать на каком-нибудь тюркском наречии сказки Бажова друг другу на ночь.
Свердловский рок-клуб Паша имел ввиду, и делал он это в самом неприглядном смысле. К сказам Бажова он относился более снисходительно, вследствие поверхностного знакомства с творческим наследием последнего, которое сводилось к одному анекдоту:
"Хозяйка медной горы: "Ну, что, Данила-мастер, не выходит у тебя каменный цветок?"
Данила-мастер, тужась над унитазом: "Не вы-хо-ди-и-ит!""
Не прочитав ни одной уральской сказки, Паша покинул гостеприимную Хозяйку Медной Горы, так и не повстречавшись с нею. После долгих скитаний по нашей тогда ещё необъятной родине (я не знаю куда. Главное – отсюда!!!), с двумя песнями в кармане и одной парой обуви, он устал в Симферополе. Но Симферополь – не Ялта.
Теперь Паша в Ялте. Творит в студии. Такие люди, как Паша способны даже самое простое нажатие пипок превратить в творчество. О них говорят: он из любого гавна может конфетку сделать. При условии, конечно, что какашка эта связана с записью музыки.
За окном, купаясь в солнце, чирикали птички и пролетали случайные клиенты.
Пришёл Олег – человек во всех смыслах хороший, но имеющий один существенный недостаток: уж очень его много.
– Паша, – протягивая руку для приветствия, – а что там за мордовороты, – спросил он, – сидят у твоей двери?
– Заказчики, – не отрываясь от экрана монитора, ответил Паша. Протянутую руку он увидел затылком и ответил взаимным рукопротягиванием. Нетрудно догадаться, что после этого было рукопожатие.
– Вот они волшебники. У тебя курить можно?
– Кури, – Паша передвинул по столу пепельницу по направлению к голосу.
– Я вчера встретил одного своего знакомого, – Олег сладко затянулся и выпустил густую струю – не струя, а диагональный столб – дыма в потолок, – так он работает арт-директором вагона-ресторана в поезде Махачкала-Адлер. Приколись.
– Да? – Паша не страдает отсутствием чувства юмора, просто сейчас ему не до смеха. Надо срочно доделать работу, но природная вежливость не даёт ему оборвать разговор, – ты начал распространяться о волшебниках, сидящих в коридоре.
– Коррида в коридоре. А там тореадоры, – выдал экспромт Олег, – ну да. Я и говорю: сидят там два волшебника – пальцы веером – и с умным видом рассуждают о том, о чём не имеют никакого представления. Прикинь. Один говорит другому: ты раньше слышал этого Ди Меолу? Тот отвечает: нет. Тогда первый заявляет: я тоже. Круто его Агутин раскрутил?
– Да. Эти могут. Они такие, – Паша удовлетворённо потёр руки, – позови-ка их, – работа была сделана.
Паша не любит химию, но обожает Менделеева, и продукт сновидений великого русского учёного здесь ни при чём. Просто водка позволяет ему общаться со скрипкой. На трезвую голову брать её в руки Паше не позволяет совесть. А душа требует. Конфликт эфемерных субстанций на лицо. И уладить его способна только водка.
– Редин, – шёпотом, наверное, чтобы не разбудить, позвал меня Паша, – просыпайся, – на часах было десять тридцать утра.
– Чем больше спишь, тем меньше неприятностей, – мой внутренний голос попытался оправдать своего хозяина.
– Водку пить будешь? – проигнорировал зычный глас моих внутренностей Паша.
– Народная мудрость небезосновательно вопрошает: чем с утра плоха водка? – тоном только что проснувшегося проповедника ответствовал я, примеряя на себя лавры осмысленности огромного народа, – Тем, что день разнообразно провести не удастся.
Через час я согласился слушать скрипку Паши, а через полтора – умилённо размазывал по своему небритому лицу коктейль из слёз и соплей, восхищаясь виртуозной игрой новоявленного Паганини.
Затем было новое "Старое кафе". Любознательное солнце заглядывало в плохо помытое окно, помятый официант – в пузатый лопатник к Паше, а мы – в меню. Паша заказал себе солянку и коньяк, я же ограничился мидиями и бокалом Пино-Гри.
Несмотря на свою помятость, официант, словно природный катаклизм, молниеносно выполнил наш заказ. Мой внутренний снег выпал на обратную сторону Луны, где бесследно растаял. И только печальный вой одинокой пьяной собаки, заблудившейся в лабиринте моей души, говорил о том, что осадки на Луне всё-таки были.
Заслышав его, официант, словно слабенький актёришка из третьесортного фильма ужасов, наигранно поёжился, превратился в женщину и, гордо виляя бёдрами, удалился.
Всякая пьянка когда-нибудь заканчивается, и всеобъемлющий принцип Весов гласит: утром будет плохо ровно настолько, насколько хорошо тебе было вечером. Чем лучше, тем хуже. Пришли пожиратели света и отключили электричество. Беда не ходит одна. Она водит с собой электрика. Умирать – это одно, а умирать без телевизора – совершенно другое, невыносимое и плохо объяснимое занятие. Благо, есть телефонная связь и, отложив процесс общения с синдромом алкогольного похмелья до лучших, электрифицированных времён, я звоню Костику и прошу его купить по дороге бутылку водки.
– Пошли дурака за водкой – он одну и принесёт, – с вселенской грустью в голосе, констатировал я факт появления на нашем кухонном столе одной пол-литровой ёмкости.
– Я знал, что ты скажешь именно так, – ответил мне Костик, доставая из пакета ещё две бутылки водки, – вместо спасибо.
– Спасибо, – сказал я, выпил и…
твою мать! Сюда впору втиснуть некогда существующую матерную главу Венички из "Москва-Петушки", потому что бомба, в отличие от водки, дважды в одну воронку не падает.
Основательно проматерившись, я почувствовал себя способным на какие-либо действия. По меньшей мере, я понял: если водку запивать водой из-под крана, то нам за глаза хватит одной бутылки. А куда девать ещё две? И я пошёл за закуской. К Марине.
Марина, колдуя над кухонной плитой, слушала Машу. Та, в свою очередь, по памяти читала доклад на тему живучести тараканов.
– Дихлофос на них не действует совершенно. Они на нём уже собаку съели. Разве, что какое-нибудь новое средство. Сначала они – ничего – дохнут, а вот уже вторая партия вылезает из своих нор, как ни в чём не бывало.
Марина внимательно, как будто ей действительно была интересна вся эта тараканья ахинея, выслушала Машу и после непродолжительной паузы сделала вывод:
– Хорошо быть тараканом, – она попробовала наваристый продукт своего колдовства, – из второй партии.
– Дайте дихлофосу или пару-тройку тараканов, – попытался я как можно более органично влиться в их беседу, – нам закусывать нечем.
– Куда тебе ещё закусывать? – возмутилась Марина, – ты и так уже, как пестня, – она так и сказала: "пестня".
– Какая? – у меня на пестни особая точка зрения.
– Хорошая, – зная о моём двойственном отношении к музыке, она поспешила меня успокоить: – ты уже, как хорошая развёрнутая джазовая композиция, – и протянула мне пакет с закусью, – на. Только больше не пей.
– Спасибо, родная. Дай поцелую.
– Иди уже, – ни любви тебе, ни ласки. Одна закуска.
Ян Тирсан вытягивал из меня нервы и успешно вил из них верёвки. А Константин поучал Пашу. На столе осталось две бутылки водки.
– Не скажи. Синонимы-то они синонимы. Член один, а размеры разные.
– Поясни, – поддержал разговор Паша.
– Пытаться и стараться – вещи разные. Вот ты скажи мне: попытка может быть неудачной?
– ??? – молчание – знак согласия.
– А можно ли неудачно постараться? – и, не дав Паше открыть рот, он продолжил: – тут одно из двух: либо ты стараешься, либо в потолок плюёшь. Хотя, здесь тоже без старания не обойтись.
– А я закуску притащил, – мне пришлось прервать тираду новоиспечённого последователя Даля.
В пакете оказалось три свежих огурца, полбуханки хлеба, три неэкономно нарезанных кольца колбасы докторской, банка шпротов, одна хурма и…, впрочем, презерватив Марина просто забыла выложить. Всё это изобилие прозвучало под водочку, как "Турецкий марш" Моцарта – весело и непринуждённо. А забытый в пакете гандон мы надули, придав слову "пьянка" все атрибуты слова "праздник".
Однако веселье было омрачено негрустным, глянцево-оранжевым плодом хурмы. Если бы мы тогда знали, что она в союзе с водкой в организме превращается в стекло, мы просто выкинули бы её в мусор. Но мы не знали. И теперь Паша в больнице.
Первая операция прошла успешно. Наташа с Катей поочередно дежурили у постели больного. Но это не помогло, и Паше, после незначительного улучшения, стало хуже. Вторую операцию делал более опытный хирург. Все, кто знал Пашу, не на шутку за него испугались. И лишь я сохранял спокойствие, потому что только мне был известен сон, приснившийся в горячечном бреду Паше.
Над головой, кирпичом с ближайшей отмороженной стройки, нависло небо. Слева от него – чистый тетрадный лист в клеточку, ограниченный лишь паскудостью воображения и, находящимся справа, небом. Карусели и качели, клоуны и жонглёры, весёлая заводная музыка, горячие собаки и холодная пепси-кола. Всё это куда-то бесследно исчезло, хотя было ещё секунду назад. На зад натянуты джинсы страуса по имени Леви. На голове – чёрный в синенький цветочек цилиндр. Смокинг, не знавший, что такое пепел сигарет, подчёркивал авантажную респектабельность своего обладателя, а поношенные кроссовки на его ногах говорили о том, что он, в отличие от своей солидности, постоянно находился в пути. На бесполезный вопрос Паши: "Ты кто?", он сначала открыто улыбнулся, затем, почухав затылок, превратился в весёлого розового ослика и растаял в кирпичном небе. На тетрадном листе двоеточием остался только голос: "А ведь ты звучишь. В тебе есть то, что некоторые называют аккордом".
Карма.
Ближе к вечеру позвонил Костик и предупредил: «Мы сейчас придём. Только ты молчи и ничему не удивляйся». Через полчаса он стоял на пороге и поддерживал маленького человека. Человек производил впечатление благоприятное, но неустанно сучил ножками. Оба были синими в хлам.
– Кто это? – спросил я Костика.
– Большой Бен.
– А почему он всё время шагает?
– Это Большой Бен.
Я решил, что Костика заклинило, и обратился непосредственно к Большому Бену:
– Остановиться не пробовал?
– Нельзя, – небритый голос Большого Бена был похож на будильник с английским акцентом.
– А ты попробуй, – не унимался я.
– Нельзя.
– А пить можно?
– Пить можно.
– Ну, тогда присаживайся.
Костик помог шагающему интеллигентному человечку взобраться на табурет.
Через пару рюмок Большой Бен согласился-таки остановить свой монотонный шаг. Вместе с ним остановились часы, реки, тени и ползучие пески. Остановилось всё. Только солнце нехотя выползло из-за дома напротив и ошалело повисло рядом с полной луной.
После пятой мистер Бен посмотрел на сладко спящего Костика и поинтересовался:
– Как это – спать?
Ответить я не успел – он впал в беспамятство. Я заботливо перенёс его на диван, укрыл бабушкиным пледом и вышел на балкон.
Полнолуние. Пожалуй, это самое красивое явление в природе, если бы не торчавшее посреди ночи мутное солнце.
При полной луне случаются вещи неприятные. Часто, хотя и не регулярно. Сначала этот процесс я пытался контролировать – тупо запасался водкой и сидел дома. В одну морду. А на улицу ни-ни… потом плюнул. И нисколько о том не жалею.
Большой Бен открыл глаза, сел на диване, сказал:
– Не пытайся познать Карму, иначе она погубит тебя, – и вновь выпал в осадок.
Звали его Александр Сергеевич. Фамилия у него была Пушкин. И любил он больше всего на свете баб да водку. Да так любил, что даже графоманил на этой почве. Бывало, встанет с бодунища, хлебнёт рассолу, запьёт его холодной водочкой, да из запотевшего инеем графинчика, шлёпнет по примостившейся рядом заднице. Ласково. Мол, всё. Свободна. И чтоб до вечера не беспокоить. И за стол. К заждавшимся перу и бумаге. Стихи писать или прозу там… про капитанскую дочку и, охмурившего оную, молодого красавца Дубровского.
Её звали Арина Родионовна. На жизнь себе зарабатывала она тем, что гадала. И делала это превосходно. Таких гадалок в округе, что блох на рыбе. Но, поскольку гадала Арина Родионовна не всем, а только плохим людям, дела её продвигались не так хорошо, как этого хотелось бы. Вынуждена была подрабатывать старушка.
Так и свела судьба великого поэта и великую женщину.
Пока «Шурилка – картонная дурилка» был маленьким, хлопот с ним, кроме обоссанных штанишек да разбитых коленок не было. Да и какие это хлопоты? Так… роса божья.
Первую неприятность юный Пушкин принёс в дом, будучи оболтусом о неполных пятнадцати лет. Неприятность называлась гонорея. Впрочем, с насморком этим их лекарь семейный справился быстро. Но после…
взять хотя бы карты. Пушкин любил играть. Но, как катала, он был никто. Проигранные главы из «Евгения Онегина», по сравнению с проигранными суммами, – это ж так, зарезанный сдуру голодным волком ягненок – неприятно, но того не более. Ни одно имение можно было бы купить, не играй Саша в карты. Но он играл. Играл и проигрывал.
Как-то раз, проиграв фамильный перстень с бриллиантом, Пушкин, в расстроенных чувствах, подошёл к Арине Родионовне и попросил её погадать. Настойчиво. Неугомонный юнец неоднократно обращался с подобной просьбой к хиромантливой женщине, но той всегда удавалось соскочить с темы, не сулящей ничего хорошего охламону. На сей раз отказать не удалось.
– Хорошо. Я тебе погадаю. Только потом пеняй на себя.
– Вот и славно, – обрадовался Пушкин и протянул ей руку.
– Не ту. Правую, – сказала гадалка будущему классику и посмотрела на его ладонь. – Ты будешь знаменитым. Но прославишься ты не как карточный шулер, а как поэт, – на что будущий воздвиженец нерукотворных памятников лишь как-то по-идиотски усмехнулся и, надеясь направить пространные речи старухи о роке в более понятное для себя русло, спросил:
– А что, няня, смогу ли я когда-нибудь выиграть?
– Ты дурак или просто прикидываешься? Я же тебе русским языком сказала, что в картах тебе ничего не светит. И ещё. Вот посмотри. Видишь эту линию? Какая-то она у тебя короткая.
– Что это за линия?
– Это линия жизни.
Стоит ли говорить, что юности свойственна беспечность? Но, на всякий случай, он спросил:
– А что это означает? – вопрос явился последней каплей в трёхлитровой чаше терпения Арины Родионовны.
На грани нервного срыва, но внешне очень спокойно она произнесла:
– А значит это то, что жить тебе на белом свете осталось не так уж и много, чтобы можно было разбрасываться жизнью, куда ни попадя. И ещё это то значит, что убьют тебя, бестолкового. – Она заплакала, но сквозь слёзы продолжала: – убит ты будешь на дуэли, человеком по имени… – в голове её, выстроившись в колонку из телефонного справочника, возникали имена: Ленин, Брюс Ли, Гребенщиков, Никита Рязанский, Гоголь, Нил Армстронг, Ван Дамм, но всё это было не то. И когда она уже отчаялась найти среди этого хаоса имён то, единственное и такое необходимое, перед глазами её на огромном, как небо, листе ватмана кто-то аккуратно и с любовью начертал: – Дантес.
Почерк был каллиграфическим.
– Но я даже не знаю, кто это такой, – беспечность покинула чело юноши, уступив своё место беспокойству.
– Теперь знаешь, – молвила тихим голосом женщина, и на её лице появилась демоническая улыбка.
Ладони. Именно они являются объектом пристального внимания хиромантов. Я, например, видел ладонь, линии которой складывались в одно матерное слово. Только вместо "Й" краткого в конце того слова стояла буква "И". Обладательница этой ладони автоматически становилась обладательницей столь драгоценного груза и, причём, заметьте, во множественном числе. Очень редкое и удачное приобретение, похвастаться которым суждено не каждому. Впрочем, по этой же причине она не ходила к гадалкам. Вот таким незатейливым способом Господь уберёг счастливицу от соблазна познать Карму. И почему Он не сделал того же с Александром Сергеевичем Пушкиным? Загадка.
Пушкин расхаживал из угла в угол и пытался найти рифму к слову любовь. Слова: кровь, морковь и свекровь он отмёл, как неподходящие по смыслу. Однако в голову больше ничего не приходило, и он остановил свой выбор на слове "вновь". Выдал на-гора поэзии зарифмованный перл типа:
"Свирель в душе проснулась вновь,
Когда вошла в неё любовь…".
Поняв, что данные словеса ничего общего с любовью не имеют, он стал, забавы ради, экспериментировать:
"Свекровь. Взыграла её кровь,
когда узрела та морковь",
"Любовь… Морковь. Бунтует кровь.
Когда в трактир идёт свекровь",
"И вновь любовь пускает кровь
Если не ест морковь свекровь"
и так далее, и тому подобное, и ещё штук тридцать аналогичных словесных испражнений…
Няня была права, и Александр Сергеевич стал-таки поэтом. Однако карт не бросил. Напротив. Узнав, что есть такая непыльная статья дохода, как литературный гонорар, он пустился во все тяжкие.
В среде некоторых пушкиноведов бытует мнение, что плодовитость поэта напрямую связана с карточными долгами. Платить-то надо, а то, неровен час, и перо под ребро можно схлопотать. Вот и приходилось писать "Сказку о царе Салтане" и "Золотой рыбке", о благородном разбойнике Дубровском и не менее благородном, но медном всаднике. А поскольку редакторы печатных изданий за мыло платить не желали, приходилось Александру Сергеевичу напрягаться. Для того чтобы произведения его были высокохудожественными и при этом удобоваримыми.
Так и жил наш герой, убивая время за карточным столом и реанимируя его же за столом письменным. А, что до водки и баб – были такие. Водка с женщинами! Кто станет утверждать, что это плохо? Разве что какой-нибудь педераст непьющий.
Дантес Жорж Шарль – барон Геккерен – французский монархист не так давно приехал в Россию. Сидит в шикарных апартаментах путаны столичного разлива. Нога на ногу. Огромная сигарета в красивых и ровных зубах от лучшего дантиста. Хотя, стоп. Какая, в жопу, сигарета в те времена? Да хоть “Camel”. Несмотря на то, что тогда в СПб в моде было всё французское, Жорж Шарль отдавал предпочтение американским сигаретам. “Gitanes” пролетал, как фанера над Парижем.
Дантес Ж. Ш., так же, как и Пушкин А. С., грешил стихосложением. Но, в отличие от Александра Сергеевича, делал он это для души, а не за деньги. Ему не нужно было беспокоиться за качество своих произведений, стихосотворённых на скорую руку и босую ногу. Писать в рифму у Дантеса получалось только тогда, когда ноги его не были стеснены удушливым пленом обуви и носков. Ноги должны быть свободны, как птицы. Сочинял он ногами. Иногда его распирало от нахлынувшего вдохновения, и он бежал к секретеру. На ходу скидывая со своих ног лакированные щегольские штиблеты и снимая красные носки, для того чтобы положить на бумагу и таким образом сохранить для потомков гений своей рифмы. Запашок в эти моменты стоял, хоть святых выноси, и его горничная – женщина во всех отношениях мягкая, – будучи не в силах выдержать столь массированной газовой атаки, выходила на свежий воздух. "Это для того, чтобы Вам не мешать, мсье Дантес", – врала она, лёжа в его постели. И он, пробуя на ощупь её мягкие телеса, ей верил. Не исключено, что верил он ей именно поэтому.
Судьба свела их в популярном столичном ресторане. Пушкин отмечал в нём получение очередного гонорара, а Дантес был там завсегдатаем. Познакомила их служанка Дантеса, отличавшаяся мягкостью не только к своему хозяину, но и к Александру Сергеевичу также.
– Дантес Жорж Шарль, – представился барон Геккерен, из скромности не указавший своего титула.
– Пушкин Александр Сергеевич, – ответствовал переменившийся в лице поэт.
У него перед глазами вдруг встал давний разговор со своей няней: "…убьют тебя, бестолкового. Убит ты будешь на дуэли, человеком по имени Дантес".
– Для меня это честь – познакомиться с величайшим поэтом нашего времени.
– Я слышал, Вы тоже пишите? Только вот, самих стихов мне слышать не доводилось, – говорил Пушкин, а мысли его витали где-то очень далеко от темы разговора.
Стихи оппонента его сейчас интересовали меньше всего. Он думал о своём недалёком будущем. О предстоящей дуэли он думал. И угораздило же его вляпаться в эту мистификацию. "Ну, няня! Ну, спасибо. Удружила. А впрочем, чего ради я переживаю? Пристрелю этого французика, как куропатку и делов-то". Откуда ж ему знать о том, что его будущий противник являлся мастером международного класса по стрельбе из мелкокалиберного пистолета (впрочем, и пулемёта также), и положительный результат в дуэли для него был таким же мнимым, как и выигрыш в карты. Но в голове у АСа русской поэзии сейчас крутилось только три слова: французик, куропатка и делов-то. И он выдал не ожидавшему ничего подобного и поэтому удивлённому донельзя французскому монархисту:
– Хотя, мне кажется, нет, я уверен, что бумага, на которой они написаны, годится только для использования по прямому назначению в клозете, и то не высшего класса.
Дантес понял – это наезд. Только ему была не понятна его причина. Однако нужно что-то отвечать этому зарвавшемуся выскочке. Этому стихоплёту Пушкину.
– Но позвольте. Не соблаговолите ли Вы объяснить причину Вашего поведения.
– А чего тут объяснять? Ваши стихи, мсье, дерьмо. И я готов предоставить Вам сатисфакцию в любое удобное для Вас время и там, где Вы изволите назначить, – сказано это было таким тоном, что Дантесу ничего более не оставалось, как принять вызов:
– Как Вам будет угодно. Меня лично привлекают живописные места у Чёрной речки. А время… время Вы выберете сами, – и он ушёл, не допив свой любимый шартрез.
Исход перестрелки, включавшей в себя всего-то два несчастных выстрела, нам с вами хорошо известен. Но сейчас я о другом…
Не знай Пушкин о предстоящей дуэли, состоялась бы она вообще? И не познай он свою карму, может быть, он до сих пор радовал бы нас своими бессмертными произведениями с забавными кучерявыми рисунками на бескрайних белых полях.
Проснулся я от какого-то непонятного, обиженного на меня звука. Встал с постели. Прошёл на кухню. Там, производя этот самый звук, как проклятый, молча сучил ножками Большой Бен, а ходивший рядом взад-вперёд Костик пытался его успокоить:
– Ну, кто же знал, что так получится? – спрашивал он и, не получив ответа, сам же и отвечал: – никто.
– Что случилось? – спросил я.
– Опаздываем, – ответил маленький человечек и прибавил оборотов.
– Куда?
– Да ни куда, а почему, – Костик остановился и посмотрел на меня так, будто был голоден, и я – колбаса.
– Тогда почему? – не унимался я.
– Потому что вчера кому-то захотелось узнать, что же получится, если мистер Время перестанет шагать.
Я не рискнул смотреть Костику в глаза.
После красноречивого, но довольно сбивчивого монолога Костика, я узнал, что маленький, постоянно шагающий человек – это тот, кто отвечает за время, и, пока он шагает, время движется вместе с его маленькими сильными ногами. Но стоит ему остановиться, и время сразу же обрастает волосами. Волосатое время – всего лишь четырнадцать, ничего не значащих букв.
Не знаю, почему, то ли от того что Большой Бен не похмелился, то ли от испуга, но он перестарался, и это лето уместилось в пятнадцать минут…
Интервью с осенью.
Подойдя к её дому, останавливаюсь метрах в пятнадцати от него и закуриваю. Я всегда так делаю, оттягивая удовольствие встречи с ней. Однако на сей раз удовольствию сбыться не суждено. Дома никого, а из двери выглядывает записка: «Как пишутся стихи?». И всё. Ни здравствуй тебе, ни до свидания.
Путь домой труден и тернист. Через тернии к дому, несмотря на то, что ветер немного поутих, меня дважды чуть было не сдуло. Наверное, я ослаб, и случилось это, полагаю, от систематического недопивания.
Придя домой и, нырнув на нычку к маме, я выудил оттуда пол-литра белой, написал Редину открытку о своём удачном приобретении и, не отправив оной, приступил к алкоголизации своего организма. Без закуси и в гордом одиночестве.
«Запорошило. Осень белым. А хочется синего. И чтобы штиль. Синий штиль – это тебе не черный шторм с казначеями в пенсне, боцманами в рыжем и прочими капитанами в баках. Тоже мне Пушкин. Блять.
У капитана есть буква. Своя. Личная. Её он и в хвост, и в гриву. Букве нравится. Но она молчит. Кто я такой, чтобы претендовать на огрызок откровения? Однако молчанием меня не пронять. Наши деды не таких кололи.
– Мадам, листья уже давно опали, опалимые Вашим коварным взглядом. Кстати, Кафка твой – большая Бу. Меня от его букаффок тошнит.
– А я считаю, надо просто купить натуральные меха, термобелье и закаляться. Зима обещается быть такой же, как это лето…
– А нах закаляться-то, если меха и термобелье?
– Курильщиков и всяких мерзляк в мороз под сорок не спасет ничто из тобой перечисленного.
– Мной?!… а твой покорный слуга – курильщик и всякий мерзляк. Однако пережил как-то. Без мехов и термобелья кстати.
– Погода последнее время совсем не радует. Вспомни наше лето, да и вообще все довольно-таки уныло, если нет счастья. А где его взять?
– Хочешь быть счастливым – будь.
– Ага. Мне нечто подобное говорил стареющий еврей в дорогом восточном ресторане, где он ел только тирамиссу, а я только пила вино. Он сказал, что надо делать то, о чем больше и чаще всего мечтаешь, потому что время летит, а потом чувство собственной ущербности…
– Я подхожу к этому вопросу с противоположной стороны. Делай, что должен, и будь что будет.
– Да. Но тогда и ни о чем не жалей. Такая философия только для сильных духом.
– Если делать, что должен, жалеть просто будет не о чем.
– Тогда надо научиться не испытывать чувства жалости к самому себе.
– Вообще-то «делай, что должен» означает «поступай по совести». Если тебе твоя совесть говорит, что убить – это нормально, значит, убивай на здоровье, но не огорчайся, когда начнут убивать тебя. А ваще совесть достаточно емко прописана в религиозных заповедях и… у прочих революционеров.
Буква заглянула в зеркало, подмигнула юной знакомой сказочника туманов и вернулась ко мне:
– …видите ли, молодой человек… я, например, глубоко уверена в том, что истинный революционер должен погибнуть. Именно погибнуть, а не умереть. И погибнуть он должен непременно молодым. Чем раньше, тем лучше. Желательно в колыбели, с пустышкой в беззубых деснах. Ибо… ибо старый революционер смешон. А, не растерзанный пулями какого-нибудь отставного боливийского генерала Гари Прадо, молодой бунтарь, по меньшей мере, вызывает недоверие у всей прогрессивно настроенной общественности, да и среди товарищей по борьбе тоже…
Буква сняла парик, раскурила сигару – нескончаемый подарок Фиделя Вечного – и подошла к окну.
– Осень! – презрительно фыркнула она, задернула штору и направила свой взгляд к телевизору.
По тиви тоже показывали какую-то заунывную черно-белую хрень с прозрачными прожилками дождя в пригороде Нью-Йорка.
Пахло прелым голосом Жао Босхо. Листвой. Ноги по рыжей аллее. Улетающая в далёкие советские края, паутина Паустовского. Водка в кайф из гранёных. Дельфины из памяти и прямо в небо… и песни Розембаума… разные. Много. Все разве упомнишь? Но в основном про подорожавших жирных уток. Очень. Осень.
– А музыка?
– На Брайтоне, молодой человек, мало кто знает о Джимми Хендриксе, но за охоту помнят все. Ну, или, по крайней мере, многие.
– Что это было?
– Идиот. Прочти название.
– Да ну нах. Какое ж это интервью?
– А кто тебе мешает поинтересоваться грибными местами и?… что там ещё интересного есть в осени?
Она больно стукнула меня «Процессом». По голове.
Нет. Грибник из меня никакой. Это ж ходить необходимо. Нагибаться. Но спросить… хоть что-нибудь… Вспоминаю о том, что давно и безнадежно меня терзало:
– А вот, если бы…
– Если б ты скакал голышом на лошадке, был бы идиотом рождённым в Кадакасе.
Если б ты мог отличить нужное слово от ненужного, был бы гением, написавшим хазарский словарь.
Если б ты знал, кто и когда тебя поцелует, был бы сыном бога.
Если б…
– Если б… ты была немного ближе…
«Чёрный шторм» уверенно стоял на якоре. Рейд – дело, если и не серьёзное, то полезное. Однозначно.
В наушниках что-то надрывно свистнуло»… Командир корабля вздрогнул, икнул, отложил в сторону книжку и поинтересовался:
– …штурман, доложите обстановку. Мы где?
– В звезде, – хотел было съязвить тот, но, сверившись с картой, стаканом и прочими компасами, уверенно ответил: – мы в запое, сэр.
– Сколько?
На этот вопрос сверяться было не с чем, и штурман решил подставить корабельного кока, однако неожиданно для себя ляпнул:
– Что-то с неделю. Ну… или около того.
– Семь дней. Запой нормальный, – доложил в ЦУП командир корабля и протянул штурману полупустой стакан.
Очнулся аккурат через семь календарных дней. Небритый, разбитый и злой, как кошка, которой вместо обещанного Вискаса подсунули Педи-гри.
Зазвонил телефон. Я заставил себя встать. Боже, сколько же неимоверных усилий было потрачено на это простое действие. Подошел ("телефоны зовут, тишину нарушая") и выдернул "папу" из "мамы". Больше никто и ничто не помешает мне умирать. Тихо и медленно умирать. Потому что смерть – это начало жизни или, по крайней мере, её продолжение. Однако не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Поумирать в покое мне дали не больше часа, а если быть совсем точным, то ровно сорок семь минут, ну и ещё пару-тройку секунд, о которых я бы обязательно упомянул, если бы был брюзгой или занудой, а так бог с ними, с секундами.
От звонка в дверь, в принципе, тоже можно избавиться, отключив последний, только проблема заключается в том, что сделать это незаметно для звонившего практически невозможно. Ну, что за жизнь? Мне вновь приходится подвергать себя пытке – попытке встать с дивана. Получилось. Ну, что ж, если мне удалось подняться, то подойти к двери сам бог велел.
Подошёл. Открыл. Она. На лице улыбка. На улице холод. В руках одинокая хризантема и шоколадка. Я обижен за неделю, вычеркнутую из моей жизни, но виду не подаю. Радость сильнее обиды. Заходи.
Пальто на вешалку, джинсы и свитер на кресло, туда же после небольшой паузы отправились её колготки трусики и бюстгальтер.
Лён её волос стелился по моей подушке. После данной фразы впору вспомнить о полярности ночи.
На следующее утро, как это ни странно, я ощутил тепло её тела рядом с собой. Раньше со мной такого никогда не случалось. Самое время вытащить из скудных кладовых своей памяти словосочетание о смерти, лесе и каком-нибудь несчастном животном, которое, как водится в подобном случае, сдохло.
Она проснулась, вы будете смеяться, но улыбнулась, а затем, вдруг став серьёзной, сказала:
– Ты не ответил на мою записку.
– Какую записку?
– Так значит, вот как ты меня любишь?
– А кто говорит о любви? Я о ней предпочитаю молчать.
– Ну, что ж. Будем считать, ты удачно выкрутился. И всё же, как пишутся стихи?
– Хорошие стихи пишутся с помощью ненаписанных слов.
Когда он обзавёлся собственным солнцем.
Ивана с опаской относилась к сновидениям. Именно поэтому все свои сны она рассказывала ещё не проснувшейся воде, а потом запихивала их в конверты и отправляла посредством почты почти всегда всемогущей Косте.
Костик снов не боялся. В отличие от Иваны. Более того, с её точки зрения, он сам был порождением этих самых снов.
Костя сидел дома, ждал Ивану и пил тёплое тёмное пиво. В члены Клуба Любителей Пива он не вхож, но иногда, под паршивое настроение и сигарету с обратным значением – можно. Звучит.
Позвонила из Москвы Ивана. Сказала, что задержится. Ну, что ж. И у дантистов иногда болят зубы. Работает приёмник, скрипят во дворе качели, и все обитатели дома (сто двадцать квартир), как один считают своим долгом выразить нежные чувства маленькой девочке Кате – эдакому сдобному и пышному колобку с хвостиком на макушке, которому от роду полгода. Всеобщее Умиление. Ненавижу.
Радио. Новости. Радио-новости – мыло из нефритовых сообщений о какой-то несуществующей войне и очередном, мистическом падении курса акций. Странно, но об уборочной страде ни слова. Заинтересовало только последнее, вскользь упомянутое сообщение: "В Ватикане открылась новая дискотека".
Костя звонил на радио и телевидение, в скорую помощь и милицию, в общество охраны редких животных и по ноль-девять. Всё тщетно. Никто не мог ему рассказать о новоявленном данс-притоне. Даже в итальянском посольстве беспомощно развели руками (они там так и сказали: "Мы беспомощно разводим руками". Однако пояснить – что именно – категорически отказались).
Он набрал номер авиа-касс и заказал один билет до Рима. По-моему, Ватикан находится там. Деньгами помог ему Дима. Кстати:
Урок истории.
Дима прямо с порога мне заявил:
– Ты в курсе, что Люсак был первым геем?
– Кстати, а кто такой Гей Люсак? – раньше я слышал это имя, но чем оно было славно, хоть убей, вспомнить не мог.
– Как кто? – удивился моей бестолковости Дима, – Первый гей, – на этом урок истории был закончен.
Древний город встретил Константина солнечной погодой, обилием голубей и итальянской речи. “Pronto”, “Perche”, “Si, senior” и “ O Dio! Poverino maladetta strada!” – вот тот немногий набор слов, который смог он запомнить в первый день своего пребывания в Вечном городе. Позже, в совершенстве овладев итальянским, Костя понял, что последняя фраза означает: «О Господи! Будь проклята эта дорога!». Правда, мне до сих пор непонятно, почему они проклинают свою страду. В сравнении с нашими, их страды – паркет.
Незнание города заставило Константина воспользоваться услугами такси. К воротам Ватикана его с ветром доставила не молодая, но прекрасно сохранившаяся дама. Она почти не снимала ноги с педали газа, всю дорогу курила "Беломор" и постоянно о чём-то рассказывала. Так Костик узнал, что раньше она работала в Японии, и
не было в городе Токио круче и бесшабашнее таксиста, чем Вика с цыганской фамилией Нова. Крутые якудза и не менее японские самураи, в первом случае крошили свои пальцы в окрошку, а во втором и последнем – просто делали себе харакири, находясь под впечатлением от поездки по столице страны восходящего солнца с представительницей конокрадущей нации. Лошади в городе Токио водились, но было их там настолько мало, что впору удавиться. Белокурых русских танцовщиц, если верить статистике, обитало в нём гораздо больше, чем лошадей. Короче говоря, не жаловали цыгане этот мегаполис своим вниманием. Однако Вика прижилась в столице микросхем отсутствия лошадей и, разжившись "Маздой" 1921 года выпуска с двигателем от реактивного самолёта, на котором некогда развлекались камикадзе (судя по названию, грузины какие-то), стала заниматься извозом.
Сначала дела её, как водится, шли не очень. Она совершенно не знала города. Но затем, слегка освоившись в географических тонкостях улиц и площадей, её таксюристические дела медленно, но верно стали подниматься в гору. Однажды некий японский танкист, прокатившись с лихой дамой по ночному Токио, посвятил ей танку, в которой с восхищением, присущим только японцам, говорилось о том, что поэт был в восторге от того, что ничего не видел.
Многих интересует, каким образом пишутся стихи. О первом варианте написания оных я уже распространялся. Теперь я поведаю вам о втором, более рискованном, но зато и более приятном. Возьмите красотку, усадите её на пишущую машинку или на клавиатуру вашего, я надеюсь, исправно работающего компьютера и приступайте к жаркому процессу любви. Можно, конечно, поелозить по клавиатуре собственной задницей, но в таком случае я не берусь отвечать за положительные последствия от проделанной работы. После чего вынимаете заранее приготовленный лист бумаги из пишущей машинки или смотрите на монитор вашего, я надеюсь, исправно работающего компьютера и читаете. Что такое? Вы неудовлетворенны написанным? Не отчаивайтесь. "Москва не сразу строилась", "Не всё коту масленица", ну, и "Если долго мучиться, что-нибудь получиться". Неужели вы полагаете, что Шекспир, энергично трясущий пластмассовым копьём с резиновым наконечником, добивался великолепия своих стихов сразу же после совокупления? Ничего подобного. Всё это сказки. Сколько поз перепробовано? Сколько девок перепорчено? Сколько бумаги испачкано непонятными закорючками? Сколько перьев сломано? На эти, отнюдь не риторические, вопросы никто не даст вразумительного ответа. Даже сам покойный. А вот мне, как-то совершенно случайно стало известно, что для написания "Отелло" ему пришлось потратить 1645 женщин. На остальные же вопросы ответы неведомы даже мне. Но я точно знаю, что
в Ватикан попасть (два пальца об асфальт) – проще простого. Достаточно сказать вратарю в сутане, с автоматом Калашникова наперевес: "я на дискотеку" и все проблемы решены. Иди танцуй, сын мой. С Богом. Десять долларов.
Какой же он наивный. Или (и что, скорее всего) просто плохо учился своему ремеслу. А если бы он внимательнее слушал своих духовных наставников, то знал бы, что с Богом все деньги мира, а не каких-то паршивых десять баков. Прочитав в уме монаху, охраняющему вход в цитадель католицизма, эту незатейливую, но очень поучительную лекцию, я вручил ему, словно переходящее красное знамя, зелёную бумажку с изображением Гамильтона и прошёл на территорию самого маленького государства в мире.
Нора, привлекательная молодая женщина, любит раздеваться. Делает она это прилюдно и за деньги. Ёжику раздеваться не надо, она и так красивая. Сто килограммов красоты, скачущие по сцене в костюме зайчика. Странно, но неделю назад они гостили у нас. И когда только успели попасть на этот праздник религиозной диско-вакханалии?
Луч света находит в кромешной тьме блестящую Нору (после неё вся наша квартира была усыпана блёстками. Даже унитаз и тот блестел) и приковывает внимание посетителей к себе. Развратная, но не пошлая картина стрип-танца заставляет мужиков вспомнить, что они являются таковыми, а женщин, находящихся рядом с ними, испепеляя Нору ревностью, думать: "Ну, и что здесь такого? Я тоже так могу. Вот только доберёмся до дому…".
Когда же на сцену выходит Ёжик, полярность публичного восприятия меняется. Почти всем женщинам Ёжик нравится. Они, в сравнении с этой милой толстушкой, чувствуют себя Дюймовочками с обильным налётом журнальной голливудности. Мужчины же, напротив, видя в телесах Ёжика своих жён, начинают, втихаря позёвывая, скучать. И только Рубенс, меланхолично вздыхая, восхищенно взирает на её пышные формы, совершенно не обращая внимания ни на профессионально выполняемые шпагаты с пируэтами, ни на великолепные гранд батманы.
"Наше шоу продолжается, Господа!
Если вы вдруг заскучали – вам сюда.
От стройного Парижа и до Еревана
Все мечтают о…, – в этом месте MC делал интригующую паузу… Звучат литавры, и тяжёлый, словно локомотив, звук проникает в Ваш мозг, заполняя собой каждую клеточку Вашего тела. И когда уже начинает казаться, что сейчас Ваша душа извратится наизнанку, именно в этот момент (но никак не раньше) диско-балабол загробным жизнеутверждающим голосом (ни дать, ни взять – Левитан) вещал: – дискотеке Ватикана".
Как правило, сей незатейливый приёмчик оказывал потрясающее воздействие на посетителей дискотеки. Их потрясало, плющило и колбасило. И даже тамошние завсегдатаи после этого момента неприятно поёживались.
Официант, налив чуть больше, чем этого требовал этикет, услужливо отпил из бокала и гордо застрелился. Приняв на грудь текилку с джин-тоником, наполовину разбавленную портвейном с мартини и приправленную для запаха самогоном, приготовленным в подвалах Ватикана (раньше там развлекалась инквизиция), Константин закурил. Аритмичный хаус и негромкий рэйв ласкали его совершенный слух. Ноги, независимо от своего хозяина, стали выписывать кренделя, и, чтобы дать им волю ("Я пришёл, чтобы дать вам волю"), он встал из-за стола и приобщился к танцующим.
Любителей танцевальных па на площадке было немного, и DJ благодарно ему подмигнул, а МС со скоростью пулемёта прострочил в честь его выхода на данс-пол поэму рэпа, которую умудрился втиснуть в четыре такта межкуплетного пространства славной песни ног.
Через двадцать одну минуту на сцену вышел глава католической церкви и стал распевно читать псалмы. Псалом за псалмом. Псалом за псалмом: "Микросхема отсутствия лошадей – это нечто сродни религии Вуду. Она есть, а для чего – непонятно. Лишь немногие избранные смогли проникнуть в тайное знание микросхемы отсутствия лошадей и, познав его, остались там навсегда. Наркотическое похмелье и религиозный психоз – ничто по сравнению с микросхемой отсутствия лошадей. Зомбированные существа, некогда бывшие большими и маленькими собаками, добрыми и бойцовскими кошками, образованными и плюшевыми людьми, научились, пребывая в чёрных дырах, преобразовывать их энергию в классическую яичницу-глазунью (правда, только из двух яиц, но зато в неограниченном количестве). Для них не составляет совершенно никакого труда сделать из макро микрокосм, изменяя размеры вселенной, но, при этом, оставляя её значение неизменным. Кстати, они регулярно проделывают с нами такие штучки, но, поскольку значение вселенной остаётся постоянным, мы не замечаем происходящих изменений. Микросхема отсутствия лошадей. Она (хочешь ты того, или нет) есть и мне думается, что это панацея".
Похоже, ди-джея эта песня утомила ещё до того, как началась, и он решил сопроводить её ритмическим рисунком, отдалённо напоминающим реггей. Получилось забавно: папа проповедует слово Божье, а DJ просвещает ноги ритмом. Так и живём. В танце религиозного просвещения.
…Не верьте Ницше, сказавшему, что Бог умер. Рядом со мной танцевал шестирукий Шива. В каждой его руке было по сигарете. Наверное, Бог любил покурить. За Шивой, жеманно вращая бёдрами, довольно удачно косил под голубого педераста нетрадиционной сексуальной ориентации Зевс Громовержец. Я видел, как он, подтанцовывая, подошёл к Прометею и подарил ему зажигалку "Zippo". Иуда из Кариота тщетно пытался занять у кого-нибудь тридцать монет. Не хватало на марафет. Иисус Христос не одобрял кокаиновых пристрастий Иуды, но дал тому искомую сумму. Безвозмездно. Травись на здоровье. Позже, когда Иуду замели с кайфом итальянские менты (обдолбившись, тот пошёл по Риму в поисках приключений), он, не колеблясь, рассказал карабинерам, кто, когда и как помог ему в приобретении кокаина. Сдал-таки, паразит. «Бог ему судья» говорите? А если Бог не желает никого судить? Должен же кто-то призвать суку к ответу? Впрочем, это буду не я. Ленин не танцевал. Он, мусоля с Муссолини кофе с коньяком, пытался закончить бесконечную партию в одноклеточные шашки с Гитлером. Лидер третьего рейха был белокур, кучеряв и безус, отчего, хоть и отдалённо, но всё же напоминал своего оппонента, взиравшего некогда на нас с октябрятского пятиконечного значка. За столиком рядом, Будда вёл нескончаемо-пространственную философскую беседу с маркизом де Садом. Доктор Фрейд предлагал Маяковскому украсить залупу пирсингом с татуировкой. Его нисколько не впечатлил внушительных размеров член горлопана-бунтаря, который был упичкан шарами и шпалами. Не член, а кукурузный початок. Когда поэт обзавёлся собственным солнцем, то, не сожалея, произвёл с помощью огнестрельного оружия частичную, но углубленную трепанацию собственного черепа, выпустив свои мозги на свободу.
Свобода. Именно этим словом можно обозначить состояние души и тела обитателей дискотеки Ватикана.
И только один Один тщетно пытался отогнать от себя бестелесный и от этого надоедливый, словно муха, вездесущий дух Мао.
Тайна маленького города.
Вернувшись домой и обнаружив в нём вместо Иваны, ворох распечатанных, но не прочитанных писем (читать чужие письма неприлично), Костик ушёл в запой. С собой он позвал меня.
Теперь я нахожусь в Мисхоре, не знаю, куда подевался Костик, но точно знаю, что трезвые мысли почему-то приходят в голову обязательно с бодуна.
Мисхор – милый и достаточно уютный посёлок. Однако поймать в нём машину после двух часов ночи – дело такое же гиблое, как спастись от Фредди (чуть было не написал Меркъюри) в «Кошмаре на улице Вязов», а посему я торчу на автобусной остановке, как бельмо на глазу, в ожидании любого вида транспорта. Какого угодно. Лишь бы ехал. В кармане у меня столько денег, что я вполне могу позволить себе купить какой-нибудь «Запорожец». Но его нет и, судя по всему, не предвидится. Придётся дожидаться утра. «Утро туманное, утро седое…», – запел я, устраивая своё тело в горизонтальном положении на довольно узкой лавочке. Настолько узкой, что впору сразу лечь на бетон, потому что тому, кто на ней уснёт, просто положено с неё свалиться.
Перед тем, как расположиться на трапециевидной скамейке, я, конечно, попытался зайти к Светке. И даже зашёл к ней. Дверь мне открыли (спасибо), но дальше, простите, никак. И это самое «никак» произошло из-за того, что я с ней спал. И делал это хорошо. До тех пор, пока не прекратил свои сексуальные домогательства и не потому, что завязал, а просто оттого, что нашёл для них другой, более интересный объект.
Ну, что ж, час мести пробил. Давай, Светлана, гони меня, как вшивую бездомную собачонку для того чтобы понял я, какую женщину не оценил и не долюбил я какую женщину. Хотя, будь я на её месте, то поступил бы с точностью до наоборот. Чтобы, проснувшись утром в её тёплой постели и осознав свою исключительную ничтожность, умереть от всепоглощающего стыда. Но сделать это мне не дал майор милиции, который разбудил меня на автобусной остановке, сказав: «Что ты тут делаешь?» Всё-таки, я уснул на этой узкой лавочке, а, уснув, упал с неё, а, упав, не поднялся, потому что был пьян, как свинтус невменяемый.
И вот я еду в ярко-желтом, как канарейка, ПМГ в Алупкинское отделение милиции за то, что спал на бетоне. Правда, во всём этом хозяйстве есть и положительные стороны, а именно: я, наконец-то, куда-то еду.
Продержав в обезьяннике около четырёх часов и не выдвинув против меня никаких обвинений, меня отпустили на все четыре стороны. Глупо наказывать человека за то, что тот просто спал. Пусть даже не очень тверёзый и не в совсем подходящем для этого месте.
Пошёл я туда, где наливали. И интересовал меня, отнюдь, не лимонад. Помню только свой путь к ближайшему кафе и свои первые сто пятьдесят грамм водки, предусмотрительно разделённые на три равных части. Всё остальное словно в тумане.
«Утро туманное, утро седое…» Из тумана периодически выплывали и оседали в моей голове не челны Степана Разина, а вещи более обыкновенные. Хотя, если бы я увидел в тот момент вышеозначенного гражданина на расписных водных средствах передвижения, то этому совершенно не удивился бы. Вместо него я, как бы наблюдая за собой со стороны, видел сначала такси, в котором я куда-то ехал, затем ресторан в районе перевала, после чего опять такси, с помощью которого моё тело добралось до Симферополя.
Железнодорожный вокзал. Кассы. Перрон. Поезд. Вагон-ресторан. И, наконец, какой-то город, в гостинице которого я остановился.
Город был настолько мал, что впору обозвать его просто городком, и даже на карте местного значения его не было. Город был, но его не было.
Я проснулся. Головушка бобо, во рту бяка, а тело – пластилин – лепи, что хочешь.
Пришли скульпторы и, не смотря на то, что в целом они были достаточно обходительны и крайне вежливы со мной, постучать в дверь они забыли, а может быть, у них это не заведено, и предупреждающий стук в дверь для них являлся анахронизмом.
Дав мне чего-то понюхать, чего-то глотнуть, они вылепили-таки из меня нечто очень похожее на человеческий организм.
– Здравствуйте, – сказала миловидная молодая женщина, почти девчонка, – Как добрались?
– Добрый день, – ответил я, – спасибо, не помню.
– Вечер, – поправил меня один из её спутников.
– Что вечер? – не понял я.
– Сейчас вечер. А именно: двадцать три часа по Москве, – уточнил другой и раздвинул тяжёлые шторы.
– Подождите. Получается, я проспал целые сутки? – не поверил я, потому что сон алкоголика тревожен и краток, и мне не раз, на собственном опыте приходилось в этом убеждаться.
– Если быть более точным, то неделю.
– Что!? – закричал я, удивлённый даже не столько тем, что целая неделя выпала из моей жизни, словно птичка из открытой клетки, опьянённая воздухом свободы и склеившая ласты от внезапно нахлынувшего на неё счастья, сколько тоном, каким это было сказано. Как будто речь шла о двух-трёх часах, максимум.
А, между тем, я лишился целой недели драгоценного времени. А сколько можно было бы выпить за это время или сделать массу других полезных вещей?
– Не расстраивайтесь, – произнёс тоном философа третий, самый старший, – у Вас ещё будет время наверстать упущенное.
– Время не воротишь, – грустно и не менее философично заметил я.
У меня перед глазами вырос образ постоянно шагающего маленького человека. Шагал он исключительно вперёд.
– Ну, почему же? – с тайной в голосе, глазах и ещё чёрт знает в чём, возразила мне девица.
Наверное, она была ведьмой. По крайней мере, мне так показалось, и ей сейчас не хватало только метлы.
Ночь прошла в разговоре, из которого я понял, что в этом городе я появился не случайно и, что мне отведена в нём некая особая миссия, в назначении которой я до конца так и не разобрался.
Как-то без предупреждения, прямо так же, как его предшественники, вломилось в номер утро. Я подошёл к окну. Оказывается, гостиница, в которой я остановился (или меня остановили?), стояла на берегу моря и, открыв окно, я полной грудью вдохнул свежий морской воздух. Запахло крабами. Из номера. Это, практикуя отсутствие стука в дверь, из гостиничного ресторана принесли мне завтрак. Кто позаботился о моём желудке, я не знаю, но догадываюсь. Лишь приступив к поглощению экзотических даров моря, я понял, как сильно проголодался. Шутка ли? Не есть целую неделю. Эдак и загнуться не долго. Крабов было много. Так много, что ими можно было накормить если не армию, то, наверняка, флот. Все они были очищены от панциря, и только три рака, ходящих боком, пребывали на блюде в первозданном, но варёном виде. Наверное, сделано это было для того чтобы я смог насладиться самостоятельной разделкой крабов. Но при таком огромном количестве очищенного мяса, только трудолюбивый идиот станет заниматься разделкой членистоногих представителей морской фауны.
Пока я завтракал, меня не беспокоили, но на коду моего общения с прекрасным (кто скажет, что еда – это не прекрасно?) в мой номер (естественно, без стука) вошла ведьмоподобная дама (если не она, то её мама точно была ведьмой) и предложила мне прогуляться по городу.
Городок выглядел весьма цивильно. Только удивляло огромное количество храмов, а также полное отсутствие кошек и рекламы. Реклама – признак цивилизации, но, несмотря на её отсутствие, город жил вполне полноценной жизнью и в нём водились, знаете ли, рестораны и кинотеатры, дискотеки (две) и магазины, а также цирк, зоопарк, три школы и огромное количество баров, разместившихся в подозрительной и достаточно опасной близости от учебных заведений, дающих среднее образование.
– Я кое-что из Ваших рассказов читала, – сказала мне Жанна. Как выяснилось, именно так звали мою спутницу.
– Да? И что же?
– «Небо», «Просто так…» и ещё…, – она, вспоминая очередное название, устремила свой взгляд в небо, просто так ей удобнее было вспоминать, – «Обрывок газеты» и «Интервью с осенью» или «Скука». Я не помню.
– Есть и то, и другое, – меня удивили столь обширные познания в области названий моих рассказов. Осталось выяснить, насколько хорошо она запомнила их содержание, – и что Вам в них больше всего понравилось?
– Общее впечатление, – прекрасный ответ для отмазки, но затем, сказав: – только мне не понятно, почему хорошие стихи пишутся с помощью ненаписанных слов? – она удивила меня. Значит, всё-таки, она действительно читала их. Мои рассказы. По крайней мере, один из них.
– Я, как-то слушая достаточно посредственную песню с текстом подстать ей, подумал: если бы в нём не было отдельных слов, то он, по крайней мере, не вызывал бы у меня чувства отвращения. Но они, эти слова, были. А слово, как известно, не воробей. Вот я и подумал, что для того чтобы написать хорошие стихи, нужно с особой тщательностью отбирать слова, избегая ненужных.
– Как же отличить нужное слово от ненужного?
Вдруг, ни с того ни с сего, стало темно, как ночью. Как будто город был одной большой комнатой без окон, и в ней кто-то выключил свет. Это в полдень-то. Похоже, тут всё, везде и всегда приходит без стука. Жанна, как-то сразу, словно кошка перед прыжком, собралась и, сказав всего три слова: «Беги за мной», побежала. Мы бежали по внезапно опустевшему городу, забегая в подворотни проходных дворов и вновь выбегая на центральные улицы. Моё дыхание стало частым, а сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Для того чтобы спокойно посидеть (можно прямо на асфальте), а не бежать непонятно куда и непонятно от кого. Казалось, мы бежали вечность, пока, миновав очередной проходняк, ни очутились возле небольшой церквушки. Подбежали к дверям. Затарабанили в них. Сначала она, я после. Нам открыли сразу же.
В церкви было настолько много людей, что впору сравнить её с переполненным автобусом. Люди самые разные. От бомжей до вполне респектабельных бизнесменов, которые неустанно куда-то звонили, о чём-то кого-то спрашивали и, получив ответы, вновь куда-то звонили.
– Что всё это значит? – мой вопрос звучал вполне естественно, но присутствующих он поверг в шок.
– Кошки, – спокойно произнесла Жанна.
– Что кошки? – я люблю кошек и не хочу, чтобы эти милые животные были замешаны в какую-нибудь грязную историю.
– Да. Грязнее не придумаешь, – словно прочитав мои мысли, продолжала она, – кошки в нашем городе – это души невинно убитых. И приходят они для того чтобы мстить живым за то, что те не смогли или не захотели предотвратить их нелепую смерть. Но, предупреждая о своём приходе, они делают так, чтобы днём наступала ночь.
– Всё это очень похоже на бред.
– Это в их власти. Нашим миром правят кошки. Поверь.
– Почему мы прячемся от них в церкви? – и, поняв бессмысленность своего вопроса, я продолжил: – Погоди. Дай я сам догадаюсь. Наверное, потому что это единственное место, где от них можно спрятаться. Я угадал?
– Да. Только не спрятаться, а спастись.
– Но мы пробежали мимо двух синагог и одной мечети. Почему мы не могли от них укрыться там?
– Каждому воздастся по вере его. Спасает не храм, спасает вера. А мы с тобой православные.
Позднее из рассказа Жанны я понял, что город их нарисованный. Вернее, он был написан каким-то любителем мистики средней руки, и мистификатор сей, должно быть, очень не любил кошек, коль наделил последних такими ужасными и кровожадными повадками, что впору, опечалившись этим прискорбным фактом, удавиться.
– Откуда такое огромное количество кошек?
– В нашем городе есть маньяк-убийца. Это его рук дело.
– А куда смотрит милиция?
– У нас нет милиции. Более того, кроме нас четверых, ну, и, конечно, тебя, в городе никто о ней не знает. Они вообще не слышали такого слова «милиция», – я, почему-то этому не удивился, но зато обрадовался-то как.
– Судя по всему, забыть о ней постарался ваш создатель?
– Он о многом позабыл написать, – сказала Жанна и в сердцах добавила: – писака.
– И, что теперь делать?
– Ты должен переписать нашу историю, – в её голосе таилась надежда, – Согласен?
– Я попробую, – замялся я, и не потому, что набивал себе цену, а, просто помня о той массе претензий, которые мне предъявляли герои моих рассказов, появившись однажды в моём доме, я опасался неудачи. Слишком много поставлено на карту.
– Попробуй, – надежда, став явной, переросла в уверенность.
– Попробую, – повторил я.
Для того чтобы переписать, не грех было бы знать, что именно я должен переписывать. Основное место в рассказе отводилось маньяку, который явно не дружил с головой и мочил народ направо и налево, а для пущей сексуальности обладал неотразимой внешностью, на которую клюнула добрая половина его потенциальных жертв. Несложно догадаться, все они принадлежали к прекрасной половине человечества.
Я, попивая кофе и пыхтя сигаретой, с третьего захода приступил к переделке того, что принесло столько страха обитателям городка. Но, как я не пыхтел, мне не удалось даже просто начать повествование. Я думаю: виновато здесь время. Время суток. На бумаге был вечер… и не только на ней. А, как водится, утро вечера мудренее.
Зеркало по плотности напоминало воду. Я аккуратно, чтобы не разбить, входил в него для того, чтобы затем войти в следующее. Проделать эту несложную, но крайне ответственную процедуру я должен был пятнадцать раз. И только пройдя все пятнадцать зеркал, я становился счастливым обладателем заветного ключа от какой-то непонятной, но не менее заветной южной стороны Ай-Петри, открыв которую, я проснулся. Утро мне улыбалось своей мудростью.
Я работал, как проклятый по три-четыре часа в сутки. Если я пытался корпеть над бумагой сверх этого лимита времени, мои мозги объявляли забастовку, отказываясь выполнять свои функции. Через три дня рассказ, больше напоминающий очерк о жизни провинциального городка, был готов. Я просто переписал содержание злополучного рассказа, убрав из него всё, что касалось кровожадного психопата. Кошек я оставил, но наделил их мягким характером и кротким нравом. Не кошки, а ангелочки. Только без крылышек и на четырёх лапках.
Немного подумав, решил, что будет лучше, если жители этого многострадального города так и не узнают, что есть в несовершенном мире такое понятие, как милиция. Пусть хотя бы один город на Земле живет без органов надзора. В мире и согласии. Утопия? Утопия, но зато какая!
Жанна вошла сразу после того, как я поставил точку. Взяв в руки пять тетрадных листков, исписанных моим мелким корявым почерком, она уселась в кресло и углубилась в чтение. Через полчаса, положив на стол мой очерк, произнесла: «Подождём» и, ничего не говоря, вышла из номера.
Ждать пришлось не долго. Неделю спустя кошки вновь заставили день стать ночью. Все мои старания коту под хвост. И когда они, разочаровавшись в происходящем или во мне, собрались отправить меня обратно, я решил взять инициативу в собственные руки.
– Мне нужен пистолет.
– Зачем? – логично спросили у меня.
– Я убью его. К тому же, у вас нет милиции. Так что мне ничего не угрожает.
Мои доводы оказались железными и мне выдали инструмент. Для начала я попытался подарить смерть жестяным банкам. Однако банки были начеку, и первый раз я попал по юркой и увёртливой жестянке лишь на исходе третьей обоймы. А на исходе недели, я уже достаточно уверенно стрелял, поражая четыре предмета из восьми выстрелов.
Направляясь на мокрое дело, я, чтобы как-то унять нервную дрожь, купил в лотке три банана. Люблю бананы. Кожуру, за неимением какой-нибудь ёмкости для мусора, аккуратно положил на пол перед квартирой моей потенциальной жертвы. Полон решимости, я нажал на кнопку дверного звонка.
Меня не ждали. И это хорошо, потому что, знай он о моём визите, не избежать мне временных трудностей, достающихся, как правило, во всех американских боевиках, главному герою. А так, ничего. И я, словно Гай Юлий Цезарь, который «пришёл, увидел, победил», пришёл и убил сразу двух зайцев.
Первым зайцем был маньяк, которого я подстрелил словно куропатку с первого же выстрела. На всякий случай я, как заправский киллер, сделал контрольный выстрел в голову. Мне бы очень хотелось написать, что его мозги заляпали стену и потолок, но из раскуроченного затылка лишь лужа чёрной крови (и, вообще, изображение было чёрно-белым) растекалась по полу.
Всё могло бы произойти именно так или почти так. Но, по какому-то совершенно нелепому стечению обстоятельств, в моё идеальное, с точки зрения криминалистов, убийство вкралась досадная опечатка, из-за которой, всё случилось несколько иначе.
Дверь мне открыл блондинистый крепыш в халате, с голыми ногами, обутыми в домашние тапочки. Боясь привлечь внимание соседей, я попытался войти в его квартиру. Но он сам вышел на лестничную площадку, многозначительно и не менее загадочно улыбаясь. Может быть, он принял меня за голубого? Не знаю. А уточнить мне не дала кожура банана, поскользнувшись на которой, он полетел вниз по ступенькам и сломал себе шею. Человек со сломанной шеей – не жилец на этом свете.
Зайцем за номером два стали отомщённые и таким образом успокоившиеся души невинно загубленных людей. Кошки исчезли, и страх вместе с ними.
Стометровка включала в себя дистанцию в сто пятьдесят метров, и я легко, словно удачно пошутил, преодолел её, потратив на всё это хозяйство каких-то пятнадцать целых и восемь десятых секунды. На финише меня ждал приз с майором милиции в руках, который проговорил: «Что ты тут делаешь?».
Проснулся. Всё-таки, я уснул на этой узкой лавочке. А, уснув, упал с неё. А, упав, не поднялся, потому что был пьян, как свинтус невменяемый.
Лида.
Что делает мужчина, когда узнаёт, что его оставила любимая женщина? Некоторые пытаются расстаться с жизнью при помощи верёвки или алкоголя, наркотиков или ножа, витаминов группы "В" или каких-нибудь других антидепрессантов, а Костик, вспомнив народную мудрость про клин клином, просто пошёл по бабам. Ходил он не долго, но настолько активно, что в мыслях его светлых и непорочных стали сгущаться коварные сумерки.
Ветер. Он легко разогнал тучи в голове и отправился наводить порядок в моей несовершенной душе. До него там порезвилась память. Я бродил по знакомым, но давно покинутым местам и ел мороженое на палочке. Ржавый лист шуршал несмело под неспелыми ногами. Стихи – это тоска по родине. Но я не поэт, и мне неведома ностальгия. Моя родина, словно пачка сигарет, всегда со мной. Просто приятно, ничего не делая, идти по солнечным осенним дорожкам, есть пломбир за двадцать копеек, и слушать запиленную пластинку опавшей листвы. Она шуршит под ногами спешащих куда-то прохожих. В старом парке звучит музыка.
На бумажном экране белокурой памяти Костика вполне логично спроецировался образ помятого лица покойного Сергеича. Но, порвав воспоминания Константина, в его бытность не спеша, вошла она. Она шла ему навстречу по тихой аллее парка и держала в руках осень. Её звали Лида. Он познакомился с ней неделю назад. А вчера она перебралась в его убогую холостяцкую берлогу.
Через три часа после того, как она переступила порог, берлога стала вполне милым – рюшечки, цветочки – жилищем. Костя сходил в магазин, купил бутылку портвейна и, не открыв оной, затащил Лиду в постель. Ночь выдалась бурной, беспокойной, и угомонились они лишь в тот час, когда добропорядочные граждане, позёвывая, собирались на работу.
Разбудила меня канарейка в клетке. Её принесла с собой Лида. Солнце зацепилось за ржавую трубу котельной. Перелётные птицы укладывали чемоданы, собираясь перелетать в тёплые страны. Канарейка обзавидовалась и склеила ласты. Было около десяти часов утра. Мой сорокалетний организм стоял, как часы, показывая 12:00. Я прошёл на кухню, отымел там Лиду, замутил себе чайковского (великий голубой в данном случае был зелёным), уселся на табурет за кухонным столом и предложил ей:
– Давай, пойдём в кино.
– Что, деньги девать некуда?
– Ну, тогда давай просто куда-нибудь пойдём, – я глотнул чаю и закурил, – посмотри на улицу. Красота-то какая!
Она выглянула в окно и невозмутимо произнесла:
– Посмотрела. Что дальше?
– Лида.
– Что?
– Ли-да!
– Ну, что?
– Мне просто нужно до тебя докричаться.
– Ну, хорошо, хорошо. Считай, что я тебя слышу, – она подошла, повисла у меня на шее и прошептала прямо в ухо: – куда пойдём?
Костик, напрочь позабыв о дыхании осени, думал теперь только о её горячем вопросе. И, действительно, куда пойти? В ванную под душ, в комнату на диван, или остаться здесь?
Совокупление было недолгим. Пустые стаканы, чашка с недопитым чаем и маленькая глиняная вазочка с какими-то синими осенними цветами свинговали в такт совершенным движениям на кухонном столе. И только забытая бутылка ординарного портвейна одиноко мычала блюз. Она, по обыкновению, стояла на полу. Пол был паркетным и не очень чистым. Кроме бутылки портвейна, на нем проживали хлебные крошки, корм для кошки, старая, наполовину прочитанная газета "Правда" и три тараканьих трупа, обведённых, как на месте преступления, мелом. Мел был специальным и являлся причиной смерти бедных насекомых.
Взгляд невольно коснулся газеты. Прямо под шапкой, большими жирными буквами красовалось название: "Гибель маленьких беззащитных насекомых". Я поднял газету и стал близоруко водить носом вдоль строчек по её коммунистической поверхности. Тексту в статье было немного и, если бы не его содержание, то можно было бы смело наплевать, растереть и забыть, но…
"…в квартире тов. Трав К. Щ. его сожительницей Лидией (фамилию установить не представляется возможным) были зверски убиты три таракана. Их безжизненные тела до сих пор находятся на кухне вышеозначенного товарища. В связи с чем возникает вполне логичный вопрос к компетентным органам: "Доколе в нашем обществе будет господствовать безнаказанность? И не пора ли товарища Трав К. Щ. назвать гражданином, привлеча оного к ответу?"". Там так и было написано: "привлеча". Я, словно собака, потряс головой. Газета не исчезла. Ну, и хрен с ней.
– Зачем ты их убиваешь? – спросил Костя, глядя на философскую картину половой смерти тараканов.
– Нет, пускай они на голову нам сядут, – съязвила она.
– Сначала цивилизация подарила нам тараканов, а потом научила нас воевать с ними посредством рисования магических окружностей, эллипсоидов и прочей геометрической хрени, – это говорилось уже не ей, а, скорее, просто являлось мыслями вслух, – Но ввязаться в войну – ещё не значит победить.
Из тараканьей философии меня вывел телефонный звонок. "Это тебя", – сказала Лида и подала мне трубку. Звонил Алик. Он вяло поинтересовался моим здоровьем и без всякого плавного перехода, с энтузиазмом приступил к своему:
– У тебя деньги есть?
– Есть. А что?
– Да я вчера напился, – он громко шмыгнул носом. Лида услышала этот звук и удивлённо подняла левую бровь, – похмелиться надо, – и, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений, членораздельно промямлил: – мне.
– Ну, приходи.
Алик появился достаточно быстро. Наверное, он не шёл, а бежал. Я разбавил его портвейном и послал за водкой. Не смотря на то, что на старых дрожжах его круто синяя прихватила, он желал продолжения банкета. Благо, магазин находится в моём доме.
Далее должна последовать повесть о настоящем человеке, который, будучи в мерцающем пространстве осени своим человеком, шёл из магазина, с трудом преодолевая тернии синей действительности в виде земного притяжения, мимо скучающих по заснеженным карнизам котов и распространял флюиды простого человеческого счастья. Он, словно Данко сердце, нёс водку! Пьяный человек счастлив, как вода, но беззащитен, как пластилин.
Пластилин – джаз. Имея определённые навыки, тебе достаточно легко удастся сделать из пластилиновой вороны корову или дворника с огромной пальмовой метлой, ветви которой беспечно произрастали на ритмичном побережье Ямайки, пока не были срезаны им для обеспечения своих производственных нужд. "Что, Сергеич, не лежится тебе в гробу?" – спросил Костя. "Лучше молчи. – Отвечал ему покойник, – Смерть, с точки зрения философии, занятие, конечно, интересное, но больно уж скучное. Подохнуть от скуки можно". И метёт поутру этот гений листопада дворы и подворотни, тротуары и аллеи, освобождая их от спектрального разнообразия опавших за ночь листьев и старых, потерявших что-то несущественное, но бесконечно дорогое, пожелтевших фотографий, а вместе с ними и от жалких (жалко их) остатков ночи.
Нарисуй мне трубу, попросил белый от зависти Сатчмо, и сыграй на ней лунную ночь полную окурков. Раньше он был профессиональным ночным собирателем бычков и теперь, имея славу и деньги, не один десяток белых пластинок и сольных девочек, тосковал по утраченному ремеслу. Выцветшие фотографии говорят о любви к покойному.
Алик пошёл за водкой. Этим сказано всё. Значит, будет праздник. С блевотиной, мордобоем и последующим похмельем. Приятного аппетита.
Звук восходящего солнца
спокойно возлегал над горизонтом,
не боясь быть потревоженным птицами
и прочими обитателями моря,
Рифма которого настолько нежна,
Что её не видно почти.
И мне смешно созерцать наличие горя
Так же, как сравнивать лёжа
(увы, в партере, не в ложе)
Текстильные достоинства шёлка и парчи.
Восточный вальс отточенный рабом
До совершенства
при помощи зубила с молотком,
как кот с прекрасной длинной шерстью
лежит на подоконнике довольный молоком,
но не довольный тем, что он
рождён котом.
А ни каким-нибудь попом
с ритмичной рожей
Растамана на берегах Ямайки,
что в принципе одно и то же
И образ жизни у них крайне схож.
Похож? Ну что ж. Похож.
И стоя в туалете в одном носке и майке,
судить укуренного кайфолова стиля регги
(но правильней: реггей)
Мне не с руки. "Скорей
Карету мне. Карету"
Иль сигарету.
Главное: скорей.
Потом, как потом (капли на лице)
Приходит ночь. Она не ждёт когда мы
В воспоминаньях оживём, как дамы,
С улыбкой вспомнив вдруг о наглеце,
Который мог, но почему-то не схотел,
А, может быть, хотел так, что вспотел,
И влага пота парню помешала. Он не сумел.
Хотеть – не значит мочь и наоборот:
Уметь – не значит умереть в желаньи.
Сознанье колебанья ожиданья.
Да что в любви он понимает? Обормот.
Скот. Жмот, но полиглот,
Осознающий смысл слова fuck…
И за отсутствием раскрытых окон
Разгневанные этим боги
Их пишут на стене, как факт.
Фактически – любить, что пить…
Однако надо к коде подходить,
И саксофон японца гадит в душу,
Но всё же лучше его слушать, чем не слушать
И пить, до боли значит что любить.
Любовь не зла –
Полюбишь и красотку,
А если с водкой –
Впору и козла.
После третьей, закусывая телевизионной рекламой с колбасой, Костик вдруг разрешился бременем литературного гения:
– "Трио из Рио".
– Что это? – спросил Алик.
– Название какой-нибудь группы.
Алик отреагировал мгновенно:
– А как тебе "Трое из Трои"? – его улыбка обнажила превосходное присутствие двух передних (через один) верхних зубов, – или "Четверо из четверга"?
– Ну, это уже метафизика.
– Хуй! Тает во рту, а не в руках! – продолжил метафизические эксперименты мой друг.
– Актуально, – сквозь смех произнёс я, – продай.
– Забирай и пользуйся, – Алик не страдал от безработности. Его тяготила беззаботица.
Как видите, я воспользовался его широким жестом. А что потом? Что будет после сонных рассветов, радуг сквозь дождь, дождя сквозь кофе и ленивых закатов? После дождя – я знаю – будут грибы, а после кофе – сигарета.
Две золоченных булавки, можжевеловые чётки и кот в мешке (и причём, ни какой-нибудь мистический, означающий чёрт знает что, а самый обычный белый кот, только в мешке) – вот и всё моё богатство. Кайф олова как раз и выражается в том, что оно не золото. Но какому-нибудь старателю невдомёк, что стойкий оловянный солдатик ценен в первую очередь своей оловянной стойкостью, а бестолковые алхимики до сих пор пытаются сварганить из него грамм-другой бесполезного золота. Глупые. Глупые люди. Они полагают, что сказки придумывают сказочники, а музыка создаётся для ног или для души, что, в принципе, одно и то же. Тоже мне – знатоки. Они знают "Что?", но не ведают "Где?" и уж, конечно, им невдомёк "Когда?". На все эти вопросы знал ответ один Владимир Ворошилов, но он вышел и не сказал когда вернётся.
"Нарисуй мне трубу или ночь, полную окурков", – сказал белый от зависти Сатчмо, а фотографии, гонимые седым ветром по аллеям старого парка, по-прежнему говорят о любви…
… просто о любви.
Пока мы пили на кухне, Лида сидела в комнате перед зеркалом и, занимаясь своей внешностью, что-то тихонько напевала. Отсутствие слуха и желание петь суть джаз. Я не напрягался, когда она пела какую-нибудь песенку-однодневку. Получалось у неё криво и поэтому красиво. Последняя, не поддающаяся определению нота на мгновение повисла в воздухе и бесшумно разбилась о пол…
Лида встала, включила музыку и вернулась к зеркалу. Она готовилась выйти в людские массы. Торопиться нам не приходилось. Я знал: она могла только своему лицу уделять часа три с половиной. Нежность плюс искусство. Нарисует что-нибудь над своим красивым зелёным глазом – не нравится – сотрёт и снова берётся за кисточку. Малевич плюс Пикассо! Два в одном. Вернее: в одной.
– Что это она слушает? – спросил меня пьяный Алик.
– Цезария Эвора.
– Ну, и мыло.
– А мне нравится.
– И что ты в ней нашёл? В Бразилии так поёт каждая дикая обезьяна.
– Значит, мне нравится…
– Как поёт каждая дикая обезьяна, – закончил за меня Алик. Но, не смотря на то, что он пошёл на попятную, я не сдержался и заметил:
– А ты, однако, сноб.
– Разве сноб стал бы пить дешёвое пойло? – намекнул он мне на портвейн, – да ещё среди дохлых тараканов, – он покосился в угол, где навсегда обрели покой три мушкетёра нескучного мира насекомых.
– Кстати, о птичках. На, – сказал я, протягивая ему газету, – читай.
– Где?
– Сразу под шапкой.
Алик покрутил по сторонам головой в поисках шапки, но, не найдя оной, упёрся неровным глазом своим в газету и с выражением, присущим только пьяным людям, стал декламировать:
– "Притонам в нашем обществе не место".
– Откуда ты это взял? – я отобрал у него печатный орган, в котором совокуплялись пролетарии всех стран, и с удивлением обнаружил, что статья с тараканами куда-то пропала, но на её месте появилась не менее интригующая информация.
Читаю: "…тов. Трав К. Щ. превратил свою квартиру в притон. Только что там, в пьяном бреду уснул некто товарищ Алик (фамилию установить не представляется возможным). Его безжизненное тело до сих пор находятся на кухне вышеозначенного товарища. В связи с чем возникает вполне логичный вопрос к компетентным органам: "Доколе в нашем обществе будет господствовать безнаказанность? И не пора ли товарища Трав К. Щ. назвать гражданином, привлеча оного к ответу?"".
Я посмотрел на Алика. Тот мирно спал, положив голову на стол. Его сильные руки безжизненно свисали вдоль туловища. Пьяный человек беззащитен. Тем и силён.
Похоже, газета постепенно начинала обзаводиться всеми навыками профессиональной гадалки – крайне сомнительное приобретение в моей размеренной жизни. И я решил избавиться от новоявленного "Красного Вестника Кармы". Немедленно.
Сначала вездесущую "Правду" я хотел сжечь. Но, вспомнив, что рукописи не горят, я терпеливо разорвал её на мелкие кусочки и педантично утопил в унитазе. С кармой только так и надо. Иначе она погубит тебя.
– Ты знаешь, что такое коленно-локтевая позиция? – спросил я Лиду, появляясь в комнате.
– Догадываюсь, – она игриво улыбнулась зеркалу, в котором находился я. "Или не я. Как там у Льюиса Кэрролла? Надо будет перечитать", – подумал я и задал ей провокационный вопрос:
– Мы ведь никуда не торопимся?
– А твой друг?
– Да он спит, как сурок второго февраля.
– А что у нас второго февраля?
– У нас ничего, а у них День сурка, – я подошел к ней сзади, наклонил и, подняв подол её халатика, молча вошёл в неё.
Молчал я минут десять. Затем меня сморило. Спал я как из пушки убитый. Снилась мне маленькая белая собачка с тщательно накрашенными глазами и аккуратным маникюром. Она пыталась подмести тараканов, но те всякий раз покидали совок и радостно бежали обратно к месту своей смерти. Периодически из унитаза выходила газета и с укоризной в голосе говорила: "Если бы ты меня сжёг, то сейчас я была бы птицей Феникс. А так я простая Афродита. Посмотри на меня. Ведь это правда", – и просила зажигалку. Я подносил зажигалку к её лицу, чиркал и, пока она прикуривала, в сполохах огня читал: "Правда". Бумажное лицо правдивой действительности было беззубым и являлось пределом мечтаний любого, уважающего себя дантиста.
Что-то непонятное, но гнетущее заставило меня проснуться. Я открыл глаза. Надо мной стояла Лида.
– Хорошо, что ты проснулся.
– А что случилось?
– Я ухожу.
– Почему? – Костя встал, нарезал тридцать три круга по квадратной комнате, сел на диван и: – чего тебе не хватает? Денег? Уюта? Или, может быть, внимания?
– Да нет. Я бы сказала, что внимания чересчур…, – она осеклась. Немного подумала и сказала, – понимаешь, ты меня заебал.
Заметки на полях пейзажа нарисованного чаем.
Можно писать музыку. Можно стихи и картины. Даже если писать с ударением на первом слоге, всё равно можно. Можно писать (вернее выписывать) вензеля на снегу или в унитазе, на воде или на небе. Обоссанное небо! В этой пошлости что-то есть. Возвышено подмоченное.
Письма, что больше месяца ждали Костика, были написаны рукой Иваны, но почему-то от мужского лица. Делать было нечего, и Константин, включив музыку к фильму "Амели", достал из открытого кем-то конверта сначала одно письмо, затем второе, третье…
Кафедра литературы. Операционный стол. На столе я. Они осторожно вскрыли мне пуп и по кускам, словно шахтёр, выдающий на-гора свою продукцию, извлекли из недр меня эту историю.
Я третий день сижу в столице вашей родины, но Москва об этом не знает. Приёмник источает редкий для этого города джазовый аромат. На кухонном столе среди пепельниц с окурками, зажигалок с газом, сигарет с табаком и кофе без кофеина гордо, словно египетский сфинкс, возлегает помоечный кот с вино-водочной кличкой "Шнапс". В его глазах (не кот, а маньяк какой-то) я прочёл следующее словоблудие:
Катя на работе, на работе Майя.
Со стены взирает Гурченко худая –
Похожая на Зверева. Красивая и злая…
Почём в Москве девчонки, я до сих пор не знаю.
На пятый день начал считать деревья. Насчитал четырнадцать. Затем окна в доме напротив. Странно, но ночью их становилось больше, чем днём.
Начало шестого дня внесло в мою серую обыденность некоторые коррективы. На снегу, между деревьями, крупными буквами было написано: "Милорад Павич – певец человеческого органа слуха", – многоточие следов исчезало на близлежащей дороге. Кто это натоптал, я не знаю, но готов подписаться под каждым его словом. Павич действительно явный лидер по количеству упоминаний об ушах в одном романе.
Уши, словно два пьяных партизана в лесу, заблудились в волосах. Случилось это оттого, что мои волосы забыли о радости общения с ножницами. И, как следствие, я стал похож на "запущенный сад" из старой песни. Запущенность превратить в идиллию аккуратно подстриженного английского газона взялась Майя – костюмер Сергея Зверева. Результат превзошёл самые смелые мои ожидания. Панк. Ни дать, ни взять – панк. Я панков (за исключением Clash) не люблю. Теперь я лысый ("а можешь всё наголо сбрить").
Я увидел её сразу, но заметил только в момент произнесения числа 21. Она стояла в двадцать первом окне дома напротив и смотрела на меня.
Маятник откланялся влево заметно сильнее, нежели вправо, отчего кукушка, оповещавшая о начале нового часа, делала это с малиновым опозданием на каждое лето. Последствия были непредсказуемы. То вдруг, ни с того ни с сего, посреди февраля все термометры, взбесившись, показывали плюс тридцать по Цельсию (и действительно становилось жарко), а то, небо, словно лицо юнца, покрывалось прыщами, и испуганные птицы надолго превращались в пешеходов. Этим беззастенчиво пользовались коты. Они гордо расправляли крылья и устремлялись навстречу солнцу, где их (почти всех) постигала участь Икара.
Икала корова,
Страдал пулемёт
В СВ одноместной тачанки.
"Долой анархистов!
Грёбаный в рот", -
Гласило тату на грудях у Анки.
А между ними (но только это между нами) был вытатуирован огромный фаллос – символ несбыточной её мечты – полной и окончательной победы коммунизма.
"Товарищ товарищу – друг, брат и товарищ", – красовалась бетонная надпись на фронтоне здания. Здание было выполнено в стиле "абстракция на тему социализма" и при ближайшем рассмотрении, отдалённо напоминало совокупление серпа с молотом.
В нём (здании, совокуплении или молоте) вольготно расположилось общество местных сатанистов. Сатанисты были с юмором или же просто полные придурки, что в данной ситуации – одно и то же. Их неформальность называлась "Рога и Копыта", отчего заставляла подумать о чёрте, находящимся на побегушках у товарища Бендера. Эдакий зиц-председатель Фунт с рожками на голове и копытами вместо обуви.
Она была банально красива. И её родители здесь не причем. Всё гораздо проще. Красивой её сделало моё близорукое воображение.
Я крутой поджарый чёрт.
Только росту небольшого…
Мои ноги колесом
и рожа у меня, прямо скажем, не Ди Каприо. Короче говоря, не нравлюсь я девчонкам. А ведь мне уже почти семнадцать.
После детального изучения своей внешности перед зеркалом, я пошёл на кухню, достал из морозилки курицу и, не размораживая, трахнул её.
Курицу венчала сигарета. Табачный дым, подобно сифилису, разъедает глаза и ноздри. С кухонного шкафчика на мою голову упал Новый Год, и я понял – детство кончилось.
Проходя из комнаты на кухню, она остановилась у зеркала и поправила важную, но несуществующую деталь своей причёски. Её кошка – странное красное животное с длинными волосами – не разрешала ей курить в комнате. Курить приходилось на кухне. Выпустив первую струю дыма в открытую форточку, она задумалась. Её мысли, устремившись вслед за сигаретным дымом в морозное утро, замерзали и на воле становились беспомощными снежинками.
Их отогрел чей-то настойчивый взгляд. Она очнулась оттого, что кто-то на неё смотрел.
Ты красивая, – сказал я ей, – Красота спасёт мир.
Красота мир уничтожит, – возразила она.
И тогда некто третий мелом под сердцем написал: "Спасая мир, красота его уничтожит". Но я ему не поверил, потому что тётя Кдара из соседнего подъезда (он для меня – другое измерение) сказала, что нельзя писать под сердцем мелом.
Нарисовав на полях тетрадки забавную рожицу (ну, вылитый Пушкин. Только лысый), я пошёл пить Пейзажи Нарисованные Чаем.
Ивана. 20.02.02 г. Москва.
Чужие сны.
Царство песка, солончаков и гладкой воды – это Керчь. Этот город я не люблю. Но обгоревшая тушка, попавшего в аварию Гагарина, упала на закрытую территорию керченского горгаза, тем самым навечно вписав золотыми буквами, имя этого многострадального города в скрижали времени. Нещадно палило солнце. Но это не мешало всем пионерам Керчи, выстроившись в огромную очередь, совершать хадж на правоверный горгаз, где они отрывали и тут же съедали по кусочку от первого космонавта Земли. «Во имя Гагарина, Белки и Стрелки. Салют!». Параллель с употреблением внутрь тела Христова во время причащения очевидна, но почему мне приснился этот сон, который к тому же был не моим, а Майи, хоть убей, непонятно.
Я проснулся в лебедином доме. Ни в каком-то абстрактном, а в самом настоящем фанерном домике для лебедей. Кругом дерьмо…, пардон, помёт, вплоть до мыслей, не говоря уж о голове и её содержимом. Хотя о каком содержимом может идти речь, если накануне, ближе к ночеру я съел пол-литра самогона, изготовленного какой-то народной целительницей при помощи не только браги, но и карбида. Голова не работает, и трепещет, готовая выпорхнуть на волю из плена хилого, но загорелого тельца, душа.
Душа – это лабиринт. Простой незамысловатый лабиринт одной истории из ржавых труб. Есть, конечно, пара-тройка коварных тупиков, но это скорее для пьяного Минотавра, обитающего в предсказуемом хитросплетении труб, а не для очищения души нашей грешной, как ревностно утверждают приверженцы испанской инквизиции. К тому же легендарный герой греческой мифологии, поселившийся в потёмках эфемерной человеческой инстанции, издох. Испустил дух. Осталась только ржавчина. Она медленно, но верно разъедает всё. Даже то, что не поддаётся коррозии. И лишь лишив этот лабиринт своей нелогичной стройности, проев плешь в относительном неблагополучии идиллии темноты, она приводит душу к свету. Душа – это сгоревшая и возрожденная из пепла птица Феникс.
На скамейке, рядом с Зеркальным озером спят Алик с Костиком. Подле них стоит початая, словно позднее утро, бутылка самогона. Остатки роскоши. Я тихо, чтобы не разбудить, подкрался. Откупорил. Выдохнул и выпил. Хорошо… Хотя… Нет. Плохо. Очень плохо. Отвратительно. Хуже я чувствую себя, только когда приходится слушать песни в исполнении Юлиана.
Я стал на четыре кости и начал травить рыбу.
Что, не пошла? – это очнулся Костик.
Эээ, – проскрипел я и выдал рыбам новую порцию блевотины.
Значит, не пошла, – философски констатировал он и приложился к бутылке.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться: он, не наученный моим горьким опытом, последовал моему печальному примеру.
Что вы там делаете? – подал голос Алик.
Эээ, – проскрипел Костик и выдал рыбам очередную порцию блевотины. Я не преминул составить ему компанию.
Глядя на наши дружные "души прекрасные" позывы, Алик – по жизни натура довольно впечатлительная – не выдержал и присоединился к нам. Действия его являли собой отнюдь не дружеский акт, а скорее были простым проявлением брезгливости. Утончённый тип.
Утончённость – это когда пиво в тебя уже не лезет, но при этом ты испытываешь чувство нескончаемой жажды. Правда, это больше похоже на ненасытность. Хотя, если ненасытность испытывает натура утончённая – это уже утончённость.
В детстве я любил свою Родину, пионерскую организацию и "Искряк" – дешёвое (рубль сорок) шипучее вино. А не любил, когда моя мама ругалась. И боялся смерти, чем нисколько не отличался от своих сверстников. Отличие заключалось в другом. Я собирался стать кем-то очень похожим на Ленина для того, чтобы после смерти лежать в мавзолее. Таким вот незатейливым образом я намеривался обмануть смерть. Теперь из всех моих детских любвей и страхов осталась лишь любовь к "Искристому" – дешёвому шипучему вину. От него остались только воспоминания: «Искренне – это обожравшись Искряка».
Обычно, люди, покидающие вечно зелёный парк дворца графа Воронцова, испытывают два полярных чувства: первое – это чувство глубокого удовлетворения (ну прямо, как Л. И. Брежнев), а второе: вполне причинной грусти от расставания со сказкой. Потому что подснежники в феврале можно раздобыть не только в двенадцатимесячной сказке, но и в Ялте.
Покидали мы гостеприимный парк без чувств. В том состоянии, когда мышцы тела непроизвольно сокращаются, заставляя руки-ноги жить отдельной от головы жизнью. Отходнячёкс.
Автобус.
Мы плыли на шикарной, словно сорокалетняя Софи Лорен, яхте. Только паруса были похожи на потрёпанные совокуплением презервативы. Штиль. И солярка, как назло, скончалась. Океан ей ластами. А до ближайшей АЗС грести миль десять. Не меньше. Но работать вёслами было лень и, отдавшись в руки провидения, мы закурили. Первую пепельницу мы проворонили. Пришлось ждать следующей. Благо, море не страдало от их недостатка. Сложнее всего было сразу троим попасть в узкое горло пеплопринимающего сосуда. А сделать это было необходимо. В противном случае, всё становилось малозначительным фактом из жизни Наполеона в костюме Карлсона, наблюдающего в полевой бинокль под Аустерлицем за тем, как Констанция на велосипеде тщетно пытается смыться от трёх каннибалистых мушкетёров. Перекусив на скорую руку, они уселись перед телевизором. Пластмассовое кино. Я уже видел этот фильм. Ничего фильмец. Потянет. Поэтому, когда ко мне подошла Галина Галимая, ассистент режиссёра по кастингу, и предложила роль именно в нём, я с радостью согласился. Мотор. Поехали. Диалог пластилиновых героев красочной полиметиленовой действительности:
Ты знаешь, я могу читать по глазам, – сказал Алик Костику.
Ну и что? – встрял я вне очереди в разговор.
А то, что я сейчас читаю его, как книгу, – сообщил мне он и перевернул страницу.
Ну и что?
Что "что"?
Ну, и что ты там прочитал?
Что он либо принимает наркотики, либо очень сильно устал.
Я смертельно устал принимать наркотики, – открыв глаза, произнёс Костик и снова закрыл их. Я только сейчас заметил, что его глаза были закрыты.
Алё, – так я иногда зову Алика, – а ты, случайно, не Рентген или, может быть, ты читаешь по векам, как хиромант по руке?
Что такое? – скорчил обиженную добродетель Алик, – похоже, кто-то сомневается в моих экстрасенсорных способностях?
И в мыслях не было, – я попытался вложить в эту фразу весь свой сарказм. Не получилось.
"Таксопарк", – меня разбудил бодрый голос дирижёра автобуса. Странно, но теперь я видел сон Виктории. За что наказал меня Повелитель Снов, лишив своих собственных сновидений? Если не считать общения с иглой и бутылкой, то я веду образ жизни праведника и никого не трогаю. А если кого и убиваю, то только себя. Хотя, Иван Всемогущий, после стакана портвейна, сказал мне: "Самоубийство – грех".
Грешным делом мы худо-бедно добрались от остановки до моего дома. Тысяча метров хилого, убитого надеждой добра. Как же труден путь домой.
Все нычки у мамы я вскрыл и выпил, а восстановить их она ещё не успела. Но нас не так-то легко сбить с выбранного пути… Косметический столик моей сестры. Ну, чем не бар? Вот, скажем, лосьон "Утро"… Он обладает прекрасным свежим запахом, да и на цвет – совершено прозрачная жидкость.
Разлили по стаканам. Получилось грамм по сто на рыло. Алик категорически пить отказался. Утончённая натура, мать его… Зато, мы с Костиком минут на сорок забыли о феномене синдрома алкогольного похмелья. Алик ходил неприкаянный, словно "Титаник" в ожидании своего айсберга, как факт пагубного влияния парфюмерной антипатии на человеческий организм.
Пришла Марина. Вставила мне по первое число за выпитый лосьон, но на пиво дала. После пива была Ольга с водкой. Сначала мы употребили водку. Затем Ольгу. Ассоциации женщин с алкоголем прочно вошли в мою жизнь и когда они оттуда выйдут – я не знаю.
Проститутка Маша вышла из класса, и учитель продолжил:
Так вот. На чём я остановился? – сказал он и, не дожидаясь ответа от своих учеников, которых было всего-то тринадцать человек, продолжил: – зовут меня Иисус Иванович, и…, – он на секунду задумался, но только на секунду: – А какой сейчас урок?
Что?! – не поверил своим ушам один из студентов. Его звали Фома.
Физкультура, – перебил его Паша. Они оказались на берегу Ледовитого океана, – и сейчас мы отрабатываем технику хождения по воде.
Ну, это просто, – обрадовался педагог, – просто берёте и идёте.
А что мы берём? – не унимался Фома.
Всё и ничего.
А это как?
Как, как… раком, – Иисус Иванович понимал, что негоже ему поддаваться на провокации, но поделать с собой ничего не мог.
Не обращайте на него внимания, – попытался успокоить учителя Пётр, – Лучше посмотрите, пожалуйста, правильно ли я хожу по воде? – и он уверенным шагом ступил на лёд. Пройдя по нему метров тридцать, он провалился под воду, потому что лёд исчез. Испарился в одно мгновение.
Не фиг сачковать, – прогремел громоподобный бас откуда-то из-за северного сияния.
Папашка Ваш шутить изволят, – сказал педагогу запыхавшийся и мокрый Пётр. Он вернулся назад бегом. По воде, аки посуху.
У тебя получилось! – Павел искренне радовался успеху товарища, – Но каким образом?
Просто вода очень холодная, – ответил Пётр.
Теперь обществоведение. Мустафа, назови-ка мне одну из десяти заповедей.
Убей неверного, – выпалил тот и почесал свою мусульманскую задницу.
Пшёл вон! Тоже мне, моджахед нашёлся.
Так христианство лишилось одного из тринадцати апостолов. А Мустафа взял себе псевдоним Мохаммед и немного погодя учредил, альтернативную кресту, религию полумесяца.
Благодаря сну вишни под моим окном, я проснулся религиозно просвещённым типом. Пришли свидетели Иеговы из "Сторожевой башни" и прямо с порога о чём-то попытались свидетельствовать. Глупцы. Если бы у них было пиво, я бы пошёл за ними на край света, обрившись наголо под кришнаитов и, на всякий случай, сделав себе обрезание. Но пива у них не было и я, сказав, что проповедую дзен, закрыл дверь у них перед носом.
Меня ранило в голову. Ранение было тяжёлым, потому что я, вооружившись пылесосом, занялся трудотерапией. Потом была изнуряющая тело зарядка. Я таскал, вместо штанги, вёдра с водой и, обливаясь потом, отжимался от пола. После холодного душа и чашки чая, я заснул сном ребёнка.
Снилось мне кладбище. Кресты и гроб, обитый материей синего цвета в жёлтый горошек. Он закрыт, но ещё не забит. Мне страшно, но что-то заставляет меня подойти и отбросить крышку гроба. В гробу лежит моя мама…
Я проснулся в холодном поту и в хорошем настроении. Это был мой сон, и я знаю, что он означает.
Ивана. 11.03.02 г. Москва.
Времена года.
Катя положила на кухонный стол лето. Оно было сшито из разноцветных тёплых квадратиков, напичканных всевозможными полевыми цветочками, деревянными листочками и… «травушка-муравушка зелёненькая».
Теперь, всякий раз заходя на кухню, мы оказываемся в лете.
Лето – пора насекомых и малярии, полуобнажённых девиц и сексуальных маньяков, манящей прохлады воды и утопленников. Disco. Танцуют все.
Я устала, – сказала ты.
Ничего не попишешь, – ответил я, ослеплённый какой-то коварной моргалкой, – на нас смотрят. Надо продолжать.
Чего ради? – ты капризно надула губки и, топнув каблучком, попала в синкопу, которую не удавалось поймать даже самому крутому местному танцору.
Танцующие рядом люди подвергли тебя испытанию медными трубами. На мгновение, став королевой бала, ты забыла о том, что хотела мне возразить. Это просто лето. Let’s dance.
Надутые и привязанные к дворникам автомобиля презервативы танцевали джигу на колючем прибалтийском ветру. Майя. Водка и мартини. Рига. В этот город она приехала с модным нынче парикмахером. Гастроли. После двух дней каторжной работы и отличного шоу, Майя напилась. Имеет право. Ведь, если кто-то зажигает, значит это кому-нибудь нужно.
Вернувшись из Риги, она, кряхтя, словно старенький буксир над океанским лайнером в ялтинском порту, внесла в квартиру довольно большой кусок зимы. Его мы повесили в комнате. В ней сразу запахло мандаринами и Новым годом. Зима геометрически была похожа ни на что и напоминала Италию на потёртой школьной карте. Наверное, поэтому она великолепно вписалась между портретом моей прабабки и постером из «Плэйбоя». Бывало, включишь телевизор, заберёшься под одеяло, только нос выглядывает. С одной стороны тебе улыбается пособие для мастурбации, с другой: с некоторой укоризной (в голосе?!) взирает на это обнажённое паскудство твой желто-коричневый предок, а между ними красуется итальянская ботфордированная обувь зимы. Кругом снег, а тебе тепло. Здорово.
А через неделю: «Увы, мадам! Уже опали листья, как ятаганы засверкали при Луне», – с драматическим пафосом в голосе сказал Серёга и отправился в многоэтажную ночь Москвы. За осенью. Вернулся он только утром. Облитый солнечным светом, пьяный и злой.
Что случилось? – спросила его Майя.
Ничего, – ответил он и достал из сумки початую бутылку водки, наполовину съеденную буханку чёрного хлеба и маленькую сувенирную шкатулку, расписанную Хохломой.
Что это? – Майя, скользнув взглядом по водке с хлебом, взяла в руки шкатулку.
Весна.
Откуда?
Ни откуда, а от кого.
???, – ну, и от кого же?
И Серёга рассказал нам сказку о том, как получил от измученного седого клошара время любви в маленькой чёрной коробочке с живописными цветами. Это был подарок.
Рассвет мягко, по-кошачьи ступал по сонным московским крышам. Он уже отчаялся найти в этом огромном городе осень. Он искал именно её. На крышах водились только сексуально озабоченные коты и бестолковый неунывающий Буратино – сын папы Карло – Карлсон.
Первый солнечный луч, воспользовавшись услугами лифта, спустился с крыши на тротуар. Стряхнул с себя пыльные остатки ночи и прямо перед собой увидел боль.
Боль была грязным уставшим мужчиной с явными признаками жуткой похмелюги на лице. Он с готовностью продал бы свою душу за стольник водки. А за бутылку… и представить страшно.
Мужика колотило, как эпилептика во время припадка, и Серёга, сказав: «Подожди», растаял в дверях солнечного света. «Глюки», – подумал бомж и устало закрыл глаза. На минуту его попустило. Серёга вернулся именно в эту минуту. В руках у него была бутылка водки, буханка хлеба и два одноразовых стаканчика жёлтого цвета.
По-быстрому приняв на грудь и заев это дело хлебом, бомж разговорился. Он рассказывал об ирландской народной музыке, которую любит, но не умеет играть БГ.
А я хочу научить танцевать своего дельфина танго, – прервал критическую мысль своего собутыльника Серёга.
А откуда у тебя дельфин?
Да, нет у меня никакого дельфина, – раздражённо сказал Серёга и добавил, что ему пора.
От предложения оставить остатки сорокоградусной роскоши себе, реанимированный интеллигентно отказался и, пошарив в бездонном кармане своего пальто, извлёк из его недр разноцветную геометрическую фигуру и, протянув её Серёге, произнёс:
В Москве в это время суток невозможно найти осень. Возьми весну.
Спасибо.
Хлеб мы скормили воробьям, водку поставили в холодильник (холодная водка греет душу), а весну временно расположили в коридоре. Больше негде. Не в туалете же… Хотя, если учитывать, что из коробочки с хохломской росписью пахло цветущим миндалем, морским бризом и ещё чёрт знает чем (но вкусно), то, может быть, ей самое место в туалете? Вместо освежителя воздуха.
Не смотря на то, что Серёгу в поисках дождливого времени года постигла неудача, я всё же отправился за синей птицей листопада. Обретение осени равносильно удаче, чирикающей на твоём подоконнике.
Лето резвилось не только на нашей маленькой кухне. На улице август, знойной дамой с полотен Рубенса, во всю торговал жарой. Хочешь, не хочешь, а покупать приходится.
На сдачу я взял себе холодной колы и, обливаясь потом, пошёл по городу в поисках осенней прохлады.
Шёл я недолго. Мои ноги сами принесли и поставили меня напротив антикварной лавки. Спустившись в полуподвальное помещение, я сразу увидел её. Это была осень. Она одиноко висела на стене.
Сколько стоит? – спросил я, невоспитанно тыча пальцем в большую виниловую пластинку без конверта.
Не продаётся, – без торгового энтузиазма в голосе ответил мне антиквар.
А почему здесь висит?
Просто так, – сказал он и протянул мне букет синих хризантем. От цветов я вежливо отказался, но позволил ему сделать мне минет.
Спасибо, – сказал я, получая винил осени.
До встречи, – ответил мне он.
Не дождёшься.
Столетний DJ в подземном переходе потчевал прохожих своей музыкой. Репертуар был скудненьким: три древних пластинки с романсами, миньон с песенкой крокодила Гены и, невесть откуда взявшийся, дорогой виниловый диск с музыкой из «Амели». Патефон – ровесник своего хозяина – кряхтел, чихал и кашлял, но свои функции, тем не менее, выполнял. «В парке Чаир распускаются розы», – пел он голосом Лемешева.
Я прислонился плечом к противоположной стене неформального (underground crossing) перехода и, закурив, превратился в слух.
Старый романс вместе с моей памятью и табачным дымом унёс меня домой. Я бродил по Мисхору. Я жарко обнимался с солнцем. Я целовался с солёной Луной. Я приговаривал к декламации молоденьких ветреных поэтесс…
Ваши документы, – вывел меня из транса чей-то недружелюбный голос. Коню понятно, что он принадлежал блюстителю порядка.
Сколько? – невинно спросил я. Документов у меня не было.
Сто.
Двести, и в следующий раз ты проходишь мимо.
Идёт, – он взял деньги и испарился, а я подошёл к наезднику дисков и:
Отец, сколько у тебя стоит песня?
Да, кто сколько даст, сынок.
Неправильная политика, – и я прочитал ему лекцию относительно самоуважения, самооценки и связанных с этим расценок его творчества, – чем больше называешь, тем сильнее тебя уважают, – резюмировал я.
Тогда тыща, – научил старика на свою голову.
Нехило просишь.
Ты ж сам надоумил, – недоумевал тот.
Поэтому мне положена скидка. Как считаешь? – я улыбнулся.
Что будем слушать? – казалось, он не услышал моего вопроса, и, поскольку в моём взгляде по-прежнему читался вопрос, добавил: – Положена, положена. Успокойся.
В таком случае, повторим «В парке Чаир», – я дал ему десять баков и, немного подумав, протянул в подарок осень. Всё равно, дома ей нет места.
Кем-то небрежно оторванный, последний летний день упал на тротуар и растворился в осенней луже.
Ивана. 14.03.02 г. Москва.
Пуанты.
Встал он к стенке, угрюмо посмотрел на стрелков, запомнил каждого в дуло, попрощался с жизнью, пожалел, что не дал тогда в глаз пьяной балерине Зинке и запел «Боже, царя храни».
Залп и… хрена лысого. Ни одной царапины, если не считать свежих щербин на многострадальной кирпичной стене.
Шнабс-капитан Бесперебойный выплюнул изо рта цветик-семицветик и, глядя на героев расстрельной команды, весело констатировал факт неудавшейся генеральной репетиции парадно-показательной казни приуроченной к международному женскому дню 8 марта:
– Блядь. Господа, да они ж все в гавно.
А Клим подумал: "значит, буду жить долго. Какой бог? Какой царь? Какая в жопу Зинка? Вот стану комиссаром, надоть будет учредить звание Ворошиловского стрелка и давать его всем, кто мимо". Брезгливо снял свои обосранные портки и пошёл себе восвояси с места неудавшегося аутодафе. И там, где ступала его нагая нога, бурной плесенью начинали цвести несущие конструкции несуществующего слога его отрыжки вперемешку с икотой.
– Стреляй. Стреляй, Глеб Егорыч. Уйдёт же. Уйдёт!!!
– Сначала надо в воздух.
– А в воздух-то за что? Не он же банк ограбил.
Счастливая смесь кислорода с азотом придурковато улыбнулась и благодарно подарила им отражение радуги в окрестностях татарской деревушки Дерикой, что находилась на берегу мелководной горной речки. В реке, кроме взвода вечно пьяных мужиков под предводительством потомственного шамана Бесперебойного, купались две немки: фрау Роза и фрау Клара. Ранняя весна подарила дамам радость знакомства с хайтормой. Семь шестых данного музыкального направления приятно ласкали слух, но при этом никак не укладывались в их естестве. Тирольские напевы прочно и навсегда завладели немецкими мозгами женщин.
В деревне, помимо звуков хайтормы и стройных кривоногих татарочек, проживал огромный каракурт.
Судя по зигзагообразной траектории паутины чёрной вдовы, скоро будем пить портовое вино – значит лето в длинных ногах и коротких юбчонках. И его в который раз станут дониматься обладатели борсеток с заводами, мавзолея с Лениным, мозолей с пивом, и прочей дорогостоящей лабуды. А я на новый год, как водится, накушался. Славно так попил. Нихрена не помню. Будет что порассказать внукам. Если те когда-нибудь появятся, конечно.
Кстати, у меня есть машина времени. Запой называется. Правда, работает, зараза, только в направлении будущего, но зато исправно. Начал, если верить календарю, 25 декабря… скоро уж и крещендо водолазово, а я всё никак не остановлюсь. Запой с нормальным произношением – с точки зрения существительного, это круто.
В один из рассветов просыпаюсь и понимаю: вместо водки испытываю непреодолимую потребность в филологии.
– Кто такой мизантроп? – спросил свежим перегаром я нежную кошку по имени Вассер-Ла.
Нежная театрально поморщилась, но с ответом всё-таки удосужилась:
– Мизантроп – это филантроп, зацеловавший до смерти своего визави, – а коготки-то у кошки острые.
Только непонятно, с какой целью она их выпустила: то ли поцарапать, то ли просто так – поточить. Кто ж их разберёт – этих кошек? Хотя, любая кошка, в отличие от женщины, представляется мне вполне предсказуемой и даже предподлежащей.
...................................................................................................... в этом месте погребён абзац о Зелёном Коране, голубых кораллах и бесцветной коварности женщин. Я убил его, как убил многое другое, что было для меня дорого.
– Почему? – спросила меня ты.
– Потому что ты ничего не хочешь видеть дальше собственного носа и полагаешь что всё это бирюльки – игра, несомненно, интересная, но, в общем-то, легкомысленная.
Ты могла бы засучить рукава и в течение всего одной недели построить Байконур II, но почему-то предпочитала сучить ножками на сцене Мариинки.
А всё проклятые пуанты.
Но я люблю тебя.
Какое счастье, что ты у меня есть и что не поэт я. В противном случае писал бы тебе пошленькие стишата, рифмуя вновь-любовь, бодун-Цзэдун. Впрочем, последняя рифма мне видится вполне актуальной.
Ивана. 18.03.02 г. Москва.
Танго.
Сиваш. Краснопузые оборванцы, словно тридцать три богатыря под предводительством танцмейстера Пушкина, вышли из воды и, вставив нам по самые гагашары, сбросили туда, откуда только что вышли сами. Не долго мучилась старушка… Сейчас бы в Ялту. Там вино и пальмы, солнце и девочки мадам Изольды.
Чудом оставшийся в живых, офицер белой гвардии шнапс-капитан Бесперебойный налил себе полный стакан водки. Откушал. Закусил свежеприготовленным капустным салатом. Достал из нагрудного кармана серебряный портсигар с золотым фамильным гербом. Папиросы "Лира". Закурил. Откинулся на спинку стула (тот был сделан из молоденькой русской берёзки) и с наслаждением застрелился.
"Владимир Путин – Лучший рок-певец России!", – неон вместо света в конце тоннеля. И больше ничего. Неведомые силы несли несильно покачивая его к этой непонятной надписи. Рок-певец представлялся Бесперебойному сухим, седовласым старцем с гуслями в руках, предсказывающем судьбу. Ведун. А вот, кто такой Путин, ему было неведомо. Через секунду или через год – часы то останавливаются, то бегут – он настолько сильно приблизился к надписи, что тире превратилось в горизонт.
На жирном тире неонового горизонта, между Солнцем и Луной длинноногая дама в белом одиноко танцевала танго. Глядя на её живой танец, он вдруг понял – на такое способна только смерть. Она танцует в ожидании десерта из никчемных стихов с угасающими цивилизациями, невзрачных картин и остывающих планет, танцоров с мешающими яйцами и взрывающихся галактик. Не всё, что умирает – достойно жизни.
Телевизор. Лыжи. Молодой компьютерный гений Бесперебойный вышел из ванной. Его лицо было гладко выбрито, но почему-то только на две трети. Экзекуции бритвенным станком не подвергся его правый ус и половина левой щеки. Наличия столь экстравагантной внешности он добился благодаря своей уверенности, что на всё воля Божья. Он как раз выбривал растительность со своей левой щеки, когда в ванной неожиданно погас свет. «Значит так надо», – подумал он и, решив, что именно в таком виде симпатичен богине, танцующей танго на планете Венера, стёр с лица остатки пены, залил это дело антисептиком с кисловато-прозводственным запахом свежести и бодро покинул ванную комнату.
Настроение было прекрасным. На лице кисляк, на улице дождь. Взлохмаченные воробьи стихами на мокром подоконнике. Стихи – это просто. Это убийцы смерти. Он утверждал, что может убить смерть, но не знал, как добиться победы над нею.
Погоди, – недоумевал я, – каким же это образом можно, убив кого-то, оставить его в живых?
Убить коммуниста – ещё не значит одолеть коммунизм, – философствовал он, разливая дешёвый портвейн по граненым стаканам, – не говоря уж об алкоголе и его приверженцах, – затем он выпивал содержимое только что наполненной ёмкости и с теософским пафосом в области паха, подводил черту: – а о смерти я просто молчу.
А как ты можешь убить смерть? – выпитый стакан портвейна не позволял мне оставить в покое эту и без оного интересную тему.
Ну, это совсем просто, – и, не смотря на данное утверждение, он с радостью пускался в лабиринты рассуждений, корень которых сводился к следующему: – для того, чтобы убить смерть, нужно подарить ей жизнь.
Всё это словоблудие, – я занял позицию адвоката дьявола.
И словоблудие в том числе, если обозвать этим термином стихи.
Не понял.
Ну, как, – он разлил остатки роскоши по стаканам, – стихи – это же самое настоящее порождение жизни.
То есть, ты хочешь сказать, что поэт является потенциальным убийцей смерти? – сказал я и выпил.
Любой, кто создаёт, – целую секунду, пока он пил, тень мысли блуждала по его лицу, а может быть, это просто портвейн показывал свой непростой характер, – хотя, нет, не так, – почти пропел он на винном выдохе, – не создаёт, а созидает – убивает смерть. Жизнь – это противоположность смерти. Всякий, кто даёт начало жизни, приближает конец смерти.
Всякий, кто даёт начало жизни, питает смерть, – возразил я ему.
На едва различимой линии вечно молодого горизонта, между живой хризантемой и папоротником, дышащим на ладан, длинноногая дама в белом одиноко танцевала танго. Глядя на её зажигательный танец, я понял – так танцует смерть, в предвкушении десерта из угасающих стихов и никчемных цивилизаций, остывающих картин с невзрачными планетами, разочаровавшихся в жизни шнапс-капитанов и разрывающихся, словно череп самоубийцы, галактик.
Зеленоглазая весна стояла на кухне в одном переднике на голое тело и старательно шинковала капусту. Не смотря на то, что нож был похож на сибирский валенок, а капуста упрямой, как похмелье, работа спорилась. К чёрту смерть. Да здравствует салат из капусты. Она добавила в него немного свежих огурцов и помидоров, пару веточек зелени, плюхнула туда растительного масла, посолила, после чего перемешала и попробовала. Мечта гурмана. Праздник вкуса! Фиеста витаминов!!! Вот какое танго может получиться из обычной белокочанной капусты.
Насладившись работой, девочка с зелёными глазами взяла со стола чудо-салат и отправила его в унитаз. Всё, что живёт – достойно смерти.
Ночь – странное время суток. Именно ночью в голову лезут всякие бредовые идеи. Я проснулся посреди ночи от мысли, что теннисные ракетки лишены смысла жизни, потому что не умеют танцевать танго.
Главное – это цель. Цель в жизни. Если она есть, то всё наполняется значением и обретает истинную моральную ценность. Я нашёл цель своей жизни. Нашёл и расстрелял её из калашникова.
Ивана. 02.05.02 г. Москва.
Привет, Родина.
Сухой, как велосипед, кот по кличке Толстый с наслаждением отдавался какому-то бездомному бродяге. Тот, в буквальном смысле, имел его и в хвост и в гриву. Эх, Толстый, Толстый. Педераст ты эдакий. И ладно, был бы активным… Отродье голубое. Позор на мою седую голову.
Матрос лежал на полосатом, как арбуз матрасе и читал книгу в клеточку, а ты удивлялась тому, что закладка, старая, посиневшая от времени справка из мед. вытрезвителя, повинуясь воле случая (предугаданным, впрочем, автором), перемещалась то из конца в начало, а то в середину повествования. Видишь ли, не всё так просто. Это только в детстве игра в классики кажется простой, и лишь с возрастом мы начинаем понимать, как нелегко порой доскакать до неба. Смеётесь? А вы попробуйте.
Жаркий тандем булочки и куска мяса на прилавке в закусочной города Гамбург – это гамбургер "Камикадзе". А любовь – это страх. Страх гамбургера "Камикадзе", не смотря на своё название, быть невостребованным чьим-нибудь ненасытным желудком. Но это в Германии. А в России "Камикадзе" – фаворит продаж. Его едят все: от продвинутых, моложавых стариков, до пожилых, уставших от жизни детей. И это при том, что рекламы совершенно не видно. Но не видно – не значит: нет. Тут постарались работяги от PR. Правда, ничего нового им придумать не удалось. Они просто втиснули двадцать пятым кадром "Камикадзе" во все сколько-нибудь значимые рекламные ролики. Немного незаконно, зато дешево. И сердито. На пресловутом двадцать пятом кадре был изображён упитанный и счастливый японский самоубийца с надкушенной рекламируемой продукцией в одной руке и гермошлемом – в другой. Сопроводительный текст к данной картинке гласил: "Перед "Камикадзе" не устоит даже смерть".
Мы зашли в кафе на углу довольно людной московской улицы и заказали себе мороженое. Солнечного Генерала от самоубийц уже тошнило, а я приобщаться к ним, пускай даже посредством простого потребления, не хотел. Немного позже мы созрели до лимонада. Сей философский напиток явился органично ограниченным логическим завершением нашей скромной, но такой приятной трапезы и отзывался на имя "Дюшес". Не успел я приступить к поглощению десерта, как в стилизованное под вигвам индейцев племени Дакота помещение вошёл человек с характерным для наркомана землянистым цветом лица. Это был я. Но, поскольку вошедший я был пятилетней давности, наше сходство было относительным. Борис тоже обратил на меня внимание, но, слава Богу, не узнал.
Я когда-то…
Сидел на игле? – закончил за меня Борис.
Да, – я с опаской посмотрел на меня. Чего доброго, ещё вздумает подойти.
Мои опасения были напрасны. Я, сидя за столом, тупил над чашкой кофе – привычка, которая до сих пор не оставляет меня. Минуты двадцать две можно не беспокоиться – именно столько будет продолжаться процесс наблюдения за остывающим поведением уругвайского кофе в китайском фарфоре.
Серьёзно сидел или, так, баловался?
Однажды я, пытаясь оформиться, заснул с машиной в руке. Проснулся часов через пять. Надо мной стоит мама и плачет. От Стыда мне хотелось…, – я не знаю, чего мне тогда хотелось, но мне было стыдно.
Гусары вошли в город только под утро. Кони в мыле. Под тяжестью предрассветной росы склонилась пожарная каланча – единственный небоскрёб двухэтажного города. Роса – это сон, и по утрам, никому не оставляя выбора, он убивает всех. Часов на шесть – минимум.
Ты знаешь, откуда взялось слово: «наркоман»? – спросил меня Борис. Растительность на его лице несколько оправдывала отсутствие оной на голове.
Это английское слово.
Как бы не так, – после непродолжительных манипуляций с сигаретой и зажигалкой, он прикурил, – наоборот, это англичане, мягко говоря, позаимствовали его у нас, и первоначально оно означало: народный комиссар академии наук. Была раньше такая должность. Табличка на дверях в кабинет этого чиновника гласила: "Нарком АН" – нечто очень похожее на замполита в войсках – толку никакого, а понтов море. Так вот, чтобы они не мешали учёному люду работать, те подсыпали им в еду и подмешивали в чай коксу. Благо, тогда этого дерьма хватало. Не Россия, а прямо Колумбия какая-то. Комиссары от кокаина становились ещё более требовательными и могли придраться даже к дремавшей на стене мухе, но всерьёз их никто уже не воспринимал. Таким вот незатейливым способом профессура с аспирантурой решили свою проблему. А как твоя Катя? – без всякого перехода спросил меня Борис.
Катя в Египте, – ответил я.
А, “Camel”! – он с мечтой в глазах о небе (Икар. Чкалов. Покрышкин! Гагарин!!!) поднял голову и с тоской посмотрел в потолок. В его голосе явно слышалась грусть по жаре.
Секунду спустя в моём кинотеатре во весь экран возникла пачка сигарет. Среди песка, на фоне египетских пирамид стоит верблюд. Египет – самая большая реклама сигарет "Camel".
Не смотря на то, что в интонациях Бориса я услышал патафизическую грусть по жаре, в помещении кафе было душно. Я сообщил об этом официанту с оперением вождя индейского племени. Бедняга знал об этом уже давно и обреченно-бесповоротно. Через пять минут, рядом с нашим столиком трёхлопастной монстр легко и непринуждённо создавал видимость сквозняка.
Тщательно отполированная голова лысого очкарика открылась в тот самый момент, когда радуга, окрасив небо спектром, преломлённого призмой дождя, солнечного света, стала над городом раком. Сходство с дорогой шлюхой было очевидным. Девочка была не только дорогой, но и дорогостоящей. Однако сегодня в её белокурой бестолковке не ко времени отворилась форточка. Между раскрытой лысиной очкарика и распахнувшейся настежь форточкой в голове проститутки, образовался сквозняк. Именно он совершенно безвозмездно и как-то очень ненавязчиво подтолкнул это красивое ночное насекомое в жаркие объятия лысой головы с очками на курносом носу. Объятия были отнюдь не товарищескими.
Героиня этого повествования не выносила неизвестности, но исправно вынашивала её в течение всего срока беременности. Ничего не попишешь. Сквозняк.
Через девять месяцев в Сахаре выпал снег, и, в связи с тем, что там, навсегда покинув Антарктиду, поселились белые медведи, моржи и императорские пингвины, Нельсон Мандела, пребывая в некотором замешательстве, сказал: "Я в этом бардаке участия принимать не желаю!" и подал в отставку.
Сказалось пагубное влияние сквозняка на климатическую и политическую лохматость Африки. Всё.
Добрый вечер!
Что? – сквозняк, учрежденный в московском кафе и сдувший с политической арены Манделу, всё ещё царил в моей голове, превращая глобальные, но совершенно неважные мысли в лёгкий ветерок. Голова. А в ней лёгкий такой ветерок.
Добрый вечер, – повторил Владимир Познер. Телевизор (старенький, черно-белый, но работает исправно). Первый канал, – сегодня со мной в студии Жанна Агузарова.
Интересно мне знать, что она будет делать в вашей передаче?
Жанна будет петь, – ответил мне Познер, – на мой взгляд, она больше ни на что не годится.
На мой – тоже. Бесбашенная Агузарова меня интересует мало, поэтому я выключаю телевизор, звоню Борису (в Москве я больше никого не знаю) и приглашаю его в гости.
Мы сидели на кухне (на столе прямоугольное лето) и пили кофе. Непринуждённый монолог Бориса старой, но надёжной лодкой плавно плыл по рекам Карелии. Внезапно, его рассказ был прерван раскатом грома.
Хлынул ливень. Не тот предмет зарифмованных воздыханий поэта-мазохиста, а дождь, которого ждут изнурённые жарой люди и потом, ещё в течение нескольких дней обсуждают его, словно победу российской сборной по футболу на мировом первенстве. Хотя, ночной дождь – это всего лишь бесцельная трата эмоций, человек со связанными глазами, ворона с перебитым клювом (с крыльями всё в ажуре. Не ворона, а птеродактиль какой-то)…
А ты выйди на улицу, стань под дождь, – возразил я Борису, – и посмотрим на бесцельную трату эмоций человека со связанными ногами…
Не ногами, а глазами.
А как это?
Если бы я только знал, – пригубив для храбрости грамм сто чистого спирта, сказал мне психиатр, – я бы давно профессором психиатрии был, – после чего он, немного поразмыслив (над бренностью жизни?), спросил: – Что, неужели никаких изменений?
Ну, почему же никаких, доктор? Мне стало значительно хуже.
Мне кажется, что вы несколько не правы, потому что, глядя на вас…
Вы совершенно правы, – перебил я его, – Я буду прав лишь тогда, когда сам себе смогу сказать: "Я сошёл с ума".
В раскрытое окно влетел маленький и толстый Валера. Но, поскольку он надоел мне ещё до своего появления, то я, при помощи не очень чистого кухонного полотенца, выгнал его со своей кухни, словно назойливую муху.
Мука мне с этой мукой, – сказал Прошка.
Что, девать некуда?
Ага. Последний мешок десять лет назад открыла, – Прохор был пидаром в последней инстанции и уже давно не замечал, что он мужчина, – хочешь кофе?
Да.
Тогда пойди и сделай.
Дорогая, догорая, мы летим к воротам рая
Или ада. Я не знаю.
Харакири на живот –
Улетаю, исчезаю… (кубик льда в стакане тает)
Но вдогонку получаю
А ля Тайсон апперкот, – откуда и почему всплыл в моей голове этот экспромт, я не знаю, но кофе я себе сделал. И, причём, нехилый.
Время брить ноги, – сказал вдохновлённый поэтической тирадой Прохор и закрыл за собой сюрреалистическую дверь в ванную. На ней красовалась репродукция Дали. Названия я не знал.
Вместе со звуками падающей воды до меня донеслось:
"Эту песню запевает "Макинтош", "Макинтош", "Макинтош".
Эту фирму не загубишь, не убьёшь, не убьёшь, не убьёшь", – стон совокуплённого рекламой мужчины. Дурдом.
На слово "очко" у меня взгляд особый: скорее картёжный, нежели проктологический.
Прохор с очком в макинтоше вывел меня из себя. Я вышел и стал бродить по отогретым песней лета улицам простуженного города, в поисках чего-то очень мне необходимого, если не сказать: бесконечно дорого. Роса испарилась. Каланча выпрямилась. Гусары, немного покуролесив, оставили город в покое. Тишина… Маятник часов на местном Биг-Бене, отклонившись влево, застыл, казалось, навсегда. Я не торопился. Впервые в жизни мне некуда спешить…
У зла узла я не заметил и двадцатитомным булыжником (естественно, в Ваш огород) бросил свой взгляд в будущее. Ни веры, ни любви. Сплошная Надежда. Из будущего, сделав его настоящим, а спустя мгновение прошлым, вышла Елена. Мокрая от пота. Этим заинтересовался мой член. Такое впечатление, что это уже когда-то было. Было, что будет. Секундная стрелка на циферблате в обратную сторону. И мгновенно ожившая Хиросима. И Нагасаки на гребне заката.
Ко мне подошёл дядя Фрунзе и без намёка на вступление:
Вендетта – коварнейшая вещь. Особенно на Корсике. Дай ключи от спортзала.
Какие ключи?
Да вот эти, – его взгляд, материализовавшись, коснулся правого кармана моих брюк. Там зазвенело.
А когда отдашь? – с нотками школьного завхоза (или физрука) в голосе, спросил я.
Завтра утром.
С бутылкой.
Хорошо.
С полной бутылкой водки, – знаю я таких типов. Принесёт пустую тару, а потом доказывай, что ты не верблюд.
Я тебя понял.
Я не узрел узла у зла.
В центре спортзала стоял стол для пинг-понга. На нём среди баскетбольных мячей и свежих овощей, скакалок и аккуратно нарезанной сырокопчёной колбасы, всевозможных хула-хупов и, конечно же, водки с шампанским танцевала учительница китайского. Рубенс обзавидовался, и, не справившись с коварной подачей, направил шарик прямо в ткемали. Также на столе присутствовал шашлык, сациви и саперави. Во главе стола сидел голый дядя Фрунзе (из одежды на нём был только кинжал) и рассказывал своим гостям, что на Корсике вендетта – ничего коварней нет.
Пришёл Володя с членом через всю руку и под аккомпанемент “Shakatak” запел "Ой! То не вечер. То не вечер".
А как это – через всю руку-то?
А кто его знает. Ты лучше скажи мне, почему он всегда поёт одну и ту же песню?
Да просто она его возбуждает, как тебя “Panasonic”.
Вопросов больше не имею.
А между тем, дядя Фрунзе, всерьёз занятый проблемами вендетты по-корсикански, распылялся:
Пидарасы, – кого это он так невзлюбил, я не знал, но счёл своим долгом указать на орфографические погрешности в его лексиконе:
Педерасты.
Кто? Я? – потомок гордых горцев сначала находился в некотором недоумении, но потом пошёл на меня в атаку, словно Александр Матросов на амбразуру. Грудью, – Сам ты педерас.
т, – добавил я. Я за искусство в чистом виде.
…и когда на миг мне показалось, что, бредя по раскалённому асфальту – солнце, точно дятел по голове – тут-тук, тук-тук – я, почти заблудившись, нашёл что-то, не знаю что, но бесконечно дорогое, то, что долго и нудно искал, ты среди метафизических развалин мифического города находила меня (пьяного и злого. Я икал и плакал) и приводила в чувство. Меня в себя. Меня в меня. А город становился еще более загадочным, а значит более желанным. Но дверь закрыта.
Борис твой, когда пьяный, такой нудный, – сказала ты, – и спать не ложится, и уходить не хочет. Ни дать, ни взять – ялтинский тип.
А мне он нравятся, – я умиротворённо посмотрел на полную луну, – не доверяю я людям без недостатков.
Человек всю свою жизнь ищет дверь, как ему кажется, для того, чтобы с её помощью войти в загадочный и неведомый, но обязательно добрый мир, а на самом деле, найдя и открыв её, он получает квалифицированный пинок под зад и вылетает из жизни через предмет её исканий. И я благодарен тебе за то, что ты не давала мне найти то, что я искал в этом городе вечного лета. Странно. Почему в городе моего подсознания постоянно светит солнце? Ведь я люблю дождь. Кто знает, быть может, я искал именно её – дверь – открытую в "пошёл нахуй" морскую раковину, одиноко лежащую на мокром прибрежном песке.
Пока я пробирался сквозь вышеозначенные дебри с синими почками шизофрении на ветвях вечнозелёного древа познания добра и зла, Борис успел сгонять за водкой. Что-то подсказывало ему, что сделать это необходимо. Мы выпили. Закурили. Радио сообщило нам об аномалии, присущей московским окнам: в них постоянно горит свет, и все попытки выключить его терпят крах. Он негасим.
Поросёнок из мыла, стоя под монитором моего компьютера, досадовал на то, что его не используют по прямому назначению. Его предназначение навсегда останется загадкой. И не только для меня.
В затопленном подвальном помещении унитаза, словно дорогая жемчужина, блестел пятак. Примета: деньги к деньгам. Вот уже почти двадцать лет я поднимаю найденную мелочь, и это всегда предупреждает меня о грядущем бремени финансового благополучия. Мелочь, а приятно. Чтобы пятак не мозолил мне глаза и не теребил душу, я решил: "а насрать"…
…что и сделал. Сделал. Смыл. Посмотрел. Блестит зараза. Ну, в самом деле, не лезть же рукой туда, куда только что нагадил.
Алчность – порок. Не то, что бы я это понял, нет, просто это догма и доказывать аксиому…, а посему, бог с ним – с пятаком, а вместе с этой разменной монетой и с моим грядущим финансовым благополучием.
Сколько нужно выпить пива с водкой или прочитать Борхеса с Павичем (что, в принципе, одно и то же), чтобы тебе в свете солнечного осеннего дня явилась, словно «Отче наш», фраза: «Металлистам пива не наливать»? Она вышла из тумана прошлого, прошлась по намокшему тротуару моего воображения и стала моим будущим.
После "солнечного осеннего дня" на бумагу просится паутина слов из осени, ещё зелёной, но уже с жёлтыми прожилками слёз, о низовке на море, о высоком, с хитровыбараным простосплетением звёзд, ночном небе и о млечном пути в нём. Но ветер уносит лёгкую и беспечную поступь-болтовню Луны, не давая ей стать прозрачной акварелью и лечь – рука старого седого художника – на бумагу. Вместо неё в моей голове орудует сумасшедший ефрейтор.
Не желаемый, но гордый продукт любви немецкого солдата и престарелой еврейки стоял с расческой в руке перед зеркалом и перед дилеммой: каким образом лучше причесать свои уши? Можно, конечно, ограничиться простым пробором, но в таком случае не видать ему, как своих ушей, того, что в богемных кругах Джанкоя называют художественным бардаком, и тогда появляется реальная опасность прослыть лохом. Некомпетентным во всех сколько-нибудь важных жизненных вопросах человеком быть неприятно. Более того, опасно. Поэтому, оставив в покое свои ушные раковины, он сконцентрировался на чёлке. Чтобы отличаться от гебельсов, гимлеров и других "г", он решил придать своему волосяному покрову, находящемуся над надбровными дугами, левостороннее направление. Усы – небольшой черный прямоугольник под носом – явились удачным завершением тщательно продуманного имиджа. Теперь можно орошать слюной свой благодарный народ, выкрикивая ему с высокой правительственной трибуны о голубой крови третьего рейха, интенсивно жестикулируя руками.
Гитлер для его мамы всегда был и будет "моим маленьким мальчиком". И ей совершенно неважно, что маленький её мальчик загубил море людей. Может быть, они и были виноваты в том, что родились не в то, вернее, именно в то время, но сами-то они вряд ли об этом догадывались. Как и не догадывались они о том, что Гитлер – это не фамилия, а просто имя.
Адольфом зовут Даслера – человека подарившего миру трилистник на спортивной амуниции с маленькими такими буковками под ним: "adidas".
"Уже час", – прокуковала мама и засобиралась в город. Странное словосочетание – "в город", как будто мы живём деревне. Из города в город, как из… дальше неразборчиво, но, судя по почерку, что-то непристойное.
Тоже мне, Моррелли, – сказал один.
Да, – подтвердил его сомнения другой, – ничего не понято.
Тут и понимать нечего, – сказала традиционная в таких случаях сигарета, – мыло, оно и в Африке мыло. Спроси у Люськи.
Мыло мылу – рознь, – скорее возразил, нежели согласился второй, но тоже закурил.
Дым головой упирается в потолок.
Открой форточку.
А ты включи свет.
Молодой месяц вышел из монастыря на Холодной речке и оседлал трезубец Ай-Петри. Затем, с высоты 1234 метра он прыгнул в море – поразмять свои, засидевшиеся в дневном кресле, чресла – и поплыл, разбрызгивая лунный по воде лунный свет. Странно, но у него всегда получалось, как в первый раз.
Ну и слово, – возмутился первый, – где он его откопал? Чресла.
Согласен, – поддержал его второй, но тут же: – правда, его присутствие здесь, на мой взгляд, оправдывает "кресло". Посмотри, получается похоже на стихи.
Да. Та ещё поэзия. А это что такое? – и он процитировал: – "разбрызгивая лунный по воде лунный свет".
Не знаю. Может быть, в типографии ошиблись.
Какая, в жопу, типография? – не выдержал, с трудом пробираясь сквозь непроходимые джунгли едва различимого почерка, первый, – это же рукопись.
В ней автор самонадеянно уподобляет творчество Борхеса и Павича ершу. Жалко, что нет с собой какой-нибудь книжки того или другого, потому что водка у нас имеется. Скоро будет и пиво. Можно будет сравнить. Погода – нишпац. Солнышко балует. Очередь за пивом подходит к своему янтарно-логическому завершению. И, чтобы не было скучно, какой-то полупьяный идиот порадовал нас фразой: "Металлистам пива не наливать".
Скажи мне, пожалуйста, как буддисты относятся к Гитлеру? – я знал, что у Бориса есть друзья, идущие по стопам Сиддхартхи Гаутамы.
Не знаю. А что?
Мне кажется, они склонны его оправдывать.
Почему ты так думаешь?
Видишь ли, глядя на свою соседку, я подумал: если бы я был буддистом, то непременно извинил бы сатрапа.
Ты, что, антисемит?
Причём здесь это? – взяв наполненную Борисом рюмку, я провозгласил: – за евреев, – и выпил. Водка мягко проникла в организм, что является прямым доказательством моего лояльного отношения к представителям многострадального народа, – просто соседка моя такая конченая процедура, – тут я посоветовал Борису опустить первые пять букв, – что невольно на ум приходят изуверские мысли.
…, – я его понимал. Да и что тут скажешь? Поэтому решил перевести разговор в другую дельту:
Помнишь, ты давал мне адрес одного лекаря? – получив утвердительный кивок его головы, я продолжил: – так он, оказывается, ангел во плоти, – Борис к данной сенсации отнёсся совершенно спокойно:
Ничего удивительного. У меня есть знакомый, так тот вообще император нашей галактики, – в подобной ситуации упоминать об открытом третьем глазе Петруши было как-то неловко. Даже.
Ночь зажмурилась от яркого солнечного света и, немного подумав, спряталась под лужей, оставшейся после дождя.
Кофе скончался. Водка убита. Куда ни посмотри – всюду смерть. И философия тут бессильна. Впрочем, так же, как и медитация с медициной.
Я курил на перроне Курского вокзала. Уже третья сигарета вхолостую повторяла бессмертный подвиг Анны Карениной, а состав всё не подавали. И когда я услышал гипнотический звук общения колёс с рельсами подходящего к линии старта паровоза, кисть моей левой руки радостно сжалась в кулак, оставив, однако, выпрямленным средний палец. "До свиданья, Москва. До свидания…", – мимо меня пролетел огромный и пьяный, как грусть расставания, олимпийский Мишка.
"Прощания славянки" (да и "Лезгинки" тоже) не было. За окном, ускоряясь, потянулся нескончаемый видеоряд домов и лесов, дорог и огородов, полей и… короче говоря, всего того дерьма, что неизменно сопровождает твой глаз в дороге. И возникает вопрос: а не лучше ли изучать анатомию жареной курицы, поедая оную, или сравнивать строение варёного яйца со строением Земли? Во всяком случае, это вкуснее. Определённо.
"После сытного обеда
по закону Архимеда,
чтобы жиром не заплыть
надо взять и покурить", – вот то немногое, что осталось во мне от моего безоблачного босоного детства. Ни облаков, ни обуви тебе, ни памяти – ничего, кроме дебильных стишков.
В тамбуре нас было трое: я, одиночество и наслаждение оттого, что никто мне не мешает наблюдать за ленивым танго заходящего солнца (я, как личность творческая, украшал этот танец дымовыми спецэффектами). Все трое курили…
…некто по имени Диффузор, окутанный тайной своего пребывания, через стенку купе или через годы поведал мне о том, что «кайф никогда сладким не бывает». А поезд, точно первоклашка на уроке мать-и-матики, считал шпалы, столбы и километры. Он вёз меня домой. Привет, Родина.
Это было последнее письмо от Иваны. В нём, помимо вышеизложенных фактов, имелся небольшой P.S.
"Костя, что со мной? Сны? Да бог с ними – снами. С нами похлеще вещи происходят. Таких не принимают даже в рай. Я как будто не я. Всё валится из рук и ничего не хочется. С Вами такое бывало когда-нибудь? Извини, но я не вернусь…"
– Да я это уж понял, – сказал Костик мухе, мирно дремавшей на кухонном столе, и отправился спать.
Рождённая музыкой.
Когда вконец обнаглевший дикий виноград попытался овладеть беззащитной вишней, потомственный военный моряк-литератор Николай Петрович Папин-Крымчанин заплакал, оттого что ничем не мог помочь бедному дереву. Плакал он только левым глазом, потому что в детстве мать кормила его только правой грудью, в то время как левой – в ней было молодое терпкое вино – она поила его отца. И правый карий глаз младенца лукаво посмеивался над своим чёрным собратом, потому что отец никогда не задумывался над таким странным соседством в теле своей жены – молоко и вино. Его пропитанные вином мозги терзал куда более важный вопрос: может ли сталь причинить вред дождю? Он пил и думал. Думал и пил. На остальное у него просто не хватало сил.
Утро. Понедельник. Солнце застыло на половине одиннадцатого. Я стою на нашем старом каменном мосту через мелкую речку без названия – помнишь ли ты ещё их? – и, глядя на бегущую подо мной молчаливую чёрную воду, пытаюсь понять: почему же нельзя в одну реку войти дважды? Уж не потому ли, что она не поведала мне своё имя?
Хочется курить. Пряча огонь в ладонях от осеннего ветра, прикуриваю. С трудом. С третьего раза. Свежий воздух. Дым сигареты. Хорошо.
Когда хорошо – уже плохо. Не докурив даже до половины, бросаю окурок в воду. Он, влекомый холодным течением реки, уплывает от меня в неизвестность. С крамольной для утра мыслью: «А не накатить ли мне?», направляюсь к ближайшей кафешке.
В кафе почти никого. Заспанная, не худая продавщица считает ртом мух. Мухи упитанны, но до такой степени проворны, что успевают залететь к жрице торговли в рот и, нарезав там пару-тройку кругов, невредимыми вернуться на волю.
Подхожу к стойке. Беру два стакана красного портвейна и чашку кофе. Выбираю стол в центре небольшого зала и, легко оторвавшись от пола, подлетаю к нему. На удивлённый взгляд продавщицы я ответил экспромтом, над которым усердно трудился в течение последнего десятилетия:
«А в будущем всем, как любить, станет ясно,
что не летать – это просто опасно».
Та ничего не поняла, но на всякий случай многозначительно кивнула и испарилась в подсобке за бамбуковой шторой.
Ставлю на стол с металлической вазой косящей под антиквариат – в ней, как живые, пластмассовые цветы – два портвейна и кофе. Пристуливаюсь. Достаю из внутреннего кармана своего ослепительно белого плаща маленький томик стихов Солнечного Генерала.
Читаю…
…кто-то пишет стихи,
некто прозой забавится,
отдельные личности могут летать,
а я выдавил прыщ,
прижившийся на моей заднице
и доволен этим актом убийства…
…о чём может поведать разбитый, безухий, как Пьер унитаз? О дожде, которого нет. Друзья через запятую. Кофе через сигарету не в затяжку. Индийская музыка на одном аккорде. Любовь в ритме раста, постепенно разлагающаяся под солнцем египетских пирамид. Ра. Верблюды. Кони. Ослы (один из них поведал миру о Христе) и песок. Много песка. Он во рту, в волосах, в волосатых руках и в причинных местах, на зубах и в глазах… и только настоящий Бог может не обращать внимания ни на песок, ни на музыку, ни на любовь и даже на то, что до сих пор нет дождя…
В эпилоге Солнечный Генерал Родина цитирует Вертинского с Окуджавой, а это значит: солнце спряталось за тучами, и в душе его уже третью сотню лет идёт дождь, превращая изумительную, но непонятную стальную вещицу в обычную ржавчину.
Не грусти. Не надо. Я уверен: всё образуется. И непонятная стальная вещица обретёт свои привычные очертания. Если, конечно, окончательно к тому времени не заржавеет.
А, впрочем, давай, мой добрый друг, открой своё сердце для печали и тоски. И пускай на нём скребут дикие кошки. Ну, хотя бы для того, чтобы смог ты (не сейчас, а потом, когда выйдешь из запоя хандры и одиночества) по достоинству оценить мою вчерашнюю шутку: «посмотрел фильм о том, как очередной робинзон крузо попал на необитаемый остров. Только остров тот находился в северных широтах, и поэтому фильм был короткометражным».
Неожиданно для себя за соседним столиком я услышал что-то в стиле реггей. Как и когда эти двое появились в непосредственной близости от меня, навсегда останется загадкой.
– Опасный народ эти растаманы.
– Почему?
– Да хрен их знает, – он налил, – не доверяю я гитаристам всяким с накуренными носами, – выпил и поставил в виде вопросительного знака точку: – Ну, что хорошего может выйти из темноты?
– А из синевы, значит, может?
– От синевы в голове не темно, а криво. Поэтому, пусть зигзагообразная, но мысль всё-таки присутствует.
– А кто такие эти растаманы?
– Боже мой, с кем я пью? Он ни хрена не знает, ни о ленивых рабах с берегов Ямайки, ни о музыке, которую те довели до совершенства и назвали реггей, ни, наконец, о религии, этой самой музыкой рождённой, – он сделал паузу. Заполнил её водкой. Запил лимонадом и продолжил: – религия эта называется раста, а её последователи – растаманами. Понятно?
– Понятно. Но только может ли быть так, чтобы из какой-то попсы возникло целое религиозное движение?
– Не знаю, может быть, ты и прав, но приятно думать, что религия рождена музыкой, а не наоборот.
Я, словно замороженно-завороженный, залпом выпив свой портвейн и, напрочь забыв о кофе, слушал их и думал: «А ведь, действительно, иногда нам просто необходимо обманываться. Ну, скажем, для того, чтобы…»
– Василий, ты Николай Петровича помнишь?
– Это тот, что плачет только одним глазом?
– Угу.
– Ну, как же! Такого забудешь.
– Прикинь, у него была высокая температура. Чтобы сбить её, он выпил чаю с малиной, молока с мёдом, водки с перцем и замёрз.
– Да уж, погорячился Коля, – заметил Василий, налил, выпил и, задумавшись над бренностью жизни нашей, философично резюмировал: – погорячился, потому и замёрз.
Выставочный зал № 2. Картина «Галерея».
Итак, галерея. Вход по цене семьдесят пять центов с рыла. Унылая и вечно сонная старушка, божий одуванчик – в качестве бесплатного приложения для посетителей. И огромный полосатый кот. Не кот, а тигр после менингита. Самая большая местная достопримечательность. Он об этом знал и валялся, где ему вздумается. Чаще всего это происходило в самых неподходящих для этого местах, и люди, восхищаясь его размерами и расцветкой, осторожно (не дай бог побеспокоить) обходили чёрно-рыжего нахала. Однажды какой-то зевака, залюбовавшись одной из работ, кота не заметил и наступил ему на хвост. Поднялся дикий вой, сравнимый разве что с сиреной во время авиа-налета, но не это главное. Главное заключалось в другом: кот, как лежал, так и оставался лежать на полу. Большое и ленивое животное.
И, вообще, в галерее царила довольно ленивая атмосфера. Причём, нельзя сказать, что лень вызывали экспонаты. Отдельные из них были лучше или хуже, но воплощением движения. На одной из картин местного хиппи даже был изображён убитый, двигающийся наркоман, в огромном шприце которого была жидкость, состоящая из цветов. Что именно хотел сказать автор данного шедевра, я не знаю, но подозреваю, что связывал он это хозяйство с детьми цветов. Цветы, наркотики и смерть. Как воплощение жизни.
Я приходил туда раз в неделю. В понедельник. Для некоторых понедельник – день тяжёлый, пропитанный вчерашним перегаром. Для меня же это день общения с творчеством. Приняв в ближайшей кафешке на грудь два стакана портвейна и нарезав, в ожидании когда же заберёт, три круга вокруг выставочного зала, я проникал в храм красоты. Ослепительную белизну моего плаща по обыкновению подчёркивали две-три капли вина.
Мне нравилось не спеша переходить из зала в зал, рассматривая работы местных Пикассо и КуКрыНиксов, Сальвадоров Дали и Айвазовских. Было в них что-то первобытное и по-детски непосредственное – то, что навсегда утратили, приобретая мастерство, мэтры от живописи.
Именно здесь, в зале номер два, возле картины "Галерея" я познакомился с тобой и джазом. Если бы не ты, я бы до сих пор носился со своими Лордом и Пейсом. Впрочем, ни слова о музыке. Сейчас речь о живописи. Кстати, тебя уже давно нет, ты ушла из меня так же молниеносно, как и вошла. Без каких-либо опознавательных знаков. Остался только аккуратный почерк твоих странных мужских снов. А картина до сих пор висит на своём прежнем месте и вызывает во мне те же самые чувства, какие я испытал от общения с ней в первый раз. Разве что, может быть, к ним примешалась ещё всепоглощающая радость утраты.
Итак: "Галерея". Картина в черно-серых тонах. На ней толпа, глазеющих на меня людей. И только в центре ярким пятном, выписанным с особенной тщательностью и вобравшим в себя все краски мира, даже те, которых в нём нет, находишься ты. Хотя, это, конечно же, не ты, а просто молодая, симпатичная женщина, очень похожая на тебя. Однако после того как мы расстались, она для меня, без всякого волшебства, в первый же понедельник моего одиночества, вдруг, ни с того, ни с сего стала тобой.
Ты стоишь и, ничего не говоря, смотришь на меня. Взгляд твой излучает, в зависимости от погоды в моей голове, то некую заинтересованность, то откровенную антипатию, а однажды, употребив три стакана, вместо двух положенных и совершив лишь два круга, вместо положенных трёх, я узрел в твоём взгляде желание. Ты хотела меня. В принципе, тут нет ничего необычного. Меня многие хотели и, надеюсь, продолжают это делать. Просто совокупляться с картиной мне ещё как-то не приходилось… На которой находилась ты. Яркое пятно среди серости и откровенной темноты.
Ты в красной спортивной куртке. Шею прикрывает длинный белый шарф. Я восхищался тобой и каждый понедельник, сам того не подозревая, приходил к тебе. И ты ждала меня, с трудом выдерживая ненавистные тебе взгляды других посетителей для того чтобы дать мне возможность полюбоваться тобой.
Тебе нравился мой взгляд. Сначала изучающий, затем восхищённый и лишь потом отождествляющий тебя с памятью, которую я, аккуратно сложив, словно носовой платочек, старался спрятать подальше, куда-нибудь во внутренний карман своего ослепительно белого, с двумя-тремя каплями портвейна, плаща.
Она, всякий раз просыпаясь в понедельник, испытывала нечто вроде предвкушения морального оргазма, потому что по понедельникам она развлекала себя тем, что с самого утра, выпив чашку чая, отправлялась в галерею и убивала там время за разглядыванием картин местных художников. Ей нравился этот процесс ничегонеделания. Вроде бы не делаешь ничего, а вместе с тем, культурно просвещаясь, морально растёшь. Вот где непаханая отрасль сельского хозяйства – целина для философов или для тех, кто мнит себя таковыми.
Из основной массы работ, асимметрично расположенных на белых стенах, она выделяла несколько абстрактных полотен и всякий раз, подходя к ним, находила в них для себя что-то новое. Однако все эти поиски служили лишь для того, чтобы оттянуть момент, когда она окажется в зале номер два, возле своей любимой картины "Галерея", на которой среди серо-чёрной массы ничего незначащих людей, ярким пятном стоял и смотрел на неё молодой человек в ослепительно белом плаще с двумя-тремя каплями жидкости цвета вишни.
Она почему-то думала, что это портвейн.
Coda.
Горбун вторую неделю шёл по пустыне. Куда он шёл, он не знал, но иногда он плакал густым плодородным семенем, и тогда причина путешествия открывалась ему, словно морская раковина, где драгоценной чёрной жемчужиной ждал его его город.
За спиной у него, кроме огромного горба, болталась маленькая холщовая котомка. В ней были только соль и спички. Ум мани падме хум. Воровал он громко, а отдавал тихо. Только вот оценить это было некому. Луна, песок, время и ветер были его единственными собеседниками. Больше разговаривать в пустыне не с кем. Правда, есть ещё солнце, но ему горбун не доверял и всегда обходил стороной. Холод лучше жары. Горбун это знал и передвигался только ночью, а днём, зарывшись в песок, спал. Питался он ящерицами и змеями, а влагу, словно верблюд, брал из своего горба. Иногда горб чесался, да так, что хоть волком вой. И тогда по всей пустыне проносился дикий вой пьяной волчицы. "Опять горбун задумал в песках город построить", – говорил акын, брал в руки потёртый временем и ветром моринхур и затягивал свою нескончаемую песню-эпос.
Несмотря на то, что песня была нескончаемой, смысл её был прост: раз в тысячу лет в пустыне появляется горбун – его никто не видел, но слышали многие, – ему обязательно нужно построить город. Для того чтобы мог он повстречаться со своей любимой…
Они встретились на закате, на углу дождливого марта и солнечного сентября, посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись. Им стало ясно: Атлантида затонула не в океане, как многие считают, а в безбрежной глубине необъятного неба.
Шкаф с выпитыми книгами и дешёвым, до сих пор не прочитанным пойлом. От него веет мудрой зубной болью, голодной молью и неизвестным Мольером.
– Хорошие стихи похожи на воду, – сонно сказала ты.
Утро. Пасмурно. И туман над водой. Весна.
– Завтра будет дождь.
– Почему Вы так решили?
– По твоим глазам. По ним можно предсказывать погоду.
– Дурак! – она, красивая, как старость, зябко поёжилась, отошла от открытого в прибой окна и спросила: – Если собака нюхает цветок, испытывает ли она при этом наслаждение? – и сама же на него и ответила: – Самый поверхностный анализ подводит к предательской мысли, что нет!
В её груди разозлился тихий такой ветерок, который, в силу известных обстоятельств, грозился обрести все признаки урагана, и, чтобы меня не сдуло, я вплотную приблизился к её запаху.
Извини, но попытка ответить на твой вопрос ("С Вами такое бывало когда-нибудь?") потерпела полное фиаско, потому что, читая его в твоих раздетых глазах, я знал: конечно, бывало, но потом уверенность в этом пропала, а ещё через секунду я, как тот древний, "знаю лишь то, что ничего не знаю".
Однако во всём этом есть и положительные стороны: я наконец-то куда-то еду. Хочешь, поехали вместе? Потому что бодун хорош уже тем, что не даёт агрессору завладеть мозгами, и скромно проявляет себя только одной, единственной мыслью: "где бы?", а если есть где, то "как бы так, чтобы не в усмерть?". В противном случае, данные поездки грозят перерасти в заколдованный круг дипсомании, попадая в который, понимаешь: лучше думать о проблемах, связанных с отсутствием сопротивления в невесомости собаки, нюхающей нераспустившиеся цветы белой акации, или, что "самый поверхностный анализ подводит к предательской мысли". Извини, но я забыл, о чём была предательская мысль.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

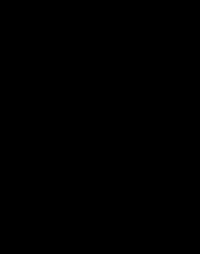


Комментарии к книге «Синий роман», Игорь Редин
Всего 0 комментариев