Сергей Жадан
В каждой культуре существуют имена, которые со временем перерастают содержание и смысл текстов, ими обозначенных. Они уже суть символ и образ явления художника своему времени и обществу.
И с этого момента все подписанное этими именами прочитывается в поле их значения, а прошлое перечитывается сквозь их призму. Мне представляется, что в современной украинской литературе одним из немногих таких имен является Жадан.
Дмитрий А. ПриговЗабыл похвастаться: а я ведь совсем недавно прочитал первую свою книжку на украинском языке.
Автор — Серий Жадан. Я на русском языке давно не читаю никаких книжек, и на английском не читаю, хотя умею, а тут вот прочитал от корки до корки. Приятно, что ни говори, обнаружить брата по разуму, пусть и в соседнем государстве.
Дмитрий ГорчевТрудно писать о депрессии так, чтобы не впасть в нее самому и не вогнать в нее читателя.
Жадану это удалось.
Илья Кормильцев, «Rolling Stone»Anarchy in the ukr (Роман)
I am an antichrist I am an anarchist Don’t know what I want But I know how to get it I wanna destroy passerby Cause I Wanna be Anarchy No dogs body Sex Pistols. Anarchy in the UKЧасть первая «Мои восьмидесятые»
81-й
Кино. Мои восьмидесятые легко экранизировать. Когда в этой стране снова начнут делать кино, я бы снял его про мои восьмидесятые, хотя бы для того, чтобы еще раз воспроизвести для себя на экране один из возможных вариантов построения моей жизни как четкой и прозрачной схемы, в которой с самого начала заложены все необходимые причины и возможные следствия. Это кино было бы в меру дидактическим и в меру развлекательным, меньше всего в нем было бы пафоса и ностальгических соплей. Вместо этого там было бы солнце, много техники, много производства, в общем там было бы все нормально с социальной составляющей, все должно было бы находиться на своих местах — грузовики, железнодорожные склады, придорожная трава, летние утренние сосны, универмаги, пригородные железнодорожные вокзалы, прохладные кинотеатры, газетные киоски, школьные спортивные залы с матами и батутами, вагоны с углем, рейсовые автобусы, пустые автотрассы, колонки с ледяной водой, киоски с грампластинками, шашлычные, очереди на аттракционы, воры-карманники, безумные алкоголики, местечковые проститутки, веселые фарцовщики, спекулянты и киномеханики, бродячие библиотекари со своими переносными лотками и профессиональные цыганки, которые собирают пошлину на базарах и улочках, — в этом кино было бы вдосталь позитивных персонажей, негативных же в нем не было бы совсем, во всяком случае я бы не хотел, чтобы они там появлялись. Более того — в таком кино даже персонажи потенциально негативные, как, например, упомянутые мною здесь фарцовщики или не упомянутые любера, обязательно трактовались бы как герои пусть и не позитивные, но и не без своих достоинств; двойные стандарты, которые сегодня часто оказываются определяющими, в случае с моим кинематографом просто бы не подходили, они бы там были лишними и неуместными, поскольку они везде лишние и неуместные, а в кино тем более. Что там должно быть еще? Там должно быть все нормально с погодой, события должны происходить обязательно летом, мои восьмидесятые это в основном лето, возможно поздняя весна, но лучше все-таки лето; там должно быть много воды, много зелени, ни в коем случае не должно быть политики — политика появится позже, уже в девяностых; в восьмидесятых политики не было, мир держался в своих границах и за них не выходил, жизнь была самодостаточной, страной можно было гордиться, с родителей стоило брать пример, пропаганда не заебывала, социум не давил.
В кино про мои восьмидесятые должно быть много любви, любви спонтанной, непродуманной, уличной и нелогичной, с первым сексом на школьных партах, с первыми разборками за заводскими заборами, с первыми проблемами и первыми обломами, со странными неправдоподобными историями про воровство невест из родительских домов, про тайное венчание, про подпольные аборты, про нежную и захватывающую подростковую групповуху — медленные черно-белые кадры, глубокое и поучительное проживание своих лет, размеренность отведенного тебе кем-то времени; еще там должно звучать множество голосов — веселых, нервных, радостных, которые принадлежат сотням безымянных героев этого фильма, у героев голубые глаза, выгоревшие на солнце волосы, загорелая сухая кожа, они мало спят, много пьют и разговаривают, они постоянно попадают в глупые невыдуманные ситуации, над ними смеются небеса, им много чего прощают боги, потому что, несмотря ни на что, в их действиях нет зла: глупость — да, есть; неистребимая бытовая шиза — сколько угодно; авантюризм, наивность, врожденное ненавязчивое желание наебать всех вокруг, с вышеупомянутыми богами включительно — да, но не зло, зла в этом кино не будет, не ждите.
Вместе с тем в этом кино обязательно должен быть криминал, множество преступников и спекулянтов, злостных нарушителей норм социалистического общежития, безумных маргиналов с топором за голенищем, с ножом в пластиковом дипломате, с шипами роз в горле, толпы малолетних выродков, которые шли стенка на стенку с битыми бутылками в руках, которые брили себе черепа, чтобы все видели, сколько у них шрамов, которые выжигали себе на коже самодельные татуировки, так потом и ходили — с испорченной кожей, с непонятными пентаграммами, с чувством гордости и отваги; этот криминал не должен вызывать депрессняков, поскольку в нем есть привкус горечи и отчаяния от невозможности до конца понять сам механизм протекания жизни вокруг тебя, разрастания ее в естественных декорациях, в которых ты, сколько ни дерись и ни маши своей битой бутылкой, всего лишь один из безымянных статистов, которые проходят по экрану, на мгновение объемно фиксируясь в глазах зрительской аудитории, и навсегда исчезают в черном русле титров. Криминал в этом случае призван делать обстоятельства рождения и любви рельефнее, а обстоятельства смерти — темнее и загадочнее; он скорее приправа, брошенная в эти солнечные поля для полноценного смакования деталей, которыми постепенно наполняется твое существование и которые ты для себя начинаешь постепенно выделять из общего — цельного и продуманного — сценария.
Кстати, детали. Детали могут касаться главных героев, например, это могут быть детали их одежды, разные женские штуки, купленные на черном рынке, перепроданные через третьи руки, удивительные предметы женского туалета, которые потом сдираются с героинь нервными пьяными руками героев, успевая отпечататься в твоей памяти и твоем персональном каталоге; это могут быть детали быта — пестрые синтетические ковры, на которые ставят гробы с покойниками, кожаные авиаторские куртки, привезенные с армейской службы и порезанные бритвой в первой же ночной драке, механические часы, желтые пластмассовые клипсы, офицерские ремни, патроны с губной помадой, самодельные бензиновые зажигалки — блестящие, с тяжелым запахом нефти, — черные острые шпильки, которые высыпаются из женских волос и залетают под сиденье автомобиля, и никто даже не пытается их найти в этом темном ночном автомобиле, на тихой автостоянке, среди разбросанной одежды и настоящей взрослой любви.
События в этом кино должны развиваться медленно и последовательно, тут вообще все продуманно и случайностей почти нет. Вместе с тем событий должно быть много, они должны заполнять собой все то пространство, которое было предоставлено тебе для обживания и освоения; их подвижная, пластичная структура должна подпирать собою прогретое с утра небо, чтоб оно держалось у тебя над головой надежно и твердо, не провисая и не обваливаясь очередными катаклизмами. События должны происходить прямо у тебя на глазах, пусть не всегда при твоем непосредственном участии, но всегда при твоем внутреннем согласии, при твоей включенности в контекст, так, чтобы ты мог пальцами ощущать, как изменяется ситуация с твоей жизнью, как она разворачивается перед твоими глазами; действия должны заполнять собой тот пустой промежуток, что возникает между героями и воздухом, который их окружает; в кино про мои восьмидесятые просто не может быть пустот, оно должно быть густым и наполненным бесчисленными фигурами, движениями и поступками, поступки эти во многом и объясняют общую насыщенность сюжета — они странные и зачастую неоправданные, в них присутствует чрезмерная рискованность и экспрессия, мои главные герои женятся из принципа и вешаются из чувства протеста, рожают от неумения отказать и любят от неумения сдержаться, они идут на преступления азартно, и любят свою родину без всякого идеологического подтекста, большинство из них молоды и самоуверенны, они сами понимают, что случай позволил им родиться в драйвовом месте в удивительное время, и только где-то на заднем плане появляются их родители — измученные и опытные, которые носят в себе, как больное сердце, весь опыт своей страны, своей ежедневной бесконечной борьбы, что в итоге заканчивается, но так и не приносит им успокоения.
В этом кино должны быть массовые сцены, в них льется кровь, льется вино, льются женские слезы, льются слезы пьяных мужчин, наконец, льется горячий летний дождь, заливает собой праздничные столы, заливает людей, которые празднуют свою беспечность и радость, празднуют, обнимая друг друга, распевая пьяные песни постепенно затихающими голосами, о’кей, говорю я, именно так и должно быть, очень хорошо, стоп-мотор, в ходе съемок кино про мои восьмидесятые ни одна сука не пострадала.
82-й
Агитпункт. Мне восемь лет. Я начинаю интересоваться жизнью взрослых. Она ужасает меня своей откровенностью — взрослые живут открыто и легкомысленно, они чувствуют себя уверенно в одном со мной пространстве, контролируют его, они знают, на какую кнопку нужно нажимать, чтобы открылись потайные боковые двери, за которыми находятся двигатели и прожекторы, взрослые регулируют освещение и смену декораций, их отношения друг с другом наполнены непонятной мне страстью и жаждой, они умеют по-настоящему любить и ненавидеть друг друга, чем они, собственно, и занимаются. Меня это захватывает. Я не хочу быть взрослым — я боюсь утратить свою дистанцированность от их жизни, я боюсь, что, попав в нее, утрачу способность чувствовать, насколько фантастичны предложенные мне условия контракта. Более того, в своем теперешнем — восьмилетием — социальном статусе я пользуюсь невиданными льготами и преимуществами: взрослые не замечают с моей стороны никакой угрозы и поэтому легко подпускают к себе, дают мне возможность вблизи и беспрепятственно разглядывать все неприметные детали их ежедневного быта, рыться в шкафах с бельем, в письменных столах с некачественными советскими презервативами, в ящиках с любовной перепиской, в багажниках автомобилей с трупами и демонами; они даже не догадываются, что я держу их на прицеле, что я уже завел на каждого из них персональное дело и отвел каждому из них одиночную камеру в своей детской памяти, и что выйти когда-нибудь из этой камеры, из этой тюрьмы, из моей памяти им просто не светит — моя память цепкая, как дикий виноград на стене дома, она не требует никакого ухода с моей стороны, она питается собственными соками, переваривая жирные сочные куски прошлого — моего прошлого, чужого прошлого, общего прошлого. Моя память кровоточит, обрезавшись об острые края реальности, на ней остаются знаки и зарубки, благодаря которым я всегда смогу вспомнить это странное, медленное, но безостановочное движение вперед, движение вверх, по стене дома, цепляясь за выступы и кирпичи, за антенны и ставни — двигаться вверх, заглядывая в окна и находясь вместе с тем на безопасном расстоянии; моя память — односторонняя, никто не замечает возле себя ее присутствия, никто не видит, как она оплетает стену его дома, пуская острые и надежные корни в углубления и трещины между кирпичами. Не надо было игнорировать меня, не надо было так пренебрежительно относиться к моему присутствию, вместе со мной всегда присутствовала моя память, она, следует заметить, развивалась куда быстрее и динамичнее, чем, скажем, моя сексуальность или мой патриотизм. Частично она их заменяла — и мою сексуальность, и мой патриотизм; в большой степени знание о чем-то тайном, сладком и запретном долгое время воспринималось мною как половое влечение, мне и теперь больше нравится секс в квамперфекте, чем в футуруме. Я должен был бы родиться фетишистом, я им и родился, просто никто мне об этом не сказал, а сам я об этом узнал слишком поздно — когда уже что-то менять было просто влом. То же самое и с патриотизмом — когда мне говорят о любви к родине, я, как правило, соглашаюсь, вспоминая каждый раз какой-то отдельный, конкретный случай любви. Из такой памяти выбраться очень тяжело, я слишком тщательно и регулярно делаю ее инвентаризацию и капитальный ремонт, я боюсь утратить даже малейшие приобретения, вырванные мною у реальности с боями и потерями в моем постоянном патрулировании неизвестной мне на то время взрослой жизни. Просто не надо было меня игнорировать.
То, что они воспринимают привычно и буднично, при отсутствии преимуществ и льгот, которыми наделен я в свои восемь лет, я понимаю как откровение, как нечто невиданное, я переживаю настоящий болевой шок, вот уже тридцать лет я переживаю шок от малейшего контакта с реальностью, она меня просто убивает своим внутренним строением, своей структурой, которую невозможно воспроизвести искусственно, просто так, без привлечения вещей сакральных, таких как любовь, ревность, транквилизаторы, контрацептивы.
Шок быстро проходит, однако остается еще одна зарубка на вене, еще один порез, который я разглядываю через двадцать лет, реставрируя для себя мельчайшие детали и обстоятельства, так и не приблизившись за двадцать лет к пониманию захватывающей простоты этого сюжета.
Однажды они встречаются, совершенно случайно, скажем, возле агитпункта — в апреле должны состояться выборы, их заставили прийти на агитпункт за какой-то информацией, от них требуют участия в общественной жизни, им это, насколько можно заметить, не нравится. На них смешная и претенциозная одежда восьмидесятых — на нем синяя куртка, на ней легкое пальто, весна холодная, но она с этим не считается, она впервые после зимы надела это пальто и старательно не реагирует на холод. У него проблемы с учебой, он несколько раз проходил свидетелем по делам, связанным с мелким хулиганством и нарушением общественного порядка; у нее, как и полагается в подобных случаях, проблем с учебой, да и вообще проблем, нет, поэтому не удивительно, что, встретившись возле агитпункта, они обращают друг на друга внимание. Она ему нравится, она нравится его друзьям, хотя его друзьям обычно никто не нравится, но тут они вдруг говорят — она нормальная, нормальная телка, давай, подойди к ней, чего ты боишься? Он сам не знает, чего он боится, просто боится, поэтому нервничает и ведет себя как даун, ну, это мы опускаем. Она не знает, нравится ли он ей, у него куча проблем, у него дурацкая куртка и год условно, он не нравится ее родителям, он не нравится ее подругам, которые справедливо считают его дауном. Они встречаются еще раз в день выборов, над агитпунктом бьются на ветру флаги, в буфете продают крем-соду, он пробует не заметить ее, она же неожиданно для себя начинает с ним о чем-то говорить. После этого она идет домой и слушает какие-то, как ей кажется, клевые записи, ну, скажем, она слушает полис, или аббу, пусть лучше аббу, да — после этого она сидит дома в теплом свитере и слушает аббу, а его останавливает на улице патруль и с целью профилактики дает ему по голове. В их отношениях можно заметить очевидный прогресс.
Согласно законам жанра дальше наступает пауза. Тут в его жизни должна была бы появиться другая женщина — с меньшими претензиями и большим опытом. Но она не появляется, в таких случаях чистоту жанра соблюсти трудно, лучше уж держаться достоверности, как она мне теперь видится. Его друзья говорят ему — ладно, говорят они, мы знали, что ты даун, ты нас в этом еще раз убедил, молодец, пошли бить окна на квартале, и он идет с ними. Но тут возникает неожиданный сюжетный ход — ее младший брат, который за всем этим молча наблюдает, в какой-то момент начинает понимать, что еще чуть-чуть, и они все испортят, эти двое, они уже оба ведут себя как дауны, так не годится. И вот он подходит к нему и говорит — ты что, ты разве не понимаешь, что ты теряешь? Даже если вы завтра разбежитесь, говорит он, даже если вы потом здороваться не будете, даже если вы поубиваете друг друга — ты просто должен к ней пойти, ты что — не понимаешь этого? Сначала он хочет брата придушить, потом он признается сам себе, ну, заодно и брату, что действительно — он хочет ее, она ему нравится, и друзьям его тоже нравится (в этом месте брат перебивает его, говорит, что друзья тут ни при чем), что вообще он только о ней и думает. Ну, так давай, говорит ему брат, родителей как раз нет, родители как раз в Праге, где? переспрашивает он, в Праге, говорит брат, в Чехословакии, знаешь такую страну? знаю, говорит он, ну, так давай — иди к ней, иди, я дам тебе гондон. Он берет и действительно идет к ней. Она его, конечно, не ждет, но, знаете, тут происходит такая вещь — он остается у нее до утра и она его не выгоняет. Не выгоняет она его и на следующий день, только вечером просит дать ей немного отдохнуть, провожает его до остановки, долго стоит и не отпускает его. После этого они расходятся по домам, падают навзничь, каждый в свою кровать, и, засыпая, смотрят на небо. Небо в это время лежит на животе и, точно так же засыпая, смотрит на них.
83-й
Парк культуры. Советская агитация воспитала во мне любовь к жизни. Красный цвет флагов и производственных лозунгов въедался в мою сетчатку, как йод въедается в открытую рану. Функционально выдержанные и строгие мессиджи, наполненные непривычным на первый взгляд количеством фактического материала, диаграммы и графики экономического роста, аскетические профили и коммунистическая орнаменталистика создавали солнечное настроение. Я отыскиваю их сейчас, эти обломки великой повседневной эстетики, и понимаю, в чем тут дело — они помогают мне идентифицировать себя и своих близких, они дают мне возможность держаться за свое время, ощущать, как оно бьется, пытаясь вырваться из моих рук. Я люблю красный цвет, я люблю красные флаги, красный флаг был первым флагом, с которым я пошел на стадион, правда, это был не совсем красный, а красный, кажется, с белым — это был грузинский флаг, все мои друзья шли на стадион, и каждый что-то с собой нес, я нашел в доме культуры, в углу, набор флагов братских республик, все 15, я выбрал грузинский — белой полосой он напоминал мне цвета Спартака, я шел на стадион и думал — какой клевый у меня флаг, такого флага больше ни у кого нет, встречные шли и думали — что это за уебок идет с грузинским флагом; у меня были свои счеты с обществом — оно меня не понимало, я ему этого не забыл.
Я отыскиваю эти знаки, эти свидетельства великой информационной войны на домах и памятниках бывших советских городов и понимаю, почему они мне так нравятся, — это буквы моего детства, это цвета моих восьмидесятых, моя первая любовь, моя истинная гордость, мой частный социализм, которого меня лишили без моего согласия. Мой социализм был прежде всего внешним, уличным, визуальным; все эти фишки насчет социальных гарантий и радости коммунистического труда стали для меня важными значительно позже, а тогда я видел перед собой белые буквы на красном кумаче, и картинка, которую я видел, меня в целом устраивала. В этом мало идеологии, я прекрасно понимаю, что по цветовой гамме и композиционным решениям «слава кпсс» 80-х это «всегда кока-кола» 90-х. Каждый находит свой пафос; тот, кто не находит его, умирает от депрессии.
На втором этаже автовокзала, в зале ожидания, во времена моего детства висела картина. Во-первых, она была масштабной, где-то три на четыре. Во-вторых, поражала количеством персонажей — там был изображен съезд депутатов местных советов, перед которыми выступает Ильич. Депутатов было около полусотни, кто-то старательно и достоверно вырисовал их забинтованные головы, пулеметные ленты, переброшенные через плечо, в углу стоял черный и монументальный пулемет максим, похожий на послушного сенбернара, с которым Ильич вечерами мог гулять по Смольному, чтобы не было так одиноко, а тут решил взять с собой на съезд депутатов местных советов и, привязав к ножке кресла, приступил к обзору политической ситуации в стране; депутаты слушали Ильича внимательно, при всей монументальности картины было видно, как они, соглашаясь, кивают чубатыми головами и смущаются своих обшарпанных башмаков, к подошвам которых прилипла вся грязь и говно поверженной тирании. Ильич показывал на карту, карта была почеркана красными и черными стремительными линиями — по-моему, это был если не деникинский, то во всяком случае польский фронт, по-любому я угадывал за этими скупо набросанными контурными ориентирами, которые художник счел целесообразным изобразить для присутствующих в зале депутатов местных советов, территорию, которая меня окружала, иначе и быть не могло — все должно было быть связанным и внутренне согласованным, и поскольку тут висели депутаты с Ильичом и сенбернаром, то следовало же им иметь какое-то непосредственное отношение и ко мне, и к моей республике, и к моему частному социализму. Я любил рассматривать эту картину, мне нравились депутаты местных советов, они были энергичны и возбуждены, видно было, что Ильич их изрядно удивил, показав эту карту, внешне это выглядело так: депутаты местных советов пока что даже не догадываются о существовании деникинского или там польского фронта, они просто пришли к Ильичу поговорить о социальных гарантиях и радости коммунистического труда, посъезжались со всех губерний и уездов, шумно расселись в бывшем господском дворце, стыдясь грязи и говна на своей обуви, кто-то закуривает косяк, кто-то нервно покашливает, все ждут Ильича; тут двери зала открываются и входит Ильич, ведя на поводке большого черного сенбернара, привязывает его к ножке кресла, выходит на сцену, ну что, говорит, товарищи депутаты, тема нашей сегодняшней встречи — ликвидация деникинского фронта. Какого такого фронта? начинают роптать депутаты, нет никакого такого фронта, давайте лучше про гарантии поговорим. Гарантии? переспрашивает их насмешливо Ильич, а это по-вашему что — хуй? он резко разворачивает перед ними карту с красными и черными линиями. Сенбернар громко лает. Депутаты изумленно охают — ох, говорят они, и правда — деникинский фронт, что ж это мы так облажались, перед Ильичем-то? Вот тебе и гарантии.
В конце восьмидесятых о портрет Ильича стали гасить окурки.
Я не был на вокзале лет десять. Он изменился — появились киоски, компьютерные игры, исчезла парикмахерская, все рушилось и тонуло в волнах песка; в прошлом году решил все же зайти. Поднялся на второй этаж. Картины, ясное дело, не было, очевидно, ее сожгли. Или кто-то выкупил для частной коллекции за сто тысяч американских долларов. На стене и теперь были видны ее контуры — ремонт с того времени никто не делал. Я молча простил своему прошлому еще одно предательство и пошел на выход. Вдруг я остановился, что-то привлекло мое внимание. Между вторым и третьим этажом находилось что-то до спазмов знакомое. Не может быть, подумал я и пошел смотреть. Это действительно была она. Перевернутая набок, картина полностью закрывала собой окно, из-за чего на лестнице стоял сумрак. Но сквозь длинные надрезы в нескольких местах пробивались лучи, фрагментируя и дробя изображение. В один из этих надрезов Ильич показывал рукой. Я подошел ближе и заглянул — горячее лето, солнечная пыль, далекий и тревожный мир, который так и не понял радости коммунистического труда.
Чем мне нравился парк культуры — он жил своей жизнью. Мало считаясь с прихотями и конвульсиями времени за зеленой изгородью, что отделяла парк от взрослого мира. Мне нравилось постоянное движение в парке, общее настроение — оттяжное и ненавязчивое, такое настроение царит, очевидно, в чистилище, когда уже менять что-либо поздно и только и остается, что ждать решения присяжных, качаясь при этом на тяжелых деревянных качелях. В парке работал знакомый моих родителей, удивительно широкой души человек, постоянно угашенный и элегически настроенный относительно детского отдыха, он продавал билеты, включал карусели, запускал качели, обеспечивая движение всего живого, после чего закрывался с дворником в тесной кабинке с надписью касса и дальше бухал. Иногда он забывал про карусели, и дети часами катались на крашеных слониках — до истерии, до блевоты, в смысле не до того момента, когда им становилось плохо, а как раз наоборот — когда становилось плохо ему, и он выбегал из своей кабинки и видел весь этот вертеп вокруг себя, после чего ему становилось еще хуже. Меня он всегда катал бесплатно.
Иногда я думаю — катает ли кто-нибудь и дальше в этом парке детей, есть ли у них свой детский святой, который нетвердым похмельным движением запускает все карусели и аттракционы их детства, жонглирует солнцами и перебрасывается радугами, высыпая из карманов вместе с остатками мелочи звезды и метеориты; какие знаки замечают они вокруг себя, на каких буквах они учатся читать; смогут ли они потом рассказать уже своим детям и внукам, как в их мирном небе, прямо над их головами, еще можно было увидеть величественные и гаснущие вспышки истории; история эта была большой и недосягаемой, и имела кроваво-красный оттенок — как тюльпаны, как кровь, как кока-кола.
84-й
Гараж. У моего старика были свои методы воспитания. Как правило, он мне ни в чем не отказывал, давал все, что я просил, однако когда ему казалось, что я теряю совесть, просто обламывал, и все — говорить о чем-то дальше было бесполезно. Он все время был в дороге — то перегонял новые машины, то мотался по окружающим базам в поисках разных деталей, меня это вставляло, я время от времени цеплялся к нему, начинал канючить, он не выдерживал и брал меня с собой. Все детство я прокатался со своим стариком; когда дорога была далекой, я засыпал на заднем сиденье, когда я хотел есть, он останавливался возле какой-нибудь придорожной столовой и кормил меня строгой водительской пищей. Я и теперь помню те столовые, возле которых, как правило, стояло несколько фур, рядом могла примоститься цивильная копейка, где-нибудь с краю мог возникнуть черный мотоциклетный бок, но в основном толклись дальнобойщики, которые гнали летними трассами в никуда, и только короткие остановки в учреждениях общественного питания хоть как-то оживляли монотонность их погони по трассам республиканского и союзного значения. Водителей всегда можно было вычислить в компании, у них был внимательный медленный взгляд, взгляд степной фауны, которая постоянно что-то себе высматривает, они на ощупь изучали географию, ехали, куда им скажут, разведывая дорогу, мне они никогда не нравились, то, что мой старик гоняет тачки и работает водителем, меня устраивало, а вот все остальные водители мне не нравились, я думал тогда, да и теперь так думаю, что мой старик приятное исключение из этой довольно мудаковатой публики — водителей. Меня, кстати, водители тоже не любят. Сколько раз меня выбрасывали из автобусов или троллейбусов, правда, когда я был без билета, или в бессознательном состоянии, или просто скандалил, хотя для меня лично это мало что меняет. Правда, выбрасывали меня уже в другой, следующей жизни, тогда же, в моих восьмидесятых, старик кормил меня, условно говоря, дарами полей, поил горьким компотом, и мы возвращались к нашей машине. Было солнечно и ветрено, по трассе неслись грузовики на Россию, время от времени появлялись одинокие велосипедисты, которые ехали медленно и имели возможность рассмотреть маленького наглого путешественника, который стоял и мочился под стеной водительской столовой, ну то есть меня, как вы догадались. Мы ехали дальше, приезжали на автобазу, и тут начиналось самое скучное — старик исчезал в конторе с какими-то накладными на серой бумаге, а я оставался один — под голубым небом, под шлакоблочными стенами гаражей, возле проходной, за которой находился еще один стратегический пункт народнохозяйственного назначения.
Я бросал машину и шел на большую автомобильную свалку, что начиналась сразу за гаражами. Там было настоящее кладбище убитой автотехники — разрезанные автогеном кабины зарастали густой травой, кое-где лежали кресла, вырванные с корнем, как зубы; в прогоревшие до дыр скаты затекала дождевая вода, и над всем этим летали бабочки, они залетали в глазницы кабин, садились на разъебанные молоковозы, перелетали от остова к остову, я гонялся за ними, перебегая от одного раздавленного прессом грузовика к другому. Я залезал в более-менее уцелевшие кабины и рассматривал остатки чьей-то собственности: наклейки на дверцах с поцарапанными женскими головками, покрашенные красным лаком для ногтей тумблеры на приборной доске, выцарапанные на руле инициалы, которые могли принадлежать кому угодно — это могли быть как инициалы бывшего владельца машины, так и того, кто его убил. Я часами лазил среди этих обломков кораблекрушения, пока мой старик не возвращался с очередным коленвалом и не выманивал меня сигналом из моего укрытия. Я возвращался, ну наконец-то, говорил я недовольно, сколько можно; старик не обращал внимания, мы садились и ехали дальше. В первом же встречном городке я начинал что-нибудь канючить, старик не выдерживал и покупал, что уж я там просил, но, как правило, покупал просто так, без моего плача, я же говорю — у него были свои методы.
В моем теперешнем представлении о тех годах жизнь держалась вокруг трассы, я понимаю, что это вряд ли отвечало действительности, и если бы мне в то время показали какие-то другие части этой самой жизни, представление мое как минимум расширилось бы, но мне показали именно это — я вырос на дороге, на заднем сиденье машины моего старика, я играл там в какие-то свои игры, я жрал там все ништяки, которые продавались в окрестных магазинах, я читал там свои книжки. Мне там нравилось. Я не любил, когда в нашу машину садился кто-то чужой, я был ревнивым ребенком, не любил, когда с моими родителями кто-то заговаривал, ну, все же как-то терпел, куда было деваться.
Мы возвращались домой, было уже поздно, останавливались на железнодорожном переезде, мимо нас на полной скорости мчал товарняк с нефтью, я пытался сосчитать вагоны, время от времени сбиваясь и нервничая по этому поводу, сколько? спрашивал старик, сорок, отвечал я наугад, и он серьезно кивал головой.
Я думаю, что в детстве наше зрение, то есть наш взгляд на жизнь, в большой степени формируется в зависимости от скорости передвижения. Я, например, привык к быстрой смене ландшафтов, я их именно так и воспринимаю — для меня они быстро меняются, находя свое место в моих глазах, а соответственно, и в памяти, моя география формировалась на скорости 80–90 километров в час, сколько раз мне потом приходилось глазеть из автобуса или случайной фуры на пейзажи за окном, ну вот, говорил я себе, они и дальше меняются, иначе и быть не может, просто ты обязан успеть в своей жизни увидеть их если не все, то по крайней мере большую часть, возможно, в этом и есть смысл твоей жизни, если он вообще есть. Зрение, поставленное тебе в детстве, вбирает все — и утренние трассы, которые перебегают животные, и предвечерние скоростные участки дороги, с детьми, которые что-то продают, и ночные куски асфальта, которые выхватываются для тебя фарами, уже почти дома, когда вы наконец приезжаете и ты уже спокойно и крепко спишь на своем заднем сиденье. Я думаю, что ночная шоссейка, освещенная фарами автомобиля, в котором ты едешь, со всей тьмой, которая находится в это время рядом, со всеми жуками, что бьются о стекло, с деревьями, птицами и придорожными призраками, которые стоят в тени, не в силах выйти на свет и рассеяться в нем, — вообще лучшее, что в этой жизни можно увидеть. Такие вот сопли.
В последний раз я видел нашу машину через несколько месяцев после аварии. Она стояла во дворе, я рассматривал ее и думал — интересно, вот в этих обломках, именно в этих, я провел не один день, я мог бы узнать нашу машину по запаху, по прикосновению к обивке салона, по скрипу кресел; теперь вот она стоит, словно после мясорубки, и такое впечатление, что это меня самого сплющило, ведь, если подумать, это могло произойти и раньше, скажем 20 лет назад, и выжил бы я тогда? Странно, но про что еще можно думать, глядя на разбитые машины. Это вообще странное зрелище, где-нибудь на них обязательно запекается кровь; покалеченные, они обретают какую-то особенную резкость и опустошенность, что-то такое, что совсем не вяжется с детством, потому что там, в тех наших переездах, и речи не могло быть, что кто-то может взять и расплющить нашу машину, или вообще какую-то машину на нашей трассе, разве что ее перед тем должны списать, а после этого оттащить на большое автомобильное кладбище. Битые машины вообще странно выглядят, я не говорю про людей, не хочу про них говорить, а вот машины — их не закапывают и не сжигают, их просто оттаскивают на какую-нибудь свалку и оставляют зарастать молочаем и диким чесноком, и они остаются там, пережив собственную смерть; на что они похожи? на что-то горькое и неуместное, например на яблоки, большие перезревшие яблоки, которые падают на твердую почву и разламываются пополам, так что их теперь никто и не подберет; или на банки из-под колы, которые продают в уличных фаст-фудах Берлина или Будапешта, или еще какого-нибудь города в мире, где кто-то заботится о регулярном распространении колы и полной переработке упаковочных материалов; или на страницы из записной книжки Бога, которые тот, не дописав, в какой-то момент окончательно забраковал, нервно вырвал и, скомкав, швырнул в мусорную корзину.
85-й
Больница. В моих восьмидесятых врачей было мало. Они были не нужны, у взрослых в моих восьмидесятых не было времени болеть, жизнь была настолько насыщенной и густой, настолько в ней все было взаимосвязано и согласовано, что обращаться к врачам просто не приходилось. Когда кто-то умирал, то делал это быстро и ненавязчиво. Я вспоминаю из детства несколько похорон, и не могу сказать, чтобы это было слишком печально. Трагичность похорон в моих восьмидесятых была приглушенной, внутренней, не бабской, никто не позволял себе рвать волосы или прыгать в могилу за покойником, ясное дело, что кто-то при этом плакал, кто-то понуро сопровождал гроб, однако земля наша была теплой, а память легкой и долгой, нашим покойникам должно было лежаться уютно и спокойно. Поминки в моих воспоминаниях — нечто скорее оптимистическое, у меня они и до сих пор ассоциируются с возбуждающим запахом толпы, с голосами на кухне, с жиром, который растекается по тарелкам, с казенкой и домашними наливками, с суровыми, уверенными в себе мужчинами и их молодыми женами, которые всегда все подготовят должным образом, чтобы покойному не было стыдно за безрадостные поминки. Врачи тут были лишними. Любое событие в моем детстве, печальное или юбилейное, неважно, — это прежде всего столы, большие, неимоверные столы, заставленные едой и напитками, столы, из-за которых не встают по несколько дней, все мои восьмидесятые — это сплошное застолье, когда каждый день есть повод не вставать из-за стола — если не поминки, то свадьба, если не обжинки, то день конституции, размеренная радостная жизнь, сугубо производственные заботы, ты знаешь свое место под небом, и держишься за него крепко и уверенно, никто не выбьет у тебя почву из-под ног, никто не выбьет у тебя из рук кружку со спиртом, никто не сможет тебя убедить в том, что жизнь не долгая, а смерть не сладкая. Все были заняты серьезными делами, жизнь с точки зрения восьми-девяти лет казалась мне конструкцией максимально точно и прозрачно спроектированной, все было подогнано под меня, под мое врастание в жизнь, под мою увлеченность ею.
Мои родители приятельствовали с семьей участкового врача, это был пожилой мужчина, серьезный и почтенный, дома у него стояло пианино, он позволял себе относиться к моим родителям с доброй снисходительностью, прощая им некоторые человеческие слабости, скажем отсутствие у нас дома пианино. Родители часто брали меня с собой, когда шли в гости к врачу, они заходили во двор, где под деревьями стоял большой стол, долгими летними вечерами сидели там и говорили о чем-то своем; о медицине, я это хорошо помню, не говорил никто, разговоры были громкими, вино было густым и красным, вечера были бесконечными, над столом горела мощная лампа, под которой летали мотыльки, вечерний свет странно рассеивался в воздухе — стоило отойти всего на пару шагов в сторону, от света, и ты проваливался в мягкие сумерки, словно в застоявшуюся озерную воду, прятался в ней, глядя оттуда на ярко освещенный стол, за которым сидели твои родители вместе с врачом, я убегал в дом, подходил к пианино, открывал крышку и рассматривал клавиши, я был немузыкальным ребенком, мой опыт музыкального образования ограничился рассматриванием клавиш, по крайней мере я знаю, что они бывают разные, то есть белые и черные, как минимум.
Когда я уже подрос и умел читать, а читать я научился рано и читать мне было особенно нечего, мой брат попал в больницу. У него было какое-то нагноение, и ему делали операцию. Родители ежедневно его проведывали, иногда брали меня с собой. Брат в больнице скучал, ему было неинтересно, родители приносили ему кучу всего вкусного и новые книжки. Пока они сидели возле него, я брал принесенные ему книжки, садился на соседнюю свободную кровать и быстро их прочитывал. Брат читать не любил, он любил технику.
Я хорошо помню нашего детского врача, она время от времени приходила в школу, чтобы делать нам прививки. Уроки срывались, все готовились к прививкам, каждый пытался как-то по-особому выебнуться в этих условиях, мол, пусть колют сколько хотят и куда хотят, мне все равно. Всем действительно было все равно, врач мне не нравилась, я ее откровенно презирал, хотя ко мне она относилась слишком хорошо, как я теперь себе понимаю. Позже, через несколько лет, ее сын, редкостный ублюдок, поссорится со своими друзьями, украдет у нее ключи от ее врачебного кабинета, залезет туда и сожрет кучу разных таблеток. Его откачают, хотя он этого и не просил. Еще однажды ее двоюродный брат тоже с кем-то поссорится и выпьет дихлофос. Этого даже не откачают, за ним приедет скорая, тело загрузят и увезут на вскрытие. Тогда я впервые пойму, почему не люблю врачей — рядом с ними обязательно находится смерть, где-то совсем рядом, так что лучше держаться от них подальше.
В детстве я мало болел, у меня тоже не было на это времени, я был слишком занят своими делами, своими отношениями с окружающим миром, мне просто жалко было терять драгоценное время на разные глупости. Но в какую-то из зим я все же сильно простыл и несколько суток валялся в постели с температурой. В какой-то момент — очевидно, его можно назвать критическим — я начал бредить. Бредил я впервые в жизни, возможно, поэтому хорошо это запомнил. Проваливаясь время от времени в сон и выпадая оттуда наружу, я вдруг увидел перед собой свой мир, как он мне тогда представлялся, картинка была яркая и четкая, никогда после этого я уже не видел жизнь так четко, в дальнейшем жизнь всегда расплывалась у меня перед глазами, а тогда я вдруг увидел все — мой мир состоял из ярко освещенных солнцем городов, светлых многоэтажных зданий, улиц, по которым только что проехались поливальные машины, теплого хлеба в магазинах, свежего молока и холодных овощей, мокрого песка на железнодорожных переездах, луж на грунтовых дорогах, по которым движутся грузовики; я видел города сверху, в них было много заводов и шахт, сортировочных станций с рыжими товарными вагонами и прохладных с утра контор, мои города объединяли шоссейки, на которых плавилась от солнца смола и по обе стороны которых росли влажные сосновые леса; дальше на юг шахт становилось все больше, жизнь была все громогласней, я видел своих друзей, которые выбегали с утра из домов и мчались в школу, видел футбольные поля, видел стаи голубей над футбольными полями, еще дальше на юг начиналось море, там было много песка и воды, солнце слепило мне глаза; за морем, совсем далеко, в солнечных лучах терялись горы, это были Балканы, я точно знал, что это Балканы, мой старик был когда-то в Югославии и привез мне оттуда почтовые открытки, я себе очень хорошо представлял эти горы, с неимоверным количеством цвета и солнца, за Балканами не было ничего, на этом мир заканчивался, этого было совершенно достаточно, я мог уместить в своем теле именно такое количество травы, листьев, черешен, плоских и горячих пшеничных полей, зеленых грузовиков, молчаливых механиков, белого кирпича и желтого лимонада; я отворачивался от гор и смотрел на восток, на востоке были поля, бесконечные поля, которые мы много раз проезжали с моим стариком, когда тот ехал куда-нибудь на несколько дней и брал меня с собой, поля освещались ровным солнечным светом, и как я ни пытался, но не мог увидеть, что же там дальше — за теми полями, должно же там что-то быть, но я ничего не видел, соответственно — там ничего не было, рядом стояли мои города, работали мои фабрики, мои друзья ждали меня, взрослые относились ко мне благосклонно и доброжелательно, незнакомые водители клаксонили мне, проезжая мимо, в море стояли корабли и плавали рыбы, они высовывались из волн, как пассажиры из окон автобуса, и смотрели на меня, будто говорили — что с тобой? что ты себе думаешь? разве можно болеть, когда у тебя есть такое море, когда у тебя есть мы?
И тогда я подумал — действительно, что это я себе думаю, как можно болеть, когда есть такие корабли и такие рыбы, когда у меня столько воздуха и столько деревьев, когда у меня есть мой старик, который меня обязательно еще куда-нибудь возьмет, когда у меня, в конце концов, есть мои Балканы, которых кроме меня никто не замечает в летнем предвечернем мареве. Очевидно, подумал я, такой мир стоит того, чтобы не умирать. Тем более, я никогда еще не был на море. Что я, в самом деле, себе думаю, подумал я и пришел в сознание. Пришел и на всякий случай остался, мне становилось лучше, я возвращался к жизни, жизнь возвращалась ко мне.
86-й
Стадион. До пятого класса спортом я не интересовался. Спорт проходил мимо меня. Все мои друзья гоняли с утра до вечера резиновый мяч, кожаного у них, ясное дело, не было, постоянно требуя, чтобы я хотя бы встал на ворота, если нормально играть не хочу, но я всегда находил какую-нибудь причину и отказывался, или отказывался просто так — без причины. Очевидно, они считали меня мудаком, в большой степени так оно и было, но спортом я все равно не интересовался. Мне было насрать, что они все про меня думают, на самом деле мне и теперь насрать, что про меня думают, это уже, можно сказать, черта характера. Но все стало на свои места в 86-м, в июне 86-го, если быть точнее. Мы все включили свои телевизоры и увидели Марадону, старого шулера, который порвал на куски бундестим, который забивал мячи руками, который нюхал кокаин (ну, это я теперь знаю, что он его нюхал, а тогда я о чем-то подобном даже и не думал), который в самые эмоциональные моменты плакал и даже этого не стыдился. Марадона был настоящим крутым уебком, не любить которого и не подражать которому было просто невозможно. Я встал на ворота.
Одним из самых важных героев в моей жизни был мой Тренер. Он появился немного позже и совсем не случайно — городской спорткомитет решил его где-то трудоустроить и перебросил в нашу школу, учителем физкультуры. Кроме этого он должен был тренировать и взрослую команду, что состояла из наших старших друзей. Сам он был профессиональным футболистом и несколько лет играл то ли в первой, то ли в высшей лиге, теперь он выступал за команду нашего городка, это был полупрофессиональный клуб, сформированный из вот таких отставных аутсайдеров, большинство из них действительно играли на уровне если не первой, то по крайней мере второй лиги, но все они были кончеными лузерами, и наш местечковый клуб был их лебединой песней, отстойником для неудачников, что не мешало нам приходить на каждый домашний матч и болеть за нашего Тренера. Тренер раз от раза все больше пил и на поле лажал, но нам-то что с того, он был нашим Тренером, он нас тренировал, он собрал любительскую команду из наших старших друзей, и они громили все заводские команды городка. Без профессионального спорта мы могли обойтись, зато среди любителей мы были лучшими.
Уроками физкультуры Тренер не интересовался, его не впирало вести классные журналы, разрабатывать программы и составлять планы на четверть, на урок он приходил с мячом (кожаным, настоящим кожаным мячом!), кидал нам его, как кусок сырого мяса шавкам, и мы уже мутузили его по стоптанной площадке, разбивая окна первого этажа нашей школы, разрывая футболки друг другу и запуская его — этот мяч — в бесконечное солнечное небо восьмидесятых. Директор школы Тренера побаивалась и не трогала — он был кандидатом в мастера спорта, его любило районное начальство, поскольку он тянул, как мог, на себе главную команду города, кроме того, Тренер постоянно был поддатый и на субординацию особенно внимания не обращал, поэтому директорша каждый раз только сокрушенно вздыхала и звала учителя труда, чтобы он вставил стекло. У Тренера были свои представления об успешности и школьных планах, он выставлял нас против всех окрестных школ, мы выигрывали, после победы он приносил на занятия полный карман значков ГГО второй и третьей степени и раздавал нам вместо оценок. Мы были ебнутыми не меньше его и все эти значки действительно носили, не то чтобы они для нас много значили, просто это было вроде звездочки за сбитый самолет. Помню, в какой-то момент я носил на школьной форме около десяти значков ГТО. Потом я обломался и выбросил их. Вместе с формой, кстати.
Постепенно Тренер начал брать нас во взрослую команду, кроме него там играли еще несколько серьезных игроков из городского клуба, его коллеги по аутсайдерству, в общем-то это было нарушение регламента, они не имели права играть за нашу любительскую команду, но кого это волновало. Наши выезжали автобусом на тот или другой колхозный стадион, где громили несчастных местных комбайнеров, которые отчаянно не успевали за нашими, даже ноги им поломать не умели — ноги они ломали себе. Наши вели обычно с такой форой, что где-то под конец игры Тренер мог выпустить и нас, молодых, тут уже комбайнеры отрывались на нас по полной, однако времени, чтобы исправить положение, уже не было, мы побеждали, ощущая свою непосредственную причастность к общему успеху. Взрослые мужчины не сдерживали себя и смотрели на нас с ненавистью, не понимая — почему именно мы победили, это было что-то большее, чем спорт, Тренер ходил и собирал нас по полю, пошли, говорил он, нечего тут делать, среди этих костоломов. Мы грузились в автобус, который быстро наполнялся запахом мокрых гетр и пропотевших насквозь футболок, запахом кожи и пропитых мужских тел, от нашего футбола всегда несло спиртом, у Тренера была касса — профсоюзы официально платили каждому участнику матча что-то около трех советских рублей, это были уже деньги; Тренер и нас в большой степени брал для количества, потому что на каждого из нас, независимо от нашей пользы для этих соревнований, в соответствии со справедливой советской системой распределения тоже приходилось по три рубля, деньги Тренер, ясное дело, никому не отдавал, он брал всю сумму и покупал две банки самогона, шесть литров бронебойного, взрывоопасного сэма, который мы выпивали прямо в автобусе, вместе со старшими коллегами по мячу, вместе с легионерами из городского клуба, вместе с нашим Тренером и Учителем.
Мы приползали домой, но даже в таком состоянии мы мало чего боялись, родители не осмеливались нас трогать, у нас была железная отмазка — мы занимаемся спортом, причем делаем в этом направлении очевидные успехи. В какой-то момент мы забили на все — мы забили на учебу, на кино и телевидение, на родителей и семьи, даже на секс забили, то есть у нас его и не было до того, секса-то, а тут мы на него еще и забили: какой секс — мы каждый день гоняли наш кожаный мяч, до отупения, до темноты в глазах, до одури, до абсолюта. Мы вытоптали наше поле до черной сухой пыли, мы сбивали шипы с наших бутсов, на наших футболках проступала соль и не видно было номеров, но мы знали наши номера на память, и это было самое важное на тот момент для нас знание. Все это должно было в итоге как-то закончиться.
Как-то Тренер попросил нескольких из нас сыграть за одну из заводских команд, пообещал, что кроме нас придут еще несколько его друзей-легионеров. Мы согласились. Легионер пришел один. Против нас выставили действительно серьезную команду. Они нас просто задавили. Я стоял на воротах, и к концу игры меня чуть не убили. В результате легионер на нас еще и обиделся, пацаны, — сказал, — играть не умеете. Мы шли домой и старались не смотреть друг другу в глаза. Настолько опущенным я себя еще не чувствовал. После этого моя любовь к Тренеру несколько спала.
Но дело не в этом. Знаете, что с ним случилось? Не поверите. Это уже когда я закончил школу, а он почти не играл. Он трахнул нашу школьную уборщицу. Честное слово. Прямо на матах в спортзале. Вместе с учителем труда (то есть учителя труда он не трахал, они вместе трахнули уборщицу). Вместе они и лечились в венерологическом диспансере, вместе их и уволили с работы. Думаю, его не очень это и беспокоило, не знаю, как там уборщица, а для него, очевидно, это не было делом жизни, свое дело он делал на поле, выводя нас на жесткую колючую траву разбитых стадионов, вытягивая нас с собой в наше будущее, давая нам — впервые в жизни — возможность ощутить себя победителями; это нереальное ощущение от забитого гола, когда ты еще ничего в своей жизни не видел, ты, в отличие от Тренера, еще не догадываешься, каким паскудным и неблагодарным может эта жизнь быть, но ты уже знаешь, что нужно, чтобы оттрахать ее — эту жизнь — но полной программе, отмахать ее насколько хватит сил: пробрасываешь себе по флангу, обходишь их правого опорного, вваливаешься в штрафную и хуяришь в обход вратаря в дальнюю девятку!
Ты, кстати, попробуй как-нибудь при случае.
87-й
Почта. Почтовое отделение вызывало у меня нервное расстройство. Я уже был достаточно независимым в своих высказываниях и поведении, позволял себе иметь собственную точку зрения, и у меня было хобби. Я был футбольным фанатом. Я переписывался с десятком таких же неуравновешенных типов, которые считали себя футбольными фанатами и адреса которых я нашел в газете. Вот вы сейчас спросите, о чем могут переписываться футбольные фанаты. Меня это тоже сначала интересовало, первое письмо я написал скорее из чувства внутреннего протеста, и вдруг получил ответ. Мне открылся странный мир футбольных фанатов. Футбольные фанаты собирали разное говно, количество которого определяло уровень их фанатизма, — программки с футбольных матчей, клубные вымпелы, справочники, значки, календарики, прочий канцтоварный неликвид, была целая каста дилеров, которые скупали всю эту дребедень и перепродавали втридорога таким даунам, как я, грубо пользуясь тем, что я, скажем, сам все эти программки и вымпелы достать не мог. Мне понравилось быть фанатом, я чувствовал, как с каждым значком и каждым вымпелом жизнь моя становится все более полноценной и внутренне оправданной. Очень быстро пристрастие мое обрело угрожающие формы и оттенки. С утра я пытался себя чем-нибудь занять, убивал, как мог, чертовы часы, ожидая, когда придет почтальон. В четыре пополудни он приходил. Если писем не было, день был безнадежно потерян, я пытался заглушить свое отчаяние, пересматривал уже собранные вымпелы и программки, нежно перекладывал их из кучки в кучку, вытирал с них пыль и ждал следующего дня. На следующий день писем снова не было. Я нервничал и злился. Если писем не было и на третий день, я шел на почту. На почте меня уже все знали. Я, в свою очередь, выучил, когда именно завозят свежие газеты и письма, как долго их перебирают и сортируют, когда именно выходит наш почтальон, как быстро он на своем велосипеде объезжает окрестные улочки и когда его нужно ждать возле нашего почтового ящика. Почтальон меня побаивался, я был странным ребенком, который, по его мнению, слишком нетерпеливо ждал почту, слишком болезненно реагировал на отсутствие писем и слишком экспрессивно разрывал полученные конверты. Почтальон нервничал, когда меня видел. Я, когда видел его, тоже нервничал. Мы не любили друг друга, за год моего активного футбольного фанатства мы были измождены и внутренне раздавлены, почтальон не мог понять, как можно быть таким уебком, я был о нем такого же мнения. Иногда я получал уведомления и шел забирать посылку с вымпелами непосредственно на почту. Почтальон оказывался в ловушке. Деваться ему было некуда. Вечером он приносил мне уведомление и быстро удирал на своем велосипеде. Я шел к нему домой и требовал отдать мне мою посылку немедленно, поскольку еще не поздно и в одиннадцать вечера вполне можно пойти на почту и отдать мне мою посылку. Почтальон злорадствовал в душе, но внешне держался вежливо и спокойно, говорил, что почта работает до шести, а в одиннадцать он туда ни за что не пойдет, пусть его хоть расстреляют. Я бы сделал это с большим удовольствием. Но я шел домой, а почтальон мгновенно закрывал за мной двери, подбегал к окну и затравленно смотрел мне вслед. На следующее утро я встречал его возле почтового отделения, он замечал меня еще подъезжая, делал круг и явно хотел повернуть назад, но брал себя в руки, сдержанно здоровался, закатывал велосипед на крыльцо и открывал навесной замок на дверях почты. Я заходил вслед за ним и сразу же возбуждался — в нос било запахом почты, запахом настоящего почтового отделения, это был особенный запах, я сейчас вспоминаю его и снова, кстати, возбуждаюсь, это моя детская травма: кто-то заставал родителей за занятием любовью, кто-то забегал в душ и видел там старшую сестру без лифчика, кого-то изнасиловали в детстве суровые пионервожатые, а я попадал на почту, и все — жизнь моя ломалась и летела к черту, я жадно вдыхал запах клея, запах свежих газет, запах сургуча, темно-малиновые сгустки которого, словно солнца, украшали бандероли; я зачарованно стоял посреди маленькой комнатки почтового отделения, из-за прилавка на меня испуганно смотрел почтальон, он хотел, чтобы я как можно быстрее ушел отсюда, оставив его наедине с его неврозами, но я не спешил, я стоял посреди комнаты и понимал, что жизнь фантастична и впереди у меня счастливое будущее, что у меня есть смысл в жизни и есть цель, что я обязательно когда-нибудь этой цели достигну, и никто, никто и никогда, даже этот почтальон, не сможет мне помешать. Я забирал посылку и шел домой, еще некоторое время ощущая на пальцах запах сургуча. Так пахнет радость.
Через год я разочаровался в футбольном фанатстве и сжег все свои программки и вымпелы. Еще через год я познакомился с занятным типом, Шурой. Шура был мажором, насколько это было возможно в наших сельскохозяйственных условиях, и имел все задатки бытового алкоголика, что в наших условиях было более естественно. Ко мне он относился с симпатией, называл меня Лениным, говорил, что я умный, как Ленин, я не возражал, к Ленину мы относились нейтрально. И вот с Шурой был связан такой случай на почте.
Утратив всякий интерес к футбольному фанатизму, я вместе с тем охладел и к самой почте, почте как понятию, как средоточию моих детских страхов и переживаний. Однако Шура получал время от времени на почте денежные переводы, у него был дедушка, он жил в Киеве и Шуру баловал, но старался держаться от него на расстоянии. Иногда он присылал Шуре бабки. Шура, ничего не говоря родителям, бабки просаживал в первом кооперативном гриль-баре, иногда прихватывая с собой меня. И вот, получив как-то уведомление об очередном переводе, он собрался, надел свой новый понтовый костюм адидас, такие тогда как раз были в моде, взял с собой кассетный плеер, натянул фирменный блейзер и пошел. Шура, кричит ему с кухни мама, выведи Степу. Степой звали их пса, боксера. Это был единственный боксер в городе. Он стоил кучу бабок, его берегли и не воспитывали. Степа был тупой, как все боксеры, но кроме того он был еще и агрессивный, впрочем, тоже как все боксеры. Однажды, когда Шура выгуливал его в парке недалеко от дома, Степа поймал и задушил чью-то таксу. Шура надавал тогда ему пиздюлей, а таксу спрятал в коробку из-под спагетти и оставил возле подъезда. Услышав мамин крик, Шура неохотно взял собаку и пошел. По дороге он зашел в гриль-бар и выпил. Возле почты он зашел в магазин и выпил еще. Привязал Степу к дверям почтового отделения и пошел за переводом. Получив деньги, быстро вернулся в гриль-бар, там еще выпил, пришел домой и завалился спать. В шесть вечера работники почтового отделения попытались выйти из помещения. В дверях стоял привязанный Степа и угрожающе пускал пену изо рта. Пройти мимо него никто не решался — Степа стоял насмерть и пропускать никого не собирался. Одна из работниц позвонила мужу, охотнику-любителю, тот взял ружье и прибежал к почтовому отделению, увидел ошалевшего Степу и начал стрелять. Охотником он был хуевым — первые несколько зарядов прошли мимо пса, зато полностью разнесли входные двери. Пес с перепугу сделал кучу, прямо на пороге почтового отделения. Он отчаянно выл, женщины на почте, что характерно, — тоже. Кто-то из соседей, услышав выстрелы и увидев чувака с двустволкой, вызвал милицию. Милиция приехала и увидела приблизительно такую картину — стоит чувак в спортивных штанах и валит из двух стволов по почтовому отделению, из окон которого на него смотрят несколько женщин и от страха подвывают. Милиция кладет чувака на землю, потом заталкивает его в бобик и везет в участок. Жена охотника это видит и теряет сознание. Степа скрипит челюстями, бросается по ступенькам в подвал и повисает на собственном поводке. На следующее утро Шура прокумаривается, видит, что пса нету, начинает что-то припоминать, приходит на почту и находит там его остывшее тело. Шура отвязывает поводок, приносит пса домой, замотав его в собственную куртку, ждет, когда родители пойдут на работу, после этого прячет пса в коробку из-под спагетти и оставляет возле подъезда.
88-й
Пивзавод. Мой друг Джохар сидит на автовокзале и держит в руках полиэтиленовый пакетик с пивом. В пакетик влезает литр. Первый литр он уже выпил, прямо здесь, на вокзале, а второй решил взять с собой, в дорогу. Ехать ему нужно 20 километров в сторону бесконечных колхозных полей, в небольшой городок, почти в России. Джохара выгнали из нашей школы, и он думает, где бы ему продолжить курс обучения и самопознания. Здесь он оставаться не хочет, здесь он на всех обижен, в частности на нас, его друзей и одноклассников; кто-то посоветовал ему этот вариант с Россией, сказал, что там нормальная средняя школа и что там он сможет хоть негров в параше вешать, никто ему ничего не скажет. Джохар согласился. Сегодня у него должно было состояться собеседование, через несколько дней начинался учебный год.
Я вижу его еще издалека, думаю, что за мудак сидит с пивом, неужели Джохар, думаю я, подходя, мы с ним не виделись с апреля, когда его, собственно, и выгнали, он тоже меня замечает и настороженно здоровается. Что делаешь? спрашиваю, ничего, говорит он, пиво пью. Куда-то едешь? не отстаю я, да нет, говорит он, просто — пиво пью. Будешь? спрашивает он меня и протягивает пакетик. Мне нужно обувь в школу купить, говорю. Ну, потом купишь, говорит Джохар, выпьешь и купишь — он осторожно прокусывает снизу пакетик, придерживает его обеими руками и дает мне. Я начинаю пить, отрываюсь на мгновение, перевожу дыхание и снова прикладываюсь. Мы с ним быстро выпиваем его литр, давай еще, говорит он, а автобус? спрашиваю, какой автобус? делано настораживается Джохар, ладно, говорю, давай. Мы идем к бочке с пивом, выстаиваем короткую утреннюю очередь и наполняем еще один пакетик. Мы сидим на лавочках у автовокзала и медленно пьем. Солнце начинает прогревать привокзальную площадь, становится жарко, пиво бьет в голову, мы только недавно начали пить, знаешь что, говорит Джохар, тут жарко, пошли в кафе. Какое кафе? говорю я, мне обувь покупать, не ссы, перебивает меня Джохар, купишь. И мы идем в кафе возле стадиона, это, собственно, и не кафе, столовая, это они последнее время называют себя кафе, у них тут кооперативное движение полным ходом, мы заходим и берем по литру мутного бутылочного пива, с толстым слоем осадка на дне. Ты успеешь на автобус? спрашиваю я, успею, говорит Джохар, еще успею. Я не уверен, что он меня понял.
Через полчаса Джохар переворачивает наш стол, в том возрасте пить мы еще не умели, бутылки катятся по полу, но в основном бьются, из коридора выбегает какой-то кооператор и хватает Джохара, который к нему ближе, но тот уклоняется и валит кооператора на пол, прямо на битое стекло, кооператор кричит, мы с Джохаром выбегаем из кафе, солнце заливает улицу, до осени еще так далеко, я бросаюсь бежать налево, а Джохар — направо. Я перебегаю через улицу, заскакиваю в парк, бегу к видеосалону, плачу рубль и сажусь на свободное место. Показывают фильм с Брюсом Ли.
У моего старика был удивительный термос — емкий, с разными блестящими штуками, с крышкой на резиновой прокладке, в таких термосах нужно держать суп или чай. Но мой старик возил в нем пиво, он его всегда покупал, когда куда-нибудь ехал, и, убедившись, что нигде нет гаишников, останавливался и пил, получая от этого, насколько я мог понять, очевидное удовольствие. В жизни взрослых мне больше всего нравились их вещи; сказать что-то про человеческие отношения, про механизм этих отношений я еще не мог, я себе плохо представлял причинно-следственную составляющую реальности, в основном я воспринимал ее на предметном уровне, на уровне недосягаемых и невыразимых вещей и предметов, которые наполняли жизнь взрослых. Поскольку я все время таскался за своим стариком, в моем детстве вокруг меня были в основном взрослые мужчины, женщин там почти не было, с женщинами было не интересно, я их игнорировал в свои восемь-девять лет. Я попадал в серьезные мужские компании, и мое внимание полностью сосредоточивалось на раскладных ножах, на выкидухах, переданных с зоны и украшенных стеклянными розами, впаянными в рукоять, на кожаных кошельках, набитых купюрами, — в моих восьмидесятых дело было вообще не в деньгах, каким-то образом денег хватало всем, — на тяжелых металлических рублях, которые оттягивали карманы, на ручках и портсигарах, на фонариках в конце концов, это странно, но сейчас, когда я слегка моложе своего отца в те годы, я думаю, ну, о’кей, вот я вырос, вот я тоже могу покупать себе пиво и иметь доступ ко всем тем вещам, о которых мечтал в своем детстве, и что — оказалось, что это была иллюзия, оказалось, что вещи, жизнь без которых я в семилетнем возрасте не представлял, в 30 лет мне совсем не нужны, действительно — у меня и теперь нет раскладного ножа, у меня был когда-то швейцарский офицерский, но я подарил его племяннику, я уже не говорю о выкидухах, учитывая мои отношения с милицией; у меня нет кошелька, был когда-то, но я подарил его писателю Кокотюхе, монеты я отдаю сыну, ручкой я не пользуюсь — не могу потом разобрать свой почерк, портсигар — ну, вы сами все понимаете, даже фонарика у меня нет, даже ничтожного фонарика! Жизнь с ее соблазнами оказалась фикцией, предметный мир оказался обманчивым, а его прелести — относительными. С куда большим увлечением я вспоминаю теперь не вещи, которые меня окружали, а людей, которым эти вещи принадлежали, с моей теперешней точки зрения они мне кажутся гораздо более стоящими, а их поступки — более безумными. Вот и пиво — я помню, как эти мужчины вывозили с пивзавода, где у них были какие-то свои зацепки, целые мешки пива, именно так — не ведра, не бочки, а мешки, то, что нам с Джохаром позже наливалось в несчастный мелкий пакетик, нашими отцами отмерялось большими двадцатилитровыми мешками, двадцать литров нефильтрованного пива! у меня и теперь перехватывает дыхание, эта фактурность быта ранних восьмидесятых, витальный овердоз этих тридцати-сорокалетних мужчин, которые потом, всего через несколько лет, сломаются вместе с совком, меня и до сих пор удивляет и завораживает; они носили на спинах коровьи туши, они доставали где-то ящики с водкой и портвейном; когда нужно было вытащить из грязи машину, они делали это руками, в их руках была сила, в их жизни была последовательность, в их рвении было оправдание, они могли научить любви к жизни, они могли показать, как они эту жизнь любят, хотя вряд ли могли бы объяснить за что.
Я понимаю, ясное дело, всю детскость таких обобщений, но мне нравится смотреть на свое прошлое именно так — широко раскрытыми от восторга глазами, глазами, влажными от резкого яркого солнца, которое ослепляет этих мужчин в их победной борьбе за выживание, потом все изменится, конечно, они очень быстро постареют, уже не будет мешков с пивом, не будет крови на руках, солнца на ладонях, все изменится, все изменится в худшую сторону, так бывает — там, где тебе было хорошо и уютно, кого-то следующего просто раздавит случайной балкой, которая когда-то да должна была упасть, и главное, что никто не знает — когда.
Пару лет назад я шел по трассе, приехал домой, мимо меня промчался дикий чувак на мопеде, внезапно он остановился, развернулся и подъехал ко мне. Это был, ясное дело, Джохар. У него были гусарские усы, и он был пьян. К рулю его мопеда была привязана сумка, оттуда торчало горлышко бутылки. Ты? спросил он. Ну, сказал я. Домой? Домой. Как дела? спросил он. Нормально, ответил я, а у тебя как? Я теперь фермер, сказал он. Фермер? Ага, фермер. Ну и как? Да как, сказал он, подумав, плохо — член торчком (он так и сказал — торчком), а здоровья нет. Я подумал, что для фермера это, наверное, не очень хорошо. Помнишь, как мы с тобой кооператора завалили? спросил я. Не, ответил он, не помню. Будешь пить? он достал бутылку. Не, сказал я, не буду. Он выпил сам, ему не пошло, но он не сдавался. Заходи в гости как-нибудь, заговорил он, запихав-таки в себя свою водку. Лучше ты заходи, ответил я. Подари мне свою шапку, сказал он. Иди в жопу, ответил я. Мы снова разошлись друзьями.
89-й
Общежитие. Капитан Кобылко. Это был капитан Кобылко. Высокий и худой, капитанская форма обвисала на нем в разных местах, на голове болталась непропорционально широкая фуражка, в фильмах про гражданскую такие фуражки носили врангелевские офицеры. Капитан был ликвидатором, похоже, в Чернобыле его хорошо прокоптили, он носил большие очки темного стекла и для капитана выглядел просто ужасно. Нас он ненавидел, мы у него ассоциировались с чем-то неприятным, я это видел. Он учил нас правильно надевать противогазы и требовал, чтобы мы овладели азбукой Морзе. У меня лично с азбукой Морзе так и не сложилось. С противогазами тоже. Больше всего доставало, что на его занятия мы должны были приходить в военной форме, выглядели мы как дауны, в нормальной одежде мы тоже выглядели как дауны, нам было по пятнадцать лет, нас плющило от адреналина, у наших одноклассниц резко начинали расти груди, мы пробовали курить взатяжку, и военная форма нам в то время была совсем ни к чему. Однажды я пришел на его занятие с бабушкиным орденом отечественной войны третьей степени. Капитан расстроился. Судьба ему явно не улыбалась, и Господь Бог общался с ним исключительно азбукой Морзе. Летом он повез нас на военные сборы.
Перед этим мы попытались от сборов отмазаться, пошли к знакомому лаборанту, который работал в поликлинике, и тот оформил нам всем справки, в которых от руки написал, что мы не пригодны ни к каким военным сборам и в связи с этим подлежим общей амнистии, что-то такое, одним словом, не вполне убедительное, все это было скреплено треугольной печатью поликлиники и его подписью — «лаборант Жуков», каллиграфически выводил он в правом нижнем углу. Мы принесли наши справки капитану, тот, обнаружив для себя, что половина класса инвалиды, молча собрал наши справки и, коротко объяснив нам, как именно он использует эти бумажки, приказал всем готовиться к сборам. В то лето мы под амнистию не попали.
Нас погрузили в машины и повезли в лагеря. Лагеря находились за городом, посреди поля, на территории пэтэу, тут был целый городок, с тракторным парком, футбольной площадкой, классами для занятий, столовой и общежитиями. На лето пэтэушников отсюда выгоняли, они расходились по степям и возвращались только в сентябре. Общежития стояли пустыми, футбольная площадка зарастала травой, из тракторного парка колхозники воровали соляру. Нас привезли и выбросили на асфальтированный плац. Капитан Кобылко приказал всем селиться и, тускло блеснув своими большими очками, пошел в штаб.
Из штаба он пришел вечером поддатый, дальше он все время в таком состоянии и находился, это добавляло ему особенного командирского куража, а нам — дополнительных проблем на наши задницы. В первую же ночь мы отпиздили нашего одноклассника. Он был отличником, и в школе мы его в принципе уважали, но странно, что, попав в такие неформатные условия, мы сразу же потеряли даже остатки того человеческого подобия, которое пытались сохранить в мирных условиях. Мы побили одноклассника, мы побили мебель в комнате и останавливаться на этом не собирались. И тут появился капитан, похмельно оценил ситуацию и выгнал нас всех, кроме побитого отличника, ясное дело, на плац. Ну, что, ублюдки, сказал он проникновенно, значит, спать мы не хотим? Хорошо, сказал он, хотя ничего хорошего в этом не было. Значит, будем тренироваться в боевых условиях. Всем взять противогазы! Понуро мы пошли за противогазами. Капитан Кобылко стоял посредине плаца, решительный и поддатый, врангелевская фуражка сбилась набок, и капитан от этого тоже клонился набок. Надеть противогазы, суки! сухим ликвидаторским голосом приказал он. Мы послушно начали надевать. Вспышка справа! сообщил капитан, и мы повалились на асфальт. Отбой, удовлетворенно сказал он, и мы начали подниматься. Вспышка справа! повторил он, и мы снова посыпались на асфальт, звонко, как шарики из подшипников. Что вам сказать? Этот уебок муштровал нас битый час на темном ночном плацу, где не было никого, кроме него и нас, разве что из окна общежития за нами испуганно наблюдал побитый нами одноклассник.
Наконец капитан успокоился, ну что, спросил он, хотим спать? Мы не ответили — на нас были противогазы. Хорошо, уступил капитан — бежим двадцать раз вокруг плаца, в противогазах, я сказал в противогазах! и можно идти спать. Мы побежали. Он стоял в центре, а мы бегали вокруг него в противогазах, как боевые карфагенские слоны. В какой-то момент я обломался и незаметно открутил трубку противогаза от фильтра. Дышать стало гораздо легче.
Июнь в том году был теплым и солнечным. Мы ежедневно маршировали на плацу, потом ели в столовой вонючую кашу, вконец зачморили нашего одноклассника, после обеда снова маршировали; мы вытоптали траву на футбольной площадке и научились сливать из тракторов соляру, чтобы перепродавать ее колхозникам. На полученные деньги мы покупали консервы и табак. В девять вечера была политинформация, мы смотрели новости, после чего капитан загонял нас в общежитие, а сам шел в штаб бухать. Он еще больше похудел и потерял где-то свою фуражку. Однажды он привез нам настоящего гэбэшника, для политвоспитания. Гэбэшник никому не понравился — он понтовался, говорил о борьбе с внутренним врагом и вместо понятного нам «америка» выговаривал с каким-то дурацким прононсом — «юнайтед стейтс». Капитану он тоже не понравился, капитан относился к нему подчеркнуто холодно — мол, я под реактором коптился, а ты, пидор, боролся тут с внутренним врагом, юнайтед стейтс твою маму. Я впервые посмотрел на капитана с уважением.
В ту ночь я стоял на вахте. Сменить меня должны были через несколько часов, утром. Вдруг двери штаба открылись и оттуда вышел капитан Кобылко. Стоишь? спросил он, подойдя. Стою, сказал я, думая, что за хрен, что ему надо. Пошли, коротко сказал капитан и повернул к штабу. Я обреченно побрел за ним. В штабе лежал упившийся в дымину гэбэшник. На столе стоял спирт. Капитан взял алюминиевую кружку и налил. Держи, протянул мне, ты молодец. Давай пей. Я выпил. Выпил? спросил он, выпил, ответил я, а теперь иди отсюда на хуй. Я пошел. Нормально, думаю, хороший мужик капитан Кобылко, хоть и ебнутый.
В последний день сборов капитан повез нас на полигон. Внимание, сказал он, ублюдки, у каждого из вас по калашу и по два рожка боевых, блядь, патронов. Вперед. Мы попадали в траву и начали стрелять по мишеням, что стояли метрах в пятидесяти. Я целился и пытался не тратить патроны зря. Капитан стоял надо мной и смотрел в бинокль за моими результатами. Неплохо, крикнул он мне, неплохо, а теперь давай очередью! Патронов жалко, ответил я ему, боюсь, что не попаду. Да ладно, капитан распалился, давай, всади очередью, хули ты! Я посмотрел на него снизу — он стоял решительный и заведенный, кровь била ему в голову, как солнце на пляже, и я вдруг понял, чего он от меня хочет, молча переключил автомат с одиночного и запустил первую очередь. Давай! крикнул мне капитан, давай, вали! Я прижал приклад к плечу и выпустил остатки рожка, вставил следующий и так же быстро его расстрелял. Я садил по мишеням почти не целясь, мне хотелось сделать ему приятно, я просто бил боевыми патронами по воздуху, по песку, по мишеням, выбивая свои сто из ста, расстреливая всех своих подростковых призраков, которые стояли передо мной в июньском воздухе, бил длинными очередями за каждый из потерянных на этих сборах дней, за все свои обиды и укоры совести, за своего, блядь, капитана, который стоял надо мной и зачарованно смотрел на изрешеченные пулями мишени. Вокруг меня рос густой молочай, птицы испуганно кружили в меловом небе, патроны закончились, гильзы были горячими, губы сухими, лето бесконечным.
90-й
Крыши. Я схватился за ветку и подтянулся наверх. Ствол был холодным и жестким. Обняв его руками, я полез. Схватился за следующую ветку, перебросил через нее ногу и снова подтянулся. Рукой уже можно было достать до шифера. Я осторожно поднялся на ветке, чувствуя, как она прогибается под моими ногами, прогибается, но держит, забросил локти на шифер, еще раз подтянулся и перекатился по плоской поверхности. Осторожно поднялся и двинулся вперед, почти вслепую. Небо было в тучах, впрочем, мне именно это и было нужно. Главное не забыть, что я не совсем трезв и что я на крыше, что ступать следует осторожно и тихо, если внизу кто-то услышит, меня отсюда снимут прямо в отделение. Дальше была стена, я подпрыгнул и попробовал схватиться за верхний край, но не удержался и завалился на спину, черт, подумал я, не хватало еще разбиться здесь по пьяни. Я поднялся, колено ныло, подпрыгнул еще раз. Подтянулся на руках и заполз на выступ крыши. Медленно пополз вверх, встал на ноги и осторожно пошел к краю, нужно было пройти метров двадцать, хорошо, что так темно, снизу меня никто не увидит, я тоже тут ничего не вижу, главное вовремя остановиться. Через пару метров крыша обрывалась. Я сел на шифер и медленно стал пододвигаться к краю. Заглянул вниз. На площади горела пара фонарей, кажется, пусто, в любом случае даже если бы там кто-то был, я бы его не увидел. Передо мной лежала августовская тьма и висел флаг. Я потянул его на себя. Древко было прибито к крыше. Я потянул сильнее. Флаг затрещал и поддался. Я вырвал его вместе с гвоздями и начал срывать полотнище. Сорвав, спрятал в карман, из другого кармана достал свой флаг и начал привязывать к древку. Получилось не совсем эстетично, но снизу, я так думал, все будет выглядеть как нужно. Я стал цеплять флаг на место. Не совсем крепко, но он все же держался, крепко и не нужно, подумал я, — все равно завтра сорвут. Осторожно повернулся и пополз назад, подлез к стене и на руках опустился вниз. Пробежал по шиферу, нашел свое дерево и начал медленно спускаться. Встал ногами на ветку, она не выдержала и надломилась. Я полетел вниз, свалился на землю, перекатился, быстро вскочил и побежал в ближайший переулок. Отбежав пару кварталов, подошел под фонарь. Джинсы на колене прорвались, из раны текла кровь. Я достал из кармана трофейный флаг, оторвал от него кусок и попробовал перевязать рану. У меня не очень получилось, флаг пропитался кровью, вся эта конструкция на ноге не держалась. Черт, подумал я и выбросил окровавленный кусок куда-то в траву. Это ж надо, подумал я, джинсы порвал, на хуя было пьяным туда лезть; я проклинал себя и проклинал своих друзей, которые меня на это подбили, тоже мне, злился я, молодогвардейцы нашлись, комсомольцы, блядь, на амуре.
Взрослая жизнь захватывала и отпугивала одновременно. Пришел день, когда я внезапно начинал понимать, что мир не настолько продуман, как казалось в семь лет, что пространство дозируется кем-то и что мне, как и остальным, придется, очевидно, играть по выдуманным кем-то правилам. Взрослая жизнь кривлялась, и гримасы ее ничего хорошего не предвещали. Все, что воспринималось удобным, надежным и обжитым, как мои вратарские перчатки, во взрослой жизни оказалось не вполне пригодным и совершенно не обязательным. Открывалось что-то большое, темное и необычайно захватывающее, как будто свет в кинотеатре гас и сейчас должны были показать что-то ужасное, к чему я был совсем не готов, но от чего я ни за что бы не отказался. Прошлое осталось в ящиках старых столов и на книжных полках, теплым пеплом залегало в фотоальбомах и зачитанных до дыр журналах, оно хранилось боевыми хоккейными клюшками на антресолях и в гаражах, покрывалось пылью в шкафах с одеждой, где лежали свитера и футболки, из которых я вырос. К нему еще можно было прикоснуться, ощутить пальцами его грубую ткань, но кто бы стал этим заниматься, конечно, никто. Наша взрослая жизнь по какой-то случайности совпала со странными и болезненными вещами, что происходили вокруг и, на первый взгляд, нашего взросления не касались. Но так случилось, что именно в этот горький период, когда все в тебе рвется и срастается по новой, вокруг нас произошло что-то подобное, и мы вынуждены были смотреть, как взрослая жизнь уничтожала нашу страну, как она ломала наших родителей, как она выбрасывала из себя всех лишних и ненужных, всех, кто так и не понял, что же на самом деле происходит, Полезен ли был этот опыт, думаю я теперь. Не знаю, не уверен, я вообще не согласен, что всякий опыт полезен, по-моему, это преувеличение, ведь очевидно, что можно целую жизнь прожить возле моря и не видеть утопленников. А в наших территориальных водах трупов становилось все больше.
На последнем году учебы мы с несколькими друзьями взломали замок и вылезли на школьную крышу. По понятным причинам вход этот всегда был закрыт, что нас не устраивало. Мы нашли пожарный топор, подсадили им тяжелый навесной замок, двери открылись и мы по очереди в них прошли. На крыше жили птицы. Много птиц. Они сидели на поперечных балках, весь пол был усеян их перьями и гнездами. Они сидели длинными рядами, тесно прижавшись друг к другу, и внимательно нас рассматривали. Мы двинулись вперед, шли осторожно, чтоб не наступить на гнездо, давя кедами и кроссовками сухой птичий помет, смахивая с лица налипшую паутину. Вдруг кто-то наступил на старую доску, которая под ногой у него сухо треснула. Это прозвучало как взрыв. Птицы поднялись в воздух, они летали между нами густой толпой, огибая нас и лишь иногда задевая крыльями, лихорадочно ища выход, бросались из одного угла в другой, воздух тут же наполнился их движением, их голосами, их было так много, что мы удивленно остановились и смотрели снизу на это пространство, плотно заполненное птицами, уже тогда догадываясь, что не так уж и часто встречаются такие сгустки времени и такие участки пространства, в которых было бы так много птиц, так много друзей, так много движения и покоя.
Годом позже, в Харькове, я попал на странный концерт. Один мой знакомый шел в депутаты, взял в аренду большой концертный зал в центре, повесил на сцене свой портрет и устроил шаровое развлечение. После концерта мы пошли в его партийный офис, отметить успешную акцию. Офис находился на Сумской, его окна выходили на театр. Мы пили целую ночь, кто-то засыпал, кто-то просыпался, где-то под утро я тоже проснулся и решил идти домой. Но двери офиса были закрыты. У кого были ключи, я не знал — все спали. И тут я увидел другие двери, открыл их и вышел на крышу. Прошел чердак, отыскал слуховое окно, пролез сквозь него и очутился под апрельским харьковским небом. Было пять-шесть утра, на крышах лежал свежий туман, было пусто, тихо, и крыша гремела под ногами всей своей жестью. Я подумал и пошел в сторону оперного. Пройдя крышу одного дома, перелез на следующую, дальше идти было опасней, крыша была мокрая от тумана, я поскользнулся и поехал вниз. Однако сумел схватиться за выступ, жесть впилась в ладонь, я почувствовал, как выступила кровь, но делать было нечего, я полез вверх, елозя по мокрому металлу всем телом. Что-то мне это напоминает, подумал. Оказавшись в безопасном месте, я осторожно двинулся дальше. Впереди была стена, к ней кто-то приставил ржавую лестницу, я поднялся, прошел до конца и выглянул — следующая крыша лежала внизу и мокро поблескивала. Я свесился вниз и отпустил пальцы рук. Упав, попытался удержаться на ногах, но снова поскользнулся и стал сползать. Меня спасла водосточная труба, я въехал ногой прямо в воронку, осторожно перевернулся на живот и еще раз полез вверх. Около шести утра я долез до последнего дома в квартале, подполз к краю крыши и посмотрел в небо. Небо лежало надо мной, я лежал на крыше, и изо всех сил пытался удержаться. Шесть часов утра, весна 92-го. Я посмотрел вниз, но там уже начиналась совсем другая улица, начиналось совсем другое время.
Часть вторая «Красный даунтаун»
1
Гостиница Харьков, с долгими коридорами и желтыми простынями, бесчисленными пустыми комнатами и подвалами, с развитой, в меру разрушенной инфраструктурой, каждый вечер оживает и наполняется движением, здесь можно жить, не выходя за рецепцию, кто-то в свое время придумал поставить посреди города эту гостиницу-мечту, хорошо быть владельцем гостиницы Харьков, занимать каждое утро новую комнату, питаться каждый раз в другом буфете, сколько их, этих буфетов, настроено здесь на каждом этаже, носить с собой портативный телевизор и ловить вечерами российские ток-шоу, заказывать бесплатно проституток, подружиться с ними наконец, проведя совместно долгую зиму в трюмах и укрытиях громоздкой безразмерной гостиницы, играть вечерами на автоматах, просаживать наличку, заливаться паршивым коньяком из ночного маркета на первом этаже, завести себе друзей, вместе с ними ходить в сауну во внутреннем дворике или к проституткам, постепенно постареть и однажды умереть, завещав похоронить свое тело в старом корпусе, комната 710, тело замуровать в стену, одежду сжечь, ценности раздать проституткам, телевизор отнести на рецепцию, все, конец.
Смерть в гостинице укладывается в простую и аскетическую формулу — ты не привязываешься к определенному месту, зависаешь среди жизни, обменявшись с ней необходимым минимумом информации: ты оставляешь для нее свои координаты, которые она никак не может проверить, она оставляет для тебя ключ и свежие полотенца в душевой кабине. Никто никому ничего не должен.
В комнатах гостиницы Харьков хорошо прятать трупы, здесь, в ее старом корпусе, так много комнат и они настолько однотипны, что дирекции, без всякого сомнения, пришлось бы потрудиться, прежде чем вынюхать следы преступлений и братоубийств, прежде чем наткнуться случайно на фаланги пальцев рядом с пультом от телевизора или на золотые коронки в туалетном бачке. Еще тут хорошо прятаться от врагов, враги просто обломаются искать тебя за бесконечными дверями, в барах и офисах, в холодном теле гостиницы, которое помнит далекие 50-е, красное полотно на своей поверхности, портреты кобы на фронтоне, танки, которые проходили по площади в день победы (кажется, это был день победы), относительно недавно, уже в 90-х, исчезая за госпромом и отражаясь в окошках рецепции. Очень люблю эту гостиницу, одним словом. В свое время я заносил сюда с черного хода бесчувственных от выпитого спирта братьев гадюкиных, в свое время я торговался тут среди ночи с охраной, чтобы они пустили на ночлег малознакомых мне немецких поэтов, однажды я давал тут интервью для телевидения по поводу освобождения города от немецких войск, мы тогда сильно напрягли персонал буфета, устроились на балконе, как раз над центральным входом, с видом на университет, и начали говорить об освобождении, освобождение это ерунда, сказал я, какое освобождение, гораздо интереснее говорить об оккупации, о том, что вот на этой вот площади, на которой как раз разместилась какая-то голимая сельскохозяйственная выставка, в свое время садился самолет с самим Гитлером, почему об этом никто не говорит? Под утро, где-то между четвертым и пятым часом, в баре на первом этаже всегда сидят сонные проститутки и печально глушат водяру.
Последние несколько дней она наполнена обнаглевшими от революционного порыва народными массами, странной, как правило нетрезвой публикой, которая с утра трется вокруг площади, поддерживая тот или другой лагерь, но быстро мерзнет и идет греться в гостиницу, заказывая себе чего-нибудь по кабакам или играя на автоматах. За всем этим со стороны наблюдает ментовня. Когда заходишь в старый корпус, сразу же натыкаешься на усталую перемерзшую толпу, революция, даже в такой софт-версии, как эта, все равно собирает под свои разноцветные знамена самую интересную часть общества, такое впечатление, что целые толпы безумцев, униженных и оскорбленных только и ждали того достопамятного дня, когда можно будет выйти на невъебенный харьковский майдан в несколько гектаров площадью и пообкладывать друг друга с ног до головы. Революционный порыв, однако, не мешает этой публике, накричавшись у наших палаток, переть сюда и сидеть на креслах в фойе, на ступеньках лестницы с первого по третий этаж, на высоких стульях при стойке бара, кататься вверх-вниз на лифте, создавая проблемы персоналу и отпугивая и без того немногочисленных в это время обитателей старого корпуса.
Для настоящей революционной ситуации стороны слишком хорошо уживаются друг с другом, даже мордобой носит какой-то истерически-похмельный характер, так дерутся на кухне в коммунальной квартире, а не на революционных баррикадах. Какие-то ссоры между пенсионерами, демократические сопли, маразматические представители московского патриархата, которые ходят вокруг нас, изгоняя скверну, — для настоящей революции не хватает оружия, я вот купил газовый пистолет, отдал его начальнику охраны, но что такое газовый пистолет, это все равно что купить одноразовую зажигалку. Не хватает крейсера авроры, так чтобы разнести пару помещений возле площади, пусть не все, университет можно не трогать, гостиницу вот тоже можно было бы оставить, просто повыгонять оттуда левую публику, экспроприировать на рецепции кассу, дать свободу проституткам, а саму гостиницу оставить. Лично я ни за что не отказал бы себе в удовольствии выпустить пару снарядов по областному управлению культуры.
Из этого можно было бы сделать кино. Скажем, про какого-нибудь западного молодого инвестора, который приезжает в холодную, неизвестную ему страну, делать бизнес. Его друзья, такие же западные инвесторы, молодые акулы империализма, отговаривают его — куда ты едешь, это ужасная бесперспективная страна, там на каждом шагу коррупция и сифилис. He-говоря уже о фамилии их президента. Но даже этот последний, самый убедительный аргумент его не останавливает. Плохо ориентируясь в чужих условиях, он приезжает в город на восточных границах этой страны и селится в старой гостинице, в номере с окнами на площадь. Он сознательно выбирает запущенный старый корпус с облезлыми стенами и ненадежными дверями в комнаты, он думает, меня не проведешь, я знаю этих чертовых славян, я не дам им себя обдурить — ни одного лишнего цента, минимум чаевых, скромные условия проживания, никаких посредников, все максимально просто — однокомнатный номер на седьмом этаже гостиницы (из окна видно памятник ильичу, за ним университет, дальше все теряется в утреннем тумане), короткий визит к губернатору (хитрожопый тип, подарил ему зачем-то свою книгу, тоже мне — джавахарлал неру, книги он пишет), аскетический завтрак в ирландском пабе,-с минимумом алкоголя, и назад в гостиницу, отдохнуть перед встречей с партнерами. Он чувствует, что атмосфера в городе напряжена, что все говорят о выборах, но его это мало волнует. Придя в гостиницу, он падает на кровать и, завернувшись в прожженное в нескольких местах одеяло, быстро засыпает.
Просыпается он в середине дня от возбужденного многотысячного дыхания за окном. Подойдя к окну, он смотрит вниз и видит там 80 тысяч человек. Ну вот, думает он, — пока я спал, началась революция.
Несколько раз он пытается дозвониться к себе в офис, но там вообще слабо представляют, где он сейчас, крутит все три канала гостиничного телевизора, но по телевизору ни хуя не показывают, он даже звонит в приемную хитрожопого губернатора, но там стоит могильная тишина, он снова подбегает к окну, рассматривает толпу внизу, смотрит влево на окна обладминистрации и видит, что там из окон точно так же выглядывают десятки клерков, похоже, они тоже все проспали.
Ну вот, думает он снова, друзья меня предупреждали. И что теперь делать, думает он, хоть бери и звони их президенту. Кстати, как его фамилия?
2
Памятник хуевому ильичу. Что с ним могло произойти потом? Просидев до вечера в номере, так и не дозвонившись партнерам, с которыми должен был встретиться, он выходит из комнаты, уже в коридорах гостиницы натыкаясь на тела революционеров, которые сидят под стенами, как пленные ваххабиты в новостях cnn, сбегает по лестнице вниз, не дожидаясь лифта, и, пробившись сквозь толпу в холле, выходит на площадь. На площади холодно, какие-то люди снуют взад-вперед, к тому же площадь почти не освещается, поэтому он идет к кошмарному памятнику ильичу, возле которого крутится милиция. Почему-то он думает, что в этой стране защитить его может только милиция, хотя на самом деле все как раз наоборот. Он стоит под памятником ильичу, ильич нависает над ним и показывает рукой куда-то в сторону, куда-то, откуда он приехал, ильич словно намекает ему, мол, факин янки, гоу хоум, у него паршивое настроение, в смысле не у ильича, а у инвестора, у ильича-то с настроением как раз все отлично, великая буржуазная революция наконец началась, и народ оттягивается по полной, ильичу есть на что посмотреть, а вот ему, инвестору, хищной зубастой акуле на рынке ценных бумаг, смотреть на все это совсем не хочется, он печально обозревает революционный порыв народных масс, и вот тут уже все зависит от него.
Фактически он может выбрать какой угодно вариант развития событий — как типичное дитя западной социал-демократии, он может временно пренебречь обязанностями перед советом директоров, взять себе недельный отпуск и с головой погрузиться в революционную романтику, поселиться на площади, брататься (в пределах разумного) с милицией, наконец, вырвать эту победу и со спокойной совестью вложить свои инвестиции в какой-нибудь стремный энергосектор региона. Точно так же он может, как типичный запуганный либерал, стать на сторону власти, осудить морально извращенные народные массы за их немотивированные порывы и подождать с инвестициями до лучших времен. В конце концов, как типичный сторонник глобализации, он может на все это вообще забить и, взяв-таки недельный отпуск, свалить на солнечные острова посреди океана, где его, будем надеяться, в таком случае накроет своей холодной бездонной волной справедливое индонезийское цунами. Сейчас он стоит под памятником ильичу и выбирает. А рядом с ним стоят сотни отмороженных граждан этой странной холодной страны и точно так же выбирают. По-моему, это мелодрама.
Чем я занимался последние полгода? Я даже не могу вспомнить всех, с кем довелось за это время познакомиться, — длинный, бесконечный список новых персонажей, новых героев, которые появлялись из черного месива той осени и так же безболезненно в нем исчезали, выходили на свет из-под тяжелых сентябрьских деревьев, подсаживались в вагоны в октябрьских сумерках, настороженно наблюдали, стоя посреди ноября; вдруг, в какой-то момент, их стало гораздо больше, они тесно заполнили собой заасфальтированную площадку моего частного общения, ну и что — я стоял перед ними, как вот этот памятник хуевому ильичу, они стояли передо мной, не всегда на меня реагируя, не до конца понимая, кто я такой, и в этом последнем мы с ними были очень похожи.
Может быть, его когда-нибудь все же уберут, этот памятник, подгонят кран и просто демонтируют, а на его место поставят какую-нибудь аллегорическую фигуру, которая будет в глазах потомков символизировать успешное завершение национально-освободительной борьбы. Мне на самом деле все равно, я никогда не любил памятники, тем более памятники политикам, политикам, мне кажется, по голове нужно давать, а не памятники ставить, но этого памятника, памятника ильичу, если неблагодарные потомки все-таки уберут его отсюда, мне все же будет жалко. Слишком много позитива у меня от него осталось. Скажем, я часто договариваюсь здесь о встречах, я люблю сидеть под ильичом и ждать, когда у моего малого закончатся занятия, мы с моим кузеном гоняем здесь на великах, распугивая пенсионеров, я тут жил, в конце концов, под этим памятником, целых две недели, и хотя никакой ностальгии у меня это не вызывает, памятника будет жаль.
В один из этих веселых дней, именно под памятником ильичу, внезапно возник мой старый знакомый, довольно странный и не до конца понятный мне персонаж, с которым у нас давние приятельские отношения. Вернее, что значит отношения — уже два года я был уверен, что он умер, исчез он еще раньше, однако сначала о нем еще приходили скупые пунктирные сведения, потом исчезли и они, пока мне кто-то не сказал, что он, оказывается, умер. Не могу сказать, что мне его сильно не хватало, знакомый он был действительно странный, но я сожалел о еще одном покойнике, он был неплохим человеком, мы с ним несколько раз сильно напивались, да и вообще — когда человек в тридцать лет умирает, это всегда не очень приятно, это лишает тебя уверенности. И вот он внезапно появляется на той площади, радостно здоровается, заговаривает, говорит о политике, ну, ясно — той осенью все обезумели и говорили исключительно о политике, им таки удалось всех нас использовать и принудить заниматься их политикой, вот и мой покойный, но от этого не менее жизнерадостный, чем два года назад, знакомый тоже говорил о политике, говорил в принципе неинтересные мне вещи, я это все вынужден был слушать уже вторую неделю с утра до ночи, а иногда и ночью. Мы говорили с ним, и я колебался — сказать ему или не сказать? Вдруг он после этого по-настоящему умрет. А если не скажешь — кто знает, что с ним потом будет. К тому же — кто знает, что с ним на самом деле было за эти два года. Возможно, он действительно в свое время умер, но оказалось, что это не смертельно. И вот мы с ним обо всем поговорили, он пожелал мне успеха, я ему сказал, чтоб не вымахивался, и он пошел. Эй, решился наконец я, подожди. Что такое? остановился он. Знаешь, не хотел тебе говорить… Ну? насторожился он. Только не обижайся — я думал, что ты умер. Ты что? не понял он. Серьезно, говорю, мне кто-то сказал, что ты умер, еще два года назад. Да нет, начал оправдываться он, это какая-то ошибка. Ну, я так и думал, говорю, долго жить будешь. Не знаю, понял ли он меня.
Странно, как правило, мои знакомые выбывают из списка живых. А тут совсем наоборот — он, похоже, смог намахать высокую небесную канцелярию и каким-то образом выписался из партийного списка умерших. Хороший знак.
Где он на самом деле был все это время? Кто-то же мне говорил о его смерти. Не могло же это появиться просто так, в нашей продуманной и закономерной жизни ничего просто так не появляется и не исчезает, это вот и ильич может подтвердить, с его диалектикой, так где он был? В моем личном шкафчике со скелетами, ключ от которого я всегда ношу в кармане вместе с ключом от велосипедного замка, остается все меньше места, вернее — туда приходят все новые и новые жильцы, они прячутся в теплых душных сумерках от света и свежего воздуха, и только я помню их всех по именам, помню их привычки и биографии, помню, как много каждый из них значил в моей жизни и как мало я могу сделать для них теперь, когда они перешли в пространство теней, с тем чтобы остаться в нем навсегда.
Но, оказывается, не все так плохо, оказывается, даже из этого безнадежного пространства, пространства теней и пространства памяти, можно вырваться назад, прорвав фотообои, которыми нас кто-то разделил. Возможно, если у тебя достаточно желания и драйва, ты можешь позволить себе время от времени заходить в эту ледяную похоронную тень и возвращаться из нее назад, в холодное предвечернее солнце восточноевропейской осени, возможно, не все так безнадежно, как кажется большинству из нас — тех, кто на самом деле никогда не рисковал, кому и похвалиться нечем. Вот ведь ему, моему знакомому, это удалось, не знаю, правда, как, но пожалуйста — вот он стоял тут только что передо мной и говорил о политике. У меня даже свидетель есть, скажи, ильич.
3
Христианская сущность государственной промышленности. Наш город весною зарастает травой, небеса над ним густо и компактно заселяются птицами, после зимы они возвращаются из Египта и Палестины, влетают на плоские крыши и под арки дома государственной промышленности, разгоняют воздух над площадями, исчезают в круглых зеленых деревьях, сидят там, затаив дыхание, прячась друг от друга. Приезжая в эту пору в город, можно увидеть, как со зданий сходит весь холод зимы, как кожа архитектуры высыхает и начинает оживать после долгого перерыва; после зимы города всегда напоминают подростков, которые вечно не знают, что им надеть, — половина вещей им уже мала, остальные давно вышли из моды, милое сентиментальное зрелище, пройдет совсем немного времени, несколько теплых безлюдных месяцев, минует летняя беззаботность, и улицы, словно речные каналы, снова наполнятся серой холодной водой зимы, ледяным руслом новогоднего неба, одним словом — никому от этого лучше не станет.
Застройку центральной части нашего города следует рассматривать сверху, с птичьего полета, в этом случае очевидной становится функциональная подогнанность городской инфраструктуры, ее прагматическая составляющая. Тот, кто в будущем станет строить универсальные коммунистические мегаполисы, должен приехать в наш город и посмотреть, как это делается в принципе. Город бытового футуризма и коммунарской самоорганизации, когда-нибудь, когда жить здесь станет совсем невозможно, из исторического центра города обязательно сделают музей под открытым небом, если небо в то время все еще будет открытым, если же нет, то закроют его большим стеклянным куполом, саркофагом, будут подводить к нему группы американских или японских туристов и говорить — вот он, этот средневековый город-солнце, красно-синяя коммуна, уничтоженная чумой и фиговым коммунальным хозяйством, первая и единственно каноническая столица поднебесной украины, с населением в два миллиона цеховых работников и студентов университета, наиболее развитые отрасли народного хозяйства — машиностроение, ракетная и оборонная промышленность, наиболее заметные памятники культуры — рвы и оборонные стены, которые окружают центральную часть города, коммунистические башни и таранные машины, с которых поэты этого города провозглашали универсалы, согласно которым и сегодня функционирует наша счастливая цивилизация. Особое внимание следует обратить на дом государственной промышленности, построенный в форме главных праздничных ворот валгаллы, через которые жители этого города имели привычку прогонять пленных генералов разбитых армий и проходить праздничным шествием во время традиционных карнавалов первого и девятого мая. Принцип цеховости, профессиональной подчиненности, согласно которому велась застройка главных кварталов города в середине-конце 20-х годов 20-го опять-таки века, каждый раз подкрепляет нашу мысль о коммунистической доминанте наших городов как единственно верной и не подлежащей никаким сомнениям. После этого экскурсоводы будущего должны подробнее остановиться на истории средневекового города, с его частичным воплощением принципов коммунизма и раннего христианства, которые проявились, например, в существовании ремесленных цехов и торговых союзов, и попробовать провести параллели с харьковским конструктивизмом 20-х годов. И вот если им это удастся, если эти приторможенные в своем развитии вследствие всех экологических катастроф будущего американцы или японцы что-то все же поймут, небесная твердь опустится на несколько ярдов и раздавит своим массивным пивным животом стеклянный саркофаг над нашим городом, и тысячи бабочек, что спали в своих личинках по заброшенным и разбомбленным коммунальным квартирам этого лучшего из городов, вдруг вылетят из черных обугленных бойниц и разлетятся по молодым, только что выстроенным мегаполисам старой доброй европы и тоже старой, но уже куда менее доброй америки, разнося на своих невесомых крыльях благую весть и бытовые инфекции.
Ландшафт, в котором я живу долгое время, так или иначе откладывается на моей сетчатке, я понимаю, что вижу мир с учетом выступов и впадин всей этой государственной промышленности, именно по ним определяя для себя перспективу в застройке населенных пунктов, что встречаются на пути. Интимность этих химерных сооружений вокруг меня, ревнивое, эмоциональное отношение к нумерации на подъездах или к старым, уже не соответствующим истине вывескам — желтым на черном фоне — на проходных на самом деле не имеют ничего общего с географической или топографической привязанностью. Это скорее привязанность к самому себе, зависимость от себя, от собственного опыта, который не отпускает ни на шаг, вынуждая снова и снова возвращаться на места, где мне было несказанно хорошо или несказанно плохо. Только на первый взгляд кажется, что все зависит от воспоминаний, от ассоциаций и рефлексий, черта с два — никаких ассоциаций у меня не вызывают эти страшные числа на стенах домов, никаких рефлексий. Просто так случилось, что именно здесь, на этих улицах и площадях, мне посчастливилось провести последние пятнадцать лет своей жизни, именно под арками всей этой государственной промышленности я шел в пять утра теплым июньским воскресеньем, когда в целом городе не спал я один, и именно потому, что я это помню, я буду снова и снова возвращаться на это место, просто так — безо всякой цели, без всякого удовольствия. Хотя, возможно, именно это и есть ассоциации.
Возвращаясь, в свою очередь, к событиям прошлой осени, я вспоминаю одну чудесную заснеженную ночь, которая для нас только начиналась, впереди было несколько часов в окружении милиции и пьяных с вечера мудозвонов, то есть наших политических оппонентов, назовем их так. Мы с товарищем Геликоптером как раз пробили траву и пошли курить за памятник ильичу. В вечернем Харькове именно здесь и нужно заниматься такими вещами, мы стояли в зимних сумерках, с кеба сыпался праздничный снег, только что объявили о победе наших политических, назовем их так, оппонентов, но кого это на самом деле трогало, это только со стороны все выглядело таким образом, как будто ведется борьба политических программ и стратегий, на самом же деле вокруг нас там толклась такая куча отбитой прикольной публики, которая просто прогорала через кожу собственным драйвом и адреналином, что нам было реально насрать на решения какой угодно цик, что для нас меньше всего значило в тот момент, так это какая-то там цик, перед нами стоял госпром, красный полуразрушенный госпром, за нами под праздничным небом стоял ильич, нас, вместе с нашим драпом, охраняли десятки нервных милиционеров, о каких решениях какой цик вообще можно было говорить?
Я очень люблю эти дома, их стилистический разнобой, пустоты между ними, такой ландшафт легко запоминается и трудно забывается, мне, например, полностью понятны действия старого фюрера, который сюда прилетал, — если бы у меня был самолет, я бы тоже прилетел в какой-нибудь такой восточный прифронтовой город, сел бы посредине центральной площади, спрыгнул бы на землю, размял бы ноги, пообщался с местным населением, там, спросил бы о бытовых проблемах, о пожеланиях, про что еще может говорить старый сумасшедший фюрер с местным населением, поблагодарил бы за гостеприимство, в конце концов, взял бы хлеб-соль и снова поднялся в небо над серыми непобежденными кварталами этого города, разъебанного накануне моей армией.
Слева темнел университет, только на верхних этажах светилось несколько окон, очевидно на каких-то кафедрах; занятия давно закончились, через несколько часов студенты пойдут на первую пару, можно постоять и дождаться их, вообще если долго стоять здесь, на этом месте, можно дождаться чего угодно, особенно в таком состоянии. Территория простреливалась и просвечивалась свежим снегом. Зима обещала быть долгой и изнурительной, как любая зима. Жизнь обещала быть такой же долгой и захватывающей. Души умерших наркомов смотрели на нас с черных харьковских небес, снег мешал им рассмотреть наши лица. Обиженный ильич повернулся к нам спиной.
4
Проветренные аудитории. Всю зиму 2002 года Венский университет бастовал. Чего-то им недодали из министерства образования, и продвинутые студенческие стачкомы вывели из аудиторий радостную восставшую массу. Я так и не понял, в чем там было дело, кажется в уменьшении льгот, сокращении образовательных фондов, какие-то очередные проявления бытового фашизма, одним словом. У нас на такие вещи никто не обращает внимания, наш студент ленив и скептически настроен, их — доверчив и социально заебан. Мне не очень верилось, что вопрос сокращения образовательных фондов может собрать несколько тысяч студентов на митинг, я видел разные митинги, я видел, как тяжело они собирались и как легко рассасывались. Но оказалось — может. Университет в те дни напоминал вокзал в прифронтовой полосе, где-нибудь на пограничной территории между Украиной и Венгрией, или Венгрией и Хорватией, коридоры были заполнены пьяными анархистами, обкуренными лесбиянками, цыганками на теплом утреннем кумаре, бритоголовыми преподавателями, которые перешли на сторону восставшего народа, албанскими уборщицами, которые пытались все привести в порядок, и просто случайными либералами, которым традиционно нечего делать. Учиться никто не хотел. Толпы сновали по коридорам, сидели в кофейнях, пили кофе из автоматов, курили гаш в телефонных кабинках, делились пиццей с полицейскими и пели революционные песни. Даже не знаю, удалось ли им отстоять свои права, очевидно, все-таки удалось, потому что на какое-то мгновение университет успокоился и студенты вернулись в аудитории. Но всего лишь на какое-то мгновение — началась американская оккупация Афганистана, и они снова вышли на улицы. По аудиториям гулял свежий весенний сквозняк.
Университет — идеальное для этого место. Лучшего места просто не найдешь, учитывая административную схему и чувство студенческого братства, именно здесь и должна происходить самая героическая и отчаянная борьба за выживание. Я часто думаю об этом, глядя на Харьковский университет. Сколько их там учится? Тысяч десять? Чем они там занимаются, почему никогда не выйдут на улицу и не скажут, что именно они думают о системе образования, или просто о системе, или просто — что они думают. Ведь они что-то думают, не может же быть, чтоб они там покорно конспектировали пять лет разную лажу про квантовую механику, вспоминая потом с любовью всю жизнь теплые и уютные аудитории, в которых они пять лет пережевывали тягучую, равномерно дозированную жвачку высшего образования. Почему они всегда молчат? Их же там десять тысяч. Десять тысяч! Десять тысяч — это районный центр, десять тысяч — это армия Махно в хорошие времена. Почему они все время позволяли использовать себя как пушечное мясо, выгонять себя на митинги и концерты, держать в общежитиях и лабораториях, пока снаружи, на улице, происходили самые интересные и опасные в этой жизни вещи, происходила, собственно, сама жизнь.
Их никто этому не учил, я понимаю, но, в конце концов, чему тут учить? Все несложно: однажды ректор выписывает очередной драконовский указ, например указ о повышении цен на питание в университетской столовой, или, скажем, вводит талоны на макароны, короче, что-то ужасное и антигуманное, он и делает это, собственно, не по причине каких-то там личных моральных изъянов, скорее по инерции, одним словом, президент наклоняет министра, министр наклоняет ректора, ректор вводит талоны на макароны, так и зарождается диктатура. С утра студенты приходят в столовую и неожиданно для себя сталкиваются с очередным проявлением ужасающей несправедливости — их любимые макароны, единственное, что они могли себе тут позволить и благодаря чему они вообще все это время держались, оказывается, теперь по талонам! И тут (это самый ответственный момент, внимание) кто-то, кто-то совершенно случайный, не активист и ни в коем случае не представитель национально-демократических сил, говорит — послушайте, друзья! друзья, говорит он, послушайте, послушайте внимательно — вы слышите что-нибудь? нет? правильно, я тоже ничего не слышу. А знаете почему? Потому что никто из нас ничего не говорит, мы просто стоим молча и даже не возражаем, даже не возмущаемся, в то время когда нас лишают самого необходимого.
Я имею в виду макароны. Мы молчим и даже не возражаем, когда нас используют как пушечное мясо, когда нас запирают в общежитиях и лабораториях, в то время, когда там (он показывает на двери столовой) происходят действительно интересные и опасные вещи, там (он снова показывает) происходит жизнь! А нам в это время забивают головы какой-то лажовой квантовой механикой! И вот тут, после слов про квантовую механику, всех прорывает. Все начинают кричать и требовать справедливости, для начала актив, боевая группа, так сказать, полностью захватывает столовую, на крики прибегает охрана, но тут же и получает по голове. Скандируя, толпа выносит на своих плечах охранников, ломает заграждение на входе (в нормальном университете не должно быть никаких заграждений на входе!) и выбрасывает охранников под памятник основателю университета, почетному гражданину города Харькова Каразину Василию Назаровичу. Почетный гражданин Василий Назарович брезгливо отступает в сторону и отряхивает штанину. Студенты баррикадируют центральный вход и проводят в холле стихийный митинг. Пары на нижних трех этажах прерываются, на крики прибегает декан физико-математического факультета, но его тут же топят в принесенном чане с макаронами. Крысы успевают донести ректору, ректор хватается за голову, потом за телефон, звонит куда-то и просит поддержки. После этого он вызывает деканов, которые еще остались в живых, и приказывает при помощи активистов, отличников и завхоза перекрыть лифты и лестницы, начиная с четвертого этажа. Университет полностью блокирован — с первого по третий этажи занимает стачком, с четвертого и выше сидит ректор, с активистами, отличниками и завхозом. К центральному входу подъезжает беркут, находит побитых охранников и пытается штурмом захватить холл. Стачком приносит с военной кафедры макет пулемета Дегтярева и ставит его в холле, напротив главного входа. Беркут залегает. Ректор соглашается идти на переговоры. Стачком ждет внизу, но стоит только ректору спуститься с четвертого этажа на третий, как восставшая масса захватывает четвертый этаж и быстро движется вверх. Ректор стоит в пустом холле и ничего не понимает. Снайперы держат его, на всякий случай, под прицелом. Бойцы беркута начинают медленно двигаться вверх, находя в коридорах изорванные и измазанные макаронами портреты президента. Вход на четвертый этаж перекрыт. Беркут пытается применить черемуху, но в коридорах университета плохая вытяжка, поскольку ректор экономил не только на макаронах, и газом травятся сами беркутовцы. Это дает стачкому возможность выиграть некоторое время. Студенты захватывают последние нетронутые буфеты на верхних этажах и врываются в большую физическую аудиторию, после чего открывают окна и выбрасывают вниз портреты Лобачевского и, для эффекта, старые телевизоры, которые уже давно Не работают. Разбиваясь, телевизоры взрываются, словно подводные мины. По городу тем временем ползут слухи о неслыханной по своей дерзости и гражданскому мужеству студенческой акции, около шести вечера, сразу после тяжелого десятичасового рабочего дня, под университет стягиваются левые активисты из киевского и московского районов, видят под университетом побитых охранников и отравленных беркутовцев и начинают между собой брататься. В конце концов побитым охранникам в этой ситуации не остается ничего другого, кроме как тоже начать со всеми брататься. Деморализованный и лишенный последней поддержки ректор идет на уступки и подписывает ряд указов и декретов, кроме всего прочего — декрет о собственном увольнении. Студентам предлагают спуститься вниз, но они не спешат, устраивая в помещении большой физической аудитории круглосуточную грансовую пати в честь общей победы.
На проходной всегда стоит охрана. В университет меня обычно не пускают, принимая, очевидно, за извращенца. Даже не знаю, что сказать.
5
Шева показывает капитализму фак. Чем харьковский Шева отличается от остальных Шев, густо установленных в городах и селах Украины? Харьковский Шева позитивно выделяется грамотно подобранным социальным контекстом. В отличие, скажем, от понурого киевского, у которого перед глазами маячит красная стена университета, или от кислотного Львовского с рыбьим хвостом, наш Шева настолько естественно облеплен разными деклассированными элементами, что сразу понимаешь весь тот концепт, который скульпторы вкладывали в мощный торс Тараса Григорьевича, — если уже говорить о Шевченко как о поэте-демократе, поэте-революционере, то и фон в таком случае должен быть соответствующим. То есть революционным. А какой революционный фон может создавать рыбий хвост? Никакого, если не подразумевается, конечно, сексуальная революция. А если подразумевается революция социальная, то нейтральной в любом случае фигуре поэта, как ни странно, более всего подходят именно такие странные и неуместные на первый взгляд персонажи, все эти красноармейцы и комсомолки, которые со всех сторон обступили его и от которых он отталкивается, резко поворачивая свое накачанное революционное туловище и делая довольно-таки прозрачный жест рукой — такое впечатление, что сейчас он гордо выбросит вперед руку с крепко стиснутым кулаком и ударит ребром ладони по рукаву — вот вам, держите, за всех красноармейцев и комсомолок этого большого города, получайте мой персональный завет, мой пламенный непобедимый фак, а все остальное вам скажут мои друзья, все, обращается он к красноармейцу с бомбой, я закончил, можешь бросать. Никогда нельзя предвидеть, кто окажется рядом с тобой в ответственный момент, какая публика отреагирует на твои рифмованные призывы к свержению режима. Красноармейцы и комсомолки выглядят вокруг Шевы естественно, во всяком случае, не возникает вопроса, из какого тома полного собрания сочинений они туда вскарабкались, там им и место — деклассированным и агрессивным. Ведь кого им еще поддерживать, как не Шеву, сами подумайте.
В свое время, в далеком 1919 году, город захватили анархисты, на какое-то время, пока не пришли красные. Рассказывают, будто они поставили в гостинице астория пушку и принялись экзальтированно бомбить соседние кварталы. И вот история с этой самой пушкой кажется мне гораздо более привлекательной, чем все пацифистские хороводы вокруг памятника ильичу. Если уже назвался революционером, ну так давай — выкатывай свою пушку и пуляй, даже если особенно не по кому, все равно — главное, что ты перестаешь играться и начинаешь делать вещи, за которые потом придется отвечать.
Уличные акции в любом случае привлекают публику неуравновешенную, которая выползает на звуки революционных барабанов, на запах адреналина и превращает любую пафосную, спланированную в штабах потеху в сущий цирк, в пестрый ход ряженых, в хит-парад уличной неуравновешенности, кто будет стрелять по демонстрации, которая состоит из шутов и юродивых — ярких и крашеных. Ясное дело, что их в толпе лишь единицы, но это самые яркие единицы, именно они и задают настроение всему, что происходит. Примечательно, что первыми они и исчезают. Кстати, вот тоже интересная тема — как на их разбитой, словно старые магнитофоны, психике отражаются революционные события, изменяют ли они их, и если изменяют — то в какую сторону?
Странные и беспокойные люди приезжали в город отовсюду, ходили по улицам, видно было, что обычная, цивильная жизнь не для них, что она угнетает их и лишает энергии, им чем больше бытовой истерии, тем удобнее, это было их время, они его ждали всю свою жизнь. Оставалось только за них порадоваться.
Он появился солнечным утром, вышел откуда-то из-за здания гостиницы и, широко улыбаясь, направился прямо к нам. Заметно было его издалека, он был похож на панка, которого долго лечили, причем стационарно, а то, что одет был в рясу, только подчеркивало его панковскую натуру, во всяком случае, священника он не напоминал совершенно, возможно из-за выражений лица. С лицом ему не повезло — он сильно косил, к тому же один ус у него был полностью белым. Такой себе панк-альбинос в поповской рясе. Около него сразу же начали собираться люди, даже в этой ситуации, когда уже никого нельзя было удивить внешним видом, он вызывал живой интерес у харьковчан и гостей города. Ты откуда, спросил я его. Из России, ответил он, и улыбнулся. Ага, говорю, московский патриархат? Да какая разница, ответил он, я сам по себе. Ну понятно, говорю, только без агитации тут. И он остался.
Чувствовал себя он уверенно и спокойно, собирал вокруг себя скинхедов и толкиенистов, бомжей и провокаторов и проповедовал им, как Иона рыбам. Бомжи и провокаторы слушали его, завороженно дыша жабрами. Ходил он в сопровождении нескольких самых фанатичных толкиенистов. По-моему, они его чем-то накачивали, во всяком случае, настроение у всех было приподнятое. Агитацией он действительно не занимался, шныряя в синих городских сумерках и покручивая свой белый ус.
Вдруг он исчез. Я долго расспрашивал у его последователей, где это, Мол, ваш гуру, почему больше не проповедует птицам и рыбам, но они только неловко усмехались и отводили глаза. Наконец кто-то из них раскололся. История оказалась скорее трагической, чем поучительной. Оказывается, однажды прямо в ходе очередного сеанса по обработке юных, не до конца испорченных душ старый альбинос вдруг ощутил нужду, я бы назвал ее большой в прямом смысле этого слова. Был не местный, поэтому даже не представлял, где эту нужду можно справить. Мнения паствы разошлись — одни предлагали вести гуру в платный туалет за отделением милиции, другие говорили, что это отделение еще нужно будет пройти, поэтому лучше не рисковать и отправиться в дом пионеров. Посоветовавшись, общество двинулось. Но оказалось, что дворец пионеров в эти тревожные дни объявил себя территорией мира и никого с майдана не пускал. Гуру занервничал, паства окончательно раскололась, тот, кто первым предложил идти во дворец пионеров, был посрамлен и изгнан. Гуру попытался воззвать к совести своих адептов, те, начиная злиться, еще раз посоветовались и повели его в гостиницу Харьков, где на четвертом этаже в конце коридора есть бесплатные кабины, но об этом нужно знать. Они об этом знали. Но они не знали того, что именно с часу до двух дня кабины эти закрыты на санитарные работы. Гуру мужественно держался, как то пристало порядочному пастырю. Очевидно, это просто был не его день. Нервничающие адепты перестроились по новой и решили пробиваться все же за отделение милиции, не оставлять же гуру в таком состоянии, думали они, не оставлять, не оставлять — мысленно соглашался с ними гуру. Они пошли к лифту. Долго его ждали. Долго в него запихивались. Наконец кто-то нажал нужную кнопку, и лифт тронулся.
Гуру продержался до второго этажа. В тот момент, когда лифт миновал второй этаж и минута облегчения неумолимо приближалась, сила духа отступила от него, и он испытал, возможно, наибольшее моральное фиаско в своей жизни. Я уж не говорю о фиаско физиологическом. Когда лифт доехал до первого этажа, последователей у него уже не было. Лифтом после этого, кстати, долго никто не пользовался.
То есть я же говорил — эта история скорее трагическая, чем поучительная. Ведь что можно вынести из таких историй? Что из них выносят сами главные герои? Волна спадает, круги расходятся, герои уличного движения западают в свои норы, Ожидая следующего сличая выплеснуть из себя желчь и праздничную революционную муть, гуру-альбинос вернулся куда-то в северные лесные монастыри и долгими зимними вечерами повествует скептически настроенный братьям о дивном южном городе, где по праздничному майдану за ним; ходила пестрая орава юных адептов, где лифты в гостиницах медленные, как смерть на кресте, где прямо посреди города стоит суровый собранней Шева и показываем мировому капитализму жесткий пролетарский фак.
6
Роллинг стоунз для бедных. Я знаю про винил все. С нарезанным на нем треками, запакованный в конверты, нетронутый, будто заснеженное поле, полное черного терпкого снега, винил пахнет огнем и железом, синтетикой и химией, когда вынимаешь диск, сначала из внешнего картонного конверта, потом из внутреннего, осторожно берешь его и смотришь против света, видно, как пыль садится на его хрупкую поверхность, как солнце перебегает по тонким бороздкам, так, словно атлеты бегут по кругу по четырем беговым дорожкам стадиона, у которых нет ни начала, ни, соответственно, конца.
Винил бьется, как посуда на кухне ресторана; нагреваясь, он деформируется и теряет свою упругость, любой острый предмет оставляет на нем глубокие следы, будто на сливочном масле. Попадая в огонь, винил тянется и выедает все живое, точно разлитая из танкеров нефть, из него идет черный густой дым, он пахнет химическим распадом. Смерть винила жестока, жизнь винила легка.
Подростком я проводил тут целые часы, магазин грампластинок, разместившийся в подвалах только что построенного театра оперы и балета, был тем местом, где я с радостью согласился бы умереть — прямо среди дисков, которые я не мог по финансовым причинам себе купить. В какой-то мере это сказалось на моем дальнейшем отношении к опере, с балетом включительно. Все мои интересы в этом направлении ограничивались окрестными подвалами, заполненными тысячами новых пластинок, и какой после этого мог быть балет. Мне казалось, что я знаю про винил все, хотя я не знал ничего — мое знание подменялось моей любовью, моей страстью, а этого, как оказалось, надолго не хватает.
Но вот в моем даунтауне случайных зданий не бывает, кто-то их подбирал старательно и тщательно, так чтобы с каждым из этих сооружений было связано множество историй и случаев, и попробуй теперь удалить отсюда хотя бы один объект — общая картина рассыплется, дыры будут зиять в воздухе, распыляя вокруг пустоту. День за днем видеть одни и те же дома, заходить в них, долго по ним блуждать, изучая постепенно их начинку, привыкая к высоте потолков и темноте коридоров, к тяжкому скрипу входных дверей, к ставням и розеткам в стенах, к скамейкам в коридорах и ковровым дорожкам на лестницах — мой даунтаун значит для меня гораздо больше, чем можно предположить, я знаю про эти дома все, во всяком случае — все, что мне нужно.
Скажем, опера, облепленная кофейнями и магазинами, кинотеатром и кассами, с площадкой, на которой скейтбордеры стоят на своих досках, словно оловянные солдатики на подставках, а старые торчки продают самопальные кассеты; воспоминания, которые вызывает у меня опера, особенно грустны и лиричны, ясное дело, что это не касается музыки, при чем тут музыка, речь идет о вещах более интимных. Скажем, мои друзья. Среди моих друзей традиционно не было любителей балета, думаю, даже не стоит пояснять почему. Балет они не смотрели даже по телевизору, во-первых, потому что по телевизору балет, как правило, не показывают, а во-вторых — откуда у них телевизор. Ситуация понятная, и комментарии здесь излишни. Но даже при этой нелюбви, нелюбви, следует заметить, если не принципиальной, то, во всяком случае, последовательной, имела место одна история, непосредственно относящаяся к балету. Однажды, году так в 92-м, максимум — 93-м, сейчас даже не припомню, мы с друзьями должны были совершить коллективный поход на балет. В рамках, кажется, месячника эстетического воспитания или чего-то такого. Буфетом дело ограничиться не могло — на входе был фейсконтроль, к нам, учитывая уровень нашего эстетического воспитания, внимание было особым. Нужно было идти. Но, очевидно по причине внутреннего сопротивления, поход казался нам неуместным. К балету мы были не готовы. Мы сидели в пивбаре на проспекте Свободы (с ударением на первом слоге, да-да, именно с ударением на первом слоге — к свободе как философской категории это не имело никакого касательства, речь шла о чехословацком генерале, по-моему генерале, в любом случае дела это не касается) и колебались — нас лишали выбора, никто не спрашивал о нашем отношении к месячнику эстетического воспитания, и совершенно зря, потому что к чему у нас было четкое и принципиальное отношение — так это именно к месячнику эстетического воспитания, но нас загнали в угол и держали под прицелом, в возрасте 18 лет особенно обидно чувствовать себя крысой, которую прижали к стенке, согласитесь. Тем более когда третий час подряд сидишь в пивбаре на проспекте Свободы, и пусть это никоим образом не касается свободы как философской категории, все равно обидно. Оставалось полчаса. Конформизм снова победил, мы решили ехать. Но это так просто сказать — решили ехать. Не так уж и легко было в нашем состоянии собраться, выйти из пивбара и поймать такси, не так уж и просто было нам в том отчаянном состоянии договориться с водителем, более того — не так уж и просто было вообще объяснить ему, куда мы едем. Но детали исчезли в подполье памяти, а суть осталась на поверхности — мы доехали, опоздав всего на десять минут, дела наши шли все лучше. Но напрасно, напрасно думать, что любое, даже незначительнейшее проявление твоей продажности пройдет даром и не будет тебе засчитано арбитрами матча! Только не в этой жизни. Потому что в этой жизни платить нужно за все, а особенно за конформизм. Потому что в этой жизни между балетом и свободой всегда нужно выбирать свободу, даже если это чехословацкий генерал.
В зал нас не пустили, прежде всего из-за нашего друга Игорька. Мы все выглядели не лучшим образом, но нам готовы были это простить, хотя бы с оглядкой на месячник эстетического воспитания они могли закрыть глаза на наши зарыганные джинсы и залитые пивом кроссовки. Но наш друг Игорек, тот, которого мы собирались везти в багажнике такси, тот, которого мы сначала в этом же такси забыли, тот, наконец, который шел впереди всех — в длинном кожаном плаще, под которым была только старая белая майка, надетая наизнанку, — этот барьер ему не дался. Еще если бы майка его, эта его старая добрая белая майка, не была надета наизнанку, или не этот его дурацкий плащ, который он не хотел оставлять в гардеробной, потому что боялся, что его украдут, нам бы могли все простить и пропустить на балет, спасая таким образом смертельно безнадежную ситуацию с нашим эстетическим воспитанием, если б это было так. Но все было против нас — майка была надета наизнанку, плащ снимать наш друг категорически отказался, нас вышвырнули, даже не проверив билеты. Обреченно мы шли на выход. Шо, мальчики, уже? искренне удивились тетки в гардеробе. И тут он, наш друг, легким движением заправил свою майку в джинсы, застегнул плащ на верхнюю пуговицу и небрежно так бросил — «Не мой стиль». Думаю, теткам после этого оставалось только повеситься на фанерных декорациях.
Почему-то именно в прошлом году доводилось видеть все эти здания в необычных ракурсах, особенно близко подходить к ним, продираться внутрь, рассматривать вплотную краску на стенах; никогда до того я не проводил возле них столько времени, никогда до того они не были такими темными и пустыми. Даже опера была темной и пустой, здесь не продавали больше кассет с роллингами, не было никакого винила, все это осталось где-то там — в 92–93-м, здесь была совершенно другая жизнь, не менее интересная, кстати, чем та, предыдущая, но все равно другая. Во всяком случае, зима в ней была холодной, а воздух — разреженным.
Мы шли в этом воздухе, ночью, человек 30–40, и залепляли площадку перед оперой агитацией, мы лепили ее куда только могли, перекрикиваясь в темноте. Вдруг впереди появилась милиция и двинулась на нас. Пытаясь держаться вместе, мы начали пятиться, они шли за нами, выдерживая дистанцию и срывая все, что мы перед этим налепили. Это была даже не дистанция, это была фора, те 50 метров, которые всегда пытаешься держать про запас. У нас они были, у них — нет. Им, я думаю, было хуже.
7
Влажное тело власти. Заходишь с боковой улочки, минуешь кпп, на проходной менту говоришь, скажем, что ты курьер, только не наркокурьер, что ты курьер и принес корреспонденцию, или что ты принес пиццу, или выдумываешь что-нибудь более рискованное, скажем, что ты в комитет по работе с религиозными общинами, им, как правило, все равно, спрашивают они скорее для порядка, хотя какой тут порядок, дальше вызываешь лифт, спокойно, главное спокойно и без паники ждешь, пока за тобой автоматически закроются двери, и все — у тебя совсем немного времени, чтобы определиться с конечной остановкой, всего несколько минут, чтобы сориентироваться в этих глухих коридорах и в нумерации кабинетов. По крайней мере ближайшие полчаса никто искать тебя не будет, если ты, понятно, сам себя не спалишь, не откроешься раньше, чем нужно, тогда все будет хорошо.
Коридорами власти ходят, как правило, люди уверенные в себе, их закаляет эта необходимость ежедневного прохождения пафосными коридорами, застеленными дешевыми ковровыми дорожками, они про себя думают — как все-таки здорово все сложилось, как правильно: власть, о которой пишут в газетах и показывают по тиви, власть, за которую борются и умирают, лежит в это самое время в соседних кабинетах, вот за этими дверями, которые я, один из немногих, могу легко открыть. Коридоры власти вызывают у посетителей нездоровое чувство усердия, это мы с друзьями пролезали в местный буфет, в свои семнадцать лет называясь курьерами, проползали в тогда еще довольно пристойную постпартийную — главное дешевую — столовую, для большинства же посетителей эти коридоры наполнены сакральным духом административного подчинения и бюджетной зависимости. Бюджет, словно грибок, разъедает кожу между пальцев граждан, вынуждает их нервничать и плакаться клеркам, которые в это время невозмутимо смотрят посетителям в глаза, пряча руки под стол. Все они повязаны, все они держатся друг друга, им нужна эта игра во властную вертикаль, с ее бюджетным наполнением и коммунальными службами, — посетителям нужно ощущение системы, ощущение пальцев на своем горле, им всегда удобнее испражняться в общественных туалетах в чьем-нибудь присутствии, у них от этого лучше работает желудок; клеркам при этом необходима ежедневная подпитка желудочными соками электората, подключение к его нервной системе, клерки, словно полевые грызуны, роют свои километровые норы на солнечных угодьях материального обеспечения и социальных гарантий, посмотри внимательно — за твоей спиной всегда стоит клерк и только ждет удобного момента, чтобы залезть к тебе в карман и вытащить оттуда все медяки, все фисташки и ключи от почтового ящика, все презервативы и визитные карточки твоих дилеров, всё, что ты таскаешь месяцами в безразмерных и бездонных карманах своего пальто, клерку подойдет что угодно, его крысиная натура требует не столько материальной компенсации за свою круглосуточную охоту на твои карманы, сколько простой моральной сатисфакции, клерку нужно вытрясти из тебя твою внутреннюю жизнь, как кишки из рыбы, вытрясти и напихать взамен, словно листья капусты, повестки и формуляры, бюллетени и справки, пресс-релизы и телефонные счета, чтобы ты попытался все это переварить и не смог, сдохнув в коридорах власти от заворота кишок.
Часто они выходят из одного и того же подъезда, в восемь утра, они живут совсем рядом, вся эта дистанцированность власти от населения, она иллюзорна, она исчезает, как только заканчивается восьмичасовой рабочий день клерка и как только посетитель выходит снова на свежий воздух, здесь они в равных условиях, им нет нужды играть в эти детские игры, жизнь жестока к клеркам, она бьет ими по стенам домов, как бамбуковыми палочками, и прижимает ногтем к паркету, к посетителям она тоже, кстати, не слишком лояльна, с посетителями у нее отношения, возможно, еще хуже — у посетителей нет защиты от жизни нигде, даже в коридорах власти, более того — здесь они защиты от жизни даже не ищут, ограничиваясь традиционно вопросами материального обеспечения и социальных гарантий.
Часто, проходя мимо этого дома, я про себя думаю — интересно, я сейчас иду мимо коридоров власти, коридоры эти тянутся как раз с запада на восток, на каждом этаже, с правого крыла здания до левого, и в это самое время, когда я иду по улице, предпринимая еще одну попытку попасть домой, кто-то совсем рядом со мною, на расстоянии каких-то сорока-пятидесяти метров, идет, можно сказать, параллельно мне, коридорами власти, делая карьеру и пытаясь дойти до конца своего коридора. Хотя, если подумать, что его там ждет, в конце коридора, — глухой угол, пустая комната, обработанная хлоркой, белые клинические кабинеты, в которых сидят рано постаревшие, затравленные жизнью клерки и с тихим отчаянием смотрят в окна, на ослепленные утренним солнцем улицы и площади, к которым они на самом деле не имеют никакого отношения. Еще я думаю, что, вот, хотя мы с ними идем в одном направлении, то есть с запада на восток, и даже приблизительно с одной и той же скоростью, но в насколько разных и непохожих местах мы в конце концов окажемся.
Но как ты используешь свои полчаса? Давай, времени осталось не так уж и много, потом пожалеешь, попробуй хотя бы на этот раз использовать свое преимущество в тридцать минут, ты же к этому давно готовился, все, пошел — проходишь длинным коридором пятого этажа, сбегаешь на четвертый, огибаешь на лестнице двух секретарш, которые курят крепкие Мальборо, и выходишь к началу длинного, бесконечного коридора, все — это должно быть где-то здесь, внимательно следи, не пропусти нужных дверей, медленно иди и прислушивайся, за одними из них сейчас обязательно услышишь это тяжелое одышливое дыхание, тяжелый стук большого красного сердца, заросшего жиром и истерзанного растворимым кофе, ты не сможешь не узнать эту затяжную бесконечную аритмию, которая пробивается каждый день с экранов твоего тиви или из рекламных роликов на эфэмках, этот судорожный сердечный разнобой известен тебе, как никому другому, — именно он звучит на пустых перронах зимней ночной подземки, именно он сбивает тебя с ритма в шесть утра, по его смертельным паузам определяют время продавцы магазинов и регулировщики на перекрестках, стук этого сердца ни с чем не спутаешь, это оно, тебе нужна эта комната. Именно под этими дверями и нужно оставить свою бомбу.
Остановившись на площади, кормишь голубей с руки, спрашивая у кого-то время, следишь за самолетом, который летит в сторону границы, оставляя широкие белые полосы, и, напрягшись, даже здесь улавливаешь его дыхание, чувствуешь, как оно тяжело переворачивается с боку на бок, отрывая от пола смертельный вес своей плоти, оставляя на полу влажные следы, тяжело переводит дух и снова замирает на долгое время, пытаясь выровнять дыхание, колыхая застоявшийся воздух комнаты и недовольно шевеля длинными скользкими щупальцами.
Через несколько минут дыхание успокаивается, щупальца замирают, потовые железы открываются, и оно дальше лежит посреди пустой комнаты, тогда как ты стоишь и издалека смотришь на окна административного здания, из которого вышел полчаса назад. Здание тянется с запада на восток, ровные холодные ряды его окон поблескивают на солнце, почти нет открытых форточек, такое впечатление, что они боятся сквозняков, поэтому сидят с плотно закупоренными и заклеенными бумагой окнами, эти несколько сот клерков, все восемь часов своего рабочего дня, страдая от аллергии и духоты, сидят в своих пустых выбеленных кабинетах, сдерживая выдох и внимательно прислушиваясь к дыханию на четвертом этаже, к аритмическому перебою массивного нездорового сердца, отслеживая для себя, как там, в закрытом кабинете, тяжело переворачивается с боку на бок накачанное жиром и больной коричневой кровью, замкнутое здесь до конца своих, дней медленное влажное тело власти, и сердце этого тела под конец рабочего дня работает четче и монотонней, тогда как по другую сторону дверей, так же четко и монотонно, бьется установленный тобою на шесть вечера часовой механизм.
8
Оставляя навсегда дворец пионеров, выходя в жирный вечерний снег из его залов и комнат и даже не рассчитывая вернуться сюда, по крайней мере в ближайшие полгода, я думаю про себя о странном сочетании, химерной спайке понятий — дворец пионеров, знак, открытка из прошлого, из коллективного детства этой страны, ее коллективной памяти. Новая эстетика не может до конца сбить буквы на фронтонах, убрать скульптуры, поставленные на крышах моего города, она не может вытравить надписи и вывески, как кислотой вытравливают наколки, ей не хватает духа, недостает умения, а главное — ей нечем заменить выверенный визуальный ряд, которым пользовалась бывшая страна в своем продвижении вперед, в желтые пустые пески забытья. Странные руины остались после всего, дома с призраками повешенных, маршруты для коллективных занятий секс-туризмом, все эти дворцы культуры, дворцы бракосочетаний, дворцы пионеров, неуместный мажорный дух юной социалистической модели, которая, будто новая паровая машина, разорвалась от собственного адреналина, оставив на память отдельные детали, на которых запеклась малиновая кровь исследователей.
Чем можно заменить дворцы культуры и дворцы пионеров? Ведь понятно, что речь идет не о дворцах как таковых, даже не об их функции идет речь, речь идет о тысячах подростков, у которых при себе нечто большее, чем просто паспортные данные, у каждого из них есть что-то гораздо более важное для них самих, например биография. Кто осмелится лишить их всех биографий? И что он предложит взамен?
Вырастая, ты открываешь для себя необходимое тебе количество вещей и понятий, предметов, зданий и целых архитектурных ансамблей, они предстают перед тобой внезапно и остаются в твоем сознании надолго, если не сказать навсегда. Это так только говорится — дворец пионеров, на самом деле за ним стоит рубленое мясо времени, его вывернутые кишки, на которых оно повесилось. Попробуй, вспомни все до мельчайшей минуты — только начнешь, за тобой сразу потянутся, словно дым за подбитым истребителем, теплые стебли твоего детства, спелые плоды твоего врастания в жизнь, твоего прохождения сквозь нее, твоей в ней потерянности.
Дворцы культуры, которые содержали профсоюзы оборонных предприятий, актовые залы с плохим освещением и тяжелыми кулисами, которые все время заедали и не открывались, эвакуационные выходы за сценой, комнатки, набитые самопальной, часто краденой аппаратурой, репетиционные площадки, кузницы кадров так сказать, — сколько по Харькову разбросано таких зданий, я с детства таскался по всем этим дворцам, я и теперь люблю туда заходить, правда, там уже почти не осталось безумных жильцов, пионеров-героев, которые захватывали очаги культуры и держались в них до последнего, не позволяя выбросить себя на улицу.
Такой дворец культуры стоит напротив универмага. До него всегда было трудно добираться, разве что трамваем. Раньше, в другой жизни, я часто ходил сюда на разные концерты, добираясь с несколькими пересадками и сотнями единомышленников, мы перлись через весь город, чтобы быть вместе, держаться друг друга, радостное сумасшедшее чувство локтя, даже если этот локоть бьет тебя по почкам. Мы доезжали до места, трамваи останавливались, словно сердца, дворец культуры стоял в тихих осенних сумерках, в коридорах пахло гашишем и туалетом. Такие концерты стоило увидеть, тем более что слушать их было все равно невозможно.
И вот прошло десять лет, как закончились все самопальные концерты, как сюда провели нормальное метро, после чего сюда никто не приезжает, и я случайно снова попал в этот дворец культуры, странная ситуация — мне нужно было именно провести концерт, и все было бы хорошо, за исключением небольшой детали — не было зала. Я не буду говорить сейчас об оппозиционных акциях, о перепуганных директорах, о ебнутом обществе, которое боится само себя, поскольку, ну, что тут говорить, вы и так все знаете, но проблема осложнялась тем, что концерт должен был состояться в семь вечера сегодня, по крайней мере так было написано в афишах. В двенадцать дня зала еще не было.
И тут я вспомнил о старом добром дворце культуры, как же так, подумал я, там еще при совке происходили фантастические по своей асоциальности вещи, там еще в те далекие времена, когда огромная машина только начинала давать первые сбои, панк победил окончательно и бесповоротно, не может быть, чтобы меня в этот зал не пустили сейчас, именно они обязаны это сделать, хотя бы в память о нашем общем прошлом. Я поехал туда, нам было что выдвинуть друг другу в качестве обвинений, сколько раз меня выставляли из этого зала охранники, однажды меня чуть не прибили здесь за то, что я будто бы бросил в переполненный зал зажженную петарду, и сколько я ни говорил, что это не я, меня все равно едва не прибили; сколько раз меня сбрасывали со сцены вместе с музыкантами, за которых я успевал схватиться, одним словом — если я и мог где-то найти понимание, то именно здесь. Я зашел внутрь — первый этаж занимал салон мебели, кроме этого был кабак, еще какие-то салоны и магазины, сбоку находился занюханный секонд-хенд. Гашишем больше не пахло, остался только запах туалета, дух совковой параши, который не исчез отсюда вместе с рок-н-роллом, въелся в стены, въелся в секонд-хенд. Я развернулся и поехал назад.
Похожая история произошла и с дворцом пионеров. В начале 90-х здесь репетировали друзья нашего общего знакомого Немца. Немец тусовался сразу на нескольких фронтах, объединяя на своем жизненном пути такие, казалось бы, несовместимые вещи, как пангерманизм (ну, это еще можно было списать хотя бы на его погонялово) и украинское народное язычество (а вот это уже ни на что списать было нельзя, молодость, молодость, дорогие братья и сестры, что тут скажешь), и его друзья из дворца пионеров каким-то странным образом тоже пытались в своем творчестве эти вещи объединять. Немец о них много и увлеченно рассказывал, однако знакомить боялся, у него был горький опыт, и он четко уяснил себе такую вещь — если не хочешь потерять друга, ни с кем его не знакомь. С бабами у него была та же самая ситуация; то есть ситуация у него была, а баб как раз не очень. Я хорошо запомнил с тех времен его восторженные рассказы о дворце пионеров как о такой себе гавани, в которую сплываются утомленные жизненными бурями украинские народные язычники, где их всегда ждет теплая семейная встреча — спирт в железных кружках, на выбор разная фармацевтика, драп, телки и минет в женском туалете, ну, как обычно и водится у язычников, я подозревал, что где-то оно не все так, как он рассказывает, но что мне было до того — в какой-то момент нам довелось вместе с Немцем переживать бесконечную затяжную осень, мы спали в партийном офисе одной правой партии, в бывшей душевой комнате, места там было ровно столько, чтобы двое грязных тинейджеров, не снимая, ясное дело, одежды, могли разместиться спина к спине, локоть к локтю — на свертках с фашистской литературой, положив под голову собственные свитера, выбросив в коридор свои ботинки, потому что, во-первых, не было места, а во-вторых — воздуха, мы спали в душевой комнате, с вырванными из стены кранами, с серыми кафельными стенами, грея своими телами сырые пачки газет с напечатанными в них героями вермахта. Герои были холодными, фашизм не понравился мне сразу.
Дворец пионеров находился совсем рядом, как жестокое отрицание всех наших детских наивных представлений о мире — именно тогда, именно той осенью я начат наконец понимать, что никто, никто и никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах меня не ждет, нет никакой гавани, будь я хоть трижды язычником, будь я героем вермахта, никто не готовит мне теплую постель, никто не смотрит в окно, отыскивая в уличной темноте мой силуэт, мне просто некуда идти, единственное, что я действительно могу сделать, — это остаться, остаться раз и навсегда там, где я есть, там, где мне было так плохо, там, наконец, где я выжил, не дав себе сдохнуть на жестких, сырых и черных от краски пачках с газетами, которые пахли ночными страхами и типографским свинцом.
9
Станция метро смерть. Знаешь, что это? спросил он, показывая на шов в стене. Что? Это аварийные двери, на случай бомбардировок. Ты знаешь, что наши станции метро рассчитаны на бомбардировки? Ну, догадываюсь. И не просто на бомбардировки, добавил он, в случае атомной бомбардировки тут тоже можно будет пересидеть. Ну, это навряд ли, засомневался я. Можно, уверенно сказал он, все спустятся в подземку, закроют за собой вот эти свинцовые двери и будут сидеть тут до лучших времен. Долго сидеть придется, сказал я. Но в принципе, согласился он, это оставляет хоть какую-то надежду.
Нетрудно догадаться, что наши города прячут в своих утробах, на своих телах великое множество добавочных устройств и рычагов, присмотревшись внимательно к знакомой архитектуре, ты с удивлением начинаешь замечать неведомые тебе ранее подземные переходы в неожиданных местах и пожарные лестницы, которые выводят на артиллерийские площадки. Город вынужден уметь обороняться, даже в мирных условиях он должен бороться за свою жизнь, что уж говорить об атомных бомбардировках. Эти неожиданные знания о потайных механизмах в городских коммуникациях надолго лишают покоя и устоявшихся взглядов на давно знакомые вещи. Подземка, длинная харьковская подземка, в которой так хорошо греться в декабре, уже не кажется безопасной и беззаботной, вдруг на стенах ее станций проступают ужасные хирургические швы, за которыми прячутся аварийные двери, за которыми в коридорах ждут своего часа бестии, инфицированные животные и земляные птицы, которые давно уже не умеют летать, да им и негде, если уж на то пошло.
Ни за что не спущусь в подземку в случае бомбардировки, уже наперед знаю, чем это закончится, ничего хорошего тут ждать не следует, стоит вспомнить хотя бы берлинскую подземку 45-го, заботливо затопленную окончательно разрушенным режимом. Чрезмерная, никому не нужная фактурность подобных сцен, о чем они думали, запуская воду в туннели с вагонами? Одно дело, когда армия гибнет на линии фронта, этого, по крайней мере, следует ожидать с самого начала, для этого фронт и существует, если я все правильно понимаю, но население на центральных станциях Берлина — им это к чему, такие вещи хорошо снимать в кино, там главный герой, набрав полные легкие воздуха, ныряет в холодный, наполненный водой тоннель, стремясь вынырнуть на соседней станции, в кассовом дорогом кино ему это безусловно удалось бы, он пробивается сквозь черный, такой бесконечный на первый взгляд, тоннель, отталкиваясь в густой воде ногами, он даже не успел снять ботинки, это немного замедляет его заплыв, но ни в коем случае не может его остановить, он проплывает мимо пустых вагонов, заглядывает в окна, рассматривает на стенах схему линий метро, чтобы не дай бог не сбиться в этих ледяных подземных водах и не запороть бюджет фильма, наконец, когда воздух заканчивается, он замечает далеко впереди, за спинами трески и зелеными водорослями, огни следующей станции, еще не до конца затопленной фашистами, и выстреливает своим телом из глубины прямо на платформу, спасаясь от смерти в холодной воде подземки. Правда, эта станция тоже быстро должна была наполниться водою, и, в конце концов, сколько ни ныряй, сколько ни пробивайся, сколько ни отталкивай от себя круглые морские мины с черными шипами, они все равно затянут тебя на самое дно, где нет света и жизни, где лежат холодные камни и куда опускаются железобетонные обломки оформления станций метрополитена и куски черных крейсеров, подбитых в этих мутных опасных водах. Если уже ты спускаешься вниз, становишься на эскалатор, с целью переждать здесь, на глубине, плохие времена, подумай о других вариантах; возможно, лучше было бы остаться на поверхности, записаться в пожарную команду, получить обработанный специальным раствором костюм и дежурить на крыше самого высокого в городе дома, вылавливая зажигательные бомбы и гася их в ведрах с грязной водой, возможно, стоило бы остаться там, под открытым небом, стоять на пожарной лестнице, всматриваться в наполненное драконами небо и защищать от оккупации свой персональный даунтаун.
Нельзя спастись в темноте, спасаться нужно ближе к свету, к свежему воздуху и зеленой траве, в зеленой траве спасаться вообще одно удовольствие, это тебе не катакомбы посреди города, с галереями и длинными переходами от одной станции к другой, на первый взгляд она действительно уютная, эта подземка, прохладная летом и теплая осенью, днем всегда наполненная людьми, ночью тут никого нет, только ходят уборщики в брезентовых фартуках и длинными шлангами смывают со ступенек листья роз и свежую кровь; когда выходишь из последнего состава и поднимаешься наверх, грязные потоки этой воды бегут тебе под ноги, словно там, наверху, начался теплый майский дождь, такой бурный, что канализация не успевает вбирать в себя такое количество влаги, забивается стеблями роз, рекламными листовками и размокшей сладкой ватой, вода поднимается, заливая тротуары и площадь, и наконец устремляется в метрополитен, сначала непрочными черными струйками, которые обрываются на полдороге, потом более уверенными волнами, смывая внизу, в переходе, лотки с прессой, потом сплошным хрустальным потоком наполняя пустоты метрополитена, как ртуть наполняет градусник.
Мне всегда казалось, что подземка способна вбирать в себя тени и голоса, фигуры и жизни, она открыта этому, однажды, зайдя сюда, спустившись на самое дно, ты уже не сможешь вернуться наружу, ты потеряешься на одном из перегонов, так и не доехав до нужной тебе станции, я даже думаю, что там они все и находятся — все те, кто внезапно исчез из этой жизни, выпал из нее неожиданно и незакономерно, подземка прячет в себе их всех до лучших времен, до нужного момента, когда они наконец решатся вернуться назад, на поверхность, в свой красный даунтаун, в котором они не смогли однажды выжить.
Продолжение этой жизни целиком может происходить в вагонах метрополитена, на станциях и переходах; опускаясь каждое утро под землю, проходя под арку, на которой в свое время висела большая металлическая голова феликса, ты даже не знаешь, с кем тебе случается ехать в одном направлении, более того — ты даже не догадываешься, что направления у вас разные, несмотря на то что вы едете в одних вагонах. Мир мертвых дышит с тобой одним воздухом, не притворяйся, что ты этого не замечаешь, это лишь вопрос времени, однажды ты придешь сюда и тебе охотно уступят место, ты даже не заметишь, как это произойдет, просто войдешь сюда и останешься до лучших времен.
Каждый шов в стене, каждый знак, выведенный на пожарных кранах и канализационных люках, каждое объявление, звучащее под высокими сводами станции университет, наполнены сведениями об их передвижении твоими маршрутами, ваши маршруты все время пересекаются, к тому же пересекаются они в самых людных местах, где-то именно здесь, в районе площади, где много солнца и воздуха, где все вы пересекались при жизни, поэтому естественно пересекаться здесь и после смерти, тем более что особой разницы, как оказывается, нет — для всех вас, и тех, кто ушел, и тех, кто остался, существует единый метрополитен, с тремя линиями движения, с несколькими десятками остановок, с переходами и подземными депо, с единой системой пропуска, которой невозможно избежать, как ни старайся.
Я могу себе представить, как они вернутся, это произойдет скорее всего летом, наиболее вероятно в августе, да — в конце августа, сухим и солнечным августовским утром, в 5:30, с первым составом, двери откроются, и оттуда начнут выходить они все — все, кого ты помнишь и кого уже успел забыть, все, кого тебе не хватало и чьего появления ты так боялся, с кем ты время от времени сталкивался там, внизу, даже не догадываясь, что они, в отличие от тебя, там и остаются, они будут выходить в теплый августовский воздух, в свежее харьковское утро, в долгую размеренную жизнь, наполняя ее своими голосами, своим дыханием, своим присутствием, своей смертью.
10
Южная сторона севера. Центральный вход железнодорожного вокзала, лестница с колоннами, традиционное место сбора веселых и отважных путешественников, которые договариваются встретиться здесь, чтобы не блуждать по залам ожидания или длинным бесконечным перронам этого мощного железнодорожного узла. Улыбающиеся лица туристов, суровые пожатия мужских ладоней, радостные женские голоса, рюкзаки и спальники, наконец все собрались, дружно подсмеиваются над опоздавшим, компания закидывает на плечи рюкзаки и, пройдя сквозь зал, выходит на первую платформу, находит свои места, состав медленно трогается, оставляя на перроне возбуждающий запах странствия, опасности и отваги. Поезд исчезает за далекими семафорами, но жизнь вокзала не замирает ни на секунду, он и дальше работает на полную мощность, дыша в унисон с сотнями рабочих дыханий, дыханий работников стальных магистралей, которые обеспечивают согласованный и бесперебойный ритм жизни железной дороги, обеспечивают долгое беззаботное путешествие всех веселых бродяг этой страны. Красное солнце перелетает через здание вокзала, дворовым футбольным мячом прыгает по платформам и, успокоившись, выкатывается куда-то на запад.
Переезды в несколько дней, без воды и сна, зависание на безымянных станциях, черный голод ночного плацкарта, черная вода железнодорожных перегонов, выгоревшие от солнца и водки души проводников, кровавые сны пассажиров и уничтоженные коммуникации — я люблю железную дорогу, я люблю ее настолько, что могу писать о ней книги, мои книги о железной дороге были бы наполнены множеством примеров из реальной жизни, главные герои этих книг отличались бы удивительной выдержкой и упрямством, они протискивались бы сквозь самые плотные участки воздуха, сквозь самые сконденсированные куски пространства, эти герои умирали бы в дороге, как и надлежит настоящим героям. Ни одной остановки, ни малейшей паузы, настоящее путешествие не нуждается в цели, не нуждается в конечном пункте, главное двигаться, двигаться вперед, сколько тянутся колеи, пересекать границы железнодорожных возможностей, хотя бы для того, чтобы проверить, кто первый не выдержит и спрыгнет на холодный асфальт очередного вокзала, кто первый разуверится в вашем путешествии, давай, проверь своих близких, кто из них действительно не облажается, кто выдержит с тобой до конца, и каким он будет, этот конец.
Лица, которые вдруг появляются за окном, фигуры, которые находятся все время где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки, голоса, к которым ты прислушиваешься и которые не можешь до конца понять, глаза, которыми смотрит на тебя твоя жизнь, зеленые, чуть прищуренные глаза. Никакой цели, никакой причины, никаких последствий, двигаться, держась дороги, которая подпитывается твоим движением, твоим бесконечным самодостаточным перемещением — из ниоткуда в никуда, неизвестно сколько в неизвестном направлении с неизвестными намерениями, черный-черный туризм, цель которого — постоянная потребность в движении; небесный контролер компостирует твои билеты, души всех святых летят за тобой, время существует для того, чтобы ты его убил.
Попадая в город по железной дороге, ты выходишь через высокие двери главного зала, послевоенная сталинская постройка легко вздымается над тобою, выходишь на привокзальную площадь, берешь такси и едешь в город, в центральную его часть. Отработанный механизм прохождения через фильтры и чистилища чужого города предполагает этот выход из дверей вокзала, вокзал вообще значит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, пусть он выброшен куда-то на периферию городской карты, к нему всегда нужно добираться, он требует определенных усилий, но именно отсюда начинается все самое интересное и самое горькое, сюда заносит майским ветром случайное дикое семя, из которого в конце концов вырастает вся зелень твоего мира, и в этом месте спрятаны все необходимые тебе слова и словосочетания, ну, именно так — железная дорога-мама, зеленое небо над твоей головой, разорванные словосочетания под зеленым небом.
Около часа ночи я принес мяч. Он еле держался, типичный разъебанный мяч, который долго гоняли по асфальту. Другого не было. Но, что хуже всего, этот тоже нужно было накачать воздухом, иначе в этом всем не было никакого смысла, а надо было, чтобы смысл был, — за нами наблюдало слишком много глаз, слишком многое зависело от того, будем мы играть или не будем — в первом часу ночи, при минус 15, на заснеженном майдане. Это был такой себе матч смерти, точнее, жизни. Мы пошли к таксистам. Таксисты были за нас. Мы начали качать, где-то на двадцатой секунде мяч взорвался. Я бы на его месте, честно говоря, сделал то же самое. Мы стояли посреди площади, с лопнувшим обмороженным мячом, тяжело выдыхая из легких остатки тепла, ну и ясно — отчаянью нашему не было границ, ведь все это по правде и делалось ради футбола, ради того, чтобы беспрепятственно погонять мяч в час ночи на центральном майдане города. И что теперь?
Они приехали на своем пафосном мажорном джипе, светили десятком фар и фонарей и отчаянно сигналили. Сразу было видно, что они тоже за нас. Они сделали вокруг нас круг почета и остановились. Пацаны, выглянул в окно водитель, мы, типа, за вас. Здорово, ответили мы. Мы вас поддерживаем, добавил он для полной ясности. Спасибо, ответили мы недовольно, хули приебался в час ночи. Может, вам чего нужно? спросил водитель. Да не, все нормально, отвечаем. Может, водяры привезти? водитель был точно за нас. Не, водяры не надо, не сегодня. А что надо? Ничего не надо — мы лишили его последнего шанса. Тогда я вам просто посвечу, чтоб вам не так темно было, сказал он. Хорошо, свети, согласились мы. Слушай, вдруг вспомнил я, брат, привези мяч. Какой мяч? не понял водитель. Футбольный. Водитель выключил фары и озабоченно вылез из джипа. В принципе, трезвым он не был, думаю, это следовало списать на революцию. В салоне остался его напарник, этот даже не скрывал реального положения вещей и просто валялся в своем токсикозе. Вы что, спросил водитель, серьезно? Ну, сказал я ему, видишь, наш разорвало. А нам играть еще. Привези, будь другом. Где же я его сейчас возьму, среди ночи? водитель заговорил серьезно. Купи где-нибудь, сказал я ему, он стоит какую-то двадцатку. Так час ночи же, забеспокоился водитель, где я его куплю? Да, говорю, час ночи. Слушай, говорю ему, на Южном. Что? На Южном вокзале, говорю я ему, там точно есть, там что угодно купить можно. Смотай, а? Он постоял на снегу, посмотрел на нас, мы посмотрели на него, он молча сел в джип и поехал. Ну вот, подумал я, сорвался жирный клиент. Вот тебе и революционная солидарность, буржуи траханые.
Они вернулись через полчаса. Сделали еще один круг почета и врубили все свои фары и фонари. Водитель вылез из салона, похоже, по пути он где-то добавил. Но не это главное, совсем не это — в руке он держал новый турецкий мяч. Он довольно и несколько смущенно усмехнулся, словно говоря, я ж обещал, пацан сказал, пацан сделал.
Поскольку он был пьяный, мы его поставили на ворота, он сразу же включился в игру, оказался совершенно нормальным чуваком, даже несмотря на свой джип и сто килограммов веса, вытягивался, насколько мог, за мячами, играл на выходе, реагировал на рикошеты, он явно поймал кураж, в общем, мы все его тогда поймали, но он особенно — он стоял посреди ночного зимнего города, окруженный безумной возбужденной публикой, между гостиницей Харьков и университетом, справа от него тянулись милицейские заграждения, слева стоял его джип и светил десятком фонарей, над ним промерзало насквозь темно-зеленое небо ноября, изумрудно просвечивая над зданиями центральной части города, над парками, над районом новых застроек и над старыми рабочими кварталами, над вокзалом, который никогда не останавливал свое горячее круглосуточное сердце; он крепко держался на скользком снегу, затоптанном тяжелой обувью, время от времени озабоченно посматривал в сторону милицейских кордонов и брал все, что летело в его ворота.
Часть третья «Цвета черного женского белья»
1
Случаи травматизма на железной дороге. В начале августа за мной в Харьков заехал Лешка, и мы сразу же на вокзале взяли два билета на вечерний поезд. Начинались дожди, вокзал стоял полупустой, на перронах за день не успевал прогреться асфальт. Нужно было дотянуть до вечера, переждать эти двенадцать часов в городе, потом ночной плацкарт и низкие звезды над вагонами, словно соль на рыбьих спинах. Поезд, которым мы ехали, я знал с детства, можно даже сказать, что это был первый поезд в моей жизни, первый, так сказать, опыт железной дороги, я до сих пор помню те плацкарты — влажные, как намокшая бумага, простыни советских стальных путей, дым тамбуров, черные заснеженные поля за окном, ландшафты цвета черного женского белья, стояла ранняя весна, я ехал этим же маршрутом. Шло время, старели проводники, мой старый добрый Сумы-Луганск таскался каждый вечер вдоль восточных границ, время от времени я таскался вместе с ним. Если бы кто меня расспросил, я многое мог бы рассказать про клофелинщиц из купейных вагонов, которые соскакивали на переездах с только что добытыми в ресторане лопатниками и печатками из красного цыганского золота, про зеков, которые, откинувшись, возвращались домой и поили всех вокруг бодяжной польской водкой, про стажеров-проводников, которые упивались, еще не отъехав как следует от перрона, и мне приходилось открывать двери, чтобы впустить нервных полуночных пассажиров на какой-нибудь безымянной шахтерской станции, одним словом, если бы кто спросил меня о повседневной жизни и героическом труде моих соотечественников, я бы, конечно, ему рассказал, ну да ладно.
Лет десять назад я часто ездил этим поездом без билета, нужно было только высчитать проверку билетов проводниками в соседних вагонах, проверка эта, ясное дело, не могла быть синхронной, кто-то обязательно отставал, и нужно было только перейти из одного вагона в другой, а потом вернуться назад. С того времени мало что изменилось, та же самая публика, те же самые отчаянные лица, ненавязчивый производственный драйв железнодорожников; насколько я знаю, среди них самый высокий процент венерических заболеваний, ну я думаю — столько пить.
Теперь вот снова старый добрый Сумы-Луганск, с билетами до Сватово, разъебанный общий вагон, напротив нас сидела девушка, которая сразу же начала о чем-то говорить. О чем с нами можно говорить? Я за собой давно заметил — начни говорить со мною, я обязательно наговорю каких-нибудь глупостей, самому потом неудобно будет, лучше уж просто слушать. Девушка спортивно выглядела, то есть я имею в виду не спортивный костюм или там бицепсы, какие у нее могли быть бицепсы? не было у нее никаких бицепсов, просто спортивно выглядела, в общем — симпатичная девушка, ей и не требовалось наше участие в беседе, говорила, не замолкая, сама, мы время от времени пытались поддержать беседу, но в основном предлагали выпить. И вот оказалось, что она студентка милицейского института, будет милиционером, режим у них армейский, прессуют их по-настоящему, с личной жизнью, я имею в виду секс, сложно, и косметикой пользоваться запрещают. Ну, это правильно, подумал я, если милиционеры начнут пользоваться косметикой, их рейтинг в обществе, и без того невысокий, вконец загнется. Да и с сексом среди милиционеров нужно еще подумать, от секса бывают дети, зачем нам столько милиционеров, я себе думал о чем-то своем, она на самом деле была неплохой девушкой, и обижать ее не хотелось, хотя эта история про секс не давала мне покоя — хорошо, думал я, может, им бром в компот добавляют, чтобы они спали в казармах и не срывали строевой подготовки, интересно, есть ли зависимость от брома? допускаю, что есть, допускаю, что подавляющее большинство этих милых, еще не испорченных системой курсантов подсаживаются на этот самый бром, и уже потом тащатся от него — от своего термоядерного брома — по жизни, и что для многих из них это становится личной драмой, и уже такой милиционер, приходя домой с дежурства и бросив в коридоре свежие скальпы, проходит на кухню, съедает свой калорийный ужин, смотрит свое ток-шоу, чистит зубы порошком, но перед тем, как упасть в кровать, где его ждет верная бездетная супруга, еще раз заходит на кухню, хуярит стакан компота с бромом, вырубает свет в квартире, да и сам вырубается, так и не исполнив долга ни перед Богом, ни перед потомками, я уже не говорю о супруге. Но вот нет, говорит девушка, мы как-то решаем эту проблему, это же жизнь, ну да, говорю, что ж это за жизнь — дрочить замучаешься, нет, говорит она, мне все нравится, вот еду домой в Луганск, на каникулы. А вы куда едете?
Около года тому назад в каком-то интервью я сказал, что хочу написать книгу об анархизме. Теперь уже не помню, почему именно я так сказал, никакого желания писать книгу об анархизме у меня на тот момент не было, ну да это еще не причина, чтобы не писать. В конце концов, должен же кто-то писать и про это, почему бы не я. Намерения мои были простыми и понятными — проехаться по местам наиболее активной деятельности украинских анархо-коммунистов и попробовать об этом что-то написать. Я взял удостоверение журналиста и договорился с Лешкой, что он поедет со мной и будет все это фотографировать. Лешка отнесся к идее серьезно и все переспрашивал, что ему прочитать, чтобы быть в курсе, не знаю, отвечал я, почитай Кропоткина. А лучше не читай. Лето заканчивалось, погода портилась, и в какой-то момент мы все-таки собрались. Лешка заехал, как я уже говорил, за мной в Харьков, и вот мы уже несколько часов не спали в темном вагоне с непонятной пассажиркой, пытаясь объяснить ей, куда же мы на самом деле едем, и не имея ни сил, ни особого умения это сделать. Пересказывать ей теорию анархического самоуправления я не решался, зачем это ей с ее строевой подготовкой И бромом, а говорить о детстве и демонах, которые из него время от времени выползают, тоже было по меньшей мере странно — что она могла понять в моем детстве, не разобравшись как следует со своим.
Иногда ты просто вынужден прислушаться к собственным химерам, к собственным внутренним голосам, по крайней мере к самым симпатичным из них, иногда необходимо воспользоваться их советами, например, когда они нашептывают тебе — давай, езжай, ты же там жил в свое время, ты же там вырос, ну, может, не совсем там, но какая разница, попробуй еще раз выбраться из тех ям, посмотрим, хватит ли у тебя духа, хватит ли у тебя памяти обновить все эти маршруты, которые странным и неимоверным образом наложились на твой персональный опыт противостояния; иногда стоит выпустить на прогулку всех своих демонов, которые и без того вылетают каждую ночь из твоих легких, как почтовые голуби из клеток, по только им известным маршрутам; так что я мог ответить той девушке со всеми ее бицепсами, что? что я буду двигаться в одном с ней направлении еще несколько часов, как делал это много раз; и что где-то среди ночи, если этот поезд не сойдет с рельсов и мы все не погибнем под его обломками, я встану и попробую двигаться дальше, попробую вернуться в город, в котором я вырос и в который я стараюсь последнее время лишний раз не попадать, попробую доехать до своих друзей, которые меня где-то там ждут; что у меня совсем нет желания что-то заново для себя открыть, просто буду пересаживаться с поезда на поезд, с автобуса на автобус, меняя маршруты и покупая билеты, останавливаясь время от времени только для того, чтобы в который раз удостовериться, что ничего не изменилось, все так, как было раньше, как было всегда, как и должно быть; что ничего и не могло измениться, если не изменился ты сам. И что вот в этом действительно стоит убедиться. Я не мог рассказать как следует, куда именно я ехал, она бы не поняла, потому что там, где для нее останавливался поезд, для меня останавливалось время, и я мог только ждать, когда оно снова двинется, ждать, затаив дыхание, чтобы не спугнуть его, поскольку я слишком хорошо знал эту дорогу, я точно знал, как долго она длится и чем именно она заканчивается.
На следующей остановке мы вышли за пивом. Был первый час ночи. По-моему, шел дождь. Или не шел? Не помню. Не важно.
2
Собачья старость отечественного автостопа. Есть несколько способов более-менее безболезненно проехать 200 километров от Харькова до этого маленького города — известного тем, что здесь в свое время Владимира Николаевича Сосюру, будущего поэта-лауреата, не взяли в плен и не порубили на мелкие неприглядные куски, лишив тем самым украинскую советскую литературу чего-то важного, например его же таки мудаковатых мемуаров, — способов несколько: во-первых, можно ехать автобусом, это проще и удобнее всего, именно поэтому автобусом мы и не едем. Дальше. Можно ехать электричками, с несколькими пересадками, в частности, с ночной пересадкой на удивительной станции Граково, где до самого утра не встретишь ни одной живой души, только где-то слева громоздятся до небес мощные элеваторы, стылый перерабатывающий комплекс, горькое напоминание о расхуяченном сельском хозяйстве Украинской ССР, и тогда, прямо посреди ночи, тебе не остается ничего другого, как выйти на железнодорожный мост, построенный для чего-то над перронами — кто бы тут по нему переходил? и смотреть в небо, ожидая, когда там появится солнце или хотя бы что-нибудь, а когда — часов в пять утра — оно все-таки появляется, ты вдруг замечаешь, как оно двигает боками, тихо-тихо, как камбала, переваливаясь над далекой автострадой, вдоль которой лежат мертвые животные и использованные гондоны, долго-долго смотришь, пока не появится электричка, то есть часа три. Кстати, о трассе. Можно ехать стопом. Летом это удобнее, зимой это опасно. Но летом тоже ничего особенно захватывающего в этом нет, поверь мне, — трасса почти пустая, это при совке жизнь тут кипела и на заправках продавали лимонад, теперь инфраструктура разрушилась, и хотя в селах и городках в придорожных киосках можно купить все, включая оружие и наркотики, за пределами населенных пунктов жизнь становится печальной и разреженной, шоу-бизнес исчезает, водители напрягаются, жители хуторов смотрят на тебя как на дауна, ни одна курва не остановится, чтобы забрать тебя отсюда — подальше от бесконечных полей подсолнухов, подальше от придорожных остановок со следами крови и спермы на стенах, поближе к людям, со всей их жизнью и всеми их гастрономами, хоть не в гастрономах тут дело, поверь, не в гастрономах дело. Я хорошо знаю эту трассу, я надежно держу в себе многочисленные воспоминания про петтинг в раскаленных салонах икарусов, про проломленные черепа и кровь на асфальте, как раз возле знака ограничения скорости, про светлые женские волосы на твоем плече, которые ты осторожно убираешь, когда вы уже почти доехали до места назначения, а она только что заснула; остановки в дороге полезны, это безусловно, а когда едешь стопом трассой Харьков-Луганск, остановки составляют основу твоего путешествия, его мясо, они такие долгие и такие регулярные, что заполняют собой все — и тебя, и твои ожидания, и твою безнадежность. Однажды, одним жарким летом, я именно так и ехал этой трассой, прибыв ночью на удивительную станцию Граково и выйдя утром на пустую трассу с трупами собак и следами чужой любви; тогда мне повезло — меня сразу подобрал какой-то байкер и вез добрых сто километров, после чего высадил на Узловой. Тут все и началось, я простоял час, а потом пошел в нужную мне сторону. Было так много теплого, наполненного пылью и запахом молочая воздуха, что я просто взял и пошел, потому что в таком воздухе ты не можешь вот так стоять и ждать нужного тебе транспорта в нужном тебе направлении, ты обязательно пойдешь, наступая на весь гравий этого мира, проходя мимо всех подсолнухов урожая этого года, которые отворачиваются от тебя в сторону солнца. Следует отдать мне должное, я прошел километров 15, после чего упал в траву и проспал до вечера. Потом еле добрался куда мне было нужно, однако, как бы это объяснить — скажем, много чего в своей жизни я совсем не помню, много чего и помнить не хочу, а вот тот гравий, и те несколько зарыганных остановок, в которых я прятался от солнца, и ту телку, которая стояла на одной из этих остановок, ожидая автобус в противоположную сторону, и смотрела на меня, — вот это я буду помнить всегда. На этой трассе есть несколько мест, от воспоминаний о которых у меня появляется эрекция. Вот хотя бы и за этим Сватово есть одно такое место, одна развилка, на которой меня высадили как-то сентябрьским днем случайные дальнобойщики, выбросили и повернули направо, и я остался стоять среди пустых сентябрьских полей, из которых вытекало тепло, как из зарезанного животного вытекает кровь; ночью было уже холодно, но днем еще ярко светило солнце, я перед тем ехал почти сутки и, выйдя на той развилке, держал в себе всю черноту и тяжесть моего пути, пути, который я проехал; я стоял на сером асфальте и слушал, как кричат надо мной птицы, которые еще не успели улететь, но которые неумолимо улетали, и вдруг осознал, что, если остаться здесь и долго стоять, очень долго, можно будет заметить, что птичьих голосов становится все меньше и меньше, с каждым разом меньше и меньше, а потом они вообще исчезнут, совсем-совсем, и на их месте возникнет что-то другое, например тишина.
Но я почему-то никогда и нигде не оставался, сколько бы неожиданных мест мне, дебилу, ни открывалось в вечерних сумерках или утреннем тумане, сколько бы ни попадалось мне разрушенных фабрик и затопленных городков, маковых плантаций и оборонных укреплений, портовых кранов и сентябрьских горных хребтов, — я никогда не оставался ни на одном хребте, ни возле одной плантации, хотя, возможно, именно там — возле этой плантации — мне и место, возможно, я просто должен был заполнить какой-то пространственный пробел, который в мое отсутствие втягивает в себя все больше чужого кислорода, чужого света, создавая сквозняк в плотном шитье миропорядка, но нет, я так и не остановился, в этом главная ошибка — пытаться все дальше углубляться в пространство, как можно больше намотать его на пленки памяти, смешать его с собственным опытом, не останавливаясь, никогда не останавливаясь, поскольку любая остановка прячет в себе западню, и она открывается передо мной, как потайной люк, о существовании которого я знал все время, но все время боялся в него заглянуть. А ведь, остановившись, я мог бы заметить, что обживание пространства, обживание памяти, с этим пространством связанной, — занятие гораздо более интересное и увлекательное, чем механическое наращивание этого самого пространства, бесконечное разматывание этой памяти. Чем чаще останавливаешься в дороге, чем более долгими делаешь свои остановки, тем больше шансов заметить наконец все детали, которые нельзя было заметить, не остановившись, тут дело даже не в угле зрения, а в скорости движения, если бы я остановился, я мог бы заметить, что это не просто смена моего представления о ландшафте, это смена самого ландшафта, а соответственно — это смена меня самого.
Несколько лет назад на этой трассе разбился мой брат. Он столкнулся с какими-то бизнесменами, они выскочили на его полосу, и он ничего не успел предпринять, отделался переломом ноги, машину пришлось выбросить, ничего хорошего из нее уже выйти не могло; каждый раз, проезжая это место, я думал — интересно, думал я, что там могло остаться, должны же там быть какие-то следы, черные полосы от скатов на асфальте, погнутое железо ограждений, рваная джинса в подорожнике, запах разлитого бензина, кровь, в конце концов, там должна быть кровь, если ее не смыли дожди, но смыли очевидно, должны были смыть.
Мой брат несколько раз в жизни разбивался, он ломал свои мотоциклы, сколько их там у него было, падал на полной скорости, сдирал кожу, рвал одежду, но вставал и ехал дальше, будто так и надо, в его жизни было столько машин, что я даже не все их помню. В детстве он меня тоже учил ездить, но из этой затеи так ничего и не вышло — я всегда боялся скорости, и до сих пор боюсь, возможно, после того, как в детстве, напившись, мы с приятелем угнали тяжелый урал с коляской и долго разгоняли его вот по такой точно трассе — безнадежной и неремонтированной, а когда наконец разогнали, я заметил, что мой друг, который, кстати, сидел за рулем, успел заснуть. На повороте урал слетел с трассы и каким-то чудом проскочил между опорами линий электропередачи. Мы остались в живых и сразу протрезвели, я боюсь скорости, боюсь куда-то ехать, больше этого я боюсь только остановиться.
3
Плохой Сосюра. Железнодорожный вокзал города Сватово в четыре часа утра тих и плохо освещен. Насколько я понимаю, Сосюра где-то здесь и воевал, в его воспоминаниях именно на этом вокзале или кто-то кого-то взял в плен, или наоборот — избежал плена, его тяжело иногда понять, особенно когда это касается биографии, так прочитаешь целый том и не поймешь — за кого же воевал главный герой; Сосюра просто непостижим в своих воспоминаниях, подумать только — чувак прошел всю гражданскую, воевал на нескольких фронтах, уцелел, что самое главное, и о чем он потом пишет в мемуарах? какой-то бесконечный трах с сестрами милосердия и ответственными политработниками (о’кей, с политработницами, ясное дело, ничего такого за Владимиром Николаевичем не наблюдалось), какие-то постоянные сопли по тому поводу, что где-то там, на солнечном Донбассе, его ждет его юная непорочная Лили Марлен, неопределенность политической платформы и идейной программы (то, что он за мировую революцию, его ни в коей мере не оправдывает — все за мировую революцию), порожняк, одним словом, — ни одной тебе яркой батальной сцены с мясом и кишками, намотанными на колеса красных броневиков, ни одного выписанного портрета бойцов и старшин, с послужными списками и зарубками на прикладах снайперских винтовок, никаких сведений о количественном составе сил противника, более того — за все это время ни одного собственноручно убитого врага рабочего класса! И он говорит, что он за мировую революцию! Почитай, хочется сказать автору, почитай воспоминания других участников революционной борьбы на юге России, ну, то есть на Украине, почитай хотя бы того же Нестора Ивановича — какое внимание к деталям и учет нюансов, он же фиксирует каждого повешенного им мародера или комиссара с такой тщательностью, словно в самом деле собирается передать эти списки непосредственно святому Петру, надеясь на то, что старик засчитает ему это при допуске к райским вратам. Что в таком случае должен был засчитать святой Петр в актив Сосюры Владимира Николаевича? Вот эту его канитель с сестрами милосердия по санитарным вагонам? Вряд ли. Разве что я чего-то не понимаю в концепции христианства. Что святому Петру сестры милосердия? У него и без того хлопот, я думаю. Ну хорошо, даже если ты не беспокоишься при этом о заоблачных вратах и допусках — не нравится мне его постоянная недоговоренность, ведь отчетливо ощущается за всеми этими санитарными вагонами нечто гораздо более интересное, нечто, о чем Владимир Николаевич или действительно забыл, или сделал вид, что забыл, — потому что на самом деле его мемуары пахнут трупами, пахнут теплой кровью и грязной одеждой, тифом и дизентерией, только почему он об этом не пишет? Беда этой литературы в том, что биографии лучших ее писателей гораздо интереснее их произведений, ну да это дела не касается.
Мы сходим на перрон. Поезд освещают несколько мощных фонарей, как на стадионе, вагоны тяжело двигаются с места, набирая скорость перед следующим перегоном, дальше поезд поворачивает на Донбасс. Тут нечего делать даже днем. Ночью тут нечего делать вообще. На вокзале холодно, даже несмотря на то что сейчас лето, август, все равно — на вокзале холодно и там уже кто-то спит, давай, говорю я, пошли на автовокзал, там трасса, попробуем что-то остановить, в случае чего — просто дождемся первого автобуса, пошли, тут недалеко. Но это я так сказал — недалеко, на самом деле я ходил по этим черным от ночи улочкам не раз и не два, я-то знал, что идти ночью, вслепую, на ощупь по неасфальтированным улочкам этого городка занятие почти безнадежное, но что делать. Мы прошли вдоль перрона, спрыгнули на тропу, что тянулась вдоль рельсов, которых уже и видно не было в траве, обошли несколько цистерн с метиловым спиртом и цементное ограждение, все дальше отходя от прожекторов и вокзала; мимо нас прокатился наш Сумы-Луганск, обдавая нас пьянящим запахом тамбурного угля и сладкой кипяченой воды, поезд, это было нечто последнее светлое в этом городе, дальше пришлось идти в темноте.
Автовокзал не работал. Когда я был тут последний раз, то есть несколько лет назад, он уже еле тлел, две трети рейсов уже тогда не функционировало, село было отрезано от цивилизации, да и цивилизацией все это назвать было трудно; кресла и скамейки были полуразрушены, дерматин с них был содран, и громкоговоритель тревожно молчал. Но тогда, во всяком случае, еще работало кафе, где продавались старые, аскетические пирожные и ярко-неуместные в этих строгих декорациях чупа-чупсы. Я как-то рассчитывал на это кафе, на эти чупа-чупсы, в принципе чупа-чупсы мне были до одного места, но я себе думал — о’кей, пусть село отрезано от цивилизации, пусть содран дерматин, да пусть даже громкоговоритель не работает — я переживу, я переживу без громкоговорителя, честное слово, но кафе-то, кафе, курва, должно работать, а где есть кафе, там уж какая-никакая культурная жизнь — водка, котлеты, проститутки, хоть что-то, хоть какое-то электричество и коммуникации.
Но откормленная туша капитализма проигнорировала эти суровые хлеборобские места, какие уж тут чупа-чупсы — вокзал не работал, на дверях висел замок и надеяться просто было не на что. Мы обошли темное сооружение и вышли на трассу. Под зданием вокзала стояла фура, очевидно, дальнобойщики отсыпались до утра, чтобы проснуться и с новыми силами пробиваться в Ростов или на Кубань, отрабатывая свои бабки, развивая свой бизнес, навстречу своей мечте, навстречу своей смерти.
И вот мы стоим почти на выезде из города, метров за сто от нас железнодорожный переезд, и трасса, возле которой мы остановились, такая черная, что, если было бы не в лом, я вернулся бы назад на железнодорожный вокзал — поближе к людям, поближе к цистернам с метиловым спиртом, поближе к духу Владимира Николаевича, который время от времени должен был бы пролетать над железнодорожным узлом, заворачивая на свою Третью Роту и тяжело вздыхая наверху от воспоминаний о санитарных вагонах и третьей крестьянской революции. Сейчас где-то около пяти утра, мы падаем на землю под чьим-то забором, в доме за закрытыми окнами работает телевизор, странные люди, думаю я, живут в этом городке, без кафе и громкоговорителя, без проституток и чупа-чупсов, сидят по домам, позакрывались, суки, на все замки и смотрят телевизор до самого утра, что они смотрят? что их интересует? последние новости? что они хотят услышать в последних новостях? чего они ждут от этого мира, прячась от него за закрытыми дверями и забитыми наглухо окнами? — что им, в свою очередь, может показать этот мир, что мир приготовил для этих странных людей, которые смотрят телевизор в пять утра? баскетбол? точно, наверное баскетбол, что же еще, как не баскетбол. И тут откуда-то из-за здания вокзала выходит странное существо, ночной мутный мужик, сумеречный проспиртованный мотылек, который, как и мы, замечает фуру, крутится возле нее, не осмеливаясь подлететь ближе, и вдруг видит нас. О, думаю, этот, наверное, не любит баскетбол, интересно, что он любит.
Ребята, говорит он нам, ребята, — где тут можно ебнуть? Ебнуть? переспрашиваем, да, говорит он, ебнуть, где тут можно ебнуть в пять утра? наверное, тоже Приезжий, судя по полной дезориентации и здоровым желаниям, на железнодорожном можешь ебнуть, говорю ему, а тут? а тут — нет, тут не ебнешь, видишь, все закрыто, все баскетбол смотрят, а как к железнодорожному пройти? иди по рельсам, говорю ему, вон переезд, иди налево, пройдешь минут двадцать, там будет железнодорожный. Там можно ебнуть. Только не иди направо, говорю — на Донбасс выйдешь.
И уже когда он пошел, я подумал — что на самом деле искал этот чувак в пять утра на автовокзале? неужели действительно ебнуть хотел? неужели это не маньяк, не сумасшедший, не серийный убийца дальнобойщиков? дивны дела твои, отче, какие бессмысленные знакомства готовишь ты для нас в наших не менее бессмысленных перемещениях, через час подъедет первый автобус на Луганск, мы попадаем на задние сиденья и проспим наши 60 километров до следующего городка, вообще — проспим, все, что можно было проспать, вряд ли что-то от этого действительно потеряв.
4
Масоны в быту. Еще один город-герой, пристанище подростковых мечтаний и темных страстей, что разъедают изнутри совесть и порядочность его жителей, около 40 тысяч населения, четыре средних школы, в одной из них я учился, церковь XIX века, обитая жестью, или как это называется, черт — церковь, обитая жестью, это звучит; восстановленный монастырь — во времена моего детства там стояла воинская часть, в конце 80-х из ГДР вернулась семья моих одноклассников-близнецов, их папа был офицером и служил именно в той воинской части, чуваки между тем учились в музыкальной школе по классу баяна, баян, я имею в виду музыкальный инструмент, был у них один на двоих, они хорошо играли в футбол, много для их подросткового возраста курили, слушали привезенный из ГДР Accept и рассказывали всем про ГСВГ, гэ-сэ-вэ-гэ, сыны полка, редкостные засранцы были, папа их регулярно строил, однако пользы от этого было мало; и что теперь — где офицеры? где гауптвахта? где дембеля и гэ-сэ-вэ-гэ? что делается с нашими вооруженными силами, религиозный, блядь, дурман; кроме четырех школ есть стадион, банк, конторы и элеваторы, ну, это уже традиционно, господь основал эти городки и построил в каждом из них элеваторы, давайте, хуярьте — это все, что от вас требуется; помню какой-то путеводитель по Луганской области, которая тогда еще нормально называлась Ворошиловградской, там даже на обложке был изображен грузовик с пшеницей под элеватором, почему-то врезалось в память, хлеборобские районы, полные хлеба и молока, парадайз для всех фашистских захватчиков; так, поехали дальше — несколько кинотеатров, общежития пэтэу, ремонтный завод, железнодорожный вокзал. На улицах много песка и абрикосов, абрикосы падают в песок, их даже не подбирает никто, целые улицы, засыпанные абрикосами, так и смотришь, чтобы не наступить на них и не сделать больно. Из выдающихся горожан, если не считать парт- и хозактива, можно вспомнить сумасшедшего писателя Гаршина, который тут неизвестно чем занимался, но известно как кончил. В свое время Старобельск даже был столицей Советской Украины — в 43-м, когда совки двигались на Запад, он был одним из первых освобожденных украинских городов, ясное дело, что за воинскими частями сюда сразу же набилась куча разной кабинетной шлоебени, которая при отсутствии в своем подчинении более пристойных населенных пунктов решила провозгласить столицей именно наш городок. Сам факт освобождения города был до непристойности раздут и демонизирован — куча обелисков, мемориалов, ветеранов в медалях, хотя на самом-то деле все серьезные бои на этом направлении велись в районе Донбасса, там было за что драться — черное золото, уголь, шахты, что осыпались на головы неприкаянных горняков, это тебе не элеваторы; в самом Старобельске дело ограничилось каким-то румынским караулом, героическими танкистами, которые давили замурзанных румын, докучливыми подпольщиками и множеством коллаборационистов, ну, ведь надо же было из всего этого сделать что-то соответствующее великому духу эпохи, потому что некрасиво получалось — столица Украинской ССР и какой-то замурзанный румынский караул, куда выгоднее в имиджевом плане рассказывать о жестоких боях на подступах к городу и показывать нам, школьникам младших классов, еще живых, но уже без сознания от народной любви ветеранов в медалях, которым только дай слово — они тебе расскажут, и про родную землю старобельщины, к которой они припадали своими растроганными сыновними устами, и про штурм Берлина, в котором они принимали решающее участие, будут говорить, вытирая рукавом скупую чекистскую слезу и бессовестно переигрывая в самых интимных местах, с детства не люблю ветеранов, все эти ветераны, они вели себя как бляди на первом свидании — требовали цветов и духовых оркестров, лезли на сцену и пускали сопли, говоря про кобу, настоящие солдаты так себя не ведут, одним словом. Между тем ни одна сука не рассказала мне во времена моего детства про лагеря с интернированными польскими офицерами, которых расстреливали здесь в 39-м, или про еврейские массовые захоронения, на месте которых построили парк культуры и отдыха — это тебе не штурм Берлина и не замурзанный румынский караул. Для меня было неожиданностью, что в Польше, оказывается, много кто знает о существовании этого самого Старобельска, именно из-за тех офицеров, так что особо и не похвастаешься, откуда ты родом, это то же самое, что хвастаться, что ты родом из окрестностей Бухенвальда, скажем.
Здесь рядом, за городом, в начале 20-х годов прошлого века была основана коммуна. Имени Карла Маркса. Насколько я понимаю, коммуна возникла уже после подавления повстанческого движения в уезде. По устным свидетельствам современников, коммунары оказались людьми сомнительными и стремными, и особенной любовью у местного населения не пользовались, устроили такой себе промискуитет в аграрных условиях, сельским хозяйством откровенно пренебрегали, жили как попало, пили по-черному, компрометируя таким образом в глазах современников, согласно устным воспоминаниям последних, саму идею коммунистического общежития.
Утром мы нашли местный музей. Музей оставил неприятное впечатление — те же портреты ветеранов, модель танка, гильза из-под снаряда, наверное единственного тогда выпущенного; в музее нам дали адрес местного исследователя и долго смотрели вслед с отвращением и недоверием. Исследователя пришлось ждать что-то около получаса — он как раз пошел в редакцию газеты с очередным опусом на тему загадок родного края. К нам исследователь отнесся с веселым пренебрежением, а, говорит, журналюги, снова понаехали, был человеком пожилым, левых взглядов на жизнь и общественные процессы, согласился рассказать о пребывании в городе Махно и продал нам два экземпляра своей брошюры «Шла война гражданская». Махно всегда останавливался в крайнем доме, сообщил он нам как заповедь, чтобы в случае чего легче было отступать. Назвав адреса, по которым тот останавливался, исследователь извинился и снова свалил в редакцию, снова, очевидно, с опусом.
Мы нашли нужные адреса, прошлись тихой центральной улочкой и оказались в вышеупомянутом парке культуры и отдыха. Два удивительных памятника стояли в этом парке, среди качелей и каруселей, — памятник первому рабочему полку был украшен трехметровым пехотинцем, за спиной пехотинца авторы памятника прочертили боевой путь полка, не слишком долгий и слишком запутанный, чтобы назвать его победным, впечатление, по крайней мере, складывалось такое, что повстанцы их просто гоняли по степям Левобережья, а уже потом из этого всего попытались сделать хронику революционной борьбы; через сто метров, в глубине парка, находился памятник борцам за советскую власть, в виде вазы. На цоколе была изображена красная звезда и написан странный текст: «Вечная слава героям революции — каменщикам нового мира». Что за масонская формулировка, подумал я, почему именно каменщикам? что она может символизировать собой, эта ваза? Так странно — устанавливаешь ты, скажем, советскую власть, устанавливаешь, руководствуешься, можно сказать, лучшими побуждениями, гибнешь в неравной борьбе с капиталом, и что — на твоей могиле ставят недоделанную вазу и называют тебя при этом каменщиком, странная, лишенная логики судьба победителей, все эти неоправданные замалчивания реальных событий, искажение и коверканье хроники борьбы, когда из всего густого насыщенного потока исторических событий остается только путаный и рваный боевой путь рабочего полка, который неизвестно еще на чьей стороне воевал, ну и еще эта ваза, под которой, очевидно, закопана полковая казна, золотые коронки и конфискованные керенки, старательно добытые в походах и погромах трехметровыми гипсовыми бойцами — каменщиками нового мира, масонами периода военного коммунизма, которые прошли свой короткий, но тяжелый маршрут по местам чужой боевой славы, сумели победить и даже вернулись домой к своим элеваторам, вернулись героями и победителями, и единственное, что им оставалось сделать в этой странной ситуации, — это поставить посреди парка культуры и отдыха свой гипсовый Грааль в надежде на окончательную победу коммунистических идей и добрую память потомков, которые взамен забьют тебя камнями, завалив все твои памятники, не веря в твое прошлое, не имея своего.
5
Все интересное в стране происходит на вокзалах, и чем меньше вокзал, тем больше интересного. Большой ошибкой было бы думать, что власть может на что-то влиять; влиять на что-то может начальник станции, который сидит в своем кабинете и пропускает с Запада на Восток очередной товарняк, тридцать шесть красного цвета Столыпиных, груженных цементом и хлебом, мануфактурой, курва, которую прячут месяцами на запасных путях и в отстойниках, списывают по накладным, получают свой черный нал, и никакая власть этого остановить не может; вокзалы работают даже во время войны, возможно, это последнее, что работает во время войны, вот и Сосюра со своими сестрами милосердия в основном по вокзалам таскался, никакая война этого не остановит, даже гражданская. Воздух вблизи железнодорожной насыпи особенный, он разрежен постоянным перемещением сотен вагонов с тысячами граждан внутри, воздух над железной дорогой открыт, как вена, такого воздуха не хватает для долгого дыхания, поэтому ты движешься от одного ночного вокзала к другому, от одной узловой станции к следующей, ловя ртом этот сладкий разреженный кислород, дозированный для тебя Министерством путей сообщения.
Я всегда интимно относился к железной дороге, собственно, не к железной дороге как средству передвижения, а предметно — к рельсам и насыпям, вагонам и семафорам, к вещам, сделанным с особенной, настоящей надежностью, мне всегда нравились железнодорожные вокзалы, летние вокзалы северного Донбасса, на которых собирался весь местный сброд, алкоголики и бляди, ветераны и дружинники, наши утомленные отцы, которые приходили тихими июльскими вечерами к маленькому вокзалу с толстыми колоннами, послевоенный дизайн, что может быть лучше, пили в буфете теплую водку, слушали республиканское радио, иногда ссорились и подрезали кого-нибудь раскладными ножами, которыми перед этим нарезали овощи и открывали томатные консервы; возле вокзала была конечная остановка одного из трех городских автобусных маршрутов, изредка сюда подкатывал желтый запыхавшийся автобус, из которого выпрыгивали пассажиры; мои старшие друзья любили устраивать шмон на конечной, перекрывали двери и выбивали последние бабки из растерянных безутешных студентов сельскохозяйственного техникума, которые разъезжались под вечер по домам; особенно растерянных и безутешных отводили за здание универмага и там сбивали с ног на теплую и свежую траву, добивая их в траве, так что кровь и июльская зелень густо проступали на белых порванных рубашках жертв; но нас они не трогали, мы были слишком незрелыми для подобных развлечений, и вся жизнь воспринималась нами как большой железнодорожный вокзал, похожий на спелое разломленное яблоко, наполненное соком, солнцем и осами; где-то около семи появлялся фирменный московский, который ехал на Юг, в Крым, дети выбегали на первую платформу, на вокзале их было всего две — первая и вторая, они выбегали на первую и смотрели за мост, где над высокой травой стояло марево и горели семафоры, и в этом мареве между этими семафорами время от времени оранжево вспыхивала куртка обходчика, который, словно дьявол, переводил стрелки, переключал семафоры, благословлял все это движение на Юг, в Крым, курва, к морю, которого никто из нас никогда не видел. Поезд сбивал собой жару, всю пыль и всю траву, что остро пахла между шпалами, останавливался на какие-то пять минут, из вагонов высыпала мажорная столичная публика и покупала несвежую прессу в киоске и теплую водку в буфете; девочки в купальниках и больших солнцезащитных очках удивленно смотрели на наши детские лица, на обветренные горячие лица наших отцов, на гордые красные лозунги нашего вокзала, написанные на не совсем понятном для них языке, смотрели, и наша пыль оседала на их волосах, и наша трава забивалась им между пальцев ног; проходили по перрону и оставались в нашей памяти и нашем сознании, и без того наполненных красивыми и героическими персонажами из жизни, сновидений и кинофильмов.
Острее и печальнее всего было само осознание этой преходящести, физическое проживание этих нескольких минут, в течение которых юные женщины со светлыми волосами и темными глазами боязливо спускались к тебе, на твою территорию, на территорию, которая принадлежала тебе по праву, за которую ты отвечал и которую честно считал своей, и когда они — пусть всего лишь на несколько минут — попадали на эту территорию, ты кожей ощущал, как смещается пространство и разламывается время, как в нем появляются тонкие-тонкие, еле ощутимые и почти никому не заметные трещинки, в которые сразу же забивается вся трава наших перронов, весь покалеченный подорожник, забивается и уже остается там навсегда, как метка, по которой ты сможешь потом восстановить в своей памяти и этот день, и это лето, и этот густой красный лак на ногтях пальцев ног, который ты успел заметить.
Они ничего не видели в наших глазах, они совсем ничего не замечали в зрачках недозрелой провинциальной шпаны, которая жадно ловила каждый их жест, каждый их вдох, просто покупали свой пломбир и свои журналы и исчезали в темноте, что тянулась от нашего города на Юг, к морю, а уже там и совсем забывали о небольшом вокзале, одной из бесконечных остановок в их долгой-долгой жизни, исполненной нежности, любви и еще чего-то такого, о чем мы в том возрасте просто не знали; хотя, если б они посмотрели внимательнее, они бы обязательно увидели много интересного, именно в наших глазах, удивленных и широко раскрытых, потому что в таком возрасте то, что ты видишь, не проходит бесследно, и, посмотрев в наши глаза, только посмотрев внимательно, они могли бы увидеть все те бесконечные товарняки с нефтью, которые ежедневно прокатывались через наш город, и птиц, которые летали между нами на гулких запыленных чердаках, и боязливые движения наших одноклассниц, и загорелые торсы наших старших братьев, и приглушенную страсть наших отцов, которая надолго оставалась в наших зрачках, меняя их цвет.
Поезд трогался с места, кто-то и дальше квасил в буфете, на перрон оседали теплые сумерки, становилось темно и уютно, и так пусто было в воздухе, очевидно, из-за отсутствия в нем этих прогретых насквозь вагонов, что ты просто поворачивался и шел домой, или шел на футбольное поле и гонял по нему, пока мяч совершенно не терялся в темноте, и ты лупил с носка по сгусткам этой тьмы, пытаясь все же вырвать свою победу, но кого ты на самом деле мог победить в таких сумерках, в той темноте, когда не было видно не то что мяча, но даже соперника, у тебя просто не было соперников в том возрасте, в том городе, под теми черными небесами над той темной вытоптанной площадкой; все твои противники обнаружатся позднее, уже когда совсем исчезнут и старшие друзья, и большинство знакомых, исчезнет солнце с вокзалов, исчезнут лозунги с послевоенных фасадов, разбегутся футбольные команды, в которых ты играл, а новые собрать будет уже невозможно, потому что настоящие команды, команды, способные побеждать, попадаются в жизни очень редко, если попадаются вообще.
Но даже пустота, что вдруг открывалась перед нами, будто почтовый ящик без писем и свежих журналов, даже она не могла отбить у нас желание ежедневно таскаться по платформам, возможно, это просто детская тяга к взрослым формам жизни, когда в одном месте и в одно время ты можешь увидеть сразу все схемы, по которым эта жизнь движется, — ощутить запах настоящей, взрослой жизни, что пахнет дешевой водительской столовой, пахнет старыми промасленными робами, пахнет, совсем неожиданно для тебя, советскими духами и югославской жевательной резинкой, вообще обладает фантастическим запахом, и даже когда изменятся декорации, изменится власть, изменится страна, в которой ты живешь, все равно останется этот запах, поскольку останется сама жизнь, независимо от того, останешься ли в ней ты. Просто наши вокзалы вмещали в себя все необходимое и достаточное для того, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно, — и низкие запыленные вишни, и весь алкоголь окрестных буфетов и столовых, и всю контрабанду пристанционных складов, и самых красивых женщин наших городков, которые отъезжали транзитными рейсами в неизвестном направлении, но всегда, ты понимаешь, всегда возвращались назад.
6
Реальная биография Кобзона. Никогда не пытайся понять, что именно там происходило — в твоем детстве, почему большинство историй, рассказанных тебе родителями, имели такое неожиданное продолжение и печальное окончание. Начнешь копаться в детских вещах, дневниках и фотоальбомах — обязательно завязнешь, обязательно наткнешься на что-то такое, от чего мороз пойдет по коже и челюсти сведет от судороги и возбуждения. Каждое подобное возвращение в детство плохо заканчивается — вот и мы сидим и пьем до ночи, и пытаемся о чем-то говорить, мол, здорово все выходит, здорово, что мы приехали, хотя на самом деле ничего не здорово и все эти остатки коммун в степях и набитый костями чернозем вгоняют в легкий ступор, так что остается пить дальше и говорить о погоде, засыпая во время разговора.
Среди ночи нас будят, грузят в машину и привозят на вокзал. Около часа ночи появляется поезд, долго стоит на пустой ночной станции, потом отправляется, но идет уж слишком медленно, останавливаясь каждые пять минут, так, будто тычется мокрым черным носом в августовскую темноту, вынюхивая, куда же дальше поворачивают эти чертовы рельсы. Фактически мы больше стояли, чем ехали, нам попался странный партизанский поезд, он останавливался посреди поля и в населенных пунктах, он словно пропускал перед собой невидимые нам потоки и струи ночного воздуха, тормозил перед каждой шахтой, а поскольку их — этих темных, пустых внутри шахт — становилось раз от раза все больше, то путешествие наше постепенно превращалось в такую себе размеренную миграцию вагонов в юго-западном направлении, пассажиров все прибавлялось, на каждой станции подсаживались целые шахтерские семьи, которые ездили себе вот так по Донбассу, в поисках неизвестно чего, что ты тут можешь найти, в этом Донбассе, куда ты приедешь на поезде, который почти не двигается, сядешь в Донбассе и выйдешь в Донбассе, но они все равно садились и садились, многих из них я мог помнить с детства, они почти не изменились, даже рубашки с короткими рукавами и затасканные олимпийки на них я мог помнить, поскольку они были из тех же восьмидесятых, которые я помнил лучше всего. Мужская одежда дольше носится и лучше запоминается, в этом есть что-то стильное — мужчины в пожилом возрасте аскетически относятся к своей одежде, именно аскетически, а не пренебрежительно, придерживаясь некоего пролетарского шарма, когда ты просто воспринимаешь одежду как часть себя, и другие тоже воспринимают тебя вместе с твоей одеждой, неотъемлемой от твоего опыта и твоей физиологии, даже если ты и не знаешь, что это такое.
Ну вот, снова стоим под шахтой, курва, за окнами космические пейзажи и обратная сторона луны; повсюду, начиная с утра, как только мы начали въезжать в настоящий Донбасс, нас окружают горы железа, груды щебня и нагромождения зелени, слишком много экспрессии в ландшафте, лично я попробовал бы все это как-то разредить, если бы мне поручили заняться оформлением окрестных территорий, зачем здесь столько железа и зелени, зачем столько шахт, и главное — зачем под ними так долго стоять?
В Донецке нас встретил друг Билый, капитан милиции, автор исторических романов, кандидат исторических наук. В его романах кто-то кого-то постоянно мочит, много крови и адреналина, а в качестве негативных персонажей, что мне особенно нравится, рядом с реальными татарами, поляками или янычарами, щедро представлены вурдалаки, оборотни, песьеголовцы и другие враги украинского народа. Когда я предложил Билому поехать вместе в Гуляй-Поле, он легко согласился, и мы договорились, что заедем за ним в Донецк, а там видно будет.
Я был в Донецке только раз, в детстве, летом 84-го, почему я помню год? за год до этого шахтер взял кубок, и во всех газетных киосках Донецка продавалась книга, посвященная этой победе, я ее тогда тоже купил. Интересно, что города я не помню совсем, помню большое автопредприятие в пригороде, где мы должны были забрать новый самосвал и перегнать его домой, кстати, я себе думаю — кто в те годы мог быть директором того автопредприятия? мой старик перегонял время от времени машины, иногда брал меня с собой, для детских лет это была фантастическая привилегия — первым из всех друзей залезть в прохладную кабину, я хорошо помню запах новой техники, запах бензина и масла, запах здорового советского детства, дождь, который начался и сопровождал нас до самого дома, все это путешествие в пределах одного дождя, в пределах одной страны, мы были дома, кубок был у шахтера, все складывалось наилучшим образом.
Возвращаясь в город, в котором ты был так давно, что можно сказать не был вообще, ты сразу же пытаешься зацепиться за что-то знакомое, найти какие-то следы и знаки, но это пустая затея, что могло остаться с того времени — даже киосков не осталось, поэтому мы просто решили пробыть тут до утра, а дальше началось непосредственное знакомство с городом, с водкой в фаст-фуде, с драпом в спальных районах, ленивый летний день, что традиционно заканчивается темным беспробудным беспамятством, вследствие чего вместо нормальных дорожных впечатлений остаются какие-то отрывки и эпизоды, остается прежде всего удивление — от того, что в этом городе есть несколько золотых памятников, и что где-то тут, кажется, есть памятник Кобзону, по крайней мере, должен быть, утром, по крайней мере, меня больше всего волновало именно это — был памятник Кобзону где-нибудь или не было, и если был, то где? И золотым ли он был, этот Кобзон, или сделанным из гипса? Ведь что я мог запомнить еще? Студенческую столовую с зарыганным сортиром и охранниками на входе, таких студенческих столовых точно больше нигде нет; толпы чуваков в спортивных костюмах, которые чувствовали себя на улицах города уверенно и беззаботно, это был, очевидно, их город, их костюмы, они имели право на беззаботность, в отличие от меня, я мог запомнить виды за окном помещения, но виды эти к городу уже не относились. На улицах было много политической рекламы, на следующее утро мы выехали в Гуляй-Поле.
Ехать утром на автобусе в таком состоянии в неизвестном направлении — неблагодарное занятие, но что делать, главное не оставаться тут, главное — выехать, что мы и делаем; значит так, думаю я, водитель дорогу знает, Билый, в случае чего, тоже дорогу знает, поехали. Что может быть в Гуляй-Поле? Очевидно, там нет никаких аттракционов, никаких американских горок и ниагарских водопадов, ниагарских водопадов там точно нет, я в этом почти уверен, да и не нужны нам водопады в таком состоянии. Главное доехать, а там видно будет, потому что вся эта погоня за демонами счастливого детства, за призраками из уютных переулков памяти постепенно начинает брать за яйца, это как будто кто-то тычет тебя мордой в светло-красные лужи крови, мол, вот они, оставленные для тебя следы, вот что осталось тебе от прошлого, давай, смывай всю эту кровь, пролитую в классах и спортивных залах, хотел этого — получай, не отворачивайся теперь; вообще — возвращаться в места, в которых ты рос, почти то же самое, что возвращаться в крематорий, в котором тебя один раз уже сожгли.
И кто вся эта публика, которая едет вместе с нами, кто все эти телки в спортивных кофтах, кто эти бабушки с пакетами, мужики с дипломатами, паломники, иногда меня охватывает такое отчаяние от осознания своей ненужности, вот они все едут по делам, телки, например, едут в пэтэу, бабушки везут самогон на базар, мужики с дипломатами едут этот самогон покупать, хорошо, а куда едем мы? В пэтэу нас не ждут, да нас на самом деле нигде не ждут. А за самогоном совсем не обязательно ехать так далеко, самогон, например, и в Донецке можно было купить, и в Харькове, но дело ведь не в этом, поэтому приходится просто сидеть в разбитом лазе, на заднем сиденье, наблюдая, как дождливая погода сменяется солнечной, утренний воздух — послеполуденным, Донецкая область — Запорожской.
Вид у вокзала был такой, словно его разбил паралич. Из дверей выбежал какой-то дождливый пес и, увидев нас, остановился. Не уверен, что именно сюда я хотел попасть. Оставалось не меньше чем полдня на знакомство с городом. На асфальте высыхали лужи. Жизнь, как и пес, замерла.
7
$ 2.99 за гостиничный номер. Третий день в гостинице, валяемся на кроватях, ловим вторяки, за окнами слышен веселый мужской голос, тут вообще все слышно, слышно, например, что в гостинице, кроме нас, никого нет, это особенная тишина пустых комнат вокруг тебя, когда ты подходишь к стене и понимаешь, что с той стороны, в соседней комнате, находится тишина, и так во всей гостинице, только тетка сидит на рецепции в белом халате и уборщица шныряет коридорами, прислушиваясь к нашему дыханию, дыханию трех обкуренных чужаков, которые появились здесь три дня назад, нарушили тишину пустых солнечных коридоров, назвались журналистами, сидят третий день в гостинице и курят драп, запивая его водкой и самогоном. Теплый спокойный городок с сонными улицами — вот она, столица анархо-коммунизма, территория уникальных социально-политических экспериментов; приехав в город, мы сразу же поселились в этой гостинице, на первом этаже была парикмахерская и пахло одеколонами, и это был не худший запах, далеко не худший. Номера оказались настолько дешевыми, что мы решили остаться здесь надолго. Возможно, это было главной ошибкой. Мы поднялись в номер, бросили вещи, пересчитали бабки и пошли смотреть город.
Должен признать, что никогда в жизни не любил туристов, туристы для меня слишком шумны и суетливы, они приносят с собой ощущение искусственности, преходящести, они появляются в своих шортах и панамах, с кодаками на боевом взводе, и ты сразу же чувствуешь себя лишним, и они это чувствуют, они очень чувствительные, эти туристы, они вроде бы и смотрят в объективы своих кодаков, куда-то мимо тебя, в исторические панорамы, что открываются за твоей спиной, а сами исподтишка перешептываются — что это за клоун, почему он не в шортах, где его, блядь, панама, откуда он тут? А главное — туристам нужны внешние знаки истории, чтобы на каждом доме висели памятные барельефы, а за каждым углом открывались виды мест, описанных в их бестолковых буклетах, они никогда не обращают внимания на вещи простые и непритязательные: на стены домов, скажем, побитые оспой пулеметного обстрела, на старые приземистые яворы в глубине парка, с которых, допустим, могли свисать враги трудового народа, они не понимают тишины улиц, оглушенных в свое время перемещениями армий, контуженных канонадами и салютами победителей, они фотографируют фасады, не понимая, что гораздо интереснее фотографировать пустоту, особенно если в этой пустоте велись напряженные бои с переменным успехом. В такие городки, как этот, туристы обычно не приезжают, а если и приезжают, программа у них сухая и короткая — сфотографироваться возле барельефа Махно на здании бывшего штаба повстанческой армии, попробовать найти его хату (в путеводителе написано, что австрийцы сожгли ее еще в 1918-м, но все равно — надо попробовать найти), наконец зайти в музей и покрутиться возле бутафорской тачанки, слушая идеологически выдержанную пургу об установлении советской власти и сельскохозяйственных успехах региона при независимости. Из всех возможных внешних отметин, кроме барельефа и тачанки, мы нашли бар «Нестор». После этого вернулись в гостиницу и дальше курили свой драп.
В исторической литературе про махновскую республику Гуляй-Поле описан настолько тщательно, словно в описаниях города, его экономической характеристике и социальном анализе действительно можно было найти намеки и предсказания будущего взлета этого населенного пункта, который при других, лучших условиях должен был бы превратиться в туристическую мекку для всех обеспокоенных судьбой анархизма как такового и его практических форм в частности, должен был бы стабильно собирать на годовщины и юбилеи толпы упомянутых нами тут выше чуваков в панамах и с кодаками; историки настолько заботливо описывают школы и заводы, фиксируют количество рабочих и численность еврейской общины, что в какой-то момент и сам начинаешь переживать за историческую судьбу этого августовского городка, бродишь медленно от автовокзала до библиотеки, от бара «Нестор» до полуразрушенного здания бывшей мельницы, узнавая что-то по старым архивным фотографиям, а что-то не узнавая совсем. Живя в таком небольшом городке, скажем, три дня, на третий день уже начинаешь узнавать местных жителей, и что хуже всего — они тебя тоже начинают узнавать, от этого становится довольно неудобно — потому что гы в их глазах чужак, чтобы не сказать хуже, турист с кодаком, который смотрит на них, как на туземцев, пытаясь найти в чертах их лиц отпечаток анархосиндикализма, при этом ничего кроме алкоголизма не находя. Есть в этом что-то нечестное: с одной стороны, ты — со своей тупоголовой увлеченностью и намерениями расспрашивать каждого встречного, не воевал ли его дед у Махно, и, с другой стороны, они — утомленные подобным цирком, озабоченные своим мирным выживанием в рыночных условиях, потому что там, где для тебя находятся история и идеологические убеждения, для большинства из них скрыт источник частного предпринимательства и неосознаваемых до конца укоров совести. Поэтому они и смотрят на нас если и не враждебно, то по крайней мере без всякого энтузиазма — и те два убитые наглухо хрона, с которыми мы пили самогон на берегу речки (уже не было моста, по которому переезжали повстанцы, речка совсем обмелела, хроны сидели на берегу и печально молчали; когда им предложили выпить, сразу же согласились, один из них взял деньги и исчез, мы думали, что навсегда, ан нет — он вернулся, и потом мы быстро все выпили и полезли в воду; хроны в воду не лезли, смотрели на нас невнимательно и отстраненно, каждый видит в реке своих утопленников, мы к числу их утопленников не принадлежали); и директор музея, которая устало нам что-то объясняла и извинялась, что должна бежать в штаб, работать на выборах, даже не интересуясь, за кого мы будем голосовать; и продавщица в газетном киоске, которая спала в нем до пяти часов, потом закрывала на висячий замок, даже она, несмотря на то что мы покупали у нее прессу, возможно, мы вообще были единственными, кто покупал местную прессу; и даже тот официант в привокзальном ресторане, что видел нас ежедневно, ежедневно мы приходили к нему как к давнему знакомому, но даже он смотрел на нас равнодушно; в маленьких городах люди спокойнее, они наперед знают все, что с тобой произойдет, они с первого взгляда видят, что ты так ничего и не найдешь на этих запыленных улочках, между этих старых расстрелянных домов, ничего не найдешь и найти не можешь, потому что ты тут чужой, и вопрос только в том, сколько ты выдержишь в своей гостинице, насколько у тебя хватит денег, драпа и консервов, чтобы выжить в кровавом гостиничном пространстве, наполненном тяжелыми сновидениями и запахом одеколона, в этом весь вопрос — съебешься ты прямо сегодня, вечерним автобусом, подальше от черных дыр в окружающем воздухе, в котором поместилась вся твоя история, или будешь дальше болтаться по их улицам, фотографировать фасады домов, в которых находились административные учреждения анархистов, блуждать по городскому кладбищу, разглядывая фамилии на могилах и опознавая самые из них известные.
Мне кажется, я не могу понять главного в них — их отстраненности, их коллективной памяти, ясное дело, что я не рассчитывал увидеть тут никаких воскресших теней, проклятых и неотпетых, я был готов к подобной дистанцированности и тотальному недоверию, как я мог рассчитывать на что-то другое? чтобы рассчитывать на что-то другое, надо было как минимум родиться в их теплом летом и ветреном осенью городе, надо было школьником класть цветы к памятнику освободителям, зная, на чьих костях этот памятник построен, надо было наблюдать каждый год, как осыпается шелковица и покрываются уличной пылью вишни, ходить с утра на городской базар или по конторам, иметь свой бизнес, воспитывать детей, здороваться с прохожими на улице, выходить долгим, как блюзы, летним вечером к речке, сидеть молча над нею, смотреть на противоположный берег, на котором, так же точно как и на твоем, нет ничего — ни прошлого, ни настоящего, и понимать, что даже если бы тот старый мост все-таки уцелел, ты бы по нему вряд ли захотел перейти на противоположную сторону, потому что на самом деле — и этого я тоже понять никогда не смогу — с этого берега, из этого города, от этой памяти тебе просто некуда идти.
8
Ты мог умереть и на этот раз. У него было доброе и мужественное лицо, лицо тридцатилетнего мужчины, которому хочется дать все сорок, потому что он никогда не прятался от солнца и не отказывался от алкоголя, сегодня так точно. Выглядел он усталым и отчаявшимся, отчаяние его было горьким и каким-то нежным, интимным, видно было, что у него проблемы с бабой и что бабу эту он, очевидно, любит, а она, сука, терзает его незакаленную нежностью душу, душу тридцатилетнего мужчины, который привык в этой жизни ко всему — к крови, к грязи, к работе, к спирту, к унижениями и мести, но не к нежности, тут он был просто не готов что-либо противопоставить миру, кроме разве что набухаться с утра и кататься по онемевшему от лета городу в поисках утешения и дальнейшего алкоголя, ни первого, ни второго, ясное дело, не находя.
Вчера к вечеру друга Билого вызвали домой, звонок был официальный, Билый должен был быть с утра на кафедре, вариант не поехать, который я ему советовал, Билого не устраивал. Он вышел среди ночи на трассу, простоял там пару часов, но все-таки поехал. На следующее утро мы с Лешкой тоже решили ехать. Все, что можно было тут увидеть, мы увидели несколько раз, с нами здоровались парикмахерша и продавщица из газетного киоска, заметив нас на улице, директор музея переходила на другую сторону, официанты знали наперед, какую водку мы будем заказывать. Эффект неожиданности миновал, наступали суровые будни недельного запоя, последний день я пролежал в гостинице, страдая, как я думал, от аллергии. Мы решили двигаться на север, где в 18-м году в лесах формировались первые повстанческие отряды. Автобусы туда не ходили — с 18-го года в этом плане мало что изменилось. Хорошо, решили мы, какие автобусы — выйдем на трассу, застопим что-нибудь. На выезде из города стояли две телки, о чем-то перешептывались, глядя на нас, и, казалось, никуда ехать не собирались. Нас, между тем, никто не брал. Рядом была речка, над нами висели низкие тучи, трава была запыленной, дорога пустой.
Он, очевидно, не собирался останавливаться. Наполненный своей горькой тоской, наполненный алкоголем, положив на свой общественный статус, положив на свой, хоть какой там он у него был, семейный статус, положив, наконец, на правила дорожного движения, он гонял по неторопливому послеобеденному городу, пытаясь забиться на своей копейке в какой-нибудь темный глухой угол, в котором его отчаяние его не найдет и где можно будет пересидеть до лучших времен. Наконец, следуя какому-то внутреннему импульсу, он повернул с центральной улицы в сторону завода, миновал гаи (странно, что не посигналил им), проехал вдоль складов, еще раз повернул налево и оказался на выезде из города, где увидел нас. Как я уже говорил, останавливаться он не собирался. Однако что-то в его затуманенных горечью мозгах в последний момент сработало, и он ударил по тормозам. Но это только так говорится — ударил, он был уже не в том состоянии, чтобы бить по ним резко и решительно, он ударил по ним скорее отчаянно и неубедительно, копейку повело с дороги, она проползла добрых метров двадцать и замерла, тяжко всхлипывая. Мы подбежали. Довезешь? спрашиваем. Он думал. О чем он думал? Бог его знает, о чем люди думают в таком состоянии за рулем, одно могу сказать, что он не сомневался, сомнения в его глазах не было, было скорее общее непонимание — кто мы такие, кто он такой, для чего он остановился. Хорошо, сказал он. Сколько? спрашиваем. Нисколько, говорит он. Как нисколько? Так, нисколько, за бензин заплатите и поехали куда хотите. Мы тоже подумали — о’кей, говорим, давай, сели в копейку, закрыли двери, машина тронулась, и тут мы все поняли. Одно пиво он только что закончил, второе дал подержать мне. Подержи, говорит, а это ничего, спрашиваю, что ты пьешь за рулем? У меня проблемы, говорит он, мне хуево. А, говорю, тогда ладно. Копейка рванула навстречу горизонту, проехала метров двести и заглохла. Что такое? спрашиваю. Нужно толкнуть, сказал он, проблемы с двигателем. Мы вышли и начали толкать, прикольно, подумал я, кто кому должен платить. Ну да он нам навряд ли заплатил бы.
На автозаправке была очередь. Но он в очереди, судя по всему, стоять не собирался, он проклинал водителей, проклинал заправщиков, критиковал мироустройство в целом, что делать будем? спросил я, сейчас-сейчас, лихорадочно думал он, давайте, сказал наконец, очевидно на что-то решившись. Что? Толкайте! Мы вышли и снова покатили нашу копейку, двигатель завелся, водитель нажал на газ и резко повернул назад на Гуляй-Поле. Эй, занервничал я, мы что — назад? Сейчас-сейчас, только и повторял он. Копейка ворвалась в городок. В первый поворот он не вписался, выехал на тротуар и какое-то время ехал так. Потом вырулил все же на дорогу. Время от времени он обеспокоенно поглядывал, держу ли я его пиво. Я держал. Мы решительно промчались по городу, миновали нашу гостиницу, возле которой терпеливо сидела знакомая нам продавщица газет, лихо проскочили вокзал и стадион, посигналили возле какого-то кафе и выскочили на другую околицу, по-моему, чувак промахнулся, он прошивал этот город, как дельфин акваторию, распугивая раскоряченных, как гуси, бабушек, что несли с базара нераспроданный самогон, и бешено клаксоня птицам и ангелам, которые попадали, не успев расступиться, в лопасти реактивного двигателя его копейки, от чего радиатор заливался кровью, а копейка ревела и глохла.
Но на другом выезде из города тоже была заправка. Мы залили полный бак, развернулись, снова прорвались сквозь город, переехали через мост и двинулись на север. Его пиво мы с ним выпили. Его действительно что-то мучило. Он время от времени бил себя ладонью по голове, от отчаяния и какой-то жалости к самому себе, словно хотел сказать — вот тебе, за то, что не смог уладить как следует свои проблемы, вот тебе, получи, кроме того, если бы он себя не бил, он безусловно заснул бы, а так эти резкие короткие удары выводили его из сна, а нас из оцепенения. Я пытался с ним говорить, пытался делать музыку в его магнитофоне громче, лишь бы отвлечь его от сна, что тяжелым туманным циклоном надвигался на его сознание, но он и сам все контролировал, он все контролировал и все видел, в какой-то момент я его понял — о’кей, думал он, нормальные чуваки мне попались (это он про нас), отвезу их куда надо, вернусь назад, убью эту суку на хуй, отремонтирую копейку, постригусь, о’кей. Но пиво мы выпили, музыка его не радовала, поэтому неудивительно, что он засыпал под этими солнечными лучами, в августовском воздухе, наполненном тучами, словно соком, между двумя городками, один из которых мы навсегда оставили, а в другой даже не надеялись попасть. Мы бы тоже, очевидно, заснули, если бы за рулем был не он.
Это было странное путешествие, во всех смыслах Странное — и дорога была странной, все хуже и хуже, и день непонятный, он длился так долго, что я начинал думать, не закончится ли он для нас прямо здесь и прямо сейчас, и водитель наш так странно и так горько переживал свои неурядицы, что я даже не мог сказать ему — брат, остановись, остановись, брат, давай мы вылезем из твоей копейки, да и сам ты вылезай, куда ты такой поедешь? не мог я ему такого сказать, его бы это окончательно убило, нужно отдавать должное чужому безумству, ведь неизвестно, как ты сам через пару лет будешь вести себя на людях. Он переезжал с полосы на полосу, мчал по встречной, засыпал время от времени и снова бил и бил себя ладонью по голове, не давал себе спуска, не мог отпустить себя с богом, пока мы неожиданно и благополучно не въехали в нужный нам городок и, попутно разогнав с дороги стайку пионеров на велосипедах, не затормозили возле автовокзала. Ты назад хоть доедешь? спросил я. Да ясно, не совсем понял он меня. Ну, спасибо тебе, говорю. Ладно, давайте, — он попрощался с нами без сожаления и надежды на повторную встречу, словно это не мы проехали с ним только что эту дорогу смерти, длиною в сорок потусторонних километров. Очевидно, его дорога была гораздо опаснее нашей.
Над автовокзалом нависал истребитель. Звезды на крыльях размыло дождем, сквозь бетон на постаменте пробивалась сухая трава. Теперь он на своей копейке набирал скорость в обратном направлении, на двигателе закипает кровь, радиатор набит перьями. Возможно, он уже разбился. Мы обошли истребитель и повалились в траву. Автобусов не было. Лирическая история без всяких последствий.
9
Духи приходят на мой гашиш. И тут Билый вернулся. Мы лежали в траве, ходили к автовокзалу пить воду, ходили в город за пивом, несколько часов валялись под нашим истребителем с размытыми звездами, пока Билый не вернулся. Кандидат исторических наук, он-то уж точно понимал, что когда подворачивается хоть малейшая возможность выбраться в такие психоделические места с героической историей и кумарным настоящим, то возможностью этой стоит воспользоваться на все сто; можно сколько угодно писать исторические романы, проливая в них кровь ни в чем не повинных вурдалаков, а все же стоит хотя бы раз в десять лет бросить все и приехать в безымянный степной городок, где пыль перекатывается по центральной площади и возле единственного бара сидят местные плантаторы и пьют прозрачную, как небо, водку, где под истребителем уже несколько часов тебя ждут твои друзья, и друзьям твоим без тебя с каждой минутой становится все печальнее, а от алкоголя — с каждой минутой лучше, и если ты приедешь вовремя, то застанешь их в чудесном приподнятом состоянии, которое способствует дружеской беседе и дальнейшему передвижению. Под вечер мы добрались до Дибровского леса.
Билый обещал показать нам дуб исторического значения, под которым будто бы Махно и назвали батькой. Приехав в Дибровку, познакомившись попутно с политически подкованным водителем, который нас подвез и прочитал нам краткий курс местной вкпб, мы с удивлением узнали, что вышеупомянутый нами дуб пару лет назад сожгли пионеры, праздновали там что-то свое, пионерское, может день рождения Ленина, не знаю, ну и сожгли его, узнали также, что местный музей кое-как тлеет, но директор его сука последняя, нагибает всех с этими ебаными выборами и меньше всего думает о батьке Махно со всеми его дубами, одним словом, ситуация складывалась не в нашу пользу; мы вышли из Дибровки и пошли прямо в лес, думая себе приблизительно так — ну хорошо, думалось нам, дуб эти сраные пионеры сожгли, ладно, дети, что с них возьмешь, директор сука, тоже можно понять, нагибает с выборами, тоже ситуация знакомая, но даже он, этот патологический директор, который продал честь, совесть и историческое предназначение в обмен на жирное клеймо админресурса на своих директорских ягодицах, — даже он не может нам запретить залезть в этот лес и пробыть в нем столько, сколько уж нам захочется, а уж сколько нам захочется, это сугубо наше дело и касается оно только нас, ну, возможно, еще лесника.
Мне приходилось ночевать в разных местах и при разных обстоятельствах. Я ночевал несколько ночей на львовском вокзале на пачках с фашистскими газетами, которые я туда привез для распространения, я ночевал на украинско-венгерской границе вместе с группой старшеклассников, которые ехали куда-то на экскурсию, думая, очевидно, что я тоже еду на экскурсию, я ночевал пьяный на речном пляже, и вокруг меня ходили спасатели и отдыхающие, не зная, утонул я или еще нет, я ночевал на скамейках в парке и в зимних электричках на станции Пятихатки, не имея возможности оттуда выехать, однажды я ночевал в пионерском лагере на столе для пинг-понга, мы с приятелем заехали туда для прохождения педагогической практики, но вожатые, выпив весь наш спирт, сказали нам, что оставаться здесь не обязательно, да и для детей так будет лучше, так что мы можем ехать, и мы улеглись на стол для пинг-понга, с разных сторон сетки, и наутро действительно поехали оттуда, спать целый месяц на пинг-понговом столе нам не светило; это нечто большее, чем приключение или интересный случай, приключение — это когда ты попадаешь среди ночи в свой гостиничный номер, имея ключ, и находишь в своей постели нескольких незнакомцев, это приключение, я согласен, а когда у тебя нет ни ключа, ни гостиницы, ни незнакомцев, когда ты вообще не имеешь ни малейшего представления, как дотянуть до утра в ситуации, в которую ты попал, это уже не приключение и не интересный случай, это твоя жизнь, как она есть — без прикрас и лишнего пафоса, ты просто продавливаешь пространство своим присутствием, вырываешь для себя ровно столько места и тепла, чтобы не замерзнуть за ночь; мы сворачиваем с лесной дороги, долго идем, наконец находим поляну, притаскиваем дрова и разводим костер. Сначала мы выпили все, что у нас было, потом нам показалось, что этого недостаточно, и мы начали добивать драп, даже друг Билый, кандидат исторических наук, который все эти дни воздерживался и ограничивался самогоном местного производства, тут что-то попустился, расслабился, покурил с нами и стал рассказывать о самураях и их кодексах чести. На кодексах чести я и заснул.
Проснулся я где-то в пять. Лешка дрых на спальнике, друг Билый сидел возле угасшего огня и смотрел в лес, что там? спросил я, кто-то ходит, тихо ответил он, давно? спросил я, давно, ответил Билый, всю ночь, хорошо, говорю, ложись спать — я их постерегу. Он сразу же заснул, а я занял его место и стал смотреть, кто же там ходит меж деревьев. Смотрел я часа два.
Однажды, ночью, под травой, я сидел на берегу моря и разглядывал волны, я пытался их увидеть, но видел лишь темноту, которая двигалась совсем рядом со мною и которая могла ежесекундно неосторожно зацепить меня, свалить своим хвостом или затянуть щупальцами в свое темное нутро; мне всегда казалось, что когда ты ничего не видишь в темноте, это еще совсем не значит, что в этой темноте никто не видит тебя, поскольку она — темнота — это что-то, что находится вне тебя, ты всегда выпадаешь из нее, тогда как у того, кто остается в ней, всегда удобная позиция для рассматривания тебя, ведь темнота — она только с твоей стороны темнота, с его стороны это уже что-то другое, что-то, чего ты не можешь увидеть, а потому и понять. И теперь, когда я сидел возле угасшего костра, что остывал, и холодел, и терял свое тепло, словно большая пицца, я думал, кто именно мог ходить целую ночь вокруг нас, у меня такие вещи, возможно, притупились, а вот Билый дунул и что-то такое за этими соснами увидел, интересно, кто это мог быть? Души лесников? Наверное, души лесников, или души пионеров из соседнего лагеря, пионеров, которые убежали давно, много лет тому назад, из уютных пионерских палаток в лес, питались какое-то время кореньями и мухоморами, от чего постепенно теряли свое пионерское обличье, становились неприкаянными душами, еженощно приходили на огонь в лесу, не осмеливаясь подойти ближе, чтобы не встретиться с пионервожатым.
Все те, чье присутствие ты чувствуешь рядом, ищут у тебя поддержки, нуждаются в твоем соучастии, ты все время ловишь на себе их взгляды, которые вас объединяют. Но, проснувшись однажды в незнакомом месте, одинокий и растерянный, ты вдруг остро ощущаешь рядом с собой еще чье-то присутствие, ты никогда не сможешь увидеть того, кто рядом с тобой, но он при этом никогда не пройдет мимо тебя; скажу только, что я взаправду готов был увидеть тени и услышать голоса из-за сосен, ведь я их не видел только потому, что я не знал, что именно я должен увидеть, по каким именно признакам я должен их распознать. В отличие от меня, они знали всё, они видели меня и моих друзей, они чувствовали нас, мы светились им в их темноте, не принадлежа ей, не западая в нее, светились всей своей кровью, которая стояла в нас, как ртуть в термометре, по ней они нас и ощущали, на ее розовый свет они выходили из-за теплых стволов и останавливались в отдалении, протягивая к нам руки, пытаясь у нас что-то отобрать, пытаясь нам что-то оставить. Попробуй, вдруг ты сможешь научиться различать их по теням, по запахам, по тишине вокруг тебя, которую они наполняют собою, которой им совершенно достаточно, чтобы находится все время рядом, оставаться незамеченными и неузнанными, вдруг ты научишься отличать их дыхание, которое — вот сейчас, слушай — похоже на дыхание деревьев, на дыхание сосен, такое же спокойное и размеренное, разве что немного теплее, это от их голоса, от того, что они тебе что-то говорят, что-то очень важное, что-то такое, что ты можешь услышать только во сне, или только на записях, которые ты слушаешь, только среди черной утренней тишины, поскольку то, что они говорят, это и есть тишина, вязкая сплошная тишина, наполненная изнутри их голосами.
10
Левый марш. Никогда не интересуйся политикой, не читай газет, не слушай радио, выбей кинескоп из своего тиви, вставь туда цветной портрет Мао или Фиделя, не давай им наебывать себя, не подключайся к сети, не ходи на выборы, не поддерживай демократию, не посещай митинги, не вступай в партии, не продавай свой голос социал-демократам, не встревай в дискуссии о парламенте, не говори о президенте «мой президент», не поддерживай правых, не подписывай петиций президенту — это не твой президент, не маши рукой губернатору, когда встретишь его на улице, тем более — ты его никогда не встретишь, не ходи на встречи со своим кандидатом — у тебя нет кандидата, не проявляй интереса к деятельности профсоюзов — профсоюзы тебя используют, не поддерживай национальное возрождение — первым они повесят тебя, ты их враг, ты их еврей и гомосексуалист, ты их фашист и большевик, ты им мешаешь заниматься политикой, организовывать подписку, поднимать рейтинги на телевидении, мешаешь им наебывать себя, контролировать интернет, выигрывать предвыборную гонку, строить демократию, собирать митинги, налаживать партийную жизнь, бороться с социал-демократами, блокировать работу парламента, привести к власти народного президента — у народа должен быть народный президент! договариваться с правыми, инициировать обращение к президенту — к своему, народному президенту! держать за яйца губернатора, выводить его на улицы — к народу! продавливать в органы власти своих кандидатов — формировать свою вертикаль! подмять под себя профсоюзы — почему ты, сука, не веришь профсоюзам?! придать размах национальному возрождению, повесить на фонарях под оперным всех врагов, евреев прежде всего, потом гомосексуалистов, возможно, фашистов и большевиков, все равно большинство из них — евреи и гомосексуалисты, воспитать наконец нормальное поколение, которое приведет их к власти и оставит в покое, в спокойной стране, где уже всем будет насрать на политику, на газеты и радио, где никто ничего не будет знать о Мао и Фиделе, где влом будет даже подсоединиться к сети, прийти на выборы, поддержать галимую демократию, посещать митинги, вступать в партии, даже продавать свой голос социал-демократам будет влом, не говоря уже о дискуссиях про парламент, не говоря уже о президенте — разве у тебя есть президент? не говоря уже о правых и петициях — тебе не нужны петиции, тебе не нужен губернатор, ты не знаешь своего кандидата, тебе насрать, какого именно профсоюза ты член, не говоря также о национальном возрождении — первым повесили твоего соседа, следующим будешь ты.
Политика куплена, газеты и радио куплены, тиви — ты сам знаешь всю правду про тиви! Мао мертв, Фидель мертв, не давай себя наебывать! сеть контролируется, выборы куплены, демократия мертва, парламент куплен, президент куплен — у тебя нет президента! правые куплены — в стране нет нормальных правых! петиции проплачены, губернатор куплен, твой кандидат куплен — ты знаешь, кому продался твой кандидат?! профсоюзы куплены, все профсоюзы куплены, давно и полностью, все-все лидеры профсоюзов давно куплены или мертвы! национального возрождения не бывает! им просто хочется тебя повесить! им обязательно нужно тебя повесить! подвесить тебя за ноги на фонаре под оперным! намотать тебе петлю на шею и выбить из-под ног старый конторский стул! так, чтобы все видели! чтобы никто не мог пройти мимо твоей беззащитной туши! чтобы все наблюдали, как тебя мотает свежим августовским ветром! они только об этом и думают, суки! суки! они думают о тебе! они только о тебе и думают! не думай о политике! в газетах — суки! на радио — суки! на телевидении — суки! Мао, сука, Фидель, блядь, сука! в сети одни суки и пидоры! на выборах — суки! демократия ссучилась, парламент ссучился! президент — сука, это не твой президент! правые, губернатор, кандидат — суууууууууки!!! какие петиции?!! какие профсоюзы?!! какое возрождение?!! суки!!!!!!!!!!!
И попробуй после всего этого не продаться.
Я люблю читать военные мемуары, независимо от того, в каком звании и на чьей стороне воевал автор — был ли он офицером вермахта, петлюровским ли старшиной, или он и дальше остается лидером мексиканских партизан, или его до сих пор считают чеченским полевым командиром, — в описаниях боевых действий время от времени проступает тот нарратив, который мне лично кажется чрезвычайно честным и симпатичным — если уж тебе довелось собственными руками править контуры истории и географии, ты вряд ли начнешь заниматься морализаторством и дидактикой, вся твоя агитация в этом случае не будет никого интересовать, потому что за тобой будет стоять что-то гораздо более важное — твоя биография, твоя причастность к настоящей, непосредственной жизни, к живой истории, к реальной политике, такой, какой она и должна быть — уличной, массовой и несправедливой. По крайней мере, тогда к ней не может быть никаких претензий.
Меня никогда не интересовала политика, за исключением тех случаев, когда она пролезала под двери моего жилища и начинала смердеть прямо у меня на кухне, тогда я ею интересовался, собственно, интересовался я тем, как от нее избавиться. Попробуй как-нибудь — избавься от политики в своей жизни, увидишь, удастся ли это тебе, насколько тебе хватит сил и терпения, она чрезвычайно цепкая, эта курва, она будет заползать в щели и трещины, будет манипулировать тобою, обязательно будет, ты, сам того не желая, начнешь участвовать в этой игре, устроенной для тебя, но попробуй играть в эту игру по своим правилам и сразу же получишь по рукам, попробуй, скажи ей — о’кей, я хочу заниматься политикой, я хочу вступить в нормальную коммунистическую партию, где в этой стране нормальные коммунисты? почему они все ездят на мерседесах? я хочу, чтобы у меня был нормальный парламент, который легализовал бы гашиш, я не хочу, чтобы моими депутатами были эти жирные свиньи, я не хочу, чтобы моим губернатором был банкир, а моим кандидатом — какой-нибудь мажор, которому насрать на права трудящихся, я хочу быть членом профсоюза, но я хочу, чтобы это был нормальный профсоюз, с пулеметами и фугасами, петиции мне не нужны, спасибо. Я действительно хотел бы интересоваться политикой, я хотел бы, чтобы молодежь в моей стране интересовалась политикой, занималась ею, чтобы политика не принадлежала этим старым перепуганным мудакам, которые говорят на митингах о национальном возрождении, но я хочу, чтобы она — эта молодежь — боролась не за власть, я хочу, чтобы она боролась с властью, чтобы она захватывала банки и блокировала обладминистрацию, чтобы она контролировала бюджет и выбрасывала клерков из окон их кабинетов, чтобы она выходила на субботники под черными флагами, флагами цвета черного женского белья, давайте договоримся о таких методах национального возрождения, в другом виде политика меня действительно не интересует, да и я для нее навряд ли представляю особенный интерес. Поэтому ладно — каждый остается при своем — вы со своими бабками, я со своим каннабисом, на самом деле я живу с вами в одной стране, я люблю эту страну, я не уеду из нее, даже если вы начнете репрессии, все нормально — вы мне не мешаете, у меня, так же как и у вас, дома есть радио и телевидение. Просто я смотрю другие каналы.
На следующее утро мы снова лежали в траве, возле трассы и ждали автобус в какую-нибудь сторону. Трасса Донецк-Запорожье прогревалась солнцем, небо было низким и свежим, но в нем уже проявлялась осенняя сухость, еще несколько недель — и начнется настоящая осень, сок в траве горчил от этого предчувствия, земля была теплой, а воздух — неподвижным. Я лежал, я не хотел вставать, я знал, что это моя последняя трава в этом году, последний теплый воздух, вряд ли я еще попаду на эту трассу, вряд ли я еще когда-нибудь буду лежать тут, по крайней мере — не в этой жизни. От этого становилось особенно тепло. Через полчаса Билый поймал машину и поехал домой. Еще через некоторое время мы остановили автобус и поехали в противоположную сторону.
Часть четвертая «Жить быстро, умереть молодым»
(ДЕСЯТЬ ТРЕКОВ, КОТОРЫЕ Я ХОТЕЛ БЫ УСЛЫШАТЬ НА СВОИХ ПОМИНКАХ)
1
Eric Burdon. Black on Black in Black. Призраки из прошлого появляются в моей жизни. Они следят за мной издалека, прячутся за спинами прохожих на улице, держат перед собой газеты, сидя в баре за столиком напротив. Они ждут и стараются не мешать. Но каждый раз, стоит лишь расслабиться, отойти в сторону, остаться без свидетелей, они тихо подходят, становятся рядом и внимательно смотрят в глаза, ожидая, когда я первый их узнаю. Они застают меня в сортирах клубов, когда я отливаю, возле газетных киосков, когда я покупаю свежие журналы, в моем собственном подъезде, когда я выхожу с утра за минеральной водой, — их появление трудно предвидеть, его трудно избежать, они незаметно движутся следом за мной по моей жизни, как акулы за танкером, груженым сотнями китайских нелегалов. Просто я не даю им повода разорвать меня, ни на секунду не забывая об опасности с их стороны. Просто они, в отличие от меня, умеют ждать.
Я не был в Нью-Йорке девять лет. У меня здесь совсем не осталось знакомых — все мои бывшие знакомые или уехали отсюда, или умерли, поскольку были это люди, как правило, старшего возраста и почтенной биографии. Девять лет назад в моей жизни вдруг появилось большое число новых персонажей — странных и непонятных мне, они жили в этом городе и с ним ассоциировались, в нем они для меня и остались. У меня не было их координат и так же не было никакого желания снова с ними видеться, когда делаешь в общении паузу в девять лет, после этого надо разве что начинать все сначала, иначе как бы это выглядело — встретиться с человеком через девять лет и спросить, что у него нового? Нового в каком смысле? За последние девять лет? Тогда он должен был бы начинать со своего рождения, чтобы восстановить контекст. По-моему, это безнадежно.
Из событий девятилетней давности я хорошо запомнил Ярему и его младшего брата. Это был последний вечер в Нью-Йорке, и мы все тогда сильно перепили, именно в тот вечер появился Ярема с братом, о, сказал я, ты похож на Моррисона, я люблю Моррисона, ответил он, и это, собственно, все из его слов, что я помню. Его брат заснул тогда то ли в душе, то ли в сортире, а возможно, и там, и там. Я не мог их не запомнить — мы слушали эмтивишный анплагт Нейла Янга и пили говняное американское пиво.
Привет, сказал он мне, ты меня помнишь? Привет, ответил я ему настороженно, помню, ясное дело, только не помню, как тебя зовут. Ярема, сказал он. Помнишь, ты когда-то приезжал сюда, мы еще напились, ты тогда сказал, что я похож на Моррисона? Точно, сказал я, помню. И брата твоего помню — он в сортире заснул. В душе. Точно — в душе. За девять лет Ярема почти не изменился. Не знаю, как я. Давай снова напьемся, предложил я. Давай, согласился он, давай в четверг — я запишу тебе нормальной музыки. Договорились, сказал я. Ну — что я говорил в начале?
Ярема приехал на мощной легковушке и привез мне штук 30 дисков с нарезанными на них записями, в основном это была музыка поздних 60-х, ранних 70-х, про некоторые из этих альбомов я только слышал, дома найти их было невозможно. Я тебе еще запишу местной музыки, пообещал он, тут куча команд, они выступают в местных клубах, их крутят на местных станциях, кроме Манхэттена их почти нигде не знают, это настоящая клевая музыка. А что это за местные станции? поинтересовался я. Я тебе расскажу, сказал он, и мы поехали в болгарский клуб на дискотеку Юджина.
Дискотека Юджина заключалась в том, что приходил сам Юджин и ставил музыку, которая нравилась лично ему. Это была вроде как гарантия качества, клуб был забит болгарами, цыганами, советскими евреями и евреями просто, Юджин в основном ставил ска и цыганский фолк, по телевизору над баром показывали его выступления с Gogol Bordello, болгары пахли пивом. Через сорок минут мы поехали в другой бар, поехали, сказал Ярема, я знаю тут одно место, его держит бывший владелец радиостанции, о которой я тебе рассказывал, там тоже крутят только его любимую музыку, уже ради этого туда стоит поехать. Это хорошо, подумал я, что каждый крутит свою любимую музыку. Главное, чтобы ее на всех хватило.
Эта станция существовала долгое время исключительно за счет благотворительных взносов. Ежегодно они проводили сбор средств среди слушателей, каждый давал, сколько считал нужным, владельцы станции объясняли — хотите еще год слушать музыку, дайте нам бабки, много нам не надо, просто чтобы оплатить все необходимые счета. Они крутили настолько хорошую музыку, что каждый год им удавалось собрать нужную сумму. Меня это поразило, по-моему, это было правильно. Настоящие тебе коммунистические принципы существования музыкального пространства. Владелец станции, рассказывал Ярема дальше, сам вел одну программу, я их всегда слушал, рассказывал он, у них была только качественная музыка, много музыки из 60-х и 70-х, они ее крутили круглосуточно. А однажды к ним в студию пришел Бердон. Как Бердон? не поверил я. Так, он живет тут рядом, это же Манхэттен, объяснил Ярема, тут все живут рядом, получился хороший эфир, они просто сидели целую ночь и о чем-то говорили, больше всего меня поразила история о том, как у Бердона было выступление в тюрьме, где сидели одни черные, Бердон стремался, но когда начал играть, то все стало на свои места, они его приняли. Бердон говорил, что много чего в тот момент понял. А теперь владелец станции открыл этот бар, принес туда кучу своей музыки, другую музыку он там крутить запрещает. А там Бердон есть? спросил я.
Барменша была ведьмой, так, по крайней мере, утверждал Ярема, она наливала нам пиво, выводя пеной на его поверхности пентаграммы. Пошли, наконец сказал Ярема, мы прошли в коридор и увидели там большой музыкальный автомат, заправленный сотней лучших в Манхэттене дисков, выгребли из карманов всю мелочь и всыпали ее в нутро автомата. Хватило на 27 композиций, по баксу за мелодию, давай, сказал я, нажимай, что ты хочешь, он долго копался, переворачивая диски туда и сюда, тщательно подбирая каждый трек, наконец сказал — осталось еще 10. Давай теперь ты.
Что я действительно хочу услышать, не только теперь, не только в этом баре с ведьмой за стойкой, а вообще — что я хочу услышать, чем бы я хотел наполнить эфир, если б у меня была такая возможность? Десять треков, это около сорока минут музыки, сорок минут времени, за это время со мной может произойти что угодно, за это время автомат должен пропустить сквозь себя десять чьих-то голосов, десять жизней, переплетая их с моим голосом и моей жизнью. Я подумал и нажал десять первых кнопок, что попались под руку.
Всегда возбуждаюсь, слушая музыку. Когда читаю книги, со мной такого не случается, как правило, когда книга нравится, я стараюсь как можно быстрее добить ее до конца, чтобы узнать, чем все заканчивается. Если же не нравится, молча откладываю в сторону, правда потом некоторое время испытывая укоры совести. С кино ситуация тоже простая — я жду окончания фильма, проявляя более-менее заметную активность во время постельных сцен, мне каждый раз интересно, как они это делают, вот и вся реакция. То же самое с театром — в театре я чувствую себя неуверенно, я боюсь, что актеры в любую минуту могут забыть слова и сбиться, меня это напрягает, но не возбуждает. В театре я люблю буфеты. Другое дело музыка. Никому никогда не нравилась музыка, которую я слушаю. Кроме меня, ясное дело. Музыку я стараюсь слушать дома и без свидетелей, меня разрывает от обиды и отчаяния, когда кто-нибудь подходит и выключает музыку, которую я слушаю, которая мне нравится, мою, блядь, музыку. Я бы тоже хотел иметь собственную станцию, я крутил бы там только то, что нравится мне, ежегодно я бы обращался к потенциальным слушателям с просьбой сброситься на пенсию налоговому инспектору, ходил бы с утра из квартала в квартал, от дверей к дверям, говоря, привет, я тот самый чувак, который крутит для вас клевую музыку, меня знает Бердон, можете чем-то мне помочь? У каждого из них было бы свое персональное право послать меня подальше, у каждого из них была бы чудесная возможность этим правом воспользоваться.
2
Neil Young. Rockin’ in the Free World. Freedom! Нейл Янг с засаленным хаером и в подчеркнуто старых джинсах сидит на стуле и держит в руках гитару. Фотограф снял его со спины, так, чтобы откуда-то из зала бил прожектор и хрен что было видно, но вместе с тем чтобы оставалось ощущение, будто в зале кто-то есть, будто все это происходит на самом деле. Мы стоим на крыше пятиэтажного дома, посреди Манхэттена, в два часа ночи и смотрим вниз, на улицу. Улицы Нью-Йорка наполнены таксомоторами, время от времени там проходят полицаи и геи. Мне даже кажется, что они здороваются друг с другом. Весна 96-го, нас всех разрывает от того, что мы стоим, свешиваясь над пропастью, в темном океанском воздухе, пьем водку с пивом, время от времени кто-то через окно выходит на пожарную лестницу и поднимается к нам наверх, за окном, в комнате, слышен недовольный голос Нейла Янга, всё вживую, всё по-настоящему, нам всем по девятнадцать-двадцать лет, и все удается как никогда, больше никогда нам не будет все так удаваться — безнаказанно, по-настоящему, вживую.
Обманчивость, которую дарит тебе громкая музыка, эйфория, что наполняет тебя, когда ты стоишь под большими черными динамиками, навсегда дезориентируют тебя, искривляют твои кости, музыка бьет прежде всего по позвоночнику, ты после всего этого не можешь, как раньше, ходить по улицам, спать до обеда в теплой постели, прячась под подушку от солнечных лучей, — музыка калечит тебя, спутывает твои сухожилия, вгоняет в тебя штопоры и шурупы, с помощью которых тебя можно теперь контролировать, вживляет в тебя тысячи рецепторов, тысячи оголенных клемм и раскрученных розеток, по тебе постоянно прокатывается чужая энергетика, как вагоны с железом, по тебе протекает чужая кровь — черная и горячая, услышанная тобой однажды музыка изменяет цвет твоей кожи, сужает твои зрачки, пересушивает губы, делает резким голос и уязвимыми — легкие, раздувает вены и вгоняет туда столовое сухое вино, от чего ты — каждый раз, услышав эту музыку, — теряешь равновесие и выпадаешь из внешнего, совершенно нейтрального по отношению к тебе аудиопространства в кошмарный подводный мир персонального саунда, длиной в целую жизнь. Столько раз после этого мне приходилось умирать от тишины и отчаяния, столько раз мне не хватало элементарного терпения и такта, столько раз меня ломало от нежелания заниматься тем, чем мне заниматься приходилось, так что я склонен в конце концов списать это на кого-то постороннего, должен же кто-то за это отвечать, должен кто-то нести ответственность за мою начальную школу, за преподанные мне основные понятия и термины, которыми я должен был пользоваться в своем прохождении через плотные атмосферные слои. Тогда кто? Он, да-да, именно он — хитрый, вечно недовольный всем Нейл Янг, в своих старательно рваных на коленях джинсах, со всеми своими динамиками и гитарными примочками, с волосами, которые у него выпадали и оставались после него в гостиничных рукомойниках, да-да, кто скажет, что это не он, что это не его безостановочное бурчание, не все эти его 50 дисков оригинальной музыки и каверов травмировали меня в самый удобный для этого момент, когда мое сердце вбирало в себя информацию, как удав мертвого кролика, кто как не он должен отвечать за просчеты в моем воспитании, так, будто действительно за этим не было ничего, кроме музыки, так, будто действительно в его голосе не ощущалось угроз и проклятий, а в его Freedom простого предвидения, как оно все должно быть — с кровью, горами трупов и обязательной победой.
Так или иначе все завязывается на музыке — и твои знакомства, и твои вредные привычки, и то, как ты ведешь себя в постели, и то, за кого ты голосуешь на выборах, и голосуешь ли вообще. Музыкальный формат — это на самом деле формат поведенческий, это тебе только кажется, что ты выбираешь музыку, выбираешь одежду, ищешь себе работу, переключаешь каналы телевидения, останавливаясь на чем-то для себя интересном. Ты слишком доверяешь собственным чувствам, собственной интуиции, которая тебя каждый раз подводит и ты просто не осознаешь, что на самом деле это каналы переключают тебя, что на самом деле это тобой водит и бросает из стороны в сторону, от стены к стене, что на самом деле вложенная в тебя в свое время информация в конечном счете обязательно приносит дивиденды, и дивиденды эти выплачиваются совсем не тебе. Все зависит от музыки, и однажды ты начинаешь проникаться чужими идеями, пуская их на свою территорию, подчиняешься чужому ритму, подпадая под него, подправляя под него свою мимику и свои движения, и ответственных за это вряд ли найдешь — никто не запретит блюз за то, что он сломал тебе суставы, никто не посадит Нейла Янга на электрический стул в штате Техас за то, что у тебя выпадают зубы от его гитары. Freedom, говорит Нейл Янг и показывает тебе фак. Freedom, подтверждает суд присяжных и делает перерыв на ланч. Freedom, печально соглашаешься ты и идешь к знакомому дантисту.
Они сделают так, чтобы я ничего не заметил. Они будут маскироваться за брендами и музыкальными терминами, они пустят перед собой рекламные ролики и опытных промоутеров, они заполнят эфир старательно и умело, как мама в детстве заполняет сандвичами корзинку для выезда на природу. Я вряд ли замечу их работу, проснувшись однажды утром в полностью враждебном городе, с оккупированным их музыкой и агитацией воздухом, в котором не останется пространства для моих маневров, я даже не смогу вспомнить, как все выглядело раньше, до того как музыка начала вгонять меня в депрессию, а радиопозывные — вызывать боль в мышцах. Они сменят все — они сменят заставки к программам, они сменят голоса ведущих, они будут добавлять к общему звучанию с каждым разом больше пластика, с каждым разом больше пластилиновых заменителей, они будут убирать из музыки все лишние детали, все дополнительные функции, они будут мыть и чистить свою музыку, как тушу кита, они выскребут оттуда все горячие живые механизмы, на работу которых я всегда реагировал, и мне останется пустой тусклый шар, который будет висеть надо мной, холодно переливаясь синтетическим сиянием, будто настоящее солнце, будто горячее сердце, вырванное из груди храброго тинейджера.
Любовь к музыке антисистемна, и они это понимают, они понимают, что, максимально забив эфир и лишив меня возможности выбора, они смогут ожидать от меня нужных действий и прогнозированных решений. Зомбирование легче всего проводить на уровне ритма, тщательно и целенаправленно, при моем пассивном участии и номинальном присутствии, — они запускают свои рожки и волынки, и я обязательно должен присоединиться к большой системной сети переваривания музыкальных звуков, к сквозной, подкожной модели функционирования звука как агрессии, звука как формы моей психической зависимости, голоса как раздражителя всех болезненных, открытых и незащищенных участков моего тела; музыка — это более-менее ритмизированная угроза моей свободе, моему аппетиту и всем моим внутренним процессам, включая процесс пищеварения. Они знают мои слабые места, они следят за моими основными маршрутами; голосами и барабанным боем они загоняют меня в отведенные мне рамки, в приготовленные для меня заповедники, зная, что я скорее среагирую именно на голос их радиозаставок, чем на голос собственной памяти; для них самым худшим и самым опасным может быть только моя самоизоляция, изолирование от их радиоэфира, исключение себя из этой системы звукового кровообращения, они боятся потерять со мной связь, боятся не иметь ко мне доступа, они начинают паниковать, когда я закрываюсь дома, вырываю антенну из радио, перестаю реагировать на звонки в двери и стук в стены, включаю свою музыку и слушаю ее на максимальной громкости, даже не для того, чтобы лучше слышать, скорее для того, чтобы заглушить все остальное, все, чем пытаются наполнить мою голову, как реки водой. Они попробуют еще какое-то время достать меня, а вот хуй — мои дамбы скреплены моей лимфой, моими слюной и кровью, моя музыка давалась с боем, за каждый трек заплачена такая цена, что ни один динамик не сможет перекричать это многоголосие, не сможет перехрипеть мою золотую коллекцию, мою фонотеку, бифштекс моего джаза, пепел моих святых, моего нейла янга, моего дьявола.
3
Rolling Stones. Sister Morphine. Я сидел и слушал свои пластинки. Все время одни и те же пластинки. Я прокручивал их десятки раз, запиливая до дыр, через какое-то время они начинали трещать, иголка перескакивала с дорожки на дорожку, но я не обращал внимания — я не собирался слушать их всю жизнь, мне важно было поддерживать в себе этот постоянный шум именно сейчас — этим летом и в этом месте, куда я случайно попал. Я приехал к знакомому, он давно звал, говорил, приезжай, у нас тут речка, будем ходить на речку. Хорошо, говорил я, обязательно приеду. В какой-то момент я остался совершенно один, без бабок и каких-либо занятий, и подумал — действительно, почему бы не съездить, может, там и в самом деле есть какая-то речка. Я позвонил знакомому, я приеду, говорю, угу, ответил он, приезжай, на речку пойдем. Что привезти? спросил я на всякий случай — бабки заканчивались, и я рассчитывал, что он скажет «ничего». Ничего, сказал он, еду, сказал в свою очередь я и повесил трубку. Я взял с собою полный пакет пластинок. Относительно речки у меня были определенные сомнения, но без пластинок ехать не решился. Пассажиры потонувших трансатлантических пароходов, идя на дно в холодном океане, хватают, насколько можно понять из кино, детей, домашних животных и ювелирные изделия. Я схватил свою музыку, я уверенно и безвозвратно шел на дно и хотел в случае абсолютной неудачи держать в руках нечто соответствующее. Домашних животных у меня не было. Домашних животных я ненавидел, они вызывали у меня тревогу. Ювелирные изделия я видел только в том же самом кино. О детях речи не было. Я взял пластинки, сел в поезд и через пару часов вышел на перроне маленького солнечного городка.
Привет, обрадовался мне знакомый, что это ты привез? Это пластинки, ответил я. Знакомый разочарованно, но тщательно осмотрел мои пластинки и показал, где у него проигрыватель. Проигрыватель был страшный, но мои пластинки видели и не такое. Я не был фанатичным коллекционером, собственно, я не был коллекционером вообще. Я не дрожал над каждым диском, для меня главным было иметь ту или иную музыку, когда диск затирался до дыр, я выбрасывал его и шел покупать точно такой же. Я ставил на свои пластинки чашки с чаем, резал на них рыбу, сушил драп и записывал номера телефонов — музыка от этого не страдала. Я тоже. Я подошел к проигрывателю и поставил свою пластику.
Слушай, сказал мне знакомый на следующее утро, тут такая ситуация — должен съездить на несколько дней к маме. А как же речка? спросил я. Ну, ты оставайся, сказал знакомый, сходи на речку, живи тут, квартира свободна, а я через несколько дней вернусь. Хорошо, сказал я, я останусь. Договорились, успокоился он, только не утопись на этой чертовой речке, и не води сюда блядей!
Вечером я вышел за пивом. Она сидела на лавочке и пила колу. У нее была загорелая кожа, темные волосы и неумело крашеные ногти. Я вернулся домой и стал слушать свои пластинки.
Привет, сказал я ей на следующее утро, она сидела на той же лавочке и жевала резинку, пошли на речку. Ну да, ответила она, на себя посмотри. Я обиженно ушел. Вода была холодной. Я вернулся домой. Ее нигде не было.
Ну, что там? спросил знакомый. Все нормально, сказал я, как мама? Заебала меня мама, честно ответил знакомый, но нужно ей помочь. Побуду тут еще несколько дней. На речку ходишь? Хожу, соврал я. Смотри не утопись, посоветовал он. И с блядями там осторожно! Я осторожно, заверил я его. Я стоял возле окна и ждал, когда она появится. Она пришла часов в семь вечера. Я выбежал на лестницу и пошел вниз. Привет, снова сказал ей. Она сняла солнцезащитные очки в розовой оправе и внимательно посмотрела на меня. Мне стало неудобно. Давай вина выпьем, предложил я. Ты что — дурак? поинтересовалась она и пошла наверх. Я слышал, как она достала ключи и открыла двери. Ее двери были как раз напротив моих. Я поднялся домой и включил проигрыватель. Колонки глючили, звук все время пропадал, потом появлялся снова, потом снова исчезал. Такое впечатление, что это билось чье-то сердце.
Утром пошел дождь. Хорошо, подумал я, пойду на речку. Я вышел на лестницу. Она сидела под дверями и крутила в руках свои очки. Привет, сказал я. Она посмотрела на меня с ненавистью. Что случилось? спросил я. Двери изнутри закрылись, ответила она, а дома никого нет, сижу тут уже полчаса. Позвать надо было, сказал я и присел возле замка. Через двадцать минут я принес отвертку и сломал двери, она поблагодарила и закрылась изнутри на цепочку. Я пошел домой и той же самой отверткой принялся ремонтировать проигрыватель. Пластинки лежали на столе, как неотправленная корреспонденция.
Вечером она позвонила в двери. Привет, сказала она, можно к тебе? Давай, заходи, обрадовался я, хотя чего радоваться? У тебя всегда громко играет музыка, сказала она. Что, выключить? Да не, мне все равно. Ты с родителями тут живешь? спросил я. Я тут не живу, тут живет моя бабушка, я ее навещаю. А ты к кому-то приехал? Да, говорю, к другу, знаешь его? Знаю, сказала она, мудак редкостный. Внутренне я с нею не согласился. Тебе нравится такая музыка? снова спросила она. Да, говорю, нравится, но если хочешь, могу поставить что-то другое. Да мне все равно, сказала она. У тебя есть вино? Есть, говорю, только плохое. А что у тебя вообще есть хорошего?
Это Sticky Fingers, сказал я ей, когда вино уже заканчивалось, я слушаю его всегда, когда у меня хорошее настроение, мне от этой музыки хочется плакать. Угу, сказала она, на тебя это похоже. У тебя такой голос, сказала она мне, я когда впервые услышала, как ты говоришь, только ты не обижайся, подумала, что ты дебил. Это от простуды, сказал я, я просто простужен. Хочешь еще вина? Она кивнула.
После второй бутылки ей стало плохо, она быстро опьянела и все время молчала, потом сказала — мне плохо, я отвел ее в ванную и перевернул Sticky Fingers со стороны А на сторону В. Через полчаса я нашел ее в ванной, она умывалась, была мокрой и измученной и позволила себя целовать.
На ней было детское белье, белого цвета. Она долго не позволяла с себя ничего снимать, вместе с тем не отпуская меня ни на миг, даже чтобы перевернуть пластинку. Только не кончай в меня, попросила она потом. Что ты, сказал я, я не могу кончить под такую музыку, это то же самое, что кончать под мамину колыбельную. Дурак, сказала она. И не трогай мои волосы, запретила она, и вообще — не трогай меня. Она все время что-то мне запрещала, держась за меня и не отпуская ни на миг, даже, курва, чтобы переставить эту долбаную пластинку, этот ебаный Sticky Fingers, со стороны А на сторону В, пластинка давно доиграла до конца, моя музыка закончилась, я этого хотел как раз меньше всего, но пластинка только прокручивалась и скрипела на поворотах, наматывая на свои черные виниловые дорожки окружающую темноту, тоскливо и монотонно, и вот я не выдержал и, дотянувшись до проигрывателя, дернул иголку на себя. Иголка проехалась поверхностью Sticky Fingers’а, глубоко в нее зарываясь, ну и, собственно, все закончилось. Я потерял еще одну запись. Утром она заснула, но всего лишь на какое-то мгновение, проснулась и стала собирать свои детские вещи. Очки она надела на меня. Мир показался мне теплым и виниловым.
Потом я отвел ее домой, мы шли пустыми улицами, когда мимо нас проезжал случайный автомобиль, она отступала в тень, она не хотела, чтобы нас видели вместе. Мне было 17, ей было 14, она мне не верила, она думала, что я ее брошу. Так оно и случилось.
4
Creedence Clearwater Revival. Up Around the Bend. Нашего друга Романа отправили в экспедицию. Он был историком, раз в год, летом, они все ездили в экспедицию, жили в полевых условиях и пытались что-то выкопать. Обычно руководство старалось нашего друга в экспедицию не брать — уже в первые дни он выпивал все доступные ему запасы алкоголя и переходил на парфюмерию, но тут дела сложились совсем плохо, очевидно, копать вообще было некому, поэтому его тоже взяли. Он позвонил через неделю и попросил приехать на выходные. Хорошо, сказал я, жди нас на уикенд. Привезите хоть что-нибудь, попросил он в самом конце, хотя бы одеколона. Хорошо, сказал я, тебе какого? О чем я вообще говорю, подумал я, и на этом разговор закончился.
С весны до осени 92-го мы жили дружной веселой семьей. Мы уже тогда выглядели плохо, но нам это не мешало. Среди нас всех только Роман занимал нормальную социальную позицию, иначе говоря — у него была девушка. Девушка эта возникла у нас совершенно случайно, она нашла в свое время Романа где-то в городе, привезла его к нам домой и осталась с ним. Их семейная жизнь нас напрягала. Особенно нас напрягало, когда они начинали трахаться, как бы это правильно назвать — прямо у нас на глазах, наверное так, ну, именно так — прямо у нас на глазах, непринужденно и неутомимо, их любовь была долгой и грустной — для нас грустной, имеется в виду — мы все хотели девушку, но она принадлежала нашему другу. Началось лето.
Через знакомых гопников я брал спирт. Они не обязаны были мне помогать, по определению, мы — не были друзьями, но часто коммерция — первый шаг к нормальным мужским отношениям, я им опять заплатил и получил три литровых бутылки чистого спирта рояль по смешным расценкам, мне всегда нравился демпинг, он оправдывал в моих глазах существование капиталистической модели как таковой, это был именно тот случай.
Дорога была летней и веселой, все три часа в пустом вагоне, за окном которого становилось все больше солнца и зелени, мы кричали и доставали друг друга, рассматривали разморенные жарой вокзалы и ходили из тамбура в тамбур в поисках табака и тишины. Девушка ехала с нами, она всю дорогу молчала, несколько настороженно улыбалась, ее мы доставали больше всего. Она не выдержала, вытащила из рюкзака плеер и выпала из разговора. Что ты слушаешь? спросил я ее, когда все побежали за папиросами. Что? не услышала она. Что ты слушаешь? громко повторил я. Она сняла наушники и надела их на меня. Криденс? спросил я, где ты взяла? У вас нашла, в чьих-то джинсах. Ты лазишь по нашим джинсам? не поверил я. Ну, вы же таскаете постоянно мое белье. Ладно, не обижайся, сказал я. Соскучилась по Роману? Соскучилась, ответила она. Он тоже по тебе соскучился, заверил я ее и осторожно переложил наверх пакет со спиртом.
Экспедиция находилась над берегом реки, берег резко обрывался, река лежала внизу, панорама с берега открывалась серьезная — до горизонта тянулись луга и различные затоки, а непосредственно на горизонте стояла какая-то электростанция. Светило солнце, и меньше всего в этой ситуации хотелось копать. Экспедиция жила в нескольких деревянных домах, в центре была кухня, на сосне висел репродуктор. Мы нашли Романа. Он увидел свою девушку, подошел к ней и долго что-то ей говорил. Выглядел он уставшим.
Начальник экспедиции отнесся к нам настороженно. Кто это? спросил он у Романа. Мои друзья, ответил тот. Историки? спросил начальник. Историки, заверили мы. Нумизматы, добавил я зачем-то. Ладно, начальник сразу потерял к нам интерес и повернулся к своему заместителю, уже полпервого, я в город, давай организовывай обед, и на вторую смену. Он сел в служебный автобус и поехал. Историки накрыли стол. Пригласили нас. Мы достали бутылку спирта и вылили ее в компот.
На вторую смену экспедиция не вышла. Зато историки принесли вторую кастрюлю компота. Мы, в свою очередь, достали еще спирт. Где-то в шесть вечера, когда обед набирал обороты, историки достали велосипед и поехали на ближайшие хутора за самогоном. Их не было минут сорок, все напряженно ждали, даже выключили музыку, которая все время гремела в лесной чаще, и включили зачем-то радио, как будто по радио могли сообщить что-то о судьбе наших друзей. Ровно через сорок минут послышались веселые переливы велосипедного звонка — заместитель начальника сидел за рулем и крутил педали, на багажнике сидел завхоз и крепко держал в каждой руке по банке самогона. У историков началась эйфория, радио выключили. В девять вечера появился лесник. Его пригласили к столу, он поблагодарил, сел. Плохие новости, сказал он, перебивая пьяные голоса историков. На соседней базе гуляют охотники, сообщил он, это прозвучало так, словно на соседней базе началась великая отечественная война. Они еще не в таком состоянии, как вы, продолжил лесник, выпив, но свое дело знают. Им кто-то сказал, что вы тут, так что ждите гостей. У них что, спросил я, есть оружие? Нет, ответил лесник, оружия у них нет, и водка у них заканчивается. Какие же они охотники? сказал кто-то. Они пьяные охотники, ответил лесник, я так думаю, что их на какое-то время задержат болота, там есть болота, а потом уже сами смотрите, я вас предупредил. Мы налили ему компота.
Еще через час, уже по темноте, заместитель решил снова ехать за самогоном. Его долго отговаривали, он не послушался, сел на велосипед, сделал круг по лагерю и свалился в раскопки. Все бросились его вытаскивать. Потом историки разбрелись по домам пить одеколон, среди ночи еще раз приходил лесник, сказал, что охотников, очевидно, не будет — застряли на болотах, достал еще бутылку, и мы долго сидели с ним за пустым столом, в домах громко пели историки, над столом горел яркий свет, лес был темным и полным призраков, лето приближалось к своей середине.
Под утро я пошел искать кровать. Стояла тишина. Лагерь был разгромлен, о компоте больно было даже думать. Я подошел к ближайшему дому и заглянул в окно — на спальнике лежал Роман со своей девушкой. Я долго стоял возле окна, вдруг она повернулась и посмотрела на меня внимательно и сосредоточенно. Колючее армейское одеяло спадало с ее плеч, но она даже не прикрывалась, смотрела на меня долго и спокойно, словно видела меня во сне. В тот момент я больше всего и хотел, чтобы она видела меня во сне. Вдруг воздух пронзил чей-то хрип, я вздрогнул, динамик просто взорвался, криденс, сразу узнал я, это же наш криденс, музыка, которую она вытащила из наших карманов, — заместитель начальника проснулся и отчаянно пытался восстановить состояние приподнятости и эйфории, которое еще несколько часов назад царило в лагере и которое еще до сих пор переполняло его сознание и горло. Он зашел в радиорубку, нашел там кассету нашей девушки и врубил, вообще-то, в этой ситуации он мог слушать что угодно, но судьба подбросила ему именно криденс, он добавил громкости и сел за длинный пустой стол, что стоял посреди леса, и один, один на весь лес, ну, если не считать меня и охотников, если они выжили конечно, слушал этот дикий утренний криденс, который разрывал динамик и наши головы, но не мог ни до кого, кроме нас с ним, докричаться, в общем, как всегда — тишина объединяет нас всех, тишина держит нас вместе, и только время от времени, случайно, диким и хриплым мужским голосам удается вырвать кого-то из нас наружу, из кругов, очерченных для нас смертью и забвением, и тот, кому удается хотя бы один раз из этих кругов вырваться и оказаться среди слепящего звука, посреди крика смертельно раненных, слабых и вечно накачанных чем-то мужчин, летним утром, между влажных деревьев, понимает, как на самом деле много значит его одиночество, его напряженный слух и неразделенная любовь. Я достал заначенную бутылку спирта и сел за стол.
В это время она отвернулась от окна, осторожно убрала руку Романа, все еще чувствуя на своем теле ее тепло, завернулась с головой в армейское одеяло и попыталась заснуть. Даже не знаю, что ей снилось.
5
Buddy Guy. Done Got Old. Эта история про радио, она не дает мне покоя. Я снова и снова к ней возвращаюсь. Что он говорил о деятельности этой радиостанции? Он лично каждый год перечислял деньги на их счет, немного, баксов сто-двести. Сколько их таких было — засекреченных, которые финансировали общий и открытый для всех радиоэфир? Можно примерно посчитать — с лицензией, арендой, налогами, техническими затратами, — сколько нужно в год для жизнедеятельности такой станции, сколько в одном городе должно жить подпольных и безымянных героев с безупречным художественным вкусом, способных понять, что за собственное аудиопространство — даже не так, за собственное пространство — нужно бороться, его нужно выдирать из вражеских рук, из чужих динамиков, за него нужно башлять, живыми бабками, из своих личных сбережений, иначе его обязательно выкупит кто-то другой, а ты между тем утратишь еще один кусок своей территории, еще один из каналов поступления музыки, дыма, дождя. У такой анонимности — все признаки церкви, какой-нибудь раннехристианской секты, которая функционирует на коммунистических началах: с полным отказом от посредников, с обостренным чувством принадлежности к идеальному радио, которое формируется благодаря твоему непосредственному участию, которое для твоего участия и было придумано. Ты платишь двести баксов и получаешь эту музыку, ты знаешь, что таких как ты в этом городе, на этих улицах достаточно большое количество, ты не знаешь лично ни одного из них, но если и на следующий год твоя станция продолжает работать, значит, они и дальше остаются рядом с тобой — твои братья и сестры, которые поддерживают тебя в твоем великом противостоянии неизвестно кому.
Каким должно быть идеальное радио? Как любая коммунистическая модель, как любая структура, связанная с понятием веры и религии, идеальное радио требует абсолютной простоты. Идеальное радио вряд ли долго протянет в густом, набитом коммерческим попсом эфире мегаполисов, все равно не получится договориться со спонсорами, эти фашисты задавят его форматом, оттрахают за каждый вложенный ими цент, так что придется до конца жизни отрабатывать инвестиции, которые они предоставят, понимая под коммунизмом бесплатные блоки рекламы. Идеальное радио вряд ли сможет долго продержаться за счет добровольных взносов, рано или поздно каждая добрая христианская душа теряет остатки терпения и самаритянства и подается на луга, где трава более изумрудная и сочная, а налоги низкие и отрегулированные. Должен существовать другой механизм.
Когда ко мне придут неофиты, группа неофитов, не отягощенных общими обязанностями и ритуалами, когда они ко мне придут и скажут — чувак, мы не можем дальше так жить, нужно что-то менять, чувак, давай, например, сделаем идеальное радио, сделай нам радио, чувак, мы поддержим тебя, я поступлю примерно таким образом — я выведу их на абсолютно нетронутые территории, я уверен, что такие территории еще существуют, нужно их только хорошо поискать, я буду вести их сорок лет, приманивая при помощи портативного транзистора на батарейках, чтобы они все время понимали, от чего именно мы бежим, от чего мы вместе с ними хотим избавиться, и вот когда Господь обломается подавать нам ориентиры и спасать нас при помощи манны небесной и прочей гуманитарки и освободит наконец для нас кусок воздуха, когда наш траханый транзистор однажды замолчит, не в состоянии поймать что бы то ни было, я скажу — это здесь, братья и сестры, мы пришли, разжигайте огонь, доставайте консервы.
Все большая изолированность, все более сильная отчужденность, все более глубокие разломы в воздухе, раз от раза все меньше собеседников, раз от раза все более откровенное игнорирование со стороны давних знакомых; коммуникация — жестокая и неблагодарная штука, которая теряет свою актуальность, которой уже никто не может научить, выбирайся сам из этой пустой черной шахты, из этих тесных и запаянных снаружи канализационных люков, в которые тебя загнали время и твои попытки сквозь него протиснуться. По какому принципу, по каким незаметным на первый взгляд признакам ты отыскиваешь единомышленников, потенциальных братьев и сестер, которые пока что не догадываются о твоем существовании? Может ли таким принципом быть принцип отбора музыкальных треков, громкость их прослушивания, степень зависимости от них? Очевидно, может. В этом есть свой достаточно убедительный механизм — мы слушаем с тобой одну музыку, наша с тобой зависимость развивается в общем направлении, нам с тобой пропишут одни и те же лекарства, мы с тобой разочаруемся в тех же самых героях, для нас с тобой все закончится в равной мере печально, и главное, что никто этого даже не заметит, не обращая внимания и не придавая особого значения нашим с тобой музыкальным пристрастиям. А зря.
Идеальное радио может быть формой жизни общества. Или церковной жизни, что, в общем, много в чем совпадает с жизнью общества. У общества свой формат, у общества достаточное количество приемников дома, общество слушается постоянно обкуренных диджеев, которые используют глубокие разломы в воздухе для прохождения в другую геометрию, с лучшей музыкой; то, что нас с тобой разъединяет, что лишает нас с тобой всякой надежды, для них лишь дополнительная возможность выскользнуть из окружающего ландшафта, пробежаться по узкой и опасной дорожке, которая тянется в черной пустоте их памяти и воображения, пройтись по натянутому канату, под оранжевыми и сиреневыми солнцами, которые мы не можем видеть даже во сне и которые для них нечто настолько обычное и естественное, как косметика или метрополитен. Они возвращаются сквозь разорванный воздух к обществу, которое ждет их, поскольку не может долго протянуть без своей музыки, без своего коммунистического радио, которое его объединяет и отдаляет от остального мира, избирается им и делает его избранным. Диджеи надевают наушники, подключаются к единой звуковой сети и начинают внимательно — шаг за шагом, минута за минутой — прослушивать Небеса над собой, вслушиваясь напряженно в их перетекание и дыхание, касаясь осторожно длинными сухими пальцами, что пахнут кровью и марихуаной, небесной поверхности, проводя ладонями по небесной обшивке — выпуклой и твердой, словно живот беременного животного, постепенно приближаясь к эрогенным небесным зонам, вокруг которых и формируется музыка, создаются самые лучшие и самые прозрачные радиоволны, радиоволны, в которых так нуждается общество, без которых задыхаются в своих теплых и запыленных комнатах их братья и сестры, их дети с черными татуировками на предплечьях и их родители с искусственными клапанами в сердцах; они не могут ошибиться в своих поисках, они ищут музыку, словно подземные источники, чтобы общество не умерло от обезвоживания своих организмов, потому что музыка делает их организмы и их тела влажными и пластичными, как молодая капуста, из их тел после этого можно делать музыкальные инструменты, но кто бы взял эти инструменты в руки, кто бы сумел их настроить?
Однако снаружи это выглядит примерно таким образом — радиостанция определяется со своим форматом, подключает спонсоров и запускает мощную промокампанию. Постепенно у нее появляются постоянные слушатели, постепенно ее ведущих начинают узнавать по голосу и приглашать на разные ток-шоу. Станцию все чаще слушают водители такси и продавцы в уличных киосках. Не догадываясь о количестве таких же слушателей, как они, и более того — просто об этом не думая, сообщники платят каждый год определенную сумму на существование своего любимого радио, не заботясь об общих концепциях, часто даже не зная, что их любимые диджеи живут с ними в одном подъезде; они просто включают радио и сразу же подсоединяются к Беременному Животному Неба, впуская в свое жилище его нервное дыхание и думая, что это и есть Бадди Гай, да-да, именно это и есть Бадди Гай.
6
Lou Reed. Berlin. У меня появилась странная знакомая. Где-то нашла мой электронный адрес и написала письмо. Там было всего несколько строк, привет, писала она, я прочитала твою книгу. Мне тоже нравится Берлин. А еще я люблю серфинг. Странно, подумал я, где она нашла мой адрес? Привет, ответил я ей, ты что — правда занимаешься серфингом? Нет, написала она, я не это имела в виду, я им не занимаюсь, я его просто люблю. А ты что любишь? В таком случае, ответил я, я люблю онанизм. На несколько дней она исчезла.
С тобой было когда-нибудь такое, писала она в следующем письме, что твои самые близкие друзья вдруг переставали тебя понимать. Вдруг? не понял я, нет — такого не было. А что случилось? спросил я, поссорилась с друзьями в школе? Да, написала она, поссорилась. Ну, не переживай, писал я ей, все будет нормально. Что вы там могли не поделить? Школьные завтраки? Какие школьные завтраки? оскорбилась она, я в колледже учусь. Ну так помиритесь еще, успокоил я ее, завтра пойдешь в школу, то есть в колледж, и помиритесь. Ты не понял, писала она, в школе, то есть в колледже, у меня все нормально, и у них тоже все нормально, они дома какие-то странные, утром не разговаривают, ссорятся все время. Утром это где? не понял я, в колледже? Да что ты прицепился к этому колледжу, ответила она, утром — это утром, когда мы просыпаемся и идем на кухню пить кофе. Погоди, переспросил я, вы что — вместе пьете кофе, то есть вы что — вместе живете? Ну да, ответила она, я же тебе писала — это самые близкие друзья. Мы вместе спим. Ага, сказал я, прости — а сколько у тебя самых близких друзей? Двое, ответила она. Ну, и я третья. А что говорят ваши родители? Родители ничего не говорят, родителей устраивает, что мы хорошо учимся и поддерживаем друг друга. Ага, сказал я, поддерживаете. Да, написала она, поддерживаем. Я их обоих очень люблю. И они меня тоже, кажется, любят. В каком смысле? поинтересовался я. В хорошем смысле, ответила она. Это очень удобно — жить втроем, они меня поддерживают, я им помогаю. Несколько месяцев назад я даже забеременела, но потом потеряла ребенка, в принципе оно и к лучшему — я не знала, от кого именно забеременела, не совсем удобно было. Ну да, согласился я, — когда не знаешь, от кого именно, это не совсем удобно. Ну, и что у вас произошло? — мне уже было интересно. Не знаю, писала она, что-то изменилось за последнее время, собственно, с одним из них, с Олегом. Они на самом деле очень разные — один занимается математикой, другой, собственно Олег, — спортом, волейболом, играет за сборную колледжа, его уже приглашают в университетскую команду, думаю, у него не будет проблем с поступлением. И что изменилось? Собственно, я сама не понимаю что, Олег изменился. Мы стали ему мешать, он все время старается где-то задержаться или, наоборот — раньше уйти из дома, мы и дальше живем вместе, спим вместе, но я чувствую, что все не так, как было раньше, что-то изменилось, и изменилось, собственно, с ним, этот его волейбол. Ты любишь волейбол? Нет, ответил я, терпеть не могу. Я тоже, я серфинг люблю. Ты писала, напомнил я. Да? Ну ладно, и вот — он все портит, не знаю, зачем он это делает, может, он не нарочно, но он все портит, я очень переживаю по этому поводу. Может, он к чемпионату готовится, попытался я ее утешить. Нет, чемпионат уже закончился, тут дело не в волейболе, тут дело совсем в другом, понимаешь, это такое странное ощущение, что от тебя отрывают часть тебя самого, речь даже не о сексе, хотя мне с ними хорошо в постели, собственно, мне хорошо, когда я с ними обоими в постели, но дело не в этом, дело в том, что нам всем теперь плохо, и ему, ему тоже плохо, возможно даже, ему хуже всех, но он этого не показывает, понимаешь, он не хочет, чтобы мы видели, что ему плохо, он убегает каждое утро из дома и до вечера играет в свой волейбол, хотя чемпионат уже давно закончился, я просто не знаю, что делать, как ты думаешь? А тот, второй, спросил я, что он? Второй? Второй мучается от всего этого, сидит целыми днями на кухне, пьет кофе с молоком и слушает музыку. А что он слушает? спросил я. Что? по-моему, велвет андеграунд, да — велвет андеграунд. И Лу Рида. Сидит целыми днями и слушает Лу Рида. Ужасно, с тобой было когда-нибудь такое? Нет, ответил я, такого со мной не было, я не люблю кофе с молоком. А Лу Рида ты любишь? Лу Рида люблю, ответил я, а кофе с молоком — не люблю, понимаешь? Понимаю, ответила она, и что мне делать? Слушай, а они, ну, эти твои друзья, они не пидоры? Нет, ответила она — точно не пидоры, я всегда спала между ними, они со мной такое делали, хочешь напишу? Не хочу, ответил я, лучше напиши про серфинг. И вообще, кажется, у вас проблема, кажется, этот ваш волейболист решил вас бросить, похоже, ему не нравится групповой секс. Как же так? спросила она, раньше нравился. Не знаю, ответил я, возможно, он вас использовал, возможно, он вырос и не хочет тебя еще с кем-то делить, а может быть, он все же пидор и ему все это просто не интересно. Ты не думала об этом? Не думала — честно созналась она. Подумай, посоветовал я и заблокировал адрес.
Слабак он, подумал я, на самом деле, просто слабак, этот их мажор, звезда колледжа, он просто обломался жить настоящей безумной жизнью, спать в одной постели с двумя такими же извращенными и мужественными в своем извращении друзьями, которые делили с ним презервативы и кофе с молоком, которые засыпали, дыша с ним в унисон, как с настоящим братом по оружию, братом по любви, братом по кровяным сгусткам и потовым железам. Очень легко отказаться от искушения идти наперекор принятому поведению и вместо искривленной, болезненной и сладкой коллективной любви выбрать стерилизованный коллективный спорт, в нашем конкретном случае волейбол, ясно, что так проще, вместо того чтобы спать со своей шестнадцатилетней подружкой, покупать ей противозачаточные таблетки и мыть ей утром волосы, куда проще поступить в университет без экзаменов, подвязать благополучно со своим волейболом, превратиться в среднестатистического представителя фашистского гражданского общества и всю свою дальнейшую жизнь дрочить на глянцевые журналы, так проще, ясное дело, большинство именно это и выбирают, именно такое жизненное поведение почему-то до сих пор считается нормальным, она в итоге тоже — поплачет-поплачет, но экзамены сдаст нормально, поступит в университет, выйдет замуж, будет работать в офисе, родит все же своих детей, без малейших сомнений, от кого именно она их родила, желая, чтобы они были, эти сомнения, но, к величайшему сожалению, их у нее совершенно не будет.
Единственный, кто мог из этой ситуации выйти с честью, это чувак на кухне, тот, который слушал Лу Рида. Его я понимал, я б в этой ситуации тоже слушал Лу Рида, старый пидор Лу Рид мог как никто другой рассказать, насколько безнадежными бывают обстоятельства вокруг нас, мог объяснить, как выжить и не впадать в отчаяние, когда теряешь друзей, когда твои друзья не выдерживают твоего бытового драйва, не выдерживают того темпа, который ты задаешь, не вытягивают до уровня твоей оторванности и асоциальности, соскакивают на ходу с подножки вагона, который ты перед этим долго и настойчиво разгонял. Его, этого чувака, который пил от безысходности кофе с молоком, как раз и можно было понять — хуже всего, когда человек, которого ты считал братом по разуму и по безумию, оказывается слабаком, не выдерживает давления со стороны нормального взрослого мира, подстраивается под него и вместо того, чтобы на пару с тобой весело трахать каждую ночь вашу общую подружку, сидит в пропитанной подростковым потом раздевалке и слушает дебильные рассказы своих ровесников, которые совсем ничего не знают о темных и самых интересных сторонах этой жизни, об аморальной изнурительной подростковой любви, которой он так стыдится и от которой так настойчиво пытается избавиться, а избавившись, долго сидит в пустой комнате, даже не замечая, что вместе с аморалкой исчезла его способность доверять другим, что система умело и просчитанно использовала его мышцы и легкие, что жизнь выглядит гораздо привлекательней, когда начинаешь ее изменять под себя, что все одноклассники давно его оставили, одного в раздевалке, что чемпионат, который казался ему таким важным, давно закончился, а он так и не стал чемпионом, и уже никогда-никогда им не станет.
7
George Harrison. Hear Me Lord. Мой опыт общения с буддизмом оборвался вместе с поражением украинской революции 2001 года. Вещи между собой не связанные, следует признать — даже представить себе не могу великую октябрьскую буддистскую революцию, — просто так случайно произошло, что в то самое время, когда немногочисленные и разрозненные революционные массы как-то пытались справиться с антинародным режимом, где-то совсем рядом, случайно, повторюсь, время от времени появлялись буддисты; для меня те события так и остались в памяти с сильным буддистским акцентом. Так случилось, что в 2000-м я познакомился с харьковской общиной буддистов. Мы делали антивоенный концерт, тогда как раз началась вторая чеченская, и тут пришли представители общины буддистов. Они пришли пестрым оранжево-красным пионерским отрядом, держась сообща и стараясь не отставать друг от друга. Как у настоящего пионерского отряда, у них были барабаны, в которые они били длинными деревянными палочками, создавая шум и хаос и распугивая на своем пути недоверчивую харьковскую публику. Узнав о нашем концерте, буддисты решили нас поддержать, сказали, что тоже против войны, предложили свои услуги и показали фото своего гуру, который жил где-то в Тибете, но время от времени катался по миру и боролся за ойкумену. В Украину гуру пускать не хотели, буддистов это изрядно огорчало, они усматривали в этом проявление режима, так оно, что хуже всего, и было. А чем вы можете помочь? спросили мы буддистов. Мы можем прийти, ответили буддисты, и прочитать молитву за мир. А что за молитва? Буддисты быстро выстроились в шеренгу, достали свои пионерские барабаны и хором закамлали. Молитва за мир была на русском и отличалась большим количеством риторических обращений и обобщений. В целом молитва напоминала текст присяги бойца советской армии — мол, перед лицом товарищей по буддизму обязуюсь бороться за мир и бережно относиться к предоставленной мне в пользование военной технике. Держались они, как я уже сказал, группой, каждый отдельно оставлял довольно неоднозначное впечатление, поодиночке они были похожи на молодых зеков, которых одели в оранжевые платья и заставили камлать молитву за мир. В их глазах религиозный огонь отдавал розовыми отблесками шизофрении. Мне они нравились.
Перед концертом ко мне подошел представитель этого самого антинародного режима, который у них там, в антинародном режиме, отвечал за работу с религиозными общинами. У вас что, будут буддисты? строго спросил он. Да, будут, ответил я. Что будут делать? Будут камлать, ответил я, то есть читать молитву за мир. Ага, сказал он озабоченно, за мир. А можно получить текст молитвы? Послушайте, сказал я ему, а вы, скажем, перед пасхой тоже требуете от православной церкви текст молитв, типа там чтобы убедиться, что Христос воскрес и никаких сюрпризов в этом году ожидать не следует. Знаете, он решил изменить тактику и доверчиво ко мне приблизился, я вас не понимаю: вот вы боретесь с антинародным режимом, то есть с нами — его голос звучал тепло и приглушенно, сука гэбэшная, где они этому учатся, — но зачем вам буддисты? Ну, как зачем, я попытался отодвинуться, они за мир. Ну, я, допустим, тоже за мир, сказал он. Но вы же не камлаете? возразил я. Все равно, я вас не понимаю, продолжил он. Вот вы их приглашаете, а с них бабки надо сбивать, пусть платят, уроды, знаете, сколько у них бабок? Не знаю, признался я. Чувак сокрушенно покачал головой, из чего я понял, что бабок у них дохуя.
Странно, подумал я, — похоже, он не любит представителей буддистской общины, как он, интересно, работает с другими общинами, может, он их тоже не любит? Может, он атеист? Или еще хуже — представитель какого-нибудь сатанинского культа, может, его назначили главным по работе с религиозными общинами с учетом его сатанинского прошлого, подумали — у нас и без религиозных общин дел по горло, в нашем антинародном режиме, так что поручим это дело заслуженному сатанисту, он-то им точно даст просраться, всем этим масонам. Так что, получив карт-бланш, он решительно приступил к работе, каждое утро приходил в свой кабинет с медной табличкой «Комитет по работе с религиозными общинами», где на столе лежали учебники по оккультизму и сатанинская библия, и начинал прием представителей различных общин. Оставшись в кабинете наедине с очередным адвентистом седьмого дня, он наваливался на беззащитную жертву, связывал ее по рукам и ногам и совершал над ее телом различные ритуальные действа с профилактической, так сказать, целью. Жертва кричала от ужаса, представители других религиозных общин, которые сидели в коридоре на стульях и ждали своей очереди, нервно передергивали плечами, у последнего посетителя он вырывал печень и сердце, клал их в большой полиэтиленовый пакет из супермаркета и с чувством выполненного долга шел домой. А милиционеры на вахте отдавали ему честь и с уважением говорили — снова Иван Михайлович халтурку домой понес.
Откамлав, буддисты выстроились в колонну и удовлетворенно пошли домой. За ними еще долго тянулся отзвук барабанного боя.
Летом следующего года они снова появились и пригласили меня в гости. Революция потерпела поражение, реакция праздновала полную и безоговорочную победу, одно говно вокруг, все ублюдки, все продались антинародному режиму с его комитетчиками и сатанистами, друзья поразбежались, лето было долгим, а осень была уже где-то рядом, где-то совсем рядом. Они позвонили и сказали, что открывают ступу мира, пригласили на открытие. Ага, подумал я, вот кто не обломался, вот кто стойкий и непоколебимый, вот чей шиз не может убить никакой режим, даже такой антинародный, как наш. Мне понравилось словосочетание ступа мира, и я поехал на ее открытие.
То, что они жили в пионерском лагере, меня совсем не удивило, все правильно, подумал я, все верно — где же им еще жить, как не в пионерском лагере, они так напоминают пионерский отряд, пионерскую дружину имени верхней чакры. Лагерь находился на территории харьковского лесопарка, при совке он принадлежал какому-то заводу, теперь завод обанкротился, лагерь развалился и его захватили буддисты. Захватили и попробовали там окопаться. Антинародный режим, а главным образом знакомый уже нам сатанист Иван Михайлович, повели с ними решительную борьбу, пытаясь выбить их с территории пионерского лагеря в густой сосновый лес или вообще на территорию дружественной нам российской федерации. Буддисты держались стойко, а для крепости духа соорудили на территории пионерского лагеря ступу мира и пригласили на ее открытие представителей сми и дружественных организаций. Я, так получалось, был представителем дружественной организации, хотя я и сам не знал — какой именно.
От шоссе в глубь леса тянулась песчаная дорожка. Я сошел с автобуса и печально стал осматриваться, интересно, думаю, где же ступа? Из леса послышался бодрый барабанный рокот, ага, сказал я себе.
Ступа была сооружена на спортивной площадке и напоминала афишную тумбу около двух метров высотой и у меня лично с миром не ассоциировалась. Ну да ладно. Вокруг ступы стояли друзья-буддисты, с барабанами наготове, около них сновали представители сми, поодаль бдительно за всем наблюдали представители дружественных организаций. Два зековатых буддиста увидели меня и радостно подошли, добрый день, сказали, мир вам, это прозвучало как хуй вам, спасибо, говорю, хорошо, что вы пришли, сейчас начнем. Главный буддист, их, скажем так, пионервожатый, взмахнул рукой, и буддисты закамлали. Камлали они долго и вдохновенно, с любовью глядя на свою тумбу. Минут через пятнадцать замолчали. А теперь, сказал пионервожатый, давайте все станем в круг и произнесем молитву за мир. Представители дружественных организаций обреченно потащились к ступе. Прикольная ступа, подумал я и пошел назад на шоссе. Думаю, бабок у них все-таки не было.
8
The Stooges. Real Cool Time. Откуда они берутся и куда потом исчезают? Кто контролирует их движение? Что их поддерживает в этой жизни? Нужно быть монстром, чтобы выдерживать это каждодневное давление со стороны жлобского общества, со стороны кровавой каждодневной жизни, в которую они никак не попадают, словно музыканты-новички в печальную мелодию похоронного оркестра. Эти буддисты, которые верят, что, соорудив посреди пионерского лагеря афишную тумбу, они стали ближе к своему невъездному гуру, ближе к своему поднебесному Будде, что должно было с ними произойти перед тем, как они согласились надеть на себя оранжевые платья и взять в руки пионерские барабаны? Не знаю, возможно, к каждому из них действительно приходил во сне поднебесный Будда и что-то им нашептывал, склоняясь над заслюнявленной подушкой, возможно, им действительно случалось среди уличного потока или в сумерках парка увидеть его мешковатую подростковую фигуру, возможно, они действительно распознавали его по каким-то еле заметным движениям или по голосу, ведь что-то должно было их вырвать из бесконечного навязчивого потока, в котором они медленно и неумолимо двигались в сторону смерти — ужасной бытовой смерти, которая не оставляет шансов и времени на раздумья, что-то их вынудило попробовать перейти улицу в неположенном месте, а главное даже не это — кто-то научил их, что неположенных мест нет, по крайней мере — на этой улице.
Джордж Харрисон, которому много кто верил и который никого не предал, никого не сдал, Джордж Харрисон увлеченно пел гимны и мантры, камлал как мог про мир и ойкумену, приятельствовал с различными шарлатанами, объяснял, что все религиозные общины это выдумка, так что нечего париться, люби ближнего своего, люби своего Будду и не мешай другим любить их Будду, но разве достаточно было его слова, чтобы остановиться и перейти-таки эту улицу в неположенном месте? Я в этом сомневаюсь. Харрисон, конечно, прикольный чувак, относительно Будды это он, ясное дело, верно подметил, но я лично вряд ли повелся бы на все это пацифистское фуфло, у искусства нет силы изменить твою биографию, биографию меняют руки куда более жестокие и умелые. Возможно, это — руки самого Будды.
Поднебесный Будда, пионер-ветеран, который уже добрый десяток лет живет в разгромленном пионерском лагере под Харьковом, ночует в пустой радиорубке на картонных коробках, раз в неделю выбирается в город и питается полуфабрикатами из супермаркета, вечно молодой скаут с бритым черепом, который приходит по ночам под твои окна, который ищет себе друзей и последователей, нашептывая им ночью — нет никого, кроме тебя, нет никаких условностей, никакой морали, только ты и твоя совесть, только ты и твое сердце, которое бьется так, как ты ему прикажешь, нет никакого социума, никакого режима, никаких комитетов и прессы, никакой власти и безвластия, никаких преград и никакой цели — только твоя совесть, только твой член и твое сердце, только твой бритый череп и твой голос, которым ты будешь говорить все, что захочется, все, что ты будешь считать нужным. Что подрывает сотни и тысячи представителей нашего с тобой общества, что делает их, непохожих на нас с тобою, непохожими друг на друга? Они сами не осознают, насколько близка и досягаема для них эта граница, по которой жизнь переходит в смерть, ведь если бы дело было только в буддизме или духовной жизни общины, хуй бы они выдержали столько времени в пустом пионерском лагере, на чае с макаронами, хуй бы они продержались на враждебных к ним улицах со своими дурацкими барабанами и своими отстойными молитвами. Дело в том огне, который выжигает изнутри их бритые черепа, так же как и черепа и легкие тысяч, десятков тысяч других сумасшедших в этом обществе — лузеров, аутсайдеров, банкротов, неудачников, членов религиозных сект и радикальных партий, приверженцев вуду и восточных обрядов, проникшихся идеями фашизма и реваншизма, влюбленных в поп-звезд фанатов и агрессивно настроенных компьютерных маньяков, правых, хронически больных, социально неадаптированных, национально несознательных, морально нестойких, навеки проклятых.
Важна не вера, важна не религия, не их социальный статус или их психическая неуравновешенность. Важна жизнь, наполненная этими персонажами, важна способность узнавать их, узнавать, понимать и поддерживать, признавая за ними непосредственное превосходство в таких вопросах, как честность, преданность и непродажность. Попробуй вспомнить все, что было с тобой в твоей жизни, попробуй припомнить всех, кто встречался на твоем пути, попробуй воспроизвести все разговоры и рассказы, названия всех городов и марки всех автомобилей, мелодии всех радиостанций и раскадровку всех кинофильмов — жизнь держится и движется именно благодаря их неправильным поступкам, благодаря их непрогнозированным движениям, они своими пальцами со следами ожогов и татуировок счищают с грубой затвердевшей поверхности жизни, словно со старой афишной тумбы, все напластования и все говно, которым эта жизнь обрастает, они не дают ей окончательно затвердеть и отмереть, они сдирают своими желтыми от табака и пороха ногтями старую больную чешую с жирных боков жизни, они бьют своими злыми кулаками ей по ребрам и почкам, они кричат ей — давай, двигайся, поднимай свою жирную задницу, даже не думай о покое, забудь о безмятежной старости, пока есть мы, пока есть наша музыка, пока есть наши сердца и наши члены, мы не дадим тебе опухнуть в тишине и покое, мы каждое утро будем сдирать с тебя все напластования, будем смывать с тебя все говно, всю коросту, всю грязь и старую масляную краску, и пусть нас сколько угодно считают лузерами, пусть с нами сколько угодно борется комитет по работе с религиозными общинами, пусть никто не понимает нашего отчаянного камлания — мы все равно будем переходить улицу в неположенном месте, потому что мы, как никто другой, знаем точно и наверняка — что на этой улице, как и на любой другой, неположенных мест просто нет!
Я помню, как впервые услышал эти записи, мой дядя-меломан забросил мне несколько их дисков, таких дисков не было ни у кого из моих друзей и знакомых, такие диски в той стране слушали только такие сумасшедшие меломаны, как мой дядя. Я помню тот шок, который я ощутил, впервые прослушав эти записи, я не знал, кто такой этот Игги Поп, но я понимал, что его диски попали ко мне не зря. Все мое детство укладывается в моей памяти в один пронзительный и щемящий летний день, оно напоминает долгий и нежный секс длинной в десять лет, по тому сексу, по тем воспоминаниям я узнаю запах мебели, запах ковров, запах черешен, запах теплой летней воды, запах бензина и запах растаявшего пломбира, я узнаю яркий цвет одежды, отблески автомобильного стекла, тень от утренней влажной зелени, от высоких холодных деревьев, которые были старше меня, которым довелось родиться раньше меня и, соответственно, умереть тоже раньше, я помню голоса за окном, помню шум автомобильных колес по теплому песку, помню звук, с которым осыпались яблоки и слетали с веток птицы, я помню все, я помню тишину своей комнаты, летнюю размеренную тишину, которую ничто не могло сдвинуть с места, такая она была густая и настоянная, я хорошо, очень хорошо, до давления в висках, до хруста пальцев, до радостного сердцебиения помню, как в этой тишине, раскалывая ее, словно дерево, разрывая ее, как пачку газет, сбивая с ног, точно корову на бойне, появилась моя музыка, я помню, как она не помещалась в моей тишине, в моих воспоминаниях, в размеренности того летнего дня, как она разрушала его очертания, билась об его острые аквариумные стенки, разбивала их, и вода тяжело вываливалась наружу, заполняя собою все вокруг, заполняя собой мою память, взрывалась, вырываясь за отведенные для нее границы, потому что у памяти не может быть границ, потому что твоя музыка делает твою биографию, исправляет ее, ломает и калечит, потому что в этой жизни нет ничего кроме тебя и твоего саунда, потому что на этой улице, как и на любой другой, просто нет неположенных мест.
9
Jethro Tull. Locomotive Breath. Пятнадцать лет назад, в начале девяностых, они стояли перед вратами, за которыми жизнь превращалась в свою противоположность. Они были похожи на апостолов, в косухах и старых кедах, они уже с утра собирались пить вино на «сквозняке» — на месте которого сейчас построили жлобский ресторан, и я понимал, что врата их где-то здесь и находятся, где-то между Сумской и Дзержинского, совсем рядом с кгб, что, в общем, дела не касается. В отличие от них, я так ни к чему и не приблизился, так ни разу и не ощутил, какой он — этот черный сквозняк с противоположной стороны жизни, который вытягивает за собой в сладкую безысходность свежий воздух, тополиный пух и души депрессивных апостолов. Почему мне это не удалось, думаю я теперь? Возможно, я не слишком верил в то, во что верили они, возможно, я просто не мог решиться и подставить свои ладони под жгучий поток ядовитого кислорода, которым осмеливались дышать они, который они вдыхали жадно и нетерпеливо, которым они задыхались и который выблевывали на серые харьковские тротуары, под ноги патрулям. И неважно, что я пил то же самое вино долгими солнечными утрами в начале девяностых и что у меня, допустим, были такие же точно старые кеды, даже более старые, чем у них. Мои старые кеды свидетельствовали только о том, что я мудак и новых кедов себе купить просто не могу. Никакого сквозняка с обратной стороны жизни тут не было.
Я никогда не мог по-настоящему поверить в то, что происходило вокруг меня, мне всегда казалось, что это еще не начало, еще не настоящая жизнь, это всего лишь кто-то рассказывает мне, как должно быть дальше, как оно все будет выглядеть, когда они демонтируют декорации и запустят всю эту машину в ход. В отличие от них, тех, кто включался в игру, ощущал кровь и мясо проходящего времени, я не мог полностью, на все сто, принять условность такого расклада, я не верил до конца в их безумие, в их непрощенность, мне мешала та легкость, с которой они портили жизнь себе и окружающим, та легкость, с которой они себя этой жизни лишали. Мне всегда казалось, что это довольно интимное занятие — лишать себя жизни, они же доказывали что-то совсем противоположное, они пытались убедить всех вокруг, а главным образом все ж таки самих себя, что их крест, их уродство, их рок-н-ролл можно нести легко и весело и что самой большой проблемой такого крестного хода может быть только проблема с покупкой алкоголя. Я остался при своем мнении. Их почти не осталось в живых.
Вот, к слову, тоже не совсем красивая ситуация, когда ты резко и крайне болезненно начинаешь разочаровываться в своих героях, в апостолах, которым хотя и не верил до конца, но верить, во всяком случае, так хотел, а тут вдруг прошло время, собственно — для тебя прошло, а для них просто закончилось, и ты уже не чувствуешь к ним ничего, кроме ненависти, ненависти прямой, контактной, от которой, думаю, их души по ту сторону врат тяжко воют и бьются друг о друга. На самом деле ее появление, появление этой ненависти, легко было предвидеть еще тогда — пятнадцать лет назад, в начале девяностых, на всех тех концертах с разъебанной аппаратурой, на всех тех хатах, по всем тем углам и норам, где будто бы залегала мощная харьковская контркультура, харьковская рок-школа, и откуда она, в большинстве своем, так и не выбралась. Когда ты в семнадцать лет встречаешься с апостолами и таскаешься с ними с одной тайной вечери на другую, из одного гастронома в другой, ты уже не простишь им ни их старения, ни их — совершенно естественной — усталости, ты будешь требовать от них, чтобы они до конца оставались с тобой и стояли на тех самых раскаленных углях, на которых стоишь ты сам, ты будешь считать необходимым каждый раз напоминать им — я пошел за вами, помните, тогда, когда вы стояли и пили свое вино, с утра, пятнадцать лет назад, я пошел за вами, хотя мне было только семнадцать, а у вас уже были свои дети, я поверил вам, когда вы сказали, что существует сквозняк, который можно ощутить, если встать в нужном месте, если держаться своего рок-н-ролла, я не мог не поверить вам, когда вы рассказывали мне об обратной стороне жизни, о черном густом воздухе, наполненном тополиным пухом и шумом рваных динамиков, я хотел вам верить и я вам верил, и потому не смейте теперь отказываться от всего сказанного, не смейте падать на серый тротуар, я просто не позволю вам отойти в сторону и оставить меня одного, на этих раскаленных углях, на которые вы меня завели своими ебаными апостольскими посланиями, вставайте, вставайте и оставайтесь вместе со мной, даже не думайте избежать этого огня, даже не мечтайте, суки, что я оставлю вас в покое, до конца своей, блядь, жизни, до того времени, когда огонь полностью сожрет мое сердце и мои легкие, я буду разбивать ваши почки своими старыми кедами, я вас достану в ваших могилах, в которые вы так быстро и так легко спрятались, я вытяну вас из ваших ям и склепов и стану таскать по запыленным улицам Харькова ваши мертвые тела, я понесу на спине каждого из вас, словно свой крест, потому что у меня не осталось в этой жизни ничего, кроме ваших мертвых туш, кроме вашего апостольского гноя на моих пальцах, кроме этих раскаленных углей под ногами, о которых вы, блядь, ничего не говорили, о существовании которых вы забыли меня предупредить, ни словом о которых не обмолвились, ни одним словом, ни одним, блядь, намеком!
Я никогда не мог по-настоящему почувствовать себя причастным к тем великим и фантастическим событиям, которые происходили вокруг меня на протяжении всей моей жизни, мне всегда необходимо было дистанцироваться от происходящего, иметь свою фору во времени и пространстве, чтобы посмотреть на все это со стороны, чтобы суметь зафиксировать и запомнить малейшие детали и подробности, а зафиксировав, прятать их от посторонних глаз, словно ожоги на коже. Из-за этого своего постоянного стремления запомнить все я упустил самое главное — упустил свою, персональную возможность пройти сквозь невидимые врата, ощутить адский сквозняк, сдохнуть в тридцать девять лет, успев за это время прожить все, что можно было прожить; очевидно, в свое время мне просто не хватило смелости и отваги, чтобы пойти за ними, ступать за ними след в след, находя на мокром песке отпечатки их кедов.
Всю жизнь мне приходится встречаться с ними, натыкаясь на этих призраков из прошлого, в темных коридорах и переходах подземки, в салонах такси и музыкальных магазинах, видеть, как их поломала жизнь, как их изуродовала их музыка, как ужасно и потасканно выглядят они в этой жестокой справедливой жизни, без апостольских косух, без хоругвей и дудок, без всего андеграунда и рок-школы, прокрученные через мясорубку, пропущенные через трубы крематориев, вывернутые, словно черная футболка, с тополиным пухом в волосах, который им занес потусторонний невидимый сквозняк, —
наркоман-Костик, бывший гитарист, который мечтает по новой собрать свою группу, а пока что стоит на входе в ночной клуб и не пропускает никого без билета, с заначкой гаша в заднем кармане своих вельветовых джинсов;
сумасшедшая девочка Мария, с сотней бобинных записей, со всеми альбомами ти рекса и джетро талла, в комнате которой пахнет котами и безумием;
чувак из рок-клуба, который работает грузчиком на вокзале, а попав случайно на джем, не может даже настроить гитару, ту самую, на которой он играл добрых пятнадцать лет;
Сэр, который неожиданно умер в августе и теперь лежит во дворце культуры работников связи, наблюдая, как его друзья прощаются с ним и целый день крутят для него музыку, которую он любил при жизни, даже не зная, та ли это музыка, которую бы он хотел услышать на своих поминках, а главное — даже не зная, у кого можно об этом спросить. Им просто нечего сказать друг другу в этом дворце культуры — они не знают, нравится ли ему музыка, которую они крутят, он, слушая музыку, которая ему нравится, не знает, кого тут попросить, чтобы ее наконец выключили.
10
Sex Pistols. Anarchy in the UK. Полгода жизни, паленое мясо дней, проведенных на площадях и улицах; в итоге остается чувство радости, ощущение ровного полета в горячей синей пустоте; светлые звезды и холодные воды, которые сопровождают наше перемещение в сторону мудрости и покоя, — лишь часть того, что на самом деле происходит, видимая, но неполная. Под поверхностью, под темным густым слоем внешнего прячутся мельчайшие и важнейшие детали, которые легко ныряют на дно, избегая твоих прикосновений. Истории, только на первый взгляд похожие друг на друга, случайные лица, которые тщетно изгоняешь из памяти, словно саранчу с пшеничных полей, имена, которые выкрикивались во тьме, телефоны, которые записывались на ладони, что со всем этим произойдет потом, если кроме меня они никому не будут нужны, если на них никто так и не обратил внимания, — что с ним будет потом? К кому будут приходить эти призраки, потеряв меня, потеряют ли они свою способность появляться в воздухе, держаться за него так, как они держатся за него теперь? Насколько они зависимы от нас, насколько связаны с нами? Возможно, все наоборот, возможно, это я охочусь за своими призраками, ежедневно нуждаюсь в их присутствии в своей жизни, тогда как они могут обходиться без меня легко, без потерь, они давно прожили меня как отдельную короткую историю и совсем обо мне не помнят, а если и пролетают иногда за моими окнами, то совершенно случайно, даже не обращая на меня внимания. Все может быть.
Хуже всего будет, когда я вдруг все это забуду, это чуть ли не единственное, чего я действительно боюсь, — забыть, утратить все, что таким удивительным и неожиданным образом произошло, лишиться памяти, лишиться главного. То, что выхватывается из окружающего пространства, то, из чего старательно и настойчиво складываются рисунки, понятные только тебе, то, к чему бесконечно возвращаешься, пытаясь справиться с этим и ощущая, как твои собственные рисунки выскальзывают из понимания, — все это странным образом лежит совсем близко, почти на поверхности, стоит лишь пробить эту поверхность, как консервную банку, и все: вот она — наша с тобой жизнь, наша с тобой кровь; в воздухе за тобой на какой-то миг остается сквозняк, и этого сквозняка, этого движения в воздухе совершенно достаточно, чтобы ощутить и понять, как ты рос, как ты вгрызался в эту жизнь, как выбирался на холмы и сваливался в черные ямы, как проваливался в глубокий снег и нырял в черную августовскую воду; по этому сквозняку, который ты поднял, пройдя сквозь время, можно догадаться, как сильно ты любил и как будет не хватать тебе твоей любви там, где ты скоро исчезнешь.
Я дописываю эту книгу в мае, сидя в своей комнате на третьем этаже, я сижу тут уже четвертый месяц, комната эта, в общем, многое видела, пару трупов отсюда за это время выносили, и то, что они, эти трупы, потом кое-как оживали и возвращались к жизни, свидетельствует именно в пользу жизни, а не в пользу этих трупов. Я сижу и наблюдаю, как мимо меня движется время. Оно пытается делать это тихо и незаметно, по большому счету, ему это удается, за ним действительно тяжело наблюдать, оно умелое и выносливое, оно, в отличие от меня, умеет ждать и не устает от бесконечного изнурительного движения, и лишь время от времени, когда делает резкие и неосторожные движения, соленая волна сбивает с ног очередного свидетеля, с которым мне довелось стоять на одном побережье.
Пару месяцев назад умер мой приятель, старый поэт, веселый эмигрант, который беззаботно шатался по этому миру всю свою жизнь, останавливаясь там, где ему нравилось, не делая особых проблем из тех неурядиц, которыми снабжал его мир, выбирая из мира смачные и сочные куски, как то поэзию и алкоголь, имитируя нормальную жизненную позицию, имитируя свою включенность в общую рутину, прекрасно чувствуя себя среди чужих и непонятных ему обстоятельств, но, по большому счету, так и ограничиваясь алкоголем и поэзией. Почему я не ощущал его отсутствия эти два месяца, ведь я действительно ни разу даже не вспомнил о нем. С другой стороны, что бы это изменило? Он стоял на одном со мной побережье, он так же, как я, стоял в темноте и всматривался в синее отсутствие изображения, и его внезапное исчезновение, по большому счету, никого не касается, у него были свои отношения с пустотой, у меня — свои. На этом и строится принцип человеческого братства — все, что ты можешь, это лишь поддерживать кого-то своим присутствием, все остальное от тебя не зависит, но и ты не зависишь от всего остального. Внимательно следи за волнами — одна из них твоя.
Мы сидим в аэропорту Кеннеди, и он говорит, что они с сыном, как только я свалю отсюда, поедут в Нью-Джерси, в какую-то коммуну, по его словам, это даже и не коммуна, а бывшая табачная фабрика, которую в свое время заселили свободные художники, а теперь их оттуда выбрасывают на улицу, и они устраивают отходную, сегодня там все перепьются, а тех, кто выживет, выходило так, завтра выбросят на улицу. Он рассказывает, а я думаю, что это не очень хорошо, то, что его сын все это увидит, — нехорошо, когда дети в таком возрасте видят, как на улицу выбрасывают свободных художников, по-моему, это не лучший опыт. Дети, наоборот, должны видеть, как свободные художники занимают фабрики и заводы, как толпы свободных художников, которыми себя также могут считать просто безумные жители наших городов, всяческие там безработные, уличные воры, наркоторговцы, проститутки — обязательно проститутки, я настаиваю, — скейтбордеры и алкоголики; как их толпы захватывают фабрики и супермаркеты, как они вламываются в офисы и антикварные магазины, как они укладываются спать на кожаных кушетках в помещениях банков, как разводят костры в галереях современного искусства и устраивают там многодневные веселые оргии, которые заканчиваются коллективной белой горячкой. Одним словом, ребенок должен видеть здоровые и сильные эмоции, позитивные переживания, не стоит травмировать детскую психику картинами социального и жизненного поражения свободных художников, нельзя, чтобы ребенок сызмальства пришел к мысли, что в этой жизни, в этой стране тебя каждую минуту могут выбросить на улицу, и тогда хоть член соси — никому ты не нужен со своими картинами и независимой жизненной позицией. Дети должны расти в нормальных условиях, в нормальном, в конце концов, обществе, в обществе, где ни один клерк и ни один легавый не будет совать нос в твои документы, где никакая власть, насколько бы ссученной она ни была, не сможет достать тебя на твоей табачной фабрике, чем бы ты там ни занимался, хоть бы ты там трупы расчленял, если это твой собственный труп — расчленяй на здоровье; дети должны как можно раньше понять, что потенциально любая фабрика для того и существует, чтобы ее можно было захватить и устроить на ее территории шабаш, иначе для чего ее сооружали? Ребенок, который сызмальства осознает всю ненужность, неуместность и вредоносность системы, в которую он волею судьбы попал, — у такого ребенка неплохие шансы в итоге присоединиться к одной из толп, и тогда уже за него волноваться не приходится. Волноваться куда больше нужно за тех, кто так и не сумеет избавиться от зависимости от ближайшего отделения коммерческого банка, вот за них нужно волноваться, именно из них получаются серийные убийцы и публичные политики, свободные художники из них точно не получаются.
На этом мы и разошлись — они с сыном поехали на фабрику, я полетел в свою комнату на третьем этаже, имея при себе нарезанные им диски и вельветовый пиджак с надписью на спине. Пиджак попался мне при довольно забавных обстоятельствах, я увидел его в одном из магазинов военной одежды, фишка была в том, что на него можно было набить трафаретную надпись, ну что, спросил меня продавец, молодой афроамериканец, так это кажется называется, какая картинка тебе нравится. Хочешь Че? Не хочу, сказал я, Че давно умер. Все мы умрем, сказал он. О, кстати, добавил, есть клевая картинка, тут написано «Жить быстро, умереть молодым». Хочешь? Умереть молодым? спросил я, не хочу. Но картинку можешь набить, все равно лучше, чем Че.
О’кей, сказал он, еще десять баксов.
Варшава, 2005–05–16
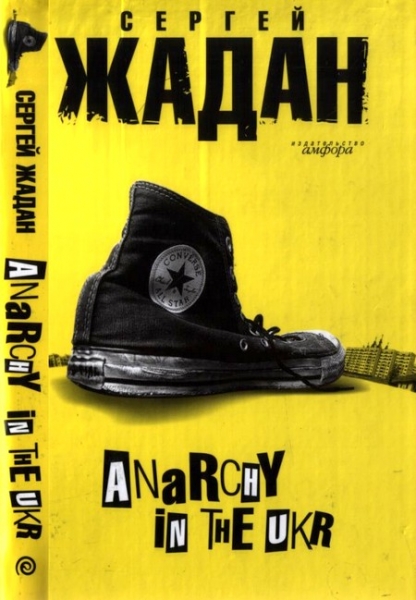





Комментарии к книге «Anarchy in the ukr», Сергей Викторович Жадан
Всего 0 комментариев