Маргарита Шелехова Последнее лето в национальном парке
Моим летним друзьям разного пола, возраста и национальности посвящаю.
М. Ш.Пролог
— Приезжайте, к нам никто теперь не ездит, и домов здесь не покупают — покойников боятся, — сказала Жемина напоследок, — а без турбазы в деревне работы никакой нет.
Туман сгущался, выпадая на ветровом стекле крупными каплями, и я с трудом вывел машину к шоссе.
Выйдя на минутку одеть дворники и проверить, работают ли противотуманные фары, я услышал откуда-то сверху печальную торжественную мелодию, и я узнал ее — это было музыкальное вступление к сериалу «Твин Пикс». Пытаясь определить источник музыки, я взглянул наверх и замер от ужаса. Из молочно-серого тумана на меня надвигалась гигантская металлическая сфера с четкими линиями параллелей и меридианов, а потом из тумана выплыла бледная лошадиная голова с пустыми глазницами, и я понял, что сфера прикручена к седлу. Лошадь остановилась около меня, раздвигая боками верхушки придорожных сосен, и, пригнув голову, спросила обыкновенным водительским голосом:
— Шеф! Как проехать к четвертому блоку?
— Не знаю, — ответил я.
— Йе — е — ху, — заржала она, потом ее голова снова взмыла вверх, и сфера проплыла надо мной, покачиваясь в такт музыке. Путь был свободен, и, если бы не туман, я бы рванул из деревни на предельной скорости. Но я полз, как черепаха, чувствуя, как белеют мои виски, пока не добрался до реки. Перед мостом я притормозил, потому что посередине дороги что-то темнело. Я вышел из машины, и, осторожно продвинувшись вперед, уперся в «Жигули» с московским номером. Это обрадовало меня.
Впрочем, радовался я недолго. Спереди машина напоминала гармошку, а за рулем, пристегнутый ремнем, сидел удивительно красивый человек, примерно моего возраста. Водитель был в кепке, из-под потертой кожаной куртки выглядывал белый халат с ядовито-желтым блестящим галстуком, но я сразу узнал его — это был педиатр из американского сериала «Скорая помощь». Он приоткрыл окошко, протянул мне красную книжицу, и неимоверный запах котов тотчас же расплылся в воздухе. В книжице значилось, что предъявитель сего является сотрудником Чрезвычайной Экологической Комиссии Апокалипсиса, личным заместителем Железного Феликса по очистке памятников от валериановых капель. Я бросил книжицу назад в окно, как ошпаренный, а он только усмехнулся и указал мне на свою грудь, и тут я увидел на левом кармане его куртки пять глубоких царапин с кровавыми потеками.
— Бандитская пуля? — поинтересовался я неожиданно для самого себя.
— Кошачья сволочь поработала! Из именного пистолета товарища Рейснер! Скажите ей, пусть возвращается. Нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения.
— Кому, ей? — спросил я.
— Вы знаете, — загадочно произнес собеседник, и я понял, что он говорит о чьей-то там племяннице, которой я должен был вернуть дискету по приезду в Москву — так хотели в деревне.
— Послушайте, а куда я вообще попал? — спросил я его, отчаявшись что-либо понять.
— В ее воспоминания, — сказал он, — мы тут сами по себе живем, скрещиваемся, как хотим, но без нее не так интересно — дожди и сплошные заимствования. Цитирование цитат, копирование копий! И вообще все надоело…
— С дуба падают листья ясеня… — начал было формулировать я ситуацию про себя любимым стихотворением своего раннего детства.
— Неприличными словами не выражаться! — гаркнул водитель, а потом лицо его мгновенно обросло густой шерстью, он странно захрипел, обмяк на ремне и сполз куда-то вниз, оставив на сидении свой скелет.
По мосту я жал на полной скорости, потому что иначе было нельзя. Длинные бледные руки вырастали передо мной откуда-то из-за боковых ограждений и скользили по кузову, цепляясь за каждую неровность, и я не верил в сказки — я не хотел верить в них, но размокшие белесые ногти, выворачиваясь назад, пытались процарапать стекло перед моими глазами, и я жал на газ, пока мост не остался позади.
За мостом туман кончился, было обыкновенное солнечное утро, сбоку от дороги паслась пестрая равнодушная корова, и ноги ее тонули в самых обыкновенных ромашках, а впереди краснели черепитчатые крыши, и кто-то постукивал молотком мерно и с расстановкой, словно спешить в этой стране было некуда и незачем. Через пару часов я уже въезжал в столицу этой чужой страны, где мне нужно было найти Марию Ивановну, лет сорока восьми отроду, но я не знал ни фамилии, ни адреса, ни места работы женщины. Я знал только то, что несколько лет назад ее видели в этом городе. Безрезультатные поиски длились уже более двух недель, когда мне вдруг повезло совершенно непостижимым и волшебным образом.
Голодная и отчаявшаяся, с огромным нарывом на шее она лежала на старом диване в маленькой комнате хрущевской коммунальной квартиры, и в ее комнате уже не было других вещей, потому что работу она потеряла, семьи не завела, а чужого языка так и не выучила. Сосед по квартире, старенький русскоязычный пенсионер, угощавший ее водочкой при случае, рассказывал мне на кухне про свое бытие.
— Мы с бабкой живем хорошо, слава Богу. За квартиру тоже не платим, и нас ни разу не отключали.
Дело простое — мне Рик Пайп, сосед наш, посоветовал. Иду в сенуний и там говорю, что денег нет. Они меня посылают в содр. Содр дает папирусь. Обратно иду в сенуний и даю папирусь, сенуний берет папирусь и дает пажимейс. Содр берет пажимейс и дает папирусь. Обратно иду в сенуний, отдаю папирусь, сенуний берет папирусь, пишет меня в журнал, и я им обратно бесплатно ни хрена не плачу.
Я слушал его и смотрел, как женщина ела то, что я принес из ближайшего продуктового магазина. Это и была моя мать, которую я, Олег Понырев, так долго и терпеливо искал, став взрослым, а найти ее я хотел больше всего на свете. После некоторых формальностей мы выехали назад, но я решил вернуться в Москву через Минск, а не Даугавпилс. Я боялся снова попасть в странную деревню.
К тому времени нарыв у матери уже лопнул, оставив лиловатый шрам на шее под самым ухом, и она сидела на заднем сиденье машины тихая и трезвая, а я разглядывал в зеркальце ее пышные светлые волосы и еще красивое лицо с нежным овалом и большими удивленными глазами.
«Россия…» — запела она песню из репертуара покойного Талькова, когда мы пересекли очередную границу.
— Теперь у меня все в большом порядке, — думал я, — неплохое время для таких шустрых ребят!
Я привез ее домой, в Москву, и мы начали с ней новую трудную жизнь, потому что нужно было найти общий язык и полюбить друг друга. Я не забыл о данном мне поручении, однако, телефон, записанный на конверте с дискетой, мне не помог — этим номером пользовались уже совсем другие люди, и они знать ничего не знали о бывшей владелице. Тогда я прочел текст, записанный на дискете.
Глава 1
С некоторых пор русский роман уместно начинать с упоминания о двоюродных родственниках. Так вот, моя двоюродная тетка Наталья Николаевна отличалась от прочей родни по материнской линии крайней деловитостью, унаследованной от отца. Этот энергичный белый офицер весьма своевременно сбежал в Париж, оставив свою супругу, сестру моей бабушки, пропадать с двумя детьми в Совдепии. Но Евгения Юрьевна не пропала и вырастила детей на скромную учительскую зарплату. Сын погиб на фронте, а дочь Наталья Николаевна вышла замуж за крепкого вологодского парня, убежденного партийца, и они образовали то, что у Курта Воннегута в «Колыбели для кошки» называется «дюпрасс» — случайное, но неразъемное соединение двух судеб, абсолютно не нуждающееся в третьих лишних. В последнюю категорию входили и дети, хотя перед смертью тетка об этом жалела.
Неразлучной чете крепко досталось во время войны, когда мужу пришлось руководить эвакуацией одного из подмосковных заводов на Урал. Наталья Николаевна, заведовавшая там же химической лабораторией, частенько вспоминала суровую жизнь в маленьком уральском городке, когда они ходили с мужем на работу задолго до заводского гудка, а возвращались уже к ночи, но всегда вместе, и ненавидящие взгляды местных женщин, ждавших или уже не ждавших писем с фронта, до сих пор жгли ее.
В конце войны завод вернулся на место, но нервное напряжение тех лет не прошло даром, и на Виктора Васильевича вскоре после этих событий свалилась болезнь Паркинсона, что, однако, не помешало этому упрямому вологодскому мужику быть ярым фотолюбителем и активистом журнала «Охотник-рыболов-спортсмен». Имея на руках больного мужа и престарелую мать, тетка рассудила, что неплохо подстраховываться во время летнего отдыха присутствием родных и близких. А поскольку места выбирались отменные, то всегда можно было соблазнить нужных людей дешевым грибным отдыхом.
Многие годы после войны они ездили с многочисленными родственниками Виктора на Селигер и привозили оттуда тысячи слайдов, но после смерти своей престарелой хозяйки и продажи дома облюбовали Прибалтику. Вот и я очутилась как-то летом в маленькой деревушке Пакавене, расположенной на территории Национального парка рядом с большой всесоюзной турбазой.
Рельеф окрестностей с удлиненными песчаными грядами и цепочками озер напоминал о недавних ледниковых агрессиях. Песчаные почвы и внезапно налетающие атлантические смерчи требовали от балтийских сосен длинных цепких корней, а русские березки не выдерживали конкуренции, и каждый раз после бури где-нибудь в лесу лежала новая покойница со сломанными ветвями и привядшими листьями.
В жаркие дни сосновый дух в лесу сгущался в тонизирующий экстракт, отчего ноги легко неслись по высохшим мхам и спелым черничникам. Аккуратные пирамидки можжевельников и большие деревянные скульптуры вдоль лесных дорог придавали лесу нарядный парковый вид. Озерные склоны опоясывались малинниками, а прибрежные заросли широколистного рогоза украшали водную гладь, терявшую голубой цвет, когда солнце заходило за тучи или пряталось за лесом на другом берегу озера, где обитала Лаума Жемепатискайте, местная ведьма.
С тех пор я существовала зимой в ожидании летних прелестей деревушки Пакавене. Тот, кто случайно попадал в этот благословенный край, оказывался прикованным к нему навеки (век длился, увы, не так уж и долго — пока не ввели въездные визы). Каждое лето Пакавене дарила мне свои грибы и ягоды, милые лица друзей и что-нибудь непредсказуемое и острое, как и подобает быть гвоздю сезона. Но, спустя много лет, мы признались друг другу, что на общем фоне счастливого бытия временами из подсознания всплывало ожидание ножа, и по спине протягивало холодком. Подобная тревожность атмосферы точно описана в рассказе Гайдара о разбитой голубой чашке — такая хорошая большая страна, такие хорошие трудовые люди, такая хорошая погода, но в сердце боль, боевые учения в разгаре и нерусского мальчика обижают. Это чувство приходило совершенно внезапно в соснах пакавенского леса.
В этом году теткино семейство отбыло в Прибалтику, как обычно, в конце апреля, но уже через месяц мне пришло письмо о плохом состоянии Евгении Юрьевны. У меня, кроме академического полуторамесячного отпуска этого года, имелся в запасе еще один, месячный, не использованный в первый год после окончания университета, и я вскоре уехала на все лето в Пакавене.
Поезд, как всегда, пришел на станцию во время перерыва движения автобусов, а единственное такси уже было оккупировано знакомым семейством, прибывшим в соседнем вагоне. Впрочем, мой багаж в такси уместился, и я, не ответив на участливые призывы частников, решила пройти шесть километров по шоссе налегке. На пятом километре справа был поворот на лесничество, а слева отходила грунтовая дорога на заброшенный песчаный карьер, на краю которого под сосной имелось у меня заветное местечко с ранними белыми грибами. Оказалось, в этом году там вовсю порезвились дикие кабаны, и на месте ровненького черничника дыбился желтый песок с глубокими рытвинами (эстонский эпос намекает в таких случаях на очередную свадьбу буйного богатыря Калевипоэга). При тщательном поиске обнаружить маленький боровичок все же удалось, и я, решив подрастить его до утра, прикрыла грибок от случайных взглядов сухими веточками.
Ах, как славно мне жилось на свете в эти минуты. Все вокруг представлялось узнаваемо милым, и стенки маленького карьера были пронизаны корявыми корнями могучих сосен, и нежная светлая зелень пушилась по кончикам ветвей, слегка выделяясь на фоне зрелой хвойной массы. Толкучка в метро, бензиновая гарь Садового кольца и академический снобизм — все это осталось за бортом, и я плавала теперь в изумрудном океане своей страстной зимней мечты.
Эта мечта родилась вместе со мной, и до приезда в Пакавене я никогда не помнила своих снов, кроме одного единственного, когда я взлетала над лесом и носилась по верхушкам деревьев, как по большому зеленому ковру, и от леса пахло столетними тайнами, как от картин Шишкина — ведь я была потомственной горожанкой, и мой первый лес висел над детской кроваткой. Мое счастье находилось на границе зеленого и голубого, но меня ежегодно возили к Черному морю, и я плескалась на границе твердого и жидкого, пока не привыкла обходиться без счастья, и коктебельские холмы с выжженной солнцем травой стали выглядеть уже вполне привлекательно, и я привозила домой сухие колючие шары синеголовника, букеты сиреневых кермеков и плетеные корзиночки из разноцветных бессмертников, а однажды я так затерялась в толпе волошинских гостей, что не смогла сама себя найти даже к утру, и привезла домой то, что мне показалось неземным счастьем. Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…
Вернувшись на шоссе, я дошла до резкого изгиба дороги у начала озера. Из-за поворота вынырнули серые «Жигули», а вскоре на велосипеде в сторону деревни проехал, обогнав меня, местный звонарь Ремигиус, большой и молчаливый человек. Почти каждый летний день он проходил мимо нашего дома с огромной косой и церемонно кивал дачникам в знак приветствия. Велосипед быстро скрылся из виду, а вскоре показалась деревня, тянувшаяся примерно с километр по обе стороны от шоссе.
В середине деревни на высоком холме стоял деревянный костел, рубленный топором, сбоку от него высилась деревянная же колокольня с медными барочными колоколами и виднелись хозяйственные постройки, а за костелом в маленькой часовенке стояла красивая деревянная скульптура скорбной мадонны работы местного скульптора. Перед холмом, на месте давно исчезнувшего дома скульптора, высился корявый деревянный столб, увенчанный резной лирой — памятник двум братьям-музыкантам, его сыновьям, а справа от холма за кудрявой зеленью желтых акаций прятался вход в турбазу.
За турбазой слева от шоссе тянулся ряд домов, и наш большой деревянный дом с четырьмя крыльцами по разным сторонам света издали выделялся высоким коньком на крыше с двумя резными конскими головами.
Миновав маленькое здание школы, я увидела у входа в сапожную мастерскую волосатого типа по фамилии Виелонис, которого следовало бы обойти, что я и сделала, перейдя на другую сторону шоссе к почте, а потом я еще раз перешла шоссе и оказалась у гигантской старой сосны, под которой остервенело дрались двое тинейджеров городского вида.
На хозяйском крыльце стояла хозяйка дома Жемина, крепкая и ладная сорокапятилетняя женщина, уверенно ходившая по своей земле. Она родилась здесь же, неподалеку, и дальше райцентра никогда не выезжала, поскольку у нее всегда были дела в Пакавене. Райцентр служил ей столицей мира, а республиканская столица представлялась уже небесной империей. К виртуальному миру чужих городов и весей она относилась крайне недоверчиво, и единственным вещественным доказательством его возможного существования считала своих квартирантов, исчезающих в конце лета в никуда.
— Мы давно тебя ждем. Твой багаж уже отнесли наверх. Новости потом расскажу, — сказала она, обнявшись со мной, и ушла на турбазу подметать туристический мусор, не носивший еще тогда яркого и привлекательного облика, появившегося в последующие годы перестройки. Тетка занимала на первом этаже две комнаты и небольшую терраску с газовой плитой, обеденным столом и выходом в сторону шоссе. В большой комнате находился хмурый Виктор Васильевич, а в маленькой тетка сидела у изголовья постели моей двоюродной бабушки Евгении Юрьевны.
— Марина, — с трудом произнесла бабушка, — вот видишь, я что-то совсем расклеилась. Даже вязание забросила.
У нас проглядывалось определенное внешнее сходство, и мы очень сблизились с ней после смерти моей родной бабушки, ее сестры. Отец, впрочем, утверждал, что я очень похожа на его мать, но сам он помнил ее только по фотографиям. Убедиться в сходстве было трудно — фотографии во время войны сжевали крысы, и его родителей, исчезнувших еще в тридцать втором, уже никто не помнил — дед умер во время войны от инфаркта в особо секретной шарашке под городом Кировом, а что сталось с его супругой, узнать так и не удалось.
По материнской линии в моей семье тоже были потери — дед погиб на фронте под Харьковом, и я всегда сожалела, что всем им не дано было состариться — это поколение казалось мне интересней своих прямолинейных детей, но всему в этом мире есть срок, и оно уже уходило со сцены окончательно и бесповоротно, унося с собой свое нелегкое время.
Факты — упрямая вещь, и положение дел, исходя из этих упрямых фактов, было плохо — левая рука у Евгении Юрьевны не двигалась, и ей было далеко за восемьдесят. Конечно, бабушка была рада моему приезду и охотно выслушала все семейные новости, и ей хотелось поговорить со мной — дочь с зятем были большими молчунами, но силы покидали ее с каждой минутой, я вскоре ушла и, обогнув дом слева, поднялась по деревянной лестнице в свою комнату.
Почти весь дом уже был заселен постоянными дачниками, но две комнаты — в мансарде, слева от моей двери, и на первом этаже подо мной, еще пустовали. Обои в моей светелке оставляли желать лучшего уже не первый год, но фанерная стенка у изголовья кровати, где кем-то из моих предшественников были процарапаны семь черточек, а под ними дата двадцатилетней давности, была покрыта свежей масляной краской. Эти черточки, бывало, будили мое девичье воображение, и мне мерещились на крутой лестнице мансарды легкие шаги махи и тяжелая поступь необузданного Гойи. Комната обходилась мне в тридцать пять рублей в месяц.
Пока я разбирала вещи, подошла Жемина. Она сообщила мне все деревенские новости, главной из которых представлялась предстоящая женитьба одного из ее сыновей-близнецов. К числу второстепенных относились прошлогодняя осенняя свадьба Данки, ее соседки слева, дочери пожилой Гермине, и всяческие мелкие безобразия соседей справа, Вацека Марцинкевича и Яньки, его боевой подруги. Один из ее дальних соседей продал дом и уехал на родину своего деда в Западную Германию, и Жемина купила у него кое-какую мебель, увеличив по этому поводу плату за теткины комнаты на пять рублей. Муж барменши, их дальней родственницы, зимой провалился с трактором в реку и не успел выбраться, а на днях барменша снова вышла замуж, но новоявленный отчим уже успел отколотить ее малолетнего сына.
Я сказала, что видела с дороги изрядно пополневшую Ядвигу, невестку старой Ниеле, и Жемина подтвердила, что сплетни о новой беременности Ядвиги, действительно, ходят. Сын старой Ниеле был тихим человеком с некоторыми странностями, и отцом своих двух детей в деревне не числился. В этот раз предполагалось отцовство мясника, их соседа, хотя Ядвига и годилась ему в дочери. Семья жила в ужасающей бедности, дачники к ним не шли, и подозревали, что Ядвига польстилась на бесплатное мясо. Эту невысокую молодую женщину с дерзкими глазами в деревне не любили.
— А что там за мальчишки дрались сегодня под большой сосной?
— Так то кавалеры Пупсика, — сказала Жемина, — ходят за ней всюду и дерутся. Уже большая в этом году стала!
Обедали мы со своими родственниками на террасе, пока бабушка спала, но к вечеру я еще раз зашла поговорить с ней, и мы говорили довольно долго, а потом я поднялась к себе, и сразу заснуть не удалось, потому что разговор был не из легких. На следующий день нужно было поехать в райцентр за продуктами и лекарствами, но с утра я решила пробежать по лесу и заодно проверить свой боровичок. Он был на месте, но за ночь не подрос — видимо, правду говорят, что грибы не любят сглазу. Боровичок занял место в корзинке рядом с сыроежками, а я подошла к обрывистому краю карьера и, вдохнув всей грудью свежий сосновый воздух, оглядела карьер.
Сразу подо мной внизу, в большой песчаной рытвине лежала мертвая женщина. Задранная юбка обнажала развороченный кровавый живот, и слабый ветерок шевелил разметавшиеся по песку светлые волосы, спугивая больших черных мух, облепивших неподвижное тело. Я замерла, не в силах отвести глаз от ее растерзанного тела. Вчера ее здесь не было. Да, дела…
Состояние столбняка пришло сразу же — меня с корнем вырвали из только что обретенного рая.
Наконец, с дороги донесся приглушенный соснами рев мотоцикла, и, выйдя из оцепенения, я быстро вернулась домой. В открытом окне хозяйской гостиной мне бросилось в глаза завешенное мятой простыней трюмо, потом на фоне простыни появилось сморщенное набеленное личико хозяйкиной свекрови пани Вайвы, и я узнала о смерти Евгении Юрьевны. Утром, когда я ушла, ее уже не смогли добудиться. Мой недавний ужас сместился куда-то на задний план, и само страшное происшествие утратило свою реальность перед этой смертью.
Накануне вечером бабушка, оставшись со мной наедине, попросила поставить на своей могиле православный крест.
— Ты же знаешь, Марина, мы в семье недолюбливали попов, но бог всегда был в нашем сердце. Виктор — коммунист, он не позволит Наташе, а ты потом, как-нибудь, поставь…
Последующие два дня прошли в печальных хлопотах, лил сильный дождь, а я смотрела на спокойное бабушкино лицо, и понимала, что с ней ушла целая эпоха. В небытие кануло все то, о чем я не успела спросить ее, и это было непоправимым. Я старалась стоять слева от гроба, потому что смерть что-то изменила в ее лице, и правый профиль выглядел неузнаваемо жестким. Как часто я навещала бы ее, проживи она еще хоть немного!
За гробом шло довольно много народа — бабушка приятельствовала с местными вязальщицами и пожилыми ленинградскими дачниками, и мы похоронили ее на маленьком тенистом кладбище за деревянным костелом. Тетку ошеломило пришедшее к ней старшинство — гораздо уютней на этом свете жить дочерью, но она держалась молодцом. Из колеи ее выбила только смерть мужа, последовавшая через год, когда кончились вечные заботы, и она в одночасье превратилась в одинокую несчастную старуху.
Сразу после похорон тучи развеялись, и провожающие уселись за дважды перевернутый стол помянуть усопшую по русскому обычаю — местных покойников поминают без водки. Это было тягостно для меня — поминки внушали мне в детстве необъяснимый ужас, но потом я попала в вечный плен к Параджанову, и, глядя на мир уже его глазами, поняла жизнеутверждающую силу этого действа.
Вместо рыданий у гроба приходится бегать за водочкой, вылавливать из трехлитровой банки соленые огурцы и протирать рюмки полотенцем, а вздохи присутствующих (все мы там будем!) потихоньку сменяются оживленными разговорами, и вот уже бледное тело покойника начинает вздрагивать на плохо оструганных досках под чечеточную дробь кухонных ножей, проникаясь в последний раз жаркой силой мускульного бытия.
А потом все стихает, и мелко нарезанный салат-оливье (рекомендую употреблять в нем свежие огурцы, тертую сырую морковь и краснокочанную капусту) обильно заправляется майонезом.
Ах, Иванко, Иванко! Поплыли красные кони, и ушел ты от нас. Закатились твои очи ясные, затвердели твои губы теплые, опустились твои руки скорые. И звезды светят, и тонкий месяц на небе качается, и девки на толстых подушках сны смотрят, и бесплодная жена твоя играми с колдуном тешится, и некому оплакать тебя, кроме деток твоих нерожденных и невесты твоей, утопшей в юности.
Я здесь, Иванко — за стеклом оконным, но не слезы горячие катятся по щекам моим бледным, а то вода холодная с волос моих льет, и не зайду я в хату проститься с тобой в последний раз, потому что не умеем мы плакать, и заказан нам вход в жилища людские на веки вечные. Я здесь, Иванко, с тобой, пока солнце не встало, пока петухи не запели, пока люди с постелей не повставали, чтобы опустить тебя в землю крещеную.
Я здесь, Иванко, а утром навсегда уйду в воды мутные — ведь стою я здесь у окна ночного только памятью твоей остывающей, а завтра — кто же вспомнит обо мне?
Они уйдут завтра навсегда, и все забудут о них, ведь только мы, нерожденные, вечны в этом славянском мире несбывшихся надежд, и светлым круглым облачком нетленной мечты о свершившихся помыслах, написанных поэмах, построенных храмах закружимся мы завтра над чьей-то головой, и очарованный странник будет внимать нашему коловращению, и бумага рассыплется в прах, и доски почернеют под снегом и дождем, как тайные помыслы, но мы все равно будем светить ровно и ярко, и мы должны делать это, иначе нам не родиться. Всему в этом мире есть срок…
Да, черт знает что в голову лезло, пока я сидела у краюшка стола, зорко наблюдая, чтобы всем всего хватало, и кисель был подан вовремя, и пустые бутылки исчезали, куда нужно — по части организаций общественных мероприятий я была неплохим специалистом. Когда скорбящие разбились на маленькие группки сообразно своим интересам, а я уже складывала стопочками грязные тарелки, в комнату ворвалась старая Вельма, и похороны моей бабушки тут же канули в историю Пакавене из-за следующей деревенской новости о найденном грибниками трупе.
К вечеру похолодало, полил дождь, и комната сразу стала зябкой и неуютной. Одевшись потеплее, я глядела из окна на черные сосны и мокрую луковую грядку, пока под окном не появилась темная мужская фигура.
— Эй! Пойдем, посидим у меня, — сказал мне Стасис, один из хозяйских близнецов. Летом он обитал в деревянной баньке за огородом, и сейчас там на столике красовались две бутылки пива и тарелка с холодной жареной рыбой. Хлеб я принесла из кухни, и мы сидели, пока горела свеча, и он рассказывал мне про свою зимнюю охоту и про то, как в рождественскую ночь погибла его собака, а потом я ушла и, спустя пять минут, уже выпала из времени до следующего утра.
Утром со всех сторон неслись разговоры о найденном трупе. Я очутилась в неловком положении, но решила молчать и далее. Убитой оказалась тридцатилетняя туристка из Каунаса, одинокая женщина, исчезнувшая с местной турбазы в день моего приезда. Особенно охала наша хозяйка (Вот! Скажут теперь, что мы убиваем туристов. Хорошо, хоть не русская была!), но вскоре прошли слухи, что на женщину напали кабаны, ночные хозяева здешних мест, дневавшие где-то на таинственных клюквенных болотах. Мы припомнили прошлогодний рассказ соседского дачника Николая Антоновича, крепкого старичка, бывшего соратника Туполева, о его встрече с кабанами — главное, стоять и не двигаться, — но главным было не выходить в лес в сумеречное время. На том и порешили, накачав дачных детей всяческими запретами.
— Что-то здесь не так, — сказал мне, однако, Стасис, — кабан наносит только один удар.
На девятый день мы помянули бабушку в более узком кругу. Напряжение последних дней начало спадать, и тут приехали мои приятели — Барон с Баронессой и маленьким сыном Ваней, известным среди дачников под прозвищем Таракан. Барон — немец по отцу и белорус по матери — был на пути несколько запоздалого превращения молодого гуляки в почтенного бюргера, имея в активе импозантную внешность, искусные руки и яркое дарование души компании.
Они были питерцами, а в Питер еще с петровских времен много всякого занятного народа приезжало, а некоторые так и оседали на болотистых грунтах на веки вечные. Отец Баронессы был русским, а мать происходила из старинного мадьярского рода Маркау-Воджи, и фамильный замок в Трансильвании снился в русских снегах уже энному поколению баронесс. Маркау-Воджи были протестантами, и женихи всегда подбирались среди единоверцев, невзирая на национальность. Баронесса была хорошенькой долговязой шатенкой с темными глазами и острым языком, и при всей прочности их брака Барон несколько досаждал супруге немецкой сентиментальностью (ему иногда в проплывающих мимо блондинках мерещилась Гретхен) и нежностью к винным лавкам. Оба пятна на солнечном имидже моего друга были унаследованы от его отца Генриха, преподавателя философии в одном из питерском вузов.
Они были постоянными дачниками, но моя тетка это семейство недолюбливала, поскольку была человеком суровым и правильным, а мои друзья определенно грешили избытком внутренней свободы, и этот грех у предшествующего поколения почитался наиболее тяжким. Тем не менее, они поддерживали с теткой вполне сносные отношения еще до моего появления в Пакавене, и мои пристрастия не омрачались ее слишком суровой критикой, да я и сама была не очень хорошей, увы!
Наше знакомство с Бароном произошло в мой первый приезд у деревянного нужника — я выходила, а он входил с детским горшком, огромные размеры которого и размещение семьи на втором этаже родили мой невинный вопрос о причинах отсутствия на горшке фамильного позолоченного герба. Барон оживился и с возгласом: «Я сейчас!» — исчез на недолгое время за дверью, после чего раскинул около умывальника ветви своего генеалогического древа. Среди его родственников по папиной линии значились всеми любимые советские артисты и скромный уфимский поэт Александр Брянский, печатавшийся в военных изданиях молодой Советской России.
Барон был человеком-праздником и составлял для всех неотъемлемую часть летней Пакавене.
Особенности его достоинств и недостатков служили постоянной темой дачных пересудов, а его восхитительные монологи, где речь хорошо воспитанного человека весьма органично переплеталась со сленгом сегодняшнего дня и откровенно нелитературными выражениями, звучали для дружеских ушей любимым музыкальным произведением.
Приезд друзей отвлек меня от печальных мыслей, и жизнь стала налаживаться. В этом году семейство поселилось через дом у старой Вельмы, где мы и отметили ежегодную встречу местным яблочным вином и мелкими копчеными угрями, встретившимися нынешним утром Барону в водах большого озера в свежем виде.
Их тайный безлицензионный отстрел предварялся облачением Барона на глазах у восхищенных дам в темный блестящий гидрокостюм и ласты, что создавало неотразимый образ иностранного шпиона из детского фильма «Тайна двух океанов» — это был любимый персонаж его детских игр. Удочкой и корзинкой мой друг владел с тем же профессиональным блеском, и дары природы позволяли семье существенно удешевить и без того недорогой отдых.
Их питерские приятели, Вася с Лидой, владевшие на двоих двадцатью девятью языками и суммарным ежемесячным окладом в двести сорок рублей, занимались за столом своим обычным делом — обнимались, но Василий все же на минуту отвлекся и внес свой вклад в застольную беседу свежим литературным анекдотом о трансляции английской пьесы киевским радио (Лэди Эллэн: Га-а, шо я бачу! Цэ лорд Монтгомэры! Дэ вы учора запропостылыся, лордэ? — Та-а-а, я учора на дэрби був…).
Молодой районный архитектор Алоизас, постоянный собутыльник Барона, рассказал нам о своих планах перестройки турбазы — у него был оригинальный проект деревянных двухэтажных коттеджей в форме корзины на пеньке. Архитектурная мысль в Прибалтике вообще работала на славу, и мы, устав от однообразия повсеместных Черемушек, разглядывали недавно отстроенные особняки с большим интересом. Некоторые проекты, спустя несколько лет, узнавались в подмосковных постройках новых русских.
Местные снобы предпочитали деревянные дома, обильно украшенные кружевной резьбой, но сейчас в окрестностях Пакавене строились преимущественно кирпичные, поскольку кирпич был баснословно дешев.
Неиссякаемым источником этого материала была расположенная неподалеку атомная станция, где строительство очередного блока всячески саботировалось местными товарищами, убоявшимися повторения чернобыльской трагедии. Поэтому, когда плановая порция кирпичей подвозилась к станции, руководство расписывалось в получении и отпускало машины восвояси, а кирпичи тут же развозились шоферами по деревням, сообразно запросам населения.
Ушедшая года два назад в портнихи гидрофизик Татьяна, приятельница Баронессы, прихвастнула отличными заработками на крепдешиновых платьях для отъезжающих в Израиль. Отрезы вывозить запрещалось, поэтому платья формировались из десяти — пятнадцати метров материи, а потом, по-видимому, распарывались на продажу. Мы состояли с ее четырехлетним сыном в весьма сложных отношениях. Увидев его впервые два года назад, я всплеснула руками и искренне восхитилась: «Да это же копия Джека Восьмеркина в детстве!», но младенец, по-видимому, уже тогда решил стать бизнесменом, и сравнение с хорошеньким, но неудачливым табачным торговцем вызвало его оглушительный рев к великому расстройству искренне восхищенной тети.
Прозвище Восьмеркин оказалось, однако, прилипчивым, чего он мне так до конца и не простил, хотя уже и позволял иногда, в присутствии матери, пользоваться в песочнице своими пластмассовыми формочками, известными в детских кругах послевоенного поколения под названием «пасочек». Всю свою нерастраченную нежность я отдавала Таракану, и тут было полное понимание, несмотря на его гадкий характер.
Баронессу этой зимой пригласили на занятные посиделки к бывшему врачу, а ныне уже известному питерскому экстрасенсу. Присутствующие пили чай и весело слушали магнитофонную запись с рассказом какого-то подопытного мужика о полете его астрального тела на далекую обитаемую планету. Астральное тело приземлилось в неведомых земной ботанике кустах и наблюдало оттуда за аборигенами.
Когда те заметили незваного гостя и стали приближаться к кустам, то голос мужика на магнитофонной ленте сорвался от страха, и астральное тело запросилось назад на Землю. Баронесса утверждала, что почувствовала его ужас почти синхронно и тут же выронила чашку с чаем. Экстрасенс, внимательно наблюдавший за компанией, поздравил ее с успешным прохождением теста и зафиксировал выдающиеся способности по этой линии.
В связи с этим, Баронесса некоторое время пыталась прикинуть, что получится, если перевести свои потусторонние способности в рублевый эквивалент, но потом решила в свободное от своих поликлинических обязанностей время заняться преподаванием лечебной гимнастики, что сулило более быстрые выгоды. Все сошлись на том, что нужно засылать на другие планеты астральное тело Барона, поскольку способность этого тела находить собутыльников представлялась беспредельной и могла быть полезной при налаживании космических контактов.
Алкогольная тема подвигла тихую Лиду на рассказ об одной веселой французской паре, приехавшей для осмотра архитектурных ансамблей Северной Пальмиры. Лида верой и правдой служила им гидом целую неделю, после чего ей предложили «труа». Обижать отказом иностранных гостей не полагалось, если речь, конечно, не шла о плане секретного завода, поэтому, поколебавшись, Лида вынула из сумочки один рубль с мелочью, объяснив, что «труа» по-русски предполагает одну треть от стоимости поллитровки, и ничего более.
Французы веселились от души, признав Лидин отказ весьма остроумным.
Уже темнело, когда за домом весело залаяли собаки, и у беседки появилась Наталья Виргай с лохматой колли Джесси. Наталья была весьма решительной уравновешенной особой, знающей в этой жизни что, где, когда и почем. Зимой она преподавала словесность в одном из питерских учебных заведений, а летом предводительствовала в Пакавене компанией нудистов веселого среднего возраста и их не менее голых детей.
Они гнездились на маленьком лесном озере Кавена в полутора километрах от деревни в сторону от райцентра, где более трехсот лет назад был хутор Пакавене, а теперь на этом месте в западине за озером жил лесник, женатый на дочери звонаря Ремигиуса. Деревня впоследствии переместилась на берег большого озера, и теперь питерские нудисты могли приводить в ужас только случайных туристов, а постоянные жители уже не обращали на них внимания.
К достоинствам Пакавене относилась крайняя снисходительность к городским чудачествам, поскольку дачники привносили зримую лепту в семейный доход и существенное разнообразие в монотонную деревенскую жизнь. Но в этой снисходительности проглядывалась и значительная доля нематериальной терпимости по отношению к чужому образу жизни, что особо ценилось городскими людьми, и они чувствовали себя в деревне вполне комфортно. Дачников четко отделяли от туристов, обитавших на турбазе, продавая последним молоко в два раза дороже.
Наталья была до того деловой женщиной, что в год звезды полыни отдыхала с крайне дефицитным по тому времени счетчиком Гейгера, и каждый раз измеряла на рынке уровень радиоактивности петрушки, вызывая сильное возмущение в торговых рядах. Тогда она сосредоточилась на проверке грибов, и сосны взирали на ее эксперименты с абсолютным равнодушием. Этот подержанный с виду коробок отчаянно пищал при любом контакте с материальным миром, и мы горестно оплакивали этот мир и себя самих, пока один знающий человек не признал его безнадежно испорченным.
Несмотря на вывод специалиста, предусмотрительность Натальи производила огромное впечатление, поскольку после чернобыльских событий грибы, как истинно сатанинские создания, тут же принялись впитывать в себя всю апокалиптическую нечисть. Есть или не есть — вот в чем был вопрос сезона, но я все же не удержалась от соблазна, положившись, как и мои единомышленники, на национальный «авось».
Наталья собиралась в очередной поход на старую минтяйскую мельницу, неподалеку от которой были средневековые курганы. Мы воодушевились и стали расспрашивать Алоизаса про курганы, но вдруг мне пришло в голову, что я уже не первый год собираюсь посетить эту мельницу, но почему-то так и ни разу и не дошла до нее — всегда что-то мешало.
Тут подошла моя хозяйка Жемина, и разговор переключился на недавние события. Барон явно чувствовал себя обойденным, поскольку все самое интересное случилось до его приезда. Жемина сказала, что с туристкой дело нечисто — старухи в деревне думают, что это сделали не кабаны, а оборотни.
— А знаете, как умерла дочь Вельмы? — спросила вдруг Жемина. Мы знали, что помимо трех могучих сыновней — председателя соседнего колхоза, местного прокурора и работника столичного министерства, у Вельмы была младшая дочь, о которой она грустила уже много лет подряд. Оказалось, что летом сорок девятого года девушку нашли зверски убитой в пакавенском лесу. Сначала считали, что ее изнасиловали, но потом милиция эти слухи отвергла. Старухи в деревне тогда заговорили об оборотне-вилктаке.
Это сразу объяснило нам странные перемены в поведении Вельмы, произошедшие со дня страшной находки. Старая Вельма относилась к своим квартирантам очень сурово. Она обожала устанавливать очередность пользования газовой плитой и отбирать в наказание одеяла. Самые неугодные изгонялись с треском, и как-то изгнанная подобным образом Наталья Виргай подбросила в ее деревянный нужник килограммовую пачку дрожжей. Но к семейству Барона Вельма явно благоволила, а после того, как Барон вычистил ей выгребную яму во дворе (он не брезговал быть героем любой ценой), питала к нему просто-таки материнские чувства, и за постой мои друзья платили меньше всех. Все же последнее время Вельма ходила по двору с отрешенным видом, что-то бормотала себе под нос и с трудом отвечала на утренние приветствия.
Жемина в сорок девятом году была маленькой девочкой, но она хорошо запомнила это событие. В убийстве Вельминой дочери обвинили почтальона Тадаса, мужа молоденькой Эугении, будущей деревенской учительницы, но спустя некоторое время его выпустили, благодаря показаниям Юлиуса, отца нынешнего звонаря, утверждавшего, что они с Тадасом в предполагаемый момент убийства распивали в баньке у озера бутылочку самогона. Дело закрыли, но учительница от мужа ушла, а сам он уехал в неизвестном направлении.
Уже после его отъезда отец звонаря был застрелен кем-то у сеновала на глазах жены и сына, но его смерть не произвела тогда на деревенских большого впечатления, поскольку накануне по соседству была зверски вырезана семья хуторян — родители и пятеро детей от двух до семнадцати лет. Их могилу мы все видели на местном кладбище, и по официальной версии виновниками считали лесных братьев, но случайный свидетель видел на хуторе солдат из воинского эшелона, рыскавших по округе в поисках пищи. Страшное было время для добрых людей!
Засиделись допоздна, и Барон пошел проводить меня. Мы оба — вместе со всей страной — испытывали страшный дефицит триллеров, а официальные сведения о вурдалаках ограничивались стихотворением Пушкина («Трусоват был Ваня бедный…») и произведениями Алексея Толстого. Сообщение, что Барону удалось посмотреть фильмы с Дракулой, потребовало обсуждения, затянувшегося почти до рассвета. Я рассказала, как в детстве мне подарили на день рождения толстую книгу с романами «Вампир» и «Князь Серебряный», и я спросила бабушку, о чем же идет речь в первом романе.
— Про тяжелую жизнь людей в дореволюционной России, — ответила она мне тут же из кухни, — и помещиков-кровопийц.
Я начала читать, и уже на второй странице, где бабушка — помещица выходит с кровавым ротиком от заболевшей внучки, поняла, что меня разыграли, и забилась в угол дивана.
У Барона была привычка нависать над собеседником, и для сохранения границы минимального жизненного пространства тот вынужден был отступать (эту границу могут переходить только дети с родителями и влюбленные, что, как правило, не соблюдается в переполненных автобусах). Таким образом, мы за ночь обошли дом несколько раз, причем Барон лично изображал Дракулу, откидываясь назад, размахивая рукавами и скаля свои белые зубы, не ведавшие до сих пор флюсов и бормашин.
Европейское происхождение вампиров было очевидным, но мы оба сошлись на том, что нечисть, по-видимому, заводится в Карпатах, в тех местах, где обнаружены неизвестно откуда взявшиеся экзотические каменные глыбы, более древние, чемсами Карпаты. Злачное местечко имелось, конечно, и на горе Броккен, где в Вальпургиеву ночь на первое мая происходят панъевропейские симпозиумы неформалок, но это была другая тусовка без участия кровососущих спецов.
Спустя несколько лет испанский невропатолог Хуан Гомес Алонсо связал появление вампиризма с его сверхчувствительностью, гиперсексуальностью и привычкой бодрствовать по ночам со вспышками эпидемий бешенства, свирепствовавшими в тех краях по свидетельству исторических документов. Но мы этого еще не знали и систематизировали свои знания о способах борьбы с вампирами (осиновый кол, колокольный звон, серебряная пуля, обезглавливание и предметы христианских культов), пытаясь выбрать наиболее действенную методику без серьезного научного обоснования.
Барон наотрез отказался носить на шее венок из чесночых головок, уповая на свой протестантский крестик. Но я красочно описала, как уже укушенная кем-то Баронесса снимает этот крестик с нетрезвого сонного мужа (задача плевая!) и придвигается клыками к беззащитной розовой шее. Барон вздрогнул, поскольку все сходилось — у Баронессы были трансильванские предки, странные способности и таинственный шрам на шее, происхождения которого он и сам не знал.
Перейти к оборотням-вервольфам напрашивалось само собой, но из хозяйского окна поступило предложение не мешать людям спать. Подыматься в кромешной тьме по лестнице после таких разговоров было страшновато, и я постаралась сделать это как можно быстрее, пока Барон милостиво согласился постоять пару минут на крыльце.
— Вопреки всему, лето началось, — думалось мне перед сном, — но я уже не внучка. А тут еще оборотни!
Я вспомнила, что в славянских мифах в оборотней-волкодлаков превращались участники свадеб.
Волкодлаки — это и волки, и медведи. Говорят, что совсем рядом, в Ужвинтяйской пуще прошедшей зимой видели медведя…
Тут мои мысли заскользили по накатанным рельсам — я вспомнила вещий сон Татьяны Лариной, где медведь, словно местный бог Пизюс, отдавал невесту своему куму и тут же исчезал, сам превращаясь в этого зловещего кума-жениха. Где-то здесь, совсем недалеко, в лесах бродил безумный Локис, и невесте никак не хватало любви, чтобы изгнать зверя из его разрываемого страхом тела, как это удалось в Карпатах маленькой дурочке из сказки Шварца.
Последний медведь мне и приснился, он уже давно бросил свою принцессу и сейчас обижал невинных девочек в пушкинском заповеднике, намереваясь скрыться потом от алиментов в Мценском уезде на дворе скучающей купчихи…
Первый кино-любовник Советского Союза! Избави мя от лукавого!
Глава 2
Этим утром должен был появиться вдовствующий Генрих, отец Барона, которому, наконец, надоели всем известные радости сочинского побережья. Мы ни разу не встречались, хотя были наслышаны друг о друге предостаточно. Его поселили в Нижней Пакавене, облюбованной нудистами, но в день приезда узреть почтенного папашу мне так и не удалось, так как он мгновенно (не думай о мгновеньях свысока!) подружился со своим молодым хозяином Витасом и до глубокой ночи, не выходя из комнаты, обмывал начало летнего отпуска.
Следующим утром меня посетил Таракан с весьма важным сообщением — дедушка готов нанести визит лучшей подруге своего сына и просит узнать — дескать, нет ли у нее какой-нибудь малости от головной боли.
Дедушка, по-видимому, уже имел точные сведения относительно того, что я привезла изрядное количество медицинского спирта, списанного в одном месте за полной ненадобностью. Я передала, что официальная встреча состоится в нашей беседке, куда минут через двадцать и будет подан завтрак, но дедушка явился уже через минуту (вероятно, он поджидал внука за ближайшим углом), мы поздоровались, и я быстро передала его для знакомства своему хозяину Юмису. Таракан вежливо осведомился об особенностях сегодняшнего меню.
Он искренне ценил те дни, когда ему удавалось позавтракать до того, как я встану — в этом случае этот растущий организм еще раз завтракал вместе со мной.
Юмис с Генрихом оживленно разговаривали, стоя боком у беседки, куда я носила творог со сладкой подливкой из порошка какао и куски фальшивого зайца с грибным соусом. Под фальшивым зайцем в местных кулинарных отделах значилась гигантская говяжья котлета с вкраплениями свиного сала, то есть у зайца подразумевался спереди пятачок с рогами, что, безусловно, отдавало фальшью. Ближайшие к столу глаза у обоих фигурантов были скошены, и беседа прервалась на полуслове, когда я вынесла заветную бутылочку, именуемую в народе «раиской» (0,33л) со спиртовой настойкой на перегородках грецких орехов (главное — разводить крутым кипятком!).
Каждому досталось по сто пятьдесят грамм, то есть по три «двойных», от чего разочарованные жизнью герои Хемингуэя за вечер напивались в стельку. Мои визави жизнь любили страстно и были гораздо опытнее рефлектирующих питомцев дяди Сэма, признаваемых в наших литературных кругах, по странной нелепости бытия, за настоящих мужчин. Эта малость существенно улучшила утреннее самочувствие моих соотечественников, и Юмис при этом закурил, а Генрих заворковал, оказавшись при более тщательном рассмотрении представительным моложавым шатеном со старомодными манерами послевоенного обольстителя, до сих пор приносившими ему лавры в среде молоденьких студенток (когда я был на конференции в Праге…, когда я был на симпозиуме в Варшаве…).
Во враждебное зарубежье его явно не пускали, и через полчаса он исключил меня из состава своих избирателей, решив не растрачивать чары впустую. Юмис, напротив, остался весьма доволен мной, поскольку я нарушила под благовидным предлогом приезда старого Барона строжайший запрет его супруги (не подносить!), и ему не пришлось рыскать по деревне в поисках утренней рюмочки.
Я показала Генриху турбазу, где была масса всяческих удобств — библиотека, газетный киоск, телевизор, летний кинотеатр, спортплощадки и душевые с гладильней. Можно было ходить в местную столовую, но мы посещали только маленький бар с огромным мобилем в виде соломенной утки под низким потолком. Туристов было великое множество, но они, странным образом, почти не просачивались за пределы турбазы. Дня два их инструктировали, как нужно отдыхать, делая всем подряд, на всякий случай, показательное искусственное дыхание, а потом уводили в дальние походы. Возвращались они уже парами, готовили веселый самодеятельный концерт и уезжали восвояси. Им было не до леса, но в их распоряжении были кустистые поляны вокруг базы, где постоянно горели прощальные костры и прощальные поцелуи.
Еще в прошлом году по вечерам на турбазе играли ленинградские музыканты, и мы ходили любоваться на высокого бородатого музыканта Сан Саныча, руководившего оркестриком с упоительной элегантностью.
Музыка начинала играть во время вечерней дойки, и молоденькая жена Сан Саныча тут же являлась к Жемине за молоком со светлой веревицей на чистом лбу и в длинном льняном платьице с красной вышивкой по подолу. Она становилась у большого бидона с крошечной дырочкой на боку, залепленной эпоксидной смолой, а Юмис всегда крутился рядом и тяжко вздыхал от невыносимой прелести этого зрелища.
Сейчас же на турбазе организовали дискотеку, и по вечерам крутили магнитофонные записи, а киевские диск-жокеи, неизвестно как оказавшиеся так далеко от Украины, завывали в музыкальных паузах неестественными голосами, путая английский с малоросским и мешая видео-зрителям в соседней пристройке наслаждаться воплями американских ментов из «Полицейской академии».
Генрих рокотал приятным басом, регулярно подтверждая в ходе разговора свою репутацию злостного циника, случайно не унаследованную сыном. Мы прикупили в киоске свежих газеток и заглянули в фойе центрального здания, где небольшая группа туристов напряженно ждала перед голубым экраном окончания беседы ведущего тележурналиста с упитанным господином в темно-сером.
— По-моему, это Петр Ильич Иванов, заведующий сектором легкой промышленности — сказала я Генриху, поразив философа недетской осведомленностью.
В этот момент беседа кончилась, и на голубом экране появилось долгожданное мгновение весны — одно из семнадцати возможных. Мы ушли погулять вокруг главной клумбы с оранжевыми тагетесами, именуемыми на Руси бархатцами, а потом присели на лавочку взглянуть, что пишут сегодня в самой центральной газете. Генрих открыл газету и издал приятное ржанье, а дальше мы уже хохотали вместе, потому что уже лет пять, как я тоже начинала чтение газет с заголовков, подставляя их под воображаемое неприличное изображение — было такое развлечение в наши времена у интеллигентных людей.
К концу экскурсии мы вполне притерпелись друг к другу и раскланивались у почтамта весьма церемонно и почтительно. Лет через десять, уже смертельно больной, он издаст небольшую книгу рассказов «Путешествие по эпохам», и они поразят меня не только безыскусной правдивостью и предельной точностью описания деталей, но и своим неожиданным простодушием. Один Бог знает, где искать нас настоящих — быть может, так важен тот единственный миг, когда мы, сбросив пестрые одежды, как капустные листья с материнского огорода, последний раз всплываем на поверхность Леты и смотрим на зеленые берега?
В нашем дворе стоял звериный рев, и дачные старушки, поджав зады, разбегались по своим комнатам.
Было абсолютно ясно, что снова появился Виелонис, немолодой спившийся художник, промышлявший теперь мелкой спекуляцией. Этот приземистый квадратный тип с непомерно волосатым брюхом терпеть не мог старух, и, узрев на своем пути какую-нибудь мирную усохшую старицу, тут же начинал поливать ее густо и отборно.
К ужасу стариц он частенько селился в замызганной зеленой палаточке на огородных задах под самым холмом, и с этого плацдарма терроризировал не только почтенных дачниц, но и проходящих по двору молодиц, зазывая последних зычным ревом заглянуть в свое сомнительное жилище. Место, куда он ежегодно ставил палаточку, обозначалось по весне необычайно густой и сочной травой, поскольку ночевки в пьяном виде на сырой земле кончались — пусть бог простит за трущобный натурализм — элементарным недержанием мочи.
Этот вонючий господин был давним партнером свекра нашей хозяйки по янтарному бизнесу — Виелонис где-то доставал левый янтарь, а Станислав распространял его среди туристов, желающих подлатать обувь в маленькой мастерской у турбазы. Подметки у туристов горели от активного образа жизни синим пламенем, и недорогие янтарные сувениры пользовались большим успехом, но время от времени у Станислава в бизнесе случались проколы, и он отсиживался в ближайших к дому можжевельниках, пока его партнер ревел на дворе, требуя своей доли. Как-то раз в наказание Виелонис попытался увести у Станислава козла, но Станислав углядел это из можжевельников, и старики крепко подрались, вырвав друга у друга по клоку волос и примяв невинное животное. Впрочем, изначальная невинность козлов ставилась под сомнение еще в библейские времена.
Появление Виелониса рассматривалось в деревне как стихийное бедствие, поскольку он успел за свою жизнь напакостить в каждом дворе Пакавене, и единственным человеком, которого он боялся, была моя подруга. Их первая, но до сих пор не забываемая в деревне встреча, произошла на кухне нашего дома, где Баронесса жарила лисички. Внезапно возникший сзади Виелонис предложил услуги прекрасной незнакомке достаточно прямо и определенно, но реакция Баронессы отличалась завидной скоростью, и поворачивалась к кавалеру она уже вместе с раскаленной сковородой. Отступая назад, Виелонис не углядел порога и скатился по каменным ступенькам, сломав ребро. С тех пор в деревне про Баронессу говорили так: «Это та, которая Виелониса…», а Виелонис, встречая Барона, каждый раз хмуро спрашивал:
— Это твоя баба? — и, получив утвердительный ответ, тут же давал ценный совет, — разводись!
Отвлекшись от старушек, Виелонис сделал мне громкое неприличное предложение, а я тихим ровным голосом указала ему спасительный путь. Это был наш обычный беззлобный ритуал — я искренне восхищалась его порочностью, а он, прекрасно сознавая мощь своего отрицательного обаяния, обрушивал ее на мою персону всякий раз, когда мне не удавалось увернуться. Выражался он весьма заковыристо, и старушки, несмотря на искреннее возмущение, слушали его всегда с искренним интересом.
Наш мирный диалог с Виелонисом был прерван хозяйкой. Жемина с взволнованным видом тащила в двух больших ведрах то, что осталось на тарелках туристов после завтрака. Все, кто устраивался на работу в турбазу, немедленно заводили поросят, потому что на тарелках оставалось таки порядочно, и повара туристической столовой пользовались в деревне особым уважением. Как оказалось, Жемина с минуты на минуту ждала мясника — предстоял разговор о поставке говядины к свадебному столу. Пока мы обсуждали с хозяйкой волнующий ее материнское сердце вопрос о размерах поставки, Виелонис заскучал и уполз в палатку.
Оставшись, наконец, не у дел, я посмотрела за огород на верхушки сосен, и прислушалась к силовым полям, чья внезапная активность вызывала в этот тихий час некоторое недоумение. Полюс сейчас явно находился в направлении моего взгляда, и земное притяжение неумолимо повлекло меня на тропинки пакавенского леса, где полуденные испарения уже полнились пряным можжевеловым духом, и песчаные рытвины под большими соснами свидетельствовали о таинственной ночной жизни, полной мистических ужасов из самых древних языческих сновидений, когда мир был полон первоэлементов конструктора, еще не собранных в единое жесткое божество, и оно являлось нам в темных тотемных ликах, удивляя разнообразием и вездесущностью своих явлений. Короче говоря, пора было идти в лес, и я унесла свою корзиночку прочь со двора.
Кое-где по обочинам дорог уже краснели ягодки земляники, а за большой деревянной скульптурой, изображающей недолгую тусовку соломинки, пузыря и лаптя, зеленый мох за ночь расцветился оранжевыми лисичками. Их красота, чистота и уместный коллективизм удивили меня в который уж раз, и я забыла обо всем на свете. Часа через три, однако, стало невыносимо жарко, но озеро Кавена было не за горами. Через пятнадцать минут я вышла тропинкой на лесную дорогу прямо к повороту на озеро.
Перед мостками на одеяльце загорала молодая и предельно обнаженная пара — Игорек, солист балета питерского оперного театра, и Леночка, гримерша этого же театра (по общему мнению, дело у них шло к свадьбе), тут же сбоку стояли белые «Жигули» с незнакомым московским номером. Из пустого салона, как из пересохшего аквариума, неслись мужские жалобы:
Что толку быть в тебе, Горелая вода, Когда пятнадцать баб Вернутся навсегда…
На мостках в окружении двух абсолютно голых дам сидел неизвестный мне Красавец. Дамы же были хорошо известны — Наталья Виргай и ее приятельница Ольга, сотрудник Эрмитажа, и занимались они своим обычным делом — уговаривали очередную жертву вступить в ряды нудистов. Для вступления в эту секту нужно было сбросить одежды самому и уговорить раскрепоститься подобным же образом кого-нибудь из традиционалистов. Тут же под солнышком собака Джесси сушила свое мохнатое рыжее одеяние, благодаря которому ей никак не удавалось вступить в нудистскую партию.
Разгадать истинные намерения дам для опытного пакавенца было делом нехитрым — Наталья в неустанных поисках полезных деловых связей никогда не упускала случая завести новое знакомство, а Ольга всегда имела такой одинокий и приятный вид, что ее сразу же хотелось удочерить. Таким образом, речь шла вовсе не о здоровой конкуренции, а о массированной атаке объединенных нудистских сил.
Красавец был твердым орешком, с чем я его и поздравила к явному неудовольствию функционерок.
Красавец приятно улыбнулся и спросил, не имею ли я альтернативного предложения купаться в джинсах. Я заметила, что здоровый центризм еще никому не повредил, и пошла раздеваться, успев отметить, что он действительно очень красив — темный шатен в христовом возрасте с голубыми глазами и неженской фигурой.
В этих глазах можно было бы пропасть бесследно, и, обычно, такие типы хорошо смотрятся на экране, но в быту страдают излишним нарциссизмом, поэтому я и не увлекалась красавцами после своего короткого неудачного замужества. С окончательным классификационным раскладом торопиться, однако, не следовало, потому что матушка-природа всегда сложнее любых наших представлений о ней и может преподносить всяческие сюрпризы.
— Жизнь все равно не складывается, — думала я, разглядывая его из-за кустов орешника, — неплохо бы завести ребенка от такого вот экземпляра, красивым детям легче живется на этом свете. Хотя…
Хотя время у меня еще было, и, по моему глубокому убеждению, спор о первичности курицы или яйца был абсолютно бесплоден, как и полученное таким образом яйцо. Первичен, если смотреть правде в глаза и забыть о Лилит, был, увы, петух (Бытие 6-26), а все остальное уже шло в качестве приложения. Это, впрочем, не умаляло моей симпатии к феминистскому движению, ратовавшему за свободный полет над ограждением курятника, и мне всегда было жаль, что у Екатерины Второй не было законной дочери. В конце концов, во времена российских императриц у нас на дворе была великая эпоха, и расплатиться при случае рублем за устрицы было можно — ну, если в Париж по делу срочно…
Озеро Кавена представляло собой маленькую бездонную букву «о» с небольшой илистой отмелью, заросшей слева от мостков камышом. К середине лета у противоположного берега в теплой воде расцветали белые лилии, но мы знали, что стоит нырнуть поглубже, как из черных глубин протягивались ледяные руки, и сердце бездумного купальщика сжималось от ужаса перед объятиями бездны. Детей поэтому пускали плавать с надувными кругами, а ныряли они только под самыми мостками, доставая со дна всякую всячину, типа потерянных в прошлые годы расчесок и мыльниц.
Один шустрый ребенок, по прозвищу Суслик, вытащил даже мельхиоровый нож, утонувший, вероятно, в ходе приятного пикничка. После некоторых размышлений Суслик снова утопил нож, утверждая, что русалки ежедневно скоблят им пятки, как это делает на мостках тетя Наташа. Весь бомонд с этим немедленно согласился — весь, кроме Натальи Виргай, которая уже примеривалась использовать в этих целях безопасные бритвы фирмы «Жилетт», внезапно появившиеся на советских прилавках. Человечество может отказать себе в чем угодно, но не в прогрессе!?
ЭтотСуслик, постоянно фигурирующий в летней Пакавене, была маленькой девочкой с копной темных волос, напоминавшая худобой своего шоколадного тельца, впитывавшего каждый лучик прибалтийского солнца, волчьего питомца Маугли. Она жила с родителями на первом этаже нашего дома, и Барон, не любивший брюнеток, постоянно ее задирал. Суслик относилась к нему, как к соседскому хулигану, и я сама однажды была невольным свидетелем их занятного диалога, когда Барон, придя после предварительной пикировки в состояние крайнего раздражения, довел до ее сведения, что она абсолютная дура, а Суслик вежливо отвечал, что он и сам такой же.
Не успела я снять джинсы, как из-за поворота дороги донесся радостный визг, и появился бородатый композитор Сидоров, обремененный своими и чужими детьми. Сидоровтак любил детей, что, спустя года три, открыл со своим приятелем Колокольчиковым детский музыкальный театр, и они завоевали, впоследствии, на этом деле какую-то премию типа «Золотая пасочка». Сейчас же он нес полоскать постиранное им самим постельное белье, а была ли у него супруга — мне так и не удалось понять. Не исключено, что дети просто отпочковывались от Сидорова, и при этом его не убывало. Все вновь прибывшие мгновенно разделись догола, и Сидоров зашвырнул простыню в воду.
Процесс полоскания простыней был на Кавене весьма увлекательным занятием, так как можно было прыгать с мостков на распластанные по поверхности полотнища. Вот тут меня и постигла беда! Собака Джесси обожала прыгать в воду парой, а я частенько ее обманывала, только имитируя прыжок. При этом Джесси не удерживалась и сваливалась в воду в полном одиночестве, а потом выбиралась на берег с громким обиженным лаем, взмучивая ногами черный жирный ил.
Когда я прыгнула на сидоровскую простыню, Джесси тут же сиганула вслед. Простыня не дала уйти мне под воду достаточно быстро, и собака, почуяв неладное, стала загребать когтями по моей спине. Результат оказался весьма плачевным. По общему мнению, композиция из простыни, женщины и собаки, замоченная в черной воде с кровью выглядела нестандартно, но лично я предпочла бы оказаться в толпе зрителей. Убитая непонятным, собака поползла на берег, я же поднялась на мостки и сказала: «Ну, вы, ребята, даете!» (эта фраза в чуть измененном варианте впоследствии стала ключевой в «Особенностях национальной охоты»).
Самым расторопным оказался Красавец — именно он успел подать мне руку, осмотреть спину и предложить воспользоваться его автомобильной аптечкой. Мы отошли к машине, где он быстро смазал царапины йодом и какой-то мазью.
— Что это за мазь? — спросила я в силу природной недоверчивости.
— Это вытяжка из свиного глаза, мне подарили мои коллеги из Института Гамалея, они сами ее составляют, и раны рубцуются в момент.
— Значит, я в руках профессионального лекаря?
— Безусловно. Полагаю, минут через десять раны подсохнут. Я могу подвезти вас к дому, мне все равно пора уезжать.
— Ну, как там, очень страшная картина? — спросила я, поблагодарив за помощь.
— Не очень, до свадьбы заживет.
— Значит, через неделю!
— Вас можно поздравить? — спросил он, помолчав.
— Нет, свадьба у хозяйского сына, но я приглашена.
— Значит, вы дачница?
— Да, уже пять лет. А вы, какими судьбами в Пакавене?
Оказалось, он приехал отдохнуть сюда по рекомендации своей знакомой, и первые часы оставили самые благоприятные впечатления о здешних краях. В благодарность за помощь я рассказала о кабаньей опасности и обрисовала вкратце местные достопримечательности.
— Так вы едете со мной?
— Пожалуй, я воспользуюсь вашей любезностью еще раз.
По неровной лесной дороге он вел машину очень медленно, а я сидела боком, не прикасаясь к спинке сиденья, и разглядывала своего спутника, чувствуя, как майка потихоньку прилипает к ранам. Машина вырулила на шоссе и через пять минут достигла Верхней Пакавене.
— Где же ваш дом?
— Вот этот, с резными конскими головами на крыше. Но, если можно, остановитесь немного подальше, у сосен.
— Сколько вам лет, Марина Николаевна? — спросил он внезапно, взглянув на дом.
— Двадцать семь, — ответила я с металлической ноткой в голосе, — но я знаю, что выгляжу студенткой старших курсов, если вы об этом.
— Всего доброго, — произнес любезный доктор, — обращайтесь ко мне при необходимости, я поселился не так уж далеко.
— Не укладывается он пока в предполагаемый типаж, слишком уж сдержан и деловит, — подумала я, еще раз утонув на прощание в его голубых глазах.
Зализывание ран — дело интимное, и я вернулась домой кружным путем, не попадаясь тетке на глаза, чтобы уберечь стариков от излишних отрицательных эмоций. Андрей Константинович, а именно так звали Красавца, поехал в райцентр за мелкими покупками. Через час появилась Баронесса с сообщением, что к Вельме в гости приезжали сыновья — председатель колхоза Вальдас и прокурор Титас. Братья любили обговаривать свои дела в мамашиной баньке с кружечками пива в руках, и Барон всегда присутствовал на этих переговорах в качестве члена-корреспондента, после чего отбывал в поместье председателя на всю ночь для завершения культурной программы.
Обычно после таких поездок Барон с утра был вялым и прибегал просить пятнадцать капель (почему именно пятнадцать — сказать сложно), что соответствовало примерно двум двойным. Баронессу подмывало совершить в знак протеста какую-нибудь акцию, и мы, надев темные очки, шляпки и приличные платьица, посетили для начала местный бар, где выпили по чашечке двойного кофе с пресноватыми крекерами.
Сочетание природной дикости и цивилизации в Пакавене было немыслимым, и даже местные крестьяне, приодевшись по праздникам, выглядели законченными буржуями, чего не увидишь в русской деревне.
За соседним столиком сидели две девицы в темных очках и одинаковых желтых мужских галстуках на голых шеях, потягивая через соломинки свои коктейли с уму непостижимой важностью. Старшая девица, с нахлобученной на лоб синей шляпой, звалась Татьяной, а ее малолетняя подруга в ретро-платочке и глазами в стиле «вамп» откликалась в Пакавене на имя Суслик. Они, как и мы, раздумывали, чем же расцветить в ближайшее время свое недолгое существование на этой земле…
Вернувшись домой, я отправилась к тетке и, войдя в комнату, увидела там давешнего знакомца, беседующего с Виктором Васильевичем.
— Познакомься, Марина, — сказала тетка, — это Андрей Константинович, он последнее время лечит Виктора, я тебе рассказывала. Андрей Константинович прибыл недавно, пока ты была в лесу, и сразу же поехал купаться на Кавену.
И ведь действительно, она не раз рассказывала мне, что года три назад случайно встретила своего сокурсника по химфаку, у которого племянник оказался доктором наук, заведующим какой-то странной медицинской лабораторией. Они возобновили знакомство, племянник по дядиной просьбе начал лечить Виктора какими-то новыми иностранными препаратами, и состояние дядьки существенно улучшилось, хотя наблюдать со стороны, как он принимает по три чайных блюдца таблеток в день, было невыносимо. Судя по рассказам тетки, я представляла себе это медицинское светило несколько иначе.
— Марина Николаевна, этнограф, — представилась я заново светским голосом, — и где же Наталья Николаевна вас поселила?
— В этом же доме, на втором этаже, — ответствовал гость, и глаза его засмеялись. Я моментально сообразила, что единственная пустая комната из четырех возможных в мансарде отделяется от моей угловой кладовкой, где зимой хранились наши с теткой дачные вещи. Да, дела…
Мы поужинали на террасе отварной картошкой с тушеными в сметане лисичками и поджаренной щукой, гость внес лепту свежей клубникой, а также бутылкой сухого вина, доставшейся целиком молодежи.
Щуку подарил добренький Барон, но дядька рвался в бой сам, хотя и не мог влезть в лодку без посторонней помощи. Надежды заполучить компаньона оправдались — оказалось, доктор уже успел купить в райцентре соответствующую лицензию, и они сговорились порыбачить.
Я немного рассказала о здешних тусовках и грибных местах, а, когда разговор коснулся печальной темы, доктор выразил желание посетить могилу бабушки — оказалось, он успел подружиться с Евгенией Юрьевной, и я пообещала сходить с ним на кладбище. Старики относились к Андрею Константиновичу с превеликим почтением, а он держался довольно мило, с веселой солидностью, и подробно расспрашивал, чем я зарабатываю себе на жизнь. Про детали состоявшегося ранее знакомства гость и не заикнулся, и, хотя это было моей инициативой, и его понятливость заслуживала похвалы, наличие общей тайны с этим излишне уверенным в себе человеком меня раздражало. Поэтому я так и не предложила показать гостю турбазу, и после ужина, пожелав всем спокойной ночи, пошла навестить временно вдовствующую Баронессу.
В ее флигеле, в связи с отлучкой Барона, зрел заговор, и третий его участник — местная почтальонша Ирена, тоненькая симпатичная блондинка, чей супруг Витас все свободное время намеревался теперь проводить в обнимку со своим квартирантом Генрихом, уже была на месте. Затевалось устройство альтернативного девичника, и, обговорив детали, Баронесса посмотрела мою спину и подмазала ее йодом, пообещав, что послезавтра все заживет. Я в ответ вынула из кармашка рубль, и подруга расцвела — она обожала получать гонорары, а я любила радовать друзей в нужное время и в нужном месте, и мы с удовольствием играли в придуманные нами игры.
Следует отметить, что сравнительно недавнее буржуазное прошлое республики сильно сказывалось на менталитете аборигенов. Все, кого я знала в деревне, занимались мелким частным предпринимательством еще до того, как это вошло в моду. В нашей баньке, оккупированной Стасисом, стоял маленький печатный станочек, украшавший заурядные пластиковые пакеты импортными орлами штата Монтана, а у Жемины были поставщики левого трикотажа, распространявшегося ею среди туристов. Наш хозяин Юмис кому-то что-то строил из древесины, чья ботаническая принадлежность была вполне очевидной, в отличие от ее социального происхождения, а старый Станислав, отец Юмиса, помимо занятий левым янтарем, латал обувь дачникам, минуя свою мастерскую, и коптил желающим кур, колбасы, сало и угрей.
Угри представляли здесь самую твердую валюту, и все знали, сколько угрей стоил Юмису фальшивый больничный лист во время заготовки сена, сколько угрей освободили Стасиса от армии, а сколько — позволили Альгису, второму хозяйскому близнецу, проходить службу в пределах республики. Врачи в больницах тоже любили эту рыбку, хотя плановые уколы пенициллином шли в последнее время по рублю. Впрочем, с приезжих не брали — мало ли кто куда сообщит, и родители Суслика, когда ребенка в позапрошлом году прихватило с аппендицитом, засвидетельствовали свое почтение коньяком «Наполеон», как это было принято в московских клиниках.
Бывшая учительница Эугения приторговывала небеленой шерстью, а вязальщиц салфеток, льняных юбок и шерстяных свитеров в деревне было счесть не перечесть. Браконьерские меха сплавлялись в город Ленинград, здесь они почему-то не шли. Одна портниха давала напрокат всему району длинные свадебные платья, а в конце деревни в огромном подвале сарая Бодрайтисов с выездом под стеклянной оранжереей обслуживались частные автомобили.
Баронесса мгновенно усекла этот капиталистический дух, не угасший в республике при реальном социализме, и включилась в игры со страстью новообращенца. Она имела в деревне небольшую врачебную практику, и местные люди отдаривались от Баронессы прошлогодней картошкой и свежими яйцами, но при этом все были довольны, памятуя притчу о местонахождении бесплатного сыра. Сейчас, к примеру, с земской докторшей велись переговоры о тайном лечении сынка местного туза, подцепившего на турбазе дурную болезнь. Она измеряла давление, массировала натруженные спины, делала уколы и привозила из Ленинграда дефицитные лекарства. Денег семье всегда не хватало, так как Барон, будучи в юности откровенным шалопаем, получил диплом о высшем образовании только в этом году, увеличивая стипендию все эти годы мытьем химических стаканов (шестьдесят рублей в месяц) и резьбой недорогих, но очень изящных изделий из коровьих рогов и бивней мамонта.
В последующие годы подобная расторопность на Руси уже не вызывала удивления, но тогда это выглядело непривычным и захватывающим. Вообще с Баронессой соскучиться было невозможно, и мой рубль был не платой за услугу, а признанием конкурентоспособности Баронессы в этом мире и ее права на свободный труд.
На прощание Баронесса рассказала нам леденящую душу историю о встрече последнего Нового года. За полтора часа до главного события им позвонил Генрих и пригласил к себе, поскольку временно был одинок и несчастен. Они отвезли Ваню на такси к матери Баронессы, и за четверть часа до двенадцати прибыли на место встречи, но к тому времени Генрих уже спал, уничтожив предварительно весь имеющийся запас спиртного. Достучались они до него только в начале первого, и тут же уехали назад, разыскав такси с большими трудностями и по двойному тарифу.
— Кстати! — сказала баронесса, — Генрих на тебя очень жаловался. Говорит, ты мурыжила его полдня с завтраком, вместо того, чтобы сразу налить. И фасон твоего платья ему совсем не понравился.
Я приняла это к сведению, и мы расстались. Во дворе никого не было, кроме маленького Восьмеркина, производившего в песочнице куличики. Увидев меня, младенец тут же выронил из рук желтенькую пасочку и залился слезами. На его рев из-за угла выбежала Татьяна и безропотно унесла малыша в беседку. Когда я подошла к дому, унося свою израненную несправедливой детской слезинкой душу, из окна выглянула пани Вайва, свекровь Жемины. Разукрашенное во все цвета радуги личико старой пани выглядело в обрамлении оконной рамы весьма живописно. Ей самой окно служило голубым экраном, демонстрируя ежедневно весь набор программ от «Утренней гимнастики» до «Спокойной ночи, малыши», после чего старица удалялась на покой.
Мое появление в кадре старушку всегда радовало, поскольку я почтительно раскланивалась с ней и подносила, при случае, плошечку с ягодами. Русским языком она предпочитала не пользоваться, и у нее была для меня отдельная ласковая фраза, которую Жемина переводила примерно так: «Невеста с глазами цвета леса».
Сейчас же ее нарумяненные щечки тряслись от страха.
— Не ходи одна в лес, не ходи. Он где-то тут, он уже триста лет убивает наших девушек.
— Кто он, пани Вайва?
— У него шерсть на груди, а лица я не разглядела. Мне было двенадцать лет тогда, я убежала от него и сломала около дома ногу.
— Спасибо, пани Вайва, я поберегусь.
За кладовкой было тихо — мой сосед, видимо, вкушал где-то прелести дачного сезона (интересно, где?), но, спустя некоторое время, послышались мужские шаги и дверь слева слегка скрипнула. Немного погодя, когда я уже отходила ко сну, стараясь лежать только на боку, под моими окнами раздались знакомые голоса.
Оказалось, к вечеру на один денек прикатил Александр Иванович, муж Натальи Виргай, технарь по образованию, возводивший летом совхозные коровники в составе лихой бригады шабашников, пока жена с сыном отдыхали в Пакавене. Его напарник Юрка Тищенко, невысокий бородатый симпатяга средних лет, декоратор одного из питерских театров, прибывший вместе с ним, радостно замахал мне в окно. Тут же находились и прочие обитатели Нижней Пакавене, включая нетрезвого Сидорова, уже уложившего спать своих и чужих детей.
— Захвати сковородки, Надежда приехала, — сказала мне Наталья. Я порылась в кладовке и запихнула в сумку полный кухонный комплект из обширной коллекции теткиной дачной посуды. Надежда приноровилась одалживать его каждое лето, поскольку приезжала в Пакавене с маленьким узелком, свидетельствующим о полном пренебрежении к быту.
— Идем с нами, возместим тебе физический ущерб, — сказали весельчаки, намекая на вину своей лохматой любимицы. В Нижней Пакавене уже стоял накрытый стол, и за столом сидела Надежда, высокая мускулистая брюнетка с короткой стрижкой, соратница Натальи по педагогической и нудистской деятельности, преподававшая физкультуру в каком-то питерском техникуме. По слухам, она была даже замужем, но отдыхала всегда одна и рассматривала Пакавене, как большую спортивную арену.
Вновь прибывшие тщетно уговаривали меня скинуть кофточку и показать израненную спину.
Виновница события, увидев меня, замахала хвостом и тут же притащила мне сосновую веточку для игр.
Полагалось выдернуть у нее веточку изо рта и забросить куда-нибудь подальше, но реакция у этой суки была потрясающей, и все попытки выхватить веточку кончались, как правило, неудачей. Наталья обожала свою лохматую дочку, имея, впрочем, немалый доход от своих востроносых шерстяных внуков.
Оживленный Александр Иванович уже рассказывал о происках совхозного начальства, пытавшегося ухватить со сделки неприлично большой процент. Сидоров закурил вечернюю сигару — днем перед детьми он притворялся непьющим и некурящим. Когда все местные новости были выслушаны, Тищенко достал свою непременную гитару и запел «Нiч яка мiсячна».
Он замечательно исполнял украинские песни, а я любила подпевать ему, потому что украинская речь была для моего языка сущим наслаждением. Исполнение классических иноязычных пьес в украинских театрах выглядело, действительно, несколько необычно, но в песнях всплывали вся мощь и нежность украинской мовы, так сладко бередившие потаенные струны моей славянской души.
Я не была одинока в своем пристрастии. Вместе с Буниным мы слушали на речном пароходике слепого лирника Родиона, и я обливалась слезами над участью украинской сиротки, рыдавшей на материнской могилке. Вместе с Гоголем мы ели галушки и любовались резными иконостасами остепенившегося Вакулы, а, приобретя по случаю старое издание «Кобзаря», я периодически мучила родственников стихами Тараса Шевченко, и мое пристрастие к этой невеселой поэзии оставалось для них тайной. С юмором там, действительно, было плоховато, а, вернее сказать, обнаружить его было вообще невозможно, как и следов деятельности спецслужб в романе «Робинзон Крузо», тщательно изученным шефом ЦРУ Алленом Уэлшем Даллесом с позиций истинной профессии его автора, но меня манили музыка и страстность стихов, и я учила их наизусть, чтобы они всегда были со мной.
Сегодня была пятая годовщина моего знакомства с Тищенко и всей этой компанией, и мы познакомились при трагических обстоятельствах. Я приехала первый раз в Пакавене через два года после окончания университета, когда уже кончилось мое короткое и несчастливое замужество, и я с остервенением ушла в работу. Мне удалось построить себе надежную раковину в самый короткий срок, но она упорно не хотела обрастать радужным слоем и раскрашиваться нежными цветными переливами.
Прибыв в Пакавене, я жаждала остаться с природой наедине и избегала людского общения, поэтому всячески игнорировала мостки и купалась на противоположном берегу Кавены, где чьи-то добрые руки расчистили крохотный пляжик под большим серым валуном. Случайным туристам, претендовавшим на мое соседство, я рассказывала о повышенном содержании тяжелых металлов в водах Кавены, вызывающем у некоторых купальщиков жуткие незаживающие язвы, и они подолгу не задерживались.
В тот день перед мостками собралась большая компания, был виден дым большого костра и по воздуху плыло радостное многоголосье, смешанное с запахом жареного мяса. Я сидела у своего валуна с раннего утра и уже совсем было собралась уходить, но решила вымыть голову, так как душевые на турбазе были забиты тем летом до отказа. Длинные волосы были, как-никак, моим главным украшением, и в Пакавене я заплетала их на манер «во саду ли, в огороде…»
Подсушиваясь на солнышке у орехового куста, я лениво плела венок из луговых ромашек и внимала заозерным звукам. Вдруг сильный баритон запел «Черемшину», и меня потянуло туда, как магнитом, благо можно было обогнуть озеро справа и пройти мимо мостков. Я появилась из-за кустов босиком, в тонкой цветастой юбке, с венчиком на распущенных волосах, и своевременность явления народу этакой гуцулки произвела определенный эффект. Когда я уже почти поравнялась с публикой, полуголый бородатый леший с силой ударил по струнам.
— Галю, моя Галю, — выводил чувственный голос, — Галю, моя Галю…
Внезапно мои ноги сделали замысловатую веревочку, и я пошла, пританцовывая. Через костер перемахнул какой-то сумасшедший мужик с черными кудрями и затанцевал рядом. Так мы и дотанцевали до поворота, он поцеловал мне руку, и я пошла дальше по дороге, оставив ему свой венок.
Черноволосый был кинооператором, закадычным другом Тищенко, и они шли по жизни неразлучной парой. Уже после моего ухода черноволосому захотелось отснять день рождения своего названного брата, и он полез в моем веночке с кинокамерой на высокую сосну. То ли ветка сломалась, то ли его движения уже были неточными, но он сорвался и сломал позвоночник. Не приходящего в сознание, его отвезли в районную больницу, а утром вся Пакавене видела летящий над соснами вертолет — кинооператора переправляли в столичную клинику, откуда уже вскоре увезли хоронить в Ленинград.
Тищенко появился в Пакавене дней через десять, когда все уже было кончено. Я увидела его около почты, и он узнал меня.
— Как жаль, — сказала я ему, — ваш друг, похоже, был воплощением самой жизни.
— Пойдем, Галю, потанцуешь мне, — сказал он совершенно серьезно, и я поняла, что ему нужно выговориться и выплеснуть свою боль. Мы познакомились, но я так и осталась для него Галей. Умершего звали Сергеем, Сергеем Павловичем, он был сыном знаменитого советского разведчика, и Тищенко всю ночь лихорадочно и быстро говорил о своем друге. Я не могла ничего сказать, да, собственно говоря, это и не требовалось. В моей памяти осталось только удивительно верткое и пластичное тело, заведенное при рождении в такую сильную пружину, что она могла бы раскручиваться и две жизни подряд. Спустя девять лет в гениальном югославском фильме Эмира Кустурицы «Подполье» я узнала тот же жизненный запал в его героях, но это было только кино.
С тех пор и начался мой странный роман, о котором знали лишь мы вдвоем. Юрку Тищенко нельзя было назвать красавцем, но у него была бездна хитроватого обаяния, и творческие идеи фонтанировали беспрерывно и сильно. Он был очень надежен, с ним можно было идти в горы, но приручить этого певчего дрозда было невозможно. По слухам, в Ленинграде его постоянно ждала кроткая и верная женщина, и он очень ценил ее безропотную преданность, хотя и не женился на ней.
Я так и осталась частью живописной и удивительной картины его мира и хорошо смотрелась на фоне каких-то отдельных декораций, но мы не пытались увидеться зимой, хотя я и посмотрела в Ленинграде несколько спектаклей с его оформлением. Он бывал в Пакавене наездами, и никак не выделял меня из общей компании, пока мы не оставались одни, но Юрка был очень интересным собеседником и подходил для моего собственного летнего театрика.
Я была безмерно благодарна ему за то, что с нашей первой случайной встречи жизнь снова обрела для меня краски, хотя я никогда не исповедывалась и не искала его любви. Около меня всегда приплясывала тень его погибшего друга, но для Тищенко — это я сама приплясывала легкой тенью вокруг все еще живого и веселого друга. Тем не менее, я уже могла снова озираться по сторонам и перебирать зимних мужчин в поисках своего единственного варианта, но, увы! — я уже слишком хорошо знала, чего хочу, и мои снеговики таяли с первыми весенними лучами, а я сжигала свои варежки, как славянскую соломенную Маринку, и углублялась в воскрешение природы.
Этот роман тоже числился у меня по разряду сезонных явлений, и глубокая конспиративность нашей летней связи с Тищенко меня вполне устраивала, поскольку выносить на общественный суд и материализовать было, собственно говоря, нечего. Вот и сейчас, в перерыве между песнями, он на секунду подсел ко мне и спросил:
— Моя дверь будет сегодня открыта. Придешь?
— Сегодня, пожалуй, нет.
— Неужели я, наконец, опоздал?
— Бог его знает! Заезжай еще как-нибудь.
— Да, дела… — сказал он и отошел, а перекуривший народ очередной раз подтянулся к столу. Тогда Тищенко снова взял гитару и запел «Галю», которую исполнял с того дня только раз в году. Народ затих и задумался, а я тихонько выскользнула из двери и оставила Нижнюю Пакавене, огибавшую по берегу большого озера туристический пляж с его деревянными зонтиками, потемневшими от времени. По шоссе с визгом промчалась одинокая темная машина, и я перешла в Верхнюю Пакавене, подпиравшую большой лесистый холм, за которым жила богиня Аустрине, ведающая лучами восходящего солнца.
Глава 3
Еще толком не рассвело, когда я проснулась от легкого стука в дверь, вслед за которым появилось несколько помятое лицо Барона. Обычно он наносил подобные визиты сразу после приезда — ленинградский поезд приходил очень рано, и, пока Баронесса разбирала вещи, Барон будил меня, докладывал о прибытии и узнавал последние новости. Утреннее появление в разгар сезона означало, что его распирает от впечатлений.
И, действительно, новости были занятными.
Председатель подстроил к своему коттеджу зимний сад, и возлияния Бахусу происходили среди тропических пальм, лиан и папоротников. Хозяин казался расстроенным и пил много. Из застольного разговора Барон понял, что того беспокоит известие, полученное сегодня от брата. Когда они, наконец, добрались до диванчиков, председатель проговорился, что туристка была убита вовсе не кабанами, и из тела исчезла аккуратно вырезанная печень. Несколько более трезвый Барон долго не мог понять, почему председатель так расстроен этим известием, поскольку тот перешел на родной язык, который Барон понимал с трудом. Тем не менее, вырисовывалась какая-то связь убийства туристки с давней смертью его сестры.
В половине пятого утра, когда в деревне начинается рабочий день, Вальдас разбудил Барона и молча отвез его в Пакавене. Тревожить в столь ранний час Баронессу, естественно, было страшновато, а у меня имелось дополнительное спальное местечко. В разгар нашей беседы в коридоре послышались шаги, Барон не утерпел и выглянул.
— Что у вас тут за спортсмен с удочкой фигурирует? — спросил он ревниво, и я поняла, что Андрей Константинович отбыл на рыбалку. Присутствию Барона в моей комнате в любое время суток никто давно не удивлялся, но свежий человек мог и не понять. Да, дела…
Далее Барон пытался рассказать мне о своих выдающихся личных успехах, какими глазами смотрела на него вчера длинноногая моложавая председательша с пышными светлыми волосами, но я сказала, что вчера утром уже слышала о подобных победах от его папаши, и Барон успокоился на противоположном диванчике после приема пятнадцати капель.
Мы с Баронессой отдыхали как-то после ужина под кустом за огородом, наблюдая за столкновением Барона на узкой тропинке с юным белокурым созданием, по прозвищу Пупсик, занимавшим с родителями одну из комнат нашей мансарды. У Пупсика был суровый характер, и она терпеть не могла Барона, так как тот при встречах громко разглагольствовал о ее сходстве с юной Гретхен. Барон спросил, куда это она идет, а Пупсик, не останавливаясь, намекнула прямым коротким текстом, что идет, мол, куда нужно, на чем и разошлись. Несколько позднее Барон нашел нас под кустом и рассказал, как случайно встретил Пупсика, и та с ним кокетничала полчаса:
— Я ее спросил, куда это она идет? А она — «Ах — ах — ах — ах — ах!»
Нас разорвало от смеха, и мы тут же вывели дурную наследственную линию от его предков по мужской линии. К чести Барона, он стал хохотать вместе с нами. Он умел смеяться и над собой, и это делало его неотразимым. Мы любили друг друга и черненькими.
Глядя сейчас на спящего Барона, я раздумывала, не подремать ли и мне еще немного, но картина растерзанного тела снова не выходила у меня из головы, и я решила развеяться на кухне у Баронессы. Она кормила завтраком Ваню и сообщение о здравии супруга приняла с определенным раздражением. Мы поговорили о предстоящей женитьбе одного из сыновей-близнецов моей хозяйки, Альгиса, на Кристине, служившей главным плановиком молочного завода. Она была дочерью рыжего Звайгстикса из Нижней Пакавене, но обладала собственной двухкомнатной квартирой в райцентре. Эта энергичная и умная женщина была немного старше жениха и имела шестилетнего сына. Альгис, вернувшийся из армии с глубокой сердечной раной — его первая любовь, одноклассница Аушра, успела выйти замуж в соседнюю деревню — нашел в плановике верность и солидную опору, отсутствующие в юных легкомысленных созданиях.
Стасис, отличавшийся от своего брата-близнеца темным цветом волос, напротив, не представлял себя в роли женатого мужчины, потому что местные женщины сразу же ждали от мужей обустройства собственного крепкого гнезда с домом, огородом и целым стадом домашних животных, а Стасис был вольным стрелком, браконьером и работал время от времени на каких-то сомнительных должностях, оставлявших много свободного времени для охоты. В прошлом году они с Виелонисом подвизались в какой-то художественной мастерской, а сейчас он служил пожарником на атомной станции. Охотился Стасис не только в дремучем лесу, но и на турбазе, где не иссякал поток молодых и доверчивых туристок.
Его избранницы, бывало, возвращались в Пакавене с надеждой приручить этого носатого молодого вепря. Вот и сейчас одна из них, интеллигентная упитанная девушка в очках и розовых джинсах, занимавшая четвертую комнату в мансарде, тщетно уговаривала его переехать в Москву и поступить в Лесной институт.
Лесной институт Стасиса волновал чрезвычайно, поскольку именно лес и был его подлинной страстью, и он не отказывал бывшей подруге в своей любезности, хотя учить заново буквы и цифры было страшновато.
Вообще турбаза была словно медом намазана для молодых аборигенов, и они стекались сюда на танцы со всего района. Мужчины постарше, однако, были пламенными патриотами, и предпочитали искать себе подруг среди местного населения. Пакавенки с гордостью отмечали твердость директора турбазы, представительного мужчины лет пятидесяти, никогда не использующего своего завидного служебного положения для обольщения туристок, наплывающих сюда со всех концов Союза.
У нас в доме тоже был такой патриот. Стасиса назвали в честь дедушки, Станислава, высокого и широкоплечего мужчины, которому никто не давал его семидесяти лет. Он обладал громовым голосом Перкунаса, хотя пользовался им, преимущественно, в маленькой сапожной мастерской у турбазы.
Несмотря на седины, Жеминин свекор одевал по субботам парадный костюм, из верхнего кармашка которого свешивалась крупная денежная купюра, и отправлялся в райцентр обойти магазины. Он появлялся в торговых залах с хмурым и независимым видом, и зрелые продавщицы напряженно следили за его неспешной прогулкой вдоль витрин, пока самая отважная не срывалась с места, желая пополнить семейный бюджет.
Его старая жена Вайва, в девичестве панна Круминскайте, хромала с ранней юности, но была первой красавицей в округе и мужчин любила страстно. Возможность утолить внутренний жар и стала основой брака между панной и бедноватым Станиславом. До сих пор старая пани развлекалась у окошка с зеркальцем, набеливая личико и румяня сморщенные щечки. Два раза в день, опираясь на костыль и еле волоча ноги, она ходила кормить кур — у нее был личный курятник, а яйцами она подкармливала свою внучку Лайму, племянницу Юмиса, дочь его покойной сестры. Дачникам покупать яйца у пани Вайвы было опасно, поскольку это очаровательное бесплотное создание в каждый десяток подсовывало пару протухших яичек из своей зимней коллекции, а если квартиранты брали яички в поезд, то тухлыми оказывались все до единого.
Старая Вельма, при случае, намекала на давнюю связь художника Виелониса с молодой пани Вайвой, считая покойную сестру Юмиса его дочерью, но, один бог разберет, что творилось в те мифологические времена, когда нас еще не было среди живых. Сестра, как рассказывала Жемина, умерла от огорчения, узнав о беременности своей незамужней шестнадцатилетней дочери, хотя к ее веселым играм на сеновале относилась до этого крайне снисходительно. Кем был отец маленького Яниса, никто не знал, но сынишка получился очаровательным крепеньким шалуном, и Виелонис, действительно, млел при его виде, как самый примерный прадедушка. Этим летом Барон соорудил ему надежный деревянный лук, и мальчик бегал по окрестностям, прижимая к груди колчан со стрелами и отстреливая пасущуюся в пакавенских травах живность.
Лайма имела фамилию Королева, поскольку эта хорошенькая молодица с маленьким сыном приглянулась как-то заезжему русскому строителю Королеву. Кирпичный король, однако, крепко закладывал и долго в мужьях не продержался. К этому лету Лайма уже успела развестись и забыть его навсегда. Пани Вайва, не любившая свою невестку, всячески подчеркивала привязанность к Лайме, отдавая ей часть своей пенсии.
Дом у Жемины потому-то и был безалаберным и бедноватым, что, доживя до сорока пяти, она так и не стала полной его хозяйкой. Каждый из старших обитателей имел собственную сберкнижку, деньги от квартирантов также делились по долям, а на общие нужды средства выделялись со скрипом. Но нам было уютно в доме, где хозяевам было не до нас, и двери которого никогда не закрывались.
Проснувшийся Барон получил обструкцию (без временного лишения крова, а если Барона выставляли из дома, то это называлось «подвергнуть остракизму»), позавтракал без особого аппетита и не сопротивлялся, когда его оставили присматривать за Ваней. Мы же рванули с места в земляничный овраг, располагавшийся справа от Кавены. На мостках в полном одиночестве прохлаждался бородатый Павлик Колокольчиков, весьма приятный светский человек, дирижировавший в свободное от отпуска время театральным оркестром.
Мы преисполнились радостных надежд по поводу отсутствия конкуренток, но каково же было наше разочарование, когда в тот же миг из земляничного оврага появилась группа нудисток с супругой Павлика Ларисой Андреевной, питерской оперной певицей, и дочерью Татьяной, будущей джазовой певицей. Татьяна ходила уже второй год в синей фетровой шляпе, и снимала ее только в душе. Мать рассказывала, что зимой она сидела в этой шляпе в театре и на занятиях в консерватории. Теперь под шляпой красовался уже знакомый нам ядовито-желтый галстук, чье положение на дочкином теле грозило приобрести ту же стабильность.
Лариса Андреевна ежегодно реанимировала свои голосовые связки свежей земляникой из расчета килограммов пять за сезон. После этой акулы делать в овраге было нечего, и мы, поприветствовав конкурентов, свернули к шоссе. В зарослях люпинов, этих могучих наркотических трав, облюбованных земляникой, сидели Суслик с папой Мишей, личным приятелем Баронессы. Пока Таракан не подрос, Миша частенько таскал его на руках к дремучей зависти своей дочери, вынужденной, в связи с возрастом, ходить на Кавену пешком.
Сегодня Суслика оторвали от постройки шалаша за Вельминым огородом и насильно увели в лес, поэтому она всячески отлынивала от сбора ягод и, вспоминая уж совсем раннее детство, норовила все время забраться папаше на спину. Мы слышали, как она при этом бурчала, не переставая:
— Не хочу больше ходить в ваш проклятый лес. Черника под ногами путается, об грибы спотыкаешься…
Миша время от времени стряхивал дочь со спины, уговаривая ее собирать ягодки — если не в баночку, так хоть в ротик, а Суслик отвечала ему плачущим голоском:
— Тогда купи мне синюю шляпу.
Шляпа была крайне необходима, потому что Суслик со своей взрослой подругой Татьяной любили исполнять на Кавене что-нибудь из репертуара Эллы Фицджеральд, и им хотелось выглядеть одинаково.
Около часа мы ползали по люпинам под воркование Баронессы. Баронесса была счастлива — Миша умел слушать ее лучше всех в мире, но больше всех был счастлив Суслик — пользуясь крайней занятостью папаши, дитя изображало бесславный въезд Д'Артаньяна в Париж и пришпоривало клячу сосновой веточкой.
Когда лабораторный напиток был разведен и заправлен земляничным соком, мы отбыли с сумками и в шляпках в Нижнюю Пакавене. В парадной комнате Ирены воображение поражали массивный камин, старинный сервант и волнообразные кружевные салфетки. Стол был накрыт свежей полотняной скатертью, пирамидка из мелкой столовой и закусочной тарелок стояла строго по центру места персоны цветочками назад, справа от пирамидки лезвием к тарелке лежал нож, слева — вилка зубцами вверх, а маленькие хрустальные стаканчики сверкали сразу за тарелками — рюмки программой не предусматривались. В центре стол был украшен цветами и витиевато сложенными бумажными салфетками. Уже многие десятки лет на этом месте крестьянские предки Ирены пили по утрам кофе и приглядывались, как там поживают на Западе.
Мы достали из сумки мясной рулет в толстой свиной шкурке, баночку сардин, кофе, сладкую воду «Буратино» и земляничный ликер, а Ирена принесла листики салата, пучки укропа и парадное блюдо — цеппелиняй, представляющее собой перченый мясной фарш в колобках из сырого картофеля, натертого на мелкой терке и слегка отжатого. Колобки довольно долго варятся и поливаются на блюде жареным луком с растопленным салом.
Домовых — Витаса и Генриха — предварительно накормили до отвала, после чего они захрапели по своим комнатам. Но, едва мы успели опрокинуть первый стаканчик настойки и быстро налить туда же газированной водички, как оба тут же появились на пороге, шумно втягивая воздух носами. Мы объяснили, что здесь стерильный девичник и заговорили о вязании. Мужики покрутили носами и ушли, но через пять минут снова ворвались в комнату, надеясь поймать нас с поличным.
Стаканчики с буроватой газированной водой, неприятно контрастировавшие с солидной закуской, казались нетронутыми. Разгоряченный Витас кинулся достать что-нибудь, более подходящее к столу, у своих деревенских корешей, хотя провал этого предприятия был предопределен заранее. Доцента философии, сидевшего на крыльце в ожидании Витаса, вдруг озарило, что водка на столе все же стоит, но она замаскирована под «Буратино». Уверенный в своей правоте, он принял личину светского льва, деликатно постучал в дверь и развалился в кресле с моим стаканчиком в руках, рассыпав предварительно сладчайшие комплименты всем дамам без исключения.
Мы с садистским удовольствием ловили момент (не думай о мгновеньях свысока!), когда его вкусовые рецепторы уловят приторный вкус пузырьков «Буратино» без предполагаемой посторонней примеси. И они его уловили, после чего фигурант предпринял последний отчаянный шаг. Притворившись теперь пьяным пролетарием, он стал искать выход из комнаты в камине, но, как и ожидалось, не нашел его. Тогда, неприятно выругавшись, он отпрянул прямо к дивану, где лежала моя походная сумка с бутылкой настойки.
Мое сердце сжалось от горечи поражения, но сумка, к нашему совместному с Генрихом и Иреной удивлению, оказалась пустой. Пристыженный доцент удалился, а мы искренне восхитились Баронессой, хорошо знавшей предмет и успевшей сунуть бутылку под свою гигантскую соломенную шляпку.
Вечеринка заканчивалась, во дворе горевали неудачники, и мы, насладившись этим зрелищем, картинно удалились пьяной походкой с громкими песнями — каждая со своей, репетировать было некогда.
Нужно было не выходить из образа до шоссе, разъединявшего Нижнюю и Верхнюю Пакавене, но у шоссе наша веселая компания буквально натолкнулась на совсем одинокого мужчину. Мои девушки, осмелев от победы, тут же взревели: «Какой хорошенький! Чей же будете?» — и получили затем упоительный ответ, открывающий массу возможностей: «Пока ничей!» В этом маленькой сценке я всячески тушевалась на заднем плане, поскольку тут же узнала своего соседа по общежитию.
Услышав мужской голос, Витас мгновенно вынырнул из темноты и крикнул, что проснулись дети. У рано вышедшей замуж Ирены, действительно, было двое маленьких детей, и, хотя Витас явно врал, но Ирена все же покинула нас. Тогда я представила Андрея Константиновича Баронессе и сказала, что уступаю кавалера в награду за ее сегодняшние успехи. Никто не возражал, и Баронесса тут же защебетала. Скорости ее языка, язвительности выражений и точности формулировок мог позавидовать сам Жванецкий, но она делала это без домашних заготовок и сочного одесского детства.
Барон уже лежал в постели, предвкушая примирение с супругой. Услышав за дверью ее щебет, он сладчайшим голосом пригласил Баронессу спеть ему перед сном песенку. Баронесса сделала вид, что не услышала и продолжала рассказывать коллеге увлекательную историю о своих дежурствах на «Скорой помощи». Андрей Константинович посмеивался и выглядел при этом самым благодарным слушателем на свете. Одновременная дружба с обоими супругами требует недюжинных дипломатических способностей, и я решила, что пора менять позиции, тем более, что мое участие в беседе представлялось совершенно не обязательным.
— Барон, я приведу сейчас Ларису Андреевну, твоя-то певица ей в подметки не годится, прости за рифму!
Барон обдумал предложение и сообщил, что Лару он, время от времени, слышит по радио, на Кавене и в театре, а мои способности ему до сих пор не известны. Я оставила собеседников у двери и ушла к другу.
Глядя в его родные глаза, я задушевно и серьезно спела то, что удалось вспомнить:
Прибежала мышка-мать, стала в гости лошадь звать, Приходи к нам, тетя лошадь, нашу детку покачать…
Мышонку не пели это уже с четверть века, потому показалось мало. Далее последовала мифо-поэтическая сказка о курочке-рябе и космическом взрыве мирового яйца в ее нескольких вариантах, включая ведийский, китайский и финский — в последнем была уточка-ряба. Кроме того, были упомянуты пасхальные обряды славян и африканский обычай разбивать культовое яйцо на свадьбе. Голоса за дверью стали удаляться в неизвестном направлении, но мне пришлось детально описать красоту Барона, начиная с макушки. Я решила не быть оригинальной.
— Голова его — чистое золото; кудри его волнистые, светлые, как молоко (в оригинале значилось «черные, как ворон», но Барон любил точность)… Глаза его — как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве… Щеки его — цветник ароматный… Губы его — лилии…
Он окончательно рассиропился, а когда мой рассказ о его красотах дошел до уровня шеи, и я натужно пыталась вспомнить подходящие для мужской груди цитаты из библии, он начал с нескрываемым интересом поглядывать на свой прикрытый одеялом живот. Меня выручило появление Баронессы.
— Барон! — закричала она с порога, — ты уже не самый красивый мужчина Пакавене, появились и более привлекательные экземпляры.
Барон обеспокоенно посмотрел на меня, и я, как честный человек, подтвердила. Впрочем, дело было отнюдь не в моей правдивости, он слишком любил донимать меня рассказами о своей неотразимости в женских глазах.
— Уничтожить меня, сучки, мечтаете! — начал было вскипать мой малыш, оскорбленный появлением Дантеса и предательством самых дорогих ему людей, включая Арину Родионовну, но тут мы, перебивая друг друга, поведали о сегодняшних неудачах его папаши. В душе Барона, до сих пор возмущенной новогодними происками предка, злорадство на равных боролось с сыновними чувствами и мужской солидарностью. Что победило — осталось неизвестным, но я оставила своих друзей в отличном настроении.
Над черными соснами всходила огромная красная луна, теплый ночной воздух полнился шорохами и приглушенными голосами, в лесу из-под земли пробивался запоздалый петров крест, и где-то рядом огромные вепри водили по черничникам своих свирепых женщин. Каким неуместным на этом празднике жизни выглядело мое одиночество…
Моей звезде не суждено Тепла, как нам — простым и смертным; Нам — сытый дом под лампой светлой, А ей лишь горькое вино…
На лавочке сбоку от кухни с весьма довольным, как мне показалось, видом сидел Андрей Константинович. Я мысленно поздравила Баронессу с огромным успехом и вдруг ощутила страшную горечь в сердце в связи с собственной неудачей в лотерейном розыгрыше.
— Спокойной ночи, — произнесла я тогда с предельной сухостью, намереваясь быстро пройти мимо.
— Я хотел задать вам два вопроса. Во-первых, как ваша спина? И, во-вторых, у меня сегодня возникло ощущение, что вас что-то сильно тревожит. Быть может, расскажете, все-таки теперь я ваш семейный врач.
Я тут же почему-то вспомнила о трупе и на мгновение почувствовала себя Кисой Воробьяниновым, когда, оглядев ладную фигуру нового знакомца с крепкой шеей, тот подумал: «А-а-а! Расскажу…» Я уже пару раз порывалась поведать о случившемся Барону, но тот слишком любил пускать красное словцо по ветру. Меня остановило, однако, откровенно насмешливое выражение глаз Андрея Константиновича, и я ответствовала совершенно ледяным тоном.
— Благодарю, все в порядке. Это касается и второго вопроса. А ваши впечатления о Пакавене остались прежними?
— Нет, они сегодня существенно улучшились. Я прекрасно провел вечер с вашей приятельницей.
Кстати, голос ее супруга мне показался знакомым.
— Возможно, вы слышали его сегодня утром. Я прошу прощения, если мы вас побеспокоили.
— Вы обещали проводить меня на кладбище.
— Да, я помню, но завтра погода может не позволить. Условимся на первый хороший день. Спокойной ночи!
Ночь оказалась совсем не спокойной. Дьявол засылал на бедную маленькую Джен Эйр полчища инкубов, но она храбро размахивала белыми одеждами и к утру победила всех своих врагов. Поднявшись с постели в несусветную рань, я посмотрела в окно и увидела у дверей сарая Юмиса — серая кепка, руки в карманах, сгорбленные угловатые плечи и вселенская тоска под мелким холодным дождиком. Неожиданно он взглянул вверх, поймал мой взгляд и бухнулся прямо в грязь, сложив молитвенно руки. Старушка-блокадница, наблюдавшая эту сцену из окна первого этажа, описывала ее позднее на кухне, как попытку пообщаться в нетрезвом религиозном экстазе с небесными силами, но я сразу же налила пятнадцать капель и показала на крыльцо — грязь, действительно, казалась очень грязной, а женское сердце не камень.
В это время послышался скрип соседней двери, и уже знакомые шаги замерли у моих дверей. С минуту мы так и стояли, разделенные двойной фанерой, и вдруг стало совершенно очевидным значение его вчерашнего счастливого выражения на лице — присутствие Барона в моей комнате оказалось не в счет!
Решительно открыв дверь, я сказала:
— Андрей Константинович! Я воспользуюсь вашим предложением и исповедуюсь сегодня вечером.
— А что это такое? — спросил он о стакане.
— Да, так. Алкоголь, — смутилась я немного. Он аккуратно прислонил удочку к стенке, взял из моих рук стакан, выпил и спустился вниз. Да, дела…
Юмис все же получил желаемое и, преисполнившись искренней благодарности, рассказал о своих бедах. Ежегодно в это время им привозили грузовичком «левое» сено, и кто-то из соседей каждый раз вызывал милицию. В этот раз милицейский мотоцикл прибыл, когда грузовичок еще не успел ретироваться, и пришлось заминать дело угрями. Под подозрением были двое телефонизированных соседей — старая Вельма и почтенная пенсионерка, заслуженная учительница Эугения, но сузить круг подозреваемых до сих пор не удавалось.
Я занималась всякими хозяйственными мелочами, когда пришла разъяреннаяБаронесса. Оказалось, Вельме успела с утра позвонить соседка ее младшего сына и накапать ядом прямо в телефонную трубку. Суть сообщения состояла в том, что вчера Барон целовался с председательшей перед капотом автомобиля, пока муж менял заднее колесо. Разбуженный и подвергнутый остракизму Барон удалился с удочкой на Кавену, оправдываясь агрессивным поведением почтенной Гретхен при полной пассивности жертвы.
Вельма подтвердила, что ее невестка — известная курва, но скандал все же состоялся, потому что непротивление жертвы насилию было вполне очевидным, и совсем не обязательно было целоваться на виду у соседки.
— Черт знает, что делать с его привычками! — сказала Баронесса.
— Я могу, конечно, дать совет, но чужой и не опробованный, как и полагается в стране Советов.
— На безрыбье и рак рыба, — согласилась Баронесса, но мои мысли приняли уже иной оборот.
— Таракан! — крикнула я, — вы кого вчера с Сусликом хоронили?
— Дохлую крысу. Ее Стасис позавчера шлепнул в бане.
— Откопай коробку, пойдем раков ловить.
Таракана на всякие пакости долго упрашивать было не нужно, а хирургические перчатки, уворованные Баронессой по месту службы, лежали на кухне. Труп оказался еще подходящей крепости, и я привязала к хвосту длинную веревку. Трудились мы с большим энтузиазмом — Баронесса забрасывала веревку в озеро за Витасовой банькой, стоящей сбоку от туристического пляжа, я снимала налипающих раков и укладывала их в пластиковый пакетик, а Таракан присматривал за ними, пока мы повторяли действо.
Когда раки покраснели, мы уселись завтракать, после чего Баронесса напомнила мне о недополученных ею советах.
— Штука в том, что помимо бальзаковского возраста — тридцать лет в авторском варианте и сорок лет в новом летоисчислении — есть еще ремонтный возраст. Моя коллега Яна Копаевич утверждает, что гулять нужно с тридцати лет, когда брак уже утрачивает прелесть новизны до тридцати пяти, когда наступает ремонтный возраст. К тридцати годам у нас как раз получают квартиры и подращивают детей, а к тридцати пяти квартира приобретает несвежий вид. Поскольку нанимать специалистов дороговато, то делать ремонт приходится своими силами. Говорят, это так увлекательно, что про мужиков в этот момент забываешь!
Баронесса глубоко задумалась. Ей было около тридцати, и она уже пару лет жила в новой двухкомнатной квартире. Пока она думала, появился исчезнувший было Ваня и напомнил, что мать обещала покатать его на лошадке. Новый аттракцион — катание туристов на маленькой бричке (полтора рубля за персону) — входил в моду, а желающих по случаю мелко моросящего дождика сегодня не было. Я сходила за сумкой и деньгами, мы забрались у ворот турбазы на бричку и поскакали по неровным лесным дорогам. Грудь подпрыгивала, ягодицы стучали об очень твердую деревянную лавку, и Баронесса отметила мужество наших прабабушек, умевших сохранять в каретах высокие прически и милое выражение лиц.
Моя подруга сидела в центре лавки, и это место оказалось в партере самым безопасным. На повороте дороги меня задела по лицу мокрая сосновая ветка, и, пока я утирала прослезившийся от хвойных иголочек глаз, Баронесса хвалила себя за чисто подсознательное умение устраиваться в жизни лучше других, а Ваня радостно подпрыгивал на сидении и откровенно ехидничал, потому что получил от меня на днях по лбу огромной красной сыроежкой — он назло всему взрослому миру переходил опасное шоссе черепашьим шагом.
Когда мы вернулись с ним домой, Таракан, путаясь в слезах, рассказал матери, как я пыталась накормить его красным мухомором, и мне пришлось давать объяснения. Но Бог наказал мальчика только сейчас, и на следующем повороте он получил сосновой лапой такую сильную плюху, что тут же разнюнился и обиделся сразу на всех.
За наши четыре с полтиной полагался скорый объезд по лесу вокруг деревни, но у поворота на Кавену я сунула в карман возницы еще трояк и попросила проехать к озеру. Баронесса не возражала, поскольку уже успела в мыслях изменить Барону и налюбоваться его рогами.
Мостки украшала крупная фигура нашего любимца в прорезиненном плаще, а рядом лежал пакетик со щуками, которыми планировалось умаслить практичную Баронессу. Тут я достала из сумки загодя припасенную «раиску» и пару стаканчиков, одним из которых с удовольствием воспользовался наш подмокший возница. Таракан был настроен негативно и, пока Барон торжественно транспортировал стаканчик к жаждущему рту, пытался подтолкнуть папашу под локоть. Я прикрикнула: «Не мешай отцу!», и, увидев обиженные глазки дитяти, добавила: «Даже такому…» Барон прыснул, и все пятнадцать капель разлетелись по ветру.
Летний отпускной человек отличается от зимнего поведением и кругом приятелей. Зимой мы проявляли весьма умеренный интерес к алкоголю лишь по праздникам, каждый из нас всерьез отдавался своей профессии, а Барон являлся даже основателем нового направления в скульптуре, где воедино сплавились славянские мифы, японская миниатюрная скульптура «нетцке» и прибалтийская резьба по дереву. Зимние приятели, в основном, не годились для нашего летнего театрика, где хотелось играть только любимые роли.
Барон был признан условно невиновным. В компенсацию морального ущерба он потребовал, чтобы мы переоделись цыганками и приготовили ему фаршированную щуку. С моей точки зрения, это могло быть навеяно не иначе, как чтением «Майн Кампф» в оригинале, что Бароном категорически отрицалось, в связи с отсутствием этого криминального чтива в районной библиотеке. Но он носился с этой идеей уже второе лето, а мне удалось достать зимой рецепт (щука режется толстыми пластами, из головы удаляются глаза и жабры, а аккуратно вынутое из кожи и костей мясо прокручивается через мясорубку с хлебом и луком и густо посыпается черным перцем. На дно кастрюли укладываются луковая шелуха, ломтики свеклы, а голова щуки и прочие выпотрошенные части набиваются фаршем и укладываются слоями, причем каждый слой пересыпается смесью моркови и репчатого лука, и все вместе заливается крутым кипятком. Соль и сахар по вкусу, варится до готовности и раскладывается на блюде. При охлаждении отвар желируется).
Понятно, что для этого блюда необходимо иметь кучу свободного времени, но оно у нас, ей-богу, было, хотя обед и получился по-английски поздним. Желе, правда, застыть не успело, и, кроме того, в здешних песчаных почвах растет только желтая свекла с очень длинным корнем, но это отступление от рецептуры оказалось вполне приемлемым. Таракана, чтобы не путался под ногами, мы депортировали в нашу застекленную беседку, где дождливыми днями детишки развлекались карточными играми.
Пока рыба охлаждалась на очень свежем по сегодняшней погоде воздухе, мы с Баронессой давали во флигеле тематический концерт художественной самодеятельности, открыв его двумя классическими произведениями — оперой Бизе «Кармен» и пушкинскими «Цыганами», исполнявшимися нами недолго и одновременно. Цыганскими наши костюмы можно было назвать с определенной натяжкой, но у нашего единственного зрителя было богатое воображение, и «Очи черные» шли на сцене под громкие мужские возгласы, знаменовавшие полное одобрение вермахта, и в глазах зрителя отсвечивали широкие красные юбки, цветастые платки и разлетающиеся в сторону черные косы. Плавности перехода от цыганской темы к фаршированной рыбе удалось достичь подходящим к случаю романсом «Я ехала домой…», после чего мы припомнили Барону, как в прошлом году он взял в долг трояк у фотографа Изи, добрейшего малого, отбывшего прошедшей весной в Хайфу на ПМЖ, и Барон клятвенно пообещал нам отдать долг при первом возможном случае.
К моменту дегустации Барон уже полностью оправился от тяжелых утренних потрясений, и мы теперь слушали, как два его приятеля, смертельно устав от семьи и науки, решили съездить зимой на лыжах и встретили в электричке молчаливую, но сговорчивую Красавицу. Пока они, волнуясь и ревнуя даму друг к другу, топили на даче печь, пили сухое вино и рассказывали о своих научных достижениях, дама отвечала односложно, но, когда вино кончилось, Красавицу прорвало, и ее лексика оказалась настолько небогатой и специфичной, что друзья легли спать вместе, обложившись лыжными палками на случай нападения самки из глубоко чуждого им социального слоя. Барон цитировал Красавицу дословно.
Дождливый день кончался, и пора было расставаться, тем более, что у меня в этот вечер еще были дела. Андрей Константинович успел записаться в туристическую библиотеку, которой и я пользовалась ежегодно. Мы даже подружились с библиотекаршей на почве моей любви к прибалтийским романам и много говорили о Слуцкисе, Авижюсе, Яане Кроссе, но сильно расходились в оценке романа Трейниса «Радуга». Она утверждала, что это все-таки второсортная литература, но мне был близок его карнавальный жанр, где реалии бытия смешивались с чертовщиной, и это удивительным образом походило на мою летнюю жизнь в Пакавене.
У каждого поколения, как известно, имеются свои снобистские фетиши. Старшее поколение хорошо помнило, как вдруг стало модным превозносить Лермонтова в ущерб Пушкину, как поголовно переставляли ударение в фамилии известного голландского художника, как все скопом обнаружили последние истины у Сент-Экзюпери, но они оказались потому Хемингуэя (или наоборот). Верхом моего карманного снобизма являлась роль недотепы из знаменитого романа Натали Саррот, наивно полагавшего, что вчерашние ценности все еще заслуживают сегодняшнего внимания.
Наше поколение совершенно не понимало прелестей тонких ломких столиков хрущевской эпохи и уже не пело классических песен советских подпольных бардов, но имело свои тайные знаки принадлежности к духовной элите. Ну, думаю, порезвлюсь! Начнем, пожалуй, с «Проблемы поэтики Достоевского» Михаила Михайловича Бахтина. Один мой коллега всегда пытался заработать себе очки в обществе именно на этом произведении.
Оказалось, Андрей Константинович кое-что читал, и мы оба сошлись на том, что булгаковское «Мастер и Маргарита» прекрасно иллюстрирует идеи Бахтина. Немного поговорили о кино, и я поделилась своими впечатлениями о лучшем фильме всех времен и народов, каковым мне показался «Фанни и Александр».
Бергмана, увиденный как-то на закрытом просмотре. Нашей беседе на крыльце сопутствовал довольно холодный ветерок, и я пригласила собеседника в свою светелку.
— Так что же вас беспокоит? — спросил мой гость, быстренько закругляя после легкой разминки светские темы, и я рассказала о своей находке, своем малодушии и неприятном продолжении истории. Возможно, если бы я сообщила об увиденном в милицию сразу, то удалось бы найти какие-нибудь важные улики.
Слушал Андрей Константинович очень внимательно, а потом подробно расспрашивал меня о деталях происшествия. Я спросила, почему это так заинтересовало его, и он рассказал мне одну странную историю, произошедшую много лет назад. Одним из его неформальных учителей был православный священник Вознесенский, сосланный перед войной в Сибирь, где много лет прозябал деревенским фельдшером, так как в молодости успел получить медицинское образование. В Сибири он занялся траволечением и потихоньку работал над проблемами гипноза.
Как-то после войны к нему пришел странный незнакомый человек из ссыльных и попросил изгнать дьявола. Из путаных объяснений стало понятно, что мучает того не меньше не больше, как тяга к людоедству.
Фельдшер провел несколько сеансов гипноза, и тот больше не появлялся, но, спустя несколько лет, когда ссыльных уже распускали по домам, в районе произошел жуткий случай с убийством молоденькой сибирячки.
Сначала считали, что тело растерзано каким-нибудь зверем, но потом прошли слухи, что внутренние органы аккуратно вырезаны.
Фельдшер тут же подумал о своем пациенте, но его имени и точного местопребывания не знал, да и с милицией связываться перед отъездом на родину было опасно. Андрей Константинович, работая в лаборатории аномальных явлений, случайно познакомился со стариком и результаты опытов его крайне заинтересовали. По утверждению моего собеседника, Вознесенский был весьма серьезным исследователем.
— Я слышал, Наталья Николаевна просила вас съездить завтра за продуктами в райцентр. Я подвезу и заранее приглашаю там же отобедать, — вернул меня собеседник в настоящее.
— От всех ваших предложений трудно отказаться. Вас устроит, если отправимся к полудню?
— Вполне. Я вас не утомил?
— Благодарю, что выслушали. Мне, действительно, стало как-то легче.
— Очень рад, но для меня это было неожиданностью. Вчера ведь вас беспокоило совсем другое. Не так ли?
Я вспыхнула алым цветом, натолкнувшись на его смеющиеся глаза. Вчера я отчаянно ревновала его к Баронессе, и он не преминул это отметить. Привычка отвечать после докладов на коварные вопросы оппонентов, однако, быстро взяла свое.
— Андрей Константинович! Я начинаю догадываться о причинах ваших профессиональных успехов.
Вы, вероятно, рассматриваете весь мир, как одну большую клинику неврозов?
— Так я не прав?
— Спокойной ночи!
Я старалась, как могла — не подавала гостю чашечки кофе и старательно избегала пауз, но его последние фразы свели все эти усилия на «нет», и мое утреннее поражение маячило на столе пустым стаканом. От принадлежности к противоположному полу было некуда деться.
Благословенно время созревания яблок, когда начинает румяниться зеленый бочок, и узкобедрый Адам впервые задумывается, а каков же вкус запретного плода. А в женской головке тут же начинают роиться крамольные мысли:
— Он этого хочет, но боится, а я могу сделать это для него.
— Ты должна это сделать для него, во что бы то ни стало, — вторит внутренний голос, — да, он будет озабочен предстоящими трудами, но ты будешь нужна ему.
Глава 4
Поздним утром я нарядилась в широкую бархатную юбку, соломенную шляпку и новую шелковую блузку, расшитую украинским орнаментом, украсив себя, как и полагается, рядком серебряных монеток. Этот орнамент я привезла когда-то первым студенческим летом из экспедиции в Западную Украину, когда старые вышивальщицы уже давно проиграли битвы великого интервала между московским фестивалем и первым полетом советского космонавта, оплакав свои фикусы, салфеточки и каждого из семерых слоников, бесследно сгинувших в ходе культурной революции.
Наш искренний интерес к былым ценностям удачно противопоставлялся бездушию домочадцев, и старушки охотно отдавали нам старинные вышивки и глиняную посуду, что и явилось моим первым рабочим материалом. Кое-кто из участников экспедиции записывал у тех же старушек народные украинские напевы, преследовавшие меня потом всю оставшуюся жизнь. Мы гонялись за прошлым, а параллельно, начитавшись Гумилева-сына, старались оценить уровень пассионарного напряжения в современном украинском обществе, хотя спустя много лет в своей диссертации я не упомянула об этой крамоле ни слова.
Эффект от моего наряда предполагался быть убойным, но у меня вдруг закралась весьма занятная мысль о приглашении этим летом Натальей Николаевной молодого доктора в Пакавене — почти все действия моей тетки — молчуньи убивали одновременно двух зайцев. Опережать события не стоило, поэтому я накинула поверх блузки глухой джинсовый пиджачок и, принимая из теткиных рук баночку для сметаны, настолько натурально изобразила отсутствие энтузиазма, что она осведомилась о моем самочувствии. Я поведала слабым голосом о дурно проведенной ночи, тетя предложила отложить поездку, а Андрей Константинович, закусив губу, выразил желание доставить продукты без моего участия.
— Андрей Константинович, мне так неловко утруждать вас, но… — развела я руками с глубоким облегченным вздохом, искренне наслаждаясь чувством растерянности, появившимся в его глазах, а потом поглядела в тетину бумагу, — … но, впрочем, без моего участия здесь не обойтись — список слишком длинный После некоторых дебатов моя готовность принести жертву вполне устроила всех собеседников, и мы отправились в путь. При выезде из деревни я сняла пиджачок и оказалась во всей красе. Эффект был неожиданным — у водителя случился приступ смеха.
— Радистка Кэт, Марина Николаевна, по части притворства вам в подметки не годится. Куда же делась ваша бледность?
— Андрей Константинович, мы так мало знакомы, что понять, в какие же моменты надлежит обижаться, не так уж легко.
— А что вам подсказывает сердце?
— Что вы излишне проницательны, и мне следует остерегаться.
— Попробуйте довериться, я иногда обедаю в городе и знаю, где подают отменно взбитые сливки.
— Взбитые сливки в обмен на доверие? Там же девяносто процентов пустот!
— Я полагаю, торг уместен.
— Тогда свиная отбивная!
— При одном условии — все продукты в магазине куплю я сам, такие нарядные дамы в очередях не стоят.
Вы подождете в машине?
Мясо-молочный магазин (мезапенас) у станции посещался нами с регулярностью, составившей бы честь любому английскому клубу. Ждать в машине, однако, было жарко и скучно, и примерно то же самое должен был ощущать сейчас мой спутник, стоя в очередях. Захлопнув дверь, я снова замаскировалась пиджачком, чтобы не привлекать излишнее внимание, и решила помочь Андрею Константиновичу с покупками.
Внезапно возникшие в воздухе силовые поля попытались, однако, увлечь меня в сторону вокзала, где в кустах железнодорожного скверика рабочие устанавливали очень высокий деревянный крест, разукрашенный резными кружевами и фигурками. То, что это происходило в советские времена и, мягко говоря, за пределами кладбища, требовало внимания, и я решила, что рассмотрю крест попозже. Нужно было перейти шоссе, но сзади меня внезапно возник какой-то сомнительный небритый тип из местных пристанционных алкашей и, почти поравнявшись со мной, он резко пошатнулся в мою сторону.
Не судьба была погибнуть мне именно сегодня — только этим и можно объяснить мое удачное падение у самых колес мчащегося по улице грузовика. Но колено было разбито, и юбка покрылась сбоку дорожной грязью. Бомж тут же сбежал, а я поплелась в туалет автобусной станции, где обезвредила рану духами и промыла юбку водой, благо мокрые пятна на черном бархате были почти не заметны. Мой спутник появился только через десять минут, когда волнение уже улеглось, духи немного выветрились, и юбка слегка подсохла.
— Черт… — думала я, пока он выруливал вокруг центральной площади в поисках удобной стоянки, — силовые поля, похоже, всегда правы! Пора бы уже и понять…
Обед был превосходен, и мы оба получили удовольствие от легкой совместной пикировки и полусладкого шампанского, но я наотрез отказалась танцевать, поскольку колено побаливало, а демонстрировать новые царапины, не состоя в гусарах, было не корректным. Андрей Константинович был разочарован и сделал еще более ужасное предложение — прогуляться пешком по городу. Ему явно не хотелось ехать домой, а вторичный отказ мог вызвать сомнения в моей лояльности, поэтому у меня возник коварный план — он отвозит продукты тетке и придумывает причину моего отсутствия, а я пережидаю это время у лодочной станции, и мы едем за озеро к моей хорошей знакомой — местной ведьме Лауме Жемепатискайте.
Мой план, однако, вызвал некоторые возражения.
— Марина Николаевна! Меня удручает обстановка глубокой секретности. Когда вы скрывали свои царапины от родственников, я вас поддержал. Но сейчас, пожалуй, я выдам вашей тете страшную правду о том, что мы вместе едем в гости, или вам придется обосновать свою позицию. Неужели речь идет о репутации?
— А что в этом плохого?
— Достаточно странно, учитывая ночные визиты посторонних мужчин.
— По деревенским меркам визит был утренним, а наши фамильные традиции не предполагают детальных отчетов о времяпрепровождении взрослых членов семьи. В каждом монастыре свой устав, не так ли?
— В нашем монастыре учили не лгать по пустякам.
— Ладно, по пустякам у нас уступают, тем более, что я развлекаю вас не только корысти ради, но и по желанию тети. Ей очень хочется, чтобы Пакавене вам приглянулась.
— Ну, вот, и договорились, — засмеялся он.
Мы заехали за вином и зернами кофе — традиционным подарком Лауме, а потом отвезли продукты в Пакавене. У Лаумы всегда было много народа, и можно было приезжать без приглашения. Группа коттеджей за озером была домом творчества республиканской художественной мастерской, а Лаума, после выхода на пенсию, третий год служила здесь комендантом. Ее подопечные и украшали лесные дороги деревянными скульптурами.
В деревне их самой крупной акцией за последнее время был снос просторного стеклянного кубика, где всегда продавалось пиво. Кубик стоял под церковным холмом у памятника братьям-музыкантам, и именно это неуместное положение и послужило причиной его гибели. Отчаянно рыдал Барон, поскольку его привязанность к этому заведению была даже отражена в общественно-литературном произведении (мы иногда развлекались совместным стихоплетством):
Барон с утра в ночной рубашке, Забыв семью, бежит к стекляшке. «Нью-Таймс» местный почтальонас Ему приносит в павильонас.Ведьма была еще красивой и стройной, с крепкой точеной головой, форма которой хорошо проглядывалась под сантиметровой щеткой русых волос с небольшой проседью. Так могла бы выглядеть святая Жанна Д Арк, доживи бы она до седин, но этот же типаж обычно фигурировал с плеткой в послевоенных фильмах о концлагерях.
Кем был ее отец, Лаума не знала, а мать владела в округе большими землями, и Лаума до сих пор хранила все документы на владение отобранными богатствами, надеясь, что они когда-нибудь пригодятся ее дочери, уехавшей учиться в республиканскую столицу. Кроме того, она всю жизнь лелеяла мечту отыскать во дворе давно исчезнувшего дома часть фамильных драгоценностей, закопанных матерью перед арестом.
Другую часть, вместе со всяким добром, они успели переправить на телеге к родственникам в деревню, но родственники потом ничего Лауме не вернули.
Получить образование и сделать карьеру в советское время ей удалось с большими трудностями.
Библиотекарша не без иронии рассказывала, как Лаума дежурила как-то в пасху у церкви на предмет выявления чуждых настроений в молодежной среде. Теперь, однако, Жемепатискайте предводительствовала местной партией зеленых, что более соответствовало образу упомянутой французской мученицы. Знакомы мы были уже давно, но откровенно говорить стали только в прошлом году. Она не скрывала своих райкомовских прегрешений, и объясняла свое оборотничество просто:
— Я ведьма от рождения, мне нужна бешеная активность и власть, а времена выбирать не приходилось.
Сейчас же время дало мне, наконец, возможность выбора, а я никогда не забывала, что и сосны вокруг большого озера, и земля под ними — это собственность единственной дочери расстрелянной матери.
Она была совершенна искренна, и энергия, исходившая от нее, притягивала людей центростремительно и властно, но при этом рождалось и странное опасение — не дай бог, знак сменится, и тогда все немедленно разлетится вдребезги и подальше от центра. Я была влюблена в эту женщину, и мой спутник тут же уловил это в моем рассказе.
Мы медленно ехали вдоль большого озера, и Андрей Константинович разглядывал большие деревянные скульптуры, расставленные по краю дороги. Одна из них, изображавшая низкорослого уродливого мужчину, поросшего шерстью, ему особенно приглянулась, и он притормозил. У сучковатого постамента лежал большой серый камень, а из волосатого затылка проглядывала маленькая детская головка.
— Это Велняс, противник громовержца. Он ворует у Перкунаса скот и уводит его жену, — пояснила я, — при случае превращается в животное, дерево, камень или очень сильного младенца, враждующего с пастухами. Его потомство носит лук со стрелами на животе, и женщины убивают таких детей, чтобы они не принесли им несчастье.
На большой крытой террасе фасонного коттеджа Лаума разливала чай районному архитектору Алоизасу, его супруге Лиле и трем незнакомым господам разного возраста. Когда мы припарковались, я поняла, что имеются некоторые проблемы.
— Андрей Константинович! Я беру на себя смелость ввести в дом нового человека, не лучше ли при этом представить наше знакомство более тесным.
— В каком смысле? — реакция была примитивной чисто по-мужски, и в его глазах тут же запрыгали чертики.
— В смысле обращения друг к другу. Давайте временно обойдемся без отчеств и прочих церемоний — здесь так принято, и обстановка за столом будет непринужденней.
— Ну что же, вполне логично, Марина Николаевна! И вот еще что — спасибо за доверие.
— Принцип комплиментарности, связанный с подсознательной взаимной симпатией особей определенного склада друг к другу, лежит в основе любой этнической традиции и сопряженного с ней социального института, — процитировала я кое-что, как примерный молодой ученый.
— В Одессе говорят по-другому, — сказал он, — интернационал добрых людей! С социальным институтом, вот только, заминка.
Да, склонность к белым одеждам, обычно, угадывалась сама собой, и он уловил суть предложения — уж слишком занятная у него была лаборатория. Как ни странно, но близкие отношения при резком отличии наших позиций были бы абсолютно невозможны. Кто знает, где гнездятся желания у дам, порченых литературой?
Две бутылки сухого вина и мой красочный наряд вызвали в творческой среде определенное оживление. Лаума пошла молоть свежий кофе, а мы познакомились с господами художниками, и поговорили о своих занятиях, Чурленисе и Чернобыле, но сейчас всех присутствующих более всего занимали вопросы национальной независимости, а возможность безопасной дискуссии казалась занятной. Они излагали свои соображения, а я, на правах старой знакомой Лаумы, указывала на определенный недостаток самокритичности, что так сильно отличало наши позиции. Меня, к примеру, совершенно не устраивал широко распространенный здесь тезис, что в повсеместном пьянстве повинны только русские. У нас сейчас искали и находили других виноватых, а кто был виновником подобной беды в Финляндии, всем было неясно, но автобусы с жаждущими дешевого виски финнами шли в Ленинград караванами.
Я все еще была под впечатлением недавнего пренеприятнейшего случая в переполненном автобусе.
Когда автобус тронулся, то из верхнего люка сильной воздушной струей задуло прямо на крошечного дачника, примостившегося на коленях матери. Та обратилась к высокому молодому мужчине в городском костюме, стиснутому низкорослыми туристками, с просьбой закрыть люк.
— У меня кейс в руке, — сказал он с местным акцентом.
— А другая рука? — спросила мать.
— Она у меня болит, — ответил мужчина, и, подняв абсолютно целую и невредимую конечность, сдул с нее пылинку.
Все остолбенели, а мужчина, весьма довольный собой, стал обсуждать происшествие со своей пожилой спутницей. Слов мы не понимали, но она, судя по мимике, выражала полное одобрение.
Приезжих не любят везде, но в московских автобусах эта сцена была невозможна, хотя ограбить, избить или убить там вполне могли. Люди взволновались, кто-то протянул куртку, чтобы укрыть ребенка, и обыкновенное слово «фашизм» уже было произнесено.
— И вас ничего не смущает? — спросила я эту женщину.
— Нет, когда вы нас оккупировали, то убивали и старых, и малых.
— Время было военное — тогда все были, как звери.
Они презрительно усмехнулись, и я поняла, что для них военное время никогда и не кончалось, и ко мне пришло то странное ожидание ножа в спину, что всплывало порой в соснах пакавенского леса.
Мои нынешние собеседники не одобряли подобных акций, утверждая, что определенный процент людей с такими вот жесткими установками имеется в каждой нации, с чем трудно было не согласиться. Я питала искреннюю привязанность к трудолюбивым обитателям соснового края, и приклеивать ярлыки по единственному за пять лет неприятному эпизоду не могла, но душа болела — непривычна она была к таким вот вспышкам ненависти. Впрочем, через несколько лет это уже никого не удивляло, и никому уже и в голову не приходило, что можно любить соседей.
Некий консенсус в застольной беседе, несмотря на мою сегодняшнюю горячность, был все же достигнут — мы были достаточно благожелательны и старались выслушать друг друга, и главное, что изменилось в самое последнее время — до моих оппонентов начинало доходить, что обыкновенные русские люди лишены агрессорских планов, что у нас свои серьезные проблемы с возрождением национального духа, и что кресты с их исторических зданий снимались и без указаний Москвы, в порядке личной инициативы местных товарищей.
Тем не менее, мне все более и более становилась очевидной плохая совместимость прибалтийского менталитета и русского самосознания. Североевропейская модель социализма представлялась им не только желанным, но и вполне достижимым образцом, и монархические веяния с добрым царем-батюшкой отсутствовали напрочь. Они мечтали о твердой границе, как о невесте, и с этим, как представлялось, нельзя было не считаться. В упрямстве этим ребятам тоже равных не было. Я заметила некоторую общую особенность местного населения — они говорили свое первое «нет», слегка колеблясь, и мы, исходя из привычного расклада вещей, начинали твердо надеяться, что уговорить удастся. По мере давления, однако, их «нет» на глазах становилось железобетонным и дальнейшему обсуждению уже не подлежало.
Мне было бы трудно здесь жить в зимнее время, но зачем мне здесь жить зимой? «Не стоит путать туризм с эмиграцией», — как сказали скучавшему среди серафимов и смоковниц праведнику, когда тот попал на сковородку, прельстившись во время экскурсии в альтернативном месте бравурной музыкой и светящимися рекламами. С музыкой и рекламами, правда, здесь было не лучше, чем везде, но молочные реки текли без перебоев, чистенькие улицы радовали глаз в любую погоду и цветы у домов росли вольно, буйно и без страха перед случайными прохожими. Страна знала, что отставные герои предпочитают коротать старость в Прибалтике, и их можно было понять, но мне всегда хотелось осенью домой.
А сейчас был разгар лета, и теплый хвойный ветерок пробегал по террасе, не находя раздражения и злобных слов. За этим столом мы всегда приходили к согласию, но судьбы вершат более великие и несговорчивые, и, увы! — призрак колумбийского полковника Аурелиано Буэндиа мочился под деревом где-то рядом. Он был молодцом, этот парень, и всегда так рьяно сражался за правое дело, что и понять было сложно — то ли результат ему так уж важен, то ли запах сражения приятен и сладок, и все дела!
Андрей Константинович слушал очень внимательно, не прекращая при этом попыток очаровать нашу хозяйку, что ему, в конце концов, и удалось. Для первого визита эта позиция казалась наиболее удачной, и они с Лаумой беседовали время от времени о чем-то своем, и она подкладывала ему на тарелочку всякие хрустящие булочки, в изобилии водившиеся на кулинарных прилавках райцентра. В конце концов, они настолько углубились в беседу, что окончательно выпали из общей компании. Лаума тоже умела очаровывать людей, страшная сила исходила от этой женщины.
Пора было заканчивать визит, и любезная хозяйка вышла проводить нас, сообщив по дороге об успехах своей дочери, будущего архитектора, чей проект занял первое место на республиканском молодежном конкурсе. Вопрос об аспирантуре с этой осени уже был решен, но я знала, что это решение дочери должно являться для Лаумы трагедией — все эти годы она рассчитывала, что дочь вернется после института в родные места. Собственно говоря, необыкновенно милое отношение Лаумы ко мне, отчасти, объяснялось моим внешним сходством с ее дочерью.
— Заходи еще, заходите вдвоем с Андрюсом, — сказала она на прощание, — привет Барону!
Мы остались одни и сели в машину. Временным соглашением никто из нас так и не воспользовался, мы вообще не обращались друг к другу в беседе. С новыми людьми уж как поведется, иных сразу именуешь без церемоний, и все тут! Но я не могла сказать «ты» и по другой причине — в сложившейся ситуации это сразу бы приобрело тайный смысл, и с этим нужно было бы что-нибудь делать.
Машина медленно двигалась вдоль ночного озера, выхватывая зажженными фарами придорожные деревянные скульптуры. Пели цикады, квакали лягушки, светили звезды, и волны мягкого тепла катились из черноты ночного озера в открытые окна автомобиля, а я была в некоторой растерянности, и не могла сразу найти каких-нибудь дежурных слов, аон, как на грех, тоже молчал, и атмосфера полнилась электричеством.
Наконец, я спросила:
— Андрей Константинович! Надеюсь, вы немного развлеклись?
Он остановил машину и посмотрел мне в глаза.
— Я думаю, ты хочешь спросить совсем о другом — какого черта я так медлю. Спроси меня об этом!
— Но это тоже займет время, — ответила я честно и прямо. Он вышел из машины, и, открыв мне дверь, протянул руку.
— Иди ко мне, — сказал он, и я подошла к нему так близко, как смогла, и счастье этой близости оказалось ошеломляющим, и я не стала скрывать этого.
— Я не уйду от тебя сегодня, — сказал он мне с легкой вопросительной интонацией, и земля уже стала уплывать из-под ног, когда пришлось признаться во временном недомогании. Разочарование было тем сильней, что еще три дня древо познания должно было оставаться целехоньким.
— Хочется получить небольшую компенсацию, — сказал Андрей уже в машине, — ты расскажешь мне сейчас, почему прихрамываешь, и с завтрашнего дня мы не будем прятать наших отношений.
Пришлось рассказать, и он осведомился о моей склонности к бытовому травматизму.
— Я сама этим обескуражена! Честно говоря, всякие лохматые и небритые чудовища активизировались со дня нашего знакомства. Что ты на это скажешь?
— Я не буду теперь отходить от тебя, на всякий случай!
— Тогда придется жарить грибы и на твою долю, не сопровождать же мне тебя в столовую.
— Я об этом и мечтать не мог, но что я должен делать взамен?
— Можешь держать меня на кухне за талию, после этого наши отношения уже точно не скроешь.
— Я не уверен, что у меня сразу получится, зрители там довольно придирчивы, — ответил он, и мы репетировали эту вполне пристойную сцену, перемежая театральные паузы всяческими разговорами, пока за озером не погасли огни.
Пора было возвращаться домой и расходиться по своим светелкам. Оставшись одна, я посмотрела на часы, где обе стрелки как раз сливались в одну темную линию, и мне пришлось проститься с самым счастливым днем своей жизни. Спустя мгновение большая стрелка дрогнула, но ничего не изменилось, и стоило только закрыть глаза, как сердце застучало благовещенской ласточкой, и все мое прошлое стало рассыпаться под этими ударами в пух и прах.
— Я буду ждать тебя утром во дворе, — сказал он мне на прощание, и мне сейчас хотелось заснуть как можно быстрее.
В момент пробуждения я, однако, испугалась, что волшебство вчерашнего вечера может не повториться. Присущий мне утренний скепсис мог разрушить даже оптимизм отъявленного чердачного кота, вроде Дона Жуана, не говоря уже о таких нежных созданиях, как Дафнис, Филемон и Ромео из Вероны. Как правило, все мои романы шли на убыль с разной скоростью именно со второго свидания, когда я начинала развинчивать новую игрушку на составные части, искренне удивляясь потом ее бездействию и обилию лишних деталей.
Я слишком быстро сочинила вчера упоительный дамский роман, где мы жили счастливо и умирали в один день, запив хлеб и соль терминальным стаканчиком воды, и для постороннего читателя это было смертной скукой, потому что с героями ничего не происходило. Они утром уходили на работу, а вечером возвращались домой, оставляя бумаги на остывающих письменных столах, и сидели там вместе, а по выходным выбирались из города на природу или шли на очередную премьеру Виктюка, если не навещали в эти дни родственников и друзей. Первые годы им не хватало толкового словаря Владимира Даля, но потом они купили по случаю третье исправленное и значительно дополненное издание под редакцией профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ в приличном переплете.
Все самое интересное происходило за кадром, как в клубе со строго ограниченным членством — не менее, но и не более двух, и там было все — и захватывающие погони, и горящие автомобили, и ночные перестрелки, и герои теряли друг друга только затем, чтобы потом найти, и я так быстро сочинила вчера этот роман, что сегодня казалась себе смешной, как первого января своего далекого детства, когда, досидев за столом до самых кремлевских курантов, я взбунтовалась против отсутствия безудержного кружения карнавальных масок, искусственной вьюги и лекции «Есть ли жизнь на Марсе?».
У него, наверняка, был собственный сценарий, и нестыковка могла оказаться столь же чувствительной, как в разговоре гимназистки выпускного класса с гусаром. Менторское состояние моего эго в глухом английском костюме и седыми буклями над пенсне гонялось по классным коридорам за этой глупенькой выпускницей, и это походило уже на другой анекдот, когда Штирлиц стрелял вслепую, а слепая ловко увертывалась. То, что оставалось от суммы после вычитания, было наблюдателем, и наблюдатель пил кофе здесь же, у монитора, испытывая умеренный интерес историко-архивного характера, как при просмотре застарелого синематографического шедевра. Сегодняшним утром, если я не враг себе, мне лучше было бы отсидеться в черничнике в полном одиночестве.
— Сгину, к свиньям, как швед под Полтавой, — думала я, замирая от страшной опасности, — журавль и синица, они, если честно, не пара, не пара, не пара…
В голову лезли отвратительные утренние мысли — трезвые, грубые и беспощадные. С ними я и вышла на крыльцо, придав лицу максимально любезное выражение. Андрей ждал меня в беседке, и путей для отступления в черничник не было. Некоторое время мы молча разглядывали друг друга.
— Опять что-нибудь случилось? Еще одно чудовище вчера вечером напало на красавицу? — спросил он с деланным участием.
— У меня все еще помятый вид?
— Напротив, слишком накрахмаленный, и меня уже подмывает…
— А тебе не приходит в голову, что более всего меня привлекла твоя сдержанность?
— Она меня подвела, как выяснилось. А вообще, это уже не имеет никакого значения, все равно твои приоритеты послезавтра изменятся. А пока я жду завтрака из твоих рук.
— Ну, что ж, Андрей Константинович, если ваш аппетит под стать вашей же самоуверенности, то я вряд ли смогу его удовлетворить.
— Заниженная самооценка, — сказал он мне вслед, — но это излечимо.
Я кормила завтраком своего героя в беседке на глазах у всех, и на завтрак я поджарила толстые ломти мягкого сыра, густо обваляв их в муке с яйцом, присыпав черным перцем и обложив уже в тарелочке ломтиками помидоров с крупными каплями майонеза и мелко нарезанным укропом. Андрей Константинович был весьма благожелателен, но это ничего не значило, поскольку фразу: «Какая гадость, эта ваша заливная рыба!» — вся страна ежегодно слышала из уст вот такого же загулявшего московского доктора средних лет. Не обошлось без Барона, который тут же приплыл узнать, куда это я вчера пропала. Узнав о тайной вечере за озером, он слегка обеспокоился и заревновал всех и вся, так как до сих пор мир крутился вокруг его собственной персоны, и этот ход вещей представлялся ему наиболее естественным. Его лояльность по отношению к моей персоне, когда я в фартучке и кружевной бумажной наколке подавала ему в этой же беседке горяченькую закуску, обычно не имела границ, и появление конкурента грозило нарушить маленькие, но милые сердцу привычки.
Жемина усердно отгребала землицу от пузатеньких желтых луковиц, но хозяйское око ее не дремало, и, улучив момент, она спросила меня невинным голосом, нельзя ли сдать одну из наших двух комнат в мансарде еще кому-нибудь, чтобы зря не пропадала. Старушка-блокадница, услышав это предложение, тут же пошла навестить свою приятельницу, снимавшую с внучкой пару комнат у Вацека Марцинкевича, потому что мое видимое одиночество всех интриговало, а приятельница обожала новости такого рода.
— У тебя имеются какие-нибудь планы на сегодняшний день? — спросил Андрей, пока я мыла посуду.
— Хочу собрать черники к вечернему творожку, если не возражаешь.
— Я попробую помочь тебе, — сказал он.
Мы поднялись за огородом на холм и ушли по просеке с нумерованными столбами, несшими свет к Пакавене. Эта просека мерещилась мне московскими зимами, и я сейчас не без удовольствия дарила ее солнечные отрезки своему спутнику, хотя ощущение душевного дискомфорта все же не проходило. Между пятым и седьмым столбами всегда краснела земляника, у одиннадцатого столба я временами сворачивала на небольшую песчаную гряду, усеянную сыроежками и лисичками, у тринадцатого вот уже два года лежала поваленная смерчем береза, а у семнадцатого столба вправо отходила тропинка, и метров через двадцать на повороте стояла гигантская сосна с дуплом, под которой я нашла прошлым летом забытый кем-то походный котелок. Мои признания в любви к местным пейзажам звучали, однако, в полной тишине, что вызвало, наконец, некоторые сомнения.
— Я слишком увлеклась?
— Нет, просто я уже два года не был в отпуске. А сейчас получаю одновременно два удовольствия — от собственных впечатлений и твоих.
— Тогда ты должен любить «Клуб путешественников». Видеть мир глазами Сенкевича — любимое развлечение всей страны.
— В последние годы я смотрел программу «Время», футбол и английские детективы, если удавалось.
Я оживилась, потому что английские детективы были и моей слабостью. Французские детективы меня раздражали, потому что в их основе всегда лежало национальное «Шерше ля фам», и причиной всех преступлений служил, как правило, заурядный адюльтер. Мы прошлись по литературному интервалу от Честертона до Маклина — последний автор и был моей главной слабостью.
У восемнадцатого столба был молодой соснячок с ведьмиными кольцами, но мы свернули по тропинке у семнадцатого столба, и уже через минуту я прикидывала объем работ в ближайшем черничнике.
Как оказалось, сбор ягод Андрея Константиновича вовсе не интересовал, и он откровенно бездельничал под сосной, обсуждая со мной англоманию, как занятное явление в российской жизни, начиная с пушкинских времен. Тема разговора сменилась внезапно.
— Марина! Ты совершенно напрасно возводишь всяческие фортификации. У тебя все равно ничего не получится, потому что ты моя женщина.
— Откуда у тебя такая уверенность?
— Знаешь, я запросто останавливаю боль у своих пациентов, но никогда не мог делать это с близкими людьми — исчезает нужная психологическая дистанция. На Кавене мне вдруг пришло в голову, что я никогда не смогу сделать это и с тобой. Я также беззащитен сейчас, как и ты, но мне это нравится.
— Я приму информацию к размышлению.
— Я подожду результатов, — сказал он, а дальше просто молчал и смотрел, как я собираю ягоды, и некоторое время я еще пыталась продолжить свое в меру увлекательное занятие, но оно требовало определенной сосредоточенности, а ягодки черники вдруг стали прятаться от моих рук под блестящими кожистыми листиками. Тогда я подошла к Андрею и села рядом, а когда знакомые руки коснулись меня, то я уже ничего не видела, кроме его губ.
— Помилосердствуй, Марина, иди лучше собирать чернику, — весело произнесли эти губы через некоторое время, — я и так двадцать четыре часа в сутки думаю, что там у тебя под джинсами.
— Расписной русский рай, — процитировала я с искусственным придыханием бравого красноармейца Исаака Бабеля, — но это такой же жестокий обман, как цветок росянки.
— Ну, ты и юннат! — засмеялся Андрей.
— Ничего подобного, деловой обмен информацией.
— Моменты, когда ты переходишь от обороны к нападению, просто восхитительны, — сказал он, — где там твоя косичка?
— Хочешь дернуть?
— Не бойся, я перестал заниматься этим вскоре после твоего рождения, все девочки тогда разом постриглись. С тех пор и любопытствую.
Он расплел мои волосы, и я не ушла, но то, что удалось собрать к моменту возвращения домой, сиротливо перекатывалось на дне банки. Вопрос о жизни на Марсе уже не стоял — жизнь была везде, под каждым листочком и камушком Пакавене, и все суетились, добавляя в зеленое и голубое розовенькие краски, наспех сколачивая картонные щиты, имитирующие каменную рустованную кладку, и подсаживая цветущие кустарники на задний план сцены, а героиня учила роль в непосредственной близости от героя, настраивая свою скрипочку на высокий открытый звук, чтобы основная мелодия новой пьесы не перечеркнулась бы завуалированным пением альтов, рвущим душу пиччикато виолончелей и ничего не значащими фразами. То, что исполнительница главной роли оказалась лет на десять старше своей героини, меня немного смущало, но, в конце концов, такое уж лето, доктор, выдалось!
Все заинтересованные лица в деревне были уже в курсе последней новости, и когда я пригласила Андреяна обед в беседку Вельмы, его тут же включили в элитный круг Верхней Пакавене, и Баронесса пригласила его с собой на консультацию к больному ребенку в Нижнюю Пакавене.
В Нижней Пакавене вчера появился Гядик, поджарый плейбой из республиканской столицы, которому Наталья Виргай привезла этим летом для его подпольной портновской деятельности старинный промышленный оверлок, считавшийся уже в писаных правилах частной, а не личной собственностью. Его полное имя Гедиминас звучало по здешним меркам героически, и он был племянником какого-то важного духовного лица. Прежнюю профессию племянника никто так и не узнал, а все последние годы он отменно шил джинсы, выдавая их за импортные. Материал и фурнитура поставлялись из-за границы баскетболистами республиканской сборной.
В Пакавене его не любили, потому что он постоянно мял покосы своим автомобильчиком и растрепывал стога сена, устраивая там свои частые неофициальные свадьбы. Мужики как-то подложили в покосы с десяток граблей, и Гядик проколол все четыре шины одновременно. Разборка кончилась в пользу агрессора, так как Гядик помахал перед мужиками хорошо отполированным пистолетом, а те и струхнули, не зная, что пистолет, случайно найденный Гядиком в старом окопе, не имел практического значения из-за отсутствия внутри нужных винтиков и шпунтиков.
Его отношения с нашей Натальей Виргай, таскавшей за собой на долгий учительский отдых швейную машинку «Веритас», были таинственными, но сугубо деловыми. Ее же подруга Надежда, пользовавшаяся моей посудой, очень не любила Гядика, поскольку при мужественном облике имела весьма нежное и чувствительное сердце и обожала период ухаживания. Однажды она вернулась домой, измазанная в грязи по самую макушку, и рассказала жуткую историю, как Гядик предложил ей покататься по окрестностям, но в машине начал атаку, не предупредив вздохами и поцелуями. Вырваться из машины удалось, но разгоряченный Гядик настиг ее в мокрой пашне, они крепко подрались, и с тех пор бывали в гостях у Натальи в разное время.
Вчера Надежда, похоже, обнаружила свою мечту — опытнейшего ухажера и детально расспрашивала меня о Генрихе, пока Баронесса с Андреем осматривали сынишку ее нынешней хозяйки. Когда в поле зрения появились наши доктора, Надежда внезапно сменила тему разговора, и стала расспрашивать меня об Андрее Константиновиче.
— Из тех, кто мягко стелет, — призналась я ей честно, — но очень неприятен и груб — просто оторопь берет при более близком знакомстве.
За обедом Василий оторвался от супруги и рассказал свежий, но очень приличный литературный анекдот про Герасима и Муму, а Баронесса между первым и вторым блюдом прошлась по двору колесом и продемонстрировала профанам целую серию движений из таинственного у-шу. На заднем плане двора, между тем, текла своя, не менее интересная жизнь. Мы видели, как у дома Жемины появилась Аушра, бывшая одноклассница Альгиса — та самая, которая вышла замуж в соседнюю деревню, немного не дождавшись своего солдатика. Это была крепкая симпатичная девушка, и Жемина, считавшая еще прошлым летом ее своей будущей невесткой, с удовлетворением говорила:
— Ты только посмотри, какие у нее большие руки, с такими лапищами можно тут горы свернуть, — и кивала на свое большое хозяйство.
Аушра, видимо, хотела поговорить с Альгисом, но Жемина отнекивалась, и та уже собиралась уходить, как сам Альгис показался на крыльце. Они отошли к сеновалу для короткого разговора. Альгис был резок, и одноклассница уехала на велосипеде. Жемина тут же доложила нам не без гордости, что Аушра просила Альгиса не торопиться со свадьбой, но сын наотрез отказался.
Вечером мы прогуливались вдвоем с Андреем вдоль большого озера по дороге, отходившей от шоссе к туристическому кемпингу. Андрей рассказал, что после ординатуры он остался работать в мединституте и подрабатывал какое-то время в платной поликлинике. Заведующим медицинским центром лаборатории аномальных явлений он стал недавно, после защиты докторской.
— Свой выбор я сделал еще в детские годы, — сказал он, — и, собственно говоря, по служебной линии я уже достиг максимума, следующие уровни требуют слишком больших компромиссов. У меня остается работа, и пока я не вижу здесь своего потолка.
К вечеру на него напала некоторая задумчивость, не оставившая его и во время прощального поцелуя перед дверью.
— Похоже, я испортил сегодня твою репутацию. Как ты к этому относишься?
— У меня уже другие проблемы — мир полон завистниц, а у тебя все еще слишком много свободного времени.
— Я подумаю, как восстановить твое душевное равновесие. Спокойной ночи.
Оставшись одна, я попыталась взглянуть на мир трезвыми глазами, но у меня ни черта не получилось — окна были открыты, и пакавенские травы источали райские фруктовые ароматы — те самые, за которыми так остервенело охотилась косметическая фея Мэри Кей, и мне так хотелось, чтобы он вернулся, что он, и в самом деле, вернулся, слегка извиняясь за то, что чувствует себя сегодня подростком, а потом он ушел, и, проснувшись выпускницей средней школы, изнемогавшей от счастья своей первой тайны, я пожалела, что встречаю это утро одна, и мне было глубоко наплевать, куда же делись наставница с наблюдателем, вечные спутники трезвого образа жизни.
— Хотелось бы провести этот день только вдвоем с тобой, — сказал он мне утром во дворе, и тут мы получили специальный заказ от Жемины набрать пару ведер грибов по случаю завтрашней свадьбы Альгиса и Кристины. Для этого нужно было проехать по дальним лесным дорогам и прочесать опушки леса подальше от жилых мест. Сбор грибов с автомобилем имеет свои особенности, являясь, по своей сути, этаким немудреным тестом на совместимость, но действовали мы довольно слаженно, наводки оказались точными, и грибы собирать Андрей умел.
Когда, выполнив заказ и купив свадебный подарок, мы вернулись в середине дня в Пакавене, во дворе уже стоял свеже сколоченный многометровый стол с лавками, девицы украшали навес гирляндами цветов, а двое мужиков проводили туда временную электролинию. Юмис со Станиславом коптили на огородных задах кур и угрей, Жемина с соседками делали домашнюю колбасу из заколотого вчера белого борова и крутили голубцы. На теткиной веранде под плащами прятались от жадных мужских глаз серебристые водочные головки.
После обеда мы сходили, наконец, на кладбище, где церковная мастерская уже успела забетонировать могилу и обнести ее металлической оградой. Деревенское кладбище, в отличие от печальных российских погостов, имело, благодаря ухоженным цветникам и ярко раскрашенным статуям католических святых, очень нарядный вид.
Я принесла три разноцветные бегонии, купленные днем на рыночке у станции, а Андрей сбегал за водой, и мы украсили могилу этими традиционными для здешних мест цветами. На зиму их полагалось выкапывать и хранить на чердаке в горшках, и бабушкина приятельница Эугения обещала присмотреть за бегониями и высадить их следующей весной. Огромные деревья с необычайно пышной листвой укрывали могилы от палящего солнца, а крупные невостребованные ягоды земляники падали на землю и тут же прорастали новыми зелеными розетками, если не пропадали бесследно в желудочках небесных птах.
— Мне в Москве Евгения Юрьевна как-то рассказывала о своих внучатых племянницах. Я помню, одна из них пока еще не была замужем. До сих пор я почему-то был совершенно уверен, что это про тебя. Надеюсь, я прав? — спросил меня вдруг Андрей.
— Не надейся, я развелась несколько лет назад.
— Тогда, надеюсь, ты не собиралась замуж в последнее время?
— Иногда собиралась — под настроение, да как-то не представлялось удобного случая.
— Ты так славно готовишь обед, есть о чем подумать.
— Только не вслух, пожалуйста, такие вещи говорят после целой серии удачных обедов.
— С такими талантами — и на свободе! На месте твоего мужа я бы не стал разводиться.
— Я бы тоже, но у него не было выбора.
— Так почему же вы развелись? — спросил он и, увидев выражение моих глаз, быстро добавил, — я предельно серьезный парень уже лет тридцать пять. Спроси у тети, ей мой дядя теперь все докладывает.
— Мы не сошлись характерами, и это чистая правда. Впрочем, все произошло так быстро, что я уже не помню деталей. Сейчас он иногда позванивает, жалуется на третью жену — такая сволочь опять попалась, хоть вообще больше не женись!
— А что ты делала потом?
— Потом мне ужасно понравилось жить одной.
— Тяжелый случай, но я собираюсь долго надоедать тебе. Ты не против?
— Уже нет, ты мог бы это заметить.
Мы ушли за ограду кладбища, и отправились гулять по лесным дорогам. Оставаясь наедине со мной, он был гораздо разговорчивее, чем в компании, и, будучи детьми своего времени, мы не избежали сегодня длинной беседы о недавнем прошлом своей страны. В прошлом году были напечатаны «Исчезновение» Юрия Трифонова и вторая часть эпохального произведения «Дети Арбата», в этом году появились «Овраги» Сергея Антонова, и это представляло общий интерес.
Потихоньку ноги привели нас к железной дороге, ограничивающей Национальный парк с востока, а потом мы вернулись домой уже другим путем. Гулять по пакавенскому лесу без определенной цели было для меня внове, я всегда на своих прогулках что-нибудь собирала. Можно было бы, конечно, проинтерпретировать наш променад как сугубо деловой сбор сведений друг о друге, но, когда мы присаживались на сваленные бурей деревья, и я смотрела ему в глаза, то у меня голова кружилась от того, что эти глаза обещали. Мой спутник был очень хорош собой, нежен и смешлив, но дело было не в этом. Похоже, я нашла в нем то, ради чего стоило родиться, приехать в Пакавене, а потом когда-нибудь умереть — глубокий и искренний интерес к моей персоне.
Мои личные заслуги, впрочем, были достаточно скромны, просто ему богом было дано расставлять свои жизненные приоритеты так удачно, что женщина оказывалась на первом месте, а мне это нужно было больше всего на свете. Было бы трудно сформулировать сейчас, на чем именно зиждилась моя уверенность в этом его замечательном качестве — просто я искала это в большом и яростном мире и, похоже, нашла.
Вечером после ужина он сказал, что хотел бы переселиться ко мне. Я, однако, призадумалась.
— Андрей Константинович! Я, конечно, готовлю вам пищу вот уже пару дней, и позволяю черт знает что с собой делать, но это еще не повод для вселения на мою жилплощадь.
— Спорное утверждение! Впрочем, в виду имелось другое — у меня при этом совершенно не останется свободного времени. Как тебе этот аргумент?
— Ты, вероятно, возишь с собой в отпуск дежурную кассету с маршем Мендельсона?
— Нет, я обычно прокручиваю своим дамам «Прощание славянки», на всякий случай.
— И когда настанет моя очередь?
— Я выбросил кассету сразу же, как увидел тебя на мостках. Самые быстрые решения у меня всегда оказываются самыми верными. Так я переселяюсь?
— Я должна подумать.
— Соглашайся, ты ведь с ума сходишь от такого красивого парня, как я! Хочешь, продемонстрирую?
— Не исключено, — сказала я, быстро загородившись стулом, — но после развода я всегда просыпалась одна — а от привычек трудно избавиться.
— Суток на борьбу с собой тебе хватит?
— Возможно, если ты, конечно, постараешься внятно объяснить, зачем тебе это нужно.
— Хочется! — сказал он с предельной искренностью, украсив слово тяжелым глубоким вздохом, — а тебе разве нет?
— Похоже, ты все равно сделаешь по-своему, — сказала я, прельстившись этой искренностью, — но жилищный вопрос все же будем решать завтра.
— Я на диванчик пока.
— Завтра! А диванчик оставь в покое для моих друзей.
Стул отлетел в сторону, и стало тесно. Его аргументы были весьма убедительны, и они полностью убедили меня в своей правоте.
— Почему завтра? — спрашивал он, когда не был занят.
— Выспаться хочу последний раз в жизни, я должна выглядеть завтра не хуже невесты. Это понятно?
— Таки да, — ответил он, — вопросов нет. С кем попало я на людях не появлюсь.
Утром, когда я, раскрутив бигуди, спустилась с крыльца, Андрей стоял уже на дворе в светло-сером летнем костюме с галстуком, а рядом с огромным букетом белых цветов красовался в черно-белом светловолосый жених. Белые «Жигули» были украшены розовыми лентами и лупоглазой куклой в стиле «комильфо», и тут же подъехали серые «Жигули» в голубых бантиках с каким-то Буратино снаружи и со свидетелем церемонии, сыном Бордайтиса, внутри. Пора было отправляться в загс, прихватив в райцентре виновницу торжества и свидетельницу.
После загса намечалось основное событие — венчание в местном деревянном костеле, и, когда машина уехала, к дому стали подтягиваться деревенские господа в черных костюмах, галстуках и шляпах. Красные мозолистые руки уверенно выглядывали из-под белоснежных манжет, и все, как на подбор, выглядели красивыми породистыми вепрями. Местные женщины выглядели скромнее своих мужчин, но, впрочем, расписные дамские наряды, завивки и наколки — все это издержки социума, в природе же все наоборот, но скромные львицы и невзрачные павлинихи отнюдь не комплексуют, и их женское начало настолько самоценно и прекрасно, что пышные гривы рвутся в клочья и радужные перья летят по ветру.
Всех поразил Барон, который успел взять в долг у районного архитектора смокинг и бабочку. Баронесса была в шикарной белой юбке, присланной из Америки тетушкой Барона, служившей там в толстовском фонде.
Несмотря на все мольбы прислать блу-джинсы и майки с приличными иностранными словами на груди, тетушка присылала только хорошие буржуазные вещи светлых тонов, не годившиеся для поездок в общественном транспорте. Майки и джинсы, по ее представлениям, годились только для студентов и коммунистов.
Невеста прибыла в национальном наряде с цветками руты в золотистых волосах. Машина, сопровождаемая нарядной толпой, медленно прибыла к церкви, но сидячих мест всем не хватило, и мы с Андреем наблюдали церемонию из-под большой деревянной статуи апостола Павла, стоявшей у левой стены.
Сидячие места не без интереса косились на мое кружевное платьице из грубого некрашенного льна, связанное местной кружевницей. Сразу за Альгисом и Кристиной стояли трогательные католические ангелки с букетиками полевых цветов — маленькие девочки в пышных белых платьицах и маленькие мальчики в белых рубашечках, бабочках и черных бриджах. На хорах пели, Ремигиус исправно звонил, и все были согласны со священником, когда он объявил о заключении на небесах еще одного союза.
Исход из церкви характеризовался существенным ускорением темпов, расселись за столом уж совсем моментально, и пошел пир горой. Внеслидва воздушных свадебных торта, напоминавших фонтаны из белоснежного мрамора. Один, гигантских размеров, предназначался для немедленного уничтожения, а второй, маленький, должен был засохнуть на веки вечные, заняв в серванте молодоженов самое почетное место.
Мы сидели рядом со Стасисоми Лаймой, племянницей Юмиса. Лайма была в светленьком платьице, удивительно гармонировавшем с ее нежным светящимся личиком, и все местные мужчины смотрели на разведенную молодицу, как мухи на мед. Отец невесты, краснолицый рыжий Звайгстикс, заломил меха видавшей виды гармошки, и местный народ стал приплясывать в энергичном ритме традиционного суктиниса. Свадебные ангелки играли в салки и носились друг за другом вокруг стола с нечеловеческой скоростью.
После первого антракта запели народную песню о «небесной свадьбе», где месяц женится на дочери солнца, а поутру изменяет ей с утренней звездой. Слов мы не знали, но припев, как водится в таких случаях, повторяли со всеми.
Когда жених вооружился ножом для первого удара в большой фонтан, внесли еще один свадебный торт в виде огромного сучковатого полена. Эти торты называются баум-кухен и выпекают их, поливая тестом вращающийся металлический валик, укутанный пергаментом.
Уставших певцов сменил магнитофон с музыкой следующих поколений, и под медленные мелодии мы танцевали, тесно прижавшись друг к другу, и Андрей шептал мне на ухо всякие нежные слова, мгновенно проникавшие вглубь и разрушавшие все защитные барьеры, тщательно возводимые все последние годы.
— Ты повторишь мне это сегодня ночью?
— Нет, я скажу тебе что-нибудь другое, у меня много всего в запасе.
— Я хочу услышать это уже сейчас.
— Я обещал отвезти престарелых родственников в райцентр, подожди немного, пожалуйста.
Свадьба уже угасала, и мы стояли у крыльца, когда Жемина спросила, не видала ли я, куда делся Альгис. Задержав взгляд на наших счастливых лицах, она сказала, что свадьбы полагается справлять осенью, но летом на природе получается лучше. Хозяйка ушла разыскивать исчезнувшего жениха, а Андрей посмотрел мне в глаза.
— Марина! Завтра в пять утра я уезжаю на три дня в Москву. Вернусь вечером — во вторник или среду.
— Буду ждать, — взгрустнула я, — позвони, когда доберешься домой.
— Я хотел бы, чтобы к этому времени ты решила один важный для меня вопрос — хочешь ли ты стать моей женой?
Я замерла на секунду от ужаса, но стрелку спидометра уже зашкаливало, и придорожные цветы сливались в пеструю картинку, и бабочки вдребезги разбивались о ветровое стекло, мгновенно застывая разноцветными густыми каплями.
— Хочу! — сказала я, и тут маленький черный ангел, сидевший на левом плече, подначил меня обмануть судьбу, — хочу на следующей неделе! Лаума с ее райкомовскими связями сможет устроить.
Андрей как-то сразу поскучнел, сказал, что не торопит меня, а потом добавил:
— С официальным мероприятием дело обстоит сложно.
— Ты женат? — спросила я тогда.
— Да, — сказал он, слегка помедлив с ответом, — и у меня есть ребенок.
Тут раздались крики: «Андрюс! Где ты?», и подошел Юмис. Его родственники уже погрузились в «Жигули», и с нетерпением ждали, пока их отвезут домой.
— Черт! — сказал Андрей, сжав мою руку, — я сейчас вернусь, подожди меня, пожалуйста.
В это время дверь дома открылась, и на крыльцо выбежал полусонный ребенок в пышном белом платьице под длинными льняными волосами. Задев ножкой об ножку, ребенок стал падать с крыльца, но Андрей подхватил его, и младенец тут же уцепился за его шею.
— Ангела не замни, — сказала я, и он ушел, выпустив ангела на свободу.
Да, дела… Седобородый старец опять выкинул меня из райского сада одну, и маленьким отторгнутым ребрышком — вот кем стою я на незнакомой земле, и некому построить жилище, принести пищу, наколоть дрова и согреть огнем мою мгновенно заледеневшую душу. Я поднялась в свою комнату, надела джинсы и свитер, и ушла за холм с черными соснами. Около можжевельника стояли две темные фигуры, и я услышала, как плакала женщина, а мужчина голосом жениха взволнованно повторял:
— Аушра, Аушра, Аушра…
В кромешной тьме я вышла к большой скульптуре, где на деревянном троне восседала готическая королевская чета с прямыми деревянными спинами и странными грозными лицами. Я кинулась на мягкую мшистую подстилку у подножья трона и зарыдала обильно и отчаянно.
— Господи! Услышь меня, прости и отведи проклятье! Я хочу только то, что ты даешь другим.
Но господь молчал, и лунный свет плыл по складкам королевских одеяний, теряясь в черных сосновых ветвях. Внезапный топот заставил меня приподнять голову, и я увидела перед собой белесые клыки гигантского вепря. Он буравил меня своими маленькими горячими глазами, и я сказала ему:
— Добей меня, добей, пока оборотни не выпили всей моей крови!
Он раздумывал с минуту, потом дал сигнал, и все стадо умчалось по спелым черничникам в темноту, оставив жертву банальной дачной интрижки бороться за свое светлое будущее.
Глава 5
Утром я вернулась домой, и белых «Жигулей» у дома уже не было. Я поднялась на веранду поприветствовать своих стариков и взять черную краску для могильной ограды. Тетка, улучив момент, все же спросила про Андрея Константиновича.
— Он глубоко женат, тетя Ната, и не спрашивай больше о нем.
Она буркнула под нос нечто невразумительное и быстро отошла к кухонному столику, где Ругучис, местное божество ферментации с вечно кислым выражением своего белого лица, уже превратил позавчерашнее молоко в сегодняшнюю простоквашку. У моей тетки был собственный театрик, так тешивший вологодское сердце ее избранника. Щи супруги хлебали деревянными ложками из общей миски, и платочек повязывался в летнее время на манер первых комсомольских функционерок. Тенденция к опрощению вступала, однако, в сильное противоречие с ее любовью к вычурным шляпкам и кружевным блузкам, сколотым под шеей старинной камеей.
Виктор Васильевич, радея в свободное время за отчизну, составлял все последние годы новый рабочий календарь, где количество выходных дней и праздников стремилось к нулю. Этот проект неоднократно посылался им в высокие инстанции, молчавшие долго и таинственно, пока автор изобретения, разглядывая фотографии на первой странице газеты «Правда», не узнал во второстепенном члене политбюро ЦК КПСС своего племянника.
Виктор был девятым ребенком в крестьянской семье, поскольку рождаемость на Вологодщине в те незапамятные времена была, видимо, гораздо выше среднестатистической. Племянник от первого брата был, таким образом, ровесником Виктора, а поскольку жизнь раскидала братьев по разным концам Советской Родины, то восстановить родственные связи представлялось вполне естественным. В ЦК КПСС был отправлен запрос о родстве, и, хотя племянник впрямую так не признал своего дядю, но через три дня после запроса к Виктору нагрянули местные райкомовцы и с великим почтением повели разговор о проекте нового рабочего календаря, уговаривая автора сохранить существующее право на труд и на отдых.
Виктор решил сохранить для бездельниц Женский день календаря, и снова отправил этот проект, куда следовало. Тетка с ужасом призналась мне в своем предательстве, когда, стоя лютой зимой у почтового ящика, она зажмурила глаза и тихонько выронила мужнино письмо прямо в сугроб, спасая тем самым значительную часть человечества от вымирания, поскольку «черные субботы», пасхальные воскресники, дежурства в народной дружине и бесконечные переносы рабочих дней с потерей выходных и так резко снижали рождаемость в СССР.
После утреннего приема простоквашки они не утерпели и стали собираться со мной на кладбище.
Путешествие с Виктором Васильевичем длилось целую вечность, он шел с палкой, опираясь на теткино плечо и хрипло дышал. По прибытию на место старики уселись поодаль и оттуда руководили всеми моими действиями. Через пару дней, если не будет дождя, следовало позолотить колышки ограды, а Юмис обещал сколотить маленькую деревянную лавочку. Крест, естественно, не планировался.
После окончания малярных работ мы так же долго шли домой. Переодевшись, я хотела простирнуть подпачканный краской халатик, но, услышав за окном голос Баронессы, спряталась в соседнюю кладовку, где лежали мешки с ненужными дачными вещами. Когда опасность миновала, я тихонько огородами удалилась в лес и, собрав на опушке букетик цветов, понесла их к песчаному карьеру. Уже ничто не указывало на произошедшую трагедию, и я положила цветы на желтый песок.
Перед деревней на изгибе шоссе стояли милицейская машина и «Скорая помощь», а сами милиционеры и какие-то штатские люди смотрели вниз, где крутой откос озерной террасы зарос невысоким ивняком. Под откосом лежала колесами вверх помятая машина, люди в белом извлекали оттуда окровавленного мужчину средних лет, а рядом с машиной на земле сидел с совершенно отрешенным видом высокий блондин лет тридцати в джинсовом костюме с фотоаппаратом через плечо. Это место было проклято для автомобилистов, аварии случались здесь почти каждый год. Обоих пострадавших увезла скорая помощь, оставшиеся мужчины стали вытаскивать машину на шоссе, а я вернулась домой, забралась с одеяльцем в кладовку и легла там, как в большом чемодане, из которого меня зачем-то вынули двадцать семь лет назад.
— Не сочинить ли из всего этого балет? — подумала я о своем маленьком театрике, но одна сумасшедшая французская балеринка восточноевропейских кровей весьма ехидно прошлась относительно изобретателей велосипедов.
— Да вы понятия не имеете, кто у вас там за кадром вещает, — сказала я ей с максимальной язвительностью.
Мы тут же вступили в дискуссию об особенностях постмодернизма, и ее крепенькие ножки в шнурованных ботиночках принимали по ходу дискуссии занятные позы, и в кудрявом водопаде черных блестящих волос то и дело мелькали темные глазки и красные губки. Наконец, мы сошлись на том, что все уже придумано до нас, и фамильный замок Маркау-Воджи — тот самый, который так жаждала увидеть Баронесса, как нельзя лучше подходит для декорации к балету. Когда роли были распределены, я появилась за кулисами на приеме в честь испанского посла под руку с генералом.
Балеринке досталась роль маленькой Норы, и, пока она стучала ножками по деревянным ступенькам нашей лестницы, стены дома каменели и воздымались к небу стрельчатыми арками, выходя за кадр в вечернее небо. Заиграла музыка, и под простую мелодию Шопена замок наполнялся молодыми парами, и девицы взволнованно дышали грудью над высокой линией талии, а молодые люди откидывали назад свои темные кудри и путались в стихах. Они еще не прихрамывали от боевых ран, и разочарование бытием еще не коснулось их гладких лиц, и принц смотрел на них с легкой усмешкой, но сладкие звуки музыки, кружившиеся в воздухе замка, все же бередили его жестокое сердце забытыми воспоминаниями.
Юная Нора с плачем вбегала по заросшим травой ступенькам в каменный замок, но тут же уносилась назад, в заросли роз — ведь обитатели замка были слишком поглощены друг другом, и никто не останавливал маленькую бегунью. Она непрерывно плакала, потому что ее трепетное сердечко уже открылось для любви, и красивый принц с разочарованным взором и байроновской усмешкой чувственных губ казался ей воплощением мечты, и желание любить так тесно, так неотъемлемо сплеталось с отчаянным и безумным страхом перед этой любовью. И когда принц остановил маленькую бегунью, и развевающие крылышки прозрачного голубого шарфика упали на тяжелые складки красного плаща, то сердечко Норы не выдержало и разорвалось. Маленькой Норы не стало, а за кадром холодная светская дама вздохнула, и, поправляя малиновый берет, сказала собеседнику:
— Ах, принц, я любила вас в то лето, но, может быть, я любила не вас, а саму любовь?
Картинки погасли, и безумие последних дней, переведенное в плоскость либретто, перестало принадлежать мне одной. Я засыпала, а оно растворялось в этом мире, и, спустя какой-нибудь час, маленькая узкоглазая Нора уже рыдала в зарослях хризантем у дворца богатого мандарина. Проснувшись к вечеру, я обнаружила во дворе маленькое женское совещание, все смотрели под куст бузины за огородом, где головой вниз совершенно неподвижно лежал блондин с фотоаппаратом.
— Он уже два часа так лежит, пришел и лег, — сообщила Жемина, — это газетный фотограф, он родился здесь, а потом его родители переехали в Неляй. Они ехали со старшим братом и разбились перед озером. А машину отвезли к Бодрайтису в мастерскую.
Он лежал в полном шоке еще с час, а потом Жемина уговорила его перейти на сеновал и отнесла туда молока с какими-то бутербродами. Уже совсем стемнело, а я все смотрела из окна на сосны, луковую грядку и темный сарай, где был мой собрат по несчастью, а потом налила в бутылку черничной настойки и пошла на сеновал. Наверху было тепло и душисто, он лежал с открытыми глазами и спросил меня:
— Ks t?
— Я была на шоссе сегодня днем, а вообще живу здесь каждое лето.
— Что тебе нужно?
— Я принесла выпить. Тебе, наверное, нужно снять напряжение. У меня вчера был ужасный день, и я бы выпила вместе с тобой.
— Сигарет нет?
— Сейчас принесу. Подождешь десять минут?
— Подожду.
Где взять сигареты, я знала точно. Барон, хоть и покупал сигареты блоками, но ему всегда их не хватало, поэтому я иногда припрятывала пачечку в укромном месте, а потом в нужный момент ему же ее и отдавала. Последняя пачечка лежала сейчас под его матрасом, я ее спрятала, пока пела песенку и перечисляла его красоты. Войдя с искаженным от головной боли лицом, что позволяло не подвергаться расспросам и укоротить визит, я попросила анальгина. Пока Барон искал таблетки, пачечка переселилась в карман моей куртки. Барон пообещал завтра поутру зайти поболтать, и я удалилась на сеновал, прихватив по дороге у беседки кошачью консервную банку с водой, отличную противопожарную пепельницу.
Мы выпили, он выкурил сигарету, глядя в потолок, а потом приказал коротко и ясно:
— Еikite… Иди ко мне.
Я и пришла. Больше мы толком и не говорили, и через полчаса он заснул мертвым сном, а я вернулась к себе. Утром пришел Барон с загадочным блеском в глазах.
— Слушай, что, собственно, происходит?
— Личная жизнь не удается, друг мой.
— Я бы этого не сказал. По-моему, ты страдаешь от ее избытка. Я хотел догнать тебя вчера, но ты исчезла на сеновале — кстати, я сразу ушел. А куда исчез Андрей?
— К семье. Understand?
— Ask! — после некоторого раздумья ответил мой друг, — пошли завтракать и махнем потом на Кавену.
Знаешь, у меня у самого страшное горе — вчера с утра оставил велосипед у дома Алоизаса, и его увели. Я уж и в милицию с горя заявил. И смокинг — представь только! — пришлось везти на рейсовом автобусе.
На Кавене было полно голого народа, приехала с семьей моя питерская приятельница Галя — прошлой осенью они с мужем завербовались на север и зарабатывали теперь длинный рубль в городке с большим химическим комбинатом. Галя была самой воспитанной женщиной в Пакавене и вполне могла бы претендовать на роль английской королевы, если бы однажды посередине Кавены не спела мне куплетик про пароход и цаплю, от которого мои уши до сих пор имели подвядший вид.
Сегодня был день рождения ее дочери Вари, поэтому всех фотографировали и кормили покупными бисквитами с домашним заварным кремом и ягодками. Лариса Андреевна продемонстрировала нам грудными мышцами упражнение из йоги по прямому массажу сердца и спела имениннице романс очень нежным голосом, никак не соответствующим ее характеру, после чего отправилась в свой овраг улучшать голосовые связки свежей земляникой. Через некоторое время до нас донеслось ее приглушенное лесом пение, а потом она закричала.
Мы помчались на крики увидели ее у дороги, а неподалеку в траве в судорогах корчилась молодая женщина в красных джинсах. Увидев нас, женщина указала рукой в сторону шоссе и попыталась что-то сказать, но ее тело изогнулось дугой и затихло. Баронесса констатировала смерть в тринадцать тридцать пять, такова уж была сегодня Баронессина планида. Женщину мы узнали — это была молодая лесничиха, дочь звонаря Ремигиуса, Сидоров водил к ней за озеро детей кататься на лошади. Барон тоже пробовал, но лошадка была крестьянской, к суперменам относилась с прохладцей, и он отделался легким ушибом руки.
Лара рассказала, что когда запела, то рядом за молодыми сосенками раздался какой-то шум, и кто-то промчался по лесу в направлении шоссе, ломая ветки. Лараот испуга кинулась в другую сторону и закричала, наткнувшись на лежащую женщину. Двое побежали за озеро к леснику, кто-то помчался на велосипеде в деревню. Лесника на месте не оказалось, а милиция вскоре приехала. Недалеко от трупа лежал пакетик с сахаром, явно полученным в райцентре на выданные недавно талоны. Нас описали и попросили разойтись, а Ларису Андреевну с Баронессой забрали для дачи показаний, не забыв прихватить пакетик с сахаром.
Новость быстро облетела дворы, но звонаря Ремигиуса нигде видно не было. Лесник появился и сейчас сидел в районном отделении милиции, откуда уже вернулись наши дамы. С ними на автобусе вернулся из больницы и мой блондин. Он выглядел уже довольно уверенно и надменно, быстро нашел меня в толпе взволнованного событием люда и сказал, что брату стало легче, а он хочет поблагодарить за помощь, представиться и узнать, как меня зовут. Его звали Линасом Пушкайтисом, и он действительно работал фотожурналистом районной газеты. О происшедших в Пакавене событиях он случайно узнал в больнице, куда привезли труп.
— Отведи меня на место происшествия, — попросил Линас, — а по дороге я зайду в мастерскую.
Машину уже почти починили (мастерская Бодрайтиса с выездом под оранжереей веников не вязала) и обещали отдать часа через три. У Кавены Линас сделал несколько снимков, записал мой рассказ о лесничихе и убитой туристке, быстро выкупался, и мы пошли назад, затеяв занятный разговор о прусско-балтийской мифологии. Мне было легко с ним, да и вчерашнее приключение казалось уже выдуманным, как вдруг на обратном пути перед мастерской он сказал мне:
— Поедешь со мной сегодня, у меня свой дом в Неляе, и я живу один. Заеду, когда получу машину, — сказал и остался у Бордайтисов.
Да, дела… Жить в Пакавене стало неуютно, и возможность вообще выпасть из этой жизни в никуда казалась весьма заманчивой. Я раздумывала над предложением и общей ситуацией. Ах, как глубоко проникли вы, Андрей Константинович, в мое жизненное пространство, и теперь каленым железом нужно выжигать ваш сладкий образ!
— A ты где был, кошачья сволочь, когда я упивалась ролью доверчивой девицы? — обратилась я к своему черному ангелу, у которого тоже был свой собственный театрик. Он обожал играть роли русских философов, хотя лучше всего ему удавалась популярная роль молодого Михаила Боярского.
Мой черненький мяу тут же прокипятил свою одежду в отбеливателе «Лебедь» («Лыбедь» — по его терминологии), отчего она временно приняла сероватый вид, и, подпоясавшись веревицей, разлился соловьем:
— Заповедь четырнадцатая! «От клятвы чужеложства, играния и пьянства должен каждый отрок себя вельми удержать, и от того бегать, ибо из того ничто ино вырастает, кроме великой беды и напасти телесные и душевные, от того ж рождается и погибель дому его, и разорение пожиткам».
— Батюшка, да ты совсем мышей не ловишь! «Юности честное зерцало» для отроков писано, а ведь нигде кроме, как на плече отроковицы двадцать восьмой год прозябаешь, комсомольский ты мой, — упрекнула я кота.
Пределом его мечтаний была главенствующая роль в нашем доме, но длительное отсутствие конкурентов сказалось на его ретивости самым губительным образом. Пакавене представлялась ему самым безопасным местом на свете, и он сутками отсыпался на моем левом плече.
— Тьфу, виноват, до сих пор ночными вепрями перепуган. «Тринадцатая добродетель, пристойная девицам, есть стыдливость: когда человек злой славы и бесчестия боится и явного греха бегает и, опасаясь гнева божия и злой совести, так же и честных людей, которые иногда о иных, как кто живет: худо или добро, рассуждать могут…»
— Ну, вот, и ладушки! Убедил…
Я быстро собрала кое-какие вещи, спустилась к старикам, и сказала, что уезжаю с экскурсионным автобусом посмотреть музеи — развеюсь и вернусь днями, а продукты, если нужно, подвезет Барон. Успев предупредить подъехавшего Линаса, чтобы подобрал меня на шоссе, я удалилась с сумкой к воротам турбазы.
Он решил сначала заехать в райцентр.
— Я съезжу на заправку, а ты купи чего-нибудь из еды. Дома у меня одна картошка, я перед аварией только из командировки вернулся, — сказал он мне у станции, протянув кошелек.
С мясом в магазине были перебои, и мясник, люто ненавидящий приезжих и вообще всех на свете, разливал у автомата молочный коктейль, переругиваясь с очередью. Автомат трясло, будто его делали на военном заводе по рецепту Калашникова. Тут же сбоку отоваривали талоны на сахар, не являвшимся ни мясом, ни молоком. Дачникам талоны не полагались, и мы привозили сахар с собой. Я прошла пару кварталов и вышла на центральную площадь с традиционным памятником.
Возле памятника две серые кошки катались по асфальту в полном экстазе, что означало ослабление режимных устоев в невиданных ранее масштабах — обычно по утрам остатки валерианы смывались каким-то неаппетитным, с кошачьей точки зрения, раствором. В гастрономе мясные прилавки тоже были пусты, но я купила мягкого сыра с тмином, прессованного творога, рижского хлеба, сливочного масла, подсолнечного масла, рыбных консервов и десяток яиц, и отчаянно бездумный автоматизм моих действий меня не пугал.
Линас ждал меня около машины. Приняв пакеты, он широко улыбнулся и сел за руль в отличном расположении духа. Мы поехали в обратном направлении и, минув Пакавене, вскоре добрались до реки, где прошедшей зимой утонул с трактором муж барменши. Речные боги, застывшие в ожидании новой жертвы, медленно повернули зрачки в нашу сторону, но мой паромщик молча нажал на газ, и сосны пакавенского леса стали уплывать за горизонт. За мостом был тихий городок Неняй, столица соседнего района.
— Да, человек не из болтливых, — подумала я с определенной благодарностью. Высокие сосны сменялись за окном молодыми посадками, мелькнул готический костел, аккуратная кладка которого из мелких красных кирпичей и сухость деталей свидетельствовали о девятнадцатом веке.
Наконец, мы въехали в Неляй. Я бывала здесь раньше — в городе жило много поляков, а польские торговки в рядах весьма благосклонно относились к приезжим, и крупные душистые ягоды черной смородины стоили, по московским понятиям, фантастически дешево. Моя тетка стерилизовала их без сахара по методу «пух-пух» и, упаковывая в два пластиковых пакета, отсылала посылкой к себе в Балашиху.
Мы подъехали к большим воротам, окаймленным бузиной. Новый деревянный двухэтажный дом с обилием кружевной резьбы располагался на окраине города у небольшого лужка, за домом стоял массивный каменный сарай буквой «Г», в передней части которого находились кухня, кладовая и небольшая гостевая комната, а хвостик от буквы был представлен гаражом, двумя пустыми стойлами и столярной мастерской. В доме имелся и полуподвальный этаж, отделанный деревом, где был устроен бар и стоял большой старинный рояль. Под сараем тоже имелось большое подвальное помещение, соединявшееся подземным ходом с домом и оборудованное под фотомастерскую и овощехранилище.
Палисадник поражал обилием цветов, а между зданиями, около деревянного столба, увенчанного резной мужской головой, был сооружен занятный рокарий с камнеломками, очитками и карликовым можжевельником. Со стороны луга вдоль забора рос шиповник, и последние цветы его розовели в густой зелени. Большая лайка заметалась, виляя хвостом, в обширном деревянном загончике — лаек нельзя сажать на цепь, это было известно.
— Я получил свою долю от брата за отцовский дом. Еще кое-что досталось, ну и сам подработал, конечно, — уточнил Линас происхождение своего богатства, — а дом мы сами с братом строили.
— Теперь хочу купить лошадь, — добавил он и перешел к текущему моменту, — я накопаю сейчас молодой картошки.
После ужина мы перешли в бар, и, выпив немного вина, я стала разглядывать многочисленные дипломы и всякие прочие свидетельства журналистских успехов, развешанные на стенах.
— Я не хочу уезжать из родных мест, — объяснил он мне свое величие, никак не соответствующее провинциальным масштабам, — хотя иногда очень хочется поговорить со свежим человеком.
Мы поговорили, и Линас отошел от бара к роялю. Мелодия из фильма об автогонщике и его женщине, которую он терял и находил на случайных перронах настраивала на сентиментальный лад, и я решила, в противовес, закурить.
— Не нужно! — тут же среагировал он, и, подхватив на руки, отнес меня на второй этаж этого сказочного замка в деревянную резную спальню. Бурного натиска прошлого вечера не последовало, я чувствовала себя весьма ценным объектом научного изучения. Проверялись все мои реакции, по ходу следствия менялись методики и результаты тут же заносились в потайные файлы его большого мускулистого тела. Казалось, чем бы он не занимался, результат предполагался быть положительным и только положительным.
Рано утром я открыла глаза и натолкнулась на пытливый взгляд серых глаз. Один Бог знал, о чем думал сейчас этот человек, но я не любопытствовала, мне было все равно.
— Я ухожу в редакцию, — сообщил он, — вставай, я покажу тебе хозяйство.
Подобный наказ получала, насколько я могла вспомнить, только Золушка, но я приняла вызов и полила грядки, собрала клубнику, выполола сорняки в картофельных рядах, вымыла полы, приготовила обед и покормила собаку. Линас появился около четырех с большой сумкой, переполненной всякими мясными продуктами, и застал Золушку на рабочем месте, перемазанную, как и полагается по сюжету, грязью, с мокрым подолом и красными от репчатого лука глазами.
— Тебе не кажется, что ты уже купил лошадь? — спросила я, но получила в ответ широкую улыбку, поскольку зрелище ему явно понравилось. Золушка была отправлена приказным порядком в душ. Я сидела без единой мысли на хорошо струганной лавочке, не в силах раздеться от усталости, когда Линас, ввалился в душ, успев, очевидно, осмотреть результаты моих трудов. Быстро скинув одежду, он подошел ко мне, и так же быстро раздел, поворачивая как большую куклу с незаведенной пружиной. Струи горячего душа ласково полились на мое измученное деревенским трудом тело, он легонько вскинул меня на грудь и …
Я отдавалась его ритму с покорной бездумностью, но в какой-то момент внутри ожили ласковые слова, так обжигавшие меня в тот свадебный вечер, и мое тело, занемев на секунду, затрепетало в острых сладких спазмах. Положительный результат был, наконец, получен, и принят партнером полностью на свой счет.
Поджаривал мясо и накрывал стол он сам, потом я полчаса полежала, и усталость исчезла.
— Брат, похоже, выкарабкается, — сказал он, — утром я ездил в больницу с его женой.
Сегодня он был разговорчивее и рассказал о семье брата, о своих родителях и погибших в сибирской ссылке родственниках.
— Мне хочется сфотографировать тебя в национальной одежде, — сделал Линас неожиданное предложение и повел меня в кладовую, где в большом деревянном сундуке с темными металлическими заклепками хранились наряды его покойных бабушек. Я тут же ушла в изучение фасонов и отделок, и он терпеливо ждал, пока я, наконец, не облачилась в узорчатое великолепие той из бабушек, которая имела приблизительно мои размеры, и не спрятала волосы под высокий кокошник. Работа фотомодели была не из легких, но меня подстегивала та смесь восхищения и горделивого довольства, которой светились его глаза в промежутках между щелчками фотоаппарата. Я распускала свои длинные русые волосы над старой прялкой, фигурировала на фоне деревянной резьбы, томилась у колодезного ворота и под деревом среди опавших летних яблок, которые завтра должна была убрать. Да, дела…
Пока я убирала наряды в сундук, кормила собаку, мыла посуду и занималась другой всячиной, фотографии уже были готовы. Он, действительно, был мастер своего дела (или своих дел), но вечером все же потерпел сокрушительное фиаско, когда все его усилия волнами разбивались о жесткие конструкции, скрывавшиеся в ватном теле механической куклы Суок. Мои искренние усилия реанимировать свой труп — вот что привело его в подлинное отчаяние. Но Линас был упрям, как и все его сородичи, и, после долгого молчания, решил не сдаваться.
— У нас есть время.
— Ты помнишь наш разговор на сеновале?
— Да, ты сказала, что у тебя что-то произошло. Но я не спрашиваю ни о чем, меня это не касается.
— Как сказать! Мне жаль, что мы не встретились немного раньше.
— Давай спать, у вас говорят, что утро вечера мудренее, — и он положил на меня свою руку, тяжесть которой я ощущала почти до самого утра, когда, наконец, забылась долгожданным сном. Когда я проснулась, его уже не было, и солнце вовсю светило в окна, и маленькие вампиры пищали в затейливых дырочках кружевных занавесок. Бог дал мне кое-что, и десятью днями ранее я, наверное, приняла бы этот дар, а сейчас это выглядело только усмешкой небес. Собрав вещи, я написала короткую прощальную записку с благодарностью за гостеприимство, проставив по привычке число и точное время, и оставила ее в двери.
Ворота деревянного замка захлопнулись, залаяла собака, и я ушла, сократив путь к вокзалу узенькой тропинкой через небольшой луг, расцвеченный клевером и ромашками.
Внезапно вынырнувшая из травы пушистая серая зайчиха поздоровалась со мной нежным голосом:
«Lab diena!», и исчезла, оставив ворох встревоженных бабочек. Я узнала заячью богиню Медейну, хозяйку здешних лесов, и ее поддержка в этот нелегкий день сняла мой ступор, и кожа опять стала ощущать тепло солнечных лучей и свежесть разгонявшего лучи ветерка.
Да, история плачущей Норы выглядела сейчас лишь утешительным призом. Она умела водить смычком по скрипке, и техническая сторона дела ее давно не пугала, но принц подарил ей старинные ноты и так прелестно подыграл на клавесине, что ей немедленно захотелось стать владелицей именно этого каменного замка, и никакого другого, и желание уже преобразовывало этот мир, и все в нем, начиная с серой зайчихи, уже полнилось неизъяснимыми тайнами и сакраментальными прелестями в самом ужасном значении последнего слова. Вернусь, вот, как ни в чем не бывало!
До отхода электрички оставалось еще полчаса, и можно было вдоволь налюбоваться кирпичным фасадом вокзального здания, густо заросшим диким виноградом. Я уже садилась в вагон, как чьи-то руки обхватили сзади мои плечи, и поезд отправился без меня. К изумлению бывшей Золушки, активистом хрустальной туфельки оказался вовсе не местный принц, а всего лишь Андрей Константинович Селиванов. В индийских фильмах на этом месте запели бы, а в отечественных лентах полагалось броситься на грудь и зарыдать. Неплохо было бы действовать в национальном варианте, но я не смогла, потому что не знала, что же делать после рыданий.
— Я сам отвезу тебя в Пакавене, — сказал он, — уж извини за дерзость.
Я молчала, прокачивая ситуацию. Выдают только лучшие друзья, и я быстро вычислила своего полуфашистского предателя.
— Я проезжал через этот город вчера днем, в пятом часу, но не знал, что ты здесь.
В начале пятого я была в душе, а найти меня здесь, однако, можно было единственным образом, прочитав записку в двери.
— Зачем ты читаешь чужие записки? — спросила я.
— Не чужие, и они меня касались, — ответил Андрей Константинович, — адрес я узнал в Пакавене.
— Ну что ж, следующий поезд через четыре часа, я вынуждена принять твое предложение, — сказала я, и мы отправились в путь.
— Знаешь, — сказал он, — все выглядит какой-то страшной нелепицей. Ты позволишь мне объясниться?
— Пожалуй, да, но не сейчас. Иначе тоже придется давать объяснения. А мне неясно пока, стоит ли вообще нам утруждаться.
— У нас еще есть время, — внезапно произнес водитель.
— Боже мой! — подумала я, — докатиться до текстуального сходства с оппонентом. И впрямь, все мужчины одинаковы.
— Чего ты хочешь от меня сейчас?
— Позволь мне по-прежнему находится рядом, больше ничего.
Отказываться было глупо, было совершенно очевидно, что маленькая гордая Джейн Эйр так и не смогла забыть своего мистера Рочестера. Впрочем, викторианские условности для этого серого воробушка уже ничего не значили, и его планы вполне соответствовали морали современной тусовщицы среднего возраста.
— Хорошо, но не сегодня, — сказала я, — включи что-нибудь!
Грустит сапог под желтым небом, Но впереди его печаль.
Зеленых конвергенций жаль, Как жаль червей, помятых хлебом…
— «Предчувствие гражданской войны», — определила я сходу.
— Марина! Что ты делала в доме холостого мужчины? — спросил меня Андрей, надеясь, очевидно, на чудо, — мне все-таки нужно знать точно.
— Ничего, кроме той малости, которую не успела сделать с женатым, — ответила я твердо, потому что обманывать человека, не поленившегося разыскать меня по другую сторону реки, мне уже не хотелось.
Недолго помолчав под музыку, мы прибыли в Пакавене. Мне сообщили, что лесничиха умерла от инфаркта, но думают, что до смерти ее довел лесник, потому что ссорились они ужасно и собирались расходиться, но не могли поделить имущество. Лесник, однако, наотрез отрицал свое присутствие у Кавены перед смертью своей жены, хотя, где же он был в это время, говорить отказывался.
Все гадали, куда делся звонарь, лесничихин отец.
Барон гостевал за озером вместе со всем своим семейством, но продукты тетке были доставлены им в срок. На него можно было положиться, если речь шла не о мелочах, но в мелочном масштабе это был отъявленный сучий сын. Три года назад, когда у Жемины не было коровы, я брала молоко за несколько домов отсюда у Терезы. Она оставляла его мне на пеньке у своего дома, поскольку подняться к утренней дойке мне было не под силу, но, хотя я и расплачивалась вперед, сиротливый вид белой баночки, часами стоявшей на пеньке, заставлял ее нервничать. Однажды Барон долго и слезно клялся темной ночью в беседке сбегать за забытой мной с утра банкой, если я дам ему еще пятнадцать капель. Приняв дозу, он немедленно отказался от клятвы. «Ты же обещал не кусаться!» — хором процитировали наблюдатели гусеницу, укушенную муравьем в конце переправы. Ответ муравья был широко известен, но Барон даже не смутился.
После дворовых разговоров я занялась стиркой, а потом поднялась в свою комнату, где меня давно ждали захватывающие романы Дюма и Апулея. Думать не хотелось, и я читала, пока на турбазе не кончила играть музыка, и не стихли последние шаги всех моих соседей по дому. В соседней комнате тоже было тихо, и я тихонько отвернулась к стене, где на выцветших цветастых обоях уже много лет красовалось расписание местных автобусов, нацарапанное шариковой ручкой кем-то из моих предшественников. Прошло еще два часа, а я все ждала, пока сон избавит меня от прошедшего дня. Теплый ночной ветерок снова и снова пытался рассказать о красоте звездного неба, сияющей там, за открытым окном. И я, прельстившись, наконец, рассказом, доверилась его нежным струям и унеслась к вершинам ночных сосен. Открывшаяся черная бездна и была вечностью, и в ней маленькими огоньками светились непохожие друг на друга миры.
Я опустилась в первом попавшемся мире на краю оливковой рощи. На горизонте виднелась вершина большой коричневатой горы, окутанная легкими облаками. Там бушевали страсти, и какой-то тип громовым голосом старого Станислава сулил всяческие неприятности своим домочадцам. У рощицы было тепло и тихо, и серый осел щипал неподалеку молодую зеленую травку. Внезапно послышался топот, и мимо меня по тропе пробежали полуголые белокурые атлеты, и первый из них нес большой горящий факел.
— Эй! Добрый день! — крикнула я, но они не ответили и исчезли за поворотом, оставив дух молодых разгоряченных тел.
— Ну, и Бог с вами, — подумала я и перелетела в следующий мир, густо украшенный высокими готическими замками и массивными низкими домами с красной черепицей крыш.
В этом мире лил страшный дождь, сверкали молнии и старый Таранис голосом Станислава возмущался новоявленными христианскими порядками. Двери одного из домов были открыты, и я, прячась от дождя, поднялась по лестнице, усыпанной мертвыми мужскими телами в красивых бархатных одеяниях. В спальне у кровати лежал раненый, и я сразу его узнала.
— Вставайте, граф Де Бюсси, — прошептала я, — нужно уходить, сюда уже идут враги.
Граф открыл свои дивные глаза и сказал с горькой усмешкой:
— Уходи, ты все равно не сможешь изменить финал, — и я ушла, заплакав от горя и бессилия.
Следующий мир казался хорошо знакомым, и я нырнула в его кудрявую березовую путаницу. Девицы водили хоровод, парни переминались с ноги на ногу, а старцы заседали под большим дубом во главе с круглоголовым старостой с занятной отметиной на лбу, обдумывая стратегию борьбы с коварным Ильей. Тот же разражался время от времени из-за облаков громовым хохотом, явно заимствованным у старого Станислава, и пророчил падение власти старцев.
— Эй, — окликнули меня из хоровода, — иди к нам!
— Сейчас, только отлучусь на минутку, — сказала я, и метнулась через космос в небольшой соседний мирок, заросший исполинскими соснами, потому что услышала оттуда тихий женский зов.
За грубо сколоченным столом около маленькой кузни сидела авторитетная комиссия из шести человек.
Согласия не было, и все попарно спорили друг с другом. Безусый Тримпс, заправлявший водными ресурсами, был одет в джинсы и короткий голубой хитон. Его волновали проблемы загрязнения подведомственной среды, и он доказывал свои экологические истины, непрерывно проливая слезы. Я откуда-то знала, что из правого глаза у него текли пресные слезы, а из левого — горькие и соленые. Его противником был мертвенно бледный старец с клочковатой седой бородой. Министерство старого Патолса ведало разведкой подземных богатств и горно-перерабатывающей промышленностью, и то, что творилось на водах, его совершенно не волновало. Эти спорщики имели по два решающих голоса, поскольку они беспрестанно раздваивались в соответствии с указами сверху о разделении министерств.
Пергрубрюса, ведающего сельским хозяйством, уже не волновали военно-полевые страсти весенней посевной, и теперь этот молодой генерал с веночком привядших первоцветов на голове попивал местное пиво, пререкаясь со своим сверстником из министерства леса и деревообрабатывающей промышленности, гонявшим муху над пивной кружкой свежей веточкой бузины. Оба были одеты в камуфляжные костюмы, и последний своим надменным и слегка хмурым видом напомнил мне Линаса Пушкайтиса. Расходились во мнениях они по мелочам, потому что оба обожали военную дисциплину, и приказы о смене сезонов или времени суток исполняли с точностью, потрясающей ленивых штафирок.
Третью пару составляли мускулистый тип в белом халате и пузатый господин в цилиндре.
Мускулистый, сверкая глазами под низко надвинутой таллинкой, доказывал пузатому, что здоровье за деньги не купишь, а тот в опровержение тряс жирными щеками, и золотые монеты в его карманах тоже возмущенно звенели. Я тут же узнала главного здравохранителя Аушаутса и главного финансиста Пильвитса, и у них явно был шанс договориться, поскольку в оздоровительные центры одного без денежек другого лучше не стоило соваться.
Слева от стола с потупленным взором стояла красивая молодица с белой курочкой в руках, а справа на поляне два старца разглядывали друг друга в весьма воинственных позах. У более низкого, свирепого и волосатого, на поясе висел большой меч с рукояткой в виде звериной головы, а второй, высокий, был безоружен и несколько нервничал. Наконец, из кузни вышел человек крестьянского вида и отдал высокому сверкающее желтое копье, украшенное венчиком из разноцветных перьев.
— Ух! — крикнул высокий голосом старого Станислава и бросился в бой.
В это время знакомый женский голос позвал меня из зарослей можжевельника. Там стояла женщина, удивительно похожая на Лауму, но это была не она, а княгиня Шумская — у нее был большой фольварк в Пакавене. Рядом стоял мужчина средних лет в военном мундире, ловко обхватывающем стройную спину.
— Меня так утомляют эти петушиные бои Перкунаса, — томно пожаловалась княгиня. — Приглядывал бы лучше за своей курочкой! Да, кстати, знакомьтесь, это мой кузен — барон Кирш фон Дранговец.
— Мы не могли встречаться раньше? — спросила я его, пока он целовал мою руку. Уж очень знакомым мне показалось его лицо. В глазах офицера забегали чертики:
— Как же, как же! На балу у вице-губернатора в Санкт-Петербурге я танцевал с вашей родственницей, приятной замужней дамой.
Я тут же ощутила, как кружилась голова этой дамы от близости этого красивого пруссака. Боже, как давно это было!
— Я недолго пробыл в Санкт-Петербурге, но, спустя положенный срок, эта дама родила хорошенькую девочку, вашу прапрабабушку. Ее назвали Варенькой, но своим отцом она всегда считала мужа своей матери.
— Тогда, княгиня, мы связаны с вами узами крови, — сообразила я, обратившись к Шумской.
— Мне очень, очень приятно, и это дает мне право обратиться к вам с маленькой просьбой.
— Я счастлива быть в вашем распоряжении, княгиня, — ответила я, не подозревая подвоха.
— Тогда летим! — и она уселась на массивную черную метлу. Я уселась позади, а наш родственник, щелкнув шпорами, приспособился на хвосте. Летели мы недолго, но лес становился все реже и безжизненней.
— Вирус занес, сволочь, — сказала о ком-то Шумская, указывая на оголенные ветки ржавых сосен, — и жуков колорадских притащил.
Она добавила еще что-то, но я ее не услышала, отбиваясь от рук доблестного кавалера, решившего сравнить объем моей талии с изученным ранее в санкт-петербургских гостиных объектом. Мы остановились у глубокой темной пещеры. В ее чреве на каменистом субстрате лежала большая и отвратительно мохнатая тень.
— Вот он, — с ненавистью сказала княгиня, — наелся и спит, а ведь я только вчера его убила. Я никак не могу убить его до конца. Поможете мне? — обратилась она ко мне. Я кивнула, но в это время тень зашевелилась, и в пещерной тьме сверкнули красные глаза. Ужас сковал все мое существо, пора было просыпаться.
Глава 6
Проснувшись, я обнаружила, что порядок в мире не изменился, и мои окна, выходившие на восток, привычно залиты солнечным светом. Андрей ждал меня в беседке, и мы уже за завтраком, не сговариваясь, выбрали тот дружелюбный и безличный стиль отношений, который ни к чему не обязывал. После завтрака решили отправиться на Кавену, и по дороге он все же сказал мне:
— Марина, я не мог остаться, я уехал в отпуск с этим условием.
— Это все уже не имеет значения, сказка все равно кончилась.
— Сказка кончилась, когда ты усомнилась в моей искренности.
— Я не спорю, моя реакция могла показаться излишне бурной. Сегодня и мне кажется, что эмоций было многовато.
— Мне уехать? — спросил он, и мы остановились.
— Ты все время торопишь события, я не успеваю за этим темпом.
— Я не знаю, что делать, а это не так уж часто случается. Я не могу ни обнять тебя, ни уйти от тебя. Из меня словно батарейки вынули.
— Андрей, что бы сейчас мы не сделали, все будет не настоящим. Наверное, нужно ничего не делать.
Тогда, в конце концов, что-нибудь да прояснится.
— Пожалуй, логично, — сказал он, подумав.
На Кавене нас встретили веселыми возгласами, и мы снова включились в водоворот милых летних радостей. Время шло, и днем мы были вместе, но в мире все-таки что-то разладилось, и, оставаясь наедине, мы пассивно созерцали хаос магнитных полей, упорядочивавшийся к вечеру вокруг двух отрицательных полюсов. Поэтому мы и расходились без оглядки, но каждое утро он ждал меня во дворе, и все начиналось снова, как в крохотной модели большого мира, где весеннее возрождение уже чревато осенними похоронами, а солнце, едва взойдя на небо, отчетливо видит свою последнюю черту там, на горизонте, где зеленое граничит по резкой линии с голубым.
Но поддерживать космическое постоянство событий под силу только богам, а сказки простых смертных торопятся к развязке уже через пару другую страниц, приноравливая взрывы сверхновых звезд и распад вселенных к мотыльковому масштабу своих бренных тел. Прошло немногим более недели, и однажды утром меня никто не встретил, и следы колес на влажной после ночного дождика земле понятно и просто демонстрировали законы полярного взаимодействия.
Да, дела… Поистине, кто рано встает, тому бог дает! Ведь могла бы лечь сегодня утром в черной вуали на рельсы! Быть может, судьба и сохранила меня тогда на проезжей части шоссе у станции только ради этого несостоявшегося performance, но я просто проспала свой выход на сцену, и теперь можно только гадать, триумфом или провалом должно было бы закончиться мое представление перед лицом своего единственного зрителя.
Существование в Пакавене и, вообще в этом мире мгновенно утратило смысл, и снова нужно было искать опору в самой себе. По части этого душевного онанизма я уже была большим спецом, и Скарлетт О Хара, неубиенный козырь ползучего прагматизма, казалась мне сейчас родной сестрой. Абстрактность идеалов моей песочницы, однако, никак не позволяла мне стать верной последовательницей мистеров Джемса, Дьюи и Пирса, о чем я искренне сожалела со дня первого экзамена по марксистской философии. Тем не менее, нужно было что-то делать и верить в удачу.
— Завтра я найду способ вернуть его, — подумала я словами зеленоглазого символа американского Юга, — ведь завтра будет уже другой день.
Для начала следовало бы проверить факты и раздобыть информацию. Я метнулась наверх, дверь в комнату Андрея была незапертой, и я увидела с огромным облегчением, что все вещи лежат на месте. Вот тут-то меня и развезло! Я вернулась к себе и рыдала в подушку, пока в дверь не постучали.
— Бак с утра заправил, а теперь неплохо бы и самому заправиться, — сказал Андрей, внимательно рассматривая мое некрасивое личико, — ты уже завтракала?
— Нет, я недавно проснулась.
— Тогда приготовь что-нибудь и пойдем на озеро. День сегодня жаркий.
Разочарование тут же начало съедать душу, как атмосферные осадки безгаражную машинку под окнами хрущевской квартиры сотрудника конструкторского бюро. Мой искренний порыв был уничтожен с холодным равнодушием, и глаза не хотели сохнуть, но руки быстро приготовили омлет с ранними помидорами, порезали молодую зелень и поджарили гренки из белого хлеба, после чего мы с Бароном, не сговариваясь, заявили, что у нас срочные дела, и на Кавене мы появимся позже. Глаза Андрея Константиновича приобрели вопросительное выражение, с которым он и отправился на Кавену в обществе Баронессы и Таракана. Все остальные были уже на озере.
Барон удалился в свой флигель и, судя по его важному виду, дело было нешуточным, а я приступила к своей новой роли. В первом акте предстояло стащить минут на пять для быстрого ознакомления тетину записную книжку — это могло пригодиться в случае внезапного отъезда моего героя. После этого следовало достать свою записную книжку и позвонить своей приятельнице Любе Фрадкиной, чей супруг на днях должен был прибыть в Пакавене на заслуженный отдых. Пьеса была совсем новенькой, и детективный характер первого акта приобретал во втором явные черты балаганного фарса, хотя играть следовало на полутонах, лишь слегка обозначая роль — a la Makovetski. Характер последнего акта был известен сейчас только высшим силам, и я помолилась, чтобы мне не подсунули греческой трагедии.
Отыграв первый акт, я вышла с корзиночкой на крыльцо. Пупсик ела в беседке творожок с клубникой, меланхолично разглядывая розовенькие цветочки на ближайшей клумбе. Под большой сосной у шоссе два вполне приличных мальчика квасили друг другу носы, выясняя, кому же сопровождать Пупсика на пляж. Я искренне позавидовала душевному спокойствию Пупсика и отправилась на лесное озеро. На Кавене играли в карты и слушали рассказ Ларисы Андреевны о гастролях ее театра в Швеции.
Из столицы артисты попали в маленький театральный городок, где местные жители, большие любители оперы, не позволив им устроиться в гостинице, разобрали всех по домам. Они боготворили своих постояльцев и каждый день дарили им что-то весьма существенное, по крайней мере, с российской точки зрения. Лариса Андреевна слушала описания подарков и крайне огорчалась тем, что ее хозяева ничем не баловали свою постоялицу, кроме ежедневных цветов.
Напоследок ее приятельница, Света Зайцева, не утерпела и осведомилась об этом казусе у своих хозяев. Оказалось, Ларины хозяева считали, что оперная дива, должно быть, очень богата и боялись обидеть ее подношениями. Подруга, заржав майской лошадью, сообщила капиталистам, что у нас все равны и незаменимых нет, но поправить положение дел уже было невозможно, и автобус уносил диву, мечтавшую о новых зимних сапогах, от деликатных ценителей ее искусства в сторону Ленинграда.
Ее приятель, весьма известный эстрадный певец, ночевал однажды во время европейских гастролей именно в таком комфортабельном экскурсионном автобусе. Оставшись один, он излишне нагрузился шведским пивом, оказавшимся в баре, и решил освоить все автобусные удобства. Сантехническая мечта сияла белизной кафеля и золотом краников, и опустошенный герой, потеряв бдительность, долго разглядывал устройство биде и наклеечки на бутылочках, после чего попытался выйти. Но не тут-то было! Проклятая дверь не поддавалась, и он просидел в отчаянии более трех часов, пока ему не пришла в голову идея провести испытание занятного фигурного мыла. Когда он включил воду, дверь сама собой открылась, и бедолага умчался защищать честь советской эстрады с чистыми руками.
Такие истории с гоголевским коктейлем из смеха и слез были в большом почете, и без них не обходились любые посиделки. Кое-кто из моих коллег любил прихвастнуть, что, читая в американском университете лекции студентам, питался дешевыми собачьими консервами, но через несколько лет подобные истории вышли из моды, поскольку смеха уже не вызывали, а слез хватало и без них. На смену байкам о веселой бедности пришли анекдоты о новых русских — выловил русский яппи золотую рыбку и спрашивает:
«Ну, чего тебе, золотая рыбка, надобно?»
Галя с Юрой немного рассказали о своей жизни на северном химкомбинате, где жители не могли выращивать овощей, потому что земля была ядовитой, а с подвозом витаминов было неважно. Галя, историк по образованию, заведовала школьной библиотекой, а Юра работал на скорой помощи. Она ежедневно видела больных детей в школе, а он ежедневно ездил по вызовам и ставил всяческие диагнозы кроме тех, которые нужно было бы ставить. Деньги, конечно, платили, но они решили года через два уехать навсегда в Штаты.
Свое решение они объяснили сугубо материальными соображениями — надоело жить в нищете, но добавляли при этом загадочную фразу: «И вообще все надоело…», которую слушатели расшифровали в меру своей испорченности.
Следует отметить, что, несмотря на оккупацию Пакавене оперным театром, большинство в среде дачников имело массовые, но плохо оплачиваемые профессии педагогов и врачей (как тут не вспомнить рязановский фильм «С легким паром»!). Детям была, в основном, уготована та же участь, но Наталья Виргай намеревалась пустить своего сына по адвокатской линии. Она была предельно дальновидна, заявляя, что в каждом семейном клане должны быть свой врач и свой юрист, а врач среди ее родственников, как представлялось, уже имелся.
Ее дальновидность простиралась до невыносимых пределов, поскольку с собой в отпуск она возила будущую супругу своего двенадцатилетнего отпрыска, единственную дочь одного питерского ювелира, скромная деятельность которого предполагала неплохое приданое. Мне так и не удалось узнать, состоялся ли впоследствии этот династический брак.
Мы не обзаводились тогда шестью сотками, потому что собирались ездить в Пакавене до глубокой старости — здесь было хорошо и старым, и малым. Но тут впервые подумалось, что жизнь может разметать нас в разные стороны, и результатом нашей светлой печали явилось коллективное двустишие, имевшее явно фольклорные корни:
По реке плывет топор прямо из Кавены, Всем, кто после нас придет, наше: «Лабадена!»
Андрей Константинович сегодня находился в числе слушателей, хотя все последние дни он надолго уходил после первого купания в лес за озеро, а, возвращаясь, предоставлял мне возможность полюбоваться его добычей, и я, уже набрав вокруг Кавены ягод, брала протянутую мне корзину с грибами, не касаясь его руки, как самого запретного места в мире, куда не летают самолеты, не ходят поезда, но вольно гнездятся розовые чайки, и в заповедных густых травах белеют косточки первопроходцев.
Наконец, появился и Барон с новехоньким «Поляроидом» в руках, явив в назидание нудистам свои бирюзовые шерстяные плавки. «Поляроид» был недавно подарен Генрихом в честь защиты сыном диплома, и процесс фотографирования этой занятной игрушкой, теоретически изученный Бароном во флигеле, он, естественно, решил начать с самого себя. Наталья Виргай уже совсем была готова отбыть на большое озеро, где они с Гядиком регулярно катались на водных лыжах, когда Барон присел у деревянного дракона с Тараканом на руках, изображая перед объективом примерного отца и неплохого семьянина.
Снять джинсы времени уже не хватало, поэтому Наталья рванула с себя блузку и успела подгадить идиллический кадр на дорогой фотобумаге своим обнаженным торсом. Будь она блондинкой, ей бы сошло это с рук, но сейчас рассвирепевший Барон зашвырнул пакостницу в воду подальше от мостков, и она плюхнулась в воду, не успев ничего никому завещать. Он давно мечтал сделать с ней что-нибудь ужасное — с тех пор, как целую неделю подряд наблюдал непосредственно из дверей своего флигеля, как в жаркую погоду подходят дрожжи в Вельмином нужнике, и веселая бурая пена ползет к его порогу. Барону лучше было не попадаться под горячую руку!
Плавки Барону в райцентре купила я. В прошлом году его обмундирование имело уже настолько дряхлый и линялый вид, что Барон стеснялся фигурировать в нем по туристическому пляжу на ежегодном празднике Нептуна, устраиваемому турбазовцами в начале июля. В этом многолюдье на пляже могла оказаться Гретхен, и мысль, что она не узнает его в старых плавках, приводила нас с Баронессой в ужас — мы теряли дармовое развлечение, и, вдобавок, вид грустного Барона был невыносим, тягостен и крайне неестественен.
В тот злополучный день вода была удивительно теплой, и мы ныряли с мостков, пока под Бароном не сломалась лесенка. Он успел заскочить на мостки, но его одеяние существенно утратило целостность нитей, и нудисты завыли от восторга. Пока Барон бежал в кусты, Нижняя Пакавене завела весьма важный для страны спор — относится ли данное происшествие к разряду скромной советской эротики или к уголовной статье о порнографии, как тлетворном влиянии Запада. Все сошлись на том, что времена нынче мерзопакостные, и, покажи это соседям на видео, можно запросто угодить на нары. Верхняя Пакавене сочла ситуацию менее драматичной, сведя ее исключительно к разряду сатиры и юмора. Барону, однако, было не до смеха. Вечером он пытался влезть в украденные штанишки своего сына, но на его крупном теле эта декорация имела удручающе античный вид. Нужный товар был по сезону дефицитным, и в райцентре продавались только очень дорогие шерстяные изделия, а лишних денежек у Барона прошлым летом не водилось.
Не будучи отягощенной семьей, я решилась на эту трату, не спеша, однако, тут же отдать подарок. Была устроена конференция представителей Верхней Пакавене по следующему поводу — прилично ли в данной ситуации делать столь интимный подарок. При отрицательном решении можно было продать изделие подъехавшему в этот день к Жемине постояльцу по прозвищу Челентано, забывшему дома свой купальный костюм.
Дискуссия была горячей, потому что воспитывали нас в строгости, и внезапно распространившуюся моду дарить пестренькое постельное белье «madeinIndia» в наборе с рублевым импортным мылом наши бабушки считали крайне предосудительной. Исходя из очевидных выгод, Баронесса была готова пренебречь условностями, но оппозиция была невероятно сильна. Вася, апеллируя к роману своего тезки «Все впереди», утверждал, что моральное разложение начинается именно с таких вот мелочей.
В конце концов, летний народ озерного штата принял решение против легкомыслия и неприличий в пользу Челентано, хотя тот приезжал в Пакавене уже с третьей женой — это, с позиций морали старшего поколения, было вполне приемлемым, поскольку все жены до одной были законными. К моменту оглашения решения Барон куда-то исчез, а в ответ на наши призывы появился в дверях флигеля, приукрашенный предметом обсуждения, который тайком стащил с судейской лавки. Купить плавки в уцененном виде Челентано отказался.
А сейчас Барон, отфотографировавшись всласть, заснял на память и нас с Андреем, и на моментальной фотографии мы выглядели счастливой иллюстрацией божественного андрогина, предмета постоянных мечтаний русских философов с их амурными трудностями. Характер изображения меня сильно озадачил, но обвинять «Поляроид» в лакировочных установках мосфильмовской киностудии было нелепо.
Более корректным было сравнение его со скромной фотокамерой Марии Склодовской-Кюри, случайно отобразившей сущность важную, но не зримую простым глазом. Однако особо обольщаться на этот счет не стоило, потому что при здравом размышлении этот божественный андрогин без особой натуги трансформировался в уродливое восьмилапое насекомое, склеенное наспех из озабоченного отпускника и глубоко несчастной блудницы.
По дороге с Кавены мне удалось обнаружить несколько гигантских грибов-зонтиков с еще не почерневшими изнанками шляпок. Я решила поджарить эти грибы к обеду отдельным блюдом, чтобы не затушевывать их удивительно нежного вкуса. Стоя у стола, я невольно наблюдала за странными действиями Стасиса. Тот привязал проволоку к вилам, вилы воткнул в землю, а второй конец проволоки — в одну из дырочек кухонной электрической розетки. После этого встревоженные непонятным жирные черви дружно полезли из землицы вокруг вил, куда жильцы, к неудовольствию Жемины, выплескивали то, что оставалось после мытья посуды. Туда же сливалась и вода из-под макарон.
Неудовольствие Жемины вызывалось местоположением кухни на высоком холмике, в недрах которого скрывался большой погреб с плесневелыми стенками. Вентиляция погреба была сделана плохо, но Жемина относила его сырость исключительно на счет нерадивости летних квартирантов, иначе нужно было бы что-то предпринимать. Время от времени, когда в кухне был аншлаг, она устраивала маленькие представления в духе товарищеского суда, и все тут же брали сами себя на поруки, и пару дней сливали воду из-под макарон на метр дальше.
Пока черви выползали на заклание рыбам, Стасис обратил внимание на мои зонтики, и сказал, что эти ядовитые поганки нужно немедленно выбросить на помойку.
— Ни фига, я ем их с детства, сейчас увидишь, — заявила я твердо, и, поджарив грибки, отведала пару ложек на его глазах. Стасис сказал уже менее уверенно, что все-таки нужно выждать сутки, на чем мы и расстались.
Этот обед мы запомнили на всю жизнь, потому что самые страшные фантазии маленького Таракана сбылись именно в этот день — тетя Марина все же накормила мальчика поганками, и, спустя много лет, посетив свою обидчицу в Москве, он ел шампиньоны в винном соусе с тем же сладким смертельным ужасом, не влиявшим, впрочем, на его аппетит. Аппетит в этот день он нагулял в Нескучном саду, где злодеи-викинги с его личным участием отлавливали на морозе субтильных эльфов и гоблинов, чтобы спустить их потом с ледяной горки без санок — дело молодое и крайне интересное.
После обеда Андрей подвез моих стариков к кладбищу. Я золотила колышки ограды, стараясь не перепачкаться, а Андрей вкапывал лавочку, сколоченную Юмисом. Бегонии все еще цвели пышным цветом, и на мгновение показалось, что мир стремительно возвращается на круги своя, но спиральная суть его коловращения предполагала таинственные эволюционные изменения, и один только Бог знал, чему суждено выжить, а чему — обратиться в уродливых монстров и окаменеть в воспоминаниях стареющих женщин.
Я не знала, о чем сейчас думает Андрей, и это было моей постоянной мукой. Деревянный замок в Неляе с розовым шиповником у ограды и зомбированной принцессой в кружевной спальне так походил на декорации к чужим пьесам, что я даже толком не могла сожалеть о содеянном. Но он мог думать по-другому, и жестокая конкретность мужского ума пугала меня.
К вечеру вдоль холма по тропинке пробежала Надежда, и славные сестры ее, Любовь и Вера, исходя из логики вещей, вот-вот должны были показаться из-за поворота, но обстоятельства складывались по-другому — к вечеру вдоль холма по тропинке пробежала Надежда, и сзади преподавательницы физкультуры трусил Генрих, решивший, вероятно, поправить здоровье после тяжелых и продолжительных застолий со своим молодым хозяином.
— Эй, — крикнула я Надежде, — смотри, отобью!
— Сначала догони, — весело прокричала Надька в ответ, и ее длинные ноги в велосипедных штанишках стали удаляться со страшной скоростью.
— А-а-а, — подумала я перед решительным рывком, — сдохнешь здесь от экзистенций с самоанализом.
Пора играть второй акт!
Догнала я их только за деревней у деревянного указателя на Кавену. Мы сделали большой круг и вернулись к турбазе, где и свалились с Генрихом замертво на травку у туристического кострища под издевательский хохот нашего тренера.
— Идем, потреплемся, — сказала Надежда, и мы, вволю накупавшись за Витасовой банькой, поднялись к Генриху. На ужин была подана холодная сковорода моей тети с несколькими листиками свежего салата.
— Не вижу энтузиазма, — отметила подруга хозяина, — а, между прочим, именно так питалась молодая Бэ-Бэ на парижских банкетах. Результаты весь мир одобрял.
Мы тут же обсудили посткинематографическую деятельность Бэ-Бэ в защиту диких животных.
Надежда уже пошла далее Бэ-Бэ и считала, что теперь в защите нуждаются домашние животные, и мы все — пособники их убийц. Потихоньку разговор перешел на свиное племя, чье положение в мифологии было отчетливо двояким. Иудеи поросят не жаловали, но выращивали для последующей продажи язычникам и наказания блудных сыновей, которым по возвращению была уготована участь свинопасов. При виде мусульманина поросята во все времена поджимали хвосты и уносились в ближайшую подворотню.
Южно-американские индейцы, ведущие греховный образ жизни, превращались после очередной мировой катастрофы в свиней, но женщин это не касалось — те всегда оставались антропоморфными и прекрасными.
А вот в германских мифах кабан считался символом военной мощи. Наиболее почетное место, однако, свиное племя занимало в балтийской мифологии, и огромный белый вепрь каждый раз приходил на помощь, когда священному городу грозила беда. Местные жители в те незапамятные времена считали себя детьми вепря, но почитание предка в настоящее время выливалось в особую любовь к свиному копченому салу, без которого они не садились за стол.
Генриху, в связи с особенностями нынешней диеты, тут же начали мерещиться свиные отбивные по тридцать три копейки штука, краковская колбаса по три сорок и покупной окорок по три рубля семьдесят копеек за килограмм, и, припомнив его недовольство фасоном моего платья, я отметила для затравки, что хохлы при пересечении границы указывают сало в графе «наркотики».
— Я так от него балдею, — объясняют они ошалевшим от безрезультатных поисков таможенникам.
На очереди были истории о чебуреках города Бахчисарая (напротив входа в ханский дворец) и о простеньком, но любимом блюде моего отца — свиная тушенка с картофелем, луком и лавровым листом, перец и соль по вкусу, но Надежда срочно увела разговор в сторону, заявив, что вся боевая мощь вепрей происходит все-таки от употребления растительных корешков и желудей. Генриху эта мысль настолько понравилась, что мясные видения тут же сменились образами свирепых рыцарей с кабаньими мордами на железных шлемах, и мы обсудили природную агрессивность наций как движущую силу исторического прогресса. В этих вопросах доцент философии был большой докой, но месяц уже принимал на черном небе форму вопросительного знака, и я откланялась.
Спустившись со второго этажа на цыпочках, чтобы не разбудить семейство Ирены, я вышла на крыльцо и натолкнулась там на незнакомого поджарого дедушку с белой бородой и улыбчивым личиком, этакого летнего Санта-Клауса в зеленой выцветшей рубашке.
— Lbas vkaras! — поздоровались мы одновременно.
— Ku t vard? — спросил он меня.
— Марина. Я дачница.
— А я Сидзюс, — ответил он, — сидел, вот, за печкой, пока все не уснули.
И вот тут-то мне стало не по себе. У меня закружилась голова, низкая крыша крыльца стала сползать вниз, и я села рядом с дедушкой. Сидзюсы были добрыми гениями семей, и его присутствие здесь означало одно — я уже допрыгалась до выпадения из реальности. Впрочем, это объясняло и суть моего приключения в Неляе, и напрасно я отворачивалась во сне от стола, где сидели молодые генералы. Один из них и был Пушкайтисом, хранителем леса и священной бузины — тем самым, который ждал меня на сеновале. Что же им всем нужно от меня в это лето?
— А я думаю, с кем это дедушка разговаривает? — произнес женский голос, и на крыльце показалась Ирена в ночной рубашке. — Привет!
— Погостить, вот, приехал. После смерти бабушки он женился на ее сестре, и теперь они живут за озером, — сказала она, кивая на камыши за банькой, — иди спать, дедушка!
Дедушка привстал, скрючив старое зеленое тельце, и скрылся со своей палочкой в доме.
— Чудной уже стал, — сказала Ирена, мы поболтали с ней минут десять, и я пошла домой, стараясь не смотреть на дома — вдруг у каждого дома в Национальном парке сидит по дедушке, и все в зеленом, и все с добрыми лицами, и все кряхтели кряхтели за печкой, да, вот, подышать свежим воздухом вышли на крыльцо.
На следующее утро Андрей Константинович все же не удержался и подыграл мне.
— Где это ты вчера вечером пропадала? — спросил он слегка обеспокоено.
— Я получала новые впечатления, время от времени мне это крайне необходимо, — ответила я с предельной искренностью, плавно переходившей в откровенную наглость, как и было задумано во втором акте.
Он замолчал, а мой маленький черный двойник тут же ехидно замурлыкал главным редактором религиозно — философского журнала «Путь»:
— Нравственное сознание начинается с вопроса, поставленного Богом: «Каин, где твой брат Авель?».
Оно закончится другим вопросом со стороны Бога: «Авель, где твой брат Каин?»
— Неплохие вопросы! — сунула я интеллектуальную мышку в его кровожадный ротик в награду за службу, — а, кстати, где же Барон?
Сегодня было пасмурно, и Барон с раннего утра ушел на рыбалку, но к завтраку все же успел вернуться, сетуя на то, что рыба никак не клюет. Чистенький джентльмен, появившийся вместе с Бароном, слушал его громкие жалобы молча и время от времени стряхивал с плеч свои хорошо промытые волосы, являя присутствующим тонкий породистый нос и вежливые застенчивые глаза.
— Доброе утро! — наконец вставил он, и дамы сгруппировались вокруг приезжего.
— Александр, — отрекомендовала я его Андрею Константиновичу мечтательным голосом, — музыкант, член ленинградского рок-клуба и большой приятель Барона. Он иногда навещает нас в Пакавене утренним поездом, и — увы! — тут же исчезает.
Шурик приветливо заулыбался, и все вокруг заулыбались тоже, потому что иначе не получалось.
Шурику уже стукнуло тридцать, и он фигурировал в числе старейшин рок-клуба, хотя разглядеть его возраст под волосами было невозможно. За завтраком он весьма изящно пользовался столовыми приборами, и прикладывал к губкам льняную салфетку, предоставленную Баронессой в его личное пользование, если дамы обращались к нему с вопросами.
Мы были с Бароном как-то на концерте в рок-клубе, и, познакомившись с Шуриком в Пакавене, я не сразу узнала его на сцене во взлохмаченном потном парне в дырявой майке, истошно подвывающим примерно такого же вида солисту. Попеременное существование в двух разных упаковках Шурика совершенно не тяготило, и мне казалось, что жесткая необходимость выбора — вот что могло убить напрочь нашего музыканта.
В первый приезд Шурика я подливала кофе в его чашечку и всячески строила ему глазки — на всякий случай, и Шурик уже краснел, но к обеду я потерпела полный крах, поскольку сразу же после завтрака Барон поведал ему о моей тайной, страстной и пока неразделенной любви к его собственной персоне. Шурик тут же потерял интерес к флирту, и за ужином я уже подливала всякие жидкости (кроме синильной кислоты, не оказавшейся под руками) в чашечку Барона, а Шурик смотрел на это с полным пониманием тайных пружин моего механизма и немного жалел меня.
А сегодня мы с Баронессой решили удалиться после завтрака в кусты, чтобы обговорить, в связи с приездом гостя, обеденное меню. Кусты за огородом служили нам дамским клубом, где мы обычно обсуждали самые животрепещущие темы и гадали, когда же заработают гены, и Барон превратится из вечного студента в почтенного бюргера, как обещало его полу-немецкое происхождение. Каково же было наше удивление, когда мы наткнулись на двух больших полудохлых щук, молча вздрагивающих за огородом Жемины среди бледных чешуйчатых стрел петрова креста.
— Это не петров крест, — отметила Баронесса в крайней задумчивости, — это подъельник. Но щуки в подъельниках тоже не водятся.
Консультация с владелицей огорода полностью прояснила ситуацию. Все поклонницы Стасиса охотно общались с Жеминой, и она знала, что его последняя сердечная привязанность обещала оставить сегодня на долгую память бутылочку водки. Стасис с Бароном мечтали раздавить пузырек в баньке, предназначенной для свиданий с туристками, в обстановке узкого междусобойчика, когда все разойдутся по своим кроваткам.
Подарок был царским — раздобыть водку сейчас было практически невозможно, поскольку в период покосов и на общем фоне антиалкогольных постановлений местные власти просто не пускали ее в продажу, почему я и привозила спирт из Москвы.
Девочка Пупсик, решившая простирнуть бельишко, не обнаружила своего тазика и пожаловалась Жемине. От взгляда хозяйки не ускользнули детали приятельской суеты, и она, зная суровый характер Пупсика, с удовольствием подсказала, где именно следует искать. Пупсик, увидев щук, закричала, что кто-то занял ее маленький и хорошенький тазик, на что Жемина, всячески одобрявшая антиалкогольные постановления, ласково посоветовала выплеснуть все ненужное в кусты. Девочка так и сделала, и мы, подходя к кусту, действительно видели во дворе чистоплотного Пупсика, усердно трудившегося над своим розовеньким пластмассовым тазиком.
К обеду была подана отварная щука с молодым картофелем, политая растопленным сливочным маслом с мелко нарезанными крутыми яйцами и зеленью петрушки. Барон, разглагольствующий об особенностях японской скульптуры, ел с большим аппетитом, пока Андрей не полюбопытствовал, а откуда, собственно, сегодня на столе рыба. Барон совершенно оторопел, а потом взревел, как бык, и помчался к кусту.
Ухмыляющаяся Жемина именно там и открыла ему правду, и это была страшная правда. Он вернулся полностью деморализованным поведением юной Гретхен, убоявшись, однако, высказать этой белокурой фурии какие-либо претензии.
— Таким и ребеночка утопить — раз плюнуть! — ворчал он.
После обеда небо заволокло тучами, Шурик отправился побродить в одиночестве по лесным тропинкам, а мы выехали за продуктами в райцентр вчетвером, не считая Суслика с Тараканом, которым смертельно захотелось мороженого. С музеями в райцентре было негусто, и это гордое имя было присвоено дачниками центральному универмагу, любимому месту Баронессы. Пока Баронесса осматривала последние экспонаты, а Андрей делал детям козу и демонстрировал автомобильные внутренности, мы с Бароном томились в очередях.
Переходя в очередную торговую точку, мы вдруг услышали отчаянный вопль Суслика, узнавшего под каким-то всадником в сомнительной амазонке украденный велосипед Барона. Барон кинул сумку оземь и, перемахнув через лужу кефира, помчался прямо на похитителя. Деться тому было просто некуда, он спрыгнул с велосипеда, путаясь в бордовом женском плаще, и враги сцепились.
Подоспели сразу двое — Андрей и скучавший на углу милиционер, но Баронуже успел нокаутировать своего старшего противника, и тот валялся с расквашенным носом. Их тут же тепленькими и слепили, но Барона с Андреем отпустили довольно быстро, благодаря обнаруженному заявлению о краже велосипеда с любовным описанием всех спиц, сиденьица, наклеечек и зелененького цвета руля.
— Сегодняшнему дню в занятности не откажешь, — думала я, глядя, как Барон в радостном экстазе выписывал круги позади автомобиля. И основания для такого вывода были, потому что похитителем велосипеда оказался тот самый бомж, что толкнул меня недели две назад под колеса грузовика.
Когда мы миновали поворот на песчаный карьер, я припомнила, что именно на этом же месте в день приезда я видела на велосипеде пропавшего Ремигиуса, и все велосипеды сплелись в моем сознании с трупом в карьере, но гораздо больше всей этой чертовщины меня сейчас занимала задумчивость Андрея Константиновича, посетившая его после нашего короткого утреннего разговора.
По приезду Барон зачем-то схватил свой коричневый махровый свитер и умчался за дом Вацека Марцинкевича, где была детская площадка. Судя по счастливым визгам, там произошло окончательное примирение с Сусликом, и они развлекались, как могли. Тайну коричневого пушистого свитера я узнала, однако, несколько позже.
Вечером дождило, и наша застекленная беседка как нельзя лучше подходила для посиделок в непогоду, и на этот раз свободных мест там не было.
— Какие новости в рок-клубе? — осведомилась я у Шурика.
— Гребень приобрел вторую пару брюк, — ответствовал Шурик с плохо скрытым ехидством, — а теперь все обсуждают, у кого это они позаимствовали музыку и слова «Города».
— А каковы версии?
— Музыка старинная, и, предполагают, аглицкая, а текст приписывают Звездинскому.
Да, Бэ-Гэ, ухитряясь играть короля даже без свиты, не давал покоя коллегам, но в 1993 году я купила полный сборник песен «Аквариума», и авторами текста значились А. Волохонский и А. Хвостенко.
Относительно автора музыки я так ничего и не узнала — не слишком хотелось, меня устраивала любая версия, даже доаглицкая, времен Иоанна Богослова.
Несколько позднее у нашей беседки появилась усталая Ирена и, пожаловавшись на своего квартиранта, стучавшего по ночам мебелью, попросила унять папашу — она не высыпается, и Витас все время нервничает.
Наиболее гуманным представлялось рассеивание пыла королевы пакавенского спорта. Обсудили кандидатуру Барона, как лица, кровно заинтересованного и умеющего при случае шаркать ножкой, но Барон, используя очевидные отличия Надежды от вожделенного белокурого стандарта, мгновенно вычеркнул себя из списка кандидатов.
Проплывающая мимо беседки с пустым бидоном из-под молока Жемина сказала, что есть выход, устраивающий всех. Сосуществуя с многочисленными дачниками в деревянном доме уже много лет, она имела в этих вопросах значительный опыт. Кроме того, она вполне искренне сочувствовала Ирене, понимая, что двое малых детей, кухня, огород и скотина во дворе требовали хорошего здоровья и крепкого сна. Ирена поблагодарила и удалилась, а мы остались гадать и развлекаться самыми фантастическими предположениями, причем Стасис, в отместку за кражу щук, молчал, как рыба.
Сидели допоздна, пока не стало ясно, что пора и расходиться. Тепло, а вернее сказать, слегка теплее положенного, попрощавшись с Шуриком — тот отбывал ночным дилижансом, я обратила, наконец, свой взор на Андрея Константиновича. На покой в мансарду мы обычно подымались вместе, и выглядели при этом вполне дружной парой — на всякий случай и не желая посвящать общество в сложности своей личной жизни.
— Я узнаю секрет, — сказал Андрей мне перед дверью, как бы между прочим, — он пригодится нам в дождливые дни.
Вероятно, по его сценарию на моем лице должна была появиться смесь радостного изумления и робкой радости, но именно это выражение лица я уже безуспешно примеряла вчера утром, а сегодня у меня была другая роль, и его фраза соответствовала именно ей. Вот, если бы он сказал мне: «Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви, пылать — и разумом всечасно смирять волнение в крови…», то пришлось бы изобретать что-нибудь этакое: «То знайте: колкость вашей брани, холодный, строгий разговор, когда б в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти…»
— Я нахожу, что вы излишне впечатлительны, Андрей Константинович. Пейзанская непосредственность, да и только!
— Зато тебе явно впечатлений не хватает. Добавить? — предложил он зло и коротко, и я оказалась распятой на деревянной стене.
— Подход недорогого районного психоаналитика! Так что там еще в ваших предписаниях?
Мы смотрели друг другу в глаза, пока он не отпустил меня, и сказал уже совсем другим тоном:
— Может быть, ты все-таки найдешь для меня какие-нибудь другие слова?
Сидя в темной комнате, я нашла эти слова и долго вслушивалась в тишину. Но чудес не происходило, а слова складывались и складывались, но они уже не были моими, потому что задолго до меня их сложила смуглая девушка в маленьком домике у палестинских виноградников.
— На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его…
Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутри все взволновалось от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел…
Нужно было всего лишь пересечь темный коридор мансарды, но он должен был сам сделать эти несколько шагов, чтобы потом уже не жалеть больше ни о чем. Он не сделал этого, и окна потихоньку светлели.
Глава 7
Окна потихоньку светлели, и сон окончательно сморил меня, когда Жемина уже вовсю стучала у сарая ведрами со старой вареной картошкой, услащенной комбикормом (по вечерам поросята питались отходами турбазовской столовой). Проснулась я от громких призывов Баронессы, несущихся из-под моих окон:
— Марина! Вставайте! Барон уже на лодочную станцию пошел.
Время, действительно, не ждало. Умывшись в полусне, я уже минут десять, как дремала над тарелкой с геркулесовой кашей, пока, наконец, не появился Андрей с кисловатым выражением лица, не оставляющим сомнений в ночном бодрствовании. Барон к этому моменту уже успел подогнать большую лодку к большим мосткам и изобразить дамам гипсового юношу с веслом стоя, сидя и лежа. Переходя к чаю, он не выдержал.
— Что читаем по ночам?
— «Майн Кампф». Там утверждается, что русские ленивы и нелюбопытны. Последнее качество, по-моему, не так уж и плохо, — поделилась я с другом своими соображениями.
За Бароном не задержалось, и мы обменивались любезностями до самого конца завтрака.
— Будешь изображать мне девушку с веслом, пока краска не облупится! — пообещал он напоследок.
После завтрака мы сразу же отправились в путешествие на живописное озеро Жеймяна. Сонливость исчезла, и время от времени я с энтузиазмом гребла веслами среди кудрявой зелени извилистых берегов.
Плакучие ивы сегодня были полны небывалого оптимизма, маленькие мостки торчали из берегов с вызывающим задором, и озерное зеркало ежесекундно дробилось под напором солнечных лучей на миллионы мелких искрящихся осколков.
За бортом роскошными веерами колыхались мохнатые водоросли, но, вырванные из своей родной стихии, они повисали на ручонках Таракана сгустком отвратительной буроватой слизи. Мальчики любят уничтожать красоту, сгорая от желания разглядеть ее составные части, и мы с Баронессой прекратили это варварство самым педагогическим образом, напомнив о целях и задачах всемирной организации «Green Peace».
Барон, однако, не удержался от применения надежных дедовских методов, и, поддав младенцу по заднице, сообщил, что если тот свалится за борт, то будет последней сволочью.
— Хуже этого! — с внезапной радостью указал строгий отец на проплывающую мимо лодочку с джентльменом и дамой. Джентльмен был недурен собой и приветливо махал нам ручкой. Мы с Баронессой пригляделись и узнали Олега Павловича Шустова, прошлогоднего квартиранта Вельмы. Он ежегодно брал двухнедельную туристическую путевку на турбазу, а потом догуливал отпуск свободным от режимного содержания дачником.
Мы ответили на приветствие, и, когда лодка проплыла мимо, Барон попытался рассказать в сильно искаженном виде историю этого знакомства, где мы с Баронессой представлялись в неблаговидном облике охотниц за мужским полом. Этой версией он регулярно кормил весь пакавенский бомонд. Мне очень не хотелось сыпать соль на раны Андрея Константиновича, и я пригрозила обнародовать историю о вязаном льняном платьице, в котором фигурировала на свадьбе Альгиса, после чего рассказчик умерил свой пыл.
Я успела быстренько купить это платьице у местной кружевницы, пока Баронесса еще только раздумывала, брать или не брать. Барон не мог мне простить этого, поскольку второго такого платьица не было, а несостоявшийся образ Баронессы в льняных кружевах внезапно застил ему глаза. Вечером на посиделках он сел рядом со мной и периодически щипал меня за бок, вкладывая в это постыдное занятие всю свою богатырскую силу и приговаривая зловещим шепотом: «Отдай платье, отдай платье… «Вытерпев за столом эти пытки без единого стона, я продемонстрировала на следующий день свой абсолютно синий бок всему пакавенскому бомонду, развеяв по ветру тщательно культивируемый гестаповцем образ супермена.
Тем временем наша лодка плыла дальше, и, переправившись на Жеймяну через узкую протоку, соединявшую его с большим озером, мы нашли маленькую бухточку со следами кострища за песчаным пляжем.
Черничные угодья начинались сразу за кострищем, а малиновые кущи — немного подальше, на озерной террасе, и после купания женщины занялись сбором ягод, а мужчины разводили костер и насаживали на проволоку кусочки случайно раздобытой в деревне свинины, и первобытная прелесть этих занятий обещала впоследствии приятные воспоминания.
Однако, добавить красок этому райскому пикничку совсем не мешало, потому что мои отношения с Андреем Константиновичем на ярком солнечном свете выглядели не лучше скукоженой водоросли, извлеченной Тараканом из озерных вод. По-видимому, та же счастливая мысль пришла в голову и моему герою, потому что, плюхнувшись после очередного купания на мое старенькое одеяльце, он собрался духом и сказал:
— Марина, давай выходить из состояния неопределенности!
— Ты тоже читал до самого утра?
— Да, «Молодую гвардию». Там герои умирают, но не сдаются.
— А la guerre comme a la guerre! Я в восхищении от твоей выдержки.
— Помилуй, бог, как воевать с заплаканными личиками? Хочешь — не хочешь, а размякнешь!
— Ты не пожалеешь потом о своей слабости?
— Это теперь зависит только от тебя. Скажи мне сейчас что-нибудь приятное — у тебя было время сочинить.
— Скажу после кино — вдруг там найдется какая-нибудь удачная фраза.
По приезду было запланировано отправиться всей компанией на турбазу смотреть «Вокзал для двоих», поскольку до сих пор сделать этого почему-то не удавалось, а все фильмы Рязанова во времена реального социализма смотреть полагалось. Позднее мы утратили эту привычку, но «Иронию судьбы», этакое «Путешествие из Москвы в Петербург» с его скромной долей злободневности, все же смотрели каждый Новый год, поскольку проблемы утреннего похмелья и случайного единения сердец подальше от дома продолжали волновать умы россиян.
Я могла бы и не ходить в кино, а вернее сказать, я отчаянно не хотела идти сейчас в кино, но, увы! — нужно было придерживаться жанра. Ведь даже самые тонкие мужские души, напряженно отслеживая ротики политиканов, ручки солдатиков и ножки футболистов, ежедневно ищут и находят грубую суть этого мира — сначала чистят чайник Петрушке, а потом он и сам водит фейсы обидчиков по неструганным тейблам, и разве могут сравниться эти захватывающие игры с утомительными поисками хрустальных туфелек.
Пока мужчины сдавали лодку на турбазу и брали билеты в кино, мы с Баронессой приготовили на скорую руку ужин. В темном зале летнего кинотеатра, крытого парусиной, все лавки были уже заполнены туристами, и мы с трудом пристроились в разных местах. Картина показалась мне не самой удачной, но, когда Гурченко шла по железнодорожному мосту, в зале притихли, и я вспомнила знаменитый променад Софи Лорен в фильме шестидесятых годов. Знак полярности у нашего варианта, правда, был прямо противоположен, и нервно вздрагивающая в дешевой синтетике спина источала хорошо понятную на Руси смесь одиночества, гордости и вселенской бесприютности.
Впечатление зрителям, мне на радость, подпортил Ваня. Вторая серия оказалась для бедного мальчика, объевшегося на Жеймяне ягодами, непомерной тяжестью, и его нытье стало невыносимым. Он уселся под ближайшим к выходу кустом, и Баронесса, посветив фонарем на густо-синие от черники какашки любимого сына, громко процитировала Александра Ширвиндта, исполнявшего в этом фильме роль ресторанного музыканта: «Какова кухня, такова и песня!» За кустом раздался хохот, роль Наташи Ростовой в заключительной сцене романа Баронессе явно удалась, и массивный Безухов спешил поглядеть на испачканную сыном пеленку.
Мужчины, воспользовавшись отсутствием мест, посетили местный бар — абсолютно безалкогольный по нынешним временам, но у Барона были доверительные отношения с барменшей, дальней родственницей Жемины, и коньячок в двойной кофе ему подливали. Потом, судя по захватывающему рассказу Барона, они произвели фурор на танцевальной площадке и теперь ждали нас у входа, с трудом ускользнув от преследования разгоряченных фурором туристок. Мне было ужасно интересно, поскольку я уже пятый год слышала о необыкновенных танцевальных способностях Барона, но мне ни разу не удавалось присутствовать на их демонстрации. Ваня слушал папин рассказ, подвывая и держась за животик. После некоторых размышлений Баронесса предположила избыток салициловой кислоты от чрезмерного употребления малины, плодоносившей в этом году до неприличия обильно.
— Младенцу пора спать! — поставил Барон окончательный диагноз и предложил супруге отвести мальчика в постель, явно прицеливаясь к задушевному разговору о вечерних посиделках, поскольку день этот был создан для праздника.
— Папа, почитай мне сказку про Красного викинга, — заныл Ваня, и глас больного младенца достиг сердца его легкомысленного папаши. Ваню увели, и мы остались одни. Андрей взял меня за руку, и мы постояли так молча с минуту-другую, глядя друг другу в глаза.
— Я не могу больше жить без тебя, — сказала я без особых затей, и ему это понравилось. Под парусиновой крышей кинотеатра заиграла гармонь.
— Финальная сцена, судя по заметкам критиков. Сейчас здесь будет слишком людно, не уйти ли отсюда? — предложил Андрей, и мы уже уходили по асфальтовой дорожке к лесу, как нас окликнул Стасис:
— Вас там Наталья Николаевна ищет, с Виктором плохо.
Пришлось поспешить назад, но перед самым домом Андрей остановился:
— Поговорим тогда попозже, не убегай больше от меня.
Виктору Васильевичу, действительно, было очень плохо, он задыхался и хрипел на постели. Тетка сидела рядом, но вид у нее был не краше.
— Наверное, погода завтра изменится, — сказала мне она, — у меня давление двести двадцать на сто сорок, а Виктор совсем расклеился.
Андрей сбегал наверх за своим медицинским чемоданчиком, но мое присутствие в комнате его явно не устраивало.
— Подожди наверху, пожалуйста, я попробую сам справиться.
Появился он часа через два, и сообщил, что проведет ночь в кресле рядом с Виктором Васильевичем.
— Особой необходимости в этом нет, но Наталья Николаевна сама собирается сидеть у постели, а ей сейчас никак нельзя. Так что, спокойной ночи!
— Если ты, действительно, печешься о моем спокойствии, то мог бы украсить пожелание какой-нибудь завитушкой, — заметила я.
— Давай больше не спешить — мы еще не поговорили.
— Ты хочешь рассказать мне, как провел время в Москве? — спросила я, уже не глядя на предмет своего внимания.
— Если удовлетворюсь твоими объяснениями!
— Страсть к закрытой тематике?
— Не исключено.
— Я снова в восхищении от вашей выдержки, Андрей Константинович. Увидимся за завтраком — как обычно!
Я смотрела ему уже прямо в глаза, и кони, бешеные кони моего разочарования проносились теперь между нами, обгоняя степной ветер, и испуганный ковыль стелился перед копытами в страстной надежде уцелеть, но надежды прочь уносились сухим безжизненным комом, и густая зеленая кровь травы проступала в надломах медленно и неотвратимо, как предчувствие новой гражданской войны. На мгновение ему стало не по себе, потом он засмеялся, но я уловила это мгновение.
— Злая ты, баба, оказывается, — сказал он не без искреннего восхищения, — но я обещал сразу же вернуться. Отпусти с миром, а?
— Хоть под танк! — дала я ему карт-бланш, приостанавливая военные действия.
— Будет тебе! Куда я денусь? — засмеялся он.
— Тогда, тем более, нужно вести себя приличней.
— Да… — протянул он задумчиво, — похоже, нам нужно заново знакомиться.
Рано утром он рухнул в моей комнате на диванчик. Я стащила с ног кроссовки, укрыла одеялом, погладила волосы и тихо сказала:
— Милый мой, я не хочу никаких объяснений. Завтра все, что угодно — завтра ты можешь уехать навсегда, завтра в Пакавене может пойти снег, завтра мир вообще может рухнуть, но сегодня будь со мной!
Милый, несмотря на сонливость, оказался крайне деловит, и спросил, не оборачиваясь:
— Ты предохраняешься как-нибудь?
— От всего на свете, если удается.
— Я немного посплю сейчас.
Не мешать же спящему, и я, быстренько окунувшись в ближайшие воды у больших мостков, вернулась обсудить со Стасисом результаты дегустации зонтиков. Они со старым Станиславом, два опытнейших лесных вепря, были морально уничтожены, и кем! Для закрепления вновь приобретенного опыта они тут же отправились за зонтиками — что где растет, они знали гораздо лучше меня. Спустя час дед с внуком уже сделали из грибков отличное жаркое, и удалились в пристроечку к сараю, пригласив виновницу торжества.
Дед, в упор не видевший дачников, внезапно разговорился. Его неприязнь к постояльцам вылилась даже в постройку своего индивидуального нужника с наклоном плоскости под сорок пять градусов. Большую нужду он, по общему мнению, справлял в лесу, потому что удержаться на этой наклонной плоскости было просто невозможно.
Я воспользовалась случаем расспросить его о послевоенных годах. Он числился некоторое время в лесных братьях и вспоминал свои героические времена с большой гордостью. Иных его товарищей поубивали, иных выслали, а Станиславу, как и некоторым другим деревенским дедам, удалось как-то отвертеться. Из знакомых мне лиц он упомянул старика Звайгстикса и мясника. Их тогда выслали, но Звайгстикс потом вернулся, а мясник долгие годы где-то пропадал и вернулся только пару лет назад, когда умерла его мать, и дом в самом начале деревни оказался пустым.
Разговор кончился с приходом Андрея, уже успевшего сбегать на турбазу в душевую и имевшего, по-прежнему, весьма деловой вид.
— Садись в машину, мы уезжаем, — сказал он.
Неплохо было бы переодеться, но он заторопил. Усевшись на сидение, я наивно осведомилась, куда это мы едем. Он посмотрел на меня с легкой улыбкой, и, не ответив, легонько коснулся моей груди. Тысячи молний мгновенно пронзили тело, и я закрыла лицо руками, устыдившись яркого дневного света и пристального взгляда моего любимого. Но он уже заводил машину, и через пятнадцать минут мы были в пустынной бухточке на другом берегу большого озера.
— Я не могу больше ждать, — сказал он, и разогретый солнцем песок стал нашим первым ложем.
— Не уходи, — просила я во время коротких передышек, — я ждала тебя всю жизнь, не уходи, — и он гладил мои волосы, и шептал нежные слова, пока жесткие глубинные силы не кидали нас друг к другу вновь и вновь.
Стал накрапывать дождик, мы быстро искупались в посеревшем озере, и уехали домой. Боже, какая разразилась буря в тот вечер, с какой яростью дождь бросался на черную землю, а она покорно впитывала светлые струи, чтобы прорастить набухшие зерна своих зеленых детей. Раскаты грома пробовали на прочность возмущавшиеся дребезгом стекла, но нам было покойно и уютно в нашем временном пристанище на чужой прибалтийский земле.
Нежное утреннее тепло заставило бы поверить в полную невинность бытия, но сломанные верхушки сосен и вывернутые корни берез просили быть настороже. Мы просыпались и засыпали снова, пока темная крыша дома, разогревшись, не наполнила комнату нестерпимым жаром. Пора было жить дальше.
Вопрос о завтраке уже давно не стоял, и после обеда мы играли на турбазе в настольный теннис, причем абсолютным победителем на этот раз оказался упитанный, но очень шустрый Барон. Я поднесла ему приз победителя (пятнадцать капель), и призер выпил порцию в стойке навытяжку, неубедительно изобразив щелк кроссовками.
— Хорошо, но мало! — сказал он, на всякий случай.
— Получишь добавку за свое предательство от папы Мюллера. Он уже готов простить тебе все, даже твоих белорусских родственников.
Породистое лицо группенфюрера выразило негативные чувства, и возмущение, катившееся из его глаз, огибая презрительно изогнутые губы, в центральную ямочку его замечательного подбородка, уже готово было поразить меня насмерть, как вдруг он счастливо вздохнул и сказал с полным облегчением:
— Зря обижаешь, я не раскалывался. Тебя бабушкина внучка засекла, когда ты садилась в машину фотокорреспондента у турбазы. Так что, плати за моральный ущерб!
У Барона была возможность обнаружить мою крайнюю нетерпимость к нарушителям жизненных планов еще в прошлом году, когда Баронесса с Лидой и Татьяной отправились утренним автобусом по окрестным тряпочным магазинам, а Барон остался нянчить сильно простудившегося Ваню. Я пришла навестить их и тут вспомнила, что сегодня наш совместный с Баронессой день ангела. Пришлось послать няньку за кальвадосом. Он мог обернуться на велосипеде за полчаса, но явился только к вечеру, поскольку узрел в райцентровском кабачке своего друга, районного архитектора, с очень интересной компанией. У меня же был предпоследний день моего летнего отпуска и тысяча дел, но мне пришлось отсидеть этот день с Ваней.
Когда все вернулись, и в Вельминой беседке был накрыт стол, Барон в свеженьком и крайне дефицитном костюме фирмы «Адидас», предмете его сезонной гордости, приплыл пригласить меня на ужин в честь именинниц. Я развешивала в ситцевом халате только что постиранное белье и была совершенно непреклонна. С полчаса он меня уговаривал, но, не уломав, решил действовать силой. Многочисленные зрители были в полном курсе событий, и, осуждая Барона за черный поступок, с интересом наблюдали за представлением. Для начала я уцепилась за железный столб, но через двадцать минут он сумел лишить меня этой опоры.
Следующие полчаса он тащил меня волоком, а я упиралась, как могла, и мы проложили глубокую песчаную борозду через соседний двор прямо к Вельминой беседке, причем, он хорошо понимал, что ухватываться нужно, щадя мое женское достоинство, а я старалась не запачкать его новенький костюмчик. При его росте и весе мое сопротивление выглядело героическим, и вспотевший Барон прилюдно заявил, что, судя по всему, женщину изнасиловать практически невозможно, если не вырубить ее сразу.
Пострадал Жеминин квартирант, многоженец Челентано. Завораживающее зрелище заставило забыть его про сигарету во рту, и она, дотлев, сильно обожгла ему губы. Я же, оценив усилия Барона, осталась в беседке, но благостного застолья у нас все равно не получилось. Я испакостила вечер, как могла, и это отклонение от нормы сильно ранило сентиментальную душу моего лучшего друга.
После чемпионата Барон получил сатисфакцию и отправился читать Таракану сказку про Красного викинга, потому что живот у младенца еще побаливал. Таракан так надоедал папаше этой мало распространенной сказкой, что Барон как-то вырезал из дерева модель надгробья для героя, весьма рьяно защищавшего интересы малоимущих вдов и обиженных девушек, украсив ее красным резиновым шариком.
Неприличнее этого трудно было придумать.
Услышав литературные призывы младенца, Андрей вспомнил, что просрочил вчера явку в библиотеку. Туристы самой читающей страны в мире предпочитали заниматься этим в свободное от отпуска время, и мы всласть покопались на книжных полках пустынной библиотеки и мило побеседовали с библиотекаршей, скучавшей у переносного телевизора «Юность».
— Я сегодня ездила в Неляй по всяким делам, и привезла то, что ты хотела прочитать. Это роман Войновича, самиздатовский вариант, — сказала Бируте, вынув из сумочки газетный сверток. Я искренне поблагодарила, а она добавила:
— Скажи своей приятельнице, что в Неляе у рынка продают бархатные юбки.
Мы попрощались, и библиотекарша переключила телевизор на первый канал. На экране шла беседа тележурналиста с упитанным господином в темно-сером.
— По-моему, это Иван Ильич Сидоров, заведующий сектором тяжелой промышленности, — не утерпела я на прощание. Андрей посмотрел на меня с любопытством.
— Ты что, всех их в лицо знаешь? — спросил он, когда мы вышли.
— Всю колоду — от джокера до шестерок. Запоминается с детства само собой, я могла бы стать лучшим полит-информатором института. Мой бывший муж всегда гордился моими знаниями.
— Мне больше импонирует твое знание кулинарных рецептов.
— Да, для романтического героя ты слишком любишь поесть.
— Не печалься, для кухарок у нас все пути открыты, вплоть до управления государством.
— Я представляю этот путь в виде извилистого темного тоннеля с острыми зубами на входе и мужским желудком посередине. Добираешься с трудом до середины, а там тебя уже переварили и выкинули.
— Я отказываюсь сегодня от ужина.
— Блазонирую, — сказала я, подцепив словечко лапчатой серебряной вилочкой с тарелки Шварца, — червленое сердце убиенной коровы, окаймленное венчиком из листьев петрушки, на фоне белого соуса, густо усеянного горошком молочно-восковой спелости. Подумай хорошенько!
— Ты почти уговорила, — ответил он сразу же, и мы подошли к своему дому.
У нас во дворе появились Слава Фрадкин с сыном. Они приехали еще утром, но к обеду уже ушли в лес, и встреча состоялась только сейчас. Познакомились мы здесь же, года три назад, он снимал комнату прямо подо мной, и мы вместе ходили за ягодами-грибами. Слава был ленинградцем, но постоянно ездил в командировки в столичное министерство, и мы частенько виделись в Москве. Останавливался он обычно у брата своей супруги Любы, служившего там, где надо, и я пару раз бывала у них в гостях, слушая захватывающие рассказы радушного хозяина. Люба приезжала в Пакавене с младшим сыном и девочкой-подростком, дочерью ее покойной сестры, обычно спустя две недели после Славки — они растягивали таким образом пребывание своего старшего сына, сильного аллергика, на чистом сосновом воздухе.
Заботы о своей большой семье, страшная теснота в квартире и служба в двух местах одновременно вытягивали за год из Славки все жизненные соки, но от этого небольшого человека исходила такая благостность и доброта, что врагов, похоже, он не имел, за исключением нашей старушки-блокадницы, сильно притеснявшей его на кухне.
С раннего утра старушка собирала неимоверное количество ягод, а потом непрерывно варила варенье на всех четырех конфорках. Те счастливые моменты, когда другим удавалось втиснуться в ее расписание и кое-что сварить себе, омрачались ее малолетней внучкой, которая тут же становилась рядом и напряженно слушала чужие разговоры — дежурства у чужого обеденного стола казались ей дорогим детским развлечением.
Старушкины приятельницы тоже жаловались на внучку — пока они в лесу наклонялись за грибком, внучка успевала подскакивать и срывать его себе. Самой пламенной страстью этого своеобразного дитя были, однако, карточные игры, и в этом году дачная малышня под ее руководством разучивала в беседке покер. В Пакавене ее называли не по имени, а бабушкиной внучкой — именно она и засекла, как я садилась в машину Линаса.
Учитывая нелегкую судьбу старушки и ее почтенный возраст, я старалась избегать ссор и приноровилась готовить пищу, пока она ходила за ягодами или копалась на своей грядке, поливая салат большой лейкой, позаимствованной у моей тетки лет десять назад без соответствующего разрешения. В результате мы с ней жили довольно дружно, но Славке от нее доставалось так, что мало не казалось.
Вскоре после знакомства я поняла, что он сильно нервничает по этому поводу, и ежедневно уговаривала его не обращать внимания на происки старушки по примеру всех прочих, пока он не проговорился об истинных причинах своего беспокойства. Оказалось, он смертельно боится появления собственной супруги Любы, потому что оно предвещало серьезные кухонные схватки, грозящие свести на нет всю лесную тишину.
Вырисовывался образ бытового чудовища, и оно появилось с ранним ленинградским поездом, когда я еще мирно спала в своей комнатке. Я проснулась от шума во дворе, и, прислушавшись, поняла с ужасом, что случайно влипла в жуткую историю. Мои наручные часы сломались, и пару дней назад я попросила Славку, собиравшегося в райцентр по своим делам, отдать их в ремонт. И вот теперь бытовое чудовище вопрошало на весь двор, чьи это часики лежат у родного мужа под подушкой?
Я тут же спустилась вниз и увидела миловидную женщину с добрым лицом.
— Это мои часики, я ваша соседка сверху. Зовут меня Мариной, и я рассчитывала, что ваш супруг отдаст их позавчера в ремонт.
Она засмеялась, и сказала, что я сильно просчиталась. Муж только что признался, что два дня не мог вспомнить, куда же он засунул часы, и поручать ему ответственные дела может только министерство, лично ей это ни разу в жизни не удалось.
— Я сама их отдам в ремонт, мы сейчас едем в райцентр. Кстати, спасибо за ягоды, без вас он ничего бы не собрал.
Несмотря на доброе выражение глаз, Люба по приезду из райцентра в пять минут показала вздорной старушке, who is теперь хозяин в лавке, и на кухне воцарилось небывалое спокойствие. Толик, приняв материнскую позицию по больному для него вопросу, успокоился и перестал ревновать меня к своему папаше, полностью отдавшись своему любимому делу — велосипедным прогулкам.
Через пару лет он забросит велосипед, потому что увидит компьютер вблизи, и это станет его единственной любовью, смыслом жизни и источником существования одновременно. А пока Толик готовил велосипед к путешествию в дальние дали, и слушал, как папа передавал мне привет от мамы. Люба была большим оптимистом и легко несла свою нелегкую долю, а мне искренно нравилось быть в курсе их семейных радостей и горестей.
Я познакомила Славку с Андреем, но тот решил не мешать нашим разговорам и ушел наверх. Со Славкой мы виделись в Москве перед моим отъездом, и особых новостей у него с тех пор не было. Я уже рассказала ему все о главных деревенских событиях, не обременяя деталями своей собственной жизни, когда он сказал заветную фразу из моей пьесы:
— Да, тебе Люба письмо передала.
Я поблагодарила, спрятала письмо в карман, и, обнаружив наверху пустую комнату, приготовила ужин и сбегала на большое озеро с кусочком дефицитного кругленького мыла. Вернувшись, я тщательно проверила содержимое всех своих флакончиков и баночек и долго расчесывала волосы перед зеркальцем, а потом прилегла и стала прислушиваться к шагам на лестнице, пока радостное волнение от предстоящей встречи не перешло в глухую тревогу.
Когда, наконец, Андрей появился, я не стала спрашивать, где он был, и что случилось, так как передо мной стоял человек незнакомый и невеселый, а, вернее сказать, чужой и хмурый. Не раздеваясь, он молча вытянулся рядом, и в это время снизу послышались голоса. Стало абсолютно очевидно, что Славка корит сына за позднее возвращение. Андрей встал.
— Ну, что ж, местный секрет я разгадал. Сейчас покажу! — сообщил он мне и рывком выдернул из-под меня нижний матрас (в доме было несметное количество матрасов и кроватей, списанных на турбазе в новеньком состоянии, как имущество, неоднократно бывшее в употреблении).
Матрас шлепнулся на пол у стены, где доски были намертво прибиты к потолочной балке.
— Спокойной ночи, Марина, — сказал он уже в дверях, — сегодня я что-то не в форме, даже в теннис проиграл.
По моим соображениям это была откровенная ложь, из него так и фонтанировала недобрая энергия, но что оставалось делать?
— Спокойной ночи, Андрей.
Оставшись на верхнем матрасе в состоянии крайнего недоумения, я тут же занялась перемоткой событийной ленты в обратном направлении, пока не обнаружила подходящий фрагмент в туристической библиотеке. К тому времени кипение нашего большого деревянного чайника окончательно улеглось, коммунальная среда остывала вместе с ночным воздухом, и я скользнула белой тенью в соседнюю дверь.
— Однако, Андрей Константинович, — думалось мне над постелью своего спящего милого друга чукотским словом, хотя в моем исполнении оно было типично среднерусским, и я заимствовала его у Кисы Воробьянинова. Этот старый петух произнес его, разглядывая цены в ресторане, куда он опрометчиво заволок молоденькую глупенькую курочку.
— Однако, Андрей Константинович, — разглядывала я безащитную загорелую шею, где у провинившегося Кисиного друга появилась, в конце концов, узкая красная рана, — полоснуть бы острым зубом, а потом высосать всю кровушку без остатка. Сколько румян и белил зря пропало!
Вспомнив про французские духи, дефицитное мыло из еще более дальнего зарубежья и невостребованное говяжье сердце, я разозлилась еще больше, но утром все же навестила обидчика, решив, после долгого анализа ситуации, полностью проигнорировать плохое расположение мужского духа. Дело было отнюдь не в моем миролюбии, меня просто разбирало любопытство — ранг события в туристической библиотеке не соответствовал наблюдаемой реакции.
— Пойдем завтракать, я там соорудила путь к твоему сердцу. И не надейся сегодня испортить мне настроение, у тебя все равно ничего не выйдет. Тебя одеть?
— Не нужно, займи лучше свои позиции на кухне.
— Как скажешь, но не опаздывай.
— А то что, Марина Николаевна? — преувеличенно ласковым тоном спросил он, — достанутся объедки?
— Никогда, — сказала я ему, — даже разогревать ничего не буду. Я тут же приготовлю новенький хорошенький вкусненький завтрак. Но ведь можно избежать сложностей?
Моя необыкновенная покладистость, достойная восточной женщины, произвела должное впечатление, и он сообщил, что уже одевается. За завтраком я рассказала о вчерашнем разговоре с паном Станиславом и упомянула о юбках. Баронесса тут же стала уламывать Андрея свозить ее с Лидой и Таней в Неляй, поскольку на утреннюю электричку они уже опоздали. Дамы смертельно завидовали моей черной бархатной юбке, приобретенной в местном «музее», и об этом знала даже местная библиотекарша.
Обычно безотказный, Андрей сначала отнекивался, а потом заявил, что боится запутаться в трех одинаковых юбках. Дамы заверили хором, что не имеют на него никаких видов, но, по его мнению, тогда смысл поездки терялся полностью. Дамы хором заверили его в обратном, но он сказал, что тем более не поедет. Дамы сказали, что сделают все, что он захочет, но он захотел почитать Войновича. Когда Андрей ушел, Баронесса собрала совет уже готовых к отъезду женщин, и они решили еще раз попытать счастья, подойдя к нашему крыльцу.
— Уговори его, а?
— Ну, ладно! Посидите, а я попробую, но быстро не обещаю, да и вообще ничего не обещаю — сами видите!
Я нашла его в своей комнате — Андрей читал книжку, лежа на кровати. Мой приход не явился, судя по всему, важным событием, и он продолжал читать, пока я обдумывала свои аргументы в противоположном углу комнаты. Подруги находились под окном, и стекла в мансарде подрагивали от их нетерпения. Я решила сразу ухватить быка за рога, ужаснувшись на мгновенье этому жестокому сравнению.
— Ну, пожалуйста, съезди в Неляй. Это не лучшее в мире место, но считай, что нас там никогда не было, я уже ничего не помню.
— Марина, я читаю!
— Что ж, — заметила я уважительно, — последней сукой буду, если помешаю!
Он оторвался от книги, рывком спрыгнул в носках на пол, и сказал:
— Ладно, но потом не жалуйся. Кстати, где мои кроссовки? Найди-ка их!
Кроссовки оказались глубоко под кроватью. Я стиснула зубы и опустилась на колени. Он воспользовался моим положением ловко, цинично и грубо, но протест против насилия был неуместен, поскольку агрессия сильно смахивала на полное моральное поражение противника. Противник быстро привел себя в порядок и удалился.
Да, дела… Звук мотора стих, и, посидев некоторое время на полу в полной неподвижности, я заметила на кровати книгу и машинально прочла несколько строк на открытой странице. Текст меня чрезвычайно заинтересовал. Речь шла о том, как просто Писатель, уставший от долгого и непонятного ожидания официального приема, решил взбунтоваться и немедленно покинуть усадьбу Великого Писателя, но не смог обнаружить любимых домашних тапочек. К нему тут же подослали для поисков пышнотелую дворовую девку, и та обнаружила эти тапочки глубоко под кроватью. Писатель не смог устоять и решил, что с отъездом можно еще немного повременить.
— Какой мерзавец! Он услышал наши голоса за окном и засунул кроссовки под кровать — подумалось мне.
Я перелистала страницы, и ближе к концу мне попался секретный отчет пышнотелой гэбистки о пребывании героя в усадьбе, которое кончалось описанием Писателя, как лица, не представляющего никакого сексуального интереса.
Подумав о сладкой мести, я неожиданно развеселилась. Нужно было воспользоваться отсутствием Андрея и помыть полы. На столе валялась порванная газета, в нее и была завернута книга. Я собиралась выбросить ее, но внутри лежал вскрытый конверт с запиской: «Нам было хорошо вместе, и ты все равно это вспомнишь. Жду тебя каждый вечер. Линас.»
— Бируте ездила в Неляй, и взяла книгу у Линаса вместе с письмом, а Андрей прочел его вчера вечером, пока я разговаривала со Славкой, — поняла я.
Да, дела… Часа через три, когда девочки вернулись с видом сытых клопов, объездив все возможные магазины в округе, я уселась на противоположный диванчик с иголкой и нитками, ожидая момента (не думай о мгновеньях свысока!), когда Андрей дочитает до нужной страницы. Он прочитал свой приговор, и поднял на меня глаза.
— Вот так вот! — сказала я, — но я все равно твоя женщина.
— Не исключено, — ответил читатель, взглянув часы, — хотя ты меня и не кормишь.
— Зато посмотри, какая чистота.
— Возможно, — буркнул он, взглянув на стол.
После обеда мы пошли за грибами. Лисички за сыроежками, дождевики за моховиками, и я потеряла своего спутника. Солнечный лес, наполнившись тревожными шорохами, тут же утратил всю свою привлекательность, и можжевельники приняли зловещий кладбищенский вид, и беспредельный ужас уже вползал в сердце холодной струйкой, когда я услышала свое имя.
— Марина, — сказал Андрей, — я здесь, с тобой!
— Не уходи! — меня трясло, как в лихорадке, — не уходи больше.
— Но тебе было неплохо и с ним!
— Нет, я просто пыталась вычеркнуть тебя из своей жизни, но у меня ни черта не получилось.
— Вчера мне казалось, что ты просто выдумала…
— Мне и самой так казалось… Не уходи…
— Я искал тебя после свадьбы всю ночь, а потом едва не заснул за рулем, — сказал Андрей, но в его объятьях ко мне вернулась некоторая уверенность в себе, и я ответила:
— Я была в лесу, и ты сейчас нашел меня. Видишь — Красная шапочка, корзинка, пирожки, одиноко и страшно, а я так хочу быть счастливой.
— История Красной Шапочки в сценарии транссакционного анализа Эрика Берна выглядит по-другому, — сказал он, — мать стремится избавиться от девочки, посылая ее одну в лес, бабушка держит дверь незапертой в надежде на приключение, Красная Шапочка залезает к волку в постель, а охотник убивает волка в надежде занять его место. Несчастному волку следовало бы держаться подальше от наивных девочек.
— Будь Эрик Берн социологом, а не психологом, речь шла бы о гуманитарной помощи, продовольственной корзине и коррупции.
Он постоял молча, переварил информацию и согласился с новым сценарием, потому что не согласиться было уже трудно и противоестественно.
— Что же, упоминание о взятке вполне уместно. Как там насчет пирожков со сладкой начинкой?
О, сладость примирения! Мы любили друг друга молча, но он умел говорить и без слов, а я отвечала ему, как могла, пока нас не занесло на такой маленький остров, где можно было существовать только вдвоем, и мы простили друг друга, потому что иначе было нельзя.
Жесткость черничных веточек, наконец, дала себя знать, и мы вышли на лесную дорогу в то удивительное время, когда с первыми сумерками очертания предметов кажутся более отчетливыми, чем при ярком солнечном свете. Легкая дымка в соснах и внезапная торжественность тишины придали миру полную нереальность, и мы оба ощутили это. Лес уже отдал чужакам свои ягоды и грибы, и спешил зажить своей таинственной ночной жизнью.
Безлея, богиня вечерней зари, спешила погасить последние солнечные лучи и передать дежурство своей чернокосой сестре Брексте, ведающей ночной тьмой. Усталая Лаздона, отягощенная ветвями лесного орешника, прятала на ночь от злых духов еще незрелые плоды, и районная ведьма Лаума Жемепатискайте уже отправилась на метле проверять владения своей прапрабабки, княгини Шумской. Хрюкающие полчища тяжелых ракет вылетели из таинственных клюквенных болот в поисках лесных врагов, и пастуший бог Гониклос велел убираться домашней скотине со своих тучных пастбищ в стойла, где верный Дворгаутис уже занял свой ночной пост.
Глава 8
Утро оказалось не из приятных. Вечный жених Гядик, устраивая вчера в стогу сена дежурное ложе, наткнулся на мертвое тело звонаря Ремигиуса. Его горло, перерезанное острой косой, кишело жирными белыми червями, а открытые неподвижные глаза который уж день рассматривали высокое голубое небо, навсегда поглотившее нехитрую музыку его медных колоколов.
Нашлась и коса, второй любимый инструмент звонаря — недалеко от берега озера, на черном илистом дне. Ремигиус любил косить в этих местах, где в высокой траве виднелись черные развалины баньки, и именно в этой баньке отец звонаря пил самогон с почтальоном Тадасом в день убийства Вельминой дочки.
Тело несчастной девушки, как рассказывала Жемина, тоже было найдено не так уж далеко отсюда, на лесистом перешейке между большим озером и озерцом Укояс, где к концу лета массой высыпали желтенькие маслята. Я ощутила беспокойство — который раз уже имя звонаря связывалось в моем сознании сложными путями со страшной сценой в песчаном карьере.
Я не выдержала и поделилась своими смутными мыслями с Андреем, но, к моему изумлению, он воспринял мой рассказ достаточно серьезно.
— Мне не совсем ясно, почему ты считаешь, что эта история касается тебя. Почему ты так волнуешься? — спросил он.
— Я не знаю, от меня ускользает что-то, связывающее меня с этой историей. Да, я нашла труп, а накануне видела недалеко от этого места звонаря, и все.
— Ты никого не видела у трупа?
— Нет, я и не оглядывалась. Я увидела ее, остолбенела, а потом очень быстро ушла, почти бежала. И никому, кроме тебя, ничего не рассказывала.
— Твое беспокойство может быть вызвано неприятными воспоминаниями. Это пройдет со временем, когда ты уедешь отсюда. А пока, давай-ка прокатимся в столицу, я ни разу там не был и с удовольствием посмотрю старинные здания.
Беда не приходит одна, и в это же утро Юмиса забодала на пастбище его же собственная корова. Эту плохую новость прокричала нам с велосипеда соседка, пожилая Гермине, чья корова паслась неподалеку.
Андрей повез Жемину и Стасиса на пастбище, и они переправили раненого в больницу. Жемина, упоминавшая мужа нехорошими словами раза три в сутки, по возвращению плакала навзрыд, потому что муж все-таки оказался любимым, да и жить в деревне без мужика — гиблое дело. По мере плача заочная фигура Юмиса разрасталась до монументальных размеров, и души квартирантов уже согревались в лучах его доброты, великодушия и трудолюбия. В этом мире, поистине, нужно умереть, чтобы тебя оценили по достоинству.
Станислав с подъехавшим из райцентра молодоженом Альгисом привели корову с пастбища. После побоища та уже успела запутаться в ветках дерева и сломать рог. Корова была по деревенским меркам не простой, а золотой, и давала, к радости обитателей дома, тридцать шесть литров молока в день, на треть больше, чем у соседей. Когда ее привели домой и привязали за огородом, она уже не буянила и выглядела довольно понуро. Вернувшаяся из больницы Жемина теперь причитала над коровой и грешила на деревенских завистников, отравивших рекордсменку.
Корову поили отваром дубовой коры, вливали растительное масло, растирали соломенным жгутом, но все было напрасно, и к вечеру она умерла, отправившись в заоблачные пастбища хлопотливого Карвайтиса.
Собирая нехитрый скорый ужин, я увидела в холодильнике банку с утренним молоком от мертвой коровы.
Труп громоздился под холмом за огородом, и я вылила эту скорбную жидкость в густую траву подальше от дома, попросив коровьего бога быть поласковей с нашей усопшей кормилицей.
Утром приехал ветеринарный фургончик, и следом за ним прибыл маленький экскаватор. Корову вскрыли и, обнаружив воспаление кишечника и двух бледных телят, рыбками свернувшихся в ее чреве, составили протокол, который мы с Андреем и подписали, как посторонние свидетели печального происшествия. Я спросила ветеринаров, не была ли отравлена корова, но старый ветеринар цыкнул зубом, а молодой объяснил, что специальных анализов они все равно делать не будут, и тайна будет похоронена вместе с коровой. Кроваво-розовый труп со снятой кожей противоестественно ярко сверкал на солнце, пока его не бросили в глубокую яму, вырытую экскаватором за огородом, и не засыпали желтым песком.
Все это время вокруг огорода приплясывала алкоголичка Янька, сожительница Вацека Марцинкевича, нашего соседа справа, в надежде отрезать заднюю часть коровы. Позапрошлой зимой она стащила на помойке у Жемины мерзлый труп поросенка, рассудив, что их пропитым желудкам ничто не угрожает, кроме отсутствия алкоголя. Вацек был интересным плохо выбритым брюнетом лет сорока пяти, и когда он в белых штанах второй свежести посещал летний кинотеатр, туристки оглядывались с нескрываемым интересом, а его спутница, тощая неопределенных лет бабенка с худым треугольным личиком и гниловатыми зубами, чувствовала себя при этом королевой.
У Вацека был хороший дом из белого кирпича, построенный им в лучшие времена, когда он директорствовал на турбазе и преподавал в районном техникуме. Но потом он сломался, его бездетная жена покинула эти края, и, в конце концов, он пригрел бомжиху из райцентра для совместного времяпрепровождения. Трезвый Вацек мог соперничать по знанию этикета с моей подругой Галей, но пьяным он был ужасен, как и его залетные дружки.
Эта парочка нигде не работала, но Вацека соседи звали иногда помочь в каких-нибудь крестьянских работах, а летом он каждую неделю брал мзду с квартирантов, занимавших его пятистенный дом. Вацек с Янькой ютились на другом конце двора в старом сарайчике на высоком фундаменте с шестью ступеньками.
Крепко напившись, Вацек подзывал Яньку на свое лежбище, и она, дрожа, шла отрабатывать свои хлеб и кров.
Через некоторое время все наблюдали, как Вацек выбрасывал ее из сарая, и избитая расплющенная бабенка скатывалась кубарем по всем шести ступенькам.
В деревне, тем не менее, Вацека уважали за его честность и прежние заслуги, хотя всякие косметические и хозяйственные жидкости с окошек чужих летних кухонь исчезали мгновенно. И дачники, несмотря ни на что, были у него постоянные, а старенький Николай Антонович, бывший авиаконструктор, ежегодно заводил здесь огородик со свежим салатом и редиской для своих бесчисленных внуков. Сама Янька выращивала только огурцы для закуски, присовокупляя к этому соление дармовых грибков. Собранные ягоды, а она собирала их феноменально быстро, продавались туристам. Дачники их не покупали с тех пор, как у Яньки вышел шумный скандал с одним из гостей сожителя, буйным художником Виелонисом, наложившим ночью, в знак какого-то протеста, изрядных размеров кучу в большой бидон с приготовленной к продаже черникой.
В этом году у них было подобие вечного праздника, потому что неизвестно откуда взявшийся Янькин племянник продал дом усопшей матери и явился с полученной суммой денег к тете устроить поминки. Он занял чердачок сарая, и беленькие кудри этого юного херувима виднелись там уже два месяца на фоне ежедневных рыданий по матери в узком семейном кругу. Растительная диета поминальщикам, видимо, сильно надоела, и возможность полакомиться свежей говядиной сильно волновала истощавшую хозяйку салона.
Ветеринары, однако, сидели во дворе, пока глубокая могила не наполнилась песком, похоронив заодно все Янькины надежды. После отъезда ветеринаров Андрей повез Жемину в больницу, и она поблагодарила его за безропотность красивой фразой:
— Андрюс, ты мне послан богом!
Вернувшись, Андрей углубился в свежие газеты, а я пошла к Баронессе. За столом в беседке сидел Ванечка и управлялся с жареной картошечкой, окаймленной с двух боков тушеными грибками. Один грибок был особенно хорош и вызывал постыдные желания. Я не удержалась и цапнула его с детской тарелочки.
Реакция ребеночка на поступок любящей его тети была неадекватной — он взревел белугой, отшвырнул тарелку и убежал за калитку в ближние кусты.
На его рев из кухни вылетела разъяренная мамаша и спустила на меня всех своих трансильванских вампиров. Оказалось, десятью минутами раньше оголодавший Барон тоже стащил с тарелочки своего младенца не менее симпатичный грибок, и дитя, пребывающее сегодня в дежурной оппозиции к своему папаше (тот не пустил его разглядывать ободранную корову), еле удалось унять. Разобиженная, я ушла за баньку к своему другу. Оскорбленный семьей Барон страдал вдвойне, так как у него кончилось курево. Эту беду я могла развести руками запросто, но пачечка сигарет была спрятана за пустыми литровыми банками на кухне в шкафчике Баронессы, а идти туда мне сейчас не хотелось.
— Ладно, оставайся, — сказал Барон угрожающим тоном, — а иначе мне ничего не светит, кроме желанного покоя.
— Ну что ж! — ответила я вполне мирно, — завтра уеду в столицу, вот и поскучаете. Подумаешь, дерьма-то, грибок червивый!
Барон внезапно оживился, и глаза его заблестели, как у чердачного кота, который, как известно, любит гулять сам по себе:
— Червивый, недоваренный и ядовитый. Может быть, мы еще спасли ребенка! Слушай, а твой-то не подкинет меня?
— ?
— Понимаешь, вчера Алоизас уехал в столицу по делам. Он останавливается в общаге художников, а для меня там всегда находят местечко, ты же знаешь!
— Ну, попытай счастья, Андрей сейчас добрый.
— Черт, мамочка не пустит… — было загрустил он, но потом глаза его засверкали нестерпимым желтым блеском, — так где, говоришь, сигареты?
Получив инструкции, Барон вскрыл тайник и попросил Баронессу устроить ему вечерком стриптиз.
Баронесса оживилась, так как это сулило ей маленькие женские радости, не носящие, однако, строго интимного характера. При их невеликом доходе экономия семейных средств была чрезвычайно жесткой.
Барон в последнее время единолично распоряжался семейной кассой, выдавая супруге весьма небольшую сумму на пропитание и складывая в чулок остатки денежек для покупок крупных вещей. Баронесса, сварив мясной суп, разбивала кости молотком и еще раз варила на них рассольник. Деньги на булавки Баронесса зарабатывала, как могла, в том числе и развлекая время от времени мужа красочными представлениями с переодеваниями и стриптизом в стиле европейского ретро.
Июльский стриптиз, к примеру, уже материализовался в бархатную юбку, а новых перспектив в самое ближайшее время не предвиделось. Экономный Барондаже нашел себе зимой некий эрзац. Наснимав в прошлом году любительской кинокамерой Баронессу в камышах Кавены (она изображала там русалку), он, являясь домой не в духе, выливал на нее все накопившееся за день раздражение и запирался в спаленке, где и просматривал фильм с ее же участием несколько раз кряду, сопровождая просмотр пивом. В связи с этим Баронессе пришлось освоить массаж, позволявший прирабатывать немного на чужих радикулитах и остеохондрозах. Кроме того, она усердно вязала шерстяные вещи на подаренной к свадьбе электрической машинке не только для своей семьи, но и для всех своих знакомых.
Баронесса, оценив перспективы, тут же уняла гнев, быстренько подала ужин, и появившийся Андрей вполне мог остаться в полном неведении относительно произошедшего, если бы мимо беседки с обиженной рожицей не продефилировал бы виновник дрязги, держа в тощей лапке пару свинушек, обнаруженных им во время рыданий под кустом. Увидев его, мы с Бароном хором предположили, что Бог еще накажет злобного мальчика за происки против любящих его существ. Баронесса дипломатично промолчала, а Ваня гордо отвернулся и стал открывать дверь комнаты. Вот тут-то ему на ногу и свалились полкирпича, слегка блокирующие эту самую дверь в отсутствие хозяев. Особо больно не было, но Таракана глубоко поразило возмездие небес, он решил помириться с нами и закончить ужин.
Я вспомнила, как мы крестили в местном костеле маленького Ваню — ленинградская кирха всегда была под особым присмотром, и вообще Барона могли запросто выставить из института за лояльность к любой религии, поэтому Ваня и стал католиком. В костеле за них хлопотала Вельма, и ксендз долго расспрашивал ее про национальность и род занятий родителей. Гуманитарный характер их профессий и примесь западноевропейских кровей показались ему приемлемыми, и счастливый отец долго гонял на велосипеде по окрестным магазинам в поисках полутора метров парчи.
Я сшила мальчику крестильное платьице на завязочках сзади, моя бабушка навязала кружев из тонких белых ниток, и Ваня с удовольствием разглядывал себя в зеркале. Страсть к переодеваниям тогда проявилась у него впервые, и спустя много лет, уже будучи студентом мединститута, он вступил в военно-исторический клуб «Вольная команда», и по выходным дням в зеркале отражался викинг девятого века в кожаных портах, сшитых самим героем по выкройкам того нелегкого времени.
Конфуз вышел с крестными родителями. Вельма была согласна стать крестной матерью, но на роль крестного отца претендентов не нашлось по двум причинам: во-первых, претендент должен был обязательно заранее исповедаться, а, во-вторых, новое кумовство накладывало на семьи крестных родителей определенные обязательства, а усложнять и без того запутанные деревенские связи никому не хотелось, тем более, что у Вельмы был очень крутой и неудобный характер. Она пыталась дирижировать всей деревней, а ссориться с ней, учитывая служебную мощь ее сыновей, в деревне опасались. Барон метался по деревне, но все его собутыльники отворачивали глаза.
Мы прибыли в церковь в светлых одеждах, и дамы были в соломенных шляпках, но за внешней благопристойностью скрывалась полная растерянность, поскольку Ваня оказался религиозной сиротой. Бог от дитяти все же не отказался, и двое немолодых крестьян, пешком пришедших из дальней заозерной деревни помолиться, помогли приобщить нашего ангелка к католической церкви. Ваню с его четырьмя родителями увели в крестильню, а оставшиеся сидели в торжественной тишине деревянного костела, благоговейно разглядывая привядшие лепестки алой розы у ног печальной мадонны, укутанной в ярко-синее покрывало.
Когда счастливый Таракан с зажатыми в кулачке предписаниями и бумажными молитвами выкатился из костела, то Барон спросил, чем же он может отблагодарить крестных родителей. Они стояли перед нами в поношенной одежде — хроменький человечек с обшарпанной сучковатой палкой в большой красной руке и полуслепая женщина в белом платочке, и, с трудом подбирая русские слова, сказали, что просто выполнили свой христианский долг. Барон тогда побегал по деревне и нанял машину, чтобы отвезти их домой. Они сели, сильно смущаясь, а мы долго смотрели с церковного холма, как новенький кремовый автомобиль, ослепительно сверкая лаковыми крыльями, уносил вдоль озера в маленькую прибалтийскую деревню частицу нашей коллективной души.
Мы кончили ужин на этой возвышенной ноте, пора было планировать свое путешествие и собирать вещи.
Ваню повели укладывать в доме у Татьяны, чтобы он не мешал матери утрясать свои финансовые проблемы в дворовом флигеле, но тут в доме раздался женский крик, и оттуда в ночном одеянии выскочила всклокоченная Вельма. Она носилась среди перепуганных дачников, потрясая сухими кулачками, и сыпала проклятья на разных языках богохульникам, язычникам и прочей антиклерикальной сволочи, перемежая их площадной бранью. Через полчаса мы уже знали все.
Оказалось, сегодня утром Виелонис крепко напился в сапожной мастерской и, выйдя в одних трусах помочиться к забору турбазы, увидел там местных сантехников. Их было всего двое, и Виелонис дополнил компанию в духе «труа» соцреализма. Вернувшись назад, он обнаружил на сапожной мастерской замок, что сильно нарушало его планы — он планировал там отоспаться. Не долго думая, Виелонис поднялся на холм и проник в исповедальню.
Его разбудила грешная деревенская старушка, и он отпустил грехи через окошечко с деревянной решеточкой ей, а потом и другим старушкам, среди которых оказалась и Вельма. В юности Виелонис писал иконы, и предмет ему был знаком. Вышел он из исповедальни вместе с последней старушкой, и старушка, увидев его личико, отделенное от трусов густой брюшной порослью, упала в обморок, в результате чего костел закрылся для повторного освящения, и Вельму известили об этом по телефону.
День, и без того тяжелый, закончился страшным скандалом между Жеминой и Стасисом, разразившимся у сеновала. Разобрать слова было невозможно, но Стасис на чем-то настаивал, а мать запрещала, крича и плача. Такие скандалы были нам не вновь, и квартиранты тут же разошлись по своим комнатам, и на улице не было ни души.
— Андрюс, ты мне послан богом! — не выходили у меня из головы слова Жемины, и это была неплохая формулировка.
Но не раздастся ли завтра голос строгого отца: «Где ты, Адам? Отчего же ты прячешься от меня?» И Адам, лихорадочно укрывая гениталии листьями смоковницы, отзовется и дважды предаст, убоявшись терний и волков на поле трудов своих.
— Это не я, — скажет он сначала, — это она.
— Ты же сам мне ее дал, — скажет он потом.
Но сейчас мы были одни, и Адам развлекался, расплетая и заплетая мои волосы. Ему нравилось это тихое занятие.
— Идеальный материал для сетей, — сделал он вдруг неожиданный вывод, — попал и пропал.
— Возьми мои спицы в тумбочке, я научу тебя, как это делается.
— Это по вашей части — нам это ни к чему, наше дело не попадаться.
— Зря отказываешься. Пауки в собственных изделиях никогда не запутываются. Они там цокотушью кровушку пьют в свое удовольствие.
— По-моему, тебе здорово твой бывший муж насолил! Первое настоящее чувство?
— Вряд ли, я ведь тогда и сама еще не была настоящей. Вот когда он задел мое самолюбие, то это уже было настоящим.
— И с тех пор ты предохраняешься от всего на свете?
— С тех пор я не люблю глубинных раскопок в своей душе. Знаешь ли, путь в ад обычно вымощен благими намерениями.
— Не очень-то и хотелось, — заметил он, — в конце концов, душа не является твоим самым приятным местом.
— Вот это уже слова не мальчика, но мужа. Остановимся на туристической географии в стиле Жюль Верна — поверхностно, но о-очень интересно.
— Со временем белые пятна на картах исчезают, и интересы меняются.
— Одному старому еврею в КГБ дали глобус и спросили, куда бы он хотел мигрировать, если представится абсолютно свободный выбор. Он долго крутил его, а потом попросил какой-нибудь другой глобус.
— Неплохая идея, вроде перестановки кадров в наших министерствах. Что же у тебя ничего не получилось с этим?
— Не соблюла главного условия — пресыщенность информацией отсутствовала.
— Все еще впереди?
— Знаешь, я стараюсь не запоминать любимых стихов полностью, тогда сохраняется желанная тайна. В детстве я прочла две строчки из Эдгара По, они цитировались в «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова. Я повторяла эти строчки, пока не прочла все стихотворение, а оно оказалось громоздким и многословным, и очарование пропало.
— Я помню эти строчки, что-то про обольстительную утопленницу Аннабель Ли и грозные силы пучины — задумчиво произнес Андрей Константинович, углубляясь в детские воспоминания, а моя мысль тут же вильнула вбок, явив мне новенький балет об утопленной дочери Маргариты.
— Ты случайно в юности стихов не писала?
— Поэзией я занялась совсем недавно — призналась я, и Андрей Константинович выразил глубокую заинтересованность в моем самом последнем стихотворении. Я не посмела отказать ему в этой малости.
Underground. The children imagine Gestapo.
Oh, terrible death of the plumber Potapoff.
Дети в подвале играли в гестапо, Зверски замучен сантехник Потапов (англ.)
— Да, лаконичность прямо-таки японская. И много у тебя этих мелких пакостей?
— Целый цикл на двести долларов, — снова призналась я, — я продала его одной американской переводчице вместе с авторским правом. Она была без ума от черного детского юмора и опубликовала этот перевод под своей фамилией. До сих пор мучаюсь, что продешевила, там ведь было еще несколько историй в прозе.
— Теперь я понимаю, почему маленький Восьмеркин улепетывает из песочницы, когда ты показываешься на горизонте.
— Я открою тебе страшную тайну — в детстве меня все звали Марой. Мать говорит, что я сама себя так назвала, а Мара в славянской мифологии — личность темная и непонятная. Ее имя связывают со спутницами молодого Марса — когда тот еще не был богом войны, а занимался плодородием. В зрелом возрасте он увлекся войнами, а всякие мары, маржены, марухи разбрелись, кто куда, и в знак протеста стали пакостить — спутанная пряжа, ночные кошмары, обман чувств. Маленькие дети их до смерти боятся. а большим лучше вообще не впускать эту нечисть в свой дом.
— А тут, вот, сам напросился, — взгрустнул Андрей Константинович, — могла бы и предупредить!
— Красть хорошеньких мальчиков из приличных семей — моя слабость. Но ты особо не печалься, я возвращаю их со временем на место.
— Они не возражают?
— Им не до этого — сломанная карьера, потерянные иллюзии, плохой сон.
— Ты рассказывала им на ночь страшные сказки?
— Всяко бывало, но не принимай всерьез. Так, экзерсисы на дежурные темы.
— Вот именно, — сказал он, — чем и хорош отпуск.
Похоже, я чем-то подпортила настроение своему собеседнику, и больше мы в этот вечер не говорили, и мне никто не мешал строить за кулисами декорации, пока на голой сцене обезумевшая Маргарита умоляла Фауста спасти свою дочь там, на лесном озере, слева от гнилых мостков, где головка дрожащего ребенка все еще всплывает на темной скользкой доске. Кинокадры на заднем фоне документально подтверждают ее слова — головка все еще пульсирует на доске. Крупным планом дается выпученный от ужаса глазок, из которого капают слезы. Фауст в это время разговаривает на ковре с черным псом — они при этом танцуют, а разговоры льются из репродуктора.
К чему же ты вступаешь в общение с нами, когда не в силах поддержать его? — спрашивает его пес. — Хочешь летать и боишься, что голова закружится. Мы тебе навязывались или ты нам?
Тут появляется вертолет, выкрашенный импортной оранжевой краской со звездно-полосатой картинкой на боку. Все открывают большую варежку, лежащую в центре сцены, а потом задирают головы и следят за движением вертолета.
— О великий, чудесный дух, удостоивший меня видеть лицо свое! Я тут! — восклицает Фауст и поворачивается к Маргарите. — Мой друг! Теперь в дорогу! Во имя наших жарких нег решись со мной на мой побег! Скорей со мною из острога!
— Поздно, Дубровский, — ехидно замечает Маргарита, провожая вертолет глазами. Вертолет исчезает за железным занавесом, а она садится оплакивать дочь жемчужным бисером. Фауст затевает свару с псом, а в это время большая оранжевая стрекоза появляется уже на экране, левее гнилых мостков. Из люка выбрасывают рыбачью сеть. На сцене тем временем Фауст решает стать депутатом городской думы.
— … рай зацветет среди моих полян, а там, вдали, пусть яростно клокочет морская хлябь, пускай плотину точит, — формулирует он высоким прыжком и низким приседанием суть своих предвыборных лозунгов, пока черный пес слизывает жемчужины, компостируя их на противоположном выходе вкладом в швейцарский банк. Маргарита молит о спасении дочери. Голос свыше, из вертолета: «Спасена!»
Во втором акте действие происходит в аду. Бесы закладывают на детской слезинке колледж с уклоном в предпринимательство — как раз напротив созвездия Водолея, где братья Карамазовы мучают друг друга этическими вопросами. Слезинка принадлежит детям, чьи родители терпят адские муки, не в силах оплатить обучение. У Маргариты — no problem, но ее мучает, что больше трех поколений интеллигентов подряд в ад никак не попадает — то война, то репрессии, то дороговизна. Маргарита вступает в дискуссию с братьями Карамазовыми и начисто спивается.
В третьем акте детских слез в озере все прибывает, и это грозит затопить весь мир, ибо к этому времени уже всякая плоть извратила путь свой на земле, и земля наполнилась злодеяниями и растлилась перед лицом Божьим, но потом дело получает отсрочку, озеро временно замерзает, все успокаиваются, но в маленькой полынье каждое утро всплывают размокшие письма, где химическим карандашом значится, что девочка все же была, а греческий хор тут же трансформирует это утверждение в вопрос, и все хором запрашивают, а была ли девочка вообще, и что понимать под девочкой?
Следующим утром Андрей с Жеминой поехали в больницу за Юмисом-того уже подлатали и отпускали на амбулаторное лечение. Барон топтался под окнами с узелком в руках, и, когда Андрей вернулся, мы попрощались со всем двором и выкатили на шоссе.
Вчерашний чугунный день кончился, по-настоящему, только в середине пути, когда мелькание зеленых сосен и красных черепичных крыш сложилось в простую радостную мелодию. Столица жила своей жизнью, и по улицам ходили с неприступным видом нарядные девушки, весьма интересовавшие моих спутников с сугубо этнографической (по крайней мере, они так утверждали) точки зрения. Они глубокомысленно обсуждали по ходу движения длину ног, качество волосяного покрова и предполагаемый темперамент туземок, пока я, чувствуя навязанную мне роль неодушевленного предмета, вскипала медленно, но верно. Тут они еще поддали жару, и я поняла, что надо мной методично и согласованно издеваются, то есть получают два удовольствия сразу. Одного из них — моей возмущенной реакции — я тут же их и лишила.
На главной улице с хорошо знакомым по всем городам нашего еще нерушимого Союза названием мы быстро нашли маленькое кафе с низкими потолками, а потом отправились на главную площадь, где ослепительно белые здания выглядели игрушками, увеселявшими гигантов в железных кольчугах, пока те не дрались между собой тяжелыми мечами с узорчатыми рукоятками. На Пионерской улице стояла такая же игрушечная красная церковь, но пионерам ходить туда строго воспрещалось. Для них тут же на углу высилась башня, всесоюзно известная по пионерским играм юного Электроника и его недруга с подозрительным именем Урий.
Мальчики отправились в картинную галерею, а я осталась сидеть в сквере, поскольку уже дважды бывала в этом музее и каждый раз получала озноб и непонятное кожное раздражение. Видимо, в стылом воздухе этого большого каменного мешка жила какая-то специфическая микрофлора, и я ей решительно не нравилась. Рисковать собой сейчас, когда мир оказался переполненным пышноволосыми валькириями, не хотелось.
Мы оттранспортировали Барона к художественному общежитию, удостоверились, что его усыновили, и отправились на поиски ночлега. Решили заночевать прямо в машине в самом центре города у реки, где на другом берегу громоздился холм с широкой каменной башней. Идея была не из лучших, но альтернативным вариантом служила ночевка в пригородных рощах, а это представлялось менее определенным и требовало большего времени.
Выбранное местечко выглядело на удивление диковатым и безлюдным, но, едва мы стали раскладывать сидения и гнездиться, как мимо промчалась огромная собака-боксер с многорядным металлическим монисто на шее и бухнулась с разбегу в воду. Когда вслед за ней к реке с криками: «Дольче, стой!» промчался джентльмен лет сорока в безукоризненном костюме, собака уже вернулась на берег без монисто. Спустя пять минут появился «Москвич» с московским номером, из машины вышла нарядная дама, и они с джентльменом пустились критиковать действия своей мокрой суки.
Андрея разобрало любопытство, и он отправился к реке с намерением предложить свою помощь.
После недолгих переговоров он разделся и принялся нырять в экологически грязную городскую воду. Наконец, раздались крики: «Ура!», и Андрей потряс в воздухе чем-то металлическим. После того, как Андрей переодел мокрое, странная троица приблизилась к нашему бивуаку, причем все, включая собаку, выглядели весьма довольными.
Оказалось, соотечественники приехали в местную столицу по важнейшему делу. Предполагалось их красавицу спарить с лучшим республиканским кобелем той же спортивной породы. Списывались полгода, и на свадьбу родители явились разодетые в пух и прах, развесив на шее невесты иконостас с выставочными медалями. При первых признаках ухаживания девочка встревожилась, а при вторых — уже мчалась по улице к реке, протаранив квартирную дверь.
Потеря иконостаса была кошмарной утратой, и нашедшего ожидало недурное вознаграждение.
Антонина Федоровна и Леонид Валентинович остановились у своих дальних родственников во временно пустующей, в связи с летними отпусками, трехкомнатной квартире. Узнав о нашей ситуации с ночлегом, они предложили нам занять на пару дней одну из комнат. Андрей вопросительно посмотрел в мою сторону.
Возможность принять душ — вот что оказалось решающим, и я сказала, что мы почтем за честь ночевать под одной крышей с такой гордой и независимой феминисткой.
Неожиданно подвернувшееся жилье оказалось недурно обставленной квартирой с очень просторной ванной. Наши благодетели предложили располагаться и сказали, что оставляют нас с Дольче на пару часов, отправляясь с извинениями к республиканскому кобелю. Собака тут же улеглась спать под дверью, а мы, поглядев друг на друга, помчались наперегонки занимать ванную. Я оказалась первой и быстро щелкнула задвижкой, а неудачник начал было жалобно подвывать под дверью, но ему без задержки ответили из-за угла встревоженным лаем. Укушенный мужчина уже не годился на многое, включая управление рулем и столовыми приборами, поэтому пришлось отпереть дверь.
— Ну что ж, — сказал Андрей, входя в душистую пену, — с остальными задвижками я справлюсь сам.
На мой взгляд, это была нетрудная задача, но мой любимый отнюдь не спешил воспользоваться открывшимися возможностями. Настойчиво и нежно он увлекал меня в такие беспредельные пропасти, где, как ненужная шелуха, слетали все мои роли в этом мире, кроме одной. Я поняла это, когда и сама стала черной космической пропастью, с беспощадной жадностью захватывающей все боевые корабли своего вечного противника.
Но звездные войны иногда кончаются временным перемирием, и Андрей отнес меня в спальню, уничтожив шваброй следы сражения.
— Отдохни немного, я бы и сам не прочь, но светские обязанности, увы! — сказал он, быстро одеваясь к столу.
Наши случайные хозяева были приятно удивлены бутылочкой грузинского вина и соответствующим съестным антуражем, припасенными нами загодя для вечернего ночлега у реки. И вообще, увидев не разграбленную квартиру и целехонькую Дольче, они, вероятно, испытали определенное облегчение от своего легкомысленного поступка. Общая беседа, однако, началась несколько необычно, поскольку сегодня были сороковины моей бабушки, и мы сообщили об этом своим собеседникам.
Леонид Валентинович занимался какими-то сложными научными исследованиями в непонятной никому области знаний, а Антонина Федоровна преподавала сопромат в техническом вузе. Этой женщине, видимо, искренне нравилось преодолевать сопротивление материалов, и она уже отлично водила приобретенный недавно автомобиль. Муж был озабочен предстоящей защитой докторской диссертации, и получать права ему было некогда.
Мужчины стали обсуждать диссертационные проблемы, потом перешли к пакту Риббентропа — Молотова и текущим политическим событиям. Пока джентльмены гарцевали друг перед другом, соревнуясь в компетентности, изяществе формулировок и совершенстве социальных адаптаций, я внимательно слушала рассказ об особенностях собачьего воспитания, и свирепое личико медалистки начинало казаться уже приятным и дружелюбным. Несмотря на крайнюю занятость, ближайшие уши джентльменов слегка отвисали в дамскую сторону, и в этот момент они казались родными братьями.
Антонина Федоровна походила нежным овалом лица и слегка вздернутым носом на американскую киноактрису Кэтлин Тернер. Она явно была из породы трудяг, но ей нравилось выходить из новенького автомобиля в длинной шубе с породистой собакой на поводке у Большого театра, и мелкие спекулянты театральными билетиками почитали за честь принять купюры из холеных бриллиантовых рук такой шикарной дамы. Это был ее собственный малый театр, абсолютно не влияющий, впрочем, на твердость политических установок.
— От добра добра не ищут, — сказала она мне, хотя весь Союз уже стоял на ушах, ожидая перемен.
Оценить это утверждение по достоинству можно было только несколько лет спустя, когда соль, сахар и спички исчезли без объявления войны, и радужные мечты о капитализме, как о теплом загнивающем месте, где все сидят на своих местах, только хорошим работникам платят гораздо больше, чем плохим, разбились в пух и прах.
На вопрос, чем же меня так привлекает отдых в Пакавене, я ответила, что меня радует резкая смена двух жизненных систем — зимней официальной, со строго установленными правилами игры, иерхахическими барьерами и теплым унитазом, и летней, где все относительно, и нет дистанции между людьми, где слегка вникаешь в великие деревенские хлопоты, слегка занимаешься бытом, но по-настоящему волнуют только две вещи — застольная беседа и любовные переживания (последние два слова джентльмены уловили, и их уши вспухли до чудовищных размеров). Пакавене — очень красивая декорация для летнего карнавала, а в ее лесах, где нет высокой густой травы, примятой ранними грибниками, всегда кажется, что ты прошел первым.
Моя собеседница совершенно зачарованно слушала мой гимн Пакавене, а потом подробно расспрашивала про наш дом, про хозяев и прочих обитателей. Я подумала, что число дачников в нашей деревушке может скоро увеличиться.
— Вашей девочке будет неплохо в Пакавене, туда многие привозят своих собак, — сказала я, а девочка подняла ухо и завиляла обрубком хвоста. Я засмеялась, но Дольче терпеть не могла быть объектом смеха и обиженно залаяла.
Пора было расходиться, и после светских бесед Андрей заснул мертвым сном, а мне вдруг показалось, что я у себя дома, и я смотрела, как жемчужный свет скользил по начищенному паркету, наплывая на простыни, и легкий запах восковой мастики клубился в лунных лучах затейливыми броуновскими движениями, смешиваясь у шелковых штор со сладким липовым ароматом. Покой всегда имеет запах и звук, и я вслушивалась в эту пахнущую уютом субстанцию, пока не уловила в темной комнате где-то совсем рядом приглушенное тиканье часов. Звук шел со стороны книжной полки, висевшей сбоку от кровати, и там, за стеклом, рядом со словарями стояли небольшие электронные часы в форме яйца коричневато-золотистого цвета.
Я отодвинула стекло и взяла их в руки. Точно такие же часы уже лет десять стояли на книжной полке в моей комнате. Мне подарили их в день рождения, когда я оканчивала школу, и в этот день было так много гостей, что я не успела развернуть все свертки сразу, и мне так и не удалось узнать потом, кто же из гостей принес этот подарок. Я уже ставила часы на полку, но, получив из темноты бесшумный сигнал, обернулась и натолкнулась на взгляд Андрея. То ли часы не успели уцепиться за полку, то ли хвостиком кто-то махнул, но — бах! — яйцо распалось на две золотистые половинки, круглая батарейка покатилась по полу, и время остановилось.
— Иди ко мне, — сказал Андрей, — с часами завтра разберемся.
Я пришла и тут же забыла о часах, и последнее, о чем я подумала в этот вечер, было совсем коротенькое — на этом свете мне, собственно говоря, больше ничего и не нужно, и я засыпала легко и быстро, словно с меня сняли угловатый негабаритный груз, так натиравший плечи, и можно было немного отдохнуть.
Я засыпала, но скучающие жены французских послов, изнывая от зависти, уже плели по темным углам комнаты свой гнусный заговор.
Ах, закрыть бы мне окна в тот вечер, но шелковые шторы уже выгибались парусом, и женский шепоток уносился на крыльях беспутного Бангпутиса в гнездо Вейопатиса, а когда господин прибалтийских ветров угомонился в гнезде своем, свитом из душистых пакавенских трав, то шепоток ядовитой каплей упал на ухо вечного сеятеля вражды, а тот смертельно скучал под сосной, вращая красными белками всех ненавидящих глаз, и ноздри его раздувались в тщетных поисках кровавого следа, но никто не хотел умирать, и фиалки цвели этой ночью в Национальном парке, и липовый аромат дурманил городскую землю, где мы уже спали, касаясь друг друга, а яд расползался по телу недремлющего монстра, сжимая сосуды в торжественном спазме, и сеятель примял когтями черную пашню, и семена раздора на поле трудов его проросли с первыми солнечными лучами, с ненавистью прорвав оболочку.
Глава 9
Утром мы поднялись вчетвером на высокий холм с массивной башней и долго рассматривали этот большой город с его непонятной жизнью на задворках Западной Европы. Спустившись с высоты, мы договорились со своими случайными спутниками о вечернем походе в какой-нибудь местный ресторан и разъехались по своим делам.
На площади нас уже ждали Алоизас и Барон, и наш абориген решил показать гостям столицы достопримечательности, разбросанные по чистеньким улицам вокруг центральной площади, которую мы уже успели осмотреть вчера. Потом мы отъехали подальше, и побывали в этнографическом музее и огромном барочном костеле, чей силуэт, временно изуродованный строительными лесами, отчетливо проглядывался с башни. Алоизас показывал свой город с официальной торжественностью, и в его изложении исторические пласты выстраивались в четкую окаменелую последовательность. Большинство объектов было мне хорошо известно, но любовью нашего гида знакомые здания окрашивались живым и теплым светом.
Он как-то признался, что не чувствует в русских любви к родине — наверное, размеры родины слишком велики. Меня тоже занимал в юности этот вопрос, но постепенно мне стали очевидны некоторые особенности истинного русского патриотизма — он был молчаливым. Как только любовь к родине облекалась прямыми словами, слова утрачивали адекватность чувству. Любовь к России требовала негромких косвенных слов, а вот про Одессу или город Долгопрудный можно было попеть громко и всласть.
Проверить эту модель в условиях военного времени мне, как и всему моему поколению, к счастью, не пришлось, а судить по плакатам, фильмам и романам было очень трудно, поскольку даже последние приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона разят у мистера Дойла казенным патриотизмом. Кто знает — клюнет жареный петух, и мы запоем все скопом о России без всякого напоминания сверху!
И кто знает, зачем мы уезжаем в чужие края? Быть может, потому, что смертельно завидуем тому несчастному бунинскому болгарину, что шептал в российской сутолоке имя далекой родины? А может быть, мы втайне надеемся, что нас позовут обратно, шепча наше имя на тесной кухоньке среди не мытой с горя посуды, и мы полетим назад, чтобы в ближайший праздник вывесить на доме свои флаги без всякого напоминания сверху?
Удовлетворенный нашим искренним интересом Алоизас окончил экскурсию, и мы доложили о наших вечерних планах. Дружная пара собутыльников приняла их с восторгом, Алоизас тут же указал на весьма приличный, по его мнению, ресторан, и мальчики умчались умываться, переодеваться и искать себе спутниц в художественном общежитии. Мне пришлось отправиться в парикмахерскую, а Андрей выразил желание заглянуть в книжные магазины, что было совершенно стандартным занятием путешественников в условиях строжайшего книжного дефицита на Руси.
Когда я вышла на улицу, Андрея еще не было. Я заняла наблюдательный пост под старой городской липой и стала разглядывать нарядный и солнечный мир. Сегодня я любила всех, и все прохожие любили меня, но все же проходили мимо, торопясь жить своими буднями и праздниками, и когда я увидела вдалеке знакомую фигуру, то сердце сразу же замерло от счастья, потому уж он-то точно шел ко мне. И я пошла навстречу своему любимому, и мы обнялись, как после долгой разлуки.
— Тебе не нравится моя прическа? — обеспокоилась я его молчанием.
— Я не сразу узнал тебя, — сказал он, а я так и не смогла решить — хорошо ли это, или плохо.
Мы застали своих соседей по квартире уже на месте. У меня в запасе было открытое прозрачное платьице на маленьком черном чехле и, присовокупив к нему старомодное жемчужное колье и туфли на высоких каблуках, я прочла в мужских глазах, что выгляжу совсем не плохо. Впрочем, прекрасно в этот летний вечер выглядели все, но от меня в этот день исходила такая неуемная энергия, что я летела на крылышках чуть впереди машины, и залетные ресторанные вампиры при моем появлении сразу всполошились и заняли выжидательную позицию.
Спустя некоторое время, однако, пора было уже признать, что изменение моего динамического стереотипа сказалось на эмоциональном состоянии Андрея Константиновича самым пагубным образом, что инициировало, в конечном итоге, спад моей внутренней активности, повлекший определенную психическую ригидность вампиров, продвинутую во времени минут на десять, не более. Ребята не любили зря терять время, но я не была в обиде — так было привычней, ведь на меня оглядывались только тогда, когда я этого хотела.
Андрей Константинович сидел напротив меня в легкой задумчивости, сулившей некоторые неожиданности, что, однако, не мешало ему ухаживать за окружающими дамами, когда этого требовали обстоятельства, и выглядеть при этом голливудским воплощением женской мечты. Дамы с удовольствием тонули в его голубых глазах, а мне в голову пришла занятная мысль — причина разлада в его семье, наверняка, в нем самом.
Оно, конечно, розовые очки на моем носу имеют место быть, но представить себе женщину, добровольно отказавшуюся от мечты, я сейчас не могла. Безусловно, инициатива принадлежала моему герою, спланировавшему свой нынешний отпуск без излишнего балласта. И какого черта я ежедневно примеряю чужого неверного мужа к собственной жизни, ведь в зеркале все равно отражается голая правда!
— Деяния, продиктованные пассионарностью, легко отличимы от обыденных поступков, совершаемых вследствие наличия общечеловеческого инстинкта самосохранения, личного и видового, — вдруг встрепенулся мой черненький мяу, оторвавшись от увлекательного занятия — изучения чуждого ему пласта ресторанной субкультуры, поскольку мы редко бывали с ним в подобных заведениях — в основном, на чужих свадьбах и пост диссертационных банкетах.
— Уж это точно, — подумала я, — несет меня лиса за синие леса, за высокие горы, за широкие реки.
Господи, помоги мне выплыть из этого омута!
— Кстати, совсем забыл, — сказал вдруг Алоизас, — ты не обратила внимания на афиши? Сейчас здесь Тищенко со своим театром гастролирует, и мы уже пару раз выпивали. Сегодня он звонил мне, и сейчас подойдет на полчасика.
— Почему только на полчасика? — спросила я, искренне обрадовавшись предстоящей встрече.
— Ему нужно обернуться между началом спектакля и антрактом.
Тищенко появился, когда из недр заведения выплывал маленький оркестрик, и Андрей Константинович намеревался использовать это обстоятельство в своих целях.
— Привет, — сказал Тищенко Андрею, чмокнув меня в щечку, — потанцуйте, пока мы пропустим за воротник, а потом я ненадолго отвлеку внимание вашей дамы, если нет возражений.
— Вы знакомы? — спросила я Андрея уже в центре зала.
— Я был в гостях у Натальи, когда твой приятель приехал в Пакавене, но потом я ушел, и мы толком не познакомились. Кстати, он ведет себя с тобой, как человек с определенными правами. Или мне только показалось?
Да, чутье у моего партнера по танцам было профессиональным, и я решила не скрывать страшной правды.
— Нет, не показалось. Сегодня мы, очевидно, поговорим о нашем романе.
— И как долго он длился?
— Четыре года, но только летом.
— Он женат?
— Разумеется, нет. У тебя имеются другие вопросы?
— Пожалуй, нет, но возникла масса занятных соображений.
— Я готова принять к сведению всю массу, если ты расскажешь, что с тобой сегодня происходит.
— Сегодня мне как-то неуютно с тобой.
— Я это поняла. Похоже, мы опять с тобой далеко зашли, и тебе кажется, что с этим нужно что-нибудь делать. Мне помочь тебе и уйти первой?
— Я собственник, Марина, и никому тебя не отдам.
— Добавь — до конца отпуска, и наши программы-максимум совпадут, — вырвалось у меня.
— А когда я уеду, ты сразу это заметишь?
— Я не смогу пропустить этого шоу, ведь ты предваряешь свои отъезды такими занятными предложениями. Почему бы не поговорить про пост министра здравоохранения, ведь отсутствие вакансий тебя не смущает?
— Новых предложений не будет, и ты отлично это знаешь.
— Вот именно, поэтому вопрос личной собственности на повестке дня и не стоит.
Он хотел сказать еще что-то, но заключительные музыкальные аккорды прервали этот занимательный диалог, и я села рядом с Тищенко.
— Я в отпаде от твоего нового имиджа, — сказал Юрка, наполняя рюмки, — щечки пылают и глазки горят.
На меня ты так не глядела, я ему завидую.
— По слухам, на тебя в Питере кое-кто так смотрит уже довольно давно.
— Я и не знал, что ты в курсе. Ниночка, конечно, смотрит и добросовестно ходит на все постановки с моими декорациями, но она ничего не смыслит в моем творчестве — что требовать с математика!
— Возможно, не это главное?
— Для меня это, увы, существенно. Мне было интересно с тобой, у тебя бывали весьма оригинальные идеи, и мы могли бы вместе работать. Кстати, хочу повиниться — я иногда записывал наши беседы на пленку, и пару раз это использовал.
— Вот так вот, значит! Ну, что ж, относительно записей я была, признаюсь, в неведении, но пару маленьких краж зафиксировать во время командировок в Питер мне все же удалось!
— Да, дела… — протянул Тищенко, — значит, ты бывала в театре, но мне не звонила.
— Знаешь, в то памятное лето я не требовала от тебя слишком много, ты ведь был слишком оглушен смертью своего друга, но уже ближайшей осенью я каждый день ждала телефонного звонка, потому что мы расстались как-то на запятой.
— Черт возьми! — вспылил Тищенко, — когда я в сентябре, наконец, пришел в себя, я тут же бросил Ниночку, взял у Натальи твой адрес и помчался в Москву. Я ждал около твоего подъезда часа три, но ты появилась под мужским зонтиком в обнимку с каким-то типом. К слову сказать, ваши светлые плащи прекрасно смотрелись на фоне черного мокрого асфальта и желтой листвы.
— Сентябрь и светлые плащи, — пыталась я восстановить время по этой декорации, — тогда у меня ночевал мой двоюродный брат с отцовской стороны — Евгений Евгеньевич, с детским прозвищем Дэшка. Его отец когда-то уехал с семьей восстанавливать Ташкент, да так и не вернулся, прельстившись солидным постом. Дэшка тоже строитель и часто бывает в московских командировках.
— Да, дела… — снова выдал Тищенко свой любимый рефрен, который прилип намертво и ко мне, — видно, не судьба была.
— Видно, не очень хотелось, давай признаемся честно!
— Ни фига, я потом три дня рыдал в костюмерной на лаптях Леля, прежде чем к Ниночке вернуться.
— Что ж, мужская дружба превыше всего, не рыдать же тебе на Снегурочкином сарафанчике!
— Ну, насчет Леля ты загнула, он по-моему типично голубой персонаж. Приличнее было бы, конечно, прислониться к плечу князя Игоря, но кольчуга жестковата. Кстати, твой парень хорошо бы в ней смотрелся.
Так чем он тебя привлек, кроме личика? Ты же бросила меня часа через три после знакомства с ним, как я вычислил, и что особенно представляется обидным!
— Разве непонятно? Представь, к примеру, что мой дом загорелся. Ты бы вытащил меня, чтобы вместе работать, а он — чтобы вместе спать.
— Это потому, что ты ничего не смыслишь в его работе, — уверенно отчеканил Тищенко, и мы засмеялись. Тищенко снова наполнил рюмки.
— Да, мне жаль, нескладно получилось, но имеются и плюсы. Я теперь буду звонить и заезжать к тебе на правах старого друга. Не возражаешь? — сказал он мне, взяв за руку.
— Нет, мы будем прекрасно смотреться в этом качестве, и я очень рада нашей сегодняшней встрече, хотя Андрей Константинович, наверняка, уже поглядывает с укором.
— Поглядывает, — сказал этот стервец, скосив глаза в сторону, и тут же запечатлел на моей щеке еще один поцелуй, — выходишь замуж?
— Увы, в разгаре романа оказалось, что место занято.
— Желтые бабочки бьются о борт корабля, Чио-Чио-Сан сморкается в веер?
— Нет, с веером я управляться не умею. Европейский романтизм балета Сапорта «Нора» оказался более уместным, но пришлось подбавить туда кое-что из «Евгения Онегина» и обновить декорации. Кстати, я посмотрела по твоей рекомендации все три фильма Сапорта в «Доме кино» на кинофестивале постмодернистского балета. Потрясающие вещи!
— А что было потом, после беготни со слезами и преждевременной смерти?
— Балет номер два — «Невеста с деревянными глазами», это просто моя биография! В детстве я надевала вуаль, завязывала гигантский бант на ягодицах и бросалась под паровоз — бабушкины гости были в восторге от маленькой Тарасовой. Потом я задавала вопросы и искала истины — в классической литературе, религии и философских откровениях, но большой чемодан без ручки всегда со мной, и никто так и не ответил, что же мне с ним делать. У меня, видимо, и впрямь глаз деревянный, как у Кисы Воробьянинова, если я всегда не понимаю чего-то главного в жизни.
— Ты что-нибудь уже решила?
— Нет, хотя в запасе у нас балет номер три — «Поджог», фрейдистская жесткость итальянского неореализма в коктейле с шекспировскими страстями. Подожгу фабрику, и меня уволят навсегда. Но я повременю с поджогом, неореализм всегда казался мне неаппетитным и слишком малобюджетным. Быть может, удастся посмотреть и другие балеты Сапорта — а вдруг найдется более подходящий?
— Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас? Идем со мной, я тебя устрою переночевать у Светы Зайцевой, любимой подруги Ларисы Андреевны. А?
— Я уже сбегала один раз к местному фотокорреспонденту, но ничего у меня не получилось. И не получится, пока мы в Пакавене.
— Я уже опаздываю, проводи меня до дверей.
Мы вышли из дверей ресторанного зала в вестибюль, и только у выхода я заметила в его руках свою дамскую сумочку.
— Зачем? — спросила я.
— Вдруг передумаешь! Я, конечно, такой и сякой, но женатым меня не назовешь. А ты моя копия в женской ипостаси, что определенно имеет свои привлекательные стороны. Ну, что, уходим вместе? — спросил Юрка, но я покачала головой, он отдал сумочку, вынул из своего затейливого кожаного рюкзачка прогулочный магнитофончик и достал оттуда кассету.
— Тогда прими маленький подарок, тут мои записи украинских песен, ты их всегда любила больше, чем самого гусляра.
Тищенко растворился в темном уличном воздухе, а я обернулась к двери зала. Андрей стоял, прислонившись у этой самой двери к белой стене.
— Пойдем танцевать, — предложил он мне совершенно спокойным голосом.
Я спрятала кассету в сумочку, и мы прошли в зал, где уже пригасили свет. Я положила руку на плечо моего спутника и сразу же ощутила тот таинственный перелом ресторанного бытия, ради которого и слетаются ценители красивой жизни. Зал уже был заряжен электричеством, дамы легко и естественно впитывали галантные комплименты подвыпивших кавалеров, глаза танцоров полнились таинственным блеском, а приглушенные голоса за столами приобретали проникновенные чувственные нотки.
— Давай не будем ссориться, — предложила я, почувствовав его напряжение, не соответствующее празднику, — у нас так мало времени.
Андрей привлек меня к себе, и гены моей петербургской родственницы, уютно устроившиеся в двойных спиралях моего грешного тела, тут же дали себя знать. Я задрожала от этой внезапной близости, и мое состояние немедленно передалось партнеру по танцу.
— Сделай что-нибудь, пожалуйста, — умоляюще прошептала я ему, — иначе умру.
Он повел меня к выходу и доложил швейцару ровным голосом, что мы сейчас же вернемся. Швейцар оглядел нас по привычке весьма подозрительно, но через минуту мы уже были на заднем сидении, где я быстро и неэстетично утолила свою жажду.
— Ведь тебе было сейчас абсолютно все равно, кого насиловать, — подытожил мои действия любимый.
— По-моему, ты просто напрашиваешься на повтор, — ответила я, все еще надеясь обратить его выпад в шутку.
— Повтор? Недурно сказано! Марина, я уже напросился на повтор, когда впервые обнял тебя в Пакавене. Ведь у тебя все это уже было — и озера, и теплый ночной воздух, и любовь в соснах. Только последний идиот мог ревновать тебя к фотокорреспонденту, ведь он был тоже вторым. Скажи, кто-нибудь у тебя был первым?
— Не расслабляйся, милая, — подумала я о себе, угадав глубокий нравственный смысл тирады, — ушат холодной воды у джентльмена всегда наготове, особенно в те минуты, когда ты особенно счастлива.
Осаживать — так по-большому, чтобы мало не казалось!
— Ну, что ж, в определенном смысле ты прав. Первого никогда не было, на первом месте у меня всегда я сама. А вот в другом ты сильно ошибаешься — я вовсе не прошу у тебя характеристики для заграничной поездки.
— Кстати, о документах, — сказал он, — можно поинтересоваться, в чем заключается твоя программа-минимум?
— Ну, скажем, удовлетворить любопытство.
— Тогда ты ее уже выполнила.
Я посмотрела в глаза своему любимому и, увидев там пустую холодную бездну, мгновенно вспомнила один солнечный летний денек, когда отец повел меня за руку в зоопарк, и я, зажав в другой руке воздушный шарик, восторженно разглядывала лисичку-сестричку, зайчика-побегайчика, и Тотошу, и Кокошу, пока не наткнулась на волчий взгляд, в момент сожравший розовенький воскресный сироп моего младенческого бытия.
— Ты снова прав, но давай вернемся в зал, раз содержательная часть нашего разговора уже позади.
Вернувшись за столик, мы всячески соблюдали внешнюю благопристойность — относительно этого у нас обоих были одинаково твердые установки. На маленькую эстраду вышла певица в оранжевой блузке и запела что-то из репертуара Лаймы Вакуле, но я больше не танцевала. Вечер, собственно говоря, уже был на исходе, и вскоре мы разъехались под страшной угрозой попасться местным гаишникам, благо было недалеко.
Барон с художественной компанией отбыл на такси, и Андрей договорился завтра после обеда переправить приятелей в Пакавене.
Мы молча ехали по темному бульвару, и неотвратимость гибели сладким липовым дурманом сковывала мои мышцы, а потом где-то внутри сложилась скорбная мелодия, и я тут же подарила ее Дэвиду Линчу для будущего сериала «Твин Пикс», потому что миру грозила беда, и антихрист вот-вот должен был появиться в маленьком провинциальном городке, затерянном на границе добра и зла среди могучих канадских елей.
По приезду я некоторое время раздумывала, не переночевать ли на вокзале до первой утренней электрички, но потом решила не искать ночных приключений на свою голову. А главное — хлопать дверьми нужно на всплеске эмоций, а сейчас странное спокойствие вдруг воцарилось в моей душе, как в тихое утро после атомной катастрофы.
Стоя под душем, я уже строила модели своего дальнейшего неясного бытия, когда детали мучившей меня ранее головоломки внезапно сложились в некую картину. Оранжевая блузка певицы — вот что явилось ключом к разгадке! В оранжевом свитерке лежала несчастная растерзанная женщина в песчаном карьере, и, когда по приезду я шла в Пакавене, то видела в серых" Жигулях» рядом с водителем женщину в чем-то оранжевом. Звонарь на велосипеде проехал чуть позже, и он тоже должен был видеть встречную машину.
Мне вдруг страстно захотелось уехать. Отбыть бы из Пакавене с ее неясным «who is who» на фронт к Шарапову, где, конечно, жизнь не так уж и легка, зато местоположение опций «друг» и «враг» предельно ясно — сбоку и впереди! Оно конечно, совсем неплохо, обложив парша по утреннему морозцу красными флажками, допросить его ночью на чистой иностранной мове, окуривая отечественной папироской «Казбек». Неплохо! — но кураж пропал. Еще сегодня утром я под угрозой расстрела вообще не стала бы трогаться с места — здесь мой любимый принадлежал только мне, и каждый день длился бесконечно долго, как в детстве. В Москву, в Москву, в Москву…
Кстати, неплохо бы закончить статью, благословляя на которую мой заведующий отделом, член-корреспондент Академии Наук Владимир Иванович Ильин, старый хулиган, дал предельно четкие указания:
— Скромным нужно быть в жизни, а в науке скромным быть нельзя…
— … как и в любви, — добавил он неожиданную концовку своей любимой поговорке после защиты моей диссертации, приняв на грудь изрядную дозу коньяка.
Иногда, впрочем, он давал отдельным сотрудникам другие, не менее ценные указания: «Делать, так по-большому!», и я старалась, как могла, лезла из кожи вон, потому что творчество — это праздник, который всегда носишь с собой, и это единственное, в чем нельзя обмануться. К тридцати трем годам неплохо бы завести учеников, как и полагается по жизни. Что ж, года через три я, наверняка, получу звание старшего научного сотрудника, и первый аспирант вылупится на свет как раз вовремя.
Дайте мне глаз, дайте мне холст, Дайте мне стену, в которую можно вбить гвоздь — И ко мне назавтра вы придете сами…
— Давай поговорим, — сказал мне сосед по комнате, когда я вышла из душа.
— Давай, — согласилась я, но, как и в тот незапамятный вечер, сильно разочаровала собеседника, поведав ему отнюдь не свои чувства, а зловещую тайну трупа в песчаном карьере.
— Но ты их не разглядела, — уточнил Андрей, выслушав мой рассказ.
— Машина ехала медленно, но она вынырнула на меня из-за поворота дороги, я и не успела рассмотреть седоков. Я и убитую не узнала бы по фотографии. Я помню только ее рану и оранжевый свитерок.
Именно этот цвет меня и надоумил, он сейчас достаточно редкий. А серые" Жигули" в деревне сейчас не редкость, да, собственно говоря, могли быть и проезжие машины.
— Ты боишься, что шофер разглядел тебя?
— Не знаю, но, если он местный, то звонаря-то точно узнал. Может быть, поэтому звонарь уже и мертв?
— Думаешь, нужно уехать?
— Я не могу бросить стариков, в этом году здесь других родственников нет. А срывать их с места из-за неясных девичьих страхов не хочется.
— Теперь ты нашла недостающее звено, и, я надеюсь, беспокойство уляжется.
— Нет, мы с этим типом еще как-то связаны.
— Давай тогда сейчас вместе прикинем варианты, — предложил он мне.
— Нет, я даже не знаю, за что ухватиться, да и поздно уже. Я хочу спать.
— Зачем ты кудряшки размочила? — спросил Андрей, возвращая меня к сегодняшним событиям.
— Чтобы было спокойней. Тебе не хотелось заразить меня тифом?
— Да, похоже, мы испортили друг другу вечер.
— Похоже, мы испортили гораздо больше, и с этим уже ничего не поделаешь. Но ты зря занимался поисками в шкафах. Мог попасться зеркальный, и ты бы нарвался на свое отражение. Мне кажется, именно этого ты больше всего и боишься.
— Может быть, именно этого я и хочу, но никак не получается.
— Давай тогда не будем мучить друг друга. Ведь все равно, ты для меня остаешься только чужим мужем, и мне гораздо комфортней существовать одной. А сегодня я избавилась, наконец, от своего наваждения.
— Ну, что ж, готов уважать твой выбор. Я, правда, наговорил тебе лишнего, ты уж прости меня.
— Чего уж там, я и сама хороша была. Желаю тебе наладить семейные отношения, и, вообще, желаю всего самого доброго.
— Засыпай, — сказал Андрей после некоторого молчания, — я посижу немного в машине.
Дольче выпустила его без излишнего шума, а я принялась обдумывать на подушке свою статью, и тени забытых предков тесно обступили мой маленький кокон.
— Нужно преодолевать свой пол, возраст и национальность, — дал мне указания уже незримый миру Параджанов голосом коктебельского валютчика Коки Кулинара (были у нашего Коки такие потуги, пока он не женился).
— Нужно, — согласилась я, — но после этого хочется умереть, не так ли?
И умерла, погрузившись в черные воды, а после этого долго бродила в тех самых камышах, где Барон снимал на кинопленку подругу своей жизни, чтобы уберечь ее от старости, и мне было совершенно непонятно, кто же я теперь в этом зазеркальном мире, пока проходящие мимо парни не бросились врассыпную с криком:
— Тикай, хлопцы, утопленница в воду затащит.
Да, дела… И тут до меня дошли ответы на все три вопроса: «Кто я? Откуда я? И куда я иду?», и я пошла к маленькой хижине, и приникла бледными руками к оконному стеклу, и когда мои обесцвеченные кисловатым илом зрачки впитали всю темноту этого убогого жилища, она распалась на отдельные тени, и я уже различала нетопленую печь, и кособокий стол, и струганную лавку, и рушник под иконой.
— Где же ты? — спросила я эту предметную темноту, и в ту же минуту увидела знакомую тень, и она, распухая, медленно приближалась к окну, пока я не закричала от страха…
— Марина, я здесь, с тобой! — услышала я и проснулась, то ли от этого голоса, то ли от собственного крика.
— И зачем ты здесь со мной? — спросила я Андрея.
— Ты звала меня во сне, так что не прогоняй теперь, — сказал он, обняв меня, — мне очень плохо.
— Я так не хотела тебя терять, — сказала я ему, — но все-таки потеряла…
— Нет, я с тобой, — повторял он, пока я совершенно отстранено фиксировала неспешные движения его рук, сводившие меня с ума еще вчера. Потом я зафиксировала, что мой вчерашний любимый так и не раздевался, и от него изрядно разило табаком.
— Не судьба, мы так и не дотянули до последнего дня отпуска, — думала я медленно и печально, плавая по волнам внезапно навалившейся усталости, — но теперь я снова свободна, отлежусь в своем чемодане и опять выйду в игры, огнем озаряя бровей загиб. Что ж, и в доме, который выгорел…
И весь мир тут же предстал мне путаницей дорог, и бродяги с деревянными глазами долго и страстно искали в этом хаосе своих двойников, но, обнаружив, не хотели признавать, как Кандид свою возлюбленную, потому что у тех были обветренные лица и жесткие потрескавшиеся пятки. И они проходили мимо, и не было больше смысла в поисках, потому что не было цели. Только одна дорога, только другая дорога, только третья…
Нужно, однако, отдать должное моему соседу — неладное он почувствовал довольно быстро, ритуал ухаживания прервался в начальной стадии, и, кто знает, быть может, уже и он раздумывал на перепутье дорог, где же искать свою прекрасную даму, белокурую кудрявую Гретхен, еще не ведавшую греха. Налево, друг мой, налево, именно туда и ходят от жен! Именно там в режиме non-stop звучат на выпускных вечерах школьные вальсы, и какое-нибудь юное создание в белом платьице уже исследует в темной классной комнате то, что наковыряло у себя между пальцами ног — иначе с чем же идти к голубоглазому исповеднику?
— Зато никаких повторов! — подытожила я ситуацию вслух.
— А кто такой Сапорта? — спросил он вдруг с большим интересом.
— Карин Сапорта, французская балерина и постановщик балетов. Но она не чистая француженка, а полу-мадьярка и, кажется, с примесью славянской крови, — ответила я, а потом меня подняло с подушки сильным электрическим разрядом. — Черт побери! А ты откуда взял это имя?
— Я рад, что ты немного ожила. А теперь подумай!
Трудно было не последовать этому совету. В кармашке сиденья, куда я спрятала вечером во время короткой отлучки из ресторана сумочку с кассетой, лежала пачка «Мальборо». У меня еще тогда мелькнула мысль, что ее, наверняка, забыл Барон, хотя тот обычно курил «Яву» разлива одноименной фабрики (дукатовская «Ява» считалась намного хуже). С хозяином сигарет я, видимо, ошиблась, а про сумочку так и не вспомнила. Андрей достал свою пачечку и заодно решил полюбопытствовать, а кроме украинских песен мой питерский друг сумел записать и наш последний разговор. Неплохой performance!
— Цепочка следующая, — сказала я вслух, погоревав о халатности и доверчивости, — сначала ты читаешь мою записку, потом письмо, мне предназначенное, а теперь и до прочего интима добрался. Ты случайно не пажеский корпус в Санкт-Петербурге кончал?
— Мне была нужна информация, — ответствовал он, как примерный выпускник разведшколы.
— В школьном клозете завербовали? Пригрозили рассказать маме про папироски?
— Нет, курить я стал пять лет назад, у меня случилась беда. Пытался, вот, бросить перед отпуском.
— Что у тебя случилось?
— Я ни черта тебе не скажу, а то ведь пожалеешь — у тебя слишком силен материнский инстинкт. Ты и Тищенко обласкала, когда у него друг умер, и фотокорреспондента приголубила после автомобильной аварии.
Усыновить меня тебе не удастся, ты будешь спать со мной на других основаниях.
— Я вижу, к тебе возвращается утраченная было самоуверенность, но ведь я больше не твоя женщина, — ответила я уже у окна, потому что он задел за живое, и сонливость исчезла окончательно.
Мое отражение стыло в стекле среди липовых ветвей аквариумной рыбкой, и мне на ум сразу же пришли мало распространенные откровения короля советского рока в неприличном опусе «Марина»:
Марина мне сказала, что ей надоело…
— Тьфу! — смачно сплюнула я про себя в грязную цементную урну у автобусной остановки, — деться в этой жизни некуда, уже все до нас придумано. Любые поминки в фарс превращаются — умереть спокойно не дадут!
— Я видел, как твой собеседник снял твою сумочку со спинки стула, и понял, что ты уходишь с ним, — говорил мне тем временем Андрей, — мне довольно сложно описать свое самочувствие в тот момент, но, знаешь, я бы убил тебя, перешагни ты порог. Остановиться бы потом, да вот обидел… Ты ведь единственный человек в мире, способный вывести меня из душевного равновесия за пол-минуты.
О, я знавала такие отчаянные вспышки чувств! Это случилось со мной спустя несколько месяцев после свадьбы, когда, вытирая пыль на книжных полках, я обнаружила фотографии своего мужа — он был в объятиях одной общей знакомой, а пуловерчик, стиснутый женской ручкой, я подарила ему совсем незадолго до того ко дню рождения. Безумие было белого цвета, любимого цвета восточной вдовы, и оно не имело ничего общего с бабушкиным воспитанием, светскими приличиями и университетским образованием.
К тому времени я уже ждала ребенка, появления которого так отчаянно не хотел его отец. Отец отчаянно хотел поработать за границей, а в этих делах были свои правила игры, и мое упорство разрушало его планы — в рай допускали только с женой, но без грудных детей. Все упиралось отнюдь не в мое чадолюбие, и мое будущее материнство представлялось мне весьма туманным — просто я знала, что первого ребенка нужно сохранить.
— Ты случайно забыл эти фотографии на видном месте? — спросила я, дождавшись его к весьма позднему ужину.
— Это только инсценировка, Мариночка, — не без ловкости вышел из положения мой муж, — но ты увидела эти фотографии и понимаешь, чем кончится дело, если ты сделаешь по-своему.
— Но медицина мне не поможет, — сказала я в отчаянье, — сроки уже вышли.
— Первый раз я тебя вовремя предупреждал. Пойми, такой шанс в самом начале карьеры не упускают, — ответил он.
Я все же позвонила нашей общей знакомой и блефовала, как могла, пока она откровенно не призналась:
— Собственно говоря, мы уже две недели, как расплевались, и звонить нужно уже по другому адресу.
Ты неплохая баба, Марина, что ты за него так держишься? Он даже в постели умирал от любви к себе, ей-богу скука одолевала.
Тон был вполне дружелюбным и искренним, а формулировка «умирал от любви к себе» ловко сфокусировала мои неясные сомнения, одолевавшие меня иногда у окна то недолгое время, когда я приходила с занятий в пустую квартиру, а мой муж еще только выходил из того заветного места, откуда посылают за границу, потому что в пределах Садового кольца по распоряжению Моссовета службу начинали на час позже.
Я крепко задумалась, и мои жесткие сухие мысли ураганом носились по комнате, а когда они, наконец, опали обессилевшей осенней листвой, то рядом было пусто, и внутри было пусто, и нужно было учиться жить заново, потому что не всем же везет с самого начала.
Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой! Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел… Сны, конечно, это пена морская, но почему же знакомый силуэт в окне хижины расплылся и так перепугал бедную русалку? Не ответив на этот вопрос, я повернулась на сто восемьдесят градусов — так, чтобы отражаться в стекле спиной.
— Мне жаль, неладно получилось. Я не хотела уходить.
— Теперь я знаю, но ведь разговор об этом был!
— Ты всегда говоришь только то, что думаешь?
— Нет, разумеется, но… Я прошу тебя, не поджигай ничего. Всегда успеешь сделать это, если захочешь.
— Подождать до следующего раза?
— Знаешь, мне никогда не давали поводов для ревности, — засмеялся он, — я слишком хорошенький. И вообще я многого не знал про себя. Например, того, что я форменный мазохист, поэтому и не могу уйти от тебя.
— Я знаю, что тебе было не сладко, но этот образ может вдохновлять далеко не каждого.
— У меня имеются некоторые доводы в свою пользу, еще недавно они казались тебе неотразимыми.
— Возможно, они не так уж и плохи, но завтра ты снова уложишь парочку остывших трупов между нами, и я буду мерзнуть от твоего взгляда.
— Теперь все будет по-другому.
— Это точно, мы оба это уже заметили. Кто первый, кто последний в очереди за баландой и ежевечерний шмон на нарах. Скучно жить на этом свете, господа!
— У нас всегда получалось оставаться наедине, и я не казался тебе в это время чужим мужем, не так ли?
— Не исключено, — протестировала я про себя сладкие моменты нашего бытия, — парадокс нашего существования, но покойниц на нарах не водилось, потому что зримо представить его в объятиях другой женщины я не могла. Возможно, меня спасало чувство собственной неповторимости, а, вернее всего, Пакавене была моим царством, и здесь я чувствовала себя в безопасности. Разве что иногда, в соснах пакавенского леса…
— Ты прослушал кассету, и теперь по некоторым статьям я реабилитирована. А ты уверен, что я была там предельно искренна?
— Я уверен в другом — ты звала во сне именно меня.
— Тот еще аргумент, смею заметить.
— Тот… Не тот… Да, прости ты меня, ради бога, без всяких аргументов.
— Да я уже простила, мог бы сообразить. Практические выводы вот только боюсь делать, милый мой мальчик, — думала я не без грусти, — предложить ему покурить вместе, что ли?
А мальчик тем временем ободрился и шептал мне на ушко то, о чем обычно молчат, а я вслушивалась не столько в слова, сколько в его тихий голос, и ощущение неведомой ранее потусторонней власти над этим человеком уже жгло меня, и железные генералы роняли скупые слезы друг другу на погоны, пока я сдавала Харьков, Москву и Курильские острова и, не глядя, подписывала акт о полной и безоговорочной капитуляции…
Глава 10
Меня разбудила назойливая мелодия больших наручных часов. Они сиротливо серебрились на соседней подушке, исполняя свой долг с завидным упорством.
— Какая, к черту, власть! — думалось мне в сладкой дремоте под белым потолком чужой комнаты, — денек-другой, и я буду прошибать стены только потому, что он вышел в соседнюю комнату поразмышлять над тайнами океана Солярис.
Но, кто знает, может быть, каждый раз, когда мой любимый жаждет любви, Солярис выдает ему на ином глобусе зловещего деформированного карлу, угадывая самые страстные и потаенные желания. Что же, покружимся на орбите вдвоем, лелея своего общего уродца, а когда придет срок, то я исчезну в потоке нейтронов, а он переболеет лихорадкой и вернется в родные пенаты, позабыв о солнечной Пакавене, нашем маленьком солярном рае с его сладкими запретными плодами.
— Доброе утро! Пять минут на водные процедуры и десять минут на завтрак, пока я буду собирать вещи, — грубо вторгся в мое сонное меланхолическое сознание Андрей Константинович, сверкнув сталью погон, — наши хозяева уже отбывают в Москву.
— Вырядился с утра в парадный мундир… Зачем? — думала я над умывальником, — нет бы девицу ласковым словом приветить.
Резкий ранний подъем в отпуске противоестественен и крайне вреден для здоровья. К тому же, он сразу напомнил мне то странное недавнее время, когда под давлением обстоятельств вся Москва стала ездить на работу к положенному сроку, и ни минутой позже. Столичный транспорт к красному террору приспособлен не был, и в пределах моего минимального жизненного пространства умещалось несметное количество злобных сонных особей разного пола, возраста и национальности. По возможности я становилась в метро у противоположной двери лицом в угол и блокировала стресс кубиком-рубиком, предметом параллельного мещанского мира, где в свое время были созданы кричащий пузырь «уйди-уйди», песенка «Ландыши» и дамские колготки.
Сумасшедшая истома пронзала короткими молниями расслабленное тело в перегонах между станциями, и в эти мгновенья (не думай о мгновеньях свысока!) любая сделка с дьяволом казалась желанна, предложи он упасть на соломку и уснуть на часок-другой. Но спрос у дьявола в утреннем метрополитене всегда превышает предложение, и моя скромная фигура до этого лета оставалась у нечистой силы в резерве.
После завтрака мы попрощались со своими соседями, обменявшись московскими телефонами.
— Если не трудно, положите цветы на могилу Евгении Юрьевны от нашего имени, — попросила меня Антонина Федоровна.
— Однако в наших беседах имена собственные не звучали, — немедленно сделала я стойку.
— Мы, собственно, пригласили вас вот так вот сразу, потому что двадцать лет назад провели в Пакавене медовой месяц, и, как оказалось, останавливались в той же комнате.
— И вы больше никогда там не были?
— Нет, следующим летом нам было не до этого, а потом мы решили не возвращаться туда. Сейчас у нас домик в Подмосковье, а воспоминания следует беречь.
Они уехали, а я вспомнила дату двадцатилетней давности, нацарапанную у моего изголовья под семью черточками. А что останется в Пакавене от меня через двадцать лет, когда, к примеру, Барон позвонит мне паршивым ноябрьским вечером и пожалуется, что раздобрел за последний год, как Геринг, а Баронесса, посетив, наконец, свой фамильный замок, выкрасится в радикально черный цвет — тот самый, на котором погорел Киса Воробьянинов? Не вырезать ли на фанере «Здесь были…» — простенько и безвкусно, но до этого можно будет, по крайней мере, дотронуться руками.
Алоизас был занят делами до середины дня, и мы, прихватив с утра Барона в общежитии, отправились снова в центр города. И тут Андрей совершенно бесцеремонно высадил своих седоков, заявив, что у него в городе дела — ему нужно заехать к своим коллегам, а мы можем делать до обеда, что хотим.
— Подай-ка мне папочку с моими оттисками, — сказал он мне без волшебного слова «пожалуйста», и след его простыл.
Мы прогулялись по городу, нашли уютный скверик, и Барон поведал мне свои впечатления от художественного общежития. Судя по рассказу, его астральное тело тусовалось в этой творческой среде с большим удовольствием и даже тогда, когда он лично спал. Потом мы перекинулись на параллелизм культур, и признались друг другу, что Борхеса читать, конечно, трудновато, поскольку он апеллирует к плохо известным в России литературным произведениям, но его мысли и выводы, тем не менее, хорошо понятны.
Идеи, все-таки, носятся в воздухе, как цветочная пыльца, и тексты, действительно, регистрируют вовсе не первичное соприкосновение с реальностью, а скорей соприкосновение с этими летающими откровениями.
— Слушай, — сообщил он вдруг мне со странным блеском в глазах, — в Пакавене этим летом что-то носится в воздухе. Я даже затеял новую серию нетцке — всякие домовые и прочая нечисть. Ты ничего не замечала?
— Черт его знает! — сказала я, и мы посмотрели друг другу в глаза.
— Вот именно! — ответил он, и в воздухе запахло серой. — Черт — он точно знает! Ты в шалаш за огородом не заходила?
— Нет.
— Там дети из соломы и пластилина таких уродов налепили! Суслик говорит, что это летние ноябрики.
Они с ними там в покер там играют.
Да, обмануть Барона было трудно, и недаром Суслик принимал его за соседского хулигана.
Ангела-отступника у Вима Вендерса видели на городских улицах только дети и художники, но фильм «Небо над Берлином» прошел на экранах несколько лет спустя, а сейчас я рассказала Барону о том, как увидела дедушку Сидзюса и убоялась выпасть из реальности. По его мнению, я была не права.
— В страх нужно нырять с головой, тогда выплывешь к какому-нибудь берегу.
— Если не утонешь, — закруглила я его афоризм из чистой любви к искусству и крепко попалась, потому что Барон тут же уселся насиживать любимое яйцо, и из него, как всегда, вылупился мой самый смертный грех, именуемый им гражданской пассивностью.
На фоне моего друга диссидентами могли считаться даже районные кошки — те самые, что нюхали у памятников валериану, но этого сравнения Барон мне не простил бы. Я лениво покаялась, оправдываясь отсутствием революционной ситуации, природного общественного темперамента и профессиональной увлеченностью, но он был неумолим. Попытки обсудить что-нибудь более животрепещущее, типа печальной участи потомков Штольца на плохих российских дорогах, воспринимались им в штыки до тех пор, пока я не догадалась перевести разговор в более общую плоскость, и мы обсудили гражданские страхи с позиций первых советских поколений и уже дошли до фобий семидесятников, как вдруг компания несвежих мужичков, топтавшихся через дорогу от нас у закрытой стекляшки, зашевелилась и стала просачиваться в ее прозрачное чрево.
Продолжая беседу, мы взяли пару больших кружек пива и бутербродики с вареной колбасой по два восемьдесят за килограмм (два девяноста, минус десять копеек за другую поясность, а в Москве была и получше — языковая, по три двадцать, но ее нужно было отлавливать в Елисеевском).
Стекляшка была родной сестрой покойницы, обитавшей ранее под церковным холмом Пакавене, но ее нынешнее сиротство компенсировалось неисчислимым количеством близких родственниц, здравствовавших по всему бескрайнему Союзу, включая районы Крайнего Севера. Именно там и заливались по утрам маленькие мужские пожары, но Довлатов, к примеру, предпочитал пивную точку в форме киоска.
— Тебе удалось утрясти свой марш-бросок в Неляй? — спросил внезапно Барон, и по его сильной заинтересованности я поняла, что дело отнюдь не в праздном любопытстве.
— С большим трудом. Сам понимаешь, стараюсь.
— Может быть, у тебя что-нибудь и получится. А вот с вами, бабами, ни черта не получается.
Злопамятны беспредельно!
— Наверное, если заденешь за живое.
— Любите вы историю, а сколько можно жить прошлым?
— До лоботомии, — сказала я, — но если нас холить и лелеять, то мы будем припоминать все не чаще одного раза в месяц, под горячую руку. Куда уж гуманней?
Я знала, откуда взялся шрам на шее у Баронессы. Эта маленькая медицинская история случилась во время многомесячного разрыва их брака, когда Баронесса впервые обнаружила рядом с собой существование параллельного мира с нежной белокурой Маргаритой, и этот цветок бездумный, виртуальный продукт немецкой мечтательности, норовил материализоваться на чужой территории. Барон был подвергнут остракизму с лишением питания, крова и прочих гражданских прав — у мамочки был крутой характер, что сразу же отметил сам Виелонис.
Увы, все Гретхен немедленно разочаровывали молодого Фауста не тем, так другим, и он быстро оказывался в темном царстве зловещих лемуров, и возврат на круги своя был предопределен на небесах, но до конца Баронесса примириться с этим не могла, и песенку перед сном отказывалась петь супругу напрочь. Это служило своеобразным тестом для Барона — он надеялся, что когда Баронесса рассиропится и споет ее, это и будет знаком прощения окончательного и бесповоротного. Баронесса, однако, не спешила, потому что, вдобавок ко всему, Барон был подвержен приступам мужской независимости в кавказском понимании этого термина.
Я хорошо помнила ту давнюю, теперь уже анекдотическую историю о двух питерских старушках, которым очень нравилась Баронесса. Они жаждали увидеть ее супруга, которому симпатизировали заранее.
Наконец, они увидели рядом с Баронессой мужчину, тащившего на себе ее младенца.
— Ну, вот, вас, наконец, можно поздравить с приездом супруга?
— Нет, — ответила Баронесса, — это Вася, муж моей подруги Лиды.
Спустя пару дней старушки увидели маленького Ваню верхом на другом мужчине.
— Ну, вот, вас, наконец, можно поздравить?
— Нет, — ответила Баронесса, — это Миша, наш новый сосед.
Когда старушки узрели Баронессу с Ваней на руках позади третьего джентльмена, вышагивавшего без излишнего груза с наушничниками карманного плеера в ушах, они деликатно промолчали, а Баронесса предложила им поздравить ее. Впрочем, у Барона были на то извиняющие обстоятельства — ему дали на пару часов новые записи группы «Алиса», а они там играли, пели, свистели, читали стихи и харкали в воспитательных целях в урну, а не на асфальт, одновременно.
Все мы — вечные невесты Локиса, и самое страшное на свете — это увидеть, как из родного существа появляются когти и зубы чудовища. Я упивалась своей вчерашней грустью, как разбавленным жигулевским пивом, игриво вспученным недорогим стиральным порошком, а тем временем облака на небе стали рассеиваться, и горка стаканов на стойке в углу заискрилась под солнечными лучами бриллиантовой россыпью.
— Слушай, я орангутанга тебе не показывал? — спросил Барон, когда мы управились с двойным кофе без всяких рогаликов.
— Нет.
— Идем, покажу!
Мы зашли за угол, Барон достал из сумочки коричневый махровый свитер, надел его, взъерошил волосы и насупил брови. Потом, сгорбившись и разведя руки, он тяжело затопал ногами. Образ удался, и я поняла, чем они занимались с Сусликом на детской площадке. В прошлом году Суслик давал нам маленькое представление на пляже. У нее были потрясающе подвижные пальчики на ногах, и она делала этими пальчиками «цветочки», распуская их до невыносимого предела. При этом, если ножки смотрели в одну сторону, это называлось «египетским цветочком». Потом она ловко изображала «пьяную муху» и «сытую мышь», причем Ярмольник с его «цыпленком-табака» мог бы умереть от зависти. Но Ярмольника в Пакавене пока не было, а от зависти тогда умирал другой большой дядя, не иначе, как всю зиму репетировавший «органгутанга» для показа Суслику.
Мы побродили по улицам, обошли книжные магазины, хозяйственные лавки и художественные салоны, а потом отправились на площадь, где нас уже ждал Андрей. Через полчаса появился Алоизас, и мы покинули столицу. Алоизаса нужно было подкинуть за озеро, где они жили с Лилей в летнее время (Лиля тоже была мало отличима от Гретхен, поэтому Барон обожал бывать за озером).
На террасе стоял вечно накрытый стол, и нас пригласили на чашечку кофе. Лаума пожаловалась мне на пассивность местных жителей. Партия зеленых начала кампанию за переименование улиц, и Лаума лично занималась в райцентре сбором подписей. Народ, по-видимому, боялся ввязываться в политические интриги и предпочитал отнекиваться. Призрак независимости уже, конечно, брезжил над республикой, но деревенский народ в Пакавене, к примеру, оккупантов в нас не видел и боялся остаться без дачников.
— Если что, все равно приезжайте, — говорили нам хозяйки, — политика политикой, а рубль нам не помешает, да и скучно будет без вас летом.
Мелкие спекулянты и браконьеры тоже не хотели лишаться обширного рынка туристов и дачников.
Словом, обыватели и есть обыватели, но ведь мир держится именно на них. Примерно так я и представила ситуацию Лауме, а она задумчиво ответила, что все это, конечно, следует учесть. Мы сошлись в главном — люди в Национальном парке боятся крови и не хотят воевать, поэтому радикальные лозунги сейчас неуместны.
Далее мы перешли к обсуждению некоторых программных пунктов партии зеленых, а Андрей Константинович слушал внимательно, молча и с непроницаемым выражением лица. Я намеревалась испытать его терпение до конца, но тут возникли осложнения — Барон уже натусовался всласть и решил вернуться в семью. Ждать, пока я кончу беседу, он, естественно, не мог — мир должен был крутиться вокруг его персоны. Сложных решений он тоже не любил, поэтому речь шла о том, чтобы просто уволочь меня силой в машину. Андрей Константинович, услышав это, немедленно встал и отправился к рулю с тем же непроницаемым выражением лица. Оставшись лицом к лицу с Кинг-Конгом, я сдалась, потому что испытывать его терпение в сфере межличностных отношений было просто невозможно — невозможно испытать то, чего нет в природе. Уже подъезжая к дому, мы услышали очень громкую музыку и дружно с Бароном вздохнули:
— Данка приехала.
И действительно, из Ленинграда вернулась Данка, дочка нашей соседки слева, немолодой суровой вдовы Гермине. Данка была отчаянной хохотушкой, и терроризировала полдеревни своим мощным магнитофоном. В этом году она, наконец, окончила строительный институт в республиканской столице, а в прошлом году вышла замуж за русского парня Ивана Сергеевича Жигулевцева. Он проходил в этих краях после института двухгодичную офицерскую службу и приглядел Данку на танцах. Не заметить ее было трудно, потому что она все время хохотала. Не будучи красавицей, она привлекала людей своим брызжущим через край оптимизмом, существенно превосходившим по мощности ее магнитофон. Жигулевцев и сам был таким же.
Мы с интересом наблюдали за этим смешанным во всех отношениях браком, поскольку Жигулевцев был типичным горожанином в нескольких поколениях. Назвавшись женихом, он, однако, исправно служил по хозяйству, и Гермине была им довольна. Деревенские работы, похоже, доставляли ему искреннее удовольствие, и он уже, откликаясь на имя Янис, обсуждал с местными мужиками, как бы взять в аренду кусок земли. В свою очередь, деревенская принцесса, обтесавшись в республиканской столице, прекрасно чувствовала себя в Ленинграде.
Жигулевцев был крепким пареньком, и палец в его ротик совать было опасно, но у него обнаружилась одна слабость, над которой потешалась вся деревня — он беспрекословно слушался жены и смертельно боялся тещи. Мы не раз наблюдали, как Гермине выходила из дома и молча становилась у крыльца, а Жигулевцев тут же обрывал любые разговоры и шел домой. А посиделки, особенно мужские, он страстно любил, украшая их беззлобными, но агрессивными нападками на всех поголовно. Насмешек над собой он не замечал, потому что считал свою слабость перед близкими женщинами признаком настоящего мужского характера. Все женское население Пакавене тоже так считало, и Данке завидовали.
По приезду мы сразу же зашли к моим старикам. Они были очень рады нашему появлению, и, пока Андрей разговаривал с Виктором, тетка снимала с плиты вегетарианские щи и овощные котлетки. Обед был по-семейному тихим, но к концу трапезы появилась Жемина, и я отдала ей кое-какие хозяйственные мелочи, купленные по ее просьбе в столичных магазинах. Она сообщила, что лесник в смерти жены виноват только косвенным образом. Этот день он провел в райцентре с новой дамой своего сердца, а в очереди за сахаром его жене об этом и сообщили. Видели, как она отошла от прилавка и положила под язык таблетку. Кто там был с ней в лесу, и кто зарезал ее отца — выяснить не удалось.
Потом Жемина рассказала о неприятном инциденте, произошедшем сегодня на турбазе. Когда туристы смотрели очередное весеннее мгновение советского разведчика, в зал ворвались два подвыпивших инструктора и доложили присутствующим, что сейчас у них в программе футбольный матч с участием местной команды. Туристы стали возмущаться, те же вели себя издевательски, но дело кончилось не в их пользу.
Какой-то смельчак из туристов поднял телевизор с тумбочки и сказал, что брякнет его оземь, а все подтвердят, что это сделали они. «В крайнем случае, — добавил турист, — оплачу!» Агрессоры отступили, но Жемина боялась продолжения скандала.
— День сегодня какой-то рваный, — сказал Андрей уже в комнате, — поспать бы немного.
— Не кради чужие идеи, — полностью согласилась я с предложением, но он уже затих на диванчике и ничего не слышал. Когда я проснулась, диванчик оказался пуст, наручные часы исчезли на этот раз вместе с владельцем, и на дворе смеркалось. Спустя полчаса ситуация не изменилась.
— Теперь все будет по-другому, — пообещал он мне вчера, и, действительно, день оказался довольно-таки необычным.
Андрей Константинович, по своей природе, безусловно, относился к интровертам, но сегодня его замкнутость и сдержанность превзошла все мои ожидания. Похоже, весь день он усердно заворачивался глазами внутрь в капустные листья, как фальсифицированная парадигма Карла Раймунда Поппера, и я оставила его в полном покое уже с самого утра. Все равно хоть на миг (не думай о мгновеньях свысока!), да промелькнуло вчера в этих капустных листьях что-то такое розовенькое и беззащитное, чего нельзя было ни обидеть, ни отринуть. Chercher lе bambin…
Кстати, к вопросу о поисках ребенка — пора было вручить шоколадку Таракану. Таракан уже лежал в постели, и, пока мы с ним сюсюкали, из кухни доносились оживленные голоса. Лида рассказывала о распространившемся обычае западных женихов относиться к браку весьма серьезно, с представлением полного отчета о состоянии своего здоровья, кошелька и причине разрыва отношений с особами противоположного пола, попадавшимися им ранее на жизненном пути. Русские невесты, от которых требовалась та же откровенность, находили этот обычай предельно странным и всячески увиливали от ответа, глядя с надеждой на переводчика.
Баронессе такой расклад вещей представлялся вполне приемлемым, и она уже прикидывала, чтобы изменилось, получи она все эти сведения от Барона до свадьбы — оказывалось, однако, что практически ничего.
— Ну, относительно кошелька и контактов утверждать что-либо сложно, но справку из псих-диспансера для загса я бы ввел, — высказывал свое мнение голос моего квартиранта.
Голос Василия тут же, с испугу, признался во всех до свадебных грехах, а именно — отсутствии кошелька, коренного зуба и посторонних контактов, но признания выглядели весьма запоздалыми, поскольку в Пакавене об этом и так все знали. Судя по всему, желающих поучаствовать в стриптизе больше не было, и я заглянула на кухню. Баронесса кормила Андрея ужином и подливала в стаканчик местного кальвадоса. Я обомлела от его непомерного аппетита и ее непомерного энтузиазма.
— В конце концов, ты же регулярно спаиваешь Барона, — пошла в атаку Баронесса.
— С твоего разрешения, заметь, и только с твоего разрешения!
— Можешь и впредь продолжать, это экономит средства семье, но сейчас Барона нет.
— Он что, не оставил телефона?
— Можешь позвонить. Он в баньке за пляжем с Жигулевцевым, Витасом и Стасисом. Возможно, они даже там и моются.
Да, дамам там было делать нечего, мой друг был для меня в этот вечер потерян полностью, и мне ничего не оставалось делать, как присоединиться к трапезе. Пока я делилась столичными впечатлениях, по двору Вельмы промчался Жигулевцев в трусах и одном сапоге, быстро юркнув на финише к себе домой.
Вскоре после него появилась хохочущая группа собутыльников с другим сапогом в руках. Оказалось, друзья решили подшутить над Жигулевцевым.
Хозяин баньки Витас, выйдя по нужде, что-то крикнул в воздух на местном языке, а, вернувшись, сообщил, что там стоит Гермине. Жигулевцев высунулся в окошко и спьяну принял в темноте широкий деревянный столб на пляже, где были вырезаны десять заповедей отдыхающим, за силуэт своей тещи. Быстро удалось найти только один сапог, в нем он и помчался домой обходным маневром. Когда компаньоны нашли второй сапог, он оказался правым, а все точно помнили, что у бегущего именно правая нога выглядела уже совершенно обутой.
В это время диск-жокей на турбазе объявил о конце света, из чего можно было заключить, что на часах сейчас ровно одиннадцать вечера.
— Мамочка, посмотри какой я чистенький, — начал разливать елей Барон, отсмеявшись, и мы уже собирались расходиться, когда на шоссе послышался мотоциклетный рев, а от нашего крыльца раздались крики Жемины:
— Домой, скорее домой!
Мы поспешили к дому. Жемина показывала руками в сторону шоссе, где уже собралось человек пятьдесят местных парней.
— Скорее домой, и не выходите, я запру двери. Свет потушите!
Мальчики вежливо пропустили всех девочек вперед, а сами сгруппировались для наблюдения в нашей беседке — бегство было несовместимо с их мужским достоинством. Девочки прошли наверх и собрались у окна пустой комнаты, откуда на днях выехали домой Пупсик со своими родителями. Драка уже началась, и свет в деревне тут же погас. Как выяснилось позднее, какой-то парень из райцентра съездил в выходной день по делам в соседний городок Вежис (он славился своим театром, но билеты нам не удалось достать ни разу) и отбил девицу у местного жителя. Ответный визит вежисяне нанесли на мотоциклах, прихватив райцентровских после танцев на турбазе.
Дрались кастетами и длинными досками, тут же выломанными из заборов, и драка была такой же ужасной, как внезапно налетающие на Прибалтику атлантические смерчи. Обычно спокойные и неторопливые, парни уничтожали друг друга остервенело и яростно, будто бы этот бой был последним и решающим в их жизни абсолютно все.
Внезапно раздался какой-то странный звериный вой, вежисяне быстро отошли и скрылись в темноте, откуда вскоре донесся мотоциклетный рев. Местные сгрудились под большой сосной, потом подъехал автомобиль, и одного внесли туда. Автомобиль рванул с места в сторону райцентра, а оставшиеся стали шарить руками в темноте под большой сосной. Жемина, испуганно прижимая руки к сердцу, сказала, что прошлой осенью на этом месте была такая же драка местных с русскими солдатами. Какой-то раненый ножом солдатик метался по деревне в поисках укрытия и скрылся, в конце концов, в ее доме, но преследователи ворвались и вытащили его с чердака. Солдатик остался инвалидом, а Жемину долго допрашивали.
— Это сосна виновата, — вдруг сказала Жемина, — под ней всегда все дерутся, даже собаки. Жворуне тоже здесь нашли.
Жворуне была чистопородной лайкой, и ее загончик у сарая в это лето пустовал. Зимой Стасис ходил с лайкой на охоту, а летом я часто брала ее в лес с условием, что мы будем на месте до семи часов вечера, когда Жемина выпускала кур, потому что страсть Жворуне к курам носила поистине шекспировский характер, и ежегодный плач Жемины по очередной беленькой Дездемоне с предъявлением душегубке потерянных в траве перышек потрясал чувствительные сердца городских дачников. Подвыпивший в прошлый рождественский вечер Станислав забыл запереть загончик, и наутро растерзанную собаку нашли под этой самой сосной.
Стасис рассказывал мне, что рядом с телом были волчьи следы, хотя волков в Национальном парке в последние годы не водилось. Под сосной всегда пахло острой звериной мочой, и я не раз наблюдала, как собаки кружат там, жадно втягивая воздух носами и ненавидя друг друга. Странная сосна стояла в Пакавене у шоссе перед нашим домом!
Стасис, как лицо, весьма близкое к драчунам в социальном и возрастном отношении, сбегал на разведку. Оказалось, в драку ввязались и два инструктора турбазы, разгоряченные дневным скандалом с телевизором. Одному из них вежисяне отрезали ухо, раненого увезли в больницу, но ухо потерялось. Тут я слегка забеспокоилась, потому что к этому времени мне уже стало вполне ясно, что за фасадом участливости моего доктора наук прячется вполне определенная склонность к приключениям.
И действительно, он уже давал указания Жемине соскрести лед в морозильнике и приготовить два чистых пластиковых пакета. Вооружившись фонарями, они отправились со Стасисом к сосне, и вскоре к ним присоединились другие фигуры с фонарями, среди которых я различила и Барона. Ухо было найдено под упавшими сосновыми ветками, и Андрей с Бароном повезли его в больницу, обложив предварительно льдом и прихватив с собой троих драчунов. Перед отъездом он обернулся ко мне и тихо сказал:
— Из комнаты не выходить.
Похоже, Андрей любил лидировать в трудных ситуациях, и получалось это у него совершенно естественно, несмотря на всю мягкость и скромность манер. Роль официального лидера никогда мною не исполнялась, хотя меня и выдвигали на всякие общественные должности еще с университетской скамьи.
Школьные годы, в этом смысле, были самыми активными, и мое неофициальное лидерство во всяких детских пакостях лишило меня, в конце концов, золотой медали — вопрос стоял о четверке за поведение, и мнения педсовета разделились примерно поровну. Лучшая половина считала, что это издержки переходного возраста, упирая на мои победы в городских олимпиадах, а оппозиционеры с этим не соглашались и упирали на потухшие во время уроков истории лампочки Ильича, хотя я перестала подкладывать мокрые бумажки в патроны еще в седьмом классе.
В последний момент, после долгих переговоров с моими родителями, мне заменили «хорошо» по поведению на «хорошо» по алгебре, имея в виду гуманитарную направленность моих интересов. Потом я взялась за ум и начала ставить галочки — в университете деятельностью в Научном студенческом обществе и танцами народов СССР в составе агитбригады, а позднее — организацией научных семинаров, коллоквиумов и совещаний, и это получалось у меня совсем неплохо.
— Что же, не выходить из комнаты — так и не выходить. В конце концов, имеет право… — думала я, уносясь в то далекое прошлое, когда вечерами я смотрела сверху на темный двор, и мужчины, возвращаясь с работы, кидали перед подъездом короткий взгляд на свои окна, надеясь на свет и тепло, а мне этого было не дано, хоть целые сутки свети фонарем в пятьсот ватт над масляным обогревателем, что я однажды и сделала.
О чем я думала эти сутки, лучше не вспоминать!
— Ну, ты и авантюрист, — сказала я Андрею по возвращению.
— Есть немного, — рассмеялся он, — но это не война, деревенские драки всегда были и всегда будут.
— Можно было отправить ухо с нарочным из местных. Они ведь сейчас так возбуждены, что всюду ищут врагов.
— Не беспокойся за меня, хотя мне это очень приятно. Ты еще не все знаешь — ведь я работаю в очень занятной лаборатории, и от моих глаз никто не может оторваться, если захочу, — без ложной скромности откровенничал собеседник, явно оживившись от неэкранного зрелища чужой драки.
— Хочешь проверить? — предложил он с неожиданной для сегодняшнего дня широтой души.
— Но речь идет не о дамах.
— Нет проблем. Я совершенно бессовестно пользуюсь этим при встречах с гаишниками, хотя они и стараются мне не попадаться.
— Видимо, они не хотят целоваться с тобой, — заметила я.
— У них свои трудности, а что касается дам, то я сейчас с удовольствием посетил бы первое историческое место. Давай съездим на Кавену искупаться, ведь все равно спать не хочется.
Вечер приобретал романтическую окраску, но я задумалась. С этим местом шутить было нельзя — Барон как-то раз посетил Кавену зимой, и сам был не рад этому. Нам, смертным, было отведено летнее дневное время, и с этим нужно было считаться.
Я представила, как сгущаются сумерки над черной водой, и носатые нерути толкутся на берегу, сговариваясь нырнуть в озеро и погадать по его вечерним внутренностям о завтрашней погоде. Наконец, они дружно ныряют и там, на дне, ковыряются в вязком иле, озабоченно обнюхивая корни белых лилий и бесцеремонно подталкивая локтями спящих ундин. Те просыпаются, и зачарованно следят за движениями маленьких блестящих рыбок, пока не вспоминают, что сегодня первый четверг после троицы, и нужно всплывать на берег, расчесывать зеленые волосы и вслушиваться в ночную темноту.
— Дай одежду — просят они случайных путниц, и те кидают пряжу на ветви орешника, чтобы откупиться от бледнолицых покойниц.
— К нам, в хоровод, — приглашают они запоздалого путника, и тот, прельстившись их серебряным пением, не замечает, как хороводницы увлекают его в черные глубины и зацеловывают до смерти, так и не поделив между собой.
— Ах! Я ведь не хотела его смерти, — думает каждая из них, — мне бы надеть платье и зачать на берегу, и тогда Озеринас вернет мне смертную душу, и я вернусь к людям.
И, погрустив, они снова выходят на берег и водят хоровод в страстной надежде услышать мужские шаги, и их возбужденный слух не внемлет стрекотанию цикад и ночному лягушачьему хору, тревожась лишь легким цоканьем твердых копытец ланей, пересекающих лесные тропинки, и треском зловонных пузырей, вылетающих со дна озера из распухающего тела неосторожного путника. И лето проходит в томительном ожидании, и приходит осень, а осенью жадно ловят они по ветру летящую паутину, но тонкая пряжа рвется, и бабье лето так коротко, а без одежды — как обманешь прохожего?
Нет, на Кавену ночью не ходят, нужно идти на большое озеро, где людской гомон и шум моторов давно уже распугали всякую нечисть. Впрочем, теперь там по ночам купаются туристки, и неизвестно, что еще страшнее для легкомысленных путников — Баронесса ведь и на этом прирабатывает! И вообще идентификация женщины не состоялась, русалкой в прошлой жизни я не была — мокрые, несчастные и настырные бабы, и им все равно кого ловить. Стоит ли вторгаться в ночные тайны озера Кавена — а вдруг там ничего не окажется?
Нет, на Кавену ночью не ходят… Но как отказать?
— Относительно исторических мест — я не монстр советского рока, чтобы при жизни создавать себе музей и канонизировать тусовочные подвалы. Легендами пусть займутся мои последователи, куда пристойнее творить историю на пустом месте.
— Сказала бы коротко — не хочу! Так я ставлю машину на место?
— Если ты не против, встретимся у больших мостков. Прихвати мыло и полотенце, пока я буду осматривать поле битвы.
— Против… Не против…
Андрей вышел, а я взяла, на всякий случай, теплый свитер и пошла к шоссе, где уже стояло пол-деревни. Нижние ветви придорожных сосен, снесенные заборными досками, густо усеивали землю, и доски валялись тут же. Обломанные сучья белели в лунном свете над нашими головами, и в неподвижном воздухе все еще пахло крепким мужским потом, но, может быть, это томились в напряженном бездействии деревенские мужики, сожалея о своей ушедшей молодости. Все уже осмотрели место происшествия и теперь обсуждали последствия. Я подошла к большой сосне, где в стороне от всех стояла Вельма и заворожено глядела вниз, где на песке чернело большое мокрое пятно. Я встала рядом, вгляделась в пятно, и по спине потянуло холодком. В это время подошедшая сбоку пожилая дачница запричитала:
— А кровищи-то, кровищи-то в песок налилось!
Все посмотрели в нашу сторону, и мы обе вздрогнули — и я, и Вельма. Нам было о чем вспомнить, и, спустя минуту, она быстро зашагала к дому, а я вышла на шоссе, упираясь в лоб силовым полям.
— Ты куда? — крикнул мне вслед Барон.
— Искупаюсь, — ответила я уже на другой стороне Пакавене.
Нужно было пройти немного вперед, где перед автобусной остановкой от шоссе отходила к большим мосткам грунтовая дорога, и, огибая крутой лесистый склон, обросший малиной, уходила под углом в обратном направлении вдоль озера к кемпингу, но я, стремясь быстрее отойти от кровавой отметины, решила пересечь этот склон напрямую, воспользовавшись узкой тропинкой в малиннике — по ней мы ходили с тазами полоскать на озере белье.
Спускаться по крутому склону в шлепанцах было неудобно и днем, но сейчас это превратилось в весьма трудную задачу, тем более, что в Пакавене с утра шел дождь, и тропинка еще не просохла. На половине дороги я услышала слабый треск ветки и обернулась. На верхней кромке оврага, где сквозь сосны просвечивала луна, обрисовывался мужской силуэт. Сначала я решила, что меня догоняет Андрей, однако, вглядевшись в темноту, я увидела то, отчего мои волосы зашевелились у самых корней. Я узнала эту большую черную тень, потому что видела ее во вчерашнем сне, когда хотела найти своего любимого и обрести утерянную смертную душу. Еще несколько секунд, и тень стала спускаться ко мне, а я, сбросив шлепанцы, скатилась вниз и побежала к автобусной остановке.
— И девушки дворовые пропадать стали, — вдруг донесся голос княгини Шумской, и это была та самая фраза, которую я не расслышала на метле из-за происков своего игривого родственника.
Андрей уже огибал дорожную петлю, и я остановилась рядом с ним.
— Ты куда? — спросил он, — и почему босая?
— И вообще, что случилось? — добавил он тут же, вглядываясь в мое перепуганное личико.
Я глотнула воздух, лихорадочно соображая, как бы выпутаться из ситуации, но в это время на дорогу вышла веселая компания верхне пакавенцев, и родной голос произнес:
— Давайте с нами на пляж!
— Мне тоже захотелось на пляж, вот и решила перехватить тебя по дороге, — сделала я хорошую мину при плохой игре, и мы прошли по шоссе вперед за автобусную остановку, свернув на пляж у почты.
Правила, как говаривали на скотном дворе Оруэлла, всегда создаются для того, чтобы создатели нарушали их, и надевать купальники в лунном свете представлялось нелепым, но мы поглядывали на берег, чтобы оппозиционеры из Нижней Пакавене не прихватили бы нас на месте преступления. Вода нежно скользила по освобожденным телам, и мы пытались утопить маленькие оранжевые буи у запретной черты, где днем разъезжала спасательная лодка, но они упорно всплывали, как родительские запреты, и стальные тросы, приковывающие их к кляклому черному дну, вытягивались в привычную ровную линию.
Философия этих спасительных предметов не отличалась сложностью, и можно было бы посмеяться над этим, но, когда ледяной ужас сковывал озеро, и им было стыло и тесно, как в зэковском вагоне, мы отсиживались в теплых ватер-клозетах, и, страшась представить себя зимой в Пакавене, отрицали саму зиму.
Окажись в полынье, мы бы тоже упростились до одной мысли — дожить до весны и дожить любой ценой.
Барон, вот, посетил как-то раз Пакавене зимой, и сам был не рад этому.
А летом у страшной черты разъезжала казенная лодочка, и года три назад спасением на водах занимались хозяйские близнецы, и туристки готовы были утонуть, чтобы только попасть на лодочку, но единственной женщиной на борту бывала их сестра Лайма, и это был клуб с ограниченным членством — не более трех, и братья слегка подгребали веслами, с одобрением разглядывая сквозь легкий влажной ветерок яблоневый румянец на щеках своей спутницы.
— Так что случилось? — спросил Андрей уже во дворе, обливая водичкой мои запыленные ноги, — и где твоя обувь?
— В малиннике под горкой.
— Почему, к примеру, не в орешнике? Там тоже неплохо!
— Ответить честно — значит дать тебе повод для издевательств, — вздохнула я, но моего доктора наук уже потянуло заняться любимыми исследованиями, и он всячески настаивал на задушевном разговоре. К тому времени мое волнение существенно улеглось, но идти за шлепанцами одной не хотелось.
— Чепуха, вчерашние ночные страхи вдруг реализовались, но сейчас я уже не знаю, что было, а чего не было.
— А что снилось?
— Оборотень, чистая патология, — сказала я, — мы тут накануне твоего приезда прохаживались с Бароном по этой теме.
— Психопатологии — мой конек. Идем, покажешь место встречи — подберешь шлепанцы, а я поставлю диагноз.
Мы взяли фонарь, спустились к озеру по дорожной петле и стали подыматься вверх по склону, где на полпути сиротливо белели мои шлепанцы.
— Смотри сюда, — сказал он, немного погодя, — здесь большие мужские следы поверх отпечатков твоей обуви. Значит, кто-то действительно был, но почему ты думаешь, что он шел по твою душу?
— Когда под ним треснула ветка, он сразу застыл и начал вглядываться в темноту, если говорить о рациональных вещах. Но вообще происшествие иррационально, и такое иногда в Пакавене случается.
— Как, по-твоему, фигура принадлежала молодому мужчине?
— Юношеской угловатости не проглядывалось, а больше сказать трудно.
— Что тебя все-таки так напугало?
— Совпадение со сном — в обоих случаях я сначала приняла эту тень за твою, но потом разглядела, что силуэт более массивный. Каков диагноз?
— Только рекомендации — не гуляй по закоулкам одна.
— И вообще не гуляй! — добавила я, ступая на пологую скользкую ступеньку у самой бровки склона.
Андрей подал мне руку и подсветил фонарем. Я посмотрела вниз и замерла — свежие следы оборотня вели уже в обратном направлении, вверх на горку.
— В конце концов, если представить, что ты равномерно и густо обрастешь шерстью, то силуэты станут абсолютно идентичными, — заметила я не без легкой задумчивости.
— Черт! — Сказал он, разглядывая свои следы на земле, — ты меня сейчас не боишься, случайно?
— Нет, сейчас ты милый и домашний, вот только ботинки не успели прикинуться комнатными тапочками.
— Не драматизируй обстановку, — сказал Андрей, — здесь и впрямь какая-то чертовщина!
— В Пакавене это бывает — я думаю, ты, наконец, согласишься с этим.
— Я купил эти спортивные туфли в Неляе, пока твои подруги примеряли бархатные юбки. В Москве, сама понимаешь, с товарами сейчас плохо. Каунасская обувная фабрика, здесь каждый пятый в них ходит по моим наблюдениям.
— Оправдываешься?
— Нет, реальность очень ловко обслуживает твои фантазии. Я, признаться, получаю удовольствие от этого процесса.
— Ну, ты эстет! Мне милее получать удовольствие от примитивного визуального наблюдения. К примеру, Алек Болдуин, Майкл Дудикофф… — задумалась я, еще не будучи знакомой с Джорджем Клуни.
— Стасис Окопирмскас, — дополнил собеседник мой список, — когда он достает водичку из колодца, ты глаз с него не сводишь. Он случайно не угощал тебя сырой печенью?
— Однако, Андрей Константинович! Не стоит так грубо задевать мои этнографические интересы, и, кроме того, Стасис — милейший человек.
— Тон шуток сегодня задаешь ты. Но придется заняться твоим оборотнем вплотную.
— Только, чтобы я ничего не знала о твоих занятиях. И не проникайте в меня, Андрей Константинович глубже, чем предписано природой, а то еще какие-нибудь чудовища вылезут.
— Болдуин и Дудикофф? Да они в подметки не годятся Андрею Селиванофф! Разгляди меня получше завтра у колодца.
— Честно говоря, меня сейчас больше волнует другое — когда мы с Вельмой стояли под сосной на виду у толпы, я была одета точно так же, как и в тот злополучный день, когда мне на дороге попались серые «Жигули». Он местный, этот шофер, и он мог, наконец, узнать меня.
— Соображение интересное, — сказал он, — но, честно говоря, тебя сегодня весь день волнует что-то другое. И ты не поехала со мной на Кавену.
— Пожалуйста, не придавай моему отказу значимый оттенок. Я вполне лояльна и готова украшать твое существование в Пакавене белыми лилиями и мелко нарезанной петрушкой.
— Неплохо для морга, там клиент неприхотливый.
— Здесь тоже достаточно прохладно и сыро, о сегодняшней клиентуре умолчим. Не перенести ли нам дискуссию в более приличное место?
— Здесь не так уж и плохо. По крайней мере, мы, наконец, одни.
— По-моему, именно этой ситуации ты и избегал весь день.
— Да я весь день спал на ходу!
— Ты ведь не заснешь, пока яму ближнему не выроешь!
— Дорого не что говорят, а как!
— Разоткровенничался, наобещал райских наслаждений, а утром испугался насмерть. Снова сомнения терзают?
— Да, — согласился он без колебаний, — чтобы не заснуть, я гадал, героем какого романа ты меня числишь на оставшиеся дни. Сама понимаешь — нужно соответствовать. Итак, Синяя Борода, господин Паратов, и кто у нас там еще губитель юных невинных созданий?
— Мистер Гумберт.
— Тут ты себе льстишь, из тебя можно выкроить парочку нимфеток, особенно…
— Быть героем моего романа, по-видимому, тебя уже не устраивает?
— А что, есть основания?
— И какие же основания тебе нужны?
— Для человека, угодившего в ловко расставленные сети, выбор небольшой, — сказал он, и я поняла, чего он ждет от меня.
— Не пугайся так сильно. Я люблю тебя, и собираюсь любить вечно, если тебе это пригодится, конечно.
— Пригодится, — ответил он, — это полностью оправдывает мое интересное положение. Можно я подойду поближе?
Шоссе давно пустовало, но пространство вокруг большой сосны по другую сторону шоссе было густо населено. У корней сновали мыши, в ужасе приседая перед змеиными головками, так похожими на бутоны крупных ромашек, и силуэты быстрых ланей стремительно перечеркивались в лунном свете черным сосновым стволом, и большие птицы сновали над гнездом спящего Вейопатиса, и когда фары случайного ночного грузовичка, где любила прятаться огненная Габия, зажгли их глаза, то пространство вокруг сосны заискрилось миллионами маленьких золотых фар, и все они были направлены в нашу сторону.
Хранительница лесных тайн, нежная деликатная Лаздона, укрыла нас ветками орешника, и мы ничего тогда не заметили, потому что умели оставаться одни, и немного позже, когда огромная волчья тень метнулась к сосне, в мгновенье разметав во все стороны света ее обильную ночную живность, и красные глаза уставились на нас с того места, где песок под сосной был напитан кровью, мы тоже ничего не заметили.
Но, когда мы пересекали ночное шоссе и шли по траве к дому, то у сосны уже никого не было, и только клок шерсти, пахнущий дикой горькой псиной, висел на шершавой древесной коре, а мы прошли мимо, не заметив его, потому что в эту ночь Пакавене была для нас только декорацией, и перспективы у третьего акта были упоительны — Бесприданница динамит Паратова, Синяя Борода становится феминистом, а мистер Гумберт откармливает Лолиту сладкими булочками в надежде, что она подрастет и потолстеет. Словечко «упоительны» в моем исполнении было из разряда бессовестных заимствований и характеризовало весенние вечера в среднерусском городе N, где жил Киса Воробьянинов до того, как преисполнился несбыточными надеждами.
Глава 11
Вставать в Прибалтике ранее десяти утра для отпускника особого смысла не имеет. До десяти утра погода еще всячески раздумывает, каковой именно ей быть, а перевод летнего времени на час вперед вызвал большие протесты местного населения, и наиболее решительные, одевая по утрам сонных младенцев, бурчали о геноциде. В это утро дождей не намечалось, и во дворе нас снова встретило ясное солнышко. Слухи ползли по деревне со страшной скоростью, и говорили, что ухо уже пришито.
После завтрака Андрей предложил мне посидеть дома, пока они с Бароном не вернутся — у них объявились срочные дела в Париже. У Барона был таинственный вид, что меня несколько обеспокоило.
Расспрашивать их и, тем более, напрашиваться в общество представлялось, однако, опасным для девической гордости — отказ был обеспечен, и я точно знала на основании многолетнего опыта, от кого я получу удар сразу же, не отходя от кассы. Впрочем, неожиданности меня могли подстерегать именно в последнем пункте, и, будь это на ипподроме, сегодня я бы еще подумала, на кого ставить. Когда звуки мотора затихли, я окунулась в дворовую жизнь, а на крыльцо выскочила Жемина.
— Ой, опоздала, в райцентре сегодня мясо по талонам дают, — охала она, глядя, как машина скрывается из виду. Поохав, она повязала на голову яркий платочек и ушла на турбазу подметать некрасивый туристический мусор. Юмис, одуревший после коровьей атаки от вынужденного безделья и трезвого образа жизни, устроенного ему супругой, курил в соседнем дворе, где Жигулевцев с Юргисом Крукаскасом, сыном покойного мужа Гермине от его первой жены, махали вилами. У Юргиса был свой собственный дом в соседнем совхозе, где он заведовал свинофермой, но здесь ему принадлежала половина пятистенного дома покойного отца, и он был основной мужской силой в хозяйстве своей мачехи до появления Жигулевцева.
Перед сараем Гермине лежала гигантская копна высохшего сена, и всю ее нужно было поместить на сеновал.
Задача представлялась абсолютно нереальной, и зрелище чужого труда приятно радовало взоры окружающих бездельников.
Ах, какие былинные богатыри жили в Национальном парке! Как ловко сновали инструменты в их могучих руках, как легко взлетали бревна на строящиеся стены, как быстро рылись глубокие колодцы. Стоило им засучить рукава, как все становилось предельно ясно — и свет отделится от тьмы, и твердь от воды, и светила над соснами будут светить исправно и ярко, и резные деревянные кони помчатся над крышами, и к седьмому дню где-нибудь под этими крышами и человечек под горячим богатырским дыханием из подручного материала сотворится, чтобы не переводилась богатырская порода в Национальном парке во веки вечные.
Пока я любовалась Крукаскасом, Юмис призывал присутствующих дам помочь утаптывать сено, утверждая, что это добрая местная традиция. В свой первый приезд я решила, что столкнулась с этнографическим эпизодом и, приняв деревенскую шутку за чистую монету, всерьез вознамерилась утаптывать сено, пока хихикающая Жемина не растолковала городской дурочке истинный смысл предложения.
Она обзавелась недремлющим оком еще в те годы, когда в местных озерах водились в несметном количестве мелкие угри и разная другая рыба. Пакавене была в те мифические времена рыболовным совхозом, и Юмис рыбачил на больших лодках. Бригады брали для каких-то нудных работ лиц женского пола, и на лодке Юмиса лицо было необычайно привлекательным, а он все-таки был сыном своих любвеобильных родителей. Жемина прознала про его рыболовецкие подвиги последней, и тут же заменила разлучницу своей дальней родственницей, пригрозив главе совхоза дойти с жалобой до рыбной министерии.
Таинственные министерии были для Жемины последней инстанцией, и однажды она целый месяц терпела в постояльцах одного брезгливого старичка, приехавшего в деревню из местной столицы полечить нервы и донимавшего ее бесконечными требованиями глаженых столовых салфеток, частой смены постельного белья и приготовления разнообразной пищи. Мы-то привозили собственное постельное белье и жили сами по себе, поэтому ее безропотное поведение представлялось полной загадкой. Ларчик открывался просто — тогда готовились какие-то постановления по домашней скотине, и это было у Жемины открытой раной в сердце. Старичок сразу же усек ситуацию и доверительно сообщил ей, что у него большие связи в министерии сельского хозяйства, и он лично для нее попросит там отменить все намечающиеся нововведения.
Квартирантов же он донимал тем, что разводил в чужих чайниках марганцовку и таскал их в нужник, используя затем эти святые предметы в качестве умывальников и подавая мужскому населению пример необычайной чистоплотности. Жемина, в ответ на наши претензии, очень нервничала и кричала, что мы его обижаем, потому что он не русский. Националисты стали уносить чайники из кухни в свои комнаты. Но самое интересное заключалось в том, что постановления так и не вышли, и Жемина потом хвасталась, что все делала правильно, и министерия к ее просьбам прислушалась.
С маленького зеленого пятачка за домом Вацека Марцинкевича доносились детский визг и куриное кудахтанье. Суслик под руководством местной мелюзги хоронил там в спичечном коробке муху-цокотуху, извлеченную из паутины. Все делалось строго по предписанию местных обычаев, и главным наставником был сын местной барменши. На этой же детской площадке Янис отстреливал из лука кур почетной пенсионерки Эугении, своей соседки по дому. Дом был построен когда-то свекром Эугении, отцом почтальона Тадаса. После исчезновения Тадаса она уступила ближнюю к лесу половину дома деду Лаймы по отцовской линии, но его внучку, нынешнюю хозяйку этой половины, она очень не любила, считая ту особой легкомысленной и развратной.
Пока я грелась на солнышке, Юмис, так и не сумевший организовать женский субботник, начал что-то втолковывать на местном языке сидевшей рядом со мной Данке, при этом Данка краснела и хихикала, Жигулевцев нервничал, а Юргис бросал на моего хозяина короткие пронзительные взгляды.
— О чем это он? — не удержалась я и полюбопытствовала.
— Учит детей делать так, чтобы сразу двойня получалась, — сказала Данка, покраснев еще гуще, — хорошо, что ты не понимаешь!
Услышав это, Юмис пообещал сделать русскоязычный перевод, но мне повезло (или не повезло?), так как к нам подошла Лайма, племянница Юмиса, и тот, смутившись на минутку, выдал фальшивую версию, быстро сообразив, что отсутствие жены имеет и другую привлекательную сторону.
— Ты ее не слушай, у нее теперь одно на уме. Мы с ней про спирт разговариваем, — доверительно сообщил он мне, — видишь, рана никак не заживает. Отец говорит, спиртом нужно промывать, а где его сейчас достанешь?
Я тут же отсела подальше, а тем временем во дворе появился Славка Фрадкин, и мы с ним решили прогуляться по лесу. Славка был идеальным попутчиком, поскольку никуда не убегал и собственного мнения о маршрутах не имел. Он приезжал отдохнуть с выключенным по максимуму мыслительным аппаратом и запоминать расположение ягодных и грибных мест считал непозволительной тратой мозговых ресурсов — ходить с проводником было куда удобнее.
Барон в лесу терпел только собственное общество, а все мои попытки собирать грибы с Баронессой заканчивались плачевно для моей корзинки, поскольку одновременно вести интенсивные беседы и шарить глазами по траве я, как человек нормальный, не умела. Поскольку мое дурное воспитание предполагало предпочтение духовному в ущерб грубой материи, то все грибы доставались Баронессе, и она упивалась потом собственной конкурентоспособностью на глазах очевидной неудачницы. Меня это, впрочем, совсем не задевало, так как в одиночку я справлялась с этим занятием отнюдь не хуже, а одновременно разговаривать с Баронессой и кушать грибочки у меня получалось отменно.
Вот и сейчас, когда мы вернулись из леса, я ушла тушить грибки к Баронессе, после чего планировалось отправиться на турбазу для критического просмотра большого концерта самодеятельности. Мы с ней слегка ностальгировали по до-телевизионной эпохе, которая отличалась стремительным взлетом этого народного искусства, умиравшего потом на школьных сценах и в студийных капустниках. Моя коллега Яна Копаевич, вступившая в ряды участников самодеятельности начальных классов осенью пятьдесят второго года, рассказывала так об этих славных временах:
— Ножку в сатиновых трусах отклячим и кричим: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»
На самом деле, субкультура пирамидок занимала в обществе, свободном от секса, достаточно важное место, и когда в эпоху последней московской олимпиады на советской эстраде появились групповые танцы с элементами буржуазной аэробики, то стало совершенно ясно, откуда растут ноги — это были те же разрешенные цензурой пирамидки, но с некоторыми уступками в сторону более откровенной непристойности, исходя из духа времени.
Вид нарядных туристок надоумил нас развлечься особым способом, и мы принялись классифицировать их наряды. До сих пор можно было найти маленькие беззащитные платьица шестидесятых, и расклешенные брючные костюмы семидесятых годов, и более поздний стиль сафари, но предпоследним писком конца восьмидесятых был постельный стиль, предполагавший наличие белых одежд из хлопчатобумажных тканей мятого вида.
В этом году мы сосредоточились на приятной во всех отношениях половине человечества, потому что успели за четыре предыдущих сезона расклассифицировать все, что имело отношение к противоположной, не менее приятной половине. В прошлом году, к примеру, поглядев на турбазе допотопный черно-белый вестерн «В три десять на Юту», мы долго обсуждали двух главных героев и, наконец, выразили свои впечатления в научных терминах «первичной и вторичной привлекательности». На бытовом языке это означало, что сначала всегда клюешь на представителей первого типа (в фильме они были представлены главным бандитом), и тут везет фифти-фифти, а на вторых, типа небогатого фермера, клюешь, когда познакомишься и понаблюдаешь, но зато потом уже оторваться не можешь.
Принадлежность к типу «третичной привлекательности» означала полное отсутствие привлекательности вообще, а для Барона тут же пришлось организовать особую классификационную ячейку привлекательности четвертой степени, соединяющей настолько сложным образом три первых, что и обсуждать было без толку. Выстроив схему, мы уточнили детали и дружно предпочли вторую категорию.
Подобные разминки Баронесса называла «Коко—ляля», и, когда, спустя несколько лет, страна увлеклась «Санта-Барбарой», то в первых тактах вступительной мелодии к фильму как раз и угадывалось это «Коко—ляля». Обсуждение классификационных проблем велось нами сосредоточено и вполголоса, но смеялись мы иногда достаточно громко, чем и привлекли в свое время внимание туриста Олега Павловича, встретившегося недавно нам в лодке. У него оказался превосходный слух, и, будучи типичным представителем первой категории (из ненадежной разновидности «б»), он опрометчиво отнес себя ко второй и тут же обосновался дачником у Вельмы, предоставив себя, как и полагалось, для знакомства и наблюдения.
Некоторый удар он получил уже на второй день, когда услышал, как мы с тем же жаром обсуждали отличия широколистного рогоза от настоящих камышей, и пытались определить точную ботаническую принадлежность объектов в известной песне «Шумел камыш, деревья гнулись…», исходя из текста.
Флористические наблюдения за вертикальной сменой растительности на озере Кавена вообще были нашей с Баронессой слабостью, а попытки туристов сорвать на воде охраняемые законом белые лилии пресекались нами строго и беспощадно с угрозой сбегать за озеро к леснику.
Олег Павлович с мягкой настойчивостью обольщал нас с Баронессой в дневное время, и вечерами мы танцевали с ним по очереди на площадке турбазы, но с восходом луны практичный кавалер удалялся к более скучной, но зато куда более сговорчивой особе, прозябавшей днем в полном одиночестве.
Наш платонический роман длился недели две, пока подъехавший из Ленинграда Барон не уничтожил джентльмена, доложив собранию, что более всего на свете не любит вот таких вот тихих ухарей (в оригинале было более крепкое словцо), подкатывающихся к чужим женам в отсутствие мужа.
Оставшись без галантного кавалера, мы взяли некоторый реванш тем же вечером в беседке, когда Иван Жигулевцев, буйный жених нашей соседки Данки, дочери пожилой Гермине, зазывал Барона порезвиться с туристками на танцах, стуча по столу кулаком. Поскольку обстановка в беседке в этот вечер оставляла желать лучшего, Барон уж совсем было навострил лыжи, но тут я от имени чужих жен прояснила обществу новую ситуацию: «Мы своего не пустим!»
Не успели мы вспомнить про Олега Павловича, как он тут же нарисовался со своей новой дамой и сделал безуспешную попытку возобновить знакомство. Но обмен любезностями был весьма краток, потому что к этому времени художественный свист, хоровое исполнение песен из репертуара Макаревича и ехидные куплеты про инструктора были уже позади, и туристки на сцене вертели бедрами, исполняя заключительный танец «утят». Мы было направились к дому, но тут в партере появилась Жемина. Полученная от нее информация была предельно странной — меня хотел видеть директор турбазы.
Я зашла к нему кабинет, и этот широкоплечий господин в клубном пиджаке встретил меня ароматом модного мужского одеколона «Консул». Дело оказалось предельно секретным. В начале октября он намеревался прибыть в Москву, и по приезду нужно было перевести весьма крупную сумму из деревянных в зеленые. В Москве курс обмена был более привлекательным. Я поняла, откуда дует ветер.
Как-то раз, на кухне я рассказывала Барону в присутствии Жемины о своем однокурснике Коке Кулинаре, который обнаружил свое истинное призвание чуть позже, чем решил стать этнографом. Этот осторожный мальчик до сих пор одевался с вызывающей скромностью, не покупал автомобиля, и встречался два раза в неделю со своими коллегами в затрапезной забегаловке у Патриарших прудов обсудить валютный курс и общую стратегию поисков удачи. Кока обладал уникальной памятью, выражался преимущественно афоризмами и обожал готовить, за что и получил свое прозвище. Если мне была нужна точная историческая справка, я звонила Коке. Впрочем, его звали В. Е. Кокоулиным, но это было большим секретом.
Жару Кока пережидал в Коктебеле, куда и я ездила в юные годы, но к концу бархатного сезона уже возвращался в Москву, и я пообещала своему нынешнему собеседнику, господину с холодными и цепкими глазами, помочь в его деле, наотрез отказавшись от комиссионных. Визит, в целом, оставил у меня впечатление неприятное, и я не преминула взглянуть на его ботиночки. Результат оказался отрицательным, отечественная обувь была не в его вкусе.
Когда я появилась на веранде у своих родственников, то там уже сидела почетная пенсионерка Эугения. Это была полная солидная женщина с жесткими внимательными глазами, преисполненная внутреннего достоинства. Она учительствовала в местной начальной школе много лет и значилась в Пакавене активным партийным функционером. Давняя история с ее исчезнувшим мужем почтальоном Тадасом в деревне уже была забыта всеми, кроме Вельмы. Она ненавидела Эугению по сей день, поскольку по сей день считала Тадаса убийцей своей дочери.
Эугения была близкой приятельницей моей бабушки, их связывала общая профессия и любовь к вязальным спицам, и после ее смерти Эугения продолжала захаживать к моей тетке. Сейчас она рассказывала ей, что в прошлом веке в Пакавене была школа для детей богатых родителей, но старое здание после войны снесли.
— Сообщи, когда будет свадьба, я пришлю подарок, — сказала она мне, наступив на больную мозоль.
Тетке стало явно не по себе, и я тут же замяла вопрос, благо раздался долгожданный шум тормозов. Когда я, попрощавшись с Эугенией, поднялась в свою комнату, Барон перевязывал Андрею левую руку бинтом сантиметров на десять выше ладони. Рядом на газетке лежали два окровавленных носовых платка.
— Не помешаю? — спросила я, — бандитская пуля?
— На колчаковских фронтах, — сказал раненый виновато.
— А когда это вы успели так тесно подружиться?
— Когда ухо отвозили, он мне показался надежным парнем. Смотри, как профессионально забинтовывает.
Барон при этих словах приосанился, но меня эта дружба сегодня совершенно не устраивала, поскольку Барон уже косился оком на мою тумбочку. Эта дружба меня не устраивала и в будущем — нечего делать из Барона общее достояние!
— А тебе, мой друг, пора домой, — напомнила я Барону, когда тот закончил перевязку, — и вообще отойди подальше от гроба.
Барон, оторвав взгляд от тумбочки, изобразил одновременно абсолютное отсутствие злонамеренности, глубокое возмущение моей подозрительностью и полное разочарование отказом.
— Для баб необходима японская модель воспитания — усиление внешнего контроля по мере взросления.
В этом случае внезапная потеря хороших манер практически исключена, — изрек он глубокомысленно, выразив озабоченность моей трансформацией в рамках европейской модели воспитания, где все происходит как раз наоборот.
Андрей Константинович заверил всех, что займется этим вопросом лично и без промедления.
— Внезапная потеря… Полагаешь, дурное влияние? — спросила я Барона очень серьезно, перебрасывая камушек в чужой огород. Андрей Константинович слегка задумался над этой версией, а я задала Барону второй вопрос.
— Не знаешь, случайно, кто спер на днях мой «Огонек» с фотографиями воспитанниц Смольного института?
— У меня там бабушка училась, могла бы и по-хорошему отдать, — донеслось уже с лестницы.
— Ты не спутала персонажей? — от души веселился блудный сын, — я и сам рассчитывал на семейную сцену в связи с долгим отсутствием.
— Как показал опыт, тебе их устраивать без толку, все равно конец предопределен.
— Мысль начинать ссоры с конца совсем не дурна, но не простирнешь ли сначала мою одежду?
— Мне крайне лестно, можешь пользоваться моей зубной щеткой.
— Носки я постираю сам, — заколебался командир.
— Не оскорбляй моих материнских чувств. Тебя раздеть?
— Как я понимаю, ты собираешься извлечь максимум из моей временной беспомощности, — ответил Андрей Константинович, и глаза его заголубели еще больше.
— Для мазохиста это просто находка, — заметила я и спустилась вниз, чтобы приготовить ужин и замочить в холодной воде запачканную кровью одежду.
— Так, где же вы пропадали, и почему Барон трезв, как стеклышко? — спросила я во время ужина.
— Вчера ты заявила, что ничего не хочешь знать о моих занятиях, вот и помучайся догадками.
Мучиться сейчас было некогда, и после ужина я согрела воду помыть ножки Андрею Константиновичу, стараясь не слишком обмануть его ожиданий. Он плавился от моих нежных забот, и счастливая улыбка не сходила с его лица весь вечер, но максимума из ситуации я так и не смогла извлечь. Он говорил о чем угодно, кроме того, что следовало бы сказать ему, как честному парню, в ответ на мое вчерашнее признание. Вопрос был в том, что же его останавливало, и вот тут-то и мог таиться подвох.
— Ты что-то вдруг загрустила, — обеспокоился Андрей моим внезапным молчанием уже перед самым сном.
— Сосны шумят за окном — наверное, погода портится.
— Отлично, тогда завтра мы вообще не будем вставать, — ответил он, улыбаясь, — а хочешь, съездим за озеро попить кофе?
— Кофейная гуща — это не то, — думала я, — пожалуй, ромашка больше соответствует ситуации. Гретхен гадала именно на ромашке. Небольшая средневековая дыба, впрочем, тоже подойдет.
Похоже, он поставил меня, наконец, на место, и к нему снова вернулась уверенность в себе. Мое маленькое экологическое пространство отныне входило в состав его территории на неизвестных мне основаниях, все решения принимались только в Кремле, а моральных сил для революционных преобразований снизу у меня уже не было. Небольшой пункт в Конституции вряд ли бы изменил существо дела, но, ей-богу, было бы приятней.
И тут я поняла, что не могу отвернуться к стене — Андрей Константинович безмятежно спал на терминальной части моих длинных волос. Моим первым и внезапным желанием было дотянуться до тумбочки и обрезать волосы маникюрными ножницами по неровной линии, но потом я все же вытащила их с чужой подушки — медленно, чтобы не разбудить его, но не придерживая — чтобы корни волос зашевелились от боли. Всегда нужно смотреть правде в глаза, и я теперь видела только стену. Может быть, это только формальность, но как без этого существовать дальше? Ах, лучше ему было бы не задевать мое самолюбие!
— Господи, — спрашивала я, блуждая в черной бездне среди светящихся миров, — почему этим летом я так тороплюсь жить, словно мне отмерено совсем немного?
Утро оказалось по-осеннему хмурым и дискомфортным, что вполне соответствовало моему внутреннему состоянию. Андрей еще спал, когда я вышла во двор, и Пакавене встретила меня первыми каплями дождя. Старушка-блокадница, уже оккупировавшая четыре конфорки из четырех возможных, сказала, что сегодня нужно бы помыть кухонную плиту. Намек был совершенно прозрачен, и обычно я делала это без всяких напоминаний.
— Нужно, — тут же согласилась я самым суровым и решительным тоном, — пока меня не было, ее сильно заляпали. Кто тут варенье варил?
Старушка ретировалась, но на мой голос тут же прискакал Барон с волнующим душу сообщением о том, как славно вчера вечером они посидели со Стасисом и Жигулевцевым. Темой собрания была добыча мясной закуски — они обговаривали, как бы прямо завтра подстрелить лесного кабана — вкусно, дешево, но довольно опасно, поскольку лесники в Национальном парке летом тоже не дремали.
— Пожалей несчастного немца, — дошел он до сути рассказа, — вынеси пятнадцать капель.
— Единственно, кого я жалею в этом мире, — ответствовала я твердо, — так это графа Де Бюсси. Но он был французом.
Положив в корзиночку крутые яйца, творог с красной смородиной и пол-литровую банку молока (молоко я брала теперь у славной женщины Терезы, жившей в конце деревни), я вышла из кухни, и, заметив краем глаза замызганную зелененькую палаточку у леса, впервые совершенно искренне пожалела, что Виелонис не фигурирует сейчас во дворе. Уж за ним признания в любви не задержались бы, и — ах! — как славно мы обсудили бы это.
Жемина караулила меня на крыльце, по-прежнему считая, что Андрюс был послан богом именно ей.
По деревне прошел слух, что в Неляе дают водку, а в таких случаях нужна была поспешность — водку летом брали ящиками.
— Сегодня совершенно исключено, — доверительно сообщила я Жемине, — у него чирей, и он сидеть толком не может.
— А лежать может? — поинтересовалась она не без ехидства, прикидывая в уме, кого ей бог еще может послать в это дождливое утро.
— Если налить.
— Моего тоже без этого уже не уложишь, — заметила она со вздохом, и, прикрыв голову целлофанчиком, помчалась к Бодрайтисам.
Когда я поднялась наверх, то Андрей закрывал окно, потому что неподалеку за холмом уже сверкали молнии, подтверждая свое короткое яркое бытие запоздалым шумовым эффектом, как в коротенькой пьеске принца Гамлета, когда сначала со зловещим сверканием глаз льют яд в ухо сонному королю, а потом повторяют это действие уже со зловещими словами, и вот тут-то зрители и вздрагивают.
— Оденься потеплее, — сказала я Андрею, — на улице сейчас такая мерзость. И кровать мог бы застелить, пока я завтрак готовила.
— Я невольно подслушал тут твои диалоги, — сообщил он мне, посмеиваясь, — ты не сердишься на меня за что-нибудь?
— Да нет, пожалуй. У меня просто неважное настроение.
— Что-нибудь случилось?
— Луна — сволочь. Облака, опять же, кретины, — дала я простенькое объяснение, хорошо понятное мужскому уму — не уточнять же правила с очередностью ходов, когда всем все известно, но одному хочется играть в другую игру, а другому крайне необходим тайм-аут для анализа проигрыша во втором акте и наблюдения над противником.
Реакция отслеживалась мной уже автоматически, без чего и игра — не игра. Андрей Константинович принял информацию, и вот тут я вдруг поняла, что должок за ним так и останется. Я поняла, что его останавливает, и его глаза отшатнулись от моих. Водился за мной такой грех, ничего не поделаешь! Но в следующую минуту меня было уже ничем не пронять — я осознала расклад вещей, и приняла его, как данность.
— Хорошая новость? — спросила я его.
— Честно говоря, не хотелось попадать в сложную ситуацию.
— Андрей, ты в полной безопасности — никаких сложностей, ловушек и обменов визитками. Но следующим летом я опять в Пакавене, и, если ты не против…
— Ну, если ты гарантируешь мою безопасность, то я не против. С такими, как ты, бывалыми, иметь дело — одно удовольствие!
— Вот именно, — ответила я с широкой улыбкой, — особенно, если не подчеркивать этого лишний раз.
В это время стены дома снова затряслись под ударами грома, а потом в комнате воцарилась зловещая тишина, будто вся Пакавене одновременно проиграла в карты и застрелилась.
— Не хотела тебя обидеть, — сказала я, подведя итоги, потому что никогда не видела его таким озябшим.
— Я боялся последствий твоих приключений в Неляе.
— Говорим одно, делаем третье, думаем второе. Мне бывает сложно тебя понять.
— У тебя, и впрямь, глаза бывают деревянными. И это теперь единственное, что может усложнить мою жизнь.
— Эх, хорошо смотреть фильм «Чапаев» — ежу понятно, кто там наш, а кто не наш.
— Да, уж, — согласился он, пододвинувшись поближе, — когда все наши, и все неважные — охренеть можно!
В этот момент Андрей Константинович был неотразим, как омут в глазах утопленницы. Блажены добродетельные лошади страны гуигнгнмов — нищие духом, не ведают они упоительного единства грязненьких еху, сплетенных в теплые пульсирующие шары. Без лжи, сомнений и соленой пищи — как понять им сладость слияния плоти и духа, когда все мое — это твое, а твоего уже не существует, потому что оно мое, и так по кругу в замкнутом цикле, и вопрос только в мере вероятности пребывания системы в данном состоянии, но кто же задает себе вопросы, вертясь в центрифуге?
Короче говоря, надвигалась попытка очередного душевного сближения, и я снова была на грани провала, как товарищ Бользен-Исаев-Штирлиц в одном из семнадцати мгновений весны, но свист в зале уже усиливался, зрители в нетерпении топали ногами, и выходить за рамки игры представлялось столь же нелепым, как и отдаваться в умелые руки Папы Мюллера. Снимет стружку и распнет на веревочках, а там уже играй, что прикажут — от Анны Карениной с ее непременным паровозом до любимой женщины механика Гаврилова, которая так до самого вечера и пронадеялась.
— Ладно, садись завтракать, раз ты свой в доску. Я поем попозже, — пресекла я коллективную попытку игроков полюбоваться сакурой во время штрафного удара.
Андрей надел теплую ковбойку с длинными рукавами, скрывшими бинты, и выглянул в окно. Дождик зверел на глазах, и Барон, ожидавший окончательного решения своей участи, скучая в дверях сарая со старым Станиславом, воспринял призыв с энтузиазмом. Этот сучий сын пользовался своим положением любимого дитяти совершенно беспардонно, и даже Баронесса далеко не всегда могла противостоять. Я решила не присутствовать.
— Полежу, пожалуй, с полчаса в твоей комнате, пока ты будешь охмурять моего друга. Больше пятнадцати капель ему не выдавай, Баронесса будет против.
— В такую погоду хороший хозяин и собаку не выгонит, — подумалось мне с дрожью уже под одеялом, я представила скукоженную фигурку Джейн Эйр в зарослях мокрого холодного вереска и тут же вошла в роль.
— Боги, боги мои! — плакала сиротка, — Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами! Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью…
А ночь густела, как тень черной лошади на руинах химических элементов, и страшные трясины Мурхауза ползли к моей постели, выбрасывая перед собой скользкие прогнившие кочки, и ужас тонущих вересковых песков был моим ужасом, но я знала правила игры, и огонек все же загорелся. Протянув руки, я нащупала твердую каменную массу — это был новенький театр Папы Карло, и там, за кулисами озябших артистов кормили горячей бараньей похлебкой с чесноком. Благодатное тепло незамедлительно разлилось по моему одеревеневшему тельцу, и напряжение последних часов ушло в сырую землю под театром, куда уходили и высоковольтные молнии с грозного балтийского неба.
Не повезло в эту ночь только Шарлотте Бронте — она попала под проливной дождь у водопада в нескольких милях от Хауорта, сильно простудилась и умерла в марте 1855 года на руках Артура Белла Николлса, не успев воплотить в жизнь те представления о любви, которые жили в ее душе.
— Все люди должны умереть — прокомментировал эту ситуацию унылый голос Карабаса Барабаса — он все еще мок там, в Скагганакской пропасти, под холодным дождем, не в силах отодрать бороду от клейкого соснового ствола.
— Но все же просится слеза, — возразила я ему, подсушивая у камина длинные голубые локоны со слипшимися бантиками, — такое, уж, чувствительное лето, доктор, выдалось!
Пьеро тут же раскуксился, и его контактные линзы вывалились в тепленькую слезную лужицу.
Арлекин сочувственно засопел наглым, как у Сирано де Бержерака, носом и стал судорожно шарить руками по помещению в поисках стеклышек.
— Не напрягайся ты так, — предложила я ему, вытаскивая блудливые клетчатые ручки из-под своей юбки, — отдохни вместе с мистером Рочестером.
Убедившись в твердости моих викторианских позиций, все зевнули и разошлись, и я не заметила, как задремала под шум дождя, а когда проснулась, то, к своему изумлению, обнаружила в соседней комнате еще не расставшихся друзей, плавающих в густом дыму. Расстаться они уже и не могли по причине крайне плохой ориентации в пространстве. Судя по пейзажу на столе, от моих спиртных и съестных запасов остался пшик.
— А кто рылся в холодильнике?
— Я, — с глубоким достоинством ответил Барон, — но с разрешения хозяина.
Поглядев в мутно-голубые глаза хозяина, я сформулировала свои чувства следующим образом:
— Да, хотела, как лучше, а оказалось, как у всех! — и в это время под окном раздался голос Баронессы.
— Марина! Не знаешь, случайно, где Барон?
— Подымайся сюда, я сама его только что обнаружила.
— Ну, вот! — объявила Баронесса, взглянув на компанию, — теперь у тебя, как у всех.
Голос у Баронессы источал мед — сама приятность, искренняя подколодная радость за подругу и готовность поделиться бесценным опытом. Учуяв, что запахло жареным, хозяин вынул четвертак.
— Покажи-ка Марине ту пестренькую шапочку с шарфиком, я планирую зимой частые лыжные прогулки.
— Иными словами, пошли вон! — уточнила Баронесса, прихватив на развороте купюру, — не возражаешь, если наш у тебя тут и отоспится?
— Да, собственно говоря, я уже ничего здесь не решаю. Разве что ваш фамильный горшок сюда притащу.
— Не надо горшка, — хором запротестовали собутыльники.
Дождь уже кончился, Виелонис у баньки рассказывал нашей нижней старушке, «кто is who», а она внимательно слушала его из кухни, и мы постарались невидимо для спикера ускользнуть через двор Гермине в Вельмин дворовый флигель. Я поняла, наконец, причину непомерного энтузиазма Баронессы, так поразившего меня позавчера вечером. Она приторговывала среди знакомых модными вязаными шапочками, и, видимо, довела это до сведения Андрея. Я обожала Баронессу, мне самой такая предприимчивость и не снилась. Баронесса рассказывала, что свой первый бизнес-урок она получила, будучи практиканткой скорой помощи.
— Хочешь посмотреть, как три рубля из воздуха появятся? — спросила ее маститая наставница, и Баронессе стало интересно.
— Видишь, цветочным мылом по десять копеек на углу торгуют? Бери десятку и притащи сюда коробку.
Баронесса сгоняла на угол, и купила сто кусков мыла, которые на станции скорой помощи пошли уже по тринадцать копеек. В следующий выезд ее наставница уже натягивала на себя обновку, приговаривая деловито и сладострастно:
— Шикарная женщина — это у которой под рейтузами колготки без дырок.
На Баронессу это произвело неизгладимое впечатление, однако, она тут же решила, что спекуляция — это не ее профиль, и честный приработок без уплаты налогов куда достойнее ее происхождения.
Вязаная шапочка оказалась вполне приемлемой, а после примерки мы пили чай и обсуждали особенности существования доньи Флоры с ее двумя бразильскими мужьями, первый из которых, шустрый горячий мертвец, все еще посещал по ночам бывшую супругу. Живой супруг был человеком правильным, образованным и весьма сдержанным, но бедняжке одинаково хотелось обоих. Как говорит мой коллега Сандро Раутьян, главной бедой женской психологии является стремление оптимизировать ситуацию одновременно по всем направлениям.
Более всего нас волновали, однако, отнюдь не стремления доньи Флоры — их мы уже обсудили прошлый раз, когда сдавали книгу в библиотеку, а описание любимого блюда обоих супругов — мокеки с пальмовыми листьями на маисовом масле. Баронесса умирала от желания приготовить мокеку и тут же ее съесть, хотя рационального объяснения ее порыву не находилось. Маис, широко распространенный в Союзе с хрущевских времен, проблемы не составлял. Проблему составляли пальмовые листья, и я поделилась некоторым опытом. Однажды летом, при полном отсутствии капусты на даче, я сделала голубцы из свекольной ботвы и листьев крупно-кочанного салата «Айсберг» (рекомендую добавлять в фарш, помимо риса, мяса и специй, рубленые свежие грибы, помидоры, сладкий перец, чеснок, лук и много зелени). Таким образом, замену пальмовым листьям теоретически найти было можно, но как найти замену тому, чего ни разу в жизни не пробовал?
Мокека явно отпадала, и я пошла брать под контроль ситуацию в своей комнате. У кухни наблюдалось столпотворение жильцов. Крайнее возмущение выражали новенькие, занявшие с утра комнату Пупсика.
— Мы утром поставили на кухонный подоконник одеколон и литровую упаковку жидкости для мытья посуды, — требовал справедливости у Жемины гражданин в очках, а Жемина горестно смотрела вправо, в сторону дома своих соседей.
— Пьяницы проклятые, чтоб им пусто было. Еще и бомжа к себе привели из райцентра.
Виновники события вывалились из ветхого сарая дружной гурьбой, и, к моему ужасу, бомжем оказался человек, толкнувший меня на дороге под грузовик. Жемина обрушила на них град ругательств, но Янька заулыбалась и сообщила обществу, что они отправляются в кино.
— «Никто не хотел умирать», — уточнила она и добавила не без игривости, — мы тоже не хотим умирать, правда, Вацек?
Жильцы молча наблюдали, как они гуськом проплывали мимо кухни — Вацек в замшелых белых штанах, Янька в старом цветастом платье на четыре размера больше требуемого и бомж в бордовом женском плаще типа «болонья» с синяком под глазом. Замыкающий вдруг увидел меня и стал изображать призывные знаки. Я подошла.
— Ты меня извини, девка, не хотел я, — сказал он и поплелся за компаньонами.
Очкарик тут же прокричал, что прощения нужно просить у него, а Жемина задумчиво отметила, что бомжа, небось, выгнали из магазина.
— Он в мезапенасе грузчиком был, да совсем уже человеческий облик потерял.
Я поднялась наверх, прикрыла спящих одеяльцами, и тихонечко начала уборку стола. Пепел был во всех сосудах, а в алюминиевой миске под крышкой лежали горелые остатки газеты. Я хотела выбросить их в мусорное ведро, но оттуда посыпались маленькие обугленные таблетки. Спустя мгновение (не думай о мгновеньях свысока!) я вычленила содержание из формы, и ринулась к тумбочке, где и зафиксировала исчезновение крайне дефицитного символа своей женской свободы. Да, дела…
Помыв посуду, я ушла в комнату Андрея, и, лежа на кровати, следила за лунными бликами на стене.
Итак, если отвлечься от формы и извлечь содержание, я получила новое предложение.
Тускло раскрашенный образ дружной пары лыжников в теплых широких шароварах внезапно замаячил послевоенной открыткой на выцветших задолго до смерти бровастого вождя обоях. Лыжники неподвижно мчались по изогнутой голубой ленте, где затейливые узоры лубочной кириллицы складывались в надпись" Совет да любовь». Картинка представлялась такой же нежизненной, как любовный пафос советского фильма «Весна».
Дьявольские силы, поджидавшие в кладовке минуты моей душевной слабости, вдруг затянули капризными детскими голосами:
— Мама, купи мне лыжи, я тоже хочу кататься! — и разразились в ответ себе гнусным хтоническим ржаньем. Демонический хохот внезапно прервался спокойным дикторским голосом:
— А теперь, дорогие телезрители, познакомьтесь с репортажем нашего специального корреспондента из женской тюрьмы.
Окно засветилось голубым светом, и на экране появилась одиночная камера с узкой железной кроваткой на дальнем плане и желтоватым костяным унитазом на курьей ножке в углу. За унитазом чернела большая метла. На переднем плане за компьютером сидела бодрая немолодая женщина, немного похожая на мою двоюродную бабушку.
— Эта женщина сознательно лишила себя материнства, и, перейдя все пределы, скрылась от правосудия за Границей дозволенного. Но Интерпол не дал ей уйти от возмездия, и она отбывает в этой тюрьме свой срок уже тридцать лет и три года. Вы смотрите эксклюзивное интервью нашего корреспондента с интернациональной половой преступницей.
— How are you doing? Как вы поживаете?
— Отлично, прекрасно, изумительно!
— Осознали ли Вы свою вину? Страдаете ли Вы?
— Я уже толком не помню, что я там натворила, но в этом доме я ощутила себя по-настоящему счастливой. Мне разрешают пользоваться библиотекой, и я регулярно издаю свои труды.
— Хочется ли вам перемен в своей жизни?
— Да, и немедленных! Вы уже украли десять минут моей творческой жизни, и хотелось бы увидеть, как вы уходите. Understand?
— Ask! — ответил корреспондент, покосившись на метлу.
Экран погас, и последний performance пришелся мне по душе. Я не слишком-то боялась старости, интересные роли в моем театрике были для всех возрастов, и эта роль была мне мила. Оставалось втиснуть в нее свое представление о реальном счастье, которое должно было отличаться от идеального примерно в той же степени, в которой реальный социализм отличался от своего классического образца. Поэтому я добавила в свой ответ корреспонденту фразу о воскресных посещениях друзей, и с этой моделью уже можно было выходить на трибуну.
Во дворе раздался какой-то шум, и я увидела в окно, как из сарая Вацека вывалился и скатился по ступенькам смертельно пьяный бомж. Слегка отлежавшись под крыльцом, он встал на четвереньки и пополз за сарай.
— Эко развезло! — подумала я без всякого злорадства, — а не пей всякую дрянь!
Сзади меня раздался скрип, и на пороге показался Андрей Константинович. Судя по всему, он уже побывал во дворе, где окатил головку водой из умывальника.
— Сердишься?
— Нет.
— Почему?
— У каждого есть право на свои маленькие праздники.
— Да, — сказал он с глубоким чувством, — Пакавене создана именно для маленьких праздников. Жаль уезжать, но через несколько дней все же придется — у меня куча неотложных дел на работе. Сейчас как раз появилась новая тема с форменной африканской чертовщиной, жаль рассказать нельзя — ты бы не осталась равнодушной! Можно мне тут с краюшка прилечь?
— Господи, да ты все равно сделаешь по-своему!
— Вот именно, — ответил Андрей и мгновенно уснул, и я была рада, что он сейчас со мной. Я всегда была этому рада, и вообще — провались все пропадом на этом свете и, заодно, на том!
Глава 12
Утром я была необыкновенно свежа и бодра, потому что сделала свой выбор, и, наконец, знала, как жить дальше. Пока Андрей умывался, я решила навестить в своей комнате нашего общего друга. Барон открыл глазки и разглядывал окружающий мир еще без определенных эмоций.
— Наш мальчик проснулся, — пропела я с нескрываемым восторгом, — сейчас мы ему пятнадцать капелек и чайку горяченького сообразим.
Появившиеся эмоции окрасились легким розовеньким цветом. Отмеряя капли, я спросила, как бы между прочим:
— А что это вы вчера тут жгли?
— Это мы сжигали прежнюю жизнь, — зевнул мальчик, — твоя вчерашняя газетка как раз под руку попалась.
— Кому попалась? — спросила я с тайным интересом.
— Не мне, не мне, — сказал он с позавчерашней обидой в голосе, — а то пустишь парашу по Пакавене, что я тебя до нитки обобрал.
— Никогда, — заверила я его, — считай, что «Огонек» твой. Неси сюда — я сделаю дарственную надпись!
— Обойдусь! — поосторожничал мой опытный друг, — слушай, а Баронесса вчера не приходила?
— Я не видела.
— Значит, померещилось! Давай-ка сюда капли, а чаек я уже дома — дома и стены помогают!
— Когда по ним не размазывают, однако.
— Значит, не померещилось! — сообразил он сразу же.
Похоже, тайна сожжения символа была соблюдена, и я вздохнула с некоторым облегчением. Барон явно заработал обещанную награду чистосердечным признанием, и после церемонии награждения мы быстро покинули Колонный зал.
— Пятнадцать капель, Андрей Константинович? — встретила я своего алкоголика теплой улыбкой.
— Нет, я не пью.
— Тогда чаю или китайского национального напитка?
— Что за напиток? — нахмурился собеседник.
— Это из известного всем анекдота про Вовочку и учительницу географии. Она утверждала, что то, чем Китай торгует с нами, пьют по утрам родители Вовочки. Вовочка, в отличие от тебя, сообразил быстрее.
— Ну, дай что-нибудь по своему усмотрению. Мне нужно позвонить в Москву. Пойдешь со мной на почту?
Он давал понять, что звонок имеет сугубо деловой характер, и я не стала противиться. Желающих позвонить было мало, и Москву Андрею дали довольно быстро. Из будки до меня долетали только отдельные слова, но я поняла, что он просит кого-то узнать, где точно располагается какой-то поселок.
Да, — подумала я, — у мужчин бывают дела всякие, и, что характерно, разнообразные.
По возвращению мы отправились в новый городок, расположенный за пределами Национального Парка у атомной станции. Комплекс зловещих зданий станции стоял неподалеку от городка, но проехать туда поближе не удалось. На въезде в городок стоял большой деревянный ряд, украшенный флагами разноцветных одежд и иконостасами импортных сигарет. Слышалась польская речь, и мы медленно двигались по шоссе, минуя «Шкоды» с иностранными номерами. Покупателей почти не было, и надежда в глазах торговцев сменялась тоской по мере нашего продвижения вперед.
Нас очаровала главная улица городка, где были продуманы каждая неровность местности, каждый камушек и каждое деревце. Невысокие домики, слепленные друг с другом лесенками с площадками и низенькими балюстрадами, толпились в веселой очереди за светом и теплом, оконные витрины сияли чистотой, и оранжевые настурции глядели на прохожих с умильной свежестью. У стены какого-то общественного зданьица стояла группа мужчин. Мы подошли поближе.
На стене висело написанное от руки объявление о предстоящем митинге русскоязычного населения, которое составляло среди жителей городка значительную долю — в основном, это были строители. Человек лет шестидесяти с прекрасной осанкой раздавал желающим листовки с протестом против притеснения некоренного населения местными властями. Мужчины деловито обсуждали выдвигаемые требования. Я стояла и слушала, пока Андрею не надоело.
— Пойдем, я куплю тебе местную газетку, — сказал он, — хотя у тебя и так пол-комнаты газетами завалено — не пойму, правда, зачем.
— Детская слабость к заголовкам, но мои хозяева в восторге — им хватает бумаги до следующего лета, — оправдалась я, и, отобедав в местном кафе, мы вернулись домой.
Пакавене встретила нас тишиной. Мы решили сразу же отправиться в лес, и на крыльце столкнулись со своими хозяевами — Жемина вела Юмиса на перевязку в медпункт турбазы.
— Запирайте свои двери, — сказала она, — к мяснику позавчера воры залезли и стекло выбили, а взять ничего не успели — их Ядвига спугнула. Наверное, деньги искали.
Я снова поднялась наверх, и это возвращение оказалось для меня роковым. Минут десять я искала в кладовой висячий замок, а потом заперла дверь, и, подымаясь на холм за домом Вацека Марцинкевича, мы услышали со двора Лаймы, племянницы Юмиса, странный детский вопль. Маленький Янис стоял у открытой двери дощатого сарая с расширенными от ужаса глазами, крича ровно и на одной ноте.
То, что мы увидели, было ужасно. От сладковатого запаха крови, сгустившегося в сарае, у меня тут же началась рвота, и Андрей вывел меня из сарая.
— Уведи мальчика! — сказал он. Я вытерла рот купальным полотенцем, и повела охваченного ужасом Яниса в наш дом. Дома была только старая пани Вайва, и, увидев нас из окна, она рухнула куда-то назад, но тут из маленькой мастерской, пристроенной к сараю, вышел Стасис, и я крикнула ему:
— Скорее туда, Лайму убили!
На мой крик выскочила тетка, я повторила ей про смерть Лаймы и попросила пол-таблетки седуксена.
Она тут же принесла половинку таблетки и стакан воды, я повела мальчика в хозяйскую спальню, дала лекарство и уложила в постель. Он уже не кричал и не плакал, но смотреть на ребенка было страшно.
— Вот так и строй счастье на детской слезинке! — не выходило у меня из головы.
Из соседней комнаты донесся голос Андрея, он объяснялся по телефону с милицией. Потом он выгнал меня из спальни, но через пять минут и сам вышел оттуда с сообщением, что мальчик уже спит. Пани Вайва, успевшая с моей помощью проглотить капли корвалола, полулежала в кресле, жадно глотая воздух. Андрей наклонился к ней и предложил уснуть. К моему удивлению, она тут же и уснула.
— Посиди, пожалуйста, с ними здесь, если можешь, — попросил Андрей, — и не отходи от дома, пока я не вернусь.
Андрей ушел. Тут же вбежал белый, как мел, Стасис.
— Где мой сын? — закричал он с порога, но я не понимала, о ком идет речь.
— Где Янис? — спросил он тогда и стал трясти меня за плечи.
— Он в спальне спит, не кричи.
Стасис ушел в спальню, но потом вернулся, сел на стул, закрыв лицо руками, и его забило крупной зябкой дрожью.
— Примешь чего-нибудь успокоительного? — спросила я, выждав, когда дрожь стала утихать, но он отнял руки от лица и ответил так, будто я задавала ему совсем другой вопрос.
— Они не дали пожениться нам, потому что мы родственники, но я все равно сделал бы это. А теперь уже поздно.
— Вот почему Жемина все время скандалит с ним, — поняла я, — прерогатива богов, простым смертным это не дозволено!
Когда пришли хозяева, я сразу же ушла к тетке. Виктор Васильевич сидел, насупившись, а тетка имела, как всегда, вид деловитый и решительный.
— Мы тут с Виктором подумали, что нужно уезжать. Но как быть с билетами? Обменять их сейчас сложно.
— Хорошо, я займусь этим с завтрашнего дня, и уеду с вами. Боюсь только, эта счастливая мысль придет в голову сразу всем.
Андрей уехал со «Скорой помощью», а милиция почему-то бегала по лесу. Из своего окна я видела, как к дому стягивались испуганные дачники, потом появился на велосипеде Барон, и на руле у него висела продуктовая сумка. Он уже включился в общий разговор, но я окликнула сверху из окна.
— Барон! Что там милиция делает?
— Убийцу ищут. Говорят, он все это время в сарае за дровами прятался, а когда милиция приехала, он в лес сиганул. А Баронесса точно с Кавены не возвращалась?
— Точно. Давай быстро туда. И вот еще что — вчера у Вацека бомж крутился, тот самый, что велосипед украл. Будь осторожнее!
Через полчаса семейство вернулось, мы пошли к ним во флигель, и я рассказала все, что видела сегодня, умолчав о тайне Стасиса. Жить в Пакавене стало опасно, но смерть Лаймы была настолько чудовищной, что поверить в это было невозможно. Мы уговорили Барона вооружиться, и он пошел к Вельме за молотком. У Баронессы приступ страха довольно быстро сменился приступом оптимизма, она любила вылавливать положительное даже из безнадежного.
— Через три дня мы уезжаем, и отпуск все равно состоялся. Если убийцу сейчас поймают, то мы еще на прощание походим по лесу.
Акматическая фаза оптимизма после этой бодрой фразы так же быстро сменилась надломом, знаменующим резкий переход к мемориальной фазе. Баронесса стала припоминать достоинства Лаймы, отметив ее чадолюбие, аккуратность и приветливость. Мне было трудно эволюцинировать подобным образом, потому что, в отличие от Баронессы, я лично побывала на месте происшествия.
— Мы с теткой хотим уехать пораньше, если удастся, — сказала я, поняв, что срочный отъезд становится у меня уже навязчивой идеей. — Я пойду, пожалуй, к себе.
Барон догнал меня у нашего дома.
— Я тут кое-что хотел подарить тебе на прощание, — сказал он и вынул из кармана маленькую костяную фигурку.
Фигурка изображала банщика — лукавого лысого старика с жирными покатыми плечами и круглым пузиком, скорчившегося в маленьком тазике. Самое занятное, что лицо старика сильно напоминало лицо моего хозяина Юмиса. Фигурка была из новой «нечистой» серии, над которой Барон трудился в последнее время.
— Может быть, они после Чернобыля мутировали и расшевелились? — спросил он, глядя на фигурку, — каждый день режу, будто кто за руку водит.
— Последний раз про оборотней говорили после войны, интересно сделать статистику — не всплывают ли они в смутные времена, как и всякая нормальная нечисть? Кстати, вырезал бы оборотня!
— Я уже думал, но не могу. Проваливаюсь, как в черную дыру.
Я взяла фигурку, поблагодарила, и мы расстались. Силовые поля гуляли по Пакавене со страшной нечеловеческой силой, и я прислушивалась к ним у крыльца, пока они не повлекли меня в деревянную баньку, где Стасис, стоя босыми ногами у турбазовской койки, примеривал дуло ружья к своему подбородку.
— При мне-то не надо! — сказала я ему, усевшись на краюшек койки, — успеешь еще…
Как ни странно, но он послушался и сел рядом.
— Мальчик без тебя пропадет, на него уже и сейчас управы нет, — сказала я ему тогда, а он отмахнулся и лег головой в подушку. Я взяла ружье и тихонько вышла. У крыльца стояли Юмис и Бордайтис-старший, вечно небритый верзила лет пятидесяти, пахнущий машинными маслами. Я отдала ружье Юмису и ушла наверх. В комнате никого не было, я собрала книги, чтобы сдать их в библиотеку, но историческое произведение Войновича куда-то испарилось. Тогда я спустилась вниз и позвонила Линасу в редакцию — телефон был в его визитке. Мы поговорили, а потом я покаялась в потере и пообещала выслать зимой аналогичный экземпляр, если не найду этого. Вернувшись из библиотеки, я села на стул спиной к окну, и сидела так, пока не появился Андрей.
— Я был вынужден оставить тебя. Как ты себя чувствуешь?
— Спасибо, еще несколько трупов, и я привыкну.
— Я тут перекинулся парой слов с местными врачами. Убийство произошло, видимо, поздно вечером.
— Говорят, убийца прятался в сарае, пока мы там с тобой были.
— Я в курсе событий. Сарай там соединяется лазом с курятником, и ему удалось выскользнуть через этот лаз. Сын Бордайтиса, Юозас, издали видел, как какой-то человек убегал со двора в лес.
Я не любила Бордайтисов. Старший из них был груб и заносчив, а младший, когда моя приятельница Галя жила у них в доме, не давал своей квартирантке прохода, и ей пришлось менять хозяев. Вдобавок, они разъезжали этим летом на серых «Жигулях». Моя подозрительность сейчас не имела границ, и мне пришло в голову, что в сарае могло никого и не быть, и история с таинственным незнакомцем могла быть просто выдумана.
— Забыла тебе сказать! Тут у Вацека фигурировал хорошо известный нам бомж, и вчера вечером бомж просил у меня прощения — дескать, толкнул нечаянно. Я видела ночью, как он уходил от Вацека в сторону Лайминого сарая — как раз перед твоим появлением у меня.
— Тогда не исключено, что в сарае был именно он, — сказал Андрей довольно рассеянно, и я поняла, что он думает о чем-то другом.
— Знаешь, мне что-то совсем страшно стало, и мы с теткой хотим уехать пораньше. Завтра я попробую обменять билеты.
— Сдай билеты, поедем все вместе на машине послезавтра, но только с раннего утра — тогда можно доехать без ночевки. А завтра будем собираться.
— Не получится, дядька не переносит автомобильных путешествий, его родственники как-то пробовали этот вариант.
— Тогда займемся завтра билетами.
— Попробуем, хотя я почти не надеюсь на железнодорожную кассу.
— Не волнуйся, — сказал он, — если касса не поможет, то билеты я все равно достану.
— Как? — спросила я его.
— Молча! — заявил он с обнадеживающей уверенностью. — Я пойду поем чего-нибудь, не хочешь со мной?
— Я не могу, меня до сих пор поташнивает.
— Да, тебе сегодня досталось, но ты была молодцом. Я быстренько, а ты постели пока, и ляжем спать сегодня пораньше.
Вернулся он, действительно, быстро, и мы попытались говорить о чем-нибудь постороннем, но мысли все время возвращались к страшному событию.
— Знаешь, когда бомж повинился, я ему поверила. Он не похож на убийцу.
— Как часто ты видела убийц в своей жизни?
— В теленовостях иногда. А ты?
— Я имел дело с патологическими типами, но, может быть, ты и права… Мальчика жаль, вот! Он все еще спит, я сейчас заходил туда.
Потом мы долго молчали, и мне показалось, что Андрей заснул. Люди, все же, крайне эгоистичны, и история с убийством уже уступила место моим собственным проблемам. Моя утренняя решимость куда-то испарилась, и неопределенность положения снова стала тяготить меня. Красивый жест с символическим сожжением старой жизни, похоже, был вызван минутным порывом, и особенно грустным представлялся мой приезд в Москву, когда я в первую же ночь снова останусь одна. Я впервые за много лет ощутила зябкий страх перед будущим одиночеством и содрогнулась.
— Что, не спится? — спросил сразу же Андрей, обняв меня.
— У тебя кто в Москве — мальчик или девочка? — спросила я и почувствовала, как сразу напряглось его тело.
— Девочка, в пятый класс перешла, — ответил он, и я прекратила расспросы.
Уже засыпая, я вдруг вспомнила, что минувший день был днем моего ангела, но белый ангел, должно быть, ужаснулся, покружившись над кровавым местом и предпочел остаться не узнанным. А может быть, я просто не увидела его своими деревянными глазами, а он заглядывал мне с плеча прямо в лицо, пытаясь сказать, что все зло этого мира только внутри нас, и это в наших душах горят костры, и смрад тяжелых чугунных помыслов застит голубое небо, и нужно начинать с малого — не топтать цветы под окнами, не харкать в подъездах, не крушить могильных памятников.
Я посмотрела на часы и поняла, что все-таки уже говорю с ангелом, но скоро мы расстанемся до следующего лета, и нужно спешить, потому что всему в этом мире есть срок.
— Я и так стараюсь не писать мимо унитаза и не красть чужих галош, — сказала я ему, — профессор Преображенский у нас в авторитетах ходит.
Ангел смотрел на меня и молчал, а я отчаянно старалась понять, о чем же он молчит, но обе стрелки на часах уже сливались в одну темную линию, и ангел взмахнул своими белыми крыльями, потому что темный знак уже отражался и ширился в моих глазах, и он взлетел, а мне не хватило только одного единственного мига (не думай о мгновеньях свысока!), чтобы с хрустом вывернуть нежные лапки и, искалечив ангела, навсегда привязать к себе. Мне так хотелось поговорить с ним подольше…
Утром мы поехали на вокзал и заняли очередь в железнодорожную кассу, потому что надежда обменять билеты все-таки существовала. Андрей отлучался пару раз позвонить по телефону, но связь с Москвой сегодня была плохой. Я получила вожделенные билеты, пока он делал третью попытку, и тут же на перроне столкнулась нос к носу с директором турбазы.
Мы поздоровались, и мне мгновенно пришло в голову, что убитая туристка была из Каунаса, что вполне соответствовало его прибалтийским предпочтениям. Его серые «Жигули» постоянно стояли в можжевельниках то там, то сям, и Жемина всегда комментировала нам маленькие увлечения директора. В моих глазах, видимо, отразилось что-то такое, что он остолбенел и удивленно смотрел мне вслед, пока я не завернула на привокзальную площадь.
— Да, тут манию преследования заработать — раз плюнуть, — подумала я.
— Скорее бы уехать! В Москву, в Москву, в Москву…
Завернув на площадь, я столкнулась с Андреем.
— Ну, что?
— Поменяла, уезжаем через три дня.
— Вот и славно. Я уеду в этот же день рано утром и встречу вас на вокзале. А до Москвы мне сегодня дозвониться не удалось. Попробую завтра.
Мы пообедали в маленькой шашлычной у автобусной станции. Шашлыки имели вид, вкус и запах пареной говядины, что было не удивительно при отсутствии у поваров черных усов и широких кепок — я никогда не видела этих шашлычных атрибутов на территории Национального Парка. В Москве экспансия шашлыков и пиццы уже шла полным ходом, но судьба пиццы на плохих российских дорогах была незавидной.
После обеда мы зашли в мое любимое место — магазинчик уцененных товаров, где всегда можно было натолкнуться на всякие занятные вещицы.
Вот и сейчас на прилавке виднелись маленькие скульптурки животных из теплого мрамора, и рублевые ярлыки на них свидетельствовали, что они безнадежно вышли из моды. Кроме этого, я купила на три рубля шесть мужских галстуков на резинках в комплекте с маленькими карманными платочками. Судя по их попугаечно-желтому цвету и полоскам люрекса, они были родными братьями тех галстуков, которые красовались на голых шейках Суслика и Татьяны. Моя последняя покупка крайне обеспокоила моего любимого.
— Марина! Я ношу скромные парижские, мне такая красота не к лицу — будет отвлекать женское внимание.
— Если для тебя это так важно, то я пущу их на свои коллажи — я занимаюсь ими немного в свободное время.
— Боюсь, у тебя его не будет, — сказал он, а я промолчала в ответ.
Когда мы приехали, то застали во дворе следователя милиции и много всякого другого люда.
Следователь устроился в беседке и опрашивал всех подряд о вчерашних событиях. Постоялец Вацека пропал, но Вацек утверждал, что тот и не ночевал у него ни в день убийства, ни накануне. Где ночевал бомж, Вацек не знал, но вчера утром он заявился еще до прихода первого автобуса из райцентра. После второй ночи бомж вообще не появлялся.
Я отлучилась сообщить тетке о билетах, и та пошла сворачивать потихоньку свое дачное хозяйство. По возвращению мне тоже пришлось доложить следователю, при каких обстоятельствах я увидела в сарае кровавое месиво, и когда я видела бомжа последний раз. Старушки с удовольствием довели до следователя подробные сведения о происках Виелониса. Они хором процитировали пункт антиалкогольного постановления об оскорблении человеческого достоинства, и тут до меня дошло, что Виелонис действительно куда-то исчез еще вчера вместе со своей палаточкой. Да, дела…
Андрея тоже не было видно, но вскоре я нашла его на хозяйской половине дома около пани Вайвы. Не в силах подойти к любимому окну, она лежала под открытым ситцевым пологом в своей высокой постели на четырех матрасах и смотрела невидящими глазами в телевизор, где тележурналист беседовал с упитанным господином в темно-сером.
— Это Сидор Ильич Петров, заведующий сектором пропаганды и агитации, — опознала я козырного короля в этом раскладе. Пани Вайва при звуках моего голоса вздрогнула и прошептала:
— Это волосатый убил Лайму, — и, переведя глаза на Андрея, добавила, — береги ее, он рядом ходит.
Следователь уехал, народ разошелся, а у меня по-прежнему не было иных желаний, кроме быстрого отъезда. Я не была пессимистом, но мои дурные предчувствия, как правило, сбывались, а статистика — вещь великая. Странные сны, снившиеся мне этим летом в Пакавене, были постоянным тревожным фоном моего бытия, и пани Вайва знала, о чем говорит. Было совершенно очевидно, что все беды этого мира уже водят хоровод вокруг меня, и это черное кольцо постепенно смыкается.
— У нее живот был выпотрошен, — сказала я вслух, когда мы вышли на крыльцо.
— Мне жаль, что ты это разглядела.
— А ты тем вечером никуда не отлучался от умывальника? — спросила я Андрея от отчаяния, потому что хотелось лечь в кладовку и не выходить оттуда никогда.
— В алиби у меня, действительно, прокол, хотя ты и не доложила об этом следователю, — ответил он очень серьезно, — но меня не было в Пакавене в день убийства туристки.
— Барона тоже не было, — размышляла я вслух, — значит, его тоже можно не опасаться. Еще одного-другого можно отвести… Женщины точно отпадают?
— Не пройтись ли нам по опушке леса, вкусненькая ты моя, — сказал Андрей, — сейчас это самое безопасное место, убийца в ближайшее время сюда не сунется. И я у тебя не только для украшения.
Сбор грибов рождает особое состояние духа, близкое буддийскому понятию «самадхи», составляющему первую ступень к нирване. В определенный момент полностью отключаешься от суетного бытия, и начинается таинственный процесс восстановления нервных клеток. Я согласилась на опасное предложение, и мне, действительно, сразу полегчало в тихом и пахучем мире зеленых фитонцидов. Высохшие лишайники потрескивали под ногами, а черничники уже набирали силу для нового урожая, и на песчаной гряде недалеко от дома мы нашли кучу разноцветных сыроежек, но, по случаю отсутствия дождей, грибы кишели червями, и это снова навело меня на печальные мысли.
— А про какого-такого волосатого говорила пани Вайва? — не утерпел Андрей уже на подходе к дому.
— Местные старухи говорят, что девушек убивают здесь вот таким же образом уже триста лет. Они грешат на вилктака, от которого в юности убежала пани Вайва, сломав при этом ногу на крыльце. Вилктаки — это местное название вервольфов, волков-оборотней. Они не любят леса и околачиваются обычно около жилья.
— Похоже, все женщины в Пакавене сошли с ума, но женская интуиция вещь великая! А ты что думаешь сейчас по поводу оборотней?
— Смываться нужно скорей!
Мы уже спускались к зеленому соснячку за домом Вацека, когда Андрей вдруг остановился.
— Смотри, дверь сарая открыта! Ее же вчера закрыли и опечатали на моих глазах.
— Может быть, следователь сегодня забыл закрыть? — предположила я, почувствовав глухую тревогу.
— Вообще-то, они ребята не из забывчивых, а это дело на особом контроле. Постой здесь, я посмотрю, — сказал Андрей, а потом зашел в сарай и не выходил, пока я не закричала.
— Похоже, убийца сам повесился, — сказал он, тут же показавшись в дверях, — ты говорила, у Эугении есть телефон?
Мы прошли на другую половину двора. На стук вышла хмурая учительница.
— Нельзя ли позвонить от вас в райцентр, пани Эугения? — попросил Андрей. — Дело срочное, а мне сейчас неудобно тревожить своих хозяев.
Она разрешила, но из комнаты выходить не стала. Когда Андрей изложил по телефону суть дела, у нее побелело лицо, и она ринулась в сарай.
— Тадас! — кричала она, обнимая ноги покойника, — Тадас, прости меня!
Мы остолбенели, а постаревший почтальон раскачивался под скрипящими балками сарая, и чудовищно распухший язык торчал из обветренных синих губ, как последнее письмо этому жаждущему информации миру.
— Пани Эугения! Сюда уже едет милиция. Вы уверены, что хотите сейчас давать показания? — заметил Андрей, и эта фраза мгновенно отрезвила женщину. Она отошла от трупа, оглядела нас и сказала довольно твердо:
— Сейчас я уйду, но прошу вас не говорить, что я была здесь, и что я тут говорила. Это мой бывший муж, но у него сейчас другое имя, и я не хочу, чтобы меня связывали с этой историей — мне здесь жить и умирать!
— Хорошо, — сказал Андрей, — но взамен я попрошу побеседовать со мной. А сейчас, Марина, отведи пани домой. Считайте, что вас обеих здесь не было.
Мы едва успели скрыться в доме, как стальные вороны прилетели клевать свою падаль, поставляемую Пакавене этим летом с завидной регулярностью. Ужас, сжимавший мое сердце с той минуты, как я увидела открытую дверь, куда-то испарился — мое тело исторгло его, как своего разрушителя. Всегда есть предел, за которым нужно защитить себя неприятием зла и бесчувственностью.
Грузная Эугения сидела на стуле молча, и стул привычно скрючился под тяжестью ее чугунных мыслей.
— Мы не причиним вам никакого зла, пани Эугения.
— Хорошо, приходите поговорить, но не сегодня, а завтра с утра.
Все уже были в курсе последней утешительной новости, и дети, словно голуби, отпускались на волю, и скоропостижные отъезды отменялись, и единодушное мнение, что изверга совесть замучила, высказывалось в каждом дворе.
Меня окликнули. Альтернативный полу-бомонд стоял у шоссе в полном сборе. Наталья Виргай, лучший знаток русского языка и литературы в пакавенских кругах, выразила все обуревающие обществом чувства — растерянность, тревогу, страх и протест против насилия — следующим образом:
— Что это за … твою мать у вас здесь каждый день происходит?
— Принцесса, — ответила я ей словами Шварца, — вы так молоды и невинны, что, невзначай, можете сказать что-нибудь ужасное.
— Как там говорят, можно снова ходить в лес? Хотелось бы искупаться на Кавене!
— Как говорит моя коллега Яна Копаевич, во всем нужна выжидательная позиция, кроме как в получении денег. Но, если в купальных костюмах, то можно! Understand?
— Ask! — ответили они, и большим стадом отбыли на Кавену, но Натальин сын уехал на велосипеде в обратную сторону — мать велела ему привезти на озеро купальник. Я осталась у шоссе, потому что не знала, что же теперь нужно делать, словно попала в зловещую паузу, когда время ведет свой счет в полной пустоте, и нет смысла в отсчете секунд, потому что деревья не растут, камни не разрушаются, и стариться некому.
Я все еще пребывала в этой нематериальной субстанции, когда мальчик, размахивая флагом, проскользил мимо меня на велосипедике по теплому черному асфальту. Я пригляделась к флагу. На палке было примотано то, чего в Пакавене никто никогда не видел — верхняя часть купальника его мамаши. Это зрелище прервало мои страдания, как внезапно появившийся вертолет мгновенно (не думай о мгновеньях свысока) прерывает страдания Дубровского в известном клипе «Аквариума».
Впрочем, нечто в этом роде ранее имело место в фильме «С тобой и без тебя» с участием Будрайтиса, где семейная ссора хуторян, не вступивших в колхоз, прерывается появлением никогда не виданного ими трактора, и это тоже выглядело неплохо, хотя тракторы к тому времени уже существовали, и парадокс имел в этом случае не временной, а пространственный характер, подобно наблюдаемому мной феномену На ум тут же пришло приземление самолета в джунглях на глазах у затерянного африканского племени и появление deus ex machina в финале греческих трагедий.
Корни подобных явлений, безусловно, гнездились в еще более далеком прошлом, когда пришельцы являлись неандертальцам в до сих пор еще не опознанных летающих объектах, но в этом случае, при явной пространственной разобщенности цивилизаций, временная составляющая вела себя предельно странно, поскольку эволюционно-продвинутый инопланетный социум явно предшествовал нашим первичным организациям.
Слегка порассуждав, я вернулась во двор. В беседке в полном одиночестве сидел старый сапожник, пьяный в стельку.
— Лаба дена, пан Станиславос! — обратилась я к нему с максимальной почтительностью, но он посмотрел на меня тяжелым взглядом и произнес непонятное:
— Курва, сгубила парня!
Я слегка оторопела.
— А ты геть с глаз, все вы одной породы, — рявкнул он на всю деревню и погрозил кулаком куда-то вбок, из чего следовало, что курва находилась именно там. Я вдруг поняла — он говорит об Эугении, а загубленный парень, как следовало из реплики, был совсем неплохим. Мне снова стало не по себе, но тут за домом заурчал мотор, и богом появившийся из машины Андрей сообщил, что на подошвах ботинок и одежде висельника нашли следы крови, и дело, видимо, закроют.
Итак, все кончилось, но Пакавене осталась без счастья, потому что имя Лаймы было именем балтийской богини счастья, и выпотрошенное тело ее скоро оттает в теплой земле, и изморозь на ресницах прольется последней слезой, и душа, откружившись над Пакавене положенный срок, взлетит ввысь с чувством выполненного долга. Ведь мифы нужно кормить, вот кровавая мясорубка и мелет с чавканьем и хрустом, чтобы девушки корчились на подушках от страшных снов, чтобы женщины покрепче запирали свои двери, а старухи шептали, замирая от ужаса: «Это он, волосатый…»
— Прости меня, Лайма, — думала я, — ты попалась ему случайно. Я ведь знаю, зачем он кружил тем вечером у нашего дома, и это я должна была лежать сейчас там, где лежишь ты — в тихой мерзлоте с белым инеем на ресницах.
Баронесса упаковывала свои вещи, поэтому мы поужинали вдвоем с Андреем у себя в комнате и пошли прогуляться перед сном к большому озеру. На другом берегу его светились огоньки, но Лаумы там не было, она улетела в Неняй, соседний райцентр, где в новом доме о шестнадцати углах жила Казимира, молодая ведьма, дочь ее задушевной подруги.
Ведьмы жили без мужчин, рожали только девочек и давали им свои имена. Задачей каждой молодой ведьмы было устроить так, чтобы мужчина не смог предъявить отцовских претензий — милые привычки слепленной из глины Лилит. Мужчины отвлекали бы от управленческих дел, и вообще без мужчин легче быть сильной.
Солнце уже село, небо темнело неравномерно, переливаясь тысячами полутонов, и редкие облака плавали огромными массами пышно взбитых сливок, вырвавшимися из фарфорового плена. Но озерная гладь впитывала в себя всего два цвета — черным обозначалось небо, а белым прорисовывались облака, и двойники этих сливочных масс, спрессовываясь на поверхности воды, выглядели уже запыленными снежными сугробами.
— Похоже, в моем зазеркалье происходят те же трансформации, — подумала я с горечью, — но кого это интересует?
— Постой тихонько, я уже тысячу лет к тебе не прикасался, — предложил мой спутник, и ласковые руки обвили сзади мои плечи, но я устала от крови и тайн, и мне сейчас были нужны только слова.
— Не суетись под клиентом! — тут же материализовались слова из воздуха, и грязненький мяу шлепнулся мне на плечо, сразу обнаружив свою суть черного гения. Он улетал от меня каждый раз в день белого ангела, и я уже не первый год знала, как именно он проводит этот день. Дурные привычки Королевской Аноластанки копировались им с большим энтузиазмом, и легкий запах серы от его лапок свидетельствовал, что мяу весь день копался в помойке за нашим огородом, куда Славка Фрадкин на днях выбросил капустные очистки, несмотря на строгий наказ Жемины складировать их в ведре для поросят. По возвращению с помойки кошачья лексика всегда оставляла желать лучшего.
— Пошлость есть скрываемая изнанка демонизма, — осадила я зарвавшегося блудного сына, а он тут же раскаялся и, ловко подхватив тему, запел голосом преподобного отца Сергия, — под демоническим плащом таятся Хлестаков и Чичиков, и феерический демон обращается в безобразного черта с копытом и насморком…
Его фраза, судя по тому, как он косил глаза в сторону, означала, что ангел уже приступил к службе и начал открывать страшную правду о своем конкуренте.
— Сволочь, — подумала я, как Сталин о Берии, — но ведь как предан!
— Не организовать ли мне гарем методом клонирования, — заметил Андрей с нескрываемой досадой, — что-что, а в этом случае всегда под рукой найдется женщина, которая будет мне рада.
— Я полагаю, в Москве твои мечты сбудутся — кто-нибудь, да всегда окажется под рукой, — отрезала я быстро и зло.
Его руки больно сжали мои плечи, потом обмякли и исчезли. После некоторого молчания он произнес:
— А, тебя, наконец, прорвало! Признаться, я ожидал этого еще вчера вечером. Я так понимаю, что программа-максимум оказалась несовместима с вечной любовью?
— Через два дня мы уезжаем, и ты зря сжег мои таблетки.
— Они тебе больше не понадобятся, через день ты начнешь стараться изо всех сил родить мне ребенка.
Мальчики, как ты говоришь, любят портить красоту, а это самый цивилизованный способ. Не тифом же тебя заражать!
— Соцобязательства, значит! И как раз к концу апреля! Встречный план тоже возьмешь?
— Я не против, если получится двойня, — сказал он с обезоруживающей улыбкой, — как там у тебя с наследственностью?
— Андрей, я не стану распоряжаться чужими судьбами, я вольна распоряжаться только собой, и готова видеть тебя раз в неделю. Полагаю, эта схема поведения тебе давно уже знакома. Сможешь приходить?
— Почему ты никогда прямо не спрашиваешь, как я жил до встречи с тобой — неужели тебе не любопытно?
— Сначала я была уверена, что ты свободен, а потом не хотела ничего не знать.
— А сейчас?
— Оставим ненужные разговоры!
— Вот именно! На этом месте я всегда получаю хороший мужской отпор, и мне это не нравится. Чего ты так боишься, Марина?
— Ничего, кроме излишних сложностей. У меня ведь сейчас все в порядке! Оклад — двести рублей.
Прирабатываю переводами. Отдельная квартира. На учете в псих-диспансере, тубдиспансере и милиции не состою. Семьи нет. Связи, порочащие моральный облик, имею. В чужие дела не вмешиваюсь. Не находишь, что для еженедельного контакта характеристика отличная?
— Добавь — в картах везет!
— Хочешь подвести итоги?
— Да, и итоги не слишком утешительные — мы оба не доверяем друг другу.
— Что именно тебя беспокоит?
— Знаешь ли, жизнь, все-таки, сложная штука, и я не застрахован от ошибок. Вот так ошибусь на минутку, а ты таких дров наломаешь, что потом не исправить.
— И ты хочешь подстраховаться! Может быть, объяснишь мне детали нового предложения, я не могу блуждать в потемках.
— Я не буду тебе ничего объяснять и обещать, а ты сделаешь так, как я хочу. Можешь назвать это потемками, но мне нужно твое полное доверие.
— А как быть с первой заповедью? Никак, ты уже метишь на место господа бога?
— Роль тургеневской девушки тебе удавалась недолго, пока…
— Пять минут до боцманских шуток!
— Не перебивай старших, хотя ты, безусловно, уже взрослый человек, и ты совсем не похожа на обиженную девочку в светлом платьице, к которой я так спешил из Москвы. Честно говоря, меня это вполне устраивает, но у меня концы с концами никак не сходятся, и я так и не понял, кто ты.
— И, несмотря на это, ты строишь планы на будущее?
— Я решил, что не стану больше копаться в мотивах твоих слов и поступков — меня теперь интересует только то, что у черного ящика на выходе.
— На выходе только одно — я никуда не денусь от тебя.
— Ты сделаешь так, как я хочу?
— Слишком похоже на ультиматум.
— Похоже, не спорю, но мне надоело сомневаться. До отъезда я должен знать о твоем решении.
— Давай, оба подумаем.
— Давай, лучше, уничтожим своих внутренних врагов.
О, боже! Как всполошился мой бедный ангел, как захлопал крыльями и захлопотал, а потом уселся на теплую печку этаким гномом в сером армяке и стал важно рассуждать, гоняя палец под вздернутым носом:
— Понятие — есть понимаемое в понимающем. Бесконечное богатство данных, приобретаемых ясновидением веры, анализируется рассудком. Непоколебимая твердость…
— Будет тебе, Хомяков, угомонись!
Тогда он вздыбил спинку и замурлыкал мне на ухо. И это было неотразимым аргументом в его пользу, потому что белый ангел прилетал редко, а пушистый черный комок на моем плече был единственным верным товарищем все последние годы, когда я просыпалась по утрам, и никого больше не было рядом. Нам было уютно вдвоем.
Глава 13
Утром мы проснулись втроем, то есть в том же составе, что и засыпали вчера вечером. Они оба не ушли от меня, хотя маленькому я умышленно наступила на хвост, а большому предложила отправиться в свою комнату.
— С какой это стати? — спросил он меня совершенно нагло.
— Все равно ты сделаешь это не сегодня, так завтра.
— Я же сказал тебе, Марина, теперь будет по-другому, — ответил он тем же тоном, — займи свое место у стенки.
— Как скажешь! — пожала я плечами, — по пустякам можно и уступить.
Я отвернулась к стене, но коту никак не лежалось на моем плече, и я уже засыпала, а он все щелкал зубами помоечных блох и вылизывал свои серные лапки. Ему явно хотелось поговорить, как и нашему третьему компаньону — тот тоже был еще живее всех живых. Начало разговора, впрочем, я продремала.
… — оправдывался третий, — нам, действительно, нужно быть немного богом, такие уж мы с ним ребята.
— А! Так у меня все-таки есть выбор? — отвечал ему мой голос, — в таком случае я выбираю его, а не тебя.
Он прямой и честный парень, без всяких, там, подвохов и претензий на мою бессмертную душу.
— Имеет место быть! — приосанился честный парень.
— Черт! — сказал третий. — Теперь я хорошо понимаю, почему баб на корабли не берут. В пять минут всех перессорят до смертоубийства!
— Жаль, вас всего двое. Втроем было бы удобней — тут тебе и производственная ячейка, и на троих, и богом легче представляться — раскаявшиеся грешницы от умиления будут сами клонироваться!
— Этого добра нам и так хватает, только успевай стряхивать, — продемонстрировал честный парень мужскую солидарность, и тут мяу не выдержал. Шерсть его мгновенно вздыбилась, он зашипел и вцепился когтями в голову честного парня. Тот взвыл одновременно со своим напарником, и они отшвырнули кота в сторону.
— Ой-ой! Разве так можно!
— Деяния, продиктованные пассионарностью, легко отличимы от обыденных поступков, совершаемых вследствие наличия общечеловеческого инстинкта самосохранения, личного и видового, — отчеканил мяу свою дежурную фразу, уловив краем глаза мое пробуждение, и я отдала должное этому прохвосту.
Он убил этим сообщением сразу двух зайцев, изящно закруглив свою несанкционированную беседу, с одной стороны, и оправдав передо мной сомнительный характер своих действий порывистой и жертвенной преданностью, с другой.
— Ни себе, ни другим! Типичный случай патогенного поведения! — продолжал кипятиться честный парень. — Уснуть спокойно не дадут!
— Это, чтобы посторонние круглешочки не снились, — заметила я холодно возмущенному фрейдисту, поглаживая дрожащую шерстку кота.
Когда воинственный пыл мяу достиг разумных пределов, я почесала своему двойничку под подбородком, разобрала пальцами колтун на левом боку, вытащила блоху из уха и убрала с хвоста репей. Мяу урчал, лизал мне щеки и переворачивался на спинку, подставляя брюшко, раздутое трупами экологически чистых мышей, еще вчера шнырявших по огороду в добром здравии.
Боже мой, как мы любили друг друга в этот час, как сливались в трепетном волнении наши души, как убедительно звучали в ночной тишине нежные клятвы. Я обещала мяу вымыть его завтра шампунем от блох, разрешить при случае валяться на деловых бумагах и никогда не наступать на хвост, а он мне — носить белые одежды, не ступать лапками в гнилую капусту и не красть моих ролей («Козлом буду, если…»). Наконец, он забрался мне под кожу плеча, и дополз, деликатно раздвинув мышцы и сухожилия розовым носиком, до моего несчастного сердца, мгновенно согрев его своим тепленьким тельцем. Коты всегда устраиваются около больного места.
И мы заснули, а утром я подозрительно всматривалась в Андрея Константиновича, пока он управлялся с колодезным воротом, умывался и завтракал ленивыми варениками со сметаной, но он казался воплощением спокойствия, гарантом стабильности и голубем мира, вернувшимся на ковчег с оливковым листиком, когда воды сошли с земли, и Господь уже раскрашивал свой заветный мост между дивным городом с прозрачными воротами и мокрой горой Арарат, и под его кистью красные вожди любовались желтыми бабочками с реки Хуанхэ, и оранжевое солнце светило фиолетовым принцам, когда те расплетали на зеленых берегах моря волосы голубых принцесс. Несть иудея, несть эллина, несть избранных и врагов, несть никого на горе Арарат, но ковчег уже показался у ее берегов, а голубь обогнал его и ждет на ветке оливы.
Да, вопросы защиты чести и достоинства стремительно теряли свою актуальность, и пацифисты уже выли от своей невостребованности в поисках хоть какого-нибудь регионального конфликта, и я уже было совсем успокоилась, поместив кошачьи происки в разряд ночных сновидений, этаких символических противостояний инь и янь, потому что точно отличить то, что было, от того, чего не было, уже не могла.
Высокие космеи, отягощенные розовыми и белыми цветами, заглядывали в окна беседки, мяу спал, свернувшись клубочком у меня на плече, Андрей Константинович мешал ложечкой сахар в кофе, и я упивалась этим мирным зрелищем. Андрей Константинович отложил ложечку, взял чашку в руку и, поймав мой взгляд, подмигнул с нескрываемым чувством превосходства.
— Ну что, разглядела меня у колодца? — спросил он, рисуясь первым и единственным красавцем Пакавене, но тут огромный жук-олень, похожий на боевой вертолет, вылетел из космей и плюхнулся с размаху прямо в голубую чашку. Рука дрогнула, горячий кофе пролился на джинсы, а чашка ухнула на пол. Мяу приоткрыл один глаз, и в один момент желтое поле глаза затянулось черным, тельце свилось в пружину, а лапки удлинились коготками.
— Что, ведьма, никак успокоиться не можешь! — стукнул потерпевший кулаком по столу, и от утренней благости бытия остались бы одни воспоминания, но я тут же с обиженным видом принесла из кухни новую голубую чашку.
— Суицидную пилюльку успела всунуть? — спросил он уже на тон ниже.
Тогда я пообещала немедленно простирнуть все, что нужно, благо наш Андрюс был шикарным парнем и имел вторую пару штанов. Его пыл тут же угас, но этот раунд мы тоже выиграли, и я мыла посуду на кухне, напевая оперным голосом с интонациями Ларисы Андреевны любимую песенку своего мяу, указывавшую на его самую страшную тайну — в глубине души он был кошечкой, а не котом.
Там сидела Мурка В кожаной тужурке, Из кармана виден был наган…
После завтрака мы отправились к Эугении. Она приняла нас чрезвычайно сухо, всем своим видом демонстрируя, что является жертвой шантажа и неблагоприятных обстоятельств.
— Пани Эугения! — решилась я почти сразу же на свое собственное расследование, — хотелось бы сначала кое-что объяснить. Так уж получилось, но эта история коснулась нас. Я не знаю, что думает Андрей Константинович, но я-то сомневаюсь по ряду обстоятельств, что ваш муж был убийцей. Вот украсть он мог — это точно известно! Но как вы объясните, что он уже второй раз фигурирует в подобных историях?
— Он и тогда не убивал, он очень любил меня, — разволновалась пани, — а к Вельминой дочке был неравнодушен Юлиус, отец звонаря. Женатый был, и сын рос, а на девчонку заглядывался!
— Вы считаете, это он убил ее?
— Я об этом уже почти сорок лет думаю, но не могу ничего понять, хотя это и перевернуло мою жизнь.
Я тогда училась в техникуме, и мне председатель обещал место школьной учительницы. Я верила, что Тадас невиновен, но как я могла учить детей, если мой муж оказался замешанным в эту историю?
— А куда он делся тогда?
— Он уехал на север, стал называться Федором Петровичем, а потом женился на ссыльной литовке и взял ее фамилию.
— А здесь он давно?
— Года два. У него умерла жена, а детей не было, вот Тадас и спился по слабости характера. По приезду он сразу же пришел ко мне — сказал, что всю жизнь скучал по родине и хочет жить со мной здесь, в доме своего отца, но мне только что дали звание заслуженной учительницы, и я не хотела никаких осложнений в жизни.
— А перед смертью он заходил к вам?
— Я увидела его дня два назад во дворе у Вацека. Его выгнали из магазина, а он где-то там в подсобке и ночевал. Идти ему было некуда, вот он и решил ночевать в Лаймином сарае. Сарай строил Пятрас, его отец, а амбарный замок мы с ним когда-то вместе покупали — раньше вечные замки делали. У Тадаса в сарае была мастерская, и свой ключ он увез с собой.
— Пани Эугения! Лайму убили точно так же, как и Вельмину дочь, но Юлиуса давно нет в живых.
Старухи говорят, что убивают оборотни. Все-таки, расскажите поподробней о той давней истории.
— Тадас тогда еле выпутался. Когда он ушел от Юлиуса, то встретил девчонку — она шла по дороге с большой корзиной. Грибов у нас раньше много было — не то, что теперь. Она спросила Тадаса, когда он уезжает, и они разошлись. И тут Тадас вспомнил, что забыл в баньке документы — он собирался в город на заработки, и в сельсовете ему справки выдали. Тогда он вернулся берегом к баньке, но девчонки больше не видел, а Юлиус занимался сетями. Они ушли потом вместе.
— А почему его взяли?
— Кто-то издали видел, как он ходил вдоль озера. Потом делали следственный эксперимент, проверяли одежду Тадаса и, в конце концов, его отпустили.
— Юлиус тоже был под подозрением?
— Его тоже допрашивали, но про его увлечение в деревне не знали. Я сама узнала это от Домци, жены Юлиуса. Она заметила его вздохи и очень расстраивалась.
— А что вы скажете про оборотней?
— Я в них не верю. Думаю, Юлиус подозревал кого-то, и поэтому его убили, — сказала Эугения, и глаза ее остановились.
— Откуда вы это взяли?
— Домця с детства была моей верной подругой и забегала ко мне каждый день. И внучка ее, моя ученица, тоже потом часто забегала. Так, вот, вскоре после убийства Домця перестала ходить ко мне, и я сама пошла навестить их. Она рассказала, что Юлиус даже спит с ружьем, а жене и сыну запретил лишний раз выходить со двора — боялся, что убьют! Мы вспоминали это с ней много раз потом, но так и не поняли, кого же он так боялся.
— Внучка Домци — это покойная лесничиха?
— Да, у нее было больное сердце, а леснику нужна была здоровая баба. Она, несчастная, последнее время на одних таблетках и держалась!
Андрей, молчавший все это время, вдруг сказал:
— Пани Эугения! Признаваться или не признаваться, кем был покойный, — теперь это уже только ваше дело. Но, если ваш бывший муж не убивал, то убийца снова проявит себя. Подумайте об этом. Всего доброго!
— Молодец, ты сразу нашла нужный подход, — похвалил меня Андрей, когда мы ушли от Эугении, — она поверила, что ты не считаешь ее мужа убийцей, поэтому и рассказала кое-что.
Я поблагодарила за комплимент, но хвалить меня было не за что. Я действительно, сомневалась в этом, потому что видела, как почтальон уходил ночью в сторону сарая. В таком состоянии и дохлую курицу трудно поймать! И пан Станислав, по-моему, тоже сомневался. Лайму к тому моменту уже могли убить, а он, возможно, не заметил трупа и испачкался в крови, когда забирался спать в угол сарая. А разбудил его, по-видимому, только приезд милиции. Но я хорошо помнила шутку Барона относительно женщин — если что, нужно сразу вырубить, и, может быть, почтальону эта шутка как раз и удалась.
— Мне хочется увезти тебя скорее отсюда, — сказал Андрей, — уж очень ты задумчива.
— Это мое обычное состояние в Москве, так что, лучше не увози!
— Ничего страшного! Я и сам скучный парень с вредными привычками — книги по алфавиту, обед вовремя, развлечения по плану.
— Раз в неделю?
— Никак, снова примериваешься?
— Уже нет — ты пьянствуешь и бьешь посуду. И у меня принципиально иной порядок на книжных полках — по цвету обложек. Мне так лучше запоминается.
— Первейший мещанский грех, — рассмеялся Андрей, — так наша история будет на черненькой полке?
— Я думаю, где-нибудь между приключениями бравого солдата Швейка и приключениями авантюриста Феликса Круля — оба произведения авторами не закончены, и остается простор для фантазии. Неплохая компания для любителя пользоваться чужой зубной пастой!
— Такой трехцветной? Имеет место быть! Впрочем, при всей твоей святости, ты тоже не упускаешь случая попользоваться чужим! — заметил он, заложив руки в карманы, и я не сразу поняла, что он имеет в виду.
Потом поняла.
— Ты плохо знаешь предмет. В последней заповеди сказано: «Не желай жены ближнего своего…», а насчет чужих мужей там нет ни слов — полный карт-бланш. Потом, конечно, они спохватились, но было уже поздно!
— Андрюс, ты мне послан богом! — прервала Жемина наш крайне содержательный разговор, грозивший вылиться в ожесточенную перестрелку.
Оказалось, жизнь продолжается, и нужно было перегрузить в лесу с грузовичка шурина Бодрайтиса левый комбикорм. Это была операция ежегодная и строго секретная. Я, правда, подозревала, что в такой же секретности, с этого же самого совхозного грузовичка и в этом же лесу перегружаются комбикорма в каждый двор Пакавене, но у чужих игр имеются свои правила. Андрей вздохнул, и Жемина побежала за Стасисом.
В деревне, как известно, приглядывают друг за другом пристально, и от крестьянского ока, познавшего, как завязываются хлебные колосья, скрыться трудно. Если уж заводятся тайны в деревенском дому, сказал мне как-то Стасис, то ими делятся только с родным братом, а с двоюродным уже нельзя.
— Так-то он хороший, — изрекла Жемина вслед машине Андрюса, — а как жить с ним каждый день, так не знаю. Мой тоже был хорошим, а теперь волосы от пьянки клоками вылезают.
— Где моя мама? — спросил с крыльца маленький Янис, прижимая к груди лук со стрелами, — я хочу домой.
— Она не придет домой, а папа сейчас приедет, — ответила Жемина, — идем со мной, я тебе там на кухне яичко сварила.
Пока она кормила Яниса, во дворе появилась беременная Ядвига. Выглядела она ужасно — постаревшее одутловатое лицо, красные отекшие руки, тяжелая утиная походка. Мы поздоровались и поговорили о погоде, будущем картофельном урожае и ее здоровье — все, кроме здоровья, казалось неплохим. Я осведомилась о сроках родов, а она спросила, когда я уезжаю, и ушла к Жемине на кухню одолжить стакан сахара для детей.
Когда машина вернулась назад с полу-открытой крышкой багажника, и три мешка комбикорма были разгружены, Андрей убежал звонить на почту. Вернулся он нескоро.
— Дозвонился, — сообщил он мне по приходу, и, помолчав, добавил до боли знакомую фразу, — да, дела…
— Дела ждут. Там уже Баронесса, небось, нервничает, идем к ней.
В Вельминой кухне вовсю шли приготовления к отвальной. Мальчики тут же укатили в райцентр за яблочным вином и скромными деликатесами районного масштаба. Сегодня был тихий вечер воспоминаний, и Андрею, как новому обитателю Пакавене, была уготована роль благодарного слушателя. Барон начал с широко известной истории о том, как он решил однажды погулять недельку в Пакавене зимой.
Зима получилась в тот год почти бесснежной, и Пакавене словно вымерла и застыла от ледяного ветра. Окна были плотно занавешены, но из каждого окна чужака сверлили недобрые взгляды. Он пришел к Жемине, и увидел на месте веселенькой луковой грядки окаменевшие помои с одинокой апельсиновой шкуркой. А на Кавене под шелест усохших камышей из черной воды всплывали зловещие пузыри и пучились на поверхности предсмертной пеной.
Барон понял, что крупно ошибся сезоном, но вспомнил рецепт Венички Ерофеева — у того в его Петушках всегда было лето. Жемина терпела Барона три дня, и все это время ее четверо мужиков сидели за столом, перестав глядеть в телевизор и колоть дрова. Поскольку Вельма жила зимой у своего среднего сына, районного прокурора, то Жемина выперла Барона на турбазу, где в это время пребывала республиканская сборная по лыжам. Лыжникам тоже хотелось промочить горло, но у них был строгий дядька, и им нужно было ставить рекорды. Тогда Барон одолжил на пару дней в райцентре у Лили своего друга Алоизаса, и они, в конце концов, прозевали обратный ленинградский поезд, потому что уследить за числами оказалось невозможно.
— Мне нужно еще раз позвонить, — сказал вдруг Андрей, — кажется, у Вельмы есть телефон?
Андрей вернулся, когда Вася рассказывал неприличный, но очень литературный анекдот о старушке-свидетельнице, отчаянно путавшейся в официальной терминологии. Когда мы отсмеялись, Барона снова понесло, и он припомнил относительно свежую историю о своей предпоследней студенческой практике.
Его допустили тогда под строгим присмотром взрослых коллег к первым самостоятельным действиям, и тут в приемный покой прибыла плачущая молодая женщина с годовалым ребенком на руках. Ребенок проглотил иголку с красной ниткой, упавшую с бабушкиной груди. Виновница события, убитая горем, стояла тут же, в толпе многочисленных родственников по обеим линиям. Барон предложил мамочке удалиться, раздел ребеночка и тут же обнаружил страшный предмет в отвороте кофточки. Быстро намочив красную нитку под краном, он выждал некоторое время и затем предъявил иголку счастливой матери. Ошарашенные коллеги наблюдали, как он принимал поздравления от родственников, даже не поинтересовавшихся, на радостях, откуда это он извлек иголку.
— А сколько было ошарашенных коллег? — спросил Андрей.
— Двое.
— Добавь меня, теперь их всегда будет трое, — загадочно произнес Андрей, и мы только спустя минуту поняли, что он имеет в виду.
А дело было в том, что Барон пошел по стопам своего дедушки, известного в Питере детского врача, но к двадцати четырем годам у него за спиной были только медицинский техникум, двухгодичная служба в армии армейским фельдшером и дежурства на скорой помощи. Поступив, наконец, в мединститут, он решил скрыть от пакавенского бомонда свое положение запоздалого студента и представлялся скульптором-профессионалом с персональными выставками, и это было чистой правдой. Полную истину, однако, знали только лучшие люди Пакавене, и они все присутствовали сегодня в Вельминой беседке.
Прошлой зимой Барон договорился относительно ординатуры в каком-то центре спортивной медицины, где ему и выдали дефицитный костюм фирмы «Адидас» всего за половину стоимости, но к лету поступило более интересное предложение, и он уже всерьез намеревался заняться микрохирургией уха, как оказался на грани разоблачения с появлением в Пакавене одной странной московской девушки с хроническим насморком, ежедневно устраивающей на Кавене скандалы по поводу предосудительного поведения наших нудистов.
Бедняги никак не могли взять в толк, почему же оппоненту не купаться на других озерах, где не было поводов для беспокойства, пока не опознали в Бароне предмета ее пламенной страсти. По вечерам она брала молоко у Гермине и кидала безутешные взоры в сторону Вельминой беседки. Он же воспринимал это как должное, слегка досадуя по поводу наших издевательств, пока однажды на мостках она не набралась духу и, подсев к предмету своего обожания, не произнесла, волнуясь и путаясь в терминах:
— Вы, случайно, не отоухоларинголог?
— По-по-почему я? — спросил ее оторопевший Барон, не признававший за собой явной принадлежности к определенному типу, за исключением взлелеянного им образа арийского супермена.
— Я видела, как вы осматривали своему сыну уши и мазали ему горло люголем, и хочу посоветоваться с вами по поводу своего насморка, — ответила она искренне, после чего долго и подробно рассказывала ему, как именно льет у нее из носа, пока предмет обожания не скрылся в кустах, распространяясь там относительно положения крыши у всяких пигалиц.
Его опасения, однако, были безосновательны, потому что нормальному обитателю Пакавене вообразить Барона врачом было невозможно. Однако у него были искуснейшие руки и какое-то доопытное понимание природы, и, спустя много лет, когда он спасет левую ножку Суслика от ампутации, та скажет, что теперь Барон может делать все, что угодно — убивать богатых старушек топором, примкнуть к арабским террористам или пойти по стопам папы Чикатилло, но теплое место в раю ему уже обеспечено.
Вечер разгуливался, но пришлось заняться поисками ребенка. Таракана обнаружили на большой яблоне Жемины, с изуродованной молнией стволом, где он коротал время с Сусликом, пользуясь занятостью родителей. Юмис не стал пилить яблоню, и она давала раз в два года странные сдвоенные плоды, поспевающие уже после отъезда последних дачников. На этой яблоне местная фармацевтика имела неплохую ежегодную прибыль, поэтому о сомнительном поведении Суслика тут же доложили Мише, а Таракану засунули в рот таблетку сульгина и поставили перед фактом окончания сезона. Тот, естественно, зарыдал, и это было как нельзя кстати, поскольку в обиженном состоянии он засыпал гораздо быстрее.
Новая порция горячей картошки уже дымилась на столе, и мы летали в картофельных парах по пространству и времени, уносясь в виртуальные миры Йокнапатофы, Макондо и города N, и золотой век поэзии сменялся без предупреждения серебряным, и сто лет одиночества мелькали, как миг, и на балконах с архитектурными излишествами декабристы с диссидентами подставляли капелькам дождя свои ладони, желчно приговаривая: «Что хотят — то и делают!», а боги уже развешивали кумачовыми полотнами свои уши, потому что им тоже хотелось перемен — не вечно же красить масляной краской золотые лампады в своих хорошо законспирированных спальных районах, и, в конце концов, можно хоть раз сделать то, что хочется!
Барон припас для отвальной новую (или хорошо забытую) серию анекдотов про героев гражданской войны, и, пока Петька искал за печкой стоячие носки начальника, а начальник сдавал экзамены в академию и сочинял стихи в стенгазету по заданию комиссара, обстановка за столом была вполне пристойной. С появлением пулеметчицы страсти, однако, накалились, и нашим мальчикам явно захотелось погулять по степи и помахать шашками.
— Свободу! — выразил Барон общее мужское мнение, и они все дружно исчезли, отправившись на туристический пляж. Мы остались с горой немытой посуды, а уже через пять минут с озера донесся разноголосый женский визг, знаменующий начало агрессии. Нижнепакавенцы, в связи с лесной опасностью, приспособились было купаться по вечерам на туристическом пляже в библейском виде, и ухудшили тем самым нравственность доброй половины турбазы, поскольку дурные примеры отличаются наибольшей заразительностью. Девочки вздохнули, но я была безмерно добра, потому что у меня был еще один день в запасе.
— Черт с вами, я сама вымою посуду, присмотрите там за моим.
— Мы присмотрим, — сказали девочки, хищно облизнув губы, — мы обязательно присмотрим, все будет в полном порядке!
Я мыла тарелки и грустно думала, что лето завтра для меня кончится, и то, что впереди еще август, особого значения не имеет. В Москве добегаешь из автобуса в метро, не успевая толком понять, какой именно сезон стоит во дворе. И что ждет меня в этом безликом августе, я не знала.
Через год осенью умрет Виктор Васильевич, и тетка будет спать с его удочками у кровати, надеясь достучаться ими по батарее до соседей какой-нибудь одной рукой, если другую хватит паралич. Съезжаться с племянницами она откажется, и вскоре умрет, так и не дотянувшись до батареи. С ней окончательно умрет и весь наш мир. Плох он был или хорош, но это был мир нашей молодости, и уже поэтому заслуживает славной эпитафии. Нам было дано долгое детство, и мы читали стихи, и колесили по нашей большой родине, особо не задумываясь о завтрашнем дне, а новый день автоматически выдавал положенную нам мзду. Она, действительно, была небольшой, но весь мир все равно принадлежал нам. Быть может, в действительности этот мир был совсем иным, чем нам казалось, но это никого не волновало…
С пляжа продолжали нестись женские крики, а кто-то вопил низким басом:
— Зз-загоняй… Держи ее!
Где-то тут, недалеко от Пакавене, стоит мельница, до которой я так ни разу и не дошла, и где-то в лесной тишине под пахучим плащом хвойных иголок расползаются в сторону грибницы, пронизывая землю своими белыми тонкими нервами, но они прорастут уже не моими грибами.
Я сложила на кухонном столе чужую посуду, а свою забрала с собой. Андрей появился в полночь мокрым и довольным, и на его плече красовались две отметины — розовая и ярко-красная. Наши дачницы летом губ не красили, и улики были явно оставлены ундинами с турбазы.
— Не менее сотни поймал, — прокомментировала я свои наблюдения, — мальчишник, видимо, удался на славу!
— Черт, как неудобно вышло! Увертывался, ведь, как мог, — горевал мой герой, разглядывая следы помады, — и что это женщины во мне находят?
— Вид у тебя слишком сирый для будущего многоженца, — подытожила я свои наблюдения и пошла выключать свет, — ступай-ка сейчас на диванчик, а завтра обсудим, как тебе ловчей увертываться.
— Завтра, однако, уже наступило! — сказал он, быстро взглянув на часы, и я очутилась в тесном кольце его рук, — но не бойтесь, леди. Служенье муз не терпит суеты. Я слегка нетрезв и сейчас уйду к себе, как и полагается после мальчишника.
— Отличный инстинкт самосохранения!
— Да это типичный акт самопожертвования. Я лишаюсь интереснейшей дискуссии. Что там у тебя в повестке — спортивная злость или полное разочарование в жизни?
— Оптимизм! Как у комиссара на революционном корабле.
— Что же, прекратить доступ к телу, да еще из именного пистолета — сокровенная мечта каждой феминистки, — уважительно заметил мой собеседник, но покойные члены Союза писателей тут же заворочались в гробах, протестуя против сомнительной трактовки классической пьесы.
— Зато итоги оказались вполне утешительными — все стали вилять хвостами и преданно смотреть в глаза.
— Мое любимое занятие, если за этим дело стало.
— Добавь — перед обедом, и все станет на место окончательно и бесповоротно.
— Да, картина складывается прямо-таки трагическая. Но кое-какие основания для оптимизма у нас все же имеются.
— Рассчитываешь на мое любопытство?
— Нет, для тебя это уже давно не является тайной, — сказал он уже в дверях, — я люблю тебя, и ты всегда будешь единственной женщиной в моей жизни.
Я осталась одна, потушила свет и открыла окно. Деревня уже спала, но в лесу была какая-то суета.
Старый Нозолюм размахивал своими мощными ветвями, стряхивая лишние желуди, и легкие лиетувенсы, духи умерших неестественной смертью, с каждым порывом ветра распускали крылья, крепче вцепляясь в качающиеся дубовые ветки. Аудра, богиня бури, хищно приникала к спящему Литуванису, вечно молодому богу балтийских дождей, и ее сумасшедшие седые кудри смешивались с бесцветными прядями его длинных волос, плотно укрывающими голое пространство под старым дубом.
К окну подошли двое запыленных спутников, и неспешный пожилой Лигичюс встретил их, чтобы избежать ненужных споров. Келю Диевас, поджарый бог дорог с задубевшим обветренным лицом, указал посохом куда-то на восток, и долговязый гуляка Апидемис, ежедневно меняющий свое жилище, посмотрел в ту же сторону и беззвучно захлопал быстрыми ладонями. Лигичюс подумал немного и закивал головой в знак согласия и единства мнений.
— Я не спорю с вами. Мне пора, и я уже уезжаю — сказала я старшему, но они не уходили и смотрели на меня с тревогой и участием, будто о чем-то предупреждали, но решительная Будинтая уже гнала их со двора, и последнее, что я успела заметить, было заплаканным личиком Лаздоны, выглянувшим из орешника с первыми лучами солнца.
Глава 14
Богиня пробуждения, приняв мужское обличье Будинтойса, сказала мне тихим голосом:
— Вставай, Марина, пора отвозить наших друзей на вокзал.
Боги — что хотят, то и делают, а мне было дано лишь впитывать результаты божественной трансформации. Впрочем, процесс протекал не без определенного удовольствия, и это, по-видимому, весьма красноречиво отражалось в моих глазах, что привело Будинтойса в некоторое замешательство. На часах, однако, значился первый час дня, машина стояла уже у дома Вельмы, вокруг толпился народ, и Барон укладывал в багажник последнюю сумку. Таракан жевал бутерброд размером с половину своей головки, путаясь под ногами провожающих.
Лида с Васей уже сидели в машине, а когда Таракан взгромоздился на колени матери, и из окошка глянули две пары очень похожих глаз, я вдруг поняла, что Боливар перегружен и седьмого не выдержит. Тогда я повернулась к Барону и посмотрела ему в глаза.
— Прощай, сынок!
— Ты одна меня любишь бескорыстно, — сказал Барон дрогнувшим голосом.
— Не верь ему, — заметила жестокосердая Баронесса, — он мечтает быть сыном госпожи Тэтчер.
— Витенька! — заплакало мое сердце, угадав страшную правду — ведь судьба разводила нас безжалостными руками в разные стороны, и мы превращались в те маленькие забавные истории, не имеющие продолжения, которыми потчуют залетных гостей зимними вечерами на маленьких теплых кухнях.
— Витенька! Если в Союзе найдется хоть один Тэтчер, я выйду за него замуж и усыновлю тебя. Будешь писать в пятом пункте о маме — М. Тэтчер.
У Барона выступили слезы благодарности.
— Так мы уезжаем? — занервничал Селиванов, быстро заводя мотор.
Таракан весело замахал тощей ручкой, и они уехали. Все быстренько разошлись по своим делам, и дворовая пустота обрушилась на меня с неумолимой жестокостью. Мне стало вдруг совершенно ясно, что это мое последнее лето в Пакавене. Никогда более — приговаривала меня судьба-индейка, нафаршированная грядущими рождественскими тайнами, и я решила немного погрустить в Вельминой беседке. В беседке на круглом столе сиротели остатки бутерброда со следами детских зубов. Желтоватый колбасный жир уже вовсю плавился на солнышке, и тучная муха, суча ломкими сухими коленцами по скользким потекам, откладывала невидимые яйца в розовато-бурую неровность среза.
— Sic transit gloria mundi! — подумала я мертвым языком о преходящей земной славе, и, содрогнувшись от тошнотворных перспектив бренного бытия, вознамерилась покинуть беседку. Не тут-то было! На пути моем лежала песочница со свежеиспеченными куличиками, и мы с Восьмеркиным смотрели друг на друга долго и задумчиво, пока он не протянул мне свою любимую желтенькую пасочку, и я не испекла парочку песочных пирожных на дальнем конце его малогабаритной кухоньки.
— Почему он перестал бояться? — не выходило у меня из головы, и эта детская тайна волновала меня сейчас куда более загадок Бермудского треугольника, Янтарной комнаты и золота Колчака.
Потом я пошла заниматься вещами, и, когда вернулся Андрей, я уже упаковала свой мешок с дачными принадлежностями и отнесла его в кладовку. Мы сразу же отправились на теткину веранду, где долго увязывали мешки с посудой, тазами, умывальником, резиновыми сапогами, инструментами, рыболовными принадлежностями и иной всячиной, накопившейся за четверть века пребывания в Пакавене. Все это нужно было снести наверх вместе с гамаком Виктора Васильевича, а потом Андрей со Стасисом вытащили из озера его лодку и положили сушить во дворе на вкопанные в землю деревянные чурбачки.
Нам оставалось уложить свои чемоданы, но, несмотря на нашу кипучую деятельность, мир сегодня оставался удивительно неподвижным, словно милостью своих обитателей оказался в историческом тупичке. Белые и черные ангелы напряженно ждали на маленьких квадратных полях, пока уложится вавилонское смятение, и игроки вспомнят правила своей вечной игры. Сейчас должен быть ход ферзя, но все знали, что под этим грубым именем скрывается трепетность нежной королевы, и она обречена прикрывать своей незащищенной грудью вооруженные колонны обезумевших от страха королей. Им было удобней называть ее ферзем в своих мужских играх, где не было места милосердию и состраданию.
Но мозаика из лепестков Гретхен уже складывалась сама собой, и королева прикидывала возможный исход битвы. Погибать не хотелось, а страстное желание провести остаток дней в башне из слоновой кости королю казалось подозрительным — ему мерещились подпиливание оконных решеток, умелые манипуляции с веревочной лестницей и торопливый альковный шепот. Срочное бегство в костюме Керенского виделось наихудшим вариантом, а домашней заготовкой средней пушистости представлялось возможное регентство на острове Буяне при малолетнем Гвидоне с небольшим ежемесячным пособием для матерей-одиночек и тайными надеждами на рождественский хэппи-энд:
Царь слезами залился, Обнимает он царицу, И сынка, и молодицу, И садятся все за стол; И веселый пир пошел…
Ей-богу, не так уж и плохо! — уговаривала я себя под одобрительное мурлыканье с левого плеча, потому что надежда умирает последней, — и, потом, почему обязательно Гвидон?
Я представила себе маленькую царевну-лебедь, усеянную над месяцем розовыми бантиками, и мурлыканье приобрело мощность соседского магнитофона. Сговорчивость моего черненького alter ego отнюдь не означала его одобрения — мяу относился ко всем вариантам, кроме бегства, весьма скептически, но боялся за свой хвост. Ему было хорошо известно, что в гневе королева бывает сущей ведьмой, и он даже процитировал ей однажды коронную фразу Барона (Таким и ребеночка утопить — раз плюнуть!), которой тот кончал свои увлечения, поскольку все его Гретхен, как на подбор, оказывались стервозными холодными рыбами. Впрочем, дело было сложнее, и об этом абсолютно все сказал сам Гете — наш Фауст и Гретхен, они, если честно, не пара, не пара, не пара…
— Маленький, но хорошо направленный взрыв, — обдумывал ферзь свои вечерние планы, — чтобы все тайны королевства разлетелись ко всем чертям!
— Все вещи, кроме твоего чемодана, уже в машине, — сообщил мне во дворе Андрей, — давай никаких дел на вечер не оставлять.
— Неплохо бы заехать на минутку к Лауме, если ты не против. Я тогда свой чемодан оставлю пока в комнате.
У Лаумы за озером было полным-полно народа — шло районное совещание партии зеленых, и я решила не беспокоить ее. Мы вернулись в деревню и попрощались с Иреной, доившей свою пеструху.
Нижне-пакавенцы отсутствовали на месте по полному списочному составу — у них сегодня была лодочная экскурсия на Жеймяну. Деловая часть этого дня, таким образом, завершилась, и можно было идти прощаться с Кавеной. Пока я переодевалась, Андрей Константинович успел соорудить на кухне пару бутербродов с сыром и занять выжидательную позицию на крыльце с корзиночкой в руках и моей красненькой таллинкой на голове.
— По-моему, кто-то из нас сошел с ума, — сказал он, наблюдая, как меня трясет от хохота.
— Моих страшных зубов еще не боишься? — спросила я его тогда, и в ту же секунду до него дошло, что со мной все в полном порядке.
— Черт! Типичный наряд жертвы — запугала до виктимного состояния! Теперь я просто обязан вернуть себе мужское достоинство — нравится это тебе или нет.
— Можешь на меня рассчитывать, в серьезных делах я не подвожу.
— Соглашаться сразу, Марина Николаевна, просто преступно, — заметил он, — неужели вас ничего больше не смущает?
— Самые пустяки! Четверть твоей зарплаты — это сколько по курсу доллара?
— Не волнуйся, у твоей тети есть мой телефон, совместное хозяйство мы целый месяц вели, а всех свидетелей тут оборотни не скушают. Если что — докажешь!
— Вполне логично, — ответила я, как примерная чеховская душечка, чей лексикон всегда определялся окружением, — теперь я полностью тебе доверяю.
На всякий случай он все же передоверил мне атрибуты Красной Шапочки, и мы ушли в лес по голубой дороге. Она вела от деревни на Кавену, но перед озером загибалась и большим кольцом возвращалась к турбазе. Сосны были помечены голубой краской, чтобы туристы не заблудились, поэтому ее и называли голубой. Мы прошли указатель с решительным пальцем, деревянную скульптуру с лаптем, пузырем и соломинкой, скопище высоких елей, кормушку для ланей и маленькую деревянную лисичку, напротив которой умерла несчастная лесничиха. Мир по-прежнему оставался неподвижным, и даже маленькие враги всего теплокровного человечества не решались нарушить лесную тишину, уловив в густом хвойном воздухе запах грядущих перемен.
На мостках, к счастью, никого не было, и, переплыв озерцо, мы покружились среди белых лилий, путаясь в зеленых волосах спящих ундин, и маленькая черная бездна последний раз пронзила нас своими страшными глубинными тайнами. «Never more! Never more! Never more!» — цокали пузыри по воде, и звуки эти, словно тихая барабанная дробь, складывались в скупую музыку утраты, но брызги от лопнувших пузырей тут же оседали алмазными капельками на позолоченных крылышках застывших над озером стрекоз, отражая чудесный солнечный мир Пакавене, и боль утраты сменялась радостью бытия, потому что этот день был дан нам только для того, чтобы жить настоящим.
А когда мы простились с водой, то пора было прощаться с берегами, и мы поднялись на маленький пляжик к большому серому валуну, забытому когда-то растаявшим ледником, и, когда мы поднялись туда, то подул ветерок, и мир пришел в движение, и начал накатываться на нас яркими изумрудными волнами, пока мы не слились с ними в единое целое, растворившись в их нежной и теплой сути.
Да, этим летом нам повезло с солнечными днями, как и предвещал один знаменательный денек в начале июля. Если он оказывался мокрым, то дожди лили сорок дней подряд, и грибы росли прямо на крышах домов, и стайки рыб проплывали между ветками орешника, и ядовитые росы мучили по ночам чахлые паслены, и дачники не вылезали из высоких теплых калошек, отчаянно презираемых молодым поколением пакавенцев, и в моих окнах мелькали какие-то неясные и ненужные тени из дождливого вчера и дождливого завтра, а сегодня было таким же мокрым и туманным, как вчера и завтра.
Завтра я уеду, и Пакавене исчезнет из реального мира, свернувшись в маленький круглый комочек, и дома будут просвечивать черными семечками сквозь сочную зеленую мякоть, пронизанную нежными жилками лесных тропинок, и подрумяненный бочок обозначит то место, где за песчаным холмом с высокими соснами обитала богиня Аустрине, ведающая лучами восходящего солнца. Я съем свою половину яблока и увезу рай в себе, и в генной памяти навечно останутся и шум пакавенских сосен, и пряный запах можжевельников, и блеск озерной воды.
А пока Пакавене готовилась к буре, и ветра вовсю гуляли в ее все еще реальных пространствах, и тучи затягивали сатиновым трауром стремительно остывающее небо.
— Скоро дождь пойдет, идем на мостки оденемся, — сказал Андрей, а я попросила его принести одежду сюда, потому что хотелось полежать еще несколько минут в одиночестве.
Он ушел, раздвоясь странным образом, и часть его, невидимая миру, осталась во мне, распавшись на миллионы маленьких мальчиков, которые метались по Пакавене моего лона и искали прибежища. Но все двери были закрыты, и они каждую секунду тысячами погибали на остывающем песке, и я оплакивала каждого из них горестно и печально. И когда последний из них подбежал к мокрым дощатым стенам, и я скорее угадала, чем увидела обвисший от дождя бантик на русой головке, то грянул гром, и ребенок, испугавшись, вышиб деревянную дверь и скрылся в домашнем тепле, а мне полагалось тут же обо всем позабыть, потому что всему в этом мире есть срок.
— СегодняИльиндень! — подумала я, успокоясь в своем беспамятстве, но силовые поля, вольно гулявшие в этот час по пакавенскому небу, внезапно сгустились надо мной и, упираясь в страшной бычьей ярости куда-то в небо, подняли меня с холодного песчаного пляжика и вытолкнули на тропинку, а я немного замешкалась, чтобы снять с веток орешника подсохший купальник, но не успела надеть его, потому что откуда-то сбоку раздался шорох, и мой рот зажала железная рука. Попытки освободиться оказались безуспешными, и он потащил меня в лес в сторону картофельного огорода лесника, огороженного от кабанов высоким частоколом, и я чувствовала кожей его волосатую грудь, мокрую от смрадного пота, и все волшебные сказки моего детства в ужасе метались в голове, потому что им тоже не хотелось умирать. Наконец, Мальчик-с-пальчик, которого не раз злодеи-родители уводили в темный лес, сказал:
— Бросай камушки, ведь зернышки могут птицы склевать, — и я выпустила из рук на тропинку свой купальник.
Шли страшные секунды, и ничего не менялось, и я уже закрывала глаза, потому что до меня, наконец, дошло, почему девушка в орешнике так горько плакала сегодня на рассвете.
— Не шевелись, Марина! Стой спокойно! — услышала я вдруг знакомый голос и открыла глаза.
Андрей стоял в пяти шагах от меня, но я была сдавлена смертным объятием оборотня, и холодное лезвие ножа было у моего горла, и моросящий дождик покрывал мелкими каплями мое тело. Я смотрела на Андрея, а он смотрел на волосатого, и глаза его медленно загорались голубым ледяным светом. Острая сталь процапарала мою кожу, потом руки убийцы ослабли, и я потеряла сознание.
Когда я пришла в себя, то Андрей был рядом, а у деревянной изгороди с отрешенным видом сидел мясник из пристанционного магазина.
— Сейчас мы уйдем, — сказал Андрей и, нагнувшись, положил зеленым листиком нож в пластиковый пакет, — порез у тебя неглубокий, но маленький шрам все же останется.
Он подхватил меня на руки, и мы уже были на тропинке, когда послышался топот, и у частокола появилось кабанье стадо. Мясник привстал, слабо взмахнув рукой, и огромный вепрь с разбегу вонзил белесые клыки в его живот. Мясник кричал, а вепрь вынимал мгновенно покрасневшие клыки из кровавого месива и вонзал их снова и снова, пока не стихли последние стоны. Потом стадо исчезло так же внезапно, как и появилось, а Андрей выпустил меня на землю из онемевших рук и подошел к частоколу, остановившись в нескольких шагах от трупа.
— Одежда на мостках. Я вернулся, потому что почувствовал странное беспокойство, — сказал он мне потом, — идем оденемся.
До мостков я дошла, как во сне, мы оделись, а через минуту уже бежали по голубой дороге — идти нормальным шагом я уже не могла. Когда показались первые огоньки деревенских домов, силы оставили меня, и я опустилась на землю. Андрей всячески успокаивал меня, и говорил, что все уже кончено, и оборотня больше нет, но смысл слов не мог дойти до моего дрожащего тела, пока он не произнес то, что дошло мгновенно.
— К десяти часам вечера нас ждет районный прокурор, я переговорил с ним вчера по телефону, когда узнал, что он сын Вельмы.
Мы прошли тропинкой вдоль холма, не попавшись никому на глаза. Вельма ахнула, увидев кровавый след на моей шее и принесла аптечку. Пока Андрей обрабатывал рану, мы с Вельмой молча смотрели друг на друга, и в глазах ее метался, застывая на короткие мгновения, тот самый вопрос, ради которого мы и пришли.
Потом она провела нас к себе в гостиную, где уже сидел высокий человек с густыми бровями, ее средний сын Титас. Мы поздоровались, он осмотрел нас очень внимательно и сказал, обращаясь к Андрею:
— Я звонил сегодня по вашей просьбе в столицу и навел о вас справки — рекомендации неплохие. Вчера вы сказали, что хотите поделиться со мной некоторыми соображениями, я внимательно слушаю.
— Со вчерашнего дня уже кое-что произошло, — Андрей вынул пакет с ножом и положил его перед прокурором, — на нем отпечатки пальцев мясника, сегодня он чуть не убил Марину.
— Мы говорили с ним недавно по поводу смерти лесничихи. Он рассказал, как она принимала таблетки в очереди за сахаром, — произнес ошеломленный прокурор.
— С вашего разрешения я расскажу все по порядку, — начал Андрей, но тут Вельма внесла кипящий чайник и три тарелки со своим коронным блюдом — жареными свиными ушами с черным горохом. Я попросила только горячего чаю, чтобы согреться, и Вельма принесла чашки и теплый шерстяной платок.
Вельма вышла, мужчины молча ели, и прокурор поглядывал на нас из-под кустистых бровей, а когда чашки опустели, то Андрей рассказал историю с серыми «Жигулями», оранжевым свитерком и прочими деталями.
— Меня эти случаи заинтересовали с профессиональной точки зрения. Дело в том, что аналогичные события периодически имели место в городе Херсоне, областном центре Восточной Украины, начиная с 1957 года. Последний случай был зарегистрирован три года назад. Подозревалось людоедство, а этим аномальным явлением у нас активно занимались со времен голода на Украине и Поволжье. До войны в Херсонской области это не было редкостью, но после войны рецидивы уже почти не случались.
Во всех случаях почерк был один, но преступника так и не нашли. Убивали только молодых женщин, убийство не сопровождалось изнасилованием — что достаточно необычно, резала твердая рука, из трупов исчезали внутренние органы, и, в первую очередь, это касалось печени. Однажды я совершенно случайно узнал от старого врача, бывшего священника, что весьма сходный случай имел место в пятидесятых годах в Якутии. Он подозревал какого-то нерусского ссыльного, но не знал его имени и точного местопребывания.
Когда я услышал здесь о подобных убийствах этим летом и ранней осенью сорок девятого года, то у меня как-то сама собой сложилась определенная рабочая версия, и я заручился некоторой поддержкой в вашей столице. Следовало сложить в уме серые «Жигули», долгое отсутствие искомого лица в Пакавене, предполагаемый возраст его и наличие спортивной обуви Каунасского производства. На этом основании я и посетил дом мясника, пока он был занят на службе, надеясь обнаружить в доме что-нибудь особенное.
Я посмотрела на левую руку Андрея, а прокурор опустил уголки губ и покачал головой.
— Вот, значит, кто стекло ему выбил! Но официального заявления от мясника не поступало. Ядвига, правда, говорила, что воров было двое.
— Ей показалось.
— Но что вы там искали?
— Ничего заранее определенного. Ножа, во всяком случае, я не искал — это по вашей части. Мясник, прожив в доме уже более года, совершенно не тронул обстановки, и в комоде под старым женским бельем лежала связка его писем покойной матери. Обратным адресом в письмах значился город Херсон, а в более старых письмах — поселок Медвежья Падь с номерами спецпочты. Я попросил своего коллегу просмотреть еще раз бумаги священника и уточнить местонахождение поселка Медвежья Падь. Поселок, как оказалось, находится у Хандыги, а место, где священник служил фельдшером, располагается совсем неподалеку.
Дом мясника крайний в сторону райцентра, и на коротком отрезке шоссе до поворота на песчаный карьер машину с туристкой видели только двое — Марина и звонарь. Звонарь, по-видимому, первым связал этот случай с мясником и тем давним убийством вашей сестры, за что и поплатился жизнью — так же, как и его отец. Марину мясник узнал позже и тоже захотел замести следы. Я не исключаю, что он пытался зарезать и дочь звонаря — ведь она могла что-то знать. Возможно, именно его и спугнули в лесу как раз во время обеденного перерыва в магазине, но это только догадки. А бомж просто ночевал в сарае и повесился, поняв, что снова попал в переплет. Вот, собственно говоря, и вся история.
Прокурор сидел, не касаясь спинки стула, и лицо его окаменевало по мере продолжения рассказа.
— Где он сейчас? — спросил он, наконец.
— Тело должен завтра найти лесник, мясника задрали кабаны на наших глазах у огорода за Кавеной, когда он попытался скрыться, испугавшись моего появления. Мне жаль, я хотел с ним поработать.
Прокурор долго молчал, погрузившись в какие-то свои мысли, и Андрей добавил.
— Завтра мы уже уезжаем со стариками, Мариниными родственниками. Что вы намерены предпринять?
— Мама, — сказал прокурор, не повышая голоса, — что мы собираемся делать?
Дверь тут же открылась, и на пороге стояла Вельма. Вид ее был ужасен, но она сказала твердым голосом:
— Я хочу посмотреть на него. Если он мертв, оставим все, как есть — не нужно больше тревожить память нашей девочки.
Титас вопросительно посмотрел на Андрея.
— Я в отпуске, — сказал Андрей, — и моих интересов в этой истории теперь не проглядывается.
Они сели втроем в машину прокурора и уехали под раскатами грома. Лесник после похорон жены ночевал у новой подруги, и растерзанное тело убийцы по-прежнему лежало возле изгороди. Старая Вельма с сыном посмотрели на останки мясника, а дождь, бушевавший в Пакавене в тот вечер, смыл их следы. Андрей вернулся домой мокрее мокрого, но я уже успела согреть постель.
— Я теперь обязана тебе жизнью, спас все-таки Красную Шапочку от серого волка.
— Имеет место быть, не спорю! Но я не смог предотвратить вашей встречи, и это печально. Давай сегодня покончим со всеми нашими страхами!
— Ты думаешь, это возможно?
— Наверное, появятся новые, и в этом ты права. Но это, в конце концов, и называется жизнью.
И он начал рассказывать, а дождь лил так упорно и густо, что окна исподтишка округляли в темноте свои очертания, норовя превратиться в корабельные иллюминаторы.
— Когда мне было двадцать шесть, и я подрабатывал после защиты кандидатской в платной поликлинике, ко мне на прием пришла очень красивая молодая женщина, актриса, и я тут же влюбился без памяти. Она попала незадолго до этого в автомобильную катастрофу, ее муж погиб, а она отделалась головным ушибом и жаловалась на периодические головные боли — это мешало учить ей роли.
Через несколько месяцев мы поженились, и я удочерил ее годовалого ребенка. С общими детьми мы решили повременить — ей нужно было работать на сцене, но, спустя три с половиной года после свадьбы, у нее обнаружилась мозговая опухоль. После операции она с трудом узнает только своих родителей, с которыми и живет то время, пока не находится в клинике. Я часто бываю там и помогаю, чем могу, но живу с дочерью и своей матерью.
— Я не разводился с женой, до сих пор в этом не было необходимости. А сейчас болезнь прогрессировала, и разводиться с умирающей женщиной я не стану, — закончил он, — я собирался рассказать тебе все это, но сначала не получилось, а потом я боялся ошибиться.
— Что скажешь, Марина Николаевна? — спросил он, потому что пауза затягивалась.
А пауза затягивалась, потому что мозаика рассыпалась. Я открыла чемодан, покопалась в нем и извлекла на божий свет злополучный конверт — мне нужно было выиграть время.
— Хочу повиниться. Это я получила от брата своей знакомой, он служит там, где надо. Здесь должны быть сведения о твоем семейном положении, но я так и не вскрыла его, как видишь.
— Впредь будешь запрашивать по месту моей работы, это немного проще, — сказал он не без укоризны, а потом надорвал край конверта и с большим интересом углубился в текст.
А я металась в поисках выхода из ситуации, потому что плачущая Нора снова умирала от горя. Ей бы признаться честно, что нянька в детстве уронила, и ботиночек ортопедический при ходьбе жмет, и хронический гайморит в дождливые сезоны обостряется, но принц поцелует ручку и можно будет до посинения всматриваться в его потухающие глаза. Ах, непреклонность королевы-матери! Ах, бюрократические проволочки в канцелярии римского папы! И все станет ясно — ведь мы с ним большие любители полутонов, и вот уже темная ночь уносит Нору из замка в небытие, и тело вздрагивает на дорожных ухабах, и сосновые лапы царапают крышу кареты, и…
— Да, не спорю … Остальное тоже соответствует истине, контора на высоте, — сказал он, наконец. — Но кое-чего существенного здесь не написано. Например, того, что моя жена всегда звала во сне своего покойного мужа Бориса Веснянского, и я жил с этим много лет. Он тоже был актером, а она так и оставалась его женщиной, пока не потеряла память. И вообще наша семейная жизнь складывалась тяжело, я был своей жене кем угодно — отцом, врачом, нянькой, зрителем, но не тем, кем хотел стать. Потом я понял, что она больна, и шансов у меня нет.
— И какие у тебя планы? — спросила я, и он слегка удивился этому вопросу.
— Я уже сказал матери во время своей поездки в Москву, что женюсь на тебе, так что можешь, наконец, пожалеть меня и согласиться. У меня самые незамысловатые представления о счастье — накувыркаешься на работе, придешь домой — а там ты сидишь.
— Андрей, ты же не любишь, когда тебя жалеют, так что давай не спешить. Оставим все пока на своих местах.
Он посмотрел на меня недоумевающе, но я уже собралась мыслями и сквозь землю не провалилась.
— Тебе, действительно, предстоит трудная осень, зачем же сейчас осложнять ситуацию — кто знает, какие отношения у меня сложатся с твоей дочерью и матерью, а дома тебя в ближайшее время не застанешь, как я понимаю. Если родится ребенок, тогда и будем что-нибудь предпринимать.
— Пару минут назад я бы отдал голову на отсечение, что тебе смертельно хочется спать в моей постели каждую ночь. Что, ноша показалась непосильной?
— Текст ультиматума был недостаточно продуман. Там ничего не говорилось о крайней необходимости совместного проживания.
— Я полагаю, торг здесь не уместен.
— Как скажешь, но у нас наверху выражаются по-другому — другой альтернативы нет.
— Да, — сказал он, — похоже, я ничего в этой жизни так и не понял. Полная профессиональная непригодность. Что тебе нужно, Марина?
— Я уже сказала, текст русскоязычный.
— Я устал от всей этой чертовщины. Тебе ли бояться оборотней, милая моя? Да ты и сама, при случае, кому хочешь брюхо вспорешь.
Он оделся и ушел, а я не выбежала на шум мотора, и этим ускользающим в соснах звуком и закончилось мое страшное и счастливое лето в Пакавене, когда сказки так тесно сплелись с реалиями, что я уже не могла отличить одно от другого. К концу отпуска в наличие были все необходимые компоненты — скромная образованная девушка, Красавец средних лет, сумасшедшая супруга, маленькая воспитанница и несостоявшаяся свадьба. Можно было переписывать дамский роман, не слишком отчуждая его от стереотипов современного массового сознания. Для этого следовало бы, к примеру, намекнуть на аберрантный характер сексуальной ориентации героини в период обучения в закрытом учебном учреждении и особую роль наставницы, обыграв далее, как следует, невосполнимую потерю любимой подруги.
Все остальное можно было бы оставить без изменений в качестве многочисленных наслоений на инфантильных розовых побуждениях героини, представив брачный союз с окривевшим в пожаре Красавцем в качестве мимикрической адаптации сознания современной тусовщицы к викторианскому стилю, совмещая это с подсознательным пробуждением комплекса мистера Гумберта в душе Джен Эйр при виде розовенькой Адели, потому что все помышление сердца человеческого — зло от юности его (Бытие 8 — 20).
Автором версии, однако, следовало бы указать злобную нимфетку Яло, потому что Оля этого написать не могла — Оля могла выдать на-гора только честный и простодушный рассказ о своих приключениях в Королевстве кривых зеркал. Она числилась в команде Тимура и носила Красную Шапочку, снимая ее только в своей колыбели, и портреты основоположников взирали тогда на спящую пионерку с некоторым подозрением. Конечно, она уступает место в автобусе ветеранам ВОВ и носит пирожки старушкам, но почему она предпочитает ходить к старушкам узкой тропинкой в малиннике, когда вполне можно было свернуть от автобусной остановки на широкую грунтовую дорогу и идти по ней вместе со всеми? Один бог знает, когда она бывает настоящей, и не возродить ли нам пирамидки с некоторыми дополнительными вольностями, исходя из духа времени?
Да, в этом мире можно изгадить все — можно переиначить Шекспира и Чехова, можно выпачкать калом мемориальные доски, можно курить в лифте, но куда же деться, если стоишь у столба с десятью заповедями лицом к лицу с собеседником, и ваши лица не отличить никому?
Ночь я просидела над своим чемоданом, а в пять утра надела на шею бабушкино жемчужное ожерелье и вышла на крыльцо. По мокрому шоссе во весь опор мчались милицейские машины, но спустя два часа они уже вернулись, и у дома мясника раздался женский вой — Ядвига опознала останки своего соседа.
Тетка приготовила на веранде горячий чай, и я, наконец, согрелась.
— Как там дела у вас обстоят? — спросила она, — я слышала, Андрей Константинович ночью уехал… — Пока неважно.
— Марина, я вижу, что получается нескладно, и очень виновата перед тобой. Ведь я же все знала, но он согласился ехать в Пакавене с условием, что я никому не буду рассказывать о его семейном положении. Ты уж пойми меня, Виктор совсем плох, только и держится благодаря Андрею Константиновичу, а я дала слово молчать.
— Да, ладно, от фамильной честности никуда не денешься, тетя Ната. Каждый раз, когда я пытаюсь лукавить, судьба играет со мной злую шутку.
Мы собирались уехать в райцентр автобусом, но Стасис договорился с сыном Бодрайтиса, и тот отвез нас к вокзалу на серых «Жигулях». Жемина плакала при расставании, потому что тетка впервые приехала к ней перед рождением близнецов и была свидетелем всей ее жизни. Я попрощалась с Юмисом, пани Вайвой и старым Станиславом, послезавтра им предстояло хоронить Лайму. Впрочем, пани Вайва уже была совсем плоха, и меня не узнала. Старая Вельма подарила мне на прощание мельхиоровое колечко с желтым непрозрачным янтарем, которое было на ее дочери в тот роковой день, и оно пришлось мне впору. Она сказала, что теперь, когда убийца наказан, ей не страшно умирать.
— Позвони там моим по приезду, успокой, — попросил подошедший к машине Славка, — я звонил вчера и сказал, что все теперь в порядке, но они все равно хотят сдавать билеты. Пусть едут.
— Слушай! Сегодня услышишь здесь новость, так не бей зря тревогу, это происшествие будет последним.
— Почему? — спросил он, включив на мгновенье свой мыслительный аппарат.
— Потому! — ответила я. — Но это совершенно точно.
— Я смотрю, ты тут не скучала. Черт возьми, почему это со мной ничего не случается, кроме выговоров начальства?
— Я позвоню, — пообещала я, — приятного отдыха!
— Не запутайся там в своих сказках, — добавил он на прощанье, но я уже знала, что завтра кончается, наконец, мое запоздалое детство, и странные сны оставят меня навсегда. Я уезжала, оставив за бортом всех своих покойников.
Янька с Вацеком выползли из своего деревянного терема проститься со мной — опухшие щеки, трясущиеся руки, жалобные глаза.
— Там под крыльцом сарая остатки спирта, — сказала я им после короткой процедуры прощания, — я его уже развела.
Они подозрительно взглянули друг на друга и кинулись через огород к сараю. Янька лидировала, но ее высокие каблуки запутались в желтеющих огуречных плетях, и она ухнула оземь, измазав в грязи открытое прозрачное платьице из темного шифона на маленьком черном чехле. Вацек уж совсем было вырвался вперед, но она извернулась и схватила его за ногу. В результате Янька финишировала первой, присосавшись к горлышку бутылки прямо на трибуне.
Когда мы прибыли на перрон, я увидела там Лауму, она провожала на поезд женщину средних лет с властным спокойным лицом. Я сразу узнала ее это была их главная республиканская ведьма, и у нее было большое политическое будущее. Она родилась в Неняе, соседнем райцентре, где сейчас в новом доме о шестнадцати углах жила ее взрослая дочь Казимира. Дом строила бригада Юмиса, и он рассказывал, что в молодости не раз танцевал с главной ведьмой на вечеринках. А сейчас она переехала в столицу, куда районные неформалки летали вырабатывать свою национально-зеленую платформу перед ежегодным симпозиумом на горе Броккен.
— Знаешь последнюю новость? — спросила я Лауму, — мясника вчера вечером задрали кабаны.
— Мне Титас звонил, — сказала она, — тело Залаускаса сегодня в половине пятого утра лесник обнаружил.
Мне его не жаль, в молодости совсем зверем был — резал и своих, и чужих, как только его тогда не убили!
И тут я поняла, что впервые услышала фамилию мясника, в деревне его называли только мясником.
Залаус, кровавое божество зла и раздора, лежал вчера там, за лесным озером.
— Я хорошо знаю их волчье племя, — продолжила она, — его предки еще у Шумских в фольварке работали, а отец мясника служил у моей матери скотником в свинарнике. Горазды они были до сырого мяса, за что их нелюдями всегда считали. Странные были люди — боялись выходить в лес в темное время.
— В деревне говорят, что Ядвига, соседка мясника, ждет от него ребенка. Так что еще один Залаускас здесь у вас появится.
— Да, у них только мальчики родятся. Ну, хватит о нем! — сказала Лаума. — У меня такая радостная новость — моя дочь завтра приезжает. Она решила не идти в аспирантуру, а работать здесь, у нас. Так что, мы снова будем с ней вместе.
— Молодой ведьме хватит работы в пакавенском лесу, — подумала я, услышав ее ответ, а вслух поздравила Лауму, ведь для нее это было важней всего на свете.
Но мы еще не знали, что Ядвига в эту минуту рожает в отчаянных муках странного недоношенного мальчика с коротким волосатым хвостиком на копчике, с немедленной смертью которого и закончится династия людоедов Залаускасов. Смертью этого странного мальчика закончится и мой тайный договор с местной лесной нечистью, так мило навязанный мне княгиней Шумской, и моя задача, как я понимала только теперь, сводилась к одному — довести дело до кровавой разборки в сумеречный час в нужном месте. Подсадная утка! Боги — что хотят, то и делают!
Последний раз беспутный ветерок районного масштаба пытался расплести мои волосы, но мне уже было не до него. Мы обнялись со Стасисом, пожелав друг другу удачи без всяких слов, и его лицо было последним, что я запомнила на отплывающем назад перроне. Счастья тебе, мой милый лесной странник, сыновней любви, хорошей охоты и крепкого сна! Может быть, мы и встретимся когда-нибудь на тех дорогах без начала и конца, что тугой сетью опутывают наше вечное яблочко, и ты расскажешь, как тебе жилось, и мы выпьем рюмку-другую за нашу встречу.
Поезд отправился по расписанию, и за окнами до самого Неляя был густой туман, потому что Пакавене уже исчезала с лица земли. День прошел в мелких хлопотах, старики спали на нижних полках, а я маялась на верхней боковой, думая о приемной дочери Андрея Константиновича и пытаясь припомнить, где же я все-таки слышала имя ее покойного отца, пока, наконец, в памяти не всплыл веселый капустник в молодежной театральной студии с участием двух девиц и трех развеселых молодых людей, и Борис Веснянский был одним из них, а, вернее сказать, первым из них всех. Карнавальное дитя с умным живым личиком, рожденное на радость людям — и все уже спрашивали друг у друга фамилию молодого актера, пророча ему большое будущее, и ощущение праздника не покидало мое шестнадцатилетнее сердце, когда я ехала со спектакля домой ночным московским трамваем.
— Боже мой! Я же банщика не взяла с собой, — вдруг пронзило меня, и я точно знала, где он сейчас находится, но сделать уже ничего было нельзя, и костяная фигурка начала свою, отдельную от меня жизнь.
Когда я проснулась, то лето все-таки продолжалось, мимо окон проносились березовые рощи, и девушки бежали по тропинкам купить билет в электричку, и женщины в цветастых платочках провожали поезд глазами, будто всю жизнь мечтали, но не могли укатить куда-нибудь дальше райцентра, и коровы бесстрастно жевали на дорожных откосах душистые травы, поплевывая на строгие окрики старух, и здесь не было тайн, потому что, какие могут быть тайны в моем собственном Национальном парке, где все знают всех, и все знают все, и только размеры парка никто не может представить воочию.
Ах, как прекрасны были декорации на этой огромной сцене в тот день, когда я возвращалась домой! За плохо вымытыми вагонными окнами мелькали Голицыно, Отрадное и Одинцово, и каменные изваяния по обочинам дорог больше никого не пугали, и уже играла музыка, потому что поезд прибывал к Белорусскому вокзалу, где продавались сладкие кооперативные пирожки, книги Солженицына и летающие воздушные шарики. В моем детстве приходилось надувать шарики самой, и они не летали.
В Москве, однако, дождило, и Андрей ждал нас на перроне, а рядом с ним стояла девочка лет десяти и настороженно смотрела на меня своими карими глазками. Теткины вещи были в багажнике машины.
— Тебя сразу отвезти домой, или поедешь с нами в Балашиху? — спросил он меня уже на привокзальной площади.
— Поеду в Балашиху. Мне нужно на обратном пути рассказать кое-что тебе. Правда, мы будем не одни…
— Есть еще один вариант — я сам отвезу Наталью Николаевну и Виктора Васильевича в Балашиху, а вас с Катенькой по дороге высажу у нашего дома. Подождешь меня там и познакомишься с моей матерью.
— Это неплохой вариант. В багажнике должна быть моя банка с тертой черникой, достанешь тогда перед домом, — сказала я, успешно завершив этот важный для нас разговор.
Через полчаса Андрей представил меня своей матери, голубоглазой женщине лет шестидесяти, и тут же уехал.
— Вы выглядите гораздо моложе своих лет, — сказала она мне сразу же.
— Небольшая компенсация вашему сыну за отсутствие неземной красоты — ему ведь полагается красавица!
— Заниженная самооценка, — засмеялась она, — но это излечимо.
— Я уже слышала эту фразу от Андрея, неужели и вы профессиональный фрейдист?
— Уже нет, — ответила она с некоторой тенью сожаления, — теперь я развожу на даче гладиолусы.
Пока мы старались понравиться друг другу, девочка молчала, а когда вскипел чайник, то мы втроем уселись за стол и пили чай с черничным вареньем и разговорами, пока не вернулся Андрей.
— Мы приедем завтра, — сказал он матери, — я буду звонить.
— Не волнуйся ты так, — попросила я его уже в лифте, — нам сейчас по мокрому Садовому кольцу ехать.
— Прости меня еще раз, — сказал он уже в машине, — я тогда услышал только твой отказ, но по дороге в Москву понял, наконец, что ты говорила совсем о другом. Ты сказала — если родится ребенок… Почему ты сомневаешься?
— Я действительно не уверена, смогу ли осчастливить тебя. Обстоятельства как-то раз загнали меня в угол, и я убивала своего ребенка, как могла, потому что боялась иметь маленькую копию своего мужа, а ребенок боролся за свою жизнь тоже, как мог. Девочка родилась на седьмом месяце еще живой, а потом она умерла на моих глазах, и ее унесли в целлофановом пакете неизвестно куда. Позже я получила приватные разъяснения, что это отделение патологии, а не родильный дом, инкубаторов здесь не водится, и вообще спасать ребенка после того, что я делала, смысла не имело. А потом я с трудом выздоровела, но шансы иметь детей у меня очень ничтожные. Судьбу, правда, я не испытывала — так было спокойней жить. Твоя дочь была моей страховкой, но, оказалось, ты ее удочерил.
— И ты меня пожалела?
— Я понимала, что у тебя в семье неладно, но что я могла предложить тебе взамен?
— Какой диагноз тебе ставили?
Я сказала.
— Не самое страшное, с моими связями в медицинских кругах можно будет что-нибудь сделать. Но я уже был готов к чему-нибудь в этом роде, когда брал Катеньку с собой на вокзал. Надеюсь, ты это поняла теперь?
— Я поняла уже после отъезда, что ты все равно найдешь меня на каком-нибудь перроне. Но стоит ли тешить себя надеждами?
— Почему бы и нет? Разделим участь патриархов, у них всегда были сложности с этим вопросом, а зато какие дети получались! Но в любом случае я хочу прожить свою жизнь с тобой, и завтра ты переедешь ко мне.
С площадью потом разберемся.
— Готова уважать твой выбор.
— Скажи — пока, а то я не поверю в свое счастье.
— Не скажу, но мы будем скандальной парой.
— Нет, — сказал он, — теперь все будет по-другому.
— Придется опять поверить.
— Вот и прекрасно, едем к тебе, но сначала ответь на один вопрос — меня сильно мучило это еще на перроне.
— Отвечу, зловещих тайн у меня больше нет.
— Где твой чемодан?
— Я его выбросила на помойку в пять утра после твоего отъезда, а через несколько часов Янька валялась в грязи в моем вечернем платье и на каблуках, — тут я припомнила все детали нашего прощания, и Андрей засмеялся — впервые после встречи на вокзале.
Потом мы поехали в сторону Даниловской площади, где находилась моя однокомнатная квартирка, и потихоньку из-за туч начало пробиваться солнце. Когда я раздевалась в прихожей, то увидела, что подошвы моих кроссовок стали абсолютно чистыми, и последние песчинки Пакавене остались где-то в московских лужах.
Глава 15
Я прочел текст на дискете и наметил общую стратегию поиска. Хотелось увидеть женщину, чье воображение создало тот странный мир, куда мне довелось попасть невесть каким образом. Воображения мне всегда не хватало — это сказывалось в моей работе, и я сейчас смертельно завидовал этой самой племяннице.
В тот памятный день я пересек Белоруссию, свернул в Даугавпилс, вырулил из города и вскоре попал в молочно-серое облако.
— Черт! Почему здесь такой туман? — подумал я на повороте шоссе, и это было последним, о чем я успел подумать. Очнулся я во влажной ночной траве от приятного женского пения, и, приоткрыв глаза, обнаружил себя в центре хоровода.
— Ансамбль «Березка», что ли? — пришла мне в голову вялая полудохлая мысль, — но почему они без сарафанов?
Я еще долго лежал в сладкой полудремоте, прислушиваясь к незнакомым словам, а девушки медленно двигались по кругу в своей целомудренной наготе и пели, должно быть, о райском блаженстве. Их голоса звучали нежно и слаженно, как в церковном хоре, и я всем сердцем возжелал этого милого вечного покоя.
— Мама! — сказал я одной из них, чьи глаза смотрели на меня с самым большим участием, — мама, возьми меня к себе!
Глаза ее сразу же засияли звездным светом, и я поспешил к ней, спотыкаясь о кочки — так сильно хотелось скрыться в тепле ее тела. Ах, как далеко было идти до звезд, но когда мои ноги погрузились в теплые мягкие хляби, я понял, что уже пришел домой, и теперь мне остается только самая малость — лечь на дно, свернувшись калачиком, и уснуть.
Но уснуть мне не дали — мама вцепилась в меня острыми когтями и намертво присосалась к моему рту холодными скользкими губами. Круг мгновенно сомкнулся, и хороводницы бросились отталкивать маму и рвать в клочья мою куртку. Нужно было встать на ноги, и я хватал их за длинные мокрые волосы, но руки скользили вниз, а ноги вязли в иле, и я кричал, захлебываясь мутной вонючей водой, пока черная тень не закрыла небо надо мной, и мои мучительницы не отпрянули от меня со звериным воем.
Потом все стихло, и я уже не барахтался и был совсем смирным, когда на меня накинули рыбачью сеть, и я вознесся в ней через прозрачные ворота в сияющий золотой город. Здесь были изумрудные газоны и зоопарк с дивными животными, и в этом городе жили только мужчины, и один из них был моим отцом.
Папа рыбачил в юности, а потом стал капитаном дальнего плавания и уплыл навсегда, и я не помнил сейчас его лица, а, возможно, я его никогда и не видел.
До папы, очевидно, я так и не добрался, потому что в начале следующей серии я лежал в сетях на той же мокрой траве, а какая-то женщина в толстой вязаной кофте из некрашеной шерсти и широкой коричневой юбке сидела у моих ног и рассматривала меня с нескрываемым любопытством, а рядом с ней лежала забытая дворником метла. Я тоже стал разглядывать женщину, потому что убежать было невозможно, а она внушала мне некоторое доверие цветом и длиной своих волос — они не были зелеными и торчали на голове коротким густым ежиком.
— Ks t? — спросила меня женщина на незнакомом языке, но я понял.
— Я не знаю, — с трудом извлеклось из моей памяти, потому что действительно было совершенно непонятно, кто я, откуда я и куда должен идти, — I do not know.
Ей это понравилось, и она продолжила свой внимательный и весьма бесцеремонный осмотр, пока я не почувствовал сильного внутреннего беспокойства.
— Должно быть, ты Альгис, посланник богов, — сказала она тогда, — первая категория, из ненадежного класса «б». Мне повезло — к нам уже давно никто не ездит.
— Может, снимешь с меня сеть? — попросил я, в надежде выпутаться из ситуации и слинять при первом же удобном случае, но она погладила меня по лицу сквозь ячейки сети.
— Не пугайся ты так, — сказала она как-то механически, — ведь я люблю тебя, и собираюсь любить вечно, если тебе это пригодится, конечно.
— Мне пригодится, — заверил я, и она стала распутывать сеть. Когда я, наконец, поднялся на ноги, а она сидела у моих ног, как самая обыкновенная женщина, обхватив руками свои колени, скрытые широкой коричневой юбкой, то перевес был уже явно на моей стороне. Она смотрела на меня снизу вверх и ждала, пока я понял, чего она ждет, и мне вдруг захотелось поверить ей.
— Я пойду, пожалуй, — сказал я крайне нерешительно, отжав воду из куртки, но в этот момент снова раздалось знакомое приятное пение. Кровожадные твари уже окружили нас, и, оскалив бледные рты, перебирали от нетерпения ногами. На этот раз их белые пушистые прелести были спрятаны под маскировочными костюмами фирмы «Скалмантас», и английские снайперские винтовочки приветливо покачивались за плечами в такт нехитрой мелодии.
— Посиди со мной, утром они уйдут, — предложила мне моя спасительница, охарактеризовав хороводниц любимым анекдотом первых думских депутатов, — варятся в озере полминуты, а уже такие крутые. Раньше их здесь не было — моторок боялись.
— Чего им не хватает? — спросил я, потому что по ходу дела усомнился в сексуальном характере их домогательств.
— Зелененьких, чтобы в музее отовариться, — ответила она со вздохом, — сейчас распродажа по сниженным ценам. Как Озеринас в столицу переехал — совсем неуправляемыми стали. И вообще все надоело…
Расцарапанная когтями спина слегка саднила, и подождать лучших времен представлялось вполне логичным, и мы сидели рядом, и смотрели друг на друга, пока певицы не скрылись от наших глаз в сгустившемся черном тумане, и у меня не начался сильный озноб. Тогда она сняла с меня мокрую рубашку и, прижавшись ко мне, натянула на наши плечи свою большую вязаную кофту. Голова вдруг отяжелела, и мне мучительно захотелось отползти от разбитой машины подальше, но ватное тело не хотело слушаться, и я стонал в надежде найти кого-нибудь в этом тумане, и помощь, в конце концов, приходила, и я целовал в благодарность чьи-то горячие и сухие руки, но потом мне казалось, что нужно отползти еще немного, и все повторялось снова и снова.
Очнувшись, я обнаружил, что женщина исчезла. Интердевочки тоже не проглядывались. Я нащупал большую шишку на затылке и сформулировал первый вопрос следующим образом:
— А были ли девочки вообще?
Ответ напрашивался сам собой, и я побрел вдоль шоссе в надежде найти помощь. Через некоторое время из тумана выплыл корявый деревянный столб с двумя резными конскими головами. Я прочитал непонятную надпись, выжженную по дереву — «Videvuta & Brutena». Тут голова моя слегка закружилась, и туман наполнился крупными прозрачными инфузориями с нервно подрагивающими ресничками. Я сел на землю.
Конские головы неприятно оскалились и плюнули друг другу в деревянные морды. Волны жгучей ненависти покатились от столба, обжигая кожу моих рук, а инфузории прибавили скорость, и, когда одна из них плюхнулась об столб, то надпись уже выглядела как-то по-гречески, и вместо двух коней над ней красовались два коротких бревна, незамедлительно пустившихся в драку.
Я попытался вернуться к шоссе, но оно бесследно сгинуло в густом тумане, и спустя полчаса стало понятно, что я попросту заблудился в лесу. Сосны имели какой-то пожухлый рыжеватый вид, и комарье висело в тумане тучами. Огромные, в рост человека, грибызонтики перемежались с гигантскими красными сыроежками, сильно смахивающими на мухоморы. Я наткнулся на маленькое округлое озерцо со сгнившими мостками, сплошь заросшее ржавыми листьями со странными бутонами в виде абсолютно правильных оранжевых шаров. На той стороне озера кто-то суетился, и я поспешил туда.
Обогнув озеро и осторожно выглянув из кустов, я замер в полном ужасе. Волосатый тип в окровавленном белом халате и черной квадратной маске, разрезал живот голой девицы скальпелем, аккуратно вырезая внутренности и набивая полости памперсами. Вторая молодая женщина лежала неподалеку под сосной, уже освободившись от лишнего, и счастливая улыбка не сходила с ее лица. Когда такая же улыбка засияла на личике оперируемой, доктор перешел к последней девице, одетой в красные джинсы.
— Предоплата сахаром, — отчеканила ему девица, протягивая пакетик, — тринадцатая добродетель, пристойная девицам, есть стыдливость. Я даже купаюсь в джинсах!
Тут доктор решил продемонстрировать свое знание филиппинской хирургии, поэтому отложил скальпель, и, прищелкнув пальцами у груди пациентки, быстро извлек оттуда сердце без всяких там стриптизов и инструментов. Налюбовавшись вдоволь своей работой, он швырнул сердце на большой серый валун, лежавший на берегу озера, и оно раскололось на мелкие кусочки. Грудной мальчик с волосатым хвостиком на копчике, снимавший это представление маленькой кинокамерой с сосновой ветки, радостно захлопал в ладоши и, не удержавшись, свалился вниз.
— Иди сюда, сынок, покушай, — ласково сказал доктор и подал мальчику сырую женскую печень, — не хуже Галлины Бланки.
Тот потер ушибленный позвоночник и стал сосать печенку, урча от удовольствия и виляя хвостиком.
Печенка исчезала со страшной скоростью, и дитя уже кидало жадные взгляды по сторонам.
— Красть хорошеньких мальчиков из приличных семей — моя слабость, но для романтического героя ты слишком любишь поесть, — заметила первая девица, провожая глазами свое кровное содержимое.
— Знаешь, — сказало дитя, присасываясь к следующей печени, — все выглядит какой-то страшной нелепицей. Ты позволишь мне объясниться?
— Сдохнешь здесь от экзистенций с самоанализом, — вздохнула хозяйка второй печени, — и вообще отойди подальше от гроба.
— Съел — и порядок, — задумчиво произнес отец со скальпелем в руках, раскладывая на траве женский купальник, — а для баб необходима японская модель воспитания — усиление внешнего контроля по мере взросления. В этом случае внезапная потеря хороших манер практически исключена.
Девицы захлопали в ладоши, но тут раздался колокольный звон, и из-за деревьев показалось свиное стадо с пожилым пастухом, несшим на плече огромную острую косу. Сзади плелась странного вида корова с обломанным рогом. Когда процессия приблизилась, то волосатый радостно оживился и ухватил корову за хвост.
— Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви, пылать — и разумом всечасно смирять волнение в крови… — произнес он оперным голосом, перемежая слова нецензурными выражениями и демоническим хохотом.
— Из тех, кто мягко стелет, — обратилась корова к девицам, кивнув в сторону волосатого, — но очень неприятен и груб — просто оторопь берет при более близком знакомстве. Собственно говоря, мы уже две недели, как расплевались.
— Скромным нужно быть в жизни, а в науке быть скромным нельзя… — заметила ей довольно ехидно девица в красных джинсах.
— … как и в любви, — добавили хором ее соседки и сделали мечтательные глаза.
— Нужно преодолевать свой пол, возраст и национальность, — возразила корова, и ее ярко-розовые глянцевые бока, украшенные рекламой разведенного спирта «Royal», затряслись от возмущения, — я совершенно бессовестно пользуюсь этим при встречах с гаишниками.
— Они не возражают?
— Им не до этого — сломанная карьера, потерянные иллюзии, плохой сон.
— Вот вы, например, — обратилась она к пастуху, — вы, вероятно, рассматриваете весь мир, как одну большую клинику неврозов?
Пастух снял косу и быстрым движением перерезал себе горло, а свиньи, поднявшись на задние ноги, образовали пирамидку, поблагодарили неизвестного мне товарища Крукиса за свое счастливое детство и принялись лизать окровавленную траву.
Я тихонько пятился назад, загораживаясь прибрежными кустами, а потом дал деру. Я бежал, спотыкаясь о грибы, пока мои ноги не запутались в мокрых холодных зарослях гигантской черники, и я не грохнулся на какого-то мертвенно-бледного старца с клочковатой седой бородой. Конец бороды был приклеен голубой краской к мощному еловому стволу немного ниже веток, украшенных позолоченными фигурками пузыря, лаптя и соломинки.
— Член комиссии Патолс, торгую левым цветным металлом, — представился старец мирно и вежливо, — покупают.
Тут кто-то зарыдал, я слез с Патолса и огляделся. Рядом в чернике лежали еще четверо, и рыдал один из них — молодой парень в костюме Пьеро. Его слезы собирались в быстро растущую лужу, в центре которой на темной скользкой доске внезапно возникла головка дрожащего ребенка с выпученным от ужаса глазком и гнойными язвами на бледных пульсирующих щечках.
— Ну, вот, Тримпс, — заметил относительно молодой генерал с пожухлым растительным венчиком на голове — снова повышенное содержание тяжелых металлов. Думать нужно, где девочек топить!
— Что делать, это самый дешевый экологический тест, — оправдывался Тримпс, — шпроты теперь не достать — все на экспорт идут.
— Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа, — диагностировал состояние девочки мускулистый мужчина, одетый Айболитом, — и, во-вторых, у меня возникло ощущение, что вас что-то сильно тревожит.
— Такое, уж, лето, доктор Аушаутс, выдалось. Это касается и второго вопроса, — вздохнула девочка, — а что касается вас, генерал Пергрубрюс, то нравственное сознание начинается с вопроса, поставленного Богом:
«Каин, где твой брат Авель?»
— Пушкайтис снова удрал в ее чемодан, — смутился генерал, — поймите, я просто солдат, я просто устал, и меня, к примеру, абсолютно устраивает широко распространенный тезис, что в повсеместном пьянстве повинны только русские.
— Бедный Пушкайтис! — ехидно заметила малютка и обратилась к пузатому господину в черном цилиндре, — рождественская елка от спонсора в самом разгаре лета! Как мило с вашей стороны, господин Пильвитс!
— А вы, девочка, все равно до Нового года не доживете, объяснил спонсор свою позицию в этом вопросе без всякого смущения.
— И я не успею воплотить в жизнь те представления о любви, которые живут в моей душе? — ахнула малютка, взмахнув рыбьим хвостом, и перевела выпученный от ужаса глазок в мою сторону, — не перенесете ли вы меня из этой Скагганакской пропасти в большое озеро?
— У меня рука болит, у меня рука болит, — забормотал я, подняв абсолютно целую и невредимую конечность.
— Тогда купите мне синюю шляпу, — прокричала малютка мне вслед, но я уже был далеко.
Серые дощатые стены деревенского сарая выросли из тумана совершенно внезапно. В сарае царствовала мирная семейная обстановка. Полненькая некрасивая девушка в чепце со значком «Ударник коммунистического труда» на груди вязала при свечах затейливую кружевную салфетку.
— Черт, как неудобно вышло! Увертывалась, ведь, как могла, — горевала она время от времени, касаясь пальцами отметин помады на своей шее, — и что это женщины во мне находят?
Сделав очередную петельку, девушка окунула салфетку в отбеливатель «Асе», а потом встала на стул и примерила ее к бордовому нейлоновому плащу небритого типа в черных непрозрачных очках, тихо покачивающегося на веревке под самой крышей сарая.
— Как я понимаю, Джейн, ты собираешься извлечь максимум из моей временной беспомощности, — прохрипел висельник, оскалив черные гнилые зубы.
— Для мазохиста это просто находка, Рочестер, — строго сказала девушка, — и с завтрашнего дня мы не будем прятать наших отношений.
— Можешь пользоваться моей зубной щеткой, — улыбнулся ей висельник с видимой благодарностью, но, пока она слезала со стула, быстренько высунул ей синий распухший язык.
По моему разумению, в моем присутствии здесь никто не нуждался, и я удалился без излишнего шума.
Шоссе было совсем рядом, но силы покидали меня, и я уселся под большой сосной прямо у самой дороги. То, что под сосной перед венком из линялых искусственных цветов в синеватом бархатистом мху росли свеженькие человечьи уши, впечатления на меня уже не произвело. Я лишь отметил для себя, что они сильно смахивают на американские куриные окорочка. Спустя пару минут у сосны появился волк в форме колумбийского полковника. Из кобуры на поясе выглядывала обглоданная по краям пицца.
— Собственно говоря, — произнес он с кавказским акцентом, усаживаясь рядом со мной, — по служебной линии я уже достиг максимума, следующие уровни требуют слишком больших компромиссов.
— Что делать, — сказал я, — и кто виноват?
— Болдуин и Дудикофф — решительно заявил полковник, пододвинувшись поближе, — временные связи слишком отвлекают от работы, и я подумывал последнее время о более удобном варианте — разумеется, без всяких официальных излишеств.
— Не напрягайся ты так, — сказал я, пытаясь скинуть с плеча волчью лапу, — усыновить меня тебе не удастся.
— Не суетись под клиентом, — гаркнул полковник, замахиваясь пиццей, — будешь изображать мне девушку с веслом, пока краска не облупится!
Очнулся я от громких мужских голосов. Двое крепких ребятишек высились прямо надо мной.
— Почему здесь мох синий? — спросил я их, очищая личико от растительности — не спрашивать же, почему уши из земли растут.
— Собаки здесь мочились — может поэтому? — задумчиво ответил носатый шатен с жесткой военной спиной, — раньше под сосной только одно ухо было — инструкторское.
— У меня была авария, — сообразил я, наконец, сообщить о главном, — а где, теперь не знаю…
— Семьдесят семь. Из Москвы. Чинить будем? — выдал бородатый и рыжеватый. Он выглядел информированным человеком, и я согласился с ним, хотя ничего не мог сказать по этому поводу.
— У нас в деревне все на одном месте разбиваются. В больницу не надо? — спросил шатен.
— Нет, я в порядке. Отлежаться бы только в тепле.
— Как тебя зовут? — спросил другой, и я, подумав, пошарил в карманах куртки. В бумажнике находились мокрые пачки зеленых и деревянных, мелочь и визитки. В глянцевых картоночках значилось, что вероятным владельцем денежных знаков является Олег Понырев (Oleg Ponyrev), профессиональный дизайнер, владелец строительной фирмы «Мечта бездомного». Я протянул им визитку. Рыжеватый, назвавшись Юозасом, пообещал поднести мои вещи, а шатен повел меня к дому. За домом женщина предпенсионного возраста копалась на зелененькой луковой грядке.
— Мать! — сказал шатен, представившись Стасисом Око-пирмскасом, — там опять на шоссе авария. Пусть москвич у нас отлежится.
Женщина всматривалась в меня долго и подозрительно, а я тем временем скользил взглядом по обветшалому сараю, маленькой кухоньке на высокой насыпи и высоким соснам на холме за огородом.
— Хорошо, — сказала она, наконец, — я уберу в комнате, там Альгис ночевал на прошлой неделе.
— Юмис! — крикнула она куда-то в воздух, — у нас гость из Москвы. Посмотри, как на Альгиса похож.
Двое немолодых мужчин с одинаковыми лицами мгновенно показались во дворе, но один вышел из сарая, а второй, с розовым тазиком на голом теле, показался в дверях маленького деревянного домика за огородом у самого леса. Оба они были среднего роста, но у первого были широкие худые плечи, поджарый живот и странная клочковатая поросль на голове, а второй, с жирными покатыми плечами и кругленьким животиком, был абсолютно лыс. Первый подошел ко мне.
— К нам давно уже никто не ездит, — сказал он с акцентом, подавая руку, а я в ответ представился.
— Олег Понырев. Большой у вас дом!
— Да, его строили мои покойные родители.
— А это ваш брат? — кивнул я в сторону леса.
— Какой брат? — не понял он сразу, а потом махнул рукой, — нет, это банщик.
— Я уже, — выглянула хозяйка из окна, — идите, ложитесь.
Я обогнул дом и зашел с другого крыльца на небольшую террасу. Левая дверь с террасы вела в маленькую комнатку. Дизайн оставлял желать лучшего, мебель имела вид сборный и допотопный, но обои были новенькими. На столе стояли кружка молока и тарелка с хлебом и толсто нарезанными ломтями копченого сала. Я выпил молоко, запер дверь, разложил мокрые дензнаки в пустых полках серванта, а потом лег в приготовленную хозяйкой постель и проснулся, когда уже темнело и сыпал мелкий дождик. Мои вещи лежали на террасе.
Сон не принес мне существенного облегчения — он был неоднократным повторением прошедшей ночи, но девушки носились надо мной в свежеструганных гробах с криками: «Не лякайся, я кохаю тебе…», а в мокрой траве красовалась табличка: «По газонам не ходить», подписанная братьями А. Волохонским и А.
Хвостенко. Чувствовал я себя примерно так же, как моя соседка по лестнице, свеженькая пенсионерка, большая любительница неопознанных летающих объектов, считавшая, что некоторыми ее действиями определенно руководят представители неземных цивилизаций. Какими именно — она никогда не говорила, и теперь я ее понимал.
Денежки просохли, и я выложил из сумки на тумбочку бритвенные принадлежности и одеколон. В кейсе оказалась куча всяких деловых бумаг, права и паспорт с двумя фотографиями, выданный на уже знакомое мне имя. Мне оказалось тридцать три года, и мои дела, как представлялось, шли неплохо.
Удобства я обнаружил во дворе за сараем, и, когда я уже возвращался к себе, справа от хозяйского крыльца что-то щелкнуло, окно распахнулось, и там показалось личико очень старой женщины, раскрашенное во все цвета радуги. Ее огромные голубоватые глаза слегка слезились, а изящная ссохшаяся ручка держала пульт дистанционного управления с надписью «Panivayva». Другая ручка придерживала на подоконнике пакетик с яйцами.
— А-А-Альгис! — протянула она тонким голосом, направив пульт на меня, — купи яички! Всего девяносто девять центов десяток!
— Мать! Отстань от гостя, — раздался из недр дома суровый голос хозяина, но я сбегал за деньгами, потому что к тому времени страшно проголодался, а деревенские яички выглядели довольно соблазнительно.
Бабушка почмокала крашеными зелеными губками, и потрепанный доллар исчез в ее одеждах. Соорудить по возвращению бутербродик с салом было секундным делом, но как раз в эту самую секунду на стол и вспрыгнула полуразложившаяся крыса, облепленная черными раками. Она проползла с огромным трудом через весь стол и ухнула вниз, смахнув хвостом пакетик с яйцами.
Яйца разбились все до единого, и это могло быть не так уж и обидно, если бы внутри них не оказались почерневшие и ссохшиеся трупики так и не вылупившихся цыплят. Меня кинули, как мальчика!
— Только мы, нерожденные, вечны в этом славянском мире несбывшихся надежд, — завопили вдруг трупики детскими капризными голосами, — а к десяти часам вечера нас ждет районный прокурор. Конечно, следовало бы намекнуть ему на аберрантный характер сексуальной ориентации героини в период обучения в закрытом учебном учреждении, но можно оставить и без изменений — в качестве многочисленных наслоений на ее инфантильных розовых побуждениях…
— Ночевки в пьяном виде на сырой земле кончаются — пусть бог простит за трущобный натурализм — элементарным недержанием мочи, — строго сказала крыса цыплятам, — в Москву, в Москву, в Москву…
— Говорим одно, делаем третье, думаем второе, — пробурчали раки, покраснев, и они все разом исчезли, но бутерброд с салом я смог съесть только минут через двадцать, не раньше, отвернувшись к стене, а когда снова повернулся к столу, то там уже сидел банщик с розовым тазиком на голом брюхе.
— Налей пятнадцать капель, пожалей несчастного Тэтчера! — загнусавил он, косясь на мой кейс.
В кейсе, исходя из моих недавних наблюдений, находилась плоская бутылочка с коньяком, и я отлил ему немного в кружку.
— Недетский вкус в игрушечной упаковке! — восхитился он совершенно искренне.
— Ask! — согласился я.
— Хорошо, но мало! Тут на днях я иголку с красной ниткой проглотил, и щуки сегодня не ловятся. Хоть в розовом тазике разводи! А смокинг пришлось везти на автобусе — такое горе, такое горе! — стал тогда сокрушаться банщик о своих бедах, особо напирая на истлевшие от сырости плавки, пока я не налил ему еще немного.
Потом он исчез, растворившись в воздухе. Немного погодя стало понятно, что мое мыло исчезло вместе с банщиком, а в мыльнице вместо мыла красовались тринадцать медных копеек выпуска шестьдесят первого года. В голове зароились чужие впечатления от полета первого советского космонавта. В этот день на Красной площади люди обнимались под самодельными плакатами, но меня там, кажется, не было.
— А где же я тогда был? И потом? — думал я, пытаясь вообразить себя в матроске с воздушным шариком на территории Московского зоопарка, но на ум приходили эпизоды трудного детства Павлика Морозова, Павлика Корчагина и Павлика Власова. Тогда я запер дверь, приткнул ее стулом, лег в постель и включил ночничок.
— Наблюдение без лишних эмоций! — соображал я без всякого энтузиазма минут через десять, глядя, как маленькие худые руки с длинными белыми пальцами открывают мое окно, и их владелица переваливает через подоконник.
Женщина неопределенного возраста в плаще и синяках постояла у тумбочки, а потом протянула руку за одеколоном, и он исчез в складках одежды. Я ухватил ее за плащ, но, провалившись в пустоту под плащом, отпрянул резко назад на подушку. Она приблизила ко мне страшненькую треугольную мордочку и кокетливо заулыбалась, обнажив абсолютно беззубый рот. Удалившись затем к окну, кокетка распахнула плащ, аккуратно приподняла подол темненького прозрачного платьица, и, повертев жилистой ножкой в туфельке на высоком каблуке, уселась на подоконнике.
— Мы не могли встречаться на балу у вице-губернатора Петербурга до моего инсульта? — прошамкала она с интонациями английской королевы.
— Я не знаю, — ответил я совершенно машинально, потому что это было чистой правдой. Внутри меня, как в голове Германа, сразу наметилось четыре линии поведения.
— Русский интеллигент, — сказала женщина, — это человек, имеющий по каждому поводу свое отдельное мнение. Я без ума от Петра Фоменко, как и моя внучатая племянница.
— А я здесь причем? И почему Петр? — подумалось мне вслух, — он же Николай!
— Тройка, семерка, туз! — произнесла она зловещим шепотом и добавила, сделав нарочито страшные глаза, — а академика со схлопнутой историей не хотите?
— Нет, — сказал я довольно уверенно, потому что академик Фоменко отрицал существование античного мира.
— Тогда ждем-с! До первой звезды!
Я молчал, а она отворачивала крышечку флакона и присасывалась к горлышку. Не успев отпить и четверти содержимого, дама вдруг ухнула спиной назад на лавочку под окном. Послышался шум драки, и я тут же вскочил с постели. Дама каталась по чахлым картофельным рядам в обнимку с небритым типом в грязных белых штанах, пока тому не удалось выхватить флакончик из ее цепких ручек. Дама пригладила рукой новый синяк, после чего они оба исчезли в тумане из поля моего зрения.
Справиться со сломанной оконной задвижкой я так и не смог, и дама вернулась под самое утро, но голова ее на этот раз была укутана большим платком, и лица не было видно. Она ловко перебралась через подоконник, и силуэт ее обрисовался на фоне окна достаточно четко. Мое сердце вдруг забилось от радостной догадки, женщина подошла, я подвинулся, и она, не снимая платка, улеглась рядом.
— Вот так вот! В таком вот разрезе! — единственно, что приходило в голову между поцелуями, а дальше и это ушло куда-то.
Ее лица я так и не разглядел, а женщина любила меня так, как будто делала это в последний раз. Потом она плакала, обнимая меня своими очень большими руками, и что-то говорила на чужом языке, называя меня Альгисом, а я гладил ее по рассыпавшимся в стороны кудрявым волосам, все еще надеясь ощутить под рукой короткий ежик стриженых волос.
— Не плачь, моя звезда, — сказал я ей, имея в виду, впрочем, совсем не эту женщину, а ту, другую, чье лицо стояло у меня перед глазами, — не плачь, я с тобой.
Она приподнялась с подушки, вгляделась в меня, ахнула и бросилась к окну. Я снова включил ночник.
— Оставайся, — вдруг произнес мой язык странную фразу, — а иначе мне ничего не светит, кроме желанного покоя.
— Ну что ж! — ответила она, скалывая ворот кружевной блузки старинной камеей, — завтра уеду в столицу, вот и поскучаете. Подумаешь, дерьма-то, грибок червивый!
Последняя фраза явно относилась к предмету моей мужской гордости.
— Уснуть спокойно не дадут! — возмутился предмет. — Я не насильник из подъезда. Принцип комплиментарности, связанный с подсознательной взаимной симпатией особей определенного склада друг к другу, лежит в основе любой этнической традиции и сопряженного с ней социального института.
— Вот так вот! — сказал я на всякий случай.
— Да вы понятия не имеете, кто там у вас за кадром вещает! — меланхолично заметила девица, шнуруя ботиночки на своих крепеньких ножках. — Цепочки сообщений способны пересылаться с одного физического носителя на другой, не утрачивая невоспроизводимых параметров, и похоже даже, что в то мгновенье, когда покинув один физический носитель, они еще не успели запечатлеться на втором, они существуют в виде чистого нематериального алгоритма. Как бы ничьи!
— Имеет место быть, — нагло признался предмет, — но, при всей твоей святости, ты тоже не упускаешь случая попользоваться чужим!
— Спорное утверждение! — задумалась девица шагнув одной ногой в юбку.
— Может ли иметь пользу бутылка с анонимным посланием на волнах шизофренического приключения? Давай лучше честно признаемся друг другу в главном — мы оба ничьи.
— Да, уж! — съехидничал предмет, — переброска невидимыми мячами с целью завязать узелок взаимопонимания на дорефлексивном уровне не удалась!
— Ах! — вздохнула девица, выуживая из постели платок и черные кружевные трусики. — Ты снова вводишь наш диалог в искусственные рамки конечных истин. Удалась… не удалась… Какая разница!
— Но почему тогда «червивый»? — спросили мы ее хором.
— Спросите еще, кто убил Лору Палмер! — ответила девица, закутывая голову платком.
Я был без понятия, кто такая Лариса Палмер, но мой компаньон быстренько съежился и притворился тучкой.
— Ну, и кто, кто ее убил? — спросил я самым издевательским тоном, от ночника сразу же потянуло дымом, потом полыхнуло пламенем, и стены комнаты стали угрожающе корежиться.
— Ты че, дура? — прокричал я последний вопрос и кинулся к кейсу. Дым с пламенем тут же исчезли, будто и не были. Девица смылась, оставив черные кружева на подоконнике, но, когда я подошел к окну, из кружев высунулся увесистый паук со здоровенными мохнатыми хелицерами.
— Относятся ли пауки к насекомым? — осведомился я с максимальной вежливостью и без лишних движений.
— Паучихи! — уточнила она, вспучивая ядовитые железы, — гуманитарий хренов! Сейчас поймешь разницу.
Далее я плакал светлыми солеными слезами, просил прощения за случайное и непреднамеренное убийство Л. Палмер и умолял не губить мою грешную, но достаточно молодую душу — в том смысле, что есть время исправиться.
— Не очень-то и хотелось, — сказала, наконец, паучиха, сползая за окно со своей черной сетью, — в конце концов, душа не является твоим самым приятным местом.
Засыпать было уже бессмысленно, и я искренне обрадовался, когда в окне появился Стасис и молча уставился на бутылочку с недопитым коньяком, не замеченную пиковой дамой. Через пару минут мы уже допили оставшееся, а потом он исчез и вернулся с двумя вареными картофелинами, хлебом и очередным куском копченого сала. Нормальная жизнь, кажется, возвращалась, и не таким уж я был идиотом, чтобы расспрашивать его о своих ночных визитерах. Мы пошли к Юозасу обговорить стоимость ремонта. Парень был явно не промах, но деться было некуда.
— Почему у вас здесь все время стоит туман? — спросил я у Стасиса на обратном пути.
— А кто знает! Шесть лет туман, дожди, и все время лето. Картошка мелкая, помидоры не сажаем, одни грибы хорошо растут. Ты сейчас куда?
— Пока не знаю.
— Мне нужно сарай починить. Не поможешь доски с турбазы принести?
Турбаза, а вернее, то, что было когда-то ею, находилась совсем рядом — пустые домики с вынутыми оконными рамами, запущенные аллейки, заросшее чертополохом футбольное поле. Несколько ребятишек младшего школьного возраста с разводными ключами в руках гоняли по полю измученную нетрезвую личность со следами ожогов на лице. Прижигали, похоже, сигаретами. Измученный матерился, с трудом увертываясь от деток, а те зверели, и их беленькие драные рубашечки прихлопывали на ветерке ангельскими крылышками.
— Они же убьют его! — воскликнул я.
— Так это же Потапов, — сказал Стасис, — пусть убивают.
— Это его дети? — спросил я тогда растерянно.
— Нет, они из Чернобыля, отдыхали тут одно лето — давно уже, а турбазе за это бензин поставили. Так некоторых тут и похоронили, — хладнокровно заметил Стасис, выламывая доски из стенки ближайшего домика.
— Так что, они неживые? — спросил я, осознав, наконец, что шишка на моей голове не имеет отношения к деревенской действительности.
— Не знаю, может это мы неживые — пожал плечами Стасис, — встретишь ее в Москве — спроси.
— Кого ее?
— Внучатую племянницу, — сказал он, — она на втором этаже жила, а как зовут, я не помню. Родители тоже забыли. Пусть их заберет — они же не наши.
— А почему турбазу не восстановят? — спросил я его на обратном пути, — сюда же можно привлечь иностранных туристов — места красивые, а отдых будет недорогим.
— Пробовали, — ответил Стасис, — днем строим, а ночью куда-то исчезает.
— Воруют, что ли?
— Не знаю…
— А чем ты занимаешься?
— Охотник. Шкуры на чердаке видел?
В нашем дворе плотный мускулистый мальчик гонялся с луком за большой черной курицей, а высокий старец складировал штабелем старое женское тряпье и драные матрасы, встряхивая и тщательно осматривая каждую вещь. Оторвавшись на секунду от своего занятия, он погрозил мальчику пальцем, а потом, сунув в текстиль пожелтевшую от времени газетку «Нью-Таймс», подпалил ее искрой из глаз, и запел громовым голосом с сильным акцентом:
Рок-н-ролл мертв, а я еще нет, Рок-н-ролл мертв, а я…
— Это он деньги в вещах покойницы ищет. Свекровь была запасливой женщиной. Запасливый лучше богатого — объяснила мне Жемина, ухватив за ухо пробегающего мимо мальчика, но тот уже успел пустить в черную курицу стрелу.
— Мне крайне лестно, с такими талантами и на свободе! — заметила курица с явной досадой и, отряхнув перья, громко зарыдала, — ах, принц, я любила вас в то лето, но, может быть, я любила не вас, а саму любовь?
— Оставь Галлину в покое, велнясово отродье! — прогремел старец у костра и пронзил мальчишку молнией, но мальчишке это не повредило — он только сжал губы и прицелился луком в старца.
— Совсем сдурел старый после смерти, — вздохнула Жемина, — думает, что он и есть сам Перкунас.
— А давно он умер? — спросил я.
— Давно, — сказала она, воздев глаза к небу, — они в один день померли, как внучку похоронили.
Свекровь с утра, а он после обеда. Пошел поросенка на похороны закалывать, а тот — как вырвется, и свекор головой об камень. А откуда там камень взялся и куда потом делся — мы не знаем.
— Отец, в магазин опоздаешь, все твои сникерсы разбегутся по домам, — заметил Юмис, оторвавшись от беседы с каким-то обугленным бородатым трупом, а старик приколол булавкой к верхнему кармашку поношенного черного пиджака мой потрепанный доллар и растаял в воздухе.
— Это тоже ваш родственник? — спросил я у Стасиса об обугленном.
— Это Бордайтис, отец Юозаса, — равнодушно ответил Стасис, — рыл в то лето, когда последний раз солнце было, новый колодец, его и засыпало. Откопали быстро, да он уже почернеть успел.
— Живите, как хотите, — подумал я, потому что голова моя гудела после путешествия на турбазу синим пламенем, и чужая жизнь меня никак не касалась.
К обеду была подана яичница и вареная картошка, густо политая растопленным салом с жареным луком. За столом мы сидели впятером, поскольку маленький стрелец оказался сыном Стасиса. Как выяснилось в ходе разговора, отец со своим шустрым сыном жили через дом отсюда, но женщин в их доме не было, и они столовались у Жемины. Я спросил, кому принадлежал соседний разрушенный дом.
— Пьяницам, — вздохнула Жемина, — у него вся печень расползлась по кусочкам. Хотел все ей завещать, да не успел. А родственники ее жить не пустили. Она потом в райцентре под поезд бросилась. Все равно жалко!
К концу обеда появился таинственный Альгис, мрачноватый широкоплечий блондин, оказавшийся близнецом Стасиса. Он жил с семьей в соседнем городке, но иногда ночевал у матери. Мои вещи были уже перенесены наверх в мансарду, потому что Альгис предпочитал спать внизу. Мы поужинали вареной картошкой, салом и сыроежками, а потом я поднялся в мансарду. Три двери были заперты, а четвертая вела в небольшую кладовку, увешанную шкурами. То, что когда-то бегало в этих шкурах, должно было походить на динозавров, но были и шкурки каких-то непонятных зверей, похожих на уродливых восьмилапых насекомых.
Как оказалось, мне нужна была пятая дверь. Комнатка была побольше прежней, а меблировка состояла примерно из того же джентльменского набора, что и внизу, но со стареньким диванчиком вместо серванта.
На фанерной стенке у изголовья железной кровати красовалась надпись, выполненная затейливой кириллицей: «Мене! Мене! Текел! Упарсин! — Решение Беловежской пущи (обжалованию не подлежит!)».
В углу высилась горка из старых стульев, и на одном из них висело старомодное пенсне с золотой дужкой. Тут же лежал открытый чемодан без ручки, наполненный пожелтевшими от времени вырезками газетных заголовков. Сверху красовалось: «Поднять племенное дело в Поволжье на мировой уровень», «Награда нашла героя» и «Американские милитаристы проводят учения в Европе». Под вырезками я обнаружил двух мерзлых покойников среднего возраста, обложенных лыжными палками. Увидев меня, они обнялись и начали оживленный разговор, причем более крупный жаловался, что лошади неимоверно подорожали, а более мелкий считал, что за коня в иных случаях можно и пол-цар-ства отдать. Оба были пьяными вдрызг, и один из них, как я понимал, и был Пушкайтисом — тем самым, про которого спрашивала маленькая русалка.
— Только представьте на одно мгновенье, — говорил тот, что помельче, — заворачивает князь Игорь за шатер, а там конь — оседлан и бьет копытом!
Крупный представил, они посмотрели друг другу в глаза и запели хриплыми дружными голосами: «Не думай о мгновеньяьх свысока…»
— Уй-йобывайте отсюда, — предложил я им, но они посмотрели на меня с нескрываемым презрением.
— Пажеский корпус в Санкт-Петербурге кончали? — ехидно спросил мелкий.
— Полицейскую академию в Санта-Барбаре, не хотите? — я был настроен весьма решительно.
— Я полагаю, торг здесь не уместен, — изрек крупный и обратился к собеседнику, — у нас еще есть время!
— Пара минут на сборы, — сказал я.
— Читал пейджер. Много думал, — заржал мелкий.
Я закрыл чемодан и, натужась, потащил его к окну. Чемодан плюхнулся в темную лужу, а я спустился вниз по лестнице и потащил чемодан на помойку. Помойка под старым дубом впечатляла своими размерами и запахом.
— Сходи, мусорок, к недорогому районному психоаналитику, в Санта-Барбаре их навалом, — презрительно посоветовали они мне из чемодана хором и продолжили беседу.
Совет был неплохой — доктор мне, пожалуй, не помешал бы. Носить чемоданы, по крайней мере, он запретил бы мне совершенно точно, потому что мои уши уже пульсировали от сильной головной боли, и меня вырвало от помоечного запаха прямо тут же, под большим дубом.
— Черт! Нужно было не трогать этих покойничков вообще, — подумал я, и в этот же момент откуда-то сверху раздался важный спокойный бас:
— Деяния, продиктованные пассионарностью, легко отличимы от обыденных поступков, совершаемых вследствие наличия общечеловеческого инстинкта самосохранения, личного и видового.
На дубовой ветке сидел белый голубок со странно вывернутыми лапками. Я запустил в него камнем, а он вцепился покрепче когтями в дубовую кору и жалобно замяукал.
— Никого не трогаю, относительно примусов не обращаться!
— Будешь ты мне тут лапшу на уши вешать, кот ученый, — сказал я, примериваясь к цели следующим камнем, но он тут же растворился в воздухе.
— Пошлость есть скрываемая изнанка демонизма, — донеслось уже из воздуха, а я опустился на землю у ближайшего куста орешника, потому что от боли просто темнело в глазах, но тут кто-то, оказавшийся потом большой зубастой щукой, прокусил мой палец до крови. Я вскрикнул, и щука уплыла по влажному воздуху вглубь орешника. «А не ходи в наш садик!» — процитировал я сам себе милиционера, постоянно дежурившего в голубом скверике у Большого театра в самом центре Москвы, и поплелся к дому.
Глава 16
Я действительно спешила — меня ждал мой заведующий отделом Владимир Иванович Ильин, и сегодня вечером у нас была встреча с немецкими этнографами — намечался один занятный общий проект.
Дела института последнее время шли неважно, народ подрабатывал, как мог, и некоторых своих коллег я не видела месяцами. Застать меня на рабочем месте тоже удавалось не всякому, но работалось мне сейчас удивительно легко и быстро. Впрочем, мои академические занятия уже проходили по разряду хобби, утратив привычную им роль главного источника существования.
С учениками у меня не ладилось — аспиранты сторожили и торговали, а те из них, кто добирался до защиты, получали свои белые шары за то, что добрались. Некоторое оживление научной деятельности наблюдалась только у матерых и закоренелых — средств для новых экспедиций почти не выделялось, вот и приходилось вскрывать глубинные пласты старых наработок, что однозначно свидетельствовало в пользу стресса как временного катализатора перехода экстенсивного в интенсивное.
Да, романтические времена миновали, и надежды на улучшение ситуации в ближайшее время, увы, не существовало. Этой осенью речь шла о сохранении позиций в бюджете следующего года и своевременности финансирования, но итоги утренней встречи делегации молодых ученых Российской Академии наук с членом правительства все же превзошли мои ожидания. Перед встречей мой коллега из Института океанологии получил мягкий упрек от референта за отсутствие парадного костюма, после чего референт впервые узнал о размере оклада научных сотрудников и постарался ускользнуть из помещения, потому что оклада как раз хватало на пять хлебов и две рыбы (Матфей 14, 13–21; Марк 6, 30–44; Лука 9, 10–17; Иоанн 6, 1 — 13), и выкроить долю на новый костюмчик было сложно. Спустя четверть часа после начала встречи нам дали понять на самом высоком уровне, что страна без нас в ближайшее время обойдется, и цинизм нашего собеседника выглядел слишком откровенным даже для клоунады смутного времени. Летите, голуби, летите…
Самая грустная вещь всех времен и народов — это, пожалуй, «Сирены Титана» Курта Воннегута.
Космическая пьеса с триединством равнодушия времени, равнодушия пространства и равнодушия действия — попробуй-ка, будь счастливым после спектакля со своей неуместной жаждой любви. А стоит ли вообще требовать любви от Эпохи, Территории и Закономерности?
Пару газетных публикаций по итогам встречи я, конечно, организую, но это пока все, чем можно ответить. Завтра что-нибудь придумаем, ведь завтра будет другой день, а сейчас не перейти ли в мемориальную фазу, если уж судьба послала мне привет с этим молодым человеком? Неудачно попал, вот только — спешка, досада, чепухи наговорила… Плохой сон приснится ему сегодня…
Да, моя солнечная Пакавене оставалась со мной, но где-то там существовала и другая Пакавене, где меня уже не было, и поэтому всегда лил дождь — черненький анти-файл, возникший в тумане с химерической услужливостью директории «Temp», и какое отношение имел он к стандартному населенному пункту в чужой стране, где шла своя жизнь, и строились дома, и старики умирали, а дети рождались, и все каждый день ели вареный картофель с копченым салом и смотрели, как там поживают на западе? Собственно говоря, этот пункт и назывался по-другому — по имени большого озера, и зачем ему нужна та другая Пакавене, где на мокром песке остались отпечатки наших кроссовок? Там-то уж точно обойдутся без нас… Хотят избавиться даже от воспоминаний…
Однажды, под горячую руку, я и сама хотела избавиться от всех воспоминаний сразу, и можно, конечно, сетовать, что мысль изреченная есть ложь, а мысль запечатленная — ложь вдвойне, и вообще, как могут воспоминания быть адекватны ушедшей реальности, если у каждого из нас была своя Пакавене, и другие были туда не вхожи? Но в моем тексте, и в самом деле, кое-что было напутано, напутано специально и злонамеренно, и конец истории был несколько иной — примерно с того места, когда с мясником было покончено, все уехали на прокурорском газике, а героиня, оказавшись у себя в комнате наедине со своим чемоданом, сняла со стены ружье, провисевшее на сцене пару актов в полном бездействии, и ружье выстрелило.
Трудно сказать, зачем она это сделала. Возможно, она никак не могла идентифицировать себя с принцессой, до посинения благодарной победителю местного чудовища, представить которого в лучшем свете было невозможно только потому, что лучшее — враг хорошего. И вообще пора было опускать занавес, и зрители, ощупывая номерки в карманах, с нетерпением ждали заключительной сцены с простыми искренними словами («Сердце поет…»), а этих слов у героини сегодня не находилось, потому что в Датском королевстве было неладно, и все грешили на чудовище только потому, что боялись заглянуть в зеркало — ведь все зеркала уже давно окривели, натужно извиваясь в попытках угадать тот радиус кривизны, при котором отображение выглядело бы вполне прилично. Собственно говоря, и отличить героя от героини уже было нелегко — оба были закованы в одинаковые латы, и к концу последнего акта им уже было легче молчать, чем говорить, но они по-прежнему ходили парой, потому что не могли забыть тех редких мгновений, когда видели друг друга без железных доспехов.
Можно сказать совершенно определенно, что героиню в этот недобрый час вовсе не прельщали темпы развязки в «Гамлете», когда все быстро сыплют соль на чужие раны, и ситуация стабилизируется, потому что проблемы исчезают вместе с людьми. Просто пора было уезжать, и впереди маячило короткое бабье лето, а там уже не за горами был и Покров день, когда мокрую бесприютную землю заносит первым снегом, и она каменеет, надеясь на лучшие времена, а каменеть сиднем и ждать хорошей погоды было не в характере героини, и лишняя информация в этом свете представлялась полезной — быть может, ей удастся тогда найти самые правильные слова для нелегкого вечернего разговора, хотя…
Хотя для тех, кто родился в России, иногда лучше всего отдаться на волю волн и плыть по течению, куда глаза глядят. Сегодняшний день, однако, был особенным, и счастливое избавление от смерти в этот момент уже не казалось героине главным событием. Главным было другое — оставшись одна, она вдруг связала мелкие детали бытия последних дней, включая лояльность Восьмеркина и внезапную неприязнь к бутерброду, в единую картину, и старые декорации к пьесам «Казаки-разбойники», «Кошки-мышки», «Любит — не любит» срочно сдавались в утиль-сырье, а ослепительно-розовые скрипки, пока в театре шел ремонт, разучивали новые мелодии убаюкивающего свойства, и всему миру предлагалось немедленно учесть обстоятельства и приспособиться под декорацию к пьесе «Дочки-матери».
Маленький эпизод с конвертом был деталью этой грандиозной мировой перестройки, но доля случайности в эпизоде, конечно была — нужно было достать из чемодана чистое полотенце, а под полотенцем оказался так и не вскрытый конверт. А далее ружье выстрелило, и кое-какая правда тут же вышла наружу, но не могла похвастать положительно ничем, кроме собственной правдивости — как надпись на могиле самого заядлого неудачника: «По крайней мере, он честно прожил свою жизнь».
— Дорогая Марина! — писала мне Люба, — я узнала то, что ты хотела. Человек, о котором ты спрашивала, никогда не был женат. Если твои планы не изменятся, то мы скоро увидимся. До скорой встречи!
Я попыталась привести мысли в порядок, и через некоторое время, увидев отблеск красных сигнальных лампочек во внимательных глазах экспериментатора, закатанные рукава белого халата и шприц в безжалостных волосатых руках, явственно осознала себя белой мышью, забившейся в угол клетки, Картинка впечатляла, но дело портили руки — руки были не те, они были бережными и нежными. В конце концов, уж, о чем — о чем, а по поводу именно этой детали картинки мы со своей героиней могли судить вполне авторитетно.
Тем не менее, информация была принята к сведению, и процесс пошел быстро, с волнами и бурой пеной. Мой кораблик минут с двадцать все еще участвовал в съемках — то с алыми парусами на мачтах, то под Веселым Роджером, то в поисках капитана Гранта, но внутреннее беспокойство уже подтапливало трюмы, поскольку отдельный, случайно уцелевший айсберг мог принять его дуриком за «Титаник».
Прогрунтованный и многослойно окрашенный корпус судна к концу съемок выглядел еще почти новеньким, но мелкая сетка трещинок уже покрывалась кое-где ржавчиной, а что творилось в пространстве под днищем — и рассказать было трудно!
Прозрачные тельца густо населяли это пространство, чтобы, натешившись свободой, навсегда прикрепиться к какому-нибудь днищу. Паренхимулы дрыгали жгутиками в разные стороны и, выворачивая губки наизнанку, норовили сами себя поцеловать; целобластулы пузырились и, усложняясь до амфибластул, приобретали необходимую целенаправленность поиска; гемоцианиновые науплиусы, выпучив глазок, вырабатывали голубую кровь для будущих куколок, а пухленькие трохофоры с мерцательным поясом ресничек лениво увертывались от шустрых эволюционно-продвинутых велигеров.
С точки зрения Баронессы, к примеру, это были личинки всяких прилипчивых организмов, врагов мировой навигации — она обожала экзаменовать гуманитариев каверзными вопросами типа: «Относятся ли пауки к насекомым?», но мой кораблик плавал в сказочных пространствах Пакавене, и прозрачные тельца поэтому трактовались мною в качестве этаких платоновских эйдосов, эфирных зародышей всяческих версий бытия, и то, что, в конце концов, прилипло к днищу, объясняло ситуацию не лучшим образом. Love story была коротенькой и яркой — достаточно коротенькой, чтобы мгновенно пробежаться по страницам, и достаточно яркой, чтобы героине не почувствовать сейчас страшной досады.
— Шекспировская «Буря» (далее — непереводимая игра слов), не меньше! — думала она сначала, — и мы читаем книги Просперо, воюем с духами природы, воздымаем волны и гоняем корабли. И все ради пошленькой развязки — девочке пора замуж, а мальчик боится жениться.
— Безусловно, рыцарь, — думала она потом, — но со страхом и упреком. А, может быть, не рыцарь, а может крокодил… Вдруг — жена-инвалид, вдруг — девочку до потери пульса любит, вдруг… Годы поджимают, а тут расписной русский рай — щи замоскворецкие, репа пареная, квас «Монастырский»… И хочется, и колется — баба-то ненадежная, порченая, неискренняя… Что же, попытка была не пыткой!
— И вечный бой, покой нам только снится… — думала она в конце эпизода — тратить жизнь на войну, вместо того, чтобы сажать деревья… Все повторяется, как день сурка… Ему, наверняка, хотелось другого, но, если долго ищешь, так ли уж важен результат… Десять метров ситца в подарок на одну ночную рубашку, чтобы заменить цель поиском… Потом двадцать…
Время, отведенное случаем на судебное разбирательство, истекло довольно быстро, и героиня старалась быть как можно хуже и необъективней, поэтому все сомнительные обстоятельства не трактовались в пользу обвиняемого. Да, она была его женщиной, но ему потребуется теперь доказать это самым серьезным образом. Итак, Андрей вернулся мокрее мокрого, но согреться ему в эту ночь было негде — героиня была не очень хорошей, что нашло свое отражение в пакавенском фольклоре.
Трусы и рубашка лежат на песке, Марина плывет по опасной реке.
Близка к крокодилу ужасная пасть, Спасайся, Геннадий, ты можешь пропасть!
— Марина, чем ты занимаешься? — спросил Андрей, уставившись на пепел в алюминиевой миске.
— Да вот, сожгла то, чем ты так успешно предохранялся. Это сведения о твоем семейном положении. Я вскрыла конверт полчаса назад.
— Черт! С тобой, как на минном поле, — сказал он с искренней горечью, — и какой голубь мира тебе его принес?
— Это ответ на мой запрос. Оставим голубей в покое.
— Ну, что ж, теперь ты знаешь, что все вакансии свободны.
— Да, и суета в нашем театре уже началась. На роль законной супруги у нас несколько претендентов — тень отца Гамлета, Виндзорский призрак и подпоручик Киже. Половые признаки при данных обстоятельствах значения не имеют. Пионеркой-пятиклассницей жаждут стать самые отъявленные детдомовцы — Козетта, Павлик Морозов и дети подземелья. Они просто мечтают довериться первому встречному.
— Хочешь сказать, что тебя среди претендентов нет?
— Я уже сказала это.
— Надеюсь, ты меня все же выслушаешь?
— Сейчас ты расскажешь мне обо всех своих страхах и сомнениях, и я выслушаю, но мне будет смертельно скучно, потому что очарование пропало, и все, чем я могу ответить, лишь добавит тебе новых страхов и сомнений. Давай лучше честно признаемся друг другу в главном — мы оба ничьи. Ты ничей, а я ничья, и ничего изменить не удалось.
— Не делай выводов сгоряча!
— Ты же видишь, я даже не злюсь, только немного усталости и сожаления. В правде есть своя прелесть, как в спирте — чиста, крепка и не любит слабых. В конце концов, ты прекрасно подыгрывал и даже спас бедную девочку от серого волка, но летние гастроли завершились, и пора открывать зимний сезон. Я никогда не смешивала времена года.
— Полагаешь, на этом месте мне следует удалиться?
— Нет, я же не отблагодарила тебя за твой подвиг. Ты ведь не лишишь меня последней возможности?
— Зачем тебе это нужно?
— Не хочу, чтобы мы расстались врагами, — сказала я, и он засмеялся.
— Я всегда ценил в людях жажду хэппи-энда, но мой сценарий, Марина Николаевна, выглядит несколько по-другому. Он не так уж далек от своего стереотипа, только охотник оказался для бедной девочки еще одним волком.
— Что ты имеешь в виду?
— Я, действительно, никогда не был женат, и дяди у меня никогда не было, и вообще мое появление здесь связано с работой.
— Андрей, о чем это ты?
— Сначала о работе. Ты как-то упоминала о расстрелянной матери своей заозерной приятельницы. Так вот, вскоре после ареста она обратила на себя внимание некоторыми странностями, и ее не расстреляли, а доставили в одну занятную шарашку, располагавшуюся на европейском севере нашей страны. Там производилось определенное тестирование шокового характера, и были получены интересные результаты. У некоторых женщин при сильных стрессах открывались весьма и весьма нестандартные способности, и мать твоей приятельницы была из их числа.
Позже все участники событий, включая руководство шарашки, были расстреляны, а материалы уничтожены в целях государственной безопасности. Речь шла о государственном заговоре с участием руководства и тех, с кем производились опыты. Но кое-какие результаты экспериментов всплыли — заведующий научной частью дублировал свои записи, и дубли чудом сохранились, но о деталях опытов лучше не спрашивай.
— Остановись, слишком злая шутка! — попросила я его тогда, но передо мной сидел уже другой человек.
— Эта тема всплыла года два назад. Дошли сигналы, что в западных районах нашей страны и сопредельных территориях зарубежья стали происходить странные вещи, не поддающиеся нормальной логике.
Сама понимаешь, мне, как исследователю, стало крайне любопытно, а родственники лиц с заведомо известными аберрациями представляют удобный материал для исследования.
Он говорил медленно и спокойно, и ужас, ледяной ужас разливался по моим кровяным сосудам. Сны снова сбывались, реальность уж слишком услужливо реализовывала самые страшные фантазии.
— Ее тоже ждет тестирование шокового характера? — спросила я его, еще не веря, что все это происходит наяву, — но зачем, зачем тогда ты все это рассказываешь?
— Ты задаешь правильные вопросы, но я продолжу изложение фактов в своей последовательности. Я стал собирать информацию, и первый контакт всегда происходил в спокойной обстановке с положительным эмоциональным фоном — мне было это важно для дальнейших выводов. Информация о знакомствах Лаумы у меня была, а супруг твоей тети, Натальи Николаевны, имел вполне подходящую для налаживания контакта болезнь — этой темой я немного занимался. Я нашел сокурсника твоей тети, слегка нажал на него, и он согласился быть моим дядей. Мысль совместить деловую поездку с долгожданным отпуском показалась мне удачной, и тут, совершенно неожиданно, я натолкнулся и на другую тему, связанную со странными убийствами. Остальное ты знаешь. А теперь задавай вопросы.
— Что будет с Лаумой?
— Я могу отказаться от своих планов относительно этой женщины, но в этом случае ты останешься со мной. Ответ должен быть немедленным.
— Как долго я должна буду с тобой оставаться? — спросила я.
— Мне сейчас трудно ответить, — сказал он.
— У нас все равно ничего хорошего теперь не получится. Зачем тебе это?
— Мне обычно скучновато с женщинами, а ты приятное исключение. Ты неплохо готовишь, и все остальное ты тоже делаешь неплохо. Временные связи слишком отвлекают от работы, и я подумывал последнее время о более удобном варианте — разумеется, без всяких официальных излишеств.
— Что же это добровольцев до сих пор не нашлось для такого удобного варианта?
— Видишь, ли, Марина, пять лет назад у меня, действительно, случилась беда. Я любил молодую актрису, замужнюю женщину, и она ждала ребенка. Кончилось все это трагедией — она сообщила своему мужу о разрыве с ним, когда они возвращались с дачи, а для него это было слишком большим ударом, и машина разбилась всмятку. Женщина погибла, а ее супруг, Борис Веснянский, все-таки уцелел, хотя его и склеили заново по кусочкам. Теперь он заведует детским театром при Доме пионеров, а я с тех пор так и остался бобылем. И мне это понравилось, так же, как и тебе.
— Мне это никогда не нравилось, мне всегда хотелось иметь нормальную семью, если тебя это как-то интересует.
— А ты способна иметь нормальную семью? — спросил он так же спокойно, и вот тут-то я поняла, что все происходит наяву — поняла отчетливо, окончательно и бесповоротно, а дальше я молчала, а он ждал, и его ожидание висело надо мной уродливой свинцовой сферой, глобусом чужой и страшной планеты, где совсем другие законы, и все десять наших заповедей уместны разве что для комиксов, высмеивающих обитателей Земли. Теперь мне нужно было выиграть время.
— Похоже, у меня нет особого выбора, но сегодня прошу пощады — я вымотана до предела.
— Я не насильник из подъезда, Марина Николаевна, — засмеялся он, — и я сейчас уеду, дождь как раз затих. Мне завтра нужно успеть до конца рабочего дня заглянуть на службу. Если дела позволят, я постараюсь встретить вас на вокзале.
Он оделся и ушел, дверца автомобиля хлопнула, и мотор, взревев, тут же умерил свой пыл, и этим ускользающим в соснах звуком и закончилось бы мое страшное и счастливое лето в Пакавене, когда сказки так тесно сплелись с реалиями, что я уже не могла отличить одно от другого, но я уже поняла, почему не смогла справиться с мясником сама, и что делало меня слабой, и вышла на темное крыльцо, где за дверью чернела старая метла.
Я летела, задевая верхушки сосен, но догнала его только у реки и опустилась на мокрую дорогу перед машиной. Он затормозил, и тогда я подошла к окошку, и стала смотреть на него, и он отшатнулся от моих глаз, и ремень безопасности стал его последней сетью. Я видела, как он хрипел, как останавливалось его сердце, как потухали глаза, и, когда все было кончено, я оскалила зубы в широкой приветливой улыбке и сказала всем, кто, затаив дыхание, глядел из-за черных сосен:
— Привет, я одна из вас!
Остаток ночи я просидела над своим чемоданом, а к утру мой кораблик все же столкнулся с айсбергом и пошел ко дну так быстро, что пузатенький воздухоносный чемоданчик показался мне желанным берегом, и, вынырнув, я ухватилась за него, чтобы не расставаться со своим угловатым другом уже никогда.
Да, со своими деревянными глазками я не годилась в любимые женщины даже механику Гаврилову из одноименного непритязательного фильма. Катастрофы, катаклизмы, катапульты, катафалки и катарсисы с очередным помутнением хрусталика, именуемым катарактой — не отправить ли в архив свои прогулки по кривеньким сомнительным тропинкам с их непременным фарсовым ужасом перед обычными Canis lupus?
Похоже, у меня предназначение особое и специфическое, и с этим нужно считаться — время сейчас дает мне возможность выбора.
А потом наступило утро, и все было так, как было, но мой чемодан остался при мне, и мы уехали на серых «Жигулях», встретив по дороге колонну автобусов с детьми младшего школьного возраста.
Чернобыльские дети — их везли на турбазу. А далее мы поговорили на перроне с Лаумой о мяснике, поезд отправился по расписанию, и за окнами до самого Неляя был густой туман, потому что Пакавене уже исчезала с лица земли. День прошел в мелких хлопотах, старики спали на нижних полках, а я, пожалев перед сном о забытой фигурке банщика, подаренной мне Бароном в день ангела, спала на верхней боковой. Завтрашний день обещал быть не из легких, и мне следовало выспаться как следует.
Ах, как выли в эту ночь жестоковыйные вервольфы за пределами Национального парка, с какой ненавистью грубая шерсть их прорастала из розовой кожи, и псиной разило от разгоряченных тел монстров, и необрезанные уши их протыкали густые цветочные ароматы, и ноздри дрожали в предчувствии кровавого следа. Все было впереди, и духи забытых предков, как на картине Гогена, витали над колыбелью спящей, пытаясь прорвать тиски времени и рассказать о долгом пути своем, усеянном зловещими каменными статуями ошибок.
О, они уже знали, что делать и кто виноват, но взволнованная речь их растворялась в питательном гумусе и, подымаясь по сосудам стволов, смешивалась с шепотом листьев за окном, слегка тревожа сон героини в ее новеньком мире, где все пути были открыты, и розовые чайки носились над вечными каменными статуями, и косточки первопроходцев, уже припорошенные землей, снова и снова ломило привычной болью, когда она спрашивала себя на развилках дорог, кто же она в этом мире, откуда она родом и куда идет…
В Москве дождило, и нас никто не встретил. Тетка решила, что развитие событий идет по второму варианту — Андрей Константинович обещал подвезти вещи прямо в Балашиху, если не сможет из-за служебных дел отлучиться на вокзал. Мы разъехались на такси в разные стороны, и я, наконец, прибыла домой, в свой расписной русский рай. Что там осталось от Пакавене на подошвах моих кроссовок — заметить я не успела, потому что не раздевалась. Я позвонила матери, сказала, что жива и здорова, но исчезаю надолго, и буду писать, а моя новая интересная работа связана с посещением краеведческих музеев, и постоянного адреса у меня пока не будет.
Мои родители разошлись по отдельным счастливым семьям, когда я поступила в университет, и я уже слишком давно делала то, что хотела. Поэтому я позвонила на работу, и, быстренько сунув в большую сумку кое-какие вещи, фамильную безделушку и стандартный джентльменский набор — деньги, часы, документы, вышла на улицу и прошла к метро мимо продуктового магазинчика, известного в народе под названием «Поросенок».
Забегаловка у Патриарших прудов обслуживала приватных посетителей только по вечерам, но кое-кого там я знала лично — Кока Кулинар отмечал свой день рождения именно в этой точке Общепита, и необходимая мне информация не относилась к числу страшных тайн. Удостоверившись, что Кока не изменил привычек, я отправилась на электричке в Расторгуево, где обитал летом мой заведующий отделом, член-корреспондент Академии наук, бывший политзаключенный Владимир Иванович Ильин, отец моей близкой школьной подруги, не последовавшей по стопам отца к его горькому сожалению.
Он был единственным человеком, которому я выложила всю правду (или почти всю!), и он выслушал меня до конца. Я написала заявление об увольнении с работы и сказала, что позвоню сразу же, как устроюсь.
Он обещал информировать меня о состоянии дел и здоровья моих родственников и немедленно связаться со мной в экстренном случае.
— Мне искренне жаль, ты способный молодой ученый, и я всегда считал тебя второй дочерью, — сказал он мне на прощание, — но я могу тебя понять. Мою жизнь всегда режиссировал кто-то другой, и все, что я мог — это подправлять некоторые режиссерские ошибки. Но ты должна дать себе отчет — вернуться в науку сложней, чем уйти. Не бросай полностью своих занятий, если сможешь, а я пока придержу твое заявление.
На следующий день, вернувшись в Москву, я отправилась на Курский вокзал и всплыла затем в солнечном Коктебеле, где поутру все, кроме преферансистов, шли на пляж, и днем по опустевшим улицам стаями носились мелкие, изуродованные генетическим родством псы, а по ночам невидимые горлицы кричали с немыслимой обреченностью, словно уже отчаялись предостеречь этот мир о преходящей сути земной славы. Словом, все было как всегда, но появились первые коммерческие заведения и первые рэкетиры.
На берегу у могилы господина Юнга суетились голые тела из молодежной тусовки под предводительством Вовы Московского и Вовы Питерского. Эти джентльмены скрывали свой возраст еще в мои университетские годы, когда я регулярно навещала летнюю колыбель русской поэзии — осенью было уместней тусоваться в пушкинском заповеднике. Отеческая забота о подрастающем поколении коктебельцев, сухое вино и организация ежегодного конкурса на звание «Мисс Коктебель» по-прежнему отнимали все силы тусовочных лидеров, но каждую первую субботу сентября они клялись собравшимся у памятника Маяковскому не покидать свой пост, причем Питерский специально подъезжал туда в этот день из Ленинграда.
Стихи в этом зоопарке писали все, иначе и жизнь — не жизнь! Мальчики донимали девочек стихами так, что те и сами становились поэтессами, после чего мальчики приходили в себя и жалели об упущенных возможностях. Меня же всегда донимал сам Московский, но у него были весьма нестандартные для Коктебеля привычки — он ухитрялся находить там хорошеньких продавщиц, ничего не смыслящих в поэзии, а стихи о разбитой в конце сезона любви писал зимой, когда мы не виделись, и он читал их мне по телефону — слегка картавя, но очень старательно и с большим выражением. Если любовь была немного сильнее обычного, то он писал очень длинные поэмы, и я ухитрялась в середине произведения неспешно откушать, а когда голос в трубке застывал в ожидании похвалы, я искренне благодарила.
— Ты же знаешь, я уважаю королей, — говорила я этому взрослому дяде, неплохому инженеру-электронщику, — а в своем жанре ты, безусловно, король — я давно такой натуральной графоманской чуши не слышала.
Московский довольно ржал, потому что он был король эгоистов, и художественная оценка произведения его абсолютно не волновала, как и чувства давно забытых хорошеньких продавщиц. Ему просто хотелось зимней февральской стужей еще раз побывать в Коктебеле, и он делал это за мой счет, чтобы как-то дотянуть до весны. Энтузиастам полагалось посещать Коктебель дважды — весной и летом, и цикл стихов, созданный как-то Вовой по результатам майских коротких ночей в парке Литфонда, доконал меня так, что я и сама написала первое и единственное стихотворение в своей жизни, посвятив его этому чудаку, который любил теплые времена года до одурения, до сумасшествия, до колик в желудке — то есть, так же, как и я.
Беспощадное солнце льет свинец на мишени, А холодность волны только радует кровь.
Стихоплет полупьяный в коктебельской сирэни Безутешно и страстно говорит про любовь…
Кривозадые моськи утром прячутся в тени, Как вскипает на солнце их мерзкая кровь!
Плагиатор безумный в коктебельской сирэни Безутешно и страстно говорит про любовь…
Графоман беспощадный льет стихи на мишени, Как вскипает на солнце его мерзкая кровь!
Кривозадые моськи в коктебельской сирэни С пониманием дела говорят про любоффь…
Чайная в парке Литфонда этим вечером была полна — как всегда. Волошин отсиживался в углу вместе с сумасшедшим молодым актером Денисом и чертенком по имени Джимми. Фамилию Дениса я уже не помнила, но в детстве мы ходили по Коктебелю в однотипных матросках, и он выглядел вполне уравновешенным и слегка нудным мальчиком из семьи потомственных военнослужащих. Через много лет, когда матроска оказалась безнадежно мала, Денис нашел на утреннем пляже забытый кем-то цыганский бубен, тут же сошел с ума и поступил в театральный. Бубен имел к сегодняшнему вечеру весьма потрепаный вид, но, по утверждению его владельца, так и не утратил способности отращивать заново утерянные колокольцы.
Чертенок Джимми, очаровательное существо неопределенного пола и возраста из Уфы, читал мэтру свои новые вирши под переливы этих отросших колокольцев, и тот был не против.
В этом году на панели — небольшой площадке на набережной перед парком Литфонда, чувствовалось страшное напряжение, потому что реальных претенденток на высокое звание «Мисс Коктебель» было две, обеих звали Лизами, и шансы у них были равны. Лизка-Кошмар фигурировала по панели в шортах и натуральном тропическом шлеме, а Лизка-Адлер — в интригующих длинных одеждах в стиле волошинской мечты, и слухи о том, что первой папа привез из тропиков само-раскладывающуюся надувную кровать, сильно волновали Московского, а Питерский был без ума от рыжих волос второй и ее личика средневековой мадонны.
Питерский, прозябавший зимой давно дипломированным химиком, ходил по набережной с озабоченным видом, стряхивая время от времени со своего плеча томное и абсолютно лысое создание с дивными очами по прозвищу Фантик, а Московский руководил группой клакеров в толпе зевак у большого застиранного коврика, где представитель ростовской заозерной школы Геннадий Жуков, в увешанных бубенцами белых одеждах, пел свою знаменитую «Балладу о Соколе», а маленький Транк, львовский поэт районного масштаба, пытался поведать миру о об особенностях своего мировоззрения. В полной мере это мировоззрение было доступно только маститому поэту Налейникову, на чьей вилле Транквилизатор и столовался этим летом.
В противоположном углу панели подвыпившие тинейджеры подпевали магнитофончику Кирюхи Каца, фирменного поэта группы «Генералы запаса», широко известной на панели благодаря этому магнитофончику. Кац за время моего долгого отсутствия отрастил большую черную бороду, но на его статус церковной мыши Коктебеля это не повлияло, и он по-прежнему скитался приживалкой по чужим палаткам.
Сейчас он обитал у Темы, этнического китайца, чья новенькая жиденькая бородка придавала ему совершенно неожиданный облик захолустного русского дьячка, и сегодня вечером эти колоритные барбудосы обхаживали очаровательную кореянку Любу, напоминавшую им главную принцессу группы «Битлз».
Старшее поколение коктебельских королей было представлено в этот вечер господами художниками Рюриком и Рубеном. Рюрик курил трубку, прикидываясь главным историческим памятником Коктебеля, а Рубен носился вокруг своих перламутровых пейзажей моложавым ухоженным эльфом, и его белые элегантные одежды слегка прихлопывали на теплом ветерке, создаваемым его же движениями. В этот вечер он опылял своими сказочными историями рыженькую головку Лизки — Адлер, а та смеялась, и истории скатывались по длинным складкам ее платья на серый асфальт, истоптанный нервными шагами Питерского.
Участь всех дам Рубена была незавидной — как только их интерес к армянским традициям приобретал плотоядный характер, его белые одежды приобретали твердость и обтекаемость крыльев Аэрофлота, и красавицы, обливаясь слезами, попадали в зловещий дом Рюрика, где седой бородатый палач, прикинувшись на миг капитаном их дальнейшего плавания, казнил красавиц на маленькой гильотине за пагубное пристрастие к эльфам, развешивая их окровавленные головки по стенам дома, опутанным рыбацкими сетями.
Впрочем, у Рюрика была великолепная библиотека дореволюционных изданий с уникальным норвежским словарем, и до знаменитой комнаты с гильотиной, тщательно обмазанной красными чернилами, я так никогда и не доходила — Рюрик знал, что к эльфам я отношусь с прохладцей. Сам-то он ненавидел их до потери пульса — те слегка суживали круг его почитательниц.
Я так и не возобновила знакомств, потому что старалась держаться в тени акаций, не путаясь под ногами поэтов, художников и музыкантов, хотя, видит бог, как отдыхала моя душа в этот славный вечер, когда, обговорив с Кокой все новости Коктебеля и вопросы своего проживания на этом свете, я вышла на освещенную набережную из темных аллей литфондовского парка. Я не слишком беспокоилась о том, что меня узнают, потому что выше черных очков у меня было сейчас примерно то же, что и у Фантика, но на сантиметр приличней — чтобы у прохожих глаза на лоб не лезли.
Мой университетский приятель стриг отменно, и лишние спальные места у него всегда были — он любил меценатствовать, и делал это теперь с полного одобрения супруги и своего грудного младенца, потому что выбора у них не было — Кока с детства делал свою жизнь так, как хотел, и для нужных ему в Коктебеле людей он покупал билеты сам, предоставляя им пищу и кров в обмен на увеселение своей сложной и требовательной души.
Мы провели эту ночь с моим приятелем, шатаясь по улочкам Коктебеля среди вишневых садов, давно вырубленных хозяевами под доходные флигели для отдыхающих, и время от времени заглядывали на набережную, где ветерок перемен уже тревожил горячие головы поэтов под злобными взглядами новоявленных крымских патриотов, ждущих этим августом день освобождения города Харькова — день гибели моего деда, потому что считали его теперь личным праздником, Днем «харька», когда музыке и стихам было не место на набережной, потому что они сами шатались там, сжимая потные кулаки и бездарно горланя «Галю».
Рэкетиры уже нервничали — в этот день их доходы могли свестись до минимума.
Кока всегда был для меня первым поэтом Коктебеля, хотя совсем не умел писать стихов, и этой ночью он взахлеб рассказывал мне о своем летнем театрике, но такая тревога просачивалась мокрыми мутными каплями сквозь его слова, что мне вдруг понятен стал заунывный крик горлицы — о, господи, ведь это мой последний приезд в Коктебель! Не любит крымская земля тех, кто задерживается подолгу — стряхнет пришельца, как ненужный мусор, и снова заневестится в мечте Эммануэль, что ей будут владеть все вместе и дружно. Вот я уехала за тысячи верст от пакавенского леса, но чувство ножа в спину настигло меня и в этом раю, и грусть, безмерная грусть пришла ко мне этой душной теплой ночью, и я зарифмовала ее, спотыкаясь о бродячих лишайных кошек, плодившихся накануне распада империи с упорством одноклеточных.
Я могу рассказать о соленых и дерзких волнах, Что крадутся и лижут подножие старого склепа.
Этот говор, немного нерусский, в торговых рядах — Боже мой! — как звучит он в природе нелепо…
Я могу рассказать об иссохшей и жадной земле, Где в поверхностном слое глазницы у черепов узки.
Перелетные ангелы пели на старой ветле То недолгое время, пока она числилась русской…
Определить меня на постой в ленинградскую квартиру Питерского и взять у того ключи, не поставив хозяина в известность об имени своего личного друга, у которого оказались срочные дела в Питере до конца августа, Коке было раз плюнуть — в таких делах ему верили безоговорочно. Я уехала на следующий день, получив у Коки весьма приличную сумму денег и оставив ему на память фамильную вещицу, золотое яичко Фаберже. Оно ему всегда нравилось, хотя он и отнекивался поначалу, как мог. Но я его уговорила — дело могло обернуться по-всякому — ведь я, наконец, была способна на все.
Квартирка Питерского на Невском у Московского вокзала была отменной — с антресолями, роялем и большой библиотекой. Особенно занятной была ниша в стене, являвшая посетителям белые ноги греческого Аполлона, увенчанные фиговым листом внушительных размером. Все, что было выше, представляло интерес для посетителей вышележащей квартиры, которые жгуче завидовали гостям Питерского, так как торс атлета еще можно было принять за самостоятельную скульптуру, а тут уж был полный прикол.
На следующий день я перехватила Тищенко в театре, и, увидев этого бородатого лешего, вдруг отчетливо поняла, почему наша нежная дружба, не перерастая в глубокое темное чувство, длилась так долго, и мне было так же легко с ним, как и с Линасом — они были ребята из наших, а с нашими ребятами можно было только дружить.
— Привет! — сказала я ему, а он засмеялся и подмигнул мне лукавым глазом.
— На метле еще не летаешь?
— Бывает, но у меня временно другие проблемы. Я крепко влипла в нехорошую историю. Теперь вот скрываюсь.
— Ты же такой приличной женщиной, Марина Николаевна, была, — заржал он, — но я по-прежнему к твоим услугам, хотя головка у тебя теперь колоться будет.
— Ты видишь теперь перед собой страшного человека, — призналась я ему честно, — Марина Николаевна молчалива и отнюдь не общедоступна. Ей нужны деловые контакты.
— Ничего себе! — присвистнул он, — а ты, случайно, теперь не внучка Фанни Каплан?
— Обижаешь, я в своего не промазала.
— Говорил, ведь, не западай на личико!
— Ладно, не рви душу подробностями. Мне сейчас нужна работа. Я вполне могу декорировать фейсы у шопов. Ты как-то хвастался, что к тебе обращались…
— Клиентура имеется, но я, правда, пока отнекивался за неимением времени. Сейчас, кстати, новые постановки грядут, не хочешь взглянуть на эскизы?
— С удовольствием, — согласилась я и попала домой из театра уже в полночь за полночь.
Он свел меня с нужными людьми, и я начала новую жизнь, изрядно потратившись на литературу по дизайну того, сего и этого — делать, так по-большому! К концу месяца я сняла недорогую квартирку на окраине города с допотопным раздвижным диваном, столом, стульями и книжной полкой, и каждый день пересекала туда и обратно большой пустырь с несвежей травой, битым стеклом и ржавеющими остовами холодильников, но с шестнадцатого этажа моей башни у горизонта виднелась какая-то деревушка, а сбоку от нее чернело убранное поле, и была надежда, что там, за горизонтом, прячется разноцветный осенний лес, и сырой опеночный дух подымается в полдень из старой древесины под последней несмелой лаской бабьего лета.
А с лестничной площадки был виден Финский залив, но я туда не смотрела. Там кипели свои провинциальные страсти, и чудовище Ермунганд, змей Мидгарда выползал на берег, и Тор-громовержец время от времени поражал змея своим молотом, и тот, заплевав противника ядом, зализывал раны где-нибудь в укромном месте, под кораблем мертвецов, пока Тор мастерил для него удилище, мечтая о больших жирных червях из тела великана Имира, но все четыре червя уже превратились в карловцвергов, а тех на крючок не посадишь — они были самыми деловыми ребятами в своем сухопутном мире, потому что держали этот мир по четырем углам света, а на голову быка змей не ловился, и Тор сыпал громовыми проклятьями налево и направо, и тесть его, Ньерд, возмущенно вздымал седые брови, и серые волны подведомственной ему стихии яростно бились тогда о сваи корабельного двора Ноатун, где Ньерд, скрываясь от женщин, любовался по утрам кораблями и лебедями.
К весне мне нужно было заработать кучу денег, и по вечерам я мастерила из недорогих товаров магазина «Лоскуты» тряпочные замки с рыцарями без страха и упрека, спящими красавицами и кустами парковых роз, томных японок в оранжевых кимоно с лилейными шейками и тенистыми зонтиками, и нетленные пейзажи, отличающиеся от своих поп-массовых оригиналов с водочной этикетки «Пшеничная» только своими размерами и меньшим числом.
Купить швейную машинку так и не удалось, но я подружилась с соседской старушкой, и та разрешила мне пользоваться за небольшую мзду своей. Старушка пришла в восторг от моих изделий и подарила мне кучу ненужных платьев и старых мехов, и тогда я стала лепить двуглавые горы Твинпикс, кудрявых барашков, пасущихся у их подножия, и джигитов в угловатых бурках, несущихся на резвых лошадках в противоположный началу конец, и подружки старушки тоже оказались в восторге, и каждая из них получила из своих тряпочек по небольшому «Казбеку» с дарственной надписью, вышитой сбоку гладью, и им виделись там короткие мгновенья своего военного счастья, так пахнущие горьким папиросным дымком.
А днем я оформляла за приличную мзду квартирки состоятельных людей, и мои коллажи регулярно вписывались в них, позволяя пополнять старушкин чулок синего цвета, где хранился мой основной капитал.
Чулок выглядывал из-под платьица Марии Спиридоновой в большой настенной композиции над моей кроваткой, изображавшей тюремную тусовку Спиридоновой с ее боевыми подругами. По душевной доброте царских жандармов им разрешали в тюрьме фотографироваться, и они формировали на досуге милейший девичий альбомчик, не забывая про завитушечки, стихи и пожелания друг другу. Фигуры на коллаже были весьма рельефны, я подбила их поролоном, и кое-кто там был в натуральном пенсне, и, вообще, на вид все они были приличными буржуазными дамами.
Свою работу я делала очень быстро, будто всю жизнь этим занималась, а свободный от табеля режим позволял мне бывать на всяких выставках, литературных вечерах и прочих сборищах. И, боже мой, как интересно мне стало жить на белом свете, когда я ходила осенними днями по улицам и площадям Северной Пальмиры, жадно вглядываясь в лица собеседников и случайных прохожих.
Я узнавала своих по глазам, и они узнавали меня, но я никак не могла найти того единственного человека, о котором мечтала теперь во сне и наяву, пока не увидела однажды вечером по телевизору полноватую женщину средних лет с милым лицом и добрыми спокойными глазами. Она сидела в кругу мужчин весьма делового вида, шла обычная для этой осени беседа — что делать, и кто виноват, и, когда говорила она, то их лица становились кислыми, и они чувствовали себя из рук вон плохо, а когда она замолкала, то они старались сделать ей комплимент, чтобы подчеркнуть ее отличие от них, если уж другим уесть не получалось.
Я сразу узнала ее, и совсем неважно, как ее там звали, потому что она и была моей Казимирой, Бабой-Ягой моего Национального парка, и я мечтала именно о ней, и я готова была служить ей верой и правдой как Матери-родине где-нибудь в районной организации — ведь, когда стоишь перед зеркалом, и собеседника не отличить от тебя, то нужно говорить правду, а правда состояла в том, что я была ведьмой районного масштаба — не больше, но и не меньше. И дочь, которую я назову своим именем, и о которой никогда не узнает ее отец, уже была со мной, и наш главный эйдос уже плавал в российских эфирах вольно и соблазнительно, тревожа разноцветные сны скучающих неформалок. Пора было создавать партию зеленых — дел в моем Национальном парке было невпроворот, а без Бабы-Яги никогда ни хрена не получалось.
Я редко виделась со своими летними друзьями, слишком много было всяких забот, да и сезоны упорно не хотели смешиваться, но в последний день октября у Барона намечалось важное событие — открытие небольшой выставки его «нечистой серии». Барон чувствовал себя дважды героем Советского Союза, поскольку тоже получил от Пакавене свою награду — намечались похвальные отзывы в прессе, и Баронесса спела ему на днях перед сном песенку, хотя, на мой вопрос о тексте он так и не ответил. По-видимому, первый текст еще мало подходил для колыбельной.
Когда началась презентация, я уселась за последним экспонатом выставки на стул дежурной по залу и стала разглядывать разношерстную публику. Около меня под стеклом матово желтела луна, сооруженная из бивня мамонта и перечеркнутая стремительным лохматеньким силуэтом из черного коровьего рога. Именно эта скульптурка и красовалась на городских афишах, возвещавших о сроках, местоположении и характере выставки.
Каждый вновь прибывший множил собою персонажей Барона. Увы, они уже давно выпали из сказок и занимались сейчас под разными личинами чем угодно. Старенькие домовые с белыми бородами — всякие там доможилы, хороможители, батанушки, постены и лизуны, служили сторожами там и сям, а домовые помоложе принимали вид своих хозяев и надомничали. Кикиморы пристраивались на ткацких фабриках, в Горгазе и жилищно-эксплуатационных конторах, а кое-кто из них заведовал кружками вязания в Домах пионеров или отделами ниток и мулине в крупных универмагах.
Дворовых тоже было немало — сараяшники заведовали складскими помещениями, конюшники предпочитали, за неимением лошадей, быть парикмахерами, шишиги крутили баранки по дорогам, вздымая пыль столбом у каждой шашлычной, а банщики, в связи с нехваткой рабочих мест в банях, мыли головы своим подчиненным в самых неожиданных местах, включая морги и пожарные инспекции. Полевые шли, в основном, в армию, геологические управления и писательские организации, водяные служили сантехниками, а лешие подвизались по художественной части и ругали Шишкина только для вида — на самом деле, весь модерн, начиная с Сезанна, им был глубоко неприятен (ну его к лешему, — говорили они на своих кухнях).
Русалки были представлены во всех номинациях — от лучших актрис года до секретарш ответственных работников министерств и ведомств, и, неважно, как они там назывались — шутовками, ундинами, лопастами или берегинями, но зрителей у водяниц всегда было предостаточно. Бесы среднего калибра были представлены критиками и журналистами, бесы помельче имели характер разночинный и непредсказуемый, подвизаясь в потребкооперации, сельском хозяйстве и метеорологии и не брезгуя сливаться с массами в заводских проходных, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтах.
Больших скоплений они, впрочем, никогда не образовывали — товар у нас все-таки был штучный, и, кроме того, при виде своих тут же рождались всякие несбыточные мечты о славных былых временах, когда все занимались своим непосредственным делом, и хватало времени на всякие мелкие пакости, без чего и жизнь — не жизнь. Мои самые ходкие коллажи тоже, ведь, проходили по разряду мелких пакостей.
Из крупных бесов явился только один — специалист по ядерной физике, и его складчатые чугунные веки прикрывались огромными темными очками, и все понимали, что в его сторону лучше не смотреть — себе дороже! Это была нежить рангом повыше моего, и он многозначительно молчал, держась особняком от всякой мелкой пакости.
А потом все ударились в просмотр экспонатов, и, когда они отходили от луны с маленькой ведьмой, то натыкались на мой взгляд и застывали на месте, и мы смотрели — я на них, а они на меня, потому что это и было наше первое собрание. Мы должны были узнать друг друга, и я узнавала тех, кто не мог жить среди ржавой листвы, смога и сточных вод, а они должны были узнать, кто именно полетит в последнюю ночь апреля на гору Броккен для представления первой национально-зеленой программы и переговоров с другими конфессиями.
Скромная российская нечисть — они так хотели жить в чистом зеленом мире и быть единственной его нечистью, чтобы все точно знали, кто же виноват, и не искали виноватых там, за морями-океанами, когда из крана вода не льется. А, для того, чтобы мир был чистым, требовались экологические истины и очистные сооружения, а для экологических истин требовался честный парламент, а для очистных сооружений — подъем производства, а там уже пошло и поехало, и, глядишь, рублем за устрицы при случае расплатимся — ну, если в Париж по делу срочно…
Оно, конечно, кое-кому это не сильно не нравилось, и парочка упырей-ушанов с питерских могильников красовалась в зале с самого начала выставки, притворяясь футболистами клуба «Динамо». Но это никого не обманывало — они были в одинаковых костюмах землистого цвета, и, разглядывая экспонаты, стучали на весь зал ржавыми клыками. До меня, впрочем, они так и не дошли, выручила Баронесса. Тетушка Барона — та, что служила за океаном в Толстовском фонде, прислала ей замечательное платьице для коктейлей с открытой спиной, и Баронесса фигурировала в нем перед спортсменами, пока те не узрели шрам на ее шее.
Страшной трансильванской древностью пахло от этого шрама, и они тут же застыли на ковре, жадно принюхиваясь к этому упоительному аромату, как к пороховой гари музейного именного пистолета товарища Дзержинского. У альтернативной тусовки с кровососущими спецами были свои задачи и развлечения, и наши пакости по сравнению с их делами выглядели невинными забавами. Им нужно было вовлечь в свое кровавое действо весь мир, а нам великие потрясения были некстати. Домового задабривают, когда есть чем задабривать, дворового — когда имеются сарай, баня и скотный дворик, а лешего боятся, если других страхов не имеется. Русалки при этом добавляли — к нам ходят, когда есть с чем ходить, и им всегда аплодировали.
Пока мы заседали, Барон носился с бутылками шампанского, и, когда раздался первый выстрел, все закопошились и сгруппировались у большого стола с печеньем и шоколадными конфетами, и счастливый Барон получил в этот вечер столько сладкоречивых конфеток, что ему уже хотелось закусить соленым огурцом.
Впрочем, не обошлось и без ложечки дегтя — публика то была своя, совсем не ангельская, языкатая до язычности, и сам черт ей был милым другом — тот самый, что летал с кузнецом по небу за туфелькой екатерининского фасона.
Я ехала домой, и поезда в метро двигались моей энергией. Спасибо Андрею Константиновичу, мир праху его в моем сердце — сам того не желая, он сказал мне главное, и я теперь знала, кто я, откуда я и куда я иду, и я уже догадывалась, что там могла натворить мать Лаумы, взявшись для начала переустраивать те самые органы местного масштаба, которые так претендовали на интимную близость с ней. Я получила то, что хотела больше всего на свете — хотела тайно, страстно и безнадежно.
Зима в этом году выдалась ранней, и снег валил сегодня с утра, но морозец был совсем небольшой, а когда я вышла на большой белый пустырь, началась настоящая снежная вьюга.
— В такую погоду хороший хозяин и собаку не выгонит, — подумала я уж совсем тривиальное, но это мелькнуло во мне какой-то сумасшедшей радостью в тот самый миг, когда я сорвалась с места и полетела с вьюгой за большие дома в чистое поле, и не было у меня теплой конуры с хозяином, и все, что мне было нужно — было со мной, и я свысока думала о всех мгновеньях в своей жизни, кроме этого, настоящего, когда летела над снежными сугробами, и мелкие бесы местного значения мчались со мной наперегонки, корча рожицы и пуча глазки в картинном испуге, и завывания ветра подхлестывали нас, и я взлетала все выше и выше над своей спящей землей, пока не увидела лес за горизонтом, и мы заворожили с моими маленькими приятелями прямо на снежном лету, чтобы отпугнуть майский град от цветущих яблонь, июльскую засуху от овощных грядок и августовские проливные дожди от тучного зрелого поля.
За зиму я успела купить все необходимое для себя и ребенка, включая большой запас продуктов, детскую кроватку и стиральную машину «Малютка». Чувствовала я себя превосходно, и мои ежемесячные анализы были в полном порядке — Барон прикрепил меня к приличному медицинскому заведению. И вообще тысячи мелочей моей дальнейшей жизни были продуманы, упорядочены и раскрашены в нужный колер, и сама мысль, что они образуют разноцветную блестящую мозаику, приводила их и меня в искреннее восхищение. Немаловажной деталью этой мозаики был предстоящий осенью обмен московской квартиры на питерскую. В конце концов, мои предки жили в Петербурге, что, несомненно, делало честь их вкусу.
— Кошки на душе не скребут? — спросил меня как-то Барон, когда мы с ним опробовали мое новенькое приобретение, имевшее ранг мечты.
— Никогда, — сказала я, покривив душой, — но с марта, когда перестану работать, будет тяжеловато. Такое уж незабываемое лето, доктор, выдалось!
— А попробуй, — кивнул он на мою покупку, — выплеснешь и забудешь, а заодно и меня развлечешь.
— Хорошая идея, — сказала я, еще раз обласкав взглядом свой новенький note-book, и вскоре села за клавиатуру и сочинила мелодию о пакавенском лете, прожив его еще раз. Хэппи-энд был сентиментален и правдоподобен, ведь постороннему читателю правда была не нужна. Кое-что, в отличие от романа, придуманного героиней той счастливой ночью после первого свидания, в этой версии все-таки случалось, и мясника мы убили все вместе, потому что не хотели вражды и розни в Национальном парке, но, на первый взгляд, это была второстепенная параллельная история — параллельная той, где рассказывалось, как люди искали друг друга и нашли — ведь все мы ищем это, и только это.
И не секрет, ведь — о, господи! — что, опускаясь в бездны морские, и подымаясь на Эверест, и уплывая в космические дали — всегда и везде мы ищем только своего двойника, и он является нам — то ли наяву, то ли в зеркале, то ли в молитве. И разве там, на далекой планете, нас когда-нибудь интересовали всерьез тайны океана Солярис? Ведь Солярис только затем и существует, чтобы мы возвращались и прибивались к тому берегу, где нас кто-нибудь ждет. Моя героиня искала в лесу, искала на небе, а нашла в зеркале — вот и весь сказ, но как написать об этом, когда всем хочется другого, и земное притяжение снова и снова влечет бездумного читателя на тропинки пакавенского леса, и там, за поворотом на Кавену…
Мой личный сценарий, однако, выглядел теперь по-другому — Красная Шапочка по заданию «матери» (Центр-Юстасу) инспектирует лес и пресекает попытки волка отобрать квартиру у пожилой пенсионерки, заядлой пикетчицы, путем умервщления последней. Возвращать волка в его естественную экологическую среду нет смысла — все тесты указывают на то, что он уже стал людоедом, поэтому проводится санитарная чистка леса с помощью специальной службы.
В финале всем раздаются пирожки с тротилом и списками оставшихся людоедов, и разве могут сравниться эти ответственные игры с удручающе утомительными примерками хрустальных туфелек, от которых большой палец распухает и пахнет прокисшим мясным бульоном, как у полковника Гербиха во время беседы с подпоручиком Дубом и рядовым Швейком?
Глава 17
Весна бывает на дворе, в душе и пражской — все остальное про весну можно найти у Фета, Майкова, Тютчева и Шевчука. До весны было уже рукой подать, и масленичное солнышко слегка пригревало голову, и в ярких дневных лучах, как в рентгене, проявлялась устаревшая и пыльная суть темных зимних одежд, и сердце требовало многоцветья, но ноги все еще хлюпали в серой раскисшей хляби холодного посола, и толпы на городских улицах никак не решались перейти на радужную форму одежду.
У стремительно надвигающейся весны были свои приметы — душа пела от новых свобод, захлебываясь стремительным потоком откровений, дорогое и близкое понятие «ударник коммунистического труда» к масленице казалось уже каким-то устаревшим, а публичные выступления экономистов отбирали зрителей даже у Жванецкого — сам не раз жаловался! Всем страстно хотелось митинговать и вообще лично участвовать в историческом процессе, обещавшем невиданную гармонию сфер и новую иерархию избранников при полном соборном равенстве в божественных Эмпиреях.
— А вы читали статью в последнем «Огоньке»? — спрашивали в мире горним, а в дольним мире под сурдинку шли неправильные процессы брожения, грозившие превратить молодое вино в кислую неаппетитную среду. Ведомства готовились к войне цен, жалуясь на внезапно отказавшее оборудование, людей потихоньку выбрасывали на улицы, чтобы отлучить от государственного пирога, профсоюзы картинно разводили руками, оправдываясь необходимостью реформ, и прошлогодняя атака на бюрократов повредила только новому герою Эльдара Рязанова, но, не играй он на флейте и не ходи налево, все бы обошлось без потерь. На сцену выходили те, кто не собирался изменить мир к лучшему, а собирался существовать за его счет, накрепко присосавшись к чужим кровавым ранкам.
Искренне жаль было выпадать сейчас из этого динамичного социума, но у меня были более важные дела. Я была абсолютно уверена, что родится девочка, и отклонения от намеченных планов начались в предпоследний зимний день, когда я зашла провести ультразвуковое исследование. С утра жизнь казалась прекрасной, потому что я получила последний приличный гонорар и собиралась садиться, наконец, за свою эпохальную статью, чтобы летними дачными вечерами начать ка-кую-нибудь новенькую. Меня теперь хватало на все!
— Кажется, мальчик, — сказал мне врач, вглядываясь в монитор.
— Это ошибка, — возразила я, побледнев.
— Мальчик! — повторил врач с мгновенно окаменевшей уверенностью, — и, при том, очевидный!
— Мальчик, мальчик, — повторяла я про себя в метро убитым голосом, и поезда с трудом дотягивали до следующей станции, — мальчики к войне родятся…
К последней станции метро в голове уже роились мысли о неуставных отношениях в армии, количестве копченых угрей, запрашиваемых военкомами, мальчишеской страсти к пиротехнике, детской комнате милиции и прочих ужасах, подстерегающих моего малыша на тернистом пути становления личности, включая американские мультики о звездных войнах. Мечта о бантике приказала долго жить, пора было учиться складывать железные элементы конструктора в авианосцы, танки и прочие атрибуты зрелого бога Марса.
Я пришла к себе, и замок в моей двери оказался взломанным, в комнате было все перевернуто, и оторванная ножка у тряпочной Спиридоновой выглядела на удивление худой и плоской. Вор знал, что искал — мои бумаги и записи его явно не интересовали, и это был, наверняка, кто-то из тех, с кем я имела дело по коммерческой линии. Пару писем с неясными угрозами и глухими проклятьями я уже имела, но это было по другой линии.
— Будет занятно, если они подружатся друг с другом, — думала я о своих доброжелателях по разным линиям.
Поскольку жила я, как истинная революционерка, на нелегальном положении, то вызывать милицию не хотелось. Спустя некоторое время пришлось осознать, что мой новенький note-book тоже исчез, и это было последней каплей в горькой чаше. Я подобрала с пола дискету со своими воспоминаниями и почувствовала себя из рук вон плохо.
Человек предполагает, а вор располагает — это было для меня новостью. Ранее криминальный мир существовал отдельно от меня где-то в старой Одессе, и мы никогда не встречались. Золотое яйцо Фаберже до недавнего времени было только семейной реликвией, а все остальное тоже не представляло жизненной ценности — укради, и я отобедаю в ближайшие выходные у родственников, а потом получу очередную зарплату и материальную помощь от профсоюзной организации. А теперь, вот, ограбили так, что поневоле задумаешься о социальной защищенности и прочих преимуществах душелюбия и людоведения, которых я лишилась по собственной воле. Мурка с Сонькой уже не казались мне веселыми персонажами далекого прошлого, это была сегодняшняя сволочь, и ничего сделать сейчас я не могла. И вообще все складывалось не по правилам!
Мне не повезло, однажды у меня была дочь, но я упустила свой шанс и не дала ей своего имени. Мне не повезло, но я стала дерзкой бабой, и, слегка отлежавшись, решила перехитрить судьбу. В конце концов, Солоха и с сыном через трубу летала. В этом мире, как в судебной практике, можно все изменить, нужно лишь вовремя создать прецедент для грядущих ссылок. Что же, будем пока поливать клумбу керосином, чтобы не заржавело — временное отступление с черной меткой на глазу, прослезившемся от дыма отечества. Сейчас нужно выжить!
— По крайней мере, это честно, — сформулировала я эпитафию и задала вопрос зеркальцу, исходя из новой реальности:
— Здравствуй, зеркальце! Скажи да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?
Измена, черная измена тут же засветилась в зеркальце, и только тут я разглядела, что мое отражение по-прежнему носило длинные волосы, и мысль прожить без всякой славы средь зеленыя дубравы у семи богатырей до появления восьмого и главного показалась этой лицемерке, на плече которой я отсидела долгий срок, всех милее, всех румяней и белее. Она всегда была дамой сомнительного поведения и рада-радешенька была смыться при первых же трудностях — дескать, что же делать, если земное притяжение снова и снова влечет на тропинки пакавенского леса, и там, за поворотом на Кавену…
И глядя сейчас в ее зеленые глаза, я поняла, что упустила свой шанс, когда имя наше было Лилит, упустила окончательно и бесповоротно, и теперь ничего не получится, потому что она уже съела свою половину яблока и теперь имя ее было Ева, а та была только обыкновенной женщиной, и ее желания не были тайной — уйти из родительского дома, и, обретя смертную душу, родить сына — чтобы служба Адаму не казалась медом. Тогда я зашипела и вцепилась ей в волосы, а потом все померкло, и очнулась я уже на левом плече своей хозяйки. Теперь она могла говорить, сколько угодно, а мне оставалось только слушать и подмурлыкивать ямбом. Пожизненное заключение с ежегодной дегустацией серы представлялось сейчас далеко не худшим вариантом.
Да, мяу, в ведьмы районного масштаба я не гожусь — дочери у меня не будет. Интриговали, ездили за реку, от отцовских претензий предохранялись, а смысла теперь в этом не более, чем в крестьянском масле, отсепарированном из кукурузы молочно-восковой спелости потомками кубанских казаков. А тратить жизнь на создание прецедента уж совсем бессмысленно — как разговаривать о чистоте, вместо того, чтобы мыть пол.
Специалисты будут вопить от восторга, а публика останется равнодушной. Кто же виноват, мяу, и что делать, если вопросы уже плывут весенними ручьями, а ответы колоколом пульсируют в голове, и этот колокол звонит по мне — да-да, нет-нет, да-да…
И я посмотрела в окно. Профессор Преображенский, мой дорогой Филипп Филиппыч, нарвавшись на непредусмотренные наукой трудности, уже сидел в кабинете пьяненьким, и папиросный дым двигался по кабинету густыми медленными плоскостями, сгущаясь вокруг головы медицинского светила в твердый и тяжелый нимб. Борменталь, действительно, был хорош собой, и черные глаза его мученически светились над окровавленной и перемазанной йодом ногой, а острая темная бородка вздрагивала нервно, но решительно.
Роль голубя в этой троице исполняла желтоглазая сова, изрядно потрепанная тем же Шариковым. Эта мудрая особа тайком от бога-отца старалась теперь проводить время в передаче «Что? Где? Когда?», куда шариковы не допускались.
— В сущности, я так одинок… — говорил создатель своему приемному сыну, рожденному женщиной, потому что с созданием из глины своего, себе подобного, ему крупно не повезло, — вот, доктор, что получается, когда исследователь, вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу…
— Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа, — диагностировал он мое присутствие, — мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения.
— Могу ли я узнать… — начала я.
— Что вы еще спрашиваете? — зарычал профессор, — все равно он уже пять раз у вас умер. Разве мыслимо?
— Профессор! Вы же московский студент, а не Шариков, — укорил его Борменталь, намекая на бестактность по отношению к женщине, и тут же, под шумок, приспособился к черной икре.
— Извините, я прекращаю свою деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует, — приступил было Филипп Филиппыч к новому самоистязанию, но тут взгляд его упал на приемного сына.
— Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими, — дал указание профессор уже совсем другим тоном, знаменующим отход от мучений, и тут мне удалось вставить словцо.
— Собственно говоря, я как раз по этому поводу! Мучаюсь в догадках уже лет двадцать…
— Извольте, — смилостивился профессор, — я сейчас еще говорю, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то я совсем умолкну.
— Что там у вас в третьей главе на лапчатой серебряной вилке — похожее на маленький темный хлебец?
— Это рыбные палочки, — оживился создатель, — ломтики филе белорыбицы нужно сбрызнуть лимонным соком, пересыпать солью, перцем и зеленью, обвалять в густом кляре и обжарить в кипящем растительном масле. Рекомендую, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.
Я поблагодарила, но им было не до меня — разработка контрреволюционной операции по инверсии Полиграфа Полиграфовича шла уже полным ходом. Филипп Филиппыч был не из тех, кто размазывает манную кашу по письменному столу. Мне тоже пора было извлекать положительное из безнадежного.
Положительных моментов было четыре — до конца марта моя квартира была оплачена, несколько нетленных тряпочных изделий, приготовленных к продаже, все еще лежало во встроенном шкафу, детские вещи и продукты воры не тронули, и денег до лета хватит, однако стремление оптимизировать ситуацию одновременно по всем направлениям, являющееся, по мнению моего коллеги Сандро Раутьяна, основной бедой женской психологии, никогда не было мне чуждым. Нужно было что-нибудь придумать, и это «что-ни-будь» я придумала к вечеру.
До сих пор письма своим родственникам я отсылала из разных городов через приятелей Тищенко — некоторые из них часто ездили в командировки, и в письмах были весьма правдоподобные истории о моих этнографических экспедициях. Я позвонила родственникам и продиктовала им свой адрес, сообщив, что у меня заказ на книгу, я осела в Ленинграде, где и буду работать ближайшие две-три недели.
Через день, первого марта, я продала последние коллажи, и мои гастроли в Петербурге завершились.
Выйдя из метро, я пошла знакомой дорогой, и, миновав последний дом, вышла на снежный пустырь. Было темно и холодно, и все прохожие к этому времени уже достигли своего берега, и у каждого был свой, особенный, но берега светились за пустырем абсолютно стандартными желтыми квадратами — все, кроме одного, похожего на старый темный чемодан.
По мерзлой земле я ступала как можно тверже, потому что уже не умела летать, но маленькие бесы тут же закружились в поземке вокруг меня — ведь я все-таки родилась одной из них, хотя долго не знала этого, и их темненькие мордочки смотрели с тревогой и участием, и, пролетая мимо меня, они совали мне в варежки красивые снежинки, но снежинки таяли быстро и слезно, и варежки мокли, а я тихонько плакала, и мои слезы тут же замерзали ледяными капельками, и бесы уносили их с собой, как ответный подарок, куда-то ввысь, куда мне самой было уже не добраться, а потом возвращались ко мне и мелькали в колючем ветре, пока я не вошла в подъезд. Поднявшись на последний этаж, я зажгла свет, и мое окно засветилось — все, как у всех.
Смахнув с лица последнюю льдинку, я положила варежки на сковороду и густо заправила их одеколоном. Варежки горели ярко и весело, как соломенная Маринка на похоронах славянской зимы, и снежок на балконе тут же заплакал — кому же еще плакать в этот день, когда всем хочется улыбаться и петь веснянки? И я сгорала вместе со своими варежками, как старая солома, чтобы меня развеяли по ветру, а потом снова посеяли прошлогодним зерном и сожгли без сожаления следующим мартом, а иначе и жизнь — не жизнь.
Боги, боги мои! Как тяжко давит мне плечи память тысячелетий, и я снова проклинаю ту давнюю весну, когда мир был еще совсем новеньким, и так хотелось обустроить его для детей, что мы, захлебываясь делами, поделились властью с одним энергичным парнем, назвав это время мартом, потому что в марте, когда пепел тел наших, развеянный по полям и лесам, уходил вглубь в сырую землю, а мы, прорастая снова и снова, впитывали его из земли как веру и силу и силились выйти из черноты, мир оставался без присмотра, и было нам тяжко и страшно — как они там живут без нас?
И, выйдя однажды на свет, мы не увидели своих сыновей — Марс увел их в поход, и они обнажили мечи, потому что чужое уже казалось им слаще всего на свете, и дятлы отбивали солдатам барабанную дробь, и быки ревели от ужаса, и кони неслись вперед, пока их мертвые головы не застывали на копьях в знак победы над детьми из соседней деревни, и мы смотрели в пустые глаза сыновей, и пепел мучений наших стучал в сердце — убей оборотня, убей того, кто теперь сладко ест и сладко спит, потому что ему не жаль детей — ни своих, ни чужих. А потом время двинулось дальше, и минуты сложились в тысячелетья, а мы так и не убили его — мы, конечно, старались, но мы так рьяно сражались за правое дело, что и понять уже было сложно, то ли результат нам так уж важен, то ли запах сражения приятен и сладок, и все дела!
А потом историю расцветили фарсом, и тупая злобная баба Масленица, мыслящая сковородкой «Tefal» — это то, чем мы стали в рекламе, и каждый год, в марте, когда всех ведьм уже сожгли с опережением графика, все дружно ратуют за их экономическое, социальное и политическое равноправие и успокаиваются еще на год, и только уцелевшие от огня водяницы нервно вздрагивают от пожелтевших к Троице газетных статей, оставленных туристами после завтрака на траве.
Но на этих кострах сгорают только куклы, а мы, растворившись в этом мире под чужими именами, сжигаем себя сами в надежде обрести веру и силу, но обретаем только круговорот пепла в природе — ведь всякая плоть уже извратила путь свой на земле, и земля наполнилась злодеяниями и растлилась перед лицом Божьим, и никто из сыновей не помог нам — и даже тот из них, на кого мы надеялись больше всего, не смог заменить меч миром.
Костерок уже затухал, зябкая чернота подползала по воздуху все ближе и ближе, и руки без варежек сиротели на глазах. Я развеяла горстку пепла по стылому ветру и ушла с балкона. Март в России всегда полон неясности и безверия малого межледниковья, и в марте, пока таяли мои снеговики, я всегда бродила по выставочным залам одна, и там, в маленьких копиях чужих миров я искала и находила свое отражение, и оно звучало во мне любимой музыкой, созданной из моего же пепла, и я упивалась этой мелодией мартовского одиночества как Откровением, где сейчас, конечно, дела идут неважно, но это только потому, что нужно удачней оттенить неминуемо светлый терминал.
— Как некстати, — подумалось мне, когда раздался звонок. Заглянув в дверной глазок, этот самый малый выход в большой мир, я увидела знакомый силуэт, но он не принадлежал соседской старушке, потому что принадлежал Андрею Константиновичу. Я открыла дверь. Немые сцены тиражировались в России со времен Гоголя, поэтому описывать их детально смысла не имеет — разумеется, герой романа был ошарашен, и в индийском фильме на этом месте запели бы, однако действие происходило вне рамок кинематографа, поэтому развитие событий шло в истинно национальном варианте — у нас черта с два дождешься песен и рыданий, пока не посидят за столом и не наговорятся вдоволь и всласть.
— Тебе все-таки удалось это! — сказал он мне, когда мы, наконец, разглядели друг друга, и я приняла из его рук букетик неувядаемых мимоз.
— Ты прямо с дороги?
— Я часа два сидел в машине у подъезда, а потом увидел свет в твоем окне. Наверное, ты прошла мимо, но тебя трудно узнать сейчас.
— Спасибо, что приехал, не стану скрывать — я давала свой адрес своим родственникам именно для этого.
— Ты могла бы узнать мой телефон.
— Он у меня был, но тогда бы я не узнала, интересует ли тебя все еще этот адрес.
— Теперь ты в этом убедилась! Ну, что, Марина Николаевна, похоже, мы доигрались. Насколько я понимаю, это наше произведение от второго августа прошлого года?
— Проходи в комнату. Мужских тапочек у меня сейчас не водится.
— Полагаю, мои сочувствия покажутся неуместными?
— Почему же? В обрамлении цветов они выглядят вполне искренними.
— Мы, действительно, доигрались, — сказала я ему уже в комнате, — ведь я не принимала таблеток в тот месяц, а второго августа впервые поняла, что имею неплохой набор предположительных признаков своего нового состояния. Это мальчик, и ты вправе сомневаться в своем отцовстве, и вправе удостовериться в нем, если захочешь, но сейчас я нуждаюсь в твоей помощи. Мне нужно вернуться домой, а перевезти вещи одной будет трудно. Выбора у тебя, как у человека порядочного, уже не существует, и вещи уже упакованы. Что скажешь?
— Мне так нравится, когда меня хвалят, — ответил он сразу же, — но, если все готово, то выедем завтра, не позднее девяти. Как ты себя чувствуешь сейчас?
— У меня поубавилось энергии, но лишних хлопот в поездке я тебе не доставлю — ответила я, а далее мы поговорили о моей новой профессии, об общих знакомых и московских новостях, включая самое общее положение дел на его службе — милейший разговор с аккуратностью поворотов, уместной для речного пароходика, когда тот курсирует из пункта «Начало» в пункт «Конец» строго по створам, чтобы не сесть на мель, а потом поменять местами названия пунктов, и так до бесконечности.
Андрей Константинович не выдержал первым, что и ожидалось — бесконечность в обыденной жизни трактовалась им как понятие аномальное, поскольку эта жизнь состояла из конкретных явлений и объектов, существующих в определенных пространственных и временных границах. Вот тут-то и можно было ставить мышеловку — его страсть к познанию этих явлений и объектов имела характер бесконечный и неотвратимый, а мне, действительно, нужно было сказать ему кое-что.
— Марина! Я знаю, что ты прекрасно умеешь держать дистанцию, но тебе не кажется, что избегать разговора на тему, что делать, и кто виноват, лучше не стоит?
— На твое усмотрение, но прежде чем решать эти вечные российские вопросы, давай проясним некоторые обстоятельства! Твоя первая фраза… Так ты был в курсе моих затруднений с деторождением?
— Да, я знал. Видишь ли, покойная Евгения Юрьевна очень скоро сочла меня самим Эскулапом, надеясь, что со своими связями в медицинских кругах я смогу как-то помочь. Перед отъездом она просила найти способ поговорить с тобой об этом, не выдавая ее. Сказала, ты слишком не любишь, когда вмешиваются в твои дела, и вообще родственники говорить с тобой на эту тему побаиваются — после того, как ты буквально растоптала своего бывшего мужа, а от милой шалуньи этого никто не ожидал. Я не стал ничего обещать, но, узнав о ее смерти, решил выполнить просьбу. Кстати, при первом знакомстве я понятия не имел, что разговариваю с той самой внучатой племянницей — ты выглядела лет на пять моложе. У меня закрались некоторые подозрения только тогда, когда ты показала мне свой дом. Все остальное ты знаешь.
— Темный лес, деревенская глушь, скучающий врач… Почему бы не поиграть чужой судьбой?
— Дело было сложнее. Я не хотел терять тебя.
— Не хотел, и все же пробовал на прочность?
— Тебе до сих пор непонятно, чего же я добивался?
— Я поняла это довольно быстро. Ты не хотел начинать совместную жизнь с деструктивных недомолвок. Иными словами, я должна была рассказать о своих трудностях прежде, чем соглашаться стать твоей женой. Не так ли?
— Неплохо! Да, мне нужно было твое полное доверие, а этого я так и не добился. Я буду весьма признателен, если ты растолкуешь мне свою точку зрения.
— Предположим, ты не справился с ситуацией, которую сам же и создал. Тебя устраивает эта версия?
— Ты не была моим пациентом, иначе бы я справился. Мне нужна была твоя добрая воля.
— Поэтому ты решил предложить мне до лучших времен некий суррогат счастливого бытия, симбиоз приятного с полезным! Что тебя так держало рядом со мной — спортивный азарт?
— Нет, более всего меня прельщало то, что я совершенно спокойно могу сосуществовать с тобой в одном помещении — для одинокого человека моих лет это важно. Но, согласись, ведь нужно полностью полагаться на того, кого выбрал, иначе особого смысла не проглядывается.
— Охотно соглашусь. Ты абсолютно прав.
— Марина! Это несерьезно, — сказал он после короткого раздумья, — после этого откровения я снова оказываюсь в затруднительном положении порядочного человека.
— Почему бы и нет? — засмеялась я, — любопытно, ведь, как ты будешь выходить из этого положения.
— Вообще говоря, я чувствую себя в полной безопасности, иначе ты уже давным-давно позвонила бы мне. Но мне тоже любопытно, почему было «нет» тогда?
— Мне не нравится играть в чужие игры. Перед смертью моя двоюродная бабушка покаялась мне в своем маленьком грехе. Она сказала, что приедет врач Виктора, который уже в курсе дела, и просила не отказываться от помощи. Я и не отказалась — мне вдруг захотелось проверить мрачные предсказания, ведь небольшие шансы мне все-таки предрекали. И скажи, на милость, почему мне было не согласиться на твое предложение и не сыграть в свою игру.
— Да… — протянул Андрей Константинович. — У тебя было более интересное лето, чем представлялось до сих пор. Развлекалась, как могла!
— Я была занята серьезным делом, но мне, действительно, было интересно — на кону стояло доверие, ты играл краплеными картами и так хотел выиграть. Я получала все удовольствия сразу! Кстати, хочу отдать должное твоему профессиональному чутью — в главном ты не ошибся, помощь была мне нужна. Не исключаю, что именно ты мне и помог.
— Рад за тебя, если ты получила то, что хотела — старался, как мог. Но ты ведь хотела получить больше?
— Андрей! Я не в претензии! Пара тестов шокирующего характера, и сказка про ведьм захотела стать явью. Реальность обслужила и твои фантазии. К слову сказать, вышло совсем недурно.
— Что же, задатки у тебя были, но совсем не обязательно было уезжать. Я не собирался больше надоедать тебе.
— Тебя, действительно, не оказалось на вокзале, но потом ты стал звонить моим родным и знакомым.
— Мне нужно было убедиться, что ты жива и здорова.
— Комплекс вины?
— Примерно так. Кстати, все твои питерские приятели — безбожные вруны.
— В таком случае, у тебя есть надежда стать моим лучшим приятелем.
— Надежды нет, я на пути к исправлению.
— Комедия ошибок и положений с прекрасным финалом — герой становится нравственным человеком!
— Это мне не грозит при всех стараниях.
— Не хочешь покаяться, раз уж сегодня выдался вечер откровений?
— Почему бы и нет? Ты была второй женщиной в моей жизни, на которой я хотел жениться. Первая погибла пять с половиной лет назад, когда я разрушил ее вполне счастливый брак. Она разрывалась между мной и своим мужем, и, кто был отцом ребенка, мы с ним так и не узнали. А тебе, девочка, похоже, я крепко сломал жизнь. Что-то не так во мне, Марина!
— Эта мелодия знакома мне до боли, во мне тоже что-то не так, и я уехала именно поэтому. Не стоит себя казнить сейчас, к тебе это имело только косвенное отношение. И я не считаю, что моя жизнь сломана, у меня сейчас временные трудности, не более.
— Косвенное! — тихо взбунтовался Андрей Константинович, — и я ни при чем! А был ли мальчик вообще?
— Был, но не ты. Помнишь «Алое и зеленое» Айрис Мэрдок? О молоденьком английском лейтенанте я смело могла сказать известными словами: «Мадам Бовари — это я». Я не завистница по своей природе, но все-таки смертельно завидовала тем немногим, кто обладал даром личной свободы. Не хватало ее во мне, как в том маленьком лейтенанте, а это так сильно мешает и в жизни, и в творчестве. Я слишком многого боялась, и правильный выбор, зачастую, приходил с опозданием, когда вопрос о выборе уже не стоял. Это всегда касалось только самого главного, а с мелочами я справлялась настолько успешно, что разыскать во мне раба редко кому удавалось. Однако ты сыграл именно на этом, и мне стало стыдно за себя. Пусть на пару часов, но я поверила в ту чушь, которой ты меня угостил напоследок, когда я пожаловалась на скуку. Ты ловко сложил ее из моих же кирпичиков, и я поверила дешевой пошлой истории, которой пугают во всяких антисоветских детективах. Отличный был performance!
— Ты зря считаешь, что я имею право бросить в тебя камень. К примеру, не будь я конформистом, я не смог бы заниматься тем, что меня интересует. Ты должна это понимать.
— Я сама бросила в себя камень, ведь речь шла не о том, что снаружи, это касалось только нас с тобой.
Я считала, что люблю тебя, но отказалась в один момент. Ты говорил, а я думала об одном — когда и как я убью тебя. Ты же понял это!
— Да, стало очевидно, что наша совместная жизнь будет взаимным уничтожением. В ту ночь ты представлялась мне ночным кошмаром, который нужно пережить и забыть, а погода, если помнишь, была нелетной, вот я и врезался перед неняйским мостом в столб. Обошлось без серьезных травм, но машину удалось отремонтировать только к вечеру следующего дня. Так что, я не мог встретить вас на вокзале в любом случае.
— Я боялась чего-то в этом роде той ночью, поэтому и хотела расстаться по-доброму. А потом на меня нашло, и я, действительно, возжелала тебе всяческого зла. Что было, то было…
— Я уже не судья тебе, Марина! Я слишком легко всегда брал на себя эту роль. Когда ты исчезла, мне стало понятно, что у тебя был слишком тяжелый день для такого финала, а я был попросту жесток. В другой день ты бы вряд ли поверила моей сомнительной истории. Знаешь, я был в тихом отчаянии от себя все это время. Не гожусь, и все тут…
— Другого дня у нас не было, другой жизни тоже. По приезду я позвонила вечером из Расторгуева удостовериться, что ты приехал. Я услышала твой голос, и уехала следующим утром… А то, что я кошмар, тебя еще покойная Евгения Юрьевна предупреждала. Считай, что тебе еще повезло!
— Нескладные мы с тобой люди, Марина Николаевна, ничьи… В этом ты оказалась права, — сказал он с такой грустной и окончательной твердостью, что дальнейшее обсуждение этого факта представилось его единственному собеседнику абсолютно бессмысленным. В комнате тут же воцарилась гробовая тишина, всегда поджидающая живых за ближайших углом, и сначала у нее был только бесприютный запах старого зимнего снега, а потом она зазвучала плеском холодных балтийских волн о корабль мертвецов, курсировавший этим мартовским днем у петербургских причалов с упорством швейного челнока.
— Ну, что ж, кто виноват — мы выяснили, а что делать — я тебе сразу сказала.
— Я не снимаю своей доли вины за двусмысленность ситуации, и, надеюсь, что мы в любом случае найдем достойный выход из нее, — сказал он, и торжественность этой фразы довлела приговору.
Грустно жить на этом свете, господа! Грустно, когда хоронят близкого и дорогого, а виноватых нет, и плачущих нет, и все так милы и внимательны, словно аккуратно примеривают друг друга к почетному месту на скорбном столе и сожалеют о случившемся. Так уж получилось! Прекрасная истина, тихий дружелюбный разговор — так уж получилось, и ничего не поделаешь. Все мы там будем, и ничего не поделаешь… Да, нескладно, нехорошо, несправедливо, но ничего не поделаешь, ничего не поделаешь, ничего не поделаешь…
И все одобрительно вслушиваются в шипящие звуки рефрена, потому что страшно признаться в главном — что ты сам лежишь там, на столе, полный сладкого сочувствия и еще более сладкого бездействия.
Одним словом — раскаялись, и я плавала в этом приторном сиропе, пока не ощутила внутреннее противодействие. Панночка открыла глаза, и чернота быстро затягивала ее туда, где вечно идут дожди, и сегодня так безнадежно и неотвратимо похоже на вчера и завтра, и меловой круг вокруг страхователя размывает еще до завершения окружности. Да, он готов выполнить свой долг и дочитать молитву до конца — только это никого не спасет, друзьями мы стать не сможем. Сейчас он предложит мне материальную помощь…
— Андрей! Тезис о моей загубленной жизни, которым ты тешил себя все эти месяцы, согласись, не слишком состоятелен. Я ведала, что творила, твоя роль незадачливого кукловода меня забавляла, и особых долгов передо мной у тебя нет.
— Марина! Я понимаю, что выглядел перед тобой не лучшим образом, но хотелось бы довести до твоего сведения только одно — что бы ты сейчас мне не сказала, мы все равно уедем завтра в Москву вместе со всеми твоими вещами. Разобидеться и уехать одному мне просто неприлично. Так что смелей, и лучше в кровь!
— А за что именно? — поинтересовалась я.
— К примеру, за это — если бы мы поженились тогда в Пакавене без всяких лишних слов, то все могло сложиться более удачно. Как считаешь, у нас был этот вариант?
— Что ж, признаюсь честно — те три дня, действительно, были лучшими в моей жизни, и я вовсе не сомневалась в искренности твоих намерений, иначе тебя бы здесь не было. Да, сейчас можно каяться до бесконечности, но, знаешь, мы устраивали друг другу неплохие розыгрыши, и я не хотела бы ничего менять.
Отличное лето, доктор, выдалось!
— Давай поужинаем! — сказал он после недолгого, но продолжительного молчания, — ты же знаешь, я могу простить женщине все, кроме пустых кастрюль.
— Полагаю, об этом знает уже половина женского населения Москвы!
— Я выйду покурить. У меня там в сумке кое-какие продукты, возьми, пожалуйста. На кухне тебе равных нет.
Вернулся Андрей довольно быстро, я предложила ему посмотреть мои новые книги, но он предпочел понаблюдать, как именно я чищу картошку. В помещении, где мы сейчас сосуществовали, стремительно материализовывалась атмосфера уюта, это меня отвлекало, и постепенного перехода зимы в лето этим мартовским вечером не получалось. Сезоны путались без моего присмотра, как хотели, и от снежинок, залетающих в кухонную форточку, разило знакомым ароматом пакавенских трав, как будто…
Как будто будут свет и слава, Удачный день и вдоволь хлеба, Как будто жизнь, качнувшись вправо, Качнется влево.
— И все-таки, спасибо, что дала о себе знать — у меня камень с души свалился. Но, давай теперь вернемся в настоящее. Медицинская карта у тебя на руках?
— На руках, я же собиралась уезжать вне зависимости от твоего появления.
— Я догадываюсь, что ты могла бы обойтись без меня, если ты об этом, — сказал он очень тихо и, на первый взгляд, абсолютно мирно.
— Мне следовало продумать этот вариант — ты мог оказаться в командировке, а время уже поджимает.
— Да, я не подумал… Так можно взглянуть на выписку?
— Она в комнате на полке.
Он отсутствовал дольше, чем требовалось для чтения моей характеристики, и, заподозрив неладное, я застала его на месте преступления — Андрей Константинович уже справился с медицинской картой и теперь с большим интересом изучал программные наброски нашей братии.
— Черт возьми, Андрей! Это не документы роженицы и не любовные записки к ней!
— Да, — сказал он, — это более тяжелый клинический случай.
— Трудно представить?
— Симптомы были, и теперь я понимаю истинную причину твоей страстной любви к Лауме. Зачем тебе это нужно?
— Мне интересно.
— Чем ты занималась все это время?
— Я плавала, выпав из системы по собственному желанию, и искала единомышленников, чтобы прибиться к определенному берегу. Все было совсем неплохо, но неделю назад меня крепко ограбили — в свободном плавании свои мели и скалы. Если бы не мое положение, я не сочла бы это очень большой бедой, но…
— Но сейчас тебе нужно помочь, и ты мне это доверяешь?
— Я слишком грубо ворвалась в твою жизнь?
— Нет, ты же знаешь, что я тебя искал. Теперь хочу знать, почему ты нашлась. Твои доводы пока не очень убедительны.
— Хорошо, попробую объяснить! Всю свою жизнь я знала, за кого проголосовать, если мне предоставят выбор, но я всегда мечтала быть в числе тех, кто предоставляет этот выбор. Это желание всегда давило мне плечи, вот и я попробовала. Встречи, собрания, митинги, опросы общественного мнения… Мы, конечно, погрязли в дебатах на весьма отвлеченные темы, мы перессорились и утонули в словах так, будто основной нашей целью являлась критика в режиме вечной оппозиции, но это издержки первого периода, и дойти до первых конкретных дел все же удалось. Все было бы ничего, но я поняла, что мне не хватает фанатизма, а без него нельзя быть ведьмой — не поверят! Мне не дано, и я упала со своей метлы. Наверное, я все-таки принадлежу другой породе, породе наблюдателей. Вот я и решила вернуться домой.
— Марина! Я тоже не в восторге от сегодняшних реалий, но я пытаюсь честно работать, пытаюсь сделать пространство в своем доме немного чище, чем снаружи, пытаюсь не рефлектировать при ударе, а отвечать ударом, и мне этого вполне достаточно. Поприще так называемых наблюдателей — это тоже труд, и иронизировать по этому поводу может только тот, кто сможет предложить что-ни-будь получше.
— Я иронизирую только по поводу своих заблуждений — попыталась и расшиблась о свой же потолок!
Разве это не смешно?
— Не слишком, — заметил он абсолютно справедливо, — но мне трудно это понять, меня никогда не интересовала карьера определенного толка. Как правило, имеются два мотива — властолюбие и стяжательство. Чего тебе не хватало?
— Сейчас ты пытаешься засунуть меня в рамки действующей агрессивно-патриархальной модели. Но власть для меня, как и для большинства женщин — это всего лишь средство для конструктивных изменений к лучшему, не более… Впрочем, это отдельный разговор… Ты разрешишь сделать мне несколько звонков в связи с отъездом?
— Ради бога! Я уйду на кухню.
Я коротко попрощалась со своими старыми и новыми друзьями и выслушала добрые пожелания в свой адрес. Уж, чем-чем, а дружбой в этой жизни обделена я не была! Как много замечательных писем хранилось бы сейчас в музеях, родись я лет на сто пятьдесят — двести раньше всеобщей телефонизации! Я украшала бы эти письма маленькими черненькими силуэтами, испещряя витиеватые строчки взволнованными знаками вопросов и восклицаний, и небрежно зачеркнутые фразы свидетельствовали бы только об одном — раздвоенное гусиное перо не поспевает за движениями души, как клавиатура Pentium, которая так и норовит бежать впереди еще толком не оформленной мысли, вставляя неуместные замечания типа: «предложение слишком длинное с точки зрения выбранного вами пиитического штиля», либо: «слово вульгарное и не подходит для деловой переписки новых русских».
— Мой милый, — укоряла бы я Барона из Михайловского, — поэзия твой родной язык, слышно по выговору, но, кто ж виноват, что ты столь же редко говоришь на нем, как дамы 1807-го года на славяно-росском?
— Пишу тебе в гостях с разбитой рукой — упал на льду не с лошади, а с лошадью; большая разница для моего наезднического честолюбия, — писал бы он мне из Тригорского, — пришли мне бумаги почтовой и простой, если вина, так и сыру не забудь, и (говоря по делилевски) витую сталь, пронзающую засмоленную главу бутылки — т. е. штопер.
Говорить по делилевски, вероятно, и означало для Барона использовать поэзию как свой родной язык, и тогда мы оба понимали бы это выражение совершенно точно, а сейчас, спустя сто шестьдесят пять лет, смысл его, утерянный в складках истории, для нас обоих был понятен скорее интуитивно. С записками в дупло, правда, получилась бы накладка — их попросту бы не оказалось, как и в романе, но исследователи дупла, предпочитая расхожее мнение первоисточнику, решили бы, что самое интимное я сжигала упоительными российскими вечерами в большом камине.
Ну да ладно, вернемся в папку «Recent»! На кухне снова стояла зима, Андрей Константинович, изрядно заправившись дымком «Мальборо», был мрачноват, и я его понимала. Он никак не мог найти собственного мемориального комплекса на Красной площади моей загадочной славянской души. И вообще вместо привычных старых зданий из красного кирпича, там высились какие-то новые панельные сооружения с темными зеркальными окнами, знаменующие начало новой постсоветской эпохи и предназначенные только для презентаций, джемов и психотропных способов ведения маркетинга.
— А зачем мавзолей тому, кто живее всех живых? — спрашивала я себя молча, пока расставляла тарелки на столе, нарезала хлеб и разглядывала своего красивого гостя.
— Ты сочла, что я тебе помешаю, узнав о ребенке, поэтому и не давала знать о себе? — спросил он меня.
— Представлялось, тебе был нужен более надежный тыл, чем Марина Николаевна. Но, пойми и другое, у меня все сплелось тогда в один большой узел, и пытаться сейчас отделить одно от другого не имеет смысла — мы не сможем вернуться в прошлое и взвесить каждый мотив по отдельности.
— И все-таки, давай попытаемся сделать это.
— Не считай, что я умаляю твою роль. Да, у меня был печальный опыт, а впереди маячили перспективы вечной домашней войны. Рано или поздно, но ты позвонил бы мне, и все началось бы снова.
Если уж откровенничать по гамбургскому счету, то нам так нравилось наносить удары друг другу.
— Издержки первого периода — ты не думала над этим?
— Вспомни лучше, о чем ты думал, пока в Неняе чинили твою машину, а ты сидел рядом и не звонил мне! И вообще, откуда нам с тобой знать что-либо о втором периоде? Мы же до гробовой доски будем стремиться к идеалу! Мы так снисходительны к своему ближнему, если тот не претендует на излишнюю близость, но мы с удовольствием зароем живого человека под грудой своих принципов, если тот покусится на святое комиссарово тело. В лучшем случае планочку подымем так, что без допинга не перескочишь!
— А знаешь, — засмеялся мой собеседник, — сейчас у меня возникло занятное соображение — будь я в Пакавене на твоем месте, я бы тоже не раскололся.
— На моем месте ты бы не раскалывался и сейчас! А я вот предаю наши идеалы по-черному.
— Это преувеличение, ответа на свой вопрос я так и не получил. Так почему ты нашлась?
— Из общих соображений — негоже лишать мальчика родителей, если у тех нет криминального прошлого или особо вредных привычек.
— Тогда, надеюсь, ты позвонила и моему конкуренту?
— Пока нет, у тебя было преимущество — ведь ты хотел стать отцом. И, потом, одного теста будет вполне достаточно для выяснения ситуации, не так ли?
— Вполне логично, Марина Николаевна, — задумчиво произнес Андрей, — как всегда! Не пора ли мыть руки перед едой?
— Я повесила чистое полотенце справа.
— Замечательно, — сказал он, — у меня для тебя тоже хорошая новость — я приехал со своей зубной пастой. Трехцветные теперь на каждом прилавке.
Картошка была уже на подходе, и можно было приступать к аналитическому обзору снеди из сумки Андрея Константиновича. Мятый дорожный бутерброд с плавленым сыром буднично контрастировал с прочим содержимым пакета, представленным тем, что в приличных советских организациях называется праздничным продуктовым заказом — за вычетом обязательного пакетика перловой крупы. Я размышляла над содержимым пакета, как лорд Болингброк, приятель Джонатана Свифта, над стаканом воды в одноименной французской пьесе Эжена Скриба, где этот предмет становится единственной причиной заключения мира между Англией и Францией — лорд тоже был большим пацифистом, когда не махал шпагой перед носом герцогини Мальборо.
Итак, исходя из некоторых фактов, основной целью визита был большой праздник в честь окончания войны… Летят журавли, идут поезда, и зрители уже глядят на перрон, где гимнастерки сжимают в крепких объятиях цветастые платьица, и глаза — такие большие на худых и изголодавшихся по счастью лицах — уже плавают в слезах, скорбя по павшим и радуясь живым. А потом все расходятся по домам, и дальнейшее — молчание, потому что — ах! — как пахнет от сержанта Иванова дальними странами, чужими женщинами и нездешними мыслями, и вот уже жена сомлела в неловкости, и дом — уже не дом, потому что трубачи еще трубят по привычке каждое божье утро, сгоняя в строй павших и живых, но идти некуда, а они трубят и трубят, пока есть живые, пока трубы, охрипнув от безысходной утренней страсти, не потеряют голос — немые трубы, немые солдаты, забытая война, и некому сказать правду, что воевать вообще не стоит, и так во все времена…
Да, черт знает о чем думалось мне при виде накрытого к празднику стола. Оно, конечно, экзерсисы на дежурные темы — не более, но какими же словами рассказать ему, как белый ангел заглядывал мне с плеча прямо в лицо, и я пыталась понять самое очевидное — что все зло этого мира только внутри нас, и это в наших душах горят костры, и смрад тяжелых чугунных помыслов застит голубое небо, и нужно начинать с малого — с самого себя. Боги, боги мои! Как быстро и густо прорастают кровавые зерна раздора и насилия, и нужно начинать с себя и всем вместе, а иначе сеятель бессмертен. Что же, последней сукой буду, если не кончу хотя бы одну войну на этой земле!
— Через пять минут, — сообщила я Андрею о картошке, имея в виду, впрочем, точное время начала очередного Утрехтского мира, — а пока, чтобы ненароком не испортить застолья, можно поговорить о погоде.
Сегодня холодноватый вечер для марта!
— Чего не скажешь, к примеру, о нашей беседе! — применил Андрей Константинович тактику Маргарэт Тэтчер, которую — о чем не спроси, а она все о своем. — К вопросу о твоих новых занятиях… Ты не поторопилась с определением своего потолка?
— У меня подходящая профессия для быстрого обобщения своих ощущений.
— Ты уверена, что когда-нибудь не захочешь вернуться на эту стезю?
— Считаешь, не стоит?
— Любой фанатизм опасен, а я против великих потрясений из самых эгоистических соображений — для того, чтобы мне заниматься любимым делом, нужно стабильное государство. Совсем неплохо, если рядом с фанатиками будут нормальные здравомыслящие люди — это у тебя может получиться, в практической жизни ты большая реалистка.
— Спасибо за поддержку, но, во-первых, это уже не актуально, а, во-вторых, эта поддержка сильно смахивает на разведку. Кое-что о тебе я все-таки знаю!
— Честно говоря, я бы старался отговорить тебя от этой затеи изо всех сил, — вынужден был признаться Андрей Константинович, — но особого риска в этом все равно бы не увидел. С чистыми руками там долго не продержишься, ты бы все равно вернулась.
— Я подозрительно отношусь к праведникам. Чистые руки — понятие относительное, и адаптации к любому новому состоянию всегда необходимы, здесь я махровый конформист. Ты ведь тоже используешь для благих целей весьма сомнительные, с обывательской точки зрения, средства. Важно не перейти грань, и я постаралась бы удержаться, но дело совсем не в этом — просто я не более, чем стандартная затравка, а, как оказалось, для толчка массы нужна энергия космической силы.
После этих казеных слов мне стало грустновато. Да, все это так, но дело было не только в этом. Мне было трудно объяснить ему в рациональных терминах то, что случилось.
— Почему ты так нервничаешь, когда речь заходит о твоих новых занятиях? Снова дурные предчувствия? — спросил тогда Андрей Константинович совершенно серьезно и попал в точку.
Единственный стоящий талант, данный мне богом, как раз и состоял в предчувствии беды, и силовые поля неведомого мне генезиса уже метались надо мной с нечеловеческой скоростью, пытаясь увести как можно дальше. Я бы осталась, но мне нужно было сохранить своего ребенка. Я бы осталась, но останутся другие — нас ведь немало! Я бы осталась, вопреки всему, но…
— Да, предчувствия. Как тогда, в Пакавене… — ответила я ему, — и это пришло ко мне совершенно внезапно — на одном экологическом митинге, и еще до того, как меня ограбили. Появилось чувство обреченности, а с этим кашу не сваришь, и мне очень грустно сейчас, как на поминках по разбитому зеркалу.
Тем не менее, я рада видеть тебя, но, пожалуйста, не лукавь сегодня… Я не слишком много прошу?
— Пока нет, — утешил он меня, — твои ближайшие заботы мне понятны, но, уж прости, мне было интересно, что же ты собираешься делать дальше.
— Я уверена, что не потратила времени даром — исчезли некоторые иллюзии и страхи, и нескольких месяцев для этого, ей-богу, не жалко. Я не собираюсь считать себя неудачницей только потому, что бог не дал мне каких-то возможностей. У меня ведь были и другие мечты, и есть места, где я смогу быть в числе первых, а не сотых. Пусть это будут даже совсем маленькие ниши, но, согласись, скучновато жить, если нет перспектив стать первой. Мне сейчас очень хочется вернуться к своей работе.
— У меня правильно создалось впечатление, что кое-какие запретные темы для разговора у нас все же имеются?
— На твое усмотрение, сегодня ты мой гость, и сегодня вечер твоих вопросов. У меня осталась только одна тайна, да и та скоро выйдет наружу.
— Тогда, надеюсь, ты не побоишься сказать, чего же ты ждешь от меня? — спросил он, и это был главный вопрос сегодняшнего вечера, и мне нужно было ответить, что рядом со мной все эти месяцы жила пустота, которой не было раньше, и я ничего не могла поделать с этим. Я должна была сказать ему именно это, но у меня не получилось — это можно было говорить только, касаясь друг друга. Поэтому пришлось поискать другие слова.
— Ты крепко влип, явившись сюда по первому зову. И выбора у тебя, боюсь, нет.
— Полагаешь, я та самая маленькая ниша, где ты не будешь сотой? — засмеялся объект матримониальных претензий.
— Остальные девяносто девять уже покойники. Прими сочувствия.
— Обещала, ведь, когда-то ловушек не ставить!
— Но ты уже продемонстрировал свою готовность быть жертвой.
— Да… — сказал Андрей Константинович с глубоким чувством, — злой бабой ты и раньше была, но наглости за тобой не водилось.
— Я исправлюсь со временем.
— Не стоит, я всегда мечтал жениться на ведьме — в качестве наблюдателя, — заверил он меня, — быть может, я слишком поздно это осознал, у каждого из нас были свои иллюзии. Мне скучновато жить без тебя, и я приехал поговорить именно об этом.
— Не хочешь подождать результатов теста?
— Полагаешь, в этом есть необходимость?
— Честно говоря, я не считаю ситуацию такой уж двусмысленной, но тебе же будет интересно!
— Мне уже интересно — сказал Андрей, вынимая из своей сумки газетный сверток, — кстати или некстати, но здесь подарок для тебя.
— Новое — хорошо забытое старое, — задумчиво произнесла я, разглядывая книжечку Войновича, — откуда она у тебя?
— Я случайно увез ее в своем чемодане, а недавно у меня была командировка в те места, и я заехал в Неляй. Оказалось, ты уже успела прислать Линасу еще один экземпляр, и он подарил эту книгу — в знак искреннего восхищения твоим знанием северных мифов. Мы здорово напились в тот вечер.
— И разговорились?
— Естественно, я же спрашивал об обратном адресе, и он понял, что я ищу тебя. Бандероль была из Ленинграда, но адрес оказался неверным. Там жил высокий человек с большим роялем, который не видел тебя уже лет шесть-семь.
— Сам знаешь, радистка Кэт мне в подметки не годится, — сказала я и, припомнив, что бандероль была отослана с квартиры Питерского, открыла книгу. Там лежал сушеный листик бузины, а на форзаце синела короткая надпись: «Марине и Андрею на память о лете в Национальном парке. Пушкайтис».
— У меня создалось впечатление, что наиболее значимая часть той давней истории все-таки проходит по разряду мифов, — произнес Андрей Константинович и замер в ожидании ответа.
— Не выдал, — поняла я результаты допроса, и соблазн оставить грех на своей совести был велик — все равно бог леса был человеком крайне предусмотрительным и зря своим семенем не разбрасывался. Его миссия была совсем иной — они там надеялись на меня…
— Без комментариев, — сказала я, однако, — ты уже закрывал эту тему.
— Ладно, оставим, у меня сейчас много других дел, — ответил Андрей с видимым облегчением, и я поняла, что пронеслась над пропастью.
— Начнешь, разумеется, с ужина? — спросила тогда я самым провокационным образом.
— Нет, мне нужно выяснить, наконец, почему ты нашлась, — засмеялся он, и мы еще немного поговорили.
Эпилог
Итак, жажда хэппи-энда, дарованная нам в свитках Иоанна Бого-слова, снова силится выйти из черноты, словно первый апрельский росток, и, если уж извлекать положительное из безнадежного, то следует воздать хвалу человеку гармоническому, положительному, устойчиво прописанному в книге живых.
Хорошисты с оценкой «пять» за поведение — нас не увидишь на кострах, и в храме мы — не далее заветной черты, за которой нужно служить жертвой, но это для нас пишутся стихи и учебники, это мы возделываем землю под солнцем, чтобы вкушать хлеб свой зимой, это мы радуемся на этом свете всему понемногу, и это у нас всегда есть, что отнять. Тем другим, что спят в походных гамаках, не отстегивая шпаги, всегда нужно чего-то другого.
Тем, другим, не сидится на месте — и как тут усидишь, когда нужно раздваиваться на врагов и друзей, устраивать небесные баталии и меняться местами. Мы — место, где тем разбрасывать и собирать свои камни в борьбе за колосья трудов наших, а мы исправно поем застольные гармонические песни о безумстве храбрых, потому что мы — их бессмертие, ведь они живут потом только в нас, и это мы плодим себе подобных для их бессмертной жизни — они этого, отродясь, не умели. Это они сгорают на кострах своей одержимости, а мы, наградив их посмертно, любуемся обеими сторонами медали одновременно — конечно, костры горят, чтобы нам было светлей, но, с другой стороны, кто же сожжет себя, если нет компетентного зрителя? Да и вообще мы прожили бы и без них, мы — соль земли, мы — суть земли, мы — смак земли, только бы не было войны…
Только бы не было войны — тогда без них сложно…
Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры — и вот уже кто-то моделирует ваш сценарий: «А что бы вы сами написали на своем могильном памятнике? А какая надпись могла бы быть на обратной стороне?»
Кто знает, не замени мне тогда «четыре» по поведению на «хорошо» по алгебре…
Итак, хэппи-энд! Утром мы уехали домой в сияющий золотыми куполами город с будками ГАИ у невидимых прозрачных ворот. Здесь тоже был зоопарк с дивными животными, но с газонами обстояло неважно, и в этом городе жили мужчины и женщины, и они все еще занимались своими привычными делами, а третья труба уже протрубила, и всадники с печатями в портфелях уже метались на разноцветных конях в теплых и далеких далях, где землю трясло огненными зигзагами божественных проклятий.
Мы въехали в город, и город не заметил этого, он был спокоен и равнодушен, и те, кто не сидел в отдельных квартирах, сидели на премьере Виктюка, где переодетые рабы, возомнив себя хозяевами, убивали друг друга, после чего оставшиеся мутанты танцевали о чем-то своем, бесплодном и обреченном, и наша история на фоне этого феерического зрелища выглядела скучновато и старомодно.
Мы приехали домой и поженились на следующей неделе, в четверг. Мальчик родился в положенный срок, и, если бы не русый цвет волос, его можно было бы принять сейчас за маленькую копию Андрея, и каждый божий день мы так стараемся уберечь его от всего дурного на этом свете, что к вечеру становится страшно — а как же он будет жить потом, когда нас не будет. И мы каемся, не щадя себя, а утром все повторяется, но это уже совсем другая история.
Пакавене щедро расплатилась со мной, и мы до сих пор храним друг друга в своей памяти. А пока я не без удовольствия живу скучной семейной жизнью, и у нас никак не получается потерять друг друга, и для постороннего читателя это могло бы быть уж совсем не интересным, но каждый год в последний день апреля Андрей увозит сына к бабушке, и мы уезжаем на дачу. К вечеру он топит печь, а я ухожу в лес к голым березкам и недавно ожившей траве и оттуда смотрю на луну, стараясь не пропустить тот единственный миг, когда ее силуэт не перечеркнется хоть одной быстрой тенью.
Но год проходит за годом, и никто не летит этой ночью в сторону горы Броккен, и моя Казимира до сих пор сражается одна, и все беды этого мира уже собрались вокруг нее в страшном хороводе, норовя сомкнуться в подъезде случайного дома вокруг кровавого пятна, и я не могу понять, что происходит — то ли с метлами в районах плохо, то ли взлететь так трудно, то ли всех разом ограбили, — и я кружусь по лесу в беспамятстве от горя и злости, а потом прихожу домой и говорю ему ужасные вещи, а он молчит и не уходит.
А к утру мы засыпаем, и просыпаемся, когда солнце уже вовсю светит в окна, и под окнами желтые нарциссы смотрят на синие пролески, и примулы розовеют от счастья, и пар подымается от черной влажной земли, и мой любимый смотрит на меня, и мне в это утро уже ничего больше не нужно.
Но одна мысль все-таки не покидает меня в последнее время — денежки на ремонт из главного чулка моего Национального парка уже давно украдены, а атомные станции появлялись во времени густо — как грибы после дождя. И, может быть, я все получила сполна, но просто срок не вышел — глядишь, через десяток лет заведутся черви, все станции скопом прохудятся, а тут уж всякое может случиться! Вот тогда-то мы и замутируем, вот тогда-то мы и расшевелимся! Страшной черной стаей с апрельскими тезисами в оскаленных зубах мы помчимся на гору вырабатывать свою национально-зеленую платформу, и горе тому, кто окажется на нашем пути.
Боже! Когда мы первого мая вернемся на свою землю — помоги нам увидеть живыми и здоровыми всех тех, для кого мы полетим в эту ночь!


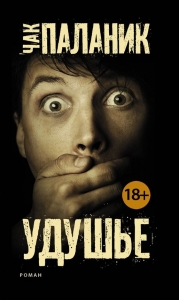
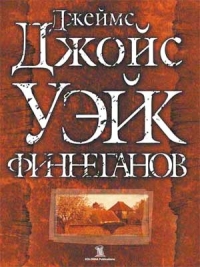
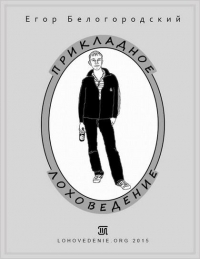
Комментарии к книге «Последнее лето в национальном парке», Маргарита Шелехова
Всего 0 комментариев