Юнас БЕНГТСОН Письма Амины
1
Я сижу в комнате отдыха на одном из жестких деревянных стульев, стоящих вдоль стены. Никого нет, здесь собираются только покурить или посидеть у маленького телевизора, который висит на стене.
Не могу совладать с руками, они все время в движении, задеваю самокрутку и роняю пепел на брюки, отряхиваюсь. Скоро мне идти на прием к доктору Петерсону.
По коридору проходит Кристиан. Его видно сквозь большие окна из плексигласа, отделяющие комнату отдыха от прохода. Ему чуть за тридцать, голова с редкими волосенками, как всегда, опущена на грудь. Просто поразительно, насколько он ни во что не вникает. Он не обращает на меня внимания, его вообще мало что трогает.
Кристиан — шизофреник, как и я, но его болезнь серьезнее. Большую часть взрослой жизни до больницы он прожил со своей старой матерью. Она кормила его, подтирала за ним, а он все больше уходил в себя. Пока не заблудился. Стал совсем тихим, и всё, вот мать и не думала, что ему нужно к врачу: он ведь просто тихоня… Положили его после того, как он выпрыгнул с третьего этажа. Он упал на стоящие под окном велосипеды, которые смягчили падение, так что с ним ничего страшного не случилось. В больнице выяснилось, что он страдает аутизмом.
Термос с кофе мы с Кристианом увидели одновременно: белый термос с коричневыми кофейными пятнами на столике у стены. Реакция почти комическая: глаза Кристиана округляются, рот растягивается в глуповатой улыбке. Обычно термосы у нас убирают, но сегодня днем приходили студенты-медики, с нашими правилами, по-видимому, не знакомые.
Кристиан высматривает санитаров. Он стоит, вытянув шею, и напоминает суслика. Затем медленно проскальзывает в комнату отдыха, останавливается у двери и снова смотрит, нет ли санитаров. На меня ему плевать, меня здесь просто нет. В данный момент во всем мире существуют только он и белый термос, и санитары — единственное, что может встать у него на пути. Всё, медлить нельзя. Кристиан кидается к термосу, откидывает крышку и подносит его ко рту. Он пьет, из горла валит пар. Слышно бульканье.
Кофе течет по груди, окрашивая белую футболку с Колдинского фестиваля. Его тошнит, коричневая блевотина лежит на полу и дымится. А он снова подносит термос ко рту.
Проблема Кристиана в том, что он все время хочет пить. Дай ему волю, он бы упился до смерти.
Это я нашел его в тот раз, когда мы должны были красить наши комнаты. Задумано это было как часть терапии для трудоспособных пациентов. Ну и конечно, в целях экономии. И вот Кристиан исчез, все его искали. Он был на складе. Я нашел его опрокидывающим пятилитровое ведро с белой краской прямо в глотку. После того случая термосы и запретили.
В комнату входит Карин, санитарка. Заметив Кристиана, она быстро разворачивается, выбегает в коридор и зовет на помощь. Она пробует отнять у него термос, сил не хватает; ошпарив руку, она ругается от боли. Вбегают два санитара. Они дерутся с Кристианом, не могут его удержать. Всё в комнате забрызгано кофе. Появляется четвертый санитар с каталкой. Вот они надевают на него смирительную рубашку. Кристиану все равно, он по-прежнему борется за термос.
Его укладывают и делают укол. Кристиан крутится, пока укол не начинает действовать, затем его увозят. Карин смотрит на меня с упреком. И она права. Я мог позвать на помощь. Мог сбегать за санитаром. Но Карин знает, что я не лезу в чужие дела. Не хочу, чтобы на мне лежала вина за то, что мой товарищ провел всю ночь после припадка привязанным к кровати. И еще мне, наверное, было интересно посмотреть, сколько кофе в него влезет.
До прихода Микаеля я успел выкурить полсигареты: пора отправляться к Петерсону.
Мы идем по длинному светло-зеленому коридору. Репродукции Моне в рамках так прочно прикреплены к стенам, что их не отодрать даже в буйном припадке.
Микаель смотрит на меня:
— Чудно, что тебя больше здесь не будет. Останутся одни придурки, грызущие ногти на ногах.
— Я хочу выйти сегодня.
— Конечно, конечно. Будем надеяться, что шведский гений не передумал…
Микаель — самый младший из санитаров, у него длинные волосы, собранные в хвост. Он не скрывает, что работает здесь, только чтобы по вечерам заниматься музыкой. Микаель слывет веселым малым. Верно, потому, что у него больше общего с пациентами, чем с кем-то из врачей или других санитаров. Случись ему на ночном дежурстве застукать кого-нибудь с косячком, он запросто может сесть рядышком и покурить за компанию.
Навстречу нам идет один из новых пациентов. Ему еще не принесли одежду, и он ходит в длинной больничной рубашке. Микаель кладет руку ему на плечо:
— По-моему, тебя ищет Гите. У тебя ведь в два бассейн?
Глаза безумные:
— Я не хочу… плавать…
— Не дергайся, я не знаю, что ей надо, она просто тебя искала.
Микаель отправляет его дальше по коридору. Он медленно, с пыхтением продвигается вперед.
— Не плавать… — бормочет он.
— Похоже, его перекормили лекарствами.
Микаель улыбается мне. Не будь на нем бейджика с именем, мы могли бы подружиться.
Мы идем дальше. Он ободряюще похлопывает меня по плечу:
— Конечно, он тебя выпишет. Конечно выпишет…
Я хочу выйти сегодня. Хочу выйти. Если Петерсон скажет: давай посмотрим, как пойдут дела, давай подождем пару недель или месяцев, я возьму с полки справочник по психологии — большой том в кожаном переплете, он достает его, только когда к нему приходят родственники пациентов, — разобью им оконное стекло, и — только меня и видели.
Я сделал все возможное, чтобы меня выписали. Последние несколько месяцев я много работал. Когда начинался приступ, я прятался в туалете. Кусал одеяло, чтобы не кричать. Следил за тем, как хожу, как ем, говорю. Усаживался, закидывал ногу на ногу, осознавал и признавал, сначала неохотно, но затем им удалось меня убедить. Меня потрепали по плечу, все были рады: их система работает, они могут больше, чем просто пичкать нас лекарствами.
Микаель постучал в дверь кабинета Петерсона, тот открыл. Я вошел. Прежде чем закрыть за собой дверь, Микаель показал мне два скрещенных пальца. Петерсон стоит ко мне спиной и смотрит в окно. Здесь все расположено на первом этаже, так что найдешь открытое окно — не разобьешься. За окном — лужайка. Петерсон любит на нее поглядеть, прежде чем разговаривать с нами, психами. Он поворачивается ко мне и улыбается. Не какая-нибудь там широкая улыбка, просто усталое дружелюбие. Затем садится за большой, темного дерева письменный стол.
— Присаживайся, Янус.
Два шага вперед, я выдвигаю стул, аккуратно, так, чтобы не слишком греметь. У меня влажные ладони. Опускаюсь на стул, пододвигаю его под себя. Все под контролем. Смотрю на полку, на справочник в кожаном переплете. Если что, сначала выбью ему зубы, а потом разобью окно.
Петерсон пару раз сухо и отрывисто кашляет, прикрыв рот тыльной стороной руки.
— Мы собирались поговорить с тобой о выписке, Янус…
Петерсон так и не смог избавиться от шведского акцента. Когда он устает, его практически невозможно понять. Двадцать лет он работает в Дании. У него жена-датчанка, взрослый сын, может, даже внуки, но от акцента ему никуда не деться. Эмигрант хренов. Луком небось весь подъезд провонял.
Петерсон — дружелюбный мужчина, с добрым лицом, с отрешенным, будто не от мира сего, взглядом. Не ему же приходится нас привязывать, драться с нами, подтирать за нами в коридорах. В темно-каштановых волосах отдельные седые вкрапления, побрит небрежно. Знающий, должно быть, врач. Но только не здесь, в других местах: на конференциях, совещаниях.
— Ну как, не передумал, хочешь, чтобы я тебя выписал?
Я спокойно киваю, рассчитанным движением наклоняю и снова выпрямляю голову. Голова должна сидеть прямо, не клониться вправо или влево, не свисать на грудь: нас, шизофреников, всегда можно узнать по тому, как мы держим голову.
Петерсон вынимает из кармана клетчатой рубашки очки для чтения и склоняется над лежащими на столе бумагами.
— Да, вижу, у тебя колоссальный прогресс…
Он снова снимает очки и смотрит на меня отсутствующим взглядом:
— Сколько тебе лет, я забыл?
— Двадцать четыре. Мне двадцать четыре года.
— И ты хочешь, чтобы я тебя выписал…
Киваю и выравниваю голову. Он смотрит на меня испытующе:
— Как думаешь, справишься?
— Да.
— И мне никак не уговорить тебя переехать в пансионат?
— Нет.
— Для тебя это самый простой выход.
— С таким же успехом я могу остаться здесь.
— Если ты так на это смотришь… — Он поскреб щетину. — Если ты будешь принимать лекарства. И посещать врача…
Он устало машет рукой, словно не желая заканчивать фразу, но я знаю, что он хочет сказать. Он снова смотрит в бумаги.
Наступает критический момент. Время замерло. Вот сейчас ему может прийти в голову какая-нибудь мысль, которая заставит его передумать. Сейчас. Я увижу, как он возьмет ручку, проведет рукой по не очень чистым волосам, подумает о весенней Упсале и поставит свою подпись. Хлопок по плечу, собранный чемодан, и вот я на свободе. Рука движется, и в какой-то момент все выглядит так, будто он хочет взять ручку, но тут он снова поднимает голову:
— Я все думаю о той истории с Эриком. Всего несколько месяцев прошло…
С тем же успехом мог дать мне под дых, но для этого он, конечно, слишком мягок. Я пытаюсь дышать носом.
— Я не нарочно…
— Я видел его после того, что случилось… Был удивлен, когда услышал, что это сделал ты.
— Я не…
— Он и сам сказал, что понимает тебя.
— Мне жаль, что все так получилось с Эриком, правда жаль, я ничего против него не имею.
— Но он взял твои письма?
— Да.
— И поэтому тебе пришлось так с ним поступить? Ты не мог просто сказать об этом санитару?
— Он хотел их поджечь, сказал, если я подойду ближе, он их подожжет, у него была зажигалка.
— Я знаю, как все было…
Я глубоко вдыхаю. Нельзя кричать. Вытираю ладони о штанины.
Петерсон улыбается мне, будто показывая, что все в порядке.
— До этого случая за тобой не наблюдалось склонности к насилию. Я знаю, ты никогда не был буйным пациентом… А сейчас я тебя выпишу. А затем направлю к врачу, у которого ты будешь наблюдаться. Больше я не буду тебя задерживать, Микаель придет за тобой, когда я оформлю бумаги.
Вот оно как просто, оказывается. Он провожает меня до двери, дружелюбно и немного неловко сжимает мне плечо.
Я возвращаюсь в комнату отдыха, снова сажусь на стул у стены и скручиваю сигарету. Какая вкусная! Не поверю, пока не окажусь за стенами больницы, и все же не могу сдержать улыбки.
Петерсон и Микаель приходят, чтобы проводить меня. Петерсон дает мне папку с документами и пакет с таблетками.
— Я кое-что для тебя записал. Здесь фамилия твоего психиатра и бумаги для центра соцобеспечения.
Они отводят меня в комнату, я достаю из-под кровати чемодан. На дне лежат письма. Я оглядываюсь на место, где провел последние четыре года, и выхожу с чемоданом в руке. Мы идем к выходу, еще один длинный салатовый коридор. Пара знакомых лиц выглядывает из дверей, я прощаюсь на ходу. Одному отдаю банку с остатками табака, другому — почти полный пакет леденцов. Ляйфу достаются три мои последние одноразовые зажигалки, все равно он их вечно таскает.
Микаель вынимает ключи и отпирает входную дверь. Петерсон откашливается, подает мне руку:
— Ты знаешь, здесь тебе всегда рады…
Микаель обнимает меня:
— Не забывай нас, ладно?
И я ухожу. Качу за собой чемодан. Колесики крутятся из последних сил. От больницы до автобусной остановки недалеко. Шел дождь, плитки тротуара мокрые. Вскоре подходит автобус.
2
Немногим более четырех лет назад я ехал в таком же автобусе, но в противоположном направлении. Другие пассажиры разглядывали меня, все понимали, что я еду в больницу. Я сидел, уставившись в спинку сиденья перед собой, поглощенный какой-то царапиной на обивке, и спиной чувствовал их взгляды. Даже дети меня вычислили. И, отсчитывая деньги на билет, стоя со своими копейками и потея, я видел, что шофер знает, куда я еду. «Еще один псих, — думал он, — надеюсь, он ничего не натворит в моем автобусе». В больнице этот автобус называют говновозкой. Не слишком-то красиво. Но это единственный автобус, идущий из города в больницу, и почти все в больнице когда-то в нем сидели и были на тот момент, что называется, в говне.
От Копенгагена до больницы недалеко, сорок пять минут, меньше часа. Но это самое долгое путешествие в жизни, которое только можно себе представить.
Я заболел в автобусе.
Тогда я еще не знал, что болен, думал, просто заскучал. Мне было восемнадцать, я ходил в гимназию в Гладсаксе, за городом. Было утро, я ехал на занятия. Сидел в хвосте автобуса, шел дождь, я смотрел сквозь запотевшие стекла; смотрел, удастся ли шоферу, проезжая по лужам, обрызгать пешеходов. Думал об уроках, которые не сделал. Тут мы доехали до остановки, где была гимназия, и народ вышел. Мне не хотелось вставать, тело еще не проснулось. Я слишком долго колебался, двери закрылись, и автобус поехал дальше. «Просто идиотизм какой-то, — подумал я. — Надо проснуться. Если выйти на следующей остановке и вернуться, я успеваю». Но я не вышел, толком не знаю почему. Может, просто не хотел, да, наверное, это и не важно. Тогда я решил сойти на следующей остановке, покурить и сказать, что был у стоматолога. Однако в этот день я так и не попал в школу. Я смотрел, как остановки проплывают мимо, и все больше впадал в безразличие. Мы доехали до конечной, я остался в автобусе один. Шофер спросил, не выхожу ли я. Я сказал «нет» и поехал в город.
Я гулял, ходил по магазинам, поел в «Макдональдсе», посидел на лавочке, поглядел на проходящих мимо людей. Купил в булочной пару булок с изюмом, пошел к Озерам и там смотрел на уток, дерущихся из-за хлебных крошек, которые я им кидал. Сейчас я не понимаю, почему купил не простые булочки, а с изюмом. Насколько мне известно, утки не едят изюм. Но те булочки были с изюмом, точно.
На следующее утро я снова сидел в автобусе. Вчера был отличный день. Скажу учителям, что был болен, а ребятам расскажу о пьянке, закончившейся в четыре утра в «Луизе», в компании с пьяной гренландкой, готовой выпрыгнуть из трусов. Но когда я снова очутился на остановке перед школой, со мной что-то произошло. Я ухватился за поручень, чтобы встать, но тело было таким тяжелым, я не смог подняться. Это показалось мне довольно забавным. Я увидел, как закрылись двери, и автобус поехал дальше. Чертовщина какая-то. Я встал и, переминаясь с ноги на ногу, стал ждать следующей остановки. И тут до меня дошло, что мне не нужно. Не нужно тащиться туда и делать вид, что слежу за уроками, убивать время, рисуя всякую лабуду типа рыб в галстуках, не нужно курить на переменах и думать, что бы такого умного сказать. Никто не умрет, если я этого делать не буду.
Я снова не пошел в гимназию. Я проводил дни в городе, ходил в кино, наблюдал за прохожими, ел гамбургеры. Вначале я всегда по утрам брал с собой рюкзак с учебниками, чтобы мать ничего не заподозрила, и оставлял его в живой изгороди нашего сада. Я был доволен жизнью. Мне было хорошо в обществе себя любимого, я испытывал большое облегчение. Никогда я не чувствовал себя таким свободным. Я начал разговаривать сам с собой, не так громко, чтобы люди на улице оборачивались, а про себя, иногда я замечал, что шевелю губами. Я обсуждал сам с собой одежду на девушках, и где делают лучшую шаверму, и куда едут машины. Я прожил так пару месяцев, может, четыре, мне больше не нужно было следить за ходом времени.
Однажды я пришел домой: портфель стоял на столе, мать нашла его в изгороди и желала выслушать мои объяснения. Мы поругались. Она ничего от меня не добилась. После этого я приходил домой только в случае острой необходимости. Приходил по ночам, спал пару часов, съедал что-нибудь из холодильника и уходил до того, как вставала мать. Если я оставлял одежду, то в другой раз находил ее выстиранной и аккуратно сложенной. Стояло лето, я спал в парках; было тепло, я наслаждался ночлегом с видом на звезды. Я все реже приходил домой. Если хотел есть, а денег не было, брал что-нибудь с полки в супермаркете. В то лето я съел много малиновых рулетов.
Однажды вечером случилось нечто неожиданное, кое-что, заставившее меня призадуматься: а может быть, не все так хорошо. Может быть.
Я уже недели две проходил в одной и той же одежде, пошел дождь, и я решил поехать домой, пожрать, переодеться и свалить, израсходовав запасы материнского терпения и любви, до того как она начнет кричать и плакать. Я сел в «пятерку» и доехал до Брёнсхой-Торв. А когда собрался встать, то понял, что не могу. Я прилип к сиденью, не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Хотел позвать на помощь, подать знак другим пассажирам.
Но не мог.
Мы доехали до конечной, автобус въехал на большую площадь, где стояли другие автобусы. Шофер подошел ко мне, сказал, что надо выходить, что он собирается домой. Но я не мог пошевелиться. Он пару раз щелкнул пальцами у меня перед носом, дал мне пощечину и попытался выпихнуть. Я свалился и остался неподвижно лежать в проходе. Тогда он вызвал «скорую».
Приехали два санитара, решили, что я диабетик и у меня инсулиновый шок, и сделали мне укол. Положили на носилки и отвезли в больницу.
Только в больнице меня осмотрел врач. Поскольку он не смог понять, в чем дело, послали за психиатром. Тот сделал мне еще один укол, и они позвонили матери. Она всю ночь проплакала в коридоре, я слышал ее через приоткрытую дверь. Я хотел сказать ей, что все не так плохо, что со мной все в порядке, просто не могу пошевелиться. Но не мог издать ни звука.
На следующий день я снова ходил, шевелил руками и разговаривал, я был в хорошем настроении. Меня выписали, в конце недели я должен был прийти к психиатру. Я пришел, он немного поговорил со мной и выписал рецепт на какие-то таблетки.
Я принимал их меньше недели. Меня рвало, мне было очень плохо. Лежал в кровати, меня тошнило, так что я прекратил их принимать.
Я продолжал бродить по городу, лишь изредка возвращаясь домой. Мама больше не жаловалась, просто была рада меня видеть. Она готовила мне еду, давала чистую одежду, и я снова сматывался. Все еще стояло лето, светило солнце, и я был свободен от всего остального мира.
Однажды я пришел к Озерам и стал смотреть на воду. Был необыкновенно жаркий день, бабье лето, зеленая вода выглядела так чудесно, так прохладно. Мне захотелось полежать в этой прохладной зелени. Я позволил себе упасть в воду. Проснулся я в больнице. Мне сказали, что я пытался покончить с собой, не верили, что мне просто было жарко. Хотели сразу же меня госпитализировать, но все же разрешили поехать домой и подумать. Через два дня я сел в автобус, идущий до больницы, подписал какие-то бумаги и отдался в их руки. Затем я несколько раз лежал на открытых отделениях. Я выписывался, собирался учиться, срывался и снова попадал в больницу. В конце концов я оказался на остром отделении.
Автобус едет по промышленному кварталу, проезжает мимо низких бетонных строений. Затем мимо жилого корпуса и небольшого торгового центра. Еще заводы, и — автострада, указатели, разрисованные граффити. Мы в городе.
3
Центральный вокзал гудит от людей, пахнет грязью, мочой и дымом. Народу больше, чем в те времена, когда я сюда хаживал. Бомжи стали более заметными и выглядят хуже. Вокзал всегда был подходящим местом, чтобы спрятаться от дождя или забить с другом косячок. Здесь можно было просидеть весь день с чашкой кофе из «Макдональдса». А если захотелось колес там или травки, все можно было достать рядом, на Истедгаде. Я этим делом не злоупотреблял: не было необходимости, я и так был как под кайфом.
Качу чемодан за собой, приходится обходить туристов с рюкзаками, дачников с сумками. Пару раз ко мне подваливают с протянутой рукой. В привокзальном магазине покупаю пачку сигарет. Первый глоток свободы — к черту самокрутки. Я покидаю вокзал через центральный вход и иду по направлению к Вестеброгаде. Точно не знаю номера автобуса, поэтому беру такси. Называю адрес. Водитель, по счастью, неразговорчив, занят своим делом. Здоровый толстый мужик, лет пятидесяти с хвостиком, с таким ковриком из деревянных шариков на сиденье. Рядом с радио у него висит фотография молоденькой таитянки. На ней кофточка в красную и розовую полоску, она улыбается фотографу.
Я отпираю дверь и втаскиваю чемодан по лестнице. Подниматься высоко, на последний этаж, в пентхаус. Это дорогой дом в переулке у площади Трианглен. Я никогда не был в квартире своего старшего брата. Он приобрел ее уже после того, как меня положили. Он обожает свою квартиру. Когда звонил поздравить меня в день рождения, я всегда рассказывал, какими таблетками меня пичкают, а он — что новенького купил для квартиры.
Он сейчас в Брюсселе и, видимо, пробудет там какое-то время. Не знаю точно, чем он занимается, что-то связанное с деньгами, много ездит. Непросто было вытянуть у него ключи, не раз пришлось с ним по телефону поговорить, прежде чем он согласился. Я рассказывал ему, что выздоровел, что уже практически нормальный человек. И, чтобы выписаться, мне нужна его помощь. Он спрашивал, не могу ли я пожить у мамы, а я говорил, это наверняка плохо скажется на ее нервах, я слишком часто ее подводил. И неважно, буду я себя вести нормально или нет, все равно она станет со мной нянчиться, пока мы оба не спятим. Тут ему мою правоту пришлось признать.
И я сыграл на его чувстве вины. Я не говорил прямо о том, что он практически не навещал меня эти четыре года, но кружил вокруг да около, говорил об одиночестве, потребности вернуться и снова быть с людьми. Пришлось как следует поработать, пока нечистая совесть не одержала верх над страхом за квартиру. Он прислал мне ключи и уехал в Брюссель.
Петерсон, конечно, не знает, что брата нет дома. Моим главным аргументом было именно то, что я смогу получить от брата столь необходимую мне поддержку. Петерсон предпочел бы отправить меня в одно из этих общежитий для психов. Я знаю одно такое в Рёдовре: кучка аутистов, несколько шизофреников в стадии ремиссии и парочка даунов живут вместе и вместе покупают сосиски и картошку фри. Там за ними приглядывают, смотрят, чтобы они помылись, поели и выпили свою пригоршню таблеток. Меня не тянет в такое место. Слишком много вопросов, слишком жесткий контроль. И я не хочу просыпаться по утрам оттого, что недоразвитая Марианна трется промежностью о мою постель.
В конце концов Петерсон купился на братскую поддержку.
Я дохожу до конца лестницы и вставляю ключ в замочную скважину. Перешагиваю через письма и рекламу и нахожу выключатель. Прихожая узкая, выдержана в белых тонах, с зеркалом в большой стальной раме. Дверь налево ведет в небольшой туалет, вероятно гостевой. Прохожу через прихожую и открываю дверь в гостиную.
Я застываю в дверном проеме: вынужден признать, что приятно удивлен. Большое, многоуровневое помещение, две ступеньки вниз ведут в жилую комнату. Доминанта пространства — диванный гарнитур: стеклянный столик, два кресла и большой светло-коричневый диван, обтянутые дорогой кожей. На столике веером разложены три набора обоев. Оциклеванный пол, белые стены с репродукциями в стальных рамах. На стене висит музыкальный центр «Банг энд Олуфсен», под ним — большой черный телевизор той же марки. Лампы — от Поля Хеннингса, новые, не какие-нибудь разбитые или треснутые, как в средней школе. Единственное, что как будто кажется случайным, — сумка с клюшками для гольфа, прислоненная к стене.
В конце гостиной — большое окно и дверь на балкон. Отсюда видна большая часть города.
В другом конце гостиной — две ступеньки вверх, ведущие в открытое пространство кухни, в белых тонах и отделанной металлом, с большой молочного цвета кофеваркой эспрессо и холодильником из сияющей нержавейки. Обеденный стол на шесть персон.
Все красиво, все элегантно, так элегантно, что даже пыль не осмелилась лечь на поверхности, с той поры как уехал брат. И все же я стою в дверном проеме и от страха готов наделать в штаны. Не знаю почему, но только мне приходится крепко держаться за дверной косяк, чтобы не упасть.
И тут до меня доходит, что не так. То, что я перед собой вижу, — это семьдесят шестая страница какого-нибудь каталога жилых интерьеров, скопированная до мельчайших деталей. Человек здесь жить не может. Здесь нельзя есть печенье, сидя на диване, или ходить по воскресеньям в трениках. На стеклянном столе никогда не лежали упаковки от пиццы или пивные банки. Это плод извращенной дизайнерской фантазии.
Я делаю глубокий вздох. Вынимаю сигареты, закуриваю. Продвигаюсь вниз, в гостиную, шаг за шагом, вниз по лестнице и дальше, вперед, по комнате. С каждым шагом я делаю затяжку, такую глубокую, что дерет легкие, и выдыхаю дым в разные стороны, захватываю столько пространства, сколько могу. Я мечу территорию. Становлюсь на колени у журнального столика и выдыхаю под него дым, смотрю, как он клубится под стеклянной поверхностью. Я окуриваю диван, кресла, просыпаю немного пепла на пол и оставляю лежать. Новой сигаретой окуриваю кухню, выдыхаю дым над его суперэллиптическим столом с шестью стульями и тушу окурок о большую стальную мойку.
4
Я стою на кровати и смотрю на письма, раскиданные по полу на расстоянии ладони друг от друга. Пятьдесят три письма и несколько открыток. Теперь я могу составить общее представление: то, чего мне так не хватало. Спальня моего братца отделана с той же тщательностью, что и вся остальная квартира. Светло-серые стены, большой дубовый шкаф с дверцами из шероховатого стекла, постель убрана так аккуратно, как бывает только в отелях.
Я смотрю на письма Амины за три года. Она писала не каждую неделю. Иногда каждую, но чаще проходило недели две, а то и месяц, если она была занята учебой или еще чем-то. Она всегда объяснялась, если проходило много времени. Я тоже ей писал, но не так часто. В больнице мало что происходило, к тому же мне недоставало покоя, чтобы писать. Бывало, что следующее письмо от нее приходило еще до того, как я успевал ответить на предыдущее. А они всё шли. Если не на этой неделе, то на следующей или через неделю, но письмо всегда приходило.
Последнее письмо от Амины я получил больше полугода назад и с тех пор много раз перечитывал их все, смотрел, не изменился ли почерк, не сложатся ли из старых слов новые предложения, если читать их сверху вниз или снизу вверх, нет ли каких намеков или скрытых смыслов. Но ничего не нашел. Никакого объяснения, почему она перестала писать.
В больнице у меня была надежда, что, составив общее представление, имея полную картину, без стресса, без страха, что дверь распахнется и войдет санитар, я, может быть, смогу что-нибудь заметить.
Я спускаюсь с кровати и подхожу к тому ряду, что лежит ближе всего к окну. Это письма первого лета, когда мы начали переписываться. Я беру одно из них, просто чтобы с чего-нибудь начать.
Надеюсь, у тебя все в порядке, я, конечно, знаю, что жизнь у тебя не сахар, но ты ведь понимаешь, что я имею в виду. Смирительную рубашку больше не надевали? Я понимаю, что все это совсем не весело, что я не могу даже представить, каково это быть там, но все же не могла не расхохотаться, когда читала твое письмо, сестра даже заглянула в комнату и спросила, что случилось, так я смеялась. Поразительно, что ты можешь так об этом писать. И мне пришлось рассказать ей о письмах. Сначала я сказала, что письмо от моей подруги Софии, но она не купилась. Устроила мне допрос с пристрастием. Кто такая София, не знаю никакой Софии. Почему София никогда не звонит, почему София никогда не приходит к нам, у Софии ведь нет «кюк» — это турецкое слово, обозначает то, что есть у мужчины… В общем, мне пришлось рассказать ей о тебе, точнее, о наших письмах. Ты не датчанка, не забывай, ты не датчанка, — говорит она мне, приподняв брови, и становится страшно похожа на маму. Но вообще она классная, она никогда никому ничего не скажет. Думаю, ей просто немного завидно. Ей тоже хочется с кем-нибудь переписываться. В последнее время у нас было не так уже весело. Я надеялась, что буду писать это письмо, сидя в шезлонге у Черного моря. Но папа все никак не может найти работу. И нам пришлось остаться дома. Он злится, и я его понимаю: он проработал на этом компьютерном складе больше девяти лет, и тут они перевозят его в Швецию.
София. В тот год я подписывался именем София. Родители Амины — турецкие курды. Она всегда писала о них только хорошее. Но еще писала, что они несколько старомодны. Что маме не понравится ее переписка с парнем. И то, что я совсем присмирел в психушке, вряд ли ее смягчит. Когда Амина пошла учиться, она завела абонентский ящик. Ей надоело, что мать вскрывает письма, допрашивает каждый раз, как она получает из института письмо, подписанное мужским именем. Мать не очень хорошо понимала по-датски, она думала, слово «наставник» — это что-то неприличное.
Я беру другое письмо из того же ряда на полу. То же лето.
Мама очень хорошо готовит, очень-очень хорошо… Но сейчас у нее нет времени, ей пришлось устроиться уборщицей в один офис, она поздно приходит. Ну и поскольку мамы нет дома, за еду отвечаем мы с Гюльден. Ох, это не самый лучший вариант, но что поделаешь… И вот мы с сестрой стоим на кухне, с кучей специй в маленьких баночках без этикеток, поскольку мама и так знает, что в них лежит, и ей не нужно их подписывать. И никаких рецептов тоже, разумеется, нет. Она все держит в голове. Она научилась готовить у матери еще ребенком, стоя рядом с ней на кухне. Сколько приправы помещается в руке, столько и йогурта нужно положить… В детстве мы с Гюльден всегда играли во дворе, когда мама готовила. И если она звала нас помочь, мы всегда говорили, что нам нужно делать уроки, и усаживались в комнате. И хотя мама жутко сердилась, папа говорил: им ведь и правда нужно делать уроки, и правда ведь нужно. Я думаю, мы с сестрой научились читать, потому что не хотели готовить. Сестра чуть получше ориентируется в готовке, думаю, у нее больше к этому способностей. Я могу приготовить, может, два съедобных блюда. Папа всегда над этим смеется, говорит, хорошо, что его дочки красавицы, иначе им никогда бы не выйти замуж. Мы попробовали приготовить одно блюдо, называется «имам-баялды». Это значит «имам падает в обморок», мама говорит, оно так называется, потому что потрясающе вкусное. Когда мы подали его на стол, в обморок никто, по крайней мере, не упал. Папа выпил два полных стакана воды, однако не сказал, что еда пересолена.
На следующий день он присоединился к нам на кухне. Он тоже не умеет готовить, но много раз видел, как это делает мама, и знает, каковы разные блюда на вкус. По-моему, он от души забавляется: мама всегда выгоняет его из кухни, если он вмешивается. И вот мы втроем пытаемся сотворить нечто, похожее на мамину стряпню.
Я перечитывал это письмо много раз, и картины в моей голове по-прежнему четки. Я стою с ней на кухне. Рядом кастрюли, пузырится соус, я чувствую запах томата и лука, стою возле Амины, у нее потный лоб, она заправляет прядку волос за ухо. Амина с сестрой дурачатся, пролетает брошенный черенок от перца, но ни в кого не попадает, они смеются, и я смеюсь с ними вместе.
Мы принесли на кухню музыкальный центр, включили на полную мощность и готовим. И конечно, деремся из-за того, что будем слушать. Сестра хочет поставить Таркана, или Миркелама, или Сертаб Эренер, а я хочу Фуата Сака. И мы кричим друг на друга и смеемся, и она говорит, что Сака ужасен, что она не в состоянии вынести его чудовищного черноморского диалекта и что если я хочу слушать этот старый хлам, то пусть я и готовлю.
Когда папа помогает нам на кухне, командую я. И не потому, что я подлиза, папа сам говорит, что слышать не может Таркана. Что когда он был молодым, у них было слово для мужнин, которые красятся, и при нас он этого произнести не может. Да, я понимаю, что имена тебе ничего не говорят, Янус, но Сака пишет необычную мушку. Он использует народные инструменты, и мне это нравится.
Я читаю отрывки из других писем. Не знаю, что я ищу, но продолжаю искать.
Через несколько часов у меня разболелась голова, мозг полон обрывками предложений. Я отвык думать.
В морозилке нахожу дорогущий полуфабрикат — тальятелли с лососем и сливочным соусом, подогреваю в микроволновке.
Затем возвращаюсь к письмам. Еще через пару часов я собираю их с кровати, принимаю снотворное и ложусь. Даже со снотворным мне трудно уснуть. Издалека доносится слабый шум машин, а так здесь, на последнем этаже, очень тихо. Никаких хлопающих дверей или разговаривающих в коридоре перед дверью санитаров. Никто не кричит, не привязывают новых пациентов. Здесь слишком тихо. Я думаю об Амине, как же она теперь выглядит, я виделся с ней много лет назад. Я думаю о больнице и о людях, с которыми простился.
Томас плакал, когда услышал, что меня, возможно, выпишут.
Он, наверное, лучший мой друг в больнице, во всяком случае, у меня с ним больше всего общего. Мы одного возраста, а другие пациенты в основном старше, или это юнцы, загремевшие сюда с гашишным психозом. Как и я, Томас бросил гимназию. Ему нравилось туда ходить, но, когда у школы наконец появились деньги, чтобы посадить молоденькую березку на парковке перед зданием, ему пришлось бросить учебу. Он не мог пройти мимо березы. Томас не выносит природу. Особенно деревья. Его худший кошмар — очутиться посреди леса. Он не всегда был таким. Ребенком он тоже не особенно любил всякую зелень, но потом это в нем разрослось. Береза на парковке пугала его до потери чувств. Когда я с ним познакомился, от него постоянно пахло потом, потому что вся его одежда была из полиэфира. В больнице его пытались лечить. Проводили с ним беседы, пробовали разные лекарства, пробовали гипноз.
В конце концов они сдались и оборудовали для него комнату, где все сделано из пластмассы и нейлона. Столы, стулья, кровать и постельное белье — все было из искусственных материалов. Он редко выходит из своей комнаты, набирается мужества, только если проводятся какие-то большие совместные мероприятия. Как Рождество, когда он сидел как мог дальше от елки и спиной к ней. И ломал руки как безумный. Когда раздали листочки со словами песен и пришло время водить хоровод вокруг елки, его уже и след простыл.
Не всякая природа пугает Томаса, у страха есть свои степени.
Фотография растения в журнале может вызвать у него беспокойство, а царапина на покрывающем стол ламинате — заставить плакать, потому как он видит под ней фанеру.
Томас знает, что у него странная болезнь.
— Не можешь же ты бояться какого-то дерева!
— Знаю… Но я их ненавижу, черт, я их ненавижу.
Томас может так рассказать о своей болезни, что почти все будут хохотать, он знает, как расставить акценты, рассказывая о том случае, когда съехал с катушек в цветочном отделе супермаркета. Но стоит один раз увидеть, как он бьется в припадке, и желание смеяться пропадает. Томас — один из немногих в больнице, о ком я буду скучать.
5
Я вхожу в подъезд дома, где живет семья Амины.
Это красное кирпичное здание, расположенное на северо-западе Копенгагена. Грязный подъезд без домофона, большинство имен — не датские. Перед лестницей стоит красная пластмассовая машина, достаточно большая для того, чтобы в ней поместился ребенок. Рядом брошенная разносчиком пачка рекламы. Я нажимаю на звонок, моя рука дрожит. Все утро я раздумывал, правильно ли поступаю. Сам с собой спорил, но не видел других вариантов. Надеюсь, я смогу объяснить ее родителям, что речь идет только о письмах. Что эти письма очень важны для меня, но я никогда и пальцем до нее не дотронулся. Когда-то я пожимал ей руку, с тех пор прошли годы.
Слышно, как в прихожей раздается звонок. Может, она сейчас в гостиной, пьет крепкий черный чай из маленькой чашечки и ест липкие, очень сладкие турецкие пирожные.
Она объяснит, почему не писала, может, она уезжала, может, только что вернулась.
Она извинится, и я прощу ее. И снова пойдут письма.
Я слышу шаги по другую сторону двери. Через глазок мне видно, как в прихожей зажегся свет. Затем глазок снова темнеет, видимо, по ту сторону кто-то стоит. Дверь приоткрывается, на меня смотрит сестра Амины, Гюльден. Я помню ее, она как-то приходила в школу.
— Можно мне поговорить с Аминой?
— Ее здесь нет.
— Она придет попозже?
— Она здесь больше не живет.
Я слышу, как ей что-то говорит какая-то женщина, по-турецки или по-курдски, я не слышу разницы.
Затем она снова поворачивается ко мне, почти умоляюще произносит:
— Уходи, пожалуйста.
— Мне нужно поговорить с Аминой.
Мать Амины подходит к двери, отталкивает сестру. Невысокая, полноватая, она быстро накидывает платок. Говорит на плохом датском:
— Что тебе?
— Я хочу поговорить с Аминой.
— Амина нэ живет здес.
— А где она живет?
— Дэржис падалше отсуда.
— Я просто хочу с ней поговорить, это важно, я пришел поговорить с ней.
— Амина нэ живет здес. Иди! Иди отсуда!
Она пытается закрыть дверь, я не даю.
— Я не уйду, пока не поговорю с Аминой.
— Иди! Нет ее, иди!
Она захлопывает дверь, поразительно, сколько силы она в это вкладывает. Я слышу, как за дверью спорят, но ничего не понимаю. Спускаюсь по лестнице, выхожу на улицу. Напротив их окон расположено два жилых корпуса, а между ними — маленький пятачок с травкой и березка. Я сажусь, прислонившись к стволу. Время идет. Вокруг дерева все зассано. Я пробую разобраться в запахах, попурри ночного горшка: собачья моча, человеческая моча, пьянчуга, возвращающийся домой, бездомный. Солнце уже низко. У меня нет часов, должно быть, скоро вечер. Зажигают фонари, я вижу свет в их окне, голубой экран телевизора. По другой стороне улицы идет мужчина с собакой на поводке, дворняжкой с выступающими ребрами. Собака поднимает ногу на стену дома. Хозяин ждать не хочет, тянет ее за собой, собака ковыляет за ним на трех ногах, подняв четвертую в воздух, выпуская на тротуар короткие струйки мочи. Делает несколько быстрых шагов на четырех лапах, чтобы поводок оказался сзади, и снова поднимает ногу.
Хозяину все равно, он тянет ее за собой, не снижая скорости. Они исчезают за углом.
Сегодня было жарко, но вечер будет холодным.
Я кутаюсь в куртку. Думаю о письмах Амины.
Все началось не с писем, а с телефонного звонка.
Я пролежал в больнице уже несколько месяцев, и был мой день рождения. Утром звонил поздравить брат, но времени говорить у него не было — он спешил на самолет. Наши испекли пирог и скинулись мне на новые плавки для бассейна. Мы пили горячий какао, ели пирог, мне спели и песенку про каравай, и ту, про инструменты. Они на самом деле старались. Даже слабоумная Майкен проорала что-то, а слюни свисали у нее с подбородка. Я сидел, улыбался, благодарил за чудесный подарок, но внутри у меня все было мертво.
Я извинился и ушел, набрал горсть монет, нашел старый телефонный справочник.
— Привет, это Янус… Из гимназии.
— Привет, Янус.
— Помнишь меня?
— Конечно.
— Здорово, иначе глупо было бы звонить.
— Конечно, я тебя помню. Как дела, чем занимаешься? Все спрашивают, чем ты теперь занимаешься.
— Я заболел, очень сильно, и меня положили в больницу.
— А что с тобой?
— Ничего серьезного, или нет… это с головой. У меня… Я… Мне сказали, что я шизофреник.
— Ты… Это грустно.
— Да… Мне тоже было грустно, когда я узнал. Только не подумай, что я считаю себя Наполеоном или там Гитлером.
— Нет…
— Надеюсь, я тебя не напугал.
— Нет… нет, не напугал.
— Я рад. Правда рад. Я надеялся, что ты не испугаешься. Думал, есть небольшой шанс, что ты не положишь трубку.
— А я и не собираюсь.
— Я на это надеялся. Здесь все такое нереальное. Я давно не разговаривал ни с кем, кто бы сам не был болен или не лечил меня. И я не знал, кому позвонить. Я знаю кучу народу, но никого, с кем бы мне хотелось поговорить. И я подумал о тебе.
— Мне приятно это слышать.
Я прислушивался, не изменится ли ее голос, когда я скажу ей, что болен. В ее голосе было удивление, неуверенность, но никакой снисходительности, а затем вежливой попытки положить трубку не последовало.
В тот вечер мы проговорили больше часа. Я махал на людей, чтобы они отошли от телефона, я говорил, что моя сестра родила близнецов, или что моя собака умерла, или что моя сестра умерла, а собака родила близнецов. В конце концов на ее мобильнике села батарейка. Я разговаривал с ней и раньше, в гимназии, на переменах, но это все было о том, как прошли каникулы или там об учителях, которые нам обоим не нравились.
Я никогда не пытался за ней ухаживать. Что толку? Хотя она мной интересовалась, все бы кончилось одними поцелуями, вряд ли мне светило что-то большее.
Тем вечером, ложась спать, я подумал, что, возможно, все не так уж скверно.
Через несколько недель я снова позвонил ей.
— Привет, Янус.
— Если не хочешь говорить со мной, просто скажи. Я пойму, если у тебя нет времени или желания разговаривать.
— Я с удовольствием с тобой поговорю.
— Я пойму, если ты не хочешь…
— Прекрати, Янус, я хочу с тобой поговорить, иначе я сказала бы.
— Рад слышать. Чем ты занимаешься? Чуть не спросил, как погода, но она, наверное, такая же, как и здесь.
Я всего в сорока пяти минутах езды от нее, но с тем же успехом мог быть на другой планете.
— Я лежала читала. Думаю летом поступать в педагогический, так что надо кое-что прочитать. А как у тебя дела?
— В порядке, учитывая обстоятельства. Не то чтобы хорошо, но в порядке. На мне по-прежнему испытывают лекарства.
— Они проводят на тебе испытания?
Я чуть не заплакал, услышав в ее голосе озабоченность.
— Нет, нет, не в этом смысле. Опыты на мне не проводят, им просто нужно знать, что на меня действует. Говорят, мне повезло, не похоже, что я растолстею. Вообще многие толстеют от лекарств, тут такие жиртресты ходят.
— Наверное, нужно пытаться во всем видеть хорошее.
— Можешь быть уверена. На обед у нас была лазанья, и многие руки отбили, аплодируя, поскольку в принципе она была съедобная.
Приятно какое-то время думать не о лекарствах и болезнях. Много часов спустя я все еще пребывал в мире, где самой большой моей проблемой было решиться пригласить куда-нибудь девушку, купить правильную одежду, напиться и не облажаться.
Я не хотел ей надоесть, поэтому выждал месяц, прежде чем снова позвонить. Она была рада меня слышать, так она сказала, но нас быстро прервали. Потом она послала мне письмо, где объяснила, что ее мать вошла в комнату, она запаниковала и спрятала мобильник под одеяло. После этого мы начали переписываться. Я думал, все ограничится парой писем, но она продолжала писать. Я привык к тому, что письма приходят. Лежа ночью после приступа, привязанный, в блевотине, я думал о ней. Я представлял ее руку, выводящую на бумаге слова — ради меня. Я был тем, кому стоило писать.
Настала ночь. Свет в окне погас. Я выкурил пару сигарет, лег за деревом и уснул. Когда я проснулся, всходило солнце, снова ездили машины. Идущие на работу люди смотрели на меня. Они наверняка видели пьяную свинью, не дошедшую до дому после загула. Время шло, из подъезда напротив выходили люди. Юная мать с маленьким мальчиком. Ее велосипед припаркован у стены дома, она отпирает замки — один на колесе и две цепи вокруг сточной трубы, сажает ребенка в детское кресло, целует в лоб и трогается с места. Дверь подъезда снова открывается. Выходит сестра Амины, на голове — черный платок, на спине — рюкзак. Я встаю, ноги затекли от долгого сидения. Иду за ней. Перехожу дорогу по диагонали и перехватываю ее чуть дальше по улице. Увидев меня, она слегка пугается, крепко сжимает школьный портфель и прибавляет шаг. Я иду рядом.
— Я просто хотел поговорить.
— Мне нечего сказать.
— Что случилось с Аминой?
Она замедляет темп, оглядывается:
— Не будем останавливаться.
Она натягивает платок.
— Я не хотел тебя пугать.
— Все в порядке, это от неожиданности. Ты долго ждал?
— Со вчерашнего дня.
— Со вчерашнего дня?
— Да.
— Тогда, наверное, мне надо с тобой поговорить…
— Что случилось с Аминой?
— Случилось? Что ты имеешь в виду?
— Она мне больше не пишет. Почему она мне больше не пишет?
— Я не знаю, я давно ее не видела.
— Почему?
— Трудно объяснить. Все так… сложно. После ее замужества.
— Когда… когда она вышла замуж?
— Примерно полгода назад. С ее мужем не так-то просто.
— В каком смысле не просто?
— У него другой взгляд на вещи. Он курд, как и мы, но…
— Где они живут?
— Я не знаю, правда не знаю. Я не… Мы с ее мужем не очень ладим. Он не хочет, чтобы мы виделись.
— У твоей матери есть адрес?
— Да, но даже не надейся. Не проси ее об этом. Ради Амины.
— Как же мне ее найти?
— Я не знаю. Если найдешь ее, скажи, что я скучаю и что я больше не буду вмешиваться. Просто хочу ее видеть.
Я даю ей адрес моего брата, прошу позвонить, если она что-нибудь узнает. Но она сомневается, что ей это удастся.
Она снова оглядывается. Слегка мне улыбается:
— Удачи…
Переходит дорогу и исчезает за углом.
Я возвращаюсь в квартиру брата. Дрожу всем телом. Принимаю таблетки и ложусь на диван. Просыпаюсь только к вечеру. Беру куртку и выхожу на улицу.
6
У меня нет конкретной цели. Я просто знаю, что мне нужно куда-то идти. Я не могу думать, когда сижу. Амина вышла замуж. Черт возьми, она курдянка, и ей за двадцать. Мне нужно начать думать, как думают по эту сторону больничных дверей.
Я иду по направлению к Нёребро.[1] По Нёреброгаде. Покупаю шаверму и айран, такой турецкий йогурт с солью, мне о нем писала Амина. Странный вкус, но это как раз то, что нужно к соусу чили. Ем, сидя за деревянным столиком под голой трубкой лампы дневного света. На стене напротив — плакат с пляжем и пальмами, рядом с ним — изображение Мекки. Люди входят, заказывают шаверму, фалафель, картофель фри, некоторые курды знают хозяина, здороваются с ним: салам алейкум. Вот дверь откроется, и войдет Амина с подругой. Она меня не узнает, по крайней мере сразу, мы давно не виделись. И я к ней не побегу, останусь сидеть со своей шавермой. И тут она меня заметит и подойдет к столику. Это могло бы случиться, это же маленький город, а Нёребро еще меньше.
На Вестеброгаде, рядом с Центральным вокзалом, я вижу знакомого. Это не то чтобы случайность, насколько я знаю, он всегда здесь стоит. Я останавливаюсь чуть поодаль, не знаю, хочется ли мне с ним здороваться. На голове у него черный берет, из-под которого сзади свисают жирные волосы, футболка надета на свитер, на другие футболки, грязные черные джинсы поверх военных сапог. Одна рука в кармане, я знаю, что он никогда ее не вынимает. Другая вытянута в сторону идущих мимо людей.
Проходит женщина, в юбке, с короткими светлыми волосами, под мышкой — папка. Он делает шаг вперед, почти дотрагивается до нее:
— Дай монетку!
Она делает вид, что не замечает его, и проходит мимо. Он провожает ее взглядом, затем начинает громко говорить, уставившись в землю:
— Двадцать три минуты и восемнадцать секунд, ровно восемнадцать секунд.
Он еще что-то бормочет, я не понимаю что. Не похоже на настоящие слова. Отступает на два шага и поворачивается вокруг своей оси. Останавливается, перестает бормотать: заметил новую жертву. Молодой человек в джинсах и с рюкзаком направляется в его сторону.
— Дай монетку!
Мужчина виновато улыбается и, беззвучно произнеся «нет», уходит в сторону вокзала. Йоханес кричит ему вслед:
— Ты принцеска, что ли, да? Во дворце живет, он сказал, да? Чертова принцеска!
Я уже отворачиваюсь, когда он замечает меня. Хромает в мою сторону.
— Эй, Янус, Янус! Это ты, чувак?
— Как дела?
— Нормально. Давненько не виделись, а?
Пару лет назад Йоханес лежал со мной в больнице. Его нашли в сугробе, застывшим, как сосулька, решили, что он не может о себе позаботиться, и положили. Он, бывало, бредил дни напролет. А иной раз голова у него была абсолютно ясная. Он хорошо играл в шахматы, мы часто с ним играли, и он обычно выигрывал. Но я выигрывал у него в покер. В больнице мы играли на спички, думаю, их можно было исчислять миллионами. Его откормили, он стал получше выглядеть, скулы торчали уже не так воинственно. Прошло несколько месяцев, и он сбежал через окошко в ванной. Открутил шурупы пальцами и вылез. Никто не понял, как ему удалось пролезть через такое маленькое отверстие.
— Пойдем выпьем, выпьем, принцеска моя?
— Пойдем, если обещаешь не называть меня своей принцеской.
Я иду за ним по улице, он лезет в карман, изучает сегодняшнюю выручку, маленькую горстку монет.
— Народ жадный такой стал. Раньше почти все хоть что-то давали, хоть пятьдесят эре. А теперь редко кто подает.
— Ты никогда не задумывался, что, может, тебе и больше народу подавало бы, если бы ты на них не орал?
— Кто-то же должен сказать им правду…
Йоханес ведет меня в бар. Это ирландский паб, освещение приглушенное, кругом — имитация темного дерева. На стенах — железные таблички с марками импортного пива: «Гиннесс», «Килкенни», «Тетлис». Народу немного. За одним из столиков — молодые бизнесмены, галстуки ослаблены, пиджаки — на спинках стульев. Пьют импортное пиво из высоких стаканов. На маленькой сцене с караоке — никого, рядом экран, звук выключен, на экране — юная пара, бегущая по пляжу, над словами прыгает мячик, указывая, когда их нужно петь. У стойки какие-то парни разговаривают с барменом. Они следят за футбольным матчем по телевизору, висящему на стене.
Мы садимся за противоположный конец стойки. Бармен что-то говорит своим друзьям и делает рукой движение, которое должно намекать то ли на драку, то ли на секс. Они смеются. Затем он лениво переводит на нас глаза. Медленно идет в наш конец. Бармен лысый, с маленькой козлиной бородкой и обозначившимся пивным животиком, прикрытым футболкой с надписью «Man United». Сначала он смотрит на Йоханеса, затем на меня. Йоханес склоняется над стойкой и кричит:
— Нам два… пива. Больших.
Бармен собирается что-то сказать, но не говорит: неохота. Идет к пивным кранам и наливает.
Я вынимаю сигареты, угощаю Йоханеса, даю ему прикурить.
— Как на улице, все так же?
— Нет, жестче. Намного жестче.
Он прищуривается, как бы подчеркивая свою мысль, а может, это тик. Здесь, в стоячем воздухе бара, очень сильно слышен его запах, кислый запах мочи и грязи.
Бармен ждет, пока осядет пена, доливает, ставит пиво перед нами. Йоханес роется в кармане, но явно испытывает облегчение, когда я вынимаю деньги. Бармен приходит со сдачей, затем возвращается к матчу.
Йоханес пробует пиво, смачивает губы.
— Люди были добрее… А теперь, если ляжешь спать в чьем-нибудь подъезде, они вызывают полицию.
— Наверное, им не хочется, чтобы вы там валялись, ссали и блевали.
— Таким свинством я никогда не занимаюсь. Я всегда выхожу, чтобы пописать. Спроси кого хочешь.
— Я тебе верю.
— Не знаю, что случилось с людьми, раньше они нас жалели, хотели помочь. А теперь они нас ненавидят…
Раньше была одна пожилая дама, она иногда проходила мимо и давала мне бутерброды, паштет со студнем, хлеб с сыром, что-нибудь такое.
— Она была хорошим человеком.
— Она была потрясающим человеком, ангелом. Ну ладно, иногда, может, больше нужна была десятка или пиво. Но все равно, стояла, делала для такого, как я, бутерброды. Наверное, она теперь на небе…
Йоханес жадно отпивает глоток пива и вытирает рот.
— Ух, помогло. Да пей же!
Я чокаюсь с ним, он глубоко затягивается сигаретой, осушает остаток пива, а потом выдыхает дым. Затем снова перевешивается через стойку:
— Еще два!
Бармен едва поворачивает голову в нашу сторону.
Йоханес стучит кружкой по стойке, она не разбивается.
— Пива, пива, пива!
С безумным усилием бармен отрывает тело от стойки, на которой он возлежал. В этот раз идет к нам еще медленнее, словно надеется, что мы исчезнем, прежде чем он дойдет.
Смотрит с ленивым раздражением.
Йоханес снова бабахает своей кружкой по стойке:
— Налей-ка нам пива, принцеска!
Бармен хочет что-то сказать, но тут Йоханес встает со стула и смотрит ему прямо в глаза.
Таким взглядом: мне-все-пофиг-я-больной. Один из тех взглядов, что никогда как следует не выходят в кино.
Бармен молча возвращается и наполняет кружки.
— Большие!
Он ставит перед нами пиво, избегая смотреть в глаза. Я кладу деньги на стойку, но он их не берет, он уже в другом конце бара.
Мы чокаемся, и Йоханес снова осушает полкружки.
— Самое худшее — это зима, ненавижу зимы. Я до сих пор не чувствую пальцев ног, они до сих пор как заморожены.
— Суровая зима была?
— Я чуть не откинул копыта. Люди думают: ой, как здорово, у нашей принцески будет Рождество со снегом, с санками и прочим говном. А тут я лежу, как долбаный Дед Мороз. Ты знаешь Эгона?
— Эгона? Нет вроде.
— Эгон был слеп на один глаз. Мы его называли Пират Эгон, он это ненавидел.
— Может быть… я не уверен.
— Да, так они нашли его, он валялся где-то, притащили и отмыли. И он от этого помер. Он много лет не мылся, и чертова вода из него вышибла дух. Он просто не переносил этого. Годами ходил с защитным слоем грязи… Я буду следующим, не думаю, что доживу до зимы. Тогда можешь занять мое место у Центрального вокзала.
— Почему ты не хочешь лечь в больницу, хотя бы на зиму?
— Лечь в больницу?.. Ты, наверное, больной.
— Ты бы выжил, не исключено, что тебе даже жилье подыщут…
— Никто не будет мной командовать. Никогда, больше никогда.
— Разве это не лучше, чем то, что сейчас?
Он смотрит на свою свободную руку и приглушенно отвечает:
— Нет…
Поворачивается ко мне на барном табурете и смотрит прямо в глаза:
— Знаешь, что они делали с Йоханесом?
— Нет.
Его голос становится более проникновенным, ему важно, чтобы я понял, что он говорит. Его нищенская рука, та, что не в кармане, чертит в воздухе круги.
— Он был просто ребенком, маленьким мальчиком. А они сказали ему: ты не должен жить с папой и мамой, для тебя это плохо, теперь ты будешь жить с нами.
— Йоханес…
— Ты будешь жить с нами, мы будем с тобой хорошо обращаться… Правда хорошо… И ты будешь называть меня папой, Йоханес. Мы должны быть уверены, что Йоханес здоров, папа тебя посмотрит. Давай посмотрим, Йоханес, папа должен посмотреть, все ли с ним в порядке. Папа тебя обследует…
— Ты очень громко говоришь…
— Вынь его, Йоханес, и папа посмотрит, мы просто посмотрим, все ли в порядке…
— Йоханес, может, нам…
Я кладу руку ему на плечо, пробую успокоить его, но он далеко отсюда, он говорит, и изо рта летят брызги.
— А теперь посмотри на папочкин, Йоханес, можешь его пощупать. Давай посмотрим, не вырастет ли он у тебя во рту. Ласкай его, Йоханес, это твой друг пожарный шланг, маленький пожарный шланг.
Я привстаю:
— Может, нам выйти?
— Знаешь, какова сперма на вкус?
— Нет, Йоханес, не знаю.
— Посмотри, как он вырастет у тебя во рту. Правда здорово, малыш Йоханес? Он станет огромным, ласкай его, маленький блудник. Соси его, посмотрим, есть ли у тебя огонь в крови!
К нам направляется бармен, с ним идет один из посетителей, здоровый парень в летной куртке. Им плевать на меня, но Йоханеса они сдергивают с табурета.
Не говоря ни слова, они тащат его за собой через бар, он сучит ногами, пытаясь упереться.
— ТАК СОСИ ЕГО, ЛИЖИ ЕГО, ЛИЖИ ЕГО, МАЛЫШ ЙОХАНЕС, ТАМ ВНУТРИ КАРАМЕЛЬКА!
Я иду за ним. Выйдя наружу, они дают Йоханесу пинка, да так, что он вылетает на тротуар. Проходят мимо меня обратно в бар. Я помогаю ему встать. Йоханес немного расслабился, он освободился, от чего хотел.
— Никто, черт подери, не может вынести правды… Но спасибо за пиво.
— Мне тут нужно кое-что сделать, так что…
— Мне тоже надо на работу. Полиция только что слупила с меня штраф, пять сотен за попрошайничество, так что мне приходится перерабатывать.
— Увидимся, Йоханес.
— Да, ты знаешь, где я стою.
Йоханес идет к своему рабочему месту у Центрального вокзала. На Ратушной площади я нахожу автобус, который едет до Трианглен.
7
С жутким акцентом. Так она сказала. С жутким акцентом. Я сижу с одним из ее старых писем. В шкафу у брата я нашел почти полную бутылку ликера «Бейлис», отпиваю из нее и ем фуагра из банки. Письму несколько лет. Датировано ноябрем: к тому времени мы переписывались уже пару месяцев.
Знаю, теперь это кажется смешным, так что можешь смеяться надо мной, если хочешь, но я и правда сидела перед телевизором. Все лето перед тем, как пошла в гимназию. Каждый раз, когда у меня была такая возможность, то есть до прихода отца с работы, если сестра ушла к подруге, а мама стирала или была ни кухне, я сидела перед телевизором. Смотрела на ведущую, блондинку, она всегда была красиво одета — в какой-нибудь жакет или блузку с брошью. И, когда она зачитывала новости, когда она рассказывала, что цены на автобус снова выросли или что в какой-нибудь африканской стране снова волнения, я повторяла за ней. Я пробовала произносить слова в точности как она. И да, смейся, Янус, но я действительно старалась, как могла. Я правда совсем по-другому говорила до нашей встречи. С жутким акцентом. Тебе, наверное, не нравится то, что я рассказываю, но мне совсем не хотелось на первом курсе гимназии говорить как человек, который за всю свою жизнь не прочитал ни одной книги. О да, я с нетерпением жду твоих возражений в следующем письме, однако признай мою правоту: трудно представить себе главврача, говорящего пациенту: «Вах, дарагой, слюшай, я уберу сейчас твой аппендикс, да, тебе панравится, дарагой». Наверняка ты сейчас улыбаешься, и все же признай, что я права. Не знаю, может, ты сочтешь меня амбициозной, но мне просто не хочется, чтобы на мне заранее ставили клеймо.
Я много спрашивал о ее детстве. Отчасти потому, что это меня интересовало, оно, вероятно, сильно отличалось от моего, прошедшего в одном из предместий Копенгагена, где люди, может, и напивались до потери пульса, но только после того, как укладывали детей спать, и всегда из красивых бокалов.
Так я и написал, но вообще-то мне хотелось побольше узнать об Амине.
В моем районе никто не бегает, писала Амина, здесь люди бегут, только если что-нибудь стащили. Я очень над этим смеялся.
Я довольно быстро нахожу то, что хотел:
Ты спрашивал меня, каково это быть курдянкой, или турецкой курдянкой, в Дании. Как тебе объяснить?! Когда я была ребенком, то совсем не думала о том, что отличаюсь от других детей во дворе. До меня это дошло, только когда я пошла в школу. Мы тогда еще не переехали в Северо-Западный район, и в школе, кроме нас с сестрой, почти не было эмигрантов. Только один парень в старших классах, пакистанец. И вот в третьем, кажется, классе к нам ненадолго пришла другая учительница, временная. Из-за нее, в принципе, я и задумалась над тем, что я турчанка. Она не была неприятной или какой-то странной, просто все время задавала вопросы на эту тему. Рассказывала, как любит Турцию, что у нее там друг, что она снова поедет туда в отпуск. Все время говорила о том, какая, на ее взгляд, Турция красивая страна, как дружелюбны и гостеприимны турки. Сначала мне было приятно, я чувствовала себя особенной, а в третьем классе это было приятное чувство, но постепенно это стало напрягать. Мне даже позавтракать не удавалось, чтобы она не подчеркнула, что мне с собой дали «Фету» и «Борек» вместо бутерброда с паштетом. И я замечала, как странно теперь на меня смотрят другие дети. Отчасти потому, что обнаружили, что я другая, но скорее всего еще и из-за повышенного внимания учительницы.
Я сижу над письмами еще два часа, может, я уже ничего не ищу, может, мне просто нравится, когда в голове звучит ее голос.
Письма собраны. Свет выключен, я лежу и смотрю в потолок.
Я не могу уснуть в кровати, выхожу на балкон и ложусь там. Я слишком долго был взаперти. Прошел путь от жизни, в которой я мог делать, что хочу, спать, где хочу, курить и пить, что хочу, до жизни, в которой должен был спрашивать разрешения пукнуть. А если от этого я психовал, слишком много дергался или кричал слишком громко, на этот случай существовали лекарства, чтобы я прочувствовал, каково это в действительности — быть взаперти. С руками, примотанными к телу смирительной рубашкой, мочиться в штаны и всю ночь лежать в своем дерьме.
Летний вечер холодный, но всех этих одеял и пледов, всего, что я нашел, мне как раз хватает, чтобы сохранить тепло. Я курю и смотрю на звезды, засыпаю поздно.
8
Я просыпаюсь, дрожа от холода, потягиваюсь и смотрю на Копенгаген. Светит солнце, похоже, будет теплый день, но за ночь я весь промерз. Я долго лежу в теплой ванне, бреюсь и, воспользовавшись одним из дорогущих средств моего братца, укладываю волосы. Теперь я похож на человека.
Из кухонного шкафа вынимаю банку «Нескафе», но тут мой взгляд падает на кофеварку эспрессо. Вакуумный пакетик итальянского кофе, твердый, как кирпич, с красными и золотистыми буковками: что-то вроде gusto и originale. Кухонным ножом я прорезаю дырку в верхушке пакета, он издает стон. Кофе почти черного цвета, очень мелкого помола. Кофеварка большая, молочного цвета, с золотым орлом наверху. В середине торчит блестящая хромированная ручка. Еще до больницы я видел, как в таких агрегатах готовили кофе в кафе. Всегда с эдакой привычной небрежностью. Почти агрессивно выбивали кофейный осадок в ведро. Вспенивали молоко, со звуком громким, даже болезненным.
Я берусь за хромированную ручку, тяну ее, сначала в одну сторону, потом в другую, пока она не подается. Вынимаю маленькую металлическую емкость, в которую надо класть кофе. Уже хорошо. Сыплю кофе до метки и с небольшим усилием вставляю обратно. Отвинчиваю крышку сверху и наливаю прямо в брюхо машине два стакана воды. Не знаю, сколько надо, надеюсь, она сама знает, что делать.
Нажимаю на кнопку сбоку, которая загорается красным, пододвигаю стул и курю, наблюдая за ее работой. Посредине находится нечто похожее на спидометр. Стрелочка начинает медленно отклоняться вправо. Из-под крышки выходит немного пара. В самый последний момент я выхватываю из шкафа чашечку для эспрессо и ставлю под краник. Машинка пукает и испускает в чашку тонкую струйку черного кофе. Сверху образуется изящный слой светло-коричневой пены. Я пью кофе с парой ложек сахара и должен признать, это того стоило, он гораздо лучше, чем то пойло, что нам давали в больнице.
Гравий хрустит у меня под ботинками, я иду вдоль Озер. Лучи солнца ослепляют меня, отражаясь в воде, и все же я предпочитаю идти с прищуренными глазами у самой воды, а не по асфальтированной дороге наверху в тени деревьев. Я прохожу мимо скамейки, на которой, глядя на воду, сидят два парня моего возраста. Один из них выуживает из пакета две банки пива. Рядом в траве лежит его велосипед, заднее колесо до сих пор медленно крутится.
Утки выискивают что-то в зеленой воде, им мешают два диких гуся, они тоже хотят получить свою долю плавающего в воде размокшего белого хлеба.
Покой на миг нарушается бегуньей в облегающем спортивном костюме, пронесшейся мимо меня, разбрызгивая капли пота.
Черт, давненько я не был в городе. Я пытаюсь все в себя вобрать — запах еды от столиков летних кафе, теплый асфальт, бензин, загорелая девичья кожа. А я просто обычный парень, гуляю, курю сигареты до самого фильтра, и мне нужна приличная стрижка, а может, еще очки от солнца. Я много ходил, когда заболел, тогда я не знал, что болен. Так оно и не воспринималось, скорее наоборот.
Я иду к станции «Нёрепорт». Обычно, когда у меня были деньги на кармане, я ходил в ресторан «Харе Кришна», здесь, за углом. Три вегетарианских блюда у них стоили меньше пятидесяти крон. А если хотелось еще, можно было взять вторую порцию. Там можно было сидеть, сколько захочется, и они не слишком напирали на спасение, хотя я частенько уходил оттуда с цветным буклетом и приглашением в храм.
Колледж находится недалеко от станции. Я прохожу сквозь большие двустворчатые двери. Амина писала, что здание большое, она ничуть не преувеличила, снаружи смахивает на министерство. Два шага вверх, потом еще одна дверь, и вот я стою перед широкой лестницей. По обе стороны — стеклянные двери, за ними длинные коридоры. Я слышу, как где-то наверху разговаривают, нервно смеются. В мою сторону идут две девушки, одна из них тащит стопку книг. Я поднимаюсь по лестнице, второй этаж похож на первый. Еще одна лестница вверх, и стеклянные двери по обе стороны. Я сворачиваю в правый коридор. Мне навстречу идет парень с книжками в руках, я прохожу мимо уверенным шагом. Я надеялся, что здесь будет полно людей, что я смогу затеряться в массе, пока буду искать Амину. Если верить ее рассказам, любой мог зайти и сесть в классе, никто и внимания бы не обратил. Но здание почти пустое.
Коридоры светло-светло-желтые, я останавливаюсь перед большой доской для объявлений, висящей на стене. Там список экзаменов и фотографии с какого-то праздника, на них люди, переодетые в ковбоев и индейцев. Какой-то парень пытается закосить под индианку с длинными черными косами, видно, что напился и отрывается по полной.
Иду дальше по коридору. Пытаюсь не подавать виду, что ищу кого-то. Боюсь, что, если у меня будет ищущий вид, кто-нибудь подойдет и попросит у меня документы. Подумает, что я какой-нибудь козел, хочу спереть у них проектор.
Вернувшись на первый этаж, я иду за тремя девушками вниз по лестнице в подвал. Короткий коридорчик, выкрашенный в белый цвет, приводит к двери с надписью «Столовая».
Потолок низкий, освещение тусклое. Иду по залу, смотрю по сторонам, ищу Амину. Выискиваю темненьких девушек. Делаю вид, что у меня есть серьезные причины здесь находиться: может, я ищу кого-то, с кем должен встретиться. Но, похоже, этого кого-то еще нет. Покупаю чашку кофе и сажусь за столик у выхода.
Листаю забытую кем-то газету, одновременно поглядывая на дверь. В газете написано, что следующие два дня будет тепло, что в этом году лето раннее. Смотрю на студентов. На тех, с кем училась Амина. Они сидят маленькими группками, разговаривают, смеются. Пьют кофе, смотрят в бумажки. Сессия, одни выглядят нервными, другие — уже расслабившимися. Один сидит за ноутбуком. Они не такие, какими я их себе представлял, я представлял такие миниатюрные подобия сухих учительских типажей. Но эти, похоже, напиваются, как все, и трахаются в подсобках. Я просидел так пару часов, люди медленно сменялись, но Амина так и не пришла. Я выхожу из столовой, поднимаюсь по лестнице и иду по каким-то коридорам, пока не нахожу табличку с надписью «Инспектор». Два раза стучусь и открываю дверь.
За компьютером сидит женщина. Дружелюбный взгляд. Ей, наверное, за пятьдесят, одета в красный свитер с воротом под горло.
Я спрашиваю об Амине, когда у нее экзамен, говорю, что хочу сделать ей сюрприз, когда она выйдет. Сначала она не хочет мне ничего говорить, объясняет, что не может давать такую информацию. Но затем бросает на меня еще один взгляд. И улыбается, будто хочет сказать мне, что понимает, как тяжела любовь, преодолевающая культурные барьеры. Набирает что-то на компьютере. Амина? Она отчислилась уже больше полугода назад. Смотрит на меня удивленно, я должен бы знать, если я Ромео в истории, которую она успела сочинить. Я извиняюсь и ухожу, прежде чем она начнет задавать вопросы.
Когда я выхожу на улицу, солнце больше не греет. Я иду обратно к квартире брата. То, что она бросила учебу, ничего не значит. Многие бросают. Молодые люди переходят в другие институты, или им надоедает учиться. Я снова просмотрю письма, я, наверное, найду что-нибудь. Я повторяю это много раз и надеюсь, что мой мозг меня слушает.
9
Я сижу на большом кожаном диване моего братца. Пытаюсь сбавить темп.
За последние пару дней у меня было больше впечатлений, чем за последние несколько лет. И что-то идет не так. Я чувствую запах дыма сигарилл, очень слабый. Как если думаешь о Рождестве и словно чувствуешь вкус глинтвейна и запах свечей. Я один в квартире, но что-то не так. Я знаю свое тело, свою голову. Я знаю лекарства, знаю, что от чего помогает. Болезнь быстро становится самым большим интересом в твоей жизни, твоим хобби. Пытаешься держать ухо востро, знаешь, что может случиться, если врачи поменяют дозировку. Если они захотят тебя обмануть. Разница между сорока и шестьюдесятью милиграммами огромна. Ципрамил, зипрекса, труксал, я знаю, как они работают, что чувствуешь, как пахнет пот, когда сидишь на одном, как поникает взгляд, как трудно говорить, когда сидишь на другом. А сейчас что-то идет не так. Я отмечаю все обычные симптомы. Сухость во рту, потливость, дрожь. Я не сразу понимаю, что это. Голод. Когда привыкаешь к трехразовому питанию, как-то забываешь, что надо есть, если проголодался.
На улице еще светло. Прохладный летний вечер. Иду к «Севен-илевен», что на углу, стою в очереди, как приличный человек. Два парня хотят купить чего-нибудь, чем можно разбавить водку, лежащую у них в пакете. Я смотрю на освещенную вывеску с колой и кусочками пиццы, я не привык к такому выбору. В витрине за стеклом лежат сосиски. Разных размеров и толщины, некоторые завернуты в бекон. Лежат там, толстые и бледные. Мужчина передо мной покупает сигареты и женский журнал. Сосиски похожи на отрезанные мужские пальцы. Отрезанные прямо над суставами. Видны жилы и кровь.
— Что будете брать?
Продавец улыбается мне:
— Сосиски?
Смотрит на них:
— Хотите сосиску?
Берет металлические щипцы, переворачивает пальцы поджаренной стороной вверх.
— Хотите с сыром?
Он дотрагивается до одной, из нее течет кровь. Я выхожу. Тошнота подступает к горлу. Прислоняюсь к стене дома, живот сводит судорогой, меня тошнит желтоватой жидкостью. Я пытаюсь уйти от этого, шаг за шагом, прочь, продолжать движение. Пальцы не выходят у меня из головы. Большие пальцы, отрезанные от больших рук, какими я помню руки отца. Большие мужественные пальцы, на больших мужественных руках, такие, которые могут и ласково погладить, так что ладонь накроет всю голову, и отвесить пощечину, так что свет померкнет в глазах. Его руки, по большому счету, — единственное, что я о нем помню. Как-то один психиатр спросил, бил ли меня когда-нибудь отец. Насколько мне было известно, не бил. Тогда он спросил, хотел бы я, чтобы мой отец бил меня, или нет. Думаю, он и сам понял, насколько это глупо. Он попытался исправить положение туманной фразой о каком-то недостатке физического контакта с мужчиной. Я спросил: может, ему самому не хватает физического контакта с мужчиной? В заднице. После этого он оставил меня в покое.
Я пытаюсь не уходить далеко от Эстебро. Хожу по району, мимо больших посольских квартир поблизости от станции. Иду по улицам, застроенным виллами, где из-за подстриженных изгородей доносится запах шашлыка, мимо классиков, начерченных мелом на плитках под навесами для машин. Мимо кафе на Эстеброгаде, где за столиками на тротуаре ужинают люди, пытаясь поймать последние лучи солнца.
Через пару часов я стою у гавани. Тошнота отступила, и я снова хочу есть. Нахожу магазинчик, покупаю четыре шоколадных батончика. Пересчитываю деньги: осталось чуть меньше ста крон. Это меня не волнует, деньги давно перестали быть чем-то реальным. В больнице нам бы могли дать ракушки, например, или хоть щепки, неважно, лишь бы на них можно было купить табак. Я сажусь на скамейку и ем шоколад. Смотрю на воду, на большие индустриальные здания на берегах. Выкуриваю две сигареты. Заходит красно-оранжевое солнце. Мимо медленно проплывает баржа. На таком расстоянии она кажется пластмассовой игрушкой, лежащей на воде в ожидании момента, когда ребенок вынет ее из ванны. Я один. Не так, как когда закрываешь двери и не хочешь, чтобы тебе мешали. Совсем один. Мне может стать плохо, и никто не заметит. Я могу упасть в темную воду, а на корабле этого не увидят. До больницы я очень ценил покой, теперь мне не хватает общества других людей.
Когда вернусь в квартиру, позвоню матери. Просто дам о себе знать. Скажу, что у меня все хорошо. Я не видел ее несколько лет и столько же не говорил с ней. Это не ее вина. Это я попросил ее не появляться. Не приходить в больницу. Не мог этого вынести, не мог смотреть ей в глаза. Даже когда она улыбалась и делала вид, что все хорошо. Даже когда я был в приличном состоянии и мы могли поговорить о том о сем. Всегда я видел в ее глазах, кто я такой. Или что я такое. Что все пошло не так. Что перед ее глазами проходит всё: будущее, внуки, Рождество с жарким из утки. А я сидел и пытался ее подбодрить, рассказывая, что у новых таблеток не так много побочных действий. Что я от них не так сильно потею или не так трясусь, как от других. И она старалась выглядеть довольной, она старалась. Когда тебя окружают больные люди, это твой мир. Можно быть более или менее больным. Но это мир, который ты знаешь, люди больны, а персонал, санитары и врачи, просто играют свои роли, выполняют определенные функции, это мебель с кожей. Мир болен. А тут воскресенье, приходит мама с пирожками и напоминает тебе, что все могло бы быть иначе. И я попросил ее не приходить. Я сказал, что сам позвоню ей, когда снова буду готов ее увидеть. Этот день не настал.
Я встаю со скамейки. Пробую особенно не задумываться о том, как найду обратную дорогу до квартиры брата. Если перенапрягу голову, окажусь где-нибудь в Швеции. Предоставляю ногам вести меня обратно. И хотя они наверняка дают круг, я дохожу. Ноги помнят дорогу.
У меня на коленях большой дизайнерский телефон. Я снова сижу на диване брата. Нашел бумажку с маминым телефоном.
Я провожу рукой по глянцевой коже дивана. Нежный коричневый цвет. Те коровы не ходили вблизи от изгороди из колючей проволоки. Расправляю клочок бумажки, на котором записан номер.
Снова отставляю телефон. Слишком поздно. Я позвоню ей завтра. Сейчас уже слишком поздно.
10
В какой-то момент я усомнился, что выбрал верную дорогу, но вот стою перед домом. Он все такой же: большая двухэтажная фахверковая вилла, красный кирпич, черное дерево. Разросшаяся, неухоженная живая изгородь. Я открываю калитку и направляюсь вокруг дома к лестнице в подвал. Стучусь три раза в дверь, никто не отвечает. Стучу снова, сильнее.
Дверь открывается, на пороге стоит Дэвид. С помятым лицом, словно он только что оторвал голову от подушки. На нем труселя с большой буквой «S», как у супермена из комиксов, и белая майка. Руки тонкие, белые. Он обзавелся пивным животиком. Волосы теперь короткие, покрашены в черный и торчат во все стороны. Он щурится на солнце, подвал позади него темен. Сначала он будто ни черта не понимает, потом узнает меня:
— Янус, эй, это ты, Янус?
Дэвид не мог ужиться с родителями и еще в гимназии снял подвал на вилле, владельцев которой все равно никогда не было дома. Мы проводили там ночи, болтали, слушали музыку, пили, курили гаш. У Дэвида почти всегда был ящик пива и пара граммов покурить. Утром я садился на свой старый женский велосипед и, покачиваясь, ехал домой по дорожкам среди вилл.
Дэвид делает пару шагов навстречу и обнимает меня. Я пытаюсь ответить ему тем же. Чувствую его член у своего бедра, Дэвид, наверное, только проснулся. Он делает шаг назад и смотрит на меня. Улыбается и кивает пару раз, берет меня за локоть и тянет в дом, в темноту. Воздух в подвале затхлый, спертый. Когда глаза привыкают к сумраку, я узнаю все: плакаты с рок-группами, у которых годами не выходило ничего нового; черные мусорные мешки, заслоняющие окна, так что Дэвид может бодрствовать всю ночь и спать днем; продавленный диван и изразцовый столик, принесенный с помойки, весь в отметинах от сигарет. Пустые пивные банки и упаковки от пиццы тоже на месте. Дэвид находит на полу брюки и натягивает их.
— Как приятно тебя видеть, Янус.
Он наконец-то проснулся и широко улыбается:
— Да ты же все тут знаешь. Садись.
Я обхожу столик и падаю на мягкое кожаное сиденье. Тело еще не забыло, каково это, утопать в глубоком диване. Я столько раз здесь сидел, пока Дэвид стоял у холодильника.
— Пивка попьем?
Это не вопрос, он уже вынул пиво из холодильника и открывает зажигалкой. Отщелкивает крышки в раковину, одна попадает, другая — нет. Кухня Дэвида состоит из двухконфорочной плитки на столе, старого шумного холодильника и стальной мойки, которая, по всей видимости, предназначалась когда-то для грязных кистей и масляных тряпок. На полу внахлест лежат остатки старых ковров.
Дэвид протягивает мне пиво и садится в кресло напротив. Мы делаем по глоточку и закуриваем, все по-старому.
Когда-то Дэвид был крутым парнем. На пару лет старше нас всех, со своим жильем, он устраивал гулянки до рассвета. Это он познакомил меня с Буковски, Генри Миллером, Хантером С. Томпсоном, не говоря уж о ночных барах: «У Луизы», «Раунсборг», «Времена года». Он мог прийти в гимназию после пятидневной пьянки, с мятой сигаретой во рту и, широко улыбаясь, спросить, не пропустил ли чего.
Дэвид протягивает руку, мы чокаемся бутылками.
— Черт, как здорово тебя видеть, я жутко переживал из-за того, что мы потеряли связь.
— Да…
— Что с тобой случилось?
— Пришлось взять тайм-аут.
Я выдыхаю дым через нос и смотрю на бутылку: думаю, как лучше соврать.
— Я больше не мог ходить в школу, вообще учиться. Взял и поехал автостопом по Европе. А потом — в Индию, в итоге оказался в Гоа. Последние пару лет работал в одном баре на пляже.
— Ешек, наверное, проглотил немерено. Туда ведь за этим едут?
— Да тебе в страшном сне не приснится, сколько колес я проглотил. Но потом устаешь, когда каждый вечер мозг выносит.
Дэвид понимающе кивает, это ему понятно.
— И потом, там такая охренительная красота, что это просто не нужно. Там такие заходы солнца, ты себе представить не можешь. А как ты?
— Да ничего особенного. Зажигал, выпил миллион бутылок пива и попытался разобраться, чего хочу.
— Разобрался?
— Не совсем, решил дать себе еще немного времени… Черт, как приятно тебя видеть, чувак, сколько же времени прошло! Как вспомнишь всю ту хрень, что мы творили…
А я сижу и думаю, что за хрень такую мы творили. Чем-то мы наверняка занимались, но я не помню. Вспоминается только настроение и картины. Лицо Дэвида светлеет, он склоняется над столиком и проливает немного пива, вытирает ребром ладони.
— Помнишь, на станции «Ислев»? Вот это была круть. Черт, какие же мы были косые, выпили, наверно, бутылку виски на двоих.
Я улыбаюсь и понимающе киваю: о да, чувак, конечно. По-прежнему ни хрена не помню.
— Стоим мы на станции. Зачем? Не знаю, зачем нам поезд понадобился, но, наверное, зачем-то был нужен. Ё-мое, какие же мы были косые, чувак, ты был просто в отключке. Сказал, что видишь сквозь свою руку. А я спрашиваю, что ты затеваешь. И ты говоришь, что можешь все, и хочешь это доказать. Говоришь, что остановишь поезд, помнишь?
— Да помню, черт возьми…
— И тут ты прешься на рельсы, ё-мое, ты едва на ногах стоял. А я пытаюсь сказать тебе, что этого делать не надо, не надо этого делать, но тебе плевать, ты говоришь: подожди, посмотри, как я остановлю поезд. А я говорю: может, стоит начать с чего-нибудь поменьше, чем поезд, может, с мотоцикла?
Я снова понимающе смеюсь: был, дескать, в полном улете.
— А когда я привел тебя в чувство, помнишь? Ты так дернул со станции, и вниз по лестницам…
— Точно, черт возьми. Точно…
— А когда я спустился к тебе, ты стоял посередь дороги, ты остановил машину. Черт, чувак, ты помнишь? Стоял там с вытянутой рукой, как Супермен, остановил «БМВ». И парень этот стоит, орет на тебя: какого черта, да если ты не отойдешь, он тебе по башке надает…
— Точно, блин, орал на меня. Точно…
— А я подхожу и тащу тебя, тащу от машины, а этот парень в нее снова залезает. Но только он собирается уехать, как ты открываешь заднюю дверь и блюешь прямо на его кремовые кожаные сиденья.
— Точно, черт возьми…
— А потом говоришь: «Следи за дорогой» — и закрываешь дверь. И мы убегаем.
Мы смеемся: и чего мы только не творили, отвязные, похоже, были парни.
Но мне тогда было всего восемнадцать, большой ребенок, который думает, что курить — круто.
Дэвид встает и вынимает из холодильника еще две бутылки пива.
— Или тот случай, с девушкой, которую мы пригласили домой, помнишь ее? Как ее, бишь, звали, Катя, или как-то так, то ли из Эстонии, то ли из Латвии, из какой-то из этих отстойных стран.
Он снова отщелкивает пробки в мойку, на этот раз обе попадают.
— Помнишь, мы ее встретили на станции «Нёрепорт», она отстала от подружек. Они ее бросили. А мы ее домой повели. Че-е-ерт, помнишь…
К счастью, это не вопрос. Он продолжает рассказывать; думаю, он давно ни с кем не разговаривал. Похоже, подвал утратил свое очарование, с тех пор как нам всем перевалило за двадцать.
— Ты раскрутил ее, и она разделась. Мы пили сводку, а ты швырял в нее картами, говорил, что она нас разочарует, если не покажет чего-нибудь.
— Точно, блин.
— И сначала она не хотела, но ты продолжал ее раскручивать. Говорил, что она красивая, но не должна быть такой занудой, помнишь? Мы друзья, какие могут быть стеснения? Черт, как ты зажигал в тот вечер.
Я развел руками, как бы говоря: «Что было, то было» или «Я такой».
— Но — респект тебе — ты ее все-таки раскрутил, она сняла блузку. И сверкала своими беленькими сиськами, сидя на диване. Мы поставили музыку, и ты спросил, не хочет ли она для нас станцевать, и что она очень красивая и замечательная, и что она нас так порадует, если потанцует.
Я хватаюсь за голову: ох, чего только мы не творили. Поднимаю пиво за девушек топлес.
— Думаю, ты ей нравился, Янус. Помнишь, как она начала покачиваться под музыку? А ты продолжал: покажи нам свое красивое тело, покажи мне свои ноги, — и она брюки сняла. Она пыталась сделать это соблазнительно, но повалилась на диван и потом пыталась крутиться, чтобы выглядеть сексуально. Мне ее было почти жаль, но ты продолжал.
— Черт возьми, а что мне было делать? Скучно же…
— Как ты зажигал, чувак! В итоге на ней остались одни трусы, помнишь? Такие маленькие девчачьи ути-пути-трусики, наверное страшно модные в Эстонии. Но их она снимать не хотела, и ты рассердился.
— Ну, честно: что мне было…
— Потом ты начал в нее монетки кидать. И она так расстроилась, что мне пришлось ее утешить. И когда я закончил с ней и настала твоя очередь, ты уже был в отключке. Наутро она смоталась, побив тарелки в кухне.
Я помню, была девушка. Когда я напрягаюсь, то помню, как она сидит с голыми грудками, съежившись на диване, и помню, я делал вид, что сплю, пока они там кувыркались.
Я помню, как первый раз встретил Амину. Нас познакомил Дэвид. Он стоял и разговаривал с симпатичной такой герлой, когда я подошел к ним стрельнуть сигаретку. Она сказала, что ее зовут Амина и что она ходит в наш класс и, наверное, сможет мне помочь с заданием по истории: я должен был написать об Ататюрке.
— Ты Амину давно видел?
— Амину? Да, очень давно. Не думаю, что она жаждет меня навестить. А что?
— Да подумал, дай встречусь с ней, раз уж я в городе.
— А что вообще там у вас произошло? Все думали, между вами что-то есть. Вы были очень красивой парой. Честно.
— Ничего, ничего не было…
— Жаль, она была симпатичная. Но вообще, я думаю, с этими турками все непросто. Вдруг заявляются братья и — член отрывают.
— Ее брату тогда было четыре года или пять, так что дело все же не в этом… Не знаешь, как мне ее найти?
— Ты не пробовал спросить у ее родителей?
— Турки, ну ты знаешь…
— А…
На губах скабрезная ухмылочка: дескать, он меня вычислил, экзотики мне захотелось.
— Может, тебе стоит попытать ее подружку. Сейчас посмотрю…
Он поднимается и идет к шкафчику у двери. Открывает дверцу, шкафчик забит, бумаги падают на пол: счета, листы А4, исписанные синими чернилами.
— Вот. Наш школьный альбом.
Это зеленый альбом с фотографиями учеников нашей гимназии.
Он проходит мимо холодильника, берет еще два пива и протягивает мне альбом.
Альбом потрепанный, похоже, его хорошенько полистали.
— Амина очень дружила с Марией из нашего класса. Если они до сих пор общаются, у Марии должен быть ее телефон. Но ты же знаешь девчонок, может, они теперь друг друга ненавидят…
Я листаю альбом. Потом закрываю его.
— Можно, я возьму его с собой?
— Не хотел бы его отдавать, могу записать для тебя адрес.
— Спасибо, но я хочу посмотреть фотографии, столько времени прошло.
— Да смотри на здоровье, у нас куча времени.
— Можно мне взять его, ну пожалуйста. Я верну.
— Мне бы не хотелось с ним расставаться.
— Да брось…
— Нет… я люблю его иногда полистать.
— Я все же его возьму.
Он смотрит на меня, словно не вполне понимая, что происходит.
— Ты шутишь…
— Я беру его.
Он встает с кресла и тянется за альбомом. Я толкаю его в грудь, он падает обратно в кресло. Пытается протестовать:
— Я…
— Я беру его. Все ясно?
Встаю, благодарю за пиво, за гостеприимство, извиняюсь, что не могу задержаться. Беру альбом с собой и оставляю Дэвида в кресле.
11
Вернувшись в квартиру, я усаживаюсь с сигареткой на балконе и листаю фотоальбом. Многих узнаю, тех, кто ходил в младший класс, девочек, которых я считал симпатичными. Дохожу до своего класса. На фотографии я говорю что-то парню, стоящему рядом ниже. На мне джинсы и темная кофта с капюшоном. Я выгляжу очень молодо, все выглядят очень молодо. Я думал, мы были старше. Теперь у них взрослая работа, они учатся в университетах, у некоторых, наверное, дети есть. Много воды утекло, но я не чувствую, что стал старше. Если бы я сейчас пошел в гимназию, все бы там стояли, смеялись, курили и говорили о несданных домашних заданиях, о выпивке и новых дисках. Сидели бы за столами, пытались списать задание, до того как начнется урок, или тискались втихаря. Я бы подошел, сказал: привет; и меня бы похлопали по плечу: где ты был? Просто приболел немного, ничего страшного. Все бы пошло по-прежнему. Я боялся бы переборщить с прогулами, боялся бы экзаменов. Сидел бы в классе, смотрел на девочек, рисовал рыбок в галстуках и шляпах, шептался бы с одноклассниками.
Дохожу до фотографии класса Амины. Двадцать с лишним человек стоят в три ряда, и слева с краю — учительница. Дэвид — второй справа вверху, у него длинные волосы, на нем футболка с группой Soundgarden, он украдкой делает неприличный жест, что, видно, ускользнуло от внимания фотографа. Амина сидит в первом ряду. Она тоже выглядит моложе, чем мне казалось, просто большая девочка. Как часто, лежа привязанным, когда все тело болело, я пытался воссоздать в памяти ее лицо. Я начинал с волос, пробовал представить себе, какого они точно цвета. Коричневатого, каштанового с рыжеватым отливом. Не один тон, а несколько, переливающиеся, не крашеные, длиною до плеч. Когда мне удавалось представить себе волосы, я начинал чувствовать аромат ее шампуня, который на самом деле мне довелось обонять всего несколько раз, и тогда это было не важно. Затем я двигался вниз. Лоб, кожа, оттенок которой, за недостатком лучшего определения, я называю миндальным. Не очень темная, но не такая, как у обычных датских девушек. Здоровый матовый оттенок, без блеска, какой бывает у многих девочек-подростков. Нос — ни большой, ни маленький. Намек на ямочку на подбородке. Уши, скромные золотые сережки-винтики, иногда — жемчужные. Полные губы, я помню их улыбающимися. И наконец — глаза. Доверчивые. И все же в них было что-то, не поддающееся определению, будто она что-то знала. Маленькая тайна, которую она в себе носила, в то же время не создавая между собой и другими иронической дистанции. Глаза — самое сложное. Живые глаза. Если бы я был художником, думаю, я никогда не смог бы передать их достаточно верно.
Я всегда был уверен, что чего-то не хватает. И проклинал себя за то, что мало смотрел на нее, когда ходил в школу. Что не удосужился потратить время на то, чтобы как следует изучить ее лицо, составить карту, чтобы ни в чем не сомневаться.
Я нахожу на фотографии Марию. Это не сложно: она сидит в первом ряду, смеется и держит табличку с надписью «3 в». Я помню ее со школы, потому что она всегда ходила с Аминой, иначе я бы ее забыл. Фотография черно-белая, но я помню, что Мария светло-русая. При желании можно назвать ее симпатичной, но она не была ни красивой, ни некрасивой. Она выигрышно смотрится на фотографии, потому что молода и смеется, у нее большая грудь, смело вырисовывающаяся двумя холмиками на вязаной кофте.
Я звоню по номеру под именем Марии, адрес — какая-то улица в Херлеве.
После двух гудков трубку снимает женщина, наверное ее мать; судя по голосу, ей где-то за пятьдесят.
— Это Дэвид, я учился с Марией в гимназии.
— Дэвид…
На другом конце линии пауза. Затем она спрашивает с изрядной долей скепсиса в голосе:
— Это который длинноволосый?
Я вежливо смеюсь. Ха-ха-ха, как продавец телефонов.
— Да, у меня были длинные волосы.
— Ну да, следил, наверное, за модой-то.
Судя по тону, она думает, что задала смешной вопрос. Считает, ей позволительно подшучивать над молодежью.
— Так ты постригся или они у тебя теперь до колен отросли?
— С волосами пришлось расстаться. И с серьгами тоже. В банке этого не любят.
— А, так ты теперь работаешь в банке? Наверное, интересно….
Она произносит это без тени иронии.
— На самом деле, да. Я занимаюсь кредитами, так что все время что-то новое происходит.
— Это здорово. А чем я могу тебе помочь, Дэвид?
— Да мы тут хотим собраться, наш выпуск, и я подумал, у вас наверняка есть адрес Марии, мы ей пошлем приглашение.
— Ну разумеется, конечно… Приятно, наверное, будет встретиться. Это вы здорово придумали.
— Да, нам тоже нравится.
Она дает мне адрес, я записываю.
— Может, вы нам и телефон дадите, мы собираемся обзвонить всех и убедиться, что приглашения дошли. Жалко, если кто-то пропустит встречу.
— Да, конечно, конечно.
Она диктует, я записываю. Говорит, что у Марии есть мобильный, но она не помнит номера. Советует приготовить для праздника канапе из сыра, и мы вежливо прощаемся.
12
Каждый раз я попадаю на автоответчик: «Привет, это Мария, к сожалению, меня…» Кладу трубку, звоню снова: «Привет, это Мария…» Кладу трубку, звоню снова: «Привет, это…» Я звоню несколько сотен раз подряд.
Чувствую, что свихнусь, если продолжу в том же духе. Беру куртку, ключи и выхожу.
Вечер, прохладный летний вечер. На площади Трианглен какие-то молодые люди, в бар идут, а может, возвращаются домой. Я сажусь на автобус до «Нёрепорт», там пересаживаюсь на другой автобус, до «Брёнсхой». Выхожу на площади перед универсамом, пересекаю площадь. Две молоденькие девочки, лет пятнадцати-шестнадцати максимум, ждут автобуса в город, обе красиво одеты, накрашены ярковато. Я иду к своей старой школе, она находится в паре минут ходьбы от площади, не больше. Когда я слышу слово «школа», то представляю именно эту конкретную школу. Большое старое здание из красного кирпича, построенное буквой «П», с внутренним двором. Калитка заперта, но забор низкий, и, как когда-то в детстве, я через него перепрыгиваю. Чтобы попасть во двор, нужно обойти одно крыло здания. Перед домом клочок земли с травой и деревьями, там все переделали. Трава теперь лучше, более ухоженная, много новых деревьев, так что дорогу почти не видно. Я захожу во двор, он точно такой, каким был тогда. Однажды здесь снимали детский фильм. Всего несколько кадров с детьми, выбегающими из больших красных двухстворчатых дверей под трель звонка, но я сразу их опознал. Посреди двора — два ряда скамеек, стоящих спинками друг к другу, между ними — площадочка, выложенная плитками, пару метров шириной. Мне сказали, что много лет назад здесь вроде бы стоял забор, разделявший женскую и мужскую гимназии.
Один парень из моего класса, Бьёрн, однажды дрался здесь с другим парнем, лежа между скамейками. Или точнее сказать, его били. Мы много лет дразнили Бьёрна, не слишком жестоко, но методично, стягивали с него треники, снег за шиворот совали, ничего ужасного.
В восьмом классе нам надоело его мучить. Мы решили, что стали слишком взрослыми, чтобы дразнить Бьёрна. И тогда инициативу перехватил параллельный класс. Большинство мальчишек в этом классе были из Тингбьёрга, настоящие хулиганы. Я подозревал, что директор засунул всех в один класс, чтобы знать, где их потом искать. Они обходились с Бьёрном намного грубее, чем мы себе когда-нибудь позволяли, физически грубее. Однажды, в конце восьмого класса, они поставили Бьёрна на четвереньки между скамеек, и один из ребят, здоровый рыжий пацан, обхватил его вокруг пояса и пытался положить на лопатки. И тут произошло то, чего никто не ожидал, и произошло очень быстро. Думаю, Бьёрн пытался встать, но со стороны это выглядело так, словно он боднул того парня затылком в нос. Рыжий вскочил и растерянно смотрел по сторонам, а из носа и губы шла кровь. Он так и стоял, а кровь текла, пока одна девчонка не отвела его к питьевому фонтанчику, чтобы он умылся. Все его друзья решили, что Бьёрн это сделал нарочно. После этого они оставили его в покое. И хотя Бьёрн по-прежнему жутко раздражал меня, я радовался за него. Я был одним из тех, кто пустил сплетню о том, что он начал ходить на дзюдо и стал крутым безбашенным парнем.
Я смотрю на плитки вокруг того места, где это случилось. Не знаю почему, но мне кажется, что там должны сохраниться темные пятна крови.
Прохожу двор и перепрыгиваю через изгородь по другую сторону школы. Через пару лет после того, как я закончил школу, мы вернулись сюда как-то ночью с одноклассником и побили окна пустыми пивными бутылками, не потому, что ненавидели школу, это была ни плохая, ни хорошая школа, мы просто были очень пьяными.
Я иду по улице. Виллы с высокими изгородями и стоящими снаружи машинами. Некоторые участки оформлены с фантазией, а изгороди подстрижены покороче, чтобы прохожие могли насладиться видом. Фруктовые деревья, маленькие ванночки с фонтанчиками для птиц, на одном участке кто-то попытался сделать японский сад с маленькими белыми камнями, парой деревьев бонсай, понесших урон от датской погоды, и миниатюрным озерцом с бамбуком.
Однажды зимой, много лет назад, после сильного ночного снегопада, мы со старшим братом сидели на деревянных санках, которые вез отец. На нем была дубленка с меховым воротником, я помню его спину, широкую спину, и руку, держащую веревку, но я не могу представить его лица. Он ушел от матери, когда мы были маленькими, и с тех пор я его не видел. Мой старший брат помнит его лучше. Сейчас отец живет в Орхусе, с новой семьей. У нас с братом был молчаливый договор его не разыскивать. Я понимал, почему он бросил маму. Она из всего делала проблему и кричала. Я считал, что ей нужно побольше следить за собой, стараться походить на женщин из журналов, тогда бы он, наверное, остался.
Я сворачиваю за угол и иду по улице, на которой мы жили. Странно возвращаться назад. Теперь это просто сады, тротуар, машины, дома. В детстве мир ограничивался этой улицей. Чем ближе к нашему дому, тем медленнее я иду. Мимо садовой калитки соседки. Мы ее ведьмой называли. Она иногда сидела с нами, когда маме нужно было уйти, угощала нас печеньем, но мы все равно ее боялись, потому что она была старая и горбатенькая и у нее была кошка. Но печенье мы всегда съедали. Теперь на калитке другие имена, перед домом стоит красная «тойота»-пикап. Дом матери из желтого кирпича, с плоской крышей. Я прохожу в калитку и дальше, вокруг дома. Лужайку давно не косили. Мама стоит на кухне. Я забираюсь на яблоньку, растущую у кухонного окна. Я так близко к ней. Она красиво одета: темно-серые брюки, кремовая блузка, сверху — песочного цвета кардиган. Волосы собраны, несколько локонов спадают на лицо, как у молоденькой девушки. Каштановые волосы с редкими седыми прядями, думаю, она красится. Я был бы счастлив, если бы в кухню зашел мужчина. Открыл бы бутылку вина, вынул бокалы из шкафа. Но она одна. Ставит на поднос один прибор. Одна тарелка, одно легкое пиво, один стакан. Берет сковороду с плиты и кладет на тарелку панированное мясо, венский шницель или курицу. Берет с плиты кастрюльку, накрытую крышкой, и кладет рядом с мясом овощи. Горох, брокколи, нарезанная колечками рифленая морковь, все из пакетика. Из другой кастрюльки наливает в тарелку соус беарнез или другой такого же цвета. Не на овощи или мясо, для нее всегда было важно, чтобы продукты как можно дольше были отделены друг от друга. Она говорила, что, когда в тарелке все смешивается, это похоже на помои. Она открывает пиво, кладет открывашку обратно в ящик и выкидывает пробку. Берет поднос и выходит из кухни. Я обхожу дом и залезаю на крышу сарая. Отсюда мне видна гостиная. Мама села за обеденный стол. Она отрезает кусочек мяса, долго жует. Наливает полстакана пива и аккуратно отпивает. До меня доносится звук радио, но что говорят — не слышно. Сижу на крыше и смотрю, как мама ест. Закончив, она вытирает рот салфеткой. Я слезаю с крыши и ухожу из сада.
13
Вернувшись в квартиру, я снова безуспешно пытаюсь дозвониться до Марии. Включаю большой телевизор брата, нахожу канал с животными. Фильмы о природе, большие звери, охотящиеся на маленьких зверей, большие звери, трахающие больших зверей. В африканской саванне. В этом есть смысл, я смотрю на них часа два.
Вхожу в спальню, осторожно, чтобы не наступить на письма, лежащие на полу. Сажусь на кровать и раздеваюсь с закрытыми глазами. Пробую удержать в голове картины с пожирающими добычу и спаривающимися львами. Хорошие, мощные картины. Тут я замечаю, что в комнате не один. Я почувствовал его запах еще до того, как открыл глаза, дым его дрянных сигарилл, затхлый чердачный запах.
— Домовой переезжает следом…
Он сидит напротив меня в кресле у стены. Чуть наклонившись вперед, упакованный в свою ворсистую темно-зеленую парку, он почесывает щетину.
— Ты же не думал, что сможешь от меня избавиться, а? Домовой переезжает следом, Янус…
Нет, я не думал, я, наверное, просто надеялся, что он найдет меня не так скоро.
— А ты изменил сценографию, друг мой.
Рука его скользит по благородной древесине подлокотника.
— Неплохо, друг мой, неплохо.
Он веселится, с наслаждением долбит мне мозги. Он никогда не говорил мне ничего хорошего. В нем столько горечи, что она просачивается сквозь поры его кожи, отравляет его дыхание.
— Неплохо для пони.
— Пони?
Я обычно ему не отвечаю, но тут он меня поймал.
Он широко улыбается, показывая свои гнилые зубы:
— Ну знаешь, как у девочек-наездниц. Эти девочки, они говорят со своими лошадьми обо всем, о парне там каком-нибудь из класса, парне с зелеными глазами, на переменке сунувшем ей записку. Ты был ее вонючим пони, она могла писать тебе обо всем. Но однажды ей стало скучно. Она выросла, захотела трахаться, захотела детей. Нет времени для пони.
Он жестикулирует желтыми от никотина пальцами, проводит рукой по тонким седым волосам. Он наслаждается.
— Ты уверен, что вообще хочешь ее найти? Разве тебя не удовлетворяет сам процесс поиска? Ты ее найдешь, и что она скажет? Прости-прощай? Ты был ее пони, Янус.
Я мог бы закричать на него, сказать, что он ошибается. Но это бесполезно. Он только обрадуется. Я знаю, что его нет. Я сумасшедший, кому, как не мне, знать. Я знаю, что если как следует сконцентрируюсь, то заставлю его исчезнуть. Но я слишком устал, слишком вымотан.
Я поворачиваюсь и выключаю свет. Но не сплю. Я знаю, он все еще сидит там, я слышу, как он говорит, хотя изо всех сил стараюсь, чтобы слова не порождали смысл.
Представляю львов, больших львов. Львы в саванне, львы трахают других львов, пожирают куски сырого мяса, раздирая убитых ими животных. Я мог бы лечь на балконе. Но тогда он выиграет. Это будет значить, что он прогнал меня. И я больше не смогу вернуться в спальню. Я не хочу предоставлять ему эту победу. Он и все на свете отрезанные пальцы в тесте могут катиться к дьяволу в ад. Я знаю, чего хочу. Я хочу найти Амину. Я поворачиваюсь и тянусь за снотворным на столике, в темноте нащупываю пузырек, чуть не роняю на пол. Открываю и выуживаю пару таблеток. Проглатываю насухую, это возможно, дело привычки. Лежу со стариком в темноте, пока снотворное не гасит сознание.
14
Съедаю какие-то сухарики из кухонного шкафа, из пакетика с давно истекшим сроком хранения, закрытого одним из дизайнерских зажимов братца. Принимаю таблетки и снова звоню Марии. После трех гудков трубку снимают. Девушка, которая может оказаться Марией. Она кричит:
— Я же сказала, что не хочу с тобой говорить.
Трубку швыряют. Я снова набираю, и снова автоответчик.
Я принимаю ванну, нахожу кое-что из одежды брата. Костюм. Брюки чуть длинны, но в целом сидит хорошо. Гораздо лучше, чем одежда, что была на мне при выписке. Хоть это и лучшая моя одежда, выходная, от нее разит супермаркетом.
Я нажимаю на кнопку на автомате рядом с дверью. Он выплевывает бумажку с номером. Сажусь на один из стульев у стены и жду. С потолка свисает экран с зелеными цифрами, которые показывают, как далеко продвинулась очередь. На стульях рядом со мной и напротив сидят другие. Сомалийская семья с маленькой девочкой. Пара пожилых арабов и какие-то датчане. Все выглядят грустными. Наверное, нельзя выглядеть довольным, когда получаешь даровые деньги. Или, может, это просто потому, что им так мало дадут и нужно спешить обратно, на «левую» работу.
Прежде чем уйти, я пересчитал деньги в кармане. Затем нашел в справочнике ближайшие центры социальной помощи, вырвал страницу. Не то чтобы у меня было большое желание, но это похоже на разумный поступок, а я пытаюсь быть разумным, это лучше, чем быть умалишенным. Быть умалишенным у меня получается лучше всего, но из-за этого можно очень быстро снова оказаться в больнице. Единственная проблема — это то, что, когда у человека такое заболевание, ему временами трудно различить два эти состояния. Сёрен из нашей больницы изрисовал стены своей однокомнатной квартиры странными словами и рисунками, а когда за ним пришли, последовал за санитарами тихо и смирно, — после того как ему пообещали не стирать ничего из написанного. Для него это имело абсолютный смысл. Это было важно-важно. Разумно.
Мой номер высвечивается на экране. Я захожу в зал, где полно столов с чиновниками, компьютеров и маленьких экранчиков, свисающих с потолка, чтобы видно было, кто какой номер обслуживает. Я не понимаю, куда идти, не могу найти свой номер. Тогда один мужчина привстает, и я иду к нему. Предъявляю талончик, он показывает вверх, и я вижу тот же номер на экранчике. Он пару раз щелкает по клавиатуре компьютера, отхлебывает кофе и показывает рукой, что я могу присесть.
Я пытаюсь быть милым и предупредительным.
— Все оказалось быстрее, чем я себе представлял.
Он смотрит почти со страхом:
— Но сегодня вы денег не получите.
Он произносит это так, словно я уже стою с протянутой рукой. Затем смотрит на меня, на мою одежду, смотрит долго и изучающее. Теперь я понимаю, что сделал ошибку.
На мне одна из рубашек моего братца с маленькой эмблемой «Армани» на груди, темно-серые брюки, ремень, на пряжке которого большая буква «G» — эмблема «Гуччи», пиджак переброшен через руку. Я одет намного лучше его самого, в его джинсах и застиранной трикотажной рубахе. А зачем ему вообще заботиться об одежде, если он целый день смотрит на неудачников? Мне следовало подумать, надеть одежду, в которой можно упасть навзничь и подставить шею: укуси меня, большая собака, я сдаюсь.
— Вы собираетесь ходатайствовать о пособии?
Я вынимаю бумаги из конверта, который мне дал Петерсон. Бумаги, показав которые, мне не надо будет ничего говорить, не надо будет о себе рассказывать. Я протягиваю их через стол. Он читает, долго читает. А когда поднимает глаза, выражение его лица неузнаваемо изменилось. Параноидальная шизофрения, он прочел это в бумагах, он знает, что это такое. Он знает, что сидит рядом с тикающей бомбой. Так что можно быть и повежливее.
— Да, конечно. Это совсем другое дело… А сейчас у вас есть деньги?
— Нет.
— Совсем ничего нет?
— Нет.
Он набирает что-то на компьютере. Снова на меня смотрит:
— Собственно, вы не к нам относитесь. Но я могу посодействовать, чтобы вы получили деньги завтра. Это будет небольшая сумма, чтобы хватило на то время, пока рассматривается ваше дело.
— Спасибо.
— Но вы должны понять, что это исключение. И больше вы сюда за деньгами приходить не сможете. Обычно мы так не поступаем.
Он говорит это так, словно делает мне личное одолжение. Словно ради меня нарушает правила.
А я думаю, может, этим чиновникам платят таким образом, что они могут оставлять себе деньги, которые не отдали Джонни, Кони и Али. И тогда скверно, если в конце дня денег не остается. Он просит меня подождать, пока снимает копии с моих документов. Вернувшись, отдает мне бумаги, я засовываю их в конверт. Это важные бумаги, они объясняют всем, кто я такой.
15
Никогда не знал район Амагера, не жили у меня здесь ни родственники, ни друзья. Бывал здесь на вечеринках, но слишком пьяным, чтобы сориентироваться. Ненавижу незнакомые места. Я прошу водителя автобуса объявить остановку, дальше иду пешком до Амагерброгаде. Сворачиваю в переулок и спрашиваю дорогу у какого-то алкоголика с овчаркой.
Красный кирпичный корпус, качественная постройка, скорее всего тридцатые годы, жилье для пролетариев. Ее имя написано ручкой на клочке бумаги напротив домофона. Никто не отвечает. Звоню еще. Затем жму на все кнопки подряд. Домофон трещит, пожилая женщина спрашивает, что мне нужно. Реклама, говорю я. Замок гудит, я вхожу.
Двумя этажами выше нахожу ее имя на дверной табличке и звоню. Ничего не происходит, и я начинаю стучать, сначала тихо, затем сильнее. Дверь приоткрывается, на цепочке. Выглядывает Мария, смотрит на меня. По-моему, она ждала кого-то другого.
— Привет, э-э… Меня зовут Янус, я друг Амины.
— Я тебя помню.
— Я хочу поговорить с тобой об Амине.
Она убирает голову, снимает цепочку. Не говоря ни слова, устало машет рукой, приглашая войти.
Я иду за ней через прихожую, крошечную прихожую с плакатом Тома Круза из фильма времен восьмидесятых «Коктейль» и большой грудой обуви, через которую приходится переступать. Стены в гостиной покрашены в оранжевый цвет. Плетеная мебель, журнальный столик с дымчатым стеклом, несколько киноплакатов. Стеллаж, одна-единственная полка которого уставлена книгами, еще полполки с фильмами — «Красотка», «Нотинг-Хилл», все остальное занято идиотскими безделушками: фарфоровая белка, камень с красной надписью «Кипр», фотография Марии в конфирмационном платье. Она предлагает мне присесть, я сажусь на один из плетеных стульев. Она усаживается на бордовом диване напротив. По телевизору с выключенным звуком идет американский сериал.
— Хочешь кофе?
— Я пытался тебе дозвониться, но ты швыряла трубку.
— Я думала, это мой парень или, точнее… бывший парень. — Она на секунду забывает о себе и озабоченно на меня смотрит. — С Аминой что-то случилось?
— Не знаю, я просто ее ищу. А почему с ней должно было что-то случиться?
— Да нет…
— Что?
— Ну, я подумала об этой истории с ее двоюродным братом, но… я не знаю, я довольно давно с ней общалась…
Звонит мобильный, лежащий перед ней на столике, сначала она смотрит со злостью, затем берет трубку.
— Ты можешь понять, что я не хочу с тобой разговаривать? В твоей маленькой головке это не укладывается?
Она встает и выходит на кухню. Говорит так громко, что слышно не только мне и соседям, но и всем жителям Амагера.
Орет на него, обзывает. Что-то там с другой девушкой, а теперь она его ненавидит.
Она еще покричала и закончила разговор, напоследок объяснив, что ему нужно сделать со своим членом. Звучит неприятно. Затем она вернулась. Глаза красные, но делает вид, что все в порядке, виновато улыбается:
— Хочешь кофе или чая, мне нетрудно…
— Что ты там говорила про ее брата?
Она садится на диван, вытирает слезы тыльной стороной руки. Прикуривает сигарету из пачки, лежащей на столике, делает глубокую утешительную затяжку. Если она так цеплялась за его член, то он наверняка на стороне не трахался.
— А, да, история эта идиотская с двоюродным братом из Турции.
— Я ничего об этом не знаю.
Судя по всему, я должен это знать. Она смотрит на меня недоверчиво:
— Ты, похоже, давно ее не видел.
— Да. Так что с этим братом?
— Лучше, наверное, если она сама тебе расскажет…
— Я спрашиваю, потому что беспокоюсь о ней, не потому, что мне сплетни нужны. Если бы мне нужны были сплетни, я бы купил журнал.
Она молчит, больше не доверяет мне.
— Мы ведь ее друзья, так? Конечно, мне ты можешь рассказать.
Она медленно, сквозь зубы выпускает дым, я вижу, как идет мыслительный процесс. Она хочет рассказать. Ей нравится знать что-то, чего другие не знают. И вот уже она мне улыбается:
— Да, так они были в Турции, навещали родственников. И как-то обедали с ее кузеном, и между закуской и супом ей сообщили, что они должны пожениться. Она и кузен. Все это было запланировано уже давно. Они надеялись, что она обрадуется. Не то чтобы ей дали время на раздумье, но она могла вернуться домой и привыкнуть к этой мысли. Что-то не так?
— Ничего. Они должны были пожениться, и что дальше?
— Ну, осенью хотели устроить большую свадьбу. Ей как раз хватало времени вернуться домой и собрать вещи. Она была просто в шоке, когда ей сообщили, они обручились за день до ее отъезда. Я не знала, что ей сказать. Она не хотела замуж, и нашла такое место, где помогают женщинам. Где-то на Тагенсвай, я была там с ней. Ну знаешь, такое место для женщин, которых бьют. Они уже помогали другим таким же, но сначала сказали, что она должна как следует подумать. Но ей не надо было думать, она уже решила. Они нашли для нее жилье к северу от Копенгагена, маленькую комнатку. Однажды, когда родителей не было дома, она собрала вещи и уехала. Я была у нее пару раз. Ничего хорошего, но от города недалеко.
— Где?
Она дает мне адрес. Я записываю его на руке ручкой, взятой со стола.
Она тушит сигарету и закуривает другую. Странно на меня смотрит.
— Ты… м-м-м… сильно потеешь. Ты уверен, что с тобой все нормально?
Я вытираю лоб рукавом:
— Да, все в порядке, со мной все хорошо. Амина, она не общалась с семьей?
— Кажется, с сестрой общалась, с остальными не разговаривала. Боялась, что ее заставят выйти замуж, если найдут.
Я снова вытираю лоб рукавом. Она права, я очень потею, рукав скоро промокнет насквозь.
— Она бросила колледж?
— Не сразу. Сначала моталась туда-сюда. Ей надо было вставать ни свет ни заря, чтобы успеть. Но как-то раз она там увидела своего отца с другом, они стояли у колледжа и ждали. И она не вернулась. Нашла работу возле дома, в гриль-баре. Жарила там картошку фри для прыщавых пацанов на мопедах. Она ее ненавидела.
— А что она теперь делает? Ты говоришь в прошедшем времени. Она сейчас чем-то другим занимается?
— Может, я выдаю желаемое за действительное. Но, честно говоря, не знаю. Я потеряла с ней связь. Ты знаешь, как…
Она смотрит на меня, склонив голову. Смотрит очень внимательно:
— Что? Что, скажи. Я вижу, ты хочешь что-то сказать.
Я качаю головой. Снова вытираю пот рукавом, он мокрый. Она улыбается:
— Ну давай, говори.
Слова полились у меня изо рта, очень быстро, очень громко:
— Почему ты не поддерживала с ней отношения, нельзя же терять связь с людьми, когда она сидит в такой говняной дыре, а ты не хочешь с ней больше общаться. Потому что она теперь одевается немодно, больше не может потратить пару тысчонок в месяц на одежду. Нужно крепко держаться за людей, нельзя позволять им пропасть. Несмотря ни на что, нельзя позволять им пропасть.
Она сидит и смотрит на меня. Сидит совсем тихо. Я плохо разбираюсь в чувствах других людей, но, кажется, в ее глазах страх. Я извиняюсь перед ней, несколько раз:
— Извини, я так давно нигде не был. Извини. Все так непривычно. Прости меня, прости.
Она продолжает молча на меня смотреть, единственное, что движется, — это рука, нервно выдергивающая клочочки белого наполнителя из трещины в подлокотнике дивана. Затем очень тихо спрашивает:
— Нигде не был?
— Да, меня не выпускали. Ну, не тюрьма, ничего такого, нет, нет… Я был в другом месте… ну да, в психиатрической больнице. Амина тебе не рассказывала? У меня с головой не все в порядке. Но… я не психопат. Точно не психопат, у меня справка есть.
Я мало говорю, но если уже начал, мне трудно остановиться. Я говорю, говорю, а пот струится по лбу.
— Ну хорошо, у меня психоз, да, но я не психопат, я шизофреник, это другое.
На полу уже лежит небольшая кучка этого белого наполнителя. Рука продолжает выдирать из подлокотника белые клочки.
— Я ничего тебе не сделаю. Я не из тех, кому нравится мучить других и делать из их кожи шляпы. Я не мучаю людей ради удовольствия, я знаю, что некоторые так делают, но не я. Или этого мне, наверное, тоже не надо было говорить. Я никогда ничего не сделаю Амине. Никогда ничего Амине не сделаю…
Она сидит очень тихо и смотрит на меня. Если ты встретил в лесу медведя, то должен стоять тихо-тихо, и он не нападет.
— Правда, извини. Я живу у брата, так что если захочешь еще что-нибудь мне рассказать, может, в другой раз, просто позвони.
Я беру со стола ручку и записываю номер телефона на другой стороне телепрограммы.
Я встаю, она вся сжимается.
— Я пойду. Я сам, наверное, разберусь… Надеюсь, у тебя все наладится с твоим… с твоим парнем.
Вниз по лестнице, к остановке. Я потею так, что по рукам течет.
Сижу в автобусе, черт, как жарко, и как только другие это терпят. А они таращатся на меня, женщина рядом со мной, лет двадцати с небольшим, на голове темные очки, отодвигается от меня, насколько это возможно, чтобы не упасть. И сиденье мокрое. Я не могу больше ни секунды находиться в автобусе, выскакиваю на первой же остановке.
Иду обратно к квартире брата. Идти хорошо, лучше. Дышу как можно глубже. Все еще потею, но сердце бьется чуть медленнее. Я снова в состоянии думать, я до сих пор чувствую вкус паники во рту, но в состоянии думать. Иду от Ратушной площади, мимо станции «Нёрепорт».
Подхожу к Ботаническому саду. Ненадолго останавливаюсь у входа. Захожу. Мимо меня к выходу идет пожилая женщина с внуком на руках. Мальчик, малыш в шортах и бейсболке, улыбается мне. Больше я в саду никого не вижу.
Иду в дальний конец сада по одной из дорожек, усыпанных гравием, нахожу скамейку недалеко от павильона с тропическими растениями. Страх медленно исчезает. Я массирую затылок, пробую расслабить плечи, дышать как можно медленнее.
Отсюда открывается отличный вид на сад. Множество небольших растений с надписями по латыни на белых табличках, какие-то редкие, по всей видимости, деревья, ни веточки нельзя отломать.
И я снова думаю об Амине.
Амина любила Ботанический сад, так она мне писала. Она училась недалеко отсюда и иногда, освободившись, заходила сюда. Сидела, запрокинув голову, наслаждалась тишиной.
Я чувствую, что она была здесь. Замечаю, что сложил руки. Кому я собрался молиться? Амине? В этом нет смысла. Богу? Кому? Единственная помощь, какую я когда-либо получал, находилась в пузырьке с лекарствами. Я не могу удержаться от улыбки. Мне хочется стать на колени и помолиться фармацевтической фабрике «Лёвенс Кемиске» или «Глаксо Смит Кляйн».
Я смотрю на деревья. На этой ли скамье она сидела? А о чем она думала, сидя здесь? Оттягивала время возвращения домой?
В своих письмах она о чем-то умалчивала. Теперь я понимаю. Мне не нужно сверять даты, чтобы заметить: период, когда она жила одна, наложил отпечаток на последние письма. Они были проштемпелеваны в Копенгагене, но это ничего не значит, она могла их посылать, когда проверяла свой абонентский ящик. Я все время чувствовал: она что-то недоговаривает. Наверное, так и было. О чем-то она, возможно, не писала, потому что это было слишком банальным, потому что она не хотела меня этим беспокоить или затруднять. Никогда не писала о парнях. Я тогда об этом не задумывался, но вряд ли она совсем не думала о парнях, встречала же она кого-то. Не знаю, был ли у нее парень, но девушки думают о парнях, такова жизнь. Может, мне стоило воспринимать это как комплимент. Девушки не рассказывают парням о других парнях, никогда, если у них есть сердце, если они выглядят так здорово, как Амина; к этому нельзя отнестись безразлично. Как только они начинают рассказывать тебе о своих парнях — все, ты перешел в категорию подружек, неважно, есть у тебя член или нет.
Все, что я писал ей о своей жизни в больнице, было облегченной версией. Там случались вещи, о которых я ни за что бы ей не рассказал. Зачем? Разве ей станет лучше от рассказов о бессоннице, припадках, рвоте и дрожи? Я выдавал ей красивую версию. Что еще? Маленькие ироничные телеанонсы. Никогда о будущем. Есть вещи, которыми нельзя делиться с другими. Которые нельзя просить других разделить с тобой. Это слишком некрасиво.
Я был прежде всего хорошим слушателем. Нет, я не поддакивал ей, не задавал вопросов, какие задают девушке в четыре утра, когда макияж уже размазался, а ты пытаешься изобразить, будто тебе интересно, что ей сказал начальник на ее дурацкой работе, или соглашаешься, что в Дании трудно быть актрисой, что в институтах не замечают настоящих талантов, а предпочитают посредственности. Никаких непристойных вопросов. Я был хорошим слушателем, я обращал внимание на каждое слово, что она мне писала, представлял себе каждую вещь, которую она описывала. И картины до сих пор четкие. Я вижу ее перед собой, как она стоит на мебельном складе с родителями, с младшей сестрой. И я знаю, как она реагирует на взгляды молодых людей, режущих паласы. Я знаю ее маленькую игру, как она делает вид, будто не замечает, что значат эти взгляды, будто не может представить, что бы им хотелось с ней сделать.
Жаль, я не написал ей, что она может рассказывать мне обо всем. Что я понимаю, у всех свои проблемы, и они нам всегда кажутся большими, какими бы маленькими ни казались другим. И что я могу взять эти большие проблемы на себя, взвалить на свою спину. Я выдержу. Я получаю великолепно сбалансированное медикаментозное лечение. Она может писать обо всем, лишь бы продолжала писать.
16
Я не прошел и пары шагов по Ботаническому саду, как снова полил пот, а затем накатил страх. Как когда, напившись, думаешь: может, меня все-таки не вырвет, я ведь столько не выпил… и тут начинаются судороги в животе, и рот наполняется.
Снова в квартире брата. Плохо помню, как дошел. Мокрый насквозь, будто внутри включили душ и вода просочилась наружу. Чувствую тяжелый запах сигарилл в гостиной. О нет, не сегодня, сегодня никаких гостей. Я избираю форму самолечения, не рекомендованную ни в одном учебнике медицины. Открываю бар моего братца и начинаю с водки. Прямо в лживую глотку. Хорошо. Я наполняю тело водкой, пусть до пяток достанет. Затем «Бейлис», еще «Бейлис». Мне становится хорошо, я сижу на полу в кухне и смеюсь. Смеюсь и смеюсь, а ликер течет по подбородку. Затем начинаю сердиться, становлюсь таким злым парнем. Кричу на себя.
И снова кричу. Не надо со мной так разговаривать. Я становлюсь быком, который охотится на тореадора. Через гостиную в кухню, через кухонный стол, обратно к бару. Джим Бим, Джонни Уокер, Джек Дэниэлс. Все мои старые друзья.
Еще Бейлис
Хайленд крим
Очень питательно
17
Я лежал на полу в гостиной, когда меня разбудил звонок в дверь. На мне все еще костюм моего старшего братца, не знаю, когда я отключился. В глазке видно двоих полицейских: должно быть, ночью я сильно шумел. Оставив их звонить, я бегу в ванную. Смачиваю волосы, провожу по ним расческой, роюсь в шкафчике, нахожу пузырек с глазными каплями, такая голубая жидкость, должна снять красноту. Трудно попасть, я чуть не опрокидываюсь назад. Затем пару раз брызгаю в рот ополаскивателем, который стоит рядом. У него странный привкус спирта, прочитав надпись, я понимаю, что это жидкость для протирки очков, наверняка для его дизайнерских темных очков. Ну и ладно, если бы я знал о нем вчера, наверняка ночью опустошил бы и эту бутылочку. Нахожу коробочку с мятными пастилками и засовываю в рот такое количество, что на глаза наворачиваются слезы. В дверь всё звонят. Я застегиваю пиджак, прикрывая пятна на рубашке, смотрю в зеркало: причесан аккуратно, следов похмелья практически не наблюдается. Выхожу, открываю представителям власти.
Старший из полицейских, мужчина лет пятидесяти с небольшим, с аккуратно подстриженной бородкой и усами, показывает мне значок. Он собирается заговорить, но я его опережаю:
— Хорошо, что вы пришли. Я как раз собирался вам звонить.
Полицейский смотрит на меня с непониманием. Почесывает подбородок.
— А что, вам соседи позвонили? Должно быть, дикий шум…
Я улыбаюсь, я полгода упражнялся в умении быть нормальным.
Он по-прежнему выглядит непонимающим. Затем откашливается и вынимает из нагрудного кармана униформы блокнотик.
— Вы, верно, пришли по поводу Януса.
— Да…
Полицейский листает блокнот, находит нужную страницу.
— К нам поступил сигнал от молодой женщины. Янус появился у нее вчера после обеда, ей показалось, он вел себя угрожающе.
— Да… Похоже на него.
— А в каких вы отношениях с…
— Он мой брат… Я вообще-то был уверен, что вы пришли из-за шума.
— Я правильно понимаю, что он здесь живет?
— Да, или, скорее, жил, он наверняка теперь нескоро вернется. Он не настолько глуп.
— Позволите войти?
— Да-да, конечно.
Старший полицейский слегка кивает молодому коллеге, тот остается на площадке. Старший проходит за мной в прихожую.
— Я оставил его на один вечер. Один дурацкий вечер…
— Извините, у вас есть удостоверение личности?
— Нет, к сожалению. Он все забрал: полис, паспорт, «Мастеркард».
— Может быть, у вас есть «Данкорт»?[2]
— Нет, ее он тоже забрал. Я сам ему оставил.
— Это же документ…
— Да, я знаю, что карточку нельзя передавать другим лицам. Но его только выписали, у него не было денег, и я подумал, он, может, хоть пиццу себе купит. Я, разумеется, заблокировал карту, утром, когда вернулся.
Я открываю дверь в гостиную. Квартира выглядит уже не так, как пару дней назад. Полицейский осматривается, его взгляд на секунду задерживается на клюшке для гольфа, торчащей из разбитого стеклянного столика. Он смотрит на меня:
— Это все он натворил?
— А вы что думаете? Не сам же я, черт возьми, разнес свою квартиру.
— Нет-нет… конечно нет…
— Извините. Я еще в себя не пришел. Утром вернулся домой — а тут такое.
— Так это все случилось ночью?
— Да. Я ночевал у своей девушки. Мы с Янусом не слишком ладим, и я подумал, что будет неплохо… а когда вернулся утром… Сами видите, что он наделал.
Полицейский спускается в гостиную. Смотрит, куда наступает.
— Мне, естественно, придется везде переклеить обои. Похоже на кровь, но с тем же успехом может оказаться испражнениями.
Полицейский обходит гостиную, делая пометки в блокноте.
— И он совершенно загадил диван. Можно выкинуть. Думаю, запах уже не выветрится.
Я веду его наверх, в кухню.
— Женщина, с которой мы говорили, считает, что он сбежал из какого-то заведения.
— Нет, его выписали. Бог знает почему. Он же больной. На самом деле больной.
Полицейский протягивает руку, чтобы потрогать соковыжималку. Но тут же убирает.
— Да, похоже на сперму, а? Но вы, наверное, на вашей работе всякого навидались.
Хотя он вовремя отдернул руку, но все же задумчиво вытирает пальцы о брюки.
— У вас есть фотография брата?
— К сожалению, нет, он не любит фотографироваться. Это как с индейцами: он боится, что фотоаппарат заберет его душу. Однажды он сломал руку нашей бабушке: она хотела сфотографировать его у рождественской елки.
Он снова спускается в гостиную, переступает через стул от Арне Якобсена, ножки которого раскорячились в разные стороны, как у паука. Записывает еще что-то в своем блокнотике.
— Думаете, он опасен?
— Не то чтобы опасен… Если исключить приступы, вроде вчерашнего, то в принципе он не буйный. Но если исходить из того, что он загнан в угол… Если он почувствует угрозу, то…
— Себе он может причинить вред?
— Да, да, определенно. Это более вероятно.
— Есть у вас предположения, где он может находиться в настоящее время?
— Может быть, на улице, наверняка болтается где-нибудь. Может, в Кристиании.
— Мы выясним… Хотели бы вы пройти с нами в участок и написать заявление?
— Звучит соблазнительно, но нет. Он же мой брат. Я думал об этом, но, если честно, нет. Ради мамы…
— Разумеется, я вас понимаю.
Я провожаю его до двери, где с руками, заложенными за спину, его ожидает коллега. Он дает мне визитку с логотипом полиции и просит связаться, если Янус вернется. Затем пожимает мне руку и благодарит за помощь. Если бы не костюм, лежал бы я сейчас связанный «козлом». Помнишь Беньямина? Я доволен собой. Смеюсь, пока до меня не доходит, что теперь я не смогу пойти за деньгами в центр соцобеспечения.
18
Я сижу в нужном поезде. Я почти уверен, что сижу в нужном поезде. Я смотрел на табло, висящем на стене Центрального вокзала, затем в расписании поездов на перроне, где станции обозначены белыми точками, а линии — разными цветами. Некоторые поезда останавливаются не на всех станциях, некоторые вообще не останавливаются. Разобравшись, я еще раз уточнил у женщины в железнодорожной форме. И все равно ощущение какой-то неправильности.
Напротив меня сидит пожилой мужчина в наушниках. На нем свитер с оленями, лицо такое белое и морщинистое, что я боюсь, он умрет у меня на глазах. Перед ним лежит CD-плеер, странно не сочетающийся с его возрастом. Как наручные часы у персонажа из фильма о рыцарях. Звук довольно громкий, наверное, чтобы компенсировать его глухоту, похоже на классику, может быть, опера.
Мы уже выехали за город, когда я осознал, в чем заключается неправильность. Я вижу контролера и чувствую себя невероятным глупцом. Это же не метро, это пригородная электричка, здесь нельзя набраться наглости и забить на билет, конечно, здесь ходит контролер. Я нащупываю мелочь в кармане, я знаю, что денег на билет мне не хватит. И все же, видимо, надо было купить. А что если меня сейчас поймают, мне выпишут штраф или позвонят в полицию? Может, я уже в розыске, нас, психов, любят разыскивать в автобусах и поездах. Я мало знаю об этом мире, но могу на вкус определить разницу между серксатом и ципрамилом. Я встаю. Тихо, спокойно. Как будто я не видел контролера, как будто мне куда-то нужно, найти туалет, например. Медленно иду по вагону. Ах ты, как писать хочется. Продолжаю идти по вагонам, думаю, контролер меня не заметил. Если меня поймают, я могу назвать имя Дэвида, чем не благодарность за пиво и альбом. Но я так и не вспомнил его адреса, не думаю, что моей способности найти дорогу в состоянии алкогольного опьянения будет достаточно. Я дохожу до конца, я близок к панике. Тут поезд начинает гудеть и трястись и медленно сбавляет скорость. Входит контролер. Народу мало, и все с готовностью протягивают билеты. Сидят здесь с протянутыми билетами, овцы чертовы. Да, Господин в Униформе, я же купил билет. Он кивает им и доходит до двери, возле которой я стою. Парень рядом со мной копается в кармане. Тут двери открываются. Я выхожу, тихо, спокойно, это моя станция.
Расписание на перроне вносит ясность в картину: я нахожусь в пригороде пригорода Копенгагена.
Может, мне и хватит мелочи на автобус обратно, до квартиры брата. Я захожу в первый же попавшийся магазинчик и трачу остаток денег на курево. Это самое важное. Курево — единственный вид лекарства, который мы, шизофреники, сами можем дозировать. Мы курим, чтобы провести время, курим, чтобы чем-то себя занять, чтобы было, куда девать руки, чтобы утешиться. И чтобы знать, кто мы: я тот, кто находится на конце сигареты. Я курю по утрам, хотя, когда просыпаюсь, у меня болят легкие, я курю по вечерам и по ночам, если не спится. Я курю, пока не заболит голова, и закуриваю еще одну.
Обратно, до квартиры брата, я иду пешком, несколько часов. Я спрашиваю дорогу в магазинчиках и на улице. Мне дают разные инструкции. Через какое-то время я забываю, что мне сказали: где надо повернуть направо, где стоит церковь, бензоколонка. Я наверняка иду не прямым путем. Пиджак брата пропитывается потом, но люди обращаются со мной хорошо, как с молодым заблудившимся бизнесменом из провинции. Мужчина в магазинчике спрашивает, почему же я не возьму такси. Я отвечаю, что хочу посмотреть город.
Когда я добираюсь до квартиры, мои ноги дрожат. Кожаные ботинки брата мне велики, и они довольно жесткие, сделаны, чтобы хорошо выглядеть, не чтобы долго ходить, много километров они натирали мне пятки. Я закрываюсь в квартире. Уже в прихожей я чувствую запах его маленьких вонючих сигарилл. Он сидит на диване, старик. Откинулся, руки на спинке, дымит сигариллой. Я никогда раньше не видел его так рано, обычно он приходит ночью. Но я устал, зол на себя, и он воспользовался случаем и заглянул. Он смеется, смеется и кашляет, и белые клубы табачного дыма вылетают у него изо рта, окружают его.
— Чертов пони… Что мне с тобой делать? Насколько я вижу, есть два варианта: или ты педик, или тебе на самом деле не хочется ее найти. Пони, пони, пони…
Чтобы продолжать, я ему, в сущности, не нужен. Я пытаюсь делать вид, что ничего не происходит, не смотрю в его сторону, но он знает, что я его слышу.
— Из-за какого-то контролера. Тебе ведь не обязательно было идти через весь поезд, ты ведь мог сказать, что билет у твоей девушки, что она сидит дальше. Что тебе надо покурить в вагоне для курящих. Янус, которого я знаю, по крайней мере, спрятался бы в туалете. Так что мне с тобой делать? Ты не хочешь ее найти, да и зачем тебе это, гораздо интереснее просто искать, это помогает скоротать время…
И он продолжает; курит, смеется и говорит со мной. Я прохожу через гостиную, вхожу в спальню, нахожу более удобные ботинки, с мягкими стельками. Аккуратно снимаю носки, они прилипли к кровоточащим пяткам. Надеваю другие. Завязываю шнурки. Снова прохожу через гостиную. Он кричит на меня. Я закрываю за собой дверь.
19
Иду по улице, прочь от старика.
Передвигаю одну ногу за другой, прочь, как можно быстрее. Старик, старик. Единственное, чем мы можем измерить степень своей цивилизованности, это умением убегать от своих призраков. Мы их держим на расстоянии, с помощью телевидения, радио, игровой приставки, микроволновой печки. Телефона, который все время звонит.
И я бегу по улице, бегу в дорогих итальянских туфлях ручной работы, облаченный в тело, под завязку наполненное результатами медицинских исследований. Белая ворона цивилизации. Я один из немногих, кто до сих пор способен видеть своих призраков.
Старик, старик. Я не знаю, кто он, почему он является частью моего личного кошмара, моей болезнью. Я сам его придумал, и все же нет, потому что я никогда не приглашал его, как никогда не просил о том, чтобы быть другим, отличаться от остальных. Однажды на Стрёгет мне гадала по руке женщина, она сидела на большом, пестром лоскутном ковре с табличкой «Хиромантия — гадание по руке». У меня не было денег, но ей было все равно, она просидела там несколько часов без дела. Мне было стыдно, что руки не очень чистые. Мыл их в фонтане днем раньше. Она долго на них смотрела, большей части того, что она говорила, я не помню. Но одна вещь запомнилась: она сказала, что у меня старая душа. Что я старик в теле молодого мужчины. Это чепуха, как тогда была чепуха, так и сейчас. С тех пор как старик проложил ко мне дорожку, я много раз об этом думал. Так же, как думал о деде, отце матери. Я его не помню. Те немногие образы, что я связываю с ним, — старая кислая трубка на столе, нога в брючине из грубой ткани, — их я с тем же успехом мог придумать сам и позже внушить себе, что это воспоминания. Мама никогда особенно много о нем не говорила. Фактически почти совсем не говорила. Но нет, я не знаю, кто такой старик, и не думаю, что есть смысл разбираться в этом. Я мог бы заняться самокопанием, попытаться найти смысл в существовании старика и других симптомов. Мог бы создать упорядоченный мир внутри себя самого. Но, по моему опыту, шизофреники, избравшие этот путь, редко возвращаются. Они остаются там, внутри, там есть что исследовать.
Когда я дохожу до Королевского сада, там уже почти никого не осталось. Народ собирает подстилки, вытряхивает из бокалов капли белого вина. Я сажусь на лавочку под большим дубом. Смотрю на лужайку с короткой, аккуратно подстриженной травой и пустыми бутылками. Смотрю в пустоту и ненавижу себя. Мне не найти Амину, я слишком глуп. Слишком болен. Йоханесу придется подвинуться, чтобы и для меня нашлось местечко на Центральном вокзале.
Я думаю: как же меня угораздило? Когда все пошло не так? В больнице многие играют в эту игру. Игру под названием «Когда все пошло не так?» Они гадают: если бы я не выкурил тот гигантский афганский косяк; если бы я не ел тех грибов; если бы попросил папашу катиться к черту, когда он той ночью вошел в дверь с торчащим из ширинки членом.
Это бесполезная игра, бессмысленная. Ничего здесь не выгадать. Она так же нелепа, как игра «А что, если бы я не спятил?» Люди думают, что стали бы рок-звездами, или актерами, или образцовыми отцами семейства, такими, которые показывают свой дом в журналах. Почти такая же идиотская игра «Что будет, когда я вылечусь?» Она, наверное, самая глупая, в нее люди играют, когда их только положили.
Через пару часов на другой стороне лужайки я вижу служащего парка. Он ходит с большим мусорным мешком, собирает с травы пакеты и пивные банки. Я иду в дальний конец сада и нахожу рядом с туалетами куст, здесь я могу залечь. Есть что-то очень уютное в том, чтобы лежать под зассанным кустом посреди города и спиной чувствовать мягкую землю и сырость, пробирающуюся под пиджак. Встает Луна, посылая свой свет сквозь листву. Я долго не могу уснуть: трудно без таблеток.
Просыпаюсь от звуков голосов где-то рядом. Пробираюсь сквозь ветки и листья. Парк снова принадлежит счастливым людям. Пары с корзинками для пикника, клетчатые подстилки. Девушки топлес, лежащие сиськами книзу, пока подруги мажут им спины кремом от солнца.
Медленно, делая небольшие паузы, я выхожу из парка. Ноги болят еще больше, чем вчера. Но если я собираюсь что-то предпринять, делать это надо прямо сейчас.
20
Когда я дохожу до площади Трианглен, ноги перестают меня слушаться. Они знают, он в квартире. Знают, что он скажет. Я сажусь на скамейку, прикрываю глаза и пытаюсь абстрагироваться от шума машин, от людей, нетерпеливо ждущих автобуса, от людей, на другой стороне улицы, сидящих за круглыми столиками летнего кафе, пьющих бочковое пиво, едящих сэндвичи, которые наверняка получше тех треугольных тостов с яичным салатом, что нам давали в больнице. Я пытаюсь хоть немного успокоиться. Перебираю немногочисленные варианты. Я могу поехать к матери. Полиция наверняка уже была у нее. Скорее всего, мне удастся выманить у нее пару купюр, прежде чем она позвонит в полицию и расскажет обо мне, конечно исключительно ради моего блага. Позвонит с кухни, пока я сижу в гостиной в ожидании чая. Я запросто успею ускользнуть с деньгами на билет. Но у меня нет желания говорить с мамой, не теперь и не так коротко. А то раскисну, как маленький ребенок, который начинает плакать, только когда мать увидит царапину на коленке.
Бам, бам, бам. Громкий звук рядом со мной. Я открываю глаза. Перед дверью в туалет, находящийся в этом странном круглом строении на Трианглен, стоит молодой человек. Панически дергает дверную ручку, затем снова стучит в дверь. Пинает ее.
Я встаю, подхожу к нему, кладу руку на плечо. Он поворачивается, сначала выглядит так, словно собирается ударить, затем узнает меня:
— Привет, Янус, эта чертова дыра закрыта.
Мне не надо спрашивать, что он делает, ясно, что ищет место, где сможет вмазаться.
— Чертова дыра. Черт, черт, чертова дыра.
— Я живу здесь недалеко. Пойдешь со мной?
Может, я спрашиваю просто потому, что я хороший человек, хочу помочь старому товарищу в трудную минуту. Но правда заключается в том, что я кого угодно готов привести в дом, только бы не слышать старика. Если бы здесь сам Гитлер стоял, в лаковых сапогах и портупее, я бы и ему сделал чашечку мокко, и поддакивал бы ему, говорил бы, что не все идет так, как запланировано, и — о да, это верно, люди скоры на расправу.
Он спешит, бесполезно просить его сбавить темп, я представляю, как ему плохо, пробую поспевать за ним, как могу. Он отрывисто, сквозь зубы описывает ситуацию. Что Вестебро наводнен полицией, что у них сегодня облава и он не смог найти ни одного продавца. А если бы ему и удалось что-то найти, полиция бы наверняка отняла у него это что-то. А ему не по кайфу попасться им в лапы. И тогда он вспомнил про одного парня, который недалеко живет, не очень хорошего знакомого, но кое-что у него было, и он взял с него за это больше, чем достаточно, но разве поторгуешься, когда тебя всего трясет.
Я быстро отпираю дверь в подъезд, он скачет по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Открываю дверь в квартиру, и еще до того, как вынимаю ключ из замка, он уже стоит в гостиной. Когда я приближаюсь, он весь ходуном ходит.
— Я могу уйти в туалет.
— Как хочешь.
Он садится на кожаный диван, вынимает снаряжение из внутреннего кармана. Качает руку, туго перетягивает жгутом. Не хочу на него глазеть, но не могу остановиться. Как будто смотришь на искусного хирурга или на пианиста мирового уровня. Руки точно знают, что делать, никаких лишних движений. Наркотик располагается на согнутой ложке. Нагревается зажигалкой, пузырится. Он забирает его шприцем через кусочек ваты. Пару раз щелкает по шприцу, находит хорошую вену, место на руке, где темных пятен поменьше. Набирает шприцем кровь, а затем вводит содержимое в руку.
Откидывается, взгляд становится отсутствующим, и следующие десять минут он в отключке. Затем собирает снаряжение, кладет окровавленный шприц в пакет вместе со всем остальным и засовывает обратно в карман. Теперь он снова человек, человек, который, может, вовсе и не гордится тем, что он наркоман.
Я познакомился с Мартином в то бездомное лето. Он не жил на улице, но любил зависать с нами, курить гашиш, пить пиво. Ему тогда было чуть за двадцать, пару лет назад он закончил гимназию и в основном проводил время, болтаясь там-сям, пытаясь решить, хочет ли он учиться и чего он вообще хочет. Говорил, что хотел бы стать музыкальным критиком, писать о рок-музыке, мог бы тогда получать деньги за то, что ходит на концерты и курит гаш. Я не думал, что он это всерьез, пока один раз не попал к нему домой. У него было самое большое собрание виниловых пластинок, какое я когда-либо видел. Старые альбомы Led Zeppelin, Pink Floyd, Ника Кейва. Масса групп, начинающихся на «the», вроде The Ramones, The Pixies, The Clash. Я тогда воспринимал его как своего рода шикарного неудачника, парня, очарованного уличной жизнью, всеми теми историями, которые там рассказывались, но который мог ночью вернуться домой, в теплую постель. Я и сам был не хуже, мостов еще не сжег и мог в любой момент вернуться домой, к маме и попросить пожарить мне свининки.
Я сделал ему чашку «Нескафе». Он отхлебывает кофе, закуривает сигарету, откидывается назад, только теперь обращает внимание на погром в квартире. Растерянно осматривается:
— Что за хрень здесь случилась?
— Маленькая авария. Это квартира моего брата.
— Да, похоже на то… Большая маленькая авария. Как твои дела, Янус? Как мои, ты знаешь.
— Потихоньку.
— Именно так и принято говорить.
— Да, так принято. Меня только выписали.
— Да, я слышал, что ты попал в психушку, но не верил.
— Это правда. Четыре года и еще до этого несколько раз по мелочи.
— Чер-р-р-рт!
— Да, красная карта[3] и так далее.
— Красная карта? Так тебя положили принудительно?
— Ага.
— О чем я хотел сказать… Эта карта. Она на самом деле красная, или это просто…
— Нет, не красная, а желтая карта — не желтая.[4]
— Нет?
— Нет. Глупо махать цветными бумажками перед носом у психопата. Очень глупо. Кого угодно может спровоцировать. Поверь мне.
Он смеется, он так мало места занимает на диване, наверное, похудел как минимум на двадцать кило, с тех пор как я пил с ним пиво на Нюхаун. Он выпрямляется, смотрит на меня внимательнее:
— Никогда бы не подумал. А что случилось?
— Просто я немного тронулся.
— И что, эту проблему не могла решить хорошая трубка ганджи?
— Врачи так не думали.
Он снова смеется, задумчиво почесывает руку и опускает рукав. Делает глоток кофе, бычкует и закуривает снова. И вот мы сидим тут так славно, а я вижу, как по его телу распространяется ВИЧ. Бежит от дырочки от укола в руке, через вены, выступающие, как железнодорожные пути на карте страны. Вижу, как лечение истончает его черты, вижу, как он становится еще тоньше, вижу, как кожа повисает на костях.
— Янус… эй, что с тобой?
Я ничего не говорю, иду в спальню и быстро глотаю две быстродействующие таблетки. В спальне все еще стоит запах сигарилл. Быстро назад, в гостиную.
— Хочешь еще кофе?
Я иду На кухню, пью воду из-под крана, чтобы хоть немного смыть горечь от таблеток.
— Нет, спасибо, у меня еще есть.
Я снова усаживаюсь в гостиной, почти в страхе, что он все же уйдет, оставив меня наедине с моей головой. Он собирается что-то сказать, но сдерживается. Делает глоток кофе и затем осторожно начинает:
— Слушай… я подумал… у тебя деньги есть? Это все потому, что я потратил последние деньги на это говно, больше на присыпку тянет, чем на героин. А мне еще понадобится, и довольно скоро, если я хочу спать ночью.
— Нет. Я бы сказал, если бы у меня было.
— Я не выпрашиваю, правда. Ты и так был очень добр ко мне.
И я ему верю. Правила улицы таковы, что тот, кто имеет, делится с другими. Так делали мы, когда я бродяжничал, и все джанки тоже так делают. Поэтому столькие из них больны СПИДом, одним шприцем ведь колются.
— Если бы не эта твоя авария, мы могли бы что-нибудь продать.
Он обводит квартиру рукой. Я хочу ответить, но толком не могу объяснить, почему с моральной точки зрения предосудительнее продавать вещи моего брата, чем просто ломать их.
Он встает и подходит к телевизору:
— А как насчет этого?
И как ему нужны деньги на вечернюю дозу, так и мне нужны деньги на билет.
— Думаешь, мы сможем за него что-нибудь получить?
— Ты в уме? «Банг энд Олуфсен» идет как горячий хлеб. Ноутбуки и «Банг энд Олуфсен».
Он роется в кармане брюк, вытаскивает грязный клочок бумаги с номером телефона.
— Может, он купит.
21
Стоя на улице с телевизором, мы высматриваем такси. Мартин считает, что мы можем дотащить его пешком. Короткими перебежками. Чем больше мы потратим денег, тем меньше останется на героин. Но сегодня я больше не могу ходить. Я спрашиваю, кто его купит. Мартин отвечает, вытянув руку в попытке поймать очередную машину:
— Он нормальный парень. Думаю, в основном он занимается скупкой, чтобы было с кем поговорить. Притащишь ему диски, так он спросит, не хочешь ли ты их с ним посмотреть. Пару недель назад я продал ему CD-плеер, так мы выпили с ним его же ящик пива, а потом он так нажрался, что подарил мне этот плеер. Я, дескать, ему настоящий друг, он хочет, чтобы это было у меня. И я ушел от него с деньгами и плеером под мышкой.
Еще одно такси проезжает мимо. Опытный таксист чует наркомана издалека.
— Может, мне попробовать.
Мартин понимает, что я имею в виду. Встав у стены дома, он разглядывает свои руки.
Следующее такси останавливается перед нами, мы подтаскиваем телевизор и ставим на заднее сиденье, я сажусь рядом, Мартин — вперед. По дороге мы разговариваем мало, буквально несколько фраз о хорошей погоде и сколько она простоит, боимся сболтнуть что-нибудь, что пробудит в шофере подозрения.
Такси въезжает на тротуар перед низким жилым корпусом с маленькой детской площадкой, на которой играют несколько детей. Мартин вылезает, обходит машину и открывает дверь со стороны телевизора.
— Мы сейчас вернемся с деньгами, нам их нужно забрать.
Шофер поворачивается на сиденье, кладет руку на телевизор:
— Он постоит, пока вы не вернетесь с деньгами.
— Хрен тебе, этот телик подороже стоит, чем вонючая поездка на такси.
— Он останется, вернетесь с деньгами — получите телик.
— Как будто мы с ним можем куда-нибудь смыться, подумай сам!
Мы вытаскиваем телевизор, шофер уже не пытается его удержать. Нас двое против одного, да и Мартин привел хороший довод. Мы несем телевизор до одного из ближайших подъездов; поддерживая ношу коленом, Мартин звонит в домофон. Через пару минут нам отвечают. Мы втаскиваем телевизор на первый этаж.
Он стоит, с трудом помещаясь в дверном проеме, ждет нас.
Ему под тридцать или чуть за тридцать, но на первый взгляд он выглядит старше из-за жира. Большие круглые щеки и глаза, исчезающие в складках мяса. На нем тенниска, совершенно растянутая, и треники с пузырями. Он отступает на пару шагов, чтобы мы могли войти и поставить телевизор.
С нами тремя и телевизором в прихожей не продохнуть.
— Деньги у тебя?
— Да, но я могу заплатить только четыре тысячи. Это старая модель.
— Да ни хрена подобного, разуй глаза.
— Четыре тысячи, я дам за него четыре тысячи. Цвета на этой модели не очень…
— Да плевать мне на цвета, мы договаривались на пять, так что будь любезен, давай пять.
С улицы слышен гудок такси, похоже, шофер теряет терпение.
— О'кей, дай-ка денег, поговорим, когда вернусь.
Медвежонок, переваливаясь, идет через прихожую.
Кто-то отодрал дверной косяк, видны голые кирпичи. Явно не без умысла, даже без косяка ему трудно протиснуться. Мы идем за ним. Гостиная маленькая, стены светло-желтые. Воздух затхлый, пахнет потом. Он обходит кафельный столик, опирается на подлокотник старого дивана, обтянутого черной кожей. Медленно наклоняется вперед и пытается вытащить что-то из-под диванной подушки. Я отступаю на пару шагов, так, что оказываюсь в дверном проеме, Мартин стоит между мной и толстяком. Не могу сказать, что нервничаю: что бы он там ни пытался выудить, это происходит как в замедленной съемке. Он отдувается, отодвигает потную прядь со лба. Затем сдается и садится. Диван под ним прогибается, он проваливается вниз. Затем наклоняется и шарит между ног, пока не находит под подушкой пачку денег.
Мартин берет у него из руки пару купюр и убегает.
Медвежонок виновато смотрит на меня с дивана, пытается изобразить подобие улыбки. Непросто это, привести в движение такое количество жира. Он кладет пачку денег перед собой на столик.
— Хочешь пива? Есть холодненькое.
Я качаю головой, избегаю на него смотреть. На стене висит полка, на которой стоит его фотография в солдатской форме. Я беру ее в руки, рамка из темного дерева покрыта тонким слоем жирной пыли. На фотографии он улыбается, у него короткие волосы и на макушке — зеленый берет. Очень крепкий солдат, с большими щеками-яблоками, но совсем не такой жирный, как теперь.
— Там еще чипсы есть, если…
Краем глаза я вижу, как он царапает засохшее пятно на колене.
Мартин шумно захлопывает за собой дверь, врывается в гостиную. Я борюсь с подступающей тошнотой, тяжелый запах псины, хотя не думаю, что у него есть собака. Такое чувство, что квартира стала меньше. Мартин орет, аж слюна изо рта брызжет:
— Послушай, жирный дурак, мы договорились на пять тысяч, так что о четырех даже не заикайся.
— Я думал, это другая модель, такую я вообще-то не хочу…
Мартин уже стоит рядом с ним, хватает его за одну из жировых складок, сжимает.
— Мы договорились, ты не смеешь…
— У меня больше нет, честно. У меня правда больше нет, если заглянешь в другой раз, тогда…
— У нас уговор, уговор дороже денег. Да я тебя насквозь проткну, черт возьми!
Как грустно он выглядит на этом диване, нижняя губа дрожит, по-моему, он сейчас заплачет.
— Если бы у меня было больше денег…
Помещение совершенно определенно стало меньше.
О боже, мы потеряли метр, может, полтора. Я знаю, в этой убогой квартирке все те же тридцать квадратов, что были всегда. Но чем это может мне помочь, если комната становится меньше. О боже, еще метра нет, скоро я окажусь так близко к мужику на диване, что почувствую вкус пота между складок на его животе, и эту постоянную влажность между его гигантскими ягодицами, и капли пота, медленно сбегающие по волосам подмышек. О боже, еще метр. Я хватаю Мартина за руку, одни кости.
— Господи, Мартин, пусть будет четыре.
Мартин отступает на два шага, с шумом втягивает воздух носом. Это не вопрос денег, речь идет исключительно о маленьких пакетиках с порошком. При хорошем раскладе ему, может быть, удастся взять еще одну дозу на последние причитающиеся ему пять сотен. Его кулаки по-прежнему сжаты.
— Господи, да нет у него денег.
Я произношу это как можно спокойнее, хотя стены медленно продолжают сдвигаться.
Жиртрест благодарно смотрит с дивана. Большое трясущееся лицо с каплей пота, свисающей с кончика носа. И я почти уверен, что, когда она упадет, я почувствую вкус соли.
— Это правда… У меня правда больше нет.
Мартин смотрит на меня, разжимает кулаки.
— Хорошо. Хорошо, пусть будет четыре, но тогда жирдяйчик платит за такси.
Жирдяйчик пересчитывает деньги на кафельном столике. Досчитывает до четырех тысяч, сидит и держит лишние пятьдесят крон, пока Мартин не берет их у него из рук.
— Но вы его подключите. Хочу посмотреть, в порядке ли цвета.
Может, они не в порядке. Особенно после того, как его везли в машине. Транспортировали.
Мартин пересчитывает деньги.
— Это тебе не какой-нибудь вонючий «L'easy».
— Я хочу посмотреть, в порядке ли цвета.
— Так подключи его сам.
Жирдяйчик смотрит в пол, а может, на живот:
— Я не могу.
Прочь. Я набираю полную грудь воздуха и засовываю в рот еще одну таблетку. Мы делим деньги, я отдаю Мартину последний полтинник.
— Хочешь зайти, познакомиться с моим пацаном?
Мартин широко улыбается, у него все еще героин в крови — а теперь еще и деньги на кармане.
— Ко мне нечасто приходят гости. Я не желаю, чтобы у меня торчали джанки. Знаю, что ты скажешь: посмотри на себя. Но джанки болтают много лишнего. Говорят только о наркоте. Где взяли, у кого хороший товар, у кого вообще есть товар. Сколько стоит, как денег достать. Я хочу, чтобы он видел: у папы есть нормальные друзья.
Все равно уже поздно куда-либо ехать, а домой пока возвращаться не хочется, не уверен, что я буду там один. Мартин живет недалеко отсюда. Пять минут пешкодралом, еще один низкий жилой корпус на Северо-Западе, на границе с районом Биспебьёрг.
Еще за закрытой дверью мы слышим шум телевизора.
Мальчик сидит на краю дивана и пялится в телик, там дерутся собака в костюме супергероя и крокодил с черной палкой и сигарой. Миловидный мальчик со светлыми жирными волосами и беспокойными глазами. На журнальном столике перед ним лежит пакет с булками, пара штук вынуты, на них видны следы зубов. Штора задернута, телевизор — единственное, что освещает комнату. Мебель дешевая, когда-то, может, и была красивой, но теперь попросту износилась. Мальчик не слышал, как мы пришли, он поднимает глаза, только когда мы входим в комнату. Подбегает, обнимает отца, цепляется за его ноги. Мартин гладит сына по голове:
— Поздоровайся с папиным другом.
Он прячется за ноги Мартина, испытующе на меня смотрит.
— Это мой друг Янус, он хороший.
Я улыбаюсь, стараясь выглядеть дружелюбно:
— Приветик.
Я не умею общаться с детьми, никогда с ними не сталкивался.
Мартин берет его на руки. Он утыкается отцу в плечо.
— Ты голоден, малыш?
Он молча кивает.
— Как ты смотришь на то, чтобы всем вместе пойти в «Макдональдс»?
Тут мы снова видим его лицо. Он энергично кивает. Смотрит на меня, уже не такой напуганный. Если мы вместе пойдем в «Макдональдс», то, наверное, я не такой уж скверный. Мартин улыбается мне:
— Пойдешь с нами? Я угощаю.
— Мой брат угощает.
Он смеется:
— Да, так пойдешь с нами?
Мы берем такси до Ратушной площади. Сначала мы ждали автобуса, но Мартину стало невтерпеж. Я сижу на переднем сиденье, в зеркало видно, как малыш привалился к отцу. Мартин достает из кармана пачку денег, платит, малыш с удивлением смотрит на купюры, но вопросов не задает. Мы заходим в «Макдональдс» на Вестеброгаде. Проходим по грязным, когда-то белым, плиткам, мимо большого клоуна из папье-маше. Стоим в очереди с мальчишками в широченной одежде — Карл Кани, ФУБУ, одежда, в которой они похожи на миниатюрных наркоторговцев из Гарлема. И с родителями, которым надо покормить своих беспокойных детей перед или после кино. У продавщицы плохая кожа, она выглядит усталой и разгоряченной под козырьком своей голубой бейсболки. Мы покупаем гамбургеры, картошку фри, молочные коктейли, продукты, которые начинаются на «мак-». Находим столик в зале для курящих с маленькой одноразовой пепельницей из фольги. У меня нет аппетита, но я знаю, что поесть надо, и запихиваю в себя гамбургер. Мартин съедает пару ломтиков картошки и жадно выпивает половину своего коктейля.
— Ты не мог бы присмотреть за ним пять минут, мне нужно отойти.
Я киваю. Он быстро встает и исчезает.
Я смотрю на мальчика, он занят игрушкой из набора «Хэппи мил». Пластмассовым динозавром, которого он собрал и прогуливает по пустым картонным коробкам и картошке в пластиковом лотке. Динозавр все время теряет хвост, и его приходится приделывать на место.
И я знаю, что единственная причина, по которой меня познакомили с мальчиком, — это чтобы я покараулил его, пока папа достает еще яду, чтобы пустить его по вене. И я не могу на него злиться, так поступают джанки, они используют других. Хотят они того или нет, остановиться они не могут, это чистый инстинкт, как будто составная часть того вещества, что они себе вводят.
Вернувшись, Мартин виновато мне улыбается, знает, что я знаю, что он выходил, чтобы замутить. Он садится, не может найти себе места. Проводит рукой по светлым волосам сына:
— Ты закончил с картошкой, малыш?
Мальчик снова приделывает хвост динозавру.
— Пойдем.
Руки чешутся, и он быстро поднимает мальчика. Я прощаюсь с ними у остановки на Ратушной.
22
Я принимаю ванну и вынимаю одежду из шкафа брата. Темно-серые хлопковые брюки и тенниска. Я похож на пай-мальчика из финансовой академии, идущего поиграть в теннис.
Весь день после обеда шел дождь. Лучше не стало и когда поезд выехал за пределы Копенгагена. Я направляюсь в городок, где предположительно живет Амина. Напротив меня сидит молодая пара. Они целуются и ерошат друг другу волосы. Я их не смущаю. А если и смущаю, то это их не останавливает. Ее рассердила какая-то его фраза, она отворачивается и смотрит в окно. Он делает вид, что ничего не произошло, надевает наушники. Через какое-то время ему надоедает ее игнорировать, он целует ее в шею, дует за шиворот. Она вертится и смеется. Целует его в ответ.
На всех станциях мимо проносится одна и та же реклама: блондинка в золотистом бикини на пляжном лежаке, с ноги свисает золотистая сандалия. Сандалия указывает на меня. Поезд снижает скорость, визжат тормоза. Через час с небольшим я на месте. С перрона вниз, к почти пустой парковке, ведут лестницы. Слева от парковки — гриль-бар, зеленый деревянный домик с пластиковым флажком, на котором изображены гамбургеры, колбаски и котлетки в окружении картофеля фри. У стены припаркован мотороллер. Внутри на высоком стуле у стойки сидит пожилой человек в стеганом синем жилете, он облизывает пальцы и бросает на меня безразличный взгляд, когда я прохожу мимо.
Я перехожу дорогу и выхожу на улицу, по всей видимости играющую здесь роль центральной, — на маленькую пешеходную улицу, ведущую к торговому центру со стеклянным фасадом. Я прохожу мимо на первый взгляд закрытого магазинчика мороженого. Миную пару обувных магазинов и кафе со стоящим на улице аппаратом для разлива пива. Внутри сидят мужчины, пьют пиво. На дальней стене висят «Полуночники» Эдварда Хоппера, лица на картине заменены лицами Богарта, Джеймса Дина и Мэрилин Монро. На окне висит довольно беспомощно нарисованная красным маркером на белом куске картона реклама молочных коктейлей: «Лучшие в Дании» — написано там. Один из мужчин громко смеется. Улица пуста, тишину внезапно нарушает проезжающий на форсированном мотороллере молодой человек в бейсболке, надетой задом наперед.
Я смотрю на страницы, вырванные мною из телефонного справочника брата. Синей ручкой я нарисовал маршрут. Теперь надо только разобраться, где у карты верх, а где низ. Я не привык читать карту, не привык вообще самостоятельно что-нибудь находить. Иду по какой-то улице слева от торгового центра. Следую маршруту, название улицы пока соответствует названию на карте. Затем поворачиваю направо у низкого бетонного здания с табличкой «Школа». В окнах висят вырезанные из цветной бумаги бабочки, красные, желтые и синие. В конце улицы я нахожу его. Двухэтажный дом из желтого кирпича с плоской крышей.
Берусь за ручку, дверь открывается: похоже, взломана. В прихожей темновато. Влажный воздух. Две двери, на обеих написано: «Частная собственность», и лестница, по которой я поднимаюсь. На втором этаже — узкий коридор с дверями по обе стороны, на полу — зеленый ковер (похоже, его не стирали с тех пор, как был построен дом), обои с желтоватым узором. Видимо, здесь и живет Амина. Комната четыре. Прямо как в больнице, люди живут здесь в комнатах с номерами.
Номера три не существует. Один, два и сразу пять перед номером четыре. Номера написаны на дверях черной краской. Я стучу в дверь, а рука дрожит. Ответа нет. Я стучу снова, сильнее. Опять ничего. Затем открывается дверь на противоположной стороне, в самом конце коридора. Выходит женщина средних лет, между указательным и средним пальцами у нее крепко зажата сигарета, губы накрашены ярко-красной помадой.
— Чего вам?
— Я ищу Амину.
— Здесь вы ее не найдете.
Она ковыляет ко мне. Не очень трезвая, но держит себя в руках. Когда знаком с симптомами, их трудно не заметить. Легкая томность в голосе, осанка, тело всегда чуть наклонено вперед, большую часть работы при ходьбе делает сила тяжести. А может, почки болят. Следом бежит шавка. Все время на шаг позади или впереди нее. Она подходит ближе, и я вижу, что фильтр сигареты вымазан тем же красным цветом, что и губы.
— Амина здесь больше не живет, я ее выгнала. И вовремя.
Песик прыгает ей на ноги, тявкает, чтобы привлечь внимание.
— Тихо, Шейла, тихо, я разговариваю с человеком.
Она слегка отталкивает собаку ногой.
— Посмотрите комнату? Может, хотите снять?
Я киваю.
Она вынимает из халата связку ключей, отпирает дверь.
— Вообще-то она казалась милой девушкой, было совершенно незаметно, что она из этих… Может, потому я и дала себя обмануть. Такая симпатичная девушка, говорила по-датски и все такое. Надо было задуматься, когда я услышала, как ее зовут.
Она толкает дверь. Собачка бежит впереди. Она находит выключатель справа от двери и включает свет.
— Вы не подумайте, я вообще-то против них ничего не имею. Просто не хочу сдавать им комнаты. Я сдаю только приличным людям… Ну вот, смотрите…
Комната не более пары метров в длину и ширину. Стены когда-то были белыми, но теперь окрашены сыростью и сигаретным дымом. У стены — кровать без простыни, на матрасе — большие пятна. Пахнет сыростью и грязью.
Она подходит к окну и отдергивает зеленые шторы.
Справа — дверь в ванную. Открываю. Воздух затхлый, влажный. Кафель на полу разбит.
— Если соберетесь снять, мы можем ее подремонтировать. Повесить новые шторы. Можете у меня телевизор одолжить. Он небольшой, но работает. Со мной можно ладить, сами увидите. И с ней мы ладили, хоть имя у нее и было странное.
— Сколько она здесь прожила?
— Может, чуть больше года. Сначала казалась такой приятной девушкой. Она мне правда очень нравилась. Однажды я пригласила ее к себе попить кофе. Но потом начал ходить этот парень.
— Парень?
— Да, такой, темненький.
— Они были женаты?
— Вот уж не знаю. Знаю, что сюда начал таскаться темненький парень, и я не понимала ни слова из того, что они говорили…
— И вы ее выгнали?
— Да, но, конечно, не сразу. Зачем мне проблемы? Но с тех пор, как он начал к ней ходить, нам больше не стало покоя. А когда он к ней переехал, вот тут-то началось. Но со мной можно ладить, я просто сказала, что если они собираются здесь жить, то должны платить больше.
— И они здесь оба жили? В этой комнате?
— Да, комната небольшая. Но они наверняка к такому привыкшие…
— Что вы имеете в виду?
— Ну, им ведь не нужно много места, этим… Они и по восемь человек могут жить в такой комнатке. Братья двоюродные, сестры, весь кагал.
— Сколько они здесь прожили?
— Месяцев несколько. Она все ж такая приятная была девушка, нравилась мне, я уже говорила. Все испортилось, когда этот ее друг переехал.
— Как испортилось?
— Эта их странная музыка и скандалы до полуночи. И машины, все время машины, приезжали посреди ночи, стояли и газовали. Из окон музыка эта дикая. Мне пришлось это прекратить.
— Да, с таким надо быть поосторожнее.
— И знаете что, я-то думала, она такая милая девушка. Казалась очень славной. Только когда вместе их увидишь, тогда только и заметно, что она тоже из этих…
— Из черножопых?
— Да…
Я смотрю в окно, у Амины была комната с видом на парковку за супермаркетом. Перевернутые тележки и мусорный контейнер. Я вынимаю из кармана пузырек с лекарством.
— Что это у вас там?
— Лекарство.
— Да? Вы что, аллергик?
— Это чтобы я тебя не задушил.
Ее шавка с лаем принимается прыгать на мою ногу.
— Убери свою вонючую псину, пока я ей ноги не вырвал.
Я оставляю ее в комнате номер четыре, успокаивать собаку.
23
Началось это в поезде, а в автобусе от Эстепорт стало еще хуже. Дрожь в руках, сильная потливость. Если бы я не был болен столько лет, подумал бы, что подхватил грипп. Но симптомы мне знакомы: скоро начнется приступ. Сильный. В голове слышно громкое бормотание, все чувства обостряются: звуки становятся громче, цвета — ярче. Через пару часов я буду потерян для мира. Я думаю о Карле, парне, с которым мы лежали в больнице. Выписавшись, он начал носить прибор для измерения пульса. Вокруг груди затягивался ремень, от которого на часы шла информация о пульсе. Он делал все, чтобы пульс не учащался. Если его окружали люди, которые его нервировали, и пульс учащался, он уходил. Позволял автобусу уйти из-под носа, лишь бы не ускорять ходьбы. Но это не помогло, он рассказал мне об этом, когда снова попал в больницу.
Я вхожу в квартиру брата. Пью лекарство. Нахожу снотворное. Принимаю пять таблеток. Недостаточно, чтобы умереть, если только я не уподоблюсь Джими Хендриксу и не захлебнусь собственной блевотой. Надо отключиться, пока мозг не взорвался к чертям.
Или можно возвращаться в больницу. Такого тебе не пропишет ни один врач, но я не знаю, что еще можно сделать. Лежу в кровати, сердце так колотится, что мне слышно звук. Бам, бам, бам, бам, как большой барабан, каннибалы готовят котел. Вся одежда пропиталась потом. Тут свет погас.
24
На следующий день я просыпаюсь уже за полдень. Снотворное еще не выветрилось, но психоз прошел. Выпиваю полный кофейник крепкого кофе. Пытаюсь преодолеть действие снотворного: хожу по квартире, хожу вверх и вниз по лестницами, между гостиной и кухней, обратно в спальню, затем снова на кухню. Принимаю холодную ванну и одеваюсь.
Пойду пешком. Идти далеко, но погода хорошая, а после вчерашнего приступа я боюсь рисковать. Не доверяю автобусам. Или себе.
Короткая дорожка, по обеим сторонам изгородь. Дорожка ведет к маленькой площадке с лавочками, расположенной перед низким бетонным строением. Рядом с дверью — латунная табличка с названием кризисного центра. «Предоставление помощи женщинам» — написано внизу. Я миную две двери, предбанник, вхожу в приемную. Самая обычная госконтора: стойка, стулья вдоль белой стены. Несколько репродукций то ли Моне, то ли Мане и детские рисунки в рамках. Женщина за стойкой что-то перепечатывает на компьютере с листа А4, лежащего рядом. Ей лет сорок с небольшим, на шее на нитке жемчуга висят очки для чтения. Волосы темные, окрашены в рыжеватый цвет.
— Извините.
Еще пара щелчков мышкой, и она дружелюбно на меня смотрит:
— Мужчинам здесь находиться запрещено.
— Я ищу одну девушку.
— К сожалению, не могу вам помочь.
Из правой двери выходит молодая азиатка. У нее на лице большой синяк, голубой, но уже начавший лиловеть. Увидев меня, она снова исчезает за дверью.
— К вам, вероятно, обращалась девушка по имени Амина, турчанка.
— К сожалению, я не могу вам помочь, мужчинам здесь находиться запрещено.
— Я ее друг.
— К сожалению, таковы наши правила.
Она смотрит куда-то через мое плечо, и только теперь я замечаю охранника, она, видно, сидела у двери. Здоровая светловолосая женщина, возраст примерно между тридцатью и сорока, в униформе, с большой грудью, оттопыривающей синюю ткань.
— Я просто хочу узнать, есть ли у вас ее адрес, ее новый адрес.
— Я не могу вам помочь, вынуждена попросить вас уйти. Как я уже сказала, мужчинам здесь находиться запрещено.
Одну руку охранница кладет мне на плечо, а другой берет за локоть. Всего только легкое прикосновение.
— Я просто хочу знать, что с ней случилось.
Женщина за стойкой снова поворачивается к компьютеру. Захват усиливается, и охранница ведет меня к двери. Положив руку на спину, не толкая, а всего лишь подсказывая направление, не грубо, но очень профессионально. Я не сопротивляюсь, я умею слушаться, я приучен делать, что говорят, я знаю, что в противном случае может произойти. Она открывает дверь и выводит меня. Встает перед дверью, скрестив руки на груди.
— Я просто хотел…
— Мы не можем вам помочь. Вы слышали, что она сказала?
— Но я не хочу ничего плохого, я…
— Идите домой. Если у девушки есть желание поговорить с вами, она сама вам позвонит.
— У нее нет моего телефона. Как она мне позвонит, если у нее нет…
— Лучше идите домой.
Я размышляю: может, есть волшебные слова, которые заставят ее понять, что я не бывший муж или любовник. Сезам, откройся. Она машет рукой: прогоняет, как собаку. Затем входит в здание и закрывает за собой дверь.
Бреду прочь. По асфальтированной площадке. Мне сказали, что делать. Затем поворачиваю. В дверь. Три быстрых прыжка к стойке, женщина испуганно на меня смотрит, словно я хочу дотянуться до нее и ударить.
— Я просто хочу знать: вы видели Амину?
Охранница уже рядом, заламывает мне руку. Она сильнее, чем я думал. Больше ничего сказать я не успеваю, потому что она разворачивает меня, и мы снова идем к выходу. Она толкает дверь ногой. Выйдя на улицу, пихает меня в спину так, что я падаю. Надеюсь, об Амине здесь заботились с таким же рвением.
— Если еще не дошло: катись отсюда, пока мы не позвонили в полицию.
Она уходит, закрывает за собой дверь. Я встаю, отряхиваю руки и лицо от гравия. Такие сволочи эти камешки: прямо под кожу проникают, ну как в детстве, когда упадешь с велосипеда.
Иду обратно, к двери.
25
Я стою перед дверью Анны. Глаз дергает, вижу с трудом. Стучу в дверь — никто не отвечает. Я нашел ее адрес на старой открытке. Снова стучу, дверь открывается, в проеме стоит Анна. В черной футболке с пятнами свежей краски, с отросшими волосами, светлые дреды похожи на пряжу. Сначала она смотрит удивленно, затем узнает меня. Несколько раз называет по имени, притягивает и крепко обнимает.
— Янус… О черт, теперь ты в краске.
— Не страшно.
Говорить больно.
— Что с тобой случилось, ты сбежал?
— Нет-нет, меня выписали.
— Ты подрался?
— Нет… Я расскажу.
Маленькая прихожая ведет в большую мансарду, превращенную в мастерскую. К наклонным стенам прислонены картины, посредине стоит большой мольберт с еще влажным от краски холстом. На оциклеванных досках пола пятна краски. Повсюду грязные кофейные чашки и винные бокалы.
— Ты садись, я сейчас тобой займусь.
Она пододвигает ко мне табурет и исчезает в другой комнате. Я вынимаю из кармана сигареты: большая часть сломана, но мне удается найти одну, которая просто согнута. Эта сигарета напоминает мне о рекламных кампаниях, ну таких, в них еще курильщиков пугают импотенцией. Анна возвращается с пакетом голубых ватных шариков и бутылочкой с прозрачной жидкостью.
— Будет немного больно, но, если не обработать, может начаться воспаление.
Она смачивает пару ватных шариков в жидкости и протирает мне лоб. Затем бровь, очень осторожно. Она встает так, что мои колени оказываются у нее между ног, совсем как мама, когда та, бывало, стригла меня, маленького. Бровь щиплет, я сжимаю зубы. Давно я не находился так близко к девушке.
— У меня когда-то была подруга. Тусовалась с панками в Доме молодежи. И вот она попросила своего парня сделать ей пирсинг между бровями. Ну, ты знаешь технологию: иголка, кубик льда и вперед. Сначала все было хорошо, но потом началось воспаление, и две недели она ходила со здоровенным рогом между глаз.
Думаю, она рассказывает это, чтобы я не фиксировался на боли. Она выкидывает ватку.
— С бровью тебе повезло, похоже, зашивать не придется.
— А у тебя, наверное, и иголка с ниткой имеется?
Она больше не спрашивает, что случилось. И уже за одно это зарабатывает кучу очков. Берет новую ватку, слегка смачивает. Осторожно протирает мне ухо. Очень жжется.
— А здесь ничего себе…
— Да, нормально, вполне подходящее место для работы… Это мой… как, блин, это называется… мой импресарио, это он нашел.
— Какое дорогое слово.
— Да.
— Наверное, хороший мужик.
— Ага, даже не очень обиделся, когда я отказалась его трахать.
Анна лежала со мной в больнице, но ее выписали пару лет назад. В больнице она все время рисовала на клочках бумаги, карандашом, ручкой, всем, что попадалось. Была неразговорчива, держалась в основном особняком, но нравилась мне. Врачи относились к ее мании калякать на всем, что ни попадя, как к симптому болезни, пока один специалист по двигательной терапии не решил, что стоит попытать счастья в этом направлении. Он достал ей коробку цветных мелков и еще что-то в этом духе. Год с небольшим назад я получил от нее открытку. Из галереи, выставляющей ее картины. Она писала, что, если я когда-нибудь удеру, то обязательно должен заглянуть к ней.
Она протирает мне шею и кидает красную ватку к другим клочочкам.
— Вот так, а будет еще лучше. А теперь осталось найти что-нибудь обезболивающее.
Она подходит к пакету, прислоненному к стене, и вынимает бутылку белого вина, зажимает ее между ног и вытаскивает пробку. Затем берет из шкафчика на стене два бокала, наполняет их и протягивает один мне. Приветственно приподнимает свой бокал:
— За доктора Петерсона, старого психопата.
— И за всех нас, шизиков!
Мы чокаемся так, что вино выплескивается и течет по пальцам.
Сидя за обеденным столиком, мы наполняем и так уже переполненные пепельницы, одновременно обрабатывая бутылочку. Губа болит, я стараюсь не шевелить разбитой стороной.
— Я скучала по тебе, говнюк, сто лет прошло.
— Я боялся, что ты не захочешь меня видеть.
— Чушь какая. Ты не получил мою открытку?
— Получил… но с тех пор много времени утекло. Могло ведь статься, что ты не захочешь вспоминать больницу.
— Я каждый день вспоминаю больницу. Мне за это деньги платят. Я зарабатываю тем, что я шизофреник.
Я подхожу к мольберту. Красные и черные цвета сражаются друг с другом на полотне. Наверху слева в холсте большая прореха. Рядом на табурете лежит канцелярский нож, на лезвии и ниже, на ручке, подсыхает красная краска.
— Большинство моих картин похожи. Эту я еще не совсем закончила…
— Хорошо продаются?
— Да вообще не проблема. На эту у меня уже есть покупатель. Какой-то старый осел хочет повесить ее на своей вилле в Хеллерупе и рассказывать всем, кто ее увидит, что я шизик. Они просто обожают шизиков.
— Так ты модный художник?
— Я самый модный художник с тех пор, как Бьёрн Нёргорд запихнул пони в банку с желе. Все каталоги галерей, где я выставляюсь, — все пишут о моей жизни в психушке. Это беспроигрышно. Я слышала, один студент, художник, лег в психушку, просто чтобы вставить это в свое резюме.
Она снова наполняет бокалы. Давненько я не пил вина, давненько не сидел ни с кем вот так. Анна очень изменилась. Раньше она была просто крупной девушкой в еще более крупных футболках. Вечно рваных, со слоганами типа «Долой богачей!» или «Дорогу молодежи!». У нее были короткие черные волосы и кольцо в брови, которое она вырвала во время приступа. Она выросла, ей это идет. Она ловит мой взгляд. Я отвожу глаза, она улыбается:
— Я думала о тебе. Не знаю, как бы я там выжила, если бы не ты.
— Ты бы выжила. Ты не была такой уж психопаткой.
— Нет, но я была ими окружена. Я больше получала от разговоров с тобой, чем с врачами. Они никогда не могли просто поговорить, они все время слушали: а что не так?
— Как раз за это они и получают деньги.
Мы пьем вино, и я рассказываю ей об Амине. О письмах и обо всем, и о моем походе в кризисный центр. Она понимает все лучше, чем я мог предположить. Обещает завтра туда сходить. Именно это я и хотел услышать. Ей ведь проще: скажет, что она подруга Амины, и возьмет у них адрес.
— Но сегодня вечером мы надеремся.
Анна размахивает еще одной бутылкой белого из пластикового пакета и двумя новенькими сигаретными пачками. Мы пьем, вспоминаем людей, с которыми лежали в больнице. Каспера, он спал со светом, потому что боялся исчезнуть, а Мона, она не хотела говорить с родственниками по телефону — думала, ее записывают на магнитофон. Андерс боялся, что ему вместо успокоительных колют ртуть. Мы подтрунивали над ним, говорили, что однажды сможем пользоваться им как термометром. Мы вспоминаем больничную еду, всегда имевшую один вкус, такая анонимная еда, вроде той, что дают в самолете. И врачей, которым достаточно было посмотреть на тебя две минуты, чтобы определить, какое тебе нужно лекарство.
У Анны в пакете еще несколько бутылок вина, она ставит пластинку Коулмена Хокинса на старый проигрыватель. Становится передо мной:
— Вставай, пьянчуга.
— Знаешь, я, пожалуй, лучше посижу, если ты не против.
— Вставай давай. Мы потанцуем, или вечер пропал?
— Да не могу я танцевать. Я и ходить-то не очень могу. Как же я буду…
Она берет меня за руку и тянет. Я буду потяжелее кило так на двадцать, но она все же ставит меня на ноги.
— Ну вот, а ты боялся.
Я кладу руки ей на бедра. Мы стоим, чуть покачиваясь в такт музыке. Тихо и мирно, кружимся вокруг своей оси, а Хокинс играет на саксофоне. Когда мы наступаем на одну из половых досок, пластинка подпрыгивает.
Потом я падаю на матрас, который служит одновременно кроватью и диваном. Анна вынимает из своего, судя по всему бездонного, пакета еще одну бутылку.
Мне нужно в туалет. Анна показывает дорогу.
Душевая кабина нуждается в порядочной чистке, вокруг стоят разные женские штучки. Крема, мыло, дорогая косметика в маленьких бутылочках. Писая, я крепко держусь за кран, чтобы не упасть. Я вижу себя в зеркале над раковиной. Давненько мне не удавалось полюбоваться на свое отражение, чтобы потом не воротило с души.
Лицо, конечно, разбито. Пара некрасивых царапин, глаз заплыл. Но я вполне могу мириться со своим существованием.
Бутылка опустела, и на нас наваливается усталость, в основном на меня. Мы будем спать рядом, на матрасе. Она вынимает плед и укрывает меня. Задувает стеариновые свечи, пробирается по комнате в лучах света, проникающего сквозь чердачные окна. Ложится рядом. Целует меня в лоб и натягивает на нас плед.
Мы лежим в темноте, мои веки тяжелеют, я начинаю засыпать, когда она поворачивается и прижимается ко мне. Покрывает половину моего рта своими губами. Она пьяна, но не глупа, целует меня там, где не больно. Я обнимаю ее и думаю, что, может, неплохо так немного полежать, пока не заснем. Чувствую ее тепло, ее дыхание у моего уха. Кажется, что какая-то совершенно независимая часть меня ожила. Я не могу этим управлять. Она стягивает футболку. При свете, проникающем в окна, я вижу ее грудь. Маленькие упругие груди с твердыми сосками. Молочно-белые. Она расстегивает на мне брюки. Снимает с себя оставшуюся одежду и соскальзывает вниз, ко мне. Медленно движется, сидя на мне сверху. Слезает и ложится на спину, я ложусь на нее. В этом положении мне больно, приходится беречь левую руку, но это неважно. Затем в молчании мы выкуриваем одну сигарету. Она целует меня в лоб и переворачивается на бок. Ее дыхание становится ровным. Она спит.
26
Ночью я просыпаюсь. Анна лежит наполовину укрытая пледом, я вижу обнаженную грудь и ногу до бедра. Осторожно, стараясь не разбудить ее, поднимаюсь и иду к окну. Улица безмолвна, ни машин, ни людей, издалека доносится слабый шум транспорта, визг покрышек и тормозов, но звука удара нет. Я курю и наслаждаюсь покоем. Не помню, когда в последний раз в моей голове была такая тишина. Просто стою, курю, и мне хорошо.
Анна переворачивается, не просыпаясь. Ложится на живот, обнаженная до середины спины. Хочу укрыть ее, но останавливаюсь: мне нравится то, что я вижу. Я не спросил, хорошо ли ей было, но похоже, что да. Мне не с чем сравнивать. Я не спал с девушками ни в гимназии, ни раньше. На вечеринках я был слишком занят пивом. Может, я казался чересчур неприступным, а скорее всего, сам это культивировал. Но я не мог заставить себя заговорить с какой-нибудь девушкой. Вместо этого просто делал вид, что мне неинтересно, как будто я получил то, что мне нужно, где-то в другом месте.
В больнице я больше держался особняком, сидел в своей комнате и слушал плеер. Или в общей комнате, курил сигарету за сигаретой. Как-то ко мне подошла Мерете, взяла меня за руку. У Мерете были жирные русые волосы. Ей было под тридцать, она очень растолстела из-за лекарств. Я пошел за ней, немного заинтригованный, но, в общем, безразличный. Она привела меня в свою комнату. В бутылке из-под кока-колы у нее стоял цветок, я подумал, может, из-за меня. Она уложила меня на кровать на спину. Я просто лежал и смотрел на нее. Рукой она вызвала у меня эрекцию. Стащила с себя брюки и села на меня верхом. Горячая и влажная. Вот он какой, секс, думал я. Она меня чуть не раздавила и очень потела. Пахла кисло-сладко, а когда сняла блузку, я увидел желтоватые молочные пятна на майке. Из-за сильных лекарств у некоторых иногда появляется молоко. Я кончил в нее, и она скатилась на бок. Когда я вернулся в комнату отдыха, кто-то уже стащил мои сигареты.
Я ложусь рядом с Анной. Лежу и слушаю ее спокойное дыхание. Сон приходит быстро.
27
Проснувшись, я обнаруживаю, что лежу на матрасе один. Похмелье дает о себе знать, вставать не хочется. На подносе у кровати — два круассана, две таблетки панадола, термос с кофе, чашка и полпачки сигарет. Я закуриваю и запиваю панадол кофе. Уже помогло. Сажусь на подоконник, смотрю на улицу. Народу немного. Должно быть, сегодня суббота. Молодой человек несет из супермаркета покупки в желтом пакете. Красный «фольксваген» медленно проезжает мимо, похоже, шофер ищет номер дома. Затем на улице становится пусто, пока не появляется юная мамаша, катящая велосипед с маленькой девочкой в детском сиденье. Девочка роняет игрушку, напоминающую резинового жирафа. Мать ставит велосипед на подножку, поднимает жирафа и катит дальше. Я снова курю и наливаю кофе. Мне здесь хорошо. Так можно и привыкнуть пить крепкий горячий кофе из термоса и курить сигареты, купленные Анной, сидя на ее подоконнике.
Снова смотрю на ее картины: она права, все они очень похожи. Большинство холстов покрыты черной и красной краской, некоторые — с белыми пятнами. Но все же они разные. Одни написаны широкими мазками — через весь холст, чувствуется, что в них вложили силу. Другие — более мелкими мазками, и такое впечатление, что детали проработаны более тщательно. Не знаю, есть ли смысл пытаться их понять, но это нерадостные картины, это я улавливаю. Обои из них не получатся.
В мятом каталоге художественной галереи написано, что первые выставленные картины были на ту же тему, но красные и черные полосы были намалеваны на больничной карте, которую она приклеила на холст. О ней отзываются как о многообещающем, талантливом художнике-камикадзе. Готов поручиться, она ненавидит это слово.
Я принимаю ванну и нахожу чистое полотенце, красиво сложенное на стуле рядом с дверью в ванную комнату. От полотенца приятно пахнет стиральным порошком. Я уже одеваюсь, когда возвращается Анна. На ней поношенное зеленое кожаное пальто, дреды собраны на затылке. В руке полный пакет, она ставит его у стены, улыбается мне.
— К сожалению, сегодня ничего не выгорело. Я была в этом центре, они сказали, что консультантов в выходные не бывает. А доступ к делам есть только у них.
— Но они ее знают?
— Я говорила с кем-то вроде охранника, она там работает всего две недели и сказала, что никого не знает.
Я не могу ждать до понедельника, мне хочется бежать туда, пусть мне снова достанется, лишь бы что-нибудь делать. Анна, видимо, заметила, что я нервничаю.
— Ничего не случится, если ты подождешь еще пару дней. Хоть на человека будешь похож, когда с ней встретишься.
Я не могу удержаться от улыбки, Анна ведь права.
— Кстати, у меня для тебя кое-что есть.
Я смотрю на пакет.
— Нет, здесь.
Анна задирает блузку, на ней нет лифчика. Кожа белая, нежная, соски розовые, ни большие, ни маленькие.
— Ты не хочешь распаковать свой подарок?
Сначала мы занимаемся любовью на столе, она сидит, я стою, затем на матрасе. Все для меня ново, но так легко и естественно. Потом мы лежим на спине и потеем, простыня скомкана, валяется на полу. Мы обедаем. Анна как следует затарилась: испанское чоризо, итальянский хлеб, оливки, козий сыр, некоторые продукты я никогда раньше не пробовал. Мы снова запиваем все съеденное белым вином. После обеда садимся на автобус, едем в парк, гуляем. Облачно, но не холодно. Через некоторое время я чувствую, что привык держать ее за руку.
Вечером мы доедаем остатки обеда. Потом я лежу на матрасе, курю и слушаю джаз. Анна работает над холстом, ей нужно закончить кое-что перед завтрашней отправкой в галерею. Мне нравится смотреть, как она работает. Она сосредоточена, полностью погружена в работу. Иногда, прикуривая сигарету или наливая вино в бокал, она мне улыбается. Чуть смущенно, дескать, не принимай всю эту живопись всерьез. Через пару часов она откладывает кисть.
— Если еще что-нибудь сюда добавлю, то все испорчу.
На ее футболке пятна влажной краски. Она стягивает ее через голову. Краска пропитала ткань насквозь, и одна грудь и живот ниже пупка окрашены красным. Мы снова занимаемся любовью на матрасе. Потом снова слушаем джаз. В голове звенит от выпитого и оттого, что она лежит рядом. Это довольно приятно. Мне достаточно протянуть руку, чтобы коснуться ее голого живота. Больница теперь очень далеко, со своими длинными коридорами и комнатой отдыха, где на стульях, столах, почти на всем — желтоватые следы, прожженные сигаретами. Все мои попытки подрочить, стоя в туалете, с вялым куском мяса в руках — из-за лекарств. Даже когда мне ничего не хотелось, я продолжал его теребить, чтобы снять напряжение. Когда не мог успокоить свои мысли и начинал таращиться на ноги медсестер. Даже на некрасивые, волосатые икры и толстые ляжки в медицинских сандалиях. Через сорок пять минут, в случае большой удачи, у меня на пальцах оказывалось немного вязкой жидкости.
Пластинка доиграла, игла скользит по внутреннему желобку. Анна встала с матраса, перевернула пластинку и, прикурив две сигареты от стеариновой свечки, протянула мне одну.
— Тебе не мешает, когда я смотрю, как ты пишешь?
— Нет, с искусством не надо так осторожничать. Его надо ставить на место. Знаешь, что Пикассо сказал об искусстве?
— Конечно нет.
— Он назвал его величайшим обманом в мире. Или мошенничеством, я думаю, он назвал его мошенничеством.
— Почему?
— Ну, краски, холст, кисти, все это ничего не стоит. Почти ничего. Но когда все это размажешь, наляпаешь там, сям, на этом можно банк сорвать. Мошенничество…
— Я ничего не понимаю в искусстве, Анна, но я вижу, когда что-то смертельно серьезно…
Она смотрит на меня, ничего не говорит, прижимает голову к моей подмышке, так чтобы я смог ее обнять.
Через пару часов я задуваю свечи, Анна спит, и я укрываю нас пледом.
Ночью я встаю пописать, слишком много выпито хорошего вина. Пробую не слишком разгуливаться, чтобы потом залезть обратно под плед. Выйдя из туалета, я вижу его. Он стоит в противоположном углу большой комнаты, лица не видно, стоит в тени, лунный свет из окна мансарды падает на рукав его ворсистого пальто. Если бы я не знал, что это он, я бы ничего не заметил. Это могло быть старое пальто на стоячей вешалке, могла быть одна из тех вещей, которые видишь краем глаза, находясь на полпути между сном и бодрствованием. Но я знаю, что это он, я слышу, как он бормочет. Он хочет, чтобы я подошел к нему. Хочет говорить со мной, его голос стар и слаб, он не может добраться до меня. Я делаю вид, что не вижу его. Он продолжает бормотать, но очень слабо, он боится пересечь комнату. Я сразу засыпаю.
28
Я просыпаюсь оттого, что Анна делает мне минет. Она умудрилась выудить мой член из боксеров, не разбудив меня. Он напряжен до боли. Анна улыбается и покусывает его. Не знаю, сколько времени это длится, но, кончив ей в рот, я лежу в полной прострации. Она смеется, струйка спермы стекает по подбородку. Она сплевывает в полупустой бокал со вчерашним вином и закуривает. Затем снимает с мольберта холст, кладет на пол, скатывает и засовывает в тубус. Находит в стопке одежды на полу джинсы и натягивает через голову черную кофту с капюшоном. С тубусом на плече идет в ванную, полощет рот и уходит в галерею. Я снова засыпаю.
Я просыпаюсь уже по ее возвращении. Утро давно прошло. Она садится верхом мне на грудь.
— Вставай, пора идти!
— Ты это о чем?
— Вставай же…
Она поднимается и тянет меня вверх.
— Куда мы идем?
— Узнаешь, пошли!
Я надеваю штаны и натягиваю свитер.
— Ты не видела мои носки?
— Тебе не нужны носки, эта одна из немногих привилегий, которые есть у нас, психов.
Она тянет меня за дверь. Держит за руку. Я пытаюсь завязать шнурки, но она все тащит, и я чуть не падаю. Мы выходим на улицу.
— Куда мы идем?
— Узнаешь…
— А нам вообще надо…
— Не задавай столько вопросов. Надо было тебе кольцо в нос продеть…
Мы доходим до Кристиансхаунс-Торв, и Анна ловит такси, чуть нас не задавившее. За рулем молодой пакистанец. Когда мы усаживаемся сзади, он приглушает пакистанскую попсу и спрашивает, куда ехать.
Анна нагибается вперед и шепчет ему что-то на ухо.
— Пусть это будет сюрпризом.
Он смеется, глядя на нас в зеркало заднего вида, газует и поворачивает. Мы проезжаем Ратушную площадь. Погода хорошая. По-моему, до того как я проснулся, шел дождь, но сейчас солнечно. В конце пути Анна просит меня закрыть глаза. Сначала я отказываюсь, мне не нравится в машине, и я не люблю закрывать глаза, даже когда сплю. Один психиатр занимался со мной упражнениями на доверие; не знаю точно, что случилось, но когда меня успокоили и я снова лежал в постели, то обнаружил, что до сих пор сжимаю в руке его раздавленные очки. Но Анна настаивает, и я ей уступаю, мне и самому любопытно. Такси въезжает на тротуар, и мне разрешают открыть глаза. По-моему, вход переделали, но я сразу узнаю зоопарк.
— Прямо как в детстве. Что скажешь?
— Сто лет здесь не был.
Шофер со смехом поворачивается:
— Привет тиграм.
Мы платим, он желает нам хорошей прогулки и газует. Мы встаем в очередь рядом с детьми, нетерпеливо переминающимися с ноги на ногу, держащими за руки пап и мам.
Анна покупает билеты, и мы заходим. Кажется, перенесли и магазин сувениров, но запах диких зверей и их дерьма все тот же. Мы подходим к клетке с обезьянами, и я узнаю все. Большой ящик с прозрачной стеной из исцарапанного плексигласа на деревянных столбах. Он похож на маленькую квартиру. Ребенком я представлял себе, что живу там, наливаю молоко в хлопья, читаю журнал, а народ стоит и смотрит. Обезьяна сидит на полу, ее плохо видно. Она чешет спину, чешет между ног, но в основном просто сидит и смотрит. В потолок, на нас и снова в потолок.
Анна берет меня под руку, и мы спускаемся к слоновнику. В действительности слоны всегда оказываются намного больше, чем представлялось. В детстве они были как небоскребы с хоботами. Анна тянет меня дальше.
— Пойдем, нам нужно к бегемотам.
Я унюхиваю бегемотов еще до того, как мы открываем дверь. Внутри вонь такая сильная, что саднит в горле. Глаза Анны сияют.
— Это мои любимые звери.
— Черт, как воняет.
— Воняет, но погоди-ка, сейчас начнется веселуха.
Мы смотрим на животных, больших и тяжелых, по ним не скажешь, что они догадываются о нашем присутствии. Анна подходит вплотную к клетке:
— Сри, дурак несчастный!
Бегемот лениво поворачивается и смотрит на нее.
— Давай, сри!
— Анна…
Юная пара, стоящая рядом, смотрит на нее такими глазами, как будто она дикий зверь, вырвавшийся на свободу.
— Ты хочешь, махинища, тебе же давали травку, сено, а теперь тебе нужно облегчиться.
Я беру ее за руку, так дружелюбно-снисходительно, в стиле «мы же хотим тебе добра», как это делали санитары, когда мы слишком громко разговаривали.
— Анна, может, он просто не хочет…
— Да у тебя в животе урчит, давай же, тужься, черт возьми! Тужься!
— Анна, что ты делаешь?
— Хочу, чтобы он покакал…
— Это я уже понял. А почему ты хочешь, чтобы бегемот покакал, Анна?
— Ты когда-нибудь видел, как какает бегемот?
— Нет… вроде не видел.
— Это очень смешно. Когда они какают, то машут хвостиком как пропеллером и забрасывают говном всю стену. Вообще всё. Я просто хотела, чтобы ты посмотрел…
— Если только ты не полезешь туда, чтобы нажать ему на живот, думаю, нам это не повредит…
Рука об руку мы ходим по зоопарку. Забавно снова увидеть этих животных. Хотя это наверняка не те животные, что были в детстве, те, конечно, умерли или на пенсии. Но они на тех же местах, делают то же самое и пахнут так же. Меня вдруг поразило: просто невероятно, до какой степени все животные являются самими собой. Жираф — это жираф, не плохой или хороший жираф, просто очень, очень жираф. Его не перепутаешь ни с кем другим: даже если он напьется или впадет в депрессию, никто не примет его за страуса или кенгуру.
Мы садимся на скамейку возле лотка с мороженым, с видом на три обезьяньи клетки. В одной клетке — гиббоны, в другой — беличьи обезьяны, а в последней — шимпанзе. Большие обезьяньи клетки с бортиком, чтобы не свалиться. Анна, как по волшебству, выуживает из кожаного пальто бутылку белого и штопор, понятия не имею, как она сумела их спрятать. Мы пьем из бутылки и прячем ее за спиной или за пазухой. Чувствуем себя как шкодливые дети.
Мы даем обезьянам имена, пробуем вычислить, какой у них характер: одна — стеснительная, другая — похотливая, третья, кажется Анне, смахивает на училку. Разобравшись с бутылкой, мы начинаем кричать им:
— Давай, черт возьми, отрабатывай бананы!
— Ты ему нравишься, Сюзи, он просто стесняется, покажи ему!
— Что ж ты свое собственное говно-то ешь, вонючка!
По дороге домой мы заходим в «Севен-илевен», покупаем хлеб и бифштексы. Бифштексы красные и сочные, в пластиковой упаковке. Стоят чуть дороже, чем выкуриваемый мною за неделю табак. Продавец нервно на нас смотрит, думаю, мы слишком много смеемся. Анна смотрит на полку с мужскими журналами.
— Порекомендуйте нам хорошую порнографию.
— Я не уверен…
— Но вы же продаете порнографию, неужели ничего не можете порекомендовать?
— Я не знаю… многие берут «Раппорт».
Я ущипнул Анну за задницу. И потащил ее из магазина.
Дома мы жарим бифштексы. Брызжет масло, мы готовим, курим и пьем.
Анна ставит пластинку. После еды мы занимаемся любовью на матрасе, счастливые, объевшиеся, спокойные; пластинка с джазом доигрывает до конца. Мы устали, пьяны и рано засыпаем.
29
Я просыпаюсь, когда Анны уже нет. Часы на стене показывают начало одиннадцатого. Она оставила записку, что идет в кризисный центр, а потом ей нужно заскочить в галерею. Еще оставила две бумажки по сто крон и ключ и написала, чтобы я спустился и позавтракал. В конце перед своим именем нарисовала сердечко.
Я нахожу кафе в одном из переулков, выводящих к каналу. Заказываю завтрак. Мне приносят кофе в маленьком френч-прессе и большую четырехугольную тарелку с дыней, завернутой в пармскую ветчину, яйцами, маленькими острыми колбасками. Я читаю газеты и выпиваю еще кофейник. Затем гуляю вдоль канала. Наслаждаюсь запахом лета и бензина вместо запаха чистящих средств и больницы. Мне нужно много неба, чтобы восполнить четырехлетний пробел.
Вернувшись к Анне, я мою вчерашние тарелки. Проглядываю стопку книг у стены. Там в основном книги по искусству и еще парочка стихотворных сборников. Мне попадается биография Тулуз-Лотрека, я сажусь на подоконник и читаю. Через пару часов возвращается Анна.
— Привет, солнышко.
Она целует меня в ухо и швыряет пальто на стол.
— Нашел мою записку?
Я киваю.
— Я снова была в кризисном центре, но они по-прежнему ничего не знают. Девушка-консультант, которая помогала Амине, болеет, или, точнее, ее сын болеет, так что ее сегодня не было, но они сказали, чтобы я снова пришла завтра.
— Завтра?
— Да, я схожу туда завтра. Может, тогда повезет.
— Да…
— Эй, малыш, всего один день, а?
Она подходит и обнимает меня. Я утыкаюсь лицом в ее шею. Всего один день, наверное, переживу.
— Голодный?
— Чуть-чуть.
— Пошли поедим чего-нибудь.
Мы идем рука об руку, уже семь часов, сегодня время пролетело быстро.
Анна говорит, что знает один хороший итальянский ресторан недалеко от ее квартиры на Кристиансхаун. Мы делаем крюк, чтобы размять ноги. Я спрашиваю, не надо ли зарезервировать столик, но она говорит, что для нас найдут место. Меню у входа в ресторан не видно, однако в стеклянном шкафчике висит дощечка. Рыба дня, морской волк за двести крон. Мы заходим в ресторан. Стены покрыты белой штукатуркой в деревенском стиле, застланные белыми скатертями столики расположены на порядочном расстоянии друг от друга. Рядом с баром крутящаяся латунная пластина с пирожными. Стойка из отполированной стали, сзади в стене пробита большая дыра, через которую видна кухня. К нам сразу подходит официант. Не спрашивает, зарезервировано ли, и хотя народу много, он находит для нас столик в центре зала. Мне непонятно, знает ли он Анну; если и знает, то виду не подает. Нас любезно и профессионально обслуживают, хотя мы и не одеты, как другие посетители. Он подает нам меню, винную карту кладет рядом с Анной. Так, понятно, он ее знает.
Я пролистываю меню, названия блюд стоят по-итальянски, большими буквами, затем внизу идет крошечное описание на датском. Сперва я прищуриваюсь, как старичок, но, уверившись, что правильно прочитал цены, готов потянуться за таблетками: сто пятьдесят крон за закуску, маринованную сельдь. Сто двадцать пять — за суп с шафраном.
— Ты что-нибудь выбрал?..
— Не уверен… в больнице нам нечасто давали карпаччо или мидий в белом вине.
— Можно, я закажу? Я знаю, что тебе нужно.
Официант вернулся раньше, чем я докурил. Анна заказывает, в том числе антипасту и, на горячее, салтимбокку для меня и кабанину для себя. Открывает винную карту и показывает пальцем, официант кивает, забирает меню и карту. Вскоре подают антипасту. Два больших блюда с разнообразными закусочками: баклажаны, фаршированные хлебными крошками грибы и сыр. И кростини — так, по словам Анны, называются поджаренные ломтики хлеба с разной начинкой. Тапёнада из оливок, сушеное то, сушеное се. Вино открывают при нас. И хотя я понятия не имею, что именно мы пьем, прежде чем я кивну официанту, мне позволяют его попробовать, поболтать в бокале и сделать глоток. После этого официант наполняет бокал Анны, затем мой. Кусочки хлеба убегают от вилки, так что я следую примеру Анны и ем их руками. Мы запиваем их большими глотками красного. Вино — это что-то из того времени, когда мы еще не были больны.
— Так ты читал об этом карлике-извращенце?
— О Лотреке?
— Да. Сколько ты прочел?
— Немного, мне трудно сосредоточиться.
— Лекарства?
— Да, наверное.
— Лекарства — говно. Я больше их не пью.
— Тебе отменили лекарства?
— Нет, черт возьми, они бы с удовольствием меня ими пичкали, но я не хочу.
— Так ты сама бросила?
— Да… Знаю, это опасно, но какого черта. На таблетках я в состоянии только сидеть и тупо таращиться в стенку, может, они меня считают здоровой или там работоспособной, но только я в полной отключке.
— А ты не хочешь.
— А я не хочу, но хуже другое: я не могу писать. Правда, становлюсь в какой-то мере безопасной и стабильной. Стабильной и дико несчастной. Я не могу это вынести.
— Ты не боишься, что начнется психоз?
— Я не думаю об этом. И хоть бы я и пила эти несчастные таблетки, все равно нет никакой гарантии. Кроме того, что я возненавидела бы свою жизнь. Сидела бы в грязной «однушке», таращилась в стенку, не могла бы писать, ничего не могла бы. Лучше уж спады и подъемы…
Мы пьем за спады и подъемы. Когда подают горячее, мы уже объелись антипастой.
Салтимбокка жутко вкусная. Мягкая телятина, сверху пармская ветчина, все приготовлено в белом вине. Анна рассказывает, что название «салтимбокка» означает «прыгнуть в рот», и я понимаю почему. Я пробую Анниного кабана. Мягкий, вкусный и пахнет лесом.
Единственная причина, по которой я хоть немного ориентируюсь в том, что мы едим, это глянцевые журналы, оставленные в больнице родственниками, которые мы, пациенты, зачитывали до дыр. Я никогда этих блюд раньше не пробовал, только видел фотографии к статьям типа «Обед в Риме» или «Тоскана для гурманов».
— Это я тебе не скоро забуду.
— Что?
— Ты же разрушила мои вкусовые рецепторы. Как я теперь смогу есть «фальшивого зайца», у него же вкус дохлого тюленя.
— Да, я знаю… Прости меня.
— Отныне мне придется грабить бензоколонки, чтобы питаться маринованным лососем в бальзамическом уксусе. Я из-за тебя в полном дерьме, ты понимаешь?
— Прости, прости, прости, я снова поступила плохо.
— Да, черт возьми! Свинюшка!
На десерт нам подают эспрессо и какие-то маленькие продолговатые итальянские печенья с миндалем. Официант приносит счет и деликатно кладет его рядом с Анной, она, не глядя, кладет свою карточку, и официант все уносит.
Мы идем к каналу, садимся, свесив ноги, и смотрим на воду. Сидим какое-то время в тишине. Затем она берет меня за руку, смотрит на нее, проводит указательным пальцем по костяшкам. Собирается сказать что-то, но не решается. А когда наконец начинает говорить, голос ее тих, словно она боится, что кто-то нас услышит.
— Мне с тобой правда очень хорошо…
Я молча сжимаю ей руку.
— Очень хорошо. Я…
Она хочет продолжить, но голос замирает. Как будто ей не хватает воздуха, чтобы закончить предложение.
Тогда она смотрит мне в глаза и едва заметно улыбается:
— …Нам, психам, надо держаться вместе.
Вернувшись домой, мы ложимся на матрас, я медленно ее раздеваю. Не дико и необузданно, но гораздо лучше. Наши тела теперь знают друг друга, коленки не сталкиваются, руки не мешаются. Тепло, хорошо и медленно. Одной рукой я обхватил ее поясницу, другая — у нее под головой; кончая, я прижимаю ее к себе.
30
Утром, еще затемно, я встаю с матраса и одеваюсь. Нахожу свои вещи: их немного. Пытаюсь не шуметь, Анна поворачивается, бормочет во сне, но не просыпается. Я беру куртку и закрываю за собой дверь. На улице холодно, шел дождь. Я иду к мосту. Запахиваю куртку, тело еще не проснулось. Думать не хочу. Сейчас я мог бы лежать под одеялом, согреваемый Анной, прижавшись к ее спине. Завтра я бы долго спал, потягивался в постели, наслаждался ароматом ее тела, сохранившимся даже после ее ухода.
И она пришла бы завтра, с вином и свежим хлебом, и извинениями за то, что снова не узнала ничего об Амине, и объяснениями, почему мне надо задержаться еще на пару дней. И это была бы ложь, и мне было бы все равно. Я бы остался у Анны, и мне было бы хорошо, и через какое-то время я бы стал думать, что сделал все, чтобы найти Амину.
Я пересекаю мост, в это время суток здесь мало народу. Пьяные, возвращающиеся домой, почтальоны.
До квартиры брата я иду пешком, мне нужно проветриться. Зайдя в дом, ложусь на диван, съеживаюсь и засыпаю.
Просыпаюсь я рано, солнце только встает, но света достаточно, чтобы не тянуться к выключателю. Нахожу на кухне какие-то хлебцы, выкуриваю две сигареты. Дни, проведенные у Анны, похожи на сон. Теперь я проснулся, и мне еще никогда не было так одиноко. Я снова ложусь на диван, укрывшись курткой.
Я иду к площади Трианглен. Сажусь на первый же подъехавший к остановке автобус. Кладу деньги, беру билет. Не знаю, куда я еду. Но я не найду Амину, если буду сидеть в квартире. Я не так наивен, чтобы думать, будто она случайно сядет в мой автобус. Но это лучше, чем тупо таращиться в стенку, в письма и ждать старика. Если он придет сейчас, у меня даже не хватит сил его послать. Я стану его слушать. Я боюсь этого. Так лучше уж сидеть здесь. Среди потеющих людей, спешащих людей. Молодых людей, едущих на пляж, чтобы посмотреть, достаточно ли прогрелась для купания вода. В автобусе всегда куда-то движешься. Может, и без определенной цели, но ты движешься.
Ребенком я как-то посмотрел передачу, которая произвела на меня большое впечатление. Наверняка произвела, раз я до сих пор ее помню. Программа была о детях байкеров, детях людей, которые живут в автомобилях, людей, которые все время находятся в дороге. Некоторые из этих детей не могли есть, если не передвигались на большой скорости. Они могли есть бутерброд, сидя на багажнике мотоцикла, но если их сажали за стол, шансов не было. Они ни куска не могли проглотить.
Когда я возвращаюсь домой, мой карман битком набит автобусными билетиками. Я принимаю лекарство и иду в спальню, к письмам.
Я не читаю их, просто сижу на кровати и смотрю на письма, лежащие на полу.
31
Меня будит звонок в дверь; судя по тому, что в квартире светло, время уже давно за полдень.
Я никого не вижу — кто бы это ни был, он должен стоять совсем рядом с глазком.
Приоткрываю дверь. Снаружи стоит женщина в темной одежде; в черном пальто, с покрытой головой. Она развязывает платок, и я вижу Гюльден, сестру Амины.
— Можно войти?
— Да, конечно. Как ты попала в подъезд?
— Реклама.
Она меняет голос, как это делал и я, стоя перед домофоном Марии, говорит с сильным арабским акцентом. Мне смешно.
Открываю дверь, она заходит. Перевязывает платок так, чтобы он покрывал только волосы, за исключением черного локона на лбу. Она так же красива, как и Амина, но не такая яркая.
— Я заходила пару раз, никто не отвечал.
— Да?
— После нашего разговора меня мучила совесть. Я кое-что утаила от тебя.
Зайдя в гостиную, она приостанавливается и подносит руку ко рту. Когда здесь были полиция и Мартин, мне было все равно, но теперь я вижу, что комната выглядит неважно.
— Извини… бардак.
Она смотрит на стеклянный столик с торчащей из него клюшкой для гольфа.
— Ничего страшного, я тоже никогда не любила гольф.
— Хочешь кофе?.. Может, даже чай есть.
— Нет, спасибо. Мне нельзя задерживаться. Если кто-нибудь меня видел, мне не поздоровится.
— Кто? Никто тебя здесь видеть не мог.
— Если кто-то видел, как я вхожу или выхожу из двери, кто-нибудь из друзей родителей, кто-нибудь из знакомых турок, они решат, что что-то было. И тогда уже все равно, что бы я ни сказала.
Я указываю ей на диван, она осторожно присаживается на краешек, я сажусь в кресло напротив.
— Можно, я закурю?
Она показывает на пачку, лежащую на уцелевшем углу стола.
— Конечно.
Она берет из пачки сигарету, нервными движениями; ее руки явно не привыкли вынимать сигареты из пачки. Располагает сигарету в середине рта и крайне осторожно щелкает зажигалкой. Просто большая удача, что ей удается прикурить.
— Мы с Аминой покуривали. И дико боялись, что они унюхают, когда мы придем домой. Едва переступив порог, мы бегом бежали мыть руки. Мы считали себя очень испорченными…
Она пару раз быстро затягивается и медленно выдыхает дым.
— Рассказывая тебе об Амине, я больше думала о себе. Я на самом деле очень хочу с ней увидеться. И ты ведь того же хочешь?
Я киваю и закуриваю. Она улыбается мне:
— Иногда проще говорить, когда куришь…
Она скрещивает ноги, делает глубокую затяжку.
— Я не все тебе рассказала об Амине… Ты знаешь, что она должна была выйти замуж?
— Разве ты не сказала, что она вышла замуж? Ты сказала, ее муж…
— Да, да, за Эркана. Но Эркан не наш кузен.
— Я думал… Я говорил с Марией, ее подругой. Она рассказала, что вы были в Турции и…
— Мария понятия не имеет, о чем говорит. Все, как бы это сказать, несколько сложнее. Кузен был раньше. Я подозревала об этом еще до отъезда в Турцию, но ты знаешь Амину, она думает о людях только хорошее, вот и вляпалась. И, вернувшись обратно, она сбежала. Переехала, это тебе Мария, наверное, рассказала.
— Да, рассказала.
— Вряд ли ты представляешь, как это отразилось на нашей семье. Наверное, тебе это трудно понять.
— Они не обрадовались…
— Нет, они совсем не обрадовались. Никто из датчан в наше время не воспринимает слово «позор» всерьез, во всяком случае не так, как мы. Это понятие имеет огромное значение, особенно для поколения моих родителей. Они были просто в панике, никуда не ходили, ни с кем не разговаривали. Для них это было просто слишком. Мама пыталась заниматься всякими повседневными делами: готовить, ходить в магазин, а папа совсем опустил руки. Перестал ходить на работу, взял больничный, просто сидел, уставившись перед собой, и курил как паровоз. Он не знал, что предпринять. Думаю, он почти что рад был, что не знает, где Амина… Однажды Амина ждала меня у школы. Я поехала с ней. Она жила в ужасном месте.
— Я был там. Дыра.
— Значит, ты представляешь, каково ей там было. Она не виделась ни с друзьями, ни с родными. Нашла работу в гриль-баре, весь день стояла и жарила свинину для местных. Она уже сомневалась, что поступила правильно. Может, проще было выйти замуж. Но тут она встречает Эркана. У него друзья там жили, недалеко, и как-то он зашел туда съесть хот-дог. И они разговорились. Она сильно влюбилась, он тоже был курдом и сказал, что понимает ее. Через какое-то время они решили пожениться, я была связующим звеном между ними и родителями. Амина поступила плохо, но раз уж в итоге выходит замуж за курда, то все ничего. Она снова сможет видеться с родными, да и вопрос, не нанесен ли урон ее чести, будет уже не так важен после замужества.
— Ты была рада, что они женятся?
— Ну… возможно. Тогда. У меня были сомнения… Он был замешан в каких-то делах, его выкинули из армии, и он был… несдержан. Но она сказала, что с этим кончено, что он сделал все, что мог, чтобы держаться подальше от таких вещей. Надеюсь, она была права. И они поженились. Большой свадьбы не было, только папа, мама, я и младший брат. Их поженил имам, затем они отправились в ратушу, чтобы зарегистрироваться официально. Они хотели подождать, прежде чем расскажут всем родственникам, аккуратно обо всем сообщить, когда история с кузеном подзабудется. Они остались жить в той комнате. Папа и мама сказали, что они могут жить у нас, но Эркан не хотел. Теперь-то я понимаю… Вначале все вроде было хорошо… Но потом он стал… неспокойным. Так она это описывала, и он стал очень неспокойным. Пропадал все время с друзьями. Приходил домой поздно ночью. Они ругались.
Она произносит слово «ругались» так, будто имела в виду нечто более серьезное, чем ругань по поводу того, кто же выпил остатки молока.
— Он ее бил?
Ей не нравится вопрос; мне не нравится его задавать. Не хочу получить неверный ответ. Она пару раз сглатывает, прежде чем продолжить:
— Я не знаю… Она мне не рассказала бы, даже если бил. Мы всё могли сказать друг другу, но я — ее младшая сестра, и она знает, каково мне будет это услышать. Я бы этого не вынесла… Однажды она мне позвонила. Наверное, уже больше полугода назад. Сказала, что хочет уйти от него. Прямо сейчас. Время — двенадцать, он на работе. Я поехала к ней, помогла собраться, самое необходимое. Она очень нервничала. Сказала, что одной бы ей не справиться. И мы пошли.
Я вижу, что она сейчас переживает все это заново, зрелище не из приятных.
— Мы ждали поезд, когда появились они. Эркан с товарищем. Он сразу все понял. Просто взял у нее из руки чемодан, и она пошла с ним, никто не проронил ни слова. Через пару недель я говорила с Аминой по телефону. Она сказала, что теперь дела идут получше. Они начали искать нормальную квартиру, и Эркан немного успокоился. Она правда хотела сделать всё, чтобы сохранить свой брак. Эркан был очень уязвлен тем, что она попыталась сбежать, и обвинил меня. Так что, пока все не наладится, нам лучше не видеться. Родители признали его правоту, сказали, что надо уважать его позицию. С тех пор я с ней не говорила.
Она сидит, глядя вниз, на руки, под конец ее почти не слышно.
— Да, так вот, они переехали. Я правда по ней скучаю. Ты не мог бы сказать ей это, когда найдешь?
— У тебя есть какие-нибудь мысли по поводу того, где она теперь живет?
— Нет, нет, абсолютно.
— Я был там, в этом женском кризисном центре, пытался с ними поговорить, но…
— Они не разговаривают с мужчинами, но это неважно. Единственное, чем они располагают, это ее старый адрес и номер мобильного, который не отвечает.
— Попробуй вытянуть адрес из родителей.
— Ничего не выйдет, трудно объяснить, мама считает, что лучше оставить их в покое. Но может…
Она размышляет.
— Нет, это плохая идея.
— Что?
— Я подумала про двоюродного брата Эркана, Махмуда, но это правда не очень удачная мысль…
— У него есть их адрес?
— Они с Эрканом совсем как братья. Амина так сказала… Но к нему ты не ходи.
— Почему?
— Он… с ним лучше не связываться. Я не хотела бы…
— Где его найти?
— Насколько мне известно, они часто ходят в клуб на Нёребро. Я там не была, но думаю, они там курят гашиш.
— Значит, я найду его там.
Гюльден записывает адрес на клочке бумаги, который достает из сумки. Она не уверена, что это именно гаш-клуб, и точно не знает, чем они там занимаются. Но насколько я знаю Нёребро, если ориентация заведения вызывает сомнения, то это гаш-клуб. Махмуд, видимо, живет рядом, и Эркан туда захаживал.
— Это нехорошее место…
— Не имеет значения.
Она размышляет, смотрит на меня, точно чувствует необходимость сказать что-то еще.
— Может, с моей стороны глупо, а может, это вообще неважно… Но, Янус, это не религия. Это никак не связано с религией. В Коране написано, что женщин надо почитать. Почитать и уважать.
— Но не при помощи кулака.
— Нет, Янус, не при помощи кулака.
Я провожаю Гюльден до двери, она натягивает платок. Я обещаю ей сделать все, что смогу, чтобы найти Амину. Это нетрудно. Ничто не может меня остановить.
32
У меня вспотели руки, сердце выпрыгивает из груди, я боюсь идти в лес, боюсь, что меня съедят тролли. Переулок к Нёреброгаде, его найти нетрудно. Я снова сверяю адрес по бумажке, которую мне дала Гюльден. На углу — пивная, снаружи, покачиваясь, стоит мужчина, он будто в ступоре. Грязная коричневая кожаная куртка, сальные волосы, красное лицо пьяницы. Если его толкнуть, он упадет, как подкошенный. Клуб находится в подвале жилого дома, на окнах — жалюзи. Два шага по ступенькам вниз, я открываю дверь. Внутри накурено, этот тяжелый сладковатый запах ни с чем не спутаешь. Несколько молодых парней стоят и смотрят футбол по телевизору, висящему на стене, комментатор — турок. На стенах висят футбольные флаги, «Галатасарай». Ко мне подходит один из ребят:
— Это частный клуб.
— Конечно частный.
— Так вали отсюда.
— Мне сказали, здесь хороший товар, но, может, я ошибся.
На кожаном диване в углу, между двумя парнями, сидит единственный в помещении бледный датчанин. Здоровенный мужик, побрит налысо, поверх куртки «Найк» — толстая серебряная цепь. Прикуривает нечто, напоминающее огромный кулек.
— Но если у вас товара нет, то я, наверное, просто ослышался…
— С кем ты говорил?
— С Эрканом.
— Ты знаешь Эркана?
— Знал, я с ним в армии служил.
— Тогда можешь остаться, покурить. Есть отличный сканк, если интересуешься.
Я роюсь в кармане, ищу деньги, что взял с собой. Сотни и полтинники, сложенные, как это делают дилеры, одна в другую, крупные купюры сверху.
— Первый за счет заведения. Попробуешь. А так есть киф по двадцать пять и чарас по семьдесят пять. Но он того стоит.
Я беру косяк в прозрачном светло-зеленом пластиковом футляре. Я знаю эти футляры по больнице, видел их валяющимися в раковине и под батареей.
Я прислоняюсь к стене, курю свой косяк и смотрю футбол. Курю медленно, стараюсь не слишком затягиваться. Непривычный я к гашу, хоть и не страдал от отсутствия возможности: в больнице с этим не было проблем. Они там договариваются с кем-то по ту сторону, вывешивают в окно деньги в носке, потом достают оттуда товар. В общем, я делаю вид, что увлечен футболом. Кончается второй период, Турция выигрывает 2:0 у Турции. Свисток извещает об окончании матча, Турция выиграла. Похоже, турки довольны победой, один из них что-то выкрикивает. Бледный жирный датчанин на диване смеется над ними.
— Хрен бы им так подфартило, если бы не эти педики.
Молодой парень в бейсболке, надетой козырьком назад, протягивает руку и берет у него косяк. Глубоко затягивается, кашляет.
— Иди ты, Марк. У Брёнбю против них не было бы ни единого шанса. Кишка тонка.
Парень, давший мне косяк, вытаскивает на середину комнаты круглый стол и расставляет вокруг него стулья.
— Эй, солдат, не хочешь сыграть с нами в покер?
Я сажусь за стол спиной к двери. Тот, который дал мне косяк, садится напротив, к нам подсаживаются еще трое. Успею ли я добраться до двери, если запахнет жареным? Как быстро они среагируют, насколько они косые? У парня, с которым я говорил, голова, похоже, ясная. Он облокачивается на стол, в какой-то момент мне кажется, что он хочет схватить меня. Затем протягивает мне руку, я пожимаю ее.
— Меня зовут Махмуд, я двоюродный брат Эркана.
— Янус.
— Ты играешь в покер, Янус?
— Играю немного.
Махмуд тасует колоду. Видно, что он знает в этом толк, руки движутся совершенно автоматически.
— Играем в детский покер. «Стрейт» бьет «полный дом» и так далее. Техасский холдем с этими дураками, да когда они чуток курнули, играть невозможно. Снимешь?
Он кладет карты на середину стола. Я не снимаю, а хлопаю по колоде, чтобы показать, что доверяю ему.
Парень с темными зачесанными волосами, справа от меня, хитро смеется:
— А может, мы не верим этому сукиному сыну.
— Заткнись, Хюсейин, мудак такой.
Махмуд сдает. Быстро, не глядя, отработанными движениями.
— В первой игре минимальная ставка — полтинник. Затем можешь повышать до двух сотен в первой игре. Короче, заход — сотня.
Я смотрю в карты, у меня ничего нет, король и королева, а больше ничего. Решаю пасануть. Остальные делают ставки, каждый кладет по пятьдесят, получает новые карты. Махмуд выигрывает, он насмехается над Хюсейином: тот собирался выиграть с двумя королями. Новая раздача, кладем по пятьдесят. У меня две двойки, но я играю. Если снова пасану, Махмуд подумает, что я пришел погреться. Я, как и остальные, кладу сотню, чтобы остаться в игре. Махмуд снова сдает, я оставляю двойки. Мне везет, приходит еще одна. Махмуд и другой парень пасуют, Хюсейин опять играет. Я выигрываю с двойками и получаю одобрительный кивок Махмуда.
Следующую руку я проигрываю. Пасую и выигрываю следующую со стрейтом, когда банк хорошо поднялся. Через пару игр, где я один раз выигрываю, а в остальном просто поддерживаю игру, я не сомневаюсь, что Махмуд — лучший игрок из всех. Не знаю, играет ли он лучше меня, думаю, перед нами примерно одинаковое количество купюр. Он играет разумно. Не пытается вытянуть безнадежную партию, быстро пасует при плохих картах. Хюсейин — явный клоун, он делает расстроенное лицо, когда приходят хорошие карты, и довольное, когда плохие. Я у него выиграл сотен пять минимум за одну игру, все потому, что он слишком явно блефовал: улыбался во весь рот, провоцировал меня: дескать, мужик ты или нет, давай играй. И это после того, как он продул две руки; все настолько шито белыми нитками, что мне стало его почти жаль. Махмуд заговорил со мной, не знаю, пытается он отвлечь меня от игры или у него возникли подозрения.
— Так ты служил с Эрканом?
— Да…
— Но он ведь сто лет назад вылетел из школы офицеров, почему ты только сейчас пришел?
Я смотрю в карты, делаю вид, что сосредоточен на игре. Участвую в безнадежной руке, просто чтобы держаться за карты.
— Я был в Югославии. Только вернулся.
Я чуть не сказал «на Кипре», но тогда я бы должен быть загорелым, то же самое — с Африкой.
— А в Югославии еще есть датчане? Я думал, все вернулись.
— В Косово есть еще взвод, просто обозначаем присутствие. Но после Афганистана и Ирака об этом уже не говорят.
— Удалось пришить каких-нибудь сербов?
— Да приходилось стрелять. Но ты знаешь, сколько там чертовых правил.
Я проигрываю, как и рассчитывал, не вскрываясь. Парень рядом с Махмудом забирает деньги. Махмуд снова сдает. Хюсейин кричит, чтобы в этот раз он сдал ему нормальные карты. Тут Махмуд встает, извиняется: ему нужно ответить по мобильному, — говорит, чтобы мы продолжали. Телефон не звонит, но, может, он на виброзвонке. Махмуд выходит. Примерно через десять минут возвращается. Мы сыграли две руки по-быстрому, одну я выиграл. Хюсейин жалуется:
— Мы тут играем с монстром.
Махмуд улыбается:
— Парень же служит в армии. Они там только и делают, что играют, курят и трахают югославок.
Махмуд снова тасует, так же механически, как и раньше; не глядя на карты, он сдает.
— Говорил с Эрканом, с тех пор как вернулся?
— Нет, у меня старый мобильный, никто не отвечает. Он живет там же?
— Нет, он ведь женился.
— У тебя нет его нового адреса?
— Конечно есть, я тебе потом запишу.
Мы играем еще две руки. Одному из ребят нужен свежий косяк, Махмуд идет к кассе и рассчитывается. Вернувшись, он кладет руку мне на плечо:
— Эй, солдат, знаешь, о чем я подумал?
— Нет.
— Хочешь повидаться с Эрканом?
— Конечно хочу, съезжу к нему на днях.
— А знаешь что? Почему бы нам не съездить к нему сейчас? Всем вместе.
— Сейчас?
— Ну да. Мехмет, ты на машине?
Здоровый парень слева от меня кивает. Я втягиваю воздух носом, смотрю в карты.
— Я бы не хотел его беспокоить так поздно. Если он женат, то…
— Да баба его ничего не скажет. Не ее ума дело. Все, едем!
Махмуд уже надевает куртку. Я пытаюсь подыскать другие возражения, но он лишь говорит, что никогда не поздно встретиться со старым товарищем по службе. Хюсейин жалуется, он хочет взять реванш, а если мы бросим игру сейчас, у него не будет шанса отыграть свои деньги. Махмуд говорит ему что-то по-турецки, очень коротко, и он затыкается. Мы выходим из подвала на улицу. Махмуд обнимает меня за плечи:
— Он просто обалдеет от счастья. Это же здорово — встретить старого кореша. Прямо из Югославии.
Машина припаркована чуть подальше на тротуаре. Старый красный «гольф». Махмуд открывает заднюю дверь: я должен сесть первым, а он залезет следом. Я смотрю на противоположную дверь, смотрю на замок. Дверь открывается, и по другую сторону от меня садится еще один. На нем облегающая черная футболка, торс качка. Он не играл с нами в покер, сидел на диване и курил. Хюсейин садится вперед, рядом с водителем. Он говорит что-то по-турецки и смеется, хотя только что проиграл две тысячи. Машина с визгом трогается с места.
33
Мы едем по Нёреброгаде, водитель гонит. Радио работает на полную мощь, из колонок несется турецкая попса. Едем по Фредериксунсвай. Через Белахой[5] и — выезжаем на шоссе. Они говорят о футболе и о девочках. Хюсейин хочет послушать другую музыку, но водитель лишь смеется над ним: заткнись, это классная музыка, это Таркан. Говорит, что в его машине никто не будет слушать вонючего Ибрагима Татлысеса. Я смотрю водителю в затылок. Только теперь заметил татуировку: черное пламя, лижущее шею. И он, и парень слева — широкие, как пехливаны, турецкие борцы, которые мажутся оливковым маслом, мне о них рассказывала Амина. Махмуд дружески стискивает мне руку:
— Ну а как там шлюхи в Югославии?
— Отличные шлюхи, волосы обесцвечивают, но вообще нормальные.
— Бритые?
— Большинство.
— Хорошо, лучше, чем продираться сквозь албанские джунгли.
Через какое-то время мы сворачиваем с шоссе и едем по небольшим дорогам, проезжаем перекресток с круговым движением и сворачиваем на дорогу, по обеим сторонам которой растут деревья.
— Он просто обалдеет от счастья. Сколько армейских историй ты ему сможешь порассказать.
Я улыбаюсь Махмуду. Делаю все, что могу, чтобы это было похоже на улыбку.
— Да, Эркан бы не прочь послужить еще. Но они не любят черных, только и ждали повода, чтобы его выставить. Один чертов ублюдок-офицер, нацист, стоял и мешал его с грязью. Обзывал по-всякому, а когда он ему двинул, тут они его и вышвырнули. Ты бы ему не вдарил?
— Конечно.
— Но тебя-то они с грязью не мешали?
— Не так…
— Я и говорю — не хотят они, чтобы черные служили.
Дышу как можно спокойнее, носом, вдох — выдох. Как учили в больнице. Когда паникуешь, нужно дышать носом. Если дышать ртом, в мозг поступает слишком много кислорода, и тогда паника захлестывает тебя с головой.
Светлые промежутки между деревьями сокращаются. Мы едем в лес.
— А Эркан живет за городом?
— Да. Сейчас подальше проедем, сам увидишь.
— Далеко?
— Уже нет.
Мы заезжаем в лес, сворачиваем и едем по узкой просеке. Машина останавливается.
— Приехали.
Махмуд открывает дверь, я вылезаю. Шофер не гасит фары, два белых конуса освещают ближайшие деревья. Я вынимаю из кармана куртки сигарету, медленно пячусь, спокойно прикуривая. Голос почти не дрожит.
— Так что, мы с Эрканом здесь встречаемся, или как?
Я поворачиваюсь, выкидываю сигарету и иду вперед, между деревьями. В какой-то момент мне даже кажется, что у меня есть шанс. И тут меня сильно бьют ногой в спину. Я падаю вперед, пытаюсь подставить руки и ударяюсь головой о дерево. Холод и грубая кора, пахнет детским лагерем и падалью. Я делаю полшага назад на ногах, еще не чующих под собой земли, и тут накатывает боль. Меня тащат под мышками. Один из борцов ставит меня на ноги и поворачивает. Как будто я просто большая кукла. Он прислоняет меня к дереву и, взяв своей большой рукой за плечо, крепко прижимает. Что-то теплое течет по брови и по щеке. Ко мне возвращается зрение, я вытираю лицо рукавом и улыбаюсь им.
Махмуд медленно подходит и встает передо мной. Он не выглядит радостным, не выглядит сердитым, он почти грустный. Говорит отчетливо, как с ребенком:
— А чего ты ждал?..
Я не отвечаю.
— Ты что, думал, ввалишься с улицы и сядешь с нами покурить? Ты правда так думал?
Он подходит ко мне вплотную, смотрит в глаза. Удивленно.
— И ты рассказываешь историю об Эркане, твоем хорошем друге Эркане. Ты что, думал, я не проверю? Я об Эркане знаю все. Если бы он был твоим другом, я бы это знал. Старый сослуживец, да?
Махмуд делает шаг назад, и борец бьет меня правой прямо в живот. Я складываюсь пополам, он меня поднимает. Махмуд держит меня за голову, я чувствую его дыхание возле щеки.
— Ты у меня просишь адрес Эркана, пробуешь вынюхать его у меня. Ты что, правда думал, я тебе его дам? Эркан мой брат, и ты думал, ты можешь его адрес у меня получить за косячком? Думал, я просто глупый курд? Гребаный гётверен!
Он отступает на полшага и бьет меня кулаком в голову. Борец отпускает меня, и я падаю на землю. Они пинают меня пару раз по ребрам и снова поднимают.
Махмуд присел на капот машины. Сидит и курит и смотрит на свои руки. Он выступил, теперь пусть развлекаются другие. Посыпались удары, я больше ни о чем не думаю. Они меняются: одни держат, другие бьют. Перекрикиваются, смеются.
Передо мной встает Хюсейин, широко улыбается, настала его очередь. Он кивает им, и они оттаскивают меня от дерева, борец держит меня на вытянутой руке.
— Давай же, ты!
Хюсейин разбегается, делает прыжок с разворотом, его нога пролетает мимо моего лица, он растягивается на земле.
— Что ты делаешь, Хюсейин?
Я не слышу, кто это говорит. Хюсейин встает:
— Это тэквондо.
— Ты владеешь тэквондо?
— Конечно.
— Ага, два месяца проходил, и всё, так?
Все смеются над ним. Махмуд кричит от машины:
— Давай, покажи им, Хюсейин!
Хюсейин снова встает в позицию. Вытирает руки о штаны. Разбегается и прыгает с разворотом. На этот раз он попадает мне в лицо. Не чисто и не элегантно. Ничто по сравнению с ударами борцов.
— Да к нам сам Ван Дамм пожаловал! Сможешь повторить?
Они поднимают меня и с нетерпением смотрят на Хюсейина, смеются и подбадривают его. Снова я свисаю с вытянутых рук борцов.
Хюсейин разбегается и пытается повторить удар. Делает разворот, не попадает, но приземляется на ноги.
— Давай еще, Хюсейин!
— Я слышал, что, если сделать правильный удар с разворотом, голова отлетит на хрен.
— Да, но мы же о Хюсейине говорим, правда? О мужике, который ссыт сидя.
Хюсейин сконцентрировался, на этот раз у него получится, или остальные подумают, что ему случайно повезло. Он отступает на шаг. Прыгает, делает разворот и попадает мне каблуком в челюсть, моя голова откидывается назад и вправо. Меня отпускают, и я падаю на землю. Остальные хлопают, один свистит. Хюсейин издает звуки а-ля Брюс Ли. Смеется и кланяется.
Затем снова наступает очередь борцов. Они долго и основательно меня бьют: по спине, по ребрам, по голове. Поднимают, держат и бьют по очереди. Бьют коленями в живот и в лицо и снова роняют. Не знаю, сколько это продолжается. Я больше не чувствую боли после каждого удара, только толчки. Я смотрю на себя сверху. Я лежу в чаще леса, а они стоят вокруг и пинают меня. Я сижу в кроне дерева и вижу, как мое тело швыряют туда и обратно. Махмуд по-прежнему сидит на капоте, смотрит на огонек своей сигареты.
34
Я один во тьме. Еще до того, как я успел открыть глаза, нахлынула боль. Голова, тело, руки, ноги — все болит. Мне не хочется вставать. Хочется остаться в чаще леса, забыться, и боль исчезнет. Но, думаю, не стоит, думаю, мне уже не проснуться.
Медленно, опираясь о ствол дерева, встаю. Меня рвет, рукавом куртки вытираю рот. Горящей от боли рукой роюсь в карманах. Деньги они, конечно же, взяли. Ключи на месте, я засунул их глубоко в карман джинсов. Все сигареты сломаны. Отрываю от одной фильтр и закуриваю. Выдыхаю дым. Нос не дышит, чувствую, как по губам течет кровь, чувствую ее вкус.
Я пытаюсь идти. На левую ногу толком не ступить. Но вряд ли сломана. Медленно, опираясь на деревья, ковыляю вперед, падаю и снова встаю. Не знаю, куда я иду, но надеюсь, что если буду продолжать в том же духе, куда-нибудь да выберусь. В сознании провалы, черные дыры. Начинается бормотание. Мне нужно держаться, держаться изо всех сил, иначе я просто сломаюсь. Бормотание все громче. Злые голоса, я не слышал их уже несколько дней. Теперь они хотят быть услышанными.
Я добираюсь до какой-то дороги, иду по ней. Мимо проезжает автомобиль, я выхожу на середину и машу руками. Он объезжает меня и скрывается из виду. Добредаю до какого-то городишки: кучка домов, магазинчик, гриль-бар. Иду по центральной улице. Наверное, я похож на жертву автокатастрофы: проезжающая мимо пожилая женщина, увидев меня, чуть не упала с велосипеда.
Подхожу к табличке с изображением поезда. Иду по стрелке: станция — не станция, просто старая лавочка и рядом — табличка. Для того чтобы поезд остановился, нужно нажать на кнопку. Сажусь. Из носа на асфальт капает кровь. К приходу поезда подо мной образовалась небольшая лужа. Влезаю в вагон и ложусь на сиденье. Женщина средних лет быстро складывает газету и пересаживается. Похоже, ее день теперь безнадежно испорчен. Выхожу на «Остепорт»; все сиденье измазано кровью. Ноги дрожат, и я практически на карачках выползаю из вагона. Поднимаюсь по лестнице, в глазах чернеет, и, чтобы не упасть, мне приходится крепко ухватиться за перила. Пытаюсь поймать такси, но шофер лишь прибавляет скорость. Час ранний, народ идет на работу. На меня смотрят, оборачиваются, но не трогают. Я мог бы лечь и умереть, меня бы не побеспокоили.
Дохожу до Трианглен, оттуда до квартиры брата. Не чувствуя руки, отпираю дверь парадного. Подниматься по лестнице тяжело, на стенах остаются красные пятна. Отпираю входную дверь. Вхожу в квартиру и падаю.
35
Я пролежал три дня. Сперва валялся в прихожей, потом дотащился до ванной и принял пригоршню таблеток от головной боли. Потом — в постель. Проснулся ночью, постельное белье покрывали большие коричневые пятна. На шее, на груди — присохшая кровь. Все болело, встать было равносильно подвигу. Я упал и разбил лампу. Дошел до ванной. Пописал, прислонившись к стене, больше попало на пол, чем в унитаз. Выпил еще таблеток от головы, четыре или пять, и две таблетки снотворного. Бодрствовать было больно. Снова упал в кровать. Не знаю, сколько я пролежал: четыре часа, двенадцать, шестнадцать? Проснувшись, снова пошел в ванную, стараясь не смотреть в зеркало, выпил еще таблеток от головной боли и — снова в кровать. Так прошло два дня. Я пил снотворное и воду кровоточащими губами. Пытался поесть, меня вырвало. С трудом проглотил несколько сухариков.
Лежал в кровати, то забываясь, то приходя в сознание.
На третий день мне стало лучше. Не то чтобы очень, но я смог сесть на край кровати и покурить сломанные сигареты. Прислушавшись к своим ощущениям и определив, где болит, я решил, что мне повезло: ничего не сломано. Ничего важного. Может, пара ребер: при вдохе что-то свистит. Смотрю на свое отражение в зеркале: похож на зомби из фильма ужасов. Красные пятна на теле и на лице, с зеленоватыми и синеватыми разводами.
Я выживу.
36
Поздним вечером я стою напротив гаш-клуба. Стою в тени, прислонившись к стене дома. Не двигаюсь. Воротник поднят, на голове — бейсболка. Я купил на бензоколонке дешевые электронные часы. Проходит сорок пять минут, я стою, потею и чувствую каждую клеточку своего избитого тела. Выходят два парня, в одном я узнаю Хюсейина, они громко разговаривают, смеются и уходят прочь. Чуть позже подвал покидают двое других парней, их я раньше не видел. Один такой обкуренный, что чуть не падает, другому приходится его поддерживать. Затем свет гаснет, выходит Махмуд, один. Запирает за собой дверь и спокойно идет по улице, курит, напевает что-то. Звонит мобильник, Махмуд раскрывает трубку, с кем-то разговаривает, смеется. Путь недалек: несколько метров по Нёреброгаде, мимо киосков с шавермой, затем свернуть в переулок.
Он останавливается перед желтым кирпичным зданием, вынимает ключи. Я смотрю вверх, на маленькие французские балкончики, которые годятся лишь для того, чтобы устанавливать на них спутниковые антенны. Немного погодя в одном из окон второго этажа зажигается свет.
Я лежу в постели, одурманенный болью и таблетками, пробую собрать силы. Смотрю в потолок моего старшего брата.
Он уже не белый, а голубой с белыми барашками.
Кровать уже не мягкая, а жесткая и грубая, как серые бетонные скамьи вдоль бассейнов. Я поднимаюсь и бегу вместе с братом. Это давным-давно забытое воспоминание. Те летние дни мы проводили в аквапарке в Белахое. Мама, брат и я.
Брат взял меня на трехметровую вышку, и я был дико напуган. Он то подбадривал меня, то насмехался, как могут только старшие братья, и я прыгнул, и потом страшно гордился, он сказал, что я прыгнул совсем неплохо. Сам он прыгнул с семиметровой вышки.
Там были и другие мальчики нашего возраста, и у одного из них были короткие волосы и длинная прядь на затылке, они были похожи на настоящих хулиганов, может даже опасных. Он обзывал их дрочилами, а они что-то кричали в ответ.
Брат мог плевать таким особенным образом, что получался не просто плевок, а аккуратный шарик, который точно попадал в цель. Он мог попасть во что угодно, много раз плевал в мусорные ведра и иногда попадал, а иногда нет. А я пробовал и пробовал, но у меня так не получалось.
Мы сидели за раздевалкой, и брат отрегулировал зажигалку так, что пламя пыхало на полметра вверх. Затем набрал в кулак газу и зажег зажигалку, так что на короткий миг в руке у него оказался огненный шар. Он вращал кремень туда-сюда, пока рука не оказалась покрыта какой-то сверкающей пылью. Высек огонь и дал этой пыли осыпаться над пламенем, так что она превратилась в крошечные метеоры.
Ему было, наверное, лет двенадцать, мне — на четыре года меньше, тогда он был самым крутым на свете.
Я помню, там был детский бассейн, но брат сказал, что нам туда не надо, потому что маленькие дети в нем писаются, а еще я помню лужайку, на которой можно было играть в мяч.
А мама сидела на одной из бетонных скамей, расположенных на разных уровнях. Она не купалась, сидела в солнечных очках и в платке. Читала журнал и махала нам, когда мы выглядывали из бассейна.
Она дала нам денег, и мы встали в очередь, состоявшую из детей в купальниках, все стояли за сладостями и газировкой. Фруктовый лед, леденцы, эскимо. Мы купили тосты с сыром и ветчиной, с коричневыми желобками от гриля, размороженные, но внутри так до конца и не оттаявшие. И когда мы их ели, а в носу хлюпала хлорированная вода, они были на вкус как такие вот летние дни. Мы поели, и у нас еще остались деньги, и мы показывали на разные банки со сладостями по двадцать пять и по пятьдесят эре, пока деньги не кончились.
Может быть, картины такие ясные, потому что память моя совсем не износилась, а может, мне помогают лекарства или болезнь, но во рту я почти чувствую вкус хлорки, а ногами — тепло подогретой воды в маленькой луже, которую надо было миновать, переходя с лужайки в бассейн.
Еще там была водяная горка, и некоторые из больших мальчиков приспускали плавки, когда наступала их очередь кататься, и съезжали на голой заднице, они говорили, что от этого скорость увеличивается. Мне не хотелось съезжать там, где были чьи-то задницы. Брат сказал, что я нытик. И я все-таки это сделал, просто чтобы попробовать. Не хотелось быть нытиком. А кое-кто из ребят постарше пытался влезть без очереди, они толкались, тянули друг друга за резиновые браслеты и отпускали, и получался такой шлепок по коже.
По дороге домой мы зашли в Брусен купить еды на ужин. Брат только начал пользоваться дезодорантом, и нам пришлось перенюхать все дезодоранты, какие там были. Он выбрал один под названием «Барракуда». Он сказал: запах хороший, девочкам это нравится. Но я подумал, что он наверняка выбрал его из-за названия. Брат сказал, что так называется большая акула.
Это хорошее воспоминание, чудесное воспоминание, и я наверняка исчез бы в нем, остался бы в том дне и не вернулся назад, если бы у меня не было здесь одного дела.
37
Вниз по лестнице и несколько болезненных шагов по улице, мимо охранника «Севен-илевен». Вид у него такой, словно ему хочется меня вышвырнуть, но не хочется до меня дотрагиваться. Я избегаю блестящих поверхностей, меня обслуживают раньше других, расступившихся, чтобы пропустить меня. Болит губа, и, когда говорю, звук получается с каким-то присвистом. А я показываю на сосиски в стеклянной витрине и кладу на прилавок деньги. Они по-прежнему похожи на отрезанные пальцы. Я всасываю в себя жир, и соль, и мясо.
Захожу в охотничий магазин. На стенах — зеленая одежда, сапоги, удочки, я подхожу к кассе. Вообще-то я и так уже похож на жертву неудачной охоты. Продавец, мужчина лет сорока в удобной верхней одежде, пытается сделать вид, что не замечает ничего необычного.
— Чем я могу вам помочь?
— Охотничий нож.
— Так, а скажите, пожалуйста, для чего?
— Для охоты.
— У нас большой выбор. А на какого зверя?
— На большого.
— Вроде косули?
Вроде человека.
— Да, вроде того, на большого.
Он открывает ящик с ножами, расположенный под прилавком.
— А как давно вы охотитесь?
— Я только начал.
Он выкладывает на прилавок два ножа. Один — с красной пластмассовой ручкой, другой — с деревянной.
— Больше.
— Простите?
— Больше, он должен быть больше.
Он вынимает два других. Один наполовину вытаскивает из ножен, чтобы я посмотрел на сталь.
— Это немецкий, «Золинген», очень хорошего качества.
— Больше.
Он показывает мне другие — шведский, финский, хорошие охотничьи ножи, говорит он.
— Больше.
— Не думаю, что у нас… Подождите-ка секундочку.
Он выходит в подсобку, наверняка чтобы позвонить в полицию. Возвращается с темно-синим пластиковым пакетом, открывает его и аккуратно вынимает нож, вложенный в ножны.
— Это канадский нож. Для охоты на медведя. На лося. По большому счету, мы закупили его для полноты коллекции.
Это большой нож, длиной с мою руку до локтя. Продавец с благоговением кладет его передо мной, показывает мне детали, с гордостью в голосе объясняет, как им пользоваться. Рассказывает, что на нож дается пожизненная гарантия.
Для кого?
Он упаковывает нож, и я расплачиваюсь.
Я пишу письма тем немногим людям, что есть в моей жизни.
Если я вернусь в квартиру, то порву их; если нет, они останутся лежать на кровати. Перед мамой я извиняюсь за то, что у нее из-за меня было столько тревог. Я бы хотел быть лучшим сыном, здоровым сыном. У брата я прошу прощения за квартиру. Много раз. Надеюсь, у него хорошая страховка. Спрашиваю, помнит ли он аквапарк в Белахое.
Я пишу Амине. Пишу, что, надеюсь, ей хорошо там, где она есть, что она счастлива.
38
Махмуд выходит из дому уже далеко за полдень. Стоит теплый день, он щурится на солнце. Выглядит так, будто только что проснулся: рубашка мятая, на ногах — сандалии. Он идет в супермаркет по Нёреброгаде, я жду снаружи. Он выходит с покупками, заворачивает в шаверма-бар и выходит через десять минут с прозрачным пакетиком, в котором лежит нечто, упакованное в фольгу. Похоже, он в хорошем настроении, из уголка рта свисает сигарета, на указательном пальце он крутит связку ключей. Вот он здоровается с каким-то мужчиной, с турком или арабом, они обнимаются, и он идет дальше. Я — его персональная опека. Я нахожусь не так далеко, чтобы он мог исчезнуть, и не так близко, чтобы меня можно было заметить. Он подходит к своему подъезду, отпирает дверь, я подставляю ногу и не даю двери захлопнуться. Иду за ним по лестнице. Ключ уже в замке и дверь наполовину открыта, когда он слышит меня. Оборачивается и смотрит. Я сильно бью его рукояткой ножа по лицу. Он отшатывается, спиной толкает дверь и делает два шага назад, в прихожую. Я снова бью, на этот раз он падает.
Махмуд живет в маленькой двухкомнатной квартире. На желтых крашеных стенах висят фотографии его родственников. Трофей за участие в спортивных состязаниях в 1993 году. Я вынимаю нужные вещи из сумки и начинаю готовиться. У Махмуда есть кошки, два котенка, в его покупках я нахожу банку с кошачьим кормом — курицей в желе — и даю им. Он все еще без сознания, я готовлюсь, попутно съедая его шаверму.
Махмуд приходит в себя, сидя на стуле посреди квартиры. Я отодвинул обеденный стол к стене, чтобы расчистить себе пространство. Махмуд крепко привязан к стулу изолентой. По-моему, хорошая работа. Рот тоже заклеен изолентой. Я сниму ее, когда объясню ему правила. Сижу на диване, курю, послеполуденное солнце лениво проникает сквозь жалюзи. Глаза Махмуда блуждают по комнате, я улыбаюсь ему. Он дергается и понимает, что привязан крепко. Очень крепко.
— Махмуд, если ты мне немного поможешь, я уйду через полчаса, и мы больше не увидимся, я не собираюсь мстить за прошлое. Я понимаю, это твой кузен. А тут я прихожу и хочу чего-то. Может, он мне деньги должен, может, что другое. Я прекрасно понимаю твои чувства. Но теперь тебе придется о них забыть, Махмуд, мне нужен адрес Эркана. Я ему ничего не сделаю. Просто хочу знать адрес и не уйду, пока у меня его не будет.
Проходит еще пять минут, я смотрю, как на электронных часах сменяются цифры. Он пытается что-то сказать, мычит под изолентой.
— О'кей, Махмуд, сейчас я сниму изоленту с твоего рта. Если ты закричишь, я тебе глотку перережу.
Я показываю ему охотничий нож:
— Это охотничий нож, Махмуд, охотники пользуются им, если подстрелят оленя. Таким вот ножом они перерезают зверю горло. Одним движением я могу перерезать тебе глотку. И так и сделаю, если ты закричишь. Я не хочу этого делать. Я просто хочу адрес Эркана. Я не хочу тебя убивать. Но если ты закричишь, я это сделаю.
Я сдираю изоленту со рта, кожа под ней красная.
— Черт бы тебя побрал, скотина ты такая. Черт бы тебя побрал, скотина ненормальная, чертов психопат…
Махмуд еще ругается, но не кричит. Я снова заклеиваю ему рот.
Кладу нож на стол, сажусь перед ним на стул:
— А теперь я расскажу тебе, как все будет, Махмуд. Мне нужен адрес. И ты мне его дашь. Сейчас или через четыре часа — не суть важно. Я расскажу тебе о себе. Я клинический шизофреник. Параноидальный шизофреник. С этим не шутят. Меня осмотрел врач и определил, чем я болен. Я не психопат, мне не доставит удовольствия тебя убить. Но мне нужен адрес.
Опять сдираю изоленту.
— Говнюк сраный, никогда, никогда ты…
Я бью его по губам тыльной стороной руки. На костяшках остаются следы зубов.
— Может, кто-нибудь придет. Может, они постучат и уйдут. Может, у них ключи есть. И я знаю, что они тогда со мной сделают. А может, никто не придет, и может, у нас с тобой ничего не получится. И тогда меня найдут на Центральном вокзале, я там буду крутить твои уши на цепочке и есть твои яйца.
— Скотина ненормальная!
— Если ты дашь мне его адрес, я ничего тебе не сделаю. Я уйду.
— Ты что, думаешь, я дам адрес моего брата такому психопату, как ты?! Он моя кровь, дурак, я лучше умру!
— Надеюсь, что нет. В этом нет смысла. Я ему ничего не сделаю.
Махмуд смотрит на меня. Он выглядит так, словно пытается все взвесить, понять, что происходит.
— Зачем тебе тогда его адрес?
— Это не месть, он мне не должен денег…
— Но зачем?
— Я не могу тебе сказать.
— Если ты дашь мне свой телефонный номер, я скажу ему, чтобы он тебе позвонил.
— Этого недостаточно. Но обещаю тебе, я не собираюсь ему ничего делать.
— Сидишь здесь с ножом, псих, какого хрена я должен тебе верить.
— Я вижу… Значит, предстоит тяжелая работа… Я как-то тут смотрел передачку поздно вечером, пока в больнице лежал. Документальный фильм. Там рассказывали об одном французском палаче, специалисте по пыткам, который работал в Алжире. Он выглядел как совершенно обычный человек, не очень высокий, чуть полноватый, лысоватый и в очках. Этот человек, когда ему нужно было разговорить кого-то, работал систематически. Я до конца не досмотрел, потому что санитар выключил телевизор, когда увидел, что за передача. Но думаю, я кое-что помню.
Я снова заклеиваю ему рот.
Закуриваю, сижу так немного с сигаретой, затем откладываю ее в пепельницу, нахожу на кухне ножницы и отрезаю у него рукав. Кожа на руке светлее, чем на лице. Я беру сигарету из пепельницы. Он смотрит на меня, громко мычит из-под изоленты, я не понимаю, что он пытается сказать.
Он вертится на стуле, так что чуть не падает. Я пробую удержать его руку, чтобы добраться до внутренней стороны плеча, но он продолжает бороться.
— Я просто пытаюсь сделать это здесь, чтобы ты смог носить футболки.
Я прижигаю его руку. Волосы загораются, шипят и сгорают до корней. Я убираю сигарету, пока она не погасла.
Делаю затяжку, чтобы сигарета не затухла, вкус омерзительный. Он пытается что-то сказать из-под изоленты. Я тушу сигарету об его руку.
Снова срываю изоленту.
— Где живет Эркан?
Он плюет в меня:
— Черт бы тебя побрал, скотина, хрен ты у меня адрес получишь, давай, пробуй.
Я закуриваю еще одну сигарету.
39
Через пару часов мы прикончили пачку. Время от времени я срываю изоленту и спрашиваю про адрес. Он плюет в меня, ругается, я возвращаю изоленту на место. Губы у него теперь красные и облезлые. Я так надеялся, что мы обойдемся сигаретами. У нас в больнице был парень, который вечно сам себя обжигал, когда предоставлялась возможность. Он говорил, рана от сигареты абсолютно чистая и воспаления быть не может.
Я тушу сигарету о свою руку. Не очень больно, недостаточно.
— Ну вот, теперь ты знаешь, как пахнет жаркое из свинины.
Я открываю окно, чтобы проветрить. И тут он начинает кричать. На губах у него по-прежнему изолента, но звуки он издает достаточно громкие, чтобы я снова захлопнул окно.
Он затихает и улыбается. Глазами показывает, что ни хрена я ему не сделал. Что мне до него не добраться. И на какой-то момент приходится признать, он берет верх. И тут из его кармана доносится одна из тех песен, что мы слышали в машине по дороге в лес. Я срываю изоленту с его ноги и вытаскиваю мобильник. Куда только подевалось все его напускное равнодушие! То, что я нашел мобильник, действует сильнее, чем все эти сигареты. Конечно, мне сразу надо было поискать мобильник, но я так долго был выключен из жизни, что знаю о мобильных телефонах и интернете не больше провинциальной пенсионерки. Не больше той старушки, которая во время занятий на компьютерных курсах сказала, что понимает, для чего нужна клавиатура, но не понимает, что делать с педалью, — она поставила мышку на пол.
Мобильник отыграл довольно большой кусок песни. Я смотрю на дисплей. Сами, написано там. Я жду, пока он закончит звонить. Затем сажусь и просматриваю записную книжку.
Махмуд кричит из-под изоленты. Думаю, он требует, чтобы я, чертов педик, оставил его телефон в покое, но я не уверен.
В записной книжке значатся два Эркана. Я переписываю номера, иду в туалет, закрываю за собой дверь и звоню в справочную. Через две минуты женский голос сообщает мне, что у них нет ни имен, ни адресов владельцев этих номеров. Жаль, это избавило бы меня от массы проблем.
Телефон очень маленький. Такой маленький, что я легко спускаю его в унитаз.
Я снова вхожу в комнату к Махмуду:
— Вот мы и остались вдвоем.
Я пару раз бью его по губам, но понимаю, что вкладываю в удары мало чувства.
Нахожу в его кармане ключи от квартиры: мне нужно передохнуть и собраться с мыслями.
Я покупаю сигареты в магазинчике на Нёреброгаде, сажусь на скамейку в парке на Старом кладбище. Закуриваю без удовольствия. Мимо меня рука об руку проходит молодая пара. На черном дамском велосипеде проезжает парень с петушиным гребнем. Женщина качает коляску, пытаясь усыпить ребенка. В голове абсолютно пусто. Я просто сижу, бессмысленно уставившись перед собой. Иду к «Макдональдсу», съедаю гамбургер и тяну время, сидя над картошкой. Затем покупаю еду для Махмуда.
Когда я возвращаюсь, он лежит на боку вместе со стулом. Я поднимаю его:
— Я купил тебе поесть, Махмуд. Чизбургер и молочный коктейль.
Он пытается кричать из-под изоленты.
— Ладно, Махмуд, нам ведь надо делом заниматься. Дашь мне адрес?
Он грязно ругается под изолентой и елозит, так что снова чуть не опрокидывается.
Я хожу по комнате, обдумываю, что делать. Что причиняет боль? Кухня у него крошечная, представляет собой продолжение гостиной. В мойке стоит стопка тарелок, на столе лежат пара картонок из-под пиццы и старая картошка фри. В ящике я нахожу ножи для мяса и хлеба, выкладываю их на стол. У меня еще есть мой охотничий нож, уж лучше я воспользуюсь им, он выглядит более устрашающе. На другой стороне лезвия у него есть зубцы, если пилить ими голень, должно быть очень больно. Но не сейчас, может, позже, если придется. Надо постепенно наращивать силу воздействия. Если я зараз использую весь арсенал, мне не останется ничего, кроме как перерезать ему горло.
В ванной, на крючке с табличкой «гости», висит зеленое полотенце. Я кладу его в раковину и пускаю воду, затем выкручиваю и наматываю на правую руку. Просматриваю коллекцию CD, трудно найти подходящую музыку. В основном попса, ар-эн-би, под такое хорошо девчонок клеить. Нахожу диск Wu-Tang и ставлю на повтор, на большую громкость. Достаточно громко, чтобы соседи не услышали, чем мы занимаемся, но не так громко, чтобы они начали жаловаться.
Сначала я бью его в бок, как следует, вкладывая в удар весь свой вес. Он сгибается пополам, я даю ему время вдохнуть и выпрямиться. Затем начинаю прорабатывать торс. Держу его, пока бью в живот, когда он сгибается, бью в бок; работаю глубоко, как боксер. Когда работаешь по телу, голова наклоняется вниз. После хорошего тяжелого удара, от которого у него из носа летят сопли, я снимаю изоленту со рта.
— Где живет Эркан? Дай мне его адрес, и я уйду.
— Пошел на хер.
Я приклеиваю изоленту и расстегиваю рубашку, чтобы видеть, что делаю. На его теле красные пятна и кровоподтеки. Несмотря на полотенце, я начинаю чувствовать руку. Продолжаю бить, наношу удары повсюду: в бок, в живот, в грудь. Работаю с оттягом, глубоко, потею, дышу тяжело. Выкуриваю сигарету, снимаю футболку, она вся мокрая от пота. Он что-то мычит.
Сдираю изоленту со рта.
— Это тебе что, сауна, пидор вонючий?
Изоленту на место — и за работу.
На улице стемнело. Рука гудит, все тело разбито, но наверняка не так, как у Махмуда. Я придерживаю его за плечо и погружаю руку в живот, изо всех сил, вкладываю в удар весь свой вес. Сначала тело его складывается пополам. Затем он два раза отрывисто кашляет и издает глубокий горловой звук.
Я срываю у него со рта изоленту, толстая струя рвоты выплескивается на пол и на него самого. Я не успеваю отодвинуться, мне попадает на ноги. Он стонет, и его снова рвет.
Он сидит, склонившись вперед, и тяжело дышит. Я ищу тряпку. В ванной больше нет полотенец, и я беру с дивана старую футболку и, как могу, вытираю блевоту. Затем снова наклеиваю изоленту и принимаюсь бить его телефонным справочником, время от времени снимая изоленту.
— Дашь мне адрес?
— Нет.
И мы продолжаем. Я рассек ему бровь, по шее бежит кровь. Наступила ночь.
— Ну что, как насчет чизбургера?
Он кивает. Я держу чизбургер, а он ест. Коктейль давно растаял, но он не жалуется. Я в некотором роде им восхищаюсь. Может, Эркан и полное говно, а может, он нормальный мужик, но я знаю, что никто бы не стал терпеть столько побоев ради меня.
Я больше не могу. Наклеиваю новую изоленту, выключаю свет и ложусь на диван. Спиной чувствую его взгляд, он сидит в темноте и смотрит на меня. Мне на живот прыгает котенок, я глажу его и аккуратно ставлю на пол.
Ночью я просыпаюсь в уверенности, что он умер, задохнулся в собственной рвоте. Встаю, подхожу к нему. Он сидит на стуле, голова свисает на грудь. Я щупаю пульс у него на шее. Он поворачивает голову и что-то бормочет во сне. Я снова ложусь на диван.
40
Я рано встаю, чтобы пытать Махмуда. Смачиваю лицо, приглаживаю волосы, выкуриваю полсигареты и бужу его ударом в переносицу. Он кричит от боли, из носа течет кровь. Я принимаюсь за лицо. Бью по носу, по челюсти, по горлу. Одно веко вспухло, глаза закрыты, так что визуальный контакт с ним установить непросто. Время от времени я снимаю изоленту, чтобы послушать, что он скажет. По-прежнему ничего. Мы потихоньку прошлись по всему его собранию дисков: от Boys 2 Men и D'Angelo до Snoop Dog. За жалюзи медленно просыпается город. Через пару часов я практически сдох, больше не могу. Срываю изоленту с его рта.
— Или ты мне дашь адрес, или я тебе перережу глотку.
Я приставляю свой нож к его горлу, а он просто смотрит на меня своими красными глазами.
— Я не шучу.
— Если ты это сделаешь, то адреса не узнаешь, но зато станешь убийцей.
— Придется мне это как-то пережить.
— Не думаю, что ты это сделаешь… ты не такой.
И он прав. Я вкладываю в удар весь свой вес и попадаю в челюсть. Махмуд отключается.
Когда он приходит в себя, я сижу перед ним и держу в руках его обрезанный член. Прямо на лезвии моего кинжала. Нож такой острый, что от одного прикосновения по лезвию бежит капелька крови.
— Ты хочешь иметь детей, Махмуд?
Он пялится на нож, на свои гениталии, затем на меня.
— Ты хочешь иметь детей?
Он кивает. На этот раз он понимает, что я не шучу.
— Нож очень острый, Махмуд, мне даже не придется прикладывать усилий, все хозяйство отвалится.
Я записываю адрес на обороте рекламки пиццерии.
41
Я сажусь на поезд до пригорода, где предположительно живет Амина. Полчаса от Копенгагена. Я не был здесь раньше, только мимо проезжал. Помню высокие дома и бетон. Я не ошибся. На станции перед магазинчиком спрашиваю дорогу у пожилой женщины. Она говорит, что найти просто, но отсюда далековато. Иду по широкой четырехполосной дороге. Я не вижу ни алкоголиков на лавочке, ни молодых темноволосых парней, тусующихся перед гриль-баром. Я ничего не вижу. Просто иду, читаю названия улиц. Иду как можно быстрее.
Махмуд еще не должен был проснуться. Перед уходом я впихнул в него несколько таблеток. Он не хотел их глотать, выплевывал, тогда я их растолок и растворил в коле, приставил бутылку к его рту и зажал нос, и пришлось ему все-таки их проглотить. Потом я покормил котят и ушел. Таблетки ломовые, он проснется поздно вечером, а может, вообще только завтра.
Я дохожу до нужной улицы: большие жилые корпуса с грязными фасадами. Прохожу мимо женщины в платке, несущей полный пакет из супермаркета, мимо детей, тычущих палкой в мертвую птицу, нахожу нужный мне номер дома. Еду на лифте: граффити и прожженные сигаретами отметины. Звоню в дверь, с той стороны доносится металлический звук. Руки трясутся, ноги дрожат, я потею, но улыбаюсь, улыбаюсь изо всех сил, широкой застывшей улыбкой, чтобы не напугать ее, когда она откроет дверь. Снова звоню, потные пальцы соскальзывают с кнопки. Дверь открывается.
Она стала старше, усталые глаза, волосы жирные, до плеч. Но это Амина, она по-прежнему красива. Я не могу произнести ни слова. Она испуганно на меня смотрит, не узнает. Точно, лицо у меня разбито, только сейчас я замечаю, что щека пульсирует, не думал об этом последние два дня. Надеюсь, она узнает меня за всем этим красным и голубым. Она шарит в поисках дверной ручки, хочет закрыть дверь, но тут узнает меня. Называет по имени, сначала осторожно, потом уверенно, как бы констатируя. Делает встречное движение, словно бы собираясь обнять меня, но останавливается, отступает назад. Говорит тихим, удивленным голосом:
— Что с тобой?
— Ничего, ничего страшного, просто не повезло.
Ее взгляд меняется, становится холодным. Руки хватаются за дверной косяк, суставы белеют.
— Что ты хочешь?
— Амина… Амина, я просто хотел поговорить с тобой, спросить, почему…
— Янус, мы не сможем поговорить.
— Я только хотел бы… я искал тебя.
Она опускает глаза, думает. Ее голос немного теплеет, становится уставшим, безнадежным.
— Лучше нам не разговаривать, Янус, нам не о чем говорить.
— Это из-за твоего мужа?
— Это не имеет отношения к моему мужу…
— Он не хочет, чтобы ты со мной разговаривала, и поэтому ты мне не пишешь.
— Это не муж.
Не поднимая глаз, она говорит так тихо, что я едва ее слышу:
— В торговом центре есть кафе. Встретимся там через час. — И закрывает за собой дверь.
Я помешиваю давно остывший кофе. Я не смог проглотить ни капли. Это, наверное, самый длинный час в моей жизни. Небольшой торговый центр находится рядом со станцией: в одном конце «Билка» и еще торговая линия с магазином игрушек, ювелирным магазином и прочим, что там еще должно быть в торговом центре. Грязные, голубые и белые плитки с большими пятнами от сотен жвачек. Я сижу за столиком у окна Мозг выносит, я пытаюсь успокоиться. Она может спать на кровати, я могу протереть диван мокрой тряпкой и лечь там. Ей надо только попросить меня об этом, я не позволю ему ее остановить.
Я вижу, как она идет по торговой линии, и все вокруг становится дешевым и жалким. На ней темные очки, волосы собраны, короткая курточка поверх летнего платья, туфли на каблуках. Она открывает стеклянную дверь и уверенными шагами подходит к моему столику.
— Может, сядем чуть подальше? — показывает она в сторону кабинок у противоположной стены.
Я оставляю кофе, мы садимся под репродукцией, на которой изображена ваза с цветами. Амина снимает очки и кладет их на стол. Она с толком использовала прошедший час: отличный макияж, она больше не выглядит ни уставшей, ни напуганной. Наклонив голову, Амина слегка мне улыбается:
— Как ты меня нашел? Меня нет в телефонном справочнике.
— Это было не так уж трудно… Я просто спрашивал… там-сям.
— Ты просто спрашивал?..
Она смеется, и все обретает смысл. Затем смотрит на меня серьезнее:
— Мне жаль, Янус, правда. Я хотела написать. Объяснить, как обстоят дела.
— С твоим мужем.
— Да, с Эрканом. Со всем. Теперь все по-другому… Я рада, что мы познакомились, и мне было очень приятно с тобой переписываться.
— Ты из-за него не можешь писать?
— Эркан к этому не имеет отношения. Я хочу быть с мужем, делить с ним жизнь. То, что у нас было… было так давно. Янус, мне нравилось с тобой переписываться… Но когда-то это должно было закончиться.
— Но там, в квартире… Ты выглядела напуганной, я подумал…
Продолжая улыбаться, она смотрит на меня. Голос у нее спокойный, снисходительный. Как будто ей нужно втолковать что-то ребенку.
— В подъезде полно турок, Янус. Ты же их знаешь. Нельзя мне болтать с незнакомым мужчиной.
Я думаю, что ей сказать, я столького не понимаю, столько всего хочу знать.
— Янус, ты жутко симпатичный, но наши миры слишком разные. Мы подумываем о детях, у нас своя квартира. Все изменилось.
— Но твоя сестра сказала… я говорил с Гюльден, она сказала, что ты…
— Моя сестра немного растеряна. Они с Эрканом не очень ладят, и я решила, что нам лучше какое-то время не видеться, пока все не уладится. Она просто не может этого понять…
— Но как же письма? Ты не будешь…
— Нет, Янус… Я сожалею, что не написала тебе последнее письмо и все не объяснила. Я правда сожалею, но мне слишком о многом надо было подумать. Я была практически уверена, что ты все забудешь.
И я смотрю на нее, жду, что она еще что-нибудь скажет. Но она закончила.
Я встаю. Иду к выходу из кафе. Слышу ее голос позади, очень далеко:
— Прощай, Янус.
Все белое. Я иду по торговой линии, мимо людей, которые тащат детей и пакеты. Но это не я иду.
42
Я сижу в автобусе, прислонив голову к холодному стеклу. Через две остановки входит женщина с двумя детьми, девочкой с красным ранцем на спине и мальчиком четырех-пяти лет. Они садятся напротив. Мальчик поворачивается и смотрит на меня:
— Дядя умер?
— Нет, он просто устал.
Ноги ведут меня из автобуса ко входу в больницу. Я звоню, пока санитар не открывает дверь, делаю три шага внутрь и останавливаюсь. Я не помню имени санитара, он только пришел, когда меня выписали. Парень тридцати с лишним лет, с тонкими светлыми волосами.
— Отвести тебя в твою комнату, Янус?
Я пытаюсь не усложнять его работу, но могу только стоять и смотреть. Меня здесь нет, от меня ничего не осталось, но он-то этого не знает.
— Пойдем, Янус. Тебя ведь Янус зовут?
Он нервничает, переминается, поступает, как его учили, сочувственно обнимает меня.
— Ну вот, сейчас ты пойдешь со мной, и…
Я стою и смотрю. Он не может меня сдвинуть. Я просто стою, и всё. Он бежит по коридору и зовет на помощь.
Приходят несколько санитаров и врач. Они смотрят на меня, говорят обо мне, они боятся, что я внезапно сорвусь с катушек. Обсуждают меня, будто речь идет о ком-то другом. Кладут меня на носилки. Пусть делают, что хотят.
Карин замечает отметины на моей шее, оттягивает ворот и видит, что они идут до ключицы. На мне осторожно разрезают одежду. Говорят тихо, думаю, они не знают, что я их слышу, и ничего не делают, чтобы скрыть свои разговоры, не говорят на тайном языке врачей. Покойнику на похоронах выказывают больше почтения. Они говорят, что никогда еще не видели, чтобы человека так отделали, а он остался жив. С ужасом смотрят на огромные синие и лиловые отметины, расцветившие мое тело, как японские татуировки. Нажимают на разные точки и отступают в изумлении. Смотрят на меня, как маленькие дети, разглядывающие бородатую женщину.
Меня перевозят в другое отделение. Везут на каталке: по длинным коридорам, в лифт — в руке капельница, на груди электроды, — в отдельную палату, красивую, с белыми стенами. На стене висит телевизор с выключенным звуком.
Меня колют, много раз. Делают рентген. Я в прострации, не знаю, от лекарств или от элементарного истощения.
Лежу в кровати. Знаю, что-то не так. Не следовало мне здесь быть. Не знаю почему, но знаю: что-то неправильно. У моей кровати стоит молодой санитар. Я встаю, на мне белая больничная рубашка, ноги голые. Капельница выскакивает, электроды отрываются, прикроватный монитор начинает вопить, и теперь я уже уверен: что-то совсем не так. Санитар кладет мне руку на плечо, просит лечь, говорит: тебе нужно лечь, — направляет меня в сторону кровати. Я хочу собраться с мыслями, отталкиваю его, он валится на пол. Я чувствую глухую боль, она нарастает, и что-то не так, совсем не так. Прибегают санитары. Они удерживают меня, надевают смирительную рубашку, делают укол в руку, спорят и укладывают на каталку. Снова меня везут по длинным коридорам. Я хочу вспомнить, развеять туман, сделать так, чтобы в боли появился какой-то смысл. Меня отвозят в бокс для фиксации, и тут начинает действовать лекарство.
Не знаю, сколько времени я лежу привязанный, думаю, дня два. В моменты просветления я чувствую лишь тошноту и усталость, а затем снова отключаюсь.
43
Я пришел в себя. Рядом с кроватью стоит Микаель. Вместе с другим санитаром они сняли с меня смирительную рубашку, теперь мы одни.
— Вставай, разбойник.
Улыбаясь, он помогает мне вылезти из кровати, поддерживает меня, пока я делаю первые неуверенные шаги. Все тело дрожит, но это нормально после фиксации. Я говорю Микаелю, что хочу писать, он помогает мне дойти до туалета.
— Справишься?
— Да.
Я закрываю за собой дверь, сажусь на унитаз и смотрю перед собой. Лицо становится влажным. Сначала я не понимаю, что это, а потом замечаю, что это льется из глаз. Внутри я ничего не чувствую, но снаружи, по лицу, бегут слезы. Микаель говорит со мной из-за двери, спрашивает, все ли в порядке, просит открыть.
Я плачу, не могу остановиться. Они ломают дверь и поднимают меня. Усаживают на постель и дают таблетки. Через какое-то время слезы иссякают.
Я сижу в кресле-каталке, меня везут в мою старую комнату. Кровать убрана, мои немногочисленные плакаты висят на старых местах. Мне помогают перебраться в постель, я поворачиваюсь к стене и поджимаю ноги. Микаель сидит на краю кровати, держит меня за плечо. Говорит, что теперь я дома, что все в порядке, что без меня было скучно. Завтра мы можем поиграть в шахматы, через пару дней я смогу пойти с остальными в бассейн. Они купили новый видеомагнитофон. Сядем, посмотрим гонконгские фильмы: «Крутые ребята», «Пуля в голову», «Киллер»… Старые добрые боевики Джона By.
Я сижу в комнате отдыха, руки слишком сильно трясутся, чтобы я мог скрутить сигарету. Я прошу Жирную Грету свернуть мне пару штук. Когда мне нужно прикурить, она держит передо мной зажигалку: это непросто, голова так и ходит вверх-вниз. Она рада мне помочь, раньше я с ней не разговаривал.
Дни идут, я сижу в комнате, тупо уставившись перед собой. Микаель принес мне стопку журналов, тех, что оставляют посетители, их разрешают читать. В палате курить запрещено, так что раз в день я встаю с постели и с пыхтением двигаюсь в комнату отдыха. Выкуриваю пять-десять сигарет подряд, настолько быстро, насколько быстро успевает их скрутить Жирная Грета. Со мной заговаривают, но я не отвечаю. Я трясусь, сначала потому что мне прибавили лекарства, никогда еще я столько таблеток не пил, и некоторые из них такие большие, что их трудно проглотить. А потом я трясусь, потому что они снижают дозировки. Мы же не хотим тебя убить, говорят они.
Я захожу в комнату к Томасу. Чтобы не напугать его, надеваю акриловый спортивный костюм. Он сидит на кровати, ая — напротив, на пластиковом стуле.
— Черт, как же грустно без тебя было. Я по тебе скучал, на самом деле.
Я пытаюсь улыбнуться.
— Я все думал, что же ты там делаешь. Почти завидовал. Не то чтобы мне хочется выйти, но я торчал тут и маялся от безделья.
— Да…
— Там все по-прежнему?
— Более или менее.
— Ты нашел свою Амину?
— Да…
— Если не хочешь об этом говорить, не надо.
— Ничего страшного…
— Черт, как же приятно тебя видеть… Я думал, спячу, торчать тут без дела, скоро мы…
Я встаю и ухожу к себе, ложусь. Я изнурен, но спать не могу.
Ночью я подхожу на пост. Карин сидит, откинувшись, на конторском стуле и читает книжку. До того как она опускает ноги, я успеваю увидеть кусочек ее ляжки под юбкой.
— Можно мне снотворного?
— Разве ты не выпил таблетку, Янус?
— Нет.
— Уверен?
— Нет.
Она встает, отходит и смотрит в журнале.
— Похоже, что ты уже принял таблетку, Янус. Тебе давали лекарство в половине девятого и таблетку снотворного в десять.
— А по-моему, нет.
— Я спрошу Еспера, он скоро вернется с обхода.
Карин снова садится за книжку.
— Хочешь чаю с ромашкой, может, поможет немного.
— Нет… А я умру от двух таблеток?
— Нет.
— Так почему же ты не дашь мне еще одну?
Она смотрит на меня так, словно я маленький ребенок, сморозивший глупость.
Возвращается Еспер, кладет на стол ключи и заглядывает в холодильник.
— Янус вечером принимал снотворное?
— Да. Разве в журнале не записано?
— Записано, я просто хотела убедиться. К сожалению, Янус…
Я возвращаюсь в комнату. Ложусь и всю ночь смотрю в потолок. По-прежнему ничего не чувствую. На следующий день я уговорил врача прибавить мне снотворное. Достаточно, чтобы отключиться за пятнадцать минут, но на ночь не всегда хватает. Иногда я просыпаюсь ни свет ни заря и смотрю, как свет медленно вползает в окно и движется по полу.
Меня вызывают к врачу.
Он сидит за письменным столом и изучающе на меня смотрит.
— Что произошло после того, как тебя выписали?
— Мне стало плохо.
— Как плохо?
— Очень плохо.
— И что ты сделал?
— Я приехал сюда.
— Поговорим об этом позже, когда тебе станет получше.
44
Проснувшись ночью, я вижу перед собой Анну. Она смеется, открывает бутылку белого вина, я вижу ее белую грудь с маленькими твердыми сосками. Вижу Махмуда, сидящего на стуле, не знаю почему, но я думаю о нем как о друге. Вижу Амину, стоящую в дверях. Утром, приняв лекарство, я снова ничего не чувствую. Не могу представить их лица, сколько бы ни пытался.
Время идет, безумно медленно, но оно продолжает идти. Одни и те же ритуалы, привычки, которые они считают для нас полезными, четкие рамки, все повторяется. Я завтракаю, подношу ко рту хлопья, потому что миска стоит передо мной, моюсь, курю. Подчиняюсь установленному порядку, потому что не подчиняться еще сложнее. Если бы я мог, я бы остановил время, но день сменяет ночь, и я ничего не могу с этим поделать.
В комнате отдыха ко мне подходит Ляйф. В больнице у него нет друзей. Когда прибывают новые пациенты, он к ним липнет, делает все, чтобы понравиться. Проходит максимум две недели, и они тоже не желают с ним разговаривать.
— Можно стрельнуть у тебя сигаретку?
— Нет.
— Ну пожалуйста, одну штучку, киоск закрыт.
— Я не могу угощать тебя сигаретами, которые не сам скрутил.
— Ну пожалуйста…
Я кидаю ему сигарету. Он поднимает ее с пола и благодарит. Воспринимает это как приглашение сесть рядом.
— Ну и как там все прошло с этой твоей?..
— С кем?
— С турчаночкой?
— Ляйф…
— Девушки, киски сладенькие… Ну как, дала она тебе?
Я наклоняюсь к нему, он придвигается вплотную, гнусно мне улыбается: теперь-то мы поговорим по-свойски.
У меня не очень много сил, но все же мне удается схватить его за горло.
— Прикуси язык, Ляйф.
Он вырывается и садится на стул у противоположной стены. На его шее остаются красные следы.
Он листает журнал и продолжает курить мою сигарету, пытаясь делать вид, что ничего не произошло. Я вижу, что верхняя губа его дрожит, он чуть не плачет.
В глубине моего сознания начинает маячить мысль о самоубийстве. Я смотрю на столовые приборы, на вилки и тупые ножи, которыми мы едим, и думаю, как бы мне один такой нож наточить. Может, о подоконник. Если бы мне удалось пробраться на кухню, то, может, я бы смог заполучить настоящий нож или хотя бы полиэтиленовый пакет. Не хотелось бы стать первым пациентом, удавившимся при помощи пакета. Как этот, который покушался на Руди Дучке.[6] Я смотрю на простыню: если порвать ее на полоски и связать их вместе, можно будет на ней повеситься. Потолок в моей комнате совершенно гладкий, а лампа четырехугольная, к ней нельзя ничего привязать. Но если поставить кровать на попа, можно, наверное, повеситься на одной из металлических ножек.
Или, например, можно процарапать дырку в артерии пружиной из матраса.
Но у меня для этого не хватает энергии, меня не хватает даже на то, чтобы свернуть сигарету. Сижу, курю туго скрученные Жирной Гретой сигареты и фантазирую о самоубийстве, как двенадцатилетний мальчик, который думает о взрослых женщинах.
Иду по коридору, балансируя с двумя чашками чаю в руках. Пытаясь ничего не пролить, локтем стучу в дверь Томаса. На второй раз он открывает. Он явно рад меня видеть. На столе груда журналов по электронике, он складывает их стопкой, чтобы освободить место для чая.
— Я боялся, что в прошлый раз сказал что-то не то.
— Почему?
— Раз ты не приходишь… и вообще…
— Я просто немного устал.
— Да, я так и подумал. Не хотел тебя беспокоить, раз уж ты хочешь побыть в одиночестве.
Я сажусь, делаю глоток чаю. Слишком крепкий получился.
— Я тут кое о чем думал.
— Да?
— Ляйф, да?
Мне даже не нужно задавать вопрос. Ответ я читаю в его глазах. Он опускает взгляд, возится с журналом, нервно загибает страницу, откладывает его:
— Ну, он и так большую часть знал. Все здесь слышали о письмах. Я ведь ему не сказал ничего такого, чего бы он уже не знал.
Я ничего не говорю, просто смотрю на него.
— Черт возьми, Янус, мне же не с кем было поговорить! Тебя не было, с кем я должен был разговаривать? Сидел здесь неделями один. Говорил только с Карин, когда она меняла белье.
Я отодвигаю пластиковый стул от стола, при движении по линолеуму он издает визжащий звук.
— Мне так жаль, Янус. Если бы я знал, что ты вернешься…
Ночью я чувствую в комнате запах табака. Его маленькие вонючие сигариллы. На стуле напротив постели я вижу силуэт старика. Он смеется. Смеется и смеется. Выкашливает свои старые легкие и продолжает смеяться. Говорит: «А что я сказал…» Он в приподнятом настроении. Продолжает говорить, затем начинает действовать снотворное.
45
Карин спрашивает, пойду ли я в бассейн. Я сижу на кровати в своей комнате. Она переспрашивает еще раз. Я молчу, мне не до того: на стене рядом с дверным косяком темнеет пятно. Не знаю, сколько времени я на него глазею, возможно, оно чуть сдвинулось с тех пор, как я его заметил.
— Пойдем, Янус.
Ее голос звучит так, словно она искренне хочет взять меня с собой. Нет, не думаю, что пятно сдвинулось.
— Ты пойдешь или как?
Мимо по коридору проходит Микаель. Карин выходит к нему. Я слышу, как они говорят обо мне. Она спрашивает, не попробует ли он уговорить меня пойти в бассейн, мне это пойдет на пользу. Говорит, что он, наверное, единственный, кто может со мной разговаривать. Пятно похоже на Лангеланд. Немного. Если оно на что и похоже, то на Лангеланд. Но это все же просто темное пятно.
Микаель отвечает, что не будет со мной говорить. Я имею полное право сидеть в ступоре, если мне так хочется. Продолговатое темное пятно, откуда оно взялось? Было оно там до моей выписки? Раньше я не обращал на него внимания. Карин раздражается на Микаеля, говорит, что мне нужно куда-то пойти, что я просидел так уже много дней. Конечно, она ошибается. Я не отвожу глаз от пятна. Микаель идет дальше по коридору, я узнаю его шаги. Карен снова заходит ко мне.
— Пойдем, Янус. Я достану твои плавки.
Она начинает рыться в моем ящике. В обычной ситуации я бы разозлился. Руки прочь от моих вещей, моих личных вещей! Но сегодня мне все равно. Пятно глядит на меня в ответ.
Я сижу в микроавтобусе, старой развалюхе, в которой они перевозят нас, психов. Не знаю, как она меня уговорила, может, мне просто надоело ее слушать. Думаю, пятно никуда до моего возвращения не денется. Пока мы ждали автобуса, Ляйф и еще один парень, имени которого я не уловил, дрались пакетами с плавками. Пытались попасть друг по другу этими пакетами и громко смеялись, когда у них получалось, прямо как мы в седьмом классе. Карин пришлось на них накричать, чтобы они успокоились. Сейчас она сидит рядом с шофером, они говорят о сериале, который идет по телевизору. Ляйф в хорошем настроении, он сидит рядом с тем новым парнем, таким несколько долговязым, рыжим типом, двадцати с небольшим лет. Они машут людям, мимо которых мы проезжаем. Некоторые растерянно машут в ответ, другие делают вид, что не замечают нас. Некоторые дорожные рабочие встают и машут нам, широко улыбаясь. Заметили на автобусе крупную надпись «инвалиды» и наверняка думают, что мы дауны.
Все любят даунов, так же как ненавидят душевнобольных. А мне они никогда особо не нравились. Такие милашки, блин, с большими улыбающимися глазами, большими улыбчивыми улыбками. Ненавижу их почти так же, как ненавижу дельфинов. Гребаные альтруисты. Мы сливаем к ним в море грязь и дерьмо, а они все равно играют с нами в мяч и спасают тонущих даунов…
В бассейне, как всегда, пахнет хлоркой. Одноэтажное здание из красного кирпича, на стенах — большие белые таблички с надписями, рассказывающими, чего здесь делать нельзя. Нельзя курить в бассейне, нельзя входить туда в обуви, надо мыться перед плаванием. Девочка восьми-девяти лет выходит из женской раздевалки. Ее ждет отец. У обоих мокрые волосы. Он покупает для нее колу в автомате. Карин подходит к женщине за стойкой. Она хорошо нас знает. Карин выдают кипу белых мочалок, посыпанных порошковым мылом, она протягивает их нам и продолжает болтать с женщиной. Берет ключ. Во вторник бассейн закрывают в пять, и наступает наше время. По средам — время девушек в хиджабах. Мы, меньшинства, можем приходить после закрытия.
Я надел плавки. Смешные маленькие трусики, мне их подарили на день рождения в больнице. Ошибка разрешать психам выбирать подарки. Плавки слишком обтягивающие, через темно-синюю ткань видна головка члена. Но я не боюсь, что у меня возникнет эрекция, об этом позаботятся таблетки.
Шофер автобуса — полный, пахнущий табаком мужчина в кожаном жилете, лет за пятьдесят — пошел с нами, сегодня никто из санитаров-мужчин не смог поехать. Стоит и нервно на нас поглядывает, боится, что, пока он с нами один, мы тут взбесимся. На ногах у него синие бахилы.
Я выхожу из раздевалки одним из последних. Кое-кто из женщин простодушно плавает по дорожкам большого бассейна. Ляйф и новенький бултыхаются с большим красным кругом в детском бассейне. Я спускаюсь по металлической лестнице. Ложусь на воду. Делаю пару гребков и расслабляюсь, держась на поверхности. Хлорка щиплет глаза. Когда-то я хорошо плавал. Взял даже как-то медаль в школе. Какой-то там сертификат. Их много было. Нужно было нырнуть за металлическим крестом, который кидали на дно, нужно было проплыть пару дорожек в одежде. Сейчас я не могу заставить себя плыть, у меня для этого нет энергии. Я лежу на воде и лениво гребу.
Я выбираюсь из бассейна. Ляйф и новенький стоят у вышек. Ляйф подначивает парня прыгнуть с пятиметровой вышки. Он, похоже, уже начинает действовать тому на нервы.
— Да не боюсь я.
— Да ну как же, как же, боишься!
— Так давай ты первый прыгай. Хочу посмотреть, как ты первым прыгнешь.
— Ты думаешь, я боюсь?
— Да ты прыгни с трешки, тогда я тебе поверю.
— Хочешь посмотреть, как я прыгну?
— Я именно это и сказал.
— Так я прыгну, но ты первый, трусишка несчастный.
Когда я прохожу мимо них и поднимаюсь на пятиметровую вышку, они замолкают. Отсюда виден весь бассейн. Две ванны с голубым дном. Большие окна, снаружи — лужайка и кусты. Карин замечает меня и откладывает книгу. Она сидит рядом со светловолосым спасателем. Мускулистый, один из этих, с такой татуировкой вокруг предплечья, какие все делают в подростковом возрасте. Ляйф кричит мне, я не слушаю, и акустика в бассейне не дает мне разобрать слова. Я подхожу к краю вышки и падаю. Вишу в воздухе несколько часов. Падаю в воду, кожей ощущая покалывающую боль. Выпуская воздух из тела. Но мне не страшно, все это происходит с другим. Глаза открыты, мир голубой и наполнен белыми пузырьками. Здесь тихо. Я не знаю, вверху моя голова или внизу. Мыслей нет, по крайней мере не много, вижу перед собой Амину, но не удерживаю картинку. В легкие попадает вода, но и эта мысль просто уплывает. Я чувствую, какое все бесконечно тяжелое. Мои мысли плывут, как и тело.
Тут все снова становится твердым и острым. Кто-то тащит мое тело. Звук возвращается. Я лежу на спине и смотрю в сводчатый потолок бассейна. Мне в нос вдувают воздух. Я кашляю, изо рта по груди течет теплая вода.
Я прислоняю голову к холодному автобусному стеклу. Болтают меньше, чем по дороге туда. Ляйф и новенький потихоньку поглядывают на меня с переднего сиденья. Карин сидит рядом со мной. Смотрит на меня с досадой. Во рту ощущается вкус хлорки, глаза болят, в носу щиплет.
В больнице я делаю все, что мне велят. Ложусь на кровать. Мне дают таблетки, я не замечаю. Еще тяжелее голова уже не станет. Дверь в комнату оставляют открытой, и время от времени ко мне заглядывает санитар. Под брюками на мне по-прежнему мокрые плавки. Карин пошла со мной в мужскую раздевалку и попросила молодого спасателя помочь меня переодеть. Ляйф издавал громкие смешки, приспускал свои плавки и показывал член. Карин нервничала и злилась, наверняка ей влетит, когда мы вернемся. Они натянули на меня рубаху и надели брюки поверх плавок, потом, наверное, забыли об этом. Пятно темнеет на старом месте у дверного косяка.
46
Меня снова вызывают к врачу, к молодому врачу, заместителю Петерсона. Сидя за большим, темного дерева письменным столом, он пытается выглядеть старше. Голубая сорочка, «лекторские» очки. С ролью он справляется. Пробудет здесь какое-то время и поймет, что ему не нужно походить на врача, у него для этого бейджик есть.
Я сажусь за стол. Он с досадой на меня смотрит. С досадой и немного со злостью, как будто я нарушил договор.
Откашливается — наверное, у Петерсона научился.
— Теперь нам, естественно, придется подумать о мерах предосторожности. О бассейне в обозримом будущем и речи быть не может.
— Никакого бассейна.
— Нет, и нам, конечно, придется пересмотреть ваши препараты.
— Да.
— Вам придется задуматься о том, что, когда делаешь что-то… такое, как в бассейне… то это касается не только вас. Наиболее уязвимые из наших пациентов легко могут выйти из равновесия от таких переживаний.
— Мне жаль.
— Да… Хотите еще о чем-нибудь поговорить?
Он провожает меня до двери. Если в твоем детстве не было хорошей, солидной травмы, в которой можно покопаться, они быстро теряют к тебе интерес. Я их понимаю, им же нужно за что-то зацепиться.
Вновь поступившим вначале оказывают массу внимания. Особенно молодые психологи, они хотят доказать, что могут хотя бы кого-то спасти с помощью бесед, цветов и гимнастики. Так же как врачи находятся в поиске чудо-таблетки, которая снова превратит вас в продуктивного человека.
Я видел их, таблички из твердого картона, которые врачи получают от фармацевтических фирм. Со стрелочками, идущими вниз, от симптомов к названию препарата, который они хотят продать. Иногда врачи отправляются на юг, живут в классных отелях и слушают лекции о том, как хороша продукция этих фирм. Не понимаю, зачем нужно учиться десять лет на медицинском. На то, чтобы зазубрить названия лекарств на табличках, больше недели не требуется.
Я снова ложусь на кровать. Дверь по-прежнему не закрывают. Следят, чтобы я не наделал глупостей.
Томас стоит в дверном проеме, вид у него неуверенный. Он подходит к стулу у кровати, садится нерешительно, как будто боится, что я на него закричу. Сидит, ловит мой взгляд.
— Прости меня. Пожалуйста. Я насчет Ляйфа.
Я отмахиваюсь от него, в последний раз я разговаривал дня два назад.
— Надеюсь, что я не… Я знаю, с моей стороны это было ужасной глупостью. Я просто надеюсь…
Он то расстегивает, то застегивает молнию на своем нейлоновом тренировочном.
— Да черт с ним.
— Это было ужасно глупо с моей стороны.
— Да ладно.
Он наклоняется ко мне. Я продолжаю смотреть в потолок.
— Ведь это же не депрессия за тебя отвечает, а?
Я поднимаюсь:
— Нет, нет. Это все правда ерунда.
— Я так рад. Мне было трудно пройти мимо фикуса в коридоре. Если бы ты еще со мной разговаривать не захотел…
Я не могу сдержать улыбки. Он с облегчением смеется:
— Я слышал, ты попал в сборную по плаванию.
47
Меня зовут к телефону. Я встаю с кровати и иду за санитаром в телефонную будку.
— Привет, это Анна.
— Привет…
— Надеюсь, ты на меня не сердишься.
— Нет, я не сержусь. Я просто устал.
— Очень жаль, что все так закончилось, что ты так ушел.
— Мне пришлось.
— Я знаю, с тех пор меня мучает совесть. Но… ты мне нравишься…
— Ты мне тоже нравишься, Анна…
— Но… я не то хотела сказать. Я была в том женском центре.
— Теперь уже неважно. Я нашел адрес.
— Ты знаешь, что муж ее бьет? Я говорила с консультантом, сказала, что я подруга Амины, и она согласилась помочь. Она рассказала, что две недели назад Амина снова к ним приходила. Он избил ее до синяков и сломал палец. Она пожила там пару дней, но не захотела обращаться в полицию и снова вернулась к нему. Они сильно расстроились.
— Спасибо.
— Я просто подумала, что могу что-нибудь сделать.
— Спасибо. Ты мне очень помогла.
— Если снова выйдешь, приходи. Книжка про Лотрека все еще лежит на подоконнике и ждет тебя.
Я кладу трубку.
Кто разбил зеркала в ванной? Похоже, что Карин разозлилась. Стоит посреди столовой и громко так говорит. Говорит, что кто-то разбил все зеркала. Народ отрывается от спаржевого супа с серыми тефтельками. Ну наконец-то хоть что-то. Я перекладываю ложку в левую руку, подношу ко рту, одновременно пряча костяшки правой руки в коленях. Опухшие красные костяшки. Кто-нибудь наверняка заметил. Но никто ничего не говорит.
Это нечто противоположное любви. Я все время думаю об Амине, не могу о ней не думать. Но мысль о ней не приносит радости. Не согревает.
Карин говорит, что тому, кто разбил зеркала, ничего не будет, они просто хотят знать, кто это сделал. Им очень важно знать кто. Ее голос поднимается на октаву. Под столом я массирую костяшки. Мне больно до них дотрагиваться. Я тру костяшки о шершавый низ столешницы, от боли на глазах выступают слезы. Карин говорит, что тот, кто разбил зеркала, может подойти к ней позже. Все молчат. Она говорит, что зеркала очень дорогие. Так что если кто-то знает, чьих рук это дело, он просто может потом к ней подойти. Это нечто противоположное любви.
В этот вечер старик преданно меня дожидается. Сидит на стуле, который я поставил для него у кровати. Раньше он просто стоял и странно щетинился и не знал толком, как ему быть. Он лучше себя чувствует сидя. Рассядется, скрестит ноги и улыбается мне. Я ждал его, знал, что он придет. Он откашливается, но молчит.
Давай выкладывай, говорю я ему. Все выкладывай, я никуда не денусь. Все, что имеешь. Ты не можешь предложить мне ничего такого, с чем бы я не совладал. Я это знаю. Просто говори со мной. Скажи мне все. Расскажи, что я такое, кто я такой. Я обязательно выслушаю. Обещаю. Выкладывай все.
Он уже выглядит не таким довольным. Занимает меньше места на стуле. Давай выкладывай, ору я. Я этого хочу. Покажи мне, кто ты. Покажи, что ты можешь. Ты можешь сломать меня? — я и так уже сломлен. Раздавлен. Можешь затопить мою душу своим мраком? У тебя нет ничего такого, чего бы не было у меня. У тебя не было ни одной мысли, которой не было бы у меня. И ты знаешь это. Потому что я это знаю.
Я сажусь на кровати, смотрю сквозь толстое противоударное стекло, отделяющее меня от остального мира. С деревьев уже падают листья. Лежат на лужайке, взлетают от малейшего дуновения ветра. Я слышу его позади, он ничего не говорит, просто тяжело дышит полуразложившимися легкими.
48
Сегодня к тебе придет брат, говорят мне. Разве ты не рад, сегодня к тебе брат придет! И в начале первого, после обеда, когда большинство тусуется в комнате отдыха, смотрит передачи про обустройство жилья — о том, как натянуть на диван белую простыню, чтобы он обрел новую жизнь, и как покрасить белой краской старую скамейку, чтобы она выглядела совсем по-шведски, — меня отводят обратно в столовую.
У нас еще есть комната для посещений, с желтыми стенами, плюшевым диваном и фотографиями дачных пейзажей Дании. Стандартизированная, какие бывают только в учреждениях.
Но на прошлой неделе к Мортену приходил отец, и он снял штаны и обосрал там все. Мортен, естественно, не отец, отец — преподаватель Института стран Восточной Европы, его иногда по телевизору показывают. И запах еще не выветрился. Или пятна на диване остались.
Так что мы сидим друг напротив друга в столовой. Стол еще влажный, с мокрыми полосами от тряпки, из кухни доносится звяканье тарелок.
Карин сидит на стуле у стены.
Меня явно внесли в список пациентов, находящихся под наблюдением, тех, кого боятся оставлять наедине с родными. Брат сидит и с безразличным видом листает журнал, покачивая шлепанец на пальцах ноги.
— Привет, Янус.
Он пытается мне улыбнуться. Улыбается по обязанности, как улыбаются при случайной встрече. На нем коксовый костюм и темно-синий галстук. Волосы аккуратно подстрижены, кожа приятного цвета, вокруг глаз слабый намек на бледность от солярных очков. До меня доходит, что мы очень похожи. Всего только, что он повыше, потемнее и понормальнее.
Он почесывает подбородок, затем кладет руки перед собой на стол.
— А ты ведь совершенно разгромил мою квартиру.
— Да.
— Когда я вернулся, у меня был шок. Какого хрена ты там делал?
Я пытаюсь говорить спокойно и насколько можно тише, не переходя на шепот. Карин поднимает глаза, затем возвращается к журналу. Я сгораю от нетерпения.
— Ты должен меня отсюда забрать. Сейчас.
— Ты знаешь, на какую сумму ты там накувыркался?
— Тебе придется забрать меня отсюда.
— Я год — я не шучу — год все это собирал.
— Ты должен меня отсюда забрать.
— Один только диван… Ты знаешь, что мне пришлось ждать три месяца, пока его доставят из Италии?
— Мне нужно выписаться. Сейчас.
Он почесывает подбородок:
— Он пришел не в том цвете, и мне пришлось еще месяц ждать, пока его перетянут.
— Тебе придется меня отсюда забрать.
На какое-то мгновение в его глазах появляется нечто, напоминающее обеспокоенность. На мгновение.
— Янус, что с тобой? Что с тобой, черт подери?
— Сейчас. Ты должен меня отсюда забрать.
— И телевизор. Мне даже не хочется об этом думать. Черт возьми, это был «Банг энд Олуфсен».
— Мне нужно выписаться. Сейчас.
— Ты ведь знаешь, что эти вещи для меня значили?
Он почесывает подбородок:
— Я знаю, ты нездоров, но… эти вещи были для меня важны. Ты это понимаешь, Янус?
— Ты должен меня отсюда забрать.
— Ты можешь понять, что есть вещи, которые могут быть важны для других людей? Можешь ты это уловить?
— Ты должен меня отсюда забрать.
— И письма, эти твои вонючие письма по всей спальне.
— Мне нужно выйти, ты должен меня отсюда забрать.
— Надо было выкинуть эти письма.
— Ты этого не сделаешь.
— Мне надо бы сейчас пойти домой и выкинуть их.
— Тогда я тебя убью.
Он встает, почесывает подбородок, поправляет галстук. Кивает Карин, она откладывает журнал. Он не ждет, пока его проводят, сам выходит из столовой и идет по коридору. Карин отводит меня в комнату. Все прошло нормально, говорю я ей. По-моему, все прошло нормально.
— Где Микаель?
Еще одна бессонная ночь, я сам начал снижать дозировку. Всё, антипсихотические препараты, психолептики, или нейролептики, как их иногда называют. Лекарства против побочных действий антипсихотических препаратов. Снотворное, из-за которого голова не работает весь следующий день. Когда мне дают таблетку, я ее раскусываю и глотаю половину, остаток держу во рту. Когда я наконец попадаю в туалет и могу ее выплюнуть, язык ничего не чувствует, а весь рот жутко вяжет.
— Он в отпуске.
Карин встала, отложила в сторону роман Стивена Кинга, я вижу, как ее рука потихоньку поглаживает тревожную кнопку под столом.
— Когда он вернется?
— Думаю, через недельку. Может быть, я смогу помочь?
Ты можешь дать мне большой кусок мыла и гуталин, чтобы я сделал себе бутафорский пистолет. Можешь попросить мою мамочку запечь вонючую ножовку в вонючий пирог.
— Если ты о чем-то хочешь поговорить, Янус… то я с удовольствием…
— На следующей неделе?
— Да.
Я возвращаюсь в комнату, ложусь лицом к стенке и засыпаю под звук тяжелого дыхания старика, сидящего на стуле напротив.
49
Я сижу в комнате отдыха, болтаю с новым другом Ляйфа. Телевизор на стенке работает с выключенным звуком. Парень говорит, его зовут Каспер. Рыжий, с длинным лицом и ранами на руках. С длинными резаными ранами от ножа, которым он, по всей видимости, себя резал. Разговаривая, он отковыривает корочки. Рассказывает мне печальную историю, которую я забуду через час. Как он жил с мамой в маленькой квартире; как они не ладили; как он обкурился и чуток сдвинулся; как она его положила, но вообще-то он не болен; как приятно здесь находиться, он сможет немного отдохнуть, собраться с мыслями, потому что вообще-то, конечно, не болен; чем он займется после выписки, он бы хотел заниматься мотоциклами, разбирать их, собирать; и как в будущем он будет лишь изредка курить по выходным, потому что вообще-то он не болен. И — о да, он подустал от Ляйфа.
А я спрашиваю, не хочет ли он позабавиться.
Иду с Томасом по коридору, время обеденное. Говорю ему, что он меня возненавидит. Действительно возненавидит. Сначала он мне не верит. Нет, ты меня и вправду возненавидишь, обещаю я ему, но надеюсь, что потом когда-нибудь простишь. Хорошо, говорит он.
Мы с Томасом сидим в конце длинного стола в столовой. Напротив нас сидит Каспер и его уже не такой хороший друг Ляйф. Пришедший позже всех и попросивший девушку по имени Мария, в очках с очень толстыми стеклами, подвинуться, чтобы он смог сесть рядом с Каспером. И мы едим тефтельки в соусе карри, которые очень слабо приправлены, и нужно заранее знать, что туда положили, чтобы почувствовать вкус карри. Из-за лекарств многие в отделении не выносят приправы, так что нам не дают ни чили, ни лука, ни карри, ни тмина, ни кориандра, ни перца. Сколько раз я сидел здесь и представлял себе хюнкар бегенди, или фиринда пилич, или другие блюда, которые описывала Амина в своих письмах. Но не сегодня. Каспер широко улыбается, у парня есть тайна, его лишь отчасти занимает разговор с Ляйфом о том, какая кинозвезда круче. Изо рта Ляйфа летят брызги супа, оставляя мелкие пятна на столе.
— А я говорю, и это мое мнение, что у Ван Дамма против Дольфа Лундгрена нет никаких шансов. Ты видел, какой он здоровый? Он же настоящий, блин, викинг. А что может Ван Дамм? Только прыгать и задницей вертеть…
— А как насчет Сигала? Дольфу Сигала не взять.
— Ладно, у Сигала, может, и есть какой-нибудь восьмой дан в айкидо, но что такое это ваше айкидо?
Ляйф продолжает говорить о Дольфе Лундгрене, но Каспер больше не слушает, он улыбается Томасу. Томас увлеченно гонял по тарелке фрикадельку, но теперь он поднимает глаза.
— Ты не любишь растения, да?
Ляйф не знает, что разговор окончен.
— Я просто говорю, что Дольф им всем надает, он им так надает и…
— Я слышал, ты не любишь растения. Как, блин, можно иметь что-то против растений?
Томас смотрит на тарелку, в которой, по крайней мере, нет ни намека на овощи.
— Да, я не очень… растения… Не знаю… так уж получилось.
И Каспер начинает смеяться:
— Так тебе, наверное, не понравятся…
И он вытаскивает из-под рубахи букет разных цветов. Одуванчики, сныть и что там еще можно найти у изгороди вокруг прогулочного дворика.
— …эти цветочки!
Томас смотрит на них, реакция следует незамедлительно. Он начинает судорожно глотать воздух. Глаза выкатываются. Он поднимается из-за стола и падает, сбрасывая на пол тарелку, кувшин с жиденьким красноватым компотом и вообще все, что стоит поблизости. Извивается на линолеуме и пытается уползти подальше от стола. Изо рта у него вылетают кошмарнейшие звуки, какие только при мне издавал человек. Я встаю. Иду к двери в кухню. Сейчас. Шаг за шагом, не бежать, к двери, которую открывают только на время еды. В кухню, где окна полностью открываются, чтобы можно было проветрить, в отличие от прочих помещений в больнице.
К Томасу направляются санитары. Я знаю, мне бы не подобраться так близко к двери, если бы они не отвлеклись на Томаса, бьющегося в припадке. Я знаю, что опыта им не занимать, и если бы я просто встал посреди обеда и пошел в сторону кухни, я бы и полпути не прошел. Но сегодня они сражаются с Томасом. А я так близко к двери, так близко, когда она открывается, и в проеме встает жирная кухарка, со скрещенными руками, в жирном переднике, и смотрит на извивающегося Томаса. У меня нет ни единого шанса пройти мимо нее. А если ее толкнуть, она начнет кричать, и Томас тут же отойдет на второй план, и меня до Рождества продержат в смирительной рубашке.
Я поворачиваюсь и иду в свою комнату, я все еще слышу вопли Томаса. Не крики — вопли. Мне бы хотелось верить, что он делает это ради меня. Что ему, конечно, не по себе из-за этих чертовых цветов, но по большей части он старается ради меня. Но звуки, которые он издает, — их не подделать. В комнате я отдираю монеты, приготовленные для поездки на автобусе, я прилепил их скотчем к груди, и теперь наслаждаюсь болью, обдирая волосы и кожу. Я зарываюсь головой в подушку, но все равно слышу Томаса. А я-то думал, что хуже уже быть не может.
50
— Не можем же мы играть втроем…
Мы стоим в прогулочном дворе с футбольным мячом. Они называют это внутренним двориком. А мы — прогулочным двором, как в тюрьме. Я, правда, никогда не видел, чтобы здесь кто-нибудь прогуливался. Видел только, как народ часами по кругу ходит. Видел, как, взывая к небу, они рисуют странные знаки мелом на асфальте. Круги, треугольники, неизвестные символы.
Но гулять никто не гуляет.
Мы — футбольная команда нашего отделения, Каспер, Ляйф и я. Сливки футбольного общества психов. Периодически в окно выглядывает медсестра. Смотрит, не идет ли у кого кровь, не вопит ли кто, не срет ли.
— Не можем же мы играть втроем.
И Каспер, по сути, прав. Он стоит, облокотившись на крошечные футбольные воротца, и курит.
— И что вообще с этими воротами. Это же детсадовские ворота.
— Это чтобы ты не смог на них повеситься.
— Ага. Так что мы будем делать? Как насчет Мортена? Спросим его?
Ляйф качает головой, продолжая самозабвенно гонять мяч.
— Он в полной отключке, после того как они засунули его в…
Ляйф в очередной раз пытается попасть по мячу внутренней стороной ноги, чтобы затем подбросить его и ударить головой. Мяч снова от него укатывается.
Он поднимает голову, широко усмехается:
— Можем спросить Жирную Грету, твою подружку, что скажешь, Янус?
Ляйф громко смеется над своей шуткой. Каспер тоже смеется, из-за чего Ляйф начинает смеяться еще громче. Он только разогревается.
— Чур она будет в моей команде. Эта свинья все ворота закроет…
Каспер пинает асфальт носком ботинка. Мне хуже, но я сдерживаюсь. Каспер поднимает голову:
— Как насчет Томаса? После той моей выходки было бы…
— Нет.
Хотя по обе стороны и находятся колючая проволока и низенькие постройки, здесь все же слишком много зелени. Кроме того, последние два дня он лежал привязанный. Каспер плюет через изгородь.
— Может, нам задвинуть эту идею…
— Давайте просто играть втроем.
— Да ты что, Янус?
— Вы двое против меня.
— Нет, ёлки-палки…
— Давайте.
— Да у тебя не будет ни одного шанса, Янус.
— Боитесь? Чертовы педики, боятся играть со мной в мяч. Гребаные козлики, дырки, педики вонючие.
— Ладно, Янус, ладно, успокойся, играем…
Проходит всего несколько секунд, и Ляйф забивает первый гол. Он делает победный круг, задирает рубашку, показывая живот. Я вытаскиваю мяч из ворот и спокойно веду его по полю. Ляйф идет наперерез, и я бью. Мяч попадает в стену и отскакивает к Касперу, который его поднимает. Ляйф удивленно спрашивает:
— Разве можно бить в стену, разве это не «вне игры»?
Каспер стоит с мячом под мышкой, прямо как настоящий вратарь.
— Если каждый раз, как мяч попадет в стенку, будет вне игры, мы никогда не сыграем.
Каспер подает, и через пару секунд Ляйф снова забивает мне гол. Он снова делает круг победы, с абсолютно таким же энтузиазмом, как всего несколько минут назад. Псих, что с него взять.
Снова я медленно качу мяч вперед. Попадаю в стену над окнами, мяч снова летит к Касперу, который его поднимает. Ляйф громко кричит, как будто нас тут много, как будто ему нужно кого-то перекричать:
— Да соберись ты, Янус, играй уже.
Ляйф забивает три раза, потом они меняются, и Каспер начинает заводить мяч в мои ворота. Я настаиваю на том, чтобы мы играли до тридцати. Иначе, говорю я, у них нет шансов против меня, я просто пытаюсь дать им фору, а то играть неинтересно.
И я бью «щечкой». Мяч делает великолепную дугу и оказывается на крыше, слышно, как он подпрыгивает три раза и затихает. Черт, орет Ляйф, черт, черт, черт — много раз подряд. Каспер раздосадованно на меня смотрит:
— Это все потому, что ты не хочешь проигрывать.
— Да ты чего? Я его достану.
Ляйф недоверчиво смотрит на меня. Ни у кого нет сомнений в том, что на крышу лазить нельзя. Это совершенно ясно.
— Если подсадишь меня, я его достану.
Каспер кивает, но Ляйф выглядит озабоченным. Он давно здесь, знаком с их штрафными санкциями.
— Я схожу за Карин, может…
Я обрываю его. Держу себя в руках.
— Ты же знаешь, Карин за ним не полезет. Микаель бы полез, но он в отпуске, а я не собираюсь ждать неделю, чтобы надрать вам задницы.
Каспер кивает, но Ляйф продолжает издавать нервные вопли. Он отступает на пару шагов.
— В общем, если кто придет, то я тут не…
Каспер издевательски смеется. Последние судороги дружбы.
— А от мастурбации ты можешь ослепнуть, но тебя же это не останавливает, правда?
Каспер поддерживает меня, я ставлю ногу на карниз одного из заложенных окон, затем он подталкивает меня, так что я кончиками пальцев достаю до края крыши. Подтягиваюсь. Заношу одну ногу на крышу, подтягиваю все тело. И вот я стою там. На плоской крыше с серым покрытием. Мяч лежит в лужице в паре метров от меня. Я бью по нему изо всех сил. Он приземляется далеко за лужайкой, по другую сторону от больницы.
Пересекая крышу, я слышу голос Ляйфа во дворе:
— Но от этого же не слепнут. Разве слепнут?
Я медленно спускаюсь с другой стороны здания.
Я много думал об этом, когда лежал в первый раз. О том, чтобы смыться таким вот образом. Или как-нибудь по-другому, через кухню или в корзине грязного белья, как в фильмах про тюрьму. По-хорошему, я продумал все варианты и еще парочку сверх того, например, что, если сбежать, приняв жидкую форму. Но далеко мне было не уйти. Они разыскали бы меня в автобусе, неуравновешенного молодого человека в синем свитере и коричневой куртке, они поджидали бы меня у брата. Они бы нашли меня раньше, чем я бы нашел Амину. Но теперь я знаю, куда идти.
Я пробегаю пару остановок. Затем сбавляю скорость. Когда меня хватятся, то позвонят в полицию, сами искать не будут, у них не хватит персонала. Я жду в тени дерева, недалеко от остановки. Когда придет автобус, я запрыгну в него прямо перед тем, как закроются двери.
51
Поезд подъезжает к станции. Пробегая вверх по лестнице, я чуть не опрокинул какого-то старика, он жмется к перилам. Кричит на меня хриплым голосом. Я выхожу на дорогу, пытаюсь идти, но все время перехожу на бег. Дохожу до ее подъезда, прислоняюсь к стене, чтобы отдышаться. Взлетаю по лестнице. Стучу в дверь, стучу изо всех сил. Бух, бух, бух, как мое сердце; я слышу, как оно колотится в груди.
Не знаю, что будет, но ждать не могу.
Амина открывает дверь, удивленно отступает.
— Я знаю, что он бьет тебя, так что не ври мне.
— Янус, это нехорошо, не мог бы ты…
— Я и не подумаю уйти, пока ты со мной не поговоришь.
Она видит, что я не шучу. Колеблется, выглядывает на лестницу, смотрит направо, налево. Затем открывает мне дверь.
Мы сидим на кожаном диване в гостиной, между нами — столик из дымчатого стекла. Она выключила звук телевизора, идет какой-то американский сериал. Перед ней стоит холодный кофе, мне она не предлагает. Она сидит на краю дивана, руки нервно теребят ложечку, мизинец на левой руке до сих пор в белой шине.
— Прости, что я с тобой так в прошлый раз.
— Он тебя часто бьет?
Она отвечает не сразу, смотрит мне в глаза, потом на свои руки.
— Все не так уж скверно…
— Хочешь от него уйти?
— Нет. Он не… Только иногда… Но мы любим друг друга.
— Он не должен тебя бить, ни за что не должен. Это нехорошо.
— Я знаю. Я это знаю. И он это знает… Но… все наладится.
Невыносимо видеть ее такой. Это не та девушка, которую я знаю. Бледная, макияж неаккуратный. Синяки замаскированы пудрой. С улицы доносится звук, который заставляет ее вскочить и подбежать к окну. Затем она садится на место.
— Может, нам снова начать переписываться? Или я могла бы тебе писать. Но не так часто. Эркан этого не поймет.
— Если я с ним поговорю…
— Это плохая мысль… Тебе сейчас лучше уйти, Янус, я бы хотела с тобой еще поговорить, но…
Она уже практически подняла меня с кресла, и тут до нас доносится звук отпираемой двери. Она застывает, стоит столбом, будто у нее сердце остановилось. Он заходит в прихожую, видит нас. Делает два быстрых шага и останавливается в дверном проеме, ведущем в гостиную. Он здоровый, у него широкие плечи, большие руки обхватили дверной косяк. Я думал, он будет кричать, но он очень тихо спрашивает:
— Ты Янус?
Я киваю. Он подходит ко мне. Я инстинктивно отступаю. Он продолжает идти на меня, улыбаясь, я пячусь на кухню. Амина хочет что-то сказать, встает у него на пути, он толкает ее в сторону, не отрывая от меня взгляда, она падает на диван, уронив торшер. Кухня маленькая, дверь только одна — та, в которую мы вошли. Справа — обеденный столик с двумя стульями, покрытый красной клеенкой, слева — кухонный стол. Пакет с размораживающимся рубленым мясом. Эркан красивый, думаю я, очень мужественный. Он говорит медленно, взвешенно:
— Я слышал о тебе. Амина к тебе хорошо относится. А вот моему брату ты не очень нравишься.
Он кладет одну ручищу на кухонный стол, другой крепко держится за дверной косяк. И ревет:
— Ты покойник, Янус!
Я кидаюсь к нему, может, я смогу проскочить под одной из ручищ, если он замешкается. Он толкает меня в грудь, так что я отлетаю назад и ударяюсь о дощечку для записей, бумаги и кнопки летят на пол. На кухонном столе стоит подставка для ножей, дешевое дерево, рукоятки ножей из пластика, куплено в супермаркете. Я хватаю один из тех, что сверху, и вытягиваю из подставки. Широкий поварской нож.
Какую-то долю секунды Эркан выглядит удивленным, затем начинает хохотать, до него не доходит. Я бью его ножом в грудь, как можно глубже. Он издает глухой звук. Я вытаскиваю нож и снова бью. И еще. Я слышу, как кричит Амина, стоящая в дверном проеме. Я продолжаю колоть, еще и еще. Рукоять становится скользкой, теплой и мокрой, трудно ее удержать, но я продолжаю колоть. Тут все становится белым, затем черным.
Я помню звуки сирен, «скорую помощь». Помню, как меня связывают. Со мной говорит мужчина в форме. Потом ничего. Я снова в больнице.
52
Поскольку я убил человека, назначено судебное разбирательство. Мне сказали, что я не обязан на нем присутствовать, но если судья увидит, что я не монстр, это может мне помочь. Проведя последние пару недель в изоляции в больнице, я рад ненадолго выйти. На меня надевают наручники, в суд везут в полицейской машине. Меня вводят в помещение и снимают наручники. Это не зал судебных заседаний. Просто обычная комната для совещаний с термосом с кофе и кувшином воды на столе. Присутствуют пятеро мужчин, один из них — Петерсон. Они здороваются, пожимают друг другу руки, похоже, все знакомы. Сначала разговор идет о женах, об отпуске и о вине. Затем тот, кто, по-видимому, является судьей, открывает папку, и они начинают говорить обо мне. Судья смотрит в бумаги и спрашивает, знаю ли я, в чем меня обвиняют. Я киваю. Затем они снова обо мне забывают. Говорят обо мне так, будто меня здесь нет. Спорят, обсуждают разные вещи. Один перечисляет судимости Эркана и упоминает о возможно имевшем место жестоком обращении с женой. Другой называет количество лет, проведенных мной в больнице. Петерсон подтверждает, что я параноидальный шизофреник. Какое-то время они все это обсуждают, очень весело, никто не кричит, не выступает с утверждениями, которые другие опровергают. Мне трудно разобраться, кто защитник, кто обвинитель. Большей части сказанного я не понимаю. Параграфы закона и медицинские выражения, эвфемизмы, делающие все приличным и чистым. Проходит, может, минут сорок пять, и судья что-то пишет на листке бумаги, улыбается и говорит, что все закончено. Полицейские снова надевают на меня наручники и отводят в патрульную машину. Меня везут обратно в больницу. Снимают наручники и оставляют в комнате отдыха. Я стреляю у соседа сигаретку и сажусь смотреть телевикторину.
Чуть позже возвращается Петерсон и приглашает меня в кабинет. Сидит, играет ручкой, не глядя перекатывает ее между пальцами. Новая ручка, наверное подарок, такую он сам себе не купил бы. На ней что-то написано, белые буквы, не могу прочитать. Может, «Лучший на свете дедушка» или что-нибудь в этом роде, спрашивать не хочется.
Он говорит, что меня признали виновным в убийстве, но, поскольку я шизофреник, меня не посадят в тюрьму. Меня приговорили к лечению на неопределенный срок, то есть они могут меня держать столько, сколько захотят, и выпишут только тогда, когда будут уверены, и на этот раз полностью уверены, что я здоров. Там был один, который хотел, чтобы меня отправили в тюремную психбольницу, такое место для психических больных, совершивших ужасные вещи. Но Петерсон отговорил их, он полагает, что я не представляю опасности. Что не брошусь за первым попавшимся ножом для хлеба, имеющимся в нашей больнице.
Тут он вынимает письмо и кладет его передо мной на стол. Маленький конверт, вскрытый. Слишком маленький для официального письма.
— Не знаю, стоит ли давать тебе это письмо. Но, похоже, для тебя это имеет большое значение. В обычной ситуации я бы счел такое решение худшим из мыслимых. Это ведь в каком-то смысле составная часть твоей болезни. Но с другой стороны… Не думаю, что будет полезно тебя этого лишать. Тебе сейчас нужен покой… Я прочитал его, несколько раз, и намереваюсь так же поступать и впредь, если будут приходить другие письма. Но… вот оно.
Он толкает конверт ко мне. «Амина», написано на обороте. Он хлопает меня по плечу и провожает из кабинета.
Я возвращаюсь в комнату отдыха. В компании других пациентов смотрю еще одну телевикторину. Курю их сигареты. Женщина в телевизоре угадывает правильное слово и выигрывает тысячу восемьсот крон. Ляйф прыскает и говорит что-то о ее сиськах. А я сижу с письмом в кармане рубашки, я чувствую его кожей. Я почти счастлив. Я не знаю, что она пишет, но я сижу с одним из писем Амины. Скоро я пойду к себе и прочитаю его, а сейчас я просто сижу и наслаждаюсь сознанием того, что оно у меня есть, что она написала, что оно есть и лежит в кармане моей рубашки.
53
В комнате я аккуратно разворачиваю письмо. Разглаживаю складки. Письмо не длинное. Амина пишет, что последние две недели были тяжелыми. Она переехала к родителям.
Она начала носить платок, чтобы ее не узнавали на улице, народ сплетничает. Особенно в том районе, многие турки знакомы друг с другом.
Какие-то журналисты хотели с ней поговорить, но до сих пор ей удавалось их избегать.
Ее родителей, хоть они и не сказали об этом прямо, похоже, вполне устраивает то, что случилось. Вдовой быть не стыдно, в этом нет никакого позора. Она рада, что снова может общаться с сестрой. Они много времени проводят вместе. Осенью она собирается пойти учиться, но пока не уверена, чего именно хочет. Она пытается не упоминать Эркана и того, что случилось. Просто пишет, что не сердится на меня, что я, наверное, поступил так, как считал нужным. Она снова напишет, когда все немного успокоится. Я верю ей.
Жизнь в больнице снова потекла своим чередом. Я играю в покер, смотрю телевикторины и курю. Томас хочет, чтобы я рассказал, какова жизнь по ту сторону больничной ограды, но я должен по возможности избегать любых намеков на деревья и цветы. Идут дни, похожие друг на друга как две капли воды. Мне уменьшают дозировки, и некоторые из самых скверных побочных эффектов проходят.
Я играю в настольный теннис с Ляйфом. Не знаю почему. Он мне не нравится, и настольный теннис мне не нравится. Но он канючил всю неделю, а больше здесь особо нечем заняться. Стол кривой, резина на ракетках почти стерлась. Даже на рукоятках следы от сигарет. Первые три раза выигрывает Ляйф. Каждый раз он победно вопит и кружится со вскинутыми руками. Я слишком устал и по-прежнему пью слишком много лекарств, чтобы играть в такую быструю игру. Чаще всего мяч пролетает мимо, и я не успеваю среагировать. Затем Ляйф начинает экспериментировать с ударами тыльной стороной ракетки. Выворачивает руку и пытается попасть по шарику. Пару раз я выигрываю подачу.
— А ты крутой, Янус.
— Если бы ты не занимался фигней, ты бы по-прежнему выигрывал.
— Нет, это я о том, как ты того парня грохнул.
— Что я сделал?
— Грохнул его. Ты…
— Заткнись лучше.
— Но это же круто, грохнул чувака.
— Я никого не грохнул, грохнуть можно из пистолета.
— Все равно ты крутой.
— А ты глупый, Ляйф. Жаль, что от этого тебя полечить нельзя.
Идя по коридору, я слышу, что он продолжает играть сам с собой, наверняка до сих пор пытается попасть по мячу тыльной стороной ракетки.
54
Раз бессонной ночью я украдкой пробираюсь из своей комнаты в дежурку. Сегодня смена Микаеля. Он слушает старенький транзистор и листает книжку, перед ним расположен ряд маленьких черно-белых экранчиков, на которых видны коридоры и комната отдыха. Я здороваюсь. Он откладывает книгу, биографию Джими Хендрикса, улыбается. Наливает мне чашку кофе из своего термоса и достает из маленького холодильника бутерброд. Мы говорим о рок-музыке. Микаель слушает ту же музыку, что и я до больницы. Он говорит о диске, который хочет купить, но достать его трудно.
— Получил письмо от Амины?
— Да.
— Ты скажи, если лажа какая. Я устрою так, что они вообще к Петерсону попадать не будут.
— Спасибо…
— У меня тут кое-что есть, ты должен посмотреть.
Он лезет под стол и вытаскивает кипу газет: «Экстра Бладет», «БТ».
— Читал о себе?
— Нет.
— Конечно нет. Если Петерсон узнает, что я тебе это показал, он меня распнет. Ты не заметил, что последние несколько недель у нас тут не видно газет?
— Я об этом как-то не думал.
— Так это из-за тебя. Чтобы ты не прочитал, чтó о тебе пишут. Или чтобы кто-нибудь другой не прочитал. Думают, это тебе повредит.
— А ты что думаешь?
— Мне пофиг, у тебя есть право узнать, что о тебе пишут.
Он кладет передо мной стопку газет. Я листаю их, просматриваю заголовки.
Большие красные буквы и фотография Эркана на кухонном полу. «Молодой турок зарезан». «Молодой турок ликвидирован». Я прочитываю пару статей. Первые два дня они в основном пытались найти что-нибудь на Эркана. Его имя связали и с торговлей гашишем, и с торговлей левым товаром, и назвали происшедшее воздаянием. Возраст его колеблется от двадцати пяти до двадцати семи лет. Через два дня история снова на первых полосах: «Юный турок убит сумасшедшим». Они смакуют то, что я датчанин, и то, что сумасшедший. Строят догадки по поводу причины убийства, печатают высказывания экспертов. Еще день спустя они обнаружили, что мы с Аминой переписывались. Получили информацию от анонимного источника в больнице.
— Ты правда об этом не слышал?
— Нет.
— Первые два дня вообще ничего, кроме этого, в газетах не было. Посмотри письма читателей, это самый бред.
Я перелистываю, нахожу письма читателей. И понимаю, что он имеет в виду.
Датский священник пишет, что это только первые предвестники ситуации, близкой к гражданской войне, и он давно это предвидел. Что с исторической точки зрения так происходит всегда при смешении культур. Представитель муниципалитета полагает, что это явный признак несостоятельности системы районной психиатрической помощи, работу которой следует пересмотреть. Они разузнали мое имя, Янус, и по письмам я понимаю, что оно постепенно стало синонимом самого убийства. Они пишут «Янус», будто все знают, о чем идет речь. Я читаю другие письма. Хадерслевская домохозяйка считает, что это трагедия, но вполне закономерная, раз уж мы нараспашку открываем наши границы.
— Я не расист, Микаель.
— А я ничего такого и не имел в виду. У тебя наверняка были свои причины его убить, я всегда это говорил. Ладно, ты псих…
— Разумеется.
— Но у тебя были причины… Но скажи-ка мне… Это ведь не из-за того, что ты думал, что он с Марса или какая-нибудь такая дребедень?
— Нет.
— Нет, я так и думал.
— Конечно, он был с Марса. Но это не потому.
— Нет, конечно нет.
Я начинаю уставать, думаю, я теперь смогу уснуть. Благодарю за бутерброд и собираюсь встать.
Микаель кладет руку мне на плечо:
— Еще только одну прочитай.
Он быстро пролистывает пачку и, вытащив нужную газету, кладет мне ее на колени.
Мятая утренняя газета. Сначала я не могу разобрать, что изображено на фото на первой странице. А потом понимаю, что это. Нечто, когда-то бывшее низеньким зданием, теперь сожжено дотла. Я нахожу статью в середине газеты. Это пиццерия на Амагере. Владелец стоит у сожженного здания, рядом с ним стоит его жена. Трудно разглядеть такие детали на шершавой поверхности газетной бумаги, но, похоже, она плачет. За ними дочерна обгоревшая кирпичная стена, в воздухе торчат обожженные доски деревянного остова здания.
На соседней странице — еще одна фотография сожженного здания, фотография больше, на ней видно низкую кирпичную стену рядом с пиццерией, на ней — надпись большими красными буквами:
ЯНУС ПОЙМЕТ
Я смотрю на Микаеля, он смотрит на меня, никто не смеется.
Я желаю Микаелю спокойной ночи. Он обещал как-нибудь принести новую демозапись, чтобы я послушал, как идут дела у его группы. Называется Kindergarten Junkies,[7] он говорит, они выступают почти каждый выходной. Я ложусь спать.
55
Я начал смотреть сериал. Нас таких несколько, каждый день в четыре часа мы садимся и ждем начала новой серии. Это дешевая мелодрама, со стенами, которые трясутся, когда кто-то хлопает дверью, а они в этом сериале много хлопают дверями. Иногда они обнимаются, и видно, что она, глядя в камеру, делает это не всерьез, ее взгляд становится очень холодным и жестким. Это плохой сериал, но мне нравится ждать следующей серии. Жирная Грета смотрит сериал вместе со мной. Если она пропускает серию из-за приступа, то всегда спрашивает, что произошло. А так она сидит рядом со мной, крутит мне сигареты, и мы смотрим, кто кому изменил и с кем и кто кому не родной ребенок. Руки у меня больше не трясутся настолько, чтобы я не мог скручивать сигареты, но Грета говорит, что ей приятно. Думаю, она ко мне неравнодушна. Если будет хорошей девочкой, может, разрешу ей на днях мне подрочить.
56
Анна повесилась. Сначала пошли слухи по больнице, потом я спросил Микаеля, и он сказал, что это правда. Она повесилась на потолочной балке в своей мастерской. Врачи говорят, это потому, что она перестала принимать лекарства. Она не оставила прощального письма. А я бы удивился, если бы оставила, для нее это чересчур мелодраматично. Ее последние картины были черными. Только черная краска на холстах, много слоев черной краски.
Я играю с Томасом в «Людо». Надел свой акриловый тренировочный и пришел в его комнату. У него только что появилась эта коробочка с игрой. Изготовлено на Тайване, и фигурки, и дощечка сделаны из пластика, так что все можно протереть влажной тряпкой. Там есть «Людо», шашки и китайские шахматы. Мы проводим много часов, играя и попивая чай из пластиковых чашек.
— Я подумываю поехать в Токио…
Он только что выиграл в шашки и находится в хорошем настроении.
— А почему в Токио?
— Ну, я смотрел программу об ужасном загрязнении окружающей среды в Токио и что там свежий воздух есть только в таких специальных банках в автоматах.
— И ты хочешь попробовать?
— Нет, не банки, но я подумал, что если экология настолько плохая, то у них, наверное, не так уж много зелени осталось в центре Токио.
— А в этом что-то есть.
— Не знаю, поеду ли я на самом деле, это просто мысль…
Мы спускаемся и едим вместе. Спагетти болоньезе. Думаю, соус покрашен коричневым красителем. Но на вкус нормально, довольно соленый. Санитар кладет возле меня письмо. Отправителем вниз. Я не спешу, съедаю то, что на вилке, проглатываю, вытираю рот и только после этого беру письмо. Я кладу его в карман. На десерт у нас лимонный мусс, я съедаю пару ложек, ухожу в свою комнату и читаю письмо от Амины.
Примечания
1
Район в Копенгагене.
(обратно)2
Название банковской пластиковой карты (Дания).
(обратно)3
В Дании — принудительная госпитализация в случае, если человек представляет собой угрозу для общества.
(обратно)4
В Дании означает принудительную госпитализацию в случае, если человек представляет угрозу для самого себя.
(обратно)5
Район в Копенгагене.
(обратно)6
Руди Дучке (1940–1979) — лидер западногерманского студенческого движения, марксистский социолог и политик; покушавшийся на него в 1968 г. Йозеф Бахманн через два года покончил с собой в тюрьме.
(обратно)7
Детсадовские наркоманы (англ.).
(обратно)
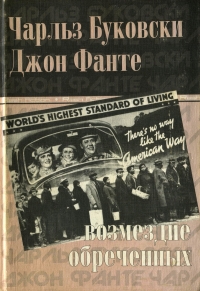

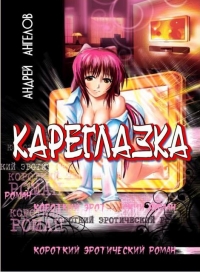
Комментарии к книге «Письма Амины», Юнас Бенгтсон
Всего 0 комментариев