Пядь земли
Предисловие
© Издательство «Прогресс», 1975.
Сыплет первый снег, укутывая деревню пушистым сияющим пологом, и в призрачной белизне просыпаются, бродят из хаты в хату старые предания и легенды. «Словно бы и не на земле-матушке, а где-то в заоблачных высях стоит деревня: так далека она …от летнего пота, от летних забот…» — неторопливая, свободная речь рассказчика, порой полная мягкого юмора, с первых же страниц книги переносит читателя в особый мир, казалось бы не имеющий ничего общего с повседневностью. Захватывает своеобразная повествовательная манера Пала Сабо — строгое, скрупулезно-реалистическое бытописание овеяно у него светлой поэтической дымкой, сквозь которую видишь героев книги и тот уголок старой Венгрии, где они живут.
Деревня, ее будни и праздники, нравы и обычаи, отношения между людьми — все это выписано автором проникновенно и поэтично. Роман «Пядь земли» можно назвать поэмой в том смысле, в каком, например, Гоголь называл поэмой свои «Мертвые души».
В основе сюжета — легенда, которая только рождается, но которую в деревне наверняка будут вспоминать так же, как вспоминают предания об огненном мече в облаках и об упавшем с неба загадочном свитке, легенда эта — история любви Марики Юхош и Йошки Красного Гоза.
К этим своим героям Пал Сабо относится явно с пристрастием. Может быть, поэтому история Йошки и Марики в чем-то близка народной сказке со счастливым концом; вот так же Иван, крестьянский сын, которого народная фантазия наделяет силой, умом, благородством, добротой и, сверх того, необычайной «везучестью», преодолевает все мыслимые и немыслимые препятствия и получает свою Марью-искусницу, а с ней счастье и достаток.
История Йошки и Марики могла бы остаться лишь красивой сказкой о всепобеждающей любви, если бы автор книги не был прежде всего писателем-реалистом. Свойственные Палу Сабо наблюдательность, аналитический дар побуждали его глубоко и всесторонне осмысливать и художественно интерпретировать проблемы, связанные с социальным, экономическим, правовым положением венгерского крестьянства в двадцатых — тридцатых годах нашего века.
Пал Сабо не мог не показать в своей книге, что обстановка в венгерской деревне, как и все общественное устройство буржуазной Венгрии того периода, весьма мало способствовали счастью и процветанию простых хлеборобов. Общество, в котором живут герои книги и в котором шили в то время их реальные прототипы, его порядки и законы отнюдь не направлены на их защиту. Эти законы, например, позволяют Ферко Жирному Тоту терроризировать молодую семью Красного Гоза. Эти порядки и законы препятствуют простому крестьянину рационально вести свое хозяйство — Йошке Красному Гозу грозят неприятности за то, что он, пытаясь вырастить на своей «пяди земли» максимально высокий урожай, создает новую систему орошения.
Правда, сам писатель как бы невольно помогает своим любимым героям преодолевать трудные испытания. Обстоятельства в романе зачастую складываются таким образом, что Йошка и Марика оказываются победителями даже независимо от их собственных усилий, например в тяжбе с Жирным Тотом.
Свидетельствует ли это о какой-то «необъективности» писателя, в его попытке смягчить реальные конфликты? И если это так, то почему роман «Пядь земли» считается не только лучшим в творчестве Пала Сабо, но и до сих пор одним из лучших венгерских романов на крестьянскую тему?
Прежде чем отвечать на этот вопрос, расскажем немного об авторе.
Пал Сабо (1893—1970) — один из интереснейших писателей в венгерской литературе XX века. Родился и вырос он в бедной крестьянской семье и до тридцатипятилетнего возраста не предполагал, что его ждет литературное поприще. Закончив начальную школу, он с детских лет вынужден был вести борьбу за кусок хлеба, как и другие безземельные и малоземельные крестьяне. Но крестьянским трудом нельзя было прокормиться. И подобно тому, как будущий герой его, Йошка Красный Гоз, работает землекопом, чтобы содержать семью, Пал Сабо в юности был каменщиком, занимался «отхожим промыслом».
Началась первая мировая война; Пал Сабо был на переднем ее крае, в окопах, и чудом уцелел в этой кровавой бойне. Война стала мощным революционизирующим фактором для широких народных масс в различных странах, в том числе и в Венгрии. Вернувшись в ноябре 1918 г. в родную деревню Бихаругру, Пал Сабо включается в общественную борьбу. В дни пролетарской диктатуры в Венгрии (1919) он организует в деревне самодеятельный театр, пропагандирует среди односельчан социалистические идеи, начинает знакомиться с марксистским учением.
После поражения Венгерской Советской республики в обстановке разгула реакции и белого террора репрессии угрожают и Палу Сабо; лишь благодаря поручительству местного священника дело ограничилось запрещением выезда из деревни в течение двух лет. Снова для будущего писателя наступает период безысходной борьбы с нищетой…
В 1927 г. Пал Сабо впервые выступает в прессе — пишет небольшую статью в местную газету по какому-то частному вопросу деревенской жизни. Тем не менее это выступление пробудило в Пале Сабо интерес к литературным занятиям. Он пробует силы в разных жанрах — в очерке, фельетоне, лирической новелле; в 1930 г. выходит в свет его первый роман «Мужики». О крестьянине из далекого села заговорили в столичной печати; Жигмонд Мориц, видный венгерский писатель-реалист, заказывает Палу Сабо рассказы и публикует их в «Нюгате» — авторитетном литературном журнале радикально-либерального толка, в котором часто появлялись и произведения левых, даже революционно настроенных литераторов.
Первые произведения Сабо (упомянутый выше роман, новеллы «Люди в тумане», «Трубач», «Все словно в серебре») подкупали читателей не только необычно колоритным языком и любовным изображением крестьянского быта. Начинающий писатель уже и в этих произведениях поставил острые проблемы социально-экономического характера, связанные с тяжелым положением венгерского землепашца, с отсталостью сельского хозяйства. Сабо, как литератор, сразу осознал себя защитником интересов трудового крестьянства, живущего в нищете.
Став признанным писателем, Пал Сабо не отрывается от своего класса, от проблем венгерской деревни, которая вскормила его творчество. В тридцатые годы он публикует романы «Ряска» (1932), «Мать-земля» (1934), «Ожидание чуда» (1937), «Пропасть» (1939) и другие. Произведения эти не равноценны по художественному уровню: писатель продолжает искать себя — свой стиль, свою манеру. Не приходится искать ему лишь тему, его тема всегда с ним: родная природа, жизнь деревни, крестьяне, с которых он пишет героев своих книг. Его тема — крестьянский труд, монотонный на первый взгляд, а на самом деле сложный, требующий ума и сметки (об этом интересно рассуждает в романе «Пядь земли» почтмейстер Марцихази). И обязательно поиски лучшими представителями крестьянства путей к разумной жизни, к утверждению своего человеческого достоинства…
Не прерывает Пал Сабо и своей общественно-политической деятельности, которая всегда была тесно связана с его творчеством.
Рассчитавшись с долгами и поправив свое хозяйство, совсем было пришедшее в упадок, Пал Сабо отдает все свои средства на организацию политической партии, которая представляла бы интересы малоземельной деревенской бедноты, и на издание газеты этой партии.
Поначалу ему не хватает опыта политической деятельности, да и представления его о целях и методах борьбы еще утопичны. Пал Сабо ориентируется на крестьянство, считая, что этот класс своими силами может добиться для себя достойного положения в обществе. Особенность исторической ситуации в Венгрии тех лет: разгромленная в недавнем прошлом социалистическая революция, обескровленное, разрозненное рабочее движение, репрессии против венгерских коммунистов, вынужденных работать в глубоком подполье, — в значительной мере обусловливала утопичность общественно-политических взглядов Пала Сабо и других прогрессивных художников Венгрии. Писатель вскоре на практике сталкивается с доказательствами слабости своей политической концепции. Руководство основанной им Независимой партии мелких землевладельцев постепенно захватывают в свои руки те, от кого она должна была защищать крестьян, — земельные магнаты и банкиры. Еженедельную газету партии запрещают власти.
Логика духовного и творческого развития Пала Сабо ведет его к тому, что он становится видным деятелем движения «народных писателей». Движение это, выросшее в значительную общественную силу к середине тридцатых годов, было довольно противоречивым по своей идеологии уже в самих истоках: с одной стороны, его питали иррациональные мифы о крестьянстве как хранителе исконного «венгерского начала», некой национальной субстанции, и желание найти и показать эту субстанцию в ее первозданной форме. С другой стороны, многие «народные писатели» — представители прогрессивной интеллигенции — стремились вскрыть истинное положение венгерского крестьянства (положение это совсем не было романтическим, каким еще в прошлом веке его изображала литература, отражающая вкусы консервативного дворянства). Такого рода задача, требовавшая аналитического подхода к действительности, в сочетании с некоторыми традициями венгерской прозы и вызвала к жизни своеобразный литературный жанр — социографию, — которому свойственны черты социологического исследования, очерка, репортажа, эссе[1].
Противоречивость движения «народных писателей» обусловила в дальнейшем процесс его дифференциации. Одни его представители исповедовали ложные теории «крестьянского социализма», националистическую концепцию «особого венгерского пути» и т. д. Попытка осмыслить действительность, ее реальные общественные проблемы привела других «народных писателей» к пониманию объективного положения венгерской деревни, помогла усвоить некоторые исторические истины марксизма. Именно левое крыло «народных писателей» — Йожеф Дарваш, Петер Вереш, Дюла Ийеш, Ференц Эрдеи — создали во второй половине тридцатых годов наиболее значительные социографические произведения.
К левому крылу «народных писателей» относился и Пал Сабо. Редакции возглавляемых им вместе с единомышленниками журнала «Келет непе», а позднее демократической газеты «Сабад со» стали основным центром движения. Пал Сабо не писал в полном смысле слова социографические работы, однако его романы давали глубокую и точную картину жизни венгерской деревни. В этих произведениях было отражено главное и существенное, что характеризовало положение крестьянства в те годы: социальное расслоение деревни, назревшая необходимость коренной перестройки экономической структуры сельского хозяйства. Трезвый подход к этим проблемам был обусловлен и тем, что Палу Сабо были абсолютно чужды националистические иллюзии; образы крестьян в его романах, при всей этнографической точности воспроизведения их быта, обычаев, свободны от всякой мистической романтизации. Их мысли и поступки диктуются не какой-то подсознательной, исконной субстанцией, а реальными общественными отношениями и потребностями. Роман «Пядь земли» — блестящее тому доказательство.
В конце тридцатых годов общественная атмосфера в Венгрии становится все более мрачной. Реакционное правительство заключает союз с гитлеровской Германией; прогрессивным силам венгерского общества приходится бороться за элементарные демократические свободы. Борьба ведется в обстановке жестоких преследований, особенно трудно тем, кто подозревается в связях с компартией или хотя бы в симпатиях к коммунистам.
Что касается Пала Сабо, то его последовательный демократизм сделал писателя одиозной для правительства фигурой. Работать в столице было все труднее, и осенью 1940 г. он уезжает из Будапешта в родную Бихаругру.
Здесь Пал Сабо создает один из лучших своих романов — «Пядь земли». Он по-прежнему остается крестьянином если и не по образу мысли (ибо давно уже научился мыслить в масштабах народа, страны), то в эстетическом восприятии мира, по кругу симпатий и привязанностей.
В романе «Пядь земли», как и в большинстве прежних произведений, писатель задается целью показать то хорошее, что есть в деревне, в крестьянах, — пусть даже оно нередко сочетается или соседствует со слабым, смешным. В книге много разных колоритных крестьянских образов: здесь и деревенский самородок Шандор Пап, выучивший наизусть все стихотворения Петефи; и вдова Пашкуиха, сваха, чьи трагикомические приключения весьма оживляют развитие интриги; и старая Гозиха, мать Йошки, вырастившая без мужа четверых детей, и другие…
Но роман «Пядь земли» совсем не идиллия. Жизнь деревни — это не только извечно повторяющийся круговорот зим, весен, лет, молодости, старости, не только нескончаемая цепь, звенья которой — свадьбы, крестины, похороны, пахота, сенокос, жатва… Жизнь деревни — это и постоянная, то скрытая, то явная, борьба двух враждебных сил: богатых и бедных — батраков, поденщиков, малоземельных крестьян. Вдоль главной улицы деревни, как крепостная стена, тянутся глухие заборы богачей, из которых выбираются старосты и члены правления. Кругом же море бедняцких хат, обитатели которых бьются из последних сил, чтобы прокормить свои семьи.
Итак, одни богатеют, другие нищают. Помещики, найдя общий язык с разбогатевшими крестьянами, стараются выгадать даже на тех полумерах, которыми правительство пробует нейтрализовать недовольство широких крестьянских масс его политикой… Но деревенская беднота уже не такая покорная и забитая, какой ее хотели бы видеть исправники, полицейские и прочие верные слуги режима. Еще свежа в народе память о венгерской Коммуне; недалеко от Венгрии бурно строится социалистическая Россия. Живет в деревне, самим своим присутствием беспокоя блюстителей порядка, Имре Вад, бывший боец-интернационалист, прошедший фронты гражданской войны в России от Сибири до Украины.
Процесс пробуждения и становления классового сознания крестьянства особенно ярко воплощен Палом Сабо в образе Красного Гоза. Молодой, сильный, Гоз не хочет мириться с уготованной ему участью бедняка, зависящей от прихоти господ, от богатых односельчан, от капризов погоды. Он чувствует в себе волю к борьбе с тем, что другие крестьяне воспринимают как неодолимую власть судьбы.
Правда, поначалу его протест выражается, так сказать, на низшем уровне сознания: попросту говоря, Красный Гоз крадет у хозяев и мошенничает, чтобы вернуть хотя бы часть награбленного господами «законным» путем у крестьян. Но довольно скоро он начинает понимать: крестьянам нужно организовываться и вести борьбу за свои права общими силами. Недаром он вспоминает социалистические сходки, на которые когда-то, еще в детстве, водил его отец. (Наверное, вспоминал он и другое: социалистические преобразования, начатые венгерской Коммуной. Возможно, Пал Сабо не мог об этом написать в своем романе: ведь в начале сороковых годов упоминание о 1919 годе, да еще в таком контексте, наверняка не было бы пропущено.) Красный Гоз подумывает о том, что он мог бы стать в своей деревне «новым товарищем Андялом» — тем, кто когда-то произносил перед крестьянами пламенные речи о прекрасном будущем. Красный Гоз живо представляет, как он встал бы перед мужиками и сказал бы им: «Мол, плохо, мужики, беда. Нет нам иного спасения, кроме как немедленно объединиться, организоваться… Объединиться надо против господ и против государства, которое принадлежит господам. Потому как государство в таком виде — заклятый наш враг». Иными словами, Красный Гоз мечтает вести своих односельчан к новой, разумной и сознательной жизни.
В трудной и опасной работе, к которой начинает готовить себя герой, он может рассчитывать лишь на себя и на помощь таких же, как он, бедняков, противостоит же ему все «господское общество».
К «господам» Пал Сабо относит и сельскую интеллигенцию: учителей, священников, врачей и т. д. Может быть, отношение писателя к ним является слишком обобщенным; во всяком случае, он по праву требовал от этих ближе всего стоящих к народу и наиболее просвещенных в деревне людей бо́льшего участия в судьбах крестьян и осуждал их за пустоту и никчемность, за пренебрежительное отношение к «мужикам». С симпатией рисует Пал Сабо тех немногих интеллигентов, которые не только не гнушаются общением с простыми людьми, но порой даже способны понять, что народ — огромная сила. Таковы, например, и адвокат Гашпар Бор, и молодой агроном из усадьбы, и деревенский философ Марцихази. И все же Пал Сабо считает, что эти люди еще далеки от народа: зачастую они ограничиваются лишь разговорами о судьбе крестьянства да некоторой спонтанной, от случая к случаю, помощью, не требующей от них особых усилий. Поэтому-то в деревне их и почитают «господами», людьми, враждебными мужикам или, в лучшем случае; бесполезными. Есть в этом «сословии» и глубоко отрицательные типы: таков помещичий эконом Енё Рац, ставший прислужником господ, утративший человеческое достоинство и свою индивидуальность. Смысл жизни, ценность личности, считает Пал Сабо, всецело зависит от того, насколько человек связан с народом.
Красный Гоз — простой крестьянин, но у него есть гордость, он понимает свое значение в мире, и это дает ему ощущение превосходства над господами. Потому-то, встретясь с ним лицом к лицу, смотрят на него господа с некоторым испуганным изумлением: очень уж не похож Красный Гоз на тех, «кто снимает перед ними шляпу на улице». Совсем иной, непонятный и потому внушающий тревогу человек стоит перед ними. Растерянность их тем более оправданна, что Красный Гоз не исключение, не феномен, он как бы воплощает новый облик крестьянина. Именно это прежде всего важно иметь в виду, чтобы понять конструктивную роль образа Красного Гоза в романе; сам Пал Сабо много позже, в автобиографической книге «Все круги замыкаются» (1968), писал: «Хотя Красный Гоз и носит имя одного гестского (Гест — деревня по соседству с Бихаругрой. — Ю. Г.) крестьянина, в нем воплощены воля к борьбе, сила, слабость и надежда всего этого края…»[2]
Конечно, в поисках, в мечтах Красного Гоза часто можно угадать мысли, мечты самого Пала Сабо. Это естественно — в раздумьях писателя о своем герое не могли не отразиться его собственные духовные искания, — искания человека, который начал свой путь простым тружеником, живущим лишь клочком земли да заботами о куске хлеба насущного, а стал идеологом деревенского пролетариата, осознавшим нужды своего класса и искавшим возможности его раскрепощения.
Художественно полнокровно воссоздать процесс становления крестьянского сознания и пытался писатель в романе «Пядь земли». Именно поэтому, нам кажется, и конфликты развиваются и завершаются здесь необычно, нетрадиционно мирно: «частные» конфликты не должны были заслонить развитие главной, основной идеи — показать духовный рост Красного Гоза.
Мало кто из венгерских писателей знал душу крестьянина лучше Пала Сабо, и едва ли кто умел более точно и глубоко ее понять.
В романе «Пядь земли» писатель дал широкую панораму венгерской деревни, с этнографической точностью изобразил подробности быта, национальные обряды, воспроизвел мелодику народных песен, местных преданий и легенд. И все-таки, читая книгу, убеждаешься, что, несмотря на все своеобразие национального характера, венгерские крестьяне в своих главных, сущностных чертах почти ничем не отличаются, скажем, от русских крестьян дореволюционного периода.
Роман «Пядь земли» автор и сам считал одним из лучших своих произведений. В процессе работы над ним, закончив первую часть книги, Пал Сабо писал: «Я чувствую, что это подступ к произведению, которое я постоянно ношу в себе, и, если оно будет создано, значит, я жил не напрасно, значит есть смысл в том, что я существую»[3].
После освобождения Венгрии от фашизма писатель со всей энергией включается в общественную жизнь родной страны: иначе он и не мог поступить в обстановке всеобщего подъема активности широких народных масс. С 1945 г. и до конца жизни Пал Сабо — депутат Государственного собрания и член его Президиума, один из руководителей Народного фронта.
Несмотря на преклонный возраст, писатель неустанно разъезжал по стране, при любой возможности посещая родную деревню. Поездки, наблюдения давали ему материал для новых книг; после 1945 г. из-под пера Пала Сабо вышли романы «Божьи мельницы» (1949), «Весенний ветер» (1950), «Новая земля» (1953)[4], «Под синим небом» (1963), «Хорошеющая бедность» (1969), цикл автобиографических романов, сборник избранных рассказов «Отныне и во веки веков» (1956), пьеса «Летний дождь» (1950), киносценарии «Освобожденная земля» (1951), «Контрабандисты» (1958), многочисленные статьи, очерки и т. д. Пал Сабо был удостоен литературной премии им. Аттилы Йожефа и дважды — Государственной премии им. Кошута.
И в новых произведениях писатель остался верен своей теме — изображению жизни венгерского крестьянства. Однако новая историческая ситуация выдвинула перед ним иные проблемы: его внимание сосредоточено теперь на новых конфликтах, связанных с ломкой старых, веками сложившихся устоев деревенской жизни (роман «Божьи мельницы»), с преобразованием крестьянского хозяйства на социалистических основах, с формированием нового облика деревни (роман «Новая земля»). Духовные братья Красного Гоза становятся теперь носителями и пропагандистами социалистической морали, социалистических отношений между людьми. Мечты Красного Гоза о разумной, достойной человека жизни, о человеке — покорителе природы, об использовании машин в сельском хозяйстве, облегчении крестьянского труда воплощаются теперь в конкретных делах и планах.
Произведения Пала Сабо, если рассматривать их в целом, представляют собой большое лиро-эпическое полотно, изображающее венгерское крестьянство на чрезвычайно важном и сложном историческом этапе — этапе перехода к качественно новой, социалистической форме жизни. Они убедительно показывают, что коренные интересы и нужды крестьянства закономерно ведут его к социализму, который единственно способен разрешить вековые противоречия, установить гармоничные отношения человека с человеком и человека с природой. Предлагаемый читателю роман «Пядь земли» — одна из самых впечатляющих страниц этой эпопеи.
Ю. Гусев
Свадьба
1
Первый снег выпал в начале декабря.
Принес его сырой южный ветер. Поначалу совсем еще было тепло, даже со стрех кой-где закапало. Думалось: этот не улежит, распустится в слякоть — да только к вечеру потянуло на холод и капель застыла сизыми сосульками. А снег сыпал все гуще, сыпал на кровли, деревья, скирды, забирался за ворот, шею мокрыми пальцами щупал. Мужики, такое видя, бросали дела и, кулаки в карманы сунув, бежали под крышу: на крыльцо, в сарай, на приступок хлева. Стояли там немного, глядя в белые вихри, и уходили в хату. Оборванной оставалась работа, как нитка пряденая: один конец на воле, в саду, другой — в ладони, еще зудящей от черенка лопаты, от топорища. Ненастье всем делам крестьянским положило конец. Ветер дул, закручивая снежную завесу, и в снегопаде, казалось, теснее жались друг к другу хаты, деревья — словно зябли поодиночке. Притихла деревня; одна телега только катилась со скрипом по главной улице. На ней плуг вверх лемехами: видно, пахать собрался хозяин, да лишь до околицы и доехал, а там, на люцерне старого Кишторони, пришлось поворачивать — отменила зима пахоту с другими работами заодно.
Липнет снег на ободья колес, отваливается толстыми пластами; лошаденки споро идут, чуют: пришло время отдохнуть в теплом стойле. А навстречу, вдоль заборов, бредет Жига Цебе, деревенский рассыльный, шапку на брови надвинул, палкой в снег тычет. Вёдро ль, непогода ли — ему идти. Слуге да собаке, известно, место на улице.
Телега в одну сторону уезжает, Жига Цебе уходит в другую — и опять кругом ни души, только снег шуршит на кровлях, на стогах, шуршит, поскрипывает и будто даже позванивает, словно дальний звон колокольный отдается в тонком стакане.
День-два еще ждут мужики, надеются: растает снег, вернется тепло. Ведь и у собаки первый щенок на свете не жилец; и в картах, говорят, первый выигрыш не выигрыш, а так, для затравки. Вот и на сей раз напрасны надежды. Уже к утру задул ветер с востока, и так стало студено, что у маленьких ребятишек носы алым огнем загорелись. Видно было по всему, что зима установилась прочно.
Лезет из труб густой дым, горьковатый запах кизяка расплывается в морозном воздухе. Пахнет горящий кизяк, как прогорклое пиво. А есть дома, где в печи поют, трещат буковые поленья, издавая аромат, словно увядающая резеда в церкви воскресным вечером в разгар лета.
Мужики тулуп перевертывают овчиной внутрь — у кого есть он, тулуп; у кого нет, тот лишь ежится, голову в плечи втянув, да холодный воздух сосет сквозь зубы. Ну конечно, не на людях. А на людях выпрямится мужик и ходит, будто и черт ему не брат. Мол, это ли мороз!.. Во дворах кидают снег, прокладывают дорожки к соломе, к колодцу, к хлевам, к кучам подсолнечных будылей. Бабы кутаются в платки теплые, ступают по снегу мелко, бережно, будто по скользкой лестнице идут. Ребятишки, из школы возвращаясь, глянут друг на друга, засмеются — и давай снег горстями хватать, снежки лепить.
Один день сменяется другим, утренние зори встают огненно-красные, это значит: жди или ветра, или же мороза без перемены.
И ветер был, и мороз становился все злее.
Сперва мужики по утрам еще в сторону поля поглядывали, да потом попривыкли и вспомнили зимние занятия. Кто дома сидел, кто по соседям ходил — покурить да покалякать, будто с прошлой зимы и не кончали.
Уже на третий день пошел по деревне слух, что в горах загрызли волки двух баб. Бабы-то были молоденькие и оделись нарядно, будто в церковь; шли же они в Варад, на базар. И не осталось от них ничего, только ноги в сапожках.
Такие же разговоры про двух баб, заеденных волками, ходили в здешних краях и в прошлом году, и в позапрошлом… Может, и в самом деле каждую зиму съедают голодные волки двух молодых баб. Ровно двух, не больше и не меньше. Может, бабы те приносятся в жертву самому богу зимы? Кто знает… Только идет такой слух из деревни в деревню, растет снежным комом, бередит людям душу. А сильнее всего волнует он подростков. Тягучими зимними вечерами собираются они в чьей-нибудь конюшне, где лошади стучат копытами по настилу, коровы жуют свою жвачку да пламя коптилки трепещет, бросая блики по стенам. Сидя тесно на сене, пересказывают парнишки друг другу нестареющую легенду про волков и двух баб, пересказывают то так, то этак, с разными подробностями, — а сами вспоминают живых женщин, золовок да крестных, как летом вымачивали те коноплю или мыли шерсть на пруду, а из-под подоткнутых юбок их светились круглые колени.
Ах, эти белые колени, вечной тайной дышащие! Эти женские колени, такие непостижимые для бедных подростков. Даже за голенищами сапожек, до матового блеска отшлифованными тяжелым краем юбки, таится что-то необыкновенное, что-то чудесное… и ведь подумать только, что как раз до кромки сапожек и съели волки тех двух баб. Как раз до верхнего двойного шва.
Оживают, выходят на свет божий и другие легенды. Рассказывают, ночью по деревне рыщет бешеная собака, шерсть дыбом, глаза горят, будто два угля, язык из пасти свисает на добрый вершок.
На солончаках, говорят, убили табунщика (слух этот держится уже добрых шестьдесят лет), в соседней деревне корова отелилась бычком о двух головах, упал с неба свиток с непонятными письменами, а еще говорят: быть войне, потому что видели на небе меч огненный, сверкающий; на околице, под садами, каждую ночь куролесят привидения, вурдалаки, ведьмы… Взрослые, степенные мужики россказням этим, конечно, не верят — маленькие они, что ли? — но и спорить не спорят, только помаргивают да трубку посасывают торопливей, чем обычно.
Недаром ведь сказано, что лучше все время бояться, чем один раз испугаться.
Словно бы и не на земле-матушке, а где-то в заоблачных высях стоит деревня: так далека она теперь от летнего пота, от летних забот, так ушла в сказки, в легенды.
Да ведь сказками одними жив не будешь: и скотина орет, просит есть, и человек должен зиму продержаться, потому что снова придет весна, а она, известно, и хороша, и пригожа, но от мужика своего требует.
— Эх-хе-хе, пожалуй, пряжу пора готовить, — говорит то один, то другой и, встав со скамейки (где сосед как раз толковал, как в молодые годы нашел он однажды разрыв-траву, ту, что любой замок шутя открывает), потягивается, плечи расправляет. Блаженная одурь первых зимних дней уходит, как сон на рассвете, и каждый вступает на ту стезю, которой положено ему идти с осени до весны. Так ходит в одиночестве солдат вокруг полосатой своей будки, где отведен ему пост. А быстро ходит или еле-еле — это уж как ему велят старание да характер.
2
Воскресенье. Колокола вызванивают полдень, и, словно огромный колокол, гудит весь небосвод. Воздух так прозрачен, что, если глаз у тебя зоркий, иголку увидишь на макушке колокольни. Печные трубы дышат дымом: одни — черным, кудрявым, другие — бледным, прозрачным. Смотря чем топят в хате: дровами буковыми или кизяком. А кое-где трещит в огне сырая акация, по всей хате идет от нее гул и треск, выплескивается в сени, когда кто-нибудь дверь открывает. На плите жарится лук в сале, шипит мучная заправка, аромат ее смешивается с запахом горящей акации. Запах этот странно щекочет горло, и тут уж хочешь не хочешь, а разговоришься…
Но бывают люди, про которых даже заклятый враг не скажет, что они любят языком болтать. Такова, например, семья Юхошей; вот и нынче — тихо, молчаливо у них в хате.
Сам старый Юхош праздно сидит на припечке с трубкой; иногда лишь нагнется, дверцу печную отворит, зажмурится и возьмет из корзины, что стоит рядом, нарубленные ветки акации. Жмурится он, понятно, не от страха — как бы руку ненароком не оцарапать, а чтобы шальной сучок в глаз не влетел, потому что ветки еще мельче надо ломать. Подбросит в огонь, ногу на ногу положит, пошевелит ступней, дальше трубку сосет. Жена его, в девках Юлишка Лабро, тут же, у печки: то заправку помешает, то кастрюлю откроет — припозднилась сегодня с обедом, чего скрывать. Возьмется она за горячую посудину, потом за передник и, прихватив передником ручку, тащит кастрюлю ближе к краю плиты. Ничего, скоро уж закипит… вот заправить еще успеть…
Дочь их, Марика, переодевается за дверцей шкапа, то локтем стукнет, заденет дверцу, то коленом. Иногда покажутся из-за дверцы ее плечи: вот повесила праздничное платье, вот ищет домашнее. И тут вспоминает, что домашнее-то она заранее на кровать положила. Делать нечего: выходит из-за дверцы, озирается стыдливо. Идет к кровати, чуть поеживаясь, — будто в глубокую воду с берега. На голых плечах — только две бретельки от сорочки: одну придержит, другую подхватит, но те все соскальзывают с круглых плеч. Мишка, младший брат, смотрит на нее во все глаза.
Мишке тринадцать недавно минуло, есть ему до смерти хочется. Но молчит Мишка, терпит, а чтобы голод заглушить, мастерит вертушку-жужжалку. Строгает ее из буковой чурочки, что на военных занятиях[5] у печки подобрал, а шнурок — завязку от мешка — припас еще со вчерашнего дня. Продевает шнурок в дырку на чурочке, двойной узелок завязывает, цепляет на большие пальцы. Сперва неохотно вертится игрушка, потом расходится и начинает крутиться гладко да быстро — будто смазанная. Жужжанье ее летает-кружит по всей хате. Что твой шмель. Порхает над комодом, вьется между чашками, стаканами, налетает на зеркало, и вот уже бьется где-то под кроватью. Шнурок режет Мишке пальцы, и вертушка, стихая, жужжит все слабее, как оса, застрявшая в паутине.
Марика приготовилась платье надеть, руки подняла — да тут одна бретелька возьми и лопни. И раскрылась сорочка на плече, как страницы книги. Марика в сторону отвернулась, губу сердито закусив. Мишка глаза опустил: стыдно ему, что на сестру пялился. А мать уж заправку кладет в кастрюлю; бьет в потолок молочно-белый, душистый пар.
— Ставь миски на стол, Марика, — зовет мать. С тех пор как семья вернулась с воскресной службы, это первые слова, прозвучавшие в хате. Набирает мать в ложку немного уксуса, осторожно, по капельке, льет в кастрюлю, снова помешивает. Теперь уксусный запах наполняет хату, но ненадолго: мать вытаскивает из кастрюли куски жирной домашней колбасы с ливером, укладывает их горкой на блюдо. А пахнет колбаса, будто зрелая, слегка обожженная солнцем люцерна в знойный полдень. Волны запахов, сменяя друг друга, так и гуляют сегодня по хате, никуда от них не деться…
Михай Юхош — мужик тихий, степенный; про таких говорят: и мухи не обидит. На нем выгоревшая, но чистая жилетка; когда-то была она черной, а теперь такого цвета, как солонцы в засуху. Совсем белесой казалась бы эта жилетка, если б не коричневые заплаты на ней. Штаны, пожалуй, скорее сохранили первозданный цвет — но и здесь две большие заплаты красуются на коленях. Кто-нибудь посторонний, глянув без внимания, подумал бы, что Юхош где-то на коленях стоял. Только не такой человек Михай Юхош, чтобы на колени брякаться то и дело. Сколько на свете живет, ни разу, наверное, не стоял на коленях… Минуту-другую он еще медлит, глядя на горячие колбаски, от которых поднимается вкусный пар; потом, сняв шапку и бросив ее в изголовье кровати, встает, идет к столу. Подставляет стул, садится.
Тут и Мишка задвигает под кровать скамеечку, на которой забавлялся своей игрушкой, садится за стол, но делает это как бы нехотя: дескать, ему не к спеху, было б из-за чего спешить. Чем больше глядит он на колбасу, тем больше терзает его голод. Чувствует, что все бы съел, целиком. В один присест. До последней крошки. До последней капли. Мишка даже не может представить себе столько еды, чтобы он досыта наелся и еще осталось. Стучат по столу миски, ложки бренчат. Мать тоже подходит к столу, громко вздыхает, усаживается и берет в руку половник.
— Иди, что ли, Марика, поедим, — говорит она ласково.
Марика, руку за ворот просунув, возится там с лопнувшей бретелькой.
— Я приду, приду. Ешьте пока без меня, — оглядывает себя, платье разглаживает на бедрах.
Мать зачерпывает половником горячего варева, наливает в свою миску, но за ложку даже не берется. Муж ее тоже не торопится, ждет. Ждет и сын. Вся семья в эту минуту, словно застывшая, сидит. Мишку аж в жар бросает, до того ему мяса хочется, — но парнишка только рот упрямо стискивает да приговаривает про себя, что тогда и он есть не станет, ни за что не станет. А почему не станет, об этом ему думать некогда. Марика еще что-то там поправляет на себе, должно быть просто время тянет; а ведь сама тоже голодная. Во рту один соблазнительный вкус сменяется другим, еще более соблазнительным, еще более дразнящим — и каждый из них становится почти что явью, если закрыть глаза или взглянуть на куски колбасы. Марика снова наклоняется, чулки подтягивает не глядя и наконец идет к столу, усаживается решительно. И, уронив руки, с отчаянием глядит на колбасу. Да, тут уж ничего не поделаешь: коли человеку есть хочется, ничто его не остановит. А уж как Марике хочется есть, этого словами не передать. Двадцать лет Марике, крепкая она — будто яблоко наливное, щеки тугие, румяные…
— Ну зачем вы, мама, это принесли? Не могли другого чего сварить? — говорит она жалобно.
— Как это зачем принесла? Я за эту колбасу знаешь как наработалась. Целый день на ногах. И кишки скоблила, и жир топила, и варила, и стирала, спинушку не разогнуть. Чего ж тебе другого? Ешь-ка давай. Все равно привыкать тебе к ихней еде: лучше прежде привыкнуть, чем потом, — говорит мать. В четверг она весь день была у Жирных Тотов, которые закололи свинью, оттуда и принесла мясо для сегодняшнего обеда. В доме у Жирных Тотов она вроде приходящей прислуги. Муж ее у них же батрачит.
Словно поборов себя наконец, Марика берет порывисто половник и свою миску наполняет до краев. С полным ртом говорит:
— Боюсь я… что не привыкну никогда…
Отделив ложкой краешек колбасы, отправляет его в рот. И смотрит на брата, который жует так яростно, что за ушами у него трещит.
— Господь с тобой, ты что такое говоришь? Не хочешь идти за Ферко, что ли?
— Я… я не сказала, что не пойду… А вообще-то посмотрим еще, пойду иль нет. Ничего еще не известно. (Ах, эта колбаса, до чего ж вкусная!)
— Вот те на! — мать даже ложку положила. — Так ты что ж? Ты за кого же хочешь? В прошлом году молодой Чеке за тобой увивался, да не взял, нынче Красный Гоз все ходил, а как до свадьбы, так его и нету. Чего ты хочешь-то?
— Ничего. Я теперь одного хочу… поесть, — а глаза смеются, когда смотрит она на мать.
Все меньше остается вареной колбасы на блюде — и все теплее становится в хате. Только Мишка глядит сердито на остатки: что делать, не может он больше съесть. Даже представить себе не может, что вот возьмет и проглотит еще хоть кусочек.
Мать вздыхает громко, встает из-за стола. Рот вытирает уголком передника. На дворе пронзительно визжит поросенок, тоже есть просит. Мать наклоняется, из-под кровати бадейку вытаскивает, идет к двери.
Едва переступает порог сеней, как со всех сторон налетают куры, вот-вот собьют с ног. Собака тут же прыгает, старается достать до края бадейки. Все здесь голодны, до единого. И это бы не беда, коли есть что дать. А беда то, что надо рассчитывать и на завтрашний день, и на послезавтрашний, и столько еще этих дней, пока весна наступит — господи боже ты мой!.. Так что еды всем достается не много и не мало — чтобы только не подохли с голоду. Поросенок, издали бадейку чуя, «музыку» заводит; музыка эта в том состоит, что, рылом дверцу хлева поддев, он ее вверх толкает и притом тоненько так верещит, «поет». Открывает мать защелку, поросенок, который вообще-то больше на борзую похож, галопом выскакивает из загончика, кидается к корыту, не дает корм вывалить. И жрет, захлебываясь, жалобно хрюкая; а тут и куры до корыта добрались. Кажется матери, что не картошку вареную, а тело ее рвут на мелкие кусочки.
— Кыш, кыш! — кричит она и старается петуха ногой отпихнуть. Но тот успевает все же стащить из корыта картофелину и расклевывает ее в сторонке, гортанным урчаньем кур подзывает.
Марика в хате моет посуду; вода плещет, посуда бренчит, а Марика весело складывает стопкой блюда да миски. Что говорить, как жизнь ни тяжка, а все чуть лучше становится, когда ты сыт. Отец снова на припечек сел, ногу на ногу положил, трубкой попыхивает. С трубкой он не расстанется, пока не выкурит табак до последней крошки. Мишка свою жужжалку опять вытащил; дверь открывается, хлопает, опять открывается — это Марика носит посуду в сени.
Красивая девка Марика: волосы что грозовое облако, клубящееся на горизонте. Кожа солнцем прихвачена, но не везде: лишь там, где не закрыта платьем, — на шее, на руках. А в остальных местах словно белый атлас. Глаза серые, как семя конопляное, с поволокой, и ресницы взлетают и опускаются, будто тень от дерева на оконном стекле в ветреную погоду.
Берет Марика веник, глинобитный пол подметает. Не затем, что сору много, а чтобы видны были от веника ровные, аккуратные следы. Пол в хате желт, белым песочком присыпан. Да, на такой пол и король не побрезговал бы ступить. На комоде стаканы поблескивают, вокруг зеркала не пересчитать разноцветных открыток: ох, много парней слали те открытки… а больше всех посылал Красный Гоз, подлый. Теперь вот за другой бегает…
Мишка смотрит на Марику, смотрит и не может поверить, что ей уже замуж выходить. Не очень-то разбирается Мишка в этих делах: только и знает он, что девки, выйдя замуж, волосы не в косу заплетают, а в узел забирают да еще по-иному завязывают шнурок на юбке. Пробует Мишка сравнить Марику с молодыми замужними бабами — мало ли их в деревне. Вспоминает, как идут они, принаряженные, постукивая каблучками, к колодцу; как в хорошую погоду сидят на лавочке перед хатами и говорят, говорят… Солнышко бьет им в глаза; немного отвернувшись в сторону, расстегивают они блузу на груди и кормят маленьких. И все говорят что-то непонятное, странное.
Нет, Марика не такая будет, думает он, а самому почему-то стыдно, и лицо у него краснеет, как маков цвет. Думает он и о Ферко, сыне Жирных Тотов, потом снова о Марике, но через то, что там между ними есть или будет, он перепрыгивает, как через глубокую канаву. С зажмуренными глазами. Словно боится, что если заглянет туда, то и упадет.
Мать приносит пустую бадейку, задвигает ее под кровать. Зимой ей тут место. И в тепле, и не видно. Останавливается посреди хаты, смотрит вокруг: все ль в порядке, все ли так, как надо, не забыли ль что. Но все в порядке, ничего не забыли. Ох-хо-хо, теперь можно и присесть ненадолго. На минуточку. Ведь столько дел у человека, всю жизнь дела да дела. Она усаживается рядом с мужем, откидывается спиной к теплой печке, уставшие ноги кладет на скамеечку.
— Передумала я, мама. Не пойду за Ферко, — тихо говорит Марика, встав перед матерью. И ждет. Прислушивается. Будто камешек вверх бросила и теперь ожидает: не может быть, чтобы не упал обратно.
Мать так ошарашена, что и сказать ничего не может.
— Ты… ты… у тебя хватит совести опозорить бедного парня? — с трудом выговаривает она наконец.
— Конечно, хватит! А что тут такого? Не пойду, и все тут.
— Вы только посмотрите на нее… А мы для тебя что же — пустое место?
— Отчего же пустое место? Не пустое место. Да ведь не вам за Жирного Тота замуж выходить, а мне. То есть… я тоже не пойду за него, ей-богу!
— Господи милостивый! Стало быть, и ты полоумная, не только этот хрыч старый, отец твой. Ты чего ж хочешь-то? Чего ждешь? Состариться хочешь, у нас на шее сидючи?
— Не состарюсь, мама, не бойтесь. Мало, что ли, парней в деревне?
У матери даже слов не хватает, так она растеряна. Ну, это уж слишком.
— И ты это мне сейчас говоришь? Сейчас? Когда и они все приготовили?
— А я всегда так говорила. И вчера, и позавчера. Да будет вам, мама! Вы вот к ним ходите все время, они вам колбасу дают и все такое, так сами за Ферко и выходи́те.
— Ты… ты… бессердечная, — мать больше не в силах говорить. Бросает еще взгляд на дочь: может, та в последнюю минуту сжалится над ней. Однако Марика не двигается и даже рта не разжимает, и мать вдруг сникает и как мешок валится на бок.
Михай Юхош на жену оглядывается — и остается сидеть, как сидел. Даже отодвигается подальше, будто для того, чтобы лежать ей было просторней. Он-то хорошо знает эти штуки: у бедной бабы это всегда было вроде как последнее оружие. Страшного тут ничего нет. Просто способ, чтоб от трудного вопроса уйти. В молодости ходила жена убирать в дом к секретарю, там, видно, и подцепила эту господскую дурь. Ведро воды бы ей сразу помогло, да нету под рукой, опять же в такой холод не стоит, пожалуй. Летом, оно бы хорошо, а так…
А Марика совсем перепугалась. В эту минуту она все-все бы сделала, что мать скажет, лишь бы не видеть ее вот такой бессильной и несчастной…
— Мама… родненькая… ну не ревите же… — умоляет она. Берет мать под мышки, поднимает ее, усадить хочет. Выйдет она за Ферко, конечно, выйдет, только бы мать была довольна и снова сидела и разговаривала, как всегда…
А мать вроде бы и глаза открыла — да Марика этого не замечает, все тянет ее, тормошит. И та смиряется: пусть, мол, делают с нею, что хотят. Только когда Марика заплакала навзрыд, мать как будто приходит в себя и начинает причитать: «О господи, господи милостливый…» Потом, немного успокоившись, опять принимается плакать — тиха, почти беззвучно. Словно во рту у нее горячий суп и она его остужает, тянет в себя воздух приоткрытым ртом. Вот уже и слезы покатились; сквозь слезы обреченно смотрит она куда-то в окошко.
— Родненькая… мама… ну не ревите… — снова умоляет Марика.
Не может она этого вынести. Надрывают ей душу материны слезы. Та вытирает передником нос, обнимает Марику, и вот они уже плачут вместе, на плече друг у друга. Марика все повторяет, что, мол, ладно, выйдет она замуж, выйдет за Ферко… за Жирного Тота…
На том бы все и уладилось, только был бы еще кто-нибудь, кто б решился сказать, что так оно все и будет…
Вечером сговаривались девки собраться у Маргит Шерфёзё на посиделки, перо щипать, пух для перины готовить; Марика, грустная, тоже идти готовится. Может, посиделки эти будут в ее девичестве последними; может, сегодня суждено ей попрощаться со свободной жизнью, с подружками, а самое главное — с Красным Гозом. Ведь он, подлый, наверняка туда придет… Нынче еще на посиделки собирается Марика, а на той неделе явятся сваты; скоро повяжут ей головушку бабьим платком, и никогда уж не вернется то, что было… никогда… Плакать хочется Марике… но одевается она долго, старательно. Пусть вспоминает потом кое-кто, какой она была в этот вечер. Есть у Марики коричневое платье, которое она особенно любит; его-то она и наденет сегодня, а на шею приколет кружевной воротничок, что Красный Гоз привез ей однажды из Дебрецена… Злые языки болтали, что он его не купил, а так добыл. Плохо лежал, стало быть. Только ей все равно: это ведь он привез, ей привез, и пусть у него кошки скребут на сердце, когда он ее в нем увидит.
Маргит в конце деревни живет, на Новой улице; с сумерек в хате зажгли большую лампу, чтобы издалека был виден свет в окнах. Пусть все знают, что здесь что-то готовится. Маргит — ровесница Марики, вместе они в школу ходили, в классе рядом сидели, с тех пор и остались подружками. Маргит — девка некрасивая: маленькая, худая, черная. Волосы всегда причесаны гладко-гладко; спереди их словно корова зализала. Лоб круглый и будто на дольки поделен, да к тому же почти всегда прыщами покрыт. Когда Марика вошла, в хате уже была одна девка, Илонка Киш.
Илонка собой крупна и пышнотела; однако парни, если и думают о ней, то потому лишь, что она одна у отца-матери. Точнее сказать — у отца; мать, горемычная, померла давным-давно. Хоть отец Илонки небогатым считается, сама же она — невеста завидная, потому что все хозяйство после отца к ней отойдет. И дом, и полклина[6] земли, да еще виноградник. А вот поди ж ты: женихи за ней все равно не очень-то бегают. И не так уж она некрасива, а в последнее время совсем похорошела. Илонке давно за двадцать, все двадцать два поди, а то и больше; но только недавно сумела она наконец повеситься на шею Красному Гозу.
— Добрый вечер, — здоровается Марика и сразу замечает, что сегодня Илонка как-то особо прифрантилась. Вот мерзкая. Бесстыдница этакая.
На Илонке светлая блузка из тяжелого шелка, черная тяжелая юбка, на плечах вязаный белый платок. Повязан не так, как у всех, а крест-накрест. Будто у девчонки малолетней, несмышленой. Вот кто отнял у нее Красного Гоза. Этого подлого обманщика. Изобразив на лице радость, подходит Марика к ней, обнимает, целует даже, а сама оглядывает комнату, будто ищет, не спрятался ли кто под кроватью.
— Садись ко мне, — зовет Маргит.
— Нет, сегодня не сяду, Маргит, я ведь так давно не сидела с Илонкой, — говорит Марика и усаживается. Но стул все-таки отодвигает подальше, чтобы меж ними еще кто-нибудь мог поместиться. А кто — даже имя боится в мыслях вымолвить. Ведь и так все кончено; на будущей неделе или немного позже посватает ее Ферко, и конец тогда и сплетням, и ожиданию, станет она женой богатого мужа, хозяйкой. Сама себе хозяйкой. Может, та же Илонка будет к ней ходить — стирать, убирать, белить — от своих-то больших владений. Ведь что такое полклина земли? Смех один. А хата совсем плохонькая, даже, говорят, крыша течет… Ну чего эта Илонка все смеется и смеется как ненормальная?
И правда, Илонка каждому пустяку смеется, радуется.
Мать Маргит перо на стол вывалила; одна пушинка взлетает в воздух, Илонка ловит ее — и смеется. Зажала в руке — и смеется. Ладошку раскрыла — опять смеется. Что-то стукнуло за окном, Илонка обернулась — Марика-то знает: это для того, чтоб грудь ее красивая была лучше видна. И снова смеется. Все свои тридцать два зуба показывает.
Будто у других грудь не такая красивая, как у нее.
Будто у других нет таких ровных белых зубов.
Выпрямляется Марика гордо, еще дальше со своим стулом отодвигается; теперь-то между ними наверняка поместится… кто захочет. Держится Марика, держится из последних сил.
— Ой, как ты хорошо пахнешь, — наклоняется она к Илонке.
— А, пустяки, одеколон. Подарок…
Вдохнула Марика, а выдохнуть не может. Ну ясно, подарок. Догадаться нетрудно… Один лишь парень в деревне одеколон девкам дарит, и парень этот не кто иной, как Красный Гоз. Он и ей, Марике, дарил, когда в город ездил…
— Чей подарок? — спрашивает Марика беззаботно, а у самой углы рта побелели и слова жгут горло.
— А Йошка привез, большой такой флакон. Йошка Гоз, — отвечает Илонка без смущения и откидывается на спинку стула, руками в край стола упирается. В свете лампы кольцо поблескивает у Илонки на пальце; сквозь пелену, застилающую глаза, не может разглядеть Марика — перстень это с камешком или кольцо обручальное.
Ой, не надо было ей сюда приходить, горько думает Марика. Ведь ясно как белый день, что нечего тягаться ей с Илонкой. Ни с Илонкой, ни с какой другой девкой. Она бедная, не полагается ей в женихи хороший парень. А полагается ей жених вроде Ферко, сына Жирных Тотов. Который не парень, не мужик, а так, не поймешь что. Конечно, богат он, этого у него не отнимешь. Только что это за штука такая — богатство, если нельзя его в руки взять да показать всем: вот мол оно…
Входят в хату девки — с шумом, со смехом; от свежих голосов даже лампа будто ярче светит. Еле вмещается в тесную хату безудержное веселье.
— Снег, смотрите, снег, — кричат они, ловя парящие перья; усаживаются, устраиваются, смотрят, чтоб рядом место оставалось. Чтоб парням было куда сесть. С улицы принесли они с собой запах снега, из дому — запах мыла; от шубеек веет забившимся в складки морозом.
Поначалу щиплют девки перо быстро, старательно; потом начинают друг на друга поглядывать, платки с плеч снимают; плечи их вздрагивают от подступающего смеха: так вода готовится залить весенние берега.
Марика словно кожей чувствует, как со всех сторон колют ее любопытные, безжалостные взгляды, опутывают ее тело, в душу пытаются вползти. Конечно, вся деревня уже знает, что Красный Гоз бросил ее ради Илонки.
— Слышь, Марика? Правда, что в четверг тебя сватать будут? — спрашивает вдруг Ирма Балинт. Все знают: у нее что на уме, то и на языке.
— Захочу, будут, не захочу, не будут… — смотрит Марика прямо в глаза Ирме.
— Ну-ну. Тебе, конечно, спешить некуда, да только у этого… как его… у Ференца Тота дело не терпит…
— Чтой-то ты его чудно как называешь? Скажи прямо: Жирный Тот. Как все зовут. Что тут такого? — говорит Илонка и опять смеется. Видно, мало ей, что отняла у Марики милого; хочет бедной совсем жизнь отравить.
Тихо в хате. Тихо, как перед ненастьем. Марика со слезами борется, не знает: убежать ей или остаться. Тут Маргит неожиданно нарушает молчание:
— Спойте, что ль, девушки, что-нибудь хорошее.
— Пусть молодая хозяйка и начнет, — говорит Ирма, у которой на каждое слово готов ответ.
— Ой, что ты, я не умею… я даже петь и то не умею, — испуганно отказывается Маргит. И правда: она и говорит-то голосочком тонким да слабым; где уж ей песни петь.
Собака залаяла на дворе: сначала у ворот, потом все ближе к крыльцу — лает, не перестает. Девки переглядываются, украдкой на зеркало косятся: значит, идут парни. То одна, то другая потянется к волосам, платье поправит; и вот, без всяких уговоров, затягивают песню: «Как по улице хожу… на окошки все гляжу…» Не ладится песня, расползается, будто гнилая холстина. Да надо петь, чтоб не повернули парни назад, не подумали — нет никого в хате.
Не повернули парни; вот уже входят в горницу один за другим.
Первым идет Тарцали, за ним — Макра, Красный Гоз, Маркуш, Косорукий Бикаи; последний, Чемегеш, дверь за собой прикрывает. Встали посреди хаты, осматриваются; а девки, будто им и дела нет, поют себе. Только пониже над работой склоняются. Пух летает в воздухе, словно настоящий снег; Илонка Киш вдруг совсем пригибается к столу, будто бы для того, чтобы чулок на ноге поправить. И, не выдержав, громко прыскает в стол. А в следующее мгновенье взмахивает в испуге руками, хочет пух прижать — да этим только больше дело портит: весь нащипанный пух, что был на столе, вихрем взлетает в воздух. Словно стая мух потревоженных.
— Ничего, ничего, не беда, — приговаривает хозяйка, пытаясь спасти что можно. Досада ее распирает, а виду не подает.
— Есть там еще кто, сынок? — спрашивает старый Шерфёзё. В позапрошлом году ноги у него отнялись — с тех пор сидит старик на топчане в углу, не может двинуться. Однако сегодня и он молодцевато подкрутил усы.
Смотрят на него парни, не поймут, кого он спрашивает; так ему никто и не ответил. К тому же и усаживаться пора. Устраиваются парни кто где. Один между девками местечко находит, другой садится сзади и начинает пером щекотать девке шею. Та делает вид, будто знать не знает, что там: то ли жучок какой-то заполз, то ли муравей. Проведет рукой по шее и дальше щиплет. Парень снова за свое, довольно ухмыляется: удалось глубоко за ворот платья заглянуть.
Красный Гоз один остается посреди горницы, не может решить, к кому ему сесть, и не смотрит ни на ту, ни на другую девку. Наклоняется, берет из-под стола кувшин и пьет, голову назад закинув, словно уставший косарь. А Марика и Илонка, обе ждут: вот сейчас, сейчас подойдет и сядет к одной из них. Но Красный Гоз, словно мысли их угадав, усаживается на припечек. Ноги вытягивает, щелкает прутиком по голенищам сапог.
— Осталась там еще вода, Йошка? — спрашивает Тарцали, кореш Красного Гоза, и, не дожидаясь ответа, тянется к кувшину, пьет.
Что-то непонятное происходит в хате — всем парням ни с того ни с сего вдруг захотелось пить. Один за другим берутся они за кувшин. Последнему даже не хватило: с укоризной смотрит он на Маргит, хозяйскую дочь, и кувшином по столу стучит. Стук отдается в кувшине, словно глухой кашель. Маргит вскакивает, выгребает перо из передника, в сени идет. Приносит еще воды. И снова пьют парни, никак напиться не могут. Теперь уже в обратном порядке: кто первым был, на этот раз пьет последним.
Неожиданно напала на парней жажда, еще минуту назад никто о воде и не думал, а теперь вот пьют и пьют, словно волы в жаркий день. Девки скучнеют на глазах; раз-другой еще пытаются запеть, потом вконец теряют надежду, смолкают, сидят притихшие, грустные. Нет ничего печальнее, чем оборванное, сломанное веселье. Губы уныло поджаты, на сердце тоска; только стаканы на комоде позвякивают, провожая улетевшую песню. Молчат все. Украдкой на Марику поглядывают. И чего она сюда пришла? Из-за нее все испортилось… Да, что-то парням сегодня не по себе…
— Эх, пить охота… — говорит со смехом Макра и снова берется за кувшин. Пьет. По третьему разу обходит, кувшин парней — и больше нет воды в доме. Маргит чуть не со слезами смотрит в стол, запорошенный перьями. Она тоже ждала чего-то от этих посиделок, как и все остальные девки. Одной Илонке Киш хорошо: сидит довольная, раскрасневшаяся, и все-то ей по душе. Правда, Красный Гоз к ней так и не подошел — так ведь не подошел и к Марике. А этого уже достаточно, чтоб веселой быть.
Неизвестно, как закончились бы посиделки, если бы Красный Гоз не затянул песню:
Всю весну с тобою мы встречались, А потом с тобою мы расстались… Пусть твоя матушка бранится, На тебе не стану я жениться…Глаза прикрыл, как петух, когда кукарекает, и покачивается, плечами поводит в такт песне.
Смотри-ка ты, не станет жениться. Очень нужно. Встречаться больше не хочет? И не надо, подумаешь… Такие мысли мелькают в голове Марики, и в эту минуту даже Ферко кажется ей не таким уж ненавистным. Он, бедняжка, не похож на этих, только вот… только вот…
— Поиграем, девушки, в «кто на кого сердится», — предлагает Илонка; оборачивается назад, берет перышко и дует его Красному Гозу прямо в глаза.
— И на кого ж ты сердишься, Илонка? — спрашивает Ирма, которая, всем известно, каждой бочке затычка.
Илонка кривит рот, и красивый ее подбородок становится злым, морщинистым.
— Я-то ни на кого не сержусь. А кой-кто и сердится, правда, Марика? — И к Марике наклоняется.
Кажется Марике, больше она не выдержит, вскочит сейчас и убежит. Но понимает: если уйдет, еще безжалостней посыплются на нее насмешки. Нет, не уступит она, не поддастся. Ни за что на свете… Она еще покажет, еще будет кой-кому плохо… Она откидывает назад голову, поднимает руки — поправить волосы, и с вызовом смотрит в зеркало, что висит как раз напротив. Тень Марики на стене все за ней повторяет. И Красный Гоз, на тень глядя, вдруг чувствует, что дыхание ему перехватило. До чего ж ему знакомо это движение. Да и не только это… Ох, трудно будет вырвать Марику из сердца… И почему за ней тоже не дают полклина земли да еще дом? До чего ж несправедливо устроено, что одной девке достается хорошее приданое, а другой — ничего. И, опять прикрыв глаза, покачиваясь, заводит он другую песню:
Зря ты, девка, слезы, льешь… То, что было, не вернешь…И чудное дело: столько в горнице народу, а никто ему не подтягивает. Одна лишь Илонка что-то там блеет, да голос у нее до того дрянной, что скоро она и сама замолкает. Лишь под нос себе тихонько мурлыкает да ногой качает. Марике, правда, кажется, что Илонка не мурлыкает, а похрюкивает да повизгивает. Ну, это так и должно быть… Даже парням поначалу не по себе становится. Жалко им Марику, бедную.
В общем, не удались нынче посиделки. Только Илонка Киш довольна осталась. Еще бы. Сумела-таки отобрать Красного Гоза у этой гордячки.
Десять часов, перо кончилось; ни до танцев, ни до игр так дело и не дошло. Девки все сразу засобирались: платки повязывают, пух с себя обирают — как скворцы на ветке. Потом громко прощаются с хозяевами и выходят из хаты, назад даже не оглядываясь.
Смотрят парни друг на друга — понимают: что-то они не так сделали, что-то сильно испортили, надо дело поправлять. Выпрямляются, грудь выпячивают — и на улицу, вслед за девками.
Один ту догоняет, другой эту.
Только Красный Гоз в нерешительности стоит посреди улицы, там, где дороги расходятся: в одну сторону — к дому Марики, в другую — к дому Илонки. Остановился он вроде бы для того, чтобы закурить. Долго возится с сигаретой, со спичками, слушает удаляющиеся шаги: частые, легкие — Марики, помедленней и потяжелей — Илонки… полклина земли да еще хата… да еще хата… затянувшись раза два, сует он спички в карман — и бегом, догонять Илонку.
Марика идет, идет одна; широко открытые глаза ее, приспособившись к ночной темноте, привычно подсказывают: вот дерево, вот забор, вот ворота Поцоков; слышит, как за спиной все тише становятся, уходят в сторону шаги; вот и все, нечего больше ждать. В четверг сваты придут… будут сватать ее за Ферко… за Жирного Тота… ой, и зачем только родилась она на белый свет. Далеко еще до дому — хоть беги, так не терпится Марике поскорей добраться. Чтобы дома выплакаться вволю. Оглядывается назад: никого уже не видно: только издалека слышно, как поскрипывает снег под ногами идущих.
— Вечер добрый, — вдруг загораживает ей кто-то путь там, где улица поворачивает в сторону их хаты.
Чуть не вскрикнула Марика от радости. Показалось ей, что это Красный Гоз, но через минуту лишь еще горше становится на душе и снег словно бы сильнее проваливается под ногами. Нет, это не он. Всего лишь кореш его, Тарцали.
— Чего тебе? — спрашивает она.
— Ничего… я только хочу сказать, Марика, я здесь ни при чем. Поверь мне, я не виноват.
Марика мгновение стоит, застыв в неподвижности, потом, не сказав ни слова, идет дальше. Тарцали старается подладиться к ее шагам.
— Вот ей-богу, я когда-нибудь так тресну этого Йошку, что…
— Полно, можешь не уверять меня, что мол, не хотел, чтобы он мою боль, мои слезы увидел… только он их все равно не дождется, пусть хоть посинеет от злости.
— Да ведь я тебе говорю, Марика, поверь, что…
— Не лезь из кожи, не притворяйся. Ты тоже этого хотел, как и твой дружок разлюбезный. Ну что ж, раз ты за этим пришел, так смотри, радуйся… — и, повернувшись к парню лицом, подняв голову, Марика плачет. Слезы катятся по щекам и, падая, горячими искорками поблескивают в голубом свете луны.
3
Красный Гоз живет в закуте — там, где за лавкой господина Берната переулок расширяется на целую площадь. Но почему-то никто это место площадью не зовет: все закут да закут. Три хаты стоят в закуте: кузнеца Катицы, Гозов да еще семьи Сокальи. У Гозов хата самая справная, и стоит она в середине. Никто по крайней мере не скажет, что у них даже соседей и то нету.
Небольшая, но ладная у Гозов хата; крыта она камышом, но по краю черепицей выложена. Есть и хлев, и свинарник; одна беда — нет при хате никакого сада. Но в этом ни Красный Гоз, ни хата не повинны.
Красный Гоз вдвоем с матерью живет; отец его с войны не вернулся, осталась баба с четырьмя ребятишками. Правда, люди болтали, будто старший Гоз не погиб, а в плен попал да там женился. Ну, все это лишь разговоры, потому что толком никто ничего не знает. Факт же тот, что жене его и тридцати, пожалуй, не было, когда она овдовела. Работящая, красивая была баба, и немало нашлось бы охотников взять ее в дом — да она так рассудила, что, мол, хватит судьбу пытать. И осталась сама себе хозяйка. Получала после мужа крохотную пенсию, пять пенгё в месяц, или, может, шесть, — все лучше, чем ничего. Не покладая рук трудилась, везде успевала — и четверых детей поставила на ноги, как полагается. Теперь лишь один при ней живет — самый младший, Йошка. Есть у нее и землицы немного, хольда три на выкупных землях. Хоть и солонцы наполовину, но все ж много ли, мало, а на прокорм, хлеба дает. Теперь и замуж могла бы пойти, благо время есть — да не прошли для нее годы даром. Устала, высохла она. Нынче на сына лишь надеется, на Йошку. Прокормит как-нибудь на старости лет, не придется ей просить кусок хлеба у чужих дверей.
А о том, почему ее муж и сын носят прозвище Красный Гоз, она и сама не знает. Еще бы: ведь ни красного, ни хотя бы рыжего цвета на этом парне днем с огнем не отыщешь. И отец, и дед его черными были; дед, тот совсем на цыгана походил. В деда удался и Йошка.
Волос у Йошки, как сажа, черный, а лицо белое. Но и белизна эта такова, как если бы вымазанный сажей человек хотел добела отмыться, да так и не отмылся. Белая у Йошки кожа, а все же где-то в глубине, в порах, словно бы прячется смуглая тень.
Бабка Пинцеш сказывала, что прозвище это получил еще прапрадед Йошки, самый первый Красный Гоз. А было это будто бы так: в Комади на ярмарке связался он с шулерами, которые бросали на стол три карты и приговаривали: вот он, красный, ставь на красный, — а руки у них так и мелькали, что твое мотовило. Вернее, мелькали у одного, потому что второй стоял рядом, вроде как посторонний, и ставил деньги на красное. Ну и конечно, выигрывал раз за разом. Захотелось тогда старому Гозу счастья попытать, и начал он ставить на красное, все время на красное. Один раз выиграл, два раза проиграл, а потом больше проигрывал, чем выигрывал. Так и спустил все до последнего крейцера. С тех пор прозвали Йошкина прапрадеда Красным Гозом, потому что денежки его на красном короле уплыли.
Йошке нынче двадцать пять или двадцать шесть. Парень он видный, красивый. Говорят, и силой его бог не обидел. Задираться, правда, Йошка не любит; но, уж если кто к нему драться полезет, руку его запомнит надолго. И одевается он не бедно, хоть зарабатывает только на земляных работах; всегда у него хороший табак — не как у других землекопов, которые хорошим куревом редко балуются, а больше берут табачный лист, разомнут, натрут его в ладонь и скручивают из крошева цигарки. Табак этот так и называют: венгерский королевский натиральный.
Из каких средств умудряется Красный Гоз на широкую ногу жить — неизвестно. В деревне говорят, мол, рука у него цепкая: что глаз увидит, те рука зацепит. Однако что бы там ни говорили, а с поличным никто еще Йошку не поймал. Люди считают: это, дескать, потому, что дела свои он делает, когда другие спят или совсем о чем ином думают. К тому ж на бедняцкое добро Красный Гоз никогда не позарится; не трогает он и своих односельчан. Ну а господским попользоваться — в глазах мужиков такое дело и не грех совсем. Больше того, в деревне на такого человека вроде как на героя смотрят.
Впрочем, разговоры, они разговорами и остаются; если же разные случаи вспоминать, так в прошлом году, например, когда перестилали у Гозов кровлю, кончился камыш.
— Слышь, Йошка, — говорит вечером кровельщик, старый Кишторони, — приходить мне завтра утром иль не приходить?
— А отчего ж не приходить, дядя Иштван?
— Камыша, вишь, больше нет. Кончился. Надо бы еще связок двадцать — двадцать пять.
— Вы приходите, приходите. Сколько надо, столько будет.
И в самом деле: утром тридцать связок камыша стояли во дворе, сложенные в пирамиду…
Ночью с воскресенья на понедельник, после посиделок, совсем извелся Йошка, ворочаясь на постели. Даже мать то и дело вздрагивала спросонья, поднимала голову с подушки. Ох, что-то неладно у сына, а что — понять не может. Все так славно вроде бы складывается. Берет сын за себя ту девку, которую хочет. Земли полклина… хата… виноградник… Мог бы и еще богаче невесту найти, если б поискал. Разве не так? Пусть покажут ей другого такого парня в деревне! Полклина земли… хата… Ох ты, опять повернулся, никак улечься не может.
— Что с тобой, сынок? — спрашивает она тревожно.
— Ничего, мама, ничего, я так… — и снова ворочается беспокойно, даже доски под ним стонут.
— Мучает тебя что-то, сынок.
— Бросьте, мама, ничего меня не мучает. Так, вспомнил кое-что…
Даже глаза у Йошки болят, до того он старается заснуть. А ночь тянется и тянется, конца ей не видно, и, чем больше лежит он без сна, тем сильнее томят его бредовые желания. Изо всех сил пытается Йошка об Илонке думать, но в темноте печальное лицо Марики стоит перед ним и никак не исчезает. Зажмурит Йошка глаза, снова откроет — все напрасно, отовсюду смотрит на него с упреком, с обидой это лицо. «Полклина земли, хата…» — силится думать он о том, что наполняет душу довольством; но сейчас и это не помогает. Вот тьма в комнате словно колыхнулась от какого-то дальнего отсвета, а Йошке чудится порывистое движение Марики, когда она наклоняется к нему всем телом. Жучок-точильщик осторожно пилит потолочную балку — звук этот, если долго прислушиваться, будто тихий Марикин плач. Потом вдруг вспомнится заливистый ее смех; смех этот и ласкает, и дурманит так, что подушка под головой становится горячей и неудобной. «Илонка — красивая, очень красивая, да к тому же полклина земли и хата…» — твердит Йошка про себя, сжав зубы, и старается предоставить Илонку рядом с собой. И та наконец является ему как в тумане; он видит ее голые плечи, которые приближаются, закрывают ему глаза, рот, не дают дышать, и он погружается в жаркий, стыдный сон — чтобы через несколько минут снова очнуться измученным и разбитым.
— Выйти походить, что ли, — вскакивает он с постели, по столу шарит, отыскивая спички, зажигает лампу. Одевается. Мать, приподнявшись с кровати, на часы смотрит.
— Куда ты так рано? Четыре часа всего.
— Так. Похожу немного.
— Смотри, ради бога… чтоб не случилось чего…
— Полно, мама. Голова пока еще на плечах, как-нибудь соображу… ага, черт! — последние слова уже к сапогам относятся. Показалось Йошке, что портянка сбилась в сапоге; но вот пошевелил ногой, и она легла, расправилась. Надевает он теплый полушубок, закуривает и выходит во двор.
Мороз все держится, не хочет отпускать. Небо над головой как лицо веснушчатой девки: и некрасиво, а все равно смотреть приятно. На востоке заря золотится, словно рассыпавшийся стог соломы. Тихо. Луна и звезды расстилают до снегу блестками расшитую кисею. Вот чьи-то шаги приближаются по переулку, снег звучно скрипит под ногами; звонарь, догадывается Красный Гоз. Осторожно выходит он за ворота и, выждав, пока звонарь, хрустя снегом, будто грецкими орехами, свернет на главную улицу, направляется в другую сторону, к мосту через Кереш. Идет, подняв воротник, руки глубоко в карманы сунув.
Сразу за Керешем — мощеная дорога тянется вдоль речки до самой станции. А по другую сторону дороги — помещичьи владения: пашни, пастбища, хутора, сенные зароды. Красный Гоз не спеша идет по дороге, окрестности оглядывает: вон огороженные стога, рядом мастерские, амбар, контора, низкий барак, где живут батраки, — хутор этот он знает, как свои пять пальцев. Перед мастерской с десяток длинных бревен составлено пирамидой. Недолго думая, перепрыгивает Красный Гоз через придорожную канаву и по тропинке шагает к хутору. Проходит мимо бревен до угла конторы — словно по делу сюда пришел. Огибает воловню — там уже свет горит, батраки дают корм скоту, — потом идет обратно. И на ходу подхватывает на плечо лесину из пирамиды, будто вчера лишь оставил ее здесь на сохранение.
Тяжела лесина, глубоко в нехоженый снег проваливаются сапоги; все свои сомнения забывает Йошка, пока добирается до дому. Сбросив бревно во дворе, стоит, переводя дух, в воротах, слушает, как плывет над деревней теплый гул колоколов, зовущих к ранней службе.
— Всю жизнь землю копать? Мучиться, спину ломать за каждый кусок хлеба, за каждую тряпку? — говорит он рассвету и самому себе; и в эту минуту твердо знает, что не Марику возьмет в жены, что на Илонке женится, пусть хоть весь свет трижды перевернется. Чтоб не помыкал им всяк, кому не лень. И уж тогда он не будет по ночам, пока другие спят, что-то там таскать на горбу, как проклятый… Полклина земли и хата, да если с умом взяться, этого вот как хватит на ноги встать…
Не только Красный Гоз мучился бессонницей в эту ночь: не шел сон и к Марике.
Сотню раз уж повторила она себе, что нечего себя напрасными мыслями терзать; выйдет она за Ферко Тота, станет сама себе хозяйка, платья будет носить, какие хочет, варить, что любит, вставать не с петухами, а когда понравится. Только напрасно все. Как ни старается о другом думать — Красный Гоз не идет из головы, подлый. Постель горяча, будто жаровня, — какой уж тут сон? Самой удивительно Марике, как легко думает она сейчас о таком, что прежде и в голову не смела допускать. Желание гонит по телу кровь жаркими волнами; обнимает Марика подушку — а в самом деле и не подушку вовсе, а Красного Гоза; в истоме вытягивается струной и, сама себя пугаясь, открывает в страхе глаза, о Ферко пытается думать. И спит и не спит; сбрасывает с себя одеяло, ставшее вдруг невыносимо душным. Тяжко Марике. Молодое здоровое тело ее словно не умещается в самом себе, наружу просится, как зерно из колоса, как цветок из бутона. Под закрытыми веками мечутся красные сполохи, горячая волна поднимается к горлу; и вот почти явственно ощущает она, будто голенький младенец барахтается у нее на груди, колотит ее крохотными кулачками. Ребеночек. Ее ребеночек. Ее и Ферко… Конечно, Ферко… Но тут она видит его головку, лицо, и — чудна́я вещь: лицо у него точь-в-точь как у Красного Гоза, и белое, и смуглое в то же время. Только лицо это, которое бывало таким ласковым, теперь искажается злобой и ненавистью… Мать испуганно поднимает голову на своей кровати.
— Заснуть не можешь, Марика?
— Ой, не могу, мама, не могу, не знаю, что и делать…
— Сон, что ль, нехороший приснился?
— Если бы приснился… пусть хоть что приснится, только б заснуть…
— Иди ко мне, дочка. Ляг рядом.
Марика встает с постели; глинобитный пол как лед; выстывший с вечера воздух в горнице холодит тело под сорочкой. Ложится Марика рядом с матерью, прижимается тесно, голову на груди у нее прячет. Тихо лежат они вдвоем, слыша стук сердца друг у друга; потом, будто сговорившись, плакать начинают, одинаковым голосом, с одинаковой горечью.
Сладко, горько ли плакать зимней ночью, в темноте спящей хаты — знают лишь те, кто сам перебегал босиком из одной постели в другую. Глинобитный пол обжигает холодом, шуршит песок под ступней; нет такой бедности, такой обиды, чтобы в эту минуту ты не почувствовал бы их своей кожей. Сырой стужей веет из-под кровати; в углу отруби киснут на хмелю; в слепом окошке морозные узоры светятся едва-едва. Только кровь в теле шумит, бунтует, несбыточного требуя. Часы с безжалостным спокойствием отстукивают за секундой секунду; лишь этот звук раздается в тишине — в тишине, что самой тишины тише. Все, что могло бы зашуршать, заскрипеть, находится далеко — на километры, на мили — в бескрайней мертвой ночной глуби…
— Не выходи за Ферко, дочка, если не любишь, — шепчет мать Марике в ухо, рукой гладит ее по щеке и в другую щеку целует.
— Нет… выйду… выйду, все равно… — Марика, будто маленькая девочка, трет глаза кулаком.
Ах, до чего ж это просто сказать «выйду» и до чего трудно сделать. Если бы в деревне был один-единственный парень, Ферко Жирный Тот, или хотя бы не было Красного Гоза, еще куда ни шло. Но ведь Красный Гоз здесь, близко, на другой улице, и пока что неженатый, ничей… Может, что-то упустила Марика. Может, не так сказала, не так глянула… Увидеть его последний разочек, поговорить… вдруг еще можно все изменить, поправить.
Да, один-единственный раз поговорить с ним, а потом — будь что будет, хоть Ферко Тот, хоть конец света…
Многое успела передумать Марика, прежде чем утром, часов в девять, отправилась в лавку господина Берната. Ничего ей там не нужно; просто надеется: вдруг Красный Гоз окажется в лавке, зайдет сигарет купить.
Так ждала Марика этой встречи — и теперь даже теряется, когда видит, что нет Красного Гоза в лавке. Господин Бернат улыбается ей, руки потирает, а она смотрит на него потухшим взглядом и лепечет едва слышно, мол, нет, она ничего не хочет купить, деньги забыла дома, такая досада… И выходит поскорее на улицу.
Как раз возле лавки господина Берната начинается переулок, что ведет в закут, а оттуда — на другую улицу, к берегу Кереша. И Марика, не раздумывая, сворачивает в переулок.
Уже издали видит она, что перед хатой Красного Гоза часть забора разобрана, снег сметен в сторону, земля разрыта, а Йошка со своим корешом Тарцали старую акацию выкорчевывают. Мать Гоза тут же, в воротах стоит, разговаривает с соседкой. И так вдруг стыдно стало Марике, что пришла она сюда. Подумают еще, мол, затем явилась, чтобы с Йошкой, бессовестным, встретиться.
«Позовут, остановлюсь, а не позовут, мимо пройду», — быстро решает она и, подойдя к дому, лишь голову слегка поворачивает. И бросает на ходу: «Добрый день».
Йошка, в яме стоя, корни разбивает киркой; лишь услышав голос Марики, поднимает голову. И от удивления даже на приветствие ответить не может. Сев на край ямы и кирку меж колен поставив, глядит вслед удаляющейся Марике. Тарцали же теперь лишь заметил, куда это смотрит его кореш с таким мрачным видом.
— Позвать ее, может? — спрашивает сочувственно.
— А! Если она сама замечать не хочет… — говорит Красный Гоз и знает, что говорит неправду. Но сейчас неправда для него куда легче, чем правда.
Больно и стыдно Марике: зачем только она сюда шла? Зачем верила, глупая, словам его подлым? И как же ее угораздило — полюбить такого парня! Мошенника, проходимца, негодяя бессовестного. Ну ладно, свет на нем ведь клином не сошелся. Еще отольются волку овечьи слезки, настанет и для него черная пора… И идет, бедняжка, домой, словно побитая.
4
Нежданно пришла оттепель. Кручинятся по стрехам желтые сосульки, в садах сквозь осевший снег проглядывают, дыша сыростью, старые зерновые бурты, на полях черные гребни осенней пахоты проступили. Только наметенные во дворах сугробы по-прежнему сияюще белы. Синий дым кудрявится над трубами; желтым парком курятся за хлевами навозные кучи. Небо на востоке отливает лиловым, на западе — красным; но краснота эта — несвежая, тусклая, как на лежалом яблоке. Синицы прыгают по кустам, на окна косятся, — глаз у них острый, любопытный. Ребятишки вдоль садов бродят стайками, вырезают дудки из высохших стеблей болиголова. Сделают дудку и, подняв лицо к небу, глаза зажмурив, дуют на разные голоса. Далеко разносятся протяжные звуки — будто путники перекликаются, бредя в пустынной степи.
Балинт Сапора, работник Жирного Тота, во дворе копошится, шуршит сухими будыльями. Другого дела, видно, ему не нашлось. Недоволен Балинт: и кому они помешали на старом месте? Лежали себе и лежали. Так нет, велел хозяин на другую сторону перетаскать. Зачем да почему — таких разговоров он не любит. Просто уж такой он мужик, у него свое понимание. А понимает он, так: лучше впустую работать, чем впустую бока пролеживать. Вот и нашел Балинту дело: надо, не надо, а работнику работать полагается.
В молодые годы Габор Жирный Тот и сам в бедняках ходил. Одному богу известно, сколько он с судьбой воевал, чтоб на ноги встать. Было время служил Габор мясником у господина Берната — не у нынешнего, а у его отца; тогда-то и прицепилась к нему эта кличка Жирный. Было это, рассказывают, так.
Однажды поехал он на телеге в Дебрецен за товаром. И как уж там случилось, неизвестно, только забыл господин Бернат дать ему съестного на дорогу или денег. Еще туда едучи, проголодался Габор, а на обратном пути совсем ему живот подвело; товар же, как нарочно, весь несъедобный попался. Кроме бидона с жиром. На такой случай, конечно, и жир бы пригодился, если б хлеба к нему. Да не было хлеба у Габора Тота. Смотрел он, смотрел на тот бидон, потом открыл все же. Взял на палец немного жира, понюхал, на язык попробовал. Кончилось дело тем, что Габор, пока до дому доехал, весь жир горстями из бидона вычерпал и съел.
Историю эту рассказывал в корчме сам господин Бернат, — рассказывал со смаком, прибавляя каждый раз новые подробности; и сын его тоже любит ее вспомнить при удобном случае. Вот почему, значит, Габора Тота прозвали Жирным. Сколько он нужды перенес, сколько бился, маялся, пока богатства достиг, — это уму человеческому непостижимо. Зубами за каждый крейцер держался, хозяйство свое приумножал с остервенением: и пахал, и жал, и на базаре торговал. Нынче силы уже не те. Нынче он все больше сыновей работать заставляет. Те, конечно, стараются на свой лад: один так, другой этак. Два сына у Жирного Тота: Геза — старший и Ферко — младший. Геза уже и женат был, да считай, что и не был, так быстро они с женой разошлись. Что там у них получилось — никто достоверно не знает: одни одно говорят, другие — другое.
Живет семья Жирного Тота в большом доме на Главной улице. Дом стар и приземист — но в нем когда-то жил сам исправник. Три комнаты в доме выходят окнами на улицу, есть еще веранда широкая, застекленная; однако вся семья обитает в четвертой комнате, со стороны двора. И обжита эта комната основательно. Здесь и обед готовят, и едят, и спят. Правда, младший сын, Ференц, спит на сене в хлеву, там же, где и работник. Так уж в деревне заведено, что уважающий себя парень в хлеву ночует до тех пор, пока не женится. В той же единственной комнате зимой и корм для свиней держат, и цыплят выводят — все здесь умещается. А для чего им еще три комнаты, бог ведает. Ну, одну-то Геза было занял, женившись. А как жена ушла, он тут же и вернулся обратно к родителям. Словно и не было ничего.
Нынче Геза с утра с охотничьим ружьем возится: что-то напильником подтачивает, дует, в ствол глядит на просвет — с этим ружьем он на зайцев ночью собирается. Ружье да зайцы для него — главная радость в жизни. Когда-то было у Гезы справное ружье, настоящее, да полиция отобрала, вот уже года три. А нынешнее ему один кузнец смастерил, из стального стержня: просверлил его вдоль, затвор приделал — и готово ружье. Пули, которыми на занятиях допризывники пользуются, к нему как раз подходят. Ружьишко это выглядит так, что увидишь на дороге — и нагнуться за ним поленишься. И вот поди ж ты: с двухсот шагов зайца уложит так, что лучше не надо.
Ферко, то есть, как его… Ференц, сапоги чистит: поставил ногу на скамеечку и тряпицей возит туда-сюда. Мать его палец себе перевязывает, посыпав его сушеным тысячелистником, — ноготь у нее воспалился.
Жирный Тот входит со двора сердитый, недовольный: с тех пор как снег выпал, он все время такой. Потому что работы зимой мало. Все только едят да бездельничают… сколько времени зря пропадает…
Ломает он голову, к чему бы сыновей приспособить, но не может ничего придумать. Кукурузу лущить рано, сыровата еще, пусть ее мороз подсушит; навоз на поле вывозить тоже нельзя, потому что в такое время ни колесного, ни санного пути. Брюхо только набивать можно. Да спать. Ну, еще… жениться можно этим двум недотепам. Так ведь не женятся никак. Вот он в свое время: понадобилось — взял и женился без лишних слов. Не тянул, не рассусоливал, пока всем вокруг не надоест. А эти — разве это парни? Жениться и то не умеют толком. Один, правда, с грехом пополам женился было, да проку от этого мало. Пусть теперь женятся, а то ведь потом не до того будет…
На старшего-то, на Гезу, рассчитывать, правда, не приходится. Ни бабы ему не надо, ни чего другого. Было б ружье в руках да цигарка в зубах. Да чтобы всю ночь сидеть в засаде, зайца дожидаться. Будто дома есть нечего. А работать — веревкой не затянешь. Не то что младший, Ференц… Ференц до того старательный, с утра до ночи готов не разгибаться. А Геза? С этого проку как с козла молока.
И с малых лет он такой непутевый. Мальчишкой еще был, чуть глаз себе не выжег. Пистолет однажды смастерил из гильзы да из деревяшки. Гильза красивая была, блестящая, медная; сточил он ее немного и прикрутил проволокой к изогнутой палке. У сторожа порох выпросил: не посмел тот сыну Жирного Тота отказать. Набил в гильзу пороха с дробью, ушел в сад, поджег спичкой порох, и — трах… Бабахнуло так, будто пушка выстрелила. Да только гильзу разорвало, руку Гезе покалечило и глаз едва не выбило. С тех пор глаз этот у него все время прижмуренный.
Отец еще в ту пору махнул на него рукой: такому лучше совсем на белый свет не родиться, все равно человека из него не выйдет.
Что бы ни делал Геза, все не так, отцу он всегда только в тягость был; женился — и в семейной жизни оказался недотепой, потому и бросила его жена.
Когда-то старый Тот мечтал, чтобы сын его, первенец, всем парням парень был, чтобы достояние, по зернышку, по крупице отцом собранное, лелеял, приумножал родителям на радость и утешение.
Ох, не таков оказался Геза, не таков! По утрам вставать не спешил, по вечерам ложиться не торопился. А то и вовсе не ложился: бродил по полям с самодельным ружьишком, зайцев выслеживал. Или целыми днями по лугам шастал, рыбу ловил, птичьи яйца искал. Каждое гнездо в округе ему знакомо было. Странный человек Геза, нелюдимый, неразговорчивый. В корчму он не ходит, да и денег у него на это нет; сколько живет на свете, даже в соседней деревне, пожалуй, не был ни разу. Одним словом, коли уж решил отец, что не будет из Гезы дельного, самостоятельного мужика, так Геза и сам с этим смирился, как со своей судьбой.
Ну а Ференц — дело другое. Этот в отца пошел, сразу видно.
— Так будешь сватать девку или не будешь? — останавливается Габор за спиной у сына.
Ференц лоб морщит, задумавшись, и ногу на скамеечке поворачивает, начищенный сапог рассматривает.
— Посватать-то хорошо бы… А на что свадьбу будем справлять?
— На что? Вон в амбаре центнеров сорок еще пшеницы есть, отдам тебе на свадьбу. Свинью закололи и еще заколем хоть две, если надо, — вот и мясо. Тонн двадцать кукурузы есть, если не больше. Четыре лошади с жеребенком, да три коровы, да девять подсвинков… мало тебе? На это можно, чай, жениться. — Габор говорит так, чтобы сыновья чувствовали: все это не кто-нибудь, а он наживал, своим горбом, своим потом; им теперь остается лишь с умом пользоваться нажитым.
— Знаю, батя, что у нас есть, чего у нас нет…
— А чего у нас нет-то?
— Чего, чего. Денег на свадьбу, вот чего нет. Обручальных да на выкуп за невесту.
Что правда, то правда: денег у них не водится. Что это за хозяин, который деньги в банк кладет или дома держит, в кубышке. Деньги должны в обороте быть, в зерне, в земле, в скотине.
— Не беда. Будут и деньги. Скоро ярмарка в Вестё, продадим одну корову, вот хотя бы Бимбо. За нее хорошую цену должны дать, потому что к февралю она с теленком будет. Ну, продаем корову или не продаем?
Ференц, разволновавшись, задник сапога ощупывает.
— Завтра утром скажу.
— Это почему же — завтра утром?
— Почему, почему. Потому что надо мне с ней поговорить сначала. Такие дела ведь сами не делаются.
Жирный Тот теперь в саком деле сердит не на шутку. Ишь ты, поговорить с ней надо. Это с Марикой-то?! Да в такой дом любая девка с радостью пойдет. Так неужто эта от своего счастья будет отказываться? Прошлым летом не она ли жала у них в долю, с утра до вечера с серпом кланялась, кукурузу убирала за четвертину. И теперь ее же уговаривать? Если у нее голова есть, по первому слову к ним в семью пойдет, на четвереньках приползет…
Старый Тот, конечно, мог думать себе что угодно. Сын-то знал, что до свадьбы еще немалый путь пройти нужно.
Первым делом этот путь привел его к вдове Пашкуй, что живет за баптистским молитвенным домом. Баба она немолодая, но на диво чистая, белокожая; ей и сейчас бы замуж впору, лишь захоти. Только не хочет она замуж. Есть у нее единственная дочь, Пирошка, маленькая, смуглая девка, крепкая и быстрая, как огонь. Подруг у нее ни одной нет; зато ходят к ней много парней. И ходят они не за чем-нибудь, а так — повеселиться, поиграть, песни попеть. Сама вдова тоже со всеми веселится: в игры играет, смеется; если ж какой парень забудется и позволит себе что-нибудь, она ему так по спине съездит — тоже без злобы, играючи как бы, — что у того дыхание перехватит. Есть у вдовы земли немного, с нее и живут вдвоем, чисто да ладно. Эта самая вдова Пашкуй приходится Ферко вроде как теткой, потому что покойный муж ее был Габору Жирному Тоту сводным братом.
Сейчас четверо в хате: вдова, ее дочь да два парня — Тарцали и Косорукий Бикаи. Вдова на картах гадает; на переносице очки поблескивают, а руки, открытые выше локтей, порхают над картами, как чудесные белые птицы. Пирошка прядет, задумчиво глядя перед собой и сплевывая в передник узелки из кудели. Тарцали не отрываясь смотрит на летающие руки вдовы; Косорукий Бикаи, локти на спинку Пирошкина стула положив, сидит курит. В этот момент и раздаются перед домом торопливые шаги.
Вдова быстро накрывает карты дорожкой, руки на груди сплетает и на дверь смотрит выжидающе поверх очков.
— Мо-жно-о, — говорит напевно, когда слышится стук в дверь.
— Добрый день, тетенька… — входит Ферко и стоит, озираясь неприкаянно.
— День добрый, милок. Вот славно, что пришел, я как раз про тебя вспоминала. Идем-ка со мной… — Она встает, берет Ферко за руку и ведет его через сени в пристройку.
Ничего особенного нет в этом. Парни к этому привыкли. На том и стоит добрая слава вдовы, что она все себе может позволить, все не так делает, как другие. Этого дома словно не касаются законы деревенской морали: ну, Пашкуиха, говорят люди, — это другое дело. Однако есть тут и какая-то хитрая штука: хоть бывают в доме вдовы парни чуть не со всей деревни, еще ни одному не пришло в голову полюбить Пирошку или посвататься к ней. Лишь играют с ней — если случится, что матери нет в хате, — на колени сажают, но, заслышав шаги матери в сенях, тут же сбрасывают с колен, будто котенка.
— Ну что, приперло тебя? — поворачивается вдова к Ферко в низкой пристройке. Тот зябко голову в плечи втягивает. Холодно здесь, как на леднике.
— Дак ведь… оно конечно, приперло…
Очень любит он Марику, только сказать об этом ничего не может. Смотрит тупо на голые теткины руки. И как это она не мерзнет, надо же…
Вдова задумчиво на Ферко смотрит, помалкивает.
— Тебе-то она что говорит? — спрашивает наконец.
— Мне-то? Вчера сказала, пойдет за меня. Вот только…
— Ну что «только»? Будет она твоей женой, будет, раз я сказала, и никаких только. Чего тебе еще-то надо?
Очень хорошо знает Ферко, чего ему надо; беда вот, выразить не может. Рассказал бы он тетке: мало, мол, что Марика женой его станет, жена — это само собой, а ему любовь еще нужна. Потому что семейная жизнь без любви — все равно что каша без соли. Мученье одно. Однако даже насчет женитьбы еще уверенности нет, а уж о любви что говорить… Конечно, дала Марика вчера ему свое согласие, а сегодня возьмет и передумает, если ей так захочется.
— Что мне надо-то? Ну… перво-наперво, чтобы она в самом деле вышла за меня. Нет у меня спокойствия, тетенька, пока этот бродяга, Красный Гоз, в парнях ходит. А еще бы надо, чтоб она любила меня хоть маленько, если женой мне будет.
— Да, конечно, конечно… Ну ладно, я все устрою, не бойся. Коли начала, то и до конца доведу… — и уже открывает дверь, идет обратно в горницу. Ферко, как беспомощный телок, за ней шагает послушно.
Решительно сметает вдова карты в ладонь, колоду в ящик швейной машины кладет. Набросив на плечи меховую шубейку, говорит парням:
— Вы тут будьте, сколько захотите, а я по делам, — и уходит.
Тарцали с Косоруким Бикаи переглядываются, ухмыляясь, берут свои стулья и несут к Пирошке; садятся с двух сторон. Ферко у двери топчется, не знает, уйти ему лучше или подождать. Тарцали вначале косится на него исподлобья, а потом перестает обращать внимание и, не говоря ни худого ни хорошего, хватает маленькую, девическую Пирошкину грудь.
Парней этих тоже понять надо. Они танцевать учились в хлеву, вместо девки за метлу держась. Нужно им с кем-то побаловать, утихомирить желание, которое все настойчивее требует своего; вот и забавляются они с Пирошкой. Пробуют: долго ли выдержат без смеха?
Бедная девка то вспыхнет, словно окошко в летний полдень, то побледнеет, как месяц в ветреную погоду. Сидит и сама себя не чувствует; не знает, на каком она свете.
А мать ее в это время гордой походкой шествует по деревне; где ни пройдет, везде за ней словно даже в воздухе достоинством веет. В каждой лужице плавает кусочек ее отражения, и сама улица наряднее, праздничнее становится.
Оттепель выманила людей из хат к заборам, к воротам; глядит народ вслед вдове, гадает, куда это она собралась? Конечно, вдова Пашкуй не такой уж важный человек в деревне и не так уж редко выходит она на улицу, чтобы этому удивляться. Однако нынче взбудоражены люди слухами о женитьбе Ферко Жирного Тота на Марике Юхош. Это будет первая свадьба нынешней зимой. Если будет, конечно. Если вообще выйдет что-нибудь из этой затеи. Все знают, что вдова Пашкуй теткой приходится Ферко, так что догадаться, куда она идет, нетрудно.
Тем более что она уже сворачивает в переулок, в сторону Кереша. Семья Юхошей в этот час дома — и где еще им быть в эту пору, в одиннадцать часов утра. Вчера вечером был здесь Ферко; но пришел он не то чтобы совсем неожиданно: перед этим Марика в кооперативе его видела. Ничего удивительного, что в хате сегодня прибрано даже еще чище, чем всегда. Пыль с мебели стерта, пол глиной подмазан, свежим песочком присыпан. Сама Марика опять за дверцей шкафа прячется, будто бы для того, чтобы платья свои пересмотреть, а на самом деле чтобы наплакаться вволю.
Старый Юхош на припечке, как обычно, сидит; жена его кашу варит; Мишка, прежнюю вертушку выбросив, новую мастерит, побольше и потолще. Чтобы не как шмель жужжала, а завывала, будто ветер в трубе. А сам в сторону шкафа уши вострит: его не обманешь, что-то случилось с Марикой, раз ревет она все время. Вчера ревела, когда Ференца Тота проводила, утром ревела, теперь снова ревет. И откуда столько слез в девке? В прошлом году видел Мишка одну невесту, старшую сестру Лаци Пушкаша, — та тоже ревела. И чего это они? Боятся, что ли, чего? А может, от радости?
Вдова Пашкуй раньше, может, и редкой гостьей была у Юхошей, а за минувшую неделю вот уже второй раз приходит. Она и от Ферко принесла им первую весточку — ведь сам-то он, телок этакий, и словечка бы вымолвить не сумел. Уж на что Марика все лето на глазах у него была, рядом в поле работали: она на возу, он снопы подавал снизу, — а ведь ни разу не мекнул, по имени ее не назвал. Вот и пришлось вдове за него переговоры вести. А теперь — что еще сказать? Вроде все предусмотрела, все сделала, что можно было. Что-то новое надо бы придумать. Такое, от чего Марика не пошла бы, а побежала замуж за Ферко Тота.
— Как житье-бытье, Михай? — усаживается вдова рядом с Юхошем. На Марику она пока и не смотрит: всему свое время.
— А сижу вот… старюсь потихоньку, — говорит Юхош и для пущей важности ногой качает.
— Н-да… старимся, старимся… Ну а ты, Юлишка, как живешь-можешь?
— Спасибочки… жива, слава господу, — отвечает та умильно, хоть сама и раздосадована: стыдно ей, что в такой день кашу варит. Да еще днем, а не вечером, как порядочные люди. Сегодня пироги бы печь — ан вчера, в суете, позабыла закваску поставить.
Теперь вдова и на шкаф поглядывает, говорит:
— Выходи-ка Марика, дай на тебя взглянуть, сердечко ты мое ненаглядное…
Марике другого не остается — выходит на середину хаты. Как была, в кофте и в нижней юбке. Глаза красные, но сухие: видно, все, что было, выплакала. Улыбаясь через силу, смотрит гостье прямо в глаза.
— Вот, глядите. Есть на что посмотреть…
— Вижу, вижу. Посмотреть есть на что, а то ли еще будет! Ой, и славный муж выйдет из нашего-то Ференца. Станет любить да ублажать, пылинке не даст на тебя сесть… Я нынче просто так пришла, вас повидать… ну и спросить хочу заодно: посылать, что ль, сватов-то?
— Да, да, я ведь Ференцу вчера сказала, — говорит Марика поспешно, словно боится, что еще, чего доброго, скажет не то, что надо.
— Ну-ну, знаю я, знаю, да ведь спросить полагается… А еще хочу вот что сказать… Красный-то Гоз наверняка Илонку посватает на этой неделе. И вам бы хорошо поскорей дело закончить. Чтоб не подумали люди, мол, мы его, Гоза ждали, или что там еще. Сама знаешь, дочка, людям только дай о чем поговорить.
Знает это Марика, хорошо знает, еще бы не знать. Лучше бы она всего этого не знала. Лучше бы не ведала, что за парень Красный Гоз и что за девка Илонка Киш… и какие мучения ей терпеть придется. Марика вдруг становится чересчур веселой. Садится рядом с вдовой на припечек, ласкается к ней, шубейку гладит. Так и договариваются, что на неделе, в четверг, пришлет Ференц сватов.
И насчет свадьбы все обговаривают, что да как и кого позовут в шаферы, кого — дружками, подружками. А каша между делом сварилась и загустела уже; вдова идти собирается. С этими вроде все в порядке, Марику с Ферко связала она накрепко. И все же чувствует, рано пока в трубы трубить: надо еще довести дело до свадьбы.
Идет вдова домой, по пути заглядывает к Жирным Тотам. А дома у нее веселье; Пирошка прялку давно уже в угол отставила, еще когда Ферко попрощался и ушел. Парни совсем разошлись, играют с девкой, как кошка с мышью. Поначалу-то лишь щипали, а потом Косорукий Бикаи вдруг схватил ее и начал в губы, в лицо, в шею целовать безо всякой жалости. Где поцелует, там белое пятно остается, чтобы потом заполыхать огненным цветом. Задыхается Пирошка, вырывается у него из рук, тут подхватывает ее Тарцали и тоже целует без зазрения совести. Жарко в горнице, печка предательски обдает теплом, горячит тело…
Кто знает, чем бы все это кончилось: оба парня совсем распалились, все больше хотят видеть, все больше хотят на вкус попробовать. Да и Пирошка все слабей сопротивляется. Она и смеяться уже не в силах — лишь постанывает, будто горлица на ветке. Но тут вдруг шаги слышатся за окном; парни испуганно отскакивают от Пирошки. Один рядом на стул садится, другой — совсем далеко, под зеркалом. Пирошка с трясущимися руками, с губами побелевшими тянется за прялкой и все не может ее ухватить, промахивается. Едва успевает прижать ее коленями да взять веретено, как открывается дверь и входит Красный Гоз.
Встав у порога, оглядывается, принюхивается.
— Что это вы здесь делаете? — спрашивает, а сам уже хохочет.
— Что нам делать? Разговариваем, — разводит руками Тарцали. Пирошка помалкивает, сидит скромно, тянется губами к сбившейся кудели, как жеребенок к клочку сена. Искоса на Красного Гоза поглядывает: что за высокий, пригожий парень.
— Вижу, вижу… меня не обманете, — хохочет Красный Гоз.
Приуныли парни, как провинившиеся собаки; огонь, который только что жег их изнутри, съежился и угас. Будто виделся им сладкий, волнующий сон, и вот проснулись в поту, и пот, остывая, течет по спине ледяными струйками. Из ладоней уходит постепенно тепло податливого девичьего тела, и нет такой силы, которая могла бы его задержать, сохранить. Совсем плохо, неуютно чувствуют себя Тарцали и Косорукий Бикаи.
— Ну ладно, ладно, я ведь тоже был молодым, — посмеивается Красный Гоз усаживаясь. Не дожидается, пока его сесть пригласят. Два его приятеля, не выдержав больше, уходят. Красный Гоз вдвоем с Пирошкой остается.
Он не новичок в этом доме, не раз бывал на посиделках.
— Мать-то где? — спрашивает у Пирошки.
Та как раз откусывает узелок с кудели, прячась за ней, словно заяц за кустом. А глаз не сводит с парня.
— Не знаю, ушла куда-то. Скоро придет, наверно.
Смотрит Красный Гоз на девку и чувствует, как жалость растет в груди. Каждый парень норовит как-нибудь попользоваться ее молодостью. Кто поцелует, кто хоть ущипнет. Правда, ее от этого не убудет — только все равно что-то пропадает, теряется безвозвратно, так молодая слива после бури теряет свою нетронутую свежесть.
— И много тебе прясть, Пирошка?
— Хватает. Недавно кудели навязала, так что есть еще.
Странно чувствует себя Красный Гоз. Будто что плохое он нынче сделал, без причины кого-то обидел. И теперь каждым словом, каждой мыслью оправдаться старается, хочет быть ласковым со всеми; небывалую ощущает в себе доброту. По первой просьбе готов все отдать, что у него есть. Что-то хорошее сделать, хоть словом человека одарить. Голос у него и всегда-то теплый, вкрадчивый, так и гладит сердца — особенно девичьи; сейчас он наклоняется к Пирошке близко и говорит:
— Грех такими красивыми зубками грязную кудель откусывать.
Зубы у Пирошки и в самом деле белые, мелкие, как у мышки. Блеснув глазами, удивленно смотрит она на парня.
— А что же делать? По-другому прясть нельзя.
Что правда, то правда. Но доброта захлестывает сердце Красного Гоза, просится наружу.
— Вот потому и жалко, очень жалко. Да это бы еще куда ни шло, но вот губы у тебя очень хороши, так и радуются, будто помидоры под теплым дождичком. Губы твои еще больше жаль. Разве нельзя прясть по-другому, на колесной прялке например?
— О, на колесной прялке ведь только коноплю прядут. Кудель нельзя.
— Ну, тогда… на машине какой-нибудь. Правда, таких машин нету, наверно, но когда-нибудь сделают их, и тогда не придется девкам нежные губы о кудель портить. И пыль от кудели не будет садиться на щечки, и вообще такое время настанет, когда девки будут просто девками, молодыми и все до одной красивыми. А до тех пор надо издать закон и на площадях объявить, чтобы девки не пряли кудель, а пряли бы только коноплю расчесанную. Потому что конопля теплая и мягкая, она девкам подходит. И светлая чаще всего конопля, шелковистая. Вот как взгляд твой, Пирошка… Покажи-ка руку, — и тянется к ее руке, в которой она держит веретено.
Пирошка молча дает ему руку, и Красный Гоз перебирает ее пальцы.
— Ну, видишь, и пальцы грубеют от этой кудели. Коноплю надо тебе прясть, Пирошка, на колесной прялке. А кудель пусть старухи прядут.
— О, ведь… — и ничего больше не может вымолвить Пирошка. Нечего ей возразить. Да она и не понимает почти, что говорит ей Красный Гоз. Лишь теплота его слов доходит до нее; словно был он раньше далеко-далеко от нее, а теперь, рассыпая ласковые слова, подходит все ближе и ближе. Так бывает, когда стоишь у открытого окна, слушая далекую песню, и она обволакивает тебя, обнимает, укачивает.
Ни один парень еще не говорил с ней так. Ни Тарцали, ни Косорукий Бикаи, ни другие. Приходили, жадными глазами смотрели то на нее, то на мать, шептали ей стыдные слова, а то вдруг распалялись и любой ценой хотели ее целовать, и целовали, как только представлялся случай. А Красный Гоз сидит спокойно, руками никуда не лезет и так уважительно разговаривает, будто и не с ней, не с Пирошкой, а со священником. Счастливая будет девка, которой этот парень в мужья достанется…
Пирошка прислушивается к себе, к своему сердцу и чувствует какую-то незнакомую, сладкую и тревожную грусть. Ах, если бы ей достался этот парень. Тогда бы каждый день слышала она его голос, смотрела бы ему в глаза, сидела бы рядом с ним, вот как сейчас. И где это написано, в какой книге, что девка должна выходить не за того, кого любит? Она вот Красного Гоза любит и за него хочет замуж…
— Когда собираетесь к Илонке Киш свататься, а, Йошка? — спрашивает она, а сама надеется: вдруг свершится чудо, вдруг ответит Йошка, мол, с чего она взяла, и не собирается он к Илонке свататься.
— К Илонке-то?.. Да я еще сам не знаю… — грустнеет Красный Гоз. На лицо словно черная туча набегает. И зрачки сужаются, становятся острыми, как у птицы.
Пирошка в смущении ерзает на стуле, испуганно одергивает юбку, которая зацепилась было за прялку. Чувствует она, этот парень не такой, как все. Мучительно думает, есть ли в ней что-нибудь такое, чем бы могла она привлечь, приблизить его к себе. Хочется ей говорить о чем-то хорошем и так же хорошо, как он, да не умеет она так.
— Если кто любит кого-то… тогда все хорошо будет, — шепчет она. — А если не любит…
— Вот-вот, Пирошка, в этом все дело, — с жаром перебивает ее Красный Гоз, словно она ему глаза открыла. — Но бывает так, что запутаешься весь, как муха в паутине, и выхода не видишь. И тут думай не думай, рвись не рвись — все напрасно, потому что живому человеку, кроме любви, еще и хлеб нужен, и одежда, и курево. А потом… — говорит и говорит Йошка. Будто для того и пришел, чтобы выговориться, чтобы девке этой все выложить, что на сердце накипело. А ведь то, за чем он пришел сюда, в нескольких словах сказать можно.
Но вкус живой речи пьянит его, как вино, не дает остановиться. Долго он еще говорил бы, если бы не вернулась наконец домой мать Пирошки. Удивилась вдова, когда вошла в горницу. На дочь глянула подозрительно — еще бы, у этого парня отчаянная слава. В прошлом году ходили слухи, будто у него что-то с воспитательницей из яслей было. Правда, только раз видели, как на рассвете выпрыгнул он из ее окна, да разве этого мало? Размышляя над этим, снимает она с плеч шубейку.
— Каким ветром к нам, Йошка?
— Не ветер виноват… кое-что другое… — потягивается он, сидя на стуле.
— Редко к нам заглядываешь.
— Так уж и редко. Всего две недели назад был.
— Верно, верно. А с тех пор ни разу. Не любишь ты нас, Йошка. Конечно, мы люди бедные, веселье у нас не бог весть какое.
— Бедные? Черти — бедные, у них души нет. А нынче я по делу пришел, хочу с тетей Пашкуй с глазу на глаз потолковать.
Стоит вдова, размышляет: что бы это значило? Пирошка тоже уши навострила, торопливей стала прясть. Отпустит, потянет, опять соберет. Опять отпустит, опять потянет, опять соберет. Крутится веретено, жужжит, подпрыгивает без устали.
— Пойдем-ка в пристройку, — хотела было вдова за руку Красного Гоза взять, да передумала. Идет к двери, парень за ней.
В пристройке занавески, как всегда, задернуты; да и дело уж к вечеру, смеркается на дворе. Красный Гоз почти не видит вдову: только лицо ее да глаза. И, наклонившись к ней, говорит доверчиво, будто матери родной:
— Вы уж помогите мне, тетя Пашкуй…
— Ишь ты. Чем же я тебе помогу?
— Ну… знаете, наверное, что я с Марикой Юхош ходил целый год?
— Знаю, как не знать. Только…
— Только разум у меня бог отнял, ну и бросил я ее.
— А теперь вернуться хочешь, так что ли?
— Хочу ли! Господи… и высказать не могу, как хочу. Нынче три раза уже мимо ворот их ходил, а ее так и не увидел. И ни матери ее не видел, ни отца. А зайти самому, просто так, тоже вроде нельзя. Вот я и подумал… Тетя Пашкуй, вы мне вроде как родственница, ну и… никогда мы друг другу плохого не делали. Думаю, зайду к вам, попрошу к Юхошам сходить. Сходите, а?
— Сходить-то можно… Только вы меня потом не ругайте, коли друг другом недовольны будете.
— Эх, это мы-то друг другом… — Йошка чуть не задохнулся от боли душевной.
Возвращаются в горницу. Все гуще вечерняя мгла на дворе, все темнее в хате. Пирошка, щурясь, прядет торопливо. Сейчас кажется она совсем черной — только зубы да белки глаз поблескивают в полумраке. Словно терновый куст, в котором застряло несколько белых птичьих перьев. Красный Гоз прощается с Пирошкой; та смотрит, как он задерживает в своей руке руку матери, говорит просительно:
— Когда мне за ответом-то прийти, тетя Пашкуй?
— Когда? Погоди-ка… — Вдова делает вид, будто напряженно думает. — Что у нас завтра, среда, что ли? С утра схожу к Юхошам, к обеду вернусь… так что к вечеру приходи, а там видно будет.
— Большое вам спасибо, тетушка Пашкуй… — двумя руками стискивает он ее руку.
Уходит Красный Гоз — и такой пустой становится сразу хата. Вдова подходит к печи, угли помешивает. Темно в горнице, только на коленях у Пирошки еще шевелятся последние отблески дневного света.
— Мама…
— Ну?
— Что будете варить?
— У нас еще два яйца есть, замешаю теста немного, лапши сделаю.
— Мама, хочу я вам сказать что-то…
— Ну говори.
— Мне… замуж хочется за Красного Гоза…
— Хм. Губа у тебя не дура, слышь-ка. А что, он говорил что-нибудь? — Вдова даже не видит, что зола у нее на пол сыплется.
— И говорил, и нет… Думаю, он больше бы сказал, если б вы не пришли…
— Ну, когда бы я знала… Только, Пирошка, с такими парнями, как Красный Гоз, надо ухо востро держать. Они ведь говорят одно, а сами совсем о другом думают. Меня-то он знаешь о чем просил? Чтобы я его с Марикой Юхош помирила. Видишь, каков он?
— О…
— Ну да, сегодня то, завтра другое. А вообще, конечно, кто знает… В конце концов, у тебя тоже есть хата да полклина земли. Куда только эти парни смотрят? — задумчиво говорит она, глядя на дочь. Потом, чиркнув по плите спичкой, печь растапливает. Приносит в корзине немного картошки, начинает чистить.
— Мама, вы сказали, лапшу будете готовить.
— Сказала… да передумала. Завтра на другое понадобятся яйца.
Красный Гоз придет завтра за ответом. Не мешает испечь что-нибудь: сладких пирожков или калач сдобный. Для калача, правда, много яиц потребуется… ну, ничего, завтра, глядишь, курица снесется, а то и две или три. А чтобы с Марикой ничего у Гоза не вышло, об этом уж она позаботится. Много парней и девок она поженила, так неужто не хватит всей ее науки, когда счастье собственной дочери устроить нужно.
Однако наука наукой, а если с влюбленными имеешь дело, то и наука может отказать.
На следующее же утро отправилась вдова к Юхошам. Марику она еще во дворе поймала.
— Слышь-ка, дитятко мое, что болтает этот проклятый Красный Гоз по деревне?
— А меня это не интересует, — с гордым видом говорит Марика; самой же так хочется узнать, что говорил Красный Гоз, прямо невмочь.
— Ну и правильно, коли не интересует. Только все ж таки я тебе скажу. Правду знать, оно никогда не мешает. Значит, говорит Красный Гоз… мол, пусть она хоть позеленеет с досады, все равно мне не нужна.
— Не нужна…
— Ну да. А еще говорит, дескать… куда ей с таким-то рылом да под венец.
Что-то шепчет Марика бескровными губами, а что — не может вдова разобрать. Еле улавливает лишь несколько слов:
— Пусть же господь накажет Йошку Гоза за эти слова… — И странное дело, не плачет, не кричит, а лишь вздыхает тяжко, прерывисто и гордо поднимает голову.
Ну вот. Это вдова Пашкуй по всем правилам сделала, здесь осечки не будет. Таких оскорблений Марика не забудет по гроб жизни. Правда, впереди еще самое трудное — Красного Гоза в божий вид привести.
К вечеру, точно в назначенное время, Красный Гоз появляется в доме у вдовы.
На столе сдобный домашний калач лежит на блюде, источая вкусный аромат; Пирошка порезала его на ровные, аккуратные кусочки. Вдова сидит за столом, под лампой, читает. Перед ней толстая книга — старый переплетенный том Семейной библиотеки. Есть там один роман, про английского рыцаря да про девицу, или как ее… про леди; называется роман «Семь лет за один поцелуй». Его-то и читает вдова с несказанным наслаждением. Еще бы. Целых семь лет таскался английский рыцарь по белу свету, все искал ту леди. И нашел ее наконец в дремучем лесу, где несчастная лежала без сознания, страдая от всяких превратностей жестокой судьбы; но и в забытьи была она чистой и девственной, как тропическая роса на листьях папоротников. Ну вот, лежит леди на траве, рыцарь пытается вздохами в чувство ее привести, а кругом, шурша листвой, бродят всякие леопарды, тигры, пантеры. В сердце у английского рыцаря, как водится, пылает безумная страсть — но не тут-то было. Не смеет он похитить невинность прекрасных губ юной леди. Вот какие вещи читает вдова Пашкуй, когда Красный Гоз входит в горницу.
Красный Гоз нынче как-то особенно свеж, да и одет чисто, не по-будничному. «Целую ручки», — говорит с порога; сразу видно, что ему и с господами случалось разговаривать. Держится почтительно; оно и немудрено: ведь от вдовы теперь его счастье зависит. Чувствует, здесь осторожно, без спешки надо действовать, чтобы чего-нибудь не испортить.
— Добро пожаловать, Йожи, Присаживайся. Пирошка, стул давай гостю, — и, все еще глядя в книгу, вдова медленно закрывает ее. Леди, леопарды, поцелуи смешиваются в кучу и улетучиваются — будто грелись себе беззаботно на солнышке и вдруг выстрел грянул над самым их ухом.
— Спасибо… — садится Йошка. Такой он нынче смирный да учтивый, что Пирошке жалко его становится; хочется подойти, погладить парня по голове. — Как поживаете, тетушка Пашкуй?
— Живем… как бог даст. Да ведь ты не затем пришел, чтоб узнать, как мы живем, а?
Йошка только посмеивается смущенно.
— Понимаю, — говорит вдова, — я все понимаю. Одним словом, жаль мне тебя, Йожи. Думаю, забыть тебе придется о Марике.
— Сказала она что-нибудь?
— Сказала, как не сказать. Плохого, правда, не сказала, грех на душу не буду брать. Нет, говорит, и нет. Не создал господь нас друг для друга. Очень уж мил ей Ференц Тот, ни за что не согласна бросить его, сердце, говорит, не позволит.
— Ага. Значит… вот как… — будто чувствуя в груди острие ножа, томится Красный Гоз.
— И вот что еще. Она этого, правда, не говорила, это я так думаю… что если б было у тебя что-нибудь за душой, то и она бы, может, решила по-иному.
— Есть ведь у меня дом.
— Зато вас, братьев-то, четверо.
— Четверо, это точно. Стало быть, верно, нет у меня ничего. Но скажите, тетя Пашкуй, бог разве не ко всем одинаково щедр? — с мольбой поворачивается Красный Гоз к вдове.
— Бог-то, он, конечно, ко всем щедр, вот только, скажем так — очень уж далеко он от нас. Да ты не горюй, Йожи. Бог-то бог, да сам не будь плох. Так ведь говорится? — и делает знак Пирошке. Та берет блюдо с калачом, подходит к Красному Гозу, становится совсем близко к нему.
— Кушайте, Йожи, пожалуйста, — говорит она потупясь.
Красный Гоз, наверное, и не заметил, как взял с блюда первый кусок; лишь почувствовав во рту его вкус, сообразил, что за переживаниями нынче совсем еще не ел. Голод вдруг так схватил ему желудок, что в глазах помутнело, а калач показался невероятной вкусноты. Ест Йошка и сам себя стыдится: как можно так сильно хотеть есть, когда тебя милая бросила?
«Милая моя, сердце мое», — беззвучно вскипают в нем, как рыдания, жалостные слова, пока он один за другим берет и берет с блюда мягкие, душистые куски. Пирошка стоит рядом с ним и так сильно его жалеет, что, не выдержав, вдруг всхлипывает громко. Несколько слезинок падает на калач, словно дождинки на песок. «Хорошая моя, единственная». — И Йошка снова кладет в рот кусок. Эх, еще один, вот этот… Пирошка затихает, робко стоит рядом, боясь шевельнуться — как пичуга, накрытая шапкой. А Красный Гоз все ест и ест. Вдова смотрит во все глаза, как пустеет блюдо, — ну и дела, прямо скандал. «Ешь, ешь, собачья твоя душа», — тоскует Красный Гоз и ест яростно, словно едой пытается заглушить сердечную муку. Блюдо почти опустело; тут Йошка сконфуженно оглядывается, берет Пирошку за руку и легонько отталкивает от себя. «Спасибо, Пирошка», — говорит ей и, неловко усмехаясь, крошки стряхивает с колен.
Вдова ведет разговор, рассказывает о том, о сем — но с заминками, не так бойко да уверенно, как обычно. Время идет, сквозь занавески просачивается в горницу вечер; Красный Гоз сидит притихший, помалкивает да курит. Слова слетают с губ вдовы округлые, бархатистые; вот начинает она рассказывать историю про леди и рыцаря. Гладко рассказывает, складно. Только с дикими зверями не все в порядке, потому что вместо леопардов говорит она «леопарты». Красный Гоз сидит, словно замер; но чувствует: шевельни пальцем, и сразу бешеными собаками набросятся воспоминания о потерянной навеки любимой, будут рвать, терзать ему душу.
«Милая, милая моя, радость моя…» — шепчет он про себя слова, которых никогда ни сам не говорил, ни от других не слыхал, разве что от Марцихази, почтмейстера. Тот, бывало, много рассказывал ему о звездах, о древних мадьярах, о женщинах. Теперь бы Йошке что-то такое придумать, что-то особенное, свое, чтоб горе выразить, да в голову приходят все такие слова, что никак не высказать вслух. Вот и повторяет он их про себя — так неверующий, попав в беду, тайком от людей бормочет молитву, прося помощи у бога.
Лишь теперь, потеряв Марику, понимает Йошка, как сильно любит он ее.
И вдруг веселеет: да ведь не все же еще потеряно. Зачем доверять свое счастье чужим людям! У него тоже язык есть. И ноги. Сам пойдет к Марике, коли так.
На худой конец, выгонит его Марика. Но ведь не съест же…
Странные пошли времена. И раньше Марика завидной девкой была, в этом ей не откажешь. Но с тех пор, как разнесся слух, что выходит она замуж за Ферко Жирного Тота, словно в десять раз цена ее выросла. Сегодня среда; говорят в деревне, что в четверг сваты придут от Ферко; и вот в последний момент многим парням захотелось счастья попытать. После обеда две бабы пришли — просто так, поговорить. Мимо, говорят, шли, ну и заглянули на минутку.
Одну из них Тарцали послал, другую — Шандор Макра.
Насквозь видит Марика эти хитрости. Смотри-ка, она прямо нарасхват стала. Будто раньше никому в голову не приходило, что она не за всех, а лишь за одного может замуж выйти. Так о чем все они думали, пока она в девках гуляла?.. Однако в то же время приятно Марике, что вон сколько парней хотят ее за себя взять, что бы там ни говорил этот подлый Гоз… Только все равно не обманет она Ферко, бедняжку.
Он самый лучший в целом свете.
Ушли бабы ни с чем, а в сумерки, как лампу зажигать, явился Косорукий Бикаи.
— Дядя Михай, пойдете завтра к господину Бернату лед рубить?
— Лед рубить? Да ведь лед нынче подтаял, мягкий стал, — удивляется старый Юхош.
— Оно верно… вот и я это самое господину Бернату сказал, — изворачивается Косорукий Бикаи, а сам все у печки толчется, не уходит. Сесть зовут — не садится. Должно быть, и этот чего-то хочет. Наконец говорит Марике:
— Слышь-ка, Марика, ты хорошо это дело обдумала?
— Какое дело? — смотрит на него Марика удивленно.
— Ну… что завтра сватать тебя будут.
— А это, приятель, не твоя забота, — отвечает Марика.
Уходит Косорукий Бикаи; не успел он за угол свернуть, а уж перед домом снова шаги слышатся, снова открывается дверь, и входит Красный Гоз.
Вот уж кого не ждали к себе Юхоши… А пуще всех удивлена, конечно, Марика.
— Добрый вечер, — говорит Красный Гоз, и странно, что голос его звучит в хате глухо, будто в погребе.
— Вечер добрый, — отвечают с разных сторон, но отвечают с таким видом, будто кислое яблоко раскусили. И, будто и нет его в хате, продолжают кто чем заниматься.
Марика за дверцу шкафа уходит; шуршит одежда, локоть задевает за дверцу. Красный Гоз стоит у порога, молчит; молчат и хозяева. Отец трубку сосет на припечке, мать рогожку на станке плетет. Мишка вертушку мастерит — бог знает какую уже по счету… Хорошо бы сесть незаметно, где-нибудь в уголке, и дождаться, когда сами раскроются в улыбке губы, теплом наполнятся глаза. Раза три собирается с духом Красный Гоз, чтобы сказать что-то очень хорошее, очень нужное. Да не успевает: Марика выходит из-за дверцы, красивая, нарядная, за шубейку берется.
— Ты куда, Марика? — со стесненным сердцем спрашивает Йошка.
— По нужде, — говорит Марика насмешливо, ненавидяще и выходит из хаты.
Огонек в лампе метнулся испуганно, когда захлопнулась за Марикой дверь. Слышит Красный Гоз удаляющиеся шаги, и будто сердце его стучит им в такт, стучит все тише, все безнадежней. Хозяева, кажется, еще спрашивают его о чем-то — о чем, так и не понял Йошка. Не запомнил он и того, как оказался на улице.
Резкий студеный ветер дует вдоль деревни, грязь на дороге уже застыла неровными бороздами. С пушечным громом лопнул лед на реке; гул и треск поднимаются по руслу все дальше, к самому Харшаню. Желтый месяц запутался в голых черных ветвях акации. Куда теперь, к кому?
Может, к Илонке податься, посидеть в тепле, послушать старого Киша, который так складно умеет рассказывать сказки? Или к вдове Пашкуй, в ласковую, светлую ее хату, всегда чистую, как хорошо промытый и насухо вытертый стакан? Надо к кому-то идти, к кому-то душой прислониться, чтоб забыть, заглушить тоску и боль.
Старый Киш и в самом деле сидит на скамье против печки, подбрасывая в огонь сухие кукурузные кочерыжки. Вода кипит в казане, пар оседает на крышке, капли падают шипя на плиту; старик то и дело клюет носом, а Илонка, будто с тайным умыслом, нарочно к приходу Красного Гоза подгадав, раскладывает на столе какие-то хитрые девичьи одежки, которые парням даже и видеть не полагается. На руке у нее колечко блестит и наперсток. На самой Илонке красная цветастая кофта с короткими, до локтей, рукавами, а ниже локтей рука прячется в широких кружевных складках. Белое кружево и яркий свет лампы красиво оттеняют ее кожу. Да, здесь не какая-то тусклая лампа светит, а большая, висячая. Знает Илонка, чем привлечь сердце холостого парня.
И встречают Красного Гоза, будто давнего и постоянного гостя, хотя приходит он сюда всего лишь третий или четвертый раз. Илонка, сделав вид, будто сконфузилась до смерти, бросается к своему бельишку и, смеясь, хватает его в охапку. Прикрыв руками, к шкафу несет, запихивает в самый низ. Потом, усадив Красного Гоза возле кровати, сама то и дело тянется на кровать за чем-нибудь, грудью чуть не касаясь его лица. Сидит Илонка, одну ногу отставив назад, обхватив рукой спинку стула, шепчет на ухо парню какие-то ничего не значащие вещи с таким видом, будто величайшие тайны поверяет.
— Выпьешь чаю? — шепчет, например. — Очень хороший чай, недавно мне дали.
— Кто дал?
— Господин Бернат…
Что ж, выпьет, почему не выпить. В одном доме калачом накормили, здесь чаем напоят… До чего дошло: Красный Гоз в нахлебники попал…
Чай, однако, в самом деле отличный, или Красному Гозу так кажется. Ром, что Илонка в чашку ему подливает, красен, как кровь. Стоит Илонка у стола, над чашками колдует; пар, поднимаясь, окутывает ее, словно гладит. И чувствует Красный Гоз, как что-то до этого момента стиснутое, стянутое освобождается в нем и куда-то плывет, катится быстрее и быстрее. Так ствол дерева катится по склону горы; так телега мчится вниз по крутой дороге, все увеличивая скорость, подпрыгивая вслепую. Становится ему легко и весело, как никогда еще, пожалуй, не было. И — гулять так гулять — вместе с чашкой, которую подает ему Илонка, потихоньку берет он и пожимает ее пальцы.
Старому Кишу дочь, видно, тоже рому не пожалела: через пять минут он уже храпит на своем топчане, как сурок. А Красный Гоз тем временем играет с Илонкой, тискает ее безжалостно, будто назло кому-то. Будто доказать хочет, что есть на свете и другие девки, не только та гордячка. Что из другой тоже может хорошая жена получиться, которая будет мужа любить и почитать, как полагается.
Илонка и поддается ему, и не поддается — не знает, как ей лучше поступить, чтобы парня к себе привязать. Мало позволишь — плохо, много позволишь — тоже плохо… Вот и бьется, как лист на ветру…
— Ах, господи, господи, ты еще подумаешь, что я такая, как вдова Пашкуй…
— А вдова Пашкуй — какая?
— Ну, такая… скверная…
Конечно, есть и такое на свете, кто ж этого не знает; Красный Гоз чувствует вдруг, что его колени будто слились, срослись с коленями Илонки. Не понять, где его ноги, а где — ее: лишь что-то сплошное, жаркое, и невесомое, и тяжелое сразу. В ладонях зудящие, беспокойные ощущения ложатся друг на друга, как листы книги, — и все листы прожигает горячее Илонкино тело.
— А я и не знал, что она… скверная…
— Зато я знаю. Она и теперь вот знаешь что задумала? Свою сиволапую дочку за тебя выдать. Ну отпусти же меня, ей-богу… — А сама не очень-то вырывается, только юбку поправляет.
Красному Гозу кажется, что потолок рушится ему на голову.
— Ага… значит, за меня дочку выдать… — И девка, что сидит у него на коленях, уже не радость, а докучный груз, тяжелый и неудобный, как мешок с солью. Он сталкивает ее, встает и начинает ходить по горнице.
Выпитый чай сделал голову ясной и чистой; кажется, нет такого вопроса, который он не смог бы теперь решить.
Ах, как легко обвела его вокруг пальца эта баба. Господи. То-то все про нее говорят; дескать, она такая, она сякая. Теперь вот кусай себе локоть…
Ну, тетка Пашкуй, даром это тебе не пройдет.
— Я пошел. Завтра вечером приду опять. — Красный Гоз надевает полушубок, решительными движениями застегивается на все пуговицы.
— Завтра… да ведь завтра четверг, — говорит испуганно Илонка.
— Знаю, что четверг. Послезавтра пятница, за ней суббота. А помолвку на будущей неделе в четверг устроим. Ну, я пойду.
Илонка за платок хватается — проводить. В сенях останавливается, попрощаться в темноте, как заведено. Но нынче у Красного Гоза и в мыслях нет стоять да обниматься. Сапоги его уже у калитки стучат по мерзлой, застывшей грязи.
В десять часов вечера в хате вдовы Пашкуй еще светло: Пирошка прядет, мать читает. Но вот дочь зевает широко и, поставив прялку в угол, за дверь, берет с плиты остатки обеда, жует лениво. Потом стелет постель, укладывается и, сонно моргая, слушает, как мать читает вслух. К романам вдова пристрастилась за десять лет одинокой своей, безмужней жизни. Читает — и лицо ее то светлеет, то тревожным становится, смотря по тому, как складывается судьба влюбленного рыцаря и прекрасной леди. Те наконец соединяются друг с другом и теперь стоят на морском берегу, ждут корабль, который увезет их к заслуженному счастью. И на этом месте вдова закрывает книгу, чтоб приятные впечатления унести с собой на покой.
Кладет поближе к кровати спички, задувает лампу. И через минуту уже спит крепким сном. Но удивительное дело: приключения английского рыцаря и благородной леди и во сне не оставляют вдову. Снится ей, что леди и рыцарь потерпели кораблекрушение и теперь, несомые волнами, плавают в бурном море. Плавают они на обломке мачты, леди — на одном конце, рыцарь — на другом. Вместо флага на шесте развевается сорочка леди, та самая сорочка, которую еще не видел глаз мужчины. Ветер треплет, солнце жжет, соленая вода разъедает эту дивную сорочку. А на самой леди ничего нет, кроме бальной накидки, да и та одним краем под живот подложена, чтобы не так жестко и скользко было лежать на бревне, через которое то и дело перекатываются морские волны. В сердце рыцаря пылают рыцарские чувства, и он зажмуривает глаза, чтобы не смущать леди. И тут вдова видит, что это она сама держится за обломок мачты, а ноги ее в воде бултыхаются. Вода теплая, ласковая, и в ней, словно в минеральной воде «Игманди», поднимаются мелкие шипучие пузырьки… Глупый, бредовый, томящий сон… И в этот момент раздается стук в окно.
— Кто там? — спрашивает вдова, поднимая с подушки голову и откидывая ногой перину.
— Я это, Йошка Гоз. Ну, Красный Гоз, не узнаете, что ли? Откройте.
Вспыхивает спичка; трепещущий огонек быстро успокаивается в лампе. Вдова спускает ноги с кровати, сует их в домашние туфли. Наспех закрутив распущенные волосы в узел, выходит в сени и отодвигает засов.
— Ты что, Йошка? Чего ночью колобродишь? — со сна даже удивляться не может вдова.
— Я? В общем… На минуточку можно вас, тетя Пашкуй? — и первым идет в пристройку.
Готовился Красный Гоз к мести, сполна готовился спросить с разлучницы. И вот эта заспанная, теплая баба совсем сбила его с панталыку, перепутала и без того запутанные чувства. Едва закрыв за собой дверь, обнял он вдову и прижался лицом к ее груди…
Пирошка, лежа в постели, смотрит на горящую лампу, смотрит и удивляется; кажется ей, что она не засыпала еще, а как легла, так и не отрывала от лампы глаз. Фитиль потрескивает, коптит; ходики на стене стучат все громче и громче. Словно крупа, сыплются на землю секунды. Качнется маятник влево — влево сыплются, качнется вправо — сыплются вправо; еще немного — и заскребется за циферблатом, запросится наружу голенький час, а за ним и другие…
5
Ферко Жирный Тот — парень в общем нормальный, если на него издали смотреть. Но кто с ним близко знаком, знает, что есть у него странные причуды. Ну скажем, давно уже в деревне ни один парень усы не фабрит, кроме Ферко. И фабру он заказывает по календарю, но не по нынешнему и не по прошлогоднему, а по какому-то допотопному. Аптекарь, который эту фабру делал, давно уж помер, наверное, и продает ее сын его или, может, вдова, не все ли равно. Ростом Ферко невелик, лицом худощав; еще и тридцати ему нет, а надо лбом пролысины чуть не до макушки. К тому же голова у него вверху, у темечка, считай, втрое у́же, чем возле ушей.
Усы и волосы у Ферко светлые, белобрысые; усевшись, он мелко, часто тянет носом, а руками в это время обирает со штанов и пиджака, всякие соринки и пушинки. Потому что одежда у него всегда такая, будто он прямо в ней и спал.
Есть у Ферко еще одна причуда: до смерти боится микробов. Когда-то давным-давно вычитал он в кооперативном календаре, что микробы — это такие твари, ужасно вредные, которые прилипают на дверные ручки, на стулья и столы; с тех пор, когда только можно, он все время руки моет. Перед едой моет, после еды, а сверх того, несколько раз во время работы. На этих микробах он вроде как немного свихнулся. От частого мытья руки у Ферко все время мокрые, и ветер и холод так разъедают кожу, что становится она похожей на сосновую кору, да к тому же кровоточит часто.
Если Ферко с кем-нибудь за руку здоровается, то свою руку подает, будто тряпку; не поймешь, сил у него нет или попросту характер такой гордый.
Еще он все время с портянками своими возится, расстилает их, где только можно, просушивает, потому что ноги у него в сапогах всегда в поту плавают. Одним словом, можно понять, почему он до сих пор жениться не сумел.
Ну, теперь-то уж он женится. А женитьба, известно, человека может так изменить, что он и на себя станет непохож.
Четверг, утро. Уже отзвонили к службе, восемь часов. Ферко с наусниками топчется по дому, на веранду выходит, заглядывает в хлев. Места себе не находит. Еще бы: большой день сегодня. Сегодня у него помолвка с Марикой.
Уж до того радешенек Ферко, что Марика женой его будет, — ну просто не умещается в нем эта радость. Умом не может он этого себе представить; чувствует только, что думать об этом — уже несказанное счастье.
Пробует он вспомнить, собрать все, что знает, слышал о Марике; смех ее, и как они летом вместе жали, молотили, и как кофта ее была от пота мокрой под мышками. Как однажды ежевика ногу ей оцарапала… или как ветер закрутил подол платья… Только-то всего и осталось в голове у Ферко; потому что казалась Марика такой далекой, недоступной, что он лишний раз и взглянуть на нее не смел. И вот теперь она станет его женой… Уж скорей бы пришла Пашкуиха, а потом сваты…
Раз вдова Пашкуй ему тетка и, вообще, посредницей была между ним и Марикой, то она же будет теперь свахой. Ох, только бы уж пришла она, что ли, поскорее…
А вдова уже в пути. Правда, пока еще по Зеленой улице выступает.
На плечах у вдовы меховая шубейка, из-под нее коричневая праздничная юбка виднеется, на ногах — черные суконные ботинки, по краям кожей обшитые. Идет вдова — и тревожно по сторонам озирается, словно боясь, что подглядывают за ней.
— Ах, дьявол тебя забери, — шепчет она про себя, — дьявол тебя забери… — И ничего не может с собой поделать: хочется ей смеяться так, чтобы вся улица слышала. — Ну и шутку сотворил со мной Красный Гоз, разбойник… — но это она далее шептать не смеет и даже думает как бы вполголоса — слова эти будто где-то глубоко в груди копошатся. Глаза у вдовы блестят, будто на десяток лет моложе стала. Что там Ферко, Марика, сватовство — совсем не до того сейчас вдове. И не голова ведет ее сейчас к Жирным Тотам, а ноги сами несут. Вот ведь какие дела: читала, читала романы про всяких рыцарей и леди, а тут судьба взяла да и устроила ей собственный роман.
Зато уж этот роман — всем романам роман. Где, в какой книге найдется рыцарь, который пришел бы вот так, обнял — и голова бы пошла кругом, и стало бы не до женской гордости. В романах такого рыцаря не сыщешь. Жаль, нельзя рассказать об этом всей деревне. Ох, если б не было у нее взрослой дочери; замуж та, что ли, вышла бы… Ну ничего, выдаст она ее замуж.
Заходит вдова к Жирным Тотам, открывает дверь — и, морщась, нос платком зажимает. В лицо бьет тяжелый запах прогорклого жира. Входит в сени — мать Ферко выскребает там старый бидон.
— Что это вы делаете? — спрашивает ее вдова (жена Габора Тота ей вроде как старшей золовкой приходится).
— Вот бидон с жиром кончился, я и думаю…
— Господь с вами, милая, нашли когда бидон чистить. Сватов-то есть чем угощать?
— Как не быть. Пирогов я напекла, ну и…
— Так уберите подальше эту вонючую посудину да на стол накрывайте. В девять сваты придут.
Мать, потеряв голову, торопливо лезет с бидоном на чердак, а вдова в жилую комнату проходит.
В комнате Ферко перед зеркалом стоит, мажет голову мылом, чтобы волосы пролысину закрыли. Геза возится с какой-то пряжкой от ремня; старый Тот кукурузу лущит на скамье.
— Э, да вы еще совсем не готовы? А кто же будет сватов принимать? Печка-то у вас хоть затоплена?
Ферко оборачивается, кричит во всю мочь:
— Мамаша!
Мать бежит, несет в переднике кукурузные кочерыжки.
В чистой горнице, в углу, большая железная печка; давным-давно, лет десять назад, старый Тот купил ее на какой-то распродаже. Пожалуй, с тех пор она и не была топлена ни разу, и теперь весь дым валит в дверцу.
Через несколько минут в горнице полнехонько дыма. Мать пробует окно открыть, да ничего не выходит: окно тоже, считай, с прошлого года не открывалось. Приходится распахнуть двери, и дым льется через порог, будто полая вода. Разве что не по земле течет, а на вершок выше.
Ферко кричит, ругается, отец ворчит, двери хлопают, домочадцы суетятся. Уже почти девять, когда дым наконец начинает медленно уползать в трубу.
— Ничего, ничего, скоро здесь жарко будет, как в бане, — утешает мать скорее себя, чем других.
Но не успевает еще горница нагреться, как приходят сваты. Первый сват и второй сват. Янош Багди и Лайош Ямбор.
— Дай бог хозяевам доброго утра после приятного сна, — говорит с порога первый сват, солидно говорит, с достоинством, но добродушно и приветливо. Потому что для свата приветливость, что для солдата ружье и сабля. Пусть у него, у свата то есть, зубы болят или, скажем, лошадь пала — все равно положено ему быть веселым да добродушным целых три недели. А пройдут три недели — опять быть добродушным да веселым ровно столько же. Потому что в деревне сватом быть — что в Пеште примадонной: и трудно, и почетно.
— Благодарствуем… гости дорогие… и вам того желаем, — отвечает старый Тот, высыпая из передника кукурузу. Подобрав упавшие на пол зерна, говорит:
— Так что проходите, присаживайтесь у нас… — и делает знак Ферко. Мол, вино неси. Потому что заранее вино на стол ставить не полагается.
Ферко еще прежде заметил, где кувшин стоит, и вот уж бежит с ним в клеть. Вино у них в клети хранится. Правда, есть на дворе большой погреб, да в нем воды — чуть не до самого потолка. А в клети, в бочках, ровно тринадцать гектолитров крепкого, молодого вина. Весь потолок и стены здесь красным забрызганы, будто кто их нарочно вином кропил. Это мушт, когда бродил, пробки вышибал из бочек.
Ферко кран открывает, осторожно, чтоб ни капли не пролить, подставляет кувшин. Тащит в горницу.
А возле клети, будто случайно здесь оказался, Балинт Сапора топчется, с березовым веником возится: ждет, чтоб молодой хозяин и его угостил. Однако Ферко на него даже не смотрит, старательно запирает за собой клеть на замок.
— Как у Пегого хвост подвязан, смотри-ка, — бросает он работнику мимоходом просто потому, что ничего больше не может придумать.
В горнице сваты или шаферы — когда как их называют — уже за столом сидят. И в усах у Лайоша Ямбора уже крошки пирога.
— Эх… до чего хороши пироги у вас, хозяюшка, — говорит Ямбор и за другим пирогом тянется. А сам на кувшин косится. Где это сказано, что, коли человек сватом назначен, так ему ни есть, ни пить нельзя. Что до самого Лайоша Ямбора, так он целую неделю готовился, живот берег к помолвке да к свадьбе. Не зря ж он его берег! И теперь пироги в него проскакивают, будто снопы в молотилку в неурожайный год. А вообще Ямбор молодой еще мужик, всего года три как женился, но успел произвести на свет двоих ребятишек. Волосы у него красные, как огонь, а передних зубов нет до самых клыков, так что когда он смеется, людям кажется, будто у него одни клыки во рту. На правой щеке у Лайоша большая бородавка, лицо всегда бледное, морщинистое. Непонятно, в чем душа держится. Злые языки говорят, мол, оттого он такой тощий, что жена у него на диво толстая. Кто-то божился, что однажды летом на сто тридцать кило она потянула. Это летом было — а сколько ж в ней теперь, зимой?
Булькает вино, наливаясь в стаканы; первый сват, Янош Багди, свой стакан поднимает и держит его, задумавшись; Лайош Ямбор, который уж и выпил было, торопливо опускает руку, моргает сконфуженно.
— Славным хозяевам, Габору Тоту и супруге его на доброе здравие, — произносит Багди свою первую речь, вроде как для пробы, чтобы потом, в самую торжественную минуту, не подвел его голос.
В жилой горнице Геза окончательно пряжку наладил; осмотрев ремень, вдергивает его в штаны. Невесело слушает голоса, доносящиеся из-за дверей: степенные речи Яноша Багди, визгливый смех Ямбора. Вот Геза внимательней начинает прислушиваться. Ишь, что этот пустобрех мелет…
— Играем это мы, стало быть, в карты, играем, хё-хё… — рассказывает в горнице Лайош Ямбор, — и вот Пали Ола, свояк-то, бабу мою хвать под столом за ляжку. Свояк не свояк, а я такого дела потерпеть не могу. Открываю это я дверь и говорю ему: слышь-ка, говорю, свояк, не сердись, стало быть, а я тебя знать не желаю… — остальные слова тонут в громком хохоте. Смеется первый сват, смеются мать с отцом, Ферко, заливается сам Лайош Ямбор.
Ферко выскакивает из горницы, бежит в клеть. Быстро они управились. Снова наливает до краев; Балинт Сапора опять тут, возле клети, насаживает топор на топорище. Ферко быстро проходит мимо, но потом, подумав, останавливается.
— На, попробуй, что ли, и ты, — протягивает он Балинту вино.
Тот прочищает глотку, берет кувшин, ко рту не спеша подносит. Слышится какой-то странный звук: будто картошка по полу покатилась. И все. Одним духом втянул Балинт полтора литра.
— Н-да, хороша у тебя тяга, слышь-ка, — говорит Ферко, получая назад пустой кувшин. Возвращается снова в клеть за вином.
Балинт долго моргает, глядя вслед Ферко. Потом отшвыривает топор — тот аж гудит, летя куда-то в дальний угол, — туда же посылает и топорище. Шапку набок заламывает, идет в хлев. Ноги у Балинта за землю цепляют, коленки подламываются в такт.
Видно, в голову ему ударили эти полтора литра.
Лайош Ямбор приходится Ферко троюродным братом, потому и позвали его в сваты: все-таки свой человек. Чувствует он себя вполне в своей тарелке: на стуле сидит развалившись, по-домашнему, губу сосет да на новый кувшин поглядывает. Вообще-то он всем говорит, что выпить не любит, разве что за компанию, или согреться, или когда жарко — одним словом, если никак нельзя по-другому.
— Чтой-то мы все говорим да говорим, язык пересох, правда, дядя Янош? — спрашивает Ямбор, еле дожидаясь, пока старый Тот ему стакан наполнит. И через минуту озирается по сторонам, будто он же больше всех удивлен, как это его угораздило — целый стакан выпить.
Янош Багди тоже вино любит, чего скрывать.
— М-да. А неплохое у тебя вино, кум. Налей-ка, что ли, старику еще стаканчик.
Габор Тот, который лишь на год-другой моложе Яноша, снова вино разливает. Багди поднимает стакан, смотрит сквозь него на свет, потом говорит:
— Ну, кум, дай нам бог хорошо закончить то, что хорошо начали.
— Дай бог, дай бог, — отвечает старый Тот, и глаза его увлажняются.
Лайош Ямбор, не устояв, выпивает до дна еще стакан. Багди смотрит на него с неодобрением: вот не думал, что мужичонка этот такой ненасытный. Он, Багди, и сам, конечно, выпить не прочь, да ведь здесь меру надо знать. За это и уважают его в деревне. Потому что, коли ты совсем не пьешь, грош тебе цена, а пьешь много, тоже грош тебе цена. А объедаться во время помолвки просто-таки не полагается. Вот на свадьбе — дело другое.
Однако и он посматривает на блюдо с пирогами, больше для приличия, чтобы хозяев не обидеть. Мать Ферко, заметив это, торопливо подвигает пироги поближе.
— Не побрезгуйте, дорогой сват, отведайте нашей стряпни.
— Я вот смотрю, слышь-ка… до чего у вас пироги большие.
Баба аж светится от удовольствия, такую похвалу слыша.
— Ой, что вы, что вы, да разве ж они большие, кушайте на здоровье, сват дорогой.
Янош Багди берет пирог и, отламывая от него по кусочку, жует не спеша.
— Угу. Где муку мололи? И не помню, когда я такой вкусный пирог ел.
Мать от этих слов еще больше сияет. Видно, в самом деле удались пироги, если сам Янош Багди их хвалит.
Время идет, у второго свата уши совсем уже красные, будто их в котле варили со свеклой. Да ведь немудрено: не рассол капустный пьет, в конце концов, а крепкое вино. Был момент, когда ему не по себе стало: увидел он перед собой сразу два стакана, хотел взять один — и схватил воздух. Однако скоро это прошло и все на свои места стало.
Первый сват то и дело смотрит на часы, что на стене висят; посмотрит и успокоится. И вдруг спрашивает испуганно:
— Слышь-ка, стоят эти часы, что ли?
— Ой, батюшки, совсем забыла сказать. Еще весной мы их остановили… чего зря ходить, изнашиваться… а снова пустить как-то руки не дошли… — оправдывается хозяйка.
— Да ведь тогда…
Счастье еще, что как раз в это время приходит вдова Пашкуй.
— Ну что, сено или солома? — встает к ней навстречу Ферко.
— Солома? Еще чего… если я за что берусь, можешь быть спокоен…
И вот сваты вместе с женихом отправляются к невесте. Впереди шествует первый сват, за ним — второй, а позади, как полагается, и жених шагает повесив нос. Где ни пройдут, там по обеим сторонам улицы открываются калитки; народ выходит, поглазеть, посудачить…
Едва закрылась дверь за вдовой, Марика снова в слезы ударилась. Нечего ей больше ждать, не на что надеяться. Знать, судьба — быть женой Ферко Тота… а о том, другом, забыть навсегда. Что тут поделаешь, видно, смириться надо. Бывает ведь и хуже: смерть, например… В общем, пока пришли сваты, Марика со всеми мечтами своими девичьими окончательно попрощалась. И плакать перестала, теперь даже улыбаться могла.
— Дай бог хозяевам доброго здоровьица, — говорит, войдя в хату, Янош Багди, и дожидается, чтобы все ответили на приветствие. Потом, на середину горницы встав, откашливается и начинает речь:
— Досточтимый хозяин, Михай Юхош, и уважаемая его супруга. Господь всемогущий, создав прародителя нашего, Адама, в мудрости своей рассудил, что негоже человеку одиноким жить. Вот и сей достойный молодой человек, Ференц Тот, возгоревшись угодным богу намерением, выбрал себе в спутницы и помощницы дочь вашу, Марику. А мы, верные богу перед ближними своими и перед христианской церковью, помочь ему согласились в похвальном сем намерении. Просим мы вас нижайше, досточтимый Михай Юхош и уважаемая его супруга, не препятствовать счастью молодых и отдать дочь вашу, Марику, в жены Ференцу Тоту. Ну а теперь я обращаюсь к вам, дети мои, и прошу вас провести три недели, с сегодняшнего дня и до дня свадьбы, в мире и согласии. Не смотрите ни влево, ни вправо, лукавых слов не слушайтесь, а слушайтесь только своего сердца. И пусть бог вам поможет, от всей души этого желаю.
— Спасибо на добром слове, спасибо… дай бог, чтобы все исполнилось, как вы пожелали, — говорит мать, вытирая глаза; губы ее дрожат от волнения, словно ее, а не Марику пришли сватать.
И не только мать — всех растрогала речь Яноша Багди. Даже второй сват ни слова не может вымолвить, разинул рот, будто карась на сковородке. Но в конце концов опомнился Лайош и сразу к столу пошел, уселся.
— Будем как дома, стало быть, — говорит он со смехом. Потирает ладонью подбородок — прямо заливается. То тоненько смеется, будто поросенок повизгивает, то хрипло, будто старый боров хрюкает. А в горле у него бурлят, наружу просятся самые что ни на есть развеселые песни.
Однако все пока что идет чинно. Сваты за столом недолго сидят; попробовали вино, пироги и уже поднимаются: пора в правление идти, помолвку записывать. Снова проходят по деревне; теперь уже жених идет об руку с невестой, и народ глазеет на них еще больше. В правлении церемония тоже недолго продолжается, и вот уже все идут обратно.
— Я счас, — говорит вдруг Лайош Ямбор, второй сват, на Главной улице, перед домом Розы Вереш, и к калитке поворачивает. А за калиткой стоят сама Роза с младшей дочерью, Мари, и во все глаза смотрят на Лайоша.
Входит он в калитку, к забору прислоняется и, дурного слова не сказав, облевывает Мари весь бок. Матери же лишь на туфли попало. С тем выходит Лайош Ямбор снова на улицу, будто ничего и не было.
6
Деньги в деревне большим уважением пользуются, потому что редко их мужики видят. Бывает, что на целой улице не найдешь двадцати филлеров. И не потому, что народ здесь совсем уж бедный: просто не на деньги счет в деревне идет, не привыкли люди все деньгами мерить. У тех, кто позажиточней, двор уставлен стогами, скирдами, которые, может, немалую ценность составили бы, если на деньги считать — только что зря считать: все равно не продашь, если даже захочешь. Да и разве будет кто продавать, где такое видано? На чердаках, в кладовых кукуруза сложена, в амбаре — пшеница, ячмень, овес, в хлеву — скотина, свиньи, птица, а денег — нет. Скирды, что на дворе стоят, постепенно, день за днем, перекочевывают в хлев, а оттуда — на навозные кучи. Навоз на поле вывозится, чтобы с полей, в другом виде, опять на двор да в амбар вернуться. Так оно идет из года в год, из века в век — пока человек с земли кормится. Пока, значит, вместо хлеба да мяса не придумают какие-нибудь пилюли.
Балаж Марцихази, почтмейстер, в хорошем настроении часто толкует мужикам про то, как люди в будущем станут питаться. К тому времени, говорит, никаких боен, мясных лавок не останется и в помине. Бабам не надо будет с варкой да жаркой возиться; вместо этого везде понастроят пилюльных фабрик, и если ты, скажем, проголодался, то проглотишь одну-две пилюли — и гуляй себе на здоровье. И не придется людям жевать такие отвратительные и гнусные вещи, как, например, колбаса или свиная отбивная. Не говоря уже о котлетах или голубцах с мясом. И тогда весь род человеческий возвратится к исконной своей сути. И уж такая тогда идеальная жизнь настанет — ни в сказке сказать, ни пером описать.
Вот что рассказывает почтмейстер мужикам. Те слушают разинув рты; кое-кто слова его на веру принимает, другие же посмеются и расходятся. Думают про себя: легко ему шутки шутить. Он барин, и жалованье немалое загребает.
Марцихази, конечно, настоящий барин, этого у него не отнимешь; и на вид он — мужчина крупный, высокий. Хоть немолод уже, а прям, как тополь. Усы густые, красиво подстриженные, волосы на голове седые, но жесткие, как щетина на кабане. Часто сочиняет Марцихази стихи про почтовые марки, а то еще — длинные оды про картошку. Потому что этим летом ему самому пришлось картошку копать на огороде. Стихи свои он тоже читает мужикам. Одним словом, веселый, добродушный человек почтмейстер; только вот с жалованьем у него не все ладно. Не то чтобы мало он получал для своего положения, нет, дело в том, что у него четыре взрослые дочери, и к тому ж жена вот уже много лет не в своем уме. Правда, болезнь у нее для других неопасная, что-то вроде тихого помешательства, и состоит, можно сказать, лишь в том, что бедняжка всякие дурацкие вопросы задает мужчинам, которые на глаза ей попадаются. А то еще какие-то нелепые розыгрыши устраивает. Вот, например, зашел как-то на почту Красный Гоз; только было собирается он из сеней в контору пройти, как видит, из кухни барыня высунулась, приложила палец к губам и говорит:
— Тс-с… идите быстрей сюда… только тихо… — берет Красного Гоза за руку и на цыпочках ведет в комнаты.
Удивляется Красный Гоз, но идет за ней и тоже старается ступать потише. Барыня подводит его к двери, распахивает ее. Дверь медленно так раскрывается, будто тебе лилия или тюльпан, и видит Красный Гоз: барышни, все четверо в ночных рубашках или в комбинациях, слоняются по комнате. Постели не убраны, везде валяются покрывала, одеяла, разные одежки вперемешку. Словом, барышни только встали: кто умывается, кто одевается, кто так бродит. И такой запах стоит в комнате, что человек со слабыми нервами на стену бы уже полез; но Красный Гоз и глазом не моргнул. Да у него и времени на это особенно не было, потому что тут младшая из сестер, Ленке, увидела, что на них смотрят, взвизгнула, прыгнула в постель и укрылась с головой. Старшая тоже бросилась ничком на диван; только две другие спокойны остались. Даже не завизжали. Одна, Тильда, подошла поближе в чем была и спрашивает тихим голосом:
— Что вам угодно?
— Мне? Мне-то ничего не нужно. Вот барыня сюда привела.
— Что это значит, мама?
А та ничего не отвечает, бедняжка, лишь ухмыляется с каверзным видом.
Красный Гоз еще раз окидывает барышень взглядом, потом молча поворачивается и уходит.
А посмотреть там было на что: все четверо красотой не обижены.
Стройные, высокие — в отца; самая старшая — уже в летах, да и младшая — девушка вполне зрелая, хоть сейчас замуж. Беда только, что младшая на одну ногу прихрамывает; зато она из всех четырех самая красивая. Лицом похожа она на девиц, которых на старых ассигнациях изображали. Говорят, что и на тех бумажных деньгах, которые правительство недавно выпустило, тоже напечатан портрет Ленке. С голыми плечами и распущенными волосами.
Первым обнаружил сходство господин Бернат, как человек культурный, и тут же придумал из этого развлечение: брал банковский билет и подгибал его так, чтобы девица на нем оказывалась в весьма пикантном положении. Да что говорить: на свете все бывает; может, и в самом деле попал на деньги портрет Ленке Марцихази, как на старые ассигнации — портрет какой-нибудь ее прабабки. Ничто не ново под луною, говорится в Писании; но факт тот, что барышни живут хоть и в деревне, но полностью сами по себе. Во всяком случае, с мужиками они в разговоры не вступают, не то что их отец. Даже в почтовой конторе редко появляются. Одна только Ленке почти все время там — красивая, в воздушном платье, с локонами, точь-в-точь как на банкнотах; волосы у нее черные, как вороново крыло, и такие же блестящие. Летом носит она легкую кофту без рукавов, да и зимой часто с голыми до самых плеч руками работает. Марки продает, телефон переключает, штемпелем стучит, сдачу отсчитывает, проворно ковыляет по конторе с одного места на другое…
Словом, деньги в деревне, если и водятся, так только на почте; даже в лавках все за яйца в основном покупают. Принесут корзину яиц, домой уносят соль, уксус, когда что.
Слухи о близкой свадьбе взбудоражили деревню. Раз будет свадьба, то заранее надо подумать, пригласят тебя или нет. Кто рассчитывает на приглашение, тому следует позаботиться денег где-то раздобыть. Ведь на свадьбу не пойдешь без денег: и цыганам дать надо, и на табак, на сигареты, и на подарки, на невестин танец, на благословение… Да и вообще неловко человеку на свадьбе, если нет в кармане денег. Будто новые сапоги со старыми портянками надеваешь.
Больше всего денег, конечно, жениху требуется. И черный костюм надо покупать, и сапоги новые, и хоть одну белую сорочку. Сорочку, правда, всегда невеста дарит жениху; да Ферко уж до того рад, что Марика за него выходит, — он бы и ее в одной сорочке взял, не то что от нее подарки требовать. Ну а он невесте должен дать не меньше ста — ста пятидесяти пенгё. Даже самый бедный парень и тот тридцать — сорок пенгё дает. В конце концов, не в чужие руки деньги уходят. А еще нужно цыган пригласить, потому что без музыки никак нельзя; им тоже двенадцать — четырнадцать пенгё полагается; нужны деньги и на разные приправы к столу — все прочее приготовят из домашних запасов. Теленка заколют, двух овец — мяса с лихвой хватит. Кур, гусей тоже придется резать, но этого добра на дворе много, да и приглашенные обычно присылают к-столу по одной-две курицы.
Все это как-нибудь образуется само собой; а вот денежки надо добывать, и как можно быстрее.
Габор Жирный Тот — мужик скупой, прижимистый; таковы же, если не хуже, и жена его, и сын, Ферко. Однако к свадьбе они готовятся, ничего не жалея, будто свадьбой хотят расплатиться за ту жадность, которой они всю жизнь и себя, и других терзали.
— Смотрите, чтоб все было в лучшем виде. Чтоб никто потом не жаловался, — не устает приговаривать Габор Тот. Позавчера еще думал он старую корову, Бимбо, на базар вести — а нынче вот все-таки взял и на Рози бумагу оформил. Все ж помоложе корова, за нее больше дадут. Четыреста пенгё — самое малое. А Бимбо можно и потом продать, пусть сперва отелится. Чтобы хватило денег на все.
Так-то оно так, только жениху, Ферко, некогда по базарам разгуливать. И в правлении у него дела, и вообще не подобает, чтоб жених перед самой свадьбой семь верст киселя хлебал, тащась за коровьим хвостом. Вот и поручили это Гезе: пусть и от него будет хоть какой-то прок. Одна загвоздка: если и отец, и Ферко бережливы и старательны, то Геза совсем ненадежен, когда дело касается денег. Нельзя ему со спокойной душой корову доверить, так что пришлось идти на базар и старому Тоту. Побрели они вдвоем за одной коровой.
Было это в четверг, ровно через неделю после помолвки. Отправились из дому с утра, рассчитывая, что к вечеру на месте будут, если ничего не случится; где-нибудь переночуют, а рано утром выйдут на базар. И сами выспаться смогут, и корова отдохнет.
День выдался ясный, морозный. Весело хрустел под копытами Рози мерзлый снег…
Но не только Тотам надо деньги добывать: позарез нужны они и Юхошам. Хоть семья и небогатая, а от других отставать никак нельзя. Чтобы все было, как у людей. А раз все, как у людей, значит, полагается угощенье гостям выставить, когда придут за невестой. Столько народу накормить — для этого по меньшей мере одна хорошая овца потребуется. И Марике надо дать что-то: нельзя ж только на жениха рассчитывать. Да вот беда: нет у Юхошей на продажу ни коровы, ни другой скотины; пришлось взять ссуду в кооперативе. Под расписку и с двумя поручителями. Всего сто пятьдесят пенгё. Как-нибудь возвратят по частям. Теперь с этим можно не спешить: других дочерей у них нет, замуж выдавать больше некого.
Михай, как только ссуду получил, тут же отправился овцу искать. Жена ему пиджак почистила; причесал он волосы, старый армяк надел, палку взял — и пошел себе не спеша по деревне.
— Куда, куда, свояк? — встречается ему на выходе из переулка, у лавки господина Берната, Шаркёзи. Этот Шаркёзи кого хочешь свояком назовет, так и Юхош в свояки попал.
— Вот иду, свояк, хочу овцу купить, раз такой случай, — отвечает Михай спокойно. Не в характере Юхоша по пустякам обижаться.
— А-а… хорошее дело, хорошее дело. И недорого к тому ж. Ну а где ж ты покупать-то собрался?
— Да слыхал я, у Ференца Олы, у Овчара, есть на продажу.
— У него есть, это точно. А еще, слышь-ка, у Шандора Силаши-Киша, кажись, продается. Оно и ближе тебе будет. Ну, свояк, я пошел. Дай тебе бог здоровья. А молодым — счастья да удачи.
— Спасибо, свояк, на добром слове, — и шагает дальше.
Шагает и думает: верно ведь, Силаши-Киш ближе живет. Зачем на другой конец деревни идти, когда под боком можно купить?
Шандор Силаши-Киш — мужик уже немолодой. Когда-то служил он в поместье старшим пастухом и лишь к старости в деревне поселился. Не то чтобы совсем он бедный, да жил бы куда лучше, если б не большая семья. Шесть сыновей он воспитал да двух дочерей. Дочери замуж вышли, а сыновья разлетелись по белу свету: один — в Пеште, шофером, другой — трамвайным кондуктором, трое — в полиции служат, а еще один, самый старший, социалист. Власти его так называют; и в самом деле, Шандор Киш в деревне всей беднотой верховодит. Во рту у него, спереди, в верхнем ряду, четырех зубов нет. Уважают его в деревне, как никого другого. Бывает, даже самостоятельные мужики шапку с головы стаскивают, когда встречаются с ним на улице. Потом, правда, озираются: не видел ли кто, и идут поскорей дальше, глаза опустив, в кулак покашливая.
Мать всех этих, таких друг на друга не похожих детей — крупная, толстая, сильная баба. Хоть достоверно никто про нее ничего такого не знает, однако болтают много: то с одним, то с другим ее поминают. Говорят, будто сам-то Силаши-Киш не совсем мужик и все его дети от разных отцов происходят. Может, так оно и есть: дыма без огня ведь не бывает. Впрочем, Михаю Юхошу нет до этого никакого дела; входит он в калитку и видит, баба перед хатой как раз чугунок чистит, выскребает пригоревшую мамалыгу. Потому что мамалыга — дело известное: как ее ни мешай, она все равно ко дну пристанет.
— Доброго вам здоровьичка, — говорит Михай, делая равнодушный вид: не показывать же всем свою радость, что единственная дочь замуж выходит.
Баба дальше чугунок выскребает, смотрит на Юхоша сбоку, исподлобья.
— И ты будь здоров. Зачем к нам пожаловал?
— Да вот… говорят, овцу можно у вас на мясо купить. Зайду, думаю… — Не успел Юхош сказать, что собирался: хозяйка вдруг хвать ложку оземь.
— Ах ты… холера тебя забери… и как только глаза твои бесстыжие не лопнут? Мало, что отец твой безмозглый был, когда тебя делал, так и ты еще дубина дубиной вышел. Чтоб тебя дьявол…
Ух… таких поношений еще свет не слыхивал. Выскакивает Юхош на улицу; будь он собакой, поджал бы хвост и под забором спрятался. Однако Михай — человек, и человек трезвый, степенный, — а все-таки не умещается у него такое в голове. Чем он эту бабу обидел? Не знает Михай Юхош, что он не первый, кого жена Киша так провожает; не знает, что многие уже вылетали из этого двора как ошпаренные, На прошлой неделе совсем постороннего человека прислал к ней Шаркёзи. Человек тот подержанный велосипед хотел купить; пришел он, значит, вот как Юхош, и говорит, дескать, слышал, что велосипед здесь продается. Ну, бабе больше и не надо: лук она чистила в корзинке — так и запустила корзинкой в того чужого мужика. Бедняга без памяти из калитки вывалился… А еще приходили спрашивать квашню, потом тачку, деревянное корыто, всякую всячину. И все это Шаркёзи устроил. Одному лишь богу известно, зачем это ему понадобилось бабу дразнить.
С утра в четверг ясной была погода, а к вечеру нахмурилось небо; за ночь деревья стали белыми, пушистыми от инея. Снег звонко хрустит под ногами; густой пар идет изо рта, словно дым из трубы. Если разговаривают двое, то пар изо ртов перемешивается, будто слова прямо с языка смерзаются в белые меховые буквы.
Стынут у мужиков руки-ноги — топай не топай, не помогает. Усы в изморози, как ветки на деревьях; шерсть на шубах в сосульках. Не идет нынче торговля. Скотины много пригнали, а покупателей нет. Лишь несколько барышников похаживают вдоль коновязи, прицениваются не спеша, цену сбивают. Изо рта у них вином несет: вино они пьют горячим, густо наперченным. Пьют и с девицами-официантками заигрывают. Время от времени принимаются осматривать себя, отряхивать: не остался ли на пиджаке, на шубе длинный волос.
Рози терпеливо стоит на привязи, на спине у нее попона; с ней она от самого дома шла. Смотрит на коров то справа, то слева — будто что спросить хочет. Много коров, телок, бычков выстроилось у коновязи.
Много коров и возле телег; все нынче продавать хотят, а покупать некому. Похоже, в каждой деревне готовятся свадьбы… Около Рози вдруг останавливаются мужик с бабой. На мужике — заношенный зимний полушубок, ремнем подпоясанный; на бабе — огромная шаль, из которой только нос виднеется. Стоят, смотрят на Рози.
— Почем корову отдаете? — спрашивает наконец мужик. Старый Тот быстро убирает ножик; собрался было перекусить, да не вышло: сало смерзлось, будто камень, и руки застыли, еле шевелятся.
— Эту-то? За четыреста пятьдесят пенгё.
— Не дорого ли, хозяин? — недоволен мужик. — Когда она еще отелится? — и хвост ей отводит в сторону.
— Когда, говоришь? Хочешь — верь, хочешь — нет, а к десятому марта должна отелиться. Ни за что бы не продавал, когда б не нужда.. — и умолкает. Хотя хорошо было бы и про свадьбу сказать, чтоб не было сомнений, зачем они корову продают. Баба уже повернулась идти, а сама все оглядывается на Рози, сколько шаль позволяет. Однако так и уходит, волоча по снегу тяжелые сапоги. Мужик еще раз хвост у Рози поднял, потоптался; патом двинулся вслед за бабой, ни слова не сказав напоследок.
Словом, не продали они Рози. Подходил, правда, еще мужик, просил отдать корову за триста пенгё и с обязательством, что к десятому марта будет теленок. Да не согласился Габор на такую цену. Ладно, денег они как-нибудь добудут; если иначе не выйдет, так ссуду возьмут в кооперативе. Габору Тоту дадут по первому слову сколько попросит. Стыдно не стыдно, а раз надо, значит, надо.
Дело к полудню, пора домой возвращаться.
Только тут, как назло, помрачнело небо, ветер задул, стряхнул с деревьев иней — и вдруг посыпал колючий, ледяной дождь. Старому Тоту не по себе стало. В такую погоду шагать тридцать километров… подумать страшно. И это в его-то возрасте…
— Слышь-ка, вот тебе тулуп, — говорит он Гезе, — гони потихоньку Рози домой. А армяк свой кинь ей на спину.
— А вы, батя?
— Я на поезде поеду. Хоть тулуп тебе оставить смогу, не так будешь мерзнуть.
Теперь уже и Геза со страхом думает о предстоящей дороге.
— Дайте ж по крайней мере денег, мало ли — вдруг понадобится. Да и передохнуть надо будет где-то.
— Не съедят тебя, не бойся. Вон сколько народу в ту сторону идет, скотину по домам гонят, так что не один будешь, — но все-таки развязывает кошель, вытаскивает монетку в пятьдесят филлеров. Подержав ее между пальцами, вытаскивает еще тридцать филлеров и кладет деньги Гезе в ладонь.
Геза тупо смотрит на монеты: он-то надеялся хотя бы пенгё получить или даже полтора. Совсем падает у него настроение. Тридцать километров под ледяным дождем — и восемьдесят филлеров… Хорошо, если к полуночи до дому дотащится. А все ради чего? Ради того, что братец, отцов любимчик, наследник, жениться задумал.
— Пошли, Рози, — говорит он грустно и отвязывает корову от коновязи.
— Слышь-ка, возьми еще документ с собой, — останавливает его отец. — Если по дороге кто за четыреста будет просить, так отдавай. Да с деньгами, смотри, осторожней, а то не ровен час…
Геза молча забирает бумагу. Хлестнув Рози концом веревки, идет к дороге.
В самом деле, идет он не один; народу набирается немало. Одним совсем близко, до Оканя, другие направляются в Жадань, в Гест; но и до самой деревни находится двое попутчиков. Так что дорога оказывается не такой уж тоскливой, даже в веселье нет недостатка. Народ подобрался самый разный; еще из города не вышли, а уж со всех сторон сквозь порывы ветра доносятся шутки и смех.
Так бы все и обошлось, да, как из города выходить, появился опять тот самый мужик, который вместе с женой еще на базаре присматривался к Рози, и стал просить корову за четыреста. Не нашел, видно, лучше.
— Продавай, продавай, — советуют Гезе остальные.
— Меньше чем за четыреста пятьдесят не отдам, — уперся Геза; а сам думает: если отец за четыреста велел продавать, значит, все, что сверх того, ему пойдет, Гезе. И домой легче шагать, и на свадьбу будут денежки. Да не одно-два пенгё — целых пятьдесят. Ну, или сорок, на худой конец… Но уж никак не меньше тридцати. Отцу об этом знать не обязательно: все равно избыток этот, можно сказать, с неба свалился.
Мужик с бабой долго идут с ним; уже и дома городские кончились, лишь деревья стоят по обочинам; наконец сошлись на четырехстах двадцати. Что ж, и это кое-что — двадцать пенгё. Во всяком случае, больше, чем те восемьдесят филлеров, которые отец дал ему от щедрот своих. Эх…
Горькое это «эх» относится и к отцу, и к матери, и к целому свету, а больше всего — к брату Ферко, на которого вся семья не может нарадоваться. Который и трудолюбивый-то, и бережливый, и отцовский характер перенял. И которого всегда ему, Гезе, в пример ставят, когда надо и когда не надо. И который все, что отец накопил, беречь будет и умножать — а он, Геза, даже то, что ему готовым достанется, промотает ни за грош. Словно он не такой, как все. Конечно, подмазаться, в душу влезть, как Ферко, он не умеет. Не умеет и не желает. И никогда этим заниматься не станет…
Возвращаются они в город, в корчму, и, пока баба стоит на улице с Рози, мужик отсчитывает на стол четыреста двадцать пенгё.
— Ну, дай вам бог, чтоб деньги на пользу пошли.
— О… на пользу пойдут, на пользу. Брат у меня женится, на свадьбу нужны деньги. Расходы всякие, то, се.. — объясняет мужику Геза, словно в чем-то оправдывается, а в чем — неизвестно. Пересчитывает деньги еще раз, двадцать пенгё отдельно кладет, в карман. Потому что это его часть, законная. А четыре сотни подальше засовывает, во внутренний карман поддевки, к сердцу. Это — для отца. То бишь… для Ферко. Для любимчика. Для наследника. И кривит горько рот, словно отсюда, издалека, за тридцать километров, увидел родной дом. Который ненавистен ему сейчас, как смертный грех.
— Ну что ж… по такому случаю, пожалуй, магарыч полагается, — говорит мужик, а сам уже расстегивает полушубок и сует в рот трубку с длинным чубуком.
— Да нет, мне ведь… от других я отстану.
— А, чего там, долго ли догнать. Они небыстро идут.
И то правда. Догонит. Догнать нетрудно.
Мужик опрокидывает рюмку, наливает новую и выходит на порог, жене показывает, зовет: иди, мол, выпей. Та мотает головой: не хочу, дескать. А сама ласково гладит Рози по шее. Знакомится.
Добрый час прошел, пока Геза вышел из корчмы и, разбрызгивая слякоть, двинулся догонять попутчиков. Да только где они, попутчики-то? Геза, однако, не огорчается. Шагает, голову в воротник тулупа втянув, и на сердце у него легко, будто отменно выспался. Все-таки хорошо жить на свете, хоть и дождь льет, и все такое. Ненадолго мелькает мысль о деньгах: вишь, сразу истратил четыре пенгё, а то и четыре с половиной… ну да ладно. Рози он за хорошую цену продал, а главное — хорошим людям. Уж они ее не обидят, позаботятся, как о родной. Четыре сотни Геза отцу сразу отдаст; сам ведь сказал, продавай за четыреста, — вот четыреста и получит. А насчет двадцати пенгё… то есть шестнадцати, Геза даже не заикнется. В конце концов, нужны ему деньги на свадьбу или не нужны? А раз нужны, так вот он и добыл себе. И пусть не говорят, что он даже тут без отца обойтись не может. Еще как может… Льет дождь, дует холодный ветер — а Гезе тепло от его планов да от отцовского тулупа.
Однако чем дольше он идет, тем более тускнеют, расплываются эти планы. Дождь незаметно превращается в снежную крупу; сумерки ложатся на поля. Как ни кутается Геза в тулуп, снег, сухо шелестя, набивается во все складки, проникает за шиворот. Попутчиков своих Геза так и не смог догнать. Правда, ехала мимо телега, он уже и руку было поднял, да много там народу сидело, не взял его возница, поехал дальше. Догнал еще Геза одного пешего, вместе хотел идти, но мужик оказался стар и неразговорчив — мало радости плестись рядом с таким. Голодный и злой добрался Геза до Нешты. По всей улице уже светились в хатах окна.
Ну ничего. Отсюда и до дома недалеко, километров двенадцать — четырнадцать. Часа за три доберется. Выложит на стол четыреста пенгё, и все…
Но не удалось Гезе выложить на стол четыреста пенгё. Во всяком случае, выложил он их не дома… Потому что в Неште в корчму зашел. Печь топится в корчме, тепло, сухо. Столы белыми скатертями накрыты; за белой стойкой молодая девка стоит.
— Что угодно? — приветливо обращается она к Гезе.
Хо-хо. Что ему угодно. Ему многое угодно. Угодна ему и жаркая печь, и чистая корчма, и свет лампы, а пуще всего угодна сама эта ласковая девка.
«Имею я право хоть раз поужинать в таком месте, где господа ужинают?» — думает Геза, который, можно сказать, ничегошеньки еще не видел в жизни и всего лишь раз, один-единственный раз, ездил на поезде.
— А поужинать можно? — спрашивает неловко.
— О, конечно. Что изволите заказать? — щебечет барышня, словно жаворонок, и проворно выходит из-за стойки. Подходит к столику в углу, разглаживает ладонями скатерть. Смотрит выжидающе на Гезу.
Геза стаскивает с себя тулуп и смущенно косится на барышню: дескать, он не виноват, что вот, в тулупе ходить приходится. Та услужливо подхватывает тулуп — и тут же роняет смеясь. Не удержала. Еще бы: от дождя и снега он тяжел, словно чугунный. Геза поднимает тулуп, и вдвоем они несут его к вешалке, что стоит между столиками. Сразу же с него начинает капать на пол вода.
На ужин ест Геза свиную отбивную с тушеной капустой. Очень ему понравилось это блюдо; не знал он, что бывает на свете такая вкусная еда. Барышня сама приносит тарелку, сама кладет вилку и ножик; потом, облокотившись на стол с другой стороны, тихо, будто по секрету, спрашивает:
— Что-нибудь выпьете?
— Выпить? А как же. Вино. Да чтобы хорошее.
Барышня исчезает и потом появляется с бутылкой и стаканом. Наливает. Геза с изумлением смотрит, какие у нее красивые локти.
В корчме почти пусто; кроме Гезы, только какой-то торговый агент ужинает за дальним столиком да пекарь стоит возле своей корзины. Оба смотрят на Гезу. Хорошо этому мужику! Вон какой у него тулуп огромный, в таком ни холод, ни ветер не страшны. Денег у него, наверное, куры не клюют — иначе чего бы крутилась возле него эта девка?.. Геза тоже посматривает на агента и пекаря: вишь, какие славные люди. Так свободно себя чувствуют в этом шикарном месте, будто здесь родились… Открывается дверь, входит новый гость — должно быть, совсем большой барин, потому что на пальто у него меховой воротник, какой у них в деревне только священник да секретарь носят. Что-то сказав барышне, уходит за дверь, над которой надпись — «Ресторан». Барышня стаканами звенит, роется в кармане, где, должно быть, лежат у нее ключи и деньги, идет вслед за барином. Но, уходя, косится на гостей; Гезе кажется, что на него она посмотрела особенно пристально. Торопливо выпивает он стакан вина и сразу же наливает новый; поднимает стакан, смотрит вокруг. Немного с вызовом смотрит: не смеется ли над ним кто-нибудь.
Откуда-то появляется огромная, невероятно толстая баба, хозяйка корчмы. Агент кланяется ей, не вставая со стула, говорит: «Целую ручки». Та любезно кивает, проходит за стойку, шмыгает носом, потом яростно роется пальцем в ухе, словно курица в мусоре. Цветастый халат одергивает на бедрах, на животе. Подняв голову, смотрит куда-то перед собой. В это время снова входит барышня: должно быть, закончила свои дела в ресторане. Стоит, опершись спиной на буфет, где сверкают разноцветные фляги и бутылки. Тоже смотрит перед собой, в воздух; потом, будто вспомнив что-то, подходит к Гезе. «Разрешите, я к вам присяду?» — говорит и садится, не дожидаясь ответа. Теперь их разделяет лишь угол да ножка стола.
— Можно, и я… принесу себе стакан? — шепчет барышня, и Гезе начинает казаться, что корчма эта — вовсе и не корчма, а какой-то волшебный дворец, где обитают добрые феи и где каждого прохожего, даже простого мужика, бесплатно ожидают ласка и уют.
Вторую бутылку он пьет уже вдвоем с барышней. Геза даже не заметил, как в корчме стало людно: двое парней щелкают шарами, играют в бильярд; агент, подперев кулаком щеку, смотрит на свой пустой стакан; четверо молодых людей, сдвинув головы, тихо беседуют за столиком в углу. Некоторые просто околачиваются у стойки, глазеют на цветы, которыми расписан халат толстой хозяйки.
— Может, пойдем в ресторан, — говорит вдруг барышня и выжидающе смотрит на Гезу.
— Пойдем, — отвечает Геза громко, даже слишком громко, и встает. Взгляд его останавливается на тулупе; смотрит он, смотрит и вдруг начинает хохотать во весь голос. — Э-эх, — еле выговаривает он сквозь смех, — эх ты… а ведь армяк-то я на Рози оставил, — и идет к двери в ресторан, размахивая далеко отставленными руками. Ладони его загребают воздух, будто две лопаты. В ресторане уже сидят двое, один лысый и один в очках; на Гезу они глядят, будто на пустое место, и сразу же, отвернувшись, продолжают свои дела.
— Вот этот столик подойдет? — щебечет барышня и ставит рядом два стула. Садятся; барышня прижимается к Гезе, устраивается у него под мышкой, как перепелка под копной. Немного возится на стуле, пока колено ее не находит колено Гезы. Тогда, подняв голову, она убирает со лба волосы и смеется, глядя прямо ему в лицо.
Так оно и началось.
А дальше пошло-поехало. Было и такое, что Геза вдруг почувствовал: нужно ему, просто позарез нужно рассказать что-то важное, что на душе накипело, всем рассказать, всему миру, а ресторан — это и есть весь мир. Вот заговорит Геза — и весь мир его услышит, услышат и живые и мертвые. Видит он перед собой людей, чистых, хорошо одетых, и стыдно ему за свою старую, забрызганную грязью одежонку. Стыд этот жжет ему нутро, требует объяснить что-то этим господам, оправдаться, чтобы не думали о нем плохого. Беда только, что ему еще много чего хотелось бы объяснить: например, что ведь по одежке человека встречают только, а провожают — по уму и что если на то пошло, так деньги у него есть, хоть засыпься, — правда, это потому, что братец его младший, отцов любимец, опора семьи, женится, вишь, нынче… А еще надо рассказать про Рози… и вообще, что такое для них одна корова? Тьфу! Дома еще есть, сколько хошь. Набегают в нем слова и мысли друг на друга, вспучиваются, просятся наружу, а глаза словно кто-то насильно вниз тянет: смотрит он вниз и видит, что юбка у барышни задралась сбоку чуть не до самого верха. Что-то заволакивает ему голову, темное и в то же время светящееся, как рассвет в тучах; Геза закрывает глаза. А открывает в тот момент, когда барышня вдруг испуганно (или ему так кажется?) отодвигается в сторону; в комнату входит хозяйка с охапкой дров. Она садится возле печки на корточки, подкладывает сучья в огонь. Халат просторными складками стекает с нее по бокам и спереди, будто божье благословение, розами расшитое. Огонь в печи весело трещит; хозяйка поднимается, обдергивает халат на себе, смотрит на Гезу. Подходит к столику.
— Добрый вечер, — говорит она очень уж ласково. — Ну, как ужин, понравился? — ив ожидании ответа ложится грудью на стол, на сплетенные руки.
— Ужин-то? А что, ужин ничего, только… мог быть и лучше, — отвечает Геза. И с изумлением смотрит на громадные и белые, как два снежных сугроба, груди в распахнувшемся под горлом цветастом халате. Снег — и нагота; Гезу вдруг до краев переполняет торжествующее, радостное сознание, что нагая эта белизна скрывает в себе самое бесконечность. Бесконечность, из которой человек появился и куда канет снова… Нога барышни осторожно поднимается с пола и устраивается на ноге Гезы; хозяйка переваливает вес тела на один локоть; теперь ее груди — словно подтаявшие и осевшие сугробы. Бот и второй локоть убирает со стола, встает. — Не скучайте у нас, веселитесь на здоровье, — и уходит. Половицы прогибаются под ее шагами.
И скопидомство, и въевшаяся в душу обида теперь отскакивают от Гезы, как эмаль от помятой посудины. Он вдруг как бы со стороны видит унылую, беспросветную жизнь, которой жил в отцовском доме, — жил в вечном труде, в одиночестве, без жены. Правда, четыре года назад женился и он, да очень уж быстро ушла от него жена. С тех пор и прозябает он один, будто какой-нибудь бездомный бродяга. Против всех искушений у него одно средство — отвернуться и закрыть глаза, не слышать, не видеть… Но вечерами, когда, улегшись в постель, Геза в темноте молился перед сном, слова молитвы перемешивались у него в голове с плотскими образами, сладострастными мыслями. Что скрывать: мысли эти частенько беспокоили Гезу.
Неясные, мерцающие видения появлялись и гасли в темноте — будто луч фонаря перебегал по женскому телу…
— Принести еще, милый? — вкрадчиво говорит барышня и берет пустую бутылку. Как стебель лилии, стройна бутылка; было в ней желтое вино — пока не кончилось. Желтое-желтое, как лепестки подсолнуха.
— Можно, чего там… да если получше что найдется, тоже не беда…
Барыня возвращается с новой бутылкой.
Гезе вдруг кажется, что деньги, лежащие у него в кармане, — невероятно огромная сумма. Сколько людей можно за эти деньги осчастливить — чуть не весь мир. Однако хоть он в этом и уверен, но уверенность эта какая-то неопределенная, словно чего-то ей не хватает; словно надо немного подождать, пока все образуется… Непонятно, как это получилось, только два господина уже сидят за его столом, громко смеются, чокаются; у одного очки блестят, у другого — лысина; и вот теперь все становится таким ясным и естественным. Нет больше ни господ, ни мужиков: только люди есть, которые любят и понимают друг друга. Девки, бабы кругом ласковы и любезны; да ведь так и должно быть: для чего ж они созданы, если не для того, чтобы мужчинам угождать… Но и тут пока молчит Геза, копит в себе ораторский пыл. Прорвало его лишь тогда, когда появились цыгане. Трое музыкантов, одетых в какое-то отрепье. Господи, до чего ж они оборваны. У одного даже колено выглядывает из дыры, будто кость, к которой присохло закопченное мясо. Стоят, пощипывают струны и слово вымолвить боятся, потому что слух разнесся, будто в корчме какой-то чужеземный принц пирует, который простым мужиком прикидывается.
И раньше видел Геза оборванных людей, да он и сам одет не ахти как; но сейчас ему кажется почему-то, что выпустить этих оборванцев на улицу в такой собачий холод — все равно что взять и убить их. Никак нельзя этого допустить: чувствует Геза, что за этих людей он перед богом несет ответ.
— Позвать сюда портного, пусть оденет цыган с ног до головы, — встает он и делает рукой широкое движение, словно душу распахивает настежь.
Тихо становится в зале. Все будто онемели. Торговый агент появляется в дверях; снова прогибаются половицы под хозяйкой. А Геза совсем вошел в раж и ораторствует без удержу:
— Справедливо это, люди, я спрашиваю? Мы вот здесь пируем, дорогое вино пьем, в хорошей одежде ходим… у меня там на вешалке теплый тулуп висит… а эти несчастные чуть не нагишом по морозу бегают… Сказано ведь в Писании: отдай голодным хлеб свой, нагим — одежду свою… Почему же никто даже не подумает дать другому хлеба или одеть ближнего своего?..
— Ваше превосходительство, что велите сыграть?.. — умоляет Гезу один из цыган.
— Нет, постой, я говорю…
— Милый, полно тебе, оставь их в покое. Дай им пять пенгё, и все будет в порядке. Увидишь, как они тебе сыграют, — упрашивает барышня.
— Нет, подожди. Чтобы мне эти оборванцы играли! Не будет этого! Я не какой-нибудь басурманин. Позвать сюда портного, если я сказал.
И свершилось невероятное. Одел Геза всех троих цыган.
А что дальше было — выяснило полицейское следствие…
Дома ждали Гезу всю ночь. Сначала до полуночи ждали, потом до двух часов, потом до утра: вот-вот, думали, придет. Вот-вот явится… Да так и не дождались.
— Ой, батюшки, чувствует мое сердце, с Рози что-то случилось… И зачем же ты парня одного бросил? — причитает мать.
— А что? Малый ребенок, что ли? Как-нибудь доберется домой с одной-то коровой, — оправдывается старый Тот. Только оправдывайся, не оправдывайся, а вот уже и к службе звонят, Геза же — как в воду канул. Правда, Тоты не столько за Гезу, сколько за корову беспокоятся.
— Поеду-ка я навстречу верхом, — говорит Ферко.
— Вот это дело… Ишь, этот Ферко сразу что-нибудь придумает. Молодец. Будет из него человек. А из Гезы? Да ни за что в жизни. Вот те крест!
Ферко уже Чипке начал было седлать, когда зашел к ним Йошка Кишторони.
— Загляну, думаю, — говорит, — узнаю, как удался базар. Я тоже свою коровенку хотел вести, слышь-ка… недоволен я ею. До отела четыре месяца, а у нее уже молоко пропало. Вот и надумал продать… Да погода мне больно не понравилась и остался дома. А теперь-то жалею: слыхать, хорошо продали вы Рози.
— Мы? — И друг на друга смотрят, будто своих не узнают.
— Ну Геза, стало быть. По дороге домой за четыреста двадцать продал. Мне этот сказал, как его… Бени Чеке. Они домой-то вместе шли, все трое здешние: Геза, значит, потом Чеке и старый Совати. Геза и продал Рози, еще из города не вышли.
— Господи милостивый, куда же парень делся? Может, убили его, ограбили… И зачем ты его одного бросил, Габор? Почему с ним не остался? Ох, господи, смилуйся над нами… — плачет мать. Ходит по горнице и руки заламывает.
— А ну, тихо! Не скули тут мне… — прикрикивает на нее старый Тот. Он-то Гезу знает лучше. Тотчас отправляется старик к Чеке, и тот ему рассказывает, дескать, так и так, продал Геза корову за четыреста двадцать пенгё и в корчму вернулся с покупателем, с мужиком одним из Вестё да с его женой. Чтобы, значит, бумагу на Рози оформить и деньги получить. А больше они его не видели. То же самое рассказал и Совати. Так что с них спрос невелик.
Идет Габор прямиком в полицию.
Так, мол, и так, сын его продал корову и деньги растратил. Пусть найдут его хоть на дне морском и шею свернут.
— Стоит ли так сразу родного сына осуждать? Может, еще приедет с каким-нибудь поездом.
— А! Пропащий он человек… — машет старик рукой и уходит повесив голову. По пути заглядывает в кооператив, чтобы на случай, если вправду промотал парень деньги, не остаться совсем без ничего. Попросил в кооперативе четыреста пенгё под расписку и сказал, что придет за ними завтра утром: вдруг все же явится этот недотепа…
Однако Геза так и не явился. Базар был вчера, в пятницу, нынче суббота; до самого вечера прождали, и все напрасно. Тут уж и полиция начала расследование. Зазвонил телефон, полицейские в Вестё отправились, в корчму, куда Геза с мужиком заходил. Оказалось, в самом деле был он здесь. След, стало быть, найден, дальше нетрудно будет разобраться.
Пришли полицейские и в ту корчму в Неште, где Геза речь держал перед народом да цыган одел. Хозяйку, которая вообще-то корчму только арендовала, а не владела ею, допросили по всем правилам, устроили ей с цыганами очную ставку; так что постепенно все стало ясно. Сначала Геза в ресторане кутил, потом всей компанией в номер перебрались. Там трое цыган играли уже в новой одежде — после того как торговый агент по приказу Гезы достал все, что надо, у знакомого торговца. Цыгане играли, Геза дирижировал, барышня вино подливала, а хозяйка плясала на столе в голом виде. Да так плясала, что страшно было, как бы стол под ней не развалился.
Веселье продолжалось всю ночь и все утро, до полудня; а потом Геза такси заказал и укатил с барышней в Дюлу. Перед этим он все твердил, что ужинать только в Дюле желает.
Вот что смогла выяснить местная полиция. А дальше дело переходит в руки дюлайских органов… Когда все посчитали, вышло, что в корчме Геза потратил двести пятьдесят или двести шестьдесят пенгё. Больше всего ушло на одежду цыганам, которую с них обратно не потребуешь, потому что останутся они совсем нагишом…
Ну а тулуп все висел в углу на вешалке. Как единственное вещественное доказательство, которое можно было в руки взять.
Новость эта, конечно, разлетелась в один момент; давно не было в деревне столько смеху да пересудов. Четыреста двадцать пенгё… ну и дела. Целая корова… Вот тебе: отец денежки по филлеру собирал, недоедал, недопивал — а сын возьми да все и спусти. Ну, Геза, ну, Геза… Не в отца пошел, что и говорить. И ведь жил на всем готовом… Да, видно, как волка ни корми… А старому Тоту каково: сыночка вырастил на свою голову. Известно: судьба все гладит, гладит, потом возьмет да ударит…
Геза же будто сквозь землю провалился, не могут его найти. Хотя ищет полиция чуть не всего уезда.
7
Любое чудо — лишь три дня чудо; в конце концов утихли ахи да охи в деревне. Промотал Геза деньги — ну и ладно, ведь не только отцовские, а и свои промотал. И на здоровье. Раньше не больно Гезу уважали, а теперь совсем перестали. Кто на такие дела способен, тому на виселице место. Одним словом, в глазах мужиков окончательно пропал Геза, окончательно и бесповоротно. Все равно как если бы помер.
А коли ты помер, схоронит тебя родня, да соседи, да добрые друзья; если много ты хорошего на своем веку сделал, долго будут тебя вспоминать, а если много плохого — и того дольше. Не дано человеку знать, за какие дела получит он бессмертие.
Те, кто помер, покоятся в мире под травами, под прошлогодней листвой, ветры над ними летают, чудесные сказки нашептывают. А живые продолжают жить, в суете да заботах. Правда, в эту пору, зимой, они больше потягиваются да позевывают. Да еще на свадьбах гуляют. Или на крестинах. Это уж как получится. Лишь похороны редки зимой. Хоронят чаще по весне, когда снег сойдет и солнце рыжие тропки прогреет под заборами.
Свадьба — дело такое важное, что хватает его чуть не на ползимы. Для тех, конечно, кого она хоть одним боком касается. Еще до помолвки не сосчитать всяких волнений, радостей и печалей — а уж после помолвки… Ведь молодые еще и передумать могут: скажем, черная кошка пробежит между ними. Ведь если б они, молодые-то, в деревне одни были, тогда бы и разговор простой. А так — и у девки за спиной много чего, с чем разделаться надо, развязаться, да и у парня не иначе. К тому же, вот беда, как-то так всегда выходит, что не за того выходит девка, с кем свыклась, с кем вместе выросла, а за совсем постороннего человека. Потому и случается, что при помолвке нравится парень, а к свадьбе напрочь перестанет нравиться. Тут-то и бывают всякие неприятности.
Да только Марика, коли уж собралась замуж, так не для того, чтобы какие-то неприятности из этого получались. Она все до конца продумала, и никаких задних мыслей здесь быть не может. Вчера, правда, зашла к ней Маргит Шерфёзё, которая на свадьбе подружкой будет, и чуть не с порога говорит:
— Слышь-ка, Красный Гоз вчера вечером затрещину влепил господину Бернату в корчме.
— Хорошо сделал. Дай ему бог здоровья.
— Говорят еще, пьет он все время… после твоей помолвки.
— Ну, если деньги девать некуда… Ты как думаешь, Маргит, если подвенечное платье такое будет… совсем гладкое и длинное, рукав на запястье узкий, а сверху пошире… вот смотри, здесь манжета на пуговках… — и показывает на себе, каким будет платье.
— Ой, может, совсем длинное не надо. Очень уж по-господски.
— Ах, полно тебе. То́ господское, что господа носят. А что мы одеваем, то крестьянское, каким бы оно ни было.
— Ну как хочешь. Может, и хорошо… Я тебе еще не сказала, что Красный Гоз только весной Илонку Киш посватает.
— Говорю тебе, это меня не интересует, — сердится Марика; но, хоть виду не подает, а приятно ей слышать, что не скоро еще женится Красный Гоз на этой подлой девке. «Так ей и надо, пускай помучается», — думает про себя, но вслух не говорит ничего, потому и Маргит не удается высказать то, что поручил ей Красный Гоз. Потому что ему, Красному Гозу, теперь на чудо осталось лишь надеяться, которое произойдет в последний момент и не допустит, чтобы Марика стала женой Ферко Жирного Тота.
Однако с тех самых пор, как Иисус Христос явился к людям, что-то не случается на свете чудес; время движется час за часом, день за днем, и вес своим чередом идет. Три дня остается до свадьбы. Нынче, в воскресенье, священник в церкви в третий раз объявил Ферко и Марику женихом и невестой, так что в среду быть свадьбе.
А за оставшееся время еще ой как много надо сделать.
Самая первая забота — кухню оборудовать. А делается это так: в сенях, под трубой, выкладывают из кирпича возвышение сантиметров в тридцать высотой; здесь, на треногах, на кирпичных подставках, будут стоять казаны да котлы. Когда кухня готова, надо дров наколоть побольше, чтоб было вдоволь. Потом — воды бочку привезти из артезианского колодца; горницу одну освободить, поставить туда столы, стулья, скамьи, а все лишнее убрать, запереть куда-нибудь от соблазна. Ну, еще людей подходящих найти к бочкам с вином, в кладовую, на кухню — таких людей, на которых можно положиться, как на самого себя. Все зависит от того, как эти люди со своими обязанностями справятся, не ударят ли в грязь лицом.
Самая важная должность на свадьбе — у кухмистера. Не только потому, что он кухню может соорудить, но и потому, что бдительным оком надзирает за кушаньями. Чтобы злая рука не пересолила, чтобы не выкипело что, не пригорело. Ну и сила такому человеку нужна — в любой момент котел, чугун подхватить, если поварихе помощь потребуется. А для этой должности кто подходит лучше, чем старый Пинцеш? Он и живет близко, и даже каким-то дальним родственником приходится Тотам. Так что его и решили позвать кухмистером.
На многих свадьбах в деревне Пинцеш кухонными делами ведал — опыта ему не занимать. А еще знаменит он тем, что покойников опускает в могилу. Летом ли, зимой ли — все равно это его работа. Как зазвонят за упокой души, он уж встает к забору, слушает, когда усопшего понесут. И тут берет лопату и потихоньку идет на кладбище. Обопрется на лопату, стоит у могилы, дожидается. А гроб принесут, вытаскивает он ремень, опоясывается поверх полушубка, затягивается потуже. Спрыгивает в могилу. Так что он обнимает покойника напоследок.
В понедельник рано утром Пинцеш уже у Тотов.
На завтрак угощают его горячим вином с поджаренным хлебом. Выпивает он вина три кружки — ровно три, потому что, говорит, бог троицу любит — и за работу. Это значит: до полудня сени осматривает. Одной рукой за потолочную балку держится, другую в бок упирает и смотрит туда, где очаг должен быть. Место, стало быть, рассчитывает. Прикидывает, сколько кирпича понадобится и сколько самана. Самана нужно штук двести; однако хозяин пускай пятьсот добудет: лучше если останется, чем потом не хватит. Ну а кирпича надо штук сто, так что кладем сто пятьдесят, тоже с избытком. Чтобы не бегать после, не искать. На глинобитном полу проводит Пинцеш каблуком черту: здесь, значит, и быть очагу.
Домочадцы ходят вокруг, смотрят, любопытствуют. Даже Балинт Сапора, работник, и тот здесь — словно чувствует, что пришло его время: теперь, когда нет Гезы, приходится ему опорой быть для семьи.
Старый Тот выходит на крыльцо, осматривается, отправляется на поиски самана и кирпича. А Пинцеш по дворам идет, собирать посуду. Из посуды самое важное — казан для чиги[7]. Казанов таких в деревне всего два: один — у вдовы Пашкуй, другой — у тетки Бири, что в Кладбищенском углу живет. Пинцеш, конечно, к вдове направляется: не только потому, что у нее котел побольше, литров на шестьдесят, а еще и потому, что вдова поварихой будет на свадьбе.
Большая посуда требуется и для паприкаша, и для каши — все надо собрать. Да еще следить, чтобы от кого-нибудь вместо кастрюли по шее не получить. Не знаешь ведь, кто чем дышит. Не упомнишь, кто кого обидел.
Во вторник колют овец, пожарную бочку берут, наполняют водой, привозят и устанавливают посреди двора. Бабы уже калачи пекут: одна тесто месит, другая огонь поддерживает, третья обеим помогает. В двух соседних дворах затапливают печи, осматривают их, щупают, прогрелись ли, — дел хватает по горло. Целый день ходят люди, дверьми хлопают. Один тепло выпускает, другой холод впускает — смотря по тому, откуда идет, из горницы или с улицы… А над всей этой суетой, как тень, нависает призрак Гезы.
Никто его имени не произносит, никто даже намеком не вспомянет; только мать порой всхлипнет вдруг — и тут же смолкает испуганно, словно во сне случилось ей заплакать.
В воскресенье ходили шаферы по хатам, звали в понедельник вечером приходить на чигу. От каждого двора, где шафер побывал, кому-то следует быть обязательно. Где девка есть — девке; где нет девки — парню, а если и парня нет, то бабе. Все равно, молодой или старой. Однако ж гостей стараются подобрать так, чтобы парней и девок было примерно поровну. Тогда и в веселье не будет заминки. Ну конечно, кого попало не позовешь: приходится учитывать родство, свойство. Всего набралось что-то дворов семьдесят. От каждого придет человека по два; так что на сто сорок, сто пятьдесят человек можно рассчитывать.
Стряпанье чиги — почти то же, что и свадьба. Девки, бабы наряжаются в самое лучшее. Как стемнеет, берут они в руки скалку, а скалка — это не что иное, как веретено со снятым кольцом. В другой руке — тарелка с мукой, сверху на муке — четыре-пять яиц. Идут друг за другом к женихову дому, каждая муку и яйца несет. Только доски не несут: доски пусть ищут хозяева, где хотят.
Ворота на улицу распахнуты настежь — чтобы не хлопать поминутно. Собака под навесом уж и лаять бросила, только иногда вдруг рванется с цепи, словно пробует: может, сейчас оборвется… может, сейчас… Идут и идут гости. У каждой в руках, словно фонарь, светится белый платок, в который завязана тарелка с мукой.
Сегодня здесь собираются все мало-мальски стоящие девки из деревни.
В сенях огонь пылает на очаге; пока что вода греется: для рук, да и тесто на ледяной воде не замесишь. Когда время придет, поставят воду и для чиги. Сегодня сварят немного, только для гостей.
Входит в сени Илонка Киш; навстречу ей сразу три бабы спешат из полумрака. Одна платок развязывает, другая тарелку уносит, муку высыпает. Илонка им не мешает: пусть делают что хотят. Через открытую дверь смотрит в горницу. Светло там, будто в праздник, снежно-белые скатерти лежат на столах.
— Ну проходи, Илонка, — ласково говорит вдова Пашкуй и отдает платок. Он еще Илонке пригодится, повязаться, если скать придется.
В горнице уже народ собирается. Здесь и Пирошка Пашкуй, и две сестры Тарцали, и несколько баб. Месят тесто; на столе — горячее вино, от него душистый пар поднимается, калач белеет; кто руки моет, кто уж тесто раскатывает — словом, работа начинается…
К шести часам все собрались, кто хотел прийти. Всё девки да бабы; мужчин — ни одного. Кроме, конечно, главного шафера. Ему здесь полагается быть с самого начала. В черном пиджаке, с холщовым полотенцем вместо передника, появляется он то здесь, то там, готовую чигу выносит, подымая блюдо над головой. Вином, калачами гостей угощает — и вот уж девки заводят песню — громкими, резкими голосами, будто полотно раздирают.
Угловая комната вся уставлена столами да стульями, и везде на столах мелькают проворные руки, чигу лепят. Тесто желтеет, как масло из пахты; девичьи пальцы бегают по обсыпанным мукой доскам, белые, чистые, проворные. Каждая девка лепить хочет, а тесто месить да скать — охотников мало. Потому что месить — дело непростое: тесто не должно быть ни слишком мягким, ни слишком густым, а как раз таким, как требуется. И скать надо так, чтобы сочни были ровными да крупными, чтоб края не рвались и не были бы толще середины. Потому и не хочется девкам браться за это дело.
— Слышь-ка, пусть кто-нибудь из девок еще скет, мы не успеваем, — говорит одна баба.
Девки переглядываются, глаза прячут; сейчас бы стать им совсем маленькими и незаметными.
— Кто замуж собирается, тот пусть и скет, — кричит Маргит Шерфёзё.
Илонка Киш понимает, что это про нее. Ей бы по правилу сразу за скалку взяться, без намеков. Да что-то не уверена она, что сумеет сделать эти огромные сочни так, как полагается. Живут они с отцом вдвоем, и если случается чигу стряпать, так сочни больше, чем в две ладони, у них и не бывают; и если, скажем, край разорвется, тоже не беда. Никто и не заметит. А здесь… Сердце у нее отчаянно бьется. Щеки краснеют, а подбородок бел, словно мраморный. Да ничего не поделаешь, видно. Встает, прилаживает вместо фартука платок, который до тех пор у нее на коленях лежал, подходит к доске, сердито заталкивает уголки платка за пояс юбки.
— А ну, Илонка Киш… покажи, на что ты способна, — говорит Маргит Шерфёзё, говорит с серьезным видом — а девок, чудное дело, смех разбирает.
— Эх, что там… если замуж человек собирается… — это уже одна из сестер Тарцали говорит, меньшая. Илонка берет скалку и решительно склоняется над тестом. Даже бабы, что в сенях заняты, толпятся сейчас в дверях, смотрят, сложив руки под грудью.
— Меня пропустите, — кричит за спиной у них шафер, поднимая вверх блюдо с калачами, и протискивается боком в горницу. Илонка на окно косится, руки ее мечутся над скалкой; боится: вдруг разлезется сочень в середине или по краям и парни, что в окна подглядывают, все это увидят. То есть парни-то — ничего: Йошка Гоз увидит… для нее теперь весь свет на нем, на Красном Гозе, сошелся клином.
— Молодость… молодость… — шепчет мать Ферко и тут же вспоминает другое. Всхлипывает громко — и испуганно озирается. Уходит с порога обратно в сени. Про Гезу думает, про старшего своего. Может, схватили его, в кандалы заковали… может, волки сожрали где-нибудь в поле…
А Геза и не догадывается, что мать о нем тужит в эту минуту. Зато догадывается он, что ночь, должно быть, будет морозной, и глубже втягивает голову в воротник, стараясь спрятаться от колючего ветра. Обернувшись назад, говорит: «Давай скорей, пока нас этот мошенник не увидел». И смотрит на корчму, оставшуюся на околице села, где вспыхивают, прорезая тьму, фары автомобиля и раздаются протяжные гудки. То тонкие, пронзительные, то грустные, басовитые. Сигналит машина, зовет пассажиров — а те, пригнувшись, торопливо идут по заснеженному полю.
— Господи, только б не увидел… — причитает вполголоса девка… то есть барышня, цепляясь за Гезу и увязая в снегу. Деревня, корчма, машина постепенно отодвигаются назад, тонут в темноте. Вот гудок завопил жалобно еще раз — и смолк. Только фары еще шарят в небе, словно там отыскивая сбежавших пассажиров. Да пусть бы они и в самом деле на небеса улетели, черт с ними, только бы заплатили сначала. Так нет же, чертовы дети. Вылезли здесь, на околице, сказали, сейчас вернутся, только чего-нибудь перекусят, и пошли через мостик к корчме. Шофер кивнул, ничего не подозревая, посидел в машине, потом принялся лампы какие-то менять, осматривать; одним ухом все же прислушивался: где они, что-то долго дверь не открывается в корчме. Но вот наконец блеснул свет и вроде бы двое вошли внутрь.
А Геза с барышней в корчму даже не заходили. Только заглянули в окно, и тут Геза схватил ее за руку и богом потащил за собой куда-то в сторону. От корчмы шла тропинка к насыпи, потом вдоль ручья, сворачивала на пастбище, а там — прямо к деревне Гезы.
Положение у Гезы — хуже не придумаешь. Все до последнего филлера истратил, да еще девка эта на шее. Вот и пришлось домой подаваться: будь что будет. Авось как-нибудь обойдется. А девку — почему бы ее с собой не взять? И из нее такая же баба выйдет, как из любой другой. Она не виновата, что жизнь так сложилась: видно, такая у нее судьба.
Вот так рассуждал про себя Геза. И что в этом удивительного: ведь едва успел он жениться, как жена его тут же бросила. Она, конечно, не такая была, как эта девка, — совсем другая… И вообще, только подумать, что он нигде почти и не был за всю жизнь, кроме своей деревни… Всего один раз ездил на поезде. И раз — на машине, когда ужинать поехали в Дюлу. Ну и, ведь если он куда на машине приехал, не пешком же возвращаться оттуда. Голодным, по зимней стуже.
Сначала Геза собирался было на машине до самого дома ехать: там, мол, отец с шофером расплатится. Однако, чем ближе подъезжали они к деревне, тем ясней ему представлялось, что будет, когда он подкатит на машине к воротам. А особенно когда шофер деньги потребует, тридцать или сорок пенгё. Уж Геза-то отца знает: тут такое начнется, чего и свет не видывал. Ни он, ни шофер так просто не отделаются, это точно… Словом, чем меньше оставалось ехать до дому, тем страшней ему становилось. Добрались до соседней деревни, и Геза больше не выдержал. Здесь еще не поздно. Здесь еще можно что-то придумать, чтобы избежать беды. Ну, он и придумал: взял барышню за руку и вылезли они из машины. Мол, сейчас вернутся… И вот уж они где. Бредут по снежному полю километрах в пяти от дома.
Машина еще раз взвыла отчаянно, будто от боли, потом двинулась вперед, остановилась, поехала назад и скрылась между домами.
— Что теперь будет?.. Ты хоть ему сказал, куда мы едем-то?
— Еще чего. Я пока в своем уме. Пусть едет, куда хочет… — но все-таки жаль Гезе шофера. Он ведь тем кормится, что людей возит. А он, Геза? Раздавал деньги направо и налево, покуда были. Виноват он разве, что ничего больше не осталось? Вот, скажем, цыган одел с головы до ног — разве плохо это? Цыганам ведь даже нужнее было, чем шоферу. Будь его, Гезы, воля, он бы все деньги, какие в мире есть, бедным раздал. Никого бы не обделил.
Нет для него таких обвинений, от которых он не смог бы отбиться.
А что, собственно говоря, случилось? Ну, истратил он деньги, за корову вырученные. На цыган истратил, на вино, на гостиницу; сколько-то вот барышне просто в передник высыпал… Да ведь она все вернула. Даже, пожалуй, с излишком. Потому что они оба на ее деньги жили последние дни.
Конечно, братец его, этот чистюля, имеет право деньги тратить, ему разрешается. Как он их там тратит — не важно. Небось на его, Гезы, свадьбу никто не продавал корову. Для него пир на весь мир не устраивали. Вот он сам и взял свою часть из отцова богатства.
А если это отцу не нравится, пусть вычитает потом из его доли.
— Скажи откровенно, милый, твои родители не будут сердиться? — беспокоится девка, у которой и имени-то своего, пожалуй, нет, и жизни-то всего ничего, да и ту провела она в грязной, вонючей корчме да в затхлых гостиничных номерах.
— Полно. Я же сказал, что… в общем, иди, не бойся.
Темное пятно вырастает на краю поля: это их деревня. Чем ближе она, тем холодней им становится, неуютней.
— Знаешь, Геза, ну давай серьезно поговорим, пока еще не поздно. Если скажешь теперь, чтоб я обратно шла, пойду обратно. Подумай, что ты делаешь. Родители твои меня ругать, проклинать будут, родственники надо мной посмеются… Можно еще вернуться… давай я вернусь… — останавливается она на тропинке в потрепанном, тонком своем пальтишке среди ветреной зимней ночи — словно ледяная фигура, которая стоит здесь, стылая, давным-давно и лишь на один краткий миг ожила, специально чтобы пронять Гезу.
Понимает он, что, пожалуй, самое умное было бы прогнать эту девку, как бездомную собаку… Пошла б она себе по тропке до корчмы, а там по следам машины до самой Дюлы, потом все дальше, дальше, пока не доберется до дому… или пока не проглотит ее навсегда снежная ночь.
— Сказал, будешь моей женой… так чего пристаешь? — отвечает он сердито, но так странно чувствует себя при этом, будто шея у него совсем открыта и ветер свободно гуляет за воротом.
Девка же смотрит на Гезу, как на святого, который иначе как в браке и представить себе не может отношений менаду мужчиной и женщиной.
Пять километров даже зимней ночью должны иметь конец. И вот уже лают совсем рядом собаки. Даже не заметили Геза с барышней, как в деревне очутились.
— Тс-с… теперь, смотри, тихо, — шепчет Геза и идет по улице чуть ли не на цыпочках. Чем ближе подходит он к дому, тем больше боится чего-то, но чего — не хочет об этом думать. Идут они по Главной улице, вот уже и дом показался; даже издали видно, что не только дом, но и двор ярко освещен.
— Помнишь… я тебе говорил, что брат у меня женится? Так это к свадьбе готовятся. Нынче чигу стряпают, — вполголоса говорит Геза, остановившись у забора.
— Помню, — тоже вполголоса отвечает барышня, и кажется ей, что там, за забором, какая-то сказочная, счастливая жизнь. И лишь они с Гезой стоят здесь, будто грешники перед вратами рая.
— В хлев, что ли, пойти… — шепчет Геза, у которого уже зуб на зуб не попадает от холода.
— Ладно, пойдем…
— Нет, туда тоже нельзя… того и гляди заскочит кто-нибудь… Постой-ка здесь. Если кто заговорит с тобой, не отвечай. Я сейчас приду. — Геза идет вдоль забора и скрывается в распахнутых воротах. А барышня, оставшись одна, еле удерживается, чтобы не закричать в тоске душевной: все, не вернется больше Геза, не вернется… И в то же время не странно ей, что бросили ее в темноте, у чужого забора, в чужой деревне. Разве имеет она право надеяться на кров над головой? Разве имеет право думать, что найдется в целом свете человек, который возьмет ее за руку и поведет с собой туда, где уж давно нет ей места? Ох, нет на земле такого человека. Вот разве что Геза… да не сумела она сделать все, что следует, что-то такое сказать, что-то… а теперь уже поздно. Стоит, припав к забору; ноги стынут в туфлях… одну ногу едва чувствует — и даже рада этому: вот так и будет стоять не двигаясь, пока не окоченеет, и тогда конец всем мытарствам, что приготовила ей судьба…
На веранде, под окнами, парни собрались, веселятся кто как может. Сапоги стучат по кирпичному полу, смех раскатывается, словно мерзлые земляные комья. Дверь в сени распахнута, оттуда пар валит столбом. В облаках пара стоит Пинцеш, кухмистер. Вот увидел что-то в глубине двора, пошел было туда. Показалось, что в лучах света, падающих из сеней, мелькнуло знакомое лицо, и было это лицо Гезы. Но никого уже нет поблизости. Только Косорукий Бикаи взбегает на веранду: кто-то из парней столкнул его оттуда.
А Геза уже в хлеву, роется в соломе под постелью Балинта Сапоры. Знает он повадки Балинта: такой случай, как стряпанье чиги, Сапора не упустит, обязательно чем-нибудь да поживится. И точно: из-под тряпья вытаскивает Геза целый калач да две бутылки вина. Прячет их за пазуху — и давай бог ноги. Выскочив на улицу, озирается, потом подходит к барышне.
— Пошли, — берет ее за руку.
А у той туфли легкие, тонкие, чулки еще тоньше; еле переступая одеревеневшими ногами, говорит жалобно:
— Куда опять?
— К тетке моей, Пашкуй. Здесь все равно оставаться нельзя. Потом все уладим, не бойся, — и тащит ее за собой.
Ключ висит, как обычно, на гвозде, вбитом в стену, под старым горшком. Геза снимает ключ, замок отпирает. Дверь визжит на промерзших петлях и захлопывается за ними. Вспыхивает спичка; видно, как через сени огонек движется в летнюю горницу. Там окончательно останавливается и еще долго светится в окне.
— Ну вот… пришли, — говорит Геза и выкладывает на стол съестное.
Калач — тугой, каштановый, плетеный, как узел на затылке у молодых замужних баб. Вино в бутылке — совсем светлое, будто выжимали его не из гроздьев, а из корней виноградной лозы. Барышня оглядывается вокруг — больше со страхом, чем с удивлением: в этом мире ее уже мало чем удивишь.
— Ой, плохо это кончится, Геза, — говорит. Холодно ей. Сидит, съежившись, голову втянув в плечи.
— Плохо? Ха… Тетка Пашкуй — баба добрая… Погоди маленько… сейчас здесь тепло будет, не бойся, — выходит в сени, лампу берет с собой, растапливает печь. Кладет в печь солому, что вдова приготовила на утро, и через некоторое время тепло расходится по летней горнице, впитывается в занавески, в стулья, в постель. Барышня разламывает калач, медленно жует, рассеянно уставившись на угол стола.
А у Тотов стряпня в полном разгаре.
Парни все нетерпеливее топчутся на веранде, заглядывают в окно; некоторые в хлеву устроились, где потеплее. Балинт Сапора там угощает их вином, калачом. Кто-то бутылки припрятанные уволок? А, беда невелика. Зря, что ли, они старые друзья с Пинцешем? Так что и выпивка, и закуска для Балинта всегда найдутся… Пинцеш, улучив момент, подзывает к себе Тотиху, говорит:
— Слышь-ка, Ракель. Но знаю, может, показалось мне… вроде как Геза был тут во дворе.
— Господи боже… Да куда он делся-то?
— Этого не видал. Я тут у дверей стоял, а он — мелькнул, и нету…
— Вернулся-таки домой, болезный… — плачет мать; потом внезапно замолкает. Смотрит вокруг, не слышал ли их кто посторонний, нос вытирает передником. Идет в хлев, где Балинт Сапора, скинув пиджак, рукава засучив, как раз отплясывает что-то несуразное, а несколько парней стоят вокруг и хохочут.
— Геза здесь… Геза вернулся… — расходится слух; бабы, сдвинув головы, шепчутся, посматривают на дверь. Девки тоже на дверь косятся; ждут, что Геза встанет вдруг в дверях — в новой, сказочно богатой одежде, принесет с собой что-то такое, чего в деревне и не видывал никто. Словно ушел из дому один Геза, ленивый и незадачливый, который никогда слова громкого не смел вымолвить, а вернулся совсем другой, который взял да прокутил целую корову и для которого голые бабы на столе танцевали… Словом, что-то вроде Шандора Розы[8] или Ринальдо Ринальдини…[9] Может, когда-нибудь его даже повесят… Только напрасно ждут его девки с таким нетерпением; не приходит Геза. Вместо него в дверях появляется старый Тот. Оглядывает горницу, будто ищет кого, и идет дальше.
— Где вилы? — рычит. — Ужо я из него кишки-то выпущу…
Посланцы бегут к Лацитоту и обратно: там ждут свой черед музыканты. А черед их настанет, когда готова будет чига. Ферко возвращается домой от невесты: до свадьбы ему каждый вечер надо там быть, таков обычай. Хлопают двери, сапоги стучат; мужики, входя в дом, снег обивают на пороге. Во всяком случае, стараются обивать — и в сенях, и на пороге дорожки мокрых следов. Вдова Пашкуй то и дело заглядывает в угловую комнату: опускать чигу или рано еще?.. Вот-вот будет готово; пора накрывать на столы. Звенят ложки; шум, смех стоит в доме — лишь иногда стихает, словно камыш, когда ветер отклонит его в сторону от тропинки.
Поели — и тут музыканты берутся за дело. Парни входят толпой, ведут девок танцевать. «Эх, пляши, пляши, давай… у других не отбивай…» — покрикивают и так бьют каблуками в пол — аж звон стоит.
Все уже пляшут, только Красный Гоз стоит у двери, возле цыган. Сигаретой затягивается торопливо, чтобы скорей догорела, смотрит, как она уменьшается; дым изо рта пускает. А сам глаз не поднимает. Словно ждет чего-то, а чего — неизвестно. Илонке тоже непонятно, чего он ждет. Илонка тоже стоит одна, у противоположных дверей. Ее никто не позвал танцевать. Да и кто позовет: все ведь знают, что она с Красным Гозом гуляет. И что на будущей неделе он ее посватает. Смотрит Илонка боязливо поверх голов туда, где стоит Красный Гоз. Не видит он ее, что ли? Не видит, наверное… Что-то нужно сделать, чтобы он ее заметил. Подойти к нему… да очень стыдно. И так тоже стыдно, что он стоит там, а она здесь… Ох, господи, почему он не смотрит на нее?
А Красный Гоз, вот он — уже смотрит. Да еще как смотрит. Зло бросает на пол сигарету, давит ее носком сапога и, глядя перед собой, идет к Илонке. Не дожидается, пока ему танцующие пройти дадут: просто берет и расталкивает их грудью. А ведь когда парень с девкой танцуют, нет для них в мире никого важнее, чем они двое. Поэтому обижены все на Гоза смертельно. Но задираться? С Красным Гозом? Ну нет. Потом как-нибудь… Найдется и на него управа.
Словом, Красный Гоз через танцующих проходит, останавливается перед Илонкой и, не глядя, протягивает к ней руки. Одну на пояс кладет, другую на плечо — и уже пляшет.
Что это сегодня с Йошкой?..
Ах, да что там. Раз он здесь, с ней, значит, все хорошо.
— Не нравится мне, как ты учительше говоришь «целую ручки», — начинает Красный Гоз без всякого предисловия, и даже теперь не на Илонку смотрит, а мимо нее, в стену.
— Я? Ты что? Когда это я…
— А хоть вчера, например. И всегда.
— О, да ведь… а что в этом такого? Все так говорят, нехорошо по-другому.
— Нехорошо… Я как-нибудь лучше знаю, что хорошо, что нехорошо. Она такая же девка, как и ты. При чем же здесь «целую ручки»? — сердится Гоз. Да только чувствует Илонка, не из-за этого он злой: тут какая-то другая причина. Только вот не знает какая.
— Ладно, больше не буду так говорить.
— Это еще почему?.. — снова сердится Йошка. Теперь уже за то, что слишком Илонка уступчива. Нет чтоб оправдываться, спорить: до того мягка да покорна, будто муха в сметане. Интересно, она со всеми такая послушная, как с ним? Эх, полклина земли… хата… Играют цыгане, и вторая скрипка все время чуть-чуть припаздывает. Поэтому кажется, что музыка играет где-то за забором, долетая оттуда вместе с эхом. В горнице — пыль столбом; все танцуют. Это уже как будто и не танец вовсе, а что-то такое, на чем мир держится. Скажем, когда копать надо, человек копает, когда проголодается — ест, когда устанет — спит. Так и сейчас: все танцуют, потому что… ну, потому что полагается. Вон Тарцали с Пирошкой Пашкуй: голова поднята, сам назад отклонился, шапка заломлена, плечи не шелохнутся. Лицо скорей мрачное, чем веселое. Все, что кричать полагается, парни уже откричали, теперь помалкивают. На трезвую голову легко ли дурачиться? Ферко, правда, выслал на веранду фляжку с вином, да она сразу попала к Косорукому Бикаи, а рядом еще Макра стоял, тут фляжке и конец пришел. Даже на дне не осталось.
— От…ды…хай… — выводят музыканты смычками; значит, первый танец кончился. Еще два впереди. В таких случаях закон — три танца.
Если на первый танец зовет парень ту девку, с которой гуляет, которая его милой считается, то на второй положено пригласить ее подружку. А на третий — опять свою. Это — тоже закон. И все ему подчиняются — один лишь Красный Гоз мрачно сосет сигарету, нагнув по-бычьи голову. Хм, стало быть, ему теперь с Илонкиной подругой плясать, а потом снова с Илонкой? Ну ладно… Однако Илонка что-то опять притолоку подпирает: никто с ней танцевать не захотел. А зачем: пусть Красный Гоз и танцует, раз она его девка. Илонка вначале ужас как стыдится, что никто к ней не подошел, а потом, эх, пожимает плечами. Ладно, ладно, еще неделя или две, и у них с Йошкой тоже будет чига, и будут парни с девками отплясывать не хуже, чем нынче у Тотов. Не отвертится Йошка: привязала она его к себе накрепко, осечки тут не будет. Потому, наверное, он сейчас и невеселый такой, бедняга…
Кто-то подает в дверь фляжку с вином. Макра сразу ее подхватывает, пьет, потом отдает Тарцали. А сам трясет головой, словно в воду окунулся, и кричит:
— И-эх-эх-эх-эх…
И бьет сапогами по полу, будто кизяк месит.
Красный Гоз все там же стоит, между дверью и музыкантами; потом, как в первый раз, затаптывает сигарету и двигается напрямик, расталкивая танцующих. Руки протягивает к Илонке, ждет пару тактов и сразу вступает в танец.
— Я не понимаю… чего это ты сегодня так причесалась, — говорит с досадой. А вообще-то он, можно сказать, и не видел сегодня, что у нее за прическа. Вот и сейчас мимо смотрит, в стену.
— Йошка, да ведь ты сам сказал, чтобы я так причесывалась, потому что идет мне… — Илонка изо всех сил старается ласковой быть. Словно Красный Гоз похвалил ее от души.
— Я сказал? Когда это? Если только спьяну… — однако теперь и сам припоминает: что-то в этом роде говорил Илонке про прическу. Ну и что, разве он обязан помнить, о чем случалось с девками болтать?
«Нет уж, не удастся тебе со мной поссориться, собака, не надейся», — думает Илонка и, выбрав момент, придвигается к нему, прижимается грудью. До того дорог ей этот парень, до того дорог… на все готова, чтоб только его женою стать. Чувствует Красный Гоз упругую, горячую Илонкину грудь; волосы ее, щекоча, задевают ему лицо. И постепенно отходит, смягчается. Все ж таки полклина земли, хата… виноградник… да и сама она девка неплохая, что ни говори. Пальцы его, повеселев, гуляют по пуговицам на спине Илонки. Вот голову поднял, смотрит на музыкантов, пока глаза его не встречаются с глазами первого скрипача; тот кивает понимающе, обрывает песню, которую играл, и тут же заводит новую:
Эх, мне добыть бы, эх, мне добыть бы Форинтов полтыщи, Все б раздал я, эх, все б раздал я беднякам да нищим. Только денег нету Ни зимой, ни летом. Эх, заблудилась, эх, заблудилась Доля моя где-то… Доля моя где-то…Мурлычут скрипки, словно кошки, песня теплый ветерок под ногами у танцующих подымает.
Это любимая песня Красного Гоза. Ее он всегда заказывает, когда бывает в настроении. Ну а плясать под нее — сами ноги просятся.
Девки плечами поводят, будто от озноба, теснее к парням прижимаются.
Парни девок поближе к музыкантам ведут, где пошумней да потесней — только успевай поворачиваться. Всем будто веселее стало, как Красный Гоз развеселился. Подростки да девчонки помоложе — про которых говорят: мелюзга — с краев толкутся, но и они отставать не хотят, пляшут без устали. Есть тут пара, где девка намного выше своего кавалера, а то, наоборот, дама кавалеру до пупа достает еле-еле. Парни пришли в будничном, разве что сапоги начистили. Девки же принарядились. У самых молоденьких лицо до того нежное, словно кожица на недозревшем персике. Волосы назад зачесаны гладко и в косу заплетены; на конце косы завязана бантом широкая лента.
Снова подают в дверь фляжку; на сей раз перехватывает ее Красный Гоз. Сам пьет, потом Илонку потчует. Та хоть и передергивается заранее, а отказаться не смеет. Отпив немного, делает вид, что ей совсем уже весело, и передает вино цыганам, а уж те на фляжку кидаются, будто голодные куры на червяка. И пляшут у них смычки после этого кто в лес, кто по дрова.
Только разошлась, развеселилась молодежь — а тут и третьему танцу конец. «Кавалеры целуют дам», — объявляет первый скрипач; но объявляет больше по привычке. Все равно никто его не слушается: не хватает еще при всем честном народе целоваться. Стыда не оберешься. Только подростки всерьез относятся к его словам: дергают, тянут к себе девчонок, чмокают их — пусть не в щеку, а куда придется: в волосы, а то и совсем мимо…
— Досточтимые гости… — начинает было шафер торжественно, но тут, вспомнив, с кем дело имеет, запинается и другим голосом продолжает. — Стало быть, вот что: послезавтра… то есть не послезавтра, а в среду, будьте вовремя, не опаздывайте. День короток, вечер наступит быстро. А теперь всем спокойной ночи.
Что бы и как бы он ни сказал — слушают его слова, как откровение. Еще бы, это дело серьезное. С минуту стоит тишина, только Макра хохочет:
— Ишь ты! Что знал, все сказал, и чего не знал, и то сказал.
Девки схватываются, разбирают платки, шубейки; выходят. За ними и парни к дверям кидаются, толкаясь. Через минуту пустеет дом; только хозяйка ходит меж столами да вдова Пашкуй. И Пинцеш появляется в двери. Руки — за спиной, будто палку там прячет, вот-вот размахнется и начнет колотить кого ни попади.
— Ну слава богу, и этот день кончился, — говорит вдова, начиная наводить порядок. — А с утра пораньше снова начнем, где нынче кончили…
Будто и лампа теперь горит светлее, и воздух чище, свежее становится. С улицы доносится шум, молодые голоса. Слышно, как расходятся гости.
К ночи похолодало, мороз пощипывает щеки. Небо над деревней ясное, чистое; лунный свет щедро льется на искрящийся снег, улица сверкает, словно усыпанная блестками. Мерцают под луной и деревья, а под деревьями спешат, разбившись на пары, девки и парни. Вышли вроде вместе — а потом как-то незаметно разделились, кто с кем. Каждой девке нашелся провожатый. Только Пирошка Пашкуй одна. А ведь она нарочно не стала мать дожидаться, пошла домой, надеясь, что вдруг… вдруг… Видела ж она, что Красный Гоз целый вечер не ладил с Илонкой. А теперь вон они, идут себе рядышком и смеются весело…
— Что-то рука озябла, — притворяется Красный Гоз, просовывая ладонь под Илонкину руку.
— Ну давай ее сюда, — говорит Илонка и кладет его руку к себе под шаль, к сердцу.
Пирошка замедляет шаги, оглядывается. Сзади догоняет ее другая пара: это Макра с Маргит Шерфёзё. Пирошка, вконец расстроенная, еле удерживая слезы, спешит на середину улицы. Потом перебегает еще дальше, на другую сторону. Некоторое время идет вместе с парочками, пока не приходит время свернуть в переулок, к дому.
Грустная приходит она домой. Для нее ничего не принес этот вечер: хоть пока и не женится Красный Гоз на Илонке, а все равно ей, Пирошке, одной ходить домой, как вчера и позавчера. В чем тут дело? Кто виноват? Кто-то виноват ведь: или она, или мать, или парни.
— Не пойду замуж, ни за что не пойду, ни за кого, — приговаривает она про себя, шаря в горшке. А там пусто, нет ключа. Берется за ручку — дверь открывается. Вот те на! Мать забыла дверь запереть. Вдруг утащили что-нибудь… Но нет, все на месте. Только на лампу смотрит Пирошка недоуменно: помнится, вчера мать доверху налила керосину, а сейчас и половины нет. Укладывается. В голове еще звенит некоторое время мелодия танца; наконец засыпает Пирошка. Пусть никто не проводил ее нынче домой — не такое это горе, чтобы она из-за него по ночам не спала.
Пирошка спит; но не спят еще остальные.
Никак не хотят друг с другом расставаться.
Стоят у калиток, рядышком, близко, и говорят, говорят, наговориться не могут. Столько всего нужно сказать друг другу, что ни минуты нельзя упустить.
Младшему брату Тарцали, Имре, едва минуло семнадцать. Сегодня он первый раз в жизни провожал девку — Ирму Балог, двоюродную сестру Илонки Киш. А Ирме всего лишь пятнадцать стукнуло. Но девка она уже теперь красивая, сразу видно. Ужасно доволен Имре, что позволила она ему домой себя проводить; однако чувствует он, что это не все, что для полного успеха чего-то не хватает. Стоит Ирма возле него тихая, послушная, лишь каблуком постукивает о порожек. Пахнет от нее так, словно под шалью прячет Ирма айву; по новому передничку матово струится лунный свет.
— Хорошая нынче погода… — говорит Имре; слышал он, что с девками обязательно разговаривать надо о чем-нибудь.
— Хорошая… только холодно, — отвечает Ирма и прячет руки под шаль, плечами передергивает.
— Да… холодно. А в прошлом году однажды еще холоднее было…
— Ага. Зимой часто бывает холодно…
Молчат. Как-то ничего больше в голову не приходит. Имре отчаянно думает, что бы еще такое сказать. О чем-то надо разговаривать, как все парни делают, ведь он тоже парень, ему полагается с девками гулять, и притом как раз с этой девкой гулять хочется. Ей — пятнадцать, ему — семнадцать, так что по всем статьям она ему подходит… конечно, если не останется он на сверхсрочную в армии, потому что ему и в армии служить охота… Ирму он пошел провожать с намерением, что сегодня во что бы то ни стало доведет дело до конца и, если удастся, поцелует ее. Да не так, как на чиге, когда цыган крикнул, чтоб своих дам целовали. Там — это что! А настоящий поцелуй — это, должно быть, такое дело, слаще которого ничего нет в целом свете.
Эти подростки по-иному и представить не могут поцелуй, кроме как вот так, у калитки, на лютом морозе.
Имре вдруг кидается на девку, как голодный теленок на мать, и поцеловать норовит. Да только Ирма успела выставить вперед обе руки, а задом в то же время калитку толкнула — и вот она уж во дворе, на расчищенной в снегу дорожке. Стоит и со страхом смотрит на Имре.
Кажется Имре, сейчас земля разверзнется под ним, конец света наступит — до того ему стыдно. Значит, не так надо? А как же тогда? Сколько говорили об этом ребята, а толком никто ничего не мог сказать. Хочет он убежать, да карманом цепляется за засов, карман трещит и рвется. Обернувшись, видит, что Ирма как раз идет к дому. У парня хватает ума сообразить, что бежать теперь вроде ни к чему. Потихоньку бредет он домой, понурив голову.
Совсем другой разговор происходит перед хатой Илонки Киш.
— В общем… пришли, — останавливается Красный Гоз у калитки. Вытаскивает руку из-под шали.
— Пришли. Зайдешь на минуточку? Обогреться?
— А я не замерз… вот только руки, — и снова засовывает их к Илонке под шаль.
— Все равно заходи. — Илонка оглядывается: есть ли кто-нибудь на улице. Хорошо, если бы кто-нибудь увидел их вдвоем, чтобы завтра вся деревня об этом знала. Этим бы Илонка только крепче привязала к себе парня.
В хате темно, но на скрип двери зашевелился на своей постели старый Киш.
— Ты, Илонка?
— Я… и Йошка со мной, — отвечает Илонка, зажигая спичку. Старик кашляет, потом поворачивается к стене.
Впервые Красный Гоз оказался у Илонки так поздно, после полуночи, и есть в этом что-то удивительное, волшебное. Даже хата словно бы изменилась, не такая, как всегда. Все стало другого цвета и другой формы: печь — белее, а белая занавеска — словно бы желтоватая, как чайная роза. Илонка ходит по хате; Красный Гоз видит то ее отражение в зеркале, то тень на стене. Вот дверцу шкафа открывает Илонка — с таким видом, будто подарок припасла там для Гоза.
Прячется она за дверцу, шуршит одеждой и потом выходит в белой кружевной юбке, в легкой неяркой блузке. Берет парня за руку, тянет его к комоду; оттуда, из-за комода, не видна постель, где спит отец, и тень туда падает от спинки кровати.
— Любишь меня хоть немножечко? — И Красному Гозу кажется, что в самом деле любит он Илонку. А почему бы ему ее не любить? Преданная, податливая, молодая, красивая. И что он такое нашел в той, в другой? В Марике? Дикая, как кошка, того и гляди царапаться начнет. Хорошо, если несколько раз позволила поцеловать себя за все время. А ведь что от девки требуется? Чтобы не была недотрогой, не фыркала, была бы ласковой, покорной… Красный Гоз торопливо старается вспомнить все, чем Марика не похожа на Илонку. И вот поди ж ты: чем больше недостатков он в ней находит, тем труднее ему не думать о ней. Сердясь на себя, хватает он Илонку и усаживает к себе на колени.
— Кр-кха, кр-кхха, — кашляет старик, снова переворачиваясь на другой бок. Что-то не лежится ему на одном боку.
— Тс-с… — пугается Илонка, ладонью закрывая рот парню.
Не очень-то весело сидеть неподвижно, да еще с таким грузом на коленях. Словно в быстрый поток, погружается Красный Гоз в неподвижность; только кровь буйно шумит в висках. А пальцы Илонкины бегают по лицу его, по усам, по шее, по плечам — не то гладят, не то сеть какую-то плетут… Лишь к рассвету смог Красный Гоз вырваться из этой сети.
За ночь серые тучи заволокли небо, закрыли звезды; снег уже не мерцает, не светится. Просто лежит, как всегда лежал. Идет Красный Гоз домой: и в жар его бросает, и в то же время дрожит он от холода. Втянув шею в воротник, усмехается криво; вдова вдруг ему вспомнилась. Останавливается, смотрит колеблясь в сторону Зеленой улицы — и, позабыв, где он, начинает хохотать во весь голос. Испуганно одергивает себя. «Эх, тетка Пашкуй… дьявол тебя забери…» Минуту-другую раздумывает, топчась на дороге; потом все же берет себя в руки и решительно направляется домой.
А вдова Пашкуй сама только-только вернулась от Тотов.
Что дверь на замок не закрыта, она, понятно, не удивилась: должно быть, Пирошка так оставила. Зато Пирошке пришел черед удивиться, когда утром, часов в семь, мать растолкала ее бесцеремонно:
— Пирошка, слышь, Пирошка… Вставай, солому у нас из сеней украли…
— Чего?.. — не соображает со сна Пирошка.
— Солому, говорю, украли, что я на утро приготовила.
Пирошка моргает и не отвечает ей ничего. Привстав на локте, поправляет подушку и опять ложится. Мать стоит перед ней, ждет, что та скажет что-нибудь, посоветует, объяснит — а Пирошка уже глаза закрыла и спит. Рот приоткрыт, словно бы на горячую кашу дует.
Видно, толку от нее не добьешься сейчас. Выходит вдова опять в сени.
И правда, соломы и след простыл. Даже пол подметен на том месте. Тут смотри не смотри, умней не станешь. Может, в полицию заявить или старосте? Ох, узнать бы, кто это был… чтоб его черти на этой самой соломе в аду поджаривали… Стоит вдова, задумалась — и вдруг кто-то громко чихает в пристройке.
— Ай!.. — вскрикивает вдова и вбегает в комнату. — Пирошка, Пирошка, да встань же скорей… — И трясет дочь изо всех сил.
— Что, что ты? — вскакивает Пирошка, сна уже ни в одном глазу.
— Кто-то в летнюю горницу забрался…
В эту минуту Пирошка чувствует себя большой, сильной, бесстрашной. Она не даст свою мать в обиду. Она покажет, как влезать в ее дом без спросу… Накидывает на плечи шубейку материну, ноги сует в туфли, утюг с подставки берет: кто бы там ни был, уж она угостит по голове… — и решительно идет в сени.
В летней горнице — теплый, сонный воздух, постель разобрана, на стуле — смятая одежда; посреди комнаты — легкие туфли, подальше — сапог валяется. Второй сапог стоит возле печки. На подушке — всклокоченная женская голова и рука голая, будто кто их туда взял и бросил как попало. Гезу Пирошка замечает не сразу: тот лежит валетом, головой к изножью. Что поделаешь, если он так привык. Еще когда с женой вместе жил.
Пирошка осторожно ставит утюг на плиту и тихо выходит. Молча зовет мать: пусть тоже зайдет посмотрит.
Входит вдова, а Пирошка остается в сенях. Видит, как мать нагибается, разводит руками и хлопает себя по бедрам, словно вдруг боль ей в колени вступила…
8
Наступил день свадьбы.
Тяжек этот день, словно камень; все зависит от того, кто как сумеет его вынести.
Утром, часов в восемь, по Главной улице шагает Янош Пап, в шубе, с кривой палкой в руке. То смотрит себе под ноги, думает о чем-то, то вскинет голову и заглядывает во дворы, в окна. Будто кого ищет. Шаркёзи идет ему навстречу — и загодя сходит с дорожки, к самому забору.
— Утро доброе, — говорит Янош Пап и смотрит на Шаркёзи с подозрением.
— И тебе доброе утречко. Куда собрался, свояк?
Янош Пап останавливается, шубу повыше поддергивает.
— Я-то? Хо-хо… Иду. Я знаю, куда иду, — говорит угрожающе.
Видно, что-то в самом деле произошло, если Янош Пап так заговорил.
Шаркёзи долго еще стоит у забора, будто ноги у него в грязь вмерзли. Перебирает, что с ним и вокруг него случилось за последнее время. Нет, вроде ничего такого он не сделал. Ну, мешок рыбы выловил в помещичьем пруду — так Янош Пап здесь ни при чем. Да сена телегу привез ночью, еще до снега, с лугов… из имения… так что все в порядке. Мужицкого добра он не тронет, это уж нет. Ну а господское…
Янош Пап уже далеко. Перед кооперативом парни стоят и подростки; тут он замедляет шаги. На одного смотрит, на другого: может, кто-то из этих?
— Эй, Тарцали, вас звали на свадьбу? — спрашивает у Имре Тарцали.
Имре удивленно смотрит на Яноша Папа:
— Звали, как не звать.
— Ну и как, пойдешь?
— Я-то? На карачках побегу, — говорит Имре и хохочет. И остальные парни регочут во всю глотку. Янош Пап сконфуженно отходит; эх, плохой из него сыщик. Да его последний воришка вокруг пальца обведет.
Но до чего ж непочтительна к старшим нынешняя молодежь… А еще на занятия допризывников ходят, и в церковь, и в школу. В его время все было по-другому. Уважали тогда стариков, советовались с ними…
А ведь наверняка кто-нибудь из этих был…
Дело в том, что минувшей ночью украли у Яноша Папа четырех кур и петуха. Вот по этому делу и направляется он сейчас в полицию.
Унтер-офицер нынче дежурил всю ночь, и к тому же не в деревне, а по хуторам. Устал, понятно, сидит хмурый, недовольный. Да еще ногу натер; хоть и переобувался, портянки перематывал чуть не на каждом хуторе, а все ж повыше пятки — огромная кровавая мозоль. Слов не находит, до чего зол он на проклятого сапожника…
— Ну, так как оно было? Курятник заперт был?
— Курятник запирать? Слыханное ли дело!..
Верно, курятник запирать — в деревне такого не водится. Но ведь и на вора нельзя все сваливать. Вор берет то, что плохо лежит.
— Слыханное, неслыханное… Кто своим добром дорожит, тот о нем заботится. Никто бы ваших кур не тронул, будь на курятнике хоть самый маленький замок.
— Замок? На курятнике? Господь с вами, господин унтер…
— Ну ладно, ладно, там посмотрим… Скажите-ка, вас на свадьбу звали?
— Меня-то? Еще бы не звали. Ведь моя баба жене Тота двоюродной сестрой приходится… сводной…
— Так? Ну-ну. А кого еще звали? Не знаете?
— А кто ж это может знать? Семьдесят дворов звали. Полдеревни, почитай, будет.
— Ну хорошо. Эх, дьявол… — это уже к мозоли относится. Берет унтер колено обеими руками, кладет одну ногу на другую. — Идите себе с богом. Мы этим займемся.
Недовольный уходит Янош Пап. Кто же будет за порядком следить, если не полиция? Он-то думал: придет, заявит — полицейские тут же в ружье и всю деревню перевернут. Постели, скирды, чердаки — все обыщут. А оказалось по-другому: унтер этот говорит только да его выспрашивает. За что им жалованье платят? Ишь ты, звали ли его на свадьбу! Да еще как звали!
А полиция в самом деле тут же начала расследование. Это дело серьезное. Перед каждым праздником, перед каждой свадьбой что-нибудь да пропадет в деревне. Чаще всего куры. Кур ведь украсть — легче легкого. Ночью они на насесте сидят не пикнут, хоть всех собери в мешок. Пора этому конец положить… Двое полицейских шагают по деревне, будто прогуливаются; то с одним заговорят, то с другим. Заходят и к Яношу Папу, двор осматривают, в курятник заглядывают. Хозяйка, конечно, причитает: дескать, курочки мои ненаглядные, на что я вас кормила, растила. Пусть руки-ноги отсохнут у негодяя, который на такое мог пойти…
— Подозреваете кого-нибудь? — спрашивает старшой. Он в деревне недавно и думает, что вора уж как-нибудь отыщет.
— Мы-то? Никого мы не подозреваем. Вот разве только… — задумывается хозяйка. Перебирает в памяти местных парней, подростков — и что ты скажешь: все вертится и вертится у нее в голове Красный Гоз. Не то чтобы она про него что-нибудь нехорошее знала: просто и вчера он на глаза ей попадался, и позавчера… с чего бы это? Да и прежде… Вспоминает, что есть у Красного Гоза старший брат, который когда-то за дочкой ее увивался, а жениться не женился. Вышла она за Дани Ола, и лучше бы не выходила: таскает он ее с одного хутора на другой, потому что все сторожем нанимается в разные имения…
— Не знаю, точно не скажу… только в голову пришло… уж не Красный ли Гоз их утащил, — и на мужа смотрит. Будто на помощь его зовет.
— Бог его знает… Откуда-то берутся у него деньги, чтоб на широкую ногу жить… — неохотно бормочет старик.
— А что, такой уж гуляка этот Красный Гоз?
— Он-то? Еще какой. Будто у него не хатенка старая за душой, а пять клиньев земли.
— Табак у него завсегда хороший и в корчму захаживает, с цыганами у него дружба, играют ему… не задаром же все это, — немало могли они про Йошку Гоза порассказать. Было б кому слушать. Полицейские уж и за калитку вышли, а Янош Пап все говорит вдогонку. — А вот еще послушайте. Как-то, помню…
Когда приходят полицейские, Красный Гоз дрова пилит во дворе. Большое, трухлявое дубовое бревно лежит на козлах — телефонный столб, по всей видимости. Даже цифры сохранились на нем, дегтем намазанные. И прочесть можно: четыре тысячи шестьсот семь. А под цифрами — знак непонятный.
— Хороша пила у вас, хозяин, — говорит старшой еще от калитки.
— Не жалуюсь… — покосился на них Красный Гоз — и дальше пилит себе, тянет взад-вперед. «Чего их черт принес?..»
Полицейские подходят, смотрят на бревна, щупают. Чего здесь только нет! И акация, и ель, и дуб, и бук, и вяз, и тополь — в пирамиду аккуратно составлены. Этих дров на три зимы, пожалуй, хватит.
— Где взяли столько дров? — спрашивает старшой, и одно бревно пытается перевернуть. Дубовое бревно.
— Дрова-то? А какие где. Ель осталась, когда хлев строил — старый сломать пришлось. Акацию недавно вырубил, недели две всего; дуб купил на почте, в прошлом году, когда телефон ставили; березу в саду срубил, тоже в прошлом году; бук румыны еще в революцию привозили. А вяз вот купил на лесном складе, в Комади; месилка будет для теста. Сейчас пока стоит сохнет. — Красный Гоз кладет пилу, берет в руки топор и так лихо разрубает полено, что щепки шлепаются о стену, чуть не прилипают к ней, прежде чем упасть.
— Постой-ка… в революцию. В какую революцию?
— А в восемнадцатом. Или в девятнадцатом… Я уж и не знаю.
Чувствует старшой, не за что ему ухватиться. Ну-ка, попробуем еще насчет телефонного столба пощупать…
— А это что такое?
— Это? Это я летом купил у господина Марцихази, у почтмейстера. Таких столбов у меня целый воз был.
Так. Ничего здесь не добьешься, это уж точно.
— Зачем вам столько дров?
— А чтобы… всякой шушере завидно было. — Красный Гоз уже и колоть перестал. И топор на землю бросил. Лезет в карман, за табаком. Скручивает цигарку, закуривает и стоит молча, руки в карманы сунув.
Что-то не нравится старшому, а что — не поймет. То ли Красный Гоз не так что сделал, то ли он сам. По-другому надо было начать, с другого конца. А так только запутался, и хорошо еще, если выпутаться сумеет… Значит, четыре курицы. Две пеструшки, одна черная и одна рыжая… петух с перьями рыжими на спине… А тут — бревна дубовые. Ишь ты… в восемнадцатом… Однако дубовые столбы… это надо бы проверить. Значит, проводили минувшим летом телефон или не проводили?..
— Я ведь просто интересуюсь… тоже вот дров хотим купить, — и уходят полицейские, даже не дождавшись ответа.
И на почту прямиком.
— Господин почтмейстер… — старшой, повесив ружье на локоть, наклоняется к окошечку.
В окошечке показывается почтмейстеров нос, на нем блестят очки.
— Бефель, герр корпораль[10]…
Любит пошутить господин Марцихази, когда он в хорошем настроении.
— Хочу у вас узнать… скажите, вы продавали старые телефонные столбы?
— Кому?
— Неважно кому. Важно, продавали ли кому-нибудь…
— Неважно? Как это неважно? Дело в том, знаете ли… — Марцихази смотрит задумчиво на полицейского. Зима, мерзнущие мужики, тепло от горящих поленьев, что нарублены из телефонных столбов… да нет, вряд ли, линия ведь в исправности. — А что-нибудь случилось?
— Ничего не случилось, вот только…
— Ну и хорошо. Не будем беду накликать, беда сама придет. Продавали мы столбы, еще летом и осенью. Потому я и спрашиваю — кому.
— Красному Гозу. Йожефу Красному Гозу.
— А он что говорит, когда купил?
Опять неладно, опять не так он начал, черт подери…
— Он говорит… осенью купил, — может, хоть здесь вылезет шило из мешка.
— Ну и обманщик! Не могут эти мужики не соврать. Неправда: летом он их купил.
Так… значит, верно: на почте все-таки купил. Стало быть, и этот след оборвался. Опять придется с самого начала начинать. А ведь как хорошо было пошло все. Уцепился за дрова, а вытянул и кур, и все, что в деревне пропало за последний год… То есть хотел вытянуть, да не вышло… Снова шагают полицейские по улице.
Оживленной стала улица: ходят люди туда, сюда. Больше все бабы. У каждой под мышкой курица, а то и две — для свадебного стола. Некоторые детишек снарядили или стариков — кур отнести. Сидят куры под мышками притихшие, только перья на шее взъерошены.
А у Тотов — работа в разгаре. Четверо-пятеро баб щиплют кур у колодца. Рядом — миски, тазы, горячая вода в ушатах; то одна, то другая обмакивает руки в воду: хоть мороза и нет, а все ж деревенеют пальцы. Вдова Пашкуй восседает среди них царицей, кур, цыплят щупает.
— Кто это недоростка такого притащил? Ишь ты, чистый воробей, — берет она какого-то хилого цыпленка.
— Этого? Должно быть, как его… Макра, — отвечает ей Агнеш Киш, жена старшего брата Тарцали; она, конечно, понятия не имеет, кто цыпленка принес, но с Макрой они давно не ладят — а недруга хоть за глаза уколоть, и то радость.
— Чтоб он ей поперек горла встал… — сердится вдова. Окунает цыпленка в горячую воду, ощипывает проворно.
А вообще-то бабы не скучают: только что кувшин горячего вина распили с добрым куском калача. Руки мелькают, работа спорится.
— Взгляни-ка, Мари, ладно будет? — вдова показывает ощипанную курицу молодой бабе, Мари Чёс. Та смотрит, глаза прищурив. Дело в том, что она и сама не знает, как ей быть, как вести себя. Хозяйка, Ракель, позвала ее на свадьбу главной поварихой; только видит Мари, что здесь вдова Пашкуй больше распоряжается, во все дела нос сует… Кто ж, однако, главный: она или вдова?
Если правду говорить, так никто вдову главной по кухне или еще кем-нибудь не назначал… Как-то уж так получилось; свахой она была, посредницей, ну и сам бог ей велел и дальше свадьбой заниматься. К тому ж у нее и котел для чиги брали. А теперь вот хозяйка сюда и не заглядывает: пусть управляются, как хотят.
Мари Чёс — хоть и баба, но другим не чета: в гимназии даже училась три года и замужем за Шандором Папом, сыном старого Яноша. Баба она из себя видная — особенно сейчас, в подоткнутой юбке. На ногах, правда, сапоги, только одеты они не как-нибудь, а на шелковые чулки, и голенища сзади на добрую пядь разрезаны, потому что иначе икры в них не умещаются. Знаменита Мари тем, что хорошо умеет готовить. Оно и не удивительно: все время у них господа столуются.
Муж ее, Шандор Пап, старше Мари лет на двадцать, но это ничего не значит, потому что мужик он на редкость крепкий. До прошлого года он писарем служил в правлении, а потом вдруг послали его на пенсию. Взяли вместо него образованного. Сына секретаря. Правда, сын этот по два года сидел в каждом классе гимназии, с грехом пополам до седьмого дотянул. Да ведь и ему, бедняге, жить надо; к тому же, говорят, в скором будущем каждому писарю придется иметь аттестат. А Шандор Пап гимназии не кончал, читать-писать в армии научился. Но научился, правда, так, что позавидуешь. Почерк у него — прямо епископский. А читает бегло и два года назад на спор выучил наизусть все стихи и поэмы Шандора Петефи. И притом не только с начала до конца, а и с конца до начала. А это, если вдуматься, дело не такое уж легкое. Поспорили они с Чубачеком, недоучившимся ветеринаром, на две бочки пива, и выиграл Шандор свои две бочки глазом не моргнув.
Деревню Шандор Пап знал лучше, чем собственную ладонь. Помнил, кто где живет, какая у кого скотина, сколько детей, сколько земли — и потому работу свою в правлении выполнял с быстротой невероятной. В поземельный реестр или там в книгу переписи скота ему и заглядывать не надо было: что хоть раз услышит или прочтет, то навсегда в нем останется. Только вот имущества он не накопил. И не потому, что, скажем, был он пьяницей неисправимым: хотя от вина не отказывался, чего греха таить, но в голову оно ему никогда не ударяло. Разве что быстрее начинал говорить и декламировать стихи Петефи. Так по крайней мере те болтали, кто его слышал в такое время. Теперь он живет на то, что санитарным инспектором служит, мясо проверяет; а с тех пор, как нет в деревне врача, еще и заключения о смерти выдает. Раз Шандор Пап про кого сказал, что тот помер, можно быть спокойным: точно помер человек. Только со старым Торни случилась у него в прошлом году осечка.
Было старому Торни девяносто шесть или девяносто девять — никто толком не знает, даже священник, даже секретарь правления. Короче говоря, в один прекрасный день стучат Шандору Папу в окошко.
— Господин Пап, приходите скорей, дед мой помер, — говорит кто-то с улицы.
— Кто там? Чей дед? — спрашивает Шандор, а сам уже сапоги натягивает. И вскоре идет по улице с внуком Торни и старухой Бодижар, которой и самой лет уже немало.
Старый Торни на постели лежит, руки на груди, как полагается. Пощупал его Шандор Пап и говорит: «Отошел. Можно панихиду заказывать». Семья все сделала, что нужно, и со священником уже договорилась; священник звонарю наказал, чтобы отзвонил за упокой торжественно. Не потому, что покойник богатым человеком был, а потому, что был он примерной набожности.
Ну, звонят утром в колокола, во все три. «Старый Торни помер, — говорят в деревне, — славно пожил, господу в угоду, дай бог всякому». Столяр мерку с покойника снимает, цирюльник у дверей притулился, очереди ждет, мужики стоят с печальным видом, бабы перешептываются — и тут старик подымает голову и говорит:
— О-ох… и чудной сон мне приснился… к дождю, видно.
Нынче старому Торни больше ста, жив он и здоров. Так что… попал Шандор Пап пальцем в небо, что скрывать. Но… эх, если б сейчас кто-нибудь помер…
За свидетельство о смерти полагается Шандору Папу пятьдесят филлеров, за обследование мяса — восемьдесят филлеров. Кроме того, в месяц получает он двадцать пенгё — надзирает за бойней. Словом, прожить можно, хоть и выставили его из правления. Да и пенсия идет — что-то около сорока пенгё. А еще поручили ему присматривать за часами на колокольне, и за это получает он четыре центнера пшеницы в год…
— На сколько человек готовить, Мари? — спрашивает вдова Пашкуй у Мари Чёс. Хорошо еще, что их двое. По крайней мере не с нее одной спрос.
— А… вам лучше знать, тетя Пашкуй. Вы тут с самого начала. А я здесь так… сбегай туда, принеси то…
— Полно, полно тебе, Мари, что ты такое говоришь? Ты такая же, как и я, тебе столько же доверено.
— Да нет, я не потому, тетя Пашкуй. Вот еще. А только я ведь и вправду не знаю. Не знаю даже, сколько домов звали, кто на чиге был, кто не был, потом — пригласили ли господ… Одним словом, ничегошеньки не знаю.
— Ну да… уж это-то все я знаю. Я здесь точно была, — успокаивается вдова. Не пострадал ее авторитет, стало быть.
А если и пострадал, так бабы это дело легко поправили. Потрещали, потарахтели — и сошлись на том, что придет человек сто пятьдесят или сто шестьдесят.
— Да посудомоек не забыть, — напоминает одна.
— Правда, и посудомоек…
— Да музыкантов, да соседей. Которые не могут прийти… — говорит другая.
— Верно, на этих тоже надо готовить.
Короче говоря, двести человек, наверное, наберется. Однако тогда не хватит, пожалуй, кур на всех. Ведь кто курицу прислал или даже двух, тот и сам на свадьбе есть будет. Придется еще штук пятнадцать-шестнадцать хозяйских прибавить.
— Эй, Ракель, иди-ка сюда! — машет вдова Пашкуй хозяйке.
Та будто чувствовала — все утро подальше держалась от колодца. Но теперь не отвертишься: пришлось подойти.
— Ну, чего вам?..
— Слышь-ка, надо бы еще кур, штук шестнадцать-восемнадцать.
— Чего? Шестнадцать? Черта вам с рогами, а не шестнадцать кур! Ишь, придумали. Может, уж всех до единой зарежем, коли на то пошло? Что принесли, то и будут есть. Мы двух овец закололи, хватит. Пусть баранину едят.
— Съедят и баранину, не бойся. Только и курятины надо нажарить, чтобы каждому досталось хотя бы по одному-два куска.
Да разве со старухой договоришься! У нее одно на уме: как можно столько птицы за раз извести? Где такое видано? Куры-то сами собой, что ли, заводятся, от грязи, как мухи? Сколько с каждой намучаешься, пока вырастишь. И яйца-то переворачивай, и наседку сними, покорми, опять посади, и цыплятам корм особый готовь… Ходи за ними, как за малыми ребятами, оберегай. Чтоб хорек или другой зверь не загубил. Чтобы ворона не утащила… И вот те на: вынь да положь им шестнадцать кур!..
— Ну нет, так нет… тогда и меня здесь нет, — говорит Мари Чёс и снимает с себя передник.
— Да ты что это, Мари?..
— Нет, нет, я ничего… Что зря разговаривать? Захотели от кошки лепешки, от собаки блина, — раскипятилась Мари. Увидишь ее в эту минуту и не поверишь, что три года училась она в гимназии.
Вдова тихо радуется про себя: уйдет Мари Чёс и останется она главной поварихой… Но тут старый Тот заметил, что у баб неладно что-то, и подошел.
— Что у вас такое?
— Да вот… птицы не хватает, надо еще хотя бы штук двадцать, — говорит Мари, поправляя юбку. Ей здесь делать нечего. Позору не оберешься с такими хозяевами…
— Коли надо, так берите. Тридцать берите. Или сорок. Всего должно быть вдоволь, чтоб никто потом не жаловался…
К свадьбе этой Жирный Тот готовится так, будто всю жизнь ради того лишь мучился, из кожи лез, недоедал, недопивал, богатство наживая, чтобы теперь-то уж наконец хоть раз попраздновать: одна рука в меду, другая в патоке. Вина приготовлено много; стало быть, пусть и еды будет до отвала. Чтоб никто не сказал после, что, мол, Габор Жирный Тот такой да сякой…
Словом, хозяин навел порядок. Мари Чёс снова передник повязывает, юбку подтыкает. Нож точит о бидон и идет к скирдам. Бабы — за ней.
Куры бьются, вырываются, кричат; пух летает в воздухе, будто метель вдруг поднялась.
Появляется на крыльце Ферко, жених, с наусниками, без пиджака. Волосы гладко зачесаны назад и блестят. Намазал он их какой-то помадой. Обратно в дом возвращается; места себе нынче не находит. Шафер торопливо идет по веранде в кладовую, оттуда спешит еще куда-то. Снуют люди туда-сюда, челноками.
Пирошка показывается в распахнутых воротах; оглядев двор, направляется к матери. Вдова откладывает курицу, которую ощипывала, идет ей навстречу.
— Ну, встали они? — спрашивает вполголоса.
— Встали. Есть хотят. Что им дать-то?
Правда, что им дать? Живет вдова не на широкую ногу, лишь бы им двоим с дочерью хватило. А теперь Геза этот непутевый на них свалился, да еще не один. И на улицу не выгонишь: тоже ведь люди. Потом, родственник все же. И вообще что-то такое чувствует вдова в последние дни, будто прочитанные романы вдруг взяли и ожили…
— Ты иди домой. Поесть я пришлю с работником. Да чтоб сегодня из хаты и носа не показывали. А завтра уж пусть идут на все четыре стороны…
Пирошка без лишних слов отправляется обратно, а мать кричит ей вслед так, чтобы и другие слышали:
— Пирошка! Ты сама-то не опаздывай. Будь здесь часам к одиннадцати, к началу свадьбы…
Ну вот, и с Гезой все в порядке. Не растерялась. Да и не было еще таких дел, где бы она маху дала. Смотрит: не перешептываются ли бабы, глядя вслед Пирошке. Потом идет к хлеву искать Балинта Сапору. Нынче она распоряжается здесь, будто в собственном доме. Балинт в сене роется под своей подстилкой; увидев вдову, быстро расправляет одеяло.
— Ты что делаешь, Балинт?
— Трубку вот потерял, ищу…
— Ну-ну, ладно… слышь-ка, сходи к нам домой, отнеси кусок сала, есть там кое-кто…
— Кто?
— Геза. Да смотри, чтобы хозяин не узнал, не ровен час, прибьет он его.
— Геза вернулся? Ух ты… — не любил его Балинт до этой истории. А теперь… Теперь для него нет человека лучше Гезы. И вообще приятно, когда кого-нибудь выручаешь; особенно если за чужой счет. Набрав вина, сала, калачей, отправляется Балинт Сапора к дому Пашкуй.
Время идет; солнце вышло из-за крыши соседнего дома, дорожку перед верандой растопило. Ходят люди, месят снег, и вот уже по всему двору слякоть. Пинцеш песок сыплет, чтоб не очень было грязно; бабы кончили с птицей, таскают ее в дом. Тут и Лайош Ямбор, второй сват, появляется в воротах, заглядывает во двор, потом заходит не спеша. После шафера он здесь первый гость, вот и явился пораньше, чтоб, избави бог, не опоздать. Идет с важным видом, будто и свадьба-то ради него устроена; только никто его вроде и не замечает; мимо проходят, а иные еще и заденут плечом. Не забыли люди, как он девчонку облевал в день помолвки. Только не такой Лайош Ямбор человек, чтобы обижаться по пустякам. То с одним, то с другим заговаривает — так постепенно и до угловой горницы добирается, где на столах уже вино поставлено с калачами.
— Садитесь, дядя Лайош, — говорит шафер и поскорее наливает ему стакан вина, а сам уходит. Смотрит Лайош Ямбор на стакан, смотрит, потом берет и выпивает его до дна. Для порядку, чтобы не стоял зря.
— Ц-ца… — щелкает он языком, допив вино. Смотрит на куски калача на блюде. Один кусок — с верхней корочкой, другой — с нижней. Верхняя корочка — красновато-коричневая, хрустящая; нижняя — желтая, мягкая… Выбирает Лайош кусок себе, будто разборчивая невеста жениха. Но вот выбрал наконец и даже руку было протянул — да повисает рука в воздухе, потому что на пороге появляется Шандор Пап. За спиной у него шафер топчется, то с правого боку просунется, приглашает, то с левого.
— Добрый день, приятель, — говорит Лайошу Ямбору, входя в горницу, Шандор Пап.
— Милости прошу к нашему шалашу, хе-хе-хе-хе… — отвечает Лайош Ямбор и смеется. Потом берет-таки с блюда кусок калача — с нижней корочкой, потому что зубы у него не ахти какие — и кладет в рот.
Шандор Пап садится от Лайоша Ямбора подальше, потом все же протягивает ему руку.
Шафер наливает им вина: мол, пейте, дорогие гости, закусывайте — и выходит. Народ сейчас подходить начнет, а ему всех принимать.
Народ и вправду собирается.
Приходит Янош Багди, первый сват; потом двое девок сразу, а там и парни, по одному, по два.
Музыканты под окнами спешат с виноватым видом. На именинах вчера играли до позднего вечера, на помещичьем хуторе, вот и запоздали.
Бабы заглядывают из сеней, глаза у них совсем веселые: они уже вино греть поставили, огонь полыхает вовсю. Пинцеш на ребятишек ворчит, что у ворот болтаются; музыканты начинают струны пощипывать, скрипки настраивать.
На улице, около дома, собрались ребятишки чуть не со всей деревни. Глазеют, толкаются, зубы скалят. Двое влезли на воротину, ногами болтают, хором кричат:
Все жуки и тараканы К нам на свадьбу нынче званы. Если же не явитесь, Чур, потом не жалуйтесь, Оставайтесь дома, Кушайте солому…Да ведь на свете и невеста существует, не один жених. Так что у Юхошей работа тоже идет полным ходом. Гостей здесь, конечно, поменьше: шестнадцать дворов приглашены, всё соседи да родственники. Потому и готовить особо не приходится. Сначала было думали обедом гостей кормить, а потом решили — пусть будет один ужин; зато нажарят побольше паприкаша из баранины. Жених сто литров вина прислал и денег не взял: зачем, у них вина вон сколько. Это Юхошам очень кстати: все равно на вино денег не хватило бы. А без вина и ужин не к чему было бы устраивать. Ну а так, с вином, дело другое…
Среди приглашенных — и Дёрдь Вереш. Юхошам он, правда, и не сосед, и не родственник. Однако ж и не позвать его нельзя: он за Михая Юхоша в кооперативе поручился, когда тот ссуду просил. Хозяин он крепкий, зажиточный, такого только и брать в поручители… потом идут соседи: Форраши с одной стороны, Бирталаны — с другой. Да две старших дочери Юхошей, с мужьями, с детьми — словом, тоже народу набирается немало. На столе, как и в жениховом доме, вино и калачи.
А время уж за десять; через час за невестой придут. Значит, пора одевать. Одна беда: в хате только горница, да сени, да чулан. В сенях варят, готовят, в чулане холод собачий; остается к соседям идти. Не важно, к которым: какая хозяйка не будет рада, что невесту у нее одевают. Марика все ж идет к Бирталанам. Антал Бирталан — деревенский сторож; дочь у него — Марике ровесница. Вместе росли, подружками были… да теперь вот Марику богатый жених берет, а за Иреной ухаживает всего лишь Лаци Шереш, который даже нынче где-то в именье батрачит. Ну, он к вечеру придет, а пока Марику пусть оденет Ирена.
Баб, девок набилось в хату полным-полно: одна чулки держит, другая туфли рассматривает — ничего не пропустят, все разглядят, обсудят. Выцветшее перкалевое платьишко летит на кровать, и вот Марика стоит среди баб в нижнем белье, с голыми плечами. Ведь все, что она нынче надевает, все до последней ниточки новое. Сорочку подают из искусственного шелка; продевает она в нее голову, а тесемки той, что на ней, с плеч спускает; так и выходит, что одна надевается, другая снимается. Словно обе сорочки спорят друг с другом. Потом идет комбинация. А потом сразу — белое подвенечное платье.
И не много вроде бы на ней одежды — и ох как много: и до чего ж красива в ней Марика. Бабы, которые каждый день ее видели, у которых она на глазах выросла, — и те глядят рот раскрыв и про болтовню позабыли. Потом вертят ее, ощупывают с гордым видом, словно красота эта — их рук дело.
— Ах, какая ты красивая, Марика, — шепчет Ирена, со слезами на глазах целуя подругу. Марика, совсем бледная, тоже ее целует. Она не плачет. Какой от этого прок? Но с таким отчаянием смотрит на баб, словно молит о помощи, И еще словно бы прощения у них просит, а за что — непонятно. Вот она я, вся перед вами, — как бы говорит она своим видом, вот для чего я родилась, для чего печалилась и веселилась — для того, чтобы сегодня быть такой, какой вы меня видите.
Мишка пытается войти в хату с каким-то поручением, но его выгоняют. Марика теперь им принадлежит, бабам, которые словно пытаются отыскать в ней то, что им самим не дано было в невестах. И девкам принадлежит сейчас Марика, которые, хотят не хотят, а все чувствуют себя в эту минуту в подвенечном платье, стоящими перед чем-то новым, пугающим, полными непонятных еще желаний.
Усаживают Марику на стул, причесывают, оглядывают со всех сторон, что-то поправляют, отталкивая руки друг друга. Каждая считает, что у нее глаз верней, рука проворней.
— Слышь-ка, Марика… а не надеть ли вниз, под платье, что-нибудь? Хоть белую блузку, простынешь ведь, — говорит жена Форраша.
— Нет, нет, мне не холодно, — трясет головой Марика. Не все ли равно, простудится она или нет. Ей даже умереть не страшно. Только побыть красивой еще немножечко…
Однако не стоит думать о таком. Вообще лучше не думать. Разве мало того, что она красива и что вся деревня будет дивиться на нее сегодня…
Мишка опять рвется в хату, говорит, пора, пусть ведут Марику, а то жених со сватами вот-вот будут, уже пение слыхать.
— Близко уже? Где?
— Да вроде в конце улицы.
— Ну, тогда…
Еще раз оглядывают Марику; Ирена фату ей прикрепляет, расправляет у нее на плечах: вот так держи, так лучше всего, потом накидывает на Марику шаль. Бабы, окружив ее, ведут домой, но не по улице, а задами.
Старый Юхош успел досыта наговориться с гостями: и с Дёрдем Верешем, и с невестиным шафером, плотником Гашпаром Сильвой. Теперь сидит и делает вид, будто внимательно их слушает, а сам речь про себя разучивает, которую скажет, когда дочь надо будет отдавать. Со вчерашнего дня голову ломает Юхош над этой речью… Хочется ему сказать такие слова, чтобы молодые всю жизнь их помнили. Такие слова, которые не каждый отец дочери своей говорит, выдавая ее замуж. Да ведь и случай-то особый. Жених — богатый, невеста — бедная, так что хоть словами разницу скрасить. Бедняку что остается: коли не можешь блеснуть деньгами, так блесни умом да словами…
А свадебная процессия уже на подходе.
Впереди шафер идет, в руке палка, на боку фляжка, во рту сигара в бумажном мундштуке. Сигара качается вверх-вниз; шафер старается шагать чинно, церемонно, а потому чуть не через шаг с дорожки оступается. Палкой в такт песне машет; сам же петь он не умеет. Голоса нету. Потому и палкой дирижирует — помогает, как может.
Зато парни, что вслед за ним идут, уж они-то петь умеют.
Идут парами впереди музыкантов, и пение их разносится чуть не на всю деревню:
Много верст по свету я шагал, Все по сердцу милую искал… Но к тебе я воротился вновь, Больше всех по сердцу старая любовь.Последние слова — «старая любовь» — подхватывают со всеми и девки, и бабы. Но поют их так, словно и не поют, а только вздыхают.
Открываются то тут, то там калитки, ребятишки бегут со всех сторон. Всем нынче кажется, что и они к свадьбе причастны хоть немножко. Только Ферко затерялся где-то в толпе; кто захочет на жениха посмотреть, сразу и не найдет.
Оно и не удивительно. Среди нарядно одетых парней и девок Ферко — будто семерка в колоде карт.
Шафер стоит перед невестиным домом и мается: не знает, что положено говорить по такому случаю. Это ведь не то что какой-то обряд: просто зашли за невестой, вместе идти записываться… Из сеней выглянула баба, спряталась; потом еще одна баба высунулась. Тогда шафер, так ничего и не придумав, кричит:
— Эй, пошли, что ли!
Ребятишки (в деревне их как воробьев, без счету) врассыпную кидаются с крыльца; и тут бабы выводят невесту.
Народ валит из хаты, растекается по двору.
Затем снова сбивается в кучу у калитки.
9
Перед правлением стоит двуколка; по двору быков прогуливают, рассыльные толкутся на крыльце. В комнате старосты два мужика ругаются из-за какого-то камыша. У налогового инспектора арендную плату собирают; каждый занят своим делом. На часах — четверть двенадцатого.
В это время и доносится от кооператива, где переулок вливается в Главную улицу, песня. Приближается свадебная процессия.
Священник высовывается из окна; у артезианского колодца — целая толпа баб. Телега ехала навстречу и в сторону свернула, лошади еле ноги из грязи вытаскивают. А процессия движется по середине улицы.
— Идут… — выскакивает из канцелярии Жужа Киш и бежит в комнату секретаря, потирая руки. Не то чтобы она сильно волновалась: просто с самого утра нынче на машинке стучала без отдыха, пальцы занемели.
Вторая машинистка, которая вроде секретарши при секретаре правления, толкает на место каретку и вскакивает как встрепанная.
— Идут? — переспрашивает, будто ушам своим не верит. Оглаживает ладонями юбку на бедрах и, обняв Жужу за плечи, тянет к окошку. Эту вторую машинистку зовут Чипи. Чипи Фабиан. (Вообще-то она — Роза Фабиан, а почему ее Чипи прозвали, один господь ведает.) Жужа — девка совсем молоденькая, едва за девятнадцать перешагнула; Чипи же постарше, ей далеко за двадцать. Обе закончили экстерном четыре класса гимназии, так что из крестьянского сословия они уже вышли. Правда, и к господскому сословию не пристали: так, середка на половинку. Вроде мула, который ни осел, ни лошадь. Такую девку мужик в жены не возьмет, а благородный — и подавно. Да и нет вокруг молодых людей из благородных; а и были бы — выбрали б себе настоящих барышень. Правда, обе они говорят, дескать, все равно не выйдут замуж, из принципа. Ну, поверить им вряд ли кто поверит… О том, чего они хотят и чего не хотят, мог бы много порассказать, например, судебный исполнитель, который два года назад гимназию кончил и теперь служит здесь, в правлении. За сто пенгё в месяц. Ну, и еще кое-кто мог бы рассказать. Красный Гоз, например. Только у этих парней — душа широкая: любая тайна в ней затеряется так, что и не отыщешь… Чипи — девка высокая, стройная, а все же посмотришь на нее, и чувствуешь, будто чего-то ей или в ней не хватает. Что-то не так, не в порядке. Словно перед тобой молодое, зеленое дерево, которое потрепала буря. И кожа у нее на лице — словно она по ошибке умылась однажды каким-то едким мылом, да так и не смогла ошибку исправить. Носит Чипи модную, отливающую синевой юбку; но и юбка эта такая, словно девка в ней через кусты продиралась.
Жужа Киш — полная ей противоположность.
Девка она низенькая, крепко сбитая; на руке болтается золотая цепочка. А рука тоже округлая, плотная. На Жуже юбка, какие носят воспитанницы пансиона благородных девиц. Правда, до благородных девиц ей так же далеко, как кукушке до ястреба. Ну да что там. В конце концов, никому не запрещено учиться, где душе угодно. Или хотеть по крайней мере. Факт тот, что с четырьмя классами гимназии застряла Жужа в деревне, за пятьдесят пенгё в месяц. К тому ж не то чтобы особенно была она собой хороша; хоть молодая и здоровая, а здоровье это как-то выпирает из нее. Будто сучок из елового полена. Или кость из жареного карпа. Писаря и прочие служащие в правлении все нестарые, так что обе девки, можно сказать, постоянно среди поклонников. И все же чем дальше, тем яснее, что не очень-то светит им замужество.
Что-то они, должно быть, упустили, где-то шаг сделали неверный.
Сейчас ожидают они свадебную церемонию с таким выражением, какое бывает, наверное, у покорителей дальних земель, наблюдающих обряды и игры туземцев. В выражении этом — и любопытство, и чувство собственного превосходства. И даже презрение.
Секретарь правления — мужчина в расцвете лет, холостой и, как про него говорят в деревне, до баб сильно охоч. Но это опять же только его касается. Тем более что вообще жалоб на него нет. Дело свое знает… Пробежав взглядом очередную бумагу — об обязательных прививках для собак, — он поднимается, идет к окну, где стоят Жужа и Чипи, хочет тоже выглянуть, а те рады, смотрят на него во все глаза. Начальник суровое лицо делает и переходит к другому окошку. Чего вздумали! Сначала на шею повесятся, а потом и на голову сядут.
Открывает он сейф, достает гражданскую книгу, ленту. Это все, что ему требуется для совершения обряда.
Входит шафер, за ним сваты, невеста, жених и прочие, сколько в комнате умещается. Остальные снаружи ждут, на крыльце.
Машинистки смотрят на невесту, смотрят — и даже лица у них бледнеют; от снисходительного выражения не остается и следа. Чипи взволнованно шепчет что-то Жуже. Та улыбается, а по спине у нее пробегает странный холодок. Писарь пришел из соседней комнаты, встал у косяка; из-за его плеча тянет шею судебный исполнитель; двое мужиков забыли ненадолго про свой камыш. Все глаз не могут оторвать от невесты. Даже не шепчутся друг с другом. Да и в голову как-то ничего не приходит: настолько хороша невеста. Секретарь медленно, торжественно ленту свою надевает через плечо, открывает гражданскую книгу, приглашает невесту и жениха к столу (жениха пришлось вытаскивать из какого-то дальнего угла) и, чуть ли не растрогавшись, совершает короткую церемонию. Потом пожимает невесте и жениху руки.
Регистрация проходит, как всегда, как любая регистрация; и все же обе барышни-машинистки чувствуют: что-то сегодня не совсем как обычно. Должно быть, потому что невеста сегодня — всем невестам невеста. И не ради жениха она такая, не ради этого сморчка плюгавого — а ради самой себя да еще ради всего девичьего племени. Не появляйся на свете хоть изредка такие невесты — парни, на что уж плохо женятся, а и совсем бы, наверное, жениться перестали.
Свадебная процессия степенно вытекает на улицу; подружки обступили было невесту — но тут же сконфуженно рассыпались. С этой минуты она уже им не принадлежит. Вот только Ферко не смеет к невесте подойти, так что Яношу Багди приходится подтолкнуть его слегка. У старшего свата в таких делах опыт большой. А подружек подхватывают под руки дру́жки — и все выходят парами со двора.
Опустела канцелярия; словно затихла, кончилась красивая песня.
— Ну что ж… за каких-то пять минут я их так друг с другом связал, что и два адвоката за полгода хорошо если развяжут, — говорит секретарь, запирая обратно в сейф гражданскую книгу.
— Вы думаете, господин секретарь… не дожить им до золотой свадьбы? — спешит полюбопытствовать судебный исполнитель, который два года как гимназию окончил и теперь хочет экстерном сдавать право.
— Им-то? На что угодно готов ставить.. У них на лбу написано, что не созданы они друг для друга.
— Жених богатый…
— Ну и что из того? Этой девке не богатый нужен, а такой, как она. Красивый, сильный, здоровый… Ну ладно, пусть они сами разбираются.
И правда, пусть сами разбираются.
Время у них было, чтобы подумать. Такие дела тяп-ляп не делаются.
А свадебная процессия тем временем заворачивает на церковный двор; звонарь бежит с ключами; в общем, скрепляют молодые свой брак еще и в церкви, чтоб был он прочным и долгим.
Две бабы заносят священнику калач, бутылку вина да полотняный платок, в который калач тот завязан.
Марика покорно переходит со всеми с места на место, словно по лестнице передвигается, со ступеньки на ступеньку — все ниже и ниже. А внизу — черная, непроглядная тьма… еще несколько шагов, и ноги тонут в этой черноте…
«Господи, что ж я наделала, что ж я наделала…» — пробует она осмыслить, понять происходящее; а в эту минуту жених наклоняется к ней и спрашивает:
— Не озябла, Марика?
— О… — только и может вымолвить Марика в ответ. Пустяковый этот вопрос болит у нее в душе, как саднящая рана на теле. Зачем он к ней обращается, этот вот, что идет рядом?.. И если обращается, то почему именно с таким дурацким вопросом?
А чем он, бедный, виноват, что не мог ничего другого придумать?
Вот они уже спускаются с паперти. Полуденное солнце бьет прямо в глаза, жемчужные капли падают с церковной кровли.
— Ишь, какая погода хорошая. Хорошей будет и жизнь у молодых, — пророчит какая-то баба, глядя на небо, потом на жениха с невестой.
Когда идут мимо кооператива, двери корчмы распахиваются и толпа парней вываливается на улицу, присоединяется к процессии. Подвыпившие, веселые парни приплясывают, прищелкивают пальцами, бьют себя по голенищам.
Музыканты марш Ракоци играют.
Начало свадебной процессии уже где-то далеко, у самого Кереша, а хвост еще здесь, у кооператива, пляшет перед собравшимся народом.
Ну ничего, у Жирных Тотов на всех угощения хватит.
Беда только, что перед этим все набиваются в хату к Юхошам. И все проголодавшись. Калачи, вино на глазах тают; хозяйка мечется между кладовой и сенями, молится про себя: господи, господи, только б хватило… И хватило-таки. О бедняках, видно, бог особенно печется.
Выдача невесты, прощание с родителями — на все ведь время требуется. Наконец Михай Юхош берет за руку жениха… то есть с этой минуты не жениха, а молодого мужа. Красивые слова придумал он в бессонные ночи, чтобы высказать, когда наступит момент. Но вот момент наступил, а он их так и не сказал. Только и смог выговорить: «Благослови вас бог, дети мои…»
Совесть мучает Михая. Ох, не хотел он этого брака, не хотел. Да что поделаешь: бедной девке за того идти, кто посватает.
Время склоняется к вечеру, когда гости вместе с невестой отправляются в дом жениха.
10
Красный Гоз сказал утром матери, что, дескать, чего там, этот день такой, как все. С утра он дрова колол, потому что мать фасоль собралась варить.
В это время и заходили к нему полицейские.
А ведь никогда еще не были они у них во дворе.
Этого двора даже подозрение не касалось. Да и кому могло в голову прийти дровами интересоваться. Уж сколько лет таскает Красный Гоз помещичьи дрова — и ничего, никто и знать не знает. Да и нынче не за что было уцепиться полицейским — хоть бы Марцихази не подвел. Так прицепились полицейские, что и мозгами не успел раскинуть Красный Гоз — брякнул первое, что ему подвернулось.
Не только окрестности деревни, но и весь здешний край — настоящая пустыня. Лесов — никаких, отдельные деревья едва попадаются; лишь терн с боярышником растут в высохших речных руслах и по лугам. Сам Кереш и тот течет меж голых берегов. А ведь еще не так давно, когда Красный Гоз был мальчишкой маленьким, росли вдоль Кереша раскидистые ивы, вербы. Нынче ничего не осталось. Весь ивняк уничтожило Общество по регулированию вод Шебеша и Кёрёша. (Главный инженер называет Кереш господским словом, Кёрёш. А как может жалеть какие-то ивы да кусты человек, который даже местного названия рек не знает? И что ему до того, что ивы эти для всего окрестного населения давали дрова и материал для всяких промыслов: древесину, кору, прутья…)
Зимы в этих местах студеные. И чтоб он, Красный Гоз, мерз, чтобы мать его мерзла? Ну нет… такому не бывать…
Правда, это еще не причина, чтобы всю зиму таскать лес из поместья… Словом, умывается Красный Гоз и отправляется на почту.
— Ну? — выглядывает из окошечка Марцихази.
— Мне бы… это… марку за десять филлеров, — говорит Красный Гоз. Десять филлеров не жалко, пусть пропадают.
Марцихази долго возится с десятью филлерами, потом с маркой. Наконец говорит:
— А вы, молодой человек, в другой раз не путайте разные вещи.
— Это как?
— А так… если покупаете столбы осенью, то не говорите, что летом, — и смеется. Смотрит на парня и смеется. Красному Гозу ничего не остается: смеется и он, глядя на Марцихази. Так и смеются вдвоем, один по эту сторону окошка, другой — по ту.
Уходит Красный Гоз. Все-таки славный человек этот почтмейстер… Однако почему он его выручил, если на самом деле никаких столбов не продавал? Почему спас от беды?.. Правда, большой беды все равно не было бы: ведь всего-то о двух дубовых бревнах идет речь… Непонятно, Совершенно непонятно.
Многое перебирает в голове Красный Гоз. И думает, что на месте почтмейстера он бы, наверное, точно так же поступил.
Ясно ведь: честный человек возьмет только то, без чего ему никак не обойтись, и лишь там, где пропажа — капля в море. Что помещику бревно? Пустяк. А здесь — огонь, тепло, горячий обед; ведь вся окрестность зимой печи кизяком топит. В то время как газеты и всякие умные люди, которым хорошо платят, кричат, что кизяком топить — грех, навоз надо не сушить, а на поля вывозить, чтобы урожай был выше. Того лишь не поймут, что без кизяка просто-напросто замерзнут мужики зимой все до единого. Странно все-таки мир устроен. Однако же почтмейстер…
Думает Красный Гоз, как бы отблагодарить Марцихази за его доброту. Словно у него, у Гоза, без этого мало забот.
О-хо-хо, тяжко жить на свете…
С утра-то любая беда еще небольшой кажется. Потом приходит полдень, и вот уж день к вечеру клонится… А там и сумерки; и чем гуще тьма, тем горше тоска. Шумные отголоски свадьбы доносятся даже сюда, в закут. Оседают по дворам, просачиваются в окна, в двери: хоть уши затыкай, все равно слышно…
Красный Гоз сидит за столом, понурив голову, потом встает, подходит к печи, останавливается возле матери.
— Что варите, мама?
— Фасоль. Смотри, до чего хороша, пестра. Я и свининки туда бросила, — помешивает она в котелке.
— Да… хороша фасоль, только…
Грустно смотрит мать на своего взрослого сына.
— Знаю, сынок, знаю. Да что поделаешь?.. Забудь о ней. Видно, не суждено вам вместе быть…
— Эх, видно, не суждено… Одного я не пойму, хоть убей. Ну, эта подлая баба, Пашкуй, наговорила что-то Марике… Но Марика-то как могла поверить? А, мама? Как она могла поверить?
— Не знаю, сынок, не знаю. Только знаю я, что не создал вас бог друг для друга. И Марика нашла, кого искала, и ты нашел. Я тебе одно скажу: Марика даже в сравненье не идет с Илонкой Киш. О том уж и не говорю, сколько всего ей останется. Так оно лучше будет, поверь мне, сынок. — И мать ласково гладит его по плечу.
«Это точно, в сравненье не идет…» — думает сын и видит перед собой сразу обеих девок. Вот Илонка — мягкая, белая, вальяжная, будто кошка; Марика — гордая, стройная, как молодой тополь по весне.
До чего ж это скверно устроено, что не можешь любить ту, которую хочешь! Любить… любить ведь можно по-разному. Одну любишь глазами, умом, а другую… ну чем? Эх, черт бы побрал…
Тоска гонит его из дому.
Идет Красный Гоз в деревню, но не для того, чтобы на свадьбу взглянуть. Чего он там не видал? Знает он и невесту, и жениха, сто раз их видел. И еще увидит за свою жизнь. Просто так идет: все равно дома делать нечего.
К корешу, к Тарцали, не пойдешь: он на свадьбе гуляет. И Макра там; все дружки на свадьбе. Куда же теперь податься: в кооператив? Или к господину Бернату?
Правда, свадебная процессия как раз перед кооперативом будет проходить… Ну а если и так — что ж, ему из-за этого не ходить туда? Вот еще!
В кооперативе тесно; какой-то барышник магарыч ставит (быка отбракованного купил у деревни). Другие просто себе сидят, глазеют — свадьба их в корчму привлекла. Не то чтобы очень уж им было интересно; да ведь надо ж человеку смотреть на что-то. Вот они и пользуются случаем.
Сидят за стаканами вина и двое парней: Шандор Бак да Иштван Хорват. Оба постарше Красного Гоза и корешами с ним никогда не были. Но когда встречаются, разговаривают друг с другом по-приятельски.
— Эй, Йошка, давай к нам, — зовут его, машут руками. Красный Гоз заказывает себе фрёч[11] и садится.
Время идет, и вот окна тоненько задребезжали от доносящейся с улицы музыки. Народ в корчме задвигался, зашевелился, словно осы в гнезде. Облепляют окна, стеклянные двери, загораживают их сплошной стеной.
Красный Гоз один за столом остается. Сидит, стакан в руке вертит беспокойно.
А музыка приближается. Вот уже и песня слышна.
Хочется ему встать, к окну подойти — и не хочется… Все же встает, подходит — но люди столпились у окна, ничего не увидишь. Красный Гоз быстро переходит в лавку, становится возле хозяйки, лбом прижимается к стеклу двери.
Мелькают ноги, плечи — и вот, как видение, перед лавкой проплывает невеста.
— Жалеешь поди, Йошка? — смотрит на него хозяйка.
— О чем?
— О том, что Марику упустил?
— А чего жалеть, — говорит Красный Гоз, хотя сам знает, что говорит неправду. Он потому и переспросил, чтобы имя Марики услышать.
Возвращается в корчму, но не сидится ему, неспокойно на сердце. «Скоро вернусь», — говорит он приятелям и уходит.
Хорошо еще, что не пустила его Илонка на свадьбу. На чигу пустила, а на свадьбу уже нет. Думала, видно, кое-кому этим досадить. Идет Красный Гоз к Илонке.
А Илонки нет дома. Ушла к крестной матери, шить, говорит старый Киш. Красный Гоз знает: не шить она ушла, а посмотреть на свадьбу. Нынче все на свадьбу посмотреть хотят, и званые, и незваные; только ему нельзя ни пойти туда, ни даже взглянуть издали.
Бродит Красный Гоз по деревне, места себе не находит.
А свадьба меж тем все ближе подходит к главному моменту. Уже привели невесту в дом, и гости ненадолго разошлись, чтобы собраться к семи часам на свадебный ужин.
А свадебный ужин — дело большое.
Целый день пили люди зеленое вино, которое, как всем известно, штука крепкая. Коли наберешься сверх меры, так и глаза поперек. Газеты вот все пишут, что в будущем, мол, не следует виноград сажать. А почему? Вино из него крепкое получается, и ни укрывать его на зиму не надо, ни обрызгивать — так почему ж не сажать? Чтобы у мужика вина не было? Некоторые говорят: потому, дескать, виноград нельзя разводить, что в вине яд содержится. А какой же это яд, если человек от вина только веселым становится?
С ужином хлопот у хозяев по горло, потому что гостей много, а места мало. Еще одну горницу надо освобождать. Так что столы накрывают сразу в трех горницах. В одной — для господ, в другой — для гостей посолиднее, в третьей — для молодежи, для родственников. Эти не обидятся.
Парни, которых прислуживать позвали на свадьбу, разносят ложки, миски; каждому гостю ставят по миске и кладут по ложке. Другие нарезанный хлеб таскают. Только в господской горнице по-другому: там еще и вилки кладут. И ножи. А на всех ножей да вилок где ж набраться?
— Эй, сюда еще ложку! — кричат то там, то здесь.
Рассадить гостей — тоже дело нелегкое. Рассаживать ведь надо по рангу, чтобы никто не обиделся. В угловой горнице, между окнами, жених и невеста сидят. Рядом с ними — два свата, с другой стороны до угла — самые уважаемые, пожилые гости, а от угла вдоль стенки — кто придется. Словом, как-то все умещаются, хоть и вплотную друг к дружке. Лишь одно-единственное место пока свободно. В углу. Никто туда садиться не хочет. Теснятся, умащиваются, кто как может, — а угол все пустым остается.
— Эй, кум, подвигайтесь ближе, — машет Лайош Ямбор, второй сват, Михаю Баи и хохочет. Аж качается от смеха, чуть носом стол не достает.
— Э, я не подвинусь… пусть туда поважней кто-нибудь сядет, — говорит Михай Баи и тоже смеется. Все на пустой угол смотрят, ухмыляются.
Оно и не удивительно: кто в угол сядет, тому и быть главным застольником. Хочет он того или нет. А это значит — вином потчевать, шутками-прибаутками честную компанию забавлять. Не каждому это под силу.
— А может… ты, кум, сядешь? — говорит Ямбору первый сват, Янош Багди. Надоел ему этот мужик. И откуда он такой взялся… как это он его до сих пор не узнал? С этим рядом всю ночь просидеть — дело нешуточное.
— Не сяду, — отказывается Ямбор и головой трясет.
Входит Шандор Пап, санитарный инспектор. С утра-то он слишком рано явился, даже жена его обругала за это; так что теперь нарочно опоздал. Решил исправить. Встает в дверях, осматривается.
Шандор Пап — высокий мужик, крепкий. За сорок уже ему, но выглядит он куда моложе; только вот зубы желтые: жаль, мало заботится о них. Усы тоже пожелтели от табака; желты и кончики пальцев: курит много Шандор, одну за другой цигарки крутит. Курит он турецкий табак, который мужики крашеным называют. И говорят, мол, им этот табак даром не нужен. Ну, а на самом деле просто не по карману он мужикам: где столько денег взять?.. Стоит, значит, Шандор Пап в дверях, оглядывается и чувствует себя не в своей тарелке: все вокруг сидят, он один торчит, как каланча. «Сюда, сюда, здесь свободно, господин Пап… дядя Шандор», — кто как его зовет, и все на пустой угол смотрят.
— Ага… ладно, сейчас… — озирается Шандор, с какой стороны лучше пройти. Смотрит не где народу поменьше, а где баб побольше. Потому что в душе очень уважает он женский пол — хоть никто об этом не знает; а пройти до угла через столько женских колен тоже не последнее дело.
— Извиняюсь, — говорит он бабе, что сидит с краю, — не хочу толкаться возле невесты… — а сам уже начинает протискиваться осторожненько.
— Пожалуйста… — говорит та и, пока Шандор Пап мимо нее пролезает, зажмуривает глаза.
Бабы словно передают его с колен на колени; в конце концов все же добирается он до угла, садится. Кладет на стол свои огромные кулаки и говорит:
— Ну все… не выйду отсюда, покуда не вынесут, — и торжествующе оглядывается.
— Застольник! Застольник! — кричат ему со всех сторон, в ладоши хлопают. Радуются. Непонятно чему: то ли Шандору Папу, то ли свадьбе, то ли самим себе.
— Да ну? Ишь ты, и верно, — удивляется Шандор Пап и задумчиво гладит себя по подбородку. Рассеянно берет полный стакан вина, выпивает. В голове у него стихи Петефи струятся, словно ручей по камням… Что же такое должен застольник делать? Может, стихи рассказывать?.. Да нет, застольник должен шутки шутить. На все вопросы отвечать. И сам загадки загадывать. До тех самых пор, пока ужин не подадут. Да и после, если понадобится… Не помнит Шандор, выпил он вина или только собирался — на всякий случай выпивает еще стакан. Чарка на чарку — не палка на палку. Про второй-то стакан он тоже подумал, что ничей, а стакан был соседа, Эмбера. Ну да ладно, не беда.
— Начинай, Шандор! — кричат ему с другого конца стола, и все на него смотрят.
— Так… — не спеша вытаскивает он часы, видит: ровно семь. Скоро ужин подадут. А пока что делать?..
— Скажи что-нибудь! — опять кричат самые беспокойные.
— Черт подери. Видно, придется все-таки… — Шандор Пап устраивается поудобнее, оглядывает гостей. На глаза ему попадается физиономия второго свата. Экая рожа! — Ну, вот вы… можете вы мне сказать… в чем разница между вами и… папой римским?
Словно стена рухнула вдруг в горнице и рассыпалась на мелкие кусочки — такой грянул хохот. Теперь все ко второму свату повернулись, на него смотрят. Лайош Ямбор, побледневший, хочет ответить что-то, но лишь блеет, как коза: «Ме-е-е… ме-е-е…»
— Я знаю! Я скажу! — кричит кто-то из-за двери, захлебываясь от смеха.
— Ну, коли знаешь, так скажи ты ему, — разрешает Шандор Пап. Раз уж он за столом главный. Сами просили, чтоб сказал что-нибудь. Он и сказал; только вряд ли за это ему будут благодарны.
А голос из-за двери визжит:
— В том разница, что папа римский — малый не дурак, а Лайош Ямбор… их-ха-ха-ха… немалый… — даже выговорить не может. Или боится.
Смех то утихнет, то разгорится с новой силой. Господа пришли — и они не уходят на свое место, а останавливаются в дверях.
— Это уж точно, — говорит Шандор Пап, повышая голос. — Ну а эту-то загадку ты, сват, я думаю, сможешь отгадать. Скажи, в чем разница между сеном и соломой?
Чувствует Лайош Ямбор, плохи его дела, надо как-нибудь выпутываться. Лучше всего сделать вид, что его это не интересует.
— Не знаю, — отвечает он сердито и оборачивается к первому свату. Что-то сказать хочет.
— Как так не знаешь? Ведь это каждая скотина знает, — говорит Шандор Пап чистую правду.
Гости уже не хохочут, а прямо-таки задыхаются. Даже стряпухи пришли из сеней, заглядывают в двери. Потом обратно уходят… А ужин все никак не подают, будто опасаются: вдруг что-нибудь не так сделано, что-нибудь испорчено — и чем позже это выяснится, тем лучше.
Одна стряпуха суп все пробует: до сих пор еще не солила, боялась — вдруг какой-нибудь озорник прокрадется и сыпанет в котел соли пригоршню. Такое частенько на свадьбе бывает. Пройдет кто-нибудь мимо очага, рукой махнет, вроде бы мух отгоняет. А у самого в горсти соль. Беда тогда поварихе, если она уже солила. Хоть сама тот суп ешь.
Случалось, что недобрая рука и ртути подбрасывала в паприкаш, и мясо лезло из котла в разные стороны, будто стая живых ящериц. Словом, в кухне глаз да глаз нужен. Никого постороннего и близко нельзя к котлам подпускать.
Вторая стряпуха, вдова Пашкуй, паприкаш помешивает. Паприкаш тоже готов. Теперь только птицу проверить, что у соседей в печи жарится. «Сходи-ка к соседям, Йошка», — говорит она Пинцешу, кухмистеру.
Идет Пинцеш, зеваки у ворот расступаются перед ним на две стороны. Словно Красное море перед народом Моисеевым.
У ближних соседей лампада светится в сенях; под лампадой стоит баба, Агардиха, а рядом, на скамеечке, старик сидит, Ференц Мартон. Он хозяин дома, Агардиха же за птицей поставлена присматривать.
— Еще хотите кусочек, дедушка? — говорит Агардиха и лезет в печь. Отщипывает ногтями куриную грудку, в рот себе бросает. Потом и всего цыпленка достает. Хорош цыпленок, славно подрумянился. Отдает его старику.
— Эй, хватит, пожалуй, дочка, — бормочет старик. Но цыпленка берет. Ест прямо так, без хлеба.
— Ничего… кушайте на здоровье. Свадьба нынче. Всем хватит, — чувствует Агардиха, до чего это хорошо — доброй быть. До чего хорошо — накормить досыта этого старика, который, пожалуй, за целый год столько курятины не съест, как за этот вечер. Хочется ей, чтобы старик до самой смерти поминал ее добрым словом. Вся печь противнями уставлена, на противнях — горы жареной птицы. Сколько ее здесь! Ешь не хочу…
— Ну, готово у вас? — входит Пинцеш.
— Готово. Все готово.
— Ну, коли так… скоро придут за курами, а ты здесь оставайся, — и уходит.
Агардиха оглядывает сени: куда бы еще цыплят припрятать?.. Старику надо оставить, да и еще кому-нибудь, кто окажется…
А шафер на кухне торопит стряпух. Еще бы: гости сидят голодные. Только пьют. А от вина еще голоднее становятся. Да и пить-то перестали, боятся, что вино ударит в голову. Хохот, правда, не утихает: видно, застольник свое дело знает хорошо. Но вот стало тихо: словно закрыли дверь на улицу, где бушует буря: входит шафер, в руках у него большая миска, за ним вереницей парни, тоже с мисками. Парней — человек восемь. Стоят друг за другом, от мисок пар поднимается, и они словно бы нюхают этот пар. Ну а шафер начинает свое:
Добрый вечер дорогим гостям желаю! Вот, стало быть, повар трудился не всуе, Добрый суп с чигой вам несу я. Кушайте, любезные гости, досыта, Такой вкусный суп сварить ведь не просто. Нет в нем ни гуся, ни тебе утки, Говорю всерьез, а не ради шутки. Как пес его сюда я, Берег пуще гла́за, От голодных волков отбивался три раза. Кушайте, дорогие, освобождайте блюда, Потому что есть у нас и получше блюда. Две тощих блошки плавают в плошке Да ворона на суку, сварена в собственном соку. А еще к нам в котел попали Две лягушки да три мухи с четырьмя клопами, Кто есть не станет, после пожалеет… Так что кушайте, гости, на здоровье!Ставит он миску перед первым сватом и на пальцы дует: «Ух, ты, и горячо же…»
То, что он рассказывал, не что-нибудь, а стих. Правда, стих тот длиннее был бы, да не смог шафер дальше рассказывать: очень уж пальцы жгло. Парни молча ставят свои миски по одной на четыре-пять человек. Суп в мисках — золотистый, наваристый, чига в нем — тоже золотистая… А запах такой, что и мертвый поднялся бы из гроба попробовать.
Ложки бренчат, гости суп разливают по тарелкам; кое-кто, не вытерпев, уже ест. Самый первый, конечно, Лайош Ямбор. Но тут встает Янош Багди и, сложив ладони, говорит:
— Прежде сотворим молитву, гости дорогие…
Ух ты! О молитве чуть не забыли. Вскакивают гости все до одного. Янош Багди смотрит: парни-подавальщики остановились на полдороге; машет им, дескать, или сюда идите, или в кухню, но те не двигаются. Молитва? Это дело серьезное. Тогда Янош Багди говорит громко:
— Спасибо, господи, за еду и питье, да будет славно имя твое!
Все садятся на свои места.
Теперь уже всерьез начинается пир.
Горяч суп, только с огня — но так оно вкуснее.
Легкий жир плавает на поверхности, горячит людям кровь. Лайош Ямбор, весь распаренный, тянется за второй порцией — да вот досада: ложка по дну миски стучит. Бегает глазами вдоль стола. «Подвиньте-ка сюда вон ту миску», — хочет сказать, но до того торопится, что даже выговорить не может как следует, заикается. Получается у него что-то вроде: «Эк… эк… датумиску…»
Шандор Пап ест чигу с хлебом: он так любит, в армии еще привык. Да что говорить, все хорошо едят, никто сложа руки не сидит. Вот уж и миски опустели, гости рты вытирают кто чем. А шафер тут как тут, со вторым блюдом — паприкашем. Опять становится перед Яношем Багди, первым сватом, и говорит новый стих:
Пока суп мы ели, вот что приключилось: На кухню овца зайти ухитрилась. Пришлось ее сварить да положить на блюдо. Просила сказать она: мол, добрые люди, Сделайте милость, ешьте меня скорее, Выбирайте, милые, куски покрупнее. Так что не стесняйтесь, дорогие, ешьте, Да в чужие тарелки, смотрите, не лезьте. Приятного вам аппетита.Паприкаш, стало быть, приехал. И такой паприкаш — всем паприкашам паприкаш. Блюда выстраиваются на столах рядами, подливка в них красная, словно огонь, а мясо такое, что взглянешь на него и поймешь: нет на свете животного лучше овцы. Кто баранину не любит, тот совсем пропащий человек: может могилку себе рыть да панихиду заказывать.
А самое лучшее еще впереди. Жареные куры с кашей.
— Птицу несите, — отдает команду вдова Пашкуй и тут вспоминает, что они здесь двое главные, она и Мари Чёс. — Слышь-ка, Мари, можно нести, что ли? — спрашивает.
Та заглядывает в горницу. «Можно», — говорит.
Подавальщики рысью бегут к соседям. Одни — направо от ворот, другие — налево, и тащат противни с курятиной. Запах жареной птицы разносится по улице, на другом конце деревни слышно, наверное. Не удивительно, что в темноте перед домом суета началась. Будто голодные волки пришли на запах.
— Эй, дай кусочек… — шепчут то здесь, то там. Одни подавальщики говорят: «Идите, дяденька, подальше», другие просто: «Иди к дьяволу». Это уж как в темноте разберешь. Один лишь Тарцали сжалился над попрошайками.
— Эй, где вы тут? Берите быстрей. Да тихо.
И шаги замедляет. Возле него толкотня начинается, куски курятины один за другим вспархивают с противня, как живые. Последний кусок уже возле самых сеней кто-то схватил. Глядит Тарцали на пустой противень и молча ставит его к стене, на землю. За другим отправляется. Тут на всех хватит. А не хватит, так и свадьбу не надо было устраивать.
Снова выстраиваются в горнице подавальщики: один — с птицей, другой — с кашей, опять с птицей, опять с кашей. Понятно, и здесь без присказки нельзя.
Нету этой каши в целом свете краше, Кто нынче пожаловал на свадебку нашу, На всю жизнь запомнит эту кашу. Густая, горячая да маслом полита, Такой каши, ей-богу, нечего стыдиться. Каша для вина — добрая сестрица. А кто вина не пьет — она и так сгодится. Петухи да куры над кашей летели, Все до одного в котел залетели. Съешь курицу с кашей — будешь сыт неделю, Кушайте, гости, пока не сомлели.Раньше помалкивали гости, слушая шафера, а теперь пересмеиваются, переговариваются. Зубочистки делают из спичек, в зубах ковыряют, посматривают на курятину да на кашу. Ишь, какой молодец этот шафер. Шпарит как по-писаному. Интересно, кто это сочинил?.. За курятиной тянутся довольно лениво, а кашу и вовсе без охоты пробуют. Что делать: не лезет больше. Из-за двери вдруг доносится какой-то крик, суета; однако вскоре шум как возник, так и стихает. Оказывается, шафер нес кувшин, да налетел на цимбалиста и все выплеснул. Гости повернулись было туда посмотреть; потом едят дальше. Хм. Все ж хороша каша, ничего не скажешь. А уж курятина!..
Словом, опять во вкус вошли. Едят, словно целую неделю маковой росинки во рту не держали. Будто и не было перед этим супа с чигой да паприкаша. Выберет гость кусок курятины, какой на него смотрит, аккуратненько подцепит его ложкой, встряхнет немного, чтобы лучше лег, не свалился, положит себе на тарелку. Поглядит, поглядит на него, потом возьмет за два конца руками — и пошел зубами работать. Обгрызенную кость подержит, подержит в руке — и, смотришь, нет ее уже, под стол обронил. У некоторых, может, и шевельнется в мыслях, что, мол, нехорошо кости на пол бросать — да куда ж их девать тогда? Не в карман же складывать…
Господа кушают в своей горнице. Тут учитель с женой, две учительши, почтмейстер с двумя дочерьми (еще двух дома оставил) и секретарь правления. Здесь же какой-то дальний родственник из города; по одежде он вроде к господам относится, однако с другими запросто разговаривать не смеет и вообще говорит лишь тогда, когда к нему обращаются… Священник еще обещал прийти, да не пришел. А его Тоты больше всего ждали.
Двери распахнуты настежь, так что господам видно все, что в угловой горнице происходит.
— Все-таки невероятно отсталый у нас народ, — говорит учитель почтмейстеру. — Посмотри-ка на них.
— Смотрю. А что такое?
— Как что?.. Как они едят!.. — и так осторожненько ковыряет у себя в тарелке ножом и вилкой, будто не ест, а рисует что-то.
— И правильно делают. Важно, не как ешь, а что ешь, — и почтмейстер смеется, потому что в это время на другом конце стола учительша берет кусок курицы и ест со смаком, глядя через дверь в другую горницу.
— Что, сударыня, заразительно?
— Как? — не понимает та.
— Говорю, заразителен пример-то?
Не отвечает учительша, тоже смеется. Берет стакан, отпивает глоток вина, ест дальше.
Ужин здесь начался чинно, благородно; однако скоро почувствовали все, что, пожалуй, лучше делать, как мужики делают. Жеманничать, за манерами следить — никому это здесь не нужно и даже смешно. Все равно затерялись они среди крестьян, как ручей пресной воды в море… Да и может ли быть по-другому? Сто лет или бог знает сколько живут в деревне интеллигенты, живут своей особой жизнью. Каждый день общаются с крестьянами, разговаривают с ними, часто едят вместе — а те не переняли от них ну ничегошеньки. За господ их считают, сажают за отдельный стол, с почтением относятся (если можно считать почтением то, что их сажают отдельно); но сами живут себе по-своему, как отцы и деды жили. Что называется, и ухом не воротят…
Однако цыплята эти просто превосходны.
Да, готовить они умеют, ничего не скажешь.
Если бы сами не сидели за столом господа, то, наверное, и громкое прихлебывание, и чавканье, и сопенье показались бы им отвратительными. Да только кушанья, что им подают, сами говорят за себя. Наверное, только так и можно их есть; а иначе не стоит: совсем не то. Словом, не успели оглянуться господа, как сами начали кости под стол кидать. Будто так и надо.
11
Сам хозяин, Габор Жирный Тот, только что разговаривал с кем-то возле клети, где сегодня вечером фонарь горит на крюке, — а теперь вон он уже где, в сенях. Все идет куда-то — и никак не может дойти; то один, то другой ему попадется и с каждым постоять надо, потолковать.
— Ну, такое угощенье, как у вас, дядя Габор, уж такое угощенье… — говорит, например, Сабо.
— Да уж, брат, я тебе прямо скажу: пусть обо мне что хошь говорят, а я знаю, как людей уважить. Пусть меня скупым называют и что я-де только сам для себя… Но кто скажет, что, дескать, гостей я не умею принять — так и знай: врет. Или того хуже. Я, сосед, вот как полагаю… — и говорит, и говорит, остановиться не может. Все для него нынче ясно и понятно, как божий день. Хочется ему, чтобы его, Габора Тота, жизнь примером стала для всех мужиков. Чтобы все жили, как он живет: трудится в поте лица, состояние собирает по грошику; зато уж если пришел момент, так и душу выложит, не пожалеет. Вот так надо жить: недоедай, недопивай, пока достатка добьешься, — тем слаще покажется потом хорошее-то житье. Ведь вот, к примеру, встаешь к скотине, в самую ночь из теплой постели вылезаешь, идешь по холоду в одних подштанниках — а зато, когда вернешься, до чего хорошо опять под теплую перину забраться… Да разве, эх, понимают это мужики? Не понимают они этого, потому и охота ему все это высказать, пока не поздно. И все говорит и говорит Габор…
Говорит он с таким видом, будто других поучает. На самом же деле — себя оправдывает. Показать хочет, какой он правильный и умный человек. Потому что до сих пор совсем другим его считали.
Проходят мимо него люди: одни туда, другие сюда. Свадьба в доме; и не только в доме, а и во дворе. Из сеней доносится шум, разговор, звон посуды; кажется, будто кто-то большой сидит там на полу, ногами шебаршит, под нос себе напевает да еще пальцами барабанит по днищу кастрюли. Сидит и радуется жизни, довольный.
И все, что ни есть вокруг: шум, и еда, и невиданно много света в доме и во дворе, и смех, и питие — все это от него идет, от Габора Тота. И потому, что правильно жил он, правильно за дело брался. Спал не на боку, не на пузе, а всегда на спине, чтобы луна да звезды в глаза ему светили, чтобы всякий шорох в уши попадал, чтобы не проспать дольше, чем того тело требует. Разве это похвальба? Нет, не похвальба это. Конечно, было в жизни всякое, было и такое, о чем не то что говорить — вспоминать не стоит. Что поделаешь: не пройдешь через болото, не замарав сапоги. Ну бывало, зерна в мешок наложит меньше, чем надо, а отдачи требует больше, чем надо… Да ведь и гроб господень, говорят, не задаром сторожили. Зато Габор и сам знает, что лучше бы, если б всего этого не было…
— Я тебе вот что скажу, сосед… от меня никто еще с пустыми руками не уходил… Ко мне всяк приходи, не обижу. Что хошь проси, дам, не поскуплюсь… Я и легату[12] каждый праздник давал… ну, немного, пенгё там, не больше (всего десять филлеров платил Габор Тот легатам). Я и сторожам, и пастухам, и священнику… Всем давал, что полагается. А то и с избытком. Вот, сосед, какой я человек. А про меня что говорят? Что я такой да сякой?.. — и смотрит вопрошающе на Ференца Сабо.
— Да ведь что ж… не все так говорят… — отвечает Сабо уклончиво. Чтобы он в глаза его хвалил? Нет уж, этого Жирный Тот не дождется. Свадьба, конечно, богатая, щедрая… вот только бы от этого индюка отвязаться. В горницах вон какое веселье идет. А этот прицепился и все что-то толкует, остановиться не может…
— Хозяин! Где хозяин? — выглядывает из сеней Пинцеш, кухмистер; а Ференцу Сабо только этого и надо: тут же шмыгает в дом.
И вовремя: ужин подходит к концу. Пора начинать стол благословлять.
Янош Багди, первый сват, нетерпеливо по сторонам поглядывает: все еще едят гости? Все никак не насытятся? Правда, ложки уже не так дружно стучат по чашкам, кое-кто на вино нажимает, хоть и не следовало бы пока… Сват, приподнявшись, смотрит на дверь. Делает знак: дескать, можно убирать, что осталось. Подавальщики быстро уносят остатки ужина; тут Багди встает и говорит громко:
— Итак, братие… досыта наевшись, богу помолимся.
Гости шумно подымаются.
Молитва какой-то короткой, несолидной показалась; кое-кто из гостей думает, что после такого щедрого ужина можно бы и подлиннее молитву сотворить, но вслух, конечно, никто ничего не говорит. Тут музыканты тихонько струны начинают пощипывать — словно кукурузные зерна падают на пол сквозь щели чердака — и затягивают подходящий к случаю псалом:
Воздадим хвалу Господу всемогущему, Кто дал вкусить нам хлеба насущного. Милостивый Отец наш и благодетель, За нас, грешных, вечный радетель. На тебя уповаем мы сердцем и душой, Славен будь, Отец, Сын и Дух святой.Гости подтягивают музыкантам, а Лайош Ямбор, второй сват, из кожи лезет, старается петь лучше, чем умеет.
Жена Габора Тота слушает пение, прислонившись к дверному косяку. Глаза у нее опять мокрые. Господи, господи, как хорошо… столько гостей в доме… Только старшенький, Геза, бродит где-то как неприкаянный. Не судьба ему сидеть со всеми за столом, в тепле, в довольстве… И где он сейчас? Голодный, поди, бесприютный. Может, в темнице сидит, с ворами, разбойниками… может, бредет по большой дороге, без крошки хлеба, без глотка воды. Ох, господи, боже мой…
Да и это бы еще не так было обидно — на все божья воля! — если хоть кто-нибудь вспомнил бы о нем, кто-нибудь пожалел бы. Столько народу вокруг — а все напрочь забыли, будто давным-давно умер Геза. Или будто вовсе не родился…
Потеряла она одного сына — а взамен зато получила дочь. Сноху. Ах, до чего красива девка, ну до чего красива…
И верно: невеста хороша на диво. Все это понимают, не только старая хозяйка. А лучше всех понимает это жених, Ферко. Правда, он об этом никому не говорит — знает про себя и радуется.
Невеста с женихом на главном месте сидят, между окнами. Марика — в подвенечном платье, в венце. У Ферко — восковой цветок с бантом в петлице пиджака. Никак он не привыкнет ни к новому пиджаку, ни к тому, что в женихи вышел. Пыжится Ферко, хочет казаться больше, чем есть он на самом деле. На Марику то и дело косится; и чем чаще на нее смотрит, тем яснее ему: таких невест, пожалуй, не бывало еще в деревне. Да что там — наверняка не бывало. И тогда кажется Ферко, что рядом с Марикой он — крохотный такой, никудышненький, смешной… Совсем скверно становится у Ферко на душе; начинает он одежду на себе одергивать, оглаживать, какие-то пушинки, соринки со штанов обирать. Но и это не очень-то помогает. До того невероятно, что Марика рядом с ним сидит как невеста его, даже жена, что совсем теряется бедный, не знает, куда ему деваться. Заговорил бы с ней душевно, ласково — да не умеет, не может, хоть убей… Да что заговорил бы: и слово простое не может выдавить.
А тут еще все будто сговорились, нарочно хотят его оконфузить. Началось с того, что, по обычаю, поставил перед ними шафер одну тарелку. Чтобы они вдвоем из нее ели. Плавают в тарелке, тоже по обычаю, две большие чиги. Одна — для жениха, другая — для невесты.
— Ешьте чигу! Ешьте чигу! — хором кричат им гости.
Легко сказать: ешьте. Эти два куска теста — такие огромные, что и в рот не возьмешь. А потом, это не просто чига: она еще и другое кое-что означает. Краснеет Марика, так ей стыдно. Не знает, куда деваться, будто сквозь строй ее гонят. А что поделаешь? Против обычаев да против желания гостей не пойдешь ведь.
А все-таки бунтует в Марике гордость, не позволяет съесть проклятую чигу — хоть и нет в ней ничего такого: тесто как тесто. Всю чигу из одной муки стряпали, в одной воде варили. И однако же, кажется Марике, будто гости, хоть и на чигу смотрят, а совсем другое хотят увидеть. Будто стоит она на какой-то высокой лестнице, ветер раздувает ее подвенечное платье, а гости внизу толпятся, смотрят на нее, задрав головы, и ухмыляются, облизываются…
Только Марика в жизни не позволяла еще никому над собой смеяться, и теперь не позволит. Подцепляет она чигу ложкой и перебрасывает на ложку Ферко. Ешь сам, что заварил.
— Здорово! Молодец! — кричат гости. Вот это невеста! Нашла-таки, как из положения выйти.
— Эге!.. Эге!.. — суетится Ферко, и кажется ему, что самое лучшее, если он сейчас на своем поставит. Подхватывает он чигу, кладет обратно невесте в ложку… то есть хочет положить, да Марика свою ложку отдергивает, и чига шлепается в тарелку, выплескивая горячий суп на скатерть.
— Эх, быть скоро крестинам! — вопит Лайош Ямбор, которому теперь приходится каждый раз глаза жмурить, когда голову хочет куда-нибудь повернуть. Потому что очень уж много он выпил, не повертывается голова просто так.
— О… — только и произносит на это Марика. Кладет свою ложку в тарелку; по всему видно, больше в жизни не сможет она даже смотреть на чигу.
Ферко совсем перепуганный сидит. Он хотел как лучше. Как обычай требует. Откуда ему знать, что и обычай обычаю рознь, и уж если нет любви между женихом и невестой, так и обычай им не поможет. С его-то стороны, конечно, любовь есть, да еще какая. Это-то и беда… Стараясь угодить Марике, наклоняется к ней, говорит:
— Ешь. Смотри, как вкусно…
— Бросьте, — отвечает Марика и ест. Давится, а ест. Нельзя не есть, хоть с души воротит. Ест и вкуса не ощущает — словно не в рот кладет, а через плечо кидает.
А веселье вокруг растет, словно вода в половодье: Марике даже подол хочется прихватить, будто через лужу переходя. Или на лавку встать, чтобы не захлестнуло ее это пьяное половодье… или убежать и спрятаться у цыган-музыкантов за спинами, как когда-то в детстве, когда сестры ее с шумом, с треском замуж выходили. Да что убежать: ей и с места нельзя сойти. Сидеть и сидеть, пока все не кончится. Свадьба бурлит, шумит вокруг. Ради нее это все. Она здесь теперь — свет в окошке.
Не к кому-то ведь, а к ней устремляются со всех сторон, опутывают, ощупывают любопытные, масляные, хитрые взгляды…
Кончился псалом; первый сват встает, смотрит вокруг со значением, берет стакан, отодвигает его подальше, говорит музыканту:
— Сыграй-ка, что ли… «Вырос я в Шаррете»… — а остальное одними губами договаривает. И рукой такт отбивает. Будто считает что-то про себя. Садится.
Первый скрипач оглядывается на остальных музыкантов, смычком касается струн и, дрогнув коленом, начинает играть. Хорошая песня, душевная. И к тому же старая-старая.
Благословлять стол начинает первый сват, за ним идут все по порядку. Обряд этот совершается так: ставят на стол пустую тарелку, и каждый гость заказывает цыганам свою песню, а потом бросает в тарелку заранее приготовленные деньги. Кто пенгё, кто два. А кто — всего двадцать филлеров. Кто пенгё кладет, тот повертит монету, поблестит ею, чтобы все видели; другие кидают быстро, из кулака — лишь бы зазвенело. А там, в тарелке-то, не видно, кто сколько положил; там все вперемешку.
Чем больше песен сыграно, тем больше денег в тарелке.
Есть за столом и такие, кто намерен сбежать от благословения стола. Чтобы денег не отдавать. Особенно ребята-подростки. У них, известно, карман тощий. Если и есть какая-никакая мелочишка, она на сигареты нужна; так что, уж коли давать музыкантам, то потом давать, чтобы поплясать можно было за эти деньги.
— Слышь-ка, кореш, идем, отольем немного, — говорит Лайош Виг дружку своему, Тарцали. Поднимает ногу, подхватывает ее под коленом, через лавку переносит. Выходит. Потому что скоро его очередь песню заказывать. И можно быть спокойным: не вернется, пока не минует его эта очередь.
А кореш его, Имре Тарцали, упрямо в стол глядит, не шевелится. У него-то деньги есть. И немало. Только невесело у него на душе. Едва не попался он, когда деньги добывал. А может, еще и выплывет наружу его темное дело. Еще бы: четыре курицы с петухом… со двора Яноша Папа. Да уж очень плохо парню без денег. Теперь, выпив немного, дает себе клятву, что никогда больше на такое не пойдет… Видно, одни на дурные дела с пьяной головы решаются, другие, наоборот, с трезвой.
Сквозь шум и гам уже еле слышится музыка.
Все замечают вдруг, что Марцихази, почтмейстер, сидит за столом против Шандора Папа, санитарного инспектора и похоронного агента. Стало быть, бросил он господ? Ну что ж, верно: раз на свадьбу пришел, стоит ли киснуть? Уж лучше дома тогда сидеть. Шандор Пап весь красный как рак, стучит по столу кулаком, толкует что-то. Марцихази слушает, слушает, потом тоже грохает по столу и кричит:
— Да не болтай ты такую чушь… — вишь, они уже на ты.
— Я-то чушь?.. Да если бы Арпад-прародитель не любил сыворотку, может, все было бы по-другому… — доказывает свое Шандор Пап и встает.
— Ты чего?
— Я тоже имею право говорить, я ведь тоже не кто-нибудь…
— Чего хочешь говорить-то?
— Я расскажу стихи Петефи наизусть, все до единого. А ты повтори, если ты дворянин.
— Х-ха… При чем тут дворянин, если о Петефи речь?.. Ну ладно, валяй. Да только подожди, сначала пусть сват выскажется. А потом — твоя очередь, — и, перегнувшись через стол, усаживает его на место.
Марцихази с Шандором Папом в одном углу спорят, кричат, другие — в другом, кто где. Цыгане играют еще, но галдеж стоит такой, что и музыки почти не слышно. Странно смотреть на это со стороны… если, конечно, есть тут кто-нибудь, кто смотрит со стороны, а не силится перекричать соседа. Гуси так вот шумят осенью, сбившись в кучу перед дверью в сени; или изгородь дребезжит, когда бьют ее, шатают порывы холодного, сердитого ветра. Еще ливень вот так хлещет в окна, то в одно, то в другое…
К концу подходит благословение стола; молодежь торопливо вскакивает, ноги занемели после долгого сидения.
Быстро убирается со стола посуда; только вино да закуску оставляют перед сидящими мужиками. А цыгане уже играют танцы.
Стучат каблуки, кружатся юбки; и словно нет на свете ничего, кроме танца. И даже время остановилось, замерло без движения, завороженное ритмом лихого чардаша.
12
В невестином доме тоже веселье по случаю свадьбы.
Конечно, у Юхошей и угощенье победнее, и за столом сидят всего человек двадцать — двадцать два. И не парни с девками, а взрослые мужики да бабы. С ними детишки. Словом, собрались по-семейному. Чужой среди них только один — Дёрдь Вереш. Тот, что поручительство подписал; теперь вот пришел — проценты хотя бы подъесть.
Едят гости баранину, запивают вином. Сто литров вина было у хозяев, крепкого, молодого вина. Сам Михай Юхош нынче куда разговорчивей, чем в обычное время. Сейчас-то уж он бы нашел, что молодым сказать в напутствие. Не то что утром. Оглядывается Михай вокруг: все ли видят, какой он умный да на язык быстрый?.. Да вот беда: что-то никто об этом, кажется, и не догадывается. Четыре бабы: две его дочери замужние да две соседки — танцуют в кружок посреди горницы. Ладони раскрытые подняты вверх, и вертят они ими то в одну, то в другую сторону. Сами пляшут и сами себе подпевают.
Так что Михаю Юхошу приходится снова наклониться к Дёрдю Верешу; во что бы то ни стало хочет доказать ему Михай, что не так уж и нуждался он в той ссуде. Совсем даже она ему ни к чему. Так уж как-то взял, для порядка…
— Кто с умом живет, тот свое возьмет. Правильно я говорю, господин Вереш?
— Ох как правильно! Еще так говорят: кто с умом живет, к тому и счастье в руки идет…
— Вот-вот. Это дело ясное. Ведь вот, скажем, я: если б я хоть чуточку другим был, смог бы я, спрашиваю, таких детей вырастить? А? И замуж так хорошо выдать? Я это, господин Вереш, не потому говорю, что Марика — моя дочь… Да только Ференц Тот лучшей жены и днем с огнем не нашел бы. Ну, про него я тоже ничего плохого не могу сказать, чего там… — вино и праздничное настроение заставляют Михая даже на зятя другими глазами посмотреть… тем более что далеко Ферко отсюда. — А что, не такой уж плохой мужик Ферко. Работящий. Непьющий. Не то, что братец его… Или… — не может Михай вспомнить, с кем бы еще его сравнить.
Мишка сидит тут же, за столом, вместе с мужиками. Уговорили его мужики целых два стакана вина выпить, вот и сидит он, шевельнуться боится. Он всегда думал и теперь думает, что вино пить и пьянствовать — одно и то же. Вино — такая штука, которую дьявол выдумал, чтобы у людей разум отнять… Хочется Мишке встать потихоньку и уйти туда, на настоящую свадьбу. Где музыка играет, где девки. Да нельзя пока: позже, с отцом и матерью пойдет он к Тотам.
Скучно ему здесь, скучно и стыдно как-то, потому что бабы все какие-то непонятные песни поют. Вот как сейчас…
Эх, завяла тыква, Эх, пропала тыква, Высох стебель аж до корня, Значит, замуж выйду скоро.Не понимает Мишка, что тут стыдного, а все равно стыдно: кажется ему, что не о том поют бабы, о чем слова говорят. Вот так и во всем, что они делают или говорят, когда им весело. А ему только тринадцать, бабы на него и внимания не обращают. Будто он котенок. Ишь, как вертят руками, ладони так и мелькают, словно парикмахер правит на ремне бритву.
Тут входит помощник шафера, и Мишка чуть не подпрыгивает от радости.
Значит, можно герисам отправляться. Ждут их в доме жениха.
У помощника шафера, можно сказать, и обязанностей-то других нет на свадьбе, кроме как после ужина сходить за герисами; а герисы — это невестины родственники. Мать, отец, братья, сестры. (Слово это, «герис», наверное, означает: дескать, гей, рис — стало быть, доедай рис и прочее, что от других осталось. А вообще-то неизвестно. И никто не знает, кого ни спроси.)
Вот только отцу невесты пока еще нельзя уходить, гостей в доме бросать. Приходится ему остаться; с ним одна из дочерей остается. А Мишка с другой сестрой и с матерью сейчас уйдут.
Мать завязывает в платок праздничный пирог, берет его, с гостями прощается. Дескать, будьте как дома, веселитесь хоть до утра, работа подождет — не каждый день свадьба бывает. Словом, старается, чтоб гости не обиделись. И отправляются. Впереди помощник шафера идет, за ним мать с Мишкой, потом замужняя дочь.
— Герисы идут! — зашевелились бабы в сенях. И правда, те уже в воротах. Останавливаются в сенях, в горницу заглядывают, ждут. Не идти же им просто так, напролом, как овцы в загон.
— Ракель! Ракель! — кричит вдова Пашкуй.
Хозяйка выходит из чулана, что возле сеней. Вытирает сальные руки о передник.
— Смотри-ка! Сватья! Вечер добрый, сватья! Прибыли, значит?
— Вечер добрый, сватья… прибыли… — отвечает ей Юхошиха и, хоть причин для этого никаких, громко вздыхает. Давно она мечтала, чтобы Марика попала в этот дом. Вот и сбылась ее мечта. Добилась она своего. И все-таки вздыхает.
— Проходите, гости дорогие, проходите, — приговаривает хозяйка и забирает пирог, который сватья ей протягивает молча. Пощупав пирог пальцем, передает его вдове Пашкуй.
— Герисы пришли! — перешептываются в горнице, и нее поворачиваются к дверям. Потеснившись, место им дают за главным столом: уважить надо невестиных родичей. Юхошиха к Марике подходит, целует ее. Усаживается. И свадьба продолжается там, где остановилась. На питье, на еде. На танцах. Молодежь пляшет, пожилые едят, пьют; они уже снова есть способны. Наваливаются на пироги и на прочую стряпню. Конечно, прежних свадеб, с обрядами да с играми, по нынешним временам уж не увидишь. Нынче гости больше насчет еды да питья понимают. Но уж этого зато вдоволь. Ешь — не хочу. Лайош Ямбор, правда, пить больше не смеет — с тех пор как чувствует на себе женин взгляд; а чтоб не обидно было, вдвое больше ест. Будто мельница жерновами мелет. И в то же время еще успевает приговаривать: мол, не поймет, что это с ним сегодня — вдруг на еду потянуло. Янош Багди с соседом о деревенских делах толкуют и хозяина, Габора Тота, ругают на чем свет стоит. Потому что купил он у помещика четырех боровков за бешеные деньги — и еще доказывает, мол, пришлось. Земский инспектор его заставил. А при чем тут земский инспектор? Земский инспектор жене своей может приказывать, а не мужикам.
— Потому, слышь-ка… что инспектор всегда в имении останавливается, как сюда наезжает, — говорит сосед, Кудлатый Тот.
— И правильно делает. Пусть они друг дружке помогают. Может, и мужики поймут, что им тоже не мешает вместе держаться, — отвечает Янош Багди и принимается объяснять, почему крестьянству заодно надо быть. Но тут входит шафер и подает ему записку. — Что еще там? Ряженые? Ну посмотрим, что они там пишут, — читает, потом поднимает голову.
— Тихо! Тихо! — кричит шафер и размахивает руками.
Но это все равно что уговаривать глухого, чтоб не храпел. Потому что мужик, коли начал говорить, так должен до конца высказаться, иначе ему и свет не мил. Да и музыка играет, ее тоже не остановишь. Так что Янош Багди читает записку для тех, кто поблизости сидит.
— Уважаемый господин сват, — читает он, — прибыли мы из дальних стран, шагали семь дней, семь ночей, одолели семь драконов о семи головах, переплыли семь рек, притомились немного, отдохнуть хотим, пустите нас музыку послушать, чарку выпить. С почтением к вам Бурды — Мурды со товарищи… Ух ты, наплели. Что нам с ними делать? Пустим, что ли?
— А чего?.. Надо пустить, конечно, — говорят со всех сторон.
— Ладно. Вот будет еще одна песня, тогда пусть заходят. А после этого и невесту начнем причесывать.
Шафер уходит передать ряженым слова первого свата.
Как вода в котле, закипев, все сильнее бурлит и брызжет — так бурлит вокруг веселье. Парни вдруг чувствуют в себе большое расположение к женитьбе, девок утанцовывают чуть не до полусмерти и тут же выкладывают им свои соображения: насчет женитьбы, значит. Кто поссорился, здесь мирится; кто без пары, здесь пару себе находит. Словно вихрем кружит танцующих; кто в этот вихрь попадает, тому кажется, что подымает его к самому потолку. Господа тоже чардаш отплясывают, под ту же самую музыку, — только в другой горнице. Словно поняли наконец, в чем секрет настоящей жизни. Все свои заботы и стеснения позабыли. Две вещи только смущают их немного. Первое — что Марцихази совсем, видно, к мужикам перешел, с ними якшается; второе — что у одной учительши кофта лопнула под мышкой. Ладно бы чуть-чуть лопнула — так нет, разлезлась по шву на целую ладонь. Танцует учительша, а ветер у нее под кофтой гуляет. Мужики заглядывают в горницу и смотрят на учительшу так, что чуть глаза на лоб не вылезают. Ну что ж, не все господам радоваться, нужно и им в чем-то пострадать.
У дверей — суета какая-то. Йошка Тарцали бабам что-то говорит, потом проталкивается через танцующих и останавливается перед невестой.
— Выйди-ка, Марика, на минуту в другую горницу, — говорит ей с серьезным видом.
Марика оглянулась было на жениха, но потом встала, подобрала фату и пошла за Тарцали к выходу. А у дверей бабы подхватили ее под руки и тащат за собой.
— Невесту украли! Невесту украли! — хохочут гости. Потому что есть такой обычай: выманить невесту и утащить ее в чулан или еще куда-нибудь. Ну, от этого ни одна невеста еще не пострадала. А потерпеть немного приходится, конечно…
— Ну, брат… что теперь будет? — поддразнивает Янош Багди жениха.
— А ничего, прибежит обратно, коли любит хозяина… — отвечает тот с молодцеватым видом и опрокидывает в рот стакан вина.
— Верно, брат, верно, — поддакивает ему Лайош Ямбор и на жену косится. А та загляделась на то, как невесту уводят, на него и не смотрит. Ямбор быстро наливает в стаканы, себе и жениху, и говорит: — Ну, выпьем, что ли, вдвоем, Ференц.
— Могу, — соглашается Ференц. Чокаются, пьют.
Если говорить начистоту, так Ференц вообще-то не пьет. Хоть бочек с вином у них в клети видимо-невидимо. С малых лет только и слышал он от отца, что вино, дескать, не для того, чтоб его разумные люди пили, а для того, чтобы дураки да пьяницы на стену от него лезли. Они, Тоты, его делают, а потом продают за хорошие деньги всяким непутевым людишкам, для которых веселье да ухарство важнее хозяйства. Ферко был сыном хорошим, послушным, слова отцовы на веру принимал, потому и не пил никогда. Разве что мушт, во время сбора винограда. И нынче вечером всего один стакан выпил, однако что-то в нем шевелится, подзуживает: ну, еще стакан, ну, еще, чтобы на душе стало легко и беззаботно. Кажется ему теперь, что он парень что надо. А что? Разве не заполучил бы он в жены любую девку, только захоти? Еще как заполучил бы… Невеста, вишь, сбежала. Ничего, прибежит обратно.
— Чего нос повесил? Невесту твою теперь отсюда и палкой не прогонишь, не то чтоб она сбежала, хе-хе-хе, — бубнит ему в ухо Лайош Ямбор. Будто мысли его читает.
— Хе-хе-хе… — вторит Ямбору Ферко. Очень ему нравится нынче смеяться: все бы смеялся и смеялся. Взять бы да засмеяться так, чтоб стены закачались… то-то дивились бы гости, глядя на него, говорили б между собой: «Ишь, какой славный, какой необыкновенный парень этот Ференц Тот».
— Ну, выпьем, брат, будем здоровыми да красивыми, — подначивает его Лайош Ямбор, быстро оглядывая комнату. Вроде все в порядке, жена куда-то вышла.
Пьют. У Ямбора для питья всякие смешные прибаутки припасены, вроде: эх, первая рюмка — колом, вторая — соколом; или: что-то плохо пьется, одно донышко остается. Да и другие всякие, например: пей пока дают, а то еще: выпьем, что ли, этот стаканчик, а потом — что останется.
— Пей… веселись… один раз живем… — вопит Лайош, и стакан у него в руке клонится то туда, то сюда.
Ферко пьет; все равно потом пить не будет, а сегодня — случай особый… да он и не пьет, а так… Какие-то непривычные мысли ходят у него в голове. Ишь ты, он и не знал, что у него голова такая умная. Что там Янош Багди? Первый мудрец в деревне? Э-эх… вот если он, Ферко, выскажет, что у него в голове…
— Слышь-ка, Лайош, а ты можешь выговорить: шеран котран?[13] — спрашивает он неожиданно.
— Могу. Шеран котран. А что?
— Хе-хе-хе-хе… — чудные слова появляются в голове у Ферко, слова мягкие, теплые, и все они — ему одному принадлежат, это его тайна, о которой ни Лайош Ямбор, ни другие даже не догадываются. — А такое можешь… Ладьманёш?[14]
— Ладьманёш?
— Ага, — слова начинают путаться, сливаться, а в груди у Ферко открывается какая-то черная бездна, и он свирепо скрипит зубами…
Марику же бабы завели в чулан, что открывается из сеней, и теперь стоят вокруг, посмеиваясь.
— Ох, то-то испугается Ференц, сразу прискачет, — говорят. Потому что полагается, чтоб жених в таком случае бежал отбивать невесту. Да что-то не бежит Ференц. Он сейчас чувствует себя — лучше не надо. Жена Ямбора, большая, толстая баба, уже второй раз пугается: ну, бежит вроде… и встает перед Марикой, загораживая ее, будто туча. А жениха все нет и нет. Только вдова Пашкуй заглядывает в чулан. Чувствует Марика — что-то здесь не так; да и холодно в чулане, и дым от очага глаза щиплет. Уж лучше рядом с Ференцем сидеть, чем такие «побеги» устраивать.
— Сказал я! Сказал я! — хохочет Лайош Ямбор и пальцем тычет в невесту, показавшуюся из сеней.
Марика садится на место и с испугом видит, что ее жених руками размахивает и громко объясняет, что бы он сделал с врагом, если б солдатом был. А на нее только косится иногда.
Музыканты опять за скрипки берутся, струны пощипывают, начинают новую песню. Парни высматривают девок — кого позвать, с кем потанцевать, лбы вытирают платками.
Вдова Пашкуй собирает остатки ужина; кухня окончательно к ней перешла, потому что Мари Чёс опять на что-то обиделась и ушла, села за стол рядом с мужем. Хорошо устроилась. Приготовила, подала, благодарность приняла и уселась, как гостья. А тут все бросила, как есть. Ну ничего, Пашкуиха и сама как-нибудь управится…
Паприкаша осталось чуть не половина, можно будет еще в полночь подать, когда невесту станут причесывать. А курятины даже в избытке; пожалуй, надо судомоек угостить да зевак на улице… Ага, еще ряженым надо вынести. Наложив с верхом тарелку, выходит Пашкуиха на крыльцо.
Шесть переодетых парней молча — чтобы не узнали их по голосу — слоняются по веранде, курят, ногами стучат; мерзнут все-таки ноги. Кто в шубу одет, с длинной бородой и усами из конопли. Другие, наоборот, прифрантились, как городские щеголи. Лица черными масками закрыты, на них нарисованы брови, нос, рот. Только у одного маска не разрисована. Старая артиллерийская форма на нем, шапка пехотная, сабля на боку. Невозможно узнать парней, как ни старайся. Ребятишки собрались вокруг, прыгают, пробуют дознаться, кто в костюмах спрятался. Ряженые с ними не церемонятся: ухватят кого-нибудь за шиворот да как швырнут во двор. Бедняга шлепается в снег, что лягушка. Есть кто после этого уходит с ревом; только все равно не убывает ребятишек: Наоборот, вроде бы даже больше становится, чем было.
— Эх, и красавчики ж, я погляжу. Ну вот вам, налетайте.
Ряженые на тарелку набрасываются, будто голодные собаки. Толкаются. Давятся. Только один не ест, не толкается. Стоит себе курит.
Одевались ряженые в хате у Шандора Бака, с завешенными окнами, чтобы никто не подглядел. Чтоб не узнали их. Парни пробирались в дом по одному: Пишта Хорват, Йошка Серб, Геза Рошташ, Фери Бан, Винце Роза да Красный Гоз.
Красный Гоз последним пришел: перед этим был у Илонки. Не к кому больше ему пойти. На будущей неделе, видно, посватает он Илонку… Что поделаешь, не выходит по-иному.
Так уж ласкова была с ним нынче Илонка — ласковей, чем раньше; и вроде даже еще белей и мягче, чем всегда. Будто чувствовала: пройдет гладко этот день — дальше ей боятся нечего. Лишь бы только проснулась Марика мужней женой, а дальше дело за Илонкой. Уж она приведет парня в божеский вид…
Садится Илонка за стол рядом с ним, кисет у него забирает: мол, сама ему цигарку свернет. Возится с бумагой, табаком. Слюнявит краешек, далеко высунув язык, и глаз не сводит с Красного Гоза.
— Вот и все. Выкури-ка эту, — говорит.
Цигарка мягкая, как сама Илонка. И к тому ж мокрая от слюны. Красный Гоз не хочет девку обижать, берет цигарку, сдерживая брезгливость.
Подает Илонка ему горящую спичку; от огонька будто зарница пляшет у нее по плечам, по локтям; и парню уже хочется взять ее за руку, притянуть к себе. Да, наверное, Илонке тоже этого хочется.
Умел Красный Гоз вкрадчиво, ласково обволакивать, покорять девок, даже не очень об этом думая, без всякого расчета. А вот теперь, словно боясь чего-то, удерживает себя, не дает себе воли. До лучших времен. Так собака зарывает в землю кусок хлеба — может, понадобится когда-нибудь.
Илонка еще суетится вокруг, но все тускнеет в ней надежда расшевелить, разжечь парня. Видно, совсем ему нынче не до того. Сидит, смотрит куда-то перед собой. Как филин на суку. Тогда Илонка тоже меняет тактику. Ладно ж, пусть и у нее будет плохое настроение. Раз так. Надувает она губы, голову втягивает в плечи, сидит нахохлившись, подтянув ноги на перекладину стула. Посмотрим, кто кого перемолчит.
Однако, похоже, не за ней останется нынче победа.
Тихо в хате; только старый Киш сопит на припечке. Шебаршит, покряхтывает… Красный Гоз встает вдруг: идти ему пора, зайдет после. Когда? Завтра. Завтра к вечеру. Спокойной ночи.
Илонка, встрепенувшись, накидывает шаль, выходит за ним следом.
Мягко, медленно до неправдоподобия опускаются на землю редкие снежинки, запархивая иногда в открытую дверь сеней, где стоит Красный Гоз. Илонка рядом топчется неловко, то распахнет, то запахнет на груди шаль, завязку теребит на юбке. Так ничего и не дождавшись, бросается парню на грудь, за шею его обхватывает…
— Почему ты сегодня такой, Йошка? Что с тобой? Кто тебя обидел?
— Меня? Никто меня не обидел. Так… Вот бывает, знаешь: как-то все вдруг не так, как всегда. Не с той ноги, что ли, встал… А потом целый день места не находишь. И причин на то никаких нет… ну, чаще всего нет. Просто найдет что-то, налипнет, как снег или как грязь на сапоги, и ходишь сам не свой. Как-то хочется, чтобы по-другому все было, и грустно почему-то — бог знает почему, просто грустно, и все тут… — высказал бы Красный Гоз все, что у него на душе, пожаловался бы Илонке. Да только вот ведь какая штука: любому человеку может он пожаловаться на свое горе, любому — кроме Илонки. Ей одной нельзя про это рассказать. А ведь она любит его, очень любит, как говорит, так почему же нельзя ей высказать, что наболело? Что это за любовь? Почему новой возлюбленной не пожалуешься на прежнюю, неверную?
Все на свете возможно, а такое даже и в мыслях трудно вообразить.
И ничего тут не поделаешь; придется, видно, всю жизнь носить в себе, скрывать от других свою боль и тоску.
— Ты хорошая… славная, — шепчет он и, как в воскресенье вечером, прячет ей под шаль руку. Но держит ее там, будто деревянную, и ни за что на свете не согласился бы даже пальцем пошевелить, чтобы не коснуться ненароком того, к чему он никакого отношения не имеет. И неизвестно, будет ли иметь когда-нибудь.
С перепутанными чувствами уходил Красный Гоз от Илонки. Торопился: парни уже ждали его у Шандора Бака. Еще днем сговорились они, что ряжеными явятся на свадьбу.
Шумят, зубоскалят парни, рассматривают себя в зеркало. Одеваться им мать Шандора Бака помогает да сестра его, разведенная баба. До того все насмеялись, аж животики болят. Тоже странная вещь: лицо у человека смеется, а больно живот… Но разве удержишься от хохота, когда Шани надевает отцову рубаху с широченным воротом и висит она на нем, как на огородном пугале…
— А где для меня одежда? — входит в хату Красный Гоз.
— Здесь, здесь, я тебе сейчас помогу, Йошка, — спешит ему навстречу баба. Та, что разведенная жена. Берет с кровати в охапку платье и несет Гозу. Работа идет полным ходом. Кто еще сапоги снимает, кто уже снова натягивает, кто бороду привязывает. Красный Гоз становится к зеркалу, долго смотрит на себя. Или не на себя, а на кого-то другого. Разведенная баба стоит у него за спиной; теперь уже и она не смеется. Молчит. И живот перестал у нее болеть.
Артиллерийская форма от мужа ее осталась. От этого проходимца. На Гозе она сидит, словно на него шита. Даже парни оглядываются на минуту. Да, Красный Гоз — это дело другое. Ему эта форма здорово идет… Ну а им идет то, что на них одето.
Раз не могут они серьезными ряжеными быть — что ж, будут смешными ряжеными.
Дождавшись десяти часов, отправляются ряженые на свадьбу.
13
Все чаще приходится носить вино из клети в горницы. Оба шафера только этим и заняты; таскают его в кувшинах, в бутылках, во флягах. Пинцеш, у которого кухмистерские обязанности кончились, теперь усаживается в клети, рядом с бочкой, кран открывать да закрывать. Время от времени и сам отпивает то из одной посудины, то из другой. Слишком полно, говорит. Жалко, добро расплещется.
— Давай вина, давай. Не жалей, — покрикивает хозяин шаферам. Во-первых, потому что заранее решил: сколько выпьют, столько выпьют; случай того стоит; во-вторых, хочет, чтобы сватья его слова слышала. Он как раз с ней разговаривает возле клети.
— Уж вы мне поверьте, сватья, — говорит он ей внушительно, — мы при Марике и виду не подадим, что она летом здесь батрачила. Так что не сумневайтесь. Ведь и Адам, праотец наш, тоже на свет появился без лошади, без телеги и землю не в мешке с собой принес… О себе, конечно, говорить не годится, но одно все ж скажу: я вот — с чего начинал? Мне какое такое богатство досталось в наследство?.. — говорит Жирный Тот, пыжится, словно и свадьба для того лишь состоялась, чтобы он всему свету смог показать, какой он умный да хороший.
Тут Лайош Ямбор выскакивает из сеней, сгорбившись в три погибели; еле успевает ноги подставлять, чтоб не растянуться. Стоит минуту на ступеньках, словно выбирает, в какую сторону двинуться. Да так и не выбрав, устремляется вперед, куда глаза глядят.
«Снег идет»… — соображает он тупо; и до того становится ему грустно от этой мысли — вот-вот сердце разорвется. Словно не снегопад это, а какое-то вселенское бедствие, А ноги несут его, пока не натыкается он на угол хлева; стоит, опершись руками о стенку, голову свесив, будто горем убитый. Потом начинает как одержимый считать про себя; да только одно и то же повторяет: «Пятьдесят пять… пятьдесят пять». Одним словом, блюет. Ряженые обступают его, хлопают по спине, палками тычут — но молчат, чтобы не узнали их по голосам.
Цыгане играют все новые и новые песни, без отдыха, пары кружатся, как в водовороте. Шандор Пап сидит бледный, зубы стискивает, челюсть вперед выдвигает. Потом хватает за руку Марцихази, который вперед ее протянул — хотел показать что-то, говорит ему в лицо:
— Эт-то ерунда! Вот я раз, когда в полк попал… стало быть, говорит мне господин ротный… Смирно! Напра-во, равняйсь!.. — ревет Шандор Пап во всю глотку. Что делать, если только так и может он передать достоверно, что там у него с ротным произошло…
Музыканты смолкают испуганно: думают, это им он кричит, озираются. И тут уж приходится совсем остановиться: судорога пальцы свела.
— Ну зовите, что ли, ряженых! — распоряжается Янош Багди. Сразу трое выбегают на крыльцо.
Бабы, девки к стенам теснятся, кое-кто на лавки влезает: нет уж, они с ряжеными не желают танцевать. Еще не хватало: неизвестно с кем прыгать, всем на посмешище… Это они для виду говорят, а на самом деле хотят оправдание подготовить, на случай если так и останутся стоять у стенки. Потому что ряженых мало, а девок много; всем танцевать все равно не удастся. Ну а не пригласят — все ж таки стыдно.
Вот и ряженые входят.
Впереди всех — огромная фигура в тулупе, с длинными усищами. В руке — суковатая палка. Хохотом встречают его гости; зубы у стоящих по лавкам девок блестят, словно целый забор из зубов. Палка по полу стучит, ряженый к бабам подходит, в глаза им заглядывает, усы подкручивает. Смотри-ка, а вот и второй. На этом — жилет да полотняная рубаха с широченным воротом, и рукава свисают чуть не до носков сапог. На голове — круглая касторовая шляпа, а на шляпе вместо пера пучок веника. Этот, можно сказать, франт. Как такому франту и положено, девок, что на лавках стоят, хватает за щиколотки. То-то визг, хохот стоит в горнице. Гости смеются заранее, будто знают, что дальше еще смешнее будет.
Входит третий, со шпорами звонкими, с медным топориком; это, должно быть, сам знаменитый разбойник, Шандор Роза, или Ринальдо. Молодцевато выходит на середину горницы, стоит, позванивая шпорами. Широкие пастушьи штаны в складку ладно облегают его ноги; а подкладка вывернутого наизнанку жилета — в яркую клетку. Будто два человека: до пояса — один, выше пояса — другой.
С каждым новым ряженым снова вспыхивает смех, словно дров сухих подбрасывают в костер. А вот и последний ряженый. Артиллеристом одет…
И удивительное дело: будто по команде перестают все смеяться.
В сердце у зрителей рождается, расходится светлыми кругами какое-то новое, щекочущее, радостное веселье; мужики вспоминают вдруг армейскую службу; воспоминания эти, которые раньше хоть и жили в душе, но лежали там, как пыльная рухлядь в чулане, теперь поднимают голову, становятся свежими, красочными…
— Помню, когда я в девятнадцатом полку служил артиллеристом… — поворачивается один мужик к соседу, и тут только замечает, что это не сосед вовсе, а соседка, жена Ямбора, и совсем она его не слушает, а все смотрит, смотрит на нового ряженого.
Н-да. Этот ряженый — всем ряженым ряженый.
— Ну, подите, что ль, сюда. Наверное, глотки-то пересохли, — говорит Янош Багди и ставит на край стола шесть стаканов, наливает их до краев.
Ряженые, дурачась, толкаются возле стола, становятся в очередь, изображают, до чего им не терпится выпить. Похватав стаканы, вмиг опустошают их.
— Эй, эй, один не выпил! Кто не выпил? Который? — шумит Ференц, жених. И правда, один стакан нетронутым остался. Правда, все перед Ферко вроде как в тумане… да только пустой стакан так сильно от полного отличается, что тут и слепой не спутает. Стакан — он тогда хорош, когда то пуст, то полон. А если один пустой, другой, наоборот, полный… нет, это дело нельзя так оставить…
— Да сиди ты. Помолчи… — хочет сказать ему Марика. И слова не может вымолвить, лишь дрожит, как листок под ветром. Вдруг узнала она этого артиллериста. О господи, господи…
— Сыграйте-ка им, — машет цыганам Янош Багди, — и пусть идут с богом…
— Покороче только, — добавляет Лайош Ямбор, который сию минуту вошел с улицы; глаза у него красные, мокрые, будто долго и горько ревел.
Снова взлетают смычки над скрипками, шпоры уже заранее позванивают, ряженые поворачиваются туда-сюда, выбирают, с кем плясать. Длинная борода шепчет что-то первой скрипке, тот кивает и начинает быстрый чардаш. Опять визг поднимается в горнице: борода Ямбориху тянет за руку, а та упирается. Тогда ряженый так ее дергает, что толстая баба падает прямо ему на грудь. А тот и не пошатнется: стоит как скала… Ряженый в пастушьих штанах манит кого-то пальцем из другой горницы, откуда глазеет на представление интеллигенция. Женщины, одна за другой, на себя указывают: мол, я? Или я? А палец каждый раз качается отрицательно: дескать, нет, не годится. Наконец останавливается палец на младшей дочери Марцихази.
— Неужто пойдешь? — ужасается учительша.
— А что? Еще как пойду…
Снова гремит хохот, хоть особенно смеяться вроде бы и не над чем — разве что над тем, как ряженый с длинной бородой Ямбориху вертит. Головой ряженый чуть не до потолка достает, а ногами вытворяет такие коленца, будто поезд, когда он со станции отправляется.
Артиллерист с минуту стоит посреди горницы, сложив руки на груди, потом направляется прямо к невесте; щелкнув каблуками, кланяется ей. И смотрит на нее неподвижным взглядом.
Та в отчаянии оглядывается на жениха, на Ямбора, на сидящую поодаль мать… потом в глаза ряженому смотрит. Нет спасения. Встает, фату назад отбрасывает, руки кладет на плечи артиллеристу.
До того это неожиданно и невероятно, что у всех слова замирают на губах, смех застывает в горле. Приглашать невесту на танец до того, как ее причесали, до невестиного танца, — такого, наверное, не случалось еще в деревне. Это уже кощунство.
— Э! Стой! — кидается было за невестой Лайош Ямбор.
Да артиллерист поворачивает невесту вокруг себя — и Ямбор, промахнувшись, валится, будто штукатурка со стены, прямо на колени какой-то бабе. Опять стоит громовой хохот, и артиллерист на минуту-другую выпадает из общего внимания. Остальные ряженые отплясывают чардаш, с коленцами, с прихлопом; сквозь гам, сквозь топот говорит артиллеристу Марика:
— Йошка… что ты делаешь со мной, Йошка?
— Что? Пока еще ничего. Еще только собираюсь… — и ведет Марику поближе к музыкантам.
— Уходи, оставь меня в покое… ты сам хотел этого… Добился своего, так хоть теперь меня не терзай…
— Я хотел? Эх, чего я хотел… — и прижимает Марику, чужую невесту, к своей груди.
— Йошка, пусти, ради бога, увидят же…
А Красному Гозу теперь все равно — будь что будет… Окончательно понял он: нет ему жизни без Марики. Даже представить себе не может, что никогда больше не услышит этого задыхающегося шепота, не обхватит в танце этот сильный и гибкий стан, что никогда больше не лягут ему на плечи ее руки. Нет, нет, не может такого быть… Ладонь его соскальзывает по легкой ткани подвенечного платья, которую словно насквозь прожигает горячее девичье тело; саблю вытаскивает Красный Гоз, Держит ее, острием вниз.
— Йошка… если ты хоть немножко меня любишь, образумься, Йошка… слышишь? — шепчет Марика; но шепчет словно бы про себя, как молитву, ночью, в постели, когда все кругом спят.
— Образумиться? Не бойся, я в своем уме. Если хочешь знать, никогда еще не была у меня голова такой ясной… — много бы мог сказать Красный Гоз, да музыканты уже остановились: хватит для ряженых и этого.
— Кавалеры целуют дам! — по привычке кричит первый скрипач, устало опуская смычок.
И снова — визг и хохот, потому что ряженый в шубе обеими руками схватил жену Ямбора за шею и целует ее без передышки в толстые щеки. Ямбор дважды попытался было вскочить, да не смог: с ужасом чувствует он, что ноги ему не подчиняются. Сначала только в голову вино ударило, теперь вот, значит, в ноги… Остальные ряженые тоже стараются, кто как, дам своих целовать. Дочка Марцихази сначала одну щеку закрывает ладонью, потом другую — да все с опозданием, потому что ряженый как раз целует ее с противоположной стороны.
Только артиллерист и невеста тихо себя ведут, мелким танцевальным шагом возвращаясь к столу.
— А теперь отпусти, Йошка, богом тебя молю…
— Ладно. Только знай: нынче я или деревню подожгу, или же… — и, щелкнув каблуками, отходит. Смотрит на остальных ряженых, которые совсем разошлись, веселя публику; сигарету вытаскивает, закуривает. Наверное, никто, кроме Марики, не заметил, что сигарета дрожала у него во рту.
— Ну довольно, довольно! Пошли вон! — сердится Янош Багди.
Музыканты играют марш Ракоци, ряженые выходят, приплясывая, с ужимками.
Артиллерист спокойно, неспешно удаляется последним.
Гам и хохот переходят теперь в неторопливое, теплое гудение; гости выпивают, и некоторых снова на еду тянет. Шафер подходит к первому свату, они шепотом обсуждают, как и что будет дальше. Сейчас все немного отдохнут, потом невесту будут причесывать; а там невестин танец, после него поварихи деньги за кашу соберут… Все нужно обговорить заранее.
Потому что все должно идти гладко, как по маслу.
Только вот ряженые немного испортили заведенный порядок, вытащили невесту танцевать. А этому жениху непутевому хоть бы что. Ишь, пить еще берется, голова садовая… Ну да ладно, и на старуху бывает проруха, а молодой да красивой малую оплошность и подавно можно простить.
Тарцали в дверях стоял, когда ряженью выходили, и словно бы сильно прислушивался к чему-то. А как последний ряженый прошел, тут и он исчез из дверей. Вроде случайно. Вроде все равно выйти собирался. Вышел — и к воротам. Ряженые уже возле соседней хаты были — только артиллерист в воротах остановился.
— Ну так как, кореш? Сделаешь для меня? — тихо говорит артиллерист.
— Попробую… А если не захочет она выйти?
— Надо, чтобы вышла. Попроси Пашкуиху, пусть вызовет. Ее она послушает… — и снимает маску. В самом деле, Красный Гоз это, не кто-нибудь иной.
— Ладно. Поговорю сейчас с теткой Пашкуй.
— Лишь до хлева ее доведите. А дальше — мое дело.
— Ладно. Да смотри, Йошка. Ты знаешь, я всегда за тебя. А все ж будь поосторожней. Тут ведь народ такой, на руку скор. Беды бы не было.
— А… беды. Хуже беды все равно не будет. Ну иди, чтоб до невестина танца успеть.
Ушли ряженые, тут и зеваки убрались со двора: снег все сыплет, не перестает… да и сколько можно околачиваться на холоде. Пусто во дворе, на веранде. Фонари печально мигают на крюке: один у ворот, другой перед хлевом. Красный Гоз к хлеву уходит, Тарцали — к дому. И тут же отзывает в сторону вдову.
— А что, крестная, напугаем еще раз женишка? А?
— Как это? Опять невесту украсть, что ли?
— Ну да.
— Да он и в первый раз не испугался.
— Теперь испугается, не бойтесь… Уж мы так сделаем, чтоб испугался. Уведем ее в клеть. Да не говорите никому, крестная, мы вдвоем все устроим.
Вообще-то вдове что-то не слишком хочется браться за это дело: ну, один раз украли, обычай соблюли… Однако вытирает руки, идет к невесте. Наклоняется к ней, шепчет на ухо; Марика тихо встает, оглядывается на жениха, да тот как раз стоит спиной к ней и толкует о чем-то отцу, Габору Тоту, который сюда добрался наконец.
— Ну, коли так… — и идет за вдовой.
В сенях бросает взгляд на баб, моющих и складывающих посуду; потом, приподняв длинное платье, выходит на веранду.
— Хопп… — подскакивает к ней Тарцали и берет за руку. Быстро ведет невесту по веранде, потом по двору к клети. Вдова трусцой поспевает за ними.
— Ты куда это меня? — смеется Марика. — Пожалуй, я и вправду подумаю, что…
— Откройте! — кричит из клети Пинцет, кухмистер, и колотит в дверь; кто-то, видно, повернул ключ в замке. Марика удивляется, хочет взяться за ключ, но Тарцали дальше ее тащит, к хлеву.
— Сейчас, сейчас… — и открывает дверь хлева, чтобы не видно было их со стороны дома.
— Да что ж это… — И больше ничего не успевает сказать Марика. Красный Гоз выходит из темного проема, берет ее за другую руку и ведет к саду.
— Господи, Йошка… — оглядывается Марика, да только вдову Пашкуй видит, которая стоит возле хлева и руки ломает.
— Дай-ка твое пальто, кореш, — тихо говорит Красный Гоз.
Тарцали сбрасывает пальто, накидывает его Марике на плечи. А сам бежит обратно в дом.
Кажется Марике, что земля под ногами стала невероятно легкой, сама скользит, уходит назад. Тонкие туфельки проваливаются в снег; вот калитка, вот ларь для половы — и вот они идут уже по заснеженному саду, и чувствует Марика, что двигаться, идти удивительно приятно. Никогда еще ходьба не доставляла ей такой радости. Сзади лают собаки, и впереди лают собаки, и непроницаемо черна над снежной равниной ночь.
Трещат ветви кустов живой изгороди, когда пробираются они через них, — и вот они уже в переулке. Сворачивают в закут.
— Куда мы, Йошка? — говорит Марика. Говорит и чуть не стонет: так крепко, до боли стискивает парень ей руку.
— Идем… — и открывает ворота.
Окна в хате темны; снег, тихо шурша, кружится в воздухе.
Мать Гоза дверей не запирает, пока Йошки нет дома. Теперь они открываются так бесшумно, словно только и ждали этой ночи. Домашнее тепло охватывает Марику. Стоит она посреди хаты, в темноте, а Йошка роется в кармане. Марика протягивает руку к печи, чувствует, как веет оттуда теплом, словно ветром из-под тучи.
— Ты это, Йошка? — слышится с постели голос матери.
— Я, мама… лампу сейчас зажгу… — Вспыхивает спичка, звякает ламповое стекло, и мать открывает глаза. Лицо ее обращено к ним, рука под подушкой — смотрит и ничего не говорит… Смотрит на Марику; а та стоит на месте и, ничего лучше не придумав, аккуратно откалывает с волос фату.
— Вот так, Марика… иначе никак нельзя было, — подходит Красный Гоз, снимает с плеч у нее пальто Тарцали, бросает его на застеленную кровать. А сам берет Марику за руку, подводит к стулу. Усаживает. Потом поднимает вместе со стулом, несет к печке.
Марика смотрит перед собой бесчувственным взглядом и наконец начинает плакать. Плачет горько-горько, как ребенок.
— Господи милостивый, не оставь нас… — шепчет мать, вставая с постели.
14
— Эх, все к черту пошло, — дрожащими губами бормочет вдова Пашкуй и машет рукой в сторону темного двора. Идет к дому. Останавливается в сенях, глядит на очаг, на раскаленную россыпь углей, на остатки ужина, которые хотела подать после причесывания невесты; смотрит на большой, блестящий казан для чиги, и вспоминается ей свекровь, от которой остался этот котел, и свекор, который очень хороший был мужик. Повертывается, идет в чулан. Там, за хлебным ларем, спрятаны у нее сапоги. Торопливо, как попало кидает в голенища жареную курятину, пироги — что под руку попадется. Ничего, они чистые, сапоги-то. Икрами своими добела вытерла она подкладку. Когда вдова сюда их принесла, всем говорила, что это, мол, на случай, если грязно будет, — а на самом деле совсем для другого: чтобы наполнить всякой всячиной просторные голенища. Пусть хоть какая-то польза будет от этой свадьбы… Набив сапоги доверху, идет дочь искать.
А Пирошка как раз с Тарцали болтает, которого вдруг сильно потянуло на женитьбу. Все ж таки полклина земли идет за Пирошкой да еще хата…
— Так-так, погляжу я… Танец-то следующий ты не мне ли обещала?
— Тебе обещала, да только он уже давно кончился. А ты где это бродишь, а? — Пирошка делает вид, что сердится. А сама прыгать готова от радости. Еще бы: чуть не весь вечер Тарцали с ней танцевал; да еще в невестином доме приглашал два раза… Однако где он, в самом деле, пропадал столько времени?
Тарцали на это не отвечает: никому пока нельзя говорить, чем он занимался. Вместо этого берет Пирошку за обе руки и трясет шутливо:
— А я два раза в дверь заглядывал, да ты с Косоруким Бикаи танцевала. Так что следующий танец мой, и все тут.
Пирошка счастлива: сразу столько парней хотят с ней танцевать…
— Ну ладно, так уж и быть. Только смотрите, не подеритесь… — Тут оглядывается она на дверь и видит, что мать ей машет, зовет выйти. — Подожди, я сейчас… — и идет к матери.
— Идем-ка домой, Пирошка.
— Зачем, мама? — чуть не плачет девка. Как раз теперь, когда так все славно, уходить домой?
Вдова не успевает ответить — Тарцали подходит к ним.
— Обижает меня Пирошка… — начал было парень, но Пирошка, уже вправду со слезами на глазах, перебивает его:
— Мама говорит, домой надо идти…
— Да, да. Пошли-ка. — Мать берет ее за руку и тянет к чулану, где сложена одежда.
Тарцали смотрит по сторонам. Невесты, конечно, нету; невесту теперь поминай как звали… Все равно скоро разбегутся гости, как только узнают, что случилось. Так что лучше и ему уйти. Бежит он за шапкой (пальто невеста унесла), нахлобучивает ее — и Пирошку догонять. Хоть домой проводит, что ли… Полклина земли, хата… И сама девка неплоха. Только б не была она такая податливая. Такая ласковая со всеми. Ну ничего, он ее от этого отучит.
На крыльце вдова с дочерью на хозяйку натыкаются: та выходила взглянуть, все ли в порядке в хлеву, не подралась ли скотина, не бросил ли кто спичку горящую, сигарету. Увидев их, спрашивает удивленно:
— Куда это вы?
— Ох, знаешь… домой нам надо… Дочке так плохо вдруг сделалось, еле на ногах держится… — Тут Пирошка и вправду за мать хватается, чтоб не упасть от удивления. Это она-то еле на ногах держится? Это ей плохо?
Тарцали только теперь испугался по-настоящему. Господи, что здесь сейчас начнется…
— Идемте, идемте, тетя Пашкуй, а не то и в самом деле… я думаю… очень уж душно там было. Говорил я, окно бы надо открыть… — бормочет он торопливо.
Чуть не бегом идут они к воротам.
— Эй, слышь-ка… постойте. Где Марика-то? Я видела, вы ее вызывали.
— Марика? У нее, бедняжки, тоже голова заболела. Мы к соседям ее проводили… — отвечает вдова на ходу. Да старуху, как на грех, говорливость одолела.
— Смотри ты… Сама-то вернешься?
— Как же, как же. Утром приду, помогу убраться, порядок навести… — кричит вдова уже с улицы. Тарцали молча поспешает вслед за ними. Холодно ему, как ни прячет он шею в пиджак. Проходят через мост, на другом берегу сворачивают в переулок.
— Черти полосатые… это вы ловко устроили, — говорит наконец вдова. Тарцали не отвечает, слушая скрип снега под ногами, и вдруг начинает громко хохотать. Все больше и больше его разбирает. На всю улицу разносится его смех. Пирошке же плакать хочется, а не смеяться.
— Что здесь смешного? — спрашивает она с удивлением.
— Что смешного? А вот что у Тотов свадьба идет, а невеста — тю-тю… нет невесты-то…
Пирошка останавливается, смотрит на Тарцали; теперь и она не знает, смеяться ей или плакать…
«У одной голова разболелась… другой, вишь, плохо… уж не подсыпали ли чего в еду?» — думает Ракель, входя в горницу. Присаживается на минутку возле сватьи. Ладно, теперь все равно: какая-никакая, а сватья…
— Где невеста? Невесту ведите… Причесывать пора, — беспокоится Янош Багди, первый сват, и смотрит на часы. Вон, шесть минут первого уже. Время бежит. К часу ночи с невестиным танцем надо закончить. Потом он молодых поздравит, и на этом его обязанности кончены. Дальше пусть делают, как хотят. Или как могут. К утру вся компания пьяным-пьяна будет. И зачем столько вина… кому от этого польза?
— Причесывальщицы! Причесывальщицы! — ходит шафер от одной бабы к другой.
Те поднимаются с насиженных мест, готовятся за дело взяться. Да только где же невеста? Нет невесты нигде.
— Сейчас придет… подождите немного, — говорит из дверей хозяйка. Но и сама не очень-то верит своим словам. Идет искать невесту. К соседям.
Сначала отправляется в дом Ференца Мартона; с этой семьей они в ладах, их одних, собственно, и за соседей-то считают. В сенях свет горит, но народу не видно. Входит в горницу. Там тоже светло; правда, фитиль в лампе прикручен. Старый Мартон с трубкой сидит на припечке. На кровати храпит кто-то: должно быть, усталость свалила. Или вино. Больше никого нет в хате.
— Не приходила сюда невеста? — растерянно моргает Тотиха и, не дожидаясь ответа, выходит. Должно быть, у других соседей… у Чордашей… И чего они туда ее повели?..
Конечно, невесты и там нет. Только Балинт Сапора со своими приятелями, батраками да парнями, которых не позвали на свадьбу, сидят за столом, выпивают. Видно, вина у них хватает: весь стол уставлен стаканами да бутылками, большими и поменьше. Свадьба и здесь идет. Не уместилась в одном доме. Захватила соседей, улицу, всю деревню… Только вот невесты нету.
Уже тут почуяла хозяйка, что беда стряслась. Однако уверяет себя, что раз здесь сидят гости, едят и пьют, да и молодые расписались, как же не быть невесте! Невеста должна быть, и все тут. Без невесты не может быть свадьбы — что за свадьба без невесты?!
Бабы-причесывальщицы сгрудились около дверей, перешептываются, озираются боязливо. Не потому, что боятся, как бы кто их не услышал: чувствуют, не так что-то. Какая-то большая беда пришла в дом.
Чувствуют это и остальные гости. На какое-то мгновение тишина, плотная, ледяная, заполняет горницу. Табачный дым, испарения лениво ползут в сени, оттуда во двор. Там, закурчавившись, поднимаются вверх, оседают на кровле бахромой инея.
Янош Багди, который здесь, как первый сват, за все отвечает: и за то, чтоб все себя хорошо чувствовали, и за молодых, и за гостей, и за прочее, — делает знак музыкантам; снова гремит чардаш. Парни высматривают девок; кто подходит, приглашает по всем правилам, а кто лишь пальцем поманит и ждет, чтоб девка подошла.
Цыгане тоже разбираются, что к чему, знают: когда драка назревает или еще что, лучшее средство — музыка. И чем зажигательней, быстрее, тем лучше.
Так что за музыкой дело не стало.
Снова бьет ключом веселье, будто и не случилось ничего. Даже вроде веселей становится. Парни с замужними бабами пляшут, женатые девок приглашают — не вредно их перемешивать иногда. Мужики усы подкручивают: эх, и спляшет нынче кто-то с кумой. А кума и не думает отказываться, весело трясет подолом. И прижмется, если надо. Если уж куму так хочется… Только Яношу Багди не дурманит музыка голову. Один раз всего случилось на его памяти, что невеста к утру сбежала от жениха… да той, правда, было от чего, а этой? Девка бедная, жених богатый… конечно, скорее всего, вернется — а вообще, кто знает… Ух, даже в жар бросило. Дьявол бы их побрал, и почему бы им сначала не свыкнуться хоть немного, а потом уж жениться?..
Окидывает Янош Багди горницу взглядом. Взгляд этот, твердый, внушительный, уже на стольких свадьбах и выборах ему помогал. А теперь вот ничего не меняется. Гости себе танцуют. Некоторые еще и подпевают музыке. «Слушай, брат, пошел бы ты искать невесту-то, что ли?..» — говорит он с раздражением Ферко.
А Ферко как раз толкует Лайошу Ямбору о новом плуге, который и отвал разрезает, и все такое прочее; позарез ему нужно все это именно сейчас объяснить. Говорит, и ужасно ему нравится собственный голос; чем больше говорит, тем больше нравится…
— Это, брат, такой плуг, что он землю режет не так, как, скажем, старый. У этого лемех ну чуточку, может, лучше к земле, стоит и такую борозду дает: дно у нее что твое стекло. А потом и нож, он не просто режет, а только надрезает… Понимаешь, чуточку-чуточку надрезает…
— Я тебе говорю, поди поищи невесту.
— А, сама придет, коли любит… хе-хе-хе, — смеется Ферко, и смех у него точь-в-точь, как у Ямбора. Локоть ставит на стол. То есть хочет поставить, да промахивается, так что всем телом дергается вниз. Будто за веревочку его из-под стола потянули. С изумлением глядит он на край стола: ишь ты… стол — вот он, локоть — вот, а не попал… Как же это так? Даже мороз по коже пробегает — до того это невероятно. Осторожно пытается еще раз локоть поставить — и влезает им чуть не на середину стола.
И тут вдруг пропадают в нем все мысли до единой — ну ничегошеньки не может вспомнить из того, что собирался сказать. Голова пуста на удивление. И слов никаких уже нет на языке… Сидит с застывшим, тупым взглядом; смотрит на лампу, на кувшин с вином; видит и Яноша Багди — будто через стеклянную стену видит.
Медленно-медленно начинает осознавать, что́ за день сегодня и что́ вокруг такое происходит. Марика… Имя это слабым отзвуком приходит откуда-то, из страшной дали, чтобы постепенно заполнить его целиком. Чтобы так переполнить голову, что она словно вспухла, а в висках начинает стучать.
— Пойду схожу за ней… — говорит Ферко и встает.
Однако есть у него ноги или нет — об этом он понятия не имеет, а идет словно бы плечами. Или, может, головой; а тело как-то за головой подтягивается. А она, голова, сейчас большая, ужасно большая, и очень боится Ферко, что стукнет ее по пути о притолоку или еще обо что.
Даже в сенях чувствует он: все, что ни есть вокруг, до отказа наполнено Марикой. Марика — и в очаге, и в бабах, моющих посуду или просто стоящих без дела, и даже как будто в старом Пинцеше. Марика — это теперь не девка, не баба, не невеста, а распадающееся, расползающееся единство вещей, людей, всего сущего.
Вот что примерно думает Ферко; но думает не в словах, а в каких-то цветных расплывчатых пятнах… будто в голове у него окончательно перемешалось все, что он видит и ощущает: вино, одежда, стена, ночь…
Хотел было Ферко к чулану повернуть, да не получилось: будто невидимый кто-то выталкивает его на крыльцо. Мигая, смотрит он на тусклый свет фонаря, потом неверными шагами сходит со ступеней и бежит к хлеву. Не по прямой линии бежит, однако, а по дуге. Задвинув изнутри засов, бросается Ферко ничком на сено, приготовленное к утру.
Еще успевает услышать, как прямо в ухо стреляют ему ломающиеся стебли сухой осоки, но потом и это уходит куда-то, и он уже спит без задних ног.
Коровы поворачивают головы и перестают жевать жвачку, потому что кто-то страшно храпит в темноте…
Так что осталась свадьба и без невесты, и без жениха…
Музыканты играют одну песню веселей другой, народ из всех трех горниц слился в одну толпу, и нет уж ни молодых, ни пожилых, ни господ, ни мужиков — лишь самозабвенно танцующие, раскрасневшиеся гости. Даже Марцихази не усидел, отплясывает чардаш с какой-то немолодой, но на лицо и на тело очень даже пригожей бабой. Танцует ловко, красиво, правильно и подпевает глубоким басом:
Если б эта ночь без сна Целых две недели шла, Две недели да еще два дня; Эх, с тобой отвел бы душу я, Эх, отвел бы душу я…Косорукий Бикаи набрался наконец смелости, отпустил свою даму и вербункош[15] отплясывает. Пол под его сапогами то ухает, как тяжелое орудие, то чечеточной дробью отдает, как пулемет. Дама, младшая дочка почтмейстера, улыбается и, еле заметно прихрамывая, прохаживается перед ним мелкими шажками, будто гуляет.
А невеста и жених — как в воду канули.
И музыка не может ведь без конца продолжаться.
Цыгане, правда, еще играют, да кажется уже, что не смычки, а время тянут.
Габор Жирный Тот дошел наконец до господской горницы; в двух других никого вроде не осталось, с кем бы он ни поговорил. Есть у него мечта — старостой стать, а где можно ближе с господами сойтись, ум свой показать, как не в собственном доме, за обильным столом? Сейчас он как раз секретарю объясняет, как да что надо бы в правлении изменить; и с пастбищами бог знает что творится, всяк в свою сторону тянет… в это время вваливаются в горницу те, кто оттанцевался.
— Фу, до чего жарко, — говорит молодая учительша, обмахиваясь рукой.
— Ну, братцы… дела начинаются: хоть стой, хоть падай, — говорит входя Марцихази и торопливо дверь за собой захлопывает.
— А что такое? — забеспокоился секретарь.
Марцихази не отвечает, глазами на Габора Тота показывает. Габор сидит спиной — да будто глаза у него на затылке; все видит, оборачивается, смотрит на Марцихази недоуменно.
Тихо. Все словно воды в рот набрали.
Габор Тот сидит, не знает, что делать; на столе что-то перебирает… наконец встает и выходит.
— Случилось что? — обступают гости Марцихази; тот оглядывается на дверь, садится. Наливает себе вина, содовой добавляет; посмеиваясь, вертит стакан в руке, отпивает, потом говорит:
— Похоже, невесту увели.
— Бац, — стучит по столу ладонь секретаря. — А что я говорил? Вот только не думал, что так скоро это случится. Хоть бы дождалась, пока свадьба кончится.
— Она бы, может, и дождалась, да ведь, если ее увели, значит, был и кто увел. А ему конца свадьбы дожидаться — никакого расчета, — отвечает Марцихази и смеется.
Опять тихо в горнице. Задумались все. А о чем каждый думает — один бог знает. Во всяком случае, женщины краснеют и глаза опускают одна за другой.
— Откуда вы это узнали, дядя Марцихази? — спрашивает молоденькая учительша.
— Откуда? Целый час ее ищут. А если она здесь, так чего ее искать?
— Но это же ужасно…
— Ну, только для жениха. А тем двоим, то есть кто увел и кого увели, не так уж, наверное, плохо. Конечно, может, им тоже ужасно — ужасно хорошо. Подумайте-ка, Мария, что… — однако тут вспоминает почтмейстер о дочерях и сразу замолкает; блестя глазами, за стаканом тянется, пьет.
— Но все-таки в самый день свадьбы…
— А это уж значения не имеет. Лучше раньше, чем позже.
Тут вступает в разговор пожилая учительша, которая еще и активистка в местном обществе содействия народному просвещению и которая была однажды замужем, но всего каких-нибудь полтора года, потому что муж, почтовый чиновник, рано вышедший в отставку, взял и повесился на печной трубе.
— Вот видите, — говорит она с возмущением, — как же воспитывать, учить этих людей? Как прививать им культуру? Ведь они такие же темные, невежественные, как тысячу лет назад. Им наплевать и на нравственность, и на власть, и на право. Низменные инстинкты — вот их нравственность, их идеал. Что им стоит нарушить клятву? Даже глазом не моргнут…
Марцихази не выдерживает, перебивает ее:
— Розика, дорогая, неужто вы всерьез полагаете, что мы вот, кто или по службе, или помимо службы, но все равно за определенную мзду учит этот дикий народ культуре, — что мы так уж далеко ушли от него? Или вообще что человечество, как таковое, продвинулось хоть немножко вперед за тысячу лет? Вот утверждают, что предки наши клали мясо под седло, чтобы оно стало мягче, и потом уже ели… Конечно, наши ученые изо всех сил протестуют: дескать, наша культура уже в то время была такой высокой, что полностью исключала употребление в пищу мяса, приготовленного таким способом. Возможно, ученые правы — но все равно мы за тысячу лет прогрессировали лишь в той степени, что не едим сырое мясо сразу, а едим его только через месяц. А то и раньше. Ведь, скажем, сало тоже сырое, колбаса — сырая; какая-нибудь салями — известно ведь, как она делается. А что такое — разница в один месяц? Да ничего.
— Но сейчас совсем о другом же речь…
— Постойте-ка — что-что, а завладеть вниманием слушателей Марцихази умел, как никто другой. — Мы вынуждены принимать пищу, ибо без пищи не сможем жить. Но то обстоятельство, что чаще всего мы утоляем голод или, другими словами, набиваем брюхо публично, да еще под разными фальшивыми предлогами, вроде праздников, семейных торжеств и прочее, — разве это культурный прогресс по сравнению с тем, как ели наши славные предки? Они ведь просто ели, и все тут, без всяких там эмоций, по чистой необходимости. Я не говорю о том, что в истории древних великих культур были периоды, когда поглощение пищи было таким же предосудительным и внушающим отвращение актом, как и все остальные проявления обмена веществ. Так что современные моральные законы — это просто биологические законы, и с точки зрения идеального общества — это совсем не прогресс, а, наоборот, отступление назад. Не исключение из этого правила и выбор пары, или институт брака, говоря языком религиозной морали. Ведь рядом с инстинктивным влечением, а часто вопреки ему здесь играют роль тысячи разных соображений. Например, богаты ли невеста или жених; и кто был отец; или вот еще правило: беря дочь, смотри на мать; и бог знает что еще. Да только природа не терпит долго, а то и совсем, вмешательства в ее дела, потому-то время от времени и происходят, как бы в назидание человеку, взрывы вроде нынешнего бегства невесты… Ну а теперь говорите, пожалуйста, что вы там хотели сказать, — вытаскивает он сигарету и закуривает.
Слова Марцихази сыпались на бедную Розику как град. Даже плечи у нее занемели.
— Словом, вы, Марцихази, сторонник того, чтобы… если мужчине нравится женщина, то пусть он спокойно убивает всех, кто стоит на дороге, и тащит женщину, куда хочет?
— Нет, мне это не нравится. Но ведь это факт. Видно, природе нужно именно это… А мне лично нравится такое идеальное, утонченное общество, где люди, закрывшись в темной комнате, торопливо съедают пищу, необходимую телу.
— Да не просто пищу, а пилюли, экстракты! — выкрикивает секретарь и хохочет, чуть со стула не падает.
— А что, может, и пилюли, почему бы и нет? Да только… здесь тоже есть загвоздка. Чем идеальней, то есть культурней, будет человек, тем больше будет он терять то место в мире, которое завоевал в долгих тысячелетиях страшной борьбы. Извечный закон природы — все живое да борется непрестанно за свое существование… Старший мой брат, бывший пехотный капитан, в прошлом году место получил в провинции, в деревне. Жена его, этакая бездетная добрая душа, решила спасаться от деревенской скуки разведением птицы, скота. Ну, дело пошло: выращивали они великолепных коров, кур, другую птицу. И до тех пор все было чудесно, пока в один прекрасный день не случилось так, что паприкаш из цыпленка стоял на столе, а они не могли к нему даже притронуться. Ни крошки не могли съесть. Для них ведь деревня означала полную оторванность от шума жизни. С мужиками они не общались, в гости не ходили, жили утонченной жизнью людей, которые приблизились к идеальному состоянию. В конце концов оставалось им только записаться в бичердисты[16], надеть белые балахоны и на улицу идти проповедовать. Или просто попробовать остаток жизни прозябать на растительной пище, чтобы обрести душевное равновесие… Да хорошо еще, если бы здесь они его обрели… Только ведь растения-то тоже живут. А если живут, то кто может доказать, что не чувствуют? Не хватает еще, чтобы они жалели лишить жизни какую-нибудь молодую и красивую, всей полнотой бытия наделенную морковку… или там салат. Тогда уж гроб можно спокойно заказывать… да и то прежде подумавши, потому что ведь гроб из дерева делают, а дерево — тоже когда-то живое было… Это да… Это уже интересно…
— Ну и что дальше было? Чем все кончилось?.. — любопытствует Розика. И как учительница, и как народный воспитатель.
— Чем кончилось? Словом… это уже болезнь была, страшная болезнь. Представьте себе офицера, командовавшего когда-то полком, который… как бы это сказать?.. настолько утончился, стал идеальным, что не смеет цыпленка зарезать. Не говоря уж о том, чтобы еще и съесть его.
— Н-да. А вдруг война…
— Вот-вот. Только брат мой не из того теста сделан, чтобы так легко сдаваться.
— Вылечился? То есть…
— Вылечился. И довольно радикальным способом. Когда они уже не смели мясо покупать в лавке, разозлился однажды брат и напился так, что чертям тошно стало. А когда шел домой, на плечо ему петух взлетел — у них это было дело обычное. Тут брат хвать его — и шею свернул. Сначала голову его сгрыз, а потом…
Громовой смех в горнице.
Мария, молодая учительница, от восторга ладонями по столу хлопает. Все смеются. Даже сам Марцихази. Только две его дочери улыбаются тихо. Должно быть, не первый раз эту историю слышат.
— Но послушайте, папа, — говорит одна, — все-таки сейчас о другом речь… если невеста сбежала, что будет? Вернут ее?
— Чего? Кого?
— Ну, эту невесту? Она такая красивая…
— Ее вернуть невозможно.
— Но ведь по закону она жениху принадлежит.
— А по другому закону — тому, с кем убежала.
— Вот как?
— Да уж так…
— А кто мог ее украсть? Может, просто к матери ушла, домой?
— Мать ее здесь. Сидит и пошевелиться не смеет. Только глаза у нее бегают… Нет, невесту украли по всем правилам. И кажется мне, я знаю, кто мог это сделать. — Он вспоминает полицейских, телефонные столбы и Красного Гоза. — Йошка Гоз, Красный Гоз. Я думаю, это он. Ну что, уходим или остаемся еще?
«Красный Гоз украл? Н-ну… тогда уж она в самом деле украдена», — думают все, хотя вслух никто ничего не говорит.
— А власти… то есть полиция, не могут разве вмешаться? — теперь одна Мария еще задает вопросы; ей всего девятнадцать исполнилось, и учит она всего лишь второй год. Но напрасно ждет она ответа, никто ей не отвечает. Оглядывается в недоумении: все куда-то в сторону смотрят, кто на лампу, кто на окно или на стену. Рты у всех приоткрыты, словно смех так и застыл, обнажив зубы в ухмылке.
А в соседней горнице вдруг наступает тишина; необычная, мертвая тишина. И среди этой тишины гремит один голос, патетически подрагивая, как лист на березе. Говорящий словно стоит где-то на вершине холма, а тишина осела внизу, у подножия.
Марцихази встает, дверь настежь распахивает. В горнице Шандор Пап декламирует Петефи:
Французский край почти второй обетованный, Он сущий рай земной и лучше Ханаана. Вот на него зачем точили турки зубы И вторглись в этот край своей ордою грубой. Когда в страну пришла венгерская подмога, Враг буйствовал вовсю, уже награбив много…— Что это он? — спрашивают женщины шепотом.
— Не слышите? Декламирует стихи Петефи, все подряд.
— Господи боже… с первого до последнего?
— Конечно. До полудня будет рассказывать, но расскажет. Если потолок на него не рухнет…
А Шандор Пап все гремит:
Утешься, — убеждал венгерский полководец. — Управу мы найдем на этот злой народец…[17]И трясет поднятыми кулаками, и волосы на голове у него стоят дыбом, как щетина.
15
Пирошка с матерью и с Тарцали домой идут. Все трое молчат. Тарцали зябнет в своем пиджачке, ногами топает, руками по воздуху бьет, чтобы согреться.
— Эй… а куда это ты пальто свое дел? — заинтересовалась вдруг Пирошка.
— Если бы знала, не спрашивала бы…
— Куда, куда. Невеста в нем сбежала! — сердито говорит вдова.
Пирошка не смеет больше расспрашивать; боится, как бы не услышать что-нибудь такое, что девушке слышать неприлично. Да они уже и к дому подходят. Тарцали останавливается; остается проститься и домой бежать, пока совсем не закоченел. Однако вдова уже определила про себя его судьбу: ладно, этот парень не хуже, чем тот проходимец, Красный Гоз. Неплохо бы отдать за него Пирошку…
— Зайди уж, что ли… ни дна вам ни покрышки. Дадим тебе одеть что-нибудь. А то ведь и до дому не дойдешь…
Тарцали это подходит. Мороз очень уж крепкий… да и полклина земли, хата опять же… Заходит.
Вдова уже под самыми окнами спохватывается, увидев, что лампа горит в хате. Ох ты, ведь здесь еще Геза, еще одно чудо-юдо… Черт побери, и чего она в чужие дела всегда влезает? Дернуло ж ее пожалеть его, в доме оставить…
— Кто это у вас? — удивляется Тарцали.
— Иди, иди, там узнаешь.
Геза в одиночестве сидит за столом, читает. Перед ним толстенный том: «Библиотека семейного романа».
— Ты что здесь делаешь, Геза?
— Читаю вот. Хе-хе… Чудные же здесь людишки, я вам скажу…
— Какие людишки? Где?
— А в книге. Лади вот. И этот гентлеман, — (так и говорит, как написано[18]) и, поглаживая книгу ладонью, смотрит на вдову.
— А где ж эта… жена-то твоя?
— Дьяволу она жена, а не мне. Да я и не знаю, где она.
— Как так — не знаешь?
— А так… послал я ее на все четыре стороны. То есть… она, вишь, потребовала, чтоб я ее старикам показал, домой повел и все такое. В общем, поругались мы, она и ушла, еще днем.
— Н-да… хороши вы оба. Наплевать вам на отца с матерью.
— Наплевать? Кому это наплевать? Мне? А что я такое сделал? Такое с каждым бывает. Нет, что ли? — Теперь, когда от его похождений не осталось видимых, ощутимых следов, Гезе кажется, что с ним какая-то несправедливость случилась. И вообще: всю жизнь, сколько он себя помнит, всегда несправедливо с ним обходились…
— С каждым? Да есть ли еще такой мужик в деревне, который бы столько денег за один раз спустил? И домой бы после этого не явился? А явился, то уж так, что лучше б и не являлся… Господи…
— Сколько там денег-то? Подумаешь — за одну корову… А если б ее, скажем, украли… или сдохла бы… Какое большое дело — корова! Мало, что ли, я работал? Как-нибудь на корову-то заработал. А нет — так пускай из моей доли наследства вычтут. Пускай братцу моему знаменитому еще больше достанется.
— Братцу… Братец твой тоже нынче отличился.
— Как это?
— Как? Да так… И говорить не хочу. Пусть другие тебе расскажут. — Вдова раздевается, одежду в шкаф вешает.
— Невесту украли у него, — говорит Пирошка, чуть ли не с благоговением в голосе.
— Украли? Когда? Сейчас, ночью?
— Невест только по ночам крадут, — отвечает ему Тарцали и не может удержаться от смеха. — Красный Гоз украл.
— Вот это да! Ну, теперь мы по крайней мере квиты. Пойду я домой, пожалуй.
— Господь с тобой… ты хоть сейчас туда не показывайся.
— А что? Пойду, и все тут. Не к чужим ведь, к себе. А потом… нет за мной никаких грехов, ни больших, ни малых. Еще как пойду… — и вправду одевается, собирается уходить. На сердце у Гезы легко, все для него теперь удивительно просто и понятно. А что отец с матерью скажут? Что деревня скажет? Пхе… Она, деревня-то, сказала что-нибудь, когда он в ту корчму входил?.. Может, удержала за руку или предупредила хотя бы? Никого там не было. Только корчмарка да незнакомые господа. Да вино… да четыреста двадцать пенгё…
Два часа пополуночи. Снег наконец перестал, нападав с вечера на целый вершок. Смежив глаза-окна, спят в белой тьме хаты; рядом с ними деревья дремлют. Медленно бредут по свежему снегу ночные сторожа, утонув в своих тулупах. Вдалеке что-то звякает, отдаваясь чистым, медным звоном, — это контрабас задевает о забор. Видно, цыгане тащат домой инструменты. Что это за свадьба, если музыканты в два часа уже уходят. Не свадьба это, так, невесть что.
Дом Жирных Тотов до сих пор освещен. Будто стоит и терпеливо ожидает прежних хозяев, старых господ: уездных начальников, исправников… Бог знает, чего ожидают зимними ночами эти старые дома. Горят лампы в горницах, в сенях, в клети; во дворе фонари все мигают на крюках, удивленно и печально. Но тишина стоит кругом. Густая, ватная тишина, которая и должна стоять поздней ночью. Снег во дворе грязен, истоптан, испоганен. Из крана пожарной бочки медленно, тягуче каплет вода. Стога за хозяйственными постройками стоят нахохлившись, словно громадные белые птицы, спрятавшие голову под крыло.
Сначала крадучись, шепотом, потом все смелей, беззастенчивей ходила между гостями невероятная весть. Узнав ее, с минуту стояли люди, ошарашенно глядя друг на друга; потом отыскивали торопливо одежду и исчезали. Один за другим. Словно и не было их тут.
Хозяйка, Ракель, то идет в клеть, ломая руки; стоит там, не зная, зачем пришла; то возвращается в дом, то опять к соседям спешит, оттуда — к другим соседям. Везде на столах вино, пироги… даже мыслей никаких нет у нее сейчас в голове; только ходит туда-сюда и стонет, как от мучительной боли.
Хозяин, Габор Тот, сидит сгорбившись в угловой горнице (где сиживал когда-то сам исправник), на месте первого свата. Против него — Шандор Пап; жена его, Мари Чёс, стоит у мужа за спиной, гладит его по затылку и время от времени шепчет на ухо:
— Шандор, слышишь? Пойдем домой, Шандор…
— Постой, я только… — подымается Шандор Пап. Два желания борются в нем: одно — дорассказать до конца Петефи, с того места, где остановился (а остановился он на строчке: «Я пред богом не в ответе, что любовь другую встретил…»); другое — хозяина как-нибудь утешить, Габора Тота. Вот только чем его утешить-то? Эх, прочитать бы ему стихи Петефи, до конца… пока дослушал бы, наверняка по-другому смотрел бы на всю эту историю. И еще многое хотел бы сказать Шандор Пап хозяину. Насчет превратностей судьбы, насчет девок и баб… Уж очень жалко ему старика. За все годы, пока служил Шандор Пап похоронным агентом, не было у него еще такого покойника, которого жалел бы он так сильно, как сейчас вот живого Габора Тота.
— Не горюйте, дядя Габор… отольются еще волку овечьи слезы! — утешает он хозяина.
— Ох, если бы, если бы… Дьявол его забери. Столько расходов, а ради чего? Все впустую. Все ради того, чтобы не только перед собой было стыдно, а и перед всей деревней. Одного не возьму в толк… за что меня, именно меня бог наказывает? Всегда был я к людям добр, трудился не покладая рук, слабых не обижал — так за что ж меня-то?.. А? — говорит он чуть не со слезами в голосе. Будто дитя малое. Наверное, чтобы еще сильнее кого-нибудь разжалобить.
— Это точно, дядя Габор, к людям вы всегда добры были. Никто с этим не спорит. Добры и остались. Потому и не стоит горевать, дядя Габор. Сегодня так, завтра этак… — все утешает его Шандор Пап; просто душу свою готов достать и ею слезы старику вытереть.
Из сеней вдруг доносятся крики, шум.
— Ну-ну, брат. Поосторожней, брат. Смотри, не натвори чего-нибудь, — слышится голос Пинцеша, виночерпия и кухмистера.
— Кишки выпущу! На одну ногу наступлю, за другую дерну, раздеру его на две половинки к чертовой бабушке, — орет Ферко, выспался видно.
Входят в горницу.
Смотрит Ферко на пустые стулья, на неубранные столы, на следы так славно начавшейся, оборванной, поруганной свадьбы; и кажется ему: то, что случилось, случилось вот только что, сию минуту, даже еще и не случилось, может… и если вмешаться решительно, то все можно поправить, вернуть. Только-только разошлись гости, только-только исчезла Марика…
— Ух, я им счас устрою!.. — вопит он и выскакивает из горницы. Как был, с непокрытой головой.
— Куда ты, Ферко? Вернись, Ферко!.. — кричит вдогонку мать. А тот не слышит, мчится по улице.
Куда обычно бежит человек, если у него беда? Конечно, в правление.
Хмель быстро выходит у Ферко из головы; видно, и вправду проспался он. Но что-то как будто осталось от хмеля, что-то такое, чего прежде не было никогда. Чувствует Ферко в себе невероятную храбрость. Против всего света готов пойти, если надо… Да вот беда: весь свет будто спрятался куда, не видно его нигде… А в правлении все окна до того черны, что чернее не бывает. Снег на наличниках бел; сами же окна — словно уголь… Вот ведь какая штука. И будто только теперь протрезвел окончательно Ферко — теперь, а не когда проснулся…
Обратно идет медленно. Куда ему спешить?..
Шаги слышатся впереди: словно кто-то топчется в снегу на одном месте. Ферко на середину улицы выходит: не хочется ему сейчас встречаться ни с кем. И, не пройдя полсотни шагов, видит: стоят перед ним двое полицейских. С ружьями, со штыками. По всей форме, одним словом.
Никогда не нарушал Ферко законов — не то чтобы так уж хорошо знал, чего нельзя нарушать, а просто такая у него натура. Чужое он не трогал, на дорогах ехал по той стороне, по какой положено; даже когда пешком по обочине шел и то задолго уступал дорогу встречным… А все-таки в эту минуту… как всегда, когда полицейского видит… просыпается в душе у него какой-то непонятный страх. Будто бы, скажем, во сне совершил он что-то недозволенное и полиция об этом знает, а он — нет. Или в скором времени должен совершить преступление, сам еще не знает какое. Например, будет ехать на телеге и наедет на человека или чужого поросенка задавит… в общем, неизвестно что…
— Доброе утро, — говорит он с трепетом; даже непонятно, как он угадал, что дело к рассвету близится. Сходит с дороги в снег, будто полицейские ведут с собой злую собаку; намеревается проскочить мимо.
— Доброе утро… Эй, эй! Куда так спешите? Где это вы были? — оборачивается вслед ему один из полицейских.
— Из правления… то есть… я только посмотреть хотел, потому что… это…
— Ну-ну! Почему же? — полицейские подходят ближе.
Эх… не так получается. А впрочем… Ведь что такое правление? А полиция — это кое-что. Закон, сила, справедливость. А на чьей стороне сейчас правда, если не на его? Его правда ясна как день и бела как снег. Ну, уж он выведет кое-кого на чистую воду…
— Прошу почтеннейше выслушать, господин унтер-офицер… — (В темноте любого полицейского зови унтер-офицером, любого военного — лейтенантом или в крайнем случае ефрейтором. Чтобы в звании не ошибиться.) — Нынче свадьба была у меня с Марикой Юхош. А тут…
— Ага! Вы, стало быть, жених. То есть уже не жених, а молодой муж!
— Ну да. А тут я как-то так… немножко выпил, хоть вообще-то не пью никогда, да нынче вот… все ж таки не каждый день свадьба бывает… словом, начали мы пить с Лайошем Ямбором, вторым сватом, чтоб черти забрали его с вином вместе… ну и отяжелела, знаете, голова. Прилягу, думаю, немного, а встал — ни гостей, ни невесты, никого. Вот я и побежал в правление.
— Ну и как? Нашли их там, гостей-то с невестой? — спрашивает полицейский с самым серьезным видом, но не выдерживает. Лезет из него смех, как пена из пивной кружки. Сперва еще вроде про себя смеется, словно бы и не он, а какой-то маленький зверек попискивает в кулаке. А потом все больше расходится и хохочет так, что вся улица вздрагивает и отвечает эхом.
Так вот и стоят двое полицейских посреди улицы в предутренней темноте и хохочут, заливаются; а в это время часы на колокольне бьют четыре, и Ферко, будто раздавленный громовым хохотом и часовым боем, дрожит перед ними растерянно, с непокрытой головой.
— Да ведь, мил человек, невесту-то вашу… то есть не невесту уже, а жену… того… увели. Ха-ха-ха-ха… ой-ёй-ёй… ха-ха-ха!
— Ну да. Я это и хотел сказать.
— Ох-хо-хо-хо… хи-хи-хи-хи… — будто пулеметные очереди перекрещиваются в морозном воздухе. — Ну, брат. Видно, для вас этот день скверно начинается, — перестав наконец смеяться, задумывается унтер-офицер (случайно в точку попал Ферко: в самом деле это унтер-офицер). Деревню он знает неплохо, знает и Марику Юхош. И немудрено: такая девка Марика, что любому бросится в глаза, кто хоть немного в деревне поживет… — Какой же вы мужик, а? — кричит вдруг унтер-офицер. — Не стыдно вам, а? Знаете, от кого невесты сбегают? От последнего слюнтяя, губошлепа. Коли уж сбежала невеста от жениха, значит, не стоит он ее. Вот. А теперь ступайте домой, пока не простудились.
— Иду я, да только… нельзя ли сделать чего? — ежится Ферко. Лучше б не начинал он этого разговора.
— Как нельзя? Можно. Пожелайте молодым счастья, да удачи, да долгой жизни. С кем она сбежала-то?
— С Йошкой Красным Гозом.
— Гм. В хорошие руки попала. Это уж действительно… сбежала, — и снова хохочет. Не может удержаться, что тут скажешь!
— Я думал, может… того… можно бы Марику заставить…
— Эх, господи, глупая вы голова! Да вы что думаете: вот хотя бы сейчас, пока мы тут с вами стоим, Красный Гоз только любуется на вашу невесту? За ручку ее держит?
Теперь начинает хохотать и второй полицейский, совсем еще молодой парень.
— Скажите, вы бы и после этого ее приняли?
Еще что-то говорят они сквозь смех, приправляя шутки откровенными выражениями. Слова их падают на голову Ферко, будто удары палкой.
— Ступайте-ка вы домой да женитесь снова. Да смотрите теперь: еще раз сбежит невеста, вас посадим в кутузку, — и уходят. Перья на шляпах колышутся в такт шагам, глубокие четкие следы остаются в снегу.
Делать нечего. Бежит Ферко домой.
Зубы у него стучат от холода, и вообще промерз он до костей.
А в большой горнице будто сейчас лишь начинается свадьба: люди толпятся кругом, а в середине стоит Геза, блудный сын. Трясет своим знаменитым ружьем и кричит, что, дескать, позор этот можно смыть лишь кровью, так что пойдет он и застрелит Красного Гоза.
— Убери ружье, убери, а то заглянут полицейские и отберут. Чем тогда застрелишь? — кричит на него мать, которая уже в себя пришла. То есть не то чтобы совсем… просто вытерла глаза и больше не плачет. Скоро светает, дел впереди невпроворот…
Бабка Агардиха, которая при кухне была на свадьбе, догадалась кастрюлю вина поставить на очаг и теперь молча подает на стол несколько кружек. Кто хочет, пусть пьет. Теперь она здесь за главную. А вино она и вчера вечером еще грела для гостей. Сама тоже берет кружку; прислонившись к косяку, стоит, отхлебывает понемножку.
Пинцеш, виночерпий и кухмистер, тоже за кружкой тянется. Надо пить, пока дают. Вот кончится свадьба… или как это назвать?.. — тогда у Тотов не очень-то выпьешь… Сейчас старики здесь собрались, которых хоть и звали на свадьбу, да неудобным они посчитали приходить. Зато старики эти бывают везде, где какое-нибудь несчастье. Похороны, например, или скотина сдохнет… Постепенно, почти незаметно, у каждого в руках оказывается кружка с горячим вином; отхлебывают вино, причмокивают — и вот уже губы невольно растягиваются в улыбке. Смотрит на них старый Тот, смотрит… потом переводит взгляд на Гезу, который уже другой план мести придумал, машет руками: дескать, он так и так… А все для того, чтобы отец о его грехах не вспомнил.
16
К утру отяжелел, осел выпавший за ночь снег, рыхлым стал и серым. Желтая влага проступила в ямках, в следах; дым из труб валил вниз, растекался по улицам, по садам, по дворам. Вороны садились на навозные кучи, поднимали головы, когда близко хлопала дверь; завидев людей, взлетали мягко, бесшумно.
Опять потекло со стрех; забулькали, где были, водосточные трубы; бабы ушатов понаставили под капель. Потому что нет для купанья лучше талой воды. Особенно если налить ее в тополевое корыто.
— Эй, сосед, кончается, видно, зима! — кричит один мужик другому. Тот, конечно, откликается:
— Кончается-то кончается… да ведь еще шесть впереди.
В каждой зиме, говорят, по семь зим…
— Эй, сосед! Ты был ли на свадьбе-то? — кричит третий, расчищая в снегу канавку для воды, и посмеивается в усы.
Не один, не два — все нынче задают этот вопрос, через изгородь ли увидят друг друга или на улице встретятся, в лавке, у колодца. Ну, ответы, конечно, следуют разные. Если спрошенный был на свадьбе, то теперь он хмыкает неопределенно и в затылке чешет: дескать, быть-то был… нельзя было не быть, раз позвали, да только… лучше б он там не был. А кто не был, тот хохочет в ответ: ха! Я-то? Чего я там не видал! Знал я, что из этого выйдет. Так и надо: не бери ношу не по плечу. Сначала в зеркало посмотри на себя, а потом женись… — много чего может сказать человек на этот счет.
Словно потревоженный муравейник, зашевелилась деревня; двери хлопают, сапоги хлюпают по сырому снегу — всем куда-то идти вдруг понадобилось. Тот давно у зятя не был, другой к куму, к куме решил заглянуть…
Девки шаль на плечи накинут, передник поправят — и к подружкам бегом. Постучат щеколдой на воротах — собака злая во дворе! — покричат, дожидаются, чтобы вышел кто.
Учительши степенно ходят по школьной веранде, от одного класса до другого; за ручку берутся двумя руками, будто дверь трудно открывается. Но прежде обопрутся о дверь коленом и животом. И еще раз оглянутся на улицу.
Ребятишки по дороге в школу сбиваются стайками, идут, размахивая сумками, и тоже говорят про свадьбу. Про невесту, которую, слышь, украли ночью, это же надо!..
Перед глазами их воскресают деревенские легенды, вроде той, что говорит об упавшем с неба свитке или о табунщике, которого убили на солончаках. Только с этими легендами в один ряд можно поставить нынешнюю свадьбу.
Даже старики едва вспоминают схожие случаи. Правда, лет шесть или семь тому назад тоже сбежала у кого-то невеста — так она еще до свадьбы сбежала. А то еще, давным-давно, старшая дочь Косорукого Бикаи (тетка нынешнего Косорукого Бикаи) убежала с работником… однако ж не в ночь свадьбы, а через два дня… Или вот еще… Словом, чем больше раздумывают над этим, тем больше случаев приходит на память. Удивительное дело: то никак не вспомнишь, сколько ни ломай голову, а то вдруг само все всплывает, друг за другом, словно на прочную нитку нанизанное…
— Так этому старому скупердяю и надо, — говорит один. — Сколько добра на чужом горбу скопил!.. Наконец-то его по макушке щелкнуло…
— Бог зря не накажет, — вторит другой. — Много мужицкой кровушки в его богатстве.
— Ох, многих он надувал, обманывал, многих… Семь шкур готов был с мужика содрать, — добавляет третий; у каждого находится, что сказать на этот счет. Однако так лишь старики говорят да мужики из самых бедных, которым случалось работать у Жирных Тотов поденно или издольно. А справные, самостоятельные хозяева говорить ничего не говорят, а больше посмеиваются с довольным видом. Если ж говорят, то что-нибудь вроде: мол, поделом этому Ферко… Ишь чего захотел: такую молоденькую взять за себя, почти ребенка!.. Сам-то уж не молод ведь. Пора бы начать головой думать…
Словом, и не ругали Тотов, но и не жалели, не защищали…
Только-только началось утро, а Маргит Шерфёзё уже бежала на Широкую улицу, к Илонке Киш. Сперва хотела было покричать у ворот, да вспомнила, что нет у Кишей собаки: две недели назад взбесилась, убили ее. Так что просто открывает Маргит калитку и входит во двор. К крыльцу идет.
Старый Киш печку в сенях топит.
— Доброе утро, дядя. Илонка встала ли? — спрашивает Маргит.
— Утро доброе, дочка. Должно быть, встала, зайди посмотри, — отвечает старик и шевелит огонь в печи. Клок дыма вырывается из дверцы, за ним язык пламени.
Илонка не спит, но и встать не встала еще. Лежит в постели и на дверь не отрываясь глядит. Этой ночью почти не спала она. Мучилась все, думала: господи, господи, скорей бы уж прошла, кончилась эта ночь… Тогда бы она была спокойна. А на будущей неделе и ее посватают; там рождество, Новый год… В начале января свадьбу можно сыграть… Греют ее эти мысли, яркие, как цветы под весенним солнцем, но все не отрывает она глаз от двери. Боится, что вот появится кто-то — и разлетятся по ветру ее мечты, как одуванчики.
Сразу почувствовала Илонка, что беда пришла, как только Маргит появилась на пороге. Лежит и смотрит на нее в ужасе… зажала бы ей рот ладонью, да двинуться не может. Только смотрит широко раскрытыми глазами.
Тихо подходит Маргит к постели, садится на краешек, тогда лишь здоровается:
— Здравствуй, Илонка. Не спишь?
— Нет… а ты чего встала в такую рань? Не усидела что ли на свадьбе? Плохая свадьба была? Ну, рассказывай же… — теперь она все сразу хочет узнать.
— О, свадьба-то была хорошая. Да только после полуночи, как невесту причесывать, вызвали ее и украли… ну, как всегда бывает, по обычаю… Да больше невесту и не видели. Не вернулась она назад. Говорят, Красный Гоз на улице ждал, с ним она и сбежала. А вызвал ее Тарцали… или нет, вызвала тетка Пашкуй, Тарцали-то в сенях был… — хочется Маргит описать все как-нибудь так, чтобы не было Илонке смертельно больно это слышать. Собиралась она безжалостно и со всеми подробностями рассказать о свадьбе: пусть плачет Илонка, пусть мучается… Да вот оказалась с ней с глазу на глаз — и так жалко стало девку. Конечно, Маргит всегда за Марику была… да зачем они вдвоем одного парня любили? И он хорош — любил бы или ту, или эту…
Илонка моргает часто-часто, слезы закипают на глазах и скапливаются лужицей. На спине она лежит, некуда им скатиться.
Вот зарыдала Илонка и тут же затихла… лежит и снова на дверь глядит, в которую столько раз, столько раз входил Красный Гоз… Потом вдруг вскакивает с постели.
— Ах собака, ах негодяй, мошенник, подлец, обманщик, свинья, ах он… он… — слов не находя от ярости, хватает воздух ртом, начинает одеваться. С ночной сорочкой что-то не ладится, зацепилась где-то — хватает ее за ворот и одним махом срывает с себя (Илонка в ночной сорочке спит, как господа). Другую берет, дневную, да только вывертывает ее туда-сюда трясущимися руками — и снова кричит: — Обманщик, проходимец… жрал здесь, пил… целыми ночами лампу из-за него жгли, и вот тебе… Чтоб глаза его бесстыжие лопнули. Чтоб ему покоя не было ни на этом, ни на том свете, — сыплются из нее проклятия, будто град из тучи.
Ошеломленно смотрит Маргит на Илонку: никогда еще не видела ее такой, никогда не слышала таких проклятий… Однако… и вправду хороша Илонка. Кожа у нее чистая и свежая, словно росой омыта. Только пуп у нее какой-то странный…
— Ой, слышь-ка, а что это у тебя пуп-то какой?.. — но уж и сама жалеет, что спросила. Не смогла удержаться: очень уж удивительный пуп — будто слива, что сморщилась, высохла, не созрев.
— Какой? Пуп как пуп… — со злостью натягивает Илонка рубашку. Потом юбку надевает и тут же, передумав, сбрасывает ее и берет платье. Нет, она красивой будет, нарядной… назло всем… Но зачем, чего ради? Шарит по комоду, там что-то падает, разбивается — то ли ламповое стекло, то ли бутылка; снова кричит: — Ведь столько таскался за мной, столько упрашивал, умолял… сидел здесь как привязанный, и на тебе. Господи, если такого проходимца не повесят когда-нибудь, значит, нет на свете справедливости… О-о… — садится она на припечек, прячет лицо в ладонях и ревет так жалобно, что Маргит не по себе делается.
Отец входит в горницу; на пороге спотыкается, сапоги его бухают об пол.
— Э, ты чего? — спрашивает, стоя посреди горницы.
Маргит мимо него шмыгает — и в дверь. Будто на чем-то плохом ее застали.
Ей-богу, не хотела она этого. Не собиралась огорчать Илонку. Только сказать хотела, что, мол, так и так… Однако как тут скажешь? То, что случилось, само за себя говорит, и никакими словами, никакими объяснениями теперь не поможешь.
В конце Широкой улицы встречает Маргит старого Яноша Папа, который ей через Шандора Папа — крестный дед.
— Куда идете, крестный? — спрашивает Маргит.
— Иду, дочка, в одно место, по делу… — уклончиво говорит старик. Не может он ей сказать, куда идет. Потому что, едва рассвело, явился к нему Гергей Тарцали, отец двух братьев Тарцали, и очень просил: не надо, мол, раздувать эту историю с курами. Сын его их утащил, младший. Уже и полицейские были у них дважды, а этот щенок залез в ясли, и все тут… И на что только воспитываешь этих детей?.. Черт бы побрал этого Жирного Тота вместе с его свадьбой. Для двух парней кучу денег нужно, а где взять денег мужику? Словом, ущерб он возместит: пусть хозяйка выберет у них каких хочет кур или он деньгами готов отдать… Вот как было дело.
А старый Пап ответил: мол, все равно он этого так не оставит. Кто виноват, того наказать следует. Пусть засадят парня в кутузку. Раз на чужое зарится, ему это на пользу пойдет.
Потом все же передумал… Зачем рыть яму другому?.. Теперь вот идет взглянуть на тех кур — как стемнеет, пусть парнишка сам их и принесет, чтоб не говорили, что он, Янош Пап, злой человек, что нельзя с ним по-хорошему договориться. Заявление он заберет потом… скажет, на чердак забрались куры или еще куда… Ну, обо всем этом крестной внучке не расскажешь. Обернувшись ей вслед, видит, что все равно не смог бы рассказать: Маргит вон уже где, мимо почты бежит.
На почте окно открыто, проветривают. Из окна слышен треск огня в печи и голос Марцихази, который разговаривает с кем-то по телефону: «Да… у нас в деревне парни такие, — говорит, — выхватил невесту из-под носа у жениха, и поминай как звали… хе-хе-хе… ха-ха-ха…»
Идет Маргит дальше, но голос Марцихази тянется за ней, не отстает. Словно раскручивается клубок ниток, конец которого зацепился ей за юбку.
17
Одним утро приносит одно, другим другое. Кому что. Ясно, что не может утро принести всем одно и то же.
Одни с бедой просыпаются, другие — с радостью. Это уж как повезет.
— Доброе утро, мама… и славный же сон я видел! — поднимает голову с подушки Красный Гоз, лежа на припечке, где он нынче спал, ногами в угол. И смотрит на подушку, будто там должно остаться что-то от его сна.
— Тише… — шепчет мать, поднимая к губам палец. Она тоже недавно встала, волосы причесывает, сидя на постели. Она эту ночь спала на кровати, что у дверей. Где сын обычно спал, да теперь вот…
Красный Гоз вообще-то не на подушке ищет свой сон; ведь сон — это не сон, а явь. Потому что Марика здесь. Вон она спит. Осторожно, словно выходя из воды и боясь ее замутить, поднимается Красный Гоз с постели, тянется за штанами. Одевается. Не смеет на другую постель взглянуть, смотрит мимо, словно и нету там никого… хоть знает, что там Марика; это такой факт, в котором хочешь — сомневайся, хочешь — нет, а он все равно фактом останется. Потому и старается не думать об этом Красный Гоз — будто на потом приберегает момент, когда взглянет туда и окончательно поверит. Чтобы уж тогда во всей полноте открылось перед ним чудо.
Раза два, не больше, испытывал он в жизни подобное. Однажды, когда мать купила ему на ярмарке новый пиджак, а еще когда поспорил с инженером одним насчет размеров котлована и оказался прав.
Впрочем, те радости рядом с нынешней и вспоминать-то, наверное, даже не стоило — да уж как-то все нынче так славно, что Красный Гоз вроде и их заново переживает, и все-все, что в жизни было хорошего.
Старательно, словно время тянет, надевает жилет, потом пиджак застегивает. Карманы проверяет: все ли там лежит, что надо, или, может, не хватает чего. Зажигалка, табак, блокнот, карандаш… Кошелек. Стоит у припечка, цигарку скручивает и делает шаг. Закуривает. Потихоньку-потихоньку выходит на середину горницы, к столу — и тут уже поворачивается к постели, где спит Марика.
Сначала перину видит и подушки, мягкие волнистые бугры, словно сугробы снежные; и на снегу этом — рассыпанная копна черных волос. Спит Марика. Лицом к стене. Из волос лишь плечо выглядывает — больше ничего не видно…
— Я, сынок, печь затоплю, — шепчет мать, — чтобы завтрак готов был, когда встанет…
Красный Гоз только головой кивает, а глаз не отводит от постели.
В декабре, перед рождеством, светает поздно — в эту пору стоят самые долгие ночи. Но нынче тепло на дворе, небо чистое, ясное, и солнце, как встало, тут же в окно заглянуло. Лучи его по постели рассыпались, и от этого еще чернее стали волосы, еще белей и свежей плечо; теперь и подушка не сугроб уже, а сплошное сияние, в котором мягко покоится Марикина голова.
Кажется, солнечный свет чуть слышно шуршит, потрескивает, падая на постель ярким потоком. Тут еще в печи огонь запел теплым, ровным голосом. Открывается дверь: мать выходит по хозяйству. Скотина ждет на дворе: корова, поросенок, гуси, цыплята.
— Присмотри за молоком, — уходя, шепчет мать.
Сын опять лишь головой кивает в ответ.
И вдруг зашуршала перина, вздрогнули, зашевелились подушки — Марика поворачивает голову, открывает глаза. Смотрит на Йошку не мигая, словно никогда прежде не видела.
— О… это ты… — и садится. Встряхивает головой, волосы откидывает назад. Лицо у нее и всегда свежее, румяное, а теперь — словно маков цвет. Руки на перину уронив, немного вперед наклоняется, говорит:
— Что ж ты со мной не здороваешься, Йошка? — и по лицу разбегается улыбка, словно молитва.
Много хаживал Красный Гоз к Марике, но никогда не видел ни плеч ее, ни чего другого. Даже столько, сколько через волосы проглядывало минуту назад. И теперь видеть ее — такое счастье, что не умещается в груди. Словно прежде Марика лишь наполовину была сама собой и сейчас только, сидя в постели, руки положив на перину, стала настоящей, взаправдашней Марикой. Идет к ней Йошка, по пути натыкается на угол стола. Пустяки… На стуле возле кровати лежит подвенечное платье; он сбрасывает его на пол, берет Марикины руки, садится.
— Ну… значит, надо здороваться?..
— Конечно. Теперь всегда так будет… Потому что… теперь я твоя, хочешь ты этого или нет… — высвободив одну руку, обнимает парня за шею.
Далековато стоит стул, неловко сидеть Йошке. Тогда просто пересаживается он на постель, отодвинув край перины.
— Господи… не могу поверить, что ты здесь…
— И я. Вчера и мечтать не смела об этом. А теперь, утром… — Йошке немного грустно становится, потому что Марика убирает руку с его шеи, усаживается повыше. Мать тихо приоткрывает дверь — и закрывает снова. А Марика продолжает, где остановилась, — …теперь, утром, я уже здесь. У тебя. Теперь что хочешь можешь со мной сделать. Выгнать, побить…
— Глупая… что ты говоришь? Больше чтоб я никогда этого не слышал, ладно? — Йошка, потеряв вдруг всю свою решительность, несмело кладет руку на плечо Марике и, будто сам о том не подозревает, ведет по спине до пояса. Пальцы его цепляются за оборку, он стряхивает ее. И обнимает Марику уже по всем правилам.
— Я… встала бы, — говорит Марика растерянно.
— Ладно. Я тебе помогу, — охотно соглашается Йошка с загоревшимися глазами.
— Нет, нет… ты пока выйди. Хорошо? — и мягко гладит его по щеке.
— Выходить, пожалуй, я не выйду… лучше встану к окну. Ладно?
Но Марика не смотрит на него, только головой качает.
— Нет, нет, как-нибудь не так, потому что… надо мне встать…
— Ну ладно. Тогда я… — все торгуется Йошка. Марика вдруг замолкает, смотрит куда-то пристально, внезапно вскакивает, выбирается из перины и бежит к плите. Схватив кастрюлю, сдвигает ее на край плиты — в последний момент, потому что молоко уже поднялось над краями белым куполом. Трясет пальцами и, хохоча, оборачивается к Йошке.
— Про молоко-то забыли… Вот бы влетело нам…
Красного Гоза нынче какая-то сила переносит с одного места на другое. Теперь ему уже на кровати не сидится: встает и идет к Марике. А та делает шаг — и вот она уже по другую сторону стола. Йошка — бегом за ней.
— Киска-киска, поймай мышку… — хохочет Марика уже возле комода. — Кис-кис… — и проскальзывает у него под рукой. Наконец Йошка настигает ее в углу, возле кровати… тут Марика делает вид, будто вспомнила что-то важное, и обеспокоенно спрашивает: — Господи, а что ж я одену?..
Красный Гоз, поддавшись на уловку, идет к вешалке и снимает пальто Тарцали.
— Вот, хочешь пальто?
— Нет-нет, пальто, пожалуй, не надо… — а сама быстро ныряет в постель, перину натягивает до самого подбородка.
Йошка, забыв про пальто, снова идет к ней. Однако тут входит мать — сначала покашляв перед дверью, словно простуженная. Сын растерянно оборачивается к ней:
— Мама, а что Марике одеть? У нее здесь ничего нет из одежды.
— Одеть что? Найдем как-нибудь. Все будет как надо, не бойтесь. А ты пойди пока корову посмотри да дров наколи немного… Чтоб вас черти обоих побрали. Не могли по-человечески сделать…
Сев на край постели, треплет Марику по щеке:
— Эй, забодай тебя комар, слыханное ль дело — такое вытворять? Одному парню голову вскружила, другого в дураках оставила, всю деревню переполошила. Вот тебе, вот тебе! — шлепает ее под периной.
— Я не виновата, это все Йошка, он меня первый бросил…
— Ну, ему я тоже задам… ступай, ступай, чего рот разинул? Насмотришься еще, успеешь.
Идет Йошка, хоть и очень ему неохота. Словно бы взяли и выставили его за дверь. А мать права: скотину кормить надо; время ведь не остановится по такому случаю…
— Ну так, стало быть… С чего день-то начнем, а, дочка? — говорит мать, убирая у Марики волосы со лба.
— Я… я все буду делать, как… вы скажете… — отвечает Марика запинаясь. Не знает она, как ей теперь мать Йошки называть.
— Ты не стесняйся, зови меня мамой или матушкой. Как свою мать. Раз так оно вышло, значит, мать я тебе. Ну, как звать будешь?
— Матушка…
— Вот и славно, доченька, вот и славно. Стало быть, для начала я тебе одежду подберу из своей. Сватья придет, еще кто-нибудь — не встречать же тебе их в нижней рубашке; идет она к шкафу, к комоду, ящики выдвигает; Марика садится, ноги спускает с кровати. Сердце у нее переполнено какой-то тихой, спокойной радостью. «Господи, господи», — повторяет она, сладко потягиваясь.
И четверти часа не прошло, как Йошка входит с охапкой наколотых дров.
Марика стоит перед зеркалом, на ней праздничная юбка и кофта свекрови; в эту минуту пытается она разглядеть в зеркале узел у себя на затылке. Длинна ей юбка, чуть не до щиколоток, да и кофта просторна; ветховата, старомодна на ней одежда; только глаза ее — новые, никогда не виданные глаза. Ну и узел, конечно. Узел этот — будто копна сена звездной ночью, такими бывают еще грозовые тучи, собирающиеся на краю небосвода.
— Ну, как тебе молодая жена нравится? — гордо спрашивает мать.
— О, матушка… — конфузится Марика.
— Ну-ну, я ведь только к тому, что мы всегда поможем, если что, — и подходит к Марике. — Постой-ка, вот эту ленту бархатную на шею тебе повяжем. Вот так.
Идет к плите, кофе заваривает, яйца разбивает на сковороду. Сегодня обильный, праздничный нужен завтрак.
Сама в это время думает: три курицы должны нынче снестись. Одна черная да две пеструшки…
Красный Гоз тихо подходит к Марике, ласково обнимает ее за плечи, ведет к окошку. Стоят молча, обнявшись, смотрят во двор.
Над двором, над улицей плывет колокольный звон: завтракать пора. Кажется, можно увидеть, как падают на сырой снег тугие удары — или это всего лишь солнечный свет, что одинаково приветливо льется на всех, и на слабых, и на сильных?
С двух сторон соседи толкутся у забора. С нескрываемым любопытством ждут, когда молодая выйдет показать себя двору, солнцу, деревьям — ну и, конечно, соседям.
— Пойди, Марика, выйди, пусть им тоже будет праздник, — смеется Йошка.
— Ладно… — охотно соглашается Марика: ей уж и так надо выйти кое-куда…
— Накинь-ка этот платок на шею… и иди мимо хлева, все прямо… Да постой, пойду-ка и я с тобой… — говорит мать.
Прикрывшись платками, идут они рядышком по крыльцу, затем по двору.
Солнце пригревает. А забор вдруг громко трещит: очень уж навалилась на него соседская девка.
Крестины
1
В феврале сбило машиной дорожного обходчика. Машина ехала со станции, а обходчик шел из корчмы; на повороте они друг с другом и встретились. Будто договорились.
Помер обходчик: смертен человек вообще, а этот еще и стар был к тому же; одно лишь нехорошо — очень скупо обошлись с его семьей комитатские власти. Ну а вообще-то верно говорят: худа без добра не бывает. Жил в деревне мужик, Андраш Гуйяш, и был он в правлении четвертым выборным. А еще давно хотел он стать дорожным обходчиком. Получать месячное жалованье, пособие по болезни и все прочее да ходить по тракту, помахивать флажком, обрезать шелковицы на обочине, ветви домой таскать, козырять проезжающим автомобилям… Видно, чем-то привлекает людей работа дорожного обходчика, потому что не один Андраш Гуйяш хотел эту должность занять, а еще целая куча мужиков. Да с Андрашем Гуйяшем тягаться не всякий может: как-никак выборный. До тех пор околачивался он в канцелярии уездного начальника, в комитате, пока не добился своего.
Тут, однако, новая забота появилась: опустело его место в правлении. Найти сюда человека — дело непростое, потому что жалованье выборному идет всего сорок пенгё в год, и к тому ж не очень-то любят нынче в деревне выборных. Каждый раз, как недоимки взыскивают или арест налагают на имущество, не кого-нибудь, а выборного проклинают бабы, не на кого-нибудь, а на него лают по дворам собаки.
Да видно, какое бы маленькое ни было корыто, а свиньи на него все равно найдутся. Выбран был на вакантное место Лайош Ямбор. Это, конечно, опять же чистая насмешка: всем ведь известно, что Лайош Ямбор — мужичонка несерьезный, а к тому ж ни хозяин, ни бедняк. Конечно, он вроде бы и хозяин, да только хозяйство это не его, а жены. На хозяйстве, значит, женился; и при этом хозяйстве он вроде пятого колеса в телеге. И вообще — никудышный он мужик: жадный, ленивый, корыстный. За дырявый грош душу черту продаст.
Правда, и выбрали его не совсем чтобы по правилам: лишь два его шурина вопили во всю глотку: мол, хотим Лайоша Ямбора! Хотим Лайоша Ямбора! — и руками размахивали.
А секретарь, чтоб не долго думать, решил по шуму определить, чего большинство хочет. Вот и услышал Ямбора. «Ладно, пусть будет Ямбор», — сказал он наконец, склонив голову пред волей народа. Собрал бумаги и ушел в свой кабинет.
Тут же вызвал он Лайоша Ямбора и привел его к присяге. Потом руку ему пожал и сказал, дескать, раз народ оказал ему такое доверие, то должен он свой долг выполнять с честью.
Мужики во дворе смотрели друг на друга разинув рты, да поздно было. Дело сделано. Теперь Лайош Ямбор будет у деревни на шее сидеть, и ничем его оттуда не соскоблишь. Пока сам не отпадет. А отпадет он только через три года — на такой срок выбираются члены правления.
Конечно, это в общем-то еще не беда, потому что Ямбор не хуже любого другого сможет с судебным исполнителем по деревне ходить, собак отгонять. Переписывать лошадей, поросят — что потребуется. Словом, не беда это, а скорее стыд. Особенно для самостоятельных хозяев… Да что теперь над этим голову ломать? Кто-то же должен быть выборным — раньше бы почесались, подумали, когда можно было. А теперь горячиться — после драки кулаками махать! Еще то хоть хорошо, что какой бы пропащий человечишка ни был Ямбор, а походит в выборных — глядишь, и за ум возьмется. И одежду, глядишь, поправит и мозги свои…
А с мозгами у Лайоша Ямбора все было в порядке: знал он, что делал, когда договаривался с шуринами, чтоб они его выкрикнули. Ведь выборный не только тем занимается, что собак переписывает или там еще кого. Выборного то оценщиком зовут, то десятину взимать, то аукцион вести, и за все это особая плата полагается. Словом, выборный еще и зарабатывает — да не так, как батрак на поденщине у помещика, а совсем по-другому: оденет что получше, палку в руки — и готово. Плати ему денежки. Другие, стало быть, руками зарабатывают, а он — умом своим да честью…
Едва занял Лайош Ямбор свое место в правлении, как взбесился общинный бык. И ведь надо же было, что нашло на него как раз тогда, когда вывели его во двор поить. Налетел он на ворота, вышиб их — и на улицу. Там, как рассказывают очевидцы, огляделся бык, поморгал, а потом ни с того, ни с сего поднял на рога Грюнфельда, торговца пером. Шмякнул его об землю и еще копытами стал топтать. Кишки ему выпустил.
Осталось у Грюнфельда семеро детишек. Михай, Маркуш, Мориц, Шара, Серена, Хелен и Пирошка. Да жена. Да теща. Да мать. Да еще племянница. Пока Грюнфельд каждый день по деревне ходил, они еще сводили концы с концами. А на что им теперь жить? Так и получилось, что семья подала в суд, чтобы возместила ей деревня утрату кормильца. Ведь по всем статьям тут деревня виновата: зачем быка держит? И уж если держит, то почему не за прочной оградой? А главное: деревня несет ответственность, во-первых, за себя самое, во-вторых, за всех жителей, в-третьих, за тех, кто ходит по ее улицам. Все это очень складно написал им адвокат в заявлении, поданном в уездный суд, И свидетели были названы: кто сам все видел воочию, кто так, приблизительно.
Да бывают, однако, случаи, когда самое умное для мужиков — быть немыми, слепыми и глухими. Ведь Грюнфельды эти в деревне расплодились, будто кролики. И всех их теперь содержать, кормить, поить вместо отца? А зачем они сюда явились? Кто их звал? А если уж переселился Грюнфельд в деревню, так чего он слонялся по улицам и вопил благим матом? И уж если никак не мог не вопить, так зачем вопил не как нормальные люди, а будто его режут?
В общем, если Грюнфельды были правы, то права была и деревня. Ну, на то и суд, чтобы обе стороны выслушать.
Суд что ж, суд выслушает — было бы кого. Да только пока дошла очередь до суда, не осталось ни единого свидетеля, кто так бы прямо и сказал, что видел все собственными глазами. Почему бык ворота так легко вышиб? Об этом у старосты спросите. Да у выборных. Им положено знать. За это жалованье получают.
Выборные ж в один голос показали: ворота ставил плотник, старый Сильва, да видно, не так что-то сделал. Пусть с него Грюнфельды и взыскивают. Однако Сильва-то, плотник, гол как сокол, только и есть у него что хатенка, и у той крыша протекает… Попал в дело и скотник, что при быке состоял. Словом, суеты да неразберихи было по горло. Одни свидетели отпадали, другие появлялись; только Лайош Ямбор с начала до конца держался за свои показания. Во-первых, потому что он на самом деле очевидцем был; а во-вторых, — это и была главная причина — потому что каждый раз получал он в суде суточные и на дорогу.
При всем том бог знает, чем бы кончилось дело, если б однажды сам великий Янош Багди, председатель контрольной комиссии кооператива, член деревенского правления, казначей кредитного общества, на всех свадьбах — сват, на похоронах — главный распорядитель… если б этот Янош Багди не сказал старосте, Ференцу Вирагу:
— И чего вы столько с этими Грюнфельдами возитесь? Ведь у Грюнфельда не было торгового разрешения, с этого и надо начинать. Если не было разрешения, то имел он право кричать на улице с утра до вечера? Они еще требуют чего-то… Радовались бы, что с них не взыскивают за нарушение правил…
А ведь верно. Вот это уже разговор деловой. Потому что разрешения у Грюнфельда в самом деле не было. Так что весь процесс сразу по-другому стал вытанцовываться. Короче говоря, отклонил суд иск семьи Грюнфельда. А показаний насчет того, что Грюнфельд в самом деле вопил на улице дурным голосом, оказалось сколько угодно; сразу стало понятно, отчего бык взбесился. Ведь вот, скажем, на Шандора Папа, санитарного инспектора и похоронного агента, не бросился бык, хоть тот и шел впереди Грюнфельда всего на каких-нибудь десять шагов. Нет, бык будто нарочно Грюнфельда дожидался. Не удостоил он вниманием и Мишку Бака, хотя тот как раз шел домой с именин, то есть в доску пьяный, орал, кулаками тряс и обнимал подряд все акации вдоль канавы. И Мишка быку не нужен был. Только Грюнфельд, который шагал со стороны дома Иштвана Баи, мешок с одного плеча на другое перекидывал и до неправдоподобия гнусавым голосом вопил:
— Пи-и-и-ро-о-о-о… би-и-и-ро-о-о-ом…
Основательно взбудоражил деревню этот процесс, поднятые им страсти стихали медленно, постепенно. Как ветер к заходу солнца. Уж после того, как решение было вынесено, Ямбор ездил еще в Сегхалом, к адвокату, советоваться. Послал его староста выяснить, нельзя ли с Грюнфельдов что-нибудь содрать? Скажем, судебные издержки? Чтобы в другой раз неповадно было им в суд лезть… Однако полной уверенности у старосты, видно, не было — потому и послан был к адвокату не кто-нибудь, а Лайош Ямбор. С него спрос невелик: выйдет, хорошо, а не выйдет, тоже хорошо.
2
Весна выдалась дружная и ранняя. Оно уже и кстати было: трудно пришлось этой зимой и людям, и скотине.
Снег с полей сошел быстро, на равнинных местах с избытком пропитала землю вода. Разбухли, раскисли дороги, колодцы на пастбищах наполнились до краев.
За одну-единственную ночь зацвел на всех кровлях мох; это и были первые весенние цветы, первые весенние краски. Сам мох — нежно-зеленый, как луговые озерца, когда смотришь на них издали, а цветочки на нем — голубые, как небо сквозь дырявый наперсток. Друг за дружкой брели над деревней ласковые весенние облака.
Пухлы, кудрявы эти облака, словно ангелочки. Едва минуют деревню — и сразу торопятся глядеться в зеркальца вешней воды. Но дунет ветер, и озябнет вода, покроется гусиной кожей. А вообще-то тепло совсем; голые еще кусты, вольно раскинувшись, подставляют лоно солнцу, муравьям, первым мухам. Под садами, на берегу Кереша, высыпали на вербах сережки, пушистые, словно только что вылупившиеся цыплята. А цыплята во дворах — словно сережки на вербе. Много в деревне появилось цыплят: Кишмя-кишат ими сени, горницы. Одно за другим лопаются яйца под наседками. Из одних цыплята выбираются, из других — гусята, утята. Как вот на одной ветке растут вербные сережки, на другой — тополиные почки.
И все же по-настоящему весна началась тогда, когда на кустах сирени в палисадниках запрыгали, защебетали, запели пичуги.
— «Ты не пряла, не ткала, ты всю зиму проспала…» — выговаривали хозяйкам крылатые гости.
Есть дома, где в самом деле ничего за зиму не наткали. А у других целые дороги холста желтеют на всходах люцерны. Сохнут, отбеливаются под солнцем. Во дворах вздуваются под ветром парусами целые флотилии выстиранного белья. Идут дни; солнышко греет ли, ветер ли дует, а земля все подсыхает, и вот уж в полях распускаются дикие маки. И еще какие-то мелкие, желтые цветочки. Вдоль канав, басовито гудя, летают шмели, меднобрюхие, рыжекрылые. Болиголов высовывает нос из-под прошлогодней листвы; на кладбище, на могилах, буйно растет пырей. Почки набухают, листья распускаются, корни потягиваются, набирают силу. Готовятся зацвести фруктовые деревья. Теплый ветер ласковыми порывами налетает из-под облаков.
В порывах ветра стоит на перроне в Вестё молодая женщина. Ждет поезда. Потому что в Вестё, откуда бы ты ни приехал, приходится пересаживаться, дожидаться другого поезда.
Как всегда, много народу околачивается на станции; от скуки разглядывают друг друга. Особенно же глазеют на эту женщину. Не поймешь, из господ она или из крестьян. Вполне может быть и то, и другое. Волосы у нее густые, каштановые, ветер ими играет.
Хорошо стоять под ласковым солнцем; и ветер с явным удовольствием гуляет в ветвях станционных каштанов и в каштановых прядях волос. Не спеша прохаживается туда-сюда маневровый паровозик; двое мальчишек штаны застегивают под стенкой; ходят обнявшись девка с солдатом; прибывает поезд, пассажиры спрыгивают с высоких ступеней, из окошек им машут платками, а в это время два железнодорожника волокут под руки рыжего мужика.
— Отпустите, ради Христа. Не позорьте меня, не виноват я, — верещит рыжий мужик, Лайош Ямбор, и ногами в землю упирается. А железнодорожники дергают его, тащат, сапоги Ямбора две борозды пропахивают в щебне.
— Когда обманывал, о позоре, поди, не думал? Пошли, пошли к начальнику. Мы тебя проучим, будь спокоен, — приговаривают железнодорожники и все тащат Ямбора; а тот трясет головой, будто, ему в ухо комар залетел. Шапка падает с головы, щебень пылит; вокруг собирается народ, хохочет над Ямбором.
— За что вы бедного? — сжалилась над мужиком молодая женщина.
Железнодорожники останавливаются, смотрят на нее. Видно, впечатление она произвела на них хорошее, и они охотно объясняют:
— За то, что обманщик он, извольте знать. Со старым билетом хотел проехать. Государству нанес ущерб. Пошли, пошли, — и дергают Ямбора так, что у того голова мотается на шее, будто у тряпичной куклы.
— Господи… Почему же вы билет не покупаете, дядя?
— Да я бы купил… Да я не потому не купил… Да я бы по почте прислал… — несет околесицу Ямбор. Причем скороговоркой. Будто слова его станут убедительнее, если он их единым духом выпалит.
Совсем разжалобил женщину мужик.
— Отпустите его с богом, я за него заплачу, — и уже сумку открывает. Звенит деньгами, ближе подходит с умоляющим видом.
На железнодорожников, по всему видно, женская красота тоже действует. Во всяком случае, совесть их довольно быстро смиряется с нарушением служебного долга. Конечно, что с него взять?.. Мужик неученый, деревенский… и у железнодорожников сердце есть, в конце концов. Они тоже люди. Один уже перестал держать Ямбора, лезет в карман за служебной книжкой и карандашом. Второй еще колеблется — но потом и он отпускает нарушителя. То на женщину глядит, то на Ямбора, то на товарища своего. Ямбор подбирает с земли шапку, отряхивает ее о голенище, надевает на голову. Кругом озирается. Будто большое несчастье с плеч свалилось. «Смотри-ка… — говорит, — смотри-ка…»
— Сколько платить?
— Два шестьдесят — билет да пенгё — штраф. Если уж на то пошло…
Дешево отделался Ямбор, ничего не скажешь. С благодарностью глядит на женщину. Знает, надо бы спасибо ей сказать… Но знает и то, что из спасиба шубу не сошьешь… да и не такое уж большое дело она сделала, если подумать. Не даром же она отдала свои деньги за здорово живешь. И верно: еще не убрав кошелек, женщина говорит:
— Вот так. Только уж вы вышлите деньги-то, дядя, да поскорее, я ведь тоже бедная, — и, написав что-то на бумажке, дает ее Ямбору. — Вот вам мой адрес.
— Как же, как же. Сразу вышлю, не извольте беспокоиться, — и читает адрес: Шара Кери, дипломированная акушерка, Мезётур, Петушиная улица, семь. — Уж вы мне доверьтесь. А я вышлю, хо-хо, еще как вышлю. Я ведь не кто-нибудь. Я выборный. В правлении. А с билетом не так все было, вы не думайте. Тут, знаете, было так… — и говорит, и говорит. Оправдывается. Во что бы то ни стало хочет доказать, что понапрасну обидели его железнодорожники.
— А из какой вы деревни, дядя? — спрашивает вдруг женщина. И собирается его адрес записать.
— М-м… из Нешты, — быстро врет Ямбор. Зачем ей знать, откуда он? Деньги он так и так отправит, а до остального ей никакого дела нет. Нельзя ведь знать наперед, что чем обернется. Ишь ты: из какой деревни?.. Записать хочет… Ямбор толкует что-то про Нешту, да только женщина все пятится и пятится от него. Потому что есть у Ямбора дурная привычка — когда говорит, слюной брызгать. Все лицо собеседнику заплюет.
Снова прибывает на станцию поезд; женщина подхватывает свои вещи, говорит Ямбору: «Будьте здоровы» — и торопливо уходит. Садится в вагон. Ямбор, оставшись один, задумчиво топчет борозды, пропаханные его сапогами, и знает уже, что не пошлет деньги ни почтой, ни по-другому. Что эти три шестьдесят для дипломированной акушерки? Можно сказать, ничего. Денег, поди, куры не клюют. Вишь, пальто у нее какое нарядное. А чулки. А чемодан. А он, Ямбор, мужик небогатый, ходит в отрепье, как последняя собака.
Все это в четверг случилось. А в воскресенье выбирало правление новую повитуху.
У Лайоша Ямбора дыхание перехватило уже в тот момент, когда он повестку прочитал. Дело и само по себе необычное, потому что были в деревне повитухи, даже целых три. Вот хотя бы старая Шара Баи, которая седьмой десяток доживает, но держится пока хорошо. Правда, никто еще в деревне трезвой ее не видал — да ведь одно другому не мешает. Сколько детишек довела она до крестной купели, и сосчитать невозможно. Или вот другая повитуха, Гуиха: эта еще в полной силе, даже можно сказать, сил в ней избыток… Как раз на прошлой неделе гонялся за ней под садами, во ржи, зять с палкой: оказалось, в связи она состоит с Лёринцем, полевым сторожем. А перед этим с кем-то другим состояла, а перед тем — еще с кем-то. Что делать, если натура у нее такая? Если кровь требует? Да как бы там ни было, а к роженицам ее часто зовут. Пожалуй, скорее для того, чтобы молодой муж на сторону не смотрел, когда ему поститься приходится… Третья повитуха — Ставичиха; она, правда, ремесло свое забросила. Не почему-нибудь, а потому, что сестра у нее замужем за секретарем в другой деревне, а тот не хочет, чтобы свояченица его повитушеством занималась, лучше уж он будет содержать ее на свои деньги. Так что теперь она живет как барыня, горя не знает… Словом, непонятно, зачем деревне при трех-то повитухах еще одну держать. Да не просто держать, а месячное жалованье ей платить, потом пенсию по старости… Бывают, однако, распоряжения, которые мужикам деревенским постичь не дано. Остается только подчиниться и выбрать повитуху, раз велят. Ничего не поделаешь. Против властей не пойдешь… Один лишь Янош Багди пробовал было воспротивиться.
— Не нравится мне это, господин секретарь, — еще на прошлой неделе сказал он секретарю.
— Почему же не нравится, господин Багди?
— Да ведь хватает в деревне повитух. А новая к тому же на шее у деревни будет сидеть.
— Что делать, господин Багди, таков закон. Нынче порядки не те, что в старое время. Заботиться надо о матерях, о детишках. Они наше будущее.
— Хм… обо мне вот, кроме Шары Баи, ни одна собака не заботилась, — говорит Багди задумчиво, но больше на своем не настаивает. Не совсем понимает он, в чем тут дело. Но и пытаться лбом стену прошибить не в его характере. Он лишь тогда согласен ломать копья, когда уверен в своей правоте или в том, что так будет лучше для деревни. Словом, подошло воскресенье, и правление собралось в назначенное время. Восемь заявлений поступило от желающих занять эту должность.
Со страхом шел к правлению Лайош Ямбор. Записка та, с адресом, так и стояла у него перед глазами… Да нет, не может быть… При чем тут Шара Кери? Да такая молодая, красивая барыня ни в жизнь не согласится в какую-то паршивую деревню пойти… А потом: этот самый Мезётур — ведь он черт-те где находится!.. Где-то далеко. Чуть ли не в Америке… Ну а чтобы уж наверняка не промахнуться, Ямбор спешно начал агитировать за Ставичиху, которая вчера вечером как раз к ним заходила. Хоть и не занималась последнее время она повитушеством из-за сестры, да ведь если жалованье месячное, пенсия, так она, пожалуй, не ниже будет рангом, чем сестра.
— Зачем нам кормить чужую повитуху, правда, господин Бондар? — говорит Ямбор в коридоре правления.
— Правда, правда, — соглашается старый Бондар, но не останавливается. Идет себе спокойно в комнату, где уже собираются члены правления.
Секретарь открывает заседание, все как полагается; потом зачитывает список претенденток. И почти в самом начале, под номером три, идет:
— Шара Кери, дипломированная акушерка, Мезётур. Вдова. Тридцати двух лет. Католического вероисповедания… — но не успевает договорить секретарь: четвертый выборный, Лайош Ямбор, вскакивает как ошпаренный и вопит с вытаращенными глазами:
— Не надо ее! Не надо ее! Дальше читайте, дальше… — весь трясется Ямбор; то бледнеет, как покойник, то краснеет, как вареный рак. Секретарь удивленно очки на лоб подымает. «Подождите, — говорит, — господин выборный. Я еще не кончил… Тут еще данные всякие о ней…»
— Да я ничего… Кончайте, пожалуйста. Да только при чем тут Шара Кери? И еще — Мезётур? При чем? — размахивает Ямбор руками, будто паутину хочет с потолка смахнуть.
— Ну, как хотите, — пожимает плечами секретарь, — мне все равно. Значит, номер четыре…
Так бы оно и прошло, да только после свадьбы Ференца Жирного Тота Янош Багди терпеть не может Лайоша Ямбора. Не потому, что оба они на этой свадьбе в дураках остались, то есть… словом, не только потому. Просто очень уж хорошо узнал тогда Багди этого Ямбора. Насмотрелся на него вдоволь… А еще больше невзлюбил он его с тех пор, как Ямбор с помощью шуринов в выборные пролез. И этот недоделанный еще думает, что теперь в правлении все будет, как он хочет? Ну, он ужо собьет с него спесь…
— Не стоит дальше читать, господин секретарь. Подойдет нам и эта… как бишь ее?.. Шара Кери, — и тоже рукой воздух режет. Всей ладонью. Эта ладонь и прихлопнула надежды Лайоша Ямбора. Будто муху…
Но как же долг-то, три шестьдесят? И обман с билетом, и позор?.. Все теперь откроется; выходит, напрасно старались два его шурина…
— Да неужто мы католичку выберем? — вопит Ямбор отчаянно и смотрит на остальных. Будто сказать хочет: берегитесь, мол, люди добрые, окажется в деревне католичка — и рухнет наша церковь. Да помалкивают остальные. Они-то хорошо знают, что их церковь еще долго будет стоять.
— Прошу прощения, а почему бы и нет? В кои-то веки будет в деревне одна католичка. Не так ли, господин Бондар? — оборачивается Янош Багди к своему соседу, который тоже человек уважаемый. И состоятельный. И к тому же не помнит, видел ли когда-нибудь живого католика.
— Ваша правда, господин Багди. Ваша правда, — отвечает Бондар.
Нечего больше сказать Ямбору. Лишь глядит умоляюще на секретаря. А тот заботится, чтобы правила были соблюдены:
— Можем, конечно, и Шару Кери выбрать. Да все ж прочтем список до конца, — и шелестит бумагой.
Авторитет — такая штука, которая или есть у человека, или нет. У Яноша Багди авторитет есть. И пусть кто-нибудь против этого возразит.
— Зачем тратить время попусту, господин секретарь? — веско говорит Янош Багди и снова рубит воздух ладонью. Во второй раз.
Ямбор еще что-то пытается сказать, открывает рот — но лишь блеет нечленораздельно, по-козлиному. А остальным в высшей степени наплевать, какую акушерку выбрать, — раз Янош Багди Шару Кери хочет, пусть будет Шара Кери. На том и остановились.
Жалованье новой повитухе следует восемьдесят пенгё в месяц да еще жилье. Да за каждого новорожденного будет получать она двенадцать пенгё. Кроме тех случаев, когда семья уж совсем бедная. У этих она бесплатно будет принимать.
Шара Кери так никогда и не узнала, как удалось ей получить должность повитухи. Да и не собиралась она ломать над этим голову. В середине апреля приехала она в деревню, красивая, принаряженная. Привезла с собой две сумки и узел. Обошла дом, двор, сад; в прошлом году здесь жил помощник секретаря. Купила себе кушетку (Жига Цебе, рассыльный в правлении, куршеткой ее называл), два плетеных кресла да круглый столик. Попросила в кооперативе два ящика из-под сахара и соорудила из них что-то вроде шкафчика. Легла на кушетку, руки заложила за голову и стала смотреть в потолок.
3
Началась весна с цыплят, с пушистых вербных сережек, с цветения мха на кровлях — и вот уже нежная зеленая травка пробивается из-под прошлогодней листвы. По предзимней пахоте тянутся к солнцу настырные сорняки: здесь и осот, и пырей, и окопник, и дикий лук, щетинник, горчак и еще бог знает что. Поначалу росли сорняки гнездами, пучками, а потом сплошным ковром покрыли пашню. Лезет трава и в озимых посевах, а по обочинам дорог, по межам растет чуть не на глазах. Не найдешь в окрестностях голой земли даже с ладонь. Но и хлеба не хотят отставать: тянутся, крепнут не по дням, а по часам. Хорошее это время. Чудесное время.
На лугах камыш, осока, рогоз, кашка двинулись в рост. Где посевы слабоваты, там дикая горчица повылезала, куколь, дикий мак, васильки. Чем толще был снег зимой, тем пышнее, гуще стоят травы.
Мычат телята, поросята визжат, жеребята взбрыкивают, заливисто ржут, поспевая за телегами. По улицам, ошалев от солнца, носятся ребятишки; мужики шагают в поле с лопатой, с мотыгой на плече. Все идет заведенным порядком, как в прошлом, в позапрошлом году. И молодоженам приходится все меньше времени проводить друг с другом. Не все обниматься им да миловаться: этим ведь сыт не будешь. Кто в начале зимы женился, тем еще ничего: успели друг другом насытиться. Ну а кто лишь недавно, на исходе зимы, сыграл свадьбу — для тех короток был медовый месяц… А за зиму многие парни да девки женились, повыходили замуж. Женился и Шандор Макра, который вообще-то вырос в состоятельной семье, да одна беда — многовато у него братьев. Вот и пошел он в зятья к Гергею Кишу: Илонку Киш за себя взял. Дочку старого Киша, которая с Йошкой Красным Гозом раньше гуляла. Получил за ней Макра полклина земли. Да хата ему останется. Да виноградник…
И ведь удивительное дело: мало кто из парней женился на той, с которой гулял. Словно сговорились все парами обменяться. Тарцали, кореш Красного Гоза, за Маргит Шерфёзё ухаживал, а взял Пирошку Пашкуй. Мишка Маркуш женился на красивой вдовушке Эстер Бак, хоть раньше все вокруг Ирмы Балинт крутился. За Ирму Балинт тоже можно не беспокоиться: вышла она за Пишту Бана, который в свое время за той же Эстер Бак ударял. Словом, перепуталось все основательно. Нелегко снова на старые пары всех разделить. Нелегко, да и не стоит…
За зиму перемешалась на свадьбах деревенская молодежь. Словно бы неважно стало: кто богат, кто беден. Да пришла весна — и все поставила на свои места: те, кто состоятельней, свою землю обрабатывают, о своей скотине заботятся; а кто победнее — смотрят, где бы заработать. Кто на поденщину надеется. Кто на земляные работы. Кто в батраки думает идти.
Проходит время — и каждый, глядишь, как-то устраивается. Лишь те еще мечутся, покоя не находят, кто вырос дома в сытости, довольстве, а женившись, оказался сам по себе, на собственном хлебе. Из хозяев, значит, вышел, а к бедняцкой доле привыкнуть не успел. Еще хорошо, что в парнях эти мужики с батраками водились. Постепенно приноравливаются, начинают понимать, что к чему и почем фунт лиха.
В поместье задумали нынче строить свиноферму; эконом уже и насчет рабочих договорился с Шандором Силаши-Кишем, знаменитым социалистом и предводителем местных землекопов. Так что в скором времени можно ждать заработков. А с заработком — и жизнь другая. Вот, скажем, Пишта Бан вино брал в долг у господина Берната на свадьбу… Не беда: подождет господин Бернат, пока начнутся на строительстве фермы земляные работы. Или вот Макра на черный костюм одалживал у крестного. Ничего, еще неделя, две, а там заработает, отдаст долг… Что еще? Хлеб, жир на исходе? Детишкам одеть нечего? Э, потерпят, пока встанут мужики на работу. Поросенка на откорм надо купить? Лишь бы в цене не подскочили поросята, пока идут земляные работы…
Словом, уж так надеются молодые мужики на этот заработок, будто вся их будущая жизнь от него зависит.
Однако так настроены только молодые. А кто постарше, те на какие-то особые изменения в жизни не надеются. Да они уж и привыкли, что все есть, как есть. Не всем богатыми быть, кто-то должен и в бедняках ходить. На том мир стоит. Главное, чтоб человек — богатый ли, бедный ли — человеком был. Как, скажем, трава, дерево, бутон или там, сухая ветка — всегда сами собой остаются, большие они или маленькие, в саду находятся или где-нибудь в поле…
Бежит время; не успеешь оглянуться, как звонарь на колокольне звонит уже для одного священника да для пустой деревни. Ну, еще для ребятишек, которые, болтая сумками, шлепают по пыльной дороге в школу. А взрослые все где-то в поле трудятся.
Погода стоит теплая, ясная, точь-в-точь как календарь предсказал; да еще ночью дождичек небольшой пролился. Так что воздух теперь — словно серебро, парком продернут, как мелким бисером. На повитухин двор заносит от Шойомов клок дыма. Доски потрескивают в заборе: намокли ночью, теперь просыхают. Дым проносится над двором, словно облачко пыли. Должно быть, подсолнечными будыльями топят. От такого дыма даже тени нет: пропускает солнце, как сито. Горлица жалобится на крыше; дрозд кричит у Шойомов на ореховом дереве, выговаривает: «чер-чер-вяк…» Так, во всяком случае, слышится Шойому. Этот Шойом — мужик с причудами, любит он птичий язык на человеческий переводить. К тому же в ссоре он с соседом, старым Чером; ходит теперь Шойом по двору и посмеивается. Еще бы: даже птица дразнит старого Чера.
Шойомы живут рядом с повитухой; а повитухин дом стоит прямо возле церкви. До прошлого года помощник секретаря жил здесь. Да очень уж ветхим стал дом, побоялся помощник секретаря в нем оставаться. Ну а повитухе сойдет. Подлатать, конечно, надо его немного… а вообще-то не так уж он еще плох. Если бы у каждого мужика такой дом был! Так рассуждает староста Ференц Вираг, а уж он-то знает что к чему.
Летними утрами лежит на повитухином дворе тень от колокольни. Словно ночевала здесь. Колокольня — высокая, добротная, это сразу видно. Старики говорят: она бы куда выше была, если б добрая треть ее не обвалилась в свое время. Другие возражают: не треть обвалилась, а рухнула вся колокольня, целиком, только-только ее возвели. Каменщики весной стены выкладывали, уж и маковка была готова, как однажды утром задул с севера резкий, пронзительный ветер. Спрятались каменщики внизу, на южной стороне, сало жарить стали. Жарят они, жарят, и вдруг — трах! Была колокольня — нет колокольни: как стояла, так и упала. Прямо через костер, через каменщиков. И дивное дело: все целехоньки остались. Даже костер не погас. Только кирпичи пришлось собирать чуть ли не с околицы… Вот как рассказывают старые люди.
Говорят еще, что, когда маковку подымали, большое несчастье случилось. В те времена был такой порядок, что плотник-подмастерье мог стать свободным мастером только после того, как выдержит испытание — поставит маковку на колокольню. Ну ладно, подмастерье, значит, наверху сидит, а внизу народ маковку подтягивает на канате; канат через блок перекинут. Подмастерье кричит сверху, командует, что делать.
Идет маковка вверх, идет вся в хоругвях, в лентах. И все было в порядке, пока она доверху не дошла.
— Мастер, в которое гнездо вставлять? — орет вдруг подмастерье во всю глотку.
— Эх, пропало дело, раз он вместо одного гнезда много видит, — печально машет рукой мастер. Только он сказал эти слова, молодой плотник уж и летит. Так в лепешку и разбился.
А есть и такие, кто утверждает, дескать, парень тот не разбился, потому что упал на одного еврея. Еврей помер, конечно, а вдова его на плотника в суд подала. И вынес суд решение: пусть вдова влезет на колокольню, а парень внизу встанет, и пусть она на него сверху прыгает, потому что написано в библии: око за око, зуб за зуб…
Ну, как бы там ни было, не все ли равно! Теперь не узнаешь, что в старых легендах правда, что ложь. Важно, что колокольня стоит, вот она, у всех на виду, и по утрам медленно тянет по двору свою тень. Словно огромное покрывало волочит.
Шара Кери, повитуха, в ярком цветастом халате выходит на крыльцо, на колокольню смотрит. Одиннадцать часов. «Пора бы уж ему прийти», — думает. Старосту ждет она сегодня к себе. Ференца Вирага. Ведь шутки шутками, а с этой халупой надо что-то делать. А то в один прекрасный день рухнет и придавит ее, как мышонка… Медленно сходит она во двор.
Двор, как у всех бобылей, травой зарос. Когда прежние жильцы траву сеяли, говорили, дескать, это английский мятник. И вот поди ж ты: вырос этот английский мятник и оказался простым бурьяном.
Ходит Шара Кери по траве; ветерок, залетевший из сада, играет полами ее халата. Увидел бы ее сейчас кто-нибудь, то-то глаза бы вытаращил: нету под халатом ничего, кроме голой кожи. Ну, и еще полосатых купальных трусиков. На ногах у Шары Кери — красные сандалии, из них большой палец выглядывает. Розовый. Будто покрашен. Смотрит она на улицу: никого. Только мальчишка какой-то бросается бежать от забора: в щель, наверное, подглядывал. Но где же все-таки староста? Зевает повитуха. Заходит в кухню, выносит оттуда плетеное кресло, подушечку. В кресле — книга; ставит Шара Кери кресло на веранду, в тень от стрехи, усаживается, читает.
Обложка у книги тоже красная; на ней написано: «Ван Вехтен. Негритянский рай». Еще в Мезётуре взяла она почитать книгу в кооперативной библиотеке. Да кто же в наше время книги возвращает! Книга — она на то и книга, чтобы ее читали. Буквы, словно иголка на полотне, одна за другой пробиваются в сознание; читает Шара: «О, как божественно двигала она животом! — воскликнул Говард с восторгом и запел. Пел он песню, которая начиналась так: «Не думай, что буду я твоею в первую ночь, не думай, что буду я твоею в первую минуту».
Вдумчиво, не спеша, читает Шара Кери; черные фигуры с лоснящейся кожей мельтешат вокруг нее, как блохи. Время от времени встревоженно поднимает она глаза, видит белый солнечный свет; смотрит и на свою кожу… нет, все в порядке. Здесь все белое… в книге ж — все черное: и тела, и души, и печаль.
Тихо во дворе, тихо на улице, в деревне. Только дрозд все поминает старого Чера, да кошка шуршит камышом на крыше сарая, за воробьями охотится. Вот и все, что происходит вокруг. Если не считать того, что Ференц Вираг, староста, в этот самый момент повернул на Главную улицу возле кооператива.
Ференц Вираг — в старостах второй год; мужик он крепкий, зажиточный. Правда, состояние свое нажил он недавно. И нажил его, так сказать, в два приема. Дело в том, что девять лет назад во время парламентских выборов был он вербовщиком голосов. Причем на стороне правительства. А четыре года назад, когда опять свалились на деревню выборы, он уже за оппозицию хлопотал. «Понял я, друзья мои, где правда», — приговаривал он, обходя мужиков с подписным листом.
— Апостол Павел тоже не сразу Христа признал, — радовались мужики и хоть по два раза готовы были лист подписывать. Кандидат, правда, провалился, да зато всего чуть-чуть ему не хватило, чтоб победить. А Ференц Вираг купил хольдов двадцать земли. На предыдущих же выборах всего около пятнадцати, хотя агитировал за правительство руками и ногами. Ну да что там: правительства, выборы — дело ненадежное, преходящее; не было пока что ни одного правительства, которое рано или поздно не ушло бы в отставку, и не было еще выборов, на которых кого-нибудь выбрали бы в парламент или еще куда на вечные времена. Только земля остается вечно. Она в отставку не уходит. Люди вот, правда, бывает, бросают землю — да в этом чаще всего ни они, ни земля не виноваты.
С тех пор как Ференц Вираг занялся политикой, стал он водить знакомство с господами. Одни с ним по-свойски, по-приятельски обращались, на «ты» переходили; другие, кто пообходительнее, даже господином его называли. Неудивительно, что Ференц Вираг среди них основательно пообтесался. Правда, если на внешность смотреть, так от других мужиков отличает его разве что галстук. Некоторые говорят, что он даже ночью в галстуке спит. Дескать, если он его развяжет, то завязать потом ни за что не сумеет. Ну, это, наверное, так болтают, от зависти. Мужик он крупный, высокий; ходит немного ссутулясь. Завистники и на это находят что сказать: мол, совесть его грызет, не смеет на белый свет с поднятой головой смотреть.
Живет Ференц Вираг бобылем: с женой развелся четыре года назад, после выборов. А по какой причине развелся — один бог знает. Люди разное говорят. Кое-кто, например, утверждает, будто жена его снюхалась с уполномоченным, господином Фуксом. Да вряд ли это могло быть, потому что господин Фукс внешность имел на редкость гнусную. Лоб у него был плоский и низкий, подбородок узенький. Глаза не впереди были, а как бы с боков, будто у рыбы или, скажем, улитки. Огромные уши торчали в стороны; а под мышками всегда таскал он два портфеля. Короче говоря, никто ничего определенного сказать не может; факт тот, что развелся Вираг с женой. Дал он ей клин земли да за дом выплатил, что полагалось. Потому что дом общей собственностью был. С тех пор живут оба, как знают…
Выходит староста к кооперативу, а оттуда, из лавки, как раз появляется Янош Багди.
— Куда, куда, кум? — спрашивает Багди.
— Иду вот, кум, проведать эту нашу повитуху — не украл ли ее кто ночью…
— Так-так, кум. Так-так. Да сами-то, кум, смотрите не украдите ее! — смеется Янош Багди.
— Стар я, кум, для таких проделок. Лет двадцать назад еще куда бы ни шло…
— Стар? А знаете, кум, какая пословица есть на этот счет?
— Что за пословица?
— Седина в бороду, бес в ребро. Хе-хе-хе-хе, — смеется Янош Багди, а сам в это время вспоминает господина Фукса. Да уши его. Да два портфеля. И вспоминает бывшую жену Ференца Вирага.
— Э-эх, кум, где уж нам? О другом пора думать, — отвечает Ференц Вираг с кислым видом и нос морщит. Оглядывается по сторонам. — Ну, так я пошел. Посмотрю там, что и как, — руку подает, и расходятся они в разные стороны.
Шару Кери совсем закрыла тень от стрехи. Голова на грудь упала, руки свесились по сторонам: видно, сморило ее чтение. «Негритянский рай» на земле валяется. Одним словом, спит повитуха. Вдруг вздрагивает, открывает глава и часто мигает, глядя на стоящего перед ней старосту.
— О… это вы, дядя Вираг? А я вот заснула… — и встает. Потягивается сладко. Халат на ней расходится, как кожура на луковице. С сухим шелестом. А Ференц Вираг уж и так некоторое время не может глаз оторвать от купальных трусиков… теперь думает он, что она, может, вовсе и не спала, просто притворялась. Краснеет староста, отводит глаза. Смотрит на замызганный календарь на стене.
— Почему бы вам другое что на себя не надеть? — спрашивает, стараясь говорить сердитым голосом. Но где там сердито: вообще еле-еле говорит, потому что кадык у него подскакивает сам собой и горло пересыхает.
— А зачем, дядя Вираг? Тепло ведь. Вам что, не нравится? — и подымается на цыпочки. Руки упирает в бедра.
— Нравится-то нравится, да только… — в смущении лезет Вираг в карман. Потом приходит ему в голову, что сейчас он как староста должен бы укоризненно вздохнуть. Вздыхает и по одной-единственной ступеньке поднимается на веранду. Шара Кери бежит в кухню, выносит второе кресло.
— Садитесь, пожалуйста, — говорит. И сама садится. Но тут же вскакивает, поближе придвигает кресло.
Усаживается Ференц Вираг, но чувствует себя очень неловко: на завтрак ел он сало с луком и теперь боится дохнуть в сторону повитухи. Говорит, а сам старается в себя воздух втягивать.
— Вот, значит, пришел я, хочу посмотреть на этот сарай. Что тут можно поправить, что нельзя. Я думаю, пусть старый Сильва укрепит две-три балки на чердаке… — и теперь, как по дороге сюда, думает он про балки. И про чердак. Про то, что вот поднимутся они туда, поговорят…
Смотрит она на него, улыбается:
— О… мне все равно, делайте, как хотите, дядя Вираг. Я не боюсь… Пусть как-нибудь ночью все возьмет и развалится. Подумаешь, беда… Одной бабой больше, одной меньше…
— Что вы, что вы, не думайте такого. Поправим мы вам дом, еще как поправим. Давайте, что ли, посмотрим… — вскакивает староста. Идет к лестнице на чердак, И поднимается не оглядываясь.
Что скрывать: идя сюда, думал Ференц Вираг про повитуху то, се. Грех, мол, такую бабу в одиночестве оставлять, чтобы увядала она, как цветок без пчел… И теперь поднимается он на чердак, а сам ждет, что вот и она сейчас двинется за ним. Мыслями, как веревочкой, тянет ее за собой. Вот он уже наверху. Глух, неприветлив чердак, как старый Чер. Прислушивается: нет, не стучат по лестнице красные сандалии. Слоняется Ференц Вираг по чердаку как неприкаянный, балки ощупывает — словом, тянет время. Будто и в самом деле чердак осматривает. Придет, не придет?.. Бегут минуты; пора и спускаться. Да, черт побери, с ней, видно, каши не сваришь… Повитуха стоит на крыльце, уже одетая, на ногах туфли, но по-прежнему без чулок. Юбка колоколом колышется на ней от каждого движения.
— Посмотрели, дядя Вираг? — спрашивает; потом, сощурив глаза, подходит к старосте, снимает паутину у него со шляпы.
— Посмотрел. Сильву я пришлю потом…
— Ну что ж… присылайте. Я ведь сказала, что не боюсь. До сих пор стоял дом и еще постоит, — и перекладывает свою сумку из одной руки в другую.
С грустью думает Ференц Вираг, что в последнее время что-то ничего ему не удается.
— Вы куда? — спрашивает чуть ли не со злостью. Он-то думал, что баба в надежде на ремонт покладистой окажется — и вот на́ тебе. Не боится, говорит.
— О… дела у меня. Жалованье свое нужно оправдывать. Ведь ребенка в купель опустить — это еще не все. Нужно и о матерях заботиться. И еще о многом. Вы, дядя Вираг, Красных Гозов знаете?
— Еще бы. Вы с ним, смотрите, осторожней… он человек такой… отчаянный…
— Да? А что такое?
— Да вот то… зимой так увел невесту у жениха из-под носа, будто ее там и не было. Кто-то свадьбу устраивает, а он на ней невестин танец пляшет. Словом, я вам советую осторожней с ним…
— Неужто вы за меня боитесь, дядя Вираг? — и хохочет, ладонями хлопает по бедрам.
Смотрит на нее, смотрит Ференц Вираг. Не знает, что ему теперь делать. С такими надеждами шел он сюда! Думал, у него, как у старосты, есть на нее особые права. Когда она в деревню приехала и явилась в правление, он тогда еще подумал: такой бабе сам бог велел для вдовцов да холостяков утешением быть…
У Ференца Вирага одни мысли насчет новой повитухи были, а у других — другие. Но факт тот, что деревню она взбудоражила основательно. Много было толков, кто она да что она. Отец-то с матерью у нее наверняка были, а вот был ли муж?.. И если был, то куда делся? Есть ли дети и где они? Даже того никто точно не знал, из крестьян она или из господ? Сама же новая повитуха никому ничего не рассказывала: просто взяла и появилась в деревне, а прошлое свое бросила где-то на околице, как старую одежду. И даже следы за собой замела… Впрочем, в деревне ее сразу полюбили. С радостью приняли такой, как она есть; так радуется человек, когда рядом с высохшим деревом неожиданно замечает новые, свежие побеги; так еще бывает, когда увидишь молодой месяц, всходящий на горизонте… Только господ очень уж мучило любопытство. Встречая ее в кооперативе, на улице, смотрели мимо, будто не видя, — но тем с большей охотой говорили о ней между собой.
— Если вас так уж это интересует, Розика, я могу о ней кое-что рассказать, — заявил однажды Марцихази, почтмейстер, когда вся компания собралась вечером у отставного секретаря; женщины за картами сидели вчетвером, мужчины курили сигары, потягивали вино с содовой.
— Скажите же, ради всего святого… — нетерпеливо поворачивается к нему пожилая учительница…
— Зовут ее Шара Кери.
— Знаю, знаю.
— Ну, слушайте дальше. Она дочь священника, кончила шесть классов гимназии, сын у нее гимназист, во второй класс ходит.
— Что вы говорите!
— Все чистая правда.
Тут женщины, все разом, оборачиваются к нему.
— А муж? Где у нее муж? Кто ее муж? — спрашивают, перебивая друг друга.
— Пока не скажу, сам еще не знаю…
Но и этого было достаточно, чтобы загадочность, окружавшая повитуху, стала еще более волнующей и непроницаемой.
Так деревня и приняла Шару Кери вместе с ее тайной; один лишь Лайош Ямбор еще пробовал раскусить этот орешек. Правда, дом ее обходил за версту. Три пенгё шестьдесят… да скандал с билетом… Думал Ямбор, что освободится от этой занозы в душе, если станет козни строить против повитухи.
— Вы что, слепые? Не видите, что ли, что староста к ней ходит? — нашептывал он встречным и поперечным.
— Может, оно и правда… — задумывались те, кто еще принимал Ямбора всерьез, и вспоминали про господина Фукса, про выборы, про то, что очень уж неожиданно разбогател Ференц Вираг. Но вслух ничего не говорили — лишь голову выше подымали и думали про себя, что, мол, повадился кувшин по воду ходить… и дальше в таком роде.
Однажды вечером Ямбориха корову доила, как вдруг в дверях хлева появилась повитуха.
— Добрый вечер, — говорит вежливо. — Вы жена Лайоша Ямбора?
— Я. Добрый вечер… — удивляется баба; до того она толста, что зад свисает со скамеечки чуть не до самой земли.
— Где ваш муж?
— Я и не знаю… пошел куда-то. К кузнецу, что ли…
— Так вот, передайте ему, как вернется, чтобы он свой вонючий язык попридержал, иначе ему плохо придется…
Сказала и ушла. А баба осталась сидеть ни жива ни мертва.
4
Во дворе у Красных Гозов, под шелковицами, суетятся куры, охотятся за падающими ягодами. Шлепнет ягода о землю — и все за ней мчатся. Которая курица быстрее, той и достанется. Схватит ягоду, бежит с ней в сторону, а остальные — за ней. Кроме этой ягоды, для них в мире ничего не существует. Четыре шелковицы стоят во дворе — могучие, стройные. Когда жарко, укрывают они двор своей тенью; в суровую пору грудь подставляют бурям. Стонут, гудят, гнутся, но держатся. В одно дерево молния как-то ударила — да крона у него до того раскидистая, что и молния в ней потерялась. Лишь одну ветку оторвала.
Посадил эти деревья еще покойный Йожеф Гоз; посадил вскоре после того, как женился. Работал он однажды на дамбе, на поденщине: деревьями обсаживали дамбу с двух сторон, — там он и припрятал в бурьяне четыре саженца шелковицы. А вечером, как стемнело, принес домой. Теперь вдова его, выходя на крыльцо, видит деревья — солнце ли их греет, иней ли покрывает, качает ли ветер, — и каждый раз мужа вспоминает. Словно он, муж ее, остался жить в этих мощных стволах, молодой и сильный. А то еще летом, в дождь, усядется она на крыльце и смотрит на них, слушает, как шуршат кроны. Под дождем лепечут, разговаривают листья, и прошлое встает в памяти, как живое. И словно не было тяжких лет, и к вечеру придет муж домой, усталый, сядет ужинать… Проходят годы, но не тускнеют видения; а в такие дни, когда лопаются на деревьях почки и первые робкие тени ложатся на землю двора, особенно чувствует она близость сгинувшего на войне мужа…
Иногда заходит полакомиться ягодами шелковицы и сосед, старый Сокальи. Очень любит он эти ягоды, да нет у него шелковицы. Года два назад, правда, посадил он одну: из сельскохозяйственного училища приволок ночью, украл, одним словом. Да только успел посадить, ощипали дерево гуси; оно и засохло. Каждый раз, как приходит старик к Гозам, заново рассказывает эту историю. Чтобы оправдаться. «Я мол тоже посадил шелковицу года два назад, славное было деревцо, да не прижилось…»
— Потому оно не прижилось, слышь-ка, что хозяин ему не понравился, — говорит вдова то ли в шутку, то ли всерьез. Сокальи смотрит на нее подозрительно, потом плюет в ладони и на дерево лезет. Как кошка. Правда, старая кошка.
Время — часов пять пополудни; солнце клонится к горизонту, со стороны огорода прохладный ветерок веет, неся запах укропа и зеленого лука. Марика Юхош, молодая жена Красного Гоза, идет с огорода, охапку травы несет в переднике. Лебеду и прочие сорняки. Куры с цыплятами тут же поворачиваются к ней, ждут зова; но Марика пока на них не смотрит. Оглядывает двор, кричит:
— Борка! Борка!
Из хлева выходит пятимесячная телка. Шевелит большими ушами, словно бабочка крыльями, теплыми глазами смотрит на хозяйку и мчится к ней галопом. Тычется мордой в передник, нюхает, хватает траву мягкими губами.
На удивление чистое животное эта Борка. Шерсть у нее белая, блестящая. Как снег под солнцем. И по белому — рыжие пятна. Ресницы длинные, светлые, будто льняные. Передние ноги немного кривоваты, почти сходятся в коленях. На шее — будто темная шаль накинута. Нос всегда влажен, и длинный язык вытирает то одну, то другую ноздрю. Но теперь Борка хрупает свежую траву, обо всем забыв, и только головой покачивает, вроде как с одобрением.
— Борка, Борка… ах ты моя Борка… — приговаривает Марика, теребя шерсть на шее у телки. Борка поднимает морду, игриво топает передней ногой, продолжает жевать.
С тех пор как Марика живет здесь, перед ней словно другой мир открылся. Дома у них самое большее два поросенка было на откорм — вот и все хозяйство. Два — потому что если один сдохнет, так останется другой. Ну, еще пять-шесть кур. Да петух. Петуха, правда, съедали в жатву: чего зря ему зерно скармливать? В это время петух ни к чему. Здесь же и корова, и теленок, и птица разная — утки, гуси. И сено есть, и настоящая навозная куча. Не какой-нибудь мусор, сметенный со всего двора. Два петуха гордо разгуливают по двору: один пестрый, другой — рябой. Гребни у обоих — ярко-красные, рубиновые. А ведь Гозы почти так же бедны, как Юхоши. Только здесь бедность красивая и чистая, а дома — тусклая, печальная. Дома в голодных кур летит веник да бессильные материнские проклятья. А здесь — не услышишь во дворе сердитого слова. Дома у матери жизнь — вечная война с собакой да кошкой, которые так и норовят чего-нибудь стащить. Здесь такого нет и в помине. Здесь собака часто не съедает хлеб, в землю зарывает. Дома поросята — до того запуганные, забитые, что на стенку бросаются от страха, человека увидя. А здесь — такие ласковые, покорные…
Высыпает Марика траву в корзинку без ручки и, потрепав Борку по спине, идет дальше.
— Цып-цып… — тянет она руку к белой курице; та припадает к земле, крылья растопыривает. Марика, присев, ласкает курицу. Потом к другой наклоняется: «Цып-цып…» Да, другой это мир; такой мир, который лишь в хорошем сне может присниться… Встает Марика, пробует по теням определить, который час; идет в сени.
На Марике просторное бумазейное платье турецкого покроя. Иное на нее теперь и не годится. В поясе платье даже немного шире, чем надо. Волосы причесаны на прямой пробор, и узел она стала ниже спускать. В одежде все рубчики сглажены; даже швов и застежек не видно. Платье словно бы и не сшито, а вылито на нее, из одного куска ткани. На ногах — старенькие, выцветшие тапочки; войдя в сени, Марика сбрасывает их и стоит так немного, ждет, чтобы прохлада от глинобитного пола поднялась в ноги и потом выше, до самой груди. Снова надевает тапочки. Но тело уже стало удивительно свежим, легким, будто от хмеля. С радостным, щекочущим волнением ощущает Марика обтягивающую живот кожу — уже не раз испытывала она это, ступая босыми ногами на прохладный пол в сенях. Должно быть, что-то похожее чувствует набухающая почка или готовый раскрыться бутон. Кажется Марике, что в ней затаилась какая-то бездонная глубь, а ей, Марике, совсем не страшно от этого, а легко и свободно.
И тут вдруг ощущает голод, голод безжалостный и острый. И еще — странный какой-то это голод: хочется ей чего-то такого, что было бы сладковатым, но в то же время мягким… даже больше, пожалуй, мягким, например, как осенняя опавшая листва в садах, когда, подернутая инеем, мягко шуршит она под ногами. И чтобы это… ну, то, чего ей хочется, было бы такого цвета, как предвечернее небо, с которого только-только исчезла яркая радуга. Немного синеватое, но скорее все же оранжевое.
Мучительно это ощущение, почти болезненно. Кажется: если не получит Марика сию же минуту того, что ей надо, то дом рухнет ей на голову, конец света настанет. Открывает дверцу шкафа, шарит по полкам. Чашки стоят здесь, кружки, горшки, большие и поменьше. На блюдце сала кусок, рядом — хлеб, масло, в горшочке — гусиный жир, несколько абрикосов, горстка вишен…
И теперь она совсем ясно чувствует, что прежний голод сменяется в ней новым желанием — как в церкви сменяется на доске номер псалма. Теперь уже хочется ей молока, холодного, из белой фарфоровой кружки, на которой рассыпаны большие, круглые, синие горошины. И чтобы фарфор был белым-белым, а горошины — как следы от пальцев, испачканных чернилами. И тут дыхание замирает у Марики в груди: ведь такой кружки, поди, и на свете-то нету. Это даже не испуг, а прямо-таки отчаяние: должно быть, такое отчаяние чувствуем богач, который не попадет в царствие небесное, если не пролезет через игольное ушко. Но в следующий миг все становится простым и ясным: ведь как раз такие кружки купил ей Йошка этой весной, на ярмарке в Комади… И Марика понимает, что не молоко совсем ей нужно, и не оранжевое небо с радугой, и не мягкая сладость, у которой и названия-то нет… Просто Йошка ей нужен. Йошка, один лишь Йошка…
Это потребность и души, и той головокружительной, бездонной глуби, которой пронизана Марика. Так крохотное семечко, летящее по ветру, переполнено трепетным шумом еще не существующих лесов.
Наливает Марика в кружку с синими горошинами молока, отрезает ломоть хлеба, усаживается на веранде.
И вдруг замечает с удивлением, что тень от стрехи словно бы передвинулась в сторону за те несколько минут, что она провела в сенях.
Всего-навсего на один шаг, но передвинулась.
Боязливо оглядывает Марика просторный двор; сколько раз оглядывала она его за полгода замужества… И каждый раз открывала что-то новое. Теперь вот тоже впервые заметила, каким пышным букетом ложится на беленую стену соседней хаты тень от яблони. Только у попа или у секретаря в доме стоят на столе такие красивые букеты… А тень шелковицы отливает зеленью, как мох на крыше ранней весной, да еще на скатерти алтаря господня надпись в старое время вышивали такими вот зелеными нитками. Если зажмурить глаза, то можно даже представить и прочесть всю надпись: «Вышита во славу Господа женой прихожанина Миклоша Пашкуя…» В детстве Марика еще видела эту старуху, свекровь теперешней вдовы Пашкуй. Высокая, красивая была старуха, зимой в короткой шубейке всегда ходила, как нынче Пашкуиха ходит… Пашкуиха… Пирошка… Тарцали… Неторопливые мысли текут прохладной, ласковой струей, как полчаса назад лилась в ее тело прохлада от глинобитного пола. Крестным отцом, пожалуй, они Тарцали позовут — вместе с женой, конечно. Правда, в девках не особенно дружили они с Пирошкой — да зато Тарцали с Йошкой были корешами… Все будет так, как Йошка хочет.
Йошка, всегда один лишь Йошка…
Хлопает калитка, и странно Марике, что не Йошка входит во двор, а чужая женщина.
— Собака не кусается? — спрашивает женщина, нарядная, веселая, и идет к крыльцу, не дожидаясь ответа. А собака, Бодри, выскакивает из сарая, тявкает раз-другой, потом, виляя хвостом, подбегает и нюхает гостье руку.
— Не кусается… пошла на место, Бодри, — говорит Марика и встает. Поболтав молоко, выпивает остатки. С любопытством глядит на приближающуюся женщину.
— Не кусаешься, значит, Бодри? Ах, и красивое ж у тебя имя… — говорит гостья собаке и свистит ей по-мужски. Входит на веранду через решетчатую дверцу. — Добрый день. Вы жена Йожефа Гоза, верно? А я новая повитуха. Зовут меня Шара Кери, — и протягивает руку.
— Здравствуйте… Да, я жена Гоза. Проходите в горницу.
— Нет, нет, давайте здесь останемся, — и, взяв Марику за плечи, ласково усаживает ее на скамеечку. А сама оглядывает веранду, подтаскивает до половины наполненный мешок с фасолью, садится на него рядом с Марикой, складывает руки на коленях. — Много я о вас слышала, деточка. Вот решила познакомиться. Это, в общем, моя обязанность — обхожу молодых замужних женщин, когда других дел нет… Ну, и сколько ж нам времени?
И оглядывает Марику с головы до ног.
— Времени? То есть… — краснеет та.
— Ну-ну, говорите спокойно. Нам друг перед другом стесняться нечего.
— О, конечно. Я так… — тихо смеется Марика. С минуту как бы прислушивается к своему смеху, потом говорит. — Я думаю, шесть месяцев.
— Вот и славно. Значит, совсем большой парень… или девка… это нам пока не дано знать, — и тоже смеется. Снова смотрит на Марику, спрашивает:
— И как вы себя чувствуете?
— Очень хорошо… — пожалуй, не так бы надо ответить. Надо бы сказать: очень-очень хорошо, особенно тогда, когда не лезут в голову всякие зеленые сладости, синие кружки… Да ведь это тоже не так уж плохо… то есть плохо, конечно, а все-таки хорошо. Как об этом рассказать? Не расскажешь, как ни старайся.
— Смотрите, будьте осторожней, деточка, у вас сейчас критический период.
Сидят они рядышком на веранде, словно не в первый раз встретились, а с давних пор знают друг друга. Марика по характеру не очень-то общительна — однако есть что-то такое в повитухе, что заставляет раскрывать перед ней душу. Все рассказала ей Марика как на духу. Про любовь свою девичью, и про отчаяние, и про свадьбу, и про то, как сбежала. Как проснулась впервые у Йошки, как глазели на нее соседи, когда вышла она во двор; и сказала, что повторись все снова, точно так же поступила бы, что не жалеет ни о чем. Даже о том рассказала, как она мужа любит.
— А муж… он вас любит?
— Очень любит.
— Уверены?
— Уверена.
— Счастливые вы люди. Дети у вас будут красивые. А теперь идемте-ка, посмотрим маленького, — встает Шара.
Марика пугается. Никто еще не видел ее раздетой, даже свекровь. Даже Йошка. И даже сама она краснеет, если случится утром или вечером, ложась спать, наготу свою увидеть; краснеет и озирается: не видел ли кто? Словно нагота ее не ей принадлежит, а господу богу, который доверил ей оберегать эту наготу от посторонних взглядов. Словно тело ее — это одно, а любовь — совсем-совсем другое. Но как-то все же оказывается, что любовь неотделима от тела, в нем прячется, то как жар под углями, то как яркое пламя… Непонятно все это. Непонятно и странно. Кажется, любит она Йошку душой — и, однако же, всем телом своим тянется к нему, обрушивается на него своей любовью, как гроза обрушивается на землю ливнем и градом… Но чего хочет от нее эта женщина?..
— Нет, нет, не теперь, после…
— Чистый вы ребенок, Марика. И у этого ребенка будет ребенок… Это же все в порядке вещей, мир так устроен. Не надо стыдиться. Ведь ваше тело не ваше теперь: оно ребенку вашему принадлежит… А вообще я вам скажу: сколько вы себя ни закрывайте, а тело через любую одежду в глаза мужчинам бросится. Что вы думаете, Йошка просто так вас от жениха увел? Ни за что ни про что? Ну, идемте живо! — берет Марику за руку, поднимает со скамеечки. Идет в горницу и ее за собой тянет.
— Может, лучше потом, когда Йошка придет… когда Йошка… — жалобно говорит Марика; повитуха же хохочет только, и вскоре смех ее доносится уже из горницы.
Время идет к шести; куры все проворнее носятся за падающими с шелковиц ягодами, да и ягоды стали падать чаще. Теперь вдобавок и поросята, все четверо, бегают от одного дерева к другому: втягивают ягоды, даже рот почти не открывают.
Стукнула о ворота мотыга; свекровь возвращается домой. За спиной, в высокой корзине, трава, листья турнепса; юбка подоткнута еще с утра, когда шла по росе. Снимает мотыгу с плеча, входит во двор, захлопывает калитку спиной.
Наседка сразу поворачивает к ней; за ней цыплята бегут, пищат, толкаются. Крохотные следы-крестики остаются в пыли. Словно тайное письмо какое-то. Таким вот письмом написаны были скрижали Моисея… Остальные куры тоже наперегонки мчатся к хозяйке; поросята сюда же трусят; окидывает их хозяйка строгим взглядом — не считает, а так, проверяет, все ли здесь. Вот только где Борка?
— Борка! Борка! — кричит.
Телка выходит из хлева; копытами постукивает, ушами прядет, ресницами часто моргает. Все, видно, в порядке… Обо всем позаботилась Марика. Бросает свекровь корзину на веранду. Подходит к колоде — в ней свежая вода. К поилке для кур идет — и там вода чистая. Еще на уток взглянуть; для них за хлевом место отгорожено. Им нельзя во дворе быть, пока шелковица осыпается. А то наедятся, и в ноги им вступит.
Открывается дверца веранды, повитуха выходит, за ней Марика.
— Матушка. Пришли, матушка? — радуется Марика.
— Пришла…
— Это ваша свекровь? Какая милая… Здравствуйте, тетенька, — подходит повитуха, смотрит ласково. Всем она умеет угодить.
— Я это, я… По каким делам у нас? Вроде бы рановато еще…
— О, я так просто заглянула. Вам не обязательно меня звать, жалованье ведь мне и так идет… Поговорили мы немножечко с Марикой о том о сем. Верно, Марика?
— Ну и хорошо… Посидите еще у нас. Теперь втроем побеседуем, — говорит свекровь. Развязывает платок, встряхивает его, повернувшись к огороду. И вдруг встревоженно оборачивается к Марике. — А закваску ты поставила?
— Конечно, — отвечает та.
— А то нам завтра хлебы печь, — объясняет свекровь повитухе. Вздыхает. И начинают литься из нее жалобы. Не то чтобы с отчаянием она говорит или хотя бы с упреком к судьбе: просто перечисляет то, что есть, что мешает спокойно жить, о чем приходится думать изо дня в день:
— Одна беда, милая: не хочет Ферко Тот развод давать. А пока нет развода, эти бедняжки обвенчаться не могут. Так и живут друг с другом, как нехристи. Это бы и ничего еще, да в сентябре ребеночка ждем, его окрестить надо… Придется, стало быть, на материно имя крестить. А это тоже грех перед господом…
— Не хочет давать развод? Чего же он хочет?
— Чтобы Марика к нему вернулась или пусть оплатит расходы на свадьбу да за адвоката.
— Но ведь это… ужасно!
— То-то и оно… Такая вот на нас напасть свалилась.
— И он еще обратно ее зовет!
— Ну да. Или плати. Они чуть не всю деревню позвали на свадьбу, поили, кормили — а мы плати. А еще адвокат сказал, что, если Ферко согласится-таки развод дать, все равно это нам обойдется в двести пенгё, а то и больше. Ну, это бы мы еще выдержали как-нибудь. А если не согласится… Столько нужно заплатить, что и подумать страшно. Таких денег во всей деревне-то поди нет. А к сентябрю развод должен быть, хоть умри….
Молчит повитуха. Ничем не может она утешить этих женщин. Много чему учили ее в свое время: и охране детства, и охране материнства, и даже охране семьи… Да не учили, как в таких вот случаях поступать. Что делать, когда и права будущего ребенка надо отстаивать, и при этом общественные устои не подрывать… Но что-то все же надо сказать им. Какую-то надежду дать, ободрить.
— Не отчаивайтесь, положитесь на меня. Что-нибудь придумаем, — говорит Шара Кери и встает, прощается. Обещает теперь чаще заходить. И, идя к воротам, думает: тяжкий грех возьмет она на душу, если не найдет, как помочь этим славным, чистым людям.
5
Теплое, росистое утро стоит над землей.
Мужики завязывают котомки, встают; кто цигарку скручивает, кто пьет. А те, кто впереди, уже стоят между ручками тачек, с плеч у них лямки свисают.
— Эй, чего вам не сидится? — кричит один мужик, Сито, он еще дожевывает шкурку от сала и котомку затягивает.
— Давай шевелись, а то суббота скоро. Будете спрашивать, мол, где же заработок?.. — кричит в ответ Красный Гоз и плюет в ладони.
— Тебе-то что горевать? Тебе и свадьба дешево обошлась, — поддевает Красного Гоза кореш его, Тарцали, и тоже впрягается в лямку. Народ смеется. Это уж точно, это все знают. Да не каждый посмеет Красному Гозу в глаза это сказать.
— Ну, двинулись! — кричит старшой, Шандор Силаши-Киш. Здесь каждый, если хочет что сказать, кричит во всю глотку. Никто не шепчет, никто не мямлит. Или кричат, или вообще помалкивают. А причина в том, что грудь-то сдавлена: лямка целый день плечи оттягивает.
Наконец-то начались земляные работы. Насыпь надо сделать под свинарник. Работа хорошая: тридцать восемь филлеров за кубометр. К тому ж и тачку с землей больше приходится под гору везти, чем в гору. Потому что решено было свести под насыпь целый курган. Местность вокруг — как стол: в ясную погоду третью деревню видно. Кое-где лишь тополиная роща темнеет или лесок из акаций. Издали — словно пучок травы торчит. А самой травы вокруг нету: все съедают, вытаптывают помещичьи лошади да свиньи. Дальше, на востоке, горы синеют. Или чернеют — смотря по времени, по погоде. Словом, курган этот здесь — один на многие километры, да вот и его сводят. Будто покоя он не давал кому-то.
Каждый мужик в окрестностях курган этот словно бы собственностью своей почитал. Скажем, как звезды на небе или колокольню. И теперь, когда они копают его и увозят, тачку за тачкой, будто бы от сердца что-то отрывают. Будто беднее становятся с каждой тачкой, с каждой лопатой. Правда, заработок ожидается неплохой — да ведь насыпь эту можно было бы и как-нибудь по-другому построить. Рядом взять землю, из канав. Лопатами. Только господ ведь иногда сам черт не поймет.
— Кто знает, что за люди насыпали этот курган в древние времена… — говорит Тарцали, который с тех пор, как вдова Пашкуй тещей его стала, любит иногда насчет истории высказаться.
— Наверняка не господа это были, а мужики, — отвечает Красный Гоз. И дальше работа идет в молчании. Свежий, густой запах разрытой земли уже через минуту сгорает, улетучивается под жарким солнцем. Меняется и цвет ее: быстро сереет, тускнеет. Да и весь курган, вспоротый заступами, как бы умирает на глазах. А ведь до сих пор он стоял здесь как молчаливый памятник давних времен, свидетель истории. Шандор Силаши-Киш, например, утверждает, что когда-то тут крепость была с земляным валом. А Тарцали от тещи своей слышал, что стояла тут церковь. И поэтому здесь даже клад, может, есть… В старые-то времена много денег было у духовенства… Об этом думают сейчас, работая лопатами, мужики. Сито молодых волов хочет купить, если ему клад попадется.
— Эх, мне бы тот клад найти… — Это Кишторони говорит. И умолкает, не закончив. Уж так оно бывает: один высказывает все, что у него на уме, другой — только половину. Хотя думы у каждого человека бесконечны, как море. Правда, у Сито все его думы вокруг пары волов вертятся, мечтает Сито, как он их погонять будет, покрикивать, как сядет бочком на телегу, колени подтянет, спиной на боковину обопрется, как поедет не спеша по степным дорогам, вдоль полей, по улицам деревни… Картина эта не выходит у него из головы, становится все заманчивее, все красочнее; и уже знает он, что одного вола назовет Шустрым, а другого Хмурым. Потому что так звали волов, на которых ездил он, когда батрачил у богатого мужика. Славные волы были, всегда он их вместе запрягал, Хмурого — слева, Шустрого — справа. В задней паре они у него ходили. А две другие пары, как их ни ставь, все не могли друг к другу приладиться. Плохо подобраны были. Уж он сколько говорил хозяину, все напрасно. Оживают в памяти давние батраческие годы, и кажется, что все тогда было славно и мир был теплым и приветливым… Эх, сейчас бы ему пару волов, он бы показал… Вспоминает он о крохотных своих делянках на выкупных землях: всего-навсего три хольда, не размахнешься… Но если б он сам их пахать мог!.. Младший сынишка шел бы впереди волов, ветерок обдувал бы кожу, рубаху надувал, а баба кидала бы кукурузу по свежей вспашке… Да ведь должны ж были у этих монахов, или как их, деньги быть, черт побери. И с хрустом вгоняет он в землю лопату.
А вот Силади мечтает покончить с крестьянской жизнью, дом купить в Вараде. Уж он бы устроился: стал бы постояльцев держать и жить себе с доходов припеваючи. Видится ему, как вечером идет он в кино, потом еще газету читает в постели, на детей прикрикнет, чтоб спали, не баловались: утром в школу рано вставать…
Господи боже, если бы и вправду им клад найти!.. Уж так бы он им кстати был, и сказать нельзя.
Тарцали, например, тут же съехал бы от тещи, хату купил бы себе, земли… Ведь что ему отец может оставить? Можно сказать, ничего. Всего два хольда земли. А за Пирошкой что идет? Несчастные полклина. Ну, еще хата. Тоже не густо… Да и это — то ли будет, то ли нет. Вишь, теща-то у него почти такая же молодая, как ее дочка; возьмет и замуж выйдет… Да уж вышла б, что ли, не маячила без конца перед глазами… Эх, им бы свою хату! Ничего больше не надо, только хату. Когда женишься, думаешь: ну, теперь заживу; молодая жена под боком, там ребеночек появится — живи не хочу. А тут на́ тебе. Тут вдруг замечаешь, что в доме теща есть еще, которая, что ни вечер, надевает на нос очки, усаживается за стол, под лампу, и читает. И все кого-то ждет в гости. И все кто-нибудь к ней приходит… И вообще, бог знает, чего они там дома делают вдвоем, Пирошка с матерью, пока он работает? Он-то рассчитывал, что вот женится, и Пирошка станет полностью ему одному принадлежать; а оказывается, она еще и материна, как была. Или даже еще больше, потому что раньше они, наверное, друг с другом вслух разговаривали, а теперь то и дело шепчутся, если зять дома. Не нравится ему это, ох, как не нравится. Надо, чтоб молодые и старые отдельно друг от друга жили… Эх, ему бы денег! Тут же купил бы хату, и жили б они с Пирошкой сами по себе… Да когда это у него столько денег будет? Конечно, если бы клад найти… Да здесь, может, вовсе и не церковь была, а крепость. В крепостях же кто живет? В крепостях испокон веков солдаты жили. А у солдат денег, пожалуй, еще меньше, чем у него, у Тарцали. Они вон и в карты-то играют не на деньги, а так, на табак да на щелчки.
Никто, конечно, не надеется всерьез на этот клад. А все ж потихоньку думают про себя: чем, мол, черт не шутит. Думаешь так — и жить вроде веселей. Тачка легче кажется и день короче…
Красный Гоз тоже молча нагружает тачку, впрягается в лямку, катит, опрокидывает, высыпает — а мозг у него работает не переставая, Марика… мать… Ферко Тот… адвокат… ребенок… То по отдельности появляются они у него в голове, то все вместе, запутанным клубком. А над всеми нависает что-то, чему и названия-то нет, — только цвет, угрожающий, мрачный… Потому что к сентябрю должен быть развод во что бы то ни стало. О чем бы ни думал Красный Гоз, что бы ни делал — везде и всегда тяжким камнем давит на него эта забота. Спит — она и во сне его точит; бодрствует — тем более. И сейчас вот — словно от нее тяжелее становится тачка… Если бы и согласился Ферко Тот развестись по-хорошему, и тогда обошлось бы это Гозу не меньше чем в двести пенгё. Да это что! Это еще можно выдержать. И мать помогла бы… А заупрямится Ферко — придется им всего лишиться; тогда и то немногое, что у матери есть и на что вообще-то, если по справедливости смотреть, не она одна и не Йошка, а все ее дети имеют право, — словом, все их бедняцкое достояние прахом пойдет.
Деньги, деньги нужны. Столько денег, что и подумать страшно… целая куча, одним словом.
Вот бы в самом деле клад найти в кургане!
Или если бы эти земляные бабы[19] к концу работ оказались высотой с колокольню, чтоб помещику основательно раскошелиться пришлось… Тогда бы к сентябрю все устроилось. И у ребенка было б законное имя.
Однако Красный Гоз много земли перекидал, перевозил за свою жизнь — и никогда ничего в ней не находил. Так что все это ерунда… Конечно, все может быть. Во всяком случае, сейчас ему это очень было бы кстати.
Да что-то редко попадаются нынче людям клады. Раньше — дело другое. Вот, скажем, Золотой Баи, Тележник Баи, старый Макаи — эти вроде бы вправду клад находили, да и то никто этого не видел, разговоры только идут… А с другой стороны, если уж ты клад нашел, так не звать же свидетелей.
А может, отдала уже земля все свои клады, все сокровища; так что ему, Красному Гозу, не на клад надо надеяться, а копать землю изо всех сил, чтобы прожить. Чтобы Марику прокормить. И не только ее, а еще и ребенка… детей…
Зимой, когда взял он и просто-напросто увел Марику от жениха, казалось, что достиг он всего, чего желал, о чем мечтал. И что большей радости, большего счастья жизнь уже не может ему дать. Что говорить: счастье действительно и было, и осталось; только странная вещь: каждый день, каждую минуту это счастье — другое. Иногда такое огромное, что весь мир может затопить половодьем. А иногда его столько… ну, как если от целого окорока висит на веревочке голая кость с остатками мяса. Вроде бы и есть еще, а на самом деле можно считать, что и нету. Все больше и больше требуется для того, чтоб было оно, счастье. То одно, то другое, то десятое. То пара туфель, то платье, чулки, то платок, то соль, уксус, сахар, дрожжи, мясо, жир, перец, гвоздика… и на все нужны деньги и деньги. А деньги есть лишь тогда, когда работаешь и работаешь изо дня в день, без отдыха, без остановки.
Для счастья надо еще, чтоб и налоги были выплачены: и сельский, и церковный, и налог за собаку, за дым, за дом, за землю; налог за то, что сам он живет, воздухом дышит. А в скором времени нужно платить повитухе, священнику; хорошо еще, если благополучно родится ребенок, без доктора обойдутся.
Самое же главное — надо платить адвокату и в суд, иначе не даст закон развода. А это значит, что Марика хоть и его жена, но перед законом и перед богом — жена Ферко Тота.
И это б еще куда ни шло… Красный Гоз на это еще зимой рукой махнул. Да что будет с ребенком, когда он на свет появится? Нельзя будет его окрестить.
То есть окрестить, конечно, можно… да имя он получит как сын Ферко Тота. А тогда…
Если есть у кого-нибудь в этом мире тяжкая забота, так это у него, у Красного Гоза…
— Эй, Йошка, не копай, оставь бабу! — кричит ему старшой Шандор Силаши-Киш.
— Ладно, оставил… — и оглядывается. Ага, здесь самое высокое место, верхушка кургана. Будь она хоть на два-три сантиметра выше — и то лишних бы кубометра два набежали. Два кубометра, которые мужикам вроде подарка. Ведь эти кубометры дались бы им без пота, без усталости; ради них не надо было б плевать в ладонь, губить дорогое время. Словно бы и вправду наткнулись на клад. Клад, конечно, не ахти какой, но, как говорится, лучше синица в руке… Зато клад этот — верный, осязаемый, потому что он не в фантазиях одних, а в лучах землемерной рулетки, бегущей от верхней точки бабы к краям раскопа. Лучи эти несут с собой хлеб, одежду, курево; они заставляют плясать карандаш в руке эконома, превращаясь в звонкую монету.
Как все землекопы, помещика Красный Гоз представлял таким человеком, у которого денег куры не клюют. Что для него — немножко выше или немножко ниже будут земляные бабы? Пустяк. Для помещика все эти замеры, расчеты вроде правил в игре. А вообще он бы просто мог руку в карман сунуть, вытащить горсть денег и отдать не глядя.
Сентябрь… Марика… адвокат… Борку продавать никак нельзя: на будущий год под ярмо она встанет вместе со старой коровой. Землю бы он выкупил у братьев, уже был об этом разговор. Только ведь земля будет рожать, если обрабатывать ее, удобрять добросовестно: ну, с этим бы он справился. Не возить же ему тачку до конца жизни, как Сито или Шандор Силаши-Киш…
— Эй, а я нашел, — кричит вдруг Сито и подымает что-то из-под лопаты, вертит в руках, очищает от земли.
Словно гром грянул с ясного неба; кольнуло сердце у мужиков. Что делать: завистлив человек, особенно когда другому везет, а ему нет. Ну почему Сито нашел, а не я? Чем он больше богу угодил? Не говоря ни слова, бросают инструменты, собираются вокруг Сито.
— Черепушку нашел… — довольно смеется Сито, будто после удачной шутки.
Вздыхают мужики с облегчением. Ух. Раз Сито не нашел, значит, не все еще потеряно… Но на череп всем интересно посмотреть: выхватывают его друг у друга, вертят, землю с него счищают. А Тарцали хватает лопату, роет в том месте, где был череп — и вот на свет божий показывается огромный человеческий скелет. Видно, закопан-то он был глубоко, да время и плуг основательно стесали курган.
— Сказал я, что здесь крепость была, — говорит Тарцали. Уж такой он человек, правду свою готов до последнего отстаивать.
— Может быть. А может, церковь, — возражает Силаши-Киш. — Ты ведь сам насчет церкви говорил.
— Я, насчет церкви? — удивляется Тарцали и тещу про себя поминает недобрым словом. Это ведь она ему что-то говорила; теперь он уж и не знает: про церковь или про крепость…
Череп смотрит на них темными глазницами, мрачно, угрожающе. Где глаза, что жили когда-то в этих глазницах, впитывая вечно меняющиеся краски природы? Где мозг, что размышлял, мечтал, творил молитву, вынашивал коварные планы?.. Тот, кому принадлежал этот череп, умер, должно быть, молодым: все зубы целы в челюсти… А Сито уже и не смотрит на череп; что в нем интересного! Его волы интересуют, живые волы. Которых он, правда, не купил еще, но уж точно купил бы, будь у него деньги. И он снова вонзает лопату в землю: не может быть, чтобы древние мужики с пустыми карманами уходили на тот свет, как и нынешние.
Лопата опять скрежещет по кости, и из земли появляется новый череп; затем третий, четвертый… За каких-нибудь полчаса выкопали они столько костей, что и не сосчитать.
Стоят мужики растерянно: экие дела! Что произошло здесь: новая ли жизнь утверждалась в борьбе или гибла в страшной агонии старая?.. Разбуженная, непонятная трагедия нависает над курганом, как зловещий мираж.
— Может, священнику сказать. Или в полицию заявить, — размышляет Тарцали. Что ни говори, а он в истории, видно, лучше всех разбирается.
— Зачем священнику-то?
— Ну, чтоб за упокой отзвонил, что ли…
— Конечно. Собрать надо все кости в одно место, позвать священника, а потом похоронить, как полагается, — это уже Красный Гоз говорит. Немного странно от него такое слышать: не очень-то он жалостлив.
— А что, они заслужили. Может, это такие же венгры были, как и мы. Взять и раскидать их кости, не по-христиански это, братья, — вступает в разговор Макра. Отец у него — церковный староста; видно, и сыну что-то передалось от отцовской набожности.
— Венгры? Да не могли они быть венграми. Гляди-ка, — не соглашается с ним старшой. Подымает одну челюсть и к своему подбородку прикладывает. Челюсть — до того велика, что весь подбородок в нее входит, даже место еще остается. А Шандоров подбородок тоже не маленький. Стоит старшой с челюстью, моргает. Во рту у него — чернота; все знают: когда у социалистов он верховодил, зубы ему выбили однажды, за то, что забастовки устраивал.
Смотрят мужики на старшого и на челюсть, сравнивают. Думают с уважением: ишь, мол, какие были раньше люди-то. Прямо великаны. Нынче такие в сказках только бывают… Смотрят мужики, и мучительно хочется им знать: чьи это кости? Что это были за люди: предки ли их или какие-нибудь пришельцы, враги? Почему закопали их в землю, вот так, как попало, свалив в кучу? Ах, как было бы хорошо знать историю этого кургана, всего края… И появляется в голове у них смутная мысль, что как ни хорошо, скажем, пить, есть, спать, смеяться, а есть еще и другая радость — знать. Если б каким-то чудом проведать, как попали сюда эти кости!.. Да только что́ голову зря ломать! Много чего было в прошлом… было да быльем поросло. Вот перед ними груда костей, а что за ними, не увидишь, не узнаешь, хоть лопни…
Берутся мужики за инструмент — да словно бы сник темп работы, не тот уже ее вкус. И когда под колесом тачки нет-нет да хрустнет древнее ребро, кажется им, будто это их собственные ребра хрустят. Не по себе им от этих звуков, мурашки бегут по спине… Работают все без рубашек, почти нагишом; только трусы на голом теле. Чего зря одежду трепать! И жарко, и жалко. А кожа — она дешевая. Даже, можно сказать, бесплатная. И латать ее не надо, если что: сама зарастет.
— Ну как, скажем священнику-то? — вспоминает вдруг Тарцали.
— Скажем. Вечером, как домой пойдем. А пока складывайте в одну кучу, что ли, какие побольше, — распоряжается старшой.
Кости, черепа собирают в одну кучу, а под тачками еще долго хрустит костяная мелочь. Постепенно тает курган, растет земляная насыпь.
Возле кургана проходит дорога. Старая дорога, заброшенная. Лишь помещичьи батраки ездят по ней на волах, из усадьбы в деревню и обратно. Под дождями, ветрами, тележными колесами глубоко ушла дорога в почву, похожа стала на канаву… И вот по этой дороге подкатывает к кургану бричка помещичьего эконома; из нее вылезает сам эконом, а еще поднимается с сиденья какая-то женщина с желтыми волосами. Смотрит она на курган; ветер треплет ее волосы, играет ими, как хочет… Потом вылезает и она из брички. Ухватившись за руку, поданную экономом, выбирается на крутую обочину.
Эконом — человек неженатый, холостяк. На нем белый парусиновый костюм, белая шляпа. Из-под ленты ячменные колоски торчат. Две штуки. Один, поменьше, вяло повис; другой, побольше, молодцевато тянет усы кверху. На шляпе впереди — будто в ней ложкой копнули — ямка от пальца. Собой эконом высок и статен; вот только плечи немного обвисли, будто постоянно таскает он в руках какую-то тяжесть. Ничем он не отличается от любого другого эконома, если не считать, что окончил только школу первой ступени, шесть классов, потом собственными силами выбился в люди, да вот еще носит монокль. Чтобы, когда с мужиками разговаривает, ронять его и обратно вставлять. Обязанности свои выполняет он превосходно, помещик им не нахвалится. Одна беда: ужасно стыдится эконом своих шести классов и всеми силами старается, чтобы забыли об этом и господа, и мужики. Да не так-то это просто.
Интеллигенты деревенские часто к нему обращаются: то телегу попросят, то мешок отрубей или половы, то сучьев на дрова; или, скажем, пашут батраки где-нибудь у помещика — так пусть велит Енё (так зовут эконома, Енё Рац) захватить и священников клин. Много ли там? Пустяк, на полчаса работы. Словом, то и дело приходится обращаться к эконому. За глаза же все равно говорят: а, дескать, Енё-то — душа человек, да вот всего шесть классов кончил первой ступени, что с него возьмешь…
Где-то в самой глубине души по-прежнему остался он мужиком, как в те времена, когда только-только пришел из деревни в поместье. Служил он здесь батраком, младшим садовником, конюхом; потом ключником стал, а лет десять назад — экономом. Что и говорить: карьеру сделал он стремительную. Одно плохо: на трудном этом пути столько приходилось приспосабливаться, изворачиваться, лавировать, что в конце концов потерял он собственный характер и даже собственное лицо. До сих пор вечерами репетирует перед зеркалом разные позы, движения, мимику. Целые речи произносит, глядя в зеркало; обычно это распоряжения, которые он завтра батракам будет раздавать. Потому что уже два года нет в имении управляющего, только агроном. Так что Енё командует здесь всем хозяйством… Чего только не вытворяет он перед зеркалом: и каблуками щелкает, и кланяется… в прошлый раз показалось ему, что недостаточно светски поклонился он одной даме, которая приехала с господами из Дебрецена. Как и полагается, перед хозяином он подобострастен, с батраками же суров и неумолим. Чтобы никто не подумал о его простом происхождении, за каждую мелочь кроет он мужиков печем зря: припомнит и папашу, и мамашу, и всю родню до пятого колена.
Не пьет эконом, не курит; всего две у него страсти: бричка да женщины.
В бричке он отказа, конечно, не знает. Не то, что в женщинах. Все как-то выходит ему от ворот поворот. Потому что одно дело — бричку взять до станции и обратно, а совсем другое дело — женщины. Словом, бегает он за ними высунув язык, как собака.
Желтоволосая дама, что с ним приехала, помещику дальней родственницей приходится или еще кем-то. Закончила она театральный институт, даже контракт у нее подписан с каким-то театром, и вот приехала на лето в имение. Помещик сейчас в отъезде, и осталась она на попечении Енё Раца. Он и старается, печется о ней. В основном насчет того, чтобы не завела она шуры-муры с агрономом.
Волосы у дамы — как ячменная солома, а платье — словно льющаяся вода. И на вид, и на цвет. Как будто волокна в материи идут только сверху вниз. К тому ж ни рукавов нет у платья, ни ворота; глядят мужики и не могут понять, где у нее кончается кожа и где начинается платье. На голых ногах красные плетеные сандалии. Лицо кирпичного цвета, только немного темнее, будто пережгли кирпич. Да, таких баб не видывали еще деревенские.
Смотрит эконом на мужиков, ждет, когда они поздороваются; а те помалкивают, как воды в рот набрали. Один Сито поднял было палец ко лбу, вроде к шляпе, которой вовсе и нет у него на голове. Да оглянулся на остальных — и лишь возле уха почесал. Будто для этого руку и поднял.
Тихо. Только тачки скрипят.
Эконома корежит: словно в нос, ему ткнули мужицкое его происхождение. Что еще может означать такая тишина? Зажмуривает он глаз, потом раскрывает широко — это чтобы монокль выпал. Тот, конечно, падает. И пока падает, мелькают в нем и солнце, и курган, и землекопы.
Уж и рот было раскрыл эконом, чтобы обложить их, по своему обычаю, как следует. Да тут же и закрыл обратно. Спохватился, что с землекопами, а не с батраками имеет дело. Перед этими опасно гонор показывать. Как-то, несколько лет назад, очень обжегся он на этом… счастье еще, что успел соскочить с брички. Так что теперь делает вид, будто ничего не случилось; спрашивает:
— Это что за кости?
— Это-то? Это, стало быть, кости, да только без мяса, — отвечает Сито, который, как известно, большой шутник.
— А, идите вы, — сердится эконом и спрыгивает в раскоп. Совсем он растерялся. Как всегда, когда мужики не хотят его бояться. Поднимает с земли череп, вертит в руках.
— Господи… — ахает желтоволосая и тоже спрыгивает вниз. Подол ее цепляется за какой-то хилый терновый кустик, и из-под платья мелькает, чуть не до пояса, голая нога и бедро. Сито, которому уже за сорок и у которого дома восьмеро детишек, подмигивает мужикам, потом, опустив глаза, тычет заступом в землю.
— Мы вот думаем, господин эконом, священника бы, пожалуй, позвать, — говорит старшой.
— Священника? Зачем?
— Чтобы похоронить их, как полагается…
— Черта лысого! Не хватает, чтобы пронюхали об этом какие-нибудь гробокопатели. Чтобы работу нам остановили. Соберите кости да закопайте в насыпь. Покойники все равно не обидятся, — швыряет он череп, отряхивает землю с ладоней, вставляет в глаз монокль и, подняв голову, глядит на старшого. Вот так. Теперь он себя чувствует уверенно. Словно монокль этот не из стекла сделан, а из железа или из бетона и надежно ограждает его от мужиков… и вообще, кто бы что ни говорил, а он в своей жизни добился чего хотел. Монокль отбрасывает солнечный блик на желтоволосую даму, которая стоит перед Красным Гозом, почти вплотную к нему, и что-то вертит в руках, опустив голову, а тот смотрит сверху ей на макушку.
Опять просыпается в душе эконома ревность — как каждый раз, когда женщина, случайно оказавшаяся рядом, не к нему обращается, а к другому мужчине. Не было у него в жизни, ни одной прочной связи, ни одну женщину еще не мог назвать он своей, хоть на день, хоть на минуту. Поэтому ревность мучает его постоянно. Ревнует он ту женщину, которая еще не принадлежит ему, но которая придет когда-нибудь и бросится ему на шею… А как он может заранее знать, кто это будет?.. Наскоро оглядывает земляные бабы и, подсчитав в уме, находит, что насыпь обойдется дороже, чем он думал. Это совсем портит ему настроение.
— Пойдемте, Матильда, — угрюмо говорит он желтоволосой.
Матильда бросает то, что держала в руках, и, ласково усмехнувшись Красному Гозу, вытирает пальцы о подол. Потом, опершись Гозу на плечо, выскакивает наверх, идет к бричке. А эконом не может опомниться, стоит у него перед глазами картина, как склонила Матильда голову перед Красным Гозом, изогнула руки, будто и не руки это, а стебли водяной лилии. С ним, Рацем, не вела себя так еще ни одна женщина; а этот голодранец только взглянул — и городская дама вся перед ним выкладывается; преподносит ему как на блюдечке все, что есть в ней привлекательного, женственного. Почему? А вот он и в бричке ее катает, и окружает вниманием, на которое только способен в свои сорок восемь лет: утром она еще спит, а батраки по его приказу уже разровняли, разгладили песок у нее под окном. Садовник срезает для нее любые розы, какие ей только захочется. И деньги у него есть, и авторитет, да и сам он еще в расцвете сил — а она спрыгивает в раскоп, чтобы покрасоваться перед каким-то мужиком… Бричка тронулась; эконом придвигается поближе к своей спутнице, ставит ногу так, чтобы коснуться ее колена.
— Эй… — кладет женщина руку кучеру на плечо, и лошади тут же останавливаются. Не оглядываясь, она перебирается на козлы.
— Хороша баба, а? — подмигивает Сито вслед бричке.
— Баба как баба… — отвечает Красный Гоз. И действительно, ласковый взгляд желтоволосой бабы никакого следа в нем не оставил. Как если бы ящерица пробежала по траве или орел пролетел в небе и за ним по земле лишь тень скользнула.
— Эх, я бы за такой… пристяжным бы поскакал до самого Варада, — ухмыляется Сито; вспоминает, как блеснуло из-под юбки белое бедро. И трусики. Сплошь из кружев, и не шире, кажется, чем лямка от котомки.
Полдень; землекопы сало жарят, хлеб подставляют под каплющий жир. Пламя костра лица им жжет, солнце — спины, которые и без того как жареное мясо. У иных соль проступила на коже белыми разводами, как на солончаках.
— Эй, кто шкурку от сала любит? — кричит Сито и вверх шкурку поднимает, показывает.
— Я люблю, давай мне, — говорит Пишта Бан; подходит к Сито и руку тянет.
— Ладно, отдам… да только сперва по спине тебя съезжу этим прутом, чтоб и я был доволен, — кочевряжится Сито.
Стыдно Бану, что надули его. Но все смотрит он на шкурку, смотрит — Сито даже покрепче ее взял, чтобы тот не выхватил чего доброго.
— Эх… ладно, бей, — говорит Пишта Бан и поворачивается спиной. Один-то раз он как-нибудь выдержит… Прут щелкает по голой коже; Бану на секунду кажется, будто сосульку ему к спине приложили… Протягивает руку. А шкурка уже у Сито во рту.
— Вот, слышь-ка, съездил я тебе, а недоволен остался, — жует Сито шкурку. — А больше, думаю, ты все равно не согласился бы…
Хохот стоит над курганом. Словно после дождливого дня выглянуло наконец солнце.
Красный Гоз подзывает Тарцали:
— Поди-ка сюда, кореш, — отходит в сторону. — Видишь эти бабы?
— Вижу.
— А что, если бы они выше стали?
— Да ведь… хорошо бы, что и говорить, да только… А вообще-то все равно земля здесь перемешанная, нанесенная, так что я думаю…
— Конечно. Придем вечером, после ужина и… — теперь Красный Гоз уже окончательно все решил. Что ж, раз дорого стоит развод, значит, надо добывать деньги где можно. Чтобы Борку продать, без тягла остаться? Нет, этого не будет. Ребенка по матери записать? Этого он не допустит. Пусть хоть весь свет перевернется вверх тормашками. Потому что какой смысл в том, что свет стоит, как стоял, если и он, и Марика, и мать, а потом и ребенок будут нищими; вечно на других работать! Нет, он из кожи вылезет, а добьется, чтобы судьба повернула туда, куда ему надо. А не куда кривая вывезет.
Хорошо знает Красный Гоз: и у него самого, и у всей семьи нет другой опоры, другой надежды, кроме его молодости и силы, кроме его трудолюбивых рук. В этом — весь его капитал. Как у мельника — в мельнице, у Жирного Тота — в нажитом правдами и неправдами состоянии, у секретаря — в его должности, у священника — в церкви. Стало быть, с умом надо пользоваться этим капиталом, чтоб не растратить его раньше времени, не надорваться ненароком, здоровье не потерять…
Чувствует он, что один на один стоит против целого мира. Там, на той стороне, огромные поля, свиные и конские стада, скрипучие тачки, бедняцкие хаты и белокаменные помещичьи усадьбы-замки, тучные нивы, а здесь — он, Красный Гоз, один под порывами ветра, под палящим солнцем. Там — враждебные силы, которые только и хотят, чтобы он старательней и быстрее работал заступом, полнее нагружал тачку. И притом поменьше денег просил. А для него каждый час, каждый взмах — борьба. О, каким изворотливым, каким осторожным надо быть в этом вечном бою! Ведь один лишь плохо рассчитанный шаг, неверное движение — и пропал его капитал, проиграна битва. Ногу напорет на ржавый гвоздь, на измазанное в навозе стекло или хотя бы оступится в незаметную под травой ямку — и пиши пропало. Можно суму вешать на шею. Ребенок останется без отца, Марика — без кормильца, без мужа. А мать — без опоры на старости лет.
Вот какие мысли роятся у него в голове в то время, как руки орудуют лопатой, напрягаются мышцы, а мозг проделывает сложнейшие расчеты. Как из ничего сделать что-то. Уж коли нет надежды найти клад в кургане, значит, нужно в другом месте, другой клад искать…
А солнце щедро льет золотые лучи на прекрасный край, раскинувшийся вокруг, на бескрайние равнины, на высокие горы… И то, что дома ждет Гоза жена, Марика, ощущается как какой-то чудный привкус во рту. Хорошо все-таки жить, когда чувствуешь в теле своем миллионы различных проявлений жизни; когда жарким днем трава прохладно щекочет босые ступни; когда, подняв глаза, видишь в небе кучерявое облачко, парящего орла, растрепанную галку, слышишь, как трещит о чем-то непоседа-сорока. Хорошо — быть на свете. Чувствовать, как в грудь льются волны пряного воздуха, несомого ветром с полей. Любит жизнь Красный Гоз. Так любит, что в любую минуту готов пойти за нее на смерть. Но одно дело — не бояться смерти, и другое — наступить на ржавый гвоздь, на испачканный в навозе осколок бутылки или провалиться в прикрытую травой ямку…
Раз ты беден, знай, что везде подстерегают тебя напасти. Чтоб уберечься от них — хватит ли человеку одной силы?.. С тех пор как женился Красный Гоз, огромную ответственность чувствует он — не только за себя, за мать, за Марику, но и за весь необъятный мир.
Словно бы на его силу опирается этот мир, который весь — бесконечная череда трудовых буден, кратких минут отдыха, войн; череда, что идет от отца его, через него самого к будущим детям… Его силой держится и церковь, и правление, и детский сад. Его силой тянутся вверх деревья, прорастают в земле семена, текут в своих руслах реки… Значит, любой ценой нужно сберечь эти силу — для будущего.
Сберечь, меньше работая и больше зарабатывая.
Вечером заклубились на горизонте приползшие с гор тучи; под тучами шли через поле два человека. Йошка Красный Гоз и кореш его, Йошка Тарцали. Несли с собой заступы. Несли не на плече, а в руке, чтобы, если потребуется, ловчей было размахнуться, ударить.
Спрыгнув в раскоп, подходят к одной из земляных баб, осматривают ее вокруг. Под ногами все еще похрустывают обломки древних костей: челюсти, ребра, позвонки. Да не до них сейчас корешам. Мертвым положено тлеть в земле, а живым — жить, оттягивать свой срок, сколько можно…
Один, очертив заступом круг на земле, обкапывает его, потом обтесывает получившуюся глыбу. Второй обхватывает бабу, приподымает — и приготовленная глыба встает под бабу. Та делается выше на добрый вершок; словно на скамеечку встала. Огладив бабу, сняв с нее лишнюю землю, пробуют пошатнуть. Та стоит надежно. Словно так выросла. Переходят к другой. К третьей.
К полуночи закончили кореши свое дело и двинулись обратно в деревню.
В горах давно уже начало громыхать; а теперь гроза пришла на равнину; дождь захлестал по лугам, по пашням, по высохшим руслам ручьев, прибил потревоженную землю в раскопе, разгладил бока земляных баб.
Спит деревня в шуме дождя; только в двух хатах светятся окна, в разных концах деревни. У Красных Гозов и у вдовы Пашкуй.
— Боюсь я, Пирошка… плохо все это кончится, — вдруг говорит вдова, которая долго лежала молча, вроде бы спала. А Пирошка и вправду заснула было уже на своей кровати; теперь, разбуженная, моргает, приходя в себя, потом переспрашивает:
— Что плохо кончится?
— Да то, что муж твой бродит где-то до полуночи, как бездомная собака.
Ничего не отвечает на это Пирошка; приподнявшись на локте, поправляет подушку. И ложится опять. Голова у нее тяжелая, нос заложило; сон все не хочет отпускать ее, словно паутиной затягивая лицо… Молчание дочери только больше распаляет вдову.
— Если уж женился, так сиди дома, ложись вовремя, а не шляйся бог знает где. Порядочный мужик не колобродит до полуночи.
— Вы ему это скажите, мама. Не мне. А потом, может… дело у него?
— Дело? Какие дела могут быть по ночам?.. Да ты, я вижу, все ему готова простить. Он дрова на тебе возить будет, ты и это стерпишь. Так нельзя с мужем обращаться. Надо его в руках держать, чтобы всякая охота пропала гулять… — поучает вдова дочь. А та глядит на лампу, и глаза у нее начинают гореть: материны слова, сначала не затрагивающие сознание, теперь все больше бередят душу. В самом деле, где это он ходит так поздно? Однажды уже явился за полночь… нет, даже два раза. Первый раз — в Балинтов день, потом — когда артель собирали, насыпь делать. А нынче… где он может быть?
— Мама. Где у нас календарь?
— Календарь? Тронулась ты, что ли?
— Хочу посмотреть, чей сегодня день?
— Чей день? Ох, глупая ты, глупая. Про именины думаешь? Да чей бы день ни был, в такое время мужику дома место… А может, и вправду на именинах он — да только у какой-нибудь бабы на именинах.
Пирошка и сама об этом подумала, да вслух не решилась сказать. Вот они, значит, какие, мужики-то: из одной постели в другую. Как же это так?.. Им, стало быть, все можно, что бы ни захотели?.. Да что, она, Пирошка, разве не баба, разве не хватает ее мужу? Да чем же другая баба лучше ее? Баба — она всегда баба… Разве что одна побольше, другая поменьше. Одна светлая, другая черная. Она, Пирошка, такая же, как все. Как любая другая. Что было бы, если б она, например, была в горнице одна, мать бы спала в летней горнице, мужа не было бы дома — и она кого-нибудь потихоньку пустила бы в окно… Вот только кого? Может, Красного Гоза… Или Пишту Бана, Макру, Косорукого Бикаи… о… — она даже содрогается всем телом. Словно от озноба.
Последнее дело, если бабу по ночам одолевают разные мысли. Падают Пирошкины слезы мелким дождем на подушку, отворачивается она к стене. Чтобы мать не видала. Ох, и зачем она вышла замуж, зачем? Вздыхает Пирошка горько — и в тот же миг засыпает.
Не слышит она, как стучит щеколда на воротах, как кто-то идет под окнами к крыльцу, потом долго возится в сенях. Слышит только, как Тарцали шепчет ей в ухо:
— Здравствуй… — и, погасив лампу, забирается к ней под одеяло.
Тишина. Будто не Пирошке шепнул он «здравствуй», а стене.
— Где был? Дохни на меня! — вдруг громко говорит Пирошка, почти кричит и, взяв мужа за оба уха, поворачивает его лицо к себе.
— К девкам ходил, — отвечает Тарцали; а пальцы его потихоньку-потихоньку пробираются к Пирошкиной груди.
Мужнино прикосновение разливается по телу горячей волной, и она не знает уже, плакать ей или смеяться. С минуту еще пытается удержать в себе обиду, но руки мужа все более завладевают ею; горячие волны, словно от крепкого вина, бегут в руки, в ноги, охватывают всю ее, до последнего мизинца на ноге. И она падает мужу на грудь, поперек постели… Расплетенные волосы ее свисают до пола…
Мать Красного Гоза тоже сидит в кровати, подтянув колени, в застиранной кофте. Ох, много же она сидела вот так бесчисленными одинокими ночами! Молча смотрит на окно, что выходит на улицу, теребит седые пряди. Марика в ночной рубашке сидит возле стола и подрубает новые холщовые штаны. Летом хорошо будет Йошке для работы.
— Ложись, дочка, не беспокойся зря, — говорит свекровь.
— Я все равно не усну, матушка, не смогу… — И Марика вдевает в иглу новую нитку. Да нелегко это сделать: слезы стоят в глазах, свет лампы поблескивает в них искорками.
— Ох, дочка… бабе надо к этому привыкать. У мужиков свои дела, свои заботы. Ложись-ка, спи спокойно.
— Я бы спала… только знать бы, где он, что с ним…
— Лучше, когда не знаешь всего, дочка. И так у них большой груз на плечах. Пусть Йошка сам делает как знает. Ты за него не бойся, не из такого он теста сделан. Не та в нем кровь…
Хоть и не признается Марика, да свекровь знает, что о сопернице она сейчас думает. Что, дескать, Йошка другую себе нашел.
— Я, матушка, за него не боюсь… да долго ль до беды. Пойдет в корчму, поссорится с кем-нибудь… Побьют его, или он кого побьет.
— Это верно, дочка, верно. Только беда и дома ведь может настичь. Где угодно. Баба и к беде должна быть готова, — и думает о своем муже. О войне. О страшной вдовьей судьбе.
Штаны готовы; Марика складывает их, убирает. Ходит по горнице босиком, что-то переставляет. И все прислушивается: не слышны ли шаги. Ох, до чего тягостно ожидание! А Йошки все нет… Бог знает уже в который раз взбивает подушки, но нет такой силы, которая заставила б ее одну лечь в постель. А Йошки нет… Все уже перебрала в голове Марика. И про Тарцали вспомнила, и про старшого, и про корчму, и про сельскохозяйственный кружок. Только об одном боится думать, потому что наверняка б разорвалось у нее сердце, если б начала она думать о том… об Илонке Киш…
Очень старается Марика не думать о том — даже в висках ломит. А то́ все равно здесь, в хате, куда ни повернешься; везде встает оно перед ней, будто камень перед косой. Часы на стене идут с невероятной быстротой… и вот на крыльце наконец слышны шаги, открывается дверь, входит Йошка. Весь мокрый, грязный, будто в канаве валялся.
— О… вы еще не спите. А я думал… — и стоит у дверей.
— Господи, да он в крови весь!.. — вскрикивает Марика, подбегая к нему. Трогает его мокрое, черное от грязи лицо, плечи, руки.
— Что ты, глупая!.. Какая кровь? Дождь это. И грязь. Вынеси-ка мне лампу, помоюсь я.
Марика хватает лампу, идет в сени. И плачет, и смеется сразу. Не в крови… значит, не избили… правда, все еще остается тот камень перед косой… Смотрит, как муж стягивает с себя вымокшую одежду, погружает руки в таз, сначала одну, потом другую. Растирает полотенцем спину, грудь; потом усаживается в горнице к столу, скручивает цигарку, закуривает.
— Беспокоилась, Марика?
— О, если бы ты знал… — подходит Марика ближе.
— Родная моя. В другой раз не беспокойся, ладно? Нельзя. И тебе будет лучше, и мне. Если уж ждешь, то жди так, будто когда-то давно ты меня любила сильно-сильно, а теперь просто терпишь, и все. Мне, может, часто придется уходить куда-нибудь вечером или ночью, да и днем… Лучше, если ты не будешь обо мне тревожиться. Ну, согласна? Скажи же, Марика, согласна? — он берет ее за руку, усаживает к себе на колени.
Марика тихо качает головой, палец прикладывает ко рту.
— Нет, не согласна.
— Почему?
— Да уж так… Потому что я всегда буду тебя ждать. И беспокоиться… потому что хочу о тебе беспокоиться. И еще хочу знать, все знать, о чем ты думаешь, что собираешься делать. Хочу, чтобы… — смотрит перед собой. Могла бы она сказать и больше, да не решается, что-то не дает ей говорить. И даже к тем словам, что успела сказать, прислушивается теперь с удивлением.
— Наверно, ты права, Марика. Об этом мы еще подумаем, хорошо?
— Хорошо. А теперь скажи все же, где ты был?
— Э, Марика, это дело не такое…
— Ничего, что не такое. Пойми, я все-все должна знать, где ты, что с тобой происходит.
— Ну хорошо, можно попробовать. Да ведь ты сама только что согласилась, что мы об этом еще подумаем.
— Ну да. Так ведь не о том же, где ты сегодня был…
Смеется Красный Гоз. Повыше Марику усаживает.
— Ну бог с тобой. На раскопе мы были с Тарцали.
— Сейчас? Ночью?
— Сейчас. Ты знаешь; что такое бабы, по которым кубометры насчитывают?
— Знаю, конечно. Когда землю свозят, оставляют столбики земляные, вроде как вешки…
— Вот-вот. Ну так мы их подняли.
— Подняли?
— Ну да. Чтоб они выше были. Вырезали землю и подложили под них.
— Господи боже, да ведь такое нельзя делать, Йошка.
— Какое такое?
— Помещика обманывать.
— Это еще не обман. Ведь курган мог бы быть и выше… Или то место, где свинарник строится, ниже. Или земля, скажем, тверже, или дальше надо возить…. Что ж, помещику даже из этого должна идти выгода, что курган ниже стал от времени?.. В общем, доверь это нам с Тарцали. За такое нам не придется отпущения грехов просить… Ну а теперь ложимся, светает уж скоро… — И голова его склоняется Марике на грудь. Та обхватывает его за шею обеими руками, и рубашка распахивается на ее груди, открывая тело. Удивительное чувство охватывает Йошку. Словно через грудь, живот, колени Марики открылась ему какая-то лишенная очертаний и названия сияющая бесконечность, а в ней таинственным образом растворены и земляные бабы, и раскопанный, потревоженный курган, и бескрайние, овеянные ветрами равнины, и молнии, и шум дождя, и грохот в небе…
Уже полгода, как живут они вместе, а Йошка не видел еще Марику нагой.
Притихшая было гроза за окном вновь расходится, гремя буйными раскатами, хлеща по крыше, по окнам ревущими бичами ливня.
6
С тех пор как кончилась зима, вдову Пашкуй будто подменили: места она себе не находит, не находит покоя. Уж не дают ей отрады ни романы из «Семейной библиотеки», ни другие книги. Времени свободного у нее теперь даже больше, чем прежде: казалось бы, читай себе и читай. Тарцали, зять ее, каждую субботу приносит домой какие-нибудь деньги. Так что не надо рассчитывать, экономить по мелочам. К тому ж еще и корова, которой уже одиннадцать лет, если не все двенадцать, снова отелилась — в доме молока вдоволь, масла, творога. В огороде так славно пошли в рост овощи, как не бывало со времен покойного мужа; поле наполовину засеяно пшеницей, кукурузой. А один клин, такая досада, лежит даже не вспаханный. Ну а что кроме, то и пахать нельзя: солончак.
Каждое воскресенье утром берет вдова корзину, вешает ее на локоть, идет к мяснику и говорит, будто так и надо:
— Почем нынче мясо, господин Борош?
Словом, конец пришел вечным похлебкам: с картошкой, с тмином, с чесноком, с лавровым листом, вечным рассольникам, лапшам. Теперь на столе — плотные, сытные кушанья. Паприкаш, гренки с яйцом. Галушки с творогом. Жаркое с зеленым горошком. Ну, и все такое.
А вдове ничего не мило.
Вообще-то покой ее полетел ко всем чертям еще перед свадьбой Ферко Жирного Тота, когда Красный Гоз, этот проходимец, воспользовался ее женской слабостью. Да там захватили ее хлопоты с этой свадьбой, сватовство, чига, то, другое… не до своих переживаний было. Потом Тарцали посватался к Пирошке; потом у Макры была она на свадьбе, у Пишты Бана… а теперь вот, весной, не знает, куда себя деть.
Дочь с зятем первое время не стеснялись перед ней: раздевались, одевались, тешились друг другом. Ведь не перед чужим же человеком: перед матерью. Да оказалось, что и у нее в жилах кровь течет, а не капустный рассол.
Пирошка, дочь ее, совсем от нее отдалилась. Будто и не дочь, а какая-то чужая молодая баба, которая нарочно к мужу ластится, обнимается, ласкается с ним — чтобы ей, вдове, досадить… чтоб показать: мол, и она бы могла так, окажись у нее в свое время голова на плечах… Чуть не лопается вдова от какой-то непонятной злости, когда ладонь зятя шлепает звучно по голой Пирошкиной коже. «Вот бессовестные!» — думает вдова с сердцем и ломает голову, как бы сказать об этом Пирошке подоходчивее. Да она уж не раз ей намекала, когда зятя не было дома. Только Пирошка такими глазами смотрела на мать, будто та не по-венгерски, а по-испански с ней разговаривала. Уж очень нравится Пирошке замужем; вечерами, в постели, готова она вся спрятаться, голышом, у мужа в ладонях… Как можно говорить, что это нехорошо, что так нельзя?..
По правде говоря, от дочерина замужества ждала вдова чего-то… словно и она, хоть немножко, хоть чуточку, тоже бы замуж вышла. А оказалось совсем по-иному. Будто еще больше стала вдовой, чем прежде.
Да к тому ж зять ее, Тарцали, думает, что теща хочет дочь в своей власти удержать; с этого и начались первые несогласия.
Первое время молодые чуть не до полудня валялись в постели, все не могли друг другом насытиться. Вдова приносила им кофе, хлеб поджаренный, укрывала их, смеялась; если уж ей не досталось в жизни счастья, думала она горько, пусть хоть они потешатся, бедняжки, и поскорее уходила из горницы, словно больно ей было смотреть на них…
Трещит акация в печке, ласковый гул огня наполняет горницу, плита дышит мирным теплом.
«Эх, до чего хорошо зятем быть», — думает Тарцали потягиваясь. Щиколотки у него трещат, будто орехи кто колет. Зевает он сладко, а рука его в это время гуляет по Пирошкиным плечам. Эх, хорошо быть женатым. Полклина земли, да хата, да ласковая жена… «Смотрите-ка, мамаша, — говорит, — Пирошка ни капельки не похудела», — и поворачивает жену боком. Огонь бросает красные блики на ее голую спину.
Смотрит на них Пашкуиха и вдруг бледнеет вся. Молоко выплескивается на плиту, вспухает белым пузырем. Горница наполняется прогорклым запахом, от которого першит в горле.
А Тарцали, собственно, и не теще показывает Пирошку, а тихому утру, зиме, кипящему молоку, печке, огню, всему миру. Словно он — первый из людей, узнавший, что такое быть женатым. Словно ни у кого еще не было жены, лишь у него одного. Словно исчисление времени в мире началось со дня их свадьбы. Так много дает ему жена, такое большое место занимает в его жизни, что он и другим готов уделить что-нибудь — если б можно было резать, как хлеб, эту радость. Уделил бы, и глазом не моргнув. Да никто не просит… Не знает Тарцали, что у каждого на шее собственный груз висит.
Странно Тарцали, что теща не отвечает; поворачивает он Пирошку, чтоб показать ее и с другой стороны. А та не противится, что бы с ней ни делал муж. Лишь голову прячет в подушку. Словно остальное вовсе и не ее.
— Правда, не похудела? — опять спрашивает Тарцали.
— Не похудела, — говорит наконец вдова, а слова будто скребут ей горло. Смутно у нее на душе. Непонятная тоска давит грудь: будто влезла она на чердак, а кто-то убрал лестницу от люка…
Как-то в субботу вечером жарко было в горнице; молодые мылись, приводили себя в порядок… Вдруг видят: вдова тоже несет таз, ставит его за дверью. Потом спускает с плеч рубашку и как ни в чем не бывало над тазом наклоняется. Тарцали с Пирошкой друг на друга в недоумении смотрят. Слышат, как плещет вода, стекая по телу; если не глядеть в ту сторону, можно подумать, что это кошка уплетает галушку.
— Мама, что это вы?.. Может, и юбку снимете заодно?.. — говорит возмущенно Пирошка.
Вдова уши пальцами протирает, обернувшись, говорит:
— А что? Нельзя мне помыться, что ли?
Груди ее — большие и плотные, как капустные кочаны. Годы только с сосков стерли свежесть.
Тарцали как раз скручивал цигарку; хочет прикурить от лампы и, не удержавшись, прыскает прямо в стекло. Лампа гаснет, и он тупо смотрит в темноту, где, словно белое облако, колышется тещина грудь…
А то вдруг вдова говорит, что, мол, больна она. Что к доктору ей надо. Тарцали недавно лед ходил колоть к господину Бернату, так что деньги есть. Отправляют ее к доктору. Накинув шубейку, уходит вдова.
— Знаете что, милая? — говорит доктор. — Выходите-ка вы замуж, и болезнь вашу как рукой снимет. С нервами у вас не в порядке. От этого давление высокое, оно и на мозги действует…
Может, и прав доктор, а может, просто шутник. Но как бы там ни было, когда вышла вдова из амбулатории, щеки у нее полыхали румянцем, в синеву отдавали. Раздувая ноздри, оглядела она улицу хмельным взглядом, отправилась домой.
А дома от нее и слова нельзя было добиться. Села к столу, на обычное место, раскрыла библию и принялась читать с жадностью.
Когда-то много читала она библию. Особенно после того, как муж ее помер. Тогда перед ней два пути было. Или снова замуж — уж и сватался к ней один человек, — или в секту вступить. Выбрала она второе. Решила посвятить себя Священному писанию и дочери-сиротке.
В то время вербовала в секту народ нестарая еще баба Сатлериха. А как набралось достаточно, приехал из Нешты проповедник и окрестил их в Кереше, как когда-то пророк окрестил иудеев в реке Иордан. Вдова Пашкуй тоже приготовилась было креститься в следующее воскресенье — да тут случилась беда. Сатлериху застали в осоке с пастухом. Кого уже окрестили, тот говорил, дескать, грешен человек, потому что дьявол его искушает, а те, кто только собирался, почти все разбежались. Так и не вступила в секту вдова Пашкуй. Многие, однако, раньше туда попали: Модиха, например, Андраш Такарош, Гергей Ваш и другие. Собрались они, пошли к проповеднику: мол, беда, преподобный отец, пустая стоит молельня. «Пускай отсеиваются плевелы, тогда останутся истинно верующие», — ответил им проповедник. А вместе с плевелами отсеялись чуть не все верующие.
Вдова Пашкуй, которая уже пристрастилась было к библии, тоже ее забросила. Да поздно было: Кудлатый Тот, что прежде к ней сватался, жениться успел между делом. Так что она и замуж не вышла, и богу себя не сумела посвятить. В библии дошла она как раз до пророка Ионы, когда случилась история с Сатлерихой. На Ионе и остановилась. Хотя после много размышляла над тем, как господь поступил с Ионой… размышляла и никак не могла суть уловить. Но странное дело: даже как-то приятно было ей носить в себе эту загадку неразгаданной.
И вот теперь будто к самому горлу подступила ей нераскрытая тайна, не дает вдове покоя, хоть умри. Ох, как велико божье могущество; человечий разум не может его постичь. Как бишь там написано в библии:
«И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи.
И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита.
И сказал: к Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой».
А ведь Иону уже и вода закрыла! И волны океана сомкнулись над ним! И морские травы опутали ему голову! Вот что читала вдова Пашкуй. Когда-то давно читала, а теперь перечитывает. Да все напрасно: не может понять, и все тут. Непостижимо это! Три дня — в животе у рыбы? И три ночи? Ничего себе!..
Может, у зятя спросить, у Тарцали? Он ведь себя ужасно умным считает… Только разве интересует его Священное писание? Его лишь собственная жена интересует. Лишь она ему и нужна… Да и как-то стыдно вдове обращаться к зятю с такими вопросами.
Читает про Иону снова и снова: вдруг просветит бог ее разум. Однако слова опутывают ей голову, будто водоросли, влекут куда-то в темную глубь. А она опять перечитывает, упрямо, как человек, который рыхлит свое поле, рыхлит и в сушь, в жару, надеясь, что после этого сразу пропадут, засохнут сорные травы. А дойдя, до конца борозды, видит, что там, где он только что прошел, уже поднимает голову ненавистный бурьян… Все-таки это невероятное чудо — три дня просидеть в чреве рыбы… Пророк Даниил со львами и огненная пещь — это еще куда ни шло. Безгранично могущество господне. Но рыба… эти ужасные жабры, рыбьи кости… Представляется ей почему-то лещ, каких цыгане ловят в Базарном озере. Только невероятно огромный, распухший. С дом величиной… Отправилась вдова к проповеднику. Уж он-то должен знать, что к чему.
После того прискорбного случая, когда верующие, чуть ли не все до единого, взяли и отсеялись из секты, проповедник стал добросовестнее к делу относиться и все делал для того, чтобы удержать паству. Смиренно, терпеливо выслушал он и вдову Пашкуй, которая битый час говорила ему об Ионе, о трех днях и трех ночах. Даже глазом не моргнул, когда она его спросила в лоб:
— Вы мне вот что скажите, святой отец: если господь ради пророка Ионы чудо сотворил, то почему не другое какое чудо? И если уж хотел он жизнь ему сохранить, тогда зачем сбросили его с корабля?
— Ну, для того… чтоб научился он слушаться господа и бояться его.
— Но почему же рыба-то его проглотила, преподобный отец?
— Да ведь… почему? Не мог же его слон проглотить, в океане-то. В океане только рыбы водятся. Рыба-кит, например. Которую акулой еще зовут. Рыбы эти ужасно большие… Вот, например, однажды мореплаватели потерпели кораблекрушение. Долго носились они по волнам, а потом наткнулись на маленький зеленый островок. Ну, думают, теперь-то мы спасены; тут же костер развели, обед начали варить, одежду сушить. И вдруг остров заходил ходуном, а потом и под воду ушел. Потому что не остров это был, а огромный кит. Видите, какие рыбы бывают в океане, — говорит проповедник. Говорит убежденно и за аргументами в карман не лезет. Человек он образованный, начитанный. Историю с мореплавателями он у Йокаи[20] вычитал, в каком-то романе.
— Понимаю, преподобный отец, понимаю. Одно в толк не возьму: почему именно кит Иону проглотил. Ведь кит такой противный, будто лягушка или змея. Б-р-р-р… — вздрагивает вдова. И представляет кита уже не в виде огромного леща, а в виде лягушки. Лягушек же она в последнее время на дух не переносит. До того, что чуть в обморок не падает, когда какой-нибудь лягушонок на ногу ей прыгнет в огороде.
Смотрит проповедник растерянно в чистые глаза вдовы, глубокие, как колодец на солончаках. Колодец, в котором где-то на самом дне отражается кусочек голубого неба. Как заглянуть в эти глаза, понять, что там? Никак не заглянешь. Человек он бедный, забот по горло, жалованье маленькое, землю его мужики обрабатывают исполу и воруют при этом безбожно. У проповедника, говорят, много. Да тут еще сына младшего исключили из гимназии… А эта упрямая баба привязалась как банный лист… Требует чтобы он растолковывал ей какие-то старые легенды… Когда у него голова и так кругом идет.
— В воскресенье я буду об этом говорить в своей проповеди, — утешает он вдову. Воскресенье еще далеко: может, забудет вдова к тому времени про Иону…
Однако не забыла вдова. Пришла в молельню, всем своим видом словно напоминая про обещание; во время проповеди сидела, напряженно вытянувшись, ожидающе смотрела на проповедника.
Проповедь получилась хорошей, длинной — но вдову все равно не удовлетворила. Говорилось там обо всем на свете. Кроме того, из-за чего она мучилась вот уж сколько времени. Почему все-таки рыба, а не доска или бревно?.. Неужто никто не может ей этого объяснить? Думала: если найдет ответ на этот мучительный вопрос, то сразу вернутся прежние спокойные дни и мирные ночи.
Да, есть ведь еще Марцихази, почтмейстер. Он все знает; он даже стихи умеет сочинять. Например, написал стих про свадьбу Ферко Жирного Тота. Как бишь там…
Веселится весь народ, Свадьба пышная идет. Лишь невеста вся в слезах, А Гоз крадется в воротах, С острым топором в руке, С хитрым планом в голове. «Уведу я милую, Если надо, силою». Невеста вышла на крыльцо Освежить от слез лицо. Во дворе фонарь горит, Снег сугробами лежит… Красный Гоз невесту — хвать! И скорее прочь бежать. И ушли они вдвоем, Бросив свадьбу с женихом…Там и дальше что-то было, да вдова не помнит. А то, что помнит, все повторяет про себя, пока идет до почты. Поставив на стойку локти, наклоняется к окошечку, заглядывает внутрь.
Сегодня понедельник, у почтмейстера это, можно сказать, день отдыха: работы по понедельникам мало. Вот и сейчас сидит он за столом и играет со своей вставной челюстью. Верхней. Оттянет ее вниз, потом на место подтолкнет. Заметив посетительницу, со стуком захлопывает рот, поднимается со стула. А вдова стоит в растерянности: не поймет, подмигнул ей почтмейстер или просто глаз у него дернулся.
— Хочу у вас спросить, господин почтмейстер…
— Ну-ну, спросите, — говорит почтмейстер и подходит к окошечку. Вдова смотрит с минуту на волосатую его руку, потом, глотнув слюну, говорит:
— Скажите мне, пожалуйста, господин почтмейстер… когда пророка Иону по дороге в Тарс с корабля сбросили, оказалась там большая рыба, кит, она его и проглотила. И сидел он в рыбе три дня и три ночи. А когда прошло эта время, рыба и выкинула его на берег. Скажите, как это надо понимать?
Марцихази так и сел от удивления; смотрит во все глаза на бабу. Тихо на почте. Но тишина эта словно бы ходит между ними, то к одному, то к другому.
— Ладно, так и быть, я вам объясню, в чем тут дело. Слушайте. Стало быть, на берегу океана, где Иона жил, корчма стояла. Называлась она «Рыба-кит». Ходили туда корабельщики тоску развеять. У Ионы в то время тоже горе случилось, жена снюхалась с каким-то таможенником. Короче говоря, пришел он в корчму и пил без просыпу три дня и три ночи. А когда дошло дело до расчета, оказалось, нет у него ни гроша. Хозяин, однако, шутить не любил: схватил он Иону за шиворот и выкинул на берег. Вот оно как было, ясно? Так и надо это понимать.
Тут Марцихази встает и идет к телефону: звякнуло там что-то. «Алло, алло», — говорит и то вытаскивает, то обратно вставляет в аппарат какой-то стерженек. Когда говорит «алло», верхняя челюсть у него подымается с опозданием, будто к нижней прилипает.
Выходит вдова на улицу сама не своя. Смотрит вокруг со страхом: господи, да неужто нет в деревне ни одного умного человека? Чего ожидать от других, если эти не могут объяснить? Надо ж такое: корчма «Рыба-кит»… И что три дня пил без просыпу!.. Нет, она не успокоится, пока это дело не раскроет; хоть ноги в кровь сотрет…
А для чего существует Шандор Пап, санитарный инспектор и похоронный агент, если не для того, чтобы такие вещи знать? Шандор Пап — тоже мужик умный. Если б не был он умным, то не выучил бы все стихи Петефи наизусть. Ишь ты: пророк — и чтобы пил три ночи! И чтобы из корчмы его выкинули на берег! Ну и ну…
Идет вдова к Шандору Папу.
Шандор Пап, как известно, за центнер пшеницы в год еще и часами на колокольне ведает. Проверяет их по радио, заводит, смазывает. Если сломается что, ремонтирует. Дома у него радио есть; да он никогда ничего не слушает, кроме сигналов времени. А что слушать? Песни Шандор Пап лучше умеет петь, чем по радио. Причем поет тогда, когда хочется. Однако часы на колокольне то и дело по радио подводит, потому что никак они согласно не хотят идти. То часы отстают, то радио.
Так что почти не бывает дня, чтобы Шандор Пап не взбирался на колокольню. Чаще всего — к вечеру, когда бабы ноги моют, или же утром, когда они встают, ходят по двору, у забора присаживаются, руками машут, отгоняя кур, поросят.
Жене своей Шандор Пап говорит: дескать, с часами прорва работы, — а на самом деле есть у него одна тайная страсть. На колокольне прячет он большой военный бинокль, который делает для него доступными все тайны дворов, садов, сеней, даже горниц. Выглянет, например, на южную сторону и видит, что делается в спальне у священника; да так хорошо, что даже портрет Кальвина на стене может рассмотреть. Видит, как жена священника, встав с постели, умывается, одевается, причесывается, как к зеркалу садится, рассматривает в зеркале плечи, подмышки. Она-то думает, что никто ее не видит… Да что думает: даже и не думает об этом, и так знает… Словом, положение очень даже пикантное. Но знает об этом только Шандор Пап… Впрочем, иногда кажется ему, будто женщина тоже знает, что он за ней подглядывает. Ведь то и дело поворачивает она лицо в его сторону, и лицо это оказывается так близко, что Шандор невольно отшатывается. А она словно нарочно для него старается. Приподымает груди на ладонях, и соски розовеют меж пальцами, словно розовые бутоны. Недавно вместе со служанкой мозоль у себя рассматривала, ковыряла; а как-то в одних крохотных трусиках гимнастику делала под музыку, что по радио передавали.
Это в одном лишь окне.
В доме секретаря правления Шандор Пап видит лишь кухню, и то если дверь в нее открыта. Ну и двор, где хозяева завтракают, обедают. Вообще-то секретарь — холостяк, а такие Шандора Папа не очень интересуют. Вот зато в учительском доме есть на что посмотреть.
Квартира учителя, который одновременно и директор школы, находится на противоположной стороне улицы, на втором этаже, над классными комнатами. «Да, вот эта баба в моем вкусе», — думает Шандор Пап и дрожащей рукой торопливо наводит бинокль на окно, четкость устанавливает. Чтобы как можно яснее все разглядеть. Потому что жена учителя в самом деле красивая женщина, жгучая брюнетка. Вообще-то она из румын: оттуда и белоснежная кожа, и лицо, слегка увядшее, но и увядшее словно бы специально для того, чтобы вся свежесть перешла в плечи, в руки. Да ведь Шандор Пап давно уж из того возраста вышел, когда человека волнуют женские лица. Для него радость — в формах, линиях. Ну, еще в рифмах, что набегают, как морской прибой. В песнях, никогда прежде не слышанных. В женских поцелуях, кружащих голову, навевающих мысль о бесконечности…
Видит он в бинокль и дом резника; но туда он не любит смотреть: как ни взглянешь, то сам резник, то одна из его дочерей идет через двор в уборную или из уборной… Словом, что ни окно, то что-нибудь другое. Господи боже, и чего только не видит он с колокольни! Словно прячется в каждой комнате, таится в каждом зеркале, и зеркало раскрывает перед ним все, что скрывает одежда… Ветер гуляет по улицам, по дворам; мужики, бабы ходят еле-еле, почти ползут, словно земля стала невероятно скользкой у них под ногами. Колышутся юбки, покачиваются округлые плечи… А когда насмотрится Шандор с южной стороны, переходит на западную; отсюда виден ему Кереш. Нынче здесь одна лишь картина заслуживает внимания: толстая Поцокиха стаю утят в речке гоняет. В руке — прутик, юбка узлом завязана спереди… Остальное — дело фантазии.
А фантазии у Шандора Папа хоть отбавляй. Фантазия и за бинокль его надоумила взяться… Однако Поцокиха из воды собралась вылезать; уцепилась за свисающую ветку тополя — та обламывается. Хватается за ветку ивы, и та ее не выдерживает. И баба медленно погружается в воду. Никогда бы не поверил Шандор Пал, что у нее зад такой тяжелый. Будто из глины или из золота… Неизвестно, сколько бы любовался он еще барахтающейся Поцокихой — да тут вдруг заскрипели ступеньки на лестнице. Кереш, вода, Поцокиха — все пропадает из бинокля, и сам бинокль ложится в тайник, между шестеренками часов. Шандор Пап, поплевав на ладони, начинает заводить пружину. В этот момент и появляется в люке голова вдовы Пашкуй.
«Здравствуйте», — хочет сказать вдова, еле дух переводя от долгого подъема. Хватается за железный поручень около часового механизма; лицо — красное, глаза блестят в полутьме. Раскрывает рот, а сказать ничего не может. Лишь смотрит на Шандора Папа. Сердце у нее бьется где-то и в ногах, и в руках, и каждый удар еще отдается дополнительно в животе.
Шандор Пап — мужик, в сущности, очень неглупый. В армии он взводным был; пришел из армии, служил писарем в правлении, потом был начальником пожарной команды, наконец, стал санитарным инспектором и похоронным агентом и вот еще башенными часами ведает. Все стихи Петефи знает наизусть… а все же каждый раз, как берет в руки бинокль, думает: ну ладно. Когда-нибудь, мол, придет и его час. Словно то, что он в бинокль видит, это лишь подготовка к тому самому его часу. Ведь мужик он честный, грех отрицать. Жену свою любит, уважает. Даже очень уважает. Настолько, что в каждой бабе любит и уважает ее, единственную… Конечно, об этом никто на свете не догадывается. Тем более жена. Да и хорошо, что она об этом не знает, А то бы тут же глаза ему выцарапала.
— Что, высока лестница? Ничего, привыкнете, — говорит он вдове и подходит к ней. Одной рукой машет у себя над плечом: дескать, заходите, гостьей будете… а другой обнимает ее за талию и притягивает к себе.
— Иона… кит… — пытается сказать вдова, да напрасно. Сердце ее отдается уже где-то в досках настила…
Что-то дрогнуло в механизме часов, дернулся молоток на стальной проволоке, словно кто-то сверху пошевелил колокола, — и часы начали бить. Сначала на малом колоколе — четверть часа, потом на большом — круглый час.
Ветер взвихрился вокруг колокольни; ласточки вдруг все вместе взмыли и умчались куда-то; дрозд внизу, на ореховом дереве Шойома, все дразнит старого Чера… Однако Шойома это уже и не радует вроде; даже про себя не посмеивается ехидно. Очень сердит он нынче. А все потому, что повадились к его собаке кобели соседские и весь лук помяли в огороде. Вот и сейчас рыжий пес чей-то околачивается на меже.
— Возьми его! Возьми! — кричит, он собаке Шайо; та и вправду помчалась было с угрожающим видом, налетела на пса — но хватать его и не думает. Только носом толкает в бок. Чтобы видимость соблюсти. А пес задирает верхнюю губу, будто улыбается, и нахально вертит хвостом. Ишь ты, даже собаки про свои обязанности забывают, когда находит на них. Шойом поднимает ком земли и с сердцем швыряет в собак.
— Ай-яй-яй… — раздается крик. Старая Чериха, кудахча, как наседка, выскакивает из-под куста бузины, растущего на меже, и скачет домой, зажав подол меж коленями.
Угодил ей Шойом прямо по спине…
Все это еще весной случилось, и с тех пор меж Шойомами и Черами — великая вражда. А вдова Пашкуй с тех пор то и дело около церкви вертится. Даже в будни в церковь является; видят люди, как она туда входит, да не видят, как выходит. Потому что из церкви идет вдова прямиком в ректорский сад. А почему бы и нет? Сестра ее замужняя живет тут внизу, за садом, у излучины Кереша.
Если кто очень уж заинтересуется, так она сестру навестить идет, успокаивает себя вдова…
Чем длиннее становятся дни, тем медленнее тянется в деревне время; даже и не тянется, а просто на месте стоит. Есть утро, обед, вечер — вот и все. Утром звонят в церкви, в полдень звонят и вечером — пусть никто не жалуется, что звонарь зря свой хлеб ест. А в остальном… Ну, поросята орут, куры стучат клювами, есть просят, теленок мычит, хозяин приходит голодный… Эти привычные события бредут неспешно по дню, как по медленной, мелкой воде.
В будни никто не расхаживает по деревне без дела. Если кто идет куда, так видно, куда и зачем. Один колесо катит в кузницу, другой — пучок колосьев зажал в кулаке: еще неделю постоят хлеба, и можно жать. Баба охапку травы несет; другая бежит к Кишторони, закрыв рот передником: зуб разболелся. Однако и той, и другой вроде бы стыдно немного: одной из-за травы, второй из-за зуба.
Только Пашкуиха ничего не стыдится. Ходит себе с поднятой головой, будто новые туфли надела. Вниз, на землю, и не взглянет. Чтоб не подумали люди, что есть у нее из-за чего глаза прятать. А чего ей стыдиться? Что такое произошло? Произошло лишь то, что и ей перепало кое-что от судьбы. «Ох-хо-хо, — думает, — без этого, видно, и белый свет человеку не мил…»
А белый свет вокруг чудо как хорош. До того свеж и чист, будто лишь накануне закончил творить его господь. Будто только-только, перед самым рассветом, выросли из земли хаты, деревья — словно грибы после дождя. Заглядывает вдова во дворы, в окна раскрытые, в палисадники. Вдыхает запах ноготков, герани, мальвы, резеды, колокольчиков; силен аромат и у белых лилий. Даже в голову ударяет. «Господи боже, до чего хорошо!..» — думает вдова и шагает вдоль улицы гордо, пружинисто. Давно, ой, давно не чувствовала она себя так легко. Пожалуй, с тех самых пор, как ходила к священнику на конфирмацию и причащалась впервые. Перед домом повитухи на цыпочки подымается, двор разглядывает.
— А вы зайдите, видней будет, — раздается вдруг голос повитухи. Она как раз выглядывает в окно, что во двор выходит.
— Ах… нет-нет, я так… смотрю, какой у вас двор красивый…
— Да? Ну-ну, может быть… Вы ведь тетя Пашкуй, верно?
— Верно, я Пашкуй…
— Я уж слыхала про вас, тетя Пашкуй. Да пока вот познакомиться не довелось. Куда ходили?
— О… все куда-нибудь ходишь, то туда, то сюда… В правление я шла да заодно и на почту решила заглянуть. А оттуда к сестре собиралась… Но вы подумайте, почтмейстер-то наш до чего лукавый мужчина. Что он мне говорил, вы бы слышали!..
— Да не может быть. Неужели что-нибудь эдакое?.. — поражается Шара Кери.
— Нет-нет. Эдакое — нет. А вот как-то весной говорит он мне: дескать, Иона и тот кит, знаете… — и выкладывает все, что ей Марцихази рассказал, да еще и от себя прибавляет. А сама какое-то странное удовольствие испытывает, говоря о людях все, что знает или слыхала. Говорит и говорит без остановки — и от своих слов хмелеет, словно от белого легкого вина…
Вдову Пашкуй до сих пор уважали в деревне — хоть в последнее время и шептали про нее разное. Господи, на то ведь она и вдова, чтобы шептать про нее… Однако что она теперь делает, это уж слишком.
Честных баб оговаривает, мужиков осуждает: и этот, и тот у нее такой да сякой, и к тому же ленив, как боров… А Поцокиха, жена судьи, будто бы нарочно уток в Кереш загоняет, чтобы за ними в воду лезть и оголяться перед всей деревней.
Короче говоря, всех очернить старается — чтобы собственная чернота не так заметна была. Чернота, в которую влезла она по шею, вступив в связь с Шандором Папом.
Потому что привязалась она к нему, ну прямо как собачонка…
7
Поля задела уже кое-где жатва: то тут, то там видишь на полосах копны пшеницы, ржи, озимого ячменя. Правда, пока начали жать лишь вокруг солончаков. А в основном хлеба еще стоят зеленые. Да и на пожелтевшие полосы мужики пока что смотрят, раздумывают — начинать или подождать немного. А тут еще погода изменилась, ветер который день дует с северо-востока. На заре даже зябко. Да и дождь принимается то и дело; жатва там, где в начале недели была, остановилась. Ну да все равно. Жатва — вот она. Нависла над деревней, как туча, и с места не хочет сдвинуться. Деревня вроде бы живет обычной своей жизнью, как вчера жила и позавчера, разве что совсем рано встают теперь мужики, часа в два утра. Как говорится, ни свет ни заря. Потому что не только пшеницу надо жать. Тут тебе и картошку по третьему разу надо окучивать, и люцерну косить пора, и капусту рыхлить, не говоря уж о скотине, которая на выгоревшем пастбище и травинки не может найти. И ясли надо чем-то наполнить, если не хочешь, чтобы пропали молоко у Бимбо. Или у Рози. У кого кто. А тут еще и свинья надрывается. Ее тоже ведь баснями не накормишь. Так что жатва — это, можно сказать, к прочему только довесок. Конечно, у самостоятельных хозяев. А бедняки — те все свои силы для жатвы приберегают. Вот уж у кого истинно день год кормит. Сейчас заработаешь — и зимой сыт будешь. А не запасешь на зиму хлеба, придется переходить на печеную тыкву, на картошку, на мамалыгу. Значит, меньше свинье достанется, птице. Их не накормишь — меньше будет мяса, яиц, будешь голову ломать, где достать хоть одно, в тесто разбить. И в лавку еще надо нести. Соль, уксус покупать. И все такое.
Словом, нельзя мужикам экономить ни на кладовой, ни на собственном животе. Один тут выход: хоть умри, а добудь и съешь то, без чего не выдюжишь, если до следующего года хочешь дотянуть. Так что зарабатывать надо хлеб, зарабатывать изо всех сил.
А это ох как нелегко.
Потому что у помещика земли самое большее три тысячи хольдов; из них добрые пятьсот — пастбища, покосы; потом всякая там кукуруза, люцерна, конопля, сахарная свекла; на пшеницу остается хольдов пятьсот — шестьсот. И в другую деревню, к другому помещику не пойдешь. Теперь не то, что в былые времена. Людей много, работы мало. Правда, у большинства бедняков тоже один-два хольда есть на выкупных землях. И это еще счастье!
Ну а те, кто зимой вышел замуж или женился… У этих ничего нет. Этим приходится пропитание голыми руками выцарапывать из земли.
Для них жатва не что-нибудь, а настоящая битва за заработок. Все остальное теряет смысл в эти дни. У хозяев — дело другое.
У хозяев множатся скирды на полях — а они, смотришь, уж стерню распахивают, навоз вывозят; на лучшие земли просо сеют, или сурепицу, или кукурузу-скороспелку. Делать это нужно быстро, тут и два дня много значат: упустишь время — потом хоть надорвись, все труды впустую пойдут. Так что мужикам теперь мешать нельзя. Это многие знают и не мешают им. А есть, кто на этом как раз выгадать хочет.
Приходят бумаги: от адвоката, с машинной фабрики, из больницы; не говоря уж о страховых агентах, велосипеды которых все воскресенье подпирают то одни, то другие ворота. В это время хорошо мужика пугать. Когда, он урожай, можно сказать, в руках держит и больше всего на свете потерять боится.
Ферко Жирный Тот тоже письмо получил от Гашпара Бора, адвоката Красного Гоза, чтобы в воскресенье, в девять часов утра, явился Ферко к нему в контору по касающемуся его вопросу. И все. Чего понадобилось от него адвокату Красного Гоза?.. Ведь у Ферко свой адвокат есть, чужого ему не надо. Правда, его адвокат далеко живет, в городе, а этот — здесь, в соседней деревне, рукой подать. Знать бы, который умнее: этот или тот…
Гашпар Бор — человек уже немолодой; известен он тем, что очень популярен у местных дам. Есть у него машина, и водить он умеет. Но шофер сидит на заднем сиденье лишь тогда, когда Бор в одиночку разъезжает по дорогам. Если ж оказывается в машине дама, это сразу дело меняет… Часто стоит машина на обочине, под дождем, где-нибудь между двумя деревнями. Дождь течет по стеклам, закрывая их будто занавесками, а шофер в это время шлепает по дороге в резиновых сапогах и плаще на добрый километр от машины. Ну да что там, каждый живет, как умеет. Или как может.
Есть у адвоката собака: знакомая дама прислала ему в подарок из Америки, До Лондона собака на пароходе ехала, потом до Пешта летела на самолете. Благодаря этой собаке знают окрестные мужики, что на самолете летать — дорогое удовольствие. Потому что от Лондона до Пешта обошелся собачий билет в восемьсот пенгё. Ну, если барыне той денег не жалко, так собаке их что жалеть… Даму ту Беллой зовут; она разведенная и собой очень красивая, смуглая, черноволосая; только если внимательно присмотреться, на верхней губе у нее увидишь усики, хоть ей тридцать едва минуло. Каждый год приплывает она в Европу и проводит дома, в деревне, месяца два, а потом уезжает обратно. Она может себе позволить такое: матёвские кружева[21] рекламирует за океаном за государственный счет… Когда приезжает она, машина Гашпара Бора особенно часто торчит по обочинам дорог.
Белла Стански — сестра местного доктора; была она замужем за одним журналистом, который купил себе венгерское имя и стал зваться Аладаром Халапом. А вскоре из журналиста стал он редактором модного еженедельника да еще одной театральной газеты; вот тогда-то и показалось ему мало жены. Или много. Это ему одному известно… Ну, это и неважно; Гашпару Бору, когда он думает о Белле, вспоминаются почему-то балы в аннин день. Почему балы и почему в аннин день, если он никогда на таких балах не был? Начинал он свою карьеру совсем не в той среде, где эти балы были приняты. В общем-то, из низов он вышел. Отец его был полицейским унтер-офицером, мать соответственно унтер-офицерской женой — да мало было этого, чтобы его на комитатские балы приглашали в аннин день. Теперь дорос он до этих балов. Только вот стареет уже; к тому же балы давно вышли из моды.
Адвокат он с хорошим чутьем. Если возьмется за какое-нибудь дело, вгрызается в него мертвой хваткой: что ухватит, не отпустит. И всегда старается, чтобы клиенту дело обошлось как можно дешевле, а потому при любой возможности пытается примирить противников еще до судебного разбирательства. Для того и послал он письмо Ферко Жирному Тоту. Не потому, конечно, что деньги его пожалел, а чтобы своему клиенту, Красному Гозу, расходы уменьшить. Вдруг удастся припугнуть Жирного Тота…
Долго думал Ферко: идти ему пешком или на телеге поехать. Лошади, правда, устали; вчера целый день навоз на них возили, а перед этим пахали еще. Да пешком — далеко все ж таки, километров шестнадцать или восемнадцать. Ну не беда, дойдет он и пешком. Разве что велосипед у кого попросить… велосипед — он и корма не просит. Прислонишь его к стене, он себе и стоит.
— Слышь-ка, Михай. Дай мне велосипед, в Нешту съездить, — говорит он Михаю Бану, старшему брату Пишты Бана. Михай — сапожник, у него велосипед есть, и живет он через три дома от Тотов.
Мишка Бан прикидывает, много ли Тоты ему на починку приносят, можно ли на них что заработать. Однако с Жирных Тотов дохода не будет: им никакой сапожник не нужен. Черт с рогами им нужен.
— Э-хе-хе… Ференц. Велосипед — машина дорогая, — говорит он, почесывая в затылке. — А у вас лошади, целых три, оседлай одну да и поезжай.
— Ты меня не учи, что мне с лошадьми делать, — ворчит Ферко, в сторону глядя. Потому что на то хватает у него смелости, чтобы грубость кому-нибудь сказать, но чтобы при этом еще и в глаза смотреть, на это у него смелости нет.
Однако Михай Бан — сапожник с лицензией и себя уважает, так что каждое невежливое слово принимает как оскорбление профессии. И потому отвечает Жирному Тоту по всем правилам. Насчет того, что он ему советует с лошадьми сделать, со всеми по очереди. Кулак, правда, в кармане держит, но выходит из ворот к Ферко, вплотную к нему становится.
Оглядывается Ферко: слышал ли кто эти слова, найдется ли в случае чего свидетель?.. Все равно к адвокату идти, так заодно проучил бы он этого Бана… Однако нет свидетелей. Так что и злость его тут же проходит. Втягивает он голову в плечи, идет прочь, как побитая собака. Ладно, пешком пойдет в Нешту.
Адвокатская контора по воскресеньям всегда полна народу. У каждого — свои несчастья. Одни деньги хотят у кого-то отсудить, другие сами в ответчики попали. И чего этот народ в мире не может жить друг с другом, один бог знает. Короче говоря, до Жирного Тота очередь доходит лишь к полудню.
— Ну, приятель, входите, входите, — открывает адвокат дверь перед ним; потом начинает шагать по кабинету взад-вперед: пусть Ферко Тот постоит немного, попереминается с ноги на ногу. (Это один из его адвокатских приемов.) Наконец говорит: — Так что там у вас с разводом?
— С разводом, извольте знать, так: пусть Красный Гоз все расходы возместит, и судебные, и на свадьбу — и все. Я тогда соглашусь.
— Эге, приятель, условия у вас неплохие. Да только теоретически. А на деле ничего не стоят. Не знаете вы, что ли, Красного Гоза: он же гол как сокол. Ни гроша нет за душой. Денег вы от него не получите, и не думайте.
— А стало быть… у кого ничего нет, пусть сидит смирно, не прыгает. Пусть отошлет жену, тогда ему бесплатно дело обойдется. Я всегда это говорил, господин адвокат. И теперь скажу то же самое.
— Не говорите глупости. Что вам с того, что он ее отошлет?
— Пусть ко мне вернется. Я ей все прощу. И вспоминать не буду.
Адвокат глядит задумавшись на упрямого мужика.
— Однако, я вижу, вы человек со странностями… Ну что ж, я тут помочь вам ничем не могу. Я ведь хотел только, чтоб без процесса обошлось, потому что это дорогое удовольствие. У моего клиента ничего нет, так что ему, разумеется, и платить не придется. Но у вас-то хозяйство большое, так не лучше ли осторожнее себя вести, чтобы его не подорвать?
— Хоть половину истрачу того, что имею, а не будет Марика Юхош женой Красного Гоза, вот и весь мой сказ.
— Не говорите чепуху, приятель. Что с того, что вы заупрямились? Суд все равно даст развод.
— Пусть дает. А я все равно не успокоюсь. Обжалую решение. И снова обжалую, хоть двадцать раз, если потребуется. А там пусть будет, что будет. Только я все равно так не оставлю… Я до Пешта дойду… Чтобы из меня посмешище делать? В расходы ввести, а потом до свиданья?.. Нет, я за это тоже отплачу.
Адвокату уже и самому интересно.
— Но как же так: то вы невесту требуете обратно, все ей готовы простить, то говорите, что это так не оставите. Скажите, любите вы ее вообще-то?
— Конечно, люблю. Потому и сказал, пусть возвращается.
— Но если человек кого-нибудь любит, он не будет его терзать, как вы — жену Красного Гоза.
— Если я говорю, пусть возвращается, что же, я ее терзаю этим?
— Да как же не терзаете? Подумайте сами. Мужа своего она любит — потому и сбежала… Скоро ребенок у них появится. А она не может с мужем обвенчаться, отца дать ребенку, честное имя…
— А я что могу поделать? Зачем она за меня замуж шла? Я ее не заставлял. Она что, только тогда узнала, что Красный Гоз лучше меня, когда свадьба к концу уже подходила?
— Видите ли, нам, мужчинам, никогда женщин не понять. Мы сильнее, нам полагается уступать. Отпустите и вы Марику Юхош, пусть идет своей дорогой.
— А я и отпускаю. Только пусть она не той дорогой идет, чтобы все, кому не лень, ноги об меня вытирали.
Н-да, у него, однако, есть аргументы, ничего не скажешь. Будто сам — адвокат. Гашпар Бор уже понимает, что легче солнце в обратную сторону повернуть, чем такого упрямца уговорить на полюбовное соглашение. Правда, угрозы большой пока нет; да и причин хватает, чтобы суд освободил Марику Юхош от этого мужичонки. Вот только беден Красный Гоз, дорого станет ему развод. И денег много потребует, и времени. Был бы он еще беднее, получил бы свидетельство о полной неплатежеспособности. А так на него четверть дома записано, да сколько-то земли, да скотина, наверное. И у жены — то же самое. К тому же ребенка они ждут… Словом, развод им нужен позарез. Если даже он с них лишнего не возьмет… только накладные расходы: гербовые марки там, пошлина, судебные издержки… то все равно выходит около двухсот пенгё. Цена хорошей коровы. Или хольда земли, или пятнадцати центнеров пшеницы… сто дней поденщины. Да, у Красного Гоза, бедняги, должно быть, голова кругом идет.
Клиентура у адвоката — все больше окрестные крестьяне. Мало кто из окружающих Гашпара Бора знал о том, что на дело свое он смотрел как на призвание. Как на свой человеческий долг: помогать там, где можно. Если не выходит с помощью закона, так хоть сочувственным словом ободрить, поддержать. Соблюдать интересы сторон — даже если стороны горло друг другу готовы перегрызть. Врачевать раны. Избавлять клиентов от бессмысленной волокиты, от долгих тяжб… Но чем больше старается он, тем чаще приходит к мысли, что венгерская правовая система — вещь очень странная. Это даже и не система, а непроходимая путаница аргументов и правил, застрявшая где-то на пути от средневековья к обществу частной инициативы… Гашпар Бор настолько предан своей профессии, что изо всех сил пытается применить правовые нормы к разным жизненным ситуациям; и все время убеждается, как это нелегко: очень уж оно негибкое, устаревшее, это венгерское право… Потому и происходит, что то один, то другой крестьянин становится жертвой этого болота, тонет в нем, опутанный ползучей сетью крючкотворства, как водорослями. И если выбирается, то лишь ценой невероятных страданий и лишений. Собирался Гашпар Бор даже книгу писать обо всем этом. В книге той он хотел доказать, что хотя культура Венгрии — органическая часть европейской культуры, однако правовая система здесь пока чисто балканская. Картина эта уже определилась в нем четкими решительными линиями, но до книги так дело и не дошло. Слишком много кругом несчастий, слишком много работы. А если остается время, то женщины вокруг так красивы, так ласковы…
Дело Красного Гоза и Марики Юхош он поначалу вел, как все другие подобные дела. И лишь тогда обратил на него особое внимание, когда Красный Гоз во второй раз побывал у него, чтоб посоветоваться насчет развода.
— Ну, вот что, молодой человек, — сказал ему адвокат. — Самое правильное, если мы все продумаем наперед. Расходов, судя по всему, вам не избежать. Приготовьтесь к этому. Продайте часть земли, или корову, или ссуду попросите. Без денег дело все равно не пойдет. А чтоб не было обидно, думайте про себя, что эти деньги вы истратили на свадьбу… А ни тогда, ни сейчас не платить — об этим нечего и думать. Ради красивой женщины надо чем-то и пожертвовать, верно ведь?
— Это все правда, господин адвокат, да только ваша правда — не моя правда. Тоты не для того свадьбу устраивали, чтобы Марику Юхош почтить, а чтобы всему миру показать: вот, мол, какие мы хорошие. А невеста им была — все равно что семерка в колоде. Назвали на свадьбу встречных и поперечных, пыжились, вино лили рекой, стол ломился от еды — а теперь мне за все это платить? Я еще в здравом уме, слава богу…
— Может, не такие уж это большие деньги… Как вы думаете, во сколько могла обойтись свадьба?
— Не знаю. Да и не хочу знать. Я себя не буду уважать, до самой смерти буду стыд терпеть, если Ференц Жирный Тот это дело выиграет. Все могу снести, только не это… Может, он лучше меня? Умнее, может, или больше пользы приносит деревне? Может, добр к людям или к себе хотя бы? Знал ведь, что Марика Юхош его не любит, так зачем добивался ее? Оставил бы нас в покое. Уж мы бы сами разобрались, что да как… Да вы поставьте их рядом: Марика и этот сморчок…
Здесь тоже своя логика, ничего не скажешь. К тому ж этот молодой крестьянин так свои аргументы выкладывает, что кого хочешь убедит… Однако буква закона говорит другое, и это куда важнее.
— Ну хорошо. Испробуем все, что можно, — тут-то и решил адвокат пощупать истца. На испуг его взять, если получится.
Да только мужики — народ не простой. Не так-то легко их напугать. Вот хотя бы этот, Ферко Тот… и всего-то в нем килограммов пятьдесят, со всеми потрохами, а тоже не пугливый. Смотришь на него и думаешь: такому пальцем погрози — заплачет и убежит. Как в кабинет входит — по углам озирается, будто собственной тени боится, а потом оказывается, что и не думает ничего бояться. Где там! Он еще и угрожает…
Целое воскресенье ломал адвокат голову над этим делом. До самого вечера. А вечером был он зван на именины Енё Раца. Правда, до евгеньева дня[22] вроде бы далеко… да это не важно. Экономы себе именины назначают, когда хотят.
А Енё Рац с самого обеда листал занимательную книжку «Хорошие манеры», сочиненную госпожой Маргит Покаине-Бока. В книге этой изысканным стилем описано, как вести себя в благородном обществе. Когда в гости идешь или когда сам гостей принимаешь. Скажем, как встречать гостей… и тут же приводится образец непринужденной беседы. Хоть добавлено, что тему разговора выбирают в зависимости от случая, примерный образец все же дается. Написано, как приглашать в комнаты, как отступать немного в сторону (и в какую сторону), сколько шагов делать навстречу гостю, чем в это время должна заниматься горничная (если таковая есть)… ну, и как гостю полагается входить, на что опереться, снимая калоши. Отдельно говорится о пальто, отдельно — о шляпе; особая глава отведена вопросу о том, когда носовой платок вытаскивать из кармана. Чтобы замять паузу в разговоре. Конечно, сморкаться полагается негромко, дабы не получался звук, как из надтреснутой трубы. Сморкаться надо потихоньку и как бы между прочим. Чтобы лишь шуршание слышалось, словно шорох ветерка во ржи.
Несколько строк уделено в книге литературе и искусству — на случай, если вдруг и об этом зайдет речь. Вся человеческая культура, от Моисеева пятикнижия до наших дней, изложена здесь в форме вопросов и ответов: известно, что так легче всего запоминаются разные сложные вещи. А еще в книге даются советы насчет кушаний и вин: какое вино полагается перед кофе, какое — после кофе…
Конечно, Енё Рац не потому просматривает книгу, что не может составить меню обычного именинного обеда. Нет, просто эта изысканная господская книга лишний раз напоминает ему, какую головокружительную карьеру он сделал, хоть и окончил всего шесть начальных классов. Да, так высоко подняться — это вам не фунт изюма.
Ведь с чего он начал, собственно говоря? В детстве гусей пас, потом батраком был, вторым садовником, конюхом; во время мировой войны в плен попал. Когда вернулся, стал ключником, потом экономом. Полным распорядителем всего хозяйства. Помещик его очень любит, даже управляющего не держит в имении, только агрономов берет, то одного, то другого. И то потому лишь, что если состарится Енё Рац, так чтобы под рукой был опытный, надежный человек на его место…
Пишет Енё Рац меню на бумажке — он всегда все на бумажку записывает, — отдает кухарке. А что вы думаете: у Енё Раца своя кухарка есть. И дом он свой ведет. Кстати говоря, кухарок он нанимает по объявлениям из Бюро найма. В объявлениях они, правда, значатся как няньки. Ребенка у него, конечно, нет, но в таких случаях это роли не играет.
Стоит кухарка, бумажку вертит с недоумевающим видом:
— А где ж это я вам возьму эстрагон-то? Для баранины с эстрагоном?
— У садовника попросите.
— Нету у него. Я точно знаю, что нету. Когда я в Эрдее служила у господина Гроса…
— Ладно, ладно, меня не интересует, где вы служили, лишь бы эстрагон был. Как я написал, так и должно быть.
Кухарка давно уже знает, что эконом ею недоволен. И совсем не потому, что она вроде бы чужую фотокарточку прислала, когда нанималась. О, она не обманщица, ведь она себя такой показывает, какая есть… Да вот приехал сюда этот молодой агроном… Словом, в этом, видно, причина. Взять сейчас и уйти? Бросить хорошее место? Ну нет, она тоже не дура. Раз нужна баранина с эстрагоном, значит, будет баранина с эстрагоном. Правда, укроп — это не эстрагон, да наплевать. Кто это заметит? Эти, что ли? И губы кривит презрительно.
Кухарка совсем еще молодая девка… или баба — трудно сказать. Одевается так, что не поймешь, из господ она или из простых. Когда она только-только сюда приехала и пошла в кооператив за припасами, сам священник первым с ней поздоровался, сказал «целую ручки». И она взяла и рассказала об этом агроному, и тот теперь, как встретит священника, так в глаза ему смеется.
Словом, ужин был готов к сроку и состоял из баранины с эстрагоном, жаркого по-тордайски, оладьев с овечьим сыром и фруктов. Точь-в-точь как советует госпожа Маргит Покаине-Бока.
В усадьбе даже прислуги нет: все с господами где-то ездят. Так что кухарка позвала прислуживать двух девок с хутора, дочку кучера да дочку ночного сторожа. И одела их соответственно. Обе девки — красивые, здоровые. Не впервые они здесь: их и в господский дом раньше звали. А девкам нравится: есть можно, сколько влезет, и к тому же всюду можно заглянуть — и в погреб, и в кухню, и в кладовую. Сама барыня давно уже их зовет к себе в горничные, золотые горы обещает. Да они не соглашаются. Помочь — с радостью, а в служанки? Чтоб помыкали тобой кому не лень? Нет уж, не дождетесь. Хватит того, что отцы их закабалились. Ну да и это скоро кончится: вот только хату достроят — и больше их здесь не увидишь…
В семь часов управляющий посылает бричку за гостями. Каждый раз он привозит их к себе на бричке, по два, по три человека.
Однако и до сих пор не может решить, правильно ли поступает. Когда-то давно впервые послал он бричку за ними — с тех пор мучается над этим вопросом. А госпожа Маргит Покаине-Бока об этом, как назло, ни слова не пишет… Когда он в первый раз давал званый ужин, ох, сколько это стоило ему переживаний. Помнится, метался по комнатам, терзаемый сомнениями, смотрел на часы, прислушивался, не гремят ли колеса. Что, если не приедут? Если ни ужин, ни желтая легкая бричка не заставят их забыть о его низком происхождении?.. Однако приехали все же гости. Значит, все ему простили… И с тех пор часто можно видеть, как бричка катит в деревню и обратно (всего-то минут шесть пути): вечером привозит гостей, а на рассвете или когда уж там получится развозит по домам.
Нынче Енё Рац, собственно, не о том беспокоится, приедут или не приедут гости; другой вопрос его мучает: а стоит ли игра свеч? Стоит ли принимать гостей, самому ходить в гости — в общем, вести светскую жизнь? Может ли жизнь дать ему еще что-нибудь из того, от чего он отрезан непреодолимой чертой — своими шестью классами первой ступени?.. Матильду? Или Марию? Или Ленке? Ведь он даже эту кухарку не сумел при себе удержать!
Ужин нынешний вообще-то не по случаю именин задуман, а для того, чтобы новую мебель показать. Этот двухкомнатный гарнитур из светлого ореха — настоящий шедевр фирмы «Каршон». Когда эконом его купил, думал: теперь все его мечты исполнены, смысл жизни найден… А через день-другой понял, что не дано ему владеть в полной мере ничем… не только женщинами. Даже вот мебелью. Лишь тогда будет чувствовать он себя хорошо среди этой мебели, когда вокруг будут толпиться завистники или хотя бы просто зеваки.
Однако мебель все-таки хороша, думает Рац, и не знает, зажигать ему восточные лампы или рано еще.
Теперь у него самое главное желание — чтобы крестьяне звали его господином управляющим, а заодно и все прочие люди.
Ну ничего, все будет в свое время. Всего можно достичь, если очень захочешь. Если у тебя сильная воля.
Читал он как-то книгу одну, про силу воли, да не принял ее тогда всерьез. А теперь понимает, что упустил нечто очень важное. Правда, сильная воля ему тоже влетела бы в копеечку… В книжке той написано было:
У Вас — слабая воля?
Хотите иметь железную волю?
Сегодня же напишите по адресу:
м-р Флоренс А. Каулес
29, Бикон-стрит, Нью-Йорк.
Кто больше, чем Енё Рац, хотел иметь железную волю? Конечно, в тот же день послал он письмо. И вскоре получил новую книжечку, немного побольше, в которой говорилось, что человеку с сильной волей все удается. Такой человек овладеет любой женщиной, которая ему понравится; любое предприятие, за какое он ни возьмется, принесет ему быстрый успех. Словом, будет он счастливейшим человеком на земле, пусть только пришлет двадцать пять долларов или соответствующую сумму в пенгё на нижепоименованный банк — и сразу посыплются на него красивейшие женщины и все прочее.
Что скрывать: очень хотелось ему получить счастье (сейчас Матильду, перед этим — других)… но ведь и двадцать пять долларов — сумма немалая. К чести его надо сказать, что не так он денег жалел, как не слишком-то верил этим обещаниям. «Шарлатанство», — сказал он тогда и оглянулся вокруг. И очень жалеет, что никто его не слышал…
А вот и гости едут.
Бричка останавливается перед верандой, шуршат юбки, мелькает нога в чулке до самой резинки и даже выше, так что видна полоска розовой кожи. Это платье Ленке зацепилось за крыло брички. И не удивительно. Платье это такое легкое — чистая паутина. И красуются на нем огромные яркие цветы. Потом слезает отец Ленке, Марцихази. И одна учительша.
Ленке — барышня очень красивая, только на левую ногу немного припадает. Хромая, словом. К тому же, наверное, не читала она книгу госпожи Маргит Покаине-Бока, потому что, едва эконом провел ее в парадную горницу, она тут же шляпу в кресло бросает, перчатки стягивает и подходит к картине на стене.
— Надо же… в четвертом месте вижу эту картину, — говорит.
Эконом испуганно забегает с другого боку.
— Не может быть. Это оригинал. И недешевый к тому же. Триста восемьдесят пенгё. Обратите внимание, Ленке, на эти жемчужно-серые тона, на это ощущение пустоты, почти космической… А в ней, видите, монохромная гармония неясных композиций… — ораторствует он, размахивая рукой перед картиной. Слушает Ленке, а сама вспоминает, где она эту картину еще видела. Одну — у секретаря в Харшани, другую — у исправника в Горькой Пусте… а еще где? Забыла уже… А эконом все говорит и говорит.
— Смотрите, Ленке. В картине суть — это… — объясняет он немного снисходительным, учительским голосом: Ленке же с возрастающей неприязнью глядит ему в рот. На золотой зуб, желтый, будто эконом дыню ел и рот потом не прополоскал. Даже языком не облизал. А на деснах у оснований зубов видны какие-то красные пятнышки. Золото — желтое, десны — бледно-розовые, пятнышки красные… противно смотреть. Есть цвета, которые никак друг с другом не сочетаются. Вот как здесь. Хочется ей сказать, чтобы он пошел, прополоскал рот… а он все говорит и говорит. Все, что придумал сегодня, вчера или даже раньше; а больше — что читал о живописи. Все выкладывает. Чтобы не пропадало, значит. — В эту чудесную гармонию врывается светлая радость, излучаемая из окошек буржуазного домика на сад, на яблони. Взгляните-ка, Ленке, с этой стороны.
— Да, я вижу, вижу, — говорит Ленке и делает шаг назад. Стоит, неловко переминаясь. Стиснув колени. Словно ей кое-куда захотелось.
— Если взглянуть на эту картину через призму диссонансных настроений, нам обязательно бросится в глаза… — все толкует эконом. И Ленке не выдерживает, в муках начинает кулаком тереть глаз. А Енё Рац вдруг ощущает в себе что-то странное. Будто обнаружился у него какой-то стыдный недостаток, то ли телесный, то ли в одежде… И никто-никто об этом не знал: ни сам он, ни другие. А вот Ленке вдруг заметила… В страхе дергает он плечами, потом руками, ногами, животом. Все вроде на месте — но в порядке ли?.. «У Вас слабая воля? Хотите иметь железную волю? Сегодня же напишите по адресу: м-р Флоренс А. Каулес, 29, Бикон-стрит, Нью-Йорк…» — всплывает в сознании объявление предприимчивого американца. У него, у Енё Раца, воля и так сильная. Точно… У него все в порядке; наверное, это у Ленке что-нибудь не так… может, выйти ей надо… и вдруг, о ужас, чувствует он острую, колющую боль в глазу. «Ячмень!» — вопит в нем какой-то нечеловеческий голос, и он в страхе трет глаз костяшкой указательного пальца.
Но еще страшнее то, что Ленке хватается уже за второй свой глаз, словно хочет сказать, дескать, не этот, другой. Эконом тоже тянется ко второму глазу… — но тут перед домом заскрежетал автомобиль. Гашпар Бор приехал, адвокат.
— Пардон!.. — вспоминает откуда-то эконом нужное слово — и сразу успокаивается, вроде как мельники на мельнице бросают бабам: мол, кончилось ваше зерно, красавица, забирайте мешок.
В густеющих сумерках поблескивают рюмки на столе; гости как-то незаметно стягиваются вокруг них. Беседуют по двое, по трое.
Не найдешь здесь и двух человек одинаковой профессии. Почтмейстер, учитель, секретарь правления, аптекарь, кантор, священник, адвокат, управляющий (из соседнего имения), агроном… ну и барышни, конечно, которые ничем не занимаются, пока замуж не выйдут.
Невероятно далеки они друг от друга и по роду занятий, и по уму, и по происхождению, и по месту жительства, и по возрасту… А все же есть что-то, что сближает их, сводит вместе от случая к случаю. Что-то, чему и названия нет. Словно бы просто сбиваются они в кучу, как овцы в бурю. Однако нет здесь никакой бури, есть лишь тихое, скучное, но обеспеченное буржуазное существование, которое как тень будет сопровождать их до самого гроба. Не могут, да и не хотят они жить по-другому.
Костюмы на большинстве мужчин — произведение местного портного, Йошки Шютё. По цвету, по качеству они вроде бы разные совсем, а в то же время настолько одинаковы, что спокойно можно было бы ими обменяться. А ведь у бараконьского кантора отец — сапожник в Сольноке, у эконома — простой мужик, у аптекаря — железнодорожный обходчик (правда, сам аптекарь говорит: железнодорожный служащий), у молодой учительницы — виноградарь при капитуле, а предки секретаря были королевскими слугами. У него и имя об этом говорит: Арпад Бель-Мадьяри. Одного из его предков, по отцовской линии, Ракоци казнил за то, что тот лабанцем был, другого — император Леопольд — за то, что тот был куруцем[23]. Каких-то сто лет назад владели они третьей частью земель всего комитата.
За Марцихази, почтмейстером, в детстве еще лакеи ходили в белых перчатках; у отца его пять тысяч хольдов земли было и пожизненный парламентский мандат от оппозиционной партии. Мандат этот и сгубил однажды и отца, и его землю. У самого Марцихази — всего сорок хольдов, да и те заложены или в аренду отданы…
В дверях появляется кучерова дочка в белом переднике, машет эконому, чтобы вышел.
— Подите-ка сюда.
— Чего тебе? — тихо рявкает на нее эконом.
— Барышня не желает идти…
— Не хочет — не надо… — именины, можно сказать, наполовину уже испорчены. — Дамы… господа… прошу… к столу, — вытягивает он руку, приглашая гостей в другую комнату. После каждого слова крепко стискивает зубы. («Хотите иметь железную волю? Сегодня же напишите…» и т. д.)
Общество зашевелилось; только кантор из Бараконя хватается за стакан и одним махом опрокидывает его. Смотрит кантор на стакан, потом, словно приняв важное решение, машет рукой и идет вслед за остальными.
Кантор Карой Ваш — мужчина лет сорока, с увядшим, морщинистым лицом и желтыми волосами. А глаза у него — чистые и добрые. При всем том он законченный алкоголик. И не только законченный, но и убежденный… И кто бы мог подумать, что в молодости его даже не тянуло к вину. Однако где он ни появлялся, везде встречал его дружный хор голосов:
— Кантор пришел! Кантор! Стакан скорее! Стакан сюда!
Из молодечества ли или потому, что знаменитого предка своего, кантора из Цинкоты, не хотел подвести, но Карой Ваш и вправду стал делать вид, будто он до вина большой охотник. Выпивал стакан и еще просил. Так и привык. Теперь уже и рад бы не пить, да не может. Вино, пиво, палинка — ему все равно. Лишь бы хмельное было. Сколько б ни выпил, держится на ногах твердо — разве что говорить ему хочется все больше, да не очень получается. После двух рюмок, например, изрекает кантор:
— Всякие там белые мыши, делириум тременс[24] — все это чепуха на постном масле, — и отрешенно смотрит в одну точку. Чудится ему, будто огромные летучие мыши с влажными крыльями порхают вокруг, задевая за невидимый потолок. Шуршат крылья, неторопливо и страшно, заполняя все пространство вокруг, и сердце на каждый их взмах отзывается болезненными толчками, разбухает, растет. И вот уже один его край подпирает кадык, а другой, нижний, содрогается где-то возле колен, заставляя ноги неметь в вязкой судороге. И кажется: не выдержит кантор больше, если не вскочит и не побежит куда глаза глядят, — но тут все мучительные ощущения пропадают куда-то… А в груди после них остается странная пустота… будто пестрый выводок цыплят разбегается от внезапно открывшейся двери, а на пороге стоит женщина в темном и сердито машет метлой…
Когда-то давным-давно, в школе, сочинял он на уроках стихи; времена эти особенно любит вспоминать кантор, когда порой в церкви во время службы размышляет о прошлом…
А ужин меж тем идет своим чередом.
Горничные ходят за спинами гостей, смотрят, кому чего надо, и еще переглянуться успевают, поглазеть на голую спину Марии, молодой учительницы. (Та в вечернем платье явилась: надо ж его надеть когда-нибудь, если уж сшила.)
Судя по всему, ужин удался: все заняты едой, даже разговаривать некогда. А может, просто молчат, по привычке. Только адвокат вдруг нарушает застольную тишину.
— Господа, кто из вас знает Йошку Красного Гоза? — спрашивает.
Ножи, вилки словно оживились, зазвякали громче.
— Как, и тебя не миновала эта эпидемия? — говорит аптекарь. Который, кстати говоря, в любую погоду, если не считать самой жары, носит под пиджаком зеленый пуловер с кофейными пуговицами, из книг принципиально читает только детективы, а разговаривая с клиентами, то и дело спрашивает: «Понятно-с?»
— Какая эпидемия?
— Ну, эта… все на Красном Гозе помешались. С самой зимы лишь о нем и говорят.
— Интересно.
— Даже до нас дошли слухи… — вставляет бараконьский кантор, придвигая к себе вино, содовую, стакан. Еще что-то собирается он сказать, да аптекарь его перебивает:
— Постой, я первый начал, — и оборачивается к адвокату. — Вот ты мне объясни, пожалуйста, почему интересно? Что интересного в том, что он сделал или делает? Живет себе, как трава, как дерево, как любой другой мужик… Ну может, чуточку активнее. Но что его жизнь рядом о мировыми проблемами? Не более чем пылинка, которую несет ураган…
— Ну-ну, не бросайся словами… Если в твоих глазах жизнь Красного Гоза и таких, как он, — пылинка, то не думай, что это и в самом деле так.
Вполне возможно, что аптекарь оскорбился, по крайней мере голос его становится густым, даже каким-то желтым, как гудение контрабаса, отдающееся дребезжанием в оконном стекле летним вечером.
— Я ведь тоже не с неба свалился, сам понимаю, што почем… — намеренно подчеркивает он «што».
— Красному Гозу этому сидеть бы тихо да радоваться, что все ему гладко сошло, — вступает в разговор пожилая учительша, активистка местного общества содействия народному образованию, которая к тому же была когда-то замужем. Правда, всего года полтора; а потом муж, почтовый чиновник в отставке, взял и повесился на печной трубе. Не на дереве, как все нормальные самоубийцы, а, подумать только, на трубе! Этого она ему по сей день не может простить…
Теперь каждый старается что-нибудь вспомнить про Красного Гоза. Сначала к адвокату все обращаются; но потом забывают о нем и разговаривают кто с кем. Не вредно было бы повнимательнее прислушаться к этим мнениям. Правда, дело это очень нелегкое, потому что говорят все разом, а за столом как-никак четырнадцать человек. Так что, скажем, если одну тему обсуждают десять минут, то в целом получается уже сто сорок. Почти два с половиной часа! За это время можно успеть небольшую книжку прочитать. Особенно если читать ее будет вслух бараконьский кантор: он до того быстро умеет нараспев говорить — вот как сейчас, например, — что все слова сливаются в монотонную частую дробь! Словно ветер трясет шелковицу и с нее градом сыплются в пыль спелые ягоды… Однако сейчас, кажется, дело не десятью минутами пахнет. Горничные успели какое-то блюдо уронить на пол, тут же все подмели, даже пол подтерли; потом кофе подали господам… А те все не могут закончить с Красным Гозом. Правда, от Красного Гоза разговор незаметно перешел к разным высоким проблемам: к внутренней политике, к внешней политике… Однако Красный Гоз каким-то образом все же стоит в самом центре этого необозримого словесного моря. Словно в руке у него — фонарь, которым он все вокруг освещает.
Из всего общества, пожалуй, и двух человек не найдется, кто бы на улице остановился и заговорил с Красным Гозом. Где там: даже смотреть не станут в его сторону, хоть чувствуют, знают, что с крестьянством они связаны крепко-накрепко. Так естественно вливаются мужики в их жизни как кофе в кофейную чашечку, как вино в граненый стакан…
— Что касается меня, то я вам так скажу: поспешили мы с восьмилетней школой, — раздается в наступившей вдруг тишине — все уже выдохлись, видно, — голос учителя.
— Ерунда. Газеты нельзя отменить. И радио нельзя, — говорит аптекарь, рассматривая у себя на пальце массивный перстень с камнем.
— Представь себе, дорогой, вчера вечером я этой девке говорю… — девка, о которой идет речь, — служанка в доме учителя, и теперь ее хозяйка говорит о ней так, будто та, в коротенькой своей линялой юбчонке, служила у них тогда, когда хозяйку в колыбели еще качали.
— Это что! А вот моя служанка, как ни открою дверь в кухню, все время в носу ковыряет. Все время! — говорит жена священника и смотрит вокруг. Ждет, что все будут ей сочувствовать и возмущаться. Плечи у нее приподняты, и, когда она говорит, голос идет у нее будто не изо рта, а откуда-то из самого нутра.
Но как ни стараются дамы сменить тему разговора, крестьянский вопрос по-прежнему не дает гостям покоя.
— Поверьте, что сословная Венгрия с закрепленными за помещиком крепостными пользовалась в мире бо́льшим авторитетом, чем нынешняя Венгрия с ее так называемыми равноправными сословиями, в которых идет постоянный процесс расслоения, — слышится уверенный, не допускающий возражений голос помощника секретаря правления, молодого человека, который лишь в прошлом году получил аттестат зрелости и выпускное сочинение по литературе писал как раз по «Трем поколениям» Дюлы Секфю[25]. Все, что осталось от этого сочинения у него в голове, он и выкладывает при каждом удобном случае. И вообще у него в детстве был рахит; а в прошлом году на улице, на ровном месте, сломал он себе ногу. Причем средь бела дня.
— Дело не в этом. Дело в том, что… правительство намеренно подрывает авторитет умственного труда, потому что слишком высоко ценит крестьянский труд, — возражает аптекарь.
Помощник секретаря не любит, когда ему не дают высказаться до конца.
— Они хотят направить историческое развитие по ложному пути, — заявляет он вдруг.
Но аптекаря тоже не так-то просто сбить с панталыку:
— Они переворачивают культурный прогресс с ног на голову…
— Точно. Ерунда какая-то происходит…
Опять говорят все сразу. Сначала не обращаясь ни к кому. Потом снова повертываются друг к другу.
Марцихази до сих пор и двух слов не сказал, занят был едой. Аппетит у него превосходный. Говорят, красивые дочери рождаются у тех, у кого хороший аппетит. Вполне возможно… Но вот он задумчиво отодвигает тарелку, берет стакан, отпивает из него — все это замедленно, почти торжественно. Ленке поглядывает беспокойно на отца: как бы он не вскочил и не перевернул стол. (Однажды такое случилось с ним в гостях у помещика, когда тот заявил, что только реставрация монархии может принести венграм спасение.) И вот голос его врезается в общий шум, словно нож в каравай хлеба:
— Что ж… давайте посмотрим на эту социальную иерархию и что там еще, — и тихо посмеивается.
Все смолкают. С Марцихази спорить? Нет уж, увольте. Дураков мало. Только помощник секретаря все не может забыть школу и «Три поколения».
— А я все-таки повторю то, что говорил раньше…
— Ну и зря. Это попугай одно и то же повторяет, у него мозгов нету. Послушай лучше, что я скажу. — И Марцихази набивает трубку, потому что всегда после ужина трубку курит. — Боюсь я, что, если скажу все, что думаю, вы меня отсюда взашей погоните… Ну да ладно, — смотрит Марцихази, прищурив глаза, на дым, поднимающийся из трубки, и видятся ему женские волосы, собранные в нетугой, мягкий узел.
— Говорите, говорите, — хлопают в ладоши женщины.
— Значит, умственный труд? И физический труд? А знаешь ли ты такую вещь: во всех наших с вами занятиях, что мы там ни делаем — марки ли продаем, телеграммы ли рассылаем, или телефон включаем, за солнечными часами следим, и что там еще… ты, скажем, распределяешь налог на деревню по количеству земли, по домам, по душам, начальник твой канцелярию ведет, священник в церкви служит, врач больных обследует, аптекарь отраву свою мешает или лекарство — словом, кто чем занят… так вот, знаешь ли ты, что в работе любого из нас духовное начало и по качеству и по количеству нисколько не выше, чем в труде обычного мужика?
— Полно!
— Да-да! Подумай-ка сам. Крестьянская жизнь — это сплошные перемены, тысяча вариантов, тысяча оттенков. Мало того, что мужику надо хорошо изучить землю, семена, животных, даже так называемые погодные условия, — он еще должен сопоставлять эти вещи, смотреть на них все с новых и новых сторон, с новых точек зрения. Скажем, рыхлить поле — простое как будто дело, а требует напряженной умственной работы. Конечно, тут затрачиваются физические усилия, работают руки, ноги, мышцы живота, спины. А в то же время надо по-разному рыхлить кукурузу, картошку, сахарную свеклу, опять же фасоль, капусту — сколько всего!.. Но ведь прежде, чем лопата погрузится в землю, мозг каждый раз должен обдумать движение. Если земля сухая, то необходимо одно усилие, после дождя — другое. И еще нужно учитывать, какова почва, велики ли растения, крепки ли, близко ли к ним сорняк растет. Так что лучше нам помалкивать с нашей умственной деятельностью. Потому что более лишенную фантазии, более однообразную работу, чем наша, трудно придумать. Какой-нибудь сапожник — и тот больше работает головой, чем мы. А уж о хлеборобах и говорить нечего.
— Но такое говорить, однако…
— Какое — такое? Ну вот ты, скажем, умеешь числа складывать без ошибок. Придет время, когда это не люди будут делать, а машины. Автоматы. Есть ведь и сейчас банки, заводы, где человек лишь кнопки нажимает, а машина выдает абсолютно точные сведения.
— Ну хорошо, пойдем тогда до конца. Значит, мы, средние слои, работники умственного труда, совершенно лишние в обществе?
— Те, кто занимается умственной деятельностью и на этом основании считает себя существами высшего порядка по сравнению с людьми физического труда, — те действительно лишние…
— Но позволь, позволь… это ведь, я бы сказал… большевизмом попахивает. А кто же тогда создал культуру, кто создал все прекрасное в жизни? Мосты, книги, картины, скульптуры, краски, линии — словом, искусство, науку — кто все это сотворил? Труд или дух?
— Ну-ну, осторожнее с выражениями, приятель, рога обломаешь, — если уж почтмейстер мужицкие выражения начал в ход пускать, значит, плохо дело. — Начнем с того, что духовный и физический труд в их творческом потенциале неотделимы друг от друга. Насчет этого ты можешь с кем хочешь спорить, только не со мной. А чтобы это не были пустые слова, заглянем-ка немного назад, в прошлое. Джордж Вашингтон с землей дело имел, от земли и пошел освобождать Америку. То же самое ты можешь найти в истории любого народа… И вообще, не о том совсем речь, что, дескать, человек умственного труда в собственном смысле слова должен быть тождествен рабочему, в данном случае мужику, — речь идет о тождестве скорее духовном, даже душевном, о тождестве в культурном уровне, в потребностях. А если говорить о духовной продукции, которую ты производишь на свет, а также о живописи, скульптуре и прочем, то цена всему этому в точности определяется тем, в какой мере искусство признано большинством, то есть народом. Что им не признано, тому грош цена. Ну а железные дороги, мосты — это уже плод счастливого союза труда и духа. Словом, того, что вы называете цивилизацией. И я скажу вам: духовный мир какого-нибудь мужика куда глубже и богаче, чем то, что может быть выражено в представляемых вами или пусть реально созданных картинах и скульптурах. Духовный мир мужика способен очеловечить, заселить самую неприветливую степь, самую дикую пустыню. Чтобы найти смысл и радость жить в них и для них. Он вносит в них красоту… И возле его хаты появляется вишневый сад, а жена его или дочь превращаются в фей, в ангелов. Да что об этом долго говорить! Разве не многозначительно то, что врачи, инженеры, техники в самых запутанных социальных вопросах встают, как правило, на сторону трудящихся. Без всяких лишних умствований. И без всякой выгоды для себя. А это такой факт, который будет иметь серьезные последствия в будущем. Это опять же значит, что труд и дух не только неотделимы друг от друга, но органически переходят одно в другое… А теперь говори, — он берет стакан, смотрит сквозь него на лампу, отпивает немного.
Помощник секретаря чувствует, что не разобраться ему во всем этом, голова у него на удивление пуста. Может, он что-то совсем другое собирался сказать, а говорит следующее:
— Если бы все было так, то за тысячу лет, с тех пор как мы пришли сюда через Вересковое ущелье, низшие классы могли бы собственными силами подняться до культуры. Но ведь не поднялись. Так и остались необразованными, бескультурными, темными…
— Безнадежный ты человек, приятель. Я-то думал, ты поумнее что скажешь. Потому что это даже и не общая фраза, а нечто куда более заурядное.
Помощник секретаря еще пытается спасти положение, сердито кричит:
— Значит, теперь картины будут писать художник и мужик — вдвоем?
— Отнюдь. Художник будет писать себе или вот тебе, а мужик — тоже себе. На полотне, как вы себе представляете, или — на небосводе, на облаках, на вечерних сумерках. Однако твои картины рано или поздно исчезнут вместе с тобой из общественной жизни, даже вообще из мира. Потому что мир точно так же перерабатывает и удаляет из себя все, что не связано тесно, сутью своей с живой жизнью… как, скажем, воздух съедает железо. Остается лишь то, что было, что вечно. Остается труд, порожденный вечным человеческим духом… — И Марцихази поворачивается спиной к помощнику секретаря. Зажав пальцами, отвинчивает мундштук трубки.
Тихо в комнате.
Лампа под потолком начинает коптить; эконом встает, подвертывает фитиль. Желтый свет льется на стол. Стеклянная и фарфоровая посуда становится матовее, а дамы еще красивее (хотя красивы и так, грех отрицать). Хозяин снова встает и, посмотрев, нет ли теперь копоти, вывертывает фитиль побольше. Помощник секретаря, тупо глядя перед собой, еще пытается ухватиться за «Три поколения», найти там доводы, логические причины, моральные устои, которыми он этого самоуверенного почтмейстера разделал бы под орех. «Суть мадьярства… роль евреев… инородный Будапешт на великой венгерской ниве… Ади… ястребиная свадьба над степью[26]… или над лесом?.. Бог его знает». Слова, цитаты стучат по голове, словно он стоит где-то под обрывом и сверху на него сыплются камушки. Эх, зачем он так много читал? Или — так мало?.. А, наплевать. Что ему до этого? Дело свое он делает добросовестно, никто про него плохого не скажет: ни уездный начальник, ни межминистерский комитет.
— Ваше здоровье, — поднимает бараконьский кантор стакан, глядя на Марию, молоденькую учительшу, и голову склоняет. Но тут же теряется, потому что рядом с Марией сияет Ленке, дочь почтмейстера. Свежая, юная. Словно даже здесь, в комнате, овевает ее тихий полевой ветерок. Словно она только что шла по тропинке, по сторонам которой рос жасмин и какие-то кусты с большими душистыми белыми цветами. Шла, шла она меж этих кустов и теперь вот присела отдохнуть.
По мере того как тают годы, бараконьский кантор все более жадно ищет смысл нескладной своей жизни. Должно же быть где-то что-то такое, ради чего стоило жить, стоило тихо брести к своей старости. А главное, стоило пить без конца. Может, ради такой вот девушки… ради Ленке… Н-да… Однако ведь ему за сорок, а ей всего восемнадцать или даже семнадцать… И красива она, как сама юность… Юность, которая для него минула навсегда. Кашлянув, чтобы прочистить горло от какого-то свербящего комка, выпивает он свой стакан до дна.
Погрустнели гости, упало у них настроение — будто сам воздух в комнате сгустился, стал тяжелым. Эконом с удовольствием открыл бы окна, да еще не поставлены на них проволочные сетки: открой, и все мухи, комары, мотыльки, сколько их есть в усадьбе, слетятся на свет. Так что лишь потеет эконом, старается освободить шею от воротничка. Водит пальцами, будто муравья там ловит.
Рядом с Ленке, по левую руку, агроном сидит. «Вы танцуете?» — спрашивает он ее тихо, будто по секрету. На самом деле он всегда так говорит. И странное дело: все его слышат, и кто рядом, и кто дальше.
— Конечно, было б с кем и подо что… — смеется Ленке. Не только агроному, а всем за столом кажется, что смех ее золотыми мерцающими искрами сыплется на стол.
— Есть и с кем, и подо что. Пойдемте, — агроном встает, берет ее под руку и ведет в соседнюю комнату.
Агроном совсем еще молодой человек; на таких ужинах он охотнее всего помалкивает и ест да курит еще. Иногда много пьет, но такое редко бывает. Недавно закончил он сельскохозяйственное училище, а бесконечных споров и пустого умничанья терпеть не может. Как он сам говорит, плешь ему проели эти разговоры. Работники его очень любят: хоть из господ он, а мужик стоящий — говорят про него и, хотя всегда он с ними спокоен, тих, с готовностью выполняют все его приказы. Любят его и арендаторы, и возчики; а девки-батрачки все до одной в него влюблены. Ну, не так, конечно, не всерьез, а как человек влюблен в солнце или в звезды на небе. Любит он подобрать и спрятать в карман необычное перо какой-нибудь пестрой птицы, любит запомнить сказку, услышанную где-то песню…
В соседней комнате, за настежь распахнутыми створками дверей шуршит игла граммофона, звучат первые такты танго. От стола, где сидят гости, виден папоротник в вазе; агроном и Ленке проплывают мимо папоротника. Игла скользит по пластинке, мелодия забирается все выше, выше — и возникает песня, томная, будто на последнем дыхании.
— Мы отклонились от темы, господа, — говорит адвокат. — Где живет этот Красный Гоз? Ты не мог бы послать за ним? Потолковать с ним я хочу.
И выжидающе смотрит на эконома.
— Сию минуту. Думаю, что… — Эконом оборачивается назад. Без всякой радости выполняет он просьбу. Утром крепко поругался он с землекопами. Правда, сам виноват: прижать хотел их немного. Очень уж дорого обошлась эта чертова насыпь. Замеряли, понятно, по земляным бабам, оставленным от кургана… Эх, надо было договариваться лучше, чтоб по насыпи… Ну, да теперь уж ничего не поделаешь, в другой раз будет умнее. — Поди сюда, Мари, — говорит он одной из горничных. — Сбегай-ка позови ко мне кого-нибудь из батраков.
Да недалеко пришлось ей идти: нынче вечером все, у кого особых дел нет, околачиваются здесь, под окнами. Так что уже через минуту в дверях появляется Вашко, старый батрак, в полотняной рубахе, в узких выгоревших штанах, подвязанных на щиколотках веревочками.
— Сходишь за Йошкой Красным Гозом. Он у нас в землекопах был. Знаешь его?
— Как не знать? Моя баба его матери двоюродная сестра. Стало быть, Красному Гозу она…
— Ну, ну, ладно. Иди скорей. Пока спать они не легли.
Вашко еще стоит с минуту: вдруг и ему что-нибудь перепадет из этого изобилия. Стакан вина или пирог, сигара, сигарета. Кажется ему, что к именинам эконома он тоже имеет отношение: он ведь и почту для него таскает, и в лавку ходит, свежую воду приносит; вся видимая жизнь эконома в его руках. Да видать, только в будни. А в праздники все по-другому. Поворачивается он, собираясь выйти. Но в дверях останавливается и пятится назад: навстречу ему идет Матильда.
Волосы у Матильды теперь не желтые, а совсем рыжие, словно пламя горящего сухого камыша. На ней простое, но элегантное платье. По цвету скорее голубое, чем белое. Такой цвет бывает у водяной лилии, прячущейся в тени под высоким обрывистым берегом.
— Добрый вечер, — говорит она и, почти дойдя до стола, сворачивает в сторону. Садится в углу, к курительному столику, не глядя, тянется к коробке с сигаретами, глаза смотрят куда-то сквозь гостей, сквозь стены. Берет в рот сигарету.
Гашпар Бор вскакивает проворно и, щелкнув каблуками перед Матильдой, галантно подносит ей зажженную спичку.
8
Трудное это было воскресенье для землекопов. Трудное, но благодарное. Сначала никак не хотел эконом заплатить сполна, очень уж большой казалась ему сумма. Раз шесть перемерял кубометры. А рабочие только раз смерили, вчера еще, и не отступались от своего.
— И как я мог так обсчитаться! — злится эконом. Ходит от одной бабы к другой. Смотрит, меряет. С ним ходят двое из артели.
Остальные кучкой стоят поодаль, курят.
Прикладывает рулетку к боку земляной бабы — ловчит, чтобы и до самого низа не достать, и сверху не с самого начала отсчитывать. Да только те двое, что с ним ходят, наклоняются и молча смотрят на рулетку, на цифры на ней. Так и едят глазами. Ни слова не говорят, но и это раздражает нынче эконома.
— Есть у вас совесть, мужики, столько требовать? — пытается убедить он их по-хорошему.
— Мы насчет этого не знаем, — отвечает бригадир.
— Мы только насчет того, чтобы получить, что положено.
Это уже Красный Гоз говорит.
— Да ведь это же бессердечно!
— На земляных работах сердце ни к чему. Здесь тачка нужна. Да руки. Да хозяин, чтоб платил.
Эконом и без этого зол был, а услышав такие слова, еще больше разозлился. Этот оборванец учить его вздумал! И орет во всю глотку:
— Плевать я хотел на твои рассуждения, понял?
Он уже на «ты» Красного Гоза зовет. Он всегда так с мужиками: раз на «вы», раз на «ты».
— Скажите уж сразу — на мою философию… — отвечает Красный Гоз еще тише, чем прежде. Это слово он от самого эконома слышал, который, когда в хорошем настроении, целые лекции читает мужикам о том о сем. Вроде бы для того, чтобы их уму-разуму учить. А на самом деле — чтобы все видели его образованность.
— Что-о-о? — даже не орет, а ревет эконом.
— Философию. Или как ее? Филегорию… Один хрен, — говорит Красный Гоз и пальцы потирает. Словно только что нашел какую-то драгоценность или редкостная мысль ему в голову пришла.
Темнеет в глазах эконома. Злоба заливает мозг мутной волной, шумит водоворотом и низвергается оттуда в мышцы рук, почти не владея собой, эконом сплеча размахивается раскрытой ладонью…
Но тут что-то темное, твердое мелькает перед ним, и рука, не закончив свой путь, падает бессильно. Эконом стоит в недоумении, привалившись к земляной бабе, как немощный инвалид к каменной стене. Не может уразуметь, что произошло. А в руке расплывается, пульсируя, резкая боль.
— Так-то вот, господин эконом. Зачем беретесь за то, что вам не по силам? Драться вздумали… Не по-благородному это. Нам, мужикам, еще куда ни шло… и то не всегда. А потом… если подняли руку, так уж бить надо… а то и начинать не стоит… — неторопливо говорит Красный Гоз, скручивая цигарку. Словно ему неинтересно уже, что дальше будет. А сам следит за экономом углом глаза, на всякий случай… Если дело до закона дойдет, все свидетели покажут, что он спокойно цигарку крутил. О чем только не приходится думать человеку!.. Одной ногой упирается в землю, готовый к прыжку, если эконому вдруг опять захочется драться или если за револьвер он схватится…
У эконома, однако, и в мыслях такого нет. Правда, револьвер у него всегда при себе. Но почему-то выходит так, что, когда попадает он в переплет, револьвер кажется ему ненадежным, жалким оружием. Видно, необходимо человеку что-то еще, кроме револьвера. Собственно говоря, есть ведь еще полиция, закон… Только где они? Смутно мелькает у него мысль, что человек прежде всего сам для себя должен быть и полицией, и законом. Это для каждого должно быть естественно, как, скажем, аппетит или здоровье, — и тогда все будет в порядке…
Ну, об этом у него еще будет возможность поразмыслить. А теперь не дает ему думать жгучий стыд.
Стыдно ему перед мужиками, а больше перед Матильдой, которая в бричке осталась сидеть; отсюда видно, как ветер треплет ее необыкновенные волосы…
И какая-то необычайная доброта разливается в нем теплой волной, щекочет горло, подступает к глазам. Ведь он, в сущности, хороший человек. Он только блюдет интересы хозяина, честно служит за свое жалованье — но и рабочим добра желает. Если пожурит их иногда, так это для их же пользы. Вот и сейчас, когда показалось ему, что слишком много они заработали, опять же за них он болеет. Потому что легкие деньги лишь портят человека. Известно: чем больше получаешь, тем больше хочется… И ведь не для того же помещик дает мужикам сдельную работу, чтобы они разбогатели в два счета, а для того, чтобы не подгонять их, не стоять над ними с палкой… А вообще, что такое одна пощечина? Пустяк. Он и бить-то всерьез не собирался: так, для острастки. Как отец наказывает расшалившееся дитя…
С невероятной быстротой проносятся в нем все эти мысли… или даже, пожалуй, не мысли, а какие-то смутные оттенки настроений. За это время Красный Гоз успел лишь цигарку закурить.
— Эх, Йошка, Йошка, не ожидал я этого от тебя, — говорит эконом и идет к бричке.
Мужики поворачиваются и молча идут за ним следом.
Бричка катится по дороге, таща за собой плотный хвост пыли. Землекопы сначала терпеливо шагают в пыли, потом сходят с дороги на обочины. Так и добираются до усадьбы: бричка — впереди, за нею — пыль, а по обе стороны — мужики, как телохранители.
Дома эконом взялся было за телефон, чтобы в полицию звонить. Да передумывает. Что он им скажет? Разве они поймут?.. Начнут выяснять, что да как… То ли дело раньше, когда он простым батраком был в имении, потом конюхом, потом вторым садовником… Тогдашний управляющий просто вызывал полицию, и все… Эх, не те нынче времена. «Если так будет дальше, уйду на пенсию…» — решает эконом и вешает трубку.
Потом выплачивает деньги землекопам.
Дело уже движется к полудню.
И ветер не всегда дует в одну сторону; и на море прилив сменяется отливом. Удивительно ли, что человек воспринимает мир не всегда одинаково: то совсем он ему покажется мрачным, то ничего, вполне терпимым… Выходит эконом на крыльцо, копается в карманах штанов, говорит землекопам:
— Смотрите, мужики, с умом тратьте деньги!
Будто ничего и не случилось.
Деньги, как полагается, берет старшой, Шандор Силаши-Киш. Мужики идут за ним чуть поодаль: пусть никто не думает, что они за свои деньги опасаются. Но Сито все же мигает Красному Гозу, так, на всякий случай. Тот, ни слова не говоря, ускоряет шаг и догоняет Силаши. Молча идет с ним рядом.
Веселее стало у всех на душе. Неплохо заработали, что скрывать. В прошлом году вот так же, артелью, выполняли они подряд для Общества регулирования вод; там и кубометр дороже стоил на четыре филлера, а все равно меньше получили. Выходит, в этот раз особенно постарались Хоть и не хотели сначала брать новичков в бригаду, да, видно, не подкачали новички.
Конечно, не все складывается, как мечталось. Сито, например, так и не купит себе молодых волов; Силади не будет домовладельцем в Вараде; Тарцали пока нечего и думать от тещи отселиться… хоть и заработали вроде хорошо. Кое-что есть в кармане — а в то же время будто и нет. Странная, однако, штука жизнь.
Даже Красный Гоз большего ждал от этой работы; не денег больше — на это грех жаловаться, — а чего-то другого. Словно надеялся: кончат они насыпь, и развод Марики сразу станет реальнее. А теперь с неожиданной ясностью понимает, что ничего, собственно, не изменилось. Ну, получил он семьдесят пять пенгё — но что для них это? Капля в море… Снова надо думать, где достать денег. Снова искать заработок… Обманывать, воровать, если представится случай.
Легко им всем говорить, священнику, эконому, учителю: мол, честно ешь свой хлеб. А что ему делать, если не может он законно обвенчаться с Марикой, не может ребенка своего окрестить, дать ему имя. Чтобы потом не показывали люди на него пальцем.
И главное, не может доказать Марике, как он ее любит; не может дать ей того, на что имеет право любая жена: законного ребенка и честное имя.
Надвинув шляпу на лоб, сжимает Красный Гоз деньги в кулаке и идет домой. Что бы там ни было, а Марика так жить не может…
Марика и вправду не может больше.
Еще бы. Вроде мужняя жена, а в то же время не поймешь кто. Обвенчана с одним, живет с другим; как будто двое мужей у нее. Один — законный, другой — незаконный. От незаконного мужа ждет она ребенка, а имя он должен получить от мужа законного…
Правда, Марика обо всем этом старается не думать, хоть совсем не думать — не выходит… Почему-то кажется ей, что если все время ломать над этим голову, то лишь мешать она будет Йошке.
Уж так верит в него Марика — больше, чем в самое себя. Правда, дни все идут и идут, живот у нее растет, а все остается по-старому. Одна надежда: бог милостив, все устроится в свое время.
Утром ходила она в огород молодой картошки накопать к обеду и разговорилась там с соседкой. Идут они, каждая по своей борозде, остановятся и беседуют.
— О, знаешь… Года два назад тоже хорошая стояла погода. Ну, думали, урожай некуда будет складывать… а остались с пустыми руками. Картошка вся засохла, огурцы прогоркли, дыни выросли с мой кулак, не больше, да и те кривые, кособокие, люцерну жучок какой-то съел, турнепс как морковка был, а морковь так и совсем не родилась. Капусту гусеницы изгрызли… — все говорит соседка. Жалуется на прошлое время. Но жалобы эти обращены скорее к настоящему как упрек, как просьба: мол, хватит бы напастей. Пора бы уж немного отдохнуть от них.
Слушает Марика эти жалобы, слушает — а сама смотрит вокруг, на пышную сочную зелень плодовых деревьев, кустов, овощных грядок. Да, нынешнее лето на редкость выдалось щедрым. Кукуруза качает свежими, мясистыми листьями, помахивает метелками, словно приветствуя жужжащих вокруг пчел. Стебли картофеля — толстые, крепкие, ярко-зеленые, и цвет с них уже осыпается. Люцерна стоит плотными рядками, обрызганная росой. Алеют маки, дынные плети убегают на соседние гряды… О, если уж нынче не будет урожая, то когда еще и быть ему! Да не перечить же старшим…
— Да… Погода — ее ведь наперед не угадаешь, — поддакивает она соседке.
— Вот-вот. И я говорю… — далеко разносятся соседкины слова в тишине воскресного утра.
Так, с остановками, добираются они до забора, разделяющего двор и огород; одной в одну сторону надо идти, другой — в другую; да только соседка не выговорилась еще. Стоит под черешней и тараторит без остановки. Потом вдруг замолкает; как это она забыла: ведь на дереве, черешен видимо-невидимо, надо бы сказать Марике, пусть нарвет себе; да у Марики тоже полон передник. Больше в соседском огороде ничего такого особенного нет, кроме этой черешни. Но зато черешня — всем черешням черешня. Ягоды на ней — упругие, крепкие и держатся долго. Висят чуть не до осени. Ветер ли подует или под собственным весом забеспокоятся ветви — начинает дерево позванивать стеклянным звоном; люди прислушиваются к этому звуку, вспоминают про огород Сокальи да про их черешню.
Видит черешню и Марика. И вдруг мучительно, невыносимо захотелось ей черешни. Хоть две-три штучки. Хоть одну… Взяла бы ее за ножку, раскусила б, зажмурив глаза, пополам, и красный сок выступил бы на губах…
Так хочется ей ягод… желание это жжет ее изнутри, от желудка до самых плеч, судорогой охватывает тело и даже как будто снаружи припекает. Словно какой-то невидимый пожар… Лицо у нее сереет, ноги дрожат.
— Заговорилась я с тобой… а время-то идет… — спохватывается вдруг соседка, бросает еще взгляд на черешню и уходит в калитку.
Марика с отчаянием смотрит ей вслед: хоть одну бы ягоду дала, одну-единственную. Обида закипает в горле. Сколько стояла болтала и хоть бы ягодку дала, бессовестная… И сразу словно тускнеет сад, зелень уже не кажется такой красивой и пышной. Придет засуха, все сожжет, будут люди с голода умирать…
Подходит Марика к колодцу, высыпает картошку из передника в корзинку, говорит:
— Матушка… так хочется мне черешни. Где бы купить, а?
— Черешни? О… и она тебе не дала, хоть полгорсточки? Ну не горюй, дочка, вот вымою картошку, сбегаю к зятю. Может, осталось еще у него. У старшего. Неси-ка мне миску поскорей. Синюю эмалированную, что на полке, рядом с маленьким ситом…
Судорога отпускает немного. Ладно, будет у нее черешня, а эта жадная баба пусть ею подавится…
А жадная баба, то есть Сокальиха, придя из сада, говорит мужу:
— Иди-ка нарви немного черешни. Марике надо отнести. В такое время хочется ей полакомиться.
А старик как раз складки наводит на пастушьи шаровары (он еще в шароварах ходит); конец шнурка между ступнями зажат, сами шаровары лежат на коленях. Проведет ногтем большого пальца ровную линию, складку сделает, снова ногтем проведет. Дело быстро подвигается. Складки ведет далеко вниз… Так что эта черешня ему совсем некстати.
— А ты чего черешню направо-налево раздаешь? Много ли там осталось? Сами бы небось съели…
— Эй… старый ты дурень. Сам-то ты не к ним ли на шелковицу все лазишь? Не стыдно тебе? Чужое жрешь, а свое жалеешь? Видно, разум отнял у тебя бог на старости лет, вот что я тебе скажу…
Что остается старику? Швыряет шаровары на скамейку, берет корзинку — и в сад.
А Гозиха уже чистый передник повязала к зятю идти; тут Сокальиха кричит из-за забора:
— Подите-ка на минутку, соседка!
«Чего ей опять надо?» — думает та, но все ж подходит.
— Держите, соседушка, черешню. Вот. Я еще в саду хотела Марику угостить, да руки были заняты. Пусть покушает. В такое время, наверное, хочется ей чего-нибудь вкусненького… — и протягивает полную тарелку черешни.
Гозиха уже жалеет, что плохо про нее думала; теперь не знает, как и благодарить.
— О… вот славно-то… Дай вам бог здоровья за вашу доброту, за ласку… — очень уж рада она, что не надо к зятю идти: вот он уж поистине жадный, чисто собака на сене. Ну а до чужого, конечно, охотник большой…
Марика уж не столько черешне рада, сколько соседкиной доброте. Подарку. С тех пор как она замужем, словно бы весь мир лишь вокруг нее одной вертится… все обрадовать ее, угодить ей хотят.
А как зазвонили к службе, пришла к ним Тарцалиха, мать Йошки Тарцали, кореша Красного Гоза.
— Зайду, думаю, кума, погляжу на вашу невестку. Молоко-то у вас есть?
— Есть, кума. Корова недавно отелилась.
— Ну, я ведь так спросила… А то б я прислала немножко — молочка там, творожку. Слыхать, Марика-то на сносях, как и наша Пирошка. Ей молоко полезно. Требует, значит, ребенок-то…
Уж так в деревне заведено: если молодая баба ждет ребенка, то все стараются ее чем-нибудь угостить. Бабы ведь знают, что в такое время то одного, то другого хочется. Стыдливые — те про себя свои желания держат, а посмелее — прямо говорят. Да что говорят — берут, что захочется. Бабе на сносях все позволяется.
Особенно сильными становятся желания по воскресеньям; по воскресеньям и угощения обильнее… В церкви звонят второй раз; Юхошиха, мать Марики, как раз обед ставит на плиту. Жареный цыпленок нынче на обед; к нему немного лапши она добавляет, а мясо выдерживает в горячем жиру. И еще молодую картошку готовит на обед, с петрушкой. Готовит и думает: Марика, бедняжка, так любила цыпленка с молодой картошкой… Бог знает, какой у них обед нынче… Надо ей послать что-нибудь. Пупок. И голову. Пусть полакомится; она эти кусочки уж так любила… Дитятко мое ненаглядное… Никто, поди, и спросить-то не догадается, хочется ли ей чего… Обязательно пошлет она ей сегодня гостинец; вот только когда лучше: сейчас или ближе к вечеру?..
И сейчас пошлет, и к вечеру — решает она в конце концов. И даже удивляется, как это ей раньше в голову не пришло? Кричит:
— Мишка! Ты где, Мишка?
Мишке, младшему брату Марики, весной стукнуло тринадцать. Так что теперь ему почти четырнадцать, как он сам говорит. На занятия допризывников он нынче не пошел: на стекло напоролся намедни, теперь хромает, на пятке ходит.
— Возьми-ка, снеси Марике яблок, — говорит мать и дает ему корзинку.
Хороши на вид эти ранние яблоки, а на вкус — вода водой. Только что в зеленовато-желтой оболочке. Ну ладно: не сами яблоки ведь важны; тут вид их важнее. Потому и тащит Мишка корзинку по улице гордо, будто бог знает что там у него. Не вешает ее на локоть, потому что так бабы носят. Мужику или парню такое не к лицу. Это только бабы да девки — словом, слабосильный народ — все на локоть берут: бидон, корзину, флягу, а мужчины тащат в руке. Будто так просто взяли, подхватили, на другое место переставить. Если далеко нести: скажем, воду от артезианского колодца, — так возьмут веревку, на плечи повесят. А на локоть брать — это уж нет…
Так идет Мишка по улице и рассуждает, что́ полагается мужчине, что́ не полагается; конечно, не вслух рассуждает, а про себя. Все это ему очень важно, потому что Мишке вот-вот четырнадцать лет исполнится, значит, скоро станет он настоящим парнем. А все, что было, — это для него не что иное, как детство. Изо всех сил старается Мишка похоронить свое детство, чтоб и следа от него не осталось. Только дело это ох какое нелегкое: не хочет уходить детство, то здесь прорвется, то там. Мишка — парень умный и понимает, что быстро это не делается. Однако все равно ему стыдно, когда вспоминает, например, как однажды, в четвертом классе, вызвал его учитель: «Михай Юхош! Расскажи-ка десять заповедей!»
Мишка, конечно, рассказывает. Такие вещи он назубок знает, даже и сейчас. Первая заповедь: «Не сотвори себе кумира» (Мишка не знает, что такое кумиры, и думает, что это ряженые, которые пляшут и кривляются на свадьбе). Или нет. Это вторая. А первая: «Я есть господь бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». (Это он всегда говорит со страхом, потому что среди заповедей есть и такая: «Не повторяй всуе имя божье», — а тут еще другие боги. Ух!) Третья заповедь — это как раз она и есть, насчет того, что нельзя всуе имя божье повторять; четвертая — «Помни день субботний»… Еще бы он субботу забыл! По субботам ведь в именье платят, когда на поденщине работаешь. Причем платят поздно вечером. А иногда даже в воскресенье, к обеду. Пятая заповедь: «Чти отца твоего и матерь твою». А что, он чтит, если уж на то пошло. Попробуй не чтить: такую затрещину получишь» что искры из глаз посыплются. Шестая заповедь — «Не убий». Ну, это ясно. Мишка никого не убивал и не собирается. Еще чего не хватало. Седьмая заповедь…
И тут ему жарко становится.
От стыда голову наклонил и ноги стал волочить по земле.
Корзинку перехватывает другой рукой; все равно стыдно, чуть не до дрожи. Ну как он мог таким болваном быть, таким ослом («И-а, большой осел, ты зачем в школу пошел?»), чтобы эту заповедь забыть? Он, правда, все наизусть выучил, с закрытыми глазами мог рассказать — а вот поди ж ты, как раз когда спросили и инспектор тут же сидел, Мишка подумал, что заповедь неправильно написана. Как бишь там было? «Не предавайся блуду!»
Непонятная заповедь… Что это такое может быть?
— Ну, так как же, Михай Юхош? Не знаешь? — спрашивает инспектор.
А Михай Юхош в эту минуту словно бы чувствует ответственность за все заповеди и за все ошибки в них. Легла на него огромная задача — исправить ошибки праотцев.
— Седьмая заповедь: «Не предавайся блюду!» — говорит он. И словно душу вкладывает в эти слова…
Ну и хохот же стоял в классе! До сих пор в ушах отдается. Вот и это воспоминание хорошо бы забыть, схоронить вместе с детством. Теперь-то уж он знает, какая тут разница… а все-таки, как слышит эту заповедь, каждый раз приходит ему в голову свадьба у Жирных Тотов и как гости брали руками курятину из общего блюда. И еще как зимой подавала мать вареные колбаски на блюде, и он, Мишка, изо всех сил старался не показать, что ему все блюдо съесть хочется…
Однако вот уже и дом Красного Гоза. Еще в калитке Мишка протягивает вперед корзинку с яблоками — чтобы сразу было видно, зачем он пришел.
Зять его (Мишка зовет его Йожи: просто Йошкой звать неловко как-то) сидит на крыльце, без рубашки, в одних трусах. Ноги в тазу с водой держит. Курит, ладонью шлепает по спине, мух отгоняет.
— А, родственник… Здорово, с чем пришел? — спрашивает Мишку.
— Матушка вот яблок прислала…
— Хорошо сделала. А ну, давай их сюда, попробую, что за яблоки.
Мишка протягивает корзинку; Красный Гоз берет, не глядя, одно яблоко, протирает его пальцами, потом еще трет о свою голую грудь и с хрустом раскусывает.
Так вот и идет воскресенье у Красных Гозов.
Снова звонят в церкви в два колокола, потом обрывается звон. Кто собирался на службу, тот и так уже пошел, а кто не собирался, тому звони не звони…
От Красных Гозов никто в церковь не идет.
Матери некогда, да и вообще она не очень-то туда ходит: когда уж ей… А сын ее и так всю неделю тачку толкал… Хоть в воскресенье отдохнуть чуть-чуть, побездельничать, помыться, почиститься, поесть вдоволь, покурить; Марике так и совсем не стоит. В прошлое воскресенье вот с одной бабой в церкви обморок случился. Словом, куда уж Марике в церковь. Боится она туда идти.
Не идут в церковь ни Тарцали, ни Сито, ни Силаши-Киш — никто из землекопов. И не только нынче: они и зимой не ходили — одним словом, совсем не ходят. С церковью у них так же плохо дела обстоят, как, скажем, с кружком чтения. Все время зовут их туда зажиточные мужики, заманивают: мол, и платить много не надо, гроши какие-то — а все равно не ходят. И в церковь не ходят. Хоть здесь вовсе платить не надо. Все равно: церковь — это для крепких хозяев. Да для тех, у кого времени много.
А вообще-то большой разницы в хозяйстве между ними нет. Даже у самых богатых мужиков в деревне — хольдов семьдесят, восемьдесят всего земли; таких всего трое или четверо. Остальные — с десятью, двадцатью хольдами. С пятью. Даже с четырьмя… А все-таки те, у кого и этого нет, не ходят ни в кружок, ни в церковь.
Правда, если не могут они добиться решения по каким-нибудь своим делам ни в правлении, ни у адвоката, то идут в священнику. Скажем, если прошение надо написать или еще что. Священника бедняки уважают, даже любят по-своему; да ведь уважать — одно, а в церковь ходить — другое. Ну конечно, нельзя сказать, что совсем они там не бывают: бывают, отчего же. Например, в предновогодний вечер — церковь тогда полным-полна, яблоку негде упасть. Даже в притворе народ стоит… Или когда кто-нибудь из родственников помрет. Или женится… Есть такие, кто в церкви лишь на собственной свадьбе был. Это в первый раз. А во второй раз будет, когда принесут его туда со свечами. Во второй и, стало быть, в последний.
Понятно, что и налог церковный не очень-то охотно они платят, хоть платить и приходится. Потому что налог этот собирают, как все прочие налоги. С того, конечно, кто способен заплатить. Да только и тут есть люди, которые свои недоимки в могилу уносят.
Однако ж воскресенье бедняки соблюдают лучше, чем богатые. Те, может, сами и отдыхают, да зато дети и работники у них трудятся. И не только возле скотины: смотришь, то сено идут грести, копнить, то уже возят сено или озимый ячмень. И летом так бывает, а уж осенью обязательно. Правда, много лет как объявляют по деревне, что, мол, в воскресенье можно работать: министр разрешил. Да ведь это такое дело… все равно бы работали мужики, хоть бы министр и не разрешал.
Чудны́е все-таки эти министры…
А поденщикам, землекопам хватает работы и на неделе. Для того и воскресенье, чтобы душу отвести. Побездельничать. Шелковичных ягод поесть. По соседям походить. Посидеть в саду или у калитки.
А еще воскресенье — для того, чтобы в корчме побывать.
Это, конечно, для тех, у кого душа требует.
Для старого Сито, например. У которого семеро детей. И который мечтал двух волов купить, а еще готов был пристяжным до Варада скакать за барышней из усадьбы.
Начинает он с фрёча, потом идет второй фрёч, третий. Когда, ближе к вечеру, очень уж размахается он руками, тут прибегает в корчму меньшой его сынишка: мол, идите домой, батя. Сито на него даже внимания не обращает. Потом бежит кто-нибудь побольше, потом еще побольше, еще… а когда стемнеет, приходит за ним старший сын, женатый. Этот ничего не говорит, только покашливает. Будто в горле у него першит.
Тут понимает Сито: конец веселью. Хочешь не хочешь, а домой надо идти. Потому что сын этот шутить не любит. Если надо, и за шиворот отца возьмет.
Так что воскресенье в деревне, в летнюю пору, проходит по-разному…
— Эх… и в воскресенье покоя нет… — ворчит Лайош Ямбор, четвертый выборный, который нынче с девяти часов утра слоняется вокруг своей телеги, вдали от дома, в Комади. Однако ворчит потихоньку, чтобы никто не услыхал. Обойдет телегу, колеса посмотрит, ободья, сено поправит в передке. Лошади головы повесили — тоже тоскуют, наверное. Стоят они в упряжи на улице, перед ресторацией. Часа уже полтора, наверное, стоят.
То, как Лайош Ямбор, четвертый выборный, оказался с телегой и лошадьми в Комади — история особая. (Ух, нелегко же рассказать обо всех историях, что случаются в воскресенье.) Во вторник зашел он в правление, и тут его, как выборного, послали деревню обойти насчет прививки скоту. Словом, выходит он на крыльцо, шапку на голове примащивает — а навстречу поднимается по ступенькам Шара Кери.
— Э, смотрите-ка, и вы здесь? — говорит повитуха и останавливается на ступеньках, руку упирает в колено.
— Тс-с!.. Тише, — шепчет Лайош Ямбор и озирается. Не слышит ли кто-нибудь?
— Это почему же тише? Я ведь не воровать иду… Давайте-ка быстро три пенгё шестьдесят. Ишь ты! В Неште, говорит, живу. А я про вас вспоминала недавно, когда вы языком трепали по деревне. Только думала, что это не тот Лайош Ямбор, наверное, какой-то другой. Ну, так что будет с долгом?
— Не кричите, ради бога, — умоляет Ямбор. До сих пор удавалось ему как-то обходить повитуху, будто чувствовал, что плохо это кончится. И вот тебе на! Надо же было ей как раз в эту минуту сюда явиться!..
— Это как же понимать? Вы мне задолжали, и еще чтобы я не кричала… А ну, давайте сейчас же деньги, или я прямо к старосте иду.
Лайош Ямбор очень умным бывает, когда его прижмет. До сих пор радуется, что в таком трудном положении выкрутиться сумел.
— Ладно, ладно… я ведь помню. Только в последнее время все денег не было… да еще поросята сдохли… — Тут он не соврал: в самом деле сдохли — три года назад. — В общем… может, вам отвезти чего-нибудь или телега нужна?
Смотрит повитуха на рыжего мужика, думает.
— Ладно. Пусть будет так. В воскресенье утром отвезете меня в Комади. Отправимся утром, в шесть часов. Но чтобы без фокусов, а то ведь мне надоело свои деньги ждать…
Ух, это еще можно вынести. Только бы забылся наконец тот случай на станции. Но Лайош Ямбор — мужик умный, понимает, что теперь, после этой встречи, он навсегда у повитухи в руках.
А все ж такая поездка лучше, чем деньги отдавать… Вот только баба что скажет на это? Как ей объяснить?..
— Кто знает, мать: может, понадобится и нам когда-нибудь повитуха, или еще что… — заискивающе говорит Ямбор жене, в то время как та опять складки на платье распускает: поправилась с зимы на шесть кило.
— Нам, повитуха? — удивляется баба; но вообще-то кто знает… Короче говоря, Лайош Ямбор оказался-таки в Комади и теперь вот стоит, ждет повитуху, которую неизвестно зачем вызвал на сегодня санитарный врач.
Вызвал, конечно, не одну ее, а всех повитух из окрестных деревень. Однако нет вокруг, на улице, ни одной телеги — только телега Лайоша Ямбора. Дала ему Шара Кери пятьдесят филлеров, чтоб поел или выпил чего-нибудь. От скуки ощупывает он монету в кармане, думает: вечером пригодятся ему эти пятьдесят филлеров. Пойдет в кооператив, возьмет стакан вина побольше, сядет на веранде, как все солидные мужики, выборные и прочие. Не такая уж злая баба эта повитуха… Да и жена согласилась, чтобы он ехал, и страхи его кончились, не нужно теперь бегать от повитухи, обходить ее за версту. Хорошо, когда все ладно. Только бы пришла она скорей: очень тоскливо здесь торчать.
Да ведь Лайош Ямбор — такой мужик, что, если деньги у него завелись, они ему карман жгут. Не выдержал он: перепрыгнул канаву и вошел в ресторацию.
— Стакан вина мне, побольше. Из каких лошадей поят, — говорит, — хе-хе-хе…
Вот так. Это уже лучше. И вино к тому же неплохое…
Сорок пять филлеров отдал он за вино, так что пять филлеров еще в заначке осталось. Выходит на улицу, и мир кажется ему еще краше… Только вот телегу свою он что-то еле узнает. Потому что на тротуаре, против нее, стоит полицейский и, наклонив голову, пытается прочесть, что написано на табличке.
Лайош Ямбор, как известно, тертый калач, да еще вина выпил, так что мозги у него работают особенно быстро. Думает: вот, мол, как здорово, что не обновил он в этом году табличку на телеге, все-таки есть какая-то польза от должности выборного — не все правила можно соблюдать… Во всяком случае, прочитать, чья телега и откуда, не так-то легко.
— Эй, это ваша телега? — спрашивает полицейский. Спрашивает не то чтобы уж очень строго.
— Моя. А то чья же?.. — храбро отвечает Ямбор. Главное — без страха смотреть в глаза опасности.
— Почему на улице оставили без присмотра?
— А что, мне ее с собой, что ли, взять в корчму?
— Гм. Я вижу, вы еще и шутник. Ну, я с вами шутить не буду. Имя, фамилия? — и опять смотрит на табличку. Но широка канава, а форменные штаны узки. Да и авторитет надо беречь: все ж таки не кузнечик он, а страж порядка.
Чувствует Лайош Ямбор, плохи его дела. Опять с невероятной быстротой шевелит мозгами: думает о последствиях, о штрафе и о тех, кто сейчас в мире и покое сидит дома и ни о чем не думает.
Знакомые лица, имена кишат у него в голове, как муравьи.
— Пишите: Йожеф Красный Гоз. Переулок Берната. Я ведь не боюсь… Меня ведь на мякине не проведешь… Бывали мы на базаре с двумя грошами в кармане.
— Ну-ну… это хорошо, что бывали. Только на этот раз двумя грошами не обойдетесь, — говорит полицейский спокойно и записывает что-то в книжечку. Еще раз глядит на табличку: название деревни там все же можно разобрать. А большего ему и не надо.
Да и Лайошу Ямбору большего не надо: разговора этого вполне хватает, чтобы всю его храбрость как ветром сдуло…
И зачем он Красного Гоза назвал, а не другого кого-нибудь, попокладистей?.. Господи боже, и чем он только думал? Кого хочешь мог бы назвать: скажем, судью — у него денег девать некуда и не любит он ни с кем связываться лишний раз. А Красный Гоз… Ух… даже холодный пот Ямбора прошиб.
Словом, пока Шара Кери вышла от санитарного врача и села в телегу — мол, теперь можно и домой, — Лайош Ямбор до того себя исказнил, что теперь и не знает, куда деваться со своим раскаянием. Хочется ему какое-то доброе дело сделать, чтобы беду предупредить, обман свой загладить… Ну, не перед Красным Гозом, так перед другими: вдруг зачтется это ему как-нибудь, защитит его бог…
— Вы мне моргните только, а уж я завсегда… Тут же запрягу и поеду, куда скажете. С нас не убудет, чего там… — рассыпается он перед повитухой. Просто распирает его доброта… Правда, вспоминает он и про жену. Она ведь и на эту-то поездку еле-еле согласилась… Эх, ладно, как-нибудь, глядишь, устроится… — Вы меня только позовите, а я тут как тут. Уж такой я человек: люблю долги платить, как положено. Даже с лихвой… Н-но, милые, н-но-о…
Лошади задирают головы, телега дребезжит и трясется, словно вот-вот развалится.
9
Красный Гоз с Марикой с утра решили, что после обеда навестят Тарцали, а оттуда и к Юхошам заглянут. Чтобы к вечеру непоздно домой вернуться: надо косу еще точить, завтра выходят мужики на помещичью пшеницу. Так они рассчитывали провести воскресенье… Да только собрались выходить, как Тарцали сам пришел, с Пирошкой. Видно, одинаковые оказались у них планы.
— Думаю, зайду погляжу, как кореш мой поживает, — весело кричит Тарцали. Правда, на земляных работах они целыми днями вместе были, а перед тем — кочки на лугу ровняли, а еще раньше — пни корчевали… Да ведь хорошим людям лучше чаще видеться, чем никогда.
У Пирошки лицо в пятнах, осунулось. Плечи обвисли, будто листья кукурузы в засуху. И вообще — быстро потеряла она свою девичью фигуру. Всего пять с половиной месяцев носит, а уже очень заметно. Не то, что у Марики. У той только и изменений, что в платье ходит свободном, без пояса. Да ведь мало ли кто как любит одеваться: одни — так, другие — эдак… Обе сразу же отходят в сторонку и начинают шептаться — сначала стоя, потом на порожек усаживаются рядышком.
— Ой, Марика, ты все такая же красивая, — шепчет Пирошка, а сама платок пониже на лоб натягивает. Чтобы пятна не так были видны. Выпрямляет плечи, голову откидывает: у нее ведь тоже есть на что посмотреть. На груди, например. Груди у Пирошки теперь даже красивее, чем раньше… Ну, правда раньше груди ее были как два резиновых мячика, а теперь больше похожи на краюху хлеба.
— О, ты не думай, ты тоже хорошо выглядишь. А пятна пройдут, не бойся. Чего-то тебе не хватает, да я не знаю чего. Я перепишу потом, что мне повитуха велела есть… Вы повитуху-то новую позовете?
— Да. И свекровь так хочет… — опускает Пирошка глаза. Не может она к этому слову привыкнуть: свекровь.
А Красный Гоз с Тарцали беседуют о своем. Нелегко рассказать, где о чем идет разговор. Примерно выглядит это так:
Б а б ы: «Нет-нет, я все могу есть, вот только корочку хлебную не могу. Даже притронуться не могу к ней пальцем, а притронусь, мурашки бегут по коже». — «Интересно, А я вот намедни полола в огороде, выдернула молочай — и вдруг как ударит в нос пивной дух. И так захотелось вдруг пива, так захотелось…» — «Да-да, это уж так. У меня вот с черешней было такое, нынче утром». — «О, у вас разве нет черешни? А я думала, есть. Как-нибудь пойду утром, принесу тебе»…
М у ж и к и: «В общем, кореш, знал бы, не стал бы я трогать эти бабы. Да понимал: все равно надует он нас при замере, как всегда. Пусть, думаю, не из нашего скостит, а из своего». — «Э, не беспокойся, кореш, об этом. В этот раз не надул, так в другой раз обязательно надует, за ним не станет». — «Ну, и посмеялся же я, когда он на твой кулак налетел»…
Все говорят одновременно. Будто птицы щебечут на веранде без умолку. А тут еще утки крякают возле хлева, наседки кудахчут, цыплята распищались перед сумерками. Поросята чуют запах падающих шелковичных ягод и стараются дверцу загона выломать.
Марика с Пирошкой совсем уж на шепот перешли; косятся на мужей, ближе наклоняются друг к другу.
На веранде скамеечки есть, да и стулья можно вынести из сеней или из горницы, а они все же сидят на пороге. Каждой хочется узнать, что другая чувствует. Как другая это переносит. Потому что у всех баб по-разному это бывает…
Поздно ушли Тарцали с Пирошкой: тень от шелковицы протянулась уже через весь двор, будто вода пролилась из перевернутого бидона; Марику так освежил этот разговор, словно в прохладной воде она искупалась. Приятный вкус остался во рту. А ведь в девках совсем не дружили они с Пирошкой. Просто здоровались, встречаясь, и все. А теперь Пирошка кажется ей такой близкой, словно выросли вместе. Даже еще ближе, потому что в ней как будто есть что-то от нее, от Марики. Словно Пирошка немножко живет ее жизнью, носит ее ребенка, а Марика помогает Пирошке носить ее бремя…
Теперь можно и к родителям идти. Да только переодела Марика платье (вдруг прохладно станет вечером), как пришла к ним повитуха. И не одна. Впереди себя пропустила она в калитку подростка в гимназической фуражке, в коротких штанах, в куртке со шнурами.
— Привела вот сына вам показать, — говорит. — Поздоровайся с тетей, дядей, представься, — и легонько подталкивает мальчика вперед.
Тому на вид лет тринадцать; красивый паренек, крепкий. От матери в нем, пожалуй, только глаза — большие, голубые, быстрые. С поволокой, как на ранних яблоках, отдающих легким винным привкусом… Делает он шаг вперед и, смутившись, смотрит себе под ноги. Не знает, что сказать. Если «целую ручки», так еще обидятся: это ж не господа все-таки… Такому его в интернате не учили, и у матери он забыл спросить.
— Ну, здорово. Как зовут-то тебя? — спрашивает Красный Гоз и подает мальчику руку. Решительным, твердым движением. Вот это — другое дело. Сразу все становится просто.
— Фери Кери, — говорит мальчик и вскидывает голову. Будто увереннее себя почувствовал, свое имя назвав.
— Хорошее имя. Дай тебе бог счастья. Кем же ты хочешь стать, когда вырастешь?
— Инженером.
— Жаль. Лучше уездным начальником. Или хотя бы секретарем правления. Чтоб был наконец и среди господ один порядочный человек. Из наших, значит… Ты ведь за нас будешь? За мужиков? — и протягивает мальчику сигарету. А тот так засмотрелся на крепко сложенного молодого, мужика с умным лицом, что и сам, пожалуй, не заметил, как сигарета оказалась у него во рту. Даже мать не сразу успевает сообразить, что к чему, и лишь через минуту всплескивает руками:
— Боже мой, Фери! Ты что делаешь?
Фери не отвечает, молча показывает ей зажженную сигарету.
— Ребенок же. Нельзя ему еще курить, — объясняет повитуха Красному Гозу.
— Ерунда! Я в его возрасте дымил как паровоз.
— Нет-нет, как же можно…
Сын приехал к матери на каникулы. Привезла она его в деревню вчера; привезла, можно сказать, втайне. Если кто и видел, все равно не знает, кто он и чей. К Красным Гозам она пришла как бы для пробы: как примут, как отнесутся… А те и виду не подали, что здесь что-то не так.
Мальчик знает уже, что он не как все; знает, что нет у него отца — есть лишь его добрая, красивая мама. И держится он соответственным образом: всегда настороже. И с приятелями, и со взрослыми. Немало он настрадался, пока научился твердо стоять на земле, готовый в любой момент прыгнуть, укусить, если надо, или ударить головой в живот, как молодой козел. А в то же время уметь быть благодарным за доброе слово, за ласку. Склонить голову, когда теплые слезы радости падают в грязь или в пыль под ногами.
Вот он уже сидит рядом с Красным Гозом на перилах, курит сигарету — вообще-то далеко уже не первую в жизни — и ногами качает.
— Ну, что с разводом? — спрашивает Шара Кери у Марики.
— Ох, не знаю, что и будет! Йошка, правда, сказал, что не уступит, не будет платить Тотам ни гроша… да теперь уже другое говорит. Мол, если ничего не выйдет, продаст Рози, ссуду возьмет в кооперативе вместе с матерью… только бы уж кончилось все это… Нам уж все равно: пусть хоть ничего не останется. Наживем еще, да и Борка подрастет вместо Рози… Правда? — говорит Марика; об этом они как раз толковали вчера с Йошкой перед сном.
— Конечно, конечно, Марика. Не хочешь сломаться, умей и гнуться, — соглашается повитуха; еще о чем-то они говорят, но уже шепотом. Насчет того, что чувствует Марика и все такое; это уже и не о Марике, считай, речь, а о будущем ребеночке.
— А у нас в классе был один мальчик, так он всегда дразнился, что из меня только полчеловека будет, потому что, дескать, пол-имени у меня… Так я его раз так отлупил на перемене, что чуть из гимназии меня не вышибли… — рассказывает он Красному Гозу; мать одним ухом прислушивается к его словам.
— С ними, брат, по-другому надо. Вот послушай-ка меня. Правой ногой наступи ему на ногу, левым коленом бей, а кулаком тут же шарахни в подбородок… Вот как надо. И синяков не останется, и больше он и сопротивляться не будет. А кулаками зачем махать? От этого проку мало.
Да, в хорошие руки попал мальчик, это уж точно.
Проходит воскресенье, некогда уже идти к Юхошам.
Да тут, только начало темнеть, сама Юхошиха прибежала.
— А я не знаю, что и думать. Пришла вот спросить: уж не случилось ли чего…
И к дочери наклоняется, спрашивает тоже шепотом:
— Как ты себя чувствуешь, Марика?
— Хорошо, мама. Не успели мы к вам: сначала Тарцали с Пирошкой пришли, а потом повитуха сына привела… Какой у нее сын: большой, красивый… видели б вы, мама!
Да, долог день, а все же воскресенье проходит быстро. Еще и косу отбить надо, и молоток осмотреть — не болтается ли ручка. Укрепить насадку; брусок приготовить с сумкой… Пока управились, и вечер наступил.
Теперь поужинать — и на боковую. Еще вот только минуточку посидеть у калитки, выкурить последнюю цигарку, глядя, как по-за деревьями крадется бочком луна.
Нынче полнолуние; в такое время особенно не хочется уходить спать. Йошка с Марикой сидят рядышком на скамейке. И мать стоит тут же, в калитке, сложив руки под передником; лунный свет, желтый, как абрикосовый сок, льется ей на ноги.
— Святой Давид портянки сушить развесил, — тихо говорит Марика, глядя на луну. Лучистые снопы протянулись оттуда до самой земли.
— Да… А когда мороз, он на скрипке играет, — вторит ей муж.
— Давайте, детки, ложиться, — зовет их мать.
— Это точно, — отвечает сын и вынимает часы из кармана рубашки: он теперь без пиджака, в одной рубашке ходит. Смотрит, повернув циферблат к свету луны. Девять часов. Пора, пора спать.
По переулку трусцой бежит собака, поджав хвост, озираясь по сторонам. У соседей, у Сокальи, калитку запирают на ночь. А чего там запирать-то! Чтоб нужду их, что ли, не украли? У господина Берната, в угловом доме, кегли стучат. Ремесленники, наверное, играют там при свечах. Странно слышать этот стук, разносящийся по пустынным улицам. У соседей, что сзади Гозов, гремит ведро, вода плещет. Ноги моют, должно быть, или посуду после ужина. У них всегда допоздна с ужином тянут. А с луны все льется Давидов псалом, или, может, портянки его колышутся на ветру… здесь, на земле, теплый воздух не шелохнется, покой и тишина — а на луне-то, может, буря как раз бушует…
— Ну, пошли спать.
— Сейчас, мама… — так хорошо сидеть под луной, рядом с Марикой. Куда-то далеко-далеко ушли все заботы. Ферко Жирный Тот, адвокат, развод… неизвестно, явь это или дурной сон, приснившийся на прошлой неделе. А здесь, рядом — настоящее, то, что служит наградой, утешением за все невзгоды и страдания.
Красный Гоз в эту минуту — словно бы уже не тот смелый и упрямый человек, каким был он зимой или недавно, на земляных работах; теперь он мечтает о мире, тишине. Готов простить всех своих обидчиков, ни от кого ему ничего не нужно, лишь бы его не трогали. Может понять и Ферко Тота, и эконома; даже помещику, наверное, не всегда сладко приходится…
Жить для Марики, для ребенка, для своей маленькой хаты, для своей земли. Жить, сколько отведено судьбой… Вот все, что ему надо.
Да не получается так. Не хочет жизнь оставить его в покое.
Чтобы жить так, как ему хочется, нужно, оказывается, отдать все, что имел, что-заработал… да еще то, что мать скопила за годы вдовства. И, только отдав все, можно начать жизнь сначала.
Выходит, напрасно был он и трезвым, и работящим, напрасно рано вставал, поздно ложился… Вот состоится процесс — и съест все, что у него было в карманах, в кладовой, в хлеву…
Огромную цену нужно заплатить за покой, за семейное счастье; все молодые годы уйдут на расплату…
Марика смотрит на мужа и словно угадывает его тяжкие думы, хотела б ему помочь, да не может. Лишь прижаться может к нему, ласково, любяще.
— Не думай все время об этом, Йошка… Вот увидишь, все обойдется, все уладится… — шепчет, касаясь своей щекой его щеки.
— Да… все должно уладиться… Обязательно должно. — Он стискивает кулаки, смотрит вокруг, словно угрожая кому-то, потом медленно-медленно разжимает их.
Луна застряла в ветвях акации; шаги слышны в тишине переулка. Подходит Вашко, батрак из усадьбы.
— Вечер добрый. Пошли-ка, племянник, господин эконом зовет, — говорит Вашко.
— Сейчас? Зачем? Что ему надо? — И Красному Гозу вспоминаются замеры, пощечина, земляные бабы на подставках…
— Ему-то ничего. А есть там один адвокат. Бор, или как его.
— Ага. Это дело другое. Тогда надо пойти. Я скоро вернусь, Марика. Ты пока стели, — и уходит…
Вино к ужину подали отличное, так что настроение у гостей заметно поднялось. Енё Рац как хороший хозяин гостей по очереди развлекает разговорами. И еще прислушивается к музыке, посматривает на Матильду, оживленно болтающую с адвокатом. Хочется ему и с Ленке танцевать, как агроном, и Матильде комплименты говорить, как адвокат. Сколько красивых женщин хотя бы вот в этой маленькой компании — и все они недоступны. Опять ему ничего не досталось, как шелудивой собаке.
Снова думает он, что, наверное, помнят гости о его шести классах первой ступени. Только виду не подают… Тщетно старается он задобрить их, подкупить — ужином ли или еще чем.
Что из того, что на словах они считают его ровней, что в прошлом году он был даже секундантом у аптекаря… Никогда, никогда они не забудут про его шесть классов!..
Горничная входит, говорит, что пришел Красный Гоз.
Все замолкают, даже граммофон, и оборачиваются к двери. Ждут чего-то с нетерпением. Словно все, что съели и выпили за ужином, не настоящее и настоящим станет лишь тогда, когда войдет в комнату этот мужик.
— Пусть входит! Позовите его! — раздается сразу несколько голосов.
Горничная уходит и вскоре возвращается. Красный Гоз передал: кто с ним хочет говорить, пусть к нему выйдет.
— Это ко мне относится, — объясняет адвокат Матильде и встает. — Я на минуту…
— О! У вас секреты? Я тоже хочу взглянуть на этого человека. — И ей вспоминается прошлая встреча на раскопе.
— Ради бога. Если вам интересно.
Красный Гоз ждет, опершись о столб веранды. Вот и адвокат вышел. Да еще с этой рыжей бабой.
— Добрый вечер, господин адвокат, — говорит Красный Гоз, делая шаг навстречу.
— Добрый вечер. Не сердитесь, что так поздно потревожил. Поговорить с вами хочу.
— Ничего…
— Ну вот. Утром был у меня ваш противник. Вызывал я его. Упрямый мужик, скажу я вам.
— Еще бы. Сейчас на его стороне сила.
— Вот то-то и оно. Надо нам что-то придумать. Хорошо бы в какой-нибудь тайной связи, например, его уличить…
— Оно хорошо бы… Если б можно было. Да нельзя. Правда… там у них все время родственница одна околачивается, Пашкуиха… да нет, пожалуй, это тоже пустой номер…
— Плохо. Так мы его могли бы ухватить. Что будем делать? Начнем процесс?
— Сколько надо времени, чтобы приговор был вынесен?
— Сколько времени? Ну, можно ведь и ускорить это дело. Через месяц можно добиться развода.
Красный Гоз подсчитывает в уме — не деньги считает, а время. В сентябре родится ребенок; сейчас июль, скоро август, а там и сентябрь.
— Начинайте сейчас.
— Ладно. Но уж о деньгах вы позаботьтесь.
— А как же. Деньги будут, раз надо, — отвечает Красный Гоз, хотя и сам не очень-то верит в свои слова. Кто знает, сколько насчитает суд на свадебные расходы; наверное, вызовут свидетелей, которые были на свадьбе… Правда, до тех пор еще многое может случиться. Можно и заработать еще, и на скотину, глядишь, цены поднимутся… или начнется война и его призовут в армию. А в этих случаях и закон по-другому судит.
Матильда смотрит молча на беседующих мужчин. Она мужиков знает больше по пьесам — и теперь чувствует какое-то разочарование. Не такими она их себе представляла. Думала, все они похожи на Дани Тури или Шандора Гёндёра[27]. То есть или крушат все направо и налево, как взбесившийся медведь, или вздыхают горько, повесив буйну голову.
— Скажите-ка, — обращается она к Красному Гозу. — А нельзя этого человека как-нибудь по-иному проучить?
— Как же это?
— А просто отколотить как следует.
— Ха. Нет ничего проще.
— Так что ж вы?.. Ведь речь идет о вашем счастье.
— Если б только о моем…
— То есть как это? Ведь ваша жена…
— Именно что моя жена. И ребенок. Может, когда-нибудь и вы поймете, в чем тут разница.
— Трудно иметь дело с мужиками вроде этих Тотов. Уж если они упрутся… — говорит адвокат; а гости в комнатах тихо сидят, прислушиваются. Кажется им, что здесь, на веранде, происходит что-то необыкновенное. Хочется им взглянуть на этого крестьянина, про которого столько говорят кругом. Посмотреть, как выглядит попавший в беду мужик в свете ярких ламп, рядом с обильным столом. Тверь они разговаривают не о крестьянском вопросе, а о себе самих.
— Представьте, — говорит аптекарь, — нынче получаю я визитную карточку от доктора, и знаете, что он пишет? Вот что: «Дорогой друг! Учитывая теперешние стесненные обстоятельства, о которых пишется и в газетах, прошу Вас в нынешнем году воздержаться от поздравления по случаю моих именин, ввиду того что я не смогу устроить праздничного ужина. С наилучшими чувствами, Шоморьяи». Каково, а?
— И мне прислал, — говорит директор школы.
— И мне, — откликается помощник секретаря.
— Присоединяюсь, — говорит Марцихази и встает. Отодвинув стул, выходит на веранду, где стоят Красный Гоз и адвокат с Матильдой.
— Я к вам, на воздух…
— Давай, давай сюда, к нам, дядя Балаж.
Подходит к ним и Мария, молодая учительница, за ней — Ленке с агрономом; и пяти минут не прошло, как никого не осталось в столовой. Зато на веранде — теснота. С одной стороны Красный Гоз стоит, как бы один против всех; с другой — застольная компания. Словно никогда не видели они друг друга вблизи… Словно Красный Гоз видит не того же учителя, секретаря, аптекаря, которых сто раз видел на обычном их месте, за обычными занятиями. Они здесь будто бы во много раз мельче и незначительнее. Будто каждый из них — это два человека: один в конторе сидит, учит в школе; другой — стоит сейчас перед ним в вечерней мгле. О тех еще можно было подумать, что как-никак, а для таких умных занятий нужны и люди необычные, способные вершить важные дела; об этих же ничего такого не скажешь. Однако двойственность их не столько даже в этом, сколько в чем-то ином, чему даже названия-то нет, потому что само раздвоение происходит сию минуту, на этом самом месте.
Но разочарован не только Красный Гоз. Разочарованы и господа.
Мужик, что стоит перед ними, словно не из тех, которых они учат, воспитывают, в школе ли, в правлении, в аптеке. И не из тех, кто снимает перед ними шляпу на улице, в конторе; у этого на голове и шляпы-то нет. Стоит с красиво причесанной, непокрытой головой, волосы поблескивают в свете ламп. Некоторые из господ поднимают невольно руку, приглаживают себе волосы со лба к затылку.
Нет, совсем другой это мужик.
Сапоги начищены до блеска, под пиджаком — ни жилета, ни поддевки, только коричневая рубашка с расстегнутым воротом. Но это еще куда ни шло. Хуже, что он смотрит на них, словно на деревья или на забор. Или как на своих соседей.
Чувствуют господа: произошло что-то необычное — будто земля дрогнула под ногами или комета промчалась по ночному небу. Необычное в том, что простой мужик стоит перед ними и смотрит на них сверху вниз, и даже в голову ему не приходит видеть в них господ. Торопливо ищут они в себе, в своей жизни что-то такое, что доказывало бы: нет у него оснований так к ним относиться… Ищут и не находят. В этом человеке открылась им деревня в каком-то новом, незнакомом и потому пугающем облике.
Новый, необычный мужик стоит перед ними: сильный, но одинокий и пока бездействующий. Словно ждет, когда из ступней его вырастут, разбегутся во все стороны прочные, невидимые корни.
С непостижимой быстротой ползут, прорезают почву, движутся все дальше и дальше эти корни, цепляются за землю с невиданным упорством, уходят на невиданные расстояния. Так что лучше как можно скорее оказаться вместе с ним, рядом с ним, чтобы удержаться, уцелеть, в то время как мир вокруг меняется с головокружительной быстротой…
Все это, конечно, не более чем смутное видение, фантазия… Однако в самом деле человечно и великодушно было бы взять и позвать его, усадить с собой за стол, сказать: «Ваше здоровье! Чокнемся, ведь мы братья, а братья должны понимать друг друга…» Да не могут они этого сказать.
Позвать и усадить рядом с собой мужика — нет, на это они не способны.
Даже не то чтобы не способны: история, бог не позволят им этого сделать…
— Мы еще незнакомы, — без колебаний подходит к Красному Гозу агроном, руку подает, представляется. — У меня есть идея. Что, если мы втроем… то есть вчетвером… — и косится на Матильду, — пойдем куда-нибудь отсюда. Бросим всех этих…
— Никак невозможно. Утром на пшеницу выходить, в три часа.
— Да-да. К нам, жать?
— Жать. К вам, в поместье.
Нечего тут возразить. Лопнула хорошая идея. Агроном поворачивается, идет в комнаты. И тихо, шепотом, отчаянно ругается.
— Заходите, сосед, пропустим по стаканчику, — выкрикивает вдруг, будто очнувшись, бараконьский кантор и тянет шею.
Красный Гоз, наклонив немного голову, поблескивая белками, отвечает насмешливо, презрительно:
— Верблюд вам сосед, а не я… с ним и пропустите.
И уходит.
— Вот вам! Кто с псом свяжется… — запоздало отвечает на оскорбление аптекарь.
Пожилая учительша, активистка местной ассоциации содействия народному образованию, тоже бормочет что-то насчет того, что, мол, с помоями смешаешься, не удивляйся, если свиньи тебя съедят… Но конец все же не договаривает: чувствует, не совсем тут это кстати.
От усадьбы до деревни вдоль дороги стоят акации в два ряда. Теперь, поздним вечером, дорога сплошь залита лунным светом. Несколько звезд мерцает в вышине, там, где слабее сияние луны; сверчки пиликают под деревьями. Красный Гоз шагает по дороге, ступая на свою тень, и несет с собой тонкий запах сигареты, которой угостил его агроном.
Хватается за карман. А в кармане только «венгерский королевский натиральный».
Табак, что на цигарки идет.
10
Лето стояло долгое и сухое. Хлеба были слабые и заколосились поздно. Лишь когда косили овсы, выпал долгожданный дождь, напоил поздние посевы. Кое-кто тут же, по стерне, подсолнечник посеял. Однако считали мужики, что дело это ненадежное. Больше для очистки совести: посеял — а там как бог распорядится.
Мало заработали и те, кто на помещичьих полях жал. Только артель Силаши-Киша кое-что получила. Центнера по четыре чистой пшеницы на па́ру, да центнер ржи, да столько же или побольше ячменя, и еще овса немного.
Было, кроме этой, еще две артели, и мужики из тех артелей теперь руками только разводят, не поймут, как это так. Ведь и там нормальные люди работали, такие же, как они, не хуже и не лучше. Каждый раз, как на новое поле переходить, тянули жребий, какой артели где начинать. И по утрам вставали в одно время — а вот поди ж ты: у тех больше вышло чуть не на целый центнер.
Видно, одним бог дает удачи не скупясь, а другим совсем не дает, проси не проси.
А удача здесь и вправду была, да только бог тут ни при чем. Потому что люди Силаши-Киша по подсказке Красного Гоза заранее рассчитали, какие скирды на их долю пойдут, и ночью вышли да снопы везде поменяли. Развязали их и навязали новых, покрупнее. Раз не получается девятая часть, как в прошлом году, и даже на десятину надеяться не приходится — что ж, надо выход искать. Вот и нашли: за последние две ночи все в лучшем виде сделали… Участвовали в этом, конечно, одни мужики, и уж они позаботились, чтоб и духу женского там не было. Пусть на их душу весь грех ляжет. Да и если дело, скажем, наружу выплывет, так хоть баб и девок полиция не будет таскать.
Не вышло дело наружу. Снопы, доставшиеся жнецам, как ни в чем не бывало пошли в молотилку и высыпались в мешки чистым зерном.
Только агроном обо всем догадался; может, и сказал он что-нибудь Красному Гозу, но это между ними осталось. Когда считал он долевые скирды, даже и глазом не моргнул, будто так и надо. Ему-то что за дело до всего этого? Нынче он здесь, а завтра — один бог знает где. Все равно уходить собрался. Чуть не каждый день у него стычки с экономом. Тут уж такое дело: или эконом, или он, а вместе им не служить. Весной кухарку они все не могли поделить, потом — Ленке, теперь вот — Матильду… Да и без того не выдержал бы он с экономом. Не для того он училище кончал, чтоб смотреть на то, что здесь творится. Целыми днями только и слышно, как эконом на батраков орет, на поденщиков; кроет их почем зря… И ведь что интересно: он их кроет, а от этого ни волы скорее не идут, ни батраки живее не шевелятся. Даже наоборот. На оплеухи да на ругань отвечают тем, что бездельничают где только могут.
Да, в училище им об этом ничего не говорили.
В училище они многолетнюю пшеницу выводили; подсчитывали, какую выгоду дают в крупном хозяйстве машины по сравнению с ручным трудом.
Правда, доходили туда слухи об исследовании деревни, о писателях-аграриях[28], да все это было слишком от них далеко — как комариный писк в соседнем болоте…
— Спасибо, господин агроном, и от меня, и от остальных, — подошел к нему Красный Гоз, когда телега с его долей тронулась в путь.
— Ничего. Не стоит. Только знаете, не люблю я, когда меня за идиота принимают. Закуривайте, Йошка, — и протягивает портсигар, который ему, кстати сказать, на день рождения подарили.
— Кто принимает? Мужики вас любят, господин агроном. Говорят, вот если б… — закуривает Красный Гоз, — если бы все экономы, все управляющие такими были…
Выпускает дым, смотрит вдаль, на поля, припорошенные желтой пылью.
Однако сам Красный Гоз, как ни бился, а на жатве куда меньше заработал, чем на земляных работах.
И все же, если вместе с прочим считать, так и это кое-что.
На издольный обмолот он не слишком надеялся, так что от него уклонился и нанялся на строительство дороги камень дробить. Пошли они туда вместе с Тарцали. Теперь на эту работу они больше всего уповали.
Потому что если уж очень донимают человека несчастья, обязательно надо ему на что-то надеяться. А у них двоих несчастий хватало, это уж точно. У Тарцали — теща, которая все больше в тягость ему становится. У Красного Гоза — процесс о разводе…
Начало августа. Раннее утро, едва-едва рассвело. По дороге к деревне катится коляска; в упряжке — две лошади из поместья. Народу в коляске — только что не на коленях сидят друг у друга. И Марцихази здесь с двумя дочерьми, и агроном, и священник, и еще кто-то. Младшая дочь Марцихази, Ленке, замуж вышла, очень быстро и как-то совсем неожиданно, за одного адвоката в Неште (не за Гашпара Бора). Так что они со свадьбы едут. Понятно, что настроение у всех — розовое, как сама заря, что встает над полями. Марцихази выпил от души: очень уж удачно вышла Ленке замуж. Агроном тоже много выпил: с досады. Он-то с Ленке и танцевал, и учил на зайцев, на куропаток охотиться — а тут откуда ни возьмись этот адвокат…
— Смотри, дядя Балаж! Люди вон уже на работу вышли, а мы еще не ложились. Всю ночь кутим, веселимся, а они работают, как каторжники… Н-но-о! — пытается агроном выхватить вожжи у кучера.
— Брось, братец, тебе этого все равно не понять, — машет на него почтмейстер, который только было задремал.
— Мне не понять? Эй… но-о!..
Пролетает коляска мимо каменных груд и работающих людей.
Двое дробят камень в синем свете раннего утра. Красный Гоз и Тарцали. Два кореша. На глазах у них — защитные очки; кувалда гремит, высекая искры; щебень — желтый, красный, черный, мерцающий — разлетается, как стружки. Только каменные стружки, звенящие.
Долго еще слышат господа звон кувалды по камню.
— Видал? Почтмейстер… Дочку выдал замуж.
— Одну. Дома еще трое…
— Хороший он человек. Потому что… дочерей много. И все красивые.
— Хороший. Настоящий барин. А остальные — шантрапа.
Со свистом рассекает кувалда воздух августовских полей.
Они вдвоем выходят на работу, когда остальные поденщики еще только на другой бок поворачиваются. Зато и тают за ними груды камня, будто это масло, а не гранит.
— Дядя Балаж! Это ж наш приятель был, Красный Гоз! — кричит агроном и хватает воздух у себя за спиной, будто там тоже есть вожжи.
А Марцихази опять было задремал.
— Он здесь на месте. Знает он, что делает. За него ты не беспокойся.
А Красный Гоз с Тарцали, только скрылась из виду коляска, кувалды — в сторону, ухватили по большому камню, потащили. Один — к придорожному колодцу, другой — к зарослям осоки. Два камня ухнули почти разом. Один — в осоку, другой — в колодец.
Каждая груда — два кубометра. Раздроби их или с кашей съешь — плата идет одинаковая.
Эти двое приспособились: выходят с рассветом, что-то дробят, что-то разбрасывают, уносят куда-нибудь, где не видно.
А мужики потом, во время пахоты или косьбы, будут находить то здесь, то там большие камни. Соберут их, на телегу положат — дома пригодится. Еще бы: здесь, на равнине, где в дождливую погоду грязь по колено, каждый камень ценится. Особенно если так вот, бесплатно. Будто с неба упал.
Начинают свой путь эти камни где-то высоко в горах; и часть их становится в конце концов водостоком, дорожкой во дворе, гнетом на бочке с капустой — только не тем, для чего они были предназначены. А вообще-то об этом куда лучше сказано в Новом Завете…
Однако мир ведь не только из бедняков и богачей состоит; есть и такие, кто ни беден, ни богат. И таких в деревне больше всего. У них земля вроде бы и есть, да так ее мало, что будь меньше на пядь — и можно по миру идти. Или детей будь на одного больше. Конечно, верно и то, что люди только так говорят; а если и вправду родится еще один ребенок, то уже совсем по-другому на это дело смотрят.
Людей этих и статистика, и печать, и писатели, и политики называют мелкими хозяевами. Называют еще и по-другому. Скажем: костяк нации. Да мужики-то сами ничего об этом не знают. Если прочтут про мелких хозяев в газете или в книге, думают, это про кого-то другого, а не про них. Думают, это о тех, кто ходит в крепких сапогах, и не в шапке, а в шляпе, в черных суконных штанах. У них таких штанов нет. У них совсем другие штаны. Летом ходят они в полотняных шароварах, а зимой — в стеганых портках под овчинным тулупом. Сначала эти портки у них выходными служат, а потом приходит пора на каждый день их пускать, с заплатами или так, как есть. На голове же носят они соломенную шляпу или какую-нибудь шапчонку.
Короче говоря, никакие они не мелкие хозяева, а просто люди, которые встают раньше всех, ложатся позже всех, а пшеницу на своих крохотных полях жнут так, словно и не жнут, а бреют. Снопы вяжут большие и колоски собирают так старательно, что там и воробью нечем поживиться. По зернышку подберут высыпавшуюся из стручков фасоль или горох; но дочерей своих воспитывают и одевают, будто богатые. Есть в этом свой резон: вдруг возьмет девку какой-нибудь зажиточный парень.
На мельнице ругаются они с мельником на чем свет стоит, требуют муку, что на жерновах налипла; да еще весы посмотрят — правильные ли. Если баба перо еврею продает, торгуется до последнего. А во дворе у них всегда чисто. Каждая травинка на учете. Летом кизяк сушат — топливо на зиму. Молоко не любят, говорят, а на самом деле на продажу его оставляют. Сало тоже не любят: затхлое-де оно; мучаются, голодают, смотрят на мир без всякой радости, когда вечером ждут у калитки корову из стада. На сельских выборах голосуют дружно, на парламентских всегда стоят за оппозицию.
По-другому им нельзя жить. Потому что, если съедят, что собрали, уплывет в два счета все достояние.
Деньги ухитряются добывать из пряжи, из вина, из ничего. Конечно, невелики эти деньги, как раз чтобы прожить кое-как. А это — тоже дело немалое.
Многого они себя лишают в жестоком, бесконечном самоограничении; зато стараются отыграться в политике. Только зря стараются. Не было еще в округе случая, чтоб где-нибудь победила оппозиция. Ну, может, один раз. Первый и последний. Еще во времена Кальмана Тисы да Иштвана Тисы[29].
Но вспоминают они об этом при каждом удобном случае. Давняя та победа и сегодня подогревает их оппозиционные настроения.
К таким людям относился и Лайош Ямбор, хотя и не совсем: что для них — вопрос морали, права или обычая, то для него — вопрос самолюбия. А самолюбие это разрослось в нем сверх всякой меры, как грыжа у поросенка или гнойник у коровы. И потому пустой, ненадежный он мужичонка. За пенгё готов продать не только соседа, но и всю деревню, всю страну. Чего там: всю Европу.
Надо, правда, сказать: за все, что удается ему урвать, ухватить, расплачивается он щедро, даже с лихвой. Не деньгами, конечно, или чем иным, а словами. Насчет этого он мастер, каких поискать.
После того как удалось ему благодаря повитухе счастливо выпутаться из самой неприятной истории в его жизни — истории с билетом, — долго он опасался, как бы не прознали про это в деревне. Потому и назвал тогда Нешту вместо своей деревни. Ну а теперь, освободившись и от своего долга повитухе, воспрянул духом. И даже начал думать о себе: мол, вот он какой честный, какой порядочный!
Теперь-то уж не боялся он встречаться с повитухой. Даже сам останавливался поболтать о том, о сем.
А сплетня про Ференца Вирага да про Шару Кери, которую Лайош Ямбор и пустил гулять по свету еще весной, теперь разлилась, как наводнение. Дескать, Ференц Вираг и Шара Кери…
— Скажите, господин староста, неужто нет в этих разговорах никакой правды? — спрашивает однажды Ямбор старосту. Оказались они как раз в правлении вдвоем. Сидели в кабинете у старосты на конторских стульях.
— В сплетнях-то? Да ни единого слова. Не такая она женщина, господин выборный. Если б такая она была… — и моргает задумчиво, глядя на шкаф, где свалены конфискованные у браконьеров ружья и палки, отобранные в драках. И когда уж начальство их заберет?..
— Ну а коли не такая… так чего вы думаете? Женитесь на ней, и все там. Не мытьем, так катаньем. Она согласится. А баба она завидная.
Ференц Вираг Ямбора не любит, как не любит его никто в деревне. Но когда речь о Шаре Кери заходит, тут староста даже с Ямбором готов беседовать хоть до утра. Вот и сейчас тянется он к кнопке и звонит (три раза, чтобы знали, к кому идти); тут же входит в кабинет рассыльный Жига Цебе.
— Звонили, господин староста?
— Сбегай-ка за бутылкой пива.
А Лайошу Ямбору лишь бы пива выпить за чужой счет. Начинает он расхваливать повитуху, да так, будто сам на ней жениться собирается.
Вот какой он человек, этот Лайош Ямбор.
Есть за ним еще один грех: перед жатвой, когда возил он повитуху в Комади, записал его там полицейский, а Ямбор от испуга Красным Гозом назвался. И где у него голова была… почему кого другого не придумал? Хоть бы, скажем, того же старосту. А Красного Гоза… Бр-р… Как вспомнит он про это, так словно старые долги всплывают в памяти, все сразу. И как это он такую промашку дал? Ведь если выйдет это дело наружу — пропала его голова. Красный Гоз с ним шутить не будет. Как-то надо беду предупредить — а как? Ой, трудно… но все-таки надо постараться…
«И что про себя думает этот Жирный Тот, что не дает развода? По какому такому праву? Потом захочет развестись, да поздно будет, я так думаю», — говорит Ямбор встречным и поперечным. Авось дойдут его речи и до Красного Гоза.
Словом, несет Лайоша Ямбора по запутанным дорогам жизни, то влево бросит, то вправо. Однако больше все-таки влево, чем вправо… И вот как-то раз — было это позавчера вечером — открывается у него во дворе калитка. Собака бросается с лаем — да что там собака… Входит Красный Гоз; на собаку и глазом не ведет. Направляется прямо к крыльцу.
Шапка на голове у Ямбора заметно поднимается вверх: волосы ее снизу подталкивают. Ведро падает из рук, гремит по камням возле колодца. А мозг с невероятной скоростью перебирает все углы, все темные места во дворе, на чердаке, куда бы забраться. Спрятаться, как мышь. Или лучше — как муравей. Поздно, правда, прятаться. Однако в такую минуту хоть подумать об этом, и то уже легче.
— Здорово, Лайош. Ты был в Комади в июне, в последнее воскресенье? — спрашивает Красный Гоз негромко.
— Не-ет… говори тише, брат Йошка, ради господа бога… — шепчет Ямбор, оглядываясь на сени.
— Ладно. Давай говорить тише. На мое имя штраф пришел, пять пенгё, за телегу, оставленную без присмотра. Короче, ты оставил телегу и моим именем назвался. Так что давай сюда пять пенгё, я уплачу, и будто меня здесь и не было.
— Я… вовсе не твоим именем хотел назваться… как-то ненароком вырвалось. Отдам я тебе пять пенгё. Ей-богу, отдам.
А в дверях сеней и вправду шевельнулась занавеска.
— Давай сейчас. Живо.
— Э-э… — бывают деревяшки, которые вот так же скрипят, если их потереть друг о друга. — А… можно по-другому отдать? С поля, скажем, чего привезти?..
Красный Гоз тоже малый не промах. Ему в общем-то все равно, как получить.
— Вспашешь мне полтора хольда.
— Да ведь это двенадцать пенгё, не меньше!
— Точно. А не нравится, выкладывай пять пенгё сию же минуту.
Снова скрипят две деревяшки.
— Э-э… Оставь мне бумажку, брат Йожеф. Я сам отошлю.
— Черта лысого. Выкладывай деньги или…
Короче говоря, вспахал Лайош Ямбор полтора хольда Красному Гозу, и всего за пять пенгё. Стало быть, Красный Гоз на этом деле даже выиграл. Да к тому же Ямбор его должником остался на всю жизнь. Потому что, сами подумайте, экий позор для него, для выборного, если Красный Гоз расскажет обо всем в деревне. Так что Лайошу Ямбору теперь до смертного часа суждено, как верному псу, хвостом вилять перед Красным Гозом.
Когда случается Ямбору работать одному в поле или во дворе, часто он думает: как это выходит, что всегда он остается в проигрыше? Почему это закон всегда у него под ногами путается? Уж ему ли, кажется, не знать, как себя вести? И ничего не помогает. Не успеет забыть одно, как приходит другое… А все дело в том, что слаб Лайош Ямбор. Потому и хочет всех перехитрить, чтоб не затолкали его те, кто посильнее.
Еще в детстве много страдал он от этой своей проклятой слабости. Скажем, придумают ребятишки бороться — Ямбор только подножкой мог кого-нибудь одолеть. Если в «ушки» играли, ему лишь обманом выигрывать удавалось. А выигрывать хотелось всегда — потому и мошенничал он сверх всякой меры. В школе все силы в учение вкладывал — а хорошим учеником стать так и не смог. Тогда и появилась у него привычка — говорить не то, что надо. Не смотреть в глаза тому, с кем разговариваешь. Никогда не отвечать прямо на вопрос учителя; чужие грехи на белый свет вытаскивать, чтобы свои спрятать. А главное, все время быть начеку, настороже, жить с открытыми глазами. Закроешь их на минутку, тут же тебя затопчут, и маму родную позвать не успеешь.
Ну, у него-то глаза всегда открыты, это уж точно.
Правда, дома у себя и открытые глаза не помогают. Дома даже наоборот, зажмуриться хочется крепко-накрепко, чтобы не видеть, как баба его всем хозяйством заправляет и им, мужем, помыкает. И приходится ему всегда плясать под ее дудку.
В саду у них, в самом конце, за люцерной, выросли в этом году отличные дыни, а Лайош Ямбор до дынь большой охотник. Это бы еще ничего, да вот беда: ест он их не тогда, когда хочется. А когда жена разрешит. Скажет, например, жена: «Принеси-ка дыню!» Ну, он и принесет; а если ей чего другого хочется, так ему и мечтать нечего о дыне. Вот и наладился Ямбор потихоньку лакомиться: прокрадется в сад, сядет в кукурузу, выберет себе дыньку. Да всю ее и употребит. Даже корки выгложет, выскребет. Правда, баба всегда знает, сколько у них дынь было; можно сказать, каждую дыню помнит. Однако тут тоже есть выход. Дыни ведь воруют часто. Они, Ямборы, например, давно уже соседей в этом подозревают… Словом, дело идет к вечеру, Ямбор в хлеву возился целый день, вспотел весь да и проголодался — и очень захотелось ему дынькой полакомиться. Баба как раз на чердак полезла белье развешивать. Тут Ямбор — шмыг в сад. Схватил одну дыню — и в кусты с ней, в кукурузу.
Сад их одним краем примыкает к ректорскому, а ректорский сад находится как раз под колокольней. Под стеной, в саду, малина растет вперемежку с бурьяном, с чертополохом — как это всегда бывает у тех хозяев, кто крестьянским трудом не занимается… И вдруг видит Лайош Ямбор: зашевелились кусты малины возле колокольни. «Должно, скотина какая забралась, — думает, — или собака…» Жует он дыню, а сам вокруг смотрит, ищет, чем бы туда запустить. Как вдруг из малины выходит баба, оглядывается и идет по борозде вниз. Будто так и надо.
Кто же еще околачивается в будни возле колокольни, если не вдова Пашкуй? Сейчас она делает вид, будто к сестре своей направляется, которая живет на той же улице, что и Лайош Ямбор.
Ямбору и это уже странным показалось — а что говорить, когда через некоторое время заметил он Шандора Папа, который стоял у стены, в малине — лишь голова высовывалась, — и сморкался в платок.
— Ух ты… вон оно что… — качает головой Лайош Ямбор и хохочет про себя. Уплетает дыню за обе щеки, а сам помирает со смеху. Прикидывает: хорошо для него, что он этакое узнал, или не очень? Какая ему будет выгода… или вред, если он другим об этом расскажет?
А Пашкуиха и не подозревает, что кто-то за ней подсматривает. Да и не до того ей сейчас. У нее сейчас в душе такое творится… Не удивилась бы, если б в эту минуту настал конец света. Даже мечтает об этом. Вот бы рухнула колокольня на деревья, на кусты, на картошку. Рухнула бы — и Кереш выплеснулся бы из берегов, затопил дома и улицы… О господи! Пусть зальет, смоет все, чтобы никто никогда и не вспомнил, что жили тут люди. Пусть пустыня будет на месте деревни, пусть травой зарастут даже следы человеческие…
Еще бы: только что, третьего августа, исполнилось ей сорок лет; целых десять лет из них она вдовствовала — и… господи, даже подумать страшно…
Страшно подумать о том, что с ней случилось. И за что покарал ее господь, за какие прегрешения? Ведь жила она честно, церковь исправно посещала, дочь воспитывала в страхе божьем, на чужое не зарилась, имя господне всуе не поминала… мухи за сорок лет не обидела. В холод собаку жалела выгнать во двор… никогда от дверей своих не прогоняла просящего…
«И за грехи отцов покараю детей их, до третьего и четвертого, колена…» — бормочет она слова Писания, слова, которым учила ее давным-давно Сатлериха. Вспоминает отца: у него, должно быть, были какие-то грехи, потому что она чиста перед богом… А может, бедная мать ее, покойница, согрешила против господа. Потому что она, вдова, никогда не грешила… разве что… разве что вот с Шандором Папом… Да ведь бог-то видит: она в этом не виновата… Не перерезать же ей свое горло, чтоб вытекла кровь, в которую господь вселил страсть греховную. Десять лет жила она как монахиня, хоть порой по ночам подушку грызла в муках…
Десять лет, целых десять лет нескончаемых страданий; но то, что случилось теперь… этого ей не вынести.
Еще в прошлом месяце начала она подозревать, а теперь точно знает, что забеременела.
Потому и встретилась она сегодня в ректорском малиннике с Шандором Папом, чтобы сообщить ему об этом.
А теперь вот бродит, будто заблудшая овечка.
Отчаянные мысли роятся у нее в голове, как пчелы в улье, вылетают наружу, садятся на платок, на юбку, на плечи, потом взмывают и черным облаком вьются на горизонте, как стая скворцов.
Что теперь скажет ее дочь Пирошка, которая тоже ребенка ждет? А зять?.. Однако даже и это можно бы вынести… А деревня!..
Нет, никак нельзя ребенку родиться!
Если родится он — это ей верная смерть… Нет, нет, она этого дожидаться не будет, она раньше руки на себя наложит. Как одна вдова года четыре назад… Та тоже — металась, металась, бедная, а потом взяла и повесилась…
Веревка найдется — лишь бы духу у нее хватило… Ведь хоть и полна жизнь горем, а жалко с ней расставаться. Вот и бьется человек, за соломинку хватается, пока не найдет какую-нибудь опору под ногами. А как нашел — тут уж снова все идет само по себе. И вообще, для чего живет в деревне старая Шара Баи, если не для того, чтобы выручать баб, попавших в беду?..
Пока Шара Баи повитухой была, все считали, что ей спасти от позора бабу — проще пареной репы. Правда, как-то все так получалось, что тем, кому позарез это нужно было, она как раз и отказывала; может, потому и развелось в те годы детишек в деревне, что мошкары на болоте… В общем, сидит она сейчас на крыльце, на своей подстилке, и зубами клацает: озноб ее трясет.
— Как живете, бабушка? Уж не заболели ли? — садится рядом с ней Пашкуиха; и вправду, что-то плохо выглядит старуха. А вдове это сейчас совсем невыгодно.
— Живу, дочка, живу… только вина мне не дают эти нехристи… вот и бьет меня… — Губы у нее еще долго шевелятся, будто читает что-то про себя.
Не так надо бы начать разговор. Пробует вдова с другого боку.
— Сколько вам лет-то, бабушка?
— Ох, и не спрашивай, дочка… столько же, поди, как проезжей дороге.
Опять не то. Как же ей к своему делу подойти?.. Ничего не придумав, оглядывается вдова (ведь у стен тоже есть уши), наклоняется к старуха, на ухо ей что-то шепчет. Та слушает, слушает, потом платье на коленях стягивает пониже и говорит:
— Ох, дочка, как нас господь ни накажет, мы все должны терпеть. Не возьму я грех на душу из-за тебя. А потом… на старости лет не хочу иметь дело с комитатом. (Для старухи закон — все еще в руках комитата.) Попытай у других счастья. Поди, слышь-ка, к новой повитухе. Она в таких делах наверняка понимает. И молода, она, времени у нее много грех замолить… А я этим не занимаюсь. И не занималась никогда. Я всегда так считала, что живому жить положено. А кому положено умереть, того бог и так приберет, — и снова долго и беззвучно шевелит губами. А пальцы все тянут, теребят платье на коленях.
— Да поймите же, бабушка, я новую повитуху и не знаю… а вы доброе дело сделаете, если поможете мне, потому что не вынесу я позора, руки на себя наложу.
— Э-эх, дочка… человек много чего может вынести, если надо. Две дороги перед тобой, не одна. Выбирай.
— Какие две дороги?
— Или найти кого-нибудь и выйти замуж, или повеситься… Я все сказала.
Вдова со страхом глядит на старуху: не тронулась ли та, не бредит ли. Но бабка смотрит куда-то перед собой, упрямо поджав губы, и один бог знает, что ей там видится.
Пашкуиха тоже поворачивается в ту сторону — но нет там ничего, только лестница, что ведет на чердак. Вздыхает вдова горько-горько и встает.
— Храни вас господь, — говорит она нараспев старухе и уходит.
«Или найти кого-нибудь… или повеситься», — шепотом повторяет вдова про себя бабкины слова и смотрит вокруг, словно взглядом хочет охватить всю деревню. Да что тут увидишь: кругом хаты, заборы, деревья — и больше ничего. Двое ребятишек идут куда-то по улице, у одного в корзиночке горшок какой-то стоит, у другого — ничего, просто идет рядом; оба торопятся, то и дело заглядывают в горшок. Посреди улицы — толстый слой соломы, что нападала с возов, гуси копаются в ней, зерно ищут. Там, подальше, воробьи прыгают; Янош Гуйяш на кур ругается: скирду они растеребили. Гуйяш в той вон хате живет, рядом с ним — Торма. Потом Шерфёзё, Каллаи, Тот, Шереш… Перебирает вдова мужиков, одного за другим. Среди этих, что ли, искать ей того, кто на ней жениться захочет? Ведь у каждого жена, семья. Видно, остается ей все же повеситься.
Всех она знает в деревне, от мала до велика… За кого можно выйти? Не за кого.
Есть, правда, два вдовца… нет, даже три. Да из этих трех один сошелся недавно с бабой из Харшаня, второму семьдесят скоро. А третий — Ференц Вираг, староста. Этому, однако, она не нужна. Он галстук носит, с господами водится. Нужна ему барыня, вроде новой повитухи.
Нет, остается, видно, повеситься. Пока дочь с зятем про позор ее не узнали.
Если б Шандор Пап настоящим мужчиной был, он бы должен был жену свою бросить и на ней жениться. Так нет же. Люблю, говорит, жену. Разве это мужик?
Душа — что глубокий омут, и до краев полна она черных дум. Заглянешь туда — голова закружится. Еще удивительно, что не лишилась вдова рассудка от всего этого.
Для того, значит, любил ее целых два или три месяца этот человек, чтоб погубить, в могилу толкнуть? Если не для того, то взял бы и ушел от жены. Ан нет! Ни за какие сокровища не брошу, говорит, Мари Чёс.
Ох… пойдет сейчас вдова и повесится.
Отрежет кусок от бельевой веревки… или нет, не будет резать: пригодится веревка дочери с зятем…
О дети!.. И разворачивается перед ней все, что окружает ее, омывает ее жизнь, как Кереш омывает ветви прибрежных ив. Дом, сад, могила мужа, день поминовения усопших, Иона, кит, «Библиотека семейного романа», Пирошка, зять, шубейка — все-все… И со всем этим ей предстоит расстаться…
В глазах у нее темнеет от внезапного приступа ненависти, вспыхнувшей, как охапка стружек, брошенных в печь… Пусть же будут прокляты все, кто живет себе и не знает о ее мучениях. Пусть земля их не примет, пусть их души нигде не найдут себе покоя…
— День добрый, тетушка Пашкуй. Откуда путь держите? — слышатся вдруг ласковые слова. Поднимает вдова голову и видит: на дорожке, что ведет к артезианскому колодцу, там, где нескольких домов не хватает в ряду, словно дыхание прервалось у деревни, стоит Шара Кери, повитуха.
«Сам бог мне ее послал, видно…» — изумленно думает вдова.
— Была у крестной дочери, у Маргит Шерфёзё, — лжет вдова. Не первый раз в жизни лжет. И не последний.
— Давно что-то вас не видно, тетушка Пашкуй, — еще ласковее говорит повитуха. Никого и ничего она не боится — боится только языка этой бабы. Самые дикие сплетни распускает вдова про нее и про старосту. А с тех пор, как сын к ней приехал, так и про сына.
— Все недосуг было… а вот нынче как раз иду и дай, думаю, загляну. Беда у меня, милая. Ох, какая беда…
— Что ж… заходите. Благо идти недалеко: два шага, и дома будем.
Оживает, отходит постепенно вдова, идя рядом с повитухой, поднимает голову, смотрит вокруг. Будто долго была в отъезде и стосковалась по деревне. Славно все же здесь, спокойно. В палисадниках огурцы квасятся в банках; сливы сушатся. Небо чистое, как вымытый в свежей воде и насухо вытертый стакан; даже закат — воплощение покоя и вечности. Предвечернее солнце согревает сердце и душу; где-то обед готовили на оливковом масле: далеко расплывается его запах, вкусно, аж слюнки текут. О, до чего же хорошо на свете!
— Ну, рассказывайте, тетушка Пашкуй, что у вас за беда такая, — говорит Шара Кери дома.
— Ох, голубушка, миленькая, помогите мне, если вы в господа верите… — говорит вдова и начинает горько рыдать. Слезы катятся у нее по лицу, частые, желтоватые, как дождевая вода с железной крыши.
Видно, и вправду беда у нее серьезная, если она так ревет отчаянно.
— Ну так скажите же, в чем дело… Иначе — как я могу вам помочь?..
Вдова оглядывается и наклоняется к уху Шары Кери. Шепчет. И опять рыдает, еще пуще прежнего.
Смотрит на нее Шара Кери и молчит. Не утешает. Лишь тихо, размеренно постукивает пальцами по подлокотнику плетеного кресла. Наконец говорит — скорее сама себе:
— Ну да, вы ведь вдова…
— Вдова. Целых десять лет вдова, ох-ох…
— Отец… ну, то есть кавалер ваш… он женат?
— Конечно. В этом-то вся и беда. Спасите меня, миленькая, спасите от позора…
Спасти ее. Если бы она умела спасать… Себя она, правда, в свое время сумела спасти… да зато до сих пор чувствует, каких страшных усилий ей это стоило. У нее никого не было в целом свете, кто бы ей помог; даже не на кого было пожаловаться; самой пришлось себя спасать, самой себе помогать. Правда, она не вдовой была. А итого хуже — незамужней девушкой, а отцом ребенка — один выздоравливающий больной в больнице, где она служила. Поступил он совсем слабый, неизвестно, б чем душа держалась. А поправился и исчез неожиданно, ничего даже не сказав ей… И теперь еще она должна кому-то помогать…
— Я? А что я могу сделать?
— Вы ведь умная, образованная. Я слыхала, вы и в институте учились… да теперь ведь повитух не так учат, как раньше… а потом…
— Нет-нет, об этом вы и не думайте. И сами не пытайтесь что-нибудь сделать. Это ведь убийство.
— Все равно я руки наложу на себя… — снова рыдает вдова.
— Речь не только о вашей жизни! Слышите!
— Что же мне делать?..
— Один выход у вас, тетушка Пашкуй.
— Какой?
— Родить ребенка.
— Нет, нет, такого позора я не вынесу… нет, ни за что! Знала я, знала, что погибель моя идет, — и хлопает вдова себя по бедрам.
— Полно, полно. Поговорят две недели, потом забудут.
— Забудут? Нет, милая, не-забудут. Не знаете вы этих людей. Хуже они, чем басурмане…
— Тогда… найдите кого-нибудь, неженатого, и выйдите за него. Сколько месяцев-то уже?
— Я думаю, два… или один…
— Словом, два… Так что ухватитесь за кого-нибудь и не отпускайте.
— Нету здесь таких, уж я-то знаю. Да если и был бы кто, что я ему скажу, когда ребенок появится?
— А ничего. Дети и на седьмом месяце, бывает, рождаются. Особенно, если приспичит. Вы еще молодая, можете мужа найти. И прежде всего возьмите себя в руки. Вы ведь та самая знаменитая вдова Пашкуй, которая столько свадеб устроила? Неужели ж себе не устроите? Где же вся ваша наука? Соберитесь-ка с силами и бросьте эти мысли. Умереть… Повеситься… Да если вы еще при жизни душу свою в ад хотите отправить…
— Нету здесь такого вдовца, нету…
— Так найдите неженатого. Бобыля какого-нибудь. И пусть радуется, что такую жену получит… Постойте-ка. Я уже знаю одного. Да и вы сейчас угадаете. Ну?..
— Не знаю я, не знаю. Господи, господи, такой позор!..
— Знаете, еще как знаете! Поспорим, что знаете. Ну, поспорим…
Вдова испуганно смотрит на нее, потом шепчет едва слышно, одними губами:
— Ференц Жирный Тот…
— Ну конечно же! Подходит? Я думаю, подходит. Он уж не первой молодости, а вы женщина не старая, так что он вас быстро догонит, не бойтесь.
— Да ведь я ему крестная мать. А отец его — мне сводный брат…
— Тем лучше. Значит, вам легко бывать у них почаще.
Вдова поднимается такая взволнованная, будто радостную весть услыхала. В самом деле, почему бы не женить на себе этого парня? Его тоже жизнь не баловала… К тому ж и ребеночек, бедняжечка, вдруг прежде времени богу душу отдаст?.. И она представляет маленький голубой гробик, который Геза, брат Ферко, понесет на кладбище, держа под мышкой.
Потому что так носят взрослые усопших младенцев.
11
Жирные Тоты разобрали забор перед своим домом и поставили чугунную решетку. Укрепили ее между кирпичными столбами, выкрасили в зеленый цвет. Только верхние пики сделали красными. На решетке — кованые розы; их в белый цвет покрасили. Стоит изгородь зеленая с белыми розами и красными пиками, а столбы кирпичные — светло-желтые, с серой полосой у основания.
Решетку они заказали в Дебрецене; столбы же выкладывал Элек Орбан, который, как известно, лучший плотник и каменщик в округе. И сделал он их такими, что вся деревня приходила и смотрела разинув рот.
Но что толку с вычурной решетки, если дом как был, так и остался старомодным, тихим деревенским домом. На окнах — ставни, а вокруг — узкий каменный карниз. Да и карниз уже почти не виден после бесчисленных побелок. Пока здесь исправник жил, дом в желтое был выкрашен; потом, когда доктор в нем поселился, — в серое. После доктора купил дом резник и выкрасил его в зеленый цвет. Ну а нынешние хозяева перекрасили его в синий, чтоб другого такого дома не было в деревне. Правда, синим он оставался недолго, потому что скотина: коровы, свиньи — ни за что не хотела во двор идти (даже гуси бежали в панике из калитки). Долго ругался тогда старый Тот, а потом отправил Ферко за старым Сильвой, который хоть и плотник, но умеет и малярить. И стал дом опять желтым, как при исправнике.
А нынче мастера соскоблили всю известку, даже штукатурку сбили (Ферко говорит — щикатурка), потом заново обмазали и покрасили в красивый светло-серый цвет. Дом стал как новый. Выкрасили и окна, сменили черепицу на крыше, укрепив ее белым раствором. Словом, сияет дом Тотов под солнцем, как игрушка. Но это не все. Старый Тот еще один амбар хочет строить. Потому что богатство растет, зерно копится…
Если начистоту говорить, так совсем и не потому идет все это строительство, что-де тесно стало Тотам в старом доме, в старых клетях. Просто хотят Тоты показать всей деревне: вот, мол, какие мы. Пусть свалился на нас позор, когда невесту из-под носа увели у парня… Пусть вся деревня над нами смеется… Посмотрим, как она будет завтра смеяться. Известно ведь: хорошо смеется тот, кто смеется последним.
И раньше не жалел Габор своих работников, батраков, должников, а теперь совсем озверел. Вокруг пальца его обвели, на смех выставили!.. Ну, он им покажет… Узна́ют они его. Почувствуют его руку…
Прежде была у них одна собака, большая, сильная, алая, а теперь завели еще одну. Новая эта собака что тигр. Она даже и не лает: сразу бросается на человека. И теперь если приходит к ним чужой, то сперва долго стоит у калитки, кричит, щеколдой стучит, пока не выйдет наконец кто-нибудь из сеней, или из хлева, или из летней кухни. Ребятишки деревенские обмирают от страха, когда подсматривают у решетки, и, стоят собаке голос подать, удирают со всех ног… Да и мало кто ходит нынче к Жирным Тотам. Разве что очень уж кому-нибудь нужно. Рассыльные, скажем, у которых всегда с собой суковатая палка. Ну и, само собой, поденщики.
В помощь Балинту Сапоре еще одного работника взяли; оба с самой весны спят в дверях конюшни. Голову на порог кладут, вместо подушки — полушубок брошен; улягутся навзничь, натянут одеяло на живот, поглядят на звезды и засыпают. Как два полена. А на рассвете или того раньше Ферко или старый хозяин расталкивает их.
Ни воскресенья, ни отдыха. Все дни одинаковы. Нет работе ни конца, ни края.
Старый Тот весь день то там, то здесь; к молотилке идет, возвращается, на пахоту смотрит. Словом, везде успевает — и везде шумит, ругается, подгоняет всех. И жена его хоть и старится, а работает без устали. Всегда на ней плотная юбка в складку, лицо черное, как сажа, а в этом году усы выросли, еще чернее. На подбородке, слева, бородавка сидит, большая, как горошина, из нее торчат, завиваются вниз черные волоски. Как ни посмотришь, старуха все с птицей возится, которой на дворе видимо-невидимо. Ну и с поросятами, со свиньями.
Кончается одна работа — начинается другая. Справились с молотьбой — теперь прошлогоднюю пшеницу молоть везут, а на носу уже уборка кукурузы. Свиней, правда, прошлогодней кукурузой кормят, и все здесь прошлогоднее. Затхлое, заплесневевшее. Почерневшая солома в стогу, сало с душком, старые кукурузные кочерыжки для топки. Даже огонь в печи и тот будто какой-то затхлый. Какой-то позапрошлогодний.
Но чтоб они, Тоты, для всей деревни стали посмешищем, чтоб на них пальцем люди показывали?.. Ничего, еще пожалеют об этом мужики, да поздно будет.
Черной ненавистью ненавидят Жирные Тоты всех, кто ходит, живет, дышит вокруг них.
А Ферко, тот еще и отомстить хочет. И Красному Гозу, и Марике. На колени хочет их поставить. Унизить. С грязью смешать… Да вот как это сделать? Один способ: не соглашаться на развод, если не возместят ему все свадебные расходы.
Адвокат его недавно перед ним обмолвился, что можно требовать еще и возмещения морального ущерба, не только материального; так что Ферко теперь еще выше нос задрал. С Гозовым адвокатом он и разговаривать не желает: пусть платят, хоть лопнут, и все тут.
Один Геза не согласен с братом и со стариками.
— Настрадались и так, бедняги, хватит с них, — говорит. Да кто его слушает? Его слова — все равно что колокольный звон в Буде: отсюда не слыхать. Никакого доверия нет к нему в семье. Когда речь про Гезу заходит, Габор Тот лишь рукой машет: «Э… Геза…» Словно от назойливой мухи отмахивается.
Правда, Гезу это не особенно волнует. Работает он, когда настроение есть; с матерью разговаривает, когда чистая рубаха нужна. И скажет лишь: «Где рубаха-то?» А к отцу обращается, когда кончается курево, в лавку надо сходить за табаком.
— Чего? Табаку? — кричит отец. — Искурил ты свой табак, зимой еще!
— А не дадите, выделяйте мою долю, и до свиданья.
— Долю? Тебе? Из каких таких капиталов? Что заработал, на то и живи, а свое я тебе не дам по ветру пускать, бог свидетель.
— Ладно. Добром не хотите, я к адвокату пойду. Как-никак я уже не маленький, вместе состояние наживали…
Старого Тота, конечно, этим не испугаешь, да все ж неохота с судом связываться. Так что курево у Гезы есть всегда, а больше ему пока и не надо ничего.
Порох он у сторожей добывает, патроны у допризывников выменивает, на зайчатину или на диких гусей (а весной даже раз косулю подстрелил)… Словом, все пока в порядке.
Бывает, выйдет с утра в поле, даже работать начнет, люцерну косить или там сгребать, а потом встанет вдруг, обопрется о косу, ногу за ногу поставит и смотрит, смотрит куда-то в сторону Варада. Потом бросит косу и идет напрямик, куда глаза глядят. Остальные только молча взглядами его провожают, пока не скроется он в луговой осоке…
Из всех родственников одна лишь вдова Пашкуй поддерживает знакомство с Жирными Тотами. Особенно в последнее время. Целыми днями у них толчется. Дома ей делать нечего; по дому Пирошка справится, а что другое — так на это зять есть. Пусть тоже поработает. Словом, времени свободного у вдовы сколько хочешь. С обедом помогает Тотихе, варенье на зиму варить, фрукты собирать, сушить.
И поди ж ты: даже с парнями, Гезой да Ферко, не стесняется иной раз поиграть, подурачиться.
В воскресенье утром, часов в девять, Ферко с работником люцерну в саду сгребали; и вдруг смотрят, идет к ним Пашкуиха по борозде. Новое какое-то платье на ней, прямого покроя, с широкими рукавами; на локтях коричневые кружавчики нашиты. Подходит к груше, руки на груди складывает, смотрит на мужиков, потом на грушу глаза подымает.
— Кто из вас грушу мне сорвет, а?
— Полезайте, крестная, сами! — кричит Ферко; в самом деле, он бы не против посмотреть, как это будет выглядеть: крестная на дереве, на самой верхотуре… Н-да… он ведь тоже не деревянный… и в последнее время частенько беспокоят его всякие мысли.
Зимой, когда свадьба была, что-то словно вспыхнуло у него в сердце, да так с тех пор и не погасло. Так с тех пор и тлеет, дымится… а время от времени разгорается вдруг жарким полымем. Бывает, наработается он за день, каждая мышца поет в руках-ногах — а увидит вдруг вдалеке раздуваемую ветром юбку… И начинают бродить в нем видения всякие, мечты… Какие-то линии, округлые формы мерещатся ему — и дивное дело: уставшие мышцы сразу наливаются силой, становятся упругими, как после хорошего сна. Мечты эти одолевают его и тогда, когда едет он на тряской телеге домой, ну а если к тому же крестная открывает ворота…
— Эх, жаль, что вы мне крестная… — говорит он чуть не со стоном и подходит ближе.
— Что так? Или я тебе плохая крестная?
— Да ведь я… не то чтоб… — бормочет заикаясь Ферко. Не смеет он вымолвить то, что про себя думает много раз на день… Чтобы спрятать глаза свои от вдовы, хватается за ветку и вскарабкивается на грушу, будто кошка. (Ему легко. Весу в нем — всего пятьдесят кило с чем-то. Балинт Сапора, например, думает, не вслух конечно: «Хозяин у меня — чистая макака».)
Зимой, на свадьбе, Ферко лишь раз, один-единственный раз дотронулся до руки невесты, но и сейчас, спустя добрых полгода, помнит то сладкое чувство, которое тогда охватило его. Особенно ясно вспоминает он это, когда глаза закрывает… Однако сладость та — странная какая-то. Словно парша: и тянет почесаться, и больно. А в последнее время стало ему казаться, будто белое тело крестной — это тело бросившей его невесты, что, касаясь крестной, на самом деле касается он Марики… Вот если бы не думать еще о том, что люди его осудят за крестную… Счастье ведь редко кому дано постичь, и мужикам, и бабам. Не то важно, что есть, а то, что кажется… Эх, не было бы сейчас здесь этого чертова Балинта… Сад большой, как лес, тут и деревья, и кусты, и кукуруза, и картошка…
А чертов Балинт Сапора вечно под ногами мешается. И с тех пор, как вдова зачастила к Жирным Тотам, он на нее с таким видом поглядывает, будто и ему что-то полагается.
Правда, крив Балинт на один глаз — вышибли в корчме, в пьяной драке; да и с одним глазом он мужик хоть куда и к тому же силен как бык. Будь у него одежонка получше, сошел бы за порядочного… Соображает Балинт: коли хозяин по деревьям прыгает вроде белки, так и ему работать не обязательно. Втыкает вилы в копну, бредет к груше.
— Полезайте и вы, что ли, — говорит он вдове.
— Ишь ты, шутник, как я влезу-то? — отвечает та; а Ферко на дереве кажется, будто она чирикает.
— А вот я помогу… — хватает Балинт вдову на руки, подымает, хочет подсадить на нижние ветки.
Вдова визжит; Ферко тут же спрыгивает на землю, за ним груши сыплются, десятка два сразу. Подбегает к работнику:
— Ты что делаешь, скотина?
Только Балинт Сапора не тот мужик, который так просто бабу из рук выпустит. Даже глазом на Ферко не ведет: вертит вдову туда-сюда, вот-вот по кусочкам разберет. Той и смешно, и досадно… а когда Балинт вдруг кусает ее за плечо, будто собака, она и вовсе готова рассердиться… то есть рассердилась бы, если б могла…
— Стукни его, Фери… не позволяй ему…
Фери же только смотрит на них, переминается с ноги на ногу. В жизни он еще никого не бил. Разве что лошадей. Зато тех бивал от души. А как это ударить такого вот битюга, которому схватить на плечо мешок пшеницы и нести хоть в другую деревню ничего не стоит…
Не появись в этот момент мать в саду, бог знает, чем бы все кончилось.
— Поди-ка, Ферко, — кричит она сыну. — Рассыльный тебя ищет.
И вправду рассыльный пришел к Ферко. Повестку принес из уездного суда. Четвертого сентября слушается дело.
— Оставил бы уж ты их в покое, бедняжек, — говорит ему Пашкуиха уже во дворе, заглядывая через плечо в бумагу.
— Не оставлю. По миру пойду, а не оставлю, — окрысился Ферко, а вдове не по себе становится. Н-да, коли он их не хочет в покое оставить, значит, ей вряд ли можно на что-то надеяться. Играет с ней Ферко, масляными глазами глядит на нее, а что ей от этого… Видно, ему совсем не то нужно, что ей. Другое. То же, чего Шандор Пап от нее хотел, подлый негодяй…
Да не только подлый негодяй хотел от нее этого и не только Ферко хочет: хочет того же и работник Балинт Сапора и второй работник, который вообще-то с Ирен гуляет, с бывшей соседкой Марики Юхош. Будто осы вокруг банки с вареньем, вьются они вокруг вдовы, успевай только отмахиваться. Есть ей из кого выбрать, только захоти. Стоит пальцем поманить — и готово. Да ведь ей такой мужик нужен, чтобы замуж ее взял, а так — хватит с нее и Шандора Папа… На всю жизнь насытилась, вперед…
Да и Шандор Пап сыт этой историей по горло.
Начал он с того, что сунул в карман бинокль и под вечер двинулся с ним к Керешу. Чтоб он свою Мари Чёс бросил? И на Пашкуихе женился? Нет уж, дураков мало… Лучше он на проезжей дороге женится. Или… или на большом колоколе. Да он Мари Чёс не, отдаст и за дюжину таких, как Пашкуиха! Не отдаст за всех баб в мире. И как это его угораздило влипнуть… чтоб дьявол побрал этот проклятый бинокль и того, кто его придумал… Вот пойдет он сейчас на мост, встанет там, будто на воду загляделся, и бросит его потихоньку. Только круги пойдут от этой мерзостной штуковины…
Да как на зло на мосту встречается ему Шаркёзи, который рыбачить ходил. А когда удается ему что-нибудь поймать, сразу вспоминает он, что рыбу ловить сейчас запрещено и разрешения у него нет. Потому говорит он Шандору Папу льстивым тоном:
— Куда это вы направляетесь, господин Пап?
— Да так… вышел пройтись немного… — И Шандор откашливается, будто простыл. А про себя радуется, что не бросил бинокль в воду: выловит еще кто-нибудь… По-другому надо сделать. Лучше пойти домой и зарыть его в саду… Никогда он не думал, что так трудно от этой штуки освободиться.
Возвращается он домой, а жена как раз провожает за ворота какую-то бабу. Та смотрит на него испуганно — и ну бежать вдоль забора. Бежит, бежит, обернется — и дальше бежит. А Мари глянула в одну сторону, в другую, потом на луну, повернулась и в дом пошла. Будто и не муж перед ней, а пустое место. Шандор входит во двор, растерянный, долго возится с калиткой, закрывает, ощупывает зачем-то. Вспоминает Антала Балинта, что сделал им калитку в прошлом году за десять пенгё; еще порог сделал, хоть насчет порога не договаривались… Словом, тянет Шандор Пап время. Потому что чувствует: дело плохо, черт возьми. Видно, не зря та баба приходила… Еще раз хлопает калиткой, стучит щеколдой — чтоб жена обратила на него внимание. Дескать, хозяин пришел домой. Дескать, и он сам, и дом, и калитка, и все прочее — для того лишь, чтобы ей угодить. Да только жена и не смотрит на него; каблуки ее стучат уже в сенях.
— Принесу завтра два кило свинины… не совсем по правилам закололи… Почему не взять, раз дают… вреда от этого никому нет… — заискивающе говорит Шандор, идя за ней. Случалось им и раньше ссориться (не бывает, чтобы все тишь да гладь), и свинина всегда его выручала. А нынче жена словно и не слышит его. Подходит к печи угли помешать и сшибает крышку с какой-то кастрюли. На грохот выскакивает на середину сеней кошка, облизывается, глядя на хозяйку.
— Пригодится мясо завтра на обед, верно ведь? — не отстает Шандор Пап; садится. И тут же испуганно руку прижимает к боку: бинокль очень уж оттопыривает карман. И дернуло же тащить его домой! Лучше бы оставить на колокольне: там-то уж точно никого не бывает. Только тот, кто ему нужен… Или забросить куда-нибудь, в малину или в бурьян…
Тишина. Опять что-то гремит, и на стол перед Шандором со стуком опускается кастрюля. А жена молча уходит: дескать, вот тебе ужин, на, подавись…
Шандор Пап со вздохом заглядывает в кастрюлю, прислушивается: не плачет ли жена где-нибудь в другой горнице. Однако бабы не всегда плачут, когда плохо. Иногда лишь смотрят перед собой горящими глазами и молчат. А то еще встанут вечером возле хаты, сложат руки под передником — и смотрят, смотрят на звездное небо. Потом присядут, но все глядят на небо, даже когда в горницу идут, все еще на небо оглядываются.
Быстро-быстро постель разбросают, одну подушку сюда, другую туда, повернутся к расстеленной кровати, кофту стянут, юбку, комбинацию, схватят с подушки ночную рубашку, дневную — спустят до пояса; что-то еще отстегивают, пристегивают; потом, надев ночную рубашку и откинув одеяло, забираются в постель. Ложатся навзничь, одеяло натягивают до подбородка и смотрят в потолок. Будто мужа и нет в горнице. Будто это не муж, а воздух… Вот так же в точности ложится нынче спать Мари Чёс. Потеет Шандор Пап, но пока не сдается.
— Слышал я… обратно хотят меня в правление взять, — говорит он громко. Это уж должно ей по вкусу прийтись. Быть женой писаря. А то и помощника секретаря… Однако сейчас даже эти слова не помогают. Лежит Мари, как деревяшка. А Шандор Пап мучается: ну не может он вынести этого молчания. Садится на стул, напротив кровати, колени расставляет, глаза зажмуривает; но так только хуже: с зажмуренными глазами жена ему вроде бы еще лучше видна, во всей ее вечерней красоте и загадочности. Потому что Мари Чёс — из тех баб, на которых днем, когда они одеты, ничего не видно, но зато вечером… Одним словом, Шандор Пап лишь сейчас понял, что он теряет… лишь сейчас, когда почти что уж и потерял.
— Я думаю… я мог бы и в полицию пойти служить, если захочу, — говорит он опять. Потом молчит. Ждет, что будет. Да напрасно ждет. Тогда продолжает: — Да еще звание бы получил, может…
— Иди куда хочешь. И дьявол забери твое звание, — отзывается наконец жена. Ух… значит, все в порядке. Есть за что уцепиться, откуда начать, чтобы поправить, что испортил.
— Кто это у тебя был?.. С кем ты тут разговаривала? — громовым голосом вопрошает он. Теперь можно. Правда на его стороне.
— Торниха…
— Ага. Ну ладно… — встает Шандор. Надевает пиджак, идет к двери.
— Куда ты… черт шальной?
— Я знаю куда… Шею сверну этой паршивой курице!
— Она-то здесь при чем? Она от других слыхала.
Да, верно, она здесь ни при чем. Она от других слыхала. Ну, тогда еще не все потеряно… может, еще и не о том речь, а о чем другом… Какая-нибудь ерунда. Правда ведь иногда ох как долго идет, никак не дойдет, куда надо.
— Что она от других слыхала?
— Что?.. Ах ты старый кобель! Козел вонючий! А то, что по всей деревне болтают… что у Пашкуихи ребенок будет от тебя!..
— Ага. Значит, болтают… — говорит Шандор Пап. И удивительно, уже не сердится. Если болтают, то большой беды нет. Болтовню и остановить можно. Или он не Шандор Пап, инспектор и похоронный агент?.. Или это не он выучил наизусть все стихи Петефи, не он смотрит за часами, не он выслужился в армии до взводного, в сельском правлении — до писаря, не он был начальником пожарной команды?.. Чтобы он не заткнул рот шептунам!.. Зря, что ли, может он поднять центнер пшеницы, съесть целый окорок без хлеба, в один присест?.. Словом, эта болтовня боком выйдет кое-кому… — Вот что, мать: не слушай никого, только одному мне верь, — говорит он твердым голосом, сам уверенный в своей правоте. Полжизни бы отдал он сейчас, только чтобы Мари Чёс ответила ему прежними ласковыми словами, которые им двоим лишь известны.
Может, и не знал он до сих пор, но теперь-то знает точно: самая дорогая вещь на свете — ласковые слова Мари Чёс. Насколько они дороги — настолько и редки. А этой ночью они так и не прозвучали…
12
На следующее утро, когда время шло к завтраку, все видели, как Шандор Пап решительным шагом ходил от дома к дому, с одной стороны улицы на другую. Да еще как Жирные Тоты сено возили на двух упряжках. Не с первого покоса сено, а отаву. Первый же покос у них давным-давно свезен и в стога сложен. Конечно, и другие телеги ездили по улице: которая с соломой, которая порожняя. Но эти две особенно заметны. В каждую по три лошади впряжены. В одной, которой Ферко правит, пристяжным трехлетний жеребенок: объезжают его, значит. Недели две назад его выхолостили, а он и сейчас этому не верит: танцует, вырывается, ходит на задних ногах — чистый дракон, одним словом. Просто удивляешься, как он телегу не опрокинет. А еще больше удивляешься, что Ферко как-то ухитряется сдерживать его, править. Всего-то в мужике пятьдесят кило или пятьдесят пять — а тройные вожжи держит, будто железный. Даже, может, нарочно танцевать заставляет трехлетку: пусть люди видят. Пусть рот разевают. Мол, лошадь — дикая — пляшет посреди улицы, а телега все же едет, хоть и готова опрокинуться в любой момент. Только раз задела немного воротину. Ферко перепугался было… мол, конец искусной работе Элека Орбана. Да все обошлось: прочные столбы поставил мастер, навечно, даже не шелохнулись. Только клок сена остался на воротине. Будто пошлину она взяла.
Основание стога вышло узковатым: правда, не столько Ферко в этом виноват, сколько работник Балинт Сапора. А тот на Гезу кивает: мол, Геза выкладывал, а он только подавал. Конечно, Геза такой. От него всего можно ждать.
Ферко сердито разворачивается возле стога, едва дожидается, пока второй работник воз развяжет, и тут же добавляет в основание несколько навильников. В длину. С той стороны, где акация. А потом валит сверху, сколько ухватить может. Большой стог тут все равно не получится, всего-то, пожалуй, возов на шесть-семь (хорошо, если раз в десять лет удается отаву скосить; так что когда удается — это, можно сказать, чистая прибыль), да все равно — не на воздух же класть. Стог большой ли, маленький, а должен быть ладным, устойчивым. Тут главное — основание… Злится Ферко. И от злости не подает сено, а валит валом; работник из сил выбивается, чтоб успевать укладывать. Сначала по стороне, потом связать, потом в середину… Вот уж вилы о борта тележные стучат, потом по доскам; и обе телеги выезжают со двора.
Тотиха в переднике семена салата шелушит на ступеньках возле летней кухни: возьмет в горсть, потрет, шелуху сдует. А сама поглядывает на телегу. Подходит, закрывает за ними ворота.
А куда ж это теленок делся?
Двухнедельный теленок бегал у них по двору; в стойло его не поставишь, слаб еще, да и жалко, потому что славная скотинка, от помещичьего быка. На племя хотят его вырастить… Куда же он делся, однако?
На улицу выйти не мог: она здесь все время сидит, о тех пор как телеги приехали. В сад тоже не мог убежать — калитка закрыта, и возле хлева его не видно, где остальная скотина стоит. Может, в хлев зашел да лег? Только что ведь здесь был.
Однако нет теленка и в хлеву. Нигде нет.
От соседей двор отделен высоким дощатым забором; все ж и туда заглядывает Тотиха.
— День добрый, тетушка, — входит вдова Пашкуй. — Что ищете? Пропало что?
— Добрый день. Слышь-ка…-не могу вот теленка найти. Нигде не видать… — и идет к воротам.
— Я на улице его не видала…
Ладно, все равно надо посмотреть.
Как в воду канул теленок. А ведь не иголка, чтобы его не заметить. И не пуговица, что оторвалась — и ищи ее.
Вдова Пашкуй давно уж ведет себя у Тотов так, будто опекает их, будто долгом своим считает присматривать за ними, за всеми вместе и за каждым в отдельности.
— На чердак он не мог влезть?
— О… теленок — на чердак? — удивляется Тотиха, но все ж идет к лестнице на чердак. Для очистки совести.
— Всякое бывает. Был у нас однажды поросенок… — говорит вдова, но тут же смолкает. Потому что поросенок — одно дело, а теленок — другое.
Приходит домой старый хозяин (на винограднике был: сторож жаловался, что дрозды виноград поклевали), слушает испуганные причитания двух баб.
— Надо по деревне объявить, — говорит одна.
— Вернется, если хозяина любит, — говорит другая.
Стоит Габор, стоит, потом, не говоря ни слова, идет прямиком к стогу. Тычет сбоку, с концов, берет вилы, начинает разбирать. И вдруг орет, будто его режут:
— Кто это складывал?
— Ферко. А что? — подходит туда жена.
— Пропал теленок. Задохнулся… — вопит Габор Тот во всю глотку.
Пропал годовой приплод от лучшей коровы, пропали денежки за осеменение (пять пенгё сунул Габор ветеринару)… Что ж за люди это, накажи их господи! На кого больше всех надеешься, и тот подвел!.. Словом, гроза разразилась во дворе у Жирного Тота.
С самой зимы жена таким сердитым его не видела. Только зимой он на старшего сына был зол, а теперь вот на младшего. На этого он еще больше зол. Потому что Геза — что с него возьмешь? Геза — человек пропащий. На Ферко надеялся отец, как на каменную стену, а он вон чего делает… Не хватает у него шариков в голове. И что ж это будет дальше?
И вроде бы понимает старый Тот: с каждым бывает промашка, остерегайся не остерегайся… А потом взглянет на теленка, который лежит посреди двора и рыжие мухи кружатся возле его морды, садятся на шерсть, дожидаются своего часа… — и снова злоба ударяет ему в голову. Такой теленок! Такого теленка загубить! Любого другого бы не жалко, а этого…
Едва въезжает Ферко в ворота, отец набрасывается на него диким зверем.
— Не видишь ты, что ли, жеребенок весь в мыле? Не видишь?.. — орет он как помешанный. Будто еще больше распалить себя хочет.
— А чего мне с ним делать? Самому, что ли, пристяжным встать? Везти за него?
— И то лучше, чем скотину мне губить… так-перетак… — до того душит его злоба, забывает он даже, что любимый сын перед ним стоит.
— Ну-ну, отец. Ну-ну… — бежит из летней кухни жена, утихомирить его хочет.
— Ты молчи, пока и тебе не попало… — И снова Габор Тот к сыну поворачивается. Ферко встает на возу, смотрит на теленка посреди двора. Видит разобранный стог. Постепенно доходит до него, что случилось. Но странное дело (так бывает, когда человек погибель свою чувствует): вместо того чтобы раскаиваться, он вдруг тоже закипает злостью. Чтобы именно этот теленок подох!.. Чтобы именно с этим случилось такое несчастье!.. Старается вспомнить, как все было: телега вот тут стояла, он сено сбрасывал, сначала туда бросил… Да нет, не туда, а вон туда. Как же это могло быть? Куда ж они все смотрели: работник и Геза, этот недотепа… да второй работник. А отец его одного поносит…
— Бросьте уже. Хватит, — говорит он отцу, который охрип от крика, только кулаками трясет.
— Что? Хватит? Ты мне еще указываешь, ты… ты, сопля! Молчи, или я тебя быстро с телеги-то сниму…
— Меня? Меня снимете?.. — тоже кричит Ферко, хватаясь за вилы. И дивное дело: никогда еще он не чувствовал того, что чувствует сейчас; невероятно хорошо взять что-нибудь, сжать в руке. Черенок вил, отшлифованный ладонями работников, батраков и его хозяйскими ладонями, тверд, как камень. Конечно, и раньше случалось ему держать в руке вилы… да тогда совсем было не то. Теперь же вцепился он в них… будто бы, скажем, с чердака начал падать и в последний момент ухватился за балку. Или чуть не свалился в колодец, успев взяться за край. Словом, это — настоящее, такое что-то, лучше чего нет на свете. Долго ж он ждал, чтобы это узнать…
Однако и отец не из тех, кто собственной тени боится. Недолго думая, хватает он с земли кусок кирпича, и — бац!.. Кирпич будто прилипает на миг к голове Ферко и бесшумно падает в сено…
— Ох ты… — удивленно говорит Ферко сену, двору, небу — и валится с воза…
…Материна юбка колышется рядом, трехлетка ржет, собака рвется на цепи, потому что в открытых воротах стоят, заглядывают во двор зеваки… — вот и все, что остается в сознании Ферко. А очнувшись, чувствует он, что сидит на земле возле колодца, мать обмывает ему лицо, ощупывает глаз; одежда его, руки в пыли, а на лбу — шишка, огромная, как гусиное яйцо.
Отец же стоит на возу, на его, Ферко, возу, и, будто ничего не случилось, кидает сено на стог.
— Что вы со мной сделали? — стонет Ферко, стараясь, чтобы голос был дрожащим и слабым. Пусть все жалеют его.
— Ну-ну… все хорошо… пройдет сейчас… — шепчет мать.
Ферко встает — и хватается за край колодца. Потому что двор неудержимо вертится вокруг него, будто огромное решето, а он, Ферко, стоит в нем, в самой середине…
Зеваки в воротах, будто только этого и ждали, расходятся в разные стороны. Пересмеиваются, переглядываются; пройдя несколько шагов, оборачиваются назад, снова смеются.
— Тс-с… — цокают языком бабы; а одну, беременную, тошнота вдруг схватывает. На главах слезы выступают, рукой зажимает она себе рот, испуганно прислушивается, что делается у нее внутри. И уходит мелкими-мелкими шажками.
— Ка-ак он ему звезданул! — обсуждают виденное четверо ребятишек, что идут тесной кучкой, шлепая ногами по пыли.
Несут по деревне люди новость, будто муравьи — добычу. Через несколько минут вся улица полна слухами.
И на одном конце деревни новость эта выглядит совсем по-иному, чем на другом. Возле кооператива, например, рассказывают, что Габор Жирный Тот сына своего до полусмерти избил. И не чем-нибудь, а железными вилами.
— Да нет, мужики. Не так все было. Все было по-другому, — говорит Балинт Макк, сапожник; он в деревне лучшим мастером считается, только новую обувь берется шить. Вот и на днях сшил он для барыни, в усадьбу, новые туфли. Туфли вышли — загляденье. Весят чуть больше ста пятидесяти граммов. Сама барыня говорит, что таких туфель ни у кого нет во всей Венгрии. Сорок пенгё взял сапожник за работу, да еще на чай тридцать пенгё получил.
— И как же оно было, господин Макк? — любопытствует корчмарь, который вообще-то из простых мужиков. Стоит он в дверях на одной ноге, будто аист. Невеселый он человек. Особенно с тех пор, как две тысячи пенгё задолжали ему мужики: очень уж много в кредит пили.
— А было дело так… Ференц, значит, спрыгнул с воза, а отец взял и подставил вилы. Понятно, вошли вилы вот тут (он показывает у себя на спине), а на животе вышли… — как любой ремесленник, Макк в то же время еще и фантазер. А к тому же вино уважает. Что и не удивительно: хорошие мастера все пьяницы, без исключения. Взять, скажем, того же Элека Орбана, плотника и каменщика, или колесника, господина Геза, или кузнеца Балога… Остальные, правда, не пьют. Зато и мастерами их никто не считает. Ну, разве вот Шербалог, парикмахер. Который только вчера побрил вслепую Элека Орбана во дворе корчмы, на спор. И не порезал ни разу, и ни одного волоска не оставил. Ну что зря говорить: по-разному бывает…
Словом, драка была, это точно, а остальное уж плод фантазии Балинта Макка.
— Дай-ка, что ли, пива бутылку, — говорит он корчмарю. И оглядывает корчму с удивлением. Мол, как это не выпить по такому случаю? Чтоб кто-нибудь собственного сына на вилы поднял… бр-р… Да-а… словом, и для Ферко нынче солнце закатилось.
— Так им и надо. Подлые люди пусть друг друга убивают, — говорит корчмарь; после того, как роздал он много в кредит и получить деньги назад не может, полдеревни готов изничтожить.
— Это почему же?
— Почему? И вы еще спрашиваете, господин Макк? Скажите мне, когда-нибудь заказывал вам Габор Жирный Тот сапоги или ботинки? Выпил он когда-нибудь бутылку пива или вина? — горько вопрошает корчмарь. Да, славно было бы, если б эти две тысячи за Жирным Тотом числились. С него получить не то, что с этой голытьбы.
— Точно. Обувь он никогда-не заказывает. Раз, на прошлой неделе, приносит мне их работник старый сапог и головки просит набить. Неси, говорю я ему, обратно да скажи хозяйке, пусть она с этим сапогом суп сварит. Да не в печь пусть его кладет, а в котел. А потом пусть съедят… хы-хы-хы… — смеется Макк, наливая пиво. Рукава у него завернуты до локтей, ворот расстегнут. В одной руке — стакан, другая — стол обнимает. Вот уже и стакан он поднял — и тут вдруг ставит его обратно на стол и яростно кашляет. Еще не пил, а поперхнулся.
Было от чего поперхнуться. В дверь корчмы входит сам Ферко Тот.
Останавливается на середине, обирает со штанов сенную труху, оглядывается. Голову держит вверх и набок.. Потому что видит одним глазом. Другой закрыт шляпой и шишкой. Шишка еще больше выросла, пока он сюда добрался, нависла над переносицей.
— Две бутылки пива, — говорит Ферко и садится у стены. Ставит локти на стол, подбородок кладет на руки, смотрит исподлобья на Балинта Макка. Тому стыдно немного, что так подвела его фантазия; торопливо выпивает он свое пиво, наливает еще стакан и подходит к Ферко.
— Посидим рядком, сосед? А то подумают, что мы с тобой в ссоре.
Корчмарь спешит к Ферко с пивом. Будто вот сейчас он как раз и перекладывает две тысячи пенгё на Жирного Тота.
Любители выпивки запах откупоренных бутылок чувствуют издалека, как шмели — аромат распустившихся цветов.
Иному, может, и в голову бы не пришло в корчму заходить, да пивной дух бьет в ноздри, а шипение содовой — в уши. Готов мужик даже лошадей подхлестнуть, чтобы скорей уехать подальше от этой корчмы, да ничего не выходит. «Позвали меня…» — будет потом оправдываться дома. «Я не знаю, сколько хожу мимо корчмы, ни разу меня никто не позвал…» — скажет жена. А что делать, если мужа ее снова и снова туда зазывают…
Про Ферко Тота же одно можно сказать: прямо взбесился нынче парень. Потому что нормальные люди так не делают, как он.
Ну, еще понятно: поссорился он с отцом — человек и с самим-то собой, бывает, ссорится, — но то, что он в корчме творит, — это уж слишком.
Всех угощает, направо и налево.
Сколько есть в деревне выпивох, все уже сидят с ним у стола.
Его за теленка того винить, а потом — камнем, как собаку!.. Ну ладно, больше его ни в чем винить не будут. И пальцем больше не тронут. Вот возьмет он и все вино, что в корчме есть, выпьет, другим выпоит. А потом пойдет и руки на себя наложит. Чтоб больше не быть для отца помехой. И для матери. И вообще для всех…
— Э, не горюй, брат Ференц! Будет и из нее добрая старуха… — говорит Макк, подымая стакан.
А Ферко не понимает, про кого он: про Марику ли, изменницу, или про вдову Пашкуй…
Конечно, на развод он ни за что не согласится, это уж точно… Однако вдова тоже баба что надо… даже еще лучше… Словом, с самоубийством пока можно обождать… потому что в голове у Ферко уже другие мысли бродят.
Чем больше пьет Ферко пива, тем сильнее охватывает его тоска, пока Балинту Макку не приходит в голову, что для настоящего венгра пиво — это так…. Пиво — это для немцев… А венгру вино подавай. И смотрит вопросительно на Ферко.
«Вино да пиво живут в мире», — вспоминают некоторые, но вслух никто ничего не говорит. Раз пьешь, положись на других; как на телеге, когда вожжи брошены на передок.
Как-то незаметно подошел момент, когда все заговорили разом, и все — разное. Только Шаркёзи сидит, зажмурив глаза, ладони зажав между коленями, ноги под столом вытянув, и затягивает:
— «Ах ты вол хороший мой… напою тебя водой… и поставлю в стойло…» — поет, словом. Самому себе. До остальных ему дела нет. Хоть на голове пусть ходят.
В корчме — дым коромыслом. Пьют мужики без зазрения совести. Будто жалко им, если что-нибудь в погребе останется.
Ферко сидит в самом конце стола; вокруг него бурлит, плещется хмельное веселье, все друг друга перекричать хотят. А все-таки, кто бы ни вошел в корчму, первым делом его, Ферко, замечает. Корчмарь ему в глаза заглядывает, Балинт Макк к нему одному обращается; никогда не думал Ферко, что так любят его в деревне. Если б он раньше об этом знал! Многое тогда было бы по-другому. Зимой не сбежала бы от него невеста, а отец сегодня не посмел бы его ударить… Совсем неожиданно открыл он секрет, как быть хорошим человеком, — и теперь все карманы полны этим секретом. А карманов у него — штук двенадцать, если все считать… и зачем ему столько карманов?.. Черт его знает… Есть, например, такие карманы, в которых сроду ничего не лежало…
И мысли плывут у него в голове. А еще думает он о том, до чего здорово у него голова работает.
— Не горюй, брат Ференц. И маленькая собачка большой вырастает, хе-хе-хе-хе… — смеется рядом с ним Лайош Ямбор, потирая ладони. Будто радуется чему. Или зябнет. Ферко недоуменно оборачивается к нему. А этот здесь откуда взялся? Господин Макк, Шаркёзи и прочие — это еще понятно, эти здесь, наверное, с сотворения мира. А Ямбор? И все становится вдруг запутанным и непонятным. Но еще минута — и опять все в мире просто и ясно… Тут и Балинт Макк заводит свою любимую песню; сначала один поет, а потом и остальных организует в настоящий хор.
М а к к. Нету в мире лучше, чем сидеть за рюмкой…
Х о р. Эх, нету…
М а к к (дирижирует). В тихом кабачке… раз-два!..
Один стакан опрокидывается, остальные, как по команде, взлетают в воздух. Лайош Ямбор отчаянно кашляет, задыхается, смотрит вокруг влажными глазами: моя, видите, не в то горло пошло. А ведь все было залпом уже выпил…
Приходит за Ферко Балинт Сапора: пусть, мол, не валяет дурака, идет домой. Отец велел передать.
— Н-нет! Не пойду! Неделю не пойду. Или две… Сколько захочу, — кочевряжится Ферко. И зовет корчмаря. Чтоб налил Балинту литр вина.
— Каждый работник заслуживает своей платы, — поддерживает его Имре Вад, который был в России красным солдатом, а когда вернулся домой — стал сектантом, потом и из секты вышел.
— Он всегда таким был. Последнюю рубашку готов был отдать, — расхваливает Ямбор Ферко Тота.
— Будьте здоровы, хозяин, — поднимает работник бутылку. Зажмуривает глаза, голову откидывает — и будто мелкие волны пробегают у него по кадыку. И уже пуста бутылка. Литра вина как не бывало. Топчется Балинт нерешительно посреди корчмы, потом подходит к столику, ставит бутылку. И скромно усаживается на краешек скамьи.
В голове у Ферко мелькает мысль, что теперь и двумя волами не вытянешь Балинта Сапору из корчмы… но тут же эта мысль ж улетучивается.
— Я, значит, так считаю… бедность тогда хороша, когда ничего нет… — толкует Ферко мужикам.
Те не дают ему говорить. Хохочут, по столу хлопают ладонями.
— А еще — чтобы… оборванным ходить… — добавляет Ямбор.
Но Имре Вад тоже научился кое-чему в России, так что добавляет:
— И когда у тебя детишек много, и все с голоду орут… Эх, ревет и стонет буря… ветер гонит облака… — поет он, Резко выступают на его лице морщины. Вообще-то он хотел «Интернационал» запеть; лишь в последний момент пересилил себя, другую песню начал.
Карой Болдог, отставной железнодорожник, сидит возле Имре Вада; давно уже старается он вывести его на чистую воду. Дознаться, чем тот занимался, когда красным солдатом был. И теперь вот кидается на него, как ястреб на цыпленка.
— Слышь-ка, Имре. Подожди петь. Успеем еще. Скажи лучше мне, когда ты в плен попал?
— Не поймаешь, собака… — медленно скрипит зубами Имре, потом говорит громко: — Четвертого августа девятьсот семнадцатого. Ой, да как… — снова затягивает он.
— Нет, ты постой… ну и что? Там ведь лучше, чем здесь… я знаю, ты сам это говорил…
— Лучше? — машет рукой Имре Вад. Мутным взглядом смотрит на пьющих.
А Болдог все свое гнет:
— Нет уж, постой, постой… не так ведь там, поди, плохо, как говорят. Тамошние-то, они ведь тоже люди. Они тоже хотят, как лучше… — вот сейчас он его к стенке припрет. Или сейчас, или никогда.
А у Имре Вада ладони чешутся: ему тоже кой-чего до смерти охота — дать Болдогу в ухо, чтобы у того глаза на лоб вылезли. Знает он, что Карой Болдог — доносчик. Может, и сейчас его специально подослали… Стало быть, до сих пор не простили ему, Имре Ваду, что красным солдатом был? Неужто так сильно он согрешил, что теперь его до самой могилы будут преследовать? Лицо его, на котором Сибирь и Туркестан оставили неизгладимые следы-морщины, искажается от горечи. Каждая морщина будто движется, живет сама по себе. Словно, живое существо. Оса, скажем, или пиявка; и все они сосут в эту минуту его теплую кровь. Жажда мести, упрямая ярость кипят в нем, и хочется ему назло всем запеть песни, слышанные на русских бескрайних полях…
Да все-таки страшно становится в последний момент. Здравый смысл берет верх, и он затягивает совсем другую песню: «В жизни не бывал я, в жизни не бывал я вором и злодеем…»
А Жирные Тоты все ждут Балинта Сапору, который приведет наконец Ферко домой: ладно уж, что было, то было… Было и прошло. Ведь родитель тоже не может позволить, чтобы его авторитет страдал, а иначе — что же это будет, верно ведь?..
— Верно-то верно… — и соглашается, и не соглашается вдова, прислушиваясь, не раздаются ли шаги на улице. Однако тихо все. Только под воротами солнце борется с тенью.
— Пойду-ка, что ли, я, — говорит Тотиха и идет. Потому что остальные лишь топчутся попусту, не знают без Ферко, что делать, за что взяться…
Да пока добралась Тотиха до корчмы, поздно было…
Шандор Пап, санитарный инспектор и похоронный агент, вышел из хаты, что как раз напротив кооператива. Теперь ему все ясно. Теперь он твердо знает, от кого идут сплетни. От Лайоша Ямбора, выборного. Правда, не то чтобы это совсем сплетни… ну, да все равно. Кто этого Ямбора за язык тянул? Он что, лучше от этого станет или богаче? Или думает, Шандор Пап этого не переживет, что ли? Так зачем же Ямбор болтает? Провинился Шандор перед ним или перед кем другим? Чем заслужил он такое поношение? Ну, он еще ладно… а Мари-то, Мари Чёс, она-то чем заслужила? Она ведь такая хорошая, такая добрая… мухи не обидит. Ну постой же, Лайош Ямбор! Вспомянешь ты у меня венгерского бога!..
Шандор Пап — мужик, как известно, начитанный и, когда его прижмет, прибегает к истории венгров.
Еще в самом начале нынешнего своего похода выпил он у Гуйяша стакан вина граммов на триста, без содовой. Потом у господина Берната повторил. Да еще на Новой улице зашел к Рацке, там опрокинул. Вместе получился чуть не целый литр. Подсчитывал это, конечно, не сам Шандор Пап: следствие установило.
Что Лайош Ямбор в кооперативе, об этом он не знал. Просто шел себе и все думал о том, что́ накипело на душе, переполняя ее, как весеннее половодье.
А кооперативная корчма к этому времени походила на улей, в который кто-то сунул длинную палку и долго там ею ворошил. Или на закипевшую воду, которая перемешивает вот так галушки в котле. Все будто с ума посходили, одним словом. Двое сидели у стола, друг против друга, пели во всю глотку и ладонями били по столу. Еще двое стояли у печки, курили и с серьезным видом толковали о том, куда идет страна.
— Что? Красные? Не думал я, что вы коммунист, — орет в другом углу Имре Вад Карою Болдогу, и морщины на его лице становятся еще глубже. Теперь они словно борозды на осеннем поле. А еще можно подумать, что ножом они прорезаны в коже.
Балинт Макк и Мишка Бан, два сапожника, с Ферко и Ямбором стоят посреди корчмы. Сапожники как раз со двора вошли, а Ферко с Ямбором выйти собирались, да все четверо и застряли: очень срочно понадобилось им друг с другом поговорить. Оба мастера, конечно, не о сапожных делах толкуют: порядочный человек не будет зря болтать о своем занятии. А решили они по предложению Ямбора уговорить Ферко, чтоб оставил он в покое Красного Гоза да Марику Юхош. Они ведь тоже люди, только бедные… Что ж, они и жить не имеют права? Пусть живут. Пусть любят друг друга.
— Я вот как раз толкую Ференцу: уж такой он славный парень… а согласился бы на мировую с Красным Гозом, был бы куда лучше, — объясняет Ямбор. Потому что он и вправду Красного Гоза уважает. Кто еще мог бы для него, Ямбора, сделать такое, как Красный Гоз? Никому не рассказал о том случае в Комади, когда полицейский его оштрафовал. С таким человеком лучше дружбу водить…
— Как?! Так вы все еще ничего не уладили? — насупил брови Балинт Макк. Словно в тот момент это было самое важное дело на свете.
— Нет еще… да, по мне, пусть живут, я их обижать не стану, уступлю. Я всем уступлю. Вчера вот как раз думал: пойду к адвокату и скажу… — оправдывается Ферко. Мишка Бан, которого совесть мучает, что не дал он в прошлый раз Ферко велосипед, тоже торопится выскочить:
— Правильно делаешь. Умный всегда уступает. Заходи, бери велосипед. Поезжай. Я и в прошлый раз тебе дал бы, да мне ехать надо было как раз в одно место…
Шум, копоть, крики.
Может, в этом столпотворении и начало постепенно отходить сердце Ферко Тота. Он уж и сам удивляется, как это до сих пор не простил Марику. Вкус прощения даже еще лучше, чем вкус вина, или пива, или чего бы то ни было. Дольше проживет на свете тот, кто хоть изредка будет ощущать на языке этот дивный вкус. Даже на отца не сердится больше Ферко. Тает, как масло на сковородке. Вот ведь что делает с человеком вино. Конечно, не на всех оно одинаково действует: на одного так, на другого этак… Уж и на дверь посматривает Ферко: рука его скучает по черенку брошенных вил, нос — по запаху свежей отавы. Правда, теленок вот… И вообще, не являться ж ему домой просто так, будто ничего не случилось…
Если они в нем не нуждаются, так и пусть… «Еще вина!» — кричит Ферко и смотрит, куда бы сесть…
В этот момент открывается дверь и входит Шандор Пап.
Замирает, будто собака на стойке, потом большими шагами идет прямо к Ферко и Ямбору.
— Хе-хе-хе… — смеется Ямбор, глядя на него. Не может глаз от него отвести. Вспоминается ему вдруг ректорская малина, и вдова Пашкуй, и собственная жена, и то, что в воскресенье кончается срок закладной в кооперативе… все это мелькает в его мозгу, и тут с ужасающей ясностью чувствует он, что голова его выше всех других. Как мишень для прицела. И неминуемо попадет в нее каждое ругательство, каждый брошенный камень, поднятая палка… И он быстро прячется за спину Ферко. Словом, уже нету его…
— Господин Пап! Что вы? Эй, Шандор! — раздается со всех сторон; стулья опрокидываются, сапоги стучат, бутылки звенят; какую-то долю секунды слышно, как льется со стола на пол вино.
— «Вставай, проклятьем заклейменный…» — вдруг прорезает шум голос Имре Вада. Спохватившись, смолкает он сразу — да поздно, слишком поздно… Тут хватает он бутылку из-под содовой и бьет ею по затылку Кароя Болдога, который уже начал было ухмыляться: ага, дескать, вылезло шило из мешка… Шум и крики теперь обращены к ним (так пшеница клонится к тропе от пролетевшего ветра)… А Ферко стоит, один среди сумятицы; по лицу его льется кровь; вздыхает он и падает набок как подрубленный. Левая рука сминается под ним, будто тряпичная.
Шандор Пап садится к пустому столику боком, поставив меж коленями палку. Смотрит он на упавшего Ферко, смотрит и будто не видит. Потом поворачивается к Карою Болдогу. Не поймет: двух человек сбил он одним ударом или сначала одного, а потом другого.
Все вокруг стоят ни живы ни мертвы.
Смотрят ошеломленно друг на друга и теперь вспоминают, что перед этим зазвенело еще в окне выбитое стекло. Это Лайош Ямбор сиганул на улицу, высадив раму.
13
Давно не случалось такого в деревне.
Давно не было драк, в которых двух-трех мужиков обязательно уносили бы домой на простыне. Положат бедолагу на простыню, подымут за углы — и пошли. А дома вывалят на постель или просто среди горницы, на пол.
Целые семьи состояли в жестокой войне друг с другом, дети наследовали вражду отцов и передавали дальше, своим детям; то одна семья брала верх, то другая. Недаром ведь говорят: счастье с несчастьем двор об двор живут. Сегодня ты полковник, а завтра покойник…
Ференца Вирага, например, так один раз отмочалили — думали не подымется, а подымется, убогим останется. Ан нет. Мужик как мужик. Даже, если уж на то пошло, еще и другим фору дает. Выздоровел, а потом на чьей-то свадьбе собрал родню да возвратил долг, еще и с лихвой. И главного врага его, Яноша Багди, тоже на простыне домой унесли.
Но все это давно уж было. Такие тогда были времена. Нынче дело другое, нынче мужики культурно живут, как утверждает Балинт Макк, самый искусный сапожник в деревне. И добавляет (пока его Шербалог бреет, парикмахер):
— Что ж это, кум, в лесу мы, что ли, живем?
— Мужику насчет культуры говори не говори — все едино, — отвечает Шербалог, свирепо правя бритву. Щелкает ремень под бритвой, а Шербалог еще и ногой притопывает, будто точило вертит.
— Чтобы так вот наброситься на человека и по голове его…
— Да уж что говорить, прямо зверство какое-то… А вообще, неплохой удар был, кум, грех обижаться…
— Да ведь… не тому достался, кому следовало…
— А не все равно? Один черт. Мужик — он мужик.
Вот так говорят об этом люди мастеровые.
У мужиков, ясно, свое мнение: у одного — одно, у другого — другое.
Одни кричат, что таких, как Шандор Пап, повесить надо, за ноги; другие кричат, что этого Ферко еще не так надо было бы стукнуть.
Правда, Ферко не виноват был… да ему это тоже полезно. Ничем он не лучше родственника своего, Лайоша Ямбора. Или доносчика этого, Кароя Болдога.
Что бы там в деревне ни говорили, дела это не меняет. К тому ж и Шандор Пап сильно поплатился за свой вспыльчивый нрав. Верно говорят, что гнев лучше с вечера отложить на утро. Мало того, что промахнулся он (и кто бы подумал, что этот Лайош Ямбор таким проворным окажется — чистая ящерица!), так еще и у Мари Чёс не добился прощения.
Словом, Шандор Пап теперь и сам не знает, что и как. Увидев в корчме Лайоша Ямбора, он подумал, что вот сейчас, одним-единственным ударом все сразу исправит, что испортил… Да ведь господи! Кто же не ошибается? На что лошадь о четырех ногах, а и той случается споткнуться. Когда понесли Ференца Тота домой (не в простыне: вышла простыня из моды), Шандор Пап сам в полицию отправился.
— Умер пострадавший? — спросил его унтер-офицер.
— А дьявол его знает. Вроде бы нет, — ответил Шандор Пап, тихо размышляя насчет того, что все на свете — суета сует.
— Тогда… идите, господин Пап, домой. А мы начнем следствие…
Не посмел Пап сразу домой идти (ох, и трудна ж судьба у бедного человека, всюду его несчастья подстерегают), а прежде взобрался на колокольню и подвел часы на шесть минут вперед…
У Тотов же хлопают двери, калитка. Одни уходят, другие приходят. Один лишь старый Тот сидит сгорбившись в самом темном углу, за комодом, и ни слова не говорит, не шевелится, только моргает часто-часто. Отдал бы он не только теленка, а и мать родную, лишь бы Ферко, сын его, открыл глаза.
— Ты его довел до этого. Ты его погубил, — твердит жена; она уже не плачет: до того все это страшно, что и слезы у нее нейдут. Такое бывает, когда человек слишком уж перепуган.
— Ну-ну… до этого еще далеко, — говорит доктор и нерешительно руку протягивает куда-то вбок, но не говорит, что ему надо, а смотрит на лежащего без сознания Ферко.
Вдова Пашкуй, вся дрожа, стоит рядом, чистое полотенце держит; то под мышку его возьмет, то на локоть повесит. Сейчас сует его доктору в руки. А тот не смотрит ни на вдову, ни на других; осторожно вытирает промытую рану на голове Ферко, потом открывает свою сумку, достает бинты.
Рана у Ферко — основательная. От самого лба до затылка. И как могла толстая палка так изогнуться — непонятно.
Перевязывает доктор голову Ферко, отрезает бинт, узел затягивает; Ферко даже не шевелится. Будто снотворное выпил. Доктор может с ним делать, что хочет.
— Теперь дайте ему поспать, и все будет в порядке, — говорит он, выписывает рецепт, берет деньги и уходит.
А про себя думает: «До чего ж крепкая голова у некоторых. Кожа вся лопнула, а череп — хоть бы что. Не шевелится же Ферко просто потому, что пьян вдребезги».
Но родственникам доктор об этом ни слова не говорит. Ничего, пусть немного попричитают…
Старый Тот с двумя работниками стог довершает во дворе; работают молча, быстро. У ворот цыган околачивается: насчет мертвого теленка хочет поторговаться. Солнце клонится к горизонту, уходит за кроны акаций. Приближается вечер. Две бабы бесшумно бродят по горнице, сняв туфли. Делать им в общем-то нечего, просто стараются в доме быть, чтобы не пропустить момент, когда Ферко очнется… Вот он захрапел вдруг, потянулся; потом перевернулся на другой бок. И спит себе дальше.
— Я, пожалуй, выйду, слышь-ка. Дел у меня много во дворе. А ты оставайся с ним… — шепчет Тотиха вдове.
Та лишь кивает в ответ, подходит на носках к постели, отгоняет муху, которая чуть не села на повязку.
Мать выходит; в дверях еще оглядывается, потом тихо закрывает за собой дверь.
Крепкий запах йода стоит в горнице; мухи, спасаясь от него, собираются в окне; сгущаются сумерки. Вдова придвигает стул к изголовью постели; ни единой мысли нет у нее в голове. Лишь твердит про себя упрямо:
— Сейчас или никогда… сейчас или никогда…
— Ах-ха-а-а… — вдруг громко зевает Ферко и мотает головой, разжимает кулаки. Вдова наклоняется над ним.
— Спи, спи, миленький. Не бойся ничего, я с тобой… — шепчет она, гладя его по щеке.
Ферко долго смотрит на потолок и молчит.
— Крестная, я… я такой несчастный… — жалобно говорит он, готовый заплакать.
— Бедненький мой… знаю я, знаю, все тебя обижают… — гладит его вдова и косится на дверь. Потом без лишних слов встает, дрожащими руками торопливо расстегивает крючки на юбке. Юбка падает, а вдова поднимает одеяло и ложится рядом с Ферко.
Скоро, двадцать девятого августа, Ферко исполнится тридцать два года. Однако в его жизни вдова Пашкуй — первая баба, чьи плечи, руки, груди он ощущает так близко. Жестокое, острое до боли наслаждение наполняет его тело. Правую руку подсовывает он вдове под спину, другой рукой прижимает ее к себе, лицом зарывается в жаркую наготу — и рыдает мучительно, до икоты.
— Крестная… — выговаривает он сквозь рыдания, — милая, хорошая моя крестная…
Сколько бегал он, суетился, пыжился, готовил страшную месть… Устал, устал и душой, и телом. И теперь прячет голову на мягкой, доброй груди, как побитый, наплакавшийся ребенок.
14
Работа на строительстве дороги подходит к концу: вот докончит каждый свою кучу камней — и все. Теперь хорошо бы снова наняться куда-нибудь в землекопы, а там сахарная свекла пойдет. После свеклы, глядишь, опять набежит что-нибудь.
Красный Гоз и Тарцали работают в паре; в полдень начали они дробить кучу, а завтра уже и выходить не надо. Так что сегодня хорошо бы поскорее управиться. Нельзя сказать, что очень уж у них мелкая получается щебенка… Хоть известно, что камень не просто надо разбить да на дороге оставить: дорожный инженер точно определяет, каких размеров должны быть самые крупные куски. Если у тебя крупнее получается щебень — можешь начинать все заново. Или не обижайся, что будут большие вычеты. Значит, инженера нельзя перехитрить. Но так только инженер думает. А на самом деле все идет, как хотят Красный Гоз и Тарцали.
Они, например, предложили, что сами будут щебень рассыпать. Дорожник потом лишь проведет сверху доской, впадины разровняет. Остальные рабочие долго шумели; особенно те, кто не понимал, в чем тут дело. А дело в том, что под мелкой щебенкой много крупных камней можно оставить. Кто их найдет? Разве что те, кто потом с катком будет дорогу укатывать. Да к тому времени рабочие, что камень дробили, со своим заработком где уже будут!
Так обстоит дело с дорогой.
Правда, не то чтобы совсем так. В дорожном ведомстве сидят чиновники, инженеры, которые над тем голову ломают, чтобы ремонт и строительство дорог как можно дешевле обходились, чтобы и при самых хороших дорогах налогоплательщики от налогов поменьше страдали. Понятно, что эти старания прежде всего по рабочим бьют: по камнедробильщикам, по землекопам и прочим; так что этим тоже приходится браться за ум, и, по всему судя, они за него взялись.
А что принесет им будущее, этого они знать не могут. Да этого не знает и само дорожное ведомство.
Смеркается. Идут кореши домой. Далеко еще до деревни — добрый километр.
— Тпру-ру… — останавливает кто-то позади них лошадь. — Садитесь, брат Йошка, брат Тарцали. Тпру…
Оказывается, это Лайош Ямбор возвращается с поля в деревню.
Красный Гоз берется за борт телеги с одной стороны, Тарцали — с другой; вскакивают вместе. Садятся на борта, друг против друга.
— Где был, Лайош?
— В Шованхат ездил. А вы-то… не были, что ли, сегодня в деревне?
— Нет. Случилось что? — настораживаются оба. Мало ли что может быть: с семьей что… пожар…
— Эй!.. Пошел… Пошел, Чалый, но!..
— Ну, говори же скорей…
Точно, наверное, пожар. Года четыре назад священника встретили на станции вот так: мол, дом ваш сгорел, преподобный отец. На что священник почесал горько в затылке и произнес: «Не зря, видно, пел я целую ночь: «Дом горит, камыш трещит…» Потому что на именинах был он в дальней деревне.
— Эх… не знаю, с чего и начать, слышь-ка. Для одного из вас — плохо, для другого — хорошо. Я ведь никого огорчать не хочу… Словом, Пашкуиха-то сошлась… в общем, легла… или как уж там сказать… с Ференцем Жирным Тотом… а тому, стало быть, Шандор Пап в корчме голову проломил… в общем, с отцом он сначала поругался, Ферко-то, из-за теленка, которого он в стог зарыл… хе-хе-хе-хе…. — говорит Ямбор бессвязно. А сам лошадей подхлестывает: те несутся; вот-вот телегу разобьют.
Кореши молча глядят друг на друга, а мозги у них работают, как мельничные жернова. Красный Гоз много чего передумал за целый день… да что за день — за все лето, а такое ему даже в голову не приходило. Что так легко все решится. Что так быстро исчезнут с его пути все препятствия. Ведь если это правда, тогда он самый счастливый человек на свете… Суд выдаст развод безо всякого Якова, и денег немного потребуется; не придется отдавать все, что летом заработал… А в будущем году можно Борку поставить под ярмо… Все-таки, хоть ненадолго, а бросит он и земляные работы, и дробление камня, и сахарную свеклу… А главное, ребенку даст честное имя. Хо-хо, еще как даст! И Марика не будет смотреть на него жалостно, так жалостно, что сердце сжимается; и мать не будет вздыхать по ночам… Господи! Это ж такая радость!.. Если, конечно, правду говорит этот болван.
— Экую ты чепуху мелешь, Лайош…
— Я? Чепуху? Да я сам там был. Еще счастье… то есть сначала-то я все пробовал Ференца уговорить, мол, хватит валять дурака с этим разводом, все равно ничего у тебя не выйдет… и все такое, а тут ворвался в корчму Шандор Пап, что твой бык. Размахнулся палкой — и как ему врежет! То есть не ему, а мне… Да только я-то не стал дожидаться, я еще не тронулся, верно ведь?.. — И оборачивается к Тарцали. — Ей-богу, я о твоей теще слова никому не сказал, хоть и знал… да чего там: все знали, а этот зверь — прямо на меня. Не долго быть ему на свободе, вот увидите… Н-но, Чалый! Н-но!.. — Кстати говоря, это отец ему Чалого дал, на время, а он до сих пор на нем ездит.
— Ну что дальше-то? С Ферко Тотом что?
— Сначала говорили, что он того… помер. Да не тут-то было. На нем — как на собаке. И то: дерьмо в воде не тонет, обязательно всплывет… Перевязал его, значит, доктор; а когда старики дела закончили, несут, значит, лампу, а они… лежат рядышком и спят… Хе-хе-хе-хе…
Тарцали смотрит на Ямбора, потом на кореша; потом без лишних слов перекидывает ноги через борт, соскакивает на землю. Руки отряхивает, перепрыгивает через канаву, направляется к деревне прямиком. Слова не сказав на прощанье.
Красный Гоз от правления идет домой пешком, потому что Ямбор свернул к себе, в Церковный тупик. Идет и все больше удивляется: с кем ни встретится, все громко, чуть ли не заискивающе, здороваются с ним, а больше ничего не говорят. Видно, и вправду есть что-то в том, что болтал этот Ямбор.
А уже в переулке попадается ему навстречу Ференц Вираг, староста, принаряженный, в галстуке. Удивляется Красный Гоз: ни разу еще, сколько себя помнит, не видел он старосту здесь.
— Добрый вечер, господин староста, — приветствует его Красный Гоз.
— Добрый вечер, приятель, — отвечает тот и останавливается. Палкой постукивает по краю дорожки. — Ну как?.. Значит, и еще день прошел?
— Прошел. Закончили мы с дорогой, — говорит Красный Гоз и опять удивляется. Не бывало еще, чтобы староста так просто остановился и заговорил с ним.
— Так… Ну-ну. Чему есть начало, тому и конец должен быть. Верно? Неплохо, поди, заработали?
— Да что там… Сколько дадут, столько и ладно. Уж всегда так.
Стоит Ференц Вираг, никак не кончает разговор. По всему видно: время тянет. А у Красного Гоза пятки чешутся, так ему хочется домой. Да неловко так вот взять и уйти: староста все же.
— Какими к нам судьбами, господин староста? Не часто увидишь вас в нашем переулке.
— Вот смотрю… слышь-ка, не пора ли сюда земли подсыпать… Совсем разбили колеса дорогу.
— Хорошо бы, что и говорить. Ну, тогда… спокойной ночи. — И уходит Гоз. Только ему и дела, что стоять болтать по-пустому. Когда ему лететь домой хочется. Вроде ласточки. Ишь, дорогу подсыпать… Еще, дескать, день прошел… Само собой, прошел. А вот он-то, староста, что здесь потерял?.. Смеркается, когда Красный Гоз входит к себе во двор.
Здесь, в переулке, вечер наступает раньше, чем на других улицах; и роса раньше ложится на листья шелковицы, прибивает пыль на дороге. Все четыре индейки Гозов сидят на нижних ветвях дерева. Их прежде всего и замечает Красный Гоз. А потом видит, что вокруг крыльца стоят, сидят бабы, как воробьи. И чирикают все сразу. Среди них — один мужик, Геза, брат Ферко; он тоже что-то говорит, размахивая руками.
— Идите, идите сюда, — машет Красному Гозу повитуха. — Слыхали новости?
— Слыхал. Хорошие новости. Если б еще и правда это была…
— Что значит «если»?.. Все чистая правда. Видите, я же говорила, что бог вас не оставит.
— Э, полно! Бог-то бог, да и сам не будь плох. А потом… из-под такого удара… да прямо в брачную постель. За такое и денег не жалко.
Марика выходит ему навстречу, к переднику ее пристала фасолевая кожура — как раз фасоль она чистила. Ладонями оглаживает мягко живот, смотрит на мужа; в глазах у нее — теплая, чистая глубина. Тихо смеясь, протягивает Йошке обе руки, обнимает его.
— Пришел? — шепчет. Нет у нее других слов. Верила она, твердо верила в свое счастье, и вера эта ее не подвела, Все, что она вытерпела, — все это пустяки. Об этом и думать не хочется. Сейчас нужно думать о своей жизни… ну и о том, кому она тоже даст жизнь в скором времени…
— Эх, видели бы вы то, что я видел, когда в горницу вошел… — все не может успокоиться Геза. И правда, картина была на диво, ничего не скажешь. Братец его знаменитый, этот красавец писаный (всего-то пятьдесят четыре кило, опять в последнее время похудел), пристроился у крестной на груди, будто птенчик в гнездышке… Геза нынче чувствует себя счастливым. Еще бы: зимой над ним деревня потешалась… и все из-за какой-то коровы… а теперь они по крайней мере вдвоем будут с братцем. Тут же побежал он к Гозам рассказать поскорее новость.
— Ох, я пойду, пожалуй… ждут меня, — говорит повитуха, поглядывая в сторону улицы.
— Разговаривал я с ним, — понимающе отвечает ей Красный Гоз; а сам думает о том, что их с Марикой жизнь, хоть и с трудом, а нашла свое русло, свой путь…
Словно долго-долго бежал он, напрягая все силы, против ветра, таща на спине тяжелый груз — и вот прибыл, куда стремился; а тут и ветер стих, и груз упал с плеч.
— Ам… есть хочу, — говорит он и смеется. Особым своим, жестким смехом.
Тут бабы поднимаются, отряхивают юбки и уходят, попрощавшись. Только Геза молча озирается, потом садится на перила свесив ноги. В сенях звенит посуда. А Геза качает ногой и говорит свое.
— Я сколько этому дураку твердил, мол… брось умничать, уступи. Куда это годится?.. — разглагольствует он так громко, что веранда гулко отзывается на его голос. Не подольститься хочет, он к Гозам, а просто время тянет. Пришел он сюда для того, чтоб расспросить у Марики про Лили Такач. Лили — богатая девка, дочь мельника; да грех с ней случился… словом, ребеночек у нее: красивый, здоровенький такой мальчик… только не знает никто его отца. Задумал Геза взять ее в жены. Марика, наверное, больше о ней знает, потому что этим летом отец Марики, Михай Юхош, нанимался к Такачу на поденщину: жать, кукурузу рыхлить.
Зажигают в сенях лампу, откидывают занавеску на двери…
А Шара Кери в это время проходит мимо хаты Сокальи. Дальше нет домов, и дорожка кончается; лишь канава идет под изгородью. Перешагивает Шара Кери через канаву на другую сторону дороги. Здесь, правда, есть тропинка — да зато не то что домов, а и изгороди-то, можно сказать, нету. Лишь кусты бузины да проволока, прицепленная на обрезанные акации, — вот и вся изгородь. Скотина не пройдет, а люди могут ходить, сколько хотят.
Густой аромат бузины плывет в воздухе; плечами женщина задевает за кусты. Млечный Путь висит как раз над переулком, и по сторонам звезды словно осыпаются в листву акаций. Кусты вокруг темные, страшные, что-то шуршит под ними, то ли кошка, то ли еж. Сверчок пиликает где-то на крыше, на мшистой подстилке, видно застрял там с весны или сам захотел остаться. Конец августа; вечера в эту пору особенно томят сердце. Тишина, покой вокруг. Такая тишина, такой покой, что даже не верится… не верилось бы, если б не сверчок.
И если б звезды не осыпались в акации.
Ну, и если б не шелестела среди кустов юбка Шары Кери.
Юбка — она на то и юбка, чтоб шуршать и шелестеть.
В точности это самое (то есть насчет юбки, конечно) думает Ференц Вираг; потом, ухватив руками полы пиджака, одергивает их, шею вытягивает, голову набок склоняет и выскакивает перед Шарой Кери на тропинку.
— У-у-у…
— Так я и испугалась… — говорит та, хоть сердце у нее стучит в груди отчаянно. — Долго ждали?
— Нет, ничего. Не забыли, что жду… — И заходит о другой стороны. Идет рядом.
— Я ведь вам сказала, чтоб зашли за мной.
— Да я сам не хотел… потому, знаете…
— Ну-ну, договаривайте! Стыдно со мной на людях показаться, верно?
— Да нет… Не то совсем… — бормочет Ференц Вираг.
В самом деле стыдно ему было к Гозам заходить. Не потому, что староста; не хотел он, чтоб видели его с повитухой. Что скажут люди, если он — в открытую?.. Этого ему только не хватало. И так болтают больше чем надо. Молча проходят они мост, выходят на Главную улицу. Идут по самой середине, по дороге.
— Чудной вы человек, — говорит наконец повитуха.
— Почему это? — осторожно спрашивает Ференц Вираг.
— А потому. Вы меня готовы любить вот так, чтоб никто не видел. А увидит кто, вы и хвост поджали.
— Вы знаете, как я вас лю… люблю, — с трудом выговаривает он это слово. Потому что пятьдесят два года ему, а таких слов он еще никому не говорил. Стыдился. Как стыдился бы, например, сказать какие-нибудь скверные слова: до сих пор не очень-то отделял он одно от другого. Да и вообще представить себе не мог такого мужика, который взял бы и сказал бабе в глаза это слово. Вот и теперь оглядывается: не слышал ли кто?.. Ну, если сама повитуха говорит, значит, и ему можно. Конечно, господский язык он понимает… да ведь повитуха — это дело другое.
— Любите… Только лучше все ж в темноте, а?
— Опять вы несерьезно говорите…
— Несерьезно, конечно… Несерьезно говорить, несерьезные поступки совершать… Вот чего бы вы от меня хотели, дядя Вираг. А я уже вам много раз толковала… невозможно это. Знаете ведь вы, очень даже хорошо знаете: обожглась я однажды. С меня довольно. Есть у меня сын, большой, умный, и я его очень, очень люблю… но не хочу, чтоб был еще один.
— Я тоже вас очень люблю, — перебивает почти со злостью староста. Все легче выговаривается у него это слово. И не стыдно уже вроде бы. Даже хочется еще что-нибудь говорить этакое. Если ничего не придет в голову, так хоть сквернословить, что ли, при ней…
— Дурачок вы. Не меня вы любите, а самого себя. И считаете, что легче достигнете цели, если не признаетесь в этом. Меня вы только одним способом можете получить, это вы поняли? Если женитесь. А нет — так до свидания. Уж такая я женщина.
— Да ведь я сказал, что… и до этого дело дойдет, только не сразу… — бормочет староста. Не может придумать ничего умнее. Все-таки это слишком, чтоб из повитухи сразу в старостихи. Конечно, она почти что из господ, да все ж не совсем…
— Вот мы и пришли. Доброй ночи, — протягивает ему руку Шара Кери, стоя у калитки.
— Давайте провожу вас в дом… а то вдруг во дворе кто-нибудь схватит, — пытается шутить староста, идя вслед за ней.
— Ну, как хотите…
И вот Ференц Вираг стоит в темной горнице; вспыхивает спичка — и со всех сторон на него смотрит старая мебель. Кто-то спит на кушетке: ну да, это ее сын. Староста неловко переминается с ноги на ногу: жалеет уже, что зашел. Эх, если б эта баба посговорчивее была… то есть другой была бы… Жарко ему. Расстегивает пиджак.
— Я и не знал, что…
— Тс-с… тише… — Шара Кери наклоняется над кушеткой, целует сына. Потом идет к шкафу (это уже настоящий шкаф, а не ящики из-под сахара), открывает дверцу. Шуршит одеждой, потом высовывается наполовину, с голыми руками, с едва прикрытой грудью, берет что-то со скамейки, вертит. Ференц Вираг стоит посреди горницы и смотрит, как свет лампы льется на ее кожу. Зажмуривает глаза, снова открывает, потом идет напрямик туда, за дверцу. А шкаф дальше не открывается: или дверца сорвется, или опрокинется весь шкаф. Шара, задыхаясь, отталкивает его:
— Идите, дядя Вираг, идите с богом…
— Я уйду, только… только поцелую. Здесь или где хотите… — шепчет и сам верит, что этого ему хватит.
— Ну хорошо. А потом идите… — И ждет Шара Кери, уронив руки. Ференц Вираг стоит перед ней так близко, что дух у него захватывает. И так хороша, невыразимо хороша эта женщина, что просто заблудился он в ней и не знает, что теперь делать…
Нет, видно, не для него она создана. Слишком уж мужик он рядом с ней, серый, незначительный… А в то же время она — это куда меньше того, что ему нужно, будто и не баба она, а какое-то утонченное, воздушное существо… совсем другое, несравнимо другое. Над грудью ее — две веснушки, брошенные как придется; под мышками — светлые, рыжеватые кустики волос, смятых, как конопля после грозы.
Под коротенькой комбинацией, наверное, еще сорочка… Ференцу Вирагу и во сне не снилось, что баба эта так хороша, так совершенна. Правда, весной видел он ее еще больше раздетой, в одних трусах… да тогда и женщина-то сама словно исчезла за своей наготой… Поцеловать ее? Куда?.. Пятьдесят два ему скоро, а все как-то не приходило в голову подумать, куда полагается целовать бабу. Бывшая его жена совсем другой была в девках, только лицо и оставалось незакрытым… А эта… Да и некогда было ему целоваться в те времена. Работал лак лошадь. И с выборами не знал покоя. Речи говорил, агитировал…
— Ну хорошо, не надо целовать, бог с вами, — шепчет Шара Кери. Мягко берет его за руку, подталкивает к двери. А он не противится: пусть делает, что хочет. Страшно нужна ему эта женщина. Да куда денешься — все-таки он староста как-никак. Эх, лучше бы уж не был он старостой…
А Шара Кери садится на кушетку, рядом с сыном, и смотрит на закрывшуюся дверь. Дикий, необузданный человек, это верно, но такой мужественный, сильный, и к тому же с состоянием. Правда, ему пятьдесят два, а ей тридцать два… от этого тоже никуда не уйдешь… Но зато над головой у нее был бы кров, надежный, свой, как звездное небо. И ребенка бы он усыновил… звали бы сына: Фери Вираг[30]. Красивое имя… у красивого мальчика красивое имя… Да не хочет никак поддаваться этот упрямец… не хочет, и все тут… Уж она сняла бы с него этот нелепый галстук… Зашевелился сын и вдруг садится. Моргает, глядя на лампу.
— Как ты долго, мама. А я заснул…
— Правильно сделал. Не ужинал, наверное?
— Нет. Тебя ждал.
— Дела у меня были, старина. Ну вставай, поужинаем. Смотри-ка, только половина девятого… — подставляет сыну запястье с часами. На них — светящиеся цифры, белые стрелки — словно крохотные овцы, пасущиеся на черном поле.
Пирошка сидит возле крыльца, на каменном желобе, с прутиком в руке и отгоняет гусей, которые так и норовят прорваться в сени. Сидит и точит слезы.
«Хап-хап-хап. Хап-хап-хап», — раскрывают гуси клювы, пытаясь обойти прутик. Хозяйка, та, что старше, всегда их из сеней кормила. Уж сколько говорили ей Пирошка и Тарцали: кормите возле хлева или еще где-нибудь во дворе. Да все напрасно. Переступит порог сеней, руку в корзину сунет и заводит свое: «Тега-тега-тега… тега-тега-тега…» Будто по книге читает.
Так и приучила гусей, а теперь их и метлой не отгонишь. Беды в этом большой, может, и не было бы; да ведь гуси не то что просто гуляют себе по двору, как звезды по августовскому небу. Очень уж много остается после них следов. Вся земля усеяна пятнами, пестрыми, мягкими, липкими, расплывающимися. Выйдешь из сеней — и обязательно наступишь. Особенно утром, спросонок. Или ночью, когда по нужде выскочишь босиком.
Геза сразу после обеда сюда прибежал рассказать, что Ферко и крестная, мол, так и так… Словом, Пирошка все уже знает. Не знает лишь, что теперь будет. Стыдно ей за мать. Не за то, что та сделала, а за то, что оказалась способной на такое. Ну если бы, скажем, никак не могла без этого… тогда бы Пирошка еще поняла. И Пирошка, и другие. Но так… Пирошка по своим двадцати годам судит: до сих пор она всегда думала, что в сорок лет баба — уже как бы к не баба…
Ох, грустно все это, очень грустно.
Была у нее мать — и нет матери. Даже приятно Пирошке погрустить над этим, поплакать, в то время как пытается гусей от сеней отучить. Изменить надо порядки во дворе. По-другому вести хозяйство, по-другому обращаться с гусями, с поросенком и прочей живностью. Вот и насчет стен она всегда говорила, чтобы не красили фасад в белый цвет. Красили бы в серый. Мать и тут всегда по-своему делала. Ну ничего, она еще сегодня все перекрасит, до вечера… людей, наверное, теперь много будет приходить… Из зимней горницы сегодня же перетащит все в летнюю, чтобы зимняя чистой стояла; чтобы там гостей можно было принять. А они и в летней могут жить, вдвоем-то… или втроем…
Словом, всего-то полдня нет дома матери, а Пирошка уже старается все по-новому переделать. До сих пор все было не так, как она хотела. А ведь и хата, и земля ей принадлежат, матери это ни к чему… матери, вишь, другое нужно… удовольствие. Теперь здесь все изменится.
А вообще мать у нее хорошая была, грех отрицать. Только упрямая. Что задумает — чтоб обязательно так и было. Что она сейчас делает, бедная… как она сейчас?..
Машет Пирошка прутиком и тихо плачет.
Гусям наконец надоело лезть в сени, замолкают они и дружно ковыляют в угол двора. Копошатся немного в земле, потом набрасываются на заднюю стену соседской хаты и яростно склевывают с нее известь.
«Так ее… хоть бы насквозь проели…» — смотрит на них Пирошка, забыв свое горе. Ей уже почти весело. Потому что с соседями они в ссоре. Соседка, старая карга, чего только о матери не болтала…
Снова грустно становится Пирошке.
Ох, осталась она без матери. Променяла мать ее на этого парня… Будто схоронила она мать.
Все обиды вспоминаются Пирошке: и новые, и старые, и даже те, что были когда-то в детстве. Заодно уж поплакать и над ними… Будто для того и думает о них Пирошка, чтобы не зря слезы лить. А потом вдруг и в самом деле пугается: вспомнилось ей такое, от чего хочешь не хочешь, а заревешь… Шестнадцати лет съела Пирошка двойную вишню. Красивая была вишня, красная, из двух сросшихся ягод; взяла ее Пирошка двумя пальцами, долго смотрела, наконец съела. А потом уж узнала, что, кто двойную вишню съест, у того двойняшки родятся. И это не то чтобы пустой разговор был: сама Эсти Надь ей это сказала, которой, правда, тогда и вовсе пятнадцать было… да уж она-то знает, потому что у ее матери два раза двойняшки рождались.
Прислушивается Пирошка к себе, к тому, что происходит у нее внутри… Нет, нет, тут ничего наперед не узнаешь; остается только ждать и раскаиваться за свое невежество… И как же мать не сказала ей об этом раньше, не научила всему, чему следует?..
Пока Тарцали пришел домой, глаза у Пирошки до того выплаканы были, что муж даже перепугался.
— Э, что это с тобой? Случилось что?
Тут совсем разревелась Пирошка.
— Матушка моя… нет у меня больше матушки…
— А-а… Про это я уже слыхал. Могла бы и поумней что придумать, это точно. Ну да бог с ней. Не знаю только… Ферко-то подумал ли, с кем связался… Ну, не стоит из-за этого убиваться. Сама она себе выбрала. А мы и вдвоем проживем, не бойся. Да еще как будем жить!.. — плясать хочется ему от радости. Дождался он своего часа. И хату покупать не надо, не надо биться, выгадывать, откладывать каждый грош… Просто так, даром досталось все. И хата, и земля, и сад. Сами себе будут теперь хозяева. — Ну, не реви. Обед-то есть? Поедим давай.
— Лапша с картошкой на обед…
— Вот и хорошо. Что сделаешь, то и хорошо. Лишь бы ты мне варила… Ну пошли, — обнимает он жену за плечи, в сени ведет. — Ну а так… все в порядке у тебя?
Пирошка только головой трясет, дескать, все в порядке.
— Хорошо себя чувствуешь?
Снова трясет головой.
— Конечно, могла бы подождать, пока все будет позади. А ты смотри: чуть что, сразу зови повитуху. Да не новую зови, а Ставичиху. Она лучше. Надежнее.
— Ладно… — только и отвечает Пирошка, ставя кастрюлю на табуретку. Рядом — две скамеечки; на одну сама садится, на другую — муж. Тарцали накладывает себе, потом она. Кастрюля, да две тарелки, да две ложки, поварешка да хлеба два ломтя — вот и стол, можно сказать, накрыт. Рядом синий эмалированный бидон: из него пить можно, если захочешь. Из крышки. А зачем стаканы зря пачкать?
Едят. Думают.
Вдруг Пирошка кладет ложку, смотрит на мужа, и из широко раскрытых глаз ее быстро-быстро сыплются слезы:
— Йошка… я знаю, что двойню рожу… — и рыдает, будто в великом горе.
Тарцали смотрит на нее ошарашенно; челюсти у него движутся все медленней и уже не сверху вниз, как всегда, а наискосок — и наконец совсем замирают. Кладет со стуком ложку, вскакивает. И начинает бегать по сеням будто не в себе.
— Вот это мне нравится! Вот это да!.. А еще лучше, слышь-ка, если не двойня, а… тройня. Знаешь, это такое дело… — подходит он к Пирошке, наклоняется к ней, руками размахивает, объясняет. — За один раз трое, а? Если тройня, так в газету попадем… Исправника крестным отцом позовем. А это что значит — сама знаешь. Эх, Пирошка! Это значит, что… — Вообще-то он и сам не знает, что это значит. Наверное, должно тогда что-то случиться, что-то необычное, что не всякому дано… что-то историческое. Он, Тарцали, много читает, не то что кореш его, Красный Гоз. Больше всего он сказки любит, где пастухи и вообще мужики запросто роднятся с королями, на принцессах женятся. И полцарства в придачу получают или еще что. Это уже в разных сказках по-разному. А историю почитать, так там из простых мужиков полководцы выходят, генералы. Как Миклош Толди… или Пал Кинижи[31]… Это — да. Это ему подходит.
— В общем… ты не будешь сердиться, если так получится? — робко спрашивает Пирошка.
— Я? Это я-то буду сердиться? Да я тебя тогда… — и хватает жену в объятия. Вертит ее, танцует по сеням.
Только Пирошка все до конца хочет выяснить; опять спрашивает:
— Слушай, Йошка! А если один родится? Тогда кого позовем крестным отцом?
— Кого? Да кого ж, как не Красного Гоза? Он ведь кореш мне как-никак… — и оба кандидата в крестные отцы кажутся ему почти что одинаковыми. А что один исправник, а другой землекоп — это просто случайность, и не всегда было так с тех нор, как мир стоит. То один из них был землекопом, то другой. Точно как в сказке или в истории.
Лампу зажигают; теперь и огонек в лампе кажется каким-то новым, и дом словно только-только построен, и мебель вся просится на новые места. Смотрят друг на друга Тарцали с Пирошкой и не сразу понимают; потому все здесь словно бы другое, незнакомое, что матери нету, и даже след ее простыл…
— Все было б хорошо… только не унесла б она к Тотам шубейку… — Пирошка начала было стелить постель и остановилась, задумалась. Выпрямляется осторожно: тяжело ей становится уже носить.
Лампа горит, а Тарцали расхаживает по хате, размышляет, кого позвать на крестины: не только ведь крестный отец, еще и кумовья нужны. Эти даже важнее. Крестный — один, а кумовьев — полдеревни. Так положено. Обычай таков. Не нарушать же им старые обычаи…
Здесь так готовятся к крестинам. В других домах — по-другому…
Уже отцветают, как георгины, пышные августовские вечера. Длиннее становятся ночи, короче — дни. Хватает времени и на планы, и на разговоры.
Все, что весной вывозилось, сажалось, сеялось, теперь постепенно свозится, собирается обратно. Помидоры краснеют, как губы девок на выданье; арбузы лежат, словно девичьи тугие груди под полосатыми кофтами. Росистым утром сливы синим инеем завешивают деревья, а тарелки подсолнухов преданно смотрят на восток. Роса лежит на траве, тяжелая, как серебро; и заметно пышнее стали узлы волос на головах у баб. Уходящее лето обожгло им ноги ниже колен, а в крови надолго остался шорох и лепет кукурузы. У мужиков задубели ладони, стали как кора; точно такой же и земля сделалась между рядками картофеля. Детишек не разбудишь по утрам: маку объелись; у многих баб юбка спереди короче, чем сзади. Шутники говорят: мол, у них пятница длиннее субботы.
Бабы эти на сносях; да они уж тут ничего не могут поделать.
Начинает и здесь созревать весенний посев: не рассыпались по обочинам, по межам семена, попали точно туда, куда надо. А хотела ли этого баба или девка — это уж вопрос другой. Бывало, что и не хотела, да получила… Кое с кем во сне приключилась беда — так по крайней мере можно понять по жалобам и причитаниям. С Лили Такач, например, как раз что-то в этом роде произошло. Уж и сын у нее родился месяц назад. Господи, что за приятный, должно быть, был сон!..
Начинают как-то так, сами собой, стучать крохотные сердца; еще вчера ничего не чувствовалось — а сегодня вдруг внутри шевельнулось… нет, даже не так: просто вырвался из груди будущей матери вздох, как сладкое воспоминание о зимних вечерах, о посиделках, о гулянье, о свадьбе — и вдруг в крохотном, еще не обретшем человеческой формы тельце дрогнуло что-то, и почти незаметный этот толчок стал первым тактом еще одного гимна во славу творения.
И было-то, даже точно не вспомнишь что… Были песни, летящие над полем, — и вот из бестелесной песни появляются маленькие пальчики-горошины на бестолковых ножках; был беззаботный смех — и из него формируются мягкие ушки; двое нюхали вместе резеду — и вот вам носик с ноздрями. Руки, чего-то ожидая, надеясь, трудились днем, а вечером обнимали кого-то у калитки — и вот появляются новые, маленькие, пока что беспомощные ручонки, чтобы когда-нибудь, через много лет, опять обнимать, тянуться за причитающейся человеку долей грядущего…
Звездный свет прожигает листву акаций, падает, словно кристальная пыль, на женские колени. В эти длинные теплые вечера бабы фасоль шелушат во дворе, перед хатой.
— Ох-хо-хо-о-о… Давайте, детки, кончать да поспим до утра, — говорит мать Красного Гоза и встает. Ссыпает в корзину очищенную фасоль из передника; с тихим звоном, как медные деньги, падает в корзину сухая фасоль. Гозиха отряхивает платье от налипшей шелухи.
— А может, почистим еще… — просит Марика, потягиваясь на стуле: ноги у нее затекли. — Вечер нынче такой славный, хороший…
— Ну, если только немножко… — соглашается свекровь.
И верно, очень хороший нынче вечер. Ласковый, теплый…
Вроде бы все в нем такое же, как вчера. Разве что зарницы как-то особенно яростно полыхают в небе, в невообразимой дали. А здесь — тишина, и в ней — отзвук чьих-то шагов, скрип открываемых где-то дверей и еще какие-то непонятные вздохи и шорохи. Всего два цвета у этого вечера: черный и еще более черный. Уж таковы эти августовские вечера. А небо — небо, конечно, другое. Небо такое дивное, что словами этого все равно не выразить. Ну пожалуй, если все же попробовать, то напоминает оно лицо женщины, выносившей под сердцем ребенка. Скорее угадываются, чем видятся, на нем следы минувших бурь, минувших поцелуев и слез. И растрепано это небо, как воз с сеном, раздерганный, взъерошенный ветром, как женские волосы после ночи любви и объятий. А еще скошенное ячменное поле бывает таким в жару, когда совсем пересохнет солома.
Словом, августовское вечернее небо таково, что и не расскажешь. Хоть и смотрят на него все трое: и Марика, и Красный Гоз, и мать. Глаза их обращены к небу, а руки — в корзине с фасолью… сыплются одно за другим зерна, а с высоты срывается, падает вниз звезда.
Длинную светящуюся борозду прорезает в небе звезда, словно огненное ядро.
— Кого позовете крестить-то? — Тихо спрашивает мать.
Марика вспоминает прежних подружек, сперва по одной, а потом всех вместе, как по воскресеньям бродили они по деревне, сидели стайками на веранде, в палисаднике… Ей все равно, кого позовут. Не хочет она выбирать. Ее все любили, и она всех любила. Если эту позвать, та обидится, если ту — так эта. А всех не позовешь, надо только одну…
О, если б это ей доверили, она все-таки позвала бы Илонку Киш. Сама не знает почему, но позвала бы. Правда, не дружили они с ней особенно… Да что дружили — чуть не увела у нее Илонка Йошку, а все равно Марика ее позвала бы. Для того хотя бы, чтобы увидела Илонка, как хорошо они живут, как любят друг друга и какой славный сын у них будет. Что будет сын — это Марика знает твердо… Хоть Илонка и хотела злое дело сделать, а все ж девка она была неплохая. И муж у нее — хороший мужик, Правда, пока не видно, чтоб ребенок у них ожидался; да это ведь и неважно. Не потому Марика про Илонку думает, что хочет, чтобы и та ее потом позвала. Пусть не зовет. Честь оказана — и ладно. Еще много чего думает Марика, да вслух не говорит. Не решается. А муж ее не колеблется, сразу высказывает то, что на сердце:
— Кого ж еще, как не Тарцали с Пирошкой?
Однако мать не очень этому рада. Не из гордости, да все ж… Могли б найти кого-нибудь и более подходящего.
— Конечно, с Тарцали вы всегда дружками были, с детства, да только… не знаю, как и сказать. Я вот думаю, не лучше ли этих позвать, как его… Пишту Бана с женой? Ты с ним и в школу вместе ходил, и отец твой с его отцом дружили в молодые годы…
— А что ж, позовем и их, в кумовья. И еще кого-нибудь. А крестным отцом все ж пусть будет Тарцали.
— Оно бы и пусть… вот только теща у него… вишь что вычудила.
— Полно, мама. Если б она не вычудила, мы бы сейчас о другом думали, не о том, кого на крестины звать. Ну и… не может же Пашкуиха взять и сказать, как мельникова дочка, что, мол, во сне грех случился, ха-ха-ха!..
— Ха-ха-ха-ха!.. — В самом деле есть здесь над чем посмеяться. Только Марика не смеется: не понимает, в чем тут дело. Долго колеблется, потом все же спрашивает:
— А как это так, что кто-нибудь спит, а проснется в тяжести?
У Красного Гоза чуть не слетело с языка кое-что, да удержался он: не говорить же такое при матери. Отвечает он Марике в таком роде, что, дескать, наверняка Геза Тот приснился мельниковой дочери, оттого все и вышло.
Желтый месяц медленно всходит над старым кладбищем; с колокольни доносится звон часов. Десять. В самом деле пора ложиться. Правда, утром не надо подниматься совсем уж рано, то есть это Йошке не надо, а мать встанет, как всегда. Завтра Йошка ни на земляные работы, ни на поденщину не выходит. С утра ему к адвокату, а после обеда начнут копать картошку: время приспело. Пока только «розу» будут копать: ботва у нее совсем уже высохла.
Словом, в семье Красного Гоза так готовятся к крестинам.
У других — по-другому.
На то и длинные эти вечера, чтобы все обсудить, обдумать.
Одно за другим гаснут окна в хатах; кошки шуршат фасолевой шелухой на темных верандах, устраиваются на ночь. Только в конце деревни, на Божоде, слышна еще песня. Посиделки там, должно быть.
Месяц карабкается все выше; чем выше месяц, тем больше блекнут, тускнеют звезды. Тихо. Насколько может быть тихо в деревне, где есть собаки. То в одной, то в другой стороне слышится лай. Бегают собаки от садовой калитки к воротам, потом назад… Лишь в одном доме горит еще свет — у Жирных Тотов. Там, правда, не о крестинах толкуют (это еще впереди), а совсем о другом. О том, сколько и чего должен Ферко записать на Пашкуиху.
— Ты, Ребека, как ни ерепенься, а больше двух хольдов мы тебе земли не дадим, — говорит старый хозяин бог знает в который уж раз за сегодняшний вечер. Вся семья сейчас в горнице. То есть старики, вдова и Ферко, который лежит, опираясь на локоть.
— Полно, дядя Габор… Неужто-хватит у вас совести два хольда мне швырнуть, будто кость собаке?
— Кость? Если б от меня зависело, я тебе и того бы не дал. Ничего бы не дал. Такое вытворить! Подумать только! Если б ровней он тебе был… да ведь ты в матери ему годишься!
— В матери? Это уж точно, в матери! Если б я десяти лет его родила… А потом — я, что ли, хотела этого? Не я. Так что я и уйти могу, если так. И уйду. Мне есть, куда уйти, — и делает вид, будто уходить собирается. То есть то, в одну сторону повернется, то в другую. И в пол смотрит возле себя.
— Если крестная уйдет, то и я уйду, — говорит Ферко и ложится на спину. Одеяло натягивает до самого подбородка.
— Ой-ёй-ёй… ой-ёй-ёй, — тихо стонет Тотиха. Не такую невестку она хотела. Другую. Правда, Ребека — баба чистая, хозяйственная, да стара. Не пара она Ферко. Конечно, он тоже упустил свое время… Зимой за совсем молоденькой девкой погнался, теперь вот за этой пожилой бабой… — ой-ёй-ёй.
— Коли надоели мы тебе, так ступай на здоровье. Вот бог, а вот порог. (Хочется Габору добавить: кто виноват, тот пусть помалкивает. Да молчит он, потому что ведь и он тоже Тот.)
— Ладно… Раз вы, батя, так хотите… — отвечает Ферко и приподымается с кровати. Будто в самом деле уйти решил… Даже сейчас под одеялом словно осталось еще немного женского тепла, и это наполняет сердце Ферко невыразимым блаженством. Все не может он поверить в свое счастье, которое для него будто пшеничное зерно для слепой курицы. Набрела курица на зерно — и потерять боится, и проглотить не хочет. Носит его в клюве и млеет от радости…
Но тут пугается мать. Все равно: уж сошлись, так пусть живут вместе. Для себя они сошлись, не для кого-нибудь. А деревня — бог с ней. Пусть себе говорят, что хотят.
— Запиши ты им пять хольдов, которые возле Коровьего брода. Все равно далеко они. Не под рукой.
— Нет уж, на мое имя пишите. Только на мое. А то с чем я останусь, если Фери загуляет вдруг? Пусть хоть пять хольдов у меня будет.
— Дочери твоей пригодятся, верно? — ехидно спрашивает Габор.
— У дочери и так есть. Ей ни к чему. Ей я и так оставила. Сама нажила, не бойтесь. А это — ребенку нашему будет. Пусть и от матери ему что-нибудь останется, не только от отца.
Смотрит на нее старик, будто мешком его по голове ударили. Ребенку? Он-то думал, что у такой бабы, которая десять лет уже вдова, детей не может быть. Не было ж до сих пор. Хоть и жила не как святая. Откуда ж теперь возьмется?.. Ох, стареет, видно, он; да и нынешний день его подкосил, не может устоять перед семьей.
Черт с ней, запишет он на нее пять хольдов. И пусть потом разбираются, как хотят. А он руки умывает…
Уж и полночь миновала, пока они сторговались. Как только получит Ферко развод, так они и зарегистрируются, без брачных объявлений. Ферко… то есть не Ферко, конечно; а старый Тот дает вдове пять хольдов земли с тем условием, что если в течение десяти лет не будет у нее ребенка, то земля отойдет обратно к Ферко. А он потом оставит ее тому, кому захочет.
Старая Тотиха стонет еще, но совсем уже тихо. А на постель Ферко, возле которой снова на стуле сидит Пашкуиха, и не глядит. Старик выходит во двор: к скотине заглянуть, проверить, все ли в порядке. Ферко вдруг встает и, поддерживая на животе подштанники, идет в другую горницу. С порога оглядывается на вдову. Та смотрит вокруг нерешительно: все вроде сказали, обо всем договорились, а завтра еще и в правлении, у секретаря письменно оформят… больше и говорить не о чем. Достигла она, чего хотела. Отец будет у ребенка, да еще она земли ему обеспечила пять хольдов. Кто знает, что станет с Тотами и с их состоянием… Старуха болеет, недолго и помереть, а старый хрыч возьмет да женится. Нет уж, она спокойно хочет жить. На улице оказаться — уж простите…
Жизнь снова кажется ей легкой и радостной; даже не верится, что совсем недавно покончить с собой собиралась, повеситься или в колодец прыгнуть… Правда, разве это жизнь была, которой жила она до сих пор? Ну ладно, ей еще многие в деревне будут завидовать…
Тотиха уносит посуду в кухню; вдова смотрит ей вслед, потом подбирает юбку, будто через лужу переходит, и шмыгает за Ферко в соседнюю горницу…
А старик зажигает фонарь в хлеву, долго смотрит на коров. Потом садится на сено, приготовленное на утро, сидит, положив голову на руки. Да, это сын с ним ловко устроил. Не ждал он такого от Ферко, не ждал. Сколько бился Габор, собирал состояние… все, выходит, для какой-то первой попавшейся бабы. Для этой никчемной Пашкуихи. Правда, ее муж его, Тота, неродному племяннику сводным братом был… Словом, бог знает, как оно там было. Все равно, Пашкуиха — это Пашкуиха, а он… А действительно, кто он? Теперь — никто. Богатство тут не считается, потому что… не всегда богатство главное… Если б еще жену Ферко взял не из баб. Настоящая жена — та, которая девкой ложится в постель в первую брачную ночь.
И странное дело: теперь он уже про Гезу больше думает. Не такой уж плохой Геза сын, как кажется. Как-нибудь лучше Ферко. Это уж точно. Геза еще остепенится, женится, возьмет подходящую девку, которая народит ему детей, — значит, не напрасно он бился, горб наживал.
Цепляется Габор за эти мысли; можно подумать, что Геза всегда был его любимым сыном. А не наоборот.
15
Четвертого сентября слушалось дело Марики; уездный суд дал развод без лишних слов. Все прошло как по маслу. Словно невидимый кто-то расчищал дорогу перед Марикиным счастьем.
Отяжелела она уже сильно, так что до станции на телеге добирались. Зал ожидания был полон; когда вошли они с Йошкой, все на них посмотрели. Один пожилой мужик тут же встал, еще сперва будто в нерешительности, а потом уже взглядом Марику приглашая.
— Садись, дочка, — сказал он ей и отошел в сторону.
Так же было и в поезде.
Мест свободных не было, многие стояли, держались кто за что. Молоденькая девчонка поглядела на Марику и вскочила торопливо; открыла было рот, да так ничего и не сказала. Не знала, наверное, что сказать, только глазами ей улыбнулась. И отошла к окну, будто ей выглянуть понадобилось.
Села Марика на ее место, между двух торговок. Толстые торговки, сонные, засаленные, помятые; у одной груди лежат совсем на животе. Сидят они, расстегнув пальто, из-под которых виднеются потертые бархатные блузы. То и дело поправляют волосы свои, грязно-седые, растрепанные; то накинут платок, то опять снимут; а сами все поглядывают на Марику и переговариваются.
— У меня-то их шестеро, детей, — говорит одна, — и уж так я их люблю, ни за что бы не рассталась, хоть ты меня озолоти… Как приду домой и окружат они меня — будто в раю я, а не дома. И дом-то не мой, а этого прохвоста, железнодорожника; столько дерет за него, что не знаю, как бог это терпит.
— Шестеро — это хорошо. У меня четверо. Старший — только-только самостоятельным стал, в прошлом году. Столяр он, и пошел служить к этому… как его… Словом, пишет: не для меня, мол, это место, мать. Я вот и говорю: коли не для тебя, так брось его, не затем учился, мучился, чтоб жизнь свою губить. Верно ведь?
— Верно, верно… Коли воспитаешь детей, так хочется счастливыми их видеть.
— Вот-вот. Из моих-то один ремеслу учится. Да уж больно дорого это обходится..
— Ох, дорого. Дорого, а все-таки стоит. Теперь помучаешься, потом легче будет…
Вот так и разговаривают меж собой торговки.
Против Марики молодая баба сидит, ребенка держит на коленях. «Тю-тю-тю»… — щекочет пальцами ему подбородочек, и из глаз ее льется какой-то удивительный свет. Баба из бедных, видно; платье на ней старое, вылинявшее, когда-то были на нем пестрые цветы, да увяли давно, исчезли, только память осталась о них, только следы.
— Зубки-то у него есть? — наклоняется к ней одна из торговок, локти ставит на колени. Грудь у нее тяжело свисает вперед.
— Есть, есть, как же. Вот и еще один режется… Тю-тю-тю…
Ребенок агукает, глазки у него сияют, как цветы росистым утром, по лицу разливается улыбка. Суетливо машет крохотными кулачками, и даже пеленка на нем двигается, шевелится. Словно земля над кротовой ямой.
— Есть хочет. Мальчик?
— Мальчик… — Пальцы матери без раздумья пробегают по платью, расстегивая пуговицы. Она немного поднимает вверх плечо, и вот из блузы показывается грудь.
Словно какое-то удивительное сокровище.
Сокровище, которое люди давным-давно потеряли и давным-давно ищут, которое спрятано было от лихого глаза в старом, заношенном тряпье. Оно выступает из блузы и рубашки, как диковинный плод из лопнувшей кожуры, когда пришло ему время созреть. На рубашке — желтоватое пятно от молока: видно, еды у ребенка в избытке.
Непривычный запах течет по вагону; один торговец, рябой, в берете, до сих пор сидевший к ним спиной, встает и оборачивается.
— Тс-с-с… — делает он губами; садится на место, вытаскивает сигарету, закуривает. Затягивается глубоко и вызывающе смотрит вокруг тусклыми красными глазами.
Священник, что сидит закрыв глаза у окошка, вдруг поднимает голову и смотрит на ребенка. Потом на Марику. Потом на баб. Рука его, дернувшись, осеняет их крестным знамением; пробормотав что-то, священник вытягивает ноги, снова закрывает глаза.
Девчонка у окна не может решить, повернуться ей или нет; потом все же повертывается быстро, круглыми глазами глядит на кормящую женщину, потом на Марику, руку подносит к волосам. Будто только поправить их собиралась. А у самой щеки пылают от любопытства; снова облокачивается она на окно. Вдоль полотна тянется кукурузное поле; девчонка пробует рассмотреть себя в затемненном кукурузой стекле. Не ту себя, которая есть, а ту, какой когда-нибудь будет.
— Вам не душно? Может, окно открыть? — спрашивает у Марики молодой человек из благородных, который сидит на краю скамьи, положив ногу на ногу так, чтобы отглаженные его брюки не коснулись ненароком торговки.
— Нет-нет, спасибо, — тихо отвечает Марика, ища взглядом мужа. Йошка стоит невдалеке, держась одной рукой за багажную решетку, и смотрит куда-то перед собой.
Молодой человек, который служит писарем в одном селе, замолкает, немного обиженный, что не оценили его любезность.
Марика беспокойно посматривает на мужа; хочется ей позвать его: пусть посмотрит, пусть увидит, как много доброты в этих простых сердцах. А еще бы она шепнула ему: хорошо все же жить на свете. Однако не смотрит на нее Йошка, крепко задумался о чем-то.
Ференц Тот сидит немного поодаль от них, с другой стороны; раскрыл свою сумку, положил на колени, ест. Теперь на него смотрят люди, дивятся: куда столько еды влезает в этого невзрачного мужичонку. Будто рот у него — просто дырка, а то, что он туда кладет, проваливается в какую-то яму. В нем самом ничего не остается. Еще больше отощал Ферко, как вдова Пашкуй женой его стала.
Ну ничего, поправится потом на щавеле. А то и раньше.
А ест он вкусные вещи.
Например, сало, которое от дыма да от красного перца стало сверху такого цвета, как багровая роза, а внутри оно — светло-желтое. Слабо, видать, прокоптили, и под шкуркой оно немного затхлое. Руки у Ферко черные, как у арапа, зато хлеб белый как снег и рассыпчатый, тоже почти как снег.
Как ни стыдит себя Марика, как ни сердится, а хочется ей такого хлеба.
Ферко не смотрит в ее сторону: за всю дорогу не взглянул ни разу, как попали они в один вагон. Не мог же он от поезда отстать ради того, чтоб с бывшей своей невестой вместе не ехать… Но вот он вдруг делает громкий глоток, потом берет сумку и без лишних слов протягивает ее Марике.
— … — Не может ничего выговорить, потому что рот у него набит. Показывает: угощайся, мол.
Марика испуганно ищет глазами мужа; тот кивает улыбаясь; и Марике до того становится радостно, что чуть не смеется она вслух. Дрожащими руками берет котомку, устраивает удобно на коленях, отрезает кусочек сала. И ломтик хлеба к нему.
Так они и ехали в суд.
Уездным судьей оказался грузный черноволосый мужчина средних лет. Как только писарь выкрикнул их имена и они вошли в зал, судья помахал карандашом барышне-секретарше, та вскочила и стул подставила Марике. «Садитесь, пожалуйста», — сказала. Больше никого не усаживали, только Марику (да и стульев бы столько не нашлось). О, что за любезный человек этот судья… И точно: за какие-нибудь две минуты развязал тот узел, который в свое время завязан был секретарем правления.
Теперь она свободная женщина. Теперь принадлежит она тому, кого любит.
Остается лишь пойти к секретарю и снова расписаться. Уже по-настоящему. На всю жизнь. Пока кто-нибудь из них не умрет: или она, или Йошка.
Теперь они будут связаны не только законом и церковью, но еще и ребенком, который скоро уж появится на свет как третий член семьи. А если считать еще свекровь, то четвертый.
Свекровь они считают обязательно и даже представить не могут, как бы жили без нее.
Только неизвестно, когда случится долгожданное событие: на будущей неделе или завтра. И так и этак может быть…
Картошку на огороде выкопали, перебрали, только поздняя остается пока в земле. Красный Гоз таскает мешки, высыпает их. То, что на еду пойдет зимой, высыпает на веранду: пусть пропитается немного солнцем. Мелочь сваливает в углу хлева: это поросятам на корм, вперемешку с кукурузной крупой.
Красный Гоз соломы привез с гумна; маловато выходит соломы, всего две телеги. Пришлось купить еще две копны: зима длинна, нужно чем-то топить. Да и скотине надо, на подстилку. Теперь ведь у них две коровы будет: Борка за лето выросла. Как здорово, что не пришлось ее продавать! Развод обошелся всего в восемьдесят пенгё с небольшим. И то пополам с Жирным Тотом.
Так что деньги есть; еще дров думает подкупить Красный Гоз: с ребенком ведь много надо — и топить, и воду греть. Больше не будет он таскать их по ночам на своей спине. Раз уж так удачно все складывается…
Восьмого сентября, в среду, часов в шесть вечера пришла к ним Шара Кери.
— Слыхали новость? — спрашивает.
— Нет… а что такое?
— А то… у Тарцали наследник родился.
— Ух ты!.. Когда? Только что?
— Все порядочные люди рождаются на заре… Ну-ну, не бойтесь, шучу я. Просто дети в самом деле чаще всего утром рождаются. Интересно, правда? — оглядывает повитуха хозяев.
Красный Гоз как раз корзину тащил в хлев, а Марика пучок соломы весла, печку растапливать. Мать с поросятами возилась. А тут все побросали свои дела, собрались вокруг повитухи.
— Сын, значит?
— Сын. Такой смуглый парнишка, прямо как чертенок. Не меня они позвали роды принимать, да я все ж заглянула. И шустрый какой! Как рыбка. Чуть из рук не выскальзывает… Не бойтесь, Марика, у вас тоже все будет гладко. Пойдемте-ка в дом. Поговорим немного.
Словом, Тарцали уже с сыном. Правда, ни тройни, ни двойни Пирошка ему не родила. Не попадет, значит, Тарцали в газету, не станет знаменитым, останется тем, кем был. Ну не беда: по крайней мере кореша своего, Красного Гоза, позовет крестным отцом.
А это тоже кое-что.
Ведь если б двойня родилась, такт пожалуй, и не позвал бы его Тарцали… Что делать: слаб человек, тщеславен.
Мать Гоза, задумавшись, стоит возле хлева, смотрит, как поросята, захлебываясь, жрут корм… «Пшли…» — машет она на кур; подходит к сыну.
— Чтой-то сильно впритык оно выходит, слышь-ка…
— Что? — удивляется Йошка.
— Да девять месяцев-то.
Красный Гоз лоб морщит, задумчиво счищает грязь с сапог.
— Ну что там… лишь бы вышло, хоть как-нибудь. Да все-таки, мама, не говорите никому. Я вообще-то не думаю… вряд ли тут есть что. Пирошку я хорошо знаю. Сам раза два у них был… Нет, вряд ли.
— Ну ладно… может, я и ошибаюсь. — И мать идет дальше по своим делам.
— Так не говорите, мама, об этом никому.
— Никому я не скажу, избави бог… Кыш, кыш! Чтоб тебя, окаянная… — и машет рукой, отгоняя пеструю курицу. Та удирает в панике: знает, что виновата. — Ишь, приладилась корм у свиней таскать…
Как бы там ни было, а если Тарцали доволен, значит, все в порядке. А что доволен он, это сразу видно. Не нарадуется на сына. Схватит его, подымет, пляшет с ним по горнице, поет ему, баюкает.
А калитка в воротах то и дело стучит: Пирошкина мать пришла, потом старая Тарцалиха. Тетки приходят, сестры, одна то несет, другая — другое.
— Вот, калача немножко вам принесла, — говорит одна.
— Возьмите-ка мисочку винного супа, из красного вина я варила, пусть Пирошка попьет.
Пирошка, лежа в постели, глядит вокруг удивленно. Неужто и вправду родила она этот вот писклявый комочек? Даже слова не может вымолвить: все еще не прошел у нее первый испуг.
— Как назовете-то его? — любопытствует мать Тарцали. А сама в это время ходит по горнице, переставляет что-то, порядок наводит. — Приберу у вас немного, — говорит. Она всегда себе дело найдет.
— Как назовем? Ага… Будет у него такое имя, какое не к каждому пристает… с иных, бывает, и падает… — если через кума не смог Тарцали в историю попасть, так хотя бы попадет через сына. — Пусть будет он — Арпад. Или нет. Аттила. Аттила Тарцали. А может, Миклош? Как Миклош Толди или Миклош Зрини[32]…
На Миклоше и остановился Тарцали.
А у Пирошки он и не спрашивает, что та думает, будто она и касательства не имеет к ребенку.
Пирошка же смотрит на мужа, слушает плач сына. И боится поверить: неужели все, неужели конец ее мукам?..
Правда, всяким заботам, связанным с рождением нового человека, с утверждением его в правах, еще далеко не конец. Теперь зарегистрировать его надо в правлении (это повитуха сделает), потом со священником договориться насчет крестин (тоже дело повитухи).
И наконец, надо условиться, когда будут крестины.
Кажется Тарцали: с рождением его сына произошло что-то такое, от чего все вокруг, и старые, и малые, должны побросать свои дела. Самый умный, самый счастливый и самый известный человек теперь Тарцали в деревне: мужики, бабы останавливают его на улице, интересуются: «Ну, как Пирошка? Хорошо себя чувствует? А маленький? Смотрите, чтоб не переел он у вас, а мать чтоб грудью не придавила…» Словом, советов хватает с избытком.
Теперь этот момент нужно использовать с умом.
Во-первых, устроить пышные крестины. Всех прежних приятелей позвать. Крестным отцом, конечно, Красного Гоза, а остальных — в кумовья. Чтобы, значит, старую дружбу поддержать. Как говорится: старый друг лучше новых двух. И это очень скоро подтвердится, еще до исхода сентября.
Крестины прошли без сучка, без задоринки. Ребенка в церковь понесла Марика: вернее сказать, несла-то повитуха Ставичиха, а Марика у нее лишь на церковном дворе взяла. Постояли там немного, пока священник молитву закончил, потом вошли.
Много раз уже видела Марика воскресными утрами, как совершают в церкви обряд крещения. А все ж на этот раз все как-то по-другому было, по-особенному.
Ведь на этот раз стоит она здесь не только как свидетельница начала новой жизни, но и сама вместе с ребенком принимает благословение.
И священник ради нее говорит молитву, и паства подтягивает ему — тоже ради нее, а когда выходит она из церкви, вслед за ней льется в двери светлый, радостный псалом.
Все хорошо обошлось. Ставичиха ребенка опять забрала у нее на церковном дворе — но к Тарцали пойти Марика уже не смогла. Домой ей надо было.
Воскресенье стояло тихое, ясное; легкий ветерок дул, печальный шелест шелковиц заполнял двор и сени; куры, гуси слонялись возле хлева; солнце передвинулось уже за деревню, над выгоном стояло.
— А ты чего домой пришла? — удивляется свекровь.
— Не знаю… Вроде начинается… а может, и нет… нехорошо мне… — медленно входит Марика в сени, идет в горницу.
Странно, что как-то особенно ясно видит она сейчас порог, который бог знает сколько раз переступала, пока живет здесь, но ни разу даже не взглянула на него. Просто перешагивала, и все. Не глядя. Теперь порог этот бросается ей в глаза, словно какой-то рубеж: по одну сторону — сени, по другую — горница. И тут и там стены, потолок, а все-таки то — горница, а это — сени!.. И хоть одни и те же руки белят стены, одной и той же известкой и здесь и там… Надо ж: там — горница, здесь — сени… Переступает Марика порог, а сама все об этом думает. Потом идет по самой середине горницы к окну, мелкими, очень мелкими шагами, протянув вперед руки, словно ждет или просит чего-то…
Совсем ей не больно, ну ни капельки. Хорошо, что не больно… Только почему-то тянет ходить… и она ходит и ходит, и все время вдоль горницы… ни в коем случае не поперек, только вдоль, от двери до окошка и обратно.
Так непреодолимо, мучительно хочется ей ходить!.. Вот так же недавно, летом, или в детстве еще хотелось ей яблок или черешен из чужого сада. Страх охватывает Марику: что будет, если вдруг кончатся силы и больше не сможет она ходить.
Растет в ней, где-то в груди, этот беспричинный страх, принимая диковинный облик… особенно, пожалуй, в легких… Теперь бы застонать, закричать… но не кричит Марика, не смеет. Стыдно ей кричать.
— Ох ты, господи… началось… — всплескивает руками, входя за ней, свекровь; руки у нее в тесте, она трет их, отряхивает и ходит вокруг Марики. — Ложись-ка, слышишь… А я за повитухой побегу… И Йошки дома нет, как нарочно…
Быстро разбирает свекровь постель. И все приговаривает что-то, лишь бы не молчать.
— Ты, главное, не бойся. Ты ничего не бойся. Все хорошо, все так и должно быть, все будет, как надо… ишь, не хватает еще, чтоб у нас, да что-нибудь не так было… — наверное, и сама не очень-то понимает она, что говорит…
В горле у Марики набухает какой-то ком, и горький, и сладкий в то же время, сладкий до тошноты… И вот он вырывается первым трудным стоном. А за ним крик боли льется уже потоком, как пшеница из развязанного мешка. Потоком тяжелым и безостановочным.
Крик заполняет дом, выплескивается в сени, во двор. Руки Марики сами собой срывают с тела одежду; в одной рубашке, со спутанными волосами все ходит и ходит она по горнице, глядя в пол. Рубашку стискивает на животе в кулак и упорно смотрит под ноги, словно там, на полу, разбросаны иголки, и до тех пор не будет ей покоя, пока все до одной не найдет она, не подымет.
Куры, гуси, утки сбиваются в кучу в углу двора; все вместе, в мире. Шеи тянут, вертят головами, прислушиваются. Собака лежит перед домом — и тоже подымает голову, ставит ухо торчком, ловя непривычные звуки, смотрит на ворота, потом — в сторону огорода.
А свекровь Марики бежит по переулку, потом по Главной улице и дальше, за церковь, искать повитуху.
Телега катится по дороге, возле лавки господина Берната сворачивает в переулок. Стук колес тонет в пыли — слышится лишь негромкое шуршание. Да и оно вскоре стихает: останавливается телега у ворот.
— Тпру-у… — И Красный Гоз спрыгивает с воза. Лицо у него бледное, руки дрожат: еле справляется с задвижкой на калитке.
Что там было дальше, он помнит плохо.
Долго еще потом стояло перед ним лицо Марики, которая словно и не узнала мужа. Лишь посмотрела куда-то сквозь него с дикой тоской и продолжала свой бесконечный путь по горнице. Помнит он еще, что хлопали двери, кто-то бегал, чьи-то юбки шуршали… а он сидел возле хлева, спрятав лицо в ладонях, и плакал тихо. Лайош Ямбор привез телегу черного сена для топки и сам все разгрузил, то есть просто свалил в кучу посреди двора… Ямбор?.. Сено?.. Господи, при чем тут сено? Одно только сейчас есть: это слезы, милосердные и благословенные, которые не дают ему задохнуться…
С детства не плакал. Красный Гоз. И теперь вот наплакался досыта. А все остальное было так мучительно, что и вспоминать об этом больно…
Время уже за полночь, около двух часов; Йошка сидит в хлеву, на соломе, и не думает ни о чем, не может думать. Сидит, смотрит на лампу, качает ногой. Так давно уже качает, что жилы заныли под коленями.
— …А где наш герой? Где «виновник»? — раздается вдруг голос перед хлевом; и еще слышно, как мать сморкается в передник.
Молчит Йошка. Не отвечает. Скорее мир перевернется, чем он скажет хоть слово…
— Давайте-ка его сюда… уши будем драть… — слышится опять. Это голос Шары Кери. Дверь распахивается, она входит в хлев, за ней — мать. — Ну, скажу я вам, не думала, что вы так раскиснете. Никогда б не поверила… — подходит она к нему, ласково кладет руку на плечо. — Идемте, идемте. Все в порядке. Прислушайтесь! Что вы слышите?..
— А Марика?
— Марика? Марика молодцом. Через день-другой такой станет красавицей, рот разинете.
Красный Гоз вдруг ощущает неодолимое желание говорить. Просто удивительно, как это он молчал чуть не целых полдня? Теперь ему все сразу хочется высказать — и узнать хочется все сразу.
— И что… как там? Кто? Мальчик?
— Ну, это уж нет, это вы много хотите. Не заслужили вы этого. Для такого угрюмого, трусливого мужика слишком много чести… А если дочь, так что?
Красный Гоз даже не отвечает, пускается бежать к дому.
— Эй, да постойте же! Постойте. А что вы скажете, если не одна дочь, а целых две?
Красный Гоз оборачивается, потом бежит дальше.
Войдя в горницу, не смеет оглядеться вокруг. Украдкой, со страхом косится на знакомые предметы, разбросанные теперь в беспорядке: подушки, перины, простыни; а подальше, на том месте, где всегда стоял стол, — корыто. На припечке сидит Юхошиха, теща его; передником вытирает глаза. А из угла доносятся какие-то непонятные звуки… Становится Йошка на колени около кровати, наклоняется над Марикой. Ищет взглядом ее глаза.
— Йошка… господи, Йошка… — шепчет Марика и запускает пальцы ему в волосы.
Марика лежит вся в чем-то белоснежном, кружевном.
Белое белье и кружева — все это существует на самом деле. А Марика, особенно лицо ее, словно лишь память о ней, оставшаяся на смятых подушках. Словно видение… так бывает, когда порой мелькнет вдруг перед глазами давно ушедший день, давно минувшее лето. Та Марика, которую видел он еще нынче утром, была знакомая, понятная, в ней словно жили давние провожания, разговоры, прежние поцелуи и объятия; от той Марики, из-за которой он недавно, зимой, готов был убить, готов был деревню поджечь, — от той Марики не осталось ничего. Растаяла, развеялась по ветру, как соцветие зрелого рогоза или пух.
Вместо нее кто-то другой, другая Марика, которая еще ближе ему, еще теснее связана с ним, с его телом. Ее душа — это его душа; ее сердце бьется неотличимо от его сердца.
— О милая моя Марика… — шепчет он и большой, жесткой ладонью гладит ей лицо, лоб, волосы.
— Ну полно, полно вам, хватит, оставьте ее в покое, — командует Шара Кери, размешивая в чашке какое-то питье для Марики.
И все вдруг, кто есть в горнице, начинают разговаривать, весело, во весь голос, будто ветер, который притих было, снова задул, ничем не сдерживаемый.
Теплые, добрые слова идут словно из самого сердца; слова эти так насыщены радостью, что не могут улететь высоко, остаются здесь, в горнице.
— Слава тебе, господи, так все благополучно прошло, — слышится с одной стороны.
— Что за красавицы! — слышится с другой.
— Взвесить бы их надо…
— Нет, нет, таких маленьких взвешивать нельзя: расти перестанут.
— Полно, что за глупости…
Словом, разговоров хватает. Хоть, кроме Марики, всего-то три бабы в горнице.
Марика что-то пьет из чашки, которую держит Шара Кери; а Йошка стоит рядом, под лампой, среди суеты и разговоров, и глаза его постепенно обращаются в угол, где на широком припечке лежат рядышком два свертка. Смотрит на них, смотрит — и вдруг разражается громким счастливым смехом.
16
Крестины в деревне справляют на шестой, на восьмой день после родов. К этому времени и мать немного окрепнет, хоть и не встает еще, а если и встает, то по этому случаю опять ложится в постель. Лежит в кружевной, белоснежной сорочке. Смотрит на гостей, на кумовьев. В разговорах участвует, поест что-нибудь, выпьет несколько глоточков — словом, ведет себя как именинница. Запеленатый младенец лежит у нее в ногах; мать его возьмет, покачает, покормит… Крестный отец поздравляет кума, куму; он же и благословения просит для новорожденного. Перед этим и после этого все вдоволь едят и пьют. Порой до утра, а то и еще дольше.
А богатая семья или бедная — это неважно.
Так было и у Тарцали, разве что Марика, крестная мать, не смогла быть на ужине. И крестного отца не было. Он жену свою стерег. Ни на шаг от нее не отходил. Люди так рассказывают.
Тарцали бедным мужиком считается, он и в самом деле беден, но еды, питья на крестинах было вдосталь. Летом он хорошо заработал, и земля уродила обильно, но это еще что! Столько нанесли кумовья, что и за неделю не съешь. И муки, и яиц, и кур. Только на вино пришлось потратиться. Да и вино окупится, из купельных денег… Словом, ни крестины, ни свадьба никого еще в деревне не разорили. Так что жалобам тут особенно верить не следует. Бывает, правда, что зарежут хозяева на крестины овцу, да купельные деньги и овцу оправдают.
Это только сами крестины. А что еще за этим идет…
Кого пригласили на крестины, тот должен обед сварить для молодой матери. И с собой принести. И уж обед этот тощим не бывает…
И кума им насытится, и кум. И старым родителям хватит. И детям (если есть уже дети). Да еще и на праздничный стол останется.
Тарцали такого случая тоже упускать не хочет. Он уж заранее жене сказал:
— Не горюй, Пирошка. Поедим голубцов, только брюхо готовь…
И в самом деле поели, что скрывать.
К тому ж и теща, изменница, явилась не с пустыми руками.
Пришла, будто ничего и не случилось. Поставила на стол доверху набитую корзину, подошла к постели, расцеловала Пирошку и сказала:
— Ах ты дурочка, дурочка. И куда вы так спешите с ребенком?..
— Знаете, мамаша… ребенок — ведь он скорее получается, чем полклина земли, — отвечает ей зять, который стоит у окна, бритву правит. И косится на корзину. Интересно, что в ней? Что принесла теща?
А уж она постаралась принести. Есть откуда взять. (Она и берет, обеими руками. Старый Тот теперь только успевай поворачиваться.)
— Мама. Зачем вы такое с нами сделали? — вспоминает свои огорчения Пирошка и одеяло на себя натягивает, сердится.
— Ох, дочка, дочка, если б я могла тебе все рассказать… Ну, не будем об этом сейчас, ладно? — и садится на край кровати.
Словом, все в прошлом, и Пашкуиха теперь приходит к ним, словно домой. Целыми днями, можно, сказать, тем и занята, что ходит из одного дома в другой. Нашла способ, чтобы и дочь не потерять, и своему будущему ребенку отца обеспечить. «Ловкая баба», — шепчут про нее в деревне. Но вслух ничего не говорят, боятся — с тех пор как Шандор Пап голову Ферко разбил.
Рождаются люди, растут, старятся, потом уходят тихо, а обычаи живут. Правда, по нынешним временам не так уж их чтят, как раньше. Вот и Красный Гоз, например, круто обошелся с обычаями. Скажем, на свадьбу, на крестины полагается звать кого-нибудь из господ. Кому кто нравится. Или учителя, или ректора, или священника, или почтмейстера. Учителя женской школы очень любят в деревне, даже больше, чем почтмейстера. Редко бывает, чтобы не позвали его куда-нибудь. А он и не думает отказываться. Охотнее всего ходит на убой свиньи, потому что аппетит у него редкий. И при всем том из себя он до того тонкий и длинный — хоть в иголку вдень. Зато глотка у него мощная: как рванет во всю мочь песню — стекла дрожат. А вообще-то имя у него двойное, дворянское; еще известен он тем, что всегда в долгу у банка и любит брать богатых мужиков в поручители.
Был он и у Тарцали на крестинах; в деревне уж и не помнят, скольких девчонок выучил он за свою жизнь. Первые-то и замуж повыходили, а новые все рождаются.
А вот Красный Гоз никого из господ не позвал.
— Тогда, может, из ремесленников кого… — стоит на своем мать.
— Нет. Никого не надо.
— Сынок, да ведь полагается… И у нас на свадьбе были, когда мы с твоим отцом покойным венчались.
— Это когда было, мама. А теперь другое время.
Правда, на свадьбу он ни гроша не потратил, да и при разводе, счастливо отделался. Мало кому так везет. Мог бы уж теперь-то потратиться, на крестины-то. Да и тут: какие траты!.. Кумовья съедят, что принесли, а позвал бы господ, они еще и купили бы что-нибудь младенцу или матери, какую-нибудь дорогую вещь. А он уперся, и все тут: обойдутся без этих подарков.
Потому что подарки эти — совсем не то, как если бы он что-нибудь купил и подарил жене Тарцали или сыну Тарцали или если бы Тарцали что-то подарил его семье. Это — совсем другое дело.
Господа же дарят чаще всего то, что им самим негоже, вроде того, как однажды зимой, когда уже морозы стояли, отдал Гоз старую драную шубу цыгану Тити из Харшаня, который обмазывал у них курятник, а закончив работу, попросил: «Дайте еще чего-нибудь на бедность, хозяин!»
Да, это точно то самое.
Он, может, и не попросит, а ему все равно кинут что-нибудь. На бедность.
Вот так же, на бедность, хотели его на именинах у эконома угостить стаканом вина, а весной сигару дали. Он тогда отказался: мол, спасибо, не курю; а все равно, чуть что, вспоминаются такие случаи.
Тарцали, тот говорит: пусть, дескать, дают, они беднее не станут, а нам пригодится. Да только Красный Гоз по-другому считает. Говорить он ничего на этот счет не говорит, но твердо знает, что самого себя стал бы презирать, приняв такую милостыню.
Вспоминается ему, правда, что вот зимой выручил его почтмейстер с теми столбами; да и агроном летом закрыл глаза на обман с пшеницей. Значит, там он принял от господ подачку?.. Да нет, это другое, это не подачка. Будь Красный Гоз на их месте, он точно так же сделал бы.
А скорей всего еще больше помог бы.
В то же время чувствует он и понимает, что не так это просто, что человек всегда зависит от условий, в которых живет, которые определяют каждый его шаг… Только он, Красный Гоз, не хочет сидеть и ждать, как эти условия сложатся. Он сам хочет своей судьбой управлять.
Как бы там ни было, факт тот, что он победил, все препятствия устранены с их дороги, а господ на крестины он не позовет, и все тут.
Ни того, ни другого, ни третьего.
— Давай хоть почтмейстера позовем… — просит Марика.
— Нельзя, Марика, никак нельзя. Вот если почтмейстер меня пригласит к себе когда-нибудь… тогда, пожалуй, можно об этом говорить. А теперь давай посмотрим, кого звать…
Крестной матерью будет Пирошка Пашкуй, жена Тарцали, она и понесет детей в церковь в воскресенье утром. Правда, не очень-то это легко — да там повитуха будет, поможет в случае чего. Пирошке ведь и кувшин еще тащить, да с водой. И воды надо побольше, потому что младенцев — двое; тут и священнику придется поспешить, чтоб все было в порядке. Словом, обо всем надо позаботиться.
У старой Гозихи в таких делах опыт большой. Однако все обсудили они заранее, до последней мелочи. Так что загвоздки не должно быть. Теперь только пройти, гостей пригласить. Каждый, кого позовут, знает об этом заранее. И само приглашение — это уже как бы для порядка. Чтобы, значит, форму соблюсти. Шара Кери никогда еще в деревне не служила, к тому же это ее первые крестины: любить-то ее любили, уважали, а к роженице звать не решались. Правда, пока и родов немного было: всего-навсего три. Первой Лили родила, мельникова дочь (которая во сне зачала, а теперь ее Геза Тот хочет в жены взять; говорит, отцом будет ребенку), потом жена Габора Буйдошо. У этих один сын уже есть, девятнадцати лет, и вот только теперь второй появился. Потом, значит, у Тарцали; да тем Ставичиха родственницей приходится, через мужа своего, Антала Торни, родного племянника Пашкуихи. Не звать же им другую повитуху! Словом, у Красных Гозов принимала Шара Кери роды первый раз с тех пор, как в деревне появилась. Записывает она на бумажке, кого в кумовья звать, и сразу начинает с тех, кто поближе. Значит, с Чемегешей. А там как раз бабы варенье в сенях варят.
— Добрый день. Йожеф Гоз и жена его, Марика Юхош, просят оказать им честь и зовут молодых в воскресенье вечером к ним на ужин, — говорит она запинаясь, потому что Гозиха по-другому ее учила; да странное дело, те слова ну никак не хотят у нее в голове застревать. Так что пришлось сказать, как сама придумала. Вроде все сказано, что требуется… разве что не так немножко.
— Добрый день и вам… — выходит вперед старуха, — благодарствуем Йожефу Гозу за хорошую об нас память (уж она-то знает, как полагается говорить), и, если ничего не случится, всенепременно будут молодые… Принеси-ка стул, Юльча.
Юльча бежит за стулом, а Шара Кери начинает было отказываться.
— Что вы, что вы, мне еще ко многим надо зайти.
— Ну, немножечко посидите… Значит, крестины… Вот и мы здесь говорим, дескать, до чего славно, господи, до чего хорошо. Правда, девки обе, но вы уж мне поверьте, с парнями забот куда больше, чем с девками. Уж я знаю. Хотя дочерей у меня не было, сыновья все, да это тоже кое-что. Сколько трудов стоило их на ноги поставить, и не приведи господь… — говорит старуха. Ей лишь бы слушателя найти. Отойдет на минуту к печи, варенье помешает и опять возвращается.
Шара Кери встает:
— Ну, мне в самом деле пора…
— Постойте капельку, милая… — говорит старуха и потихоньку невестке моргает. Та оставляет варенье, вытирает пальцы о край платья, бежит в кладовую. А свекровь ее гремит посудой, выбирает ярко раскрашенную глиняную кружку, наполняет ее вареньем доверху. Закрывает кружку газетой, еще и рукой сверху прихлопывает и протягивает Шаре Кери.
— Возьмите-ка немножко варенья. Зимой пригодится, когда то того нет, то другого…
Шара Кери, растерявшись, берет кружку. Добрый литр в ней будет. За что же это ей?.. Из кладовой возвращается Юльча, невестка, в руках у нее миска с мукой. Сверху три яйца.
— Примите и это, пожалуйста, — говорит она смущенно. Будто стыдно ей за такой подарок.
— О… что вы, да я, право, не знаю…
— Берите, берите, — говорят ей бабы одновременно. А старуха добавляет: — На доброе здоровьице.
Видно, в самом деле придется взять. Ничего не сделаешь. Выйдя на улицу, останавливается в нерешительности Шара Кери; в одной руке у нее варенье, в другой — миска с мукой, прикрытая салфеткой. Не носить же это из дома в дом… Домой надо сначала отнести. Только зайдет еще, пожалуй, к Кишам: все равно по пути.
Входит она в калитку, а из-за стога в это время показывается Шандор Макра и идет к ней навстречу. В драной какой-то одежонке, руки у него в грязи, и не брился, наверное, две недели.
— Пшел на место!.. — кричит он, хоть собаки нигде не видно.
Молодая жена его Илонка Киш выглядывает из-за занавески на двери, выходит на крыльцо. Словно и не жена она Макре — такая вся чистая, ухоженная. Будто только-только из церкви. Пока гостья идет к крыльцу, муж и жена уже стоят рядом; он — будто его из чулана вытащили, где он долго валялся среди всякого хлама; она красивая, нарядная, хоть на витрину выставляй. Конечно, они тоже ждали приглашения. Только не очень в это верили. Макра, правда, приятелем был Красному Гозу, да ведь всем известно, что получилось у Красного Гоза с Илонкой…
Шара Кери удивленно смотрит на запущенного мужика.
— Вы почему это не бреетесь, а? — спрашивает она, но спрашивает весело, шутливо — невозможно на нее сердиться. Макра ухмыляется во весь рот, щетина у него под носом шевелится, будто растрескивается.
— А зачем? Жена меня и так любит. А, Илонка? — и обнимает жену.
Та сердито стряхивает его руку и отворачивается.
— Проходите в дом, — приглашает Илонка Шару Кери.
Ясно, после такой сценки повитуха и вовсе не может вспомнить заученную речь, ну, да бог с ним, скажет, как придется. Илонка ей отвечает, что, мол, как же, как же, они обязательно придут. И тоже потихоньку делает знак мужу. Макра выходит; слышно, как кудахчут, хлопают крыльями куры; лает собака, переполошившая всех кур.
Словом, у Кишей повитуха получает целое блюдо муки, а сверху полдесятка яиц. Да еще Макра входит в дверь, в руках у него испуганно трепещет курица.
После этого Шаре Кери ничего не остается, как, пригласив на крестины еще одну семью, тут же идти домой. Отнести, что получила. А потом она уже везде говорит одно и то же в ответ на подарки.
— Бог вас наградит за этот обычай.
Это и была ее первая служба при новорожденном. Хотела она все делать так, чтобы и мужикам и бабам быть примером. Да что поделаешь против целой деревни? Обычаи здесь прочные, как железо. Приходится подчиняться: не лезть же в чужой монастырь со своим уставом.
Вечером приходит она опять к Гозам; все уже в сборе. Лампа горит на столе — но не столько от лампы, сколько от праздничных приготовлений светло и приветливо в горнице.
— Печенья надо испечь, — говорит Юхошиха. — Гости, правда, с собой принесут, да пусть уж будет всего вдоволь.
— Верно, — отвечает Йошка, а сам все смотрит на новую колыбель. Была, правда, у них колыбель — прадеда еще в ней качали. А вот пришлось новую делать, для двойняшек.
— Не знала я, что столько мне всего надарят… — говорит Шара Кери, рассказывая о том, как ее встречали приглашенные.
— Это еще что! Еще будут и деньги на подкову, и купельные деньги… — объясняет ей Йошка. И задумывается: всех он пригласил, не пропустил кого-нибудь?
— Шандора Папа забыли с женой, — говорит он. — Жена-то его — родственница нам. Да и потом… — и смолкает. Не может же он сказать, что думает: собственно говоря, Шандору Папу обязаны они тем, что все обошлось так хорошо… Если бы Шандор Пап не взбеленился тогда… или нет — если бы не завел он шашни с Пашкуихой… то есть если Пашкуиха не была бы вдовой… Нет, все не так. Если Лайош Ямбор не пустил бы слух по деревне… Эх, опять не то. То есть оно вроде бы и то, а в то же время не то — это как смотреть. Его, Красного Гоза, судьба не от того пошла по-другому, была Пашкуиха вдовой или не была. И даже не на роду была ему написана эта судьба. Судьба его зрела с незапамятных времен, растворенная в судьбах других крестьян; то невидимо зрела, тайно, то становилась явной и видимой. И судьба эта останется в памяти деревни после того, как он, Красный Гоз, уже умрет, так в земле, в травах, в хлебах остается пролившийся дождь, так остается в воздухе, в шуме, листвы промчавшийся над крышами ветер. Что-то от человека всегда остается навечно на земле…
Ходит Йошка по горнице, думает. Шандора Папа они, конечно, позовут, хоть он и старше намного. Есть люди, для которых время и возраст не имеют значения.
Позовут хотя бы потому, что он уже не мужик, хотя и к господам не относится. Шандор Пап — это Шандор Пап. Порог между мужиками и господами.
Порог — и не может переступить сам через себя — ни в ту, ни в другую сторону. Стоит на месте, словно околдованный. Ждет, чтобы к нему пришел кто захочет, или кто может, или кому выгодно к нему прийти.
Ему, Красному Гозу, выгоды в этом никакой, но не вредно все-таки немного раздвинуть стены вокруг себя…
Останавливается он около новой колыбели, которую покачивает Марика, намотав на палец шнурок. Покачивает тихо-тихо, как порой укачивает, баюкает человека какая-нибудь мысль. Смотрит Йошка на двух своих птенцов, которые пока чуть больше двух початков кукурузы.
Но у каждого есть уже крохотные глазки, сейчас закрытые; и ротик, словно наперсток; носик, подбородок, лицо — все это такое маленькое, словно игрушечное… И однако ж, удивительное дело: немыслимая красота, которая таится в этих крохотных глазках и ротиках, едва-едва умещается в двойной колыбели.
Красота эта не та красота, которая остановит любой человеческий глаз. Это красота проросшего из-под прошлогодней листвы маленького цветка, распускающегося не для других, а для самого себя. Или даже и не для себя, пожалуй, а во славу всепобеждающей жизни, разлитой и в нем самом, и в других…
Туманные, расплывающиеся видения роятся в голове у Красного Гоза. То вспомнится ему, как зимой шел он с Марикой по снежной дороге… или как она хохотала и отступала назад, глядя ему в глаза, — это уже летом было, не то прошлым, не то позапрошлым… И вот теперь перед ним два младенца, как два нераскрывшихся бутона. Тень на их сомкнутых глазах — отраженный свет восковых свечей; колышутся в такт дыханию кружева на пеленках.
Дрогнула было у него спина — наклониться, и все же лишь мысленно наклоняется он, одним дыханием, порывом души ласкает их, потому что чувствует тяжесть и жесткость своих рук, чувствует, что пока нечего ему делать с этими хрупкими, маленькими созданиями, возникшими где-то в переплетении тонких, но крепких нитей, соединивших его и Марику.
17
— Мария… — подсказывает Пирошка священнику; открывает голову одной девочки, подставляет ее под струю воды из кувшина.
— Мария… Во имя отца и сына и святого духа нарекаю тебя Марией. Аминь, — говорит священник, и вода журчит, выливаясь из кувшина, как только что пробившийся на свет родник.
— Эржебет… — снова шепчет Пирошка, и другая головка склоняется над купелью, как лилия на берегу озера, которая, едва успев раскрыться, уже глядится в воду.
— Эржебет… Во имя отца и сына и святого духа нарекаю тебя Эржебет. Аминь, — произносит священник, на этот раз торопливее. Потому что на первого младенца много вылил воды, на второго едва осталось. Так что какую-то секунду держит он кувшин пустым над головой ребенка.
А все же получается так, что охи и ахи достаются больше на долю Эржебет: она — последняя. Выходит, что воды меньше, а любви больше.
Священник благословляет новоокрещенных. Шара Кери поправляет скатерть на алтаре, воду из купели выливает в угол, где на полу нет покрытия — специально для того, чтобы воду сливать после крещения. Где те бесчисленные мужчины и женщины, которых приобщила к христианской церкви выплеснутая в этот угол вода? Сначала их приносили сюда на руках, потом приводили за ручку; потом они приходили сами, бодро стуча каблуками; еще позже шли степенным шагом; и наконец, снова приносили их в церковь родственники, с непокрытыми головами и грустными лицами, чтобы отсюда унести на кладбище. Удивительна судьба человеческая…
Ну а нынче два тоненьких плача слышатся в церковном дворе — словно ниточки протягиваются через ушко серебряной иглы, а вслед им течет из неприкрытой двери псалом. Три женщины сходят по ступенькам, растроганные обрядом. Солнце заливает церковный двор, каштаны тихо шумят в нежарком сиянии сентябрьских лучей, в синем небе плывут облака. Ореховое дерево у хаты Черов роняет на землю созревшие плоды; помидоры краснеют на подоконниках.
Хороша нынче погода. Нечасто бывает такая в сентябре.
Идут бабы; теперь из церкви доносится только гудение органа. Мальчишка маленький во весь голос ревет за домом правления. И немудрено: приятель хорошо съездил ему по спине.
Словом, крещение состоялось; вечером будет ужин.
Марика уже два дня, как встала. Ходит по горнице, в сенях, во дворе, в саду; только на улицу пока нельзя. Как сможет выходить на улицу, сперва в церковь пойдет. Правда, до церкви она и нынче могла бы добраться — да не полагается ей там быть, когда детей крестят. Так что теперь только в следующее воскресенье…
Красный Гоз молодого барашка купил для паприкаша; еще кур зарежут на жаркое и на бульон с чигой да калачей напекут. Это и будет ужин. Пашкуиха вина добыла у Жирных Тотов — чистого, трижды отстоянного зеленого вина, целых сто литров. Хватит с избытком. Всего двадцать шесть человек позвали кумовьями, мужчин и женщин. Да семью надо считать: у Йошки два брата, у Марики два, старший и младший, да отец — в общем, народу набирается много.
Целый день горит в сенях очаг: кастрюли бурлят, сковороды шипят; вокруг топчутся бабы, где снимут крышку, где снова закроют кастрюлю. А тут и вечер; сходятся гости, начинается ужин.
Приходит Шандор Пап с женой, Мари Чёс, осматривается подозрительно: не перешептываются ли у него за спиной, не хихикают ли. Да нет: в этом доме перешептываться не станут, тайны, попавшие сюда, здесь и останутся навеки. Как в могиле… Приходит Макра с Илонкой Киш; теперь он уже вымыт, выбрит, даже порезался раза три и папиросной бумагой порезы заклеил. Потому и выглядит так, будто с кошками дрался.
Приходят и остальные гости, друг за другом.
По очереди подходят бабы к Марике, руку ей жмут и не отпускают, пока не скажут:
— Доброго здоровья вам, кума. А дочки ваши пусть растут и крепнут с божьей помощью, родителям на радость и счастье. От всего сердца желаю!
— Спасибо вам, кума, на добром слове. Дай и вам бог здоровья… — отвечает Марика всякий раз. Поначалу, правда, краснеет немного: трудно было к слову «кума» привыкнуть.
Красный Гоз к столу гостей приглашает: «Пожалуйте, кума, пожалуйте, кум…» Приходится теперь старых приятелей на «вы» звать. Только Тарцали подмигивает ему и говорит потихоньку: «Брось ты это к дьяволу. Мы что, теперь и не кореши уже с тобой?..»
Кореши, конечно. Корешами и останутся. А сегодня все же обычай надо соблюсти.
Илонка Киш с двойняшками возится, на руках их таскает, то одну, то другую, оторваться не может. У нее вряд ли скоро будет ребенок… Красивая она баба — а все ж есть в ней что-то, отчего бабы стараются от нее подальше держаться. Мужики — дело другое. Те к ней так и льнут. Плечи, руки у нее пополнели, а в поясе осталась она на редкость стройной. Как те деревья, которые пышно цветут, а плодов не приносят. Все цветы сбрасывают, до последнего… А как она с младенцами играет… Даже слепому видно, что притворяется, а сама все норовит Красному Гозу на глаза попасться.
Марика на нее со страхом посматривает: вдруг уронит ребеночка… она ведь и нарочно может… И зачем только позвали ее?
— Скажите, кума, которая из них Мария, а которая Эржебет? — спрашивает Илонка с недоумением.
— О… так вот же: эта, маленькая, Мария, а вот эта — Эржебет… тоже маленькая…
Илонка смотрит на них и не видит разницы. Для нее обе одинаковы.
Усаживаются за стол; почти все здесь — старые друзья-приятели: вместе в школу ходили, вместе парнями гуляли, а теперь разлучила их судьба. Один — землекоп; другой землю копать не любит, он лучше батрачить будет; а третий, глядишь, хозяином стал, женившись и землю за женой получив. Есть и такие, которые, женившись, в бедняки попали… И все они собрались нынче за одним столом.
Будто несколько месяцев, что прошли с тех пор, как они женились, были для них испытанием: дескать, посмотрим, что из вас выйдет. Каждый старался, как мог, на ноги встать. Показать, на что он способен, сам, без родительской поддержки… Что говорить: не все это испытание выдержали. И вот собрались нынче, чтобы отчитаться перед другими о своих успехах, о своей судьбе, а заодно и вспомнить старую дружбу.
— Ну что ж… подымем, кумовья дорогие. — Красный Гоз берет стакан, чокается со всеми по очереди. Каждый думает про себя: пожалуй, надо бы сказать что-нибудь насчет младенцев… пожелать им счастья и прочего. Да не очень-то умеют они говорить, особенно если красиво надо и торжественно. Один Шандор Пап мог бы… вот он уже и откашлялся было… Да передумал. Черт бы все побрал. Скоро суд у него будет с Жирным Тотом. Он-то, правда, согласился бы на мировую и Ферко бы, может, согласился, да молодая жена его, Пашкуиха, урожденная Ребека Торни, ни за что не хочет мириться. Око за око, говорит, зуб за зуб. Так и в Писании, говорит, сказано… Словом, мог бы он такую застольную речь сказать, что и сам Петефи не придумал бы лучше, если б на крестины его позвали… Только его, беднягу… Петефи то есть, ни одна собака никуда не звала… Все гости уж подумали было, что вот Шандор Пап сейчас встанет и что-то скажет — да так и не дождались. Допил Шандор Пап свой стакан молча. И лишь после этого сказал:
— Однако это куда вкусней, чем молоко, — и, оглянувшись вокруг, добавил: — Если первый стакан так хорошо пошел, что ж будет дальше?
Большой, раскладывающийся стол стоит посреди горницы. Вокруг него все и сидят. Довольно тесно получается, да это ничего. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Окно раскрыто; табачный дым выходит из него сизым облаком. Марика сидит на кровати, рядом с колыбелью, смотрит на гостей. Встать-то она встала, но за стол ей садиться еще не полагается. То одна, то другая баба заглядывает из сеней: подавать ужин или рано еще? Первый стакан гости выпили, да все еще не освоились; еще и на «вы» друг друга надо величать — это тоже мешает чувствовать себя по-свойски; но это скоро пройдет. И вот уже шум поднимается, веселый разговор, выкрики.
Часто сиживали они вместе: на посиделках, на вечеринках. Но тогда все было по-иному. Все знали: этот парень ту девку возьмет, потому что гуляет с ней, а этот — ту!.. Казалось, отношения установились прочные, навсегда. Шутили друг с другом, смеялись, плясали; иногда, при свете луны или снега, торопливо, неумело целовались… А прошло полгода-год, и все оказалось по-другому. Так все перемешалось, что и во сне не приснится. Смеются гости, шутят, говорят двусмысленные слова — и между делом пытаются узнать что-нибудь друг про друга.
— Я что скажу вам, кум Тарцали, — вертится на стуле Макра, — раз ночью просыпаюсь и слышу: что-то чмокает. Сажусь, значит, на кровати, прислушиваюсь: все чмокает. Встаю тогда, сапоги натягиваю, пиджак надеваю. Не тот, что на мне теперь, а другой, желтый, я его всегда беру, когда только что-нибудь накинуть на себя надо… по нужде или так что… — говорит, объясняет Макра, но совсем уже не о том, с чего начал. Даже уж и не о старом пиджаке, а о том, как дед его помирал. Уж такой человек этот Макра. Если начал говорить, не может остановиться. Щеки у него и без того румяные, здоровые, а теперь совсем раскраснелись от возбуждения. Илонка в такие минуты даже смотреть на него не может. Противно ей. И стыдно… Подходит она к Марике, усаживается рядом, потеснее.
— Видишь, какой он дурак, — шепчет ей. — Тебе-то хорошо, а мне…
Плакать ей хочется. А Марика не знает, что ответить. Смотрит на Илонку, смотрит — и вдруг не по себе ей становится. Представилось ей, что не Йошка ее муж, а кто-то другой, скажем Макра. Хоть вообще-то он человек неплохой. И не бедный… Что же все-таки отличает их друг от друга, Йошку от Макры? Бедная Илонка… Жалко становится Марике Илонку. Потихоньку гладит она ее по щеке, по плечу.
— Ну ладно, кум, ты все ж нам скажи, что там чмокало-то? — не терпится уже Тарцали.
— Да ведь я и хочу… — и говорит, говорит себе Шандор Макра. А на него никто уж внимания не обращает. И правильно. Не для того они сюда пришли, чтоб бестолковые эти разговоры слушать, которым конца нет. Видит Макра, что мало-помалу все от него отворачиваются, — делать нечего, приходится досказывать начатое соседу, Косорукому Бикаи. Ему, значит, пытается объяснить он, что к чему. Тот терпит немного, потом закуривает, облокачивается на стол. Говорит Йошке Бану, сидящему напротив:
— Смотрю я, кум, вы даже и не попробовали вина-то.
Макра смущается, потом в другую сторону поворачивается, к Юльче Виг, невестке Чемегешей. А та прямо в глаза ему смеется с хитрым видом: мол, меня ты на это не возьмешь… Умолкает Макра, оглядывается на жену. Однако Илонка смотрит куда-то сквозь него с брезгливым видом. Вертится обиженно Макра туда-сюда. Он и в парнях такой был: парень как парень, а коли рот открыл, никак закрыть не может.
Шара Кери то бабам поможет в сенях, то в горницу зайдет, встанет меж двух стульев, руки на плечи гостям положит.
— Пейте, пейте, больше крестить не будем, сегодня обеих окрестили, — приговаривает.
А гостей долго упрашивать не приходится. У многих на языке вертятся шутки-прибаутки, которые в таких случаях говорят повитухе, да робеют еще мужики перед Шарой Кери. (А Тарцали думает, что зря они не эту повитуху позвали к Пирошке, а другую.)
Тут Гозиха появляется в дверях, машет повитухе. Значит, готов ужин. Можно подавать. Потому что повитуха должна и блюда носить: так положено. Не удалось Шаре Кери отвертеться. В сенях заставили ее выучить все, что в таких случаях говорить надо. Складные такие стишки, не то что, например, на свадьбе. И короче, и смешнее. Шара Кери тут же их выучила, всего-то и повторили ей два-три раза… Несет она первое блюдо и шепчет про себя, чтобы не забыть. Ну вот, сейчас… Подошла к столу, рот раскрыла — и все забыла, начисто.
— Давайте, давайте. Мы слушаем! — шумят гости.
— Ах ты господи… — говорит она с отчаянием. Но не стоять же так до утра. Да и блюдо горячее, руки жжет. Ставит его на стол. — Кушайте, пожалуйста. Приятного аппетита.
И убегает.
— Хо-хо-хо-хо!.. Ха-ха-ха!… — гости прямо-таки закачались на стульях. Вот это да! Вот это повитуха!.. А суп хорош — с чигой, сверху жир плавает кружочками. Кружочки и большие и маленькие. Плавают они и, как встретятся, — сливаются. Цвет у супа чудный: от шафрана, а еще больше от заботливых глаз, которые за ним следили. Да в нем еще и пупки плавают. И печенка куриная. И крылышки, и лапки…
Отличный суп, а повитуха, которая его подала, еще лучше. Подмигивают кумовья Красному Гозу.
Это уж всегда так: пока жена лежит в постели, мужа в разных делах подозревают. А есть на то основания или нет — неважно. Бывает, что и в самом деле без греха не обходится. От человека зависит и от случая. Правда, насчет случая недавно еще, год назад, когда старая Шара Баи была повитухой, говорить особенно не приходилось… Одним словом, тут в общем-то больше разговоров, чем настоящего греха.
Красный Гоз помалкивает, улыбается только. Сегодня он всем готов улыбаться. Даже если дрова будут у него на спине колоть. Сидит в углу, возле двери: чтоб и угощать было удобно, и к колыбели подойти, когда надо. Сидит немного ссутулившись. Будто на плечи ему давит невероятное счастье, которое свалилось на него, можно сказать, совсем неожиданно. Марика теперь — законная его жена, и у детей его — да еще сразу у двух! — имя есть: доброе, честное имя. Жена хорошо роды перенесла, скоро расцветет снова. И дети такие славные, как ангелочки; крохотные, но красивые, крепкие, как два орешка. Правда, обе девчонки… да кто сказал, что это последние? Еще будет и сын. «Золотая моя», — думает Йошка, глядя на Марику, которая опять шепчется о чем-то с Илонкой. Та суп в два счета съела и снова к Марике ушла.
И о чем они там шепчутся? А впрочем, не все ли равно? Марика говорит Илонке:
— О, кума… не так уж это страшно. Правда, пришлось помучиться, да это пройдет. Теперь уже я ничего не чувствую. Все почти как всегда… Вот не знаю только, у всех после родов живот, как у меня?.. Такой некрасивый. Какой-то дряблый… А теперь еще и кожа немного шелушится…
Илонка ближе к Марике придвигается, будто хочет заразиться от нее плодовитостью. Потому что у нее-то, она знает, ребенка не будет… от мужа, от этого ненавистного… нет, не будет. А уж она не жалела бы своего тела, чистого, белого, ради ребенка. «Послушайте, кума, вот что…» — говорит она Марике; чувствует: обязательно нужно рассказать куме все и про мужа, и про то, какая она несчастная…
Вскоре Шара Кери паприкаш приносит, и Илонка опять садится к столу, немного успокоившись: хоть кому-то излила наконец душу.
— Эх, кум, — говорит Тарцали, глядя на горячий пахучий паприкаш из баранины, — если я с этим справлюсь, то и сам блеять начну, как баран.
— А может, бодаться начнешь, как козел… — отвечает ему Пишта Бан, накладывая себе полную тарелку.
— Или… это… будешь ходить и болтать… кой-чем, — оживляется опять Макра и вертится суетливо в разные стороны: очень у него язык чешется. Еще какую-то историю хочет рассказать. Но тут жена так на него глянула — будто кнутом хлестнула; Макра испуганно втягивает голову в плечи, смотрит к себе в тарелку, нюхает паприкаш.
— Поедим, кум… очень тяжела была весной тачка, — говорит Тарцали больше себе, чем другим, и берет паприкаша.
— Это-то точно, — отвечает ему Косорукий Бикаи и шею вытягивает. Хоть и сам, пожалуй, не знает, о чем речь. Во-первых, он на земляных работах не был: он сам по себе… А на днях договорились они с женой продать лошадь и корову купить. Потому что и молоко будет, и пахать можно на корове… А во-вторых, его сейчас только паприкаш интересует: раз уж дорвался, надо поесть досыта.
Тихо за столом. Все едой заняты. И вообще, простой человек, когда ест, болтать не любит.
Шара Кери уже кур вносит. Вдруг собака залаяла во дворе, калитка хлопает, все прислушиваются. Шаги стучат перед домом, потом шепот в сенях, шум — и в дверях появляется Лайош Ямбор, четвертый выборный.
— Добрый вечер! Бог в помочь!.. — приветствует он гостей и ухмыляется.
Рот у него расплывается в улыбке, как базилик под дождем.
— Спасибо, коли не шутишь. Вовремя пришел, — слышится с разных сторон; но Лайош Ямбор на гостей больше не глядит, с серьезным видом обращается он к Гозу:
— Слышь-ка, Йожеф Гоз. Выдь на минутку.
Йошка отодвигает стул, встает, идет к Ямбору. А тот от него пятится.
— Куда бежишь-то?
— Счас, счас… хочу тебе сказать, Йожеф, — шепчет Ямбор, — господин агроном и друг его, который у него гостит, лейтенант… словом, прийти они хотят. Говорят, никогда еще не были на крестинах.
— Все равно уже ничего не увидят. Были уж крестины. Чего они в церковь не пошли?
— Потому что… словом, они не то хотят видеть, что в церкви, а что, значит, дома…
— Ну так где они?.. И ты-то здесь при чем?
— В кооперативе они, слышь-ка, были, я тоже заглянул. Угостили меня стаканом вина, усадили с собой… словом, послали спросить, можно ли прийти им…
— Н-да… — Это Красный Гоз скорее не говорит, а думает про себя. Хоть и не позвал он господ, а они вот тебе, сами пришли. Оглядывается он на накрытый стол, на кумовьев, на Марику, на горницу, на колыбель. Что они хотят смотреть? Чего они здесь не видели? Без них как-то лучше: едят все, веселятся, разговаривают о своих делах… Ничего здесь нет такого, что господам было бы интересно.
— Пусть приходят. Примем с радостью, — говорит все же Гоз и возвращается на свое место, садится.
— Что там? — оборачиваются к нему гости.
— Ничего. Два гостя еще опоздали. Однако… поднимем-ка стаканы, кумовья!
Чокаются. Пьют.
И вкусен ужин, и обилен, однако не может же Человек съесть больше, чем в него влезает. Тарцали все чаще опустошает свой стакан; вот он уж и глаза зажмурил, песни просятся из него наружу… В это время в сенях раздается звон шпор, звякает сабля, и молодой щеголеватый лейтенант входит в горницу. За ним — агроном. За ними — Лайош Ямбор. Лейтенант щелкает каблуками, здоровается. Красный Гоз идет навстречу, руку протягивает, говорит:
— Добро пожаловать к нам. Проходите, садитесь.
Другую руку кладет он гостю на плечо.
— Ах ты господи, мне кормить пора, — шепчет испуганно Марика Илонке. И правда, двойняшки уже головами вертят, вот-вот заревут. Чтобы, значит, про них-то совсем не забыли между делом.
— Ну так что? Если нужно…
Марика усаживается поудобнее, ногу ставит на скамеечку. Илонка подает ей одного ребеночка, а со вторым играет пока. Кнопки расстегиваются на кофте, и показывается грудь. Сначала с левой стороны кормит Марика, со стороны сердца.
Удивительная эта белая грудь показывается на свет, словно дождевое облако из-за горизонта, когда освещает его яркое солнце. Или как тесто, пышным холмом вылезающее из квашни.
Никто не говорит ни слова. Никто даже не шевелится.
Лейтенант замер по стойке смирно, в одной руке у него сабля, в другой фуражка, голова наклонена, словно он перед командиром или в церкви на молитве.
Агроном стоит чуть сзади него, пересчитывает балки на потолке и размышляет про себя. Ленке, Матильда, эконом, прибавка к жалованью… Да, придется ему отсюда уезжать. А как хорошо было бы жить среди этих людей не только сегодня, сейчас, но и завтра, и послезавтра… всегда…
— Агу, агу, агушеньки… — приговаривает Илонка, качая вторую девочку, то ли Марию, то ли Эржебет, — и глядит на Лайоша Ямбора, который бесстыжими глазами рассматривает простоволосые затылки баб…
Колыбель
1
Ничего особого не случилось в деревне за последнее время. Если не считать, что Ференц Вираг связку соломы поджег на спине у Лайоша Ямбора, да вот еще помещик рыбный пруд задумал копать.
Пруд будет огромный, на тысячу хольдов, и протянется до соседней деревни.
Со своей землей, конечно, каждый волен делать, что хочет. Да только возле деревни не вся земля помещичья: есть тут и общинные наделы. Так что помещику надо или выкупить их, или отдать взамен другие. Ну, выкупить их нельзя: непродажные они. Да и где это слыхано, чтобы общинную землю продавали: она ведь не чья-нибудь, а общая… Правда, особой выгоды от нее никому нет; земля хоть и хорошая, да оставляют ее под выгон, потому что вытаптывают ее ребятишки и скотина из окраинных дворов. Словом, только и пользы от нее, что нельзя продать. Ну конечно, это тоже кое-что…
Однако умные люди друг с другом всегда договорятся. Как уж там было, неизвестно, но получил помещик эту землю, около сорока хольдов. А взамен отдал своей земли хольдов пятьдесят около виноградников. Так что община вроде еще и выиграла. Выиграла, правда, только на бумаге, потому что отданные помещику земли летом должны были быть розданы под участки для строительства.
Об этом не только в газетах писалось: уже и специальный закон вышел на этот счет, и секретарь его зачитал вслух на заседании правления.
Забурлила после этого деревня; особенно заволновались бедняки, кто давно о таком участке подумывал. Ходили мужики в правление, старосту крыли почем зря, кулаками стучали по столу, грозились начальству пожаловаться.
— Да сами вы подумайте, — пытался урезонить их староста. — Ведь если пруд здесь будет, вам же от этого одна польза. Всегда на поденщину есть куда пойти или землекопом: работы там невпроворот. То дамбу чинить, то то, то другое… Да и потом, травы всегда есть где накосить. И к столу, глядишь, перепадет карась-другой…
— А что с участками нашими будет? — не унимается Косорукий Бикаи. В прошлом году женился он и живет теперь с молодой женой у отца; в старой хате их — как сельдей в бочке. Так что жена ему прямо заявила: или новую хату строй, или развод.
— Да вы ж послушайте меня, мужики. Дадим мы участки под строительство. Возле мельницы. Там даже еще лучше место. И тракт рядом…
— Что-о? Это возле Черкерта, что ли? Погляжу я, как это вы в мою землю хоть колышек вобьете!.. — вопит Балинт Эмбер, у которого там хольд земли есть. А вообще-то, даже если он и захотел бы свою землю отдать, все равно с участками ничего бы не вышло. Потому что, как только пошел по деревне слух, все, у кого земля в тех местах, стали свои наделы огораживать, деревья сажать: им, мол, тоже в скором времени может понадобиться новая хата. У одного сын подрастает, у другого дочка на выданье…
— Ну… тогда есть еще общинные земли возле Атяша…
— Это солончаки-то?..
— Ну и что, что солончаки. Не такая уж там плохая земля. И чернозему можно подсыпать, деревья посадить…
Это уж точно, можно и подсыпать, и посадить. Года четыре назад вот так же подсыпали чернозем во дворе полицейской казармы. Вырыли ямы, навозили хорошей земли, насажали деревьев. Те росли себе, росли — пока корни до солончака не добрались. Тут их рост и кончился.
— Одно вот мы не уразумеем… зачем здесь, у самой деревни, надо тот пруд копать? — все не отстает Имре Вад, который красным солдатом был в России. Ему новую хату строить не надо: просто такая у него натура — везде влезать, где какую-нибудь несправедливость чует.
— Затем, друзья мои, что в эту сторону приходится падение воды.
Тут все замолкают. Это что-то новое. Такого они еще не слыхали. Сам Ференц Вираг — и тот первый раз услыхал. От инженера. А теперь произносит эти слова так, будто и инженер от него их узнал.
Ференц Вираг не один против недовольных стоит: с ним все деревенские богачи. И Габор Тот, и Эсени, и Такач — все, у кого есть земля возле виноградников. Еще бы. Вместе с новой землей и их наделы пойдут теперь как виноградники. А это значит, что цена их подскочит вдвое. Так что они за пруд — обеими руками; другие, кто победнее, против… Словом, волнуется деревня, шумит, как камыш под ветром. Или как наседка, у которой цыплята разбежались в разные стороны… Да Ференц Вираг держится непреклонно: ему к драке не привыкать. В таком деле тот выигрывает, у кого язык лучше подвешен. И у кого терпения больше.
А Ференцу Вирагу ни того ни другого не занимать стать.
В конце концов был подписан договор по всем правилам, всеми сторонами. С одной стороны, сам помещик подписал, с другой, от общины, — Янош Багди, с третьей, от деревни, — Ференц Вираг. Потому что здесь не только об обмене земли шла речь, но и об установлении прав на воду, о водоотводящих каналах и еще много о чем.
А тут и весна подошла, люди своими делами занялись; однако недовольство свое потащили с собой, как бегущие в драку — железные вилы.
А власти уездные спешно забрали у деревни солончаковые земли и распределили их на участки под строительство. Всего вышло семьдесят четыре участка, до самого болота. Почесали мужики в затылках, да и смирились. Мол, лучше все же хоть синица в руках, чем журавль в небе. Тем более что в это время и пруд начали копать. Участок стоит недорого, и выплачивать можно частями, а на земляных работах, глядишь, еще и на хату удастся заработать.
Так что Ференц Вираг опять победил, а деревня опять ему подчинилась. С гордым видом, твердо ставя в грязь свой посох, расхаживал он по улицам.
В то самое время, когда все это происходило, как-то в пятницу, перед рассветом, видели люди какой-то огонь за деревней, в той стороне, где Коццег. А спустя полчаса кто-то забарабанил в окно к Шербалогу, парикмахеру.
Парикмахер, конечно, встал, сапоги натянул, выглянул в окно и увидел на улице Лайоша Ямбора, который двоюродным братом его жене приходится. Уже в тот момент показалось это Шербалогу подозрительным. Не очень-то ходил Ямбор в парикмахерскую. Он и сосед сами друг друга стригли, в кружок. Повяжет Ямбору жена на шею свой синий передник, усядется он верхом на стул, а там сосед пусть делает, что хочет.
— Эй, шурин, откройте, — кричит Ямбор, стуча в стекло.
— Иду, иду… — отвечает Шербалог и бежит сени отпирать. Впускает он Ямбора и вдруг бьет ему в нос такой запах… ну, будто свинью палят во дворе. Даже подумалось ему: уж не снится ли все это… В общем, усаживает он Ямбора на стул, поярче свет делает в лампе, принимается ножницами щелкать… И тут от испуга чуть обратно в постель под одеяло не лезет. Да и немудрено. На голове у Ямбора волосы — будто их клочьями кто выдирал. И к тому ж воняет от них, как черт знает от чего.
— Господи боже, что это с вами?
— Со мной-то? Ничего… печку вот затопил, да пламя возьми и вырвись, всю спину обожгло… Спиной я как раз стоял, грелся, значит… Уж вы сделайте что-нибудь.
— Можно, конечно, наголо остричь… да ведь пятна останутся.
— Стригите наголо.
— Ладно. — И Шербалог инструмент берет. Наклоняется над Ямбором. И тут видит, что у того — ни бровей, ни усов. А как до волос его дотронулся, вонь еще крепче стала.
Жена Шербалога, в девках Жужика Сильва, вылезает из-под перины и, сморщившись, идет открывать окно. Не выносит она такого запаха. Мимо Ямбора проходит боязливо, будто он укусить может. Машинка трещит, повизгивая, и плывут из-под нее все новые запахи. Так бывает, когда Шербалогу покойника приходится брить.
— Счастье еще, шурин, легко отделались, — говорит Шербалог. Молчит Ямбор. Глаза у него, правда, приоткрыты, но вообще-то он спит. Как заяц. Что опять же не удивительно, потому что в эту ночь он, почитай, совсем не спал.
Началось все с того, что жена Ямбора закваску вечером поставила, чтобы хлебы испечь рано утром. Сунула в печь два горшка, дрожжи в воде размешала и говорит:
— К утру чтоб было чем топить, Лайош.
— Знаю, знаю, — отвечает Лайош и задумчиво ногой покачивает, сидя на припечке. Корову он поил, только что вошел со двора.
— Ну-ну, я ведь… — дальше жена не продолжает, Лайош знает и так.
Знает он, что во дворе у них соломы даже пол-охапки не набрать. Знает и то, что коли нет соломы, то к утру она все равно не вырастет и ничего не остается ему, кроме как поздно вечером или на рассвете взять вилы под мышки, веревку через плечо перекинуть или на пояс повязать — и в путь. Туда, где есть солома.
Знает Лайош и то, где она есть, солома-то, куда, стало быть, надо идти… Через полчаса такая наступит темнота, хоть глаз выколи, зато ближе к рассвету луна взойдет.
Март только-только начался; снег почти везде сошел; грязно-белые пятна лишь там остались, куда солнце не достает. Под стогами, под заборами. Зима стояла долгая, скирды во многих дворах как корова языком слизнула. Не только у Лайоша Ямбора. Правда, такого голого двора, как у него, нигде не увидишь. Но тут уж ничего не поделаешь. Печка все съест, сколько б ни было, да и на подстилку нужно скоту. Две лошади у Ямбора, корова да свинья с семью поросятами.
А на Коццеге целый стог стоит Ференца Вирага, который кирпичи собирался осенью обжигать, вот и навозил туда соломы. Дома-то у него еще с прошлого года есть, сколько надо. Да мастер сбежал, так и осталась солома без употребления.
Ничего, солома эта не пропадет, сгодится в следующем году, и мастер найдется другой. Да только говорит однажды Вирагу Йожеф Эсени:
— Плохо дело, кум.
— А что такое?
— А то, что солому твою к весне растащат с Коццега.
— Черти что ли ее растащат?
— Черти или другой кто. Позавчера ездил я на Коццег с телегой навоза; посмотрю, думаю, что там творится, раз уж выбрался… Словом, вижу я, стог твой обдерган со всех сторон и по снегу солома разбросана.
— Эх, дьявол!.. Ну спасибо, кум, я за этим послежу.
Конечно, беды большой пока не было. Ну, раздергали стог, верно… Да ведь, кто стащил, тому, видать, очень уж нужно было. Если мужик и былинку с поля не сможет унести, что ж это будет-то? Замерзнет он, и все тут.
Задумавшись, идет Ференц Вираг по соломенному следу прямо к Керешу.
Дальше — по берегу, в деревню. И приводит его след к самым воротам Лайоша Ямбора.
— Черт бы побрал этого Ямбора. Даже следы за собой замести и то ленится…
— Эй, Лайош, — говорит ему староста вечером в правлении (то на «ты» его называет, то на «вы»), — ты весь стог смотри не утащи. Оставь и мне немного.
— Какой стог? — смотрит на него удивленно Ямбор.
— Какой? Не валяй дурака. Будто не знаешь. Мой стог. С Коццега.
Мозги у Ямбора работают с бешеной скоростью: кто мог его выдать? Подлые люди! Он никому ничего плохого не сделал, а ему каждый так и хочет навредить.
— Я… я не брал, господин староста… я только один раз. Один-единственный, — произносит он торопливо. — Баба всю солому вытряхнула из тюфяка, а у меня и соломы-то нет больше, одна полова. Половы сколько хошь, да ведь ее в тюфяк не положишь, все бока исколет, хе-хе-хе… Я и подумал, что вы бы мне все равно дали немножко, господин староста, если б я попросил, хе-хе-хе… — В таких случаях лучше в шутку дело обратить.
— Может, и дал бы… Только, во-первых, вы меня не просили, господин выборный, а во-вторых, я не обязан свою солому раздавать. Вот так.
Так что Ямбор не может сказать, что Ференц Вираг его не предупреждал. И не один раз предупреждал.
А соломы становилось все меньше и меньше.
Вираг сначала в полицию думал заявить, да беда в том, что такие дела много волокиты требуют. Свидетелей надо найти, потом в суд таскаться… У кого есть на это время? Кто это может до конца выдержать? У него и без того дел по горло. Ну и потом, лучше действовать наверняка. Он и один вора поймает. Без всякой помощи.
Однажды, как-то к вечеру, надо было кого-нибудь из выборных послать на хутор: эконом там бабу одну избил, жену батрака. У бабы — восьмеро ребятишек, да и беременная она к тому же; должно быть, сболтнула что про эконома, да про кухарку, да про агронома — вот эконом и устроил ей выволочку. У бабы выкидыш случился, это на четвертом-то или пятом месяце: даже врач к ней выезжал. Для того и выборного пришлось послать. Ямбор как раз оказался в правлении, вот его и хотел отправить Вираг.
Однако Ямбор отговорился, сказал, что ему, мол, некогда на хутор идти, ему домой надо, жена хлеб собралась печь.
«Так. Хлеб, значит, печь…» — подумал про себя Ференц Вираг. Нажал на звонок, рассыльного вызвал. Чтоб тот за другим выборным сбегал.
Вспомнил он об этом вечером, когда шел не спеша домой; помнил и после полуночи, когда, одевшись в тулуп, шел к Коццегу.
Месяц был в последней четверти, на небе — ни облачка, звезды в высоте мерцали дремотно. Холодный ветер дул с севера, под ветром съежилась, затвердела грязь. Звенели сухие подсолнечные будылья, шелестел прошлогодний бурьян; мерзла земля в холодном сиянии месяца. Ференц Вираг прислонился к стогу спиной, постоял, прислушиваясь, трубку закурил. Ночь впереди большая, как море, и мысли все бегут и бегут, будто гребешки волн…
Вообще-то староста собой доволен, и по праву: кто из мужиков достиг в жизни того, чего достиг он? Ведь кем он был прежде? Никем. Бедняком, одним из многих. А кто он теперь? Крепкий хозяин с достатком. Даже, можно сказать, богатый. И к тому же староста. Не каждый может этим похвастаться. А насчет того, что, мол… подкупил его помещик… пусть себе болтают. Завистники всегда найдут, о чем шептаться… Однако недаром говорят, что лучше пусть завидуют тебе люди, чем жалеют… К тому же, если, скажем, не подписал бы он этот договор с помещиком, все равно ведь пруд-то был бы выкопан. Разве что дальше был бы от деревни. Не все ли равно деревне, здесь этот пруд или там? Завистники ж этого не понимают. Не доходит до них истина, хоть кол им на голове теши. А ведь если разобраться, то кому выгодней, когда помещик с деревней в хороших отношениях? Ему, старосте, или деревне? Ему-то с этого только и выгоды, что земля его возле виноградников тоже пойдет как виноградник. Потому что обмен так получается, что его земля там в самой середине. Где рукав Кереша излучину делает. Это конечно. Тут он Кое-что получит.
Землю эту он разделит на четыре части и продаст с аукциона. А потом за вырученные деньги купит на Шованьхате вдвое больше.
Несколько лет он это дело обдумывал, да хозяева виноградников очень уж ему мешали. Будто всем другим можно виноградники держать, а ему одному нельзя. Ну, теперь-то они не отвертятся: втянули-таки и их в обмен, объявив полученные от помещика земли виноградниками. А его землю никак нельзя обойти. Даже если бы он сам, скажем, захотел.
Землю эту он приобрел во время последних парламентских выборов; можно сказать, она сама ему в руки свалилась. Что ему оставалось делать? Не моргать же, как дураку! Уж моргать-то он не привык.
«Если б не пошевелил я вовремя мозгами»… — думает староста. Но что тогда было бы, о том ему думать неохота…
Вот и солому он сюда привез в прошлом году, потому что заранее все предусмотрел. Содома эта нужна для того, чтобы кирпичи обжигать.
Потому что это чистая правда — ничего не взял он от помещика. Не такой он человек, чтобы пойти на это. Только подумал вовремя: ох, какое строительство развернется скоро на Коццеге.
И его дом будет здесь построен. Он и балки купит дешевле, и доски, и известь, и цемент, и железо, и гвозди, если вместе с помещичьим будет покупать. Помещичьи люди ему и привезут все, и мастеров дадут. Словом, он знает, что делает. Ну конечно, что говорить: все это ему эконом пообещал, когда он первое время с договором не соглашался. Рука руку моет, как говорит эконом, и тут он, конечно, прав.
Будет у него дом, какого ни у кого нет в деревне…
О чем только не передумал Ференц Вираг в эту ночь возле стога. И бывшую жену свою вспомнил, и господина Фукса… И уж конечно, Шару Кери… Ишь, в старостихи ей захотелось! Нет, никак это невозможно. Если б еще отказался он от своего поста — ну, тогда можно подумать. Да и тогда: лучше бы все-таки согласилась она так с ним жить. Любовницей. Да вот ведь загвоздка: и слышать не хочет она об этом. Говорит: если вправду любишь, женись… И до чего ж эти бабы глупые, никакого в них понимания…
Месяц уходит за стог; Ференц Вираг уж было и задремал немного… И тут вдруг слышит: отдаются в стоге шаги. Прислушивается. Чьи-то сапоги стучат по мерзлой земле.
Идет, голубчик, идет; ворот поднят, руки в карманы сунуты, под мышками — вилы. И в этот момент облаком заволокло месяц, словно кто попоной его накрыл.
— Этот еще тоже… Не мог подождать, пока наберу да завяжу, — смотрит Лайош Ямбор вверх, на месяц, и дует на озябшие руки. Правда, в рукавицах он, да мало с них толку. Жена из рукава старой сермяги их сшила.
Втыкает Лайош вилы в стог, выдирает из него солому клочьями, аккуратненько укладывает ее на разложенную веревку. Большую кучу набрал, благо есть откуда. Да и много надо для хлеба, потому что поддон у печи плохой. В прошлом году еще собирался починить. И кирпичи уже были — натаскал по одному из помещичьего моста, — да так и не собрался к нему старый Сильва. Ох, сколько забот у человека: то одно, то другое… Решительно расправляется Лайош со стогом; наконец завязывает большой сноп, подлезает под связку.
Ференц Вираг терпеливо ждет, присев за стогом. И вот видит, как отделяется от него большая вязанка, будто душа отлетает от тела. Хлопает Ференц Вираг себя по карману, гремит в коробке спичками. И отправляется не спеша вслед за вязанкой, из-под которой видны только ноги Ямбора да конец вил.
Взбирается Ямбор на берег Кереша.
Берег не так уж высок: здесь ведь только рукав один; но все же берег как берег, на него тоже взобраться надо. Наверху останавливается Ямбор отдышаться; черенок вил, покачиваясь, наклоняется к земле.
«До чего же ненасытен человек, все ему мало…» — рассуждает про себя Ямбор, и тут вдруг вспоминается ему жена. И квашня. И закваска. А еще — старый Сильва. Не починил, такой-сякой, поддон в печи; починил бы, теперь не надо было бы столько соломы… Конечно, можно было бы два раза сходить, вместо того чтобы такой воз тащить на спине… да бог с ним… Ямбор ощущает в носу острый запах закваски и хмельных отрубей и будто видит перед собой плечи жены и ее грудь, колышущуюся над квашней, будто облако… Все ж на рассвете лучше дома быть, в постели, чем по полям бродить. Да что поделаешь: такая уж у него судьба.
Поднимает он вязанку и секунду стоит покачиваясь, прежде чем двинуться вперед. Солома клочьями на лицо ему свисает; Ямбор и дороги-то почти не видит, по запаху чует, куда идти, как козел.
И вдруг кажется Лайошу Ямбору, будто бешеный вихрь проносится, ревя над его головой, в то время как ноги ступают в холодную жижу. Вязанка на спине становится удивительно легкой, вот-вот взлетит вверх. Ослепительный свет бьет в глаза сквозь солому, горящие клоки падают под ноги.
Даже не кричит, а дико верещит Ямбор, будто квочка, когда ее собака схватит. Отпустив черенок вил, со всех ног несется он куда-то вперед:
— Орешь, собака?… — ворчит Ференц Вираг и останавливается. Руки греет над костром из горящей соломы, трубку посасывает. Смотрит вслед Ямбору, который уже на другой берег карабкается на четвереньках. Вишь ты, от берега до берега пулей пролетел…
2
Девять часов утра.
Свинарь дует в рожок на Главной улице, а на Коццеге только подпасок кнутом щелкает. Подпасок этот до того мал: одна сермяга да кнут, больше и не видно ничего. Рукава сермяги длинны и болтаются, как у татарина. Вдоль улицы, в воротах, стоят мужики, его дожидаются. Ямбор тоже выглядывает из своих ворот; свинью он уже выпустил, вон она, в грязи роется на дороге. Пастушонок подходит, смотрит на Ямбора и тут же испуганно отскакивает.
— Здороваться бы надо, эй! — сердито кричит на него Ямбор, как полагается хозяину и выборному.
— Язык болит! — огрызается подпасок и идет дальше. Однако ногами проворней шевелит, на всякий случай.
Пожалуй, теперь Ямбор ему ночью будет сниться.
Едва прошло стадо, баба какая-то приходит, стучит щеколдой на воротах Ямборов, кричит: «Собака кусается?»
Ямбор вылезает из хлева: баба двигается было к нему, да тут же, увидев его, прочь кидается. Чуть не бегом бежит вдоль заборов. Только через три хаты останавливается.
— Не знаю, что это с Ямбором… — говорит она другой бабе и боязливо назад оглядывается.
— А что с ним такое, кума?
— Да то… такой из себя он страшный: раз на него взглянула, и чуть меня не вывернуло…
Эта баба здесь разносит новость, а на другой улице парикмахерова жена старается. Еще полдень не отзвонили, а вся деревня уже знает, что случилось. Что Лайош Ямбор солому у Ференца Вирага украл, а тот его выследил и поджег солому на спине у вора.
Будет теперь мужикам над чем посмеяться.
Столько шумели да ругались они из-за участков, что не грех и повеселиться. И то сказать, разве дело, если человек все время горевать станет? Или смеяться все время? Лучше, когда и того и другого понемногу.
К полудню отступил холод; кое-где уж и грязь подсыхает на солнышке. Потеплел воздух. Детишки весело сумками размахивают, из школы идут. Кого встречают, кричат тому издали во все горло:
— Здравствуйте!..
И правильно: доброе слово никогда не лишнее.
Из правления выходит Ференц Вираг. «Эй, чего разгалделись?» — напускается он на ребятишек и грозит им посохом. Крики и шум расступаются перед ним, как море перед жезлом Моисея, чтобы опять слиться за его спиной.
На углу, возле правления, переходит Ференц Вираг на другую сторону, потом сворачивает в переулок, где живет Шара Кери. Идет мимо ее двора, через изгородь заглядывает.
— Кого это вы высматриваете, дядюшка Вираг? — раздается вдруг голос Шары Кери, которая стоит в калитке.
— Э… так ведь и напугать можно… — перекладывает тот свой посох в другую руку. Галстук поправляет.
— Вы случайно не обвенчаны с этим галстуком? Выбросьте-ка его к шуту!
— Если хотите, могу и выбросить. Я ведь говорил уже.
— Говорить-то говорили, да не выбросили.
— А вы развяжите, я и выброшу. Ну развяжите…
— Вот еще. Прямо на улице кинусь к вам на шею… Так что ли? Зайдите, развяжу.
Вираг смотрит в одну сторону, в другую, пригибается, протягивает вперед палку, входит во двор. А там — по веранде, вслед за Шарой Кери — в кухню.
Стучат по ступенькам каблуки Шары Кери. Туфли у нее на ногах; сами туфли — загляденье, а стройные щиколотки, просвечивающие сквозь тонкие чулки… тут и слов нет. Юбка колышется — бегут по ней волны сверху вниз и никак не кончаются. Как волнение на море, которому ни конца нет, ни края.
— Входите, дядя Вираг, — открывает Шара Кери перед ним дверь и отступает в сторону.
— Нет, входите вы первая, — не соглашается Вираг, и переступают они порог одновременно.
Часто теперь ходит сюда староста — да ничего не меняется между ними. Так все и замерло на том, на чем в прошлом году остановилось. Каждый раз, уходя, думает Ференц Вираг, что ноги его больше здесь не будет. А пройдет день-два, и снова приходит он под каким-нибудь предлогом. Конечно, поддается Шара Кери нажиму, понемножку, помаленьку, а поддается; но только поддается так, как ветка осины: легко сгибается, да тут же и разгибается. Деревня наблюдает за ними все нетерпеливее; правда, многие думают, что они давно уж сошлись: кто поверит, что баба с мужиком так долго могут в дружбе находиться и не сойтись?..
— Ну, давайте сюда, — говорит Шара Кери и подходит к Вирагу. Развязывает ему галстук. Колено ее, будто ненароком, прислоняется к его колену, пальцы мягко задевают лицо. И не может удержаться Вираг: обхватывает ее обеими руками, притягивает к себе…
И в тот же момент звонкая пощечина раздается в горнице. Только не сразу отнимает Шара Кери ладонь: задерживает немного и вниз ведет, словно комара прихлопнула у старосты на щеке.
— Ну, это уж слишком, — мрачнеет Вираг.
— Слишком? Интересно! Если вы безобразничаете, так это не слишком. А если я защищаюсь, это, видите ли, слишком. Ишь вы, какой хитрый, — и что-то поправляет у него на груди.
Комната медленно идет кругом в глазах старосты. Это он безобразничает?! Это он хитрый?! Да ведь она сама колено к его ноге прислонила, она, а не соседка. Вот и всегда так: сначала раздразнит, а потом попробуй дотронься до нее — так лягнет, что лошадь. Плюнуть и уйти ко всем чертям — это было бы самое правильное. Да вот беда: до того крепко приворожила его повитуха — не может он без нее и двух дней прожить. Даже когда видит ее, разговаривает с ней, все равно не может. А если еще и не видеть…
— Готово. Я его уберу, чтобы вам не пришло в голову снова надеть.
И Шара Кери, помахивая галстуком, идет к шкафу. Спрятавшись за дверцу, шуршит одеждой. Вираг не видит, но хорошо знает, что сейчас она разденется, чтобы снова одеться. Каждый раз она это проделывает. Если в уличном платье была, переодевается в домашнее. Если в домашнем, то в уличное. Понимает Вираг, что делается это специально для него… Но что происходит сегодня — такого никогда еще не было. Вдруг выходит она из-за дверцы в коротенькой комбинации, в длинных чулках и обхватывает Вирага за шею, усаживает его на стул, сама садится к нему на колени.
— Так когда мы поженимся?.. — спрашивает.
— Ну… сказал же я… дойдет очередь и до женитьбы, — отвечает он с запинкой.
— Не увертывайся, милый, не увертывайся, очередь до этого все равно дойдет. Может, даже раньше, чем ты думаешь. Я пока еще немножко подожду. Но вообще-то, не советую тебе слишком долго тянуть, а то ведь… — целует она его в губы и спрыгивает с колен. Секунда — и халат ее застегнут на все пуговицы. Садится Шара Кери поодаль в плетеное кресло, руки складывает на груди и смотрит на Вирага, улыбается.
А Вираг сидит и не знает, на каком он свете. Наконец встает, шляпу надевает и, шатаясь, как пьяный, идет к дверям.
— Ноги моей здесь не будет больше, — бросает он на ходу и ругается. Но голос все-таки приглушает, чтобы не все расслышала Шара Кери.
— Ладно, ладно. Если вы мне понадобитесь, я сообщу…
И сообщать не пришлось. Где там! Еще вечер не наступил, а Ференц Вираг уже сидит в кооперативе, в канцелярии, и нетерпеливо высматривает в окно, когда повитуха пойдет домой. То, что она уходила куда-то, он заметил… День долог, чего только не случается за это время. Едва ушел староста от Шары Кери, как Лайош Ямбор к ней явился. Здоровается.
— Что с вами, мил человек?
А Ямбор столько нынче врал, что даже устал. Да и надоело.
— Эх, не спрашивайте… чтоб этому старосте пусто было. Солома у меня, знаете, кончилась… ну, пошел я, возьму, думаю, немного из Вирагова стога…
— Ладно, не рассказывайте, знаю я всю историю. Выглядите вы, скажу я вам, будто у сатаны в гостях побывали, — хохочет повитуха.
— Знаю. Да что поделаешь… Волосы-то вырастут еще. Я ведь к вам зачем? Мази какой хочу попросить.
— Мази? Мази я вам дам. А вы что же, так это и оставите?
— А что делать-то?
— Заявите на него.
— Заявить? Да ведь не он мою солому утащил, а я его.
— А это неважно. Да и не об этом только речь. Скажем, насчет участков и всего прочего…
Ямбор стоит, задумавшись, посреди горницы и коленом трясет. Потом вдруг говорит «спокойной ночи» и уходит.
Повитухины слова словно огонек какой-то в нем раздули; бежит, бежит огонек, перебирается с веточки на веточку, пока не наберет сил и не вспыхнет ярким пламенем.
Шара Кери посмеивается про себя. Лампу зажигает, принимается за уборку. Ох, этот Вираг: гордый, упрямый мужик, самолюбивый, своенравный… но ведь умный. Стоит помучиться, чтобы его приручить. Да если еще он Фери усыновит… Сын, Фери Вираг… будто так всегда и было… Только бы не держался он так упорно за свое место старосты. Какая им польза от этого или выгода?..
Собралась она поужинать раньше, чем обычно, да тут пришел за ней один мужик. «Идите скорей», — просит.
Подхватила она свой чемоданчик, двинулась за ним. Тут-то и увидел ее Ференц Вираг из окна кооператива. А теперь ждет, когда она пойдет обратно.
Шара Кери и в самом деле скоро возвращается: ничего страшного, бабенка молодая, первый раз в тяжести, испугалась немного. Словом, проходит она мимо кооператива; в хатах уже свет зажигают, но не стемнело еще. Слышит, кто-то торопится за ней, оборачивается.
— Добрый вечер.
— Добрый вечер, красавец. Вы чего это по улицам слоняетесь?
— Вас дожидался, — отвечает Вираг угрюмо.
— Меня? Интересно. Я ведь за вами пока не посылала. Может, кто другой постарался за меня? Ну пойдемте, коли так, нечего здесь торчать.
Какая-то баба бежит мимо, в лавку, может торопится, и во все глаза на них уставилась, поздороваться забыла.
— Видите? Люди со мной уже здороваться не хотят. Из-за вас все.
— О, я этого не знала. Тогда лучше вам не таскаться за мной… — И Шара Кери ускоряет шаги. Да только Вирага теперь от нее и силой не оттащить.
Молча идут они до самого дома и даже в горнице молчат, пока Шара Кери лампу зажигает.
Сидит Вираг, понурив голову, будто молчания и одного только присутствия в этом доме достаточно, чтобы все его желания и мечты сбылись… Эх, не будь она повитухой… Или пусть будет повитухой, но безропотно, послушно подчинится ему… Вот о чем он думает.
— Скажите-ка, герой, что вы сделали с Ямбором, с выборным?
— Что сделал? То, что он заслужил. Если ему не нравится, пусть в полицию идет, в суд, заявляет на меня.
— Не такой уж он дурак, если хотите знать. Вон он уже по деревне ходит и рассказывает, что от вас одного зависело, где помещик пруд будет копать. Что, мол, подкупили вас и забрали участки, для строительства предназначенные…
— Это как же! Вон они, участки, на месте. Кхм, кхм…
— Что, простудились?.. Не то вы все говорите. И вообще распоряжаетесь общинной собственностью, как своей. Да только берегитесь.
— Это я-то? Я-то? — возмущается Вираг; но в голове у него совсем другие мысли. О Ямборе думает он, о мужиках, а еще об экономе и о помещике. Виноват он, что ему повезло? Что помещик задумал пруд копать как раз тогда, когда он, Ференц Вираг, в старостах ходит?.. Видно, на каждый роток не накинешь платок. Другой на его месте точно так же поступил бы, и все бы ему с рук сошло. А на него, вишь, теперь собак вешают… Где ж тут справедливость?
— Скажу я вам одну вещь, дядя Вираг… — то она «дядей» его зовет, то на «ты», а то вдруг «милый». — Чего бы не уйти вам из старост, пока не поздно? Плохо все это кончится, вот увидите.
Грустно ей. Да и устала. Бьется, бьется она с этим мужиком, и все напрасно. Нет у нее больше сил…
— Нет, не уступлю! Нет такого человека, чтобы меня свалил. Я привык на удар ударом отвечать, — храбрится Вираг и стучит по краю стола.
Шара Кери уж и не говорит ничего, не спорит. Словно смертельно надоело ей все, словно никакого дела ей нет ни до старосты, ни до других; теперь он ей ненавистен почти. Взяла бы, как полено или тряпку, и выкинула в окошко. Знает она, что такое женщина, — ей ли, повитухе, этого не знать!.. Знает и то, что она, Шара Кери, ничем не отличается от остальных… а если и отличается, так только тем, что, может быть, красивее других. Почему же он упрямится, не хочет ее в жены? Почему стыдится сыну ее дать свое имя? И почему тогда бегает за ней как собачонка и смотрит голодными глазами?..
— Вот что я вам скажу, милый мой. Оставьте-ка вы меня в покое, уходите, очень вас прошу… — говорит Шара Кери, чуть не плача, совсем тихо, так что Ференцу Вирагу даже не по себе становится. Совсем по-новому он ее увидел сегодня. Это уже не кокетливая, лукавая женщина, любыми средствами пытающаяся поймать его в сети, женить на себе, а человек, у которого большое горе случилось в жизни. Знает Вираг: скажи он одно-единственное слово, и горе ее развеется, уступит место радости. И чувствует, что ему и самому было бы приятно сказать это слово. Оно уже готово сорваться у него с языка… А все же молчит он, хотя бы потому молчит, что очень хочется сказать.
Уходит.
Весь следующий день занимался он делами в правлении. Жига Цебе, рассыльный, как бы между прочим сказал ему, что опять собрались мужики в кооперативе, пьют.
На третий день, с утра — еще и девяти нет, — идет Ференц Вираг в правление и слышит: шум стоит в корчме. Понимает он, что неладно что-то, но все-таки входит. Кто обязан следить за тишиной и порядком в деревне, если не староста?.. Такой крик стоит в корчме, будто на спор пошли мужики, кто кого перекричит, или будто за сдельную плату стараются. Полным-полна корчма. Одни сидят, другие стоят — кто как. А посредине Лайош Ямбор ораторствует, шкалик в руке стискивает; голова его поблескивает, как тыква, прибитая инеем.
— Эй, у вас что, праздник нынче? Лодыря празднуем? — спрашивает Ференц Вираг и проходит к стойке.
Тихо становится вокруг. Только у Шаркёзи громко бурчит в животе: он на голодный желудок вино пил. А другой мужик, Мезеи, слышит это и смеется в кулак… Тут Имре Вад, который в прошлом году угостил Кароя Болдога бутылкой по голове, зажмурив глаза, кричит:
— Магарыч пьем, господин староста! Участки пропиваем, которые вы так ловко на солончаки выменяли.
— Кхм, кхм…
В таких случаях самое умное — откашляться. Смотрит Вираг на Имре Вада, да что на нем увидишь — на нем ничего не написано.
— Ты бы язык-то не распускал… Думаешь, если красным солдатом был, так тебе все позволено?
— Это мое дело, кем я был. А только мужиков я никогда не обманывал! — кричит Имре и хватает за горлышко бутылку из-под содовой. Любит он эти массивные бутылки. Правда, дорогие они, если разобьешь, да можно ведь и отпереться потом. Зато стукнешь ею как следует.
— Это вино тебе в голову ударило, Имре, — отвечает Вираг, стараясь не повышать голоса, и потихоньку к дверям отступает. Не понимает он, что случилось. Ведь совсем было успокоилась деревня — а теперь опять ходуном ходит. Видно, Ямбор всех взбаламутил. Не надо было с ним связываться из-за этой несчастной соломы… Или сунуть бы в прорубь головой — и все было бы в порядке. Если и нашли бы его потом — ничего не смог бы он рассказать…
Выходит Вираг из корчмы, даже, можно сказать, выскакивает. И вовремя, потому что сзади бутылка разлетается о косяк. Будто граната.
Не только кооперативная корчма полна народу, тесно и в других: у Рацки и у господина Крепса.
И в каждой корчме — свой заводила, который остальных подначивает.
Один говорит: сегодня же надо ходоков послать к министру, потому что такого поношения терпеть никак нельзя; другой предлагает сразу к наместнику[33] идти; третий считает, что можно и депутатом ограничиться. Словом, перемешалось все основательно.
А Ямбор с Имре Вадом ходят из одной корчмы в другую. Надо ковать железо, пока горячо, как Имре Вад говорит.
Правда, когда у господина Крепса избили одного мужика за то, что он кричал: мол, бедняк хоть до бога иди, все равно никто его слушать не будет, — тут Ямбор с Вадом перепугались. Вишь, как мужики властям верят: даже убивать за них готовы. Словом, Ямбор не прочь бы уже все обратно переиграть. Ему-то какое дело до этих участков! Он только Ференцу Вирагу хотел ножку подставить, больше никому.
— Стало быть, друзья, такое дело, — ораторствует он, стоя посреди корчмы, — что правда, то правда, правду не видеть — грех. А правда в том, что у виноградников мы намного больше земли получили, чем под пруд отдали.
— Смотри ты, как он заговорил! Это Лайош-то Ямбор… — удивленно замечает какой-то мужик. — Может, тебе тоже заплатили, а?
— Это мне-то? — И Ямбор обиженно отходит в сторону.
А господин Крепс полицию уже успел пригласить: мол, приходите скорее, мужики взбесились, одного уже избили.
А спустя пять минут секретарь правления говорил по телефону с уездным начальником. Еще через десять минут полицейские прошли по всем корчмам, посетителей попросили по домам разойтись, а хозяев — питейные залы закрыть. До нового распоряжения, как было сказано…
Около четырех часов дня появились в деревне чужие землекопы.
Впереди — пожилой мужик лет пятидесяти; спина сгорблена, седые усы ветер шевелит. Стучат тачки по камням, у некоторых колеса визжат пронзительно. Не смазаны, видно. Или съела смазку дорожная пыль. На тачку сермяга брошена, сверху котелок: идут землекопы вереницей, один за другим. Человек сто.
Сто землекопов, сто тачек, сто сермяг, сто котелков, сто котомок. Столько же лопат, заступов. А где-то далеко позади остались сто хат, сто жен, сто семей…
Идут землекопы.
Навстречу им, молчаливые, идут верстовые столбы и долго смотрят им вслед; тачки заунывно поют одну и ту же песню, подскакивая на камнях. Так и добралась артель до деревни.
Первый землекоп бросает взгляд на доску с названием деревни, потом на закрытую корчму и останавливается, Снимает с шеи лямку. Оборачивается, подымает руку. Держит ее поднятой несколько минут, слегка покачивая — словно под порывами ветра.
Собираются землекопы толпой; тачки тоже оказываются рядом друг с другом — будто остановились побеседовать. Кое-кто из прибывших тут же усаживается на свою тачку, лицом к проделанной долгой дороге. Другие выходят на обочину, встают там, широко расставив ноги, сдвинув шляпу на затылок, с хрустом расправляют спины, плечи. С самой зари они в лямке, долгим, утомительным был путь.
Один из них перешагивает канаву, устало идет к корчме, глазеет на закрытую дверь, трогает ее, пробует открыть.
— Не очень-то нас ласково здесь встречают, — говорит он.
Невеселый смех раздается ему в ответ.
— Видать, наша слава нас опередила, — снова говорит мужик, а сам все топчется перед корчмой.
В глазах у землекопов еще стоит пройденный путь, деревни, рощи, поля. На плечи еще давит груз неохотно уходящих назад километров. Сейчас бы стакан вина или стопку палинки — все легче было б на душе. Хмель отодвинул бы, заслонил горечь прощания с родной деревней, со своей хатой, семьей, женой. Ведь теперь несколько месяцев быть им бездомными… Все-таки несправедливо, что наткнулись они на закрытые двери.
— Через лавку можно войти, — предлагает кто-то. И верно: лавка-то открыта.
В лавке, за дверьми, стоит Хелена, старшая дочь господина Крепса. Стоит она там с тех пор, как ушли полицейские. На ней цветастое бумажное платье. На поясе — крохотный передник; узел его торчит сзади, как клок соломы. Зевает Хелена, целый день она на ногах: мужики с самого утра нынче пили да шумели. Старосту крыли на все корки, правление, секретаря; говорили, что наведут здесь порядок. Над этим как раз и размышляла Хелена, когда заскрипели по дамбе колеса тачек. Высовывается Хелена из дверей и тут же прячется обратно.
— Папа! — кричит она. — Землекопы пришли!
Для окраинной корчмы большое дело, когда через деревню проходят чужие. В пути человек беззаботнее, чем дома, не бережет каждый грош. От дома своего он уже оторвался, к цели еще не прибыл… Понятно, такой человек и в питии не всегда меру соблюдает. Ну а про землекопов и говорить нечего. Им сам бог велел беззаботными быть, у них ведь дом — на спине, стол — на земле… Господин Крепс все это знает отлично и Потому ни капельки не удивляется и не сердится, когда сразу четверо чужих мужиков входят в лавку. Как дым всегда найдет себе выход, так землекоп найдет вход в корчму.
— Почему заведение закрыто? — спрашивают они.
Господин Крепс как раз бабе одной товар отпускал; бумагу покупает баба, на полки постелить, да еще уксусу; протягивает она хозяину деньги. Роется господин Крепс в ящике, сдачу ищет, а сам говорит:
— Двенадцать да еще девять — двадцать три… Что говорите? Почему закрыта? А потому, что винцо у меня очень уж хорошее, быстро расходится, хе-хе-хе…
— Ну так дайте поскорее стаканчик, — говорит один землекоп.
— И мне, — говорит другой.
Тут лезет господин Крепс под прилавок, вытаскивает плетеную бутыль. Мужики пьют, а он их рассматривает.
Одни выходят из лавки, другие входят; льется вино, звенят деньги. Сначала одна только Хелена помогает отцу; однако господин Крепс, сообразив, что тут лучше перестараться, чем недостараться, кричит:
— Фани, Серена!
То есть еще двух дочек зовет в лавку на помощь.
А землекопов в лавке все прибывает: топчутся, плакаты разглядывают на стенах. Потом в питейный зал проходят, там тоже осматриваются, закуривают, держа в руке стакан. Дочери господина Крепса мечутся среди них, деньги считают, сдачу дают, вино приносят. И еще успевают присматривать, чтоб землекопы не утащили что-нибудь, в карман не сунули. Особенно меньшая, Серена, зорко следит. Проворная она девка, ловкая. И самая красивая из всех, Хоть еще и пятнадцати ей нет.
Вдруг взвизгивает она, деньги, что у нее в руке, ссыпает в карман юбки и бежит к маленькому черному мужику.
— Вы что взяли, дядя? Я видела, в карман сунули!.. — и вцепляется ему в плечо, в карман норовит залезть.
Мужик, черный, как стриж, — даже в синеву отливает — сконфуженно бормочет:
— Ничего я не брал. Я не вор. Ишь ты…
— Неправда, взяли! Я видела! Отдайте! — и еще крепче вцепляется в него Серена.
Господин Крепс встревоженно поднимает голову, потом запирает ящик с деньгами, убирает бутыль под прилавок. «Что такое?» — спрашивает он с угрозой в голосе.
— Этот дядя что-то украл, — верещит Серена и вытаскивает наконец из кармана черного мужичонки смятый платок, кукурузную лепешку, полпачки табаку, спички и шкалик с коньяком, грамм на двадцать.
Мужик даже слова не может сказать — таи ему стыдно. Одной рукой от Серены обороняется — правда, несильно: можно ли такую красивую девку грубо отталкивать!.. Другой рукой шею ощупывает: расцарапала-таки ему, будто кошка. И за карман ему стыдно перед другими — что таким барахлом набит. Лепешку кукурузную ему жена сунула — перехватить в дороге, если проголодается. Чтобы, значит, котомку не развязывать без надобности. Спичечницу он еще с фронта принес… А шкалик этот… черт его знает, как он в карман к нему попал… Вот что значит не везет бедному человеку…
— Эй, так-перетак… и ты, кум, терпишь, чтобы у тебя в кармане копались? — кричит другой мужик, высокий, белобрысый, и с размаху шлепает Серену по заду, хлестко.
— А-а-ай-яй! — вопит девка что есть силы. В раскрытом рту у нее тонкие нити слюны блестят. Словно паутинки. Все, что она держала, прижав к груди, сыплется на пол. Лепешка кукурузная катится, катится под столами, пока не наступает на нее чей-то тяжелый сапог. Старшая сестра ее, Хелена, бросается на белобрысого мужика, а тот подставляет кулак — и девка падает на пол кому-то промеж колен. Тут и Фани кидается на обидчика…
— И-и-и… — вопит она дико, повиснув у него на шее.
Господин Крепс торопливо собирает стаканы.
— Больше не дам, больше не дам… — приговаривает он. — Уходите, пожалуйста! Уходите!
Словом, кавардак стоит неописуемый.
Прически у девок — уже и не прически, а какая-то растрепанная, перепутанная пакля; слезы текут по щекам. Хелена в голос ревет, а сама все наскакивает на кого-то.
Несколько мужиков, ругаясь почем зря, складывают в карманы бутылки помельче. Шкалик коньяку, шкалик горькой… Даже какую-то бутылочку, на которой написано: Triple sec[34].
Через несколько минут никого нет в корчме. Господин Крепс торопливо запирает дверь, перекладину ставит.
— Ну и дела-а… — говорит кто-то из землекопов.
— Сдачи корчмарь не дал! — кричит другой.
— Это я-то — вор? — снова вопит маленький мужичонка, и глаза его наливаются кровью. Ведь что такое шкалик? Тьфу! Разве это воровство, если их там видимо-невидимо… Будто теперь только пронял его по-настоящему стыд. И идет он пошатываясь, будто нестерпимый груз давит ему на плечи или будто пьян он в стельку… направляется к своей тачке. Развязывает инструмент. Хватает заступ и — через канаву, обратно к корчме.
— Закрыли они, кум. Теперь нам с ними не разговаривать по душам… — пробует образумить его белобрысый.
— Да я… я с самим господом богом разговаривать буду, если надо… — спокойно, расчетливо начинает выламывать двери.
Однако с такими дверьми справиться непросто: изнутри окованы они железными полосами. Разве что богатырь какой-нибудь смог бы своей палицей разнести их вдребезги. А не такой хилый мужичонка… Правда, и мужичонка не так прост, как кажется: нашел-таки способ. Раз дверь нельзя сломать, за стену принялся. И вот заступ стучит по стене рядом с дверьми.
Стена — кирпичная, на кирпиче — глина; от времени высохла глина, растрескалась. Рассыпается в пыль. Стукнет мужичонка — и кусок, величиной с ладонь, отскакивает. От каждого удара содрогается корчма.
Отец с дочерьми переглядываются испуганно. Сотрясаются стены, звенят бутылки на полках, сквозь щели в потолке сыплется пыль…
3
Бывает, что тянется день, тянется и никак не закончится. Вот так получилось и сегодня.
Хоть и позакрывали полицейские все корчмы, а мужики все ж не расходятся, стоят на улицах, шумят, руками машут.
Многие только что с полей вернулись, с виноградников — гусениц с лозы обирали (то и дело читают по деревням распоряжения, чтобы каждый хозяин гусениц уничтожал), не торопятся домой.
Полицейские расхаживают по улицам; перья колышутся у них на шляпах, ремни скрипят; мужики уже издали шапки перед ними снимают. Почему и не снять? Полицейские — служивые люди. Они ведь не виноваты, что надо приказ выполнять.
— По домам расходись, по домам! — выкрикивают они.
— Идем мы, идем, господин унтер. Как не идти. Кто же это домой идти не хочет… — отвечает Имре Вад, да так смиренно, так послушно. Смеются мужики. Смотрят на полицейских глазами невинными, как у новорожденных.
Полицейские, постояв немного в нерешительности, идут дальше. Теперь вроде с околицы доносится какой-то шум.
Едва дойдя до угла, лицом к лицу сталкиваются они с землекопами. Впереди, как и прежде, пожилой мужик, за ним вереницей — остальные. Полицейские останавливаются, а землекопы проходят мимо них равнодушно, будто мимо телеграфных столбов.
Пришли, стало быть, сторонние землекопы. Больше будет теперь беспорядков — больше забот у полицейских.
Идет патруль дальше.
Господин Крепс только что открыл дверь лавки, тут и полицейские подошли. Створка двери почти прикрыла развороченное место на стене. Да не настолько, чтобы полицейский глаз ничего не заметил.
— Какие новости, господин Крепс?
— Новости, господин унтер? Никаких особенных новостей… — останавливается Крепс в дверях лавки.
— Лавку тоже решили закрыть? — перешагивает унтер через канаву.
— Закрыл. Землекопы тут проходили…
— Так-так. А ну, посмотрим… — заглядывает он за створку. — Это что за дыра? — показывает унтер сапогом на оголившиеся кирпичи.
— Это-то? А, не спрашивайте. Завтра заделаю.
— А все-таки?..
— О, да что там…
Но тут Серена выскакивает вперед и перебивает отца. Еще бы: такой случай отомстить этим мужикам.
— Землекопы чужие разломали, они ворваться к нам хотели, нас хотели убить!
— Заткнись! — рявкает на нее господин Крепс. Да поздно. Теперь хочешь не хочешь, надо рассказывать. Он им вина не давал, избави бог, он даже в лавку-то их не хотел пускать, от этого все и вышло… Словом, запутался господин Крепс. И дернуло ж эту девку вылезти! Никак не может усвоить, что полезно для дела, что вредно… Полезно, чтобы землекопы и в другой раз сюда заходили. Если нынче он с ними не по-хорошему расстался, так это ничего, можно пережить. А теперь вот пойдет: Протоколы, допросы, то, се… морока, словом.
— Мы скоро вернемся, — говорят полицейские и уходят.
А местные жители, можно сказать, все на улице: стоят разинув рты, глазеют на землекопов. Нечасто случается увидеть столько чужих за один раз… Смотрят на них деревенские, как на людей, которым больше повезло в жизни. Вишь, им достался главный подряд на строительстве пруда, хоть и меньше их, чем деревенских, что стоят теперь по обеим сторонам улицы, вдоль заборов, как вдоль крепостных стен, и глядят на нашествие.
— Смотри, кум, глазеют на нас, будто на дикарей, — говорит сквозь зубы черный мужичонка белобрысому.
— Точно. Вроде мы и не венгры им, — отвечает кум с горечью. Да и остальные думают примерно так же.
— Дрянная это деревня, чтоб ей сгореть.
— Точно. Дрянная. И народец тут никудышный.
Злоба разбирает пришлых, бежит по веренице из конца в конец. С ненавистью смотрят они на деревенских; глазами готовы убить всех. Пока до усадьбы добрались, совсем остервенели, как растревоженные осы. Ругаясь, опускают на землю тачки, лямки снимают, сбиваются в кучу, кроют на все корки и корчму, и ее хозяина, и деревню. Мол, все они тут одним миром мазаны…
— Землекопы прибыли, — открывает кухарка дверь конторы. Двое поднимаются из-за стола: Енё Рац и новый агроном. Агроном этот совсем еще и не агроном; с грехом пополам кончил экономическое училище, а агронома помещик хочет из него вырастить. Видно, мания у него такая.
— Вы сидите, не беспокойтесь. Я сам пойду распоряжусь, — говорит эконом и идет к двери. На веранде вставляет в глаз монокль, с минуту смотрит перед собой в раздумье. Нет, лучше без него. Вынимает монокль.
— Ну что, мужики, пришли?
— Нет. Не пришли, — огрызается черный мужичонка. Он чем дальше уходит от корчмы господина Крепса, тем злее становится: видно, голова у него медленно работает.
Старшой, бросив на него сердитый взгляд, подходит к эконому. Докладывает ему: так, мол, и так; насчет жилья интересуется.
— Жилье? Сейчас… Вашко! Вашко! Куда к черту этот Вашко делся? — кричит эконом.
А Вашко, батрак, никуда не девался, индюшатник чистит. Испуганно вылезает он оттуда.
— Что прикажете?
— Отведи мужиков в сарай!
— Слушаюсь. Пошли, что ли? — машет им Вашко.
Не нравится все это землекопам; другого они ждали чего-то, хоть сами не знают чего. Каждый раз, начиная работу на новом месте, думают: вот, мол, уж эта-то работа будет особой, лучшей, чем вся прежняя, особыми будут и люди вокруг, и кошт, и жилье, и местность. И каждый раз оказывается, что ничего подобного. А они все-таки верят. Верят, что в новой, в следующей деревне народ наверняка живет лучше, чем они. И помещик там добрее, и жилье им дадут удобное… С унынием оглядывают они пустую овчарню. И здесь, значит, то же, что везде. В этом сарае предстоит им жить, пока не кончатся земляные работы. В дождливую погоду будут они валяться здесь, в карты играть, еду готовить, письма домой писать. Сарай этот будто пришел за ними с прежнего места работы… то есть не пришел, а чудесным образом прилетел, опередив их. Будто невидимые руки подняли его и поставили на землю в этом поместье.
Старшой молча смотрит на них и ничего не говорит. Знает он своих мужиков. Сейчас их лучше не трогать. Сами успокоятся. Как сами утихомирились и возле корчмы. Но если б начал он их уговаривать, тогда бы они уж точно разобрали стену. А он им ни слова не сказал — они и одумались. «Ну его к чертям», — сказали, и только черный мужик потоптался еще немного у дверей. А потом и он сложил инструмент и впрягся в лямку.
Слушает старшой невеселые разговоры мужиков, сарай оглядывает. Сюда, пожалуй, гвоздь надо вбить для котомки… Да стол завтра попросить у эконома… Стол им полагается, расчеты на нем чтобы делать.
Сарай ничего, хороший, крепкий; только паутину забыли из углов снять. Колышется паутина, когда ходят мужики по сараю; у иных она уже на шапке висит, будто вуаль у городских барынь.
Ругаются мужики, котелками бренчат, ложе себе устраивают в соломе.
И тут двое полицейских в дверях появляются.
Разглядывают копошащихся в полутьме людей. Теперь землекопы словно рассыпанные звенья цепи… А все же чувствуется: скажи слово — и соединятся они в цепь, не разорвешь. И невероятной крепостью будет обладать эта цепь. Еще на улице, встретив их, почуяли полицейские: небывалой силы вереница движется перед ними по дороге, по середине улицы. Беда тому, вокруг кого сомкнутся два ее конца. И сейчас еще не могут они освободиться от этого чувства — но служба есть служба. Люди эти пытались выломать стену в лавке господина Крепса. Хоть и не выломали, а все-таки ущерб нанесли. Однако еще надо выяснить, чем им лавка помешала, или, может, не лавка, а корчма? Может, врет Крепс? Может, он вино им продавал?
— Послушайте-ка меня, мужики! — говорит унтер.
Тихо становится. Все молчат. Даже шелеста соломы не слышно, так в крепком сне перестаешь слышать все звуки.
— Ничего страшного, мужики. Мы только хотим знать, что произошло у корчмы.
И снова загалдели землекопы, заговорили разом. Застучали тачки, загремели лопаты; из шума вырвался пронзительный голос:
— Гляди, кум! И эти против нас!
В такой вот момент и соединяется воедино разъятая цепь. И с таким шумом соединяется, что оглохнуть можно. Старшой подходит к полицейским.
— Очень прошу, не троньте, вы сегодня людей, а то я не отвечаю ни за что, — говорит он.
— Не отвечаете? Интересно. А кто вы такой?
Старшой слышит угрозу в этих словах. Да видно, не в первый раз имеет он дело с полицейскими, потому и присматривается, оценивает обстановку.
— Балинт Кепиро. Из Миндсента. Старшой артели, — говорит он, будто козырей в игре открывает.
— Ага. Так. Вот и расскажите, что было возле корчмы.
— Вот что, господа хорошие. Мы сюда только-только прибыли, пешком шли, шестьдесят километров одним духом, устали, поесть хотим, так что сейчас я ничего не скажу. Подождите до утра. А не можете ждать — допрашивайте корчмаря, — и отходит от них.
(Да, это цепь, прочная и неразрывная. Сила ее не видна, только тугое напряжение чувствуется.)
— Позвонить надо уездному начальнику, — говорит унтер и поворачивается уходить. Второй за ним следует.
Не надо было им сюда идти: мужики их только увидели и уже озверели. Правда, те, кто поспокойнее, пожитки начали развязывать, ужин готовить. А неспокойные сбились, в кучу посреди сарая, шумят, деревню ругают на чем свет стоит, корчмаря, полицейских… корчмаря, которому ничего на свете не надо, лишь бы продать свое вино да палинку, чтобы новое вино, новую палинку закупить и снова распродать и чтобы за то и за другое получить барыш.
Ну а деревня… ведь и из этой деревни точно так же, расходятся мужики на земляные работы, как и из той, в которой они живут. Им-то думалось: придут они сюда — и встретят понимание, мир, согласие. Голодать, нужду терпеть, ругаться — этого им и дома хватало. Дома, где остались детишки и оборванная, измученная жена. Казалось, на новом месте все должно быть лучше; известно ведь: там хорошо, где нас нет.
В марте дни уже заметно стали длиннее. Шесть часов вечера, а солнце еще светит; в этот час особенно много народу приходит к артезианскому колодцу.
Чужаки из усадьбы просачиваются понемножку в деревню, беспокойные, как вода, ищущая себе русло. Несколько землекопов оказались и здесь, у колодца; стоят чуть в сторонке, кружком, а один — в середине, тычет заступом в землю. Камениста насыпанная, утрамбованная земля, искры вылетают из-под лопаты. Мужик всякие замечания отпускает в адрес прохожих, а остальные хохочут. Так ведут себя люди, которые силу за собой чувствуют.
Будто бы для того они сюда пришли, чтобы деревню с землей сровнять, и теперь пробуют, где начать: здесь или с другого конца.
По дамбе местный мужик идет, гулко стуча большими сапогами: на плече у него — мотыга, на спине — котомка. В поле был, видать. Или на винограднике. Обходит землекопов, пальцем шляпу возле виска приподымает.
— Гляньте, братцы, на этого хмыря: еле ноги волочит! — говорит черный мужичонка и снова тычет заступом в землю. Братцы стараются, хохочут. Так собаки в лесу облаивают ежа.
Деревенский оглядывается беспокойно: может, сзади кто идет, над тем смеются землекопы. Да нет, сзади нету никого. Только парнишка один держит под краном кувшин. Мужик мотыгу на плече поправляет и спешит унести ноги подальше от греха.
Мишка Юхош, на вид совсем взрослый парень, да только по росту, а не по возрасту, идет с водой от колодца. Два глазированных кувшина тащит, переходит с ними через улицу на другую сторону. Смотрит на землекопов, не может решить, здороваться или нет. Не знает он еще, что полагается, чего не полагается; да и руки у него заняты, к шляпе не поднимешь. Так что он губами лишь двигает, вроде бы хочет сказать что-то.
— Гляньте, братцы, здесь с нами и здороваться не хотят… — опять шумит черный мужичонка.
— Брось, кум… здесь мужики богатые, жирные… свиньи это, а не мужики, — успокаивает его другой, но все же говорит Мишке: — Эй, не отсох бы язык поздороваться. Дай-ка воды испить, — и руку к кувшину тянет.
Очень не по душе Мишке такое обращение. Это он-то не здоровается? Это он-то — свинья, он — богатый?.. Ну, теперь самый случай показать, парень он или нет…
— Вон колодец, — говорит Мишка и головой кивает.
— Эх… мать твою… — И один кувшин разлетается вдребезги. Вода льется Мишке на штаны, на сапоги. Остолбенело сжимает он в руке черенок от кувшина, слышит злорадный смех; тогда подымает он второй кувшин и, не раздумывая, швыряет в того, кто к нему ближе.
Мужики бросаются на него, будто собаки на зайца. Тут уж давай бог ноги — мчится Мишка что есть силы. Так и не остановился до самой калитки Красных Гозов.
А Красный Гоз как раз ножку строгал для тачки: нынче утром лишь заметил, что треснула ножка. Пришлось чинить срочно: завтра на земляные работы выходить.
— Ты чего? — смотрит он удивленно на Мишку.
А Мишка стоит возле крыльца, мокрый, как мышь, и трясется; одно плечо чуть не до пояса отвисло.
— Землекопы чужие отлупили… и кувшин разбили еще… — если б стыдно не было, заревел бы Мишка в голос.
— Эй, дьявол! Ты им, наверное, сказал что-нибудь?
— Ничего я не сказал, мимо прошел и все… — рассказывает, как дело было. И плечо щупает.
— Сильно стукнули? Ну-ка, покажи, — и быстро стягивает Гоз с его плеча пиджак. — Синяк хороший будет, — говорит он. В таких делах Красный Гоз понимает.
— Я сюда прибежал, здесь ближе… — и тут не выдерживает-таки Мишка, начинает реветь в три ручья.
— Ну ладно, ладно, не реви, до свадьбы заживет, не бойся. Знаешь, как говорят? За одного битого двух небитых дают. Так что не горюй! Землекопов этих тоже можно понять: пришли они издалека, ну и вообще — шутить не любят. Не с чего им ласковыми быть. Сам подумай: жену оставили, дом, детей, занесло их черт те куда… — но тут замолкает: ведь Марика тоже по воду пошла.
— Сестру свою не видал?
— Нет.
Молча, проворно строгает Красный Гоз ножку для тачки; время от времени остановится, подует на нее, повертит. Вот с этой стороны еще подстрогать чуточку… С ножкой в руках идет к воротам, возвращается обратно. Ножик замирает у него в руке; прислушивается Красный Гоз. Мать несет с огорода корзину турнепса; в сенях двойняшки вопят, друг друга перекричать стараются. Не от боли, не от обиды, а от хорошего настроения… Где же Марика?.. Пошла по воду, и все нет ее… Прилаживает Красный Гоз ножку к перевернутой тачке.
Стукнула калитка. Вот и Марика.
Сразу видит Гоз: что-то неладно. И платок ниже у нее, чем всегда, на лоб надвинут, глаза затеняет. И очень уж легкими кажутся кувшины в руках. «Принесла?» — спрашивает ее Красный Гоз, а Марика и глаз не подымает.
Идет прямо к веранде, тянется через перила, кувшины ставит на место. Подходит к Йошке, ногти себе ковыряет, как провинившийся ребенок. Молчит; только губы у нее кривятся. Плачет.
— Ну что ты?.. Говори же!
— Не принесла я воды… мужики там чужие, у колодца.
Красный Гоз проворно навертывает гайку, потом клещами затягивает. Перевертывает тачку, приподымает ее, пробует. Отряхивает ладони, будто от пыли (да и вправду испачкал, пока тачку чинил), потом, ни слова не говоря, поднимается на крыльцо, заходит в сени; шарит в углу, снова выходит во двор. В руке у него толстая палка с железным наконечником. Взяв палку под мышку, идет на улицу.
— Йошка! Не ходи туда, Йошка! — кричит Марика и бросается за ним. Да разве его остановишь. Уже за забором мелькает Йошкина шляпа.
А чужие к этому времени запугали деревню окончательно. Уже и зеваки исчезли из ворот, по дворам попрятались. Калитки заперты; только в щели заборов выглядывают кое-где люди.
Полицейские ходят растерянно по улицам, не знают, что делать. Надо бы вмешаться — да как?.. От начальства получили они указание — следить за порядком, действовать осмотрительно. Чужие землекопы расхаживают по деревне, глазеют, посмеиваются. Да ведь не запретишь: на это они имеют полное право. А что бабам зазорные слова кричат? Так господи! Что в этом такого… От этого еще ни одна баба не умерла.
Староста, правда, уже несколько раз к полицейским рассыльного посылал: дескать, пусть уберут чужих из деревни… Да ведь это легко сказать!.. Тут выждать надо. Сами угомонятся, как приступят к работе. И жеребенок взбрыкивает, пока на него хомут не наденут…
Солнце ушло за горизонт, опустели улицы. Только возле колодца светится несколько огоньков — цигарки в зубах у землекопов. Никак не решат они: уйти или подождать еще, а пока топчутся на месте. Двое умываются под краном; их, наверное, и ждут остальные.
Красный Гоз быстро идет по дамбе с таким видом, будто просто так спешит, по своим делам. Чужие — четверо их или, может, пятеро — смотрят на него; вроде бы они немного успокоились… а может, и нет — трудно ведь угадать, когда и как повернется настроение.
Вот он уже и рядом совсем, еще шаг делает… что это он? Идет прямо на них, будто они не люди, а тени или даже и того меньше. Будто сон на рассвете.
И вдруг делается им страшно, как страшно бывает людям в чужом, незнакомом месте. Вспоминается вдруг пословица, которую они так часто повторяли дома: насчет того, что в чужой хате и ковшик кусается. Сейчас они это очень даже хорошо понимают. Да поздно. Потому что тот молодой мужик уже вот он, и палка в его руках вдруг начинает летать, как волшебная дубинка в сказке.
И начинается позорное бегство. Один из тех, кто под краном мылся, без лишних раздумий перепрыгивает через калитку в чей-то чужой двор. Даже мыло с полотенцем забыл прихватить. Другой с перепугу в противоположную сторону кинулся — к правлению. Словом, бегут так, будто сама смерть за ними гонится.
Чей-то крик разрезает вечернюю тишину, бегущие на миг останавливаются, потом пускаются еще быстрее. Не проходит и полминуты, а Красный Гоз уже один на улице. Чужие бегут врассыпную. Кажется им, будто ворота тянут за ними черные руки, будто молчаливые заборы ждут момента, чтобы навалиться на них и придавить.
Опустела улица. А в усадьбе визжат, хрюкают свиньи, около сарая горит костер, и какая-то собака воет жутко перед домом свинаря.
4
Двор у Красного Гоза, умытый, чистый, ждет весну. На красивую девку похож этот двор.
Прибрано, подметено перед хатой, возле хлевов, у колодца. Словно не кончилась недавно зима, а лишь встречать ее приготовились хозяева. Заборы поправлены, там и сям белеют новые доски, столбы. Грязи здесь не увидишь: хозяин весь снег в огород вытащил. Правда, сада-огорода тут нет настоящего: хаты в переулке построены, на узком месте. Лишь года три назад отгородил Йошка кусок двора — зелень какую-никакую посадить на еду. Понравился пример соседям, сделали и они себе огородики.
Так что снег весь там растаял, в огородах. Земля на грядах — в черных жирных пятнах.
Марика еще в начале недели хату побелила; светится хата, как свежее молоко, смеется под солнцем. Понизу вывела Марика серую полосу. Побелила и хлев, переднюю стенку. Перед свинарником тоже не увидишь, чтобы навоз лежал просто так.
В хлеву уже две коровы стоят: Борка выросла, мать почти догнала. Да еще теленок есть маленький, да свинья с подсвинком, да два поросенка на откорм, не считая январских поросят. Гуси тоже хорошо расплодились, недавно как раз вывелись двадцать восемь гусят от трех гусынь. На прошлой неделе и утята вылупились, целый выводок: не зря, значит, мучились с ними… Да четыре наседки на яйцах сидят. За всем этим глаз да глаз нужен, приходится хозяйкам поворачиваться. То есть поворачивается больше молодая: старая-то прихварывает с осени, но с внучками возится, и то хорошо… Да хлебы надо печь, в горнице, в сенях убираться каждый день, да стирать, да мужа ублажать — словом, все Марике приходится делать, что замужней бабе положено.
Роды Марике не повредили, наоборот, расцвела она, став матерью, как розовый бутон. На щеках здоровый, свежий румянец играет; огоньки бегают в глазах — особенно когда засмеется. До замужества никто бы не подумал, что такой завидной бабой она станет… Ну конечно, в девках она тоже хороша была собой; однако тогда казалась она тонкой да звонкой, не видно было в ней особой крепости да силы. А теперь вот — на́ тебе… Словом, все говорят, да Йошка Гоз и сам видит, что семья у них — счастливая, удачная семья.
Уже и то удивительно для многих, как это могут Гозы столько скотины держать да птицы. И земли-то у них, почитай, с гулькин нос, и заработки не ахти какие — а вот поди ж ты… Кое-кто и в глаза им это говорит. А старая Гозиха таким отвечает, что секрет, мол, тут простой: надо, чтобы одна животина другую содержала, вот и все…
Странное объяснение. Непонятное. Но что делать, если не умеет она по-иному сказать…
Марика, правда, говорит так: мол, в хозяйстве не то главное, сколько скотина корму получает, а то, как получает.
Тоже, конечно, объяснение. Да и из него трудно понять, в чем тут секрет.
…Марика молоко процеживает на крыльце, напевает что-то про себя. А сама прислушивается, чем там двойняшки заняты. Так уж человек устроен, что, если нужно, может сразу несколько дел делать… Течет молоко в жестяную воронку, оттуда — в ситечко, оттуда — в горшок. Пустеет подойник, и кончается песня, убегает, как вода. Чтобы тут же началась другая песня, другое дело пришло на место прежнего. Марика, собственно говоря, не голосом поет: ее голос хорош для зова, для ласки. И не годится для того, чтобы себя перед другими показывать. Скорее душой поет она одну песню за другой. Песни эти для нее — как девичьи платья, девичьи воспоминания. Пусть, может, и изнашиваются платья со временем — а воспоминания не тускнеют, не протираются. Взгляд ее обращается к хлеву. Муж идет оттуда к крыльцу.
— Напоил? — спрашивает его Марика.
— Напоил. Рози два ведра выпила, Борка — одно.
— Ну и славно… — заключает Марика, мысленно видит она всю скотину, видит свежую подстилку, ясли, хлев… Видит теплые коровьи глаза, которые, стоит открыть дверь, смотрят на нее благодарно и понимающе. Видит она рыжее пятно на спине Борки, похожее на попону, видит, как молодая корова сует морду в ясли, сено нюхает. У теленка — белесые ресницы порхают вверх-вниз, словно воробьиные крылья; нос у него — свежий и влажный, как зеленый чеснок. Такую скотину можно ли не любить?
У поросенка пятачок тоже влажный, блюдечком; на спине — полоски, похожие на те палочки, которые выписывала она в школе на грифельной доске. А еще такими бывают молнии летом, на горизонте. У гусей глаза — круглые, блестящие, словно драгоценные камушки, а их белое оперение заставляет думать о каких-то волшебных озерах, снежных горных вершинах… Цыплята же, плотной стайкой кочующие по двору, напоминают бесцельный бег облака в поднебесье.
Кудахтанье наседки тоже звук, милый сердцу. А верность, что светится в собачьих глазах? Такую верность цыганки любят предсказывать бабам на своих засаленных картах…
— Сколько надоила? — спрашивает Йошка.
— Четыре литра. Да вчера вечером три, это семь. Видно, много у нее молока.
— Стоит овчинка выделки, Марика. Скормить бы ей немного овса… — и задумывается Йошка. Серьезные мысли занимают его нынче. Если б две дойные коровы были у них, мог бы он отвозить молоко в лавку… Хорошим подспорьем стало б это к заработку землекопа… Да и нельзя всю жизнь быть землекопом. Для этого и родиться не стоит. За молоко бы выручать что-нибудь, да земля бы чуть больше родила… Ну а гусей держать — чистая выгода. Вот и в прошлом году — благодаря гусям они выкарабкались.
Прошлой осенью договорился Красный Гоз с братьями, что дом за собой оставит. Три брата у него, и выплатит он им по сто двадцать пенгё каждому. Кое-что было припасено у Йошки, да прошлым летом он неплохо заработал, а все равно не хватило. Мог бы, конечно, в банке взять ссуду под хорошего поручителя; да где он — хороший поручитель-то? К тому ж покупка дома — такая трата, от которой никакой выгоды нет. Ни урожая не дает дом, ни процентов. Ломает голову Йошка Гоз, как выйти из положения.
— Слышь-ка, Йошка, — говорит как-то утром, застилая постель, Марика. — Я вот думаю… чего я таскаю с места на место эту кучу подушек? Дочери не скоро вырастут да замуж выйдут, до тех пор соберу я пера вдоволь. Словом… — не смеет дальше говорить. Да и нет нужды. Муж и так поймет.
Дело в том, что Марикины родители, хоть и бедны были, а приданое ей дали, как полагается. Почти как если б была она дочерью крепких хозяев. Так что достались Марике две хорошие перины, шесть парадных подушек, да две на каждый день, да два тюфяка. Все с хорошим гусиным пухом.
Целое состояние это, хоть и небольшое. Конечно, если в деньги перевести.
Марика еще в таком роде высказалась: мол, спят они и так хорошо, им и соломенный тюфяк подойдет… Так что зачем дорогой пух зря мять?.. Тут и Гозиха в разговор вступила.
— И верно. А мне в голову, старой, не пришло. У меня ведь шесть подушек есть — на что они мне? А летом снова пуха наготовим. А потом еще… Так и пойдет.
Пух как раз в хорошей цене был, евреи-скупщики друг у друга его перехватить старались, по одиннадцать пенгё платили за кило. Так что Гозы неплохо заработали. Постель, конечно, не такой пышной стала, да это еще можно пережить. Спать-то можно, а чего еще надо человеку! И деньги появились в кармане.
Правда, еще землю надо было выкупить, да это уже легче было: потому что Гозиха немного за нее уже внесла. Да и все-таки другое дело, если государству ты должен: государство потерпит, не то что братья…
Так что есть у них теперь три хольда выкупной земли — выплачивай как можешь… Конечно, за это еще и мать содержать нужно, пока жива. Значит, до самой смерти. И содержать не скупясь, иначе плохо будет. Это братья Красному Гозу заявили. Особенно старший, который и сам два года мать кормил, да она у него не выдержала. Сказала: пусть отселяется, а то она сама сбежит.
Словом, постели стали не такими высокими, да зато деньги появились кой-какие. Йошка старую телегу купил, ярмо заказал; теперь, как только можно будет, запряжет коров. Станет хоть бедным, да хозяином. Как тысячи других мужиков.
Хорошо началась его семейная жизнь, хорошо и идет пока — надо только с умом жить, чтоб не испортить.
Строительство пруда он еще решил использовать, пойти землекопом. А осенью поставит коров под ярмо.
Все это он обсудил с матерью и с Марикой. Как и все, что собирался делать.
Разговоры эти идут по вечерам, в то время когда солнце уже спряталось, а лампу рано зажигать. Мать устраивается на припечке, Марика двойняшек кормит. Сначала Марию, потом Эржебет. А в следующий раз — наоборот. Йошка на лавке пощипывает свою бандуру; окна — синие, будто краской нарисованы; на губах у Марии молоко пузырится. Молочный запах растекается по дому, как цветочная пыльца по лугу в безветренную погоду. Запах этот похож на аромат подсохшего сдобного калача, испеченного на рождество. Звенит бандура, выговаривая нехитрую мелодию, что пряталась в струнах, как в былые времена — разбойник в лесу. Плачут струны по ушедшим хорошим дням.
В такие вот минуты и начинаются серьезные беседы.
За ужином разговор оживляется, потом снова стихает на время. Чтобы возобновиться затем в постели.
Рядом с кроватью — колыбель, в ней спят двойняшки. Валетом спят. По-другому не умещаются: узковатой сделал колыбель старый Сильва. Да и подросли двойняшки, по шесть месяцев уже им.
На пальце у Марики — шнурок от колыбели; обнаженная рука чуть колышется, в плавных линиях ее словно сгустился весь свет, таящийся в этом мирном вечере. Крохотная лампа горит на столе. В последнее время перешли Гозы на керосин: масло дорого обходится.
Мать Йошки волосы расчесывает, сидя на постели. Каждый вечер она их расчесывает. В другое-то время некогда, вот и привыкла так. Перину поправляет вокруг себя, наскоро бормочет обычную свою молитву: «Лягу я в свою постель, словно в смертную юдоль, три ангела надо мной, один хранит мой покой, второй мне глаза смежает, третий душу ожидает. Аминь». Руки ее движутся вверх-вниз и только при последних словах складываются вместе.
Йошка с сапогами возится, докуривает последнюю сигарету. «Дь-дь», — лепечет Мария. «Б-б-б…» — вторит ей Эржебет. «Ну, спать», — говорит Марика решительно и тянет за шнурок. Колыбель качается, мерно поскрипывая. Будто медведь идет на липовой ноге.
Бывало, всемогущие князья да короли посылали слуг во все концы своих владений искать такую вот горячую красоту, как красота Марики, а коли не найдут — голову им с плеч… Постель, в которой лежит Марика, — источник неисчерпаемой радости; биение ее сердца отдается даже в подушках. Холщовая сорочка белеет, как молоко; на льняной простыне грудь Марики, плечи, тело — словно сугробы или поднявшееся тесто. Ворот сорочки обшит кружевами шириной с ладонь; ворот широк, свободен, чтобы в любое время можно было маленьких покормить. Кружева мягко облегают груди, вокруг сосков — морщинки крохотные, как на поверхности вскипевшего молока. Сорочка — девичья еще, коротенькая; когда Марика снимает ее или надевает, готовясь ко сну, сорочка волнами охватывает тело. Однако никогда не может, она, эта сорочка, сохранить вкус, цвет, запах вчерашнего дня, вчерашней радости. Каждый раз другая в ней Марика. Будь хоть сто тысяч вечеров — сто тысяч раз новой покажется Марика Йошке. Она как цветок, который каждый день цветет новым цветом. Есть у нее свои слова, чтобы шептать на ухо; коротенькие слова, чуть длиннее буквы или еще короче, — и все они, без исключения, попадают мужу в сердце.
Не любовь это, то, что чувствует Йошка, когда думает о Марике. Это что-то иное, гораздо большее. Что-то такое, что встречаешь, листая старые книги о поклонении святым женщинам или читая о Благовещении… И эту-то женщину осмеяли чужие мужики у колодца!
Разве это люди, если они способны на такое? Не люди это, а дикие звери…
Такие вот мысли пробегают в голове у Йошки, когда он возвращается домой как человек, выполнивший свой долг. Со всех сторон из темных дворов, с крылец, из-за оград выглядывают люди.
— Красный Гоз туда ходил! Красный Гоз им показал! — радуются, а ведь так быстро все случилось, что никто ничего и не разглядел толком. Только Красный Гоз не станет зря по улицам ходить, так все думают.
У поворота в переулок Марика стоит ни жива ни мертва. Увидела Йошку, молча схватила его за руку; так и идут они домой. Порой оглядывается Марика со страхом, словно чудится ей, будто какая-то огромная рука тянется вслед за ними.
— Что ты с ними сделал? — спрашивает наконец она шепотом.
Смеется Йошка. Словно галька перекатывается в темноте переулка.
— Я-то? А ничего. Порядок навел. На улице должен быть порядок. Так ведь?
— Господи боже… как бы беды не вышло.
— Беды? Беды не будет. С чего ей быть? А если и будет… Тут уж ничего не попишешь. Бывает беда, которой надо в глаза смотреть.
— Но зачем это, Йошка, зачем? Есть же полиция, есть закон!
— Эх, Марика, пропали бы мы, если б на полицию да на закон надеялись. Ты чего ревела? Обидели они тебя?
— О… теперь уж все равно… они ведь так, не всерьез…
— А все-таки…
— Нет, нет, что было, то прошло.
Знает Йошка примерно, что могло произойти. Должно быть, зазорные слова кричали они Марике. Только ведь на какую-нибудь пустяковину Марика и внимания бы не обратила. Видно, были у нее причины реветь.
В поле, на поденщине часто бывает, что парни кричат вслед девкам да бабам всякое. Однако в поле — дело одно, а в деревне это совсем по-другому звучит. Марика тоже привыкла к такому: много раз ходила в артели на поденщину, жать, а там парни вещи своими именами называют во всеуслышанье. Однако в том-то и штука, что только во всеуслышанье, — а попробуй-ка с глазу на глаз… И пробовать не стоит: бабы глаза выцарапают… Сам же Йошка такого никогда не говорил, ни на людях, ни так. Не только Марике — никому. Так что непонятно даже, почему он сейчас во что бы то ни стало хочет узнать, что кричали Марике мужики.
— Ну скажи, не бойся.
— Не могу я сказать, скорей умру…
— Ага, вот видишь. Что я тебе говорил? Может тут закон помочь?
— Ну что ты, Йошка! Все равно это уже случилось, не поправишь ведь…
— Неважно. Это даже и не тебе нужно — отплатить за обиду. Да и не мне. Бог знает кому… Никто этого не может сказать, Марика, вот ведь какие дела. Просто мучает человека стыд, и тут хочешь не хочешь, а надо отплатить. Потому что если так оставить, то и жить неохота… — говорит Йошка. Что у него на душе, то и говорит. Хотя никогда еще не думал обо всем этом.
Приходят они домой.
Мать стоит на крыльце, ждет. Так она всегда стоит, когда случится Йошке ввязаться в какую-нибудь историю. По-другому помочь она ему не может, помогает сочувствием своим, беспокойством. Увидев, что возвращается сын цел и невредим, уходит в сени, лампу зажигает.
Огонь пылает в очаге, дым густыми завитками поднимается вверх, в дымоход; перед очагом двойняшки в ходунках. На четырех ножках у ходунков — колеса; стоят двойняшки друг против друга, и каждая толкает свои ходунки вперед. Двинутся ходунки в одну сторону, потом обратно. Хохочут девчонки, четыре маленьких руки мелькают в воздухе. Лепечут что-то, разговаривают… Они-то друг друга понимают, да взрослые их не поймут.
Приходят взрослые, наклоняются над ходунками, и каждый говорит что-нибудь ласковое; однако, чудное дело, не на своем языке говорят, а на детском. Головой кивают, чтоб понятней было; тени их движутся по стене, вырастают до потолка. А вообще-то им не с детьми, а друг с другом хочется поговорить: столько вопросов накопилось у каждого. Только получается что-то вроде того, как если несколько человек хотят сразу выйти в одни двери. Все хотят, а ни один не может.
— Ну что… поужинаем? — спрашивает наконец Йошка.
— Конечно. Сейчас…
Толченая фасоль на ужин, с луком, с перцем, со свежим хлебом. Едва сели за стол, калитка стукнула, входит Тарцали с женой. Эти, видно, до сих пор парой ходят по деревне.
— Добрый вечер, кум, кума, приятного вам аппетита, — здоровается Тарцали. Пирошка тоже здоровается из-за спины мужа, переминаясь с ноги на ногу.
— Спасибо, кум. Проходите, кума, — отвечает Йошка Гоз, глотая фасоль. Ложкой круг описывает в воздухе. Дескать, присаживайтесь.
— Спасибо, кум, мы уже отужинали, — говорит Пирошка и подходит к ходункам. Целует двойняшек. Закрыв глаза, всем ртом. По-другому она не умеет. Один у нее поцелуй: и для мужа, и для своего малыша, и для чужих детей. Раскроет широко губы, прижмет к щеке, потом сжимает их. Звук при этом слышится, будто лягушка в лужу прыгнула или оладья шлепнулась в тарелку. Мягкий звук, теплый. А вообще Пирошка целуется так потому, что не хочет на мать походить. С детства она привыкла все делать не так, как мать. Пашкуиха целует сжатыми губами, мелко и часто, как вода булькает, выливаясь из бутылки с узким горлышком.
Видно, сколько баб, столько разных поцелуев.
Берет Пирошка одну малышку, поднимает, целует, ставит обратно. Вторую берет, тоже поднимает. Смотрит Марика, и кажется ей, будто Пирошка цветы выдергивает с корнем… Одно утешение, что Пирошки ненадолго хватит: у нее один поцелуй — и вся любовь. И верно.
— Что за миленькие! — говорит Пирошка и уже в другую сторону смотрит.
Тихо становится; только Гозиха громко дует на фасоль. Тарцали сидит на припечке, огонь шевелит в очаге. Пирошка слоняется немного по сеням, потом останавливается у Йошки за спиной, говорит:
— Не бойтесь, кум, все уладится…
— Это про что?
— Ну, про этих… про землекопов… Одному крепко по голове досталось, врач его перевязывал. Да он не скажет, хоть полицейские и допытываются. Говорит, оступился, о камень стукнулся.
— Экий народишка… бросили человека одного, — говорит Тарцали. И тут же покашливает смущенно. Ногами шаркает по полу… Ведь если б не бросили того мужика одного, вряд ли сидел бы теперь кум за столом и ел фасоль… Старается Тарцали замять сказанное. — Словом, что было, то было. Кто не трус, тому больше всех достается. Я что хочу сказать, кум… Чертов эконом опять нас надул.
— Как так?
— А так… тем землекопам больше, чем нам, на восемь филлеров за кубометр платит.
— Это верно, кум. Только ведь они организованные, а мы нет.
— Да, они организованные… — с завистью говорит Тарцали. Ему, как и любому бедняку в деревне, очень нравится это слово. Кажется, что организованные — это какие-то необыкновенные, умные люди, опытные, удачливые… Они и сильнее, и дружнее, и всегда могут добиться, чего хотят.
— Вот-вот, организованные. Потому и больше получат, на восемь филлеров с кубометра. Из этих восьми филлеров им членские взносы платить и все такое. А вообще-то они потому еще прибавку заслужили, что издалека пришли, — объясняет Красный Гоз. Он-то знает, что такое организация. Можно сказать, с детства знает. Отец его несколько лет был в профсоюзе. Собирались тогда у Силаши-Киша; Красный Гоз еще ребенком был, когда отец взял его на первое собрание. Из центра приехал товарищ Андял, речь держал, стоя под портретом Кошута, в красном углу. «Одно стадо, один пастух», — говорил он. Помнит Йошка его кулак, который время от времени опускался на стол, словно каменный; помнит и ладонь его с растопыренными пальцами, иногда взлетавшую к потолку; в такие моменты голос его становился резким, как удар хлыста. А конца собрания Йошка уже не помнит: разогнали их полицейские…
— Ох, сынок, настрадались они, должно быть, за ту свою организацию, — говорит мать и встает. Посуду начинает собирать.
— Настрадались… А мы чем хуже? И мы можем добиться, чтоб у нас был союз.
— Они ведь издалека пришли…
Никак не умещается все это у Тарцали в голове. Он свое доказывает:
— А мы — здесь живем. У нас больше прав. Староста вон все время твердит: дескать, как хорошо, что пруд возле деревни будет. Сколько мы, дескать, заработаем, да сколько выгоды будет… И вот на тебе. И участков нет, и меньше других получим… Если захотим, будем работать, не захотим, никто плакать не станет… И тем на восемь филлеров больше, это целых четыре пенгё в неделю по крайней мере. Ради этого стоит организованными стать.
— И социалистами…
— А что! И социалистами. Мы и социалистами будем не хуже других.
— Все это так, кум, — говорит Красный Гоз, — только липовые из нас получатся социалисты.
— А чего? Мы постараемся. Прямо сейчас возьмем и организуемся. Скажем, Силаши пусть в центр напишет…
— Чтобы прислали поскорее товарища Андяла… — смеется Красный Гоз.
Помнит он еще, как товарищ Андял сидел с мужиками в корчме господина Крепса. Пили. Время двигалось к полуночи, мужики речи говорили, чокались, кричали, что скоро весь мир бедным будет принадлежать. А товарищ Андял спал с открытыми глазами, как заяц. Каждую ночь он собрание проводил в какой-нибудь деревне, устал…
— Не до смеха тут, кум. Мы ведь не хуже этих, пришлых. Можем прямо смотреть в глаза и властям, и полиции.
— Нет, кум, мы хуже. Или, то есть… словом, не такие. Да и не в этом совсем дело.
— А в чем?
— А в том, что вот… ты и сам ведь говоришь, что последний раз идешь землекопом. И знаешь, что я тоже так думаю. Летом буду пахать на коровах. А там, если оправдаются расчеты да если земля уродит, — и конец организации. Ты коров уже запряг. И от тещи перепадает тебе то, се… Так что все это одни разговоры, насчет союза. Из-за восьми филлеров… Как купим землю или в наследство получим, тут социалистов вроде нас и поминай как звали.
— И это ты-то говоришь такое, кореш?..
— Я говорю, я. Если не согласен, пойди попробуй. Организуйся. А я уже наорганизовался по горло.
Все, что слышали или читали они когда-нибудь про социализм, ожило теперь в них; ожило не в подробностях, конечно, а как вспомнилось: обрывками, грубо отесанными, плохо пригнанными друг к другу кусками. И разговор их течет, будто то один, то другой показывает свой кусок, какой есть, какой получился. Будто двое выкладывают друг перед другом какие-то давние свои вещи.
— Йошкин отец тоже вот начинал было этим заниматься, — вступает в разговор мать, — и не раз. А кончилось тем, что все его бросили и господ он против себя обозлил. А ведь таким добрым был, мухи не обидел, не то что господ. Только права свои защитить хотел. Однажды, когда приезжал сюда Вильмош Мезёфи, он его на станции встречал. Загородил ему дорогу и говорит: мол, уважаемый товарищ, вельможный господин депутат! К князю Ракоци народ со знаменами, с оружием шел, а мы только бедность свою можем вам принести. Просим мы вас, уважаемый товарищ, господин депутат, не побрезгуйте нашей бедностью. Добро пожаловать к нам… Так и сказал Йошкин отец. Ох, и давно это было, господи… — Слезы выступают у нее на глазах, вытирает их мать уголком передника.
Все это слышал Йошка от матери уже много раз. А так сказал отец или немного по-другому — не все ли равно. Мать так запомнила: пусть считает, что так и было.
— Нам ведь союз для того лишь нужен, чтобы побольше заработать, а на заработанные деньги земли купить. Хозяевами стать. А уж когда мужик хозяином стал — конец всякой организации.
— Чужие-то не для того разве организуются?
— Не думаю. У многих из них даже дома своего нет. Да и не будет. Бедняками родились, бедняками детей народили… Они и не мечтают о том, чтоб землю когда-нибудь приобрести.
— Если будет раздел земли, все по-другому пойдет.
— Раздел? Ты же видишь, как этот раздел начинается. Один помещик пруд копает, другой рисовое хозяйство заводит, чтобы земля не пошла под раздел. Как тут разделишь? Каждому по рыбе, по две или по горсти риса?
— Ты постой… — волнуется Тарцали, который благодаря теще приучился читать и теперь прочитывает все, что под руку попадается. — Я вот где-то читал, мелкие хозяева то же самое могут со своей землей сделать, что и крупные. Только, конечно, на кооперативной основе. В каждой деревне, значит, кооператив будет… или как там?.. каждая деревня будет одним большим кооперативом…
— Хорошо бы, конечно. Да невозможно это.
— Почему?
— Бог его знает. Невозможно, и все. Сам видишь. Не там надо правду искать.
— А где?
— Где? Это я и сам хотел бы знать, кореш, — встает Красный Гоз, потягивается.
Марика и Пирошка молча глядят на спорящих. Марика садится на припечек, ногу ставит на скамеечку. Мария нынче больше беспокоится, надо ее первой кормить. Свекровь зажигает большую лампу; прикрыв ее ладонью, несет в горницу. Прохладно в сенях: говорят, март мерзнет, хочет в хату забраться.
Собаки на улице лают, надрываются.
По деревне зажигаются лампы, коптилки — у кого какой достаток. Есть хаты, где лампа горит, только когда ужинают да постель стелют. А потом хозяева — головой в подушку, и дом смежает глаза до рассвета.
А собаки все лают и лают.
Стоит одной тявкнуть, и хором подхватывают остальные. Станут мордой к саду или к улице, хвостом поднятым машут — и все лают, лают…
Может, на весну они лают.
Лай разносится по деревне, как звук в металлическом стакане, — по кругу. Наступает ночь; в темноте быстрей бежит время. Бежит и как будто шуршит даже — словно зерно сыплется из мешка. Рассыпается время по полям, пашням, садам. Из крошек, крупинок его собираются завтрашние, послезавтрашние дни, недели, строятся планы: пахота, сев и другие дела, которым нет ни конца, ни края.
Протекает время через деревню, и хаты одна за другой закрывают глаза — словно ромашки, смежающие лепестки среди люцерны. Внизу, на Коццеге, в одной лишь хате светится еще окно — у Лайоша Ямбора. Сам Лайош сидит за столом, письмо пишет.
Глаза у него — зоркие, как у коршуна, так что очки на носу — больше для храбрости. В очках он себя злым чувствует. Несгибаемым. А вообще очки эти не его: нашел он их здесь, в доме, когда зятем пришел. Вот и надевает он их в случае необходимости. Когда жизнь требует от него сверхчеловеческих усилий.
Напряженно ворочаются мысли в голове: вспотел Ямбор — до того трудно дело, за которое он взялся. А взялся он Ференца Вирага очернить перед исправником, такое обвинение на него возвести, чтобы уж наверняка свернул староста шею, а другим ничего не было бы. В том числе и ему, Лайошу Ямбору. Вирагу же пусть побольше будет неприятностей. Долго он сидел у деревни на шее! Письмо это так должно быть составлено, чтобы сразу взяло исправника за живое и Вирага подкосило бы, как серпом. И к тому же чтобы никто и никогда не узнал, кем оно написано. Не хватает еще, чтобы узнали! Зачем это Ямбору? Чтобы таскали его потом по разным местам? Может, надо было бы Шару Кери попросить письмо написать, она ведь сама ему это подсказала… Правда, она не говорила, что без подписи… Ну, да уж он так понял. Словом, есть над чем голову поломать. Время от времени смотрит Лайош на жену, Ямбориха нагая стоит возле постели, сорочку вывернула, блоху ищет, которая целый вечер нынче житья ей не давала. То бок кусала, то спину грызла; а сунешь руку поймать — она тут же под тесемку. Наверно, старая какая-нибудь, хитрая блоха.
Смотрит Ямбор на жену — и кровь его быстрее по жилам бежит. Без одежды она еще толще кажется. Днем все же платье ее стягивает как-никак, а теперь расползается тело вольготно во все стороны. Кожа сверху, на плечах — рыжеватая, а ниже — желтизной отдает, как пахта. Под коленями жир висит складками, как на телячьей колбасе. Только складки эти у Ямборихи куда больше. О прочих частях и не знаешь что сказать. Голизна бабья и так бескрайней кажется мужику — а насколько ж больше она у его бабы! Тут-то, видно, и собака зарыта… то есть причина тому, почему Лайош Ямбор такой тощий да хилый.
«Хопп, хопп!» — ловит баба блоху; даже слюни выступили у нее от радости: нашла-таки, где подлая прячется… Найти-то нашла, да не поймала. Ямбориха разочарованно чешет спину сорочкой, потом накидывает ее на плечи. Спина у нее лоснится, блестит, будто освещенная солнцем. Влезает Ямбориха коленями на постель, перина под ней сминается такими же толстыми складками, как кожа на ее ляжках.
Лайош Ямбор и в свинине больше всего жирные части любит. А когда сало печет, так только согреет его немножко — и ест. Ну, и жена у него точь-в-точь, как ему нравится.
— Все ты умничаешь, Лайош, пока по макушке тебя не стукнут, — ласково говорит жена Лайошу и волосы распускает. На плече блестит след от старой прививки, как звезда. Голос у нее мягок, даже льстив. Чудеса: чем ворчливее она днем, тем покладистей к вечеру.
— Меня-то по макушке? Меня не стукнут. Дудки. Кто меня по макушке хочет стукнуть, тому раньше вставать надо, — и решительно обмакивает Лайош перо в чернильницу. Пишет. Уж он покажет. Он наведет порядок в деревне. Чтоб у него на спине солому поджигали! Перед всей деревней позорили! А потом… участки еще у бедняков отбирали! Ну нет, за это кое-кто поплатится… Резво бежит перо по бумаге:
Достопочтимый Господин главный уездный Начальник если Бох с нами кто против нас в виду этово довожу до вашего сведения што староста наш Ференц Вираг со всем довел деревню до точки по тому как очен ударяит за Шарой Кери дипломированой окушеркой тоисть повитухой и отсуда следовательно должен указать вам что участки для Домов сменял он с Помешиком это бы ничево да вот только моя Земля возле виноградника как раз не далеко. В виду чево придупреждаю што беда будет если такая Ситуацея останецца. Надеюсь на решительные меры Достопочтимый Господин главный уездный Начальник с вашей стороны а нето ей Богу пойду куда угодно а добьюсь своево бутте здоровы остаюсь верный вам до могилы всеми Уважаемый здешний крестьянин и Гражданин.
Да, это письмо. Всем письмам письмо! А самое важное — что ружье здесь назад не выстрелит. Потому что письмо без подписи. Что он, белены объелся — имя свое подписывать? Ох, и толковый же человек эти письма выдумал!.. Облизывает Лайош край конверта, заклеивает его.
Жена растроганно смотрит на него: все ж умный мужик этот Лайош. Умней его нет в деревне. Потому и завидуют ему все. До чего ж завистливы люди. Ну чисто собаки. Да не зря ведь говорят, что лучше пусть тебе позавидуют, чем пожалеют… и вообще… нет на земле правды, только на небе. Там-то уж есть. Однако никто еще оттуда не возвращался обратно, так что опять же неизвестно…
Часто и укоризненно моргает Ямбориха — укоризна обращается не к кому-нибудь, а к небесам. Две слезинки выкатываются из глаз. Потом еще две.
Слезинки поблескивают в свете лампы, тяжелые, желтоватые, и падают на подушку.
Падают просто, без затей, как падают обычно слезы из глаз толстых баб…
5
Мираж играет над полями, обрамляя горизонт волшебным кружевом.
Течет на горизонте марево, расплывается зыбким ковром; вот так утренняя заря тает, растекается под лучами встающего солнца.
Едет через поле телега, запряженная двумя лошадьми, за ней скачет жеребенок. Мираж захватил жеребенка одним краешком — и вот уж его голова касается неба.
Хороша нынче погода. На заре еще иней лежал кой-где, а сейчас тепло, сухо. Поле все зеленое, лишь голубыми зеркальцами блестят кое-где лужи, озерца. Смотрятся в них сверху облака и жаворонки.
На пашнях плуги поблескивают, мужики бредут за плугами, над головами у них пролетают чибисы. А здесь, на равнине, землекопы копошатся. Издали видны их белые рубахи; парком выброшенная, взбудораженная земля. Уходят вдаль ряды вешек: сначала редко, потом все гуще. В промежутки между вешками и свозят мужики землю.
Из местных мужиков мало кто пошел землекопами: человек тридцать всего. Больше не набралось, хоть рассыльные ходили с барабанами, кричали по всей деревне. Не всем это под силу. У кого тачки нет, у кого просто кишка тонка целый день землю копать да возить. Так что беднота больше на поденные работы норовит пристроиться. Заработок тут, конечно, поменьше, да труд полегче. А это тоже дело не последнее. И попроще здесь работа — землю на дамбе ровнять, утрамбовывать.
Трамбовки почти у всех сделаны из старинных снарядов. Которые, значит, не взорвались в свое время. Запал не сработал. После сорок девятого[35] снарядов этих было в окрестностях видимо-невидимо. И сейчас еще много их валяется по дворам у местных мужиков. А в имении — еще больше. Долго не могли придумать, как их использовать, И вот — придумали, пришло-таки их время. Конечно, снаряды эти уже пустые, заряд из них вытянули давно и головку свернули. Остается кол туда вбить — и готова трамбовка. Держит ее мужик двумя руками, поднимает и опускает, поднимает и опускает целый день. А сам постепенно, мелкими шажками, движется вперед. За ним, таким же манером, с такой же трамбовкой, идет следующий, и так далее. С утра еще терпима работа — к полудню же начинает казаться, что вечер никогда больше не наступит… Наверное, рабам на галерах вот так же надоедало поднимать-опускать весло.
Кстати говоря, насчет снарядов этих много легенд ходит в окрестностях. Старухи, например, рассказывают: в былое время вдова одна, прабабка Косорукого Бикаи, нашла как-то в поле два снаряда. Обрадовалась им, все любовалась, гладила. Еще бы: чудные такие штуки, красивые. Домой приволокла: мол, на что-нибудь сгодится. Так они и лежали, сначала во дворе, потом в сенях. А раз как-то обед она варила, большой обед, бог знает уже, по какому случаю. Котел с мясным супом на треноге кипел, а вот на что капусту поставить? Думала, думала — и придумала… Одним словом, поставила она капусту на снаряды. Огонь развела под котлом, все как водится.
Ладно. Варится капуста, бурлит… а потом вдруг как ухнуло — будто небо раскололось. Была капуста — нет капусты. Будто корова языком слизнула. Вместе с мясным супом. И с трубой. И с сенями. Спасибо еще, сама-то бабка как раз вышла веток наломать для очага.
Это — одна легенда. А другая легенда вот о чем: снарядов здесь так много неспроста — хотели австрийцы примерно наказать деревню. За то, что очень уж много австрияков было здесь убито и потихоньку закопано в навозные кучи или еще куда. Особенно всяких квартирмейстеров, курьеров и других, кто в одиночку появлялся.
Очень уж близко к сердцу приняли тогда мужики освободительную борьбу; поняли ее в таком смысле, что, мол, бей неприятеля, где ни попадется. Вот и били. Не виноваты ж они, что никто им не сказал: дескать, кончена, мужики, освободительная борьба. Хватит, мол. Пора сложить оружие. Пора сесть тихо и хвост поджать. Сами-то они пока об этом догадались! А как догадались — и рады бы оставить в покое чертовых австрияков, да поздно было. Вот и разбежался народ по окрестностям, чтобы хоть деревню не расстреляли из орудий, не сровняли с землей.
Надо вам сказать, что армейские поставщики и в старое время были мошенниками, не докладывали порох в снаряды, так что и половина не взорвалась… А тут австриякам уходить надо было; вместо них русские[36] пришли. И опять же никто не сказал мужикам, что этих нельзя трогать. Мужики думали, что кто-кто, а уж это точно неприятель. И резали их почем зря. Однако, конечно, не без оглядки, а где поменьше. По одному там, по два…
Пока русское командование опомнилось, войскам опять пришло время уходить. Радовались мужики: мол, дешево отделались. Да рано радовались: в один прекрасный день, когда об освободительной борьбе все и думать забыли, в деревне расквартирован был целый уланский полк. Да притом на год. На каждую хату хватило, даже с избытком. И не только с жильем, а еще и с коштом. Это и было наказанье за пропавших солдат. Застонали мужики — да не на кого было жаловаться. Разве что на самих себя…
Тяжек был тот год, но и ему пришел конец. Поднялись уланы, уехали навсегда. А после них появилась в деревне целая куча рыжеволосых детишек. Вроде бы ни в чем таком не были девки да молодухи замечены… ну, разве что пересмеивались с уланами; а дело вон чем кончилось.
Эти вот легенды приходят в голову землекопам и поденщикам, пока толкают они целый день тачку или топчутся с трамбовкой. Потихоньку друг на друга поглядывают: да-а, рыжих тут хоть отбавляй. Есть мужики до того рыжие — прямо огонь. И откуда у них такая масть — просто диву даешься. Вот, скажем, младший сын Косорукого Бикаи. У отца волосы — черные, вороные, у матери — льняные, светлые, а этот — рыжий, как дьявол. По комплекции же они точь-в-точь, как все. Не большие и не маленькие; в плечах широкие, мускулистые; череп — козлиный, шерстью обросший. Ну да что там: как ни трудно забыть тот уланский постой, а все ж можно. Только время требуется да хорошие, крепкие мужики. А здесь и того, и другого вдоволь. Нынче, кроме рыжих волос, ничего, пожалуй, не осталось от тех времен; разве что пестрее стал народ. И беспокойнее. Все суетится, все требует чего-то; места себе не может найти.
За любую новую работу человек берется с охотой; вот и теперь молча, споро трудятся землекопы: дерн снимают, насыпают тачки, катят, опрокидывают. В основном артель составилась из тех же, что в прошлом году работали на кургане. Всего несколько новичков прибавилось, да старый Сито дома остался. Сын вместо него пришел. Немного повыше он отца, а глаза — такие же синие. Не знает сын о том, что отец на земляных работах все клад мечтал найти да двух волов купить. А если б и знал, не одобрил бы: он-то о другом думает. Ему клад ни к чему: он трамвай хочет водить в Пеште или в Дебрецене. Стоять на передней площадке в перчатках, рукоятку крутить, другой рукой на звонок нажимать; если кто рельсы перебежит, пальцем грозить, сердито качать головой… Вот о чем он мечтает. Уж и заявление послал в город, да не отвечают почему-то… Плюет он на ладони, бросает взгляд на горизонт, где горы синеют и снег белеет на вершинах. Напрягается; тачка, недовольно скрипя, ползет вверх по настилу…
Отец его, старый Сито, еще прошлым летом, помнится, готов был за рыжей бабой из усадьбы бежать пристяжным хоть до самого Варада… Интересно, как он теперь на этот счет… Заглядывается ли еще на баб? Вряд ли. Сильно он сдал за зиму. Постарел, слабость его одолела. Не может уже тяжелую работу выполнять, пришлось в пастухи податься.
Для потерявшего здоровье и силу бедняка — это первый шаг, чтобы затем спуститься еще ниже. Сначала — коровье стадо, потом — свиньи, потом — телята… а там ничего не остается, кроме как сторожем на околице быть. У такого сторожа и ружья-то нет — только палка. Должность эта — вроде как пенсия. Обеспечение по старости. Конечно, можно и еще дальше сползти — птиц пугать на помещичьем поле. Если и здесь не выдержит, не сможет целыми днями на ворон махать, то найдется место поспокойнее — бахчу сторожить, например. Тут ничего делать не надо: сиди себе с заряженным ружьем возле шалаша, а залает собака, бей перед собой в темноту. Не для того, чтобы в вора попасть, — куда там! Дуло-то у ружья коротенькое, дробь из него летит, как крошки изо рта, когда поперхнешься. Тут главное дело — показать, что не спишь. Бабахнет ружье, и вор или убежит, или нет. Смотря какой вор.
А если и того больше одряхлеет мужик, берут его в ночные сторожа. Ночных сторожей в деревне испокон веков было четверо. Правда, нужды никакой в них нет: кто воровать собрался, тому такой сторож не помеха; да и полиция есть на то, чтобы воров ловить. Однако надо же этих стариков к чему-нибудь приспособить. Не посылать же их с сумой по миру. А даром деревня тоже кормить никого не может. Вот и дают им дело: пусть пользу приносят и на жизнь зарабатывают… С вечера до утра ковыляют старики по улицам — все больше вокруг правления… Забредут в хлев, где общественный бык стоит: тепло там всегда, даже зимой; курят, дремлют, беседуют, потом снова идут бродить по темным улицам, шаркая сапогами. Вечеринка случится в деревне — они в дверях топчутся, на танцующую молодежь глазеют; свадьбу кто играет — им тоже достается поесть, выпить. Словом, не такое уж это обременительное дело. Привыкнуть только надо. Ну, они привыкают, куда ж денешься… Жалованье сторожам положено небольшое — пенгё четыреста. Каждому по сотне. А если меньше их — так они и втроем те же деньги получают. Жалованье это не деревня им платит: из общинной кассы оно идет. А это — вещи разные. Потому что в общинную кассу и помещик вносит денежки, и господин Бернат, и господин Крепс. Каждый, кто налоги платит. Чем больше налогов платишь, тем больше отчисляется в кассу. Это, конечно, верно, что так устроено. Все-таки правление тоже, видно, что-то делает…
Ночные сторожа, значит, живут по ночам. Как совы. Правда, порой и год пройдет, пока встретишь кого-нибудь из них ночью на улице. Да ведь, господи! — не могут же они быть сразу во всех местах. А потом: на то они и ночные сторожа, чтобы их никто не видел, а они — всех видели.
Словом, тут, можно сказать, все в порядке. Все своим чередом идет.
Беда лишь в том, что от землекопа до ночного сторожа — путь ужасно долгий. Хорошо еще, что никто заранее над этим не задумывается. Каждый молодой землекоп мечтает о том, что вот походит он с тачкой столько-то да столько-то, а там — все, завязал… Некоторые в самом деле выскакивают из лямки в два счета; большинство ж, однако, лишь тогда оставляет заступ да тачку, когда не в силах уже руками двигать. Такие на свою прошедшую жизнь смотрят с горечью, как на непоправимо испорченную; если б начать снова, совсем бы по-иному ее прожили. Себе они, правда, помочь уже ничем не могут — но зато охотно дают советы тем, кто помоложе. А те, конечно, их выслушивают, однако делают, как сами понимают. Тоже верно: коли ты сам не сумел жизнь с умом прожить, не лезь к другим со своими советами…
В артели два человека лишь довольны и самими собой, и всем миром. Это Красный Гоз и кореш его, Тарцали. Оба хорошо знают, чего хотят, к чему стремятся. Их не нужда, не кусок хлеба сюда пригнали: они уверены, что вот закончат эту работу живыми-здоровыми — и прости-прощай тачка. У Тарцали уже две коровы под ярмом: Пирошке одна досталась от матери да сам он купил вторую и весной приучил к ярму. Пруд копать он пришел потому, что весной отдал свою землю в аренду, исполу; осенью же сам думает пахать. У Красного Гоза дела еще лучше. У него и скотины больше: две коровы, две свиньи с поросятами. Вот только одну из коров нельзя пока под ярмо ставить: молодая еще. Пусть до осени подкормится, окрепнет. Да и вообще: чего в стороне оставаться, когда случай представляется заработать.
— Эх, братцы, а я ведь сейчас свой собственный участок копаю, на котором новую хату ставить собирался, — вздыхает Силади, который еще в прошлом году хотел барином стать в Вараде. А дружок его, что следом идет, подхватывает свою тачку и чуть не бегом ввозит ее по настилу на дамбу. Высыпает; потом встает наверху и вещает, будто Иисус Христос на горе:
— Ты — свой участок копаешь, я — свою землю. Которую мне государство хотело дать. Потому что пишут газеты… мол, у кого трое детей да большие недоимки… — и смеется горько. Еще нестарый мужик, а у него уж пятеро детишек; ну а налоги… он и не помнит, когда последний раз платил… Торопится за Силади: отставать тут никак нельзя. Вся артель должна работать, как один человек. Как колесики в часах. Точно, слаженно… Вдруг замешательство возникает в цепи, шум. Оказалось, мужик один, из слабосильных, схитрить хотел: тачку свою неплотно накладывал и не доверху.
— Кто не тянет, пусть убирается ко всем чертям! — выкрикивает Иштван Хеди, который и сам не силач. По крайней мере на первый взгляд так кажется, а присмотришься — сплошные жилы да мускулы… И нарочно нагружает тачку с верхом.
— Каждый за себя работает, за других никому спину гнуть неохота, — поддакивает другой. Плюет на ладони и так глядит на тщедушного мужичонку, словно тот виноват, что ста́тью не вышел.
Бедняга моргает пристыженно, тычет бестолково заступом; половина земли у него обратно ссыпается. И без того не было там лишнего молодечества, а теперь совсем растерялся мужик: топчется, дергается суматошно…
— Э-эх… и инструмент-то взять не умеет… — цедит сквозь зубы Хеди, и заступ его с такой силой врезается в грунт, словно держит его не человечья рука, а стальной рычаг какой-то машины.
Насмешки, угрозы сыплются на проштрафившегося.
— Ничего, научится… а не научится, сбежит! — опять вещает с дамбы прежний мужик, и тачка у него идет до того легко, будто сама катится. Не важно, что тот слабак ему родственником приходится каким-то. На земляных работах по силе да выносливости человека ценят, не по родству. Или работай, как все, или ищи себе другое занятие…
— Земляная реформа? Передел? Эх-хе-хе… — слышится с другой стороны; от этих слов опять зашумела, заволновалась артель, как осока под порывом ветра. Все ж таки хороши были участки: ишь, земля-то какая жирная. До слез жалко, как подумаешь, какие бы тут сады были… А под рыбное хозяйство и так хватило б места: вон она, равнина, конца-краю не видно… Подготовили бы эту реформу потихоньку, чтоб никто о ней не знал… Чего заранее кричать на каждом углу! Докричались вот: помещик тоже не дурак, не стал дожидаться, пока его ущемят. Сообразил, что делать. И теперь вот скрипят вокруг тачки, унося на своих колесах мужицкие мечты и планы… Не собрать их, не вернуть обратно. Скоро возведут кругом дамбы, воду пустят…
Помещик с инженером шагают рядышком по дамбе, приближаются к землекопам. Беседуют о чем-то. Вслед за ними желтоволосая Матильда идет с экономом. На ней — пальто весеннее, того фасона, в котором воротник больше, чем само пальто. Волосы свободно развеваются по ветру. Матильда опять в усадьбе живет. В минувшем сезоне играла она в театре, причем с большим успехом. Уже наклевывался было у нее контракт с Национальным театром, да тут одного критика угораздило написать в журнале, что у нее, мол, сверхчеловеческий талант… То-то смех поднялся в театральном мире… Это ее и погубило, окончательно и бесповоротно. Навсегда. Состояния у нее никакого, делать ничего, кроме как на сцене играть, не умеет; родни — один здешний помещик, да и этот бог знает в каком колене родня… Счастье еще, что бобыль-эконом живет в усадьбе: какая-никакая, а компания…
Мужики отходят в сторону, дают господам пройти. «Ну-ну, чего там…» — говорит помещик, обходя их по кучам земли. А инженер останавливается, берет трамбовку у одного из поденщиков. Поднимает ее, опускает. Нагнувшись, рассматривает ямку. Измеряет глубину. Снова опускает трамбовку, на то же самое место; опять измеряет. Думает… Еще раз поднимает — бьет ею с силой; опять измеряет ямку. Что-то пишет у себя в блокноте. Считает. Если трамбовка просто падает на землю, то получается углубление в один сантиметр. Еще раз ее на то же место опустить — прибавится миллиметра три. Третий раз — уже еле-еле два миллиметра… А если б мужики усилие прикладывали, трамбуя землю, то и платить им нужно было бы в два раза меньше — так выходит по расчетам. Значит, бить надо трамбовками, а не опускать их. Очень просто. Весит трамбовка четыре килограмма, значит, на каждый удар требуется усилие в восемь килограммов… Сколько это за целый день?.. Н-да, хорошо было бы; да только если сами поденщики это поймут… Людей, волю их нужно еще к общему знаменателю привести…
— Вот что… попробуйте-ка так. Ударяйте с силой. Будто осердились на нее, — говорит он одному парнишке и показывает. — Ну-ка, я посмотрю, — и отдает трамбовку.
Парнишка-поденщик — Мишка это, Юхош — изо всех сил колотит по земле. Земля оседает — любо смотреть.
— И то… можно было бы и так…
— Ну видите!
— …да только я пока еще белены не объелся! — хохочет Мишка, и трамбовка его движется, как прежде.
Смеются и остальные мужики. Поднимают дружно трамбовки, глядят искоса на инженера. Зубы скалят.
Инженер смотрит на Мишку: прогнать его, что ли? Или, может, поденную плату поднять? Полтора сантиметра за удар или один — разница!.. В день положено им одно пенгё двадцать; если поднять до полутора, то, может, будут с силой бить, а не просто подымать да опускать! И почему человек работает не так, как машина? Машину запустишь — и она крутится, как тебе нужно: хочешь, медленнее, хочешь, быстрее. А эти… Куда легче все-таки с заводскими рабочими! — Инженер идет дальше по дамбе. Здесь трамбуют специально изготовленными железными дисками. Участок — такой же, как первый. Делает инженер замеры: ямка от первого удара — полсантиметра. Стало быть, один черт, что так, что этак! Не выжмешь из них больше, как ни старайся. Пусть эти трамбовки тяжелее, пусть ими и бить-то не нужно с силой, а только хотя бы поднимать повыше. Все равно поднимают мужики так, будто опасаются, что слишком сильно помнут землю. До чего бессовестные, однако. Им все равно, лишь бы день прошел. А там хоть трава не расти.
Стоит инженер, молчит, думает; и мужики помалкивают. Поднимают трамбовки, опускают — и передвигаются все дальше, дальше; держат трамбовки до того бережно, осторожно, будто они стеклянные.
Помещик-то сам в этом не разбирается; он только видит, что дело идет, земля насыпается, дамба растет; рад, что инженер за него думает, старается. Не знает помещик, что старания эти гроша ломаного не стоят. Вообще-то инженер этот — помещиков зять.
Не знает помещик и того, что для мужиков, работающих на поденщине, сила — единственное богатство, которое никак нельзя попусту разбазаривать. Потому-то и стараются они работать так, чтобы только руками двигать немножко. Чтобы принести домой ту силу, с которой утром вышли. А дамбу эту — какой смысл очень уж утрамбовывать? Время утрамбует.
На третий день работ, около полудня, шел по дамбе, по направлению к деревне, мужик один, из чужих. На спине у него — жбан: за водой, видно, направился к артезианскому колодцу. Землекопы эти пришлые не желают из бочки пить. Хоть погода хорошая стоит, а вода в бочке — ледяная как черт знает что. Да еще внутри бочка вся зеленая, будто плесенью заросла. Кто это согласится такую воду пить? Пусть ее волы пьют… Так что с водой неважно; да и еще много чего не нравится землекопам. Правда, эконом тоже ими недоволен: очень уж много они сена таскают к себе в сарай для спанья, да еще изгородь ломают на костер; в парке господском шляются без надобности. «Им что, они организованные», — говорят о них местные… Но речь сейчас не об этом. О том речь, что один мужик идет к деревне по дамбе.
Конечно, и раньше проходили здесь чужие, и днем и вечером, и никогда не заговаривали с местными, даже не здоровались.
Вот и этот не поздоровался, даже не посмотрел; шел себе, будто никого не было вокруг. Красный Гоз тачку свою выкатил наверх как раз в тот момент, когда чужой подошел. На миг замерла тачка на месте, потом свернула чуть-чуть и проехала за спиной у идущего мужика. Тот обернулся, взглянул. И дальше пошел…
— Ты чего сворачиваешь, с грузом-то? — недоволен Тарцали, которому тоже пришлось остановиться, потому что он за корешом идет по пятам.
— Брось. Он тоже с грузом. Не видишь?
— Чего? Это жбан-то — груз?
Сердится Тарцали. Хоть и случай вроде пустяковый. Как искорка-вспышка в костре, когда залетит в него ночной мотылек. Или как тень от голой ветки в сиянии полуденного солнца…
Чужой мужик прошел обратно ровно в полдень, когда люди обедать уселись кто где. И на этот раз не взглянул он на местных — нес себе жбан на палке согнувшись.
Миновал полдень; снова закопошились вдоль медленно растущей дамбы люди. Землекопы впряглись в лямки, поденщики за трамбовки взялись. Поднимут, опустят, поднимут, опустят… У них одна забота: чтобы день двигался, не стоял на месте.
— Глянь, кореш, что там такое? — говорит Тарцали и показывает рукой вдоль дамбы. А там чужие с лопатами, с тачками вдруг сбиваются в кучу. Одни трамбовщики остались на насыпи; да и те не работают, стоят без дела. У землекопов, видно, случилось что-то: один говорит, другие вокруг него стоят вытянув шеи. Так змеи завороженно слушают флейту, на которой играет факир. А то еще индюшки вот так же обступают свою товарку, которой запеть вздумалось.
Маккош, сторож из поместья, идет торопливо по дамбе, проваливаясь в рыхлую землю, как в снег. Оглядывается было на местных, да так и проходит, ничего не сказав.
— Что там, дядя Иштван? — кричит вслед ему молодой Сито.
Не отвечает сторож, только рукой машет.
Чужие уже сидят на тачках, трубки курят, цигарки; порой доносится оттуда шум, будто брезент хлопает на ветру. Только не разобрать никак, о чем они кричат.
И здесь уже тачки движутся еле-еле.
Маккош, сторож, который теперь за земляными работами приставлен присматривать, уже обратно идет. И не один. С ним инженер и помещик. А дальше — эконом с желтоволосой Матильдой. Самым последним поспевает новый агроном. «Здесь он», — говорит Маккош помещику и вниз показывает.
— Йожеф Гоз здесь? — спрашивает помещик, но не ждет ответа, дальше идет. Разве что медленней. Штанины трутся друг о друга. И не удивительно: кавалерийские штаны на нем, и очень плохо они скроены.
— Ты знаешь, о чем речь? — спрашивает Красного Гоза старшой.
— Не знаю. Догадываюсь только, — отвечает тот тихо и скручивает цигарку.
— Да ведь, кореш… — взвивается было Тарцали.
— Брось. Подожди, чем кончится.
Знает Красный Гоз, в чем дело. Хоть и не наверняка. Он вчера еще думал об этом. И позавчера, когда в первый раз встали на работу.
Нельзя безнаказанно взять и разогнать людей, особенно рабочих. Не всегда сила на стороне сильного. Он, Красный Гоз, вступился за честь деревни, за честь жены, как мог; теперь и ему отплатят, как могут. На что еще годится организация, если не на то, чтобы постоять за себя, сложив инструмент и бросив работу. Чужие землекопы могут себе это позволить. А местные — нет. И уж тем более не может себе позволить подобное Красный Гоз. Он может только с палкой или с заступом пойти на кого-нибудь, в открытую.
Те сейчас отстаивают свою честь, как он недавно отстаивал свою. Где тут несправедливость? Все справедливо. Не забудет пес, кто в него камнем бросил; еще говорят: как аукнется, так и откликнется. А то еще такая пословица есть: то собака убегает, то заяц. Итальянская это пословица, Красный Гоз ее от отца слышал, который и на итальянском фронте воевал в свое время.
Ударили человека… и пусть ноги его в тот момент рванулись бежать — стыд надолго останется в сердце, будет жечь, беспокоить.
Стыд, который гораздо, гораздо сильнее даже смерти.
Чужие землекопы обступают господ, и опять доносится шум, крики. Будто в правление нового члена избирают.
— Что там такое, черт их дери… — тревожится старшой, Силаши-Киш. Никто ему не отвечает. Слоняются молча, инструмент чистят, смотрят на землю вокруг себя. Будто что потеряли. Будто работа вдруг оказалась ненужной, или сила ушла из рук, или помещик передумал копать пруд и вернул земли под участки. Красный Гоз тоже молчит, не шевельнется. Стоит, словно каменный. Цигарка уже ногти ему жжет, а он все ее не бросает. Глаза зажмурит, сожмет окурок кончиками пальцев, затянется… Вот и господа возвращаются. Идут все вместе.
— Плохо дело, мужики, — говорит, подойдя, эконом. Остальные тоже подходят ближе — чуть на пятки не наступают друг другу.
— Видим. А что такое? — спрашивает старшой. И поднимается на дамбу.
— Чужие бастуют. Говорят, не начнут работать, пока среди вас есть человек, который в прошлый раз товарища их на улице стукнул. Ну… а теперь вы говорите. Вам лучше знать.
— Так. Вот, значит, что. Если они стукнули человека, причем парнишку, пацана почти, — это ничего. Что над прохожими насмехались — это тоже ничего. Их шкура важнее…
— Все так, как вы говорите.
— А если мы тоже забастовку устроим, тогда что?
— Вы не имеете на это права. Забастуете — можете уходить…
— Значит, им можно, а нам нельзя? Чужие здесь вроде как дома, а мы… Вроде это мы их участки копаем, а не они наши…
— Язык у вас, я вижу, хорошо подвешен… Вы поймите, всего-то об одном человеке идет речь. — Эконом косится на Красного Гоза. Сам не знает, почему он его не может терпеть, уж сколько лет… Прежде случая все не было, а теперь-то он ему насыплет соли на хвост…
— Кто в дерьмо наступил, тот пусть и сапоги чистит, — выкрикивает вдруг Хеди. — Что ж, нам всем теперь заработка лишаться? Из-за одного? Справедливо это?
— Слишком жирно будет — из-за одного-то… — кричит другой мужик, молодой Сито, который не знает, да и знать не хочет, сколько лет его отец бок о бок с Красным Гозом землю ворочал. Зато знает он, что за шесть пенгё купил старую тачку да заступ за пенгё шестьдесят и пока даже эти деньги не заработал.
Словом, эти двое против Красного Гоза; остальные ж помалкивают, ничего не говорят, стоят; кто заступ очищает, кто трубку, спички вертит…
— Чего крутить вокруг да около? Скажите прямо: обо мне речь? — спрашивает Красный Гоз.
— Угадали, — злорадствует эконом.
Красный Гоз швыряет на землю крохотный окурок, который уже и не окурок даже, а один пепел. Кладет заступ поперек тачки, пиджак надевает, сумку на тачку кладет, натягивает лямку. Молча идет по направлению к деревне.
— Тут ничего не поделаешь, вы же сами понимаете… Эти землекопы — организованные рабочие… — пробует оправдаться помещик, который совсем запутался во всем этом. Работу нужно делать, это ясно… но такой пугающей, даже грозной кажется спина уходящего.
— Надо ему дать какую-нибудь другую работу, — волнуется желтоволосая Матильда, то к помещику делая шаг, то к эконому. Протягивает к ним руки, словно помощи просит. Весеннее пальто на ней расстегнуто, из-под него выглядывает светлое платье. Сунув руку под пальто, подходит к приказчику. — Ну скажите же вы ему что-нибудь…
Чуть не плачет от жалости.
— Сказать? Эй, эй вы… Гоз! Погодите.
Красный Гоз останавливается. Ставит тачку, оборачивается.
— Приходите завтра к конторе. Дадим вам другую работу.
— Обойдусь! — отвечает Гоз и идет дальше.
Тяжкие мысли у него в голове — как волны в море; пустая тачка плечи оттягивает. «Что же, собственно, случилось?» — спрашивает он себя снова и снова. И никак не может четко связать одно с другим… Значит, так: помещик старается, чтобы реформа по его интересам не ударила, для того и пруд копает. И чужих землекопов нанял, чтоб быстрей все сделать. Ну, до сих пор все ясно. Каждый устраивается как может. Да только как дальше? Чем, например, Марика провинилась перед чужими мужиками? Или… почему понадобилось ей по воду идти как раз в тот момент, когда они у колодца стояли? Почему не раньше и не позже? Или, может, так: почему как раз в то время кончилась у них вода?
Нет, ерунда какая-то выходит. Дело все-таки в том, что они неорганизованные рабочие, а чужие, наоборот, организованные. В этом, что ли, все дело? Тех, значит, организованность поит, кормит, защищает, а местные мужики без организации — как дети без матери?
Мучается Красный Гоз, а не может на эти вопросы ответить. Потом замечает, что он уже и не над этим совсем думает, а над тем, что вдруг все-таки артель бросит из-за него работу. Артель, в которой он столько видел и плохих, и хороших дней. Жару терпели вместе, вместе в холод мерзли; магарыч пили, заработок делили. За артель он, бывало, в любое время готов был пойти и против помещика, и против инженера. И теперь вот — благодарность. Бросили, отреклись… Подойдя к околице, останавливается Красный Гоз. Оглядывается. Никого не видно позади. Работа идет полным ходом; даже, наверное, еще больше стараются мужики, чем прежде.
«Ушел — и будто помер… — думает Гоз. — Был — и нету. Ни одна собака тебя не пожалеет…»
Не то обидно, что чужие из-за него забастовали, а то, что никто в артели слова не замолвил за него. Старшой и тот что-то мекал только. А сопляк этот, Сито, громче всех кричал. Остальные же такими вдруг тихими стали…
Обиднее же всего, что даже Тарцали, кореш, за него не вступился. Слова не сказал. Притворился, будто зажигалкой своей очень занят..
— Добрый день, сынок, — здоровается с ним старый Чер, который с лопатой на плече бредет в поле.
— День добрый… — приходится ответить Красному Гозу. Хотя охотней всего кулаком бы он ответил по физиономии.
— Быстро что-то отработал нынче, сынок, — говорит старик и шаги замедляет. Притормаживает.
— Быстро… — и дальше идет Гоз торопливо. Хоть вообще-то нечего ему стыдиться ни перед Чером, ни перед кем другим. Возле хаты Тормы две бабы стоят, тоже на него смотрят. Телега едет навстречу; мужик проходит в отдалении, сворачивает за угол… Красному Гозу кажется, что все на него одного глядят.
Идет он по деревне, будто сквозь строй. Каждый взгляд хлещет по его голой спине, как розга…
А Тарцали вкатывает наверх тачку с землей, спускается вниз и стоит возле котлована, не торопится накладывать. Заступ осматривает, землю с него счищает. Потом ставит его на землю, оглядывается вокруг и говорит:
— Все ж таки свиньи мы, что такого человека взяли и выгнали из артели…
Никто ему не отвечает. Каждый спешит нагрузить свою тачку и катит ее на дамбу по настилу. Словно не вслух говорит Тарцали, а про себя думает. Вот как выходит: ушел Красный Гоз — и конец, даже следы потерялись, затоптанные среди других следов. Тарцали обходит вокруг своей тачки, щупает ее, осматривает, потом лезет в карман. Вытаскивает складной метр. Измеряет яму и высоту земляных баб.
— Ты что? — смотрит на него старшой во все глаза.
— Что? А ничего. Меряю, сколько полагается мне и Гозу. Или кто думает, что мы бесплатно здесь работали два с половиной дня? За красивые глаза?.. — все больше расходится Тарцали. — Я еще понимаю, что можете вы взять и наплевать на человека, как на паршивую собаку… Да только вы не кого-нибудь — вы ведь Гоза прогнали, который столько за вас воевал с инженером, с господами… Вот чего я не понимаю… А еще не понимаю, как столько сволочи может в одной артели собраться!
— Ну-ну, брат. Ты потише, — грозится кто-то.
— Что? Что ну-ну? — вопит Тарцали, как шакал. И от своего крика еще больше заводится. Никто его не думает трогать — а он уже машет заступом вокруг себя, аж свистит заступ.
— Нам тоже обидно. Жалко Йошку и нам, — говорят с разных сторон.
— Вам-то жалко? Собаки вы, сволочи… — уже сам не соображает Тарцали, что кричит. Мужики обступают его, успокоить стараются — конечно, издали, чтоб не задел кого-нибудь заступом. Да напрасно все. Пишта Бан, кум Тарцали, подошел было ближе — и чуть не угодил ему заступ по голове. Испуганно отпрыгивает Пишта назад, кричит:
— Меня смотрите не стукните, кум!
— Что? Я-то?.. — и заступ врезается в тачку. Щепки летят от нее в разные стороны. Перед этим похоже было, что тронулся Тарцали, а теперь — определенно взбесился. За минуту разнес тачку вдребезги. Только захохотал, когда заступ попал в котомку. Все ссыпал в яму, где со вчерашнего дня уже вода собралась. — А деньги наши чтоб были к субботе! — кричит и, сунув руки в карманы, чуть не бегом всходит на дамбу, направляется к деревне.
К дому Красного Гоза подошел он в ту минуту, когда тот вышел на веранду с горшком простокваши. Нутро у него горело нестерпимо, вот и решил простоквашей остудить.
— Ну кореш… я тоже отработался, — появляется перед ним Тарцали.
— Как так? Ты тоже?
— Ну да. А ты думал, я там останусь после всего? — и пинает тачку, которую Красный Гоз поставил перед крыльцом. Тачка перевертывается; колесо ее бешено крутится в воздухе. — Я даже это домой не привез…
— Зря. Пригодилась бы в хозяйстве. Навоз возить, да мало ли что.
— Оно верно, кореш, да только… — надо же: уже не чувствует Тарцали злобы. И тачку разбитую жаль. Теперь-то он понимает, что и не был зол по-настоящему… Да надо же было как-то сделать, чтобы уйти вслед за Красным Гозом. Если б не ушел, всю жизнь стыд бы его терзал перед корешем.
А у Красного Гоза легче становится на душе. Все ж не совсем он один, не оставил его кореш.
— Спасибо. Очень ты меня обрадовал, что скрывать… А теперь-то что будем делать?
— Что делать? А что мы можем делать? То же, что другие мужики, которые не ходят на заработки, а все ж как-то живут, хлеб жуют…
— Это так. Да вопрос в том, много ль жуют…
— Все равно больше, чем в брюхо влезет, не съешь. И слава богу, я тебе скажу. А то ведь те, кто побогаче, все б сожрали, ничего нам не оставили. Да вишь, у них тоже брюхо-то одно, так что даже собаке кусок перепадает. А коли собаки не дохнут с голоду, мужик и подавно проживет как-нибудь. И работу не только помещик дает: можно к другим хозяевам пойти, косить, жать в долю. В общем, ты как хочешь, а я в лямку не желаю больше запрягаться.
Молчит Красный Гоз. Легко корешу. Теща его удачно вышла замуж. А ему-то не на кого опереться в трудную минуту. Вся его надежда — это пядь земли да руки, которые из этой земли должны пропитание добыть. Однако если подумать, то верно и то, что хоть работал он всегда в артели, а все равно сам на ногах стоял. Он другим помогал, а ему — никто и никогда…
Марика выходит из сеней; медленно идет: хлеб режет на ходу. Каравай едва начат: один край его упирается Марике в живот, а другой — грудь подпирает; верхнюю краюшку и отрезает она ножом.
Смотрит Йошка на Марику, и кажется ему: жена и хлеб чудесным образом составляют одно целое… Эх, не было бы здесь Тарцали, потянулся бы он к жене, обхватил бы ее колени.
Все это было в среду, семнадцатого. Накануне иосифова дня.
6
Иосифов день — большой праздник в деревне. Не только потому, что это первый день настоящей весны (пословица говорит: «Шандор, Йожеф, Бенедек, знать, тепло пришло навек»), а еще и потому, что Йожефом[37] зовут здесь чуть не каждого четвертого. Ну, вот хоть бы Йожеф Гоз, потом кореш его, Йожеф Тарцали, и еще видимо-невидимо: Йожеф Такач, Йожеф Эсени, Йожеф Тот, Йожеф Киш, Йожеф Надь, Йожеф Барабаш, Йожеф Сюч, Йожеф Мезеи, Йожеф Каллаи, Йожеф Пинцеш… Всех Йожефов и не перечислишь. Недаром говорят про эту деревню, мол, у нее господь бог и тот Йожеф.
Ну и что такого! Раз здесь Йожефов уважают. Да толстое брюхо. Так отвечают всяким там насмешникам местные мужики. И носят это имя с гордостью. И крестят Йожефами всех своих детей.
Вообще-то говоря, у этой эпидемии на Йожефов — своя интересная история. Когда-то, в старые времена, жил в деревне один тихий, набожный мужик, Йожеф Берегсаси. Отец его, видно, тоже набожным человеком был, потому и окрестил он своего единственного сына Йожефом, в честь библейского пророка Иосифа. Вырос, значит, Йожеф хоть и крепостным, да богатым, и был он выбран старостой. А о дальнейшем, пожалуй, лучше расскажет этот вот старый документ:
Года 1836 месяца ноября писано. Номер L I/a. Йожеф Берегсаси, будучи избран жителями Селения Старостой, принес присягу по закону и показал себя весьма усердным, что особо похвально, потому как был он болезнен, вначале же отменно себя вел. Да в пребывание его Старостой вышел Закон об оброке, который или им плохо был понят, или другой кто ему способствовал, только присвоил себе Староста Господские права. Узурпировав, как Староста Селения, законную власть, сперва пустил он овец на Господский луг и приказал пасти скот Селения заодно с Господским. А граничные вехи, Господином поставленные, велел жителям разбросать. Колодцы, на землях Господских выкопанные и по приказу Господскому засыпанные, велел раскопать заново. Подобное содеял он и с выгоном для Господских жеребят, который Помещик с большими затратами канавой обкопал, а где обкопать было невозможно, оградой обнес. Староста ограду сломал, канавы засыпал и туда телят из Селения и другой скот пустил для пастьбы. За сии беззакония и предстал он перед Господским Судом. Староста Йожеф Берегсаси был предан Закону вместе со всем своим Советом и с теми жителями, которые в этих беззаконных действиях участие принимали. После трех заседаний вынесен был приговор. Оный гласил, чтобы Старосте Йожефу Берегсаси сто ударов палками дать и посадить его в кандалах в темницу на один год. Которые сто ударов он на месте и принял. А Ференц Каллаи, бывший ему во всем помощником, получил полгода ареста и пятьдесят ударов, еще же пятеро старых крестьян, которые ему советчиками были, пять месяцев тюрьмы без палочного наказания получили. Те жители, которые искренне перед судом покаялись, что участвовали в разрытии граничных вех, равно как и в раскопке колодцев, палочными ударами наказаны были на месте. Чьи имена, когда известны будут, занесу сюда. Секретарь же, Даниель Фезё, который, как приговорил Суд, во все эти действия был весьма замешан, по приказу Главного Уездного Начальника был из Селения перемещен.
Вот и все, что сказано в старом документе.
Однако память о том славном времени до сих пор живет среди местных жителей, а особенно прочно — в их именах. Потому-то и много в деревне Йожефов. После того старосты, Йожефа Берегсаси, мужики своих детей сплошь крестили Йожефами. И иосифов день большим праздником считается в деревне: в каждой семье хоть один Йожеф да есть — и всех надо поздравить. А дело это непростое, потому что поздравителей полагается угощать. Палинкой, пирогами, вином, где как.
Есть дома, где в этот день даже цыган зовут играть. У мельника Такача, например. Играют цыгане с утра до позднего вечера. Потому что Такач и другие богатые мужики именины свои празднуют по-господски. Вечером гостей зовут, а на следующий день приходит кто хочет.
Поздравлять, собственно говоря, детишки начинают. Едва светает, а они уже обходят по очереди всех Йожефов; чаще всего вдвоем: собак боятся. Встанут у дверей по стойке смирно, отбарабанят свое, а сами думают, сколько им денег здесь дадут; получат и бегут дальше. Йожефов много, а утро коротко.
В доме еще не прибрано с ночи, одна подушка там, другая — здесь. А сосед, смотришь, уже в ворота заходит (если не в ссоре они с хозяином, конечно). «Здравствуйте, — говорит, — дай вам бог еще много-много раз встретить иосифов день в добром здравии и этот провести в мире…» Точно такие вот слова говорит Тарцали, придя утром к Красному Гозу. И добавляет:
— Надеюсь, ночь провели хорошо?.. — подмигивает в сторону хозяйки, Марики.
Марика как раз постель застилает, подушки берет с припечка; на мгновение закрывает глаза, краснеет. Жаром отдается у нее в крови воспоминание о минувшей ночи.
— Спасибо, кум, — отвечает Марика, — и вам желаем того же, — и мужу подмигивает. Бог знает, чего они все перемигиваются.
— Дай тебе бог, кум, много именин встретить с семьей в добром здравии, — снова говорит Тарцали и подходит ближе. Руку подает корешу.
— Спасибо, кум, и тебе желаю того же, — трясет Йошка его руку.
— Да, кум, нынче ж у вас тоже именины, — Марика подходит к Тарцали. Теперь оба они стоят перед Тарцали, а Марика знак делает свекрови. Потихоньку, конечно. Та выходит, приносит из сеней бутылку, стаканы. Марика торопливо прибирает постель, скатерть на столе переворачивает чистой стороной, разглаживает руками. — Капельку палинки, кум. А если случаем уже позавтракали, то и вино есть…
— Нет, нет, еще не завтракал… — идет к столу Тарцали.
Дверь хлопает, входят два пацана-школьника, чинно встают у косяка, руки вытягивают по швам, глотают слюну и стишки выпаливают:
Нынче, в праздник наш святой, Встал я с утренней звездой, Год ее я не видал, Этот день все поджидал. День, что всем нам люб и мил, Йожефа день именин. Пусть господь тебя хранит И здоровьем наградит. Сто счастливых лет и зим, Сто веселых именин От души мы вам желаем И от сердца поздравляем…Тут один мальчуган так закашливается, что слезы у него на глазах выступают; другой смотрит на него беспокойно.
— Растите большие, детки, — говорит Марика и идет к вешалке, роется в кармане своего передника. Мелочь достает. Сует ее одному пацану в ладонь, тот сразу — за дверь. Другой выбегает за ним вслед.
— Я потому так рано заскочил, кум, кума, чтобы… на ужин вас позвать нынче вечером. Я ведь тоже Йошка. Мои именины тоже не что-нибудь.
— Хм. Я вижу, хорошо идут у тебя дела, кореш, с тех пор как бросил ты землю копать.
— Ну… не так уж хорошо. Да зато время есть, именины свои хоть могу справить…
— Это верно, времени у нас теперь хватает, — говорит Красный Гоз, разливая по стаканам палинку. — Будь здоров, кореш… Выпей и ты с нами, Марика…
Марика боязливо берет стакан, а сама на окно смотрит: сосед их, Сокальи, идет по двору.
В прошлом году тоже здесь, в этом доме, застал Марику иосифов день, да мужа тогда не было дома: пни он где-то корчевал. Так и не пришлось отпраздновать. Теперь вот хочешь не хочешь, надо праздновать. Верно сказал муж: времени хватает.
Праздник этот в доме Гозов больше на словах почитается, чем на деле: ведь в иосифов день — если только не на воскресенье он попадал — никогда Красного Гоза в деревне не было. Или на поденщине он работал, или землекопом, мало ли где. Конечно, и там поздравляли Йожефов, всерьез ли, в шутку ли; а поздравив, тут же впрягались в лямку или за заступ брались — и пошли-поехали. И нынче Красный Гоз чувствует себя так, словно он в гости пришел на собственные именины.
Словно Йожеф Гоз — это не он совсем, а другой кто-то; или словно имя его живет в деревне само по себе… потому, должно быть, и оглядывается он то и дело куда-то назад, за спину…
Знает Красный Гоз: сегодня, как раз в день именин, жизнь помимо его воли повернула в новое русло; сегодня он стал настоящим крестьянином, как вот сосед, Сокальи, который сидит сейчас на припечке, — нет, нет, к столу он не сядет… — трубку покуривает. Однако стаканчик, как ни протянешь ему, каждый раз принимает и опрокидывает…
Конечно, парнем Красный Гоз часто бывал на именинах у приятелей — да только зимой и осенью, а в летнюю пору — никогда. Летом у кого есть время праздновать? Разве лишь у самостоятельных мужиков…
Правда, он и сегодня в поле собирался… да ведь завтра тоже день будет, куда спешить. Никто за ним не гонится.
— Будь здоров, кореш…
— Будьте здоровы, дядя Андраш. Садитесь к столу!
— Ничего, мне и здесь хорошо… Кхм, кхм, — и хватает он стакан, как голодная курица червяка.
Юхошиха приходит, Марикина мать; потом еще старшая сестра Марики. Собираются гости; Гозиха яичницу с колбасой жарит. Колбаса кружочками нарезана. Что делать? Приходится доставать припасы, коли уж пришел народ.
На дворе солнце светит вовсю, наседка кудахчет, по ветвям шелковицы птаха весенняя прыгает, щебечет. Собаки лают по деревне то здесь, то там. Оно и не удивительно: ходят люди по соседям, по знакомым, поздравляют. Иные с кувшином вина спешат с одной стороны улицы на другую. Кое-кто думает: вот, мол, поздравит того,-другого, и за дело возьмется. Да так и застрянет где-нибудь в конце концов. Трудно от накрытого стола уйти…
У Такачей, на мельнице, цыгане играют еще с вечера. Перед музыкантами пляшет Геза, кандидат в зятья, и на каждый такт Лайоша Ямбора по бритой макушке шлепает ладонью. По дружбе. Или даже не по дружбе, а по любви. Как он сам говорит.
— Пей, пока есть, брат Геза; хе-хе-хе… — смеется Лайош Ямбор, а сам старается как-нибудь из-под его ладони увернуться. Язык у него заплетается, и вместо «п» произносит он «ф». Ну, тут уж все вокруг смеются… Однако ж каков этот Ямбор: везде успевает!
Сидят они на веранде с вином, с калачами и цыган слушают. Вот куда, стало быть, добрались они с тех пор, как начало светать. А были тоже недалеко: в третьей горнице. Оттуда двинулись: мол, домой пора…
Пьют и у Черов, и у Тотов, у Кишей, у Надей, у Барабашей, у Сючей, у Чордашей, у Кишторни — везде, где есть хоть один Йожеф.
Иосифов день, собственно говоря, праздник весенний; вот и в календаре начало весны где-то здесь обозначено. Однако весна давно уже в разгаре. И гусеницы расползлись уже по яблоням..
Трудились мужики, конечно, и до этого; кто одно делал, кто другое. Ячмень сеяли, огород вскапывали, овощи сажали, гусениц обирали. Но настоящая работа лишь теперь начнется. И все же, как бы там ни было, этот день нельзя не отпраздновать.
Часам к десяти все три корчмы полны до отказа: многие, куда бы ни ходили, в конце концов здесь оказываются. Начинают праздник дома рюмкой палинки или стаканом зеленого вина, а кончают здесь, пьют что придется…
В одиннадцать часов прибыл в деревню исправник. Приехал он на автомобиле. Перед правлением замедлил ход автомобиль, будто раздумывая, куда повернуть; потом повернул-таки во двор правления. Остановился, заскрежетав тормозами, и еще немного прокатился, вздымая пыль. Открылась дверца, вылез оттуда человек господского вида, с портфелем под мышкой. Писарь.
Потом вылез и сам исправник и прямо к крыльцу зашагал.
Хоть и называют его все исправником, на самом деле по должности он — уездный начальник. Каждый год несколько раз наезжает он в деревню; не только в эту, конечно. Все деревни объезжает в уезде, одну за другой. И вот ведь что удивительно: как бы часто ни был он здесь, каждый раз чувствует, что деревня не та, какой была в прошлый его приезд. Словно бы все время меняет она свое лицо, обращенное к нему. Иногда подумает он: ну, теперь увидит деревню такой, какая она есть на самом деле, — и опять встречает что-то совершенно новое. Двенадцать деревень в уезде, все не похожи одна на другую, да еще каждая из них раз от разу на самое себя не похожа… Мыслимое ли дело — все их узнать, изучить, понять до конца! Что ни дом, то норов — говорит пословица, а сколько ж домов во всем уезде! Подумать страшно. В одной деревне испокон веков заведено, что сады, огороды отгорожены друг от друга заборами, плетнями; а в другой даже межу-то не оставляют между ними. Стало быть, и закон в этих деревнях следует по-разному применять. В одной деревне мужики тихие, смирные — чисто мухи в сметане; в другой же то и дело грызутся меж собой, как собаки. Однако тут-то и загвоздка; думаешь: раз эти буйные, нахрапистые, а те, наоборот, ленивые, неповоротливые, так у них все по-разному должно быть. Опять же нет. По всему уезду одни и те же проступки: тропы через поле прокладывают как попало; фонари не вешают в темноте на оглобли; из-за межей ругаются; навоз не вывозят аккуратно, раз в месяц; кольца не вделывают свиньям в стаде; не обновляют на телегах доски с именем владельца; телегу перед корчмой оставляют без присмотра; подростков не пускают на занятия допризывников; а о школе и говорить нечего. Мыльную воду выливают прямо на дорогу… Словом, нарушений хватает.
Еще вот охотятся в неположенных местах. Наверное, думают, что рыбу, дичь господь бог им бесплатно дает…
Углубившись в свои мысли, всходит исправник на крыльцо.
Навстречу ему с другого конца коридора спешит секретарь правления; делает вид, будто штаны застегивает: мол, в уборной был. А на самом деле только-только из дому. Ждали исправника после обеда, а он вон когда явился.
Выходит из своей комнаты и староста Ференц Вираг, машет рукой кому-то позади (тут же какой-то мужик убегает сломя голову) и кланяется, здоровается с исправником. Сухо кивнув ему, исправник проходит в кабинет. Секретарь едва-едва успевает дверь перед ним распахнуть.
Писарь топчется в углу; исправник расстегивает перчатки, швыряет их на стол.
В соседней комнате стул загремел. Будто кто-то подслушивал там под дверьми и теперь отскочил в панике.
— Может, вы скажете мне, господин секретарь, что тут у вас происходит? — спрашивает исправник и кивает своему писарю. Писарь торопливо роется в папке, бумаги достает, кладет перед ним.
— Мы думали… после обеда изволите…
Исправник раздраженно фыркает:
— Изволите, изволите… А к тому времени вся деревня вверх дном перевернется, так что ли? Где эти люди? Вызвали их?
— Те, что для отдельного разговора, сию минуту здесь будут. И остальных… как только захотите… — И секретарь выскакивает за дверь, радуясь, что есть повод хоть на минуту скрыться с глаз исправника. Бежит в соседнюю комнату. Слышно, как чьи-то сапоги там стучат, барабан ударяется о косяк; еще через минуту на улице раздается барабанная дробь. Рассыльный пробегает под окнами правления.
«С каждым днем, с каждым днем все хуже…» — словно выговаривает барабан, двигаясь вдоль улицы. По крайней мере мужикам так кажется. Выходят люди на улицу, слушают, что кричит рассыльный. А кричит он не бог весть что: просто велено всем собраться к правлению. Возле некоторых хат рассыльный еще особо стучит палкой по забору. Этих, значит, исправник в первую очередь вызывает… Сам исправник в это время разбирает бумаги, которые ждут его решения.
— Имре Вад, сорок шесть лет, женат, пятеро детей, реформатского вероисповедания… Та-а-ак. В ноябре прошлого года был на два дня арестован за драку в корчме. Ударил бутылкой из-под содовой Кароя Болдога, вице-председателя гражданского стрелкового общества… — Тут оглядывается исправник. В дверях раздается звяканье сабель. Полицейские отдают ему честь.
— Имре Вад… Кто это Имре Вад?
Полицейский унтер — молодой еще человек; говорит он, словно на весах каждое слово взвешивает:
— На прошлой неделе снова пел в корчме «Интернационал». Однако…
— Что еще за «однако»?
— Однако в других отношениях кажется человеком порядочным. Хоть мы и следим за ним. Детей в школу, в церковь, на занятия допризывников посылает аккуратно. Земля у него есть, не так уж мало, обрабатывает он ее добросовестно. Сам тоже церковь посещает. Когда новый колокол ставили, дважды выезжал с упряжкой, работал бесплатно в пользу церкви. Непонятно, по какой причине Имре срывается снова.
— Пьян был, может?
— Пил наверняка. Сколько, установить невозможно; сам он говорит, что много, четыре литра, но это ложь. А корчмарь, по всей видимости, старается его выгородить и все его слова подтверждает. Карой Болдог показывает против них обоих.
— Ну ладно, посмотрим. Господин секретарь!
— Что изволите? — подбегает тот, даже коленом стукается об угол стола.
— А что Йожеф Красный Гоз?
— Изволите видеть… он землекопом нанялся на сооружение пруда. Потом вышло у него столкновение с чужими землекопами, в первый же день, когда те еще к работе не приступили. Ударил одного. Те землекопы увидели его и отказались работать. Гоз ушел, не стал спорить. Тут бы все в порядке было, да только люди никак не успокоятся. Местные понемногу разошлись с работы, а чужие надбавки требуют; с тех пор еще раз бастовали…
— Господин унтер, о драке было заявлено?
— О драке заявлено не было, а нам самим не удалось дело расследовать, свидетелей не нашлось… К тому же и господин эконом сказал, что дело может вызвать нежелательные последствия. Допрашивали мы землекопа, которого этот… как его… Красный Гоз якобы ударил. Однако тот показал, что никто его не бил. Еще чего, говорит. Так что…
— А чего же тогда хотят в поместье?
— Видно, козла отпущения ищут. А для чего им это нужно, один бог знает.
— Ну ладно… Помещику, значит, козел отпущения нужен. И чтобы бесплатно на него работали… Черта с два! Мне б только ухватиться за что-нибудь… — совсем раздражен исправник. Вчера вечером в Неште, в игорном доме, триста пенгё проиграл он в карты. Отчаянное было сражение. Грос, арендатор, тоже шестнадцать тонн пшеницы проиграл; в долг, конечно… А выиграл все секретарь из Бикера. Правда, пока что основной выигрыш весь в бумажнике унес, в векселях… А его триста пенгё так и уплыли, как есть… не хватило у него ума вексель дать… И надо же, экое счастье привалило этой скотине…
— А что вы на это скажете, господин секретарь? — Выкладывает исправник на стол два анонимных письма.
Секретарь пенсне цепляет на нос, нагибается. Долго читает. Потом говорит:
— Сами изволите знать, господин исправник, чего стоят всякие анонимные письма.
— Изволю, изволю… Я всегда все изволю. Обожаю это слово! Желающие получить участки для строительства были в деревне?
— Как же, были. Да тут все в порядке. Земли под участки хватает.
— Словом, вот почему ничего не стоят эти анонимные письма. Вытеснили людей на солончаки. Добрый вы человек, я вижу…
— Правление решало насчет участков. Оно и договор подписывало. Староста…
— Конечно, староста. А секретарь для чего существует, как вы думаете? Для того, что если староста — дурак, так секретарь бы ему мозги вправил. А вы!.. И перед самыми выборам… Где староста?
Секретарь выбегает из комнаты. Опять удалось ему на свободу вырваться. Ненадолго, правда: тут же возвращается вместе с Вирагам. Исправник делает жест, будто мусор сметает; секретарь и писарь выходят. Один — в коридор, другой — в комнату помощника секретаря. Исправник остается со старостой с глазу на глаз.
В коридоре народ собирается. Имре Вад топчется возле дверей, сморкается, лицо вытирает, рубаху одергивает под полушубком — словом, время тянет.
Он, конечно, тоже прямо с имения сюда пришел и выпил, само собой. Теперь ему плакать охота, что такой дрянной он человечишка. Не потому, что пил: на то он и мужик. Не одним же лошадям пить. А потому, что язык за зубами держать не может. Не может взять и проглотить свои чувства, как галушки. Умер бы он, что ли, если б промолчал? Правда, не только в хмельном состоянии думает он о былом, можно сказать, никогда — ни днем, ни ночью — не выходит оно у него из головы. Да только, если трезв Имре, бурные те годы представляются ему старой, слышанной от кого-то героической легендой. А выпьет — и все оживает в памяти и в сердце, словно было лишь вчера…
Выпьет — и снова явью становится легенда; то, во что он верил, превращается в быль. Лишь сюда, где он живет, где вынужден жить, даже слабое дуновение не доносится от той яростной бури.
…Снова молод он: русские поля овевает теплый, пахнущий чем-то зеленым ветер, под ветром тихо покачиваются ветви берез. Казак, у которого он служил, бредет через рожь, заложив руки за спину, в рубашке навыпуск. Борода у казака — серая, будто выгоревшая, а от одежды его идет запах, как от подсолнуха перед цветением. За хатами коровы пасутся, вороны мечутся в воздухе; далеко-далеко за околицей рухнуло дерево. Пленные там лес рубят. Перья лука на грядках за домом достают до колен; казачка идет мимо лука с подоткнутой юбкой, колени ее мелькают между луком и краем юбки. Так начиналась хорошая жизнь.
Потом пришли красные, поймали казака возле сада, в риге, и увели с собой. Он же полдня лежал ничком во ржи, а казачка через несколько дней, вечером как-то легла к нему в постель. Хоть и не много было на нем одеял. Всего-то фронтовая плащпалатка да старая шуба казачья.
Эх, что за баба была!.. Но это еще не все. Родила она от него ребенка, а он в это время уже служил в Красной Армии. Иногда лишь появлялся на хуторе, в новенькой форме, увешанный ручными гранатами. Бои, отступления, наступления… и не заметил он, как очутился где-то в Сибири. Оттуда снова двинулся вместе с частью обратно. Везде, где они проходили, валялись на снегу мерзлые трупы белых и красных вперемежку. Уж и весна миновала; пробовал было искать он тот хутор, ту казачку, ребенка… да что тогда значил какой-то хутор, ребенок? Не больше чем засохший цветок в пылающем стоге соломы. Потом — побег, допросы на границе… Католиков заставляли исповедоваться; он-то знал, о чем идет речь, и благословлял мать за то, что родился кальвинистом.
Теперь давно уж он дома; но столько всего на душе, что кажется порой: не выдержит, надорвется…
Вот и выпивает Имре время от времени, чтобы легче стало; а выпьет — понемногу рассыпает вокруг крупицы своей тайны.
Из-за этого и вызван он к исправнику.
Нынче, правда, не успел он еще выпить столько, чтобы мир вокруг стал легким, будто невесомым; однако и упрямой трезвости уже нет… Стоит Имре Вад с подогнувшимися коленями — словно прошлое непосильным грузом навалилось на плечи.
Открывается дверь. Ференц Вираг выходит без шапки, с горящим лицом. Секунду дико смотрит на Имре, потом отворачивается к стене и, медленно шевеля губами, читает подряд все объявления.
— Имре Вад! — высовывается из-за двери писарь и тут же прячется обратно. Словно и дело-то совсем не серьезное, а так, пошутить ему захотелось.
Имре Вад прокашливается, слюну глотает. Держа перед собой шапку как щит, входит сгорбившись в кабинет. Молча останавливается в дверях, стараясь выглядеть так, будто он давно уже здесь. Голову склоняет немного набок.
Исправник — человек среднего роста, лет сорока, в темно-сером костюме — стоит, упершись кулаками в стол. Читает какую-то бумагу; потом наконец поворачивается. У него густые, пышные усы, косматые брови. Смотрит он на Имре Вада, и каждый волосок на нем шевелится по отдельности. Как, скажем, когти или как паучьи лапы. «Триста пенгё… шестнадцать тонн пшеницы выиграл мерзавец… Опять начнутся всякие неприятности с этим паршивым Гросом… он ведь свой проигрыш на батраках постарается выместить. А тут еще этот мужик… Ведь так мало нас, венгров. А он — «Интернационал»!.. Если мужики начнут большевистские штучки откалывать…
— Что вы опять натворили, несчастный?
— Я ничего не делал, господин главный уездный начальник… — отвечает Имре Вад и даже сам удивляется, как у него гладко это вышло. Потому что, если, предположим, заранее знаешь вопрос, — это одно дело, а не знаешь — другое… Радуется чему-то, неизвестно чему.
— Ничего? А в корчме всякое безобразие поете, это как понять?
— Я не знаю, что в этом правда, что нет, господин главный уездный начальник, я только помню, что крепко за воротник заложил… Я ведь не отказываюсь…
— Что-что? Заложили куда?..
— Ну словом, когда выпьет человек, запросто может к чужой теще в зятья попасть…
— О! — и исправник даже садится от удивления.
— Пока опомнишься, глядь, а нос-то в дерьме… Ежели б не это, не было бы у меня, господин главный уездный начальник, никаких забот на свете…
— Подождите-ка! Какая теща? Да еще нос в этом… в дерьме?.. — Кулаком стучит исправник. Хочется ему расхохотаться громким, легким смехом. Экий чудной мужик! Что ни слово, то бог знает какая глубина… и притом не беспроглядная, а светлая, мерцающая глубина.
— Это мы, мужики, стало быть, так говорим промежду собой…
Ну конечно же! Известно ведь, мужики на другом языке разговаривают, когда они сами по себе. Потому-то в каждый его приезд и оборачивается деревня новым лицом. О, как часто хотелось познать ему истинный ее облик — и никогда не удавалось… Вот стоит перед ним мужик, который, видно, основательно запутался в своей жизни. И оказывается, через него-то, через этого странноватого человека с изрытым глубокими морщинами лицом, и можно заглянуть в таинственную душу деревни. Будто через окно какое-нибудь.
— Послушайте-ка, милый… Мы с вами оба — венгры, а если не совсем одинаково это понимаем, так это ерунда. Не надо скрывать — да мы к сами знаем прекрасно, что вы были красным солдатом в России… Но это вас не интересует. Большевиком вы все равно бы не стали, если б даже захотели. Так что мы на это закрываем глаза. Мне только интересно, как вы все-таки видели тамошний мир? Что вы там делали? Как попали домой? Почему вернулись, если уж связались с ними? Вот обо всем этом и расскажите мне, милый мой. Я не возражаю, пусть вы что-нибудь пропустите, если считаете нужным. Расскажите, что можете. Понимаете меня? Я вас об этом прошу, как венгр венгра… будем хоть раз искренни друг с другом… Попробуем быть искренними…
Имре Вад смотрит на исправника не моргая. Не думает над тем, что сейчас скажет. Чего тут думать? И так ясно, что нет у него другого спасения, кроме как говорить. Эх, если б люди могли его выслушать и понять, почувствовать, что он пережил… Тогда бы никто его не дергал, не подозревал. Ведь пережитое на всю жизнь сделало его великим страдальцем, и нет на свете такого лекарства, которое облегчило бы страдания. Сколько раз показывал, приоткрывал он себя (отсюда-то и все напасти) — пусть не целиком, а понемногу, так из карьера берут кусочки камня на пробу… И все напрасно. Только несчастья на него сыпались, с полицией приходилось объясняться, с властями. Ну ладно, поглядим, как исправник все это примет.
— Дело, собственно, с того началось, господин главный уездный начальник, что в Екатеринбурге налетели однажды на лагерь белые. Я-то сам тогда у казака одного был в работниках, это меня и спасло. Белые много наших насмерть замучили. Сколько человек-в нужнике, утопили!.. У них — оружие, у нас — нет, так что им легко с нами было справиться. Ну ладно… я бы тоже оттуда живым не вышел, это там легче легкого было. Казак, хозяин мой, близко жил от города, в общем, и баба мне уже надоела, то есть… словом, и красные за бока брали, и белых я боялся, и хозяина убили… Что, думаю, делать? И пошел, значит, служить.
— Ну и что дальше?
— Ну значит, и столкнулись мы обратно с теми. Короче говоря, мы с ними то же, что и они с нами…
— Топили их в этом… в нужнике?
— Ну да. Это, изволите знать, так делается: тут яма, одно дерево так стоит, другое — так… — и показывает руками.
— Ну, не всех же, наверное, топили?..
— Всех? Нет, не всех. Одних — так, других — этак. Кого как. Многим, конечно, звезду пришили…
— А это что такое?
— А это… это я не могу сказать.
— Почему?
— Потому что… очень скверная штука. Некрасивая.
— Ну ладно… не говорите. Я догадываюсь, что это такое. — Исправник встает. Ходит по комнате. Да, страшный ураган подхватил этих мужиков, подхватил и унес в невероятную даль, как пушинку. Какое упорство, какая сила нужна была, чтобы остаться в живых и через все преграды вернуться домой!..
— Вот что, Имре Вад, я не возражаю, пойте себе в корчме, что хотите, только не пойте эту ужасную песню. Ну, эту… «Вставай, проклятьем заклейменный…» И что еще там?… «Мир голодных и рабов». Так его растак, этот мир. Вы других песен, что ли, не знаете? Ведь у нас, у венгров, столько прекрасных песен.
— Знаю я. Знаю их все. Да я и сам песни могу сочинять. Вот года два назад придумал одну…
— Ну видите, как славно. Ну-ка, спойте.
— Не извольте сейчас от меня требовать, господин главный уездный начальник… это так просто ведь не идет… — пугается Имре Вад.
— Ну-ну, ладно, потом как-нибудь споете. Но смотрите, держите себя в руках. Больше не делайте глупостей. А теперь идите с богом. Кто там дальше? — поворачивается он к писарю.
Писарь высовывается в дверь, как и в первый раз, будто в прятки играет, вызывает следующего. И сразу входит в кабинет Красный Гоз. А Имре Вад выходит. На ходу шапку надевает. То ли шапка мала, то ли голова велика — никак не надевается шапка: нижний край у нее загнулся…
— Вы Йожеф Гоз? Или Йожеф Красный Гоз? Это кличка у вас такая?
— Была бы кличка, если б я ее стыдился. Да я не стыжусь.
— Вот как. Значит, признаете ее?
— Конечно. Хорош я был бы, если б не признавал.
— Почему?
— Потому что тогда… тогда в самом деле была бы кличка. — И беззвучно смеется Гоз.
Не по себе становится исправнику. Он-то радовался, что в беседе с Имре Вадом нашел тот язык, на котором будет разговаривать с мужиками и сегодня, и завтра, сможет решать любые запутанные дела. И вот приходит этот Гоз и оказывается совсем другим человеком, и к нему опять надо искать подход. А как его найдешь? Может, дело просто в том, что один — пожилой, другой — молодой? У того лицо прорезано глубокими морщинами, в которые словно въелись навсегда и русский плен, и Сибирь, и Екатеринбург, и белые, и красные… «Короче говоря, мы с ними то же, что и они с нами…» — гудят у него в голове слова. Устал исправник. И настроение у него совсем испортилось.
— Чужие землекопы снова бастуют. Что вы об этом скажете?
— А что сказать? Им ничего больше не остается.
— Что такое? Это как понимать? — вскакивает исправник. Неужели опять завелись в деревне социалисты?
— Очень просто. Землекоп ведь когда берется за работу? Когда все наперед в голове рассчитает. Теперь два случая могут быть. Или оправдываются его расчеты, и тогда все в порядке, или не оправдываются, и тогда он бастует. А раз бастует, значит, вправду плохо дело.
— Вы социалист?
— Нет. К сожалению.
— Это почему же — к сожалению?
— Неважно. Факт фактом, его не изменишь, так что и говорить об этом не стоит.
— Вы ведь тоже землекоп?
— Был землекопом. То есть если точнее, то и землекопом был не совсем.
— Сейчас на что живете?
— На то, что в прошлом году заработал и раньше. А на следующий год тем буду жить, что в этом году заработаю.
— Вы же сказали, что уже не землекоп.
— Ну и что? У меня земли есть немного, от матери; мать солдатская вдова, отец на фронте погиб. Земля, правда, солончак, да ведь я на солончаке родился и думаю, сумею прожить.
Снова ходит исправник по комнате. Что это за человек, что он собой представляет? До сих пор этот мужик задавал вопросы, а не он, исправник… то есть, спрашивал-то исправник, конечно, но спрашивал так, как тот хотел. Вот что странно. Более того, противоестественно. Может, отпустить его пока и попросить у полицейских подробную информацию? Да разве даст кто-нибудь подробную информацию об этом мужике? Ударил он кого-то, а тот на него не заявил. Даже отрицать стал. А в то же время, очевидно, этот Красный Гоз играет какую-то роль в том, что землекопы на строительстве пруда начали бастовать. Притом и местные частично разложились, бросили работу. К этому тоже, должно быть, он руку приложил.
— Послушайте-ка. Еще что-нибудь вы знаете об этой забастовке?
— Только то, что любой может узнать, если захочет. Вообще-то работа оплачивается хорошо, даже, можно сказать, по-господски. Плохо только, что почву недобросовестно исследовали, когда пробную копку делали. Наспех, приблизительно. Потом уж догадались и инженер, и рабочие, что надо было бы получше смотреть. Есть участки, где нижний слой не только лопата — кирка не берет.
— Почему? Каменистая почва?
— Нет, не каменистая. Хуже. Камни ведь окапывать можно, взрывать, а эту почву ничем не возьмешь. Потому что солончак. Хуже, чем промерзшая земля. А ведь мерзлая почва тоже много забот принесла землекопам.
— Конечно. Может, в этом дело? Но что же с такой землей делать? Плату рабочим повысить?
— Обязательно. Иначе не будут они работать. Просто-напросто не осилят. Пруд ведь делается при содействии сельскохозяйственного министерства, так что и власти могут вмешаться.
— Что же делать? Снова поднимать плату? Или совсем отказаться от пруда?
— Зачем отказываться, если помещику нужен пруд? Там у них инженер есть, он знает, что делать. Должен знать по крайней мере. Машины здесь нужны специальные. Которые землю разрыхлят, а потом уж землекопы легко смогут ее перевезти.
— Интересно. Откуда вы такие вещи знаете?
— Знаю, и все тут. Человек столько всего знает, что и сам порой удивляется. А вообще-то я с землей немало имел дела. Раз даже в Хортобади, например.
Вот и все, спрашивать тут больше нечего. Конец и допросу, и подозрениям. Да и стыдно исправнику: этот простой мужик знает о земле больше, чем он. Хоть и добра желает исправник деревне, и землекопов готов защищать, — что из этого, если не понимает он этих людей… Не знает, чем они живут, как работают… А ведь он должен быть человеком практическим, чтобы мог свое мнение высказать, разрешить, если надо, спор между рабочими и работодателями. Конечно, есть законы, укоренившиеся обычаи, средний уровень зарплаты, однако всего этого недостаточно, если не знает он, кто, что, почему и как делает.. Он, исправник, не знает той земли, с которой кормятся, на которой живут, любят, женятся, умирают миллионы венгров…
В сложных случаях обращается он к кодексу законов, приговор выносит — не разобравшись при этом ни в людях, ни в мотивах их действий.
Все это он ясно видит сейчас. Видит — и ничего не может поделать.
Еще об одном надо ему позаботиться (может, и на это не хватит у него разума?). Дело в том, что из комитатского центра получил он конфиденциальное письмо насчет того, что скоро будут выборы. Пусть, мол, наведет в уезде порядок.
А порядок — это если гладко идет работа на сооружении пруда, в корчме не звучат подстрекательские песни, нуждающиеся в участках для строительства получают их, мужики не запахивают межи друг у друга, навоз вывозится на поля, дети каждый день ходят в школу… Словом, если жизнь в деревне катится, как хорошо смазанное колесо. Тогда деревня спокойна, люди не враждуют, не пишут доносов друг на друга.
А самое главное: при любых выборах правительство может рассчитывать в такой деревне на полную поддержку.
Всем понятно, какое это важное дело.
Вот и приехал исправник в деревню, чтобы сгладить все противоречия, а заодно посмотреть на деревню поближе, лицом к лицу. Насчет участков, правда, ничего уже не поправишь… но старосту придется сменить.
А население деревни — в основном, конечно, мужики — собирается во дворе правления, в коридоре: стоят группками, курят, смеются громко. Странным весельем светятся их лица, будто заботы, нужда неизвестны здесь, будто все живут как сыр в масле катаются… И не поджег староста у Лайоша Ямбора на спине солому, и не бастуют землекопы, и совсем не здесь замяли дело о проломленной стене в корчме господина Крепса (замяли по желанию самого Крепса). И никто не слыхал о том, что участки под строительство хотят распределять на солончаке, — словом, всюду тишь да гладь да божья благодать.
Во дворе, в сторонке, возле бычьего стойла, пятеро мужиков встали в кружок, один что-то говорит, хлопает ладонью по колену и хохочет, прямо корчится от смеха. «И-ха-ха-ха! И-ха-ха-ха!» — выговаривает. И остальные хохочут дружно, вытягивая шеи, как петухи.
Да и остальные шумят; весь двор гудит, как пчелиный улей. То с одной стороны летит шутка, то с другой, одна другой смачней, одна другой заковыристей. Тут и выходит на крыльцо исправник.
Стоит, роется в нагрудном кармане; а мужики, притихнув, смотрят на него выжидающе. Должно быть, что-то важное у него в кармане, раз он туда полез. Однако так ничего и не вытащил из кармана исправник. Ощупал карман изнутри, снаружи; потом оперся руками о перила и начал:
— Дорогие… братья-венгры…
— Ура!.. ура!.. — вдруг завопили мужики. Войска кричат так после одержанной трудной победы.
Исправник глядит удивленно. Приятно, конечно, что так его приветствуют; нет на свете оратора, которому бы это не понравилось. Но в то же время немного странно. Будто незаслуженную награду получил.
— Дорогие братья-венгры, — начинает он снова, и снова подымается крик, «ура» гремит сплошным водопадом. — Да послушайте меня сначала…
— Да здравствует господин главный уездный начальник!.. — выкрикивает Имре Вад, который стоит поблизости. Изо всех сил кричит, даже жилы на шее напрягаются. Остальные с воодушевлением его поддерживают.
— Что это с ними, господин секретарь? — оборачивается исправник назад. Секретарь подлетает к нему, чуть с ног не сшибает. В отчаянии разводит руками:
— Ничего не понимаю… никогда такого не было.
— Эх, — морщась, трясет головой исправник. Снова оборачивается к мужикам. Кричит что есть силы. — Слушайте меня, люди!
Да все напрасно: не слышно ни одного его слова. Двое полицейских торопливо сходят во двор, обходят толпу, останавливаются. Ждут сигнала, чтобы погнать всех со двора.
— Да скажите ж хоть вы им что-нибудь, господин секретарь!
— Изволите знать…
— Пропустите-ка… — кто-то отодвигает секретаря в сторону. Красный Гоз это. Подойдя к исправнику, говорит: — Не вовремя вы приехали, господин исправник, сегодня ведь иосифов день, выпили люди с утра. Мало кто в такой день не выпивши. Так что все сейчас навеселе, вот и орут. Вот так, — и отходит в сторону. Стоит с минуту. Потом спускается во двор, к остальным. По толпе, когда он идет сквозь нее, расходятся волны; потом снова все успокаивается.
Конечно же, сегодня иосифов день. Да ведь исправник и сам Йожеф. Йожеф Геци. И подумать же: свои собственные именины не может он отпраздновать так, как простой народ. Простой… Простой? А кто может сказать, что простое и что непростое? Стихийное, широкое проявление народной любви импонирует ему — значит, оно не простое, а замечательное, великолепное. А значит, и то, что мужики выпивши, тоже не простой смысл имеет?
Откуда ему знать, что нынче все те, у кого есть что-нибудь на совести, хотят поправить свои дела этими приветственными криками, идущими из глубин стесненной души. А за кем грехов вроде не числится никаких, кому сегодня нечего бояться, те авансом, вперед кричат, на случай, если когда-нибудь провинятся. Страх этот живет в душе мужика всегда, постоянно, иосифов день только помог ему вырваться на волю в отчаянном крике.
Множество голов внизу, во дворе сливаются перед исправником, словно деревья в лесу. И вот уж нет отдельных деревьев, есть только лес; нет отдельных мужиков, а есть мужики в целом… Однако чье-то одно ухмыляющееся лицо все ж различает исправник позади толпы. Лицо это — и вместе со всеми, и в то же время особняком, как потрепанный ветром куст боярышника на лесной опушке. Ухмылка пробует задержаться в складках лица — и тут же стекает с него, будто обдали его парным молоком. Усы начинают топорщиться, обнажаются зубы, веселье льется из глаз, и морщины словно так и норовят перепрыгнуть друг через дружку, как ребятишки после школы; весь мужик — сплошная улыбка… Но вот он кашлянул в руку, и лицо на миг погрустнело, морщины отскочили на место, словно на пружинках — снова раскрывается, расцветает лицо. Смотрит на исправника, открыто, доверчиво, словно предлагает: пиши на мне что хочешь.
Только что раздражен был исправник, трясло его… а теперь не может удержаться, чтобы не смеяться, глядя в это лицо. Да он уже и смеется против своей воли; только смех пока таится внутри, особенно в подрагивающих плечах. В плечах и в животе, который тоже начинает дрожать.
Весь человеческий лес — сплошное тихое, затаенное ожидание.
В этот миг кто-то громко чихает, выговаривая явственно: «Ап-чхи…» И толпа разражается хохотом — как тяжелое, набрякшее облако разражается в конце концов потоками дождя. Хотя и ветра-то даже вроде не было. Добрую минуту стоят они друг против друга, мужики и исправник: он на крыльце, они внизу, во дворе, — и все дружно хохочут, будто им сдельно платят за это.
7
Красный Гоз лишь в воскресенье задумался над тем, о чем никогда не думал. О своих отношениях с деревней. Раньше как-то казалось ему, что неотделим он от деревни, как рыба от воды, как воробей от стрехи. А оказывается, не так все просто.
Думает он теперь над этим потому, что, идет ли по улице, встречается ли с кем-то, все время чувствует — смотрят на него как-то по-особому, приглядываются, словно к чужаку, который должен сперва заслужить уважение.
Как был он землекопом, уважали его, почитали; порой, когда решался он на какой-нибудь отчаянный шаг, даже восхищались им; и чуть ли не все девки и молодые бабы, тайно или явно, были в него влюблены. И не только деревенские, а и кое-кто из господского сословия. Может, эти даже больше.
Конечно, любовь эта была скорее такой, какой, например, Илька, воспитательница, любит свою овчарку. Даже в постель к себе ее пускает.
У собаки той, кстати говоря, своя история. Раньше принадлежала она жениху Ильки, таможенному офицеру, с которым Илька несколько лет была обручена; а потом перевели его на новое место, и осталась ей в память о нем лишь эта собака.
Красивая Илька, высокая, черноглазая, а волосы у нее — еще чернее, и к тому же плотные, жесткие, словно проволока. Однажды, случайно, оказался Красный Гоз у нее дома, так Илька эта развлекала парня тем, что искры вычесывала из волос каучуковой гребенкой. Красный Гоз нанялся тогда огород при детском саду вскопать, ну и зашел к ней, чтобы деньги получить за работу. А Илька как раз волосы вымыла; вот и крикнула ему в окно, чтоб вошел, а то она не может на улицу выйти. В доказательство волосы распущенные показала. Так было дело.
Красный Гоз сидел против Ильки, локти поставив на стол, и они вместе считали, хохоча, сколько искр вылетело. А гребенка до того пропиталась электричеством, что притягивала к себе бумажку и удерживала ее несколько минут. Будто магнит. Халат на Ильке был с глубоким вырезом, от разгоряченной кожи теплом веяло.
Это одна девка.
Ну а вторая… Да что там: была и вторая, и третья… Однако теперь-то понимает Красный Гоз, что ни одна из них не была для него настоящей. Будто взяли, поманили его с улицы в дом — а потом уходил он туда же, на улицу. Хоть и был он, можно сказать, в деревне первым парнем, да все-таки, что ни говори, всего лишь землекопом, батраком-поденщиком, бедняком, и никто, даже Пашкуиха, не считали его парой для себя.
Понимает он, что правы они были.
Он ведь только наполовину в деревне жил, зимой. А с весны до осени каждый божий день где-нибудь в окрестностях пропадал, если не дальше.
С тех пор как пришлось уйти ему из артели, он и на поденщину больше не ходил. И не собирается. За день несколько раз наведывается к кузнецу, телегу поправляет (купил подержанную за двадцать два пенгё), или в лавку отправляется, в поле. И каждый раз по улицам приходится идти, на виду у всей деревни. Это средь бела дня, в будни.
Словно по чужой деревне он проходит, по чужим улицам, глаза прячет. Очень ему стыдно. Почему — сам толком не знает, а стыдно. Будто бездельником вдруг стал. Хотя стыдиться-то ему, в общем, нечего. По делу ходит, как и другие мужики. Так и живет теперь: ни эконом, ни инженер им не командуют, старшой за ним не смотрит. Думает он, что это и есть настоящая крестьянская жизнь, так живут все хозяева, и мелкие, и зажиточные… А все ж таки кажется ему порой, что эти настоящие мужики немножко как бы за счет тех, ненастоящих, живут. Будто те, кто вынужден заработок искать на стороне, спину гнут не только для помещика или для какой-нибудь компании, но и для самостоятельных хозяев… Сам он теперь тоже хозяином стать вознамерился — а сердце все тянет его к тем, кого оставил…
Но ведь те отреклись от него, отказались. Позволили, чтоб выгнали его из артели, как приблудную собаку…
Раньше, бывало, полгода пройдет, пока вспомнит кто-нибудь, что он живет на свете, и вызовет в правление. А теперь то и дело бежит к нему за чем-нибудь рассыльный. То секретарь вызывает: хороший издольщик ему нужен, не возьмется ли Красный Гоз секретарское поле обработать? То староста за ним посылает, поговорить хочет. С трудом привыкает Красный Гоз ко всему этому. С каким-то непонятным стеснением заходит даже в лавку господина Берната, которого в прошлом году, зимой, отхлестал по щекам. Чего ему, казалось бы, стесняться? Или у него деньги не такие, как у других? Или думает, что господин Бернат набросится сейчас на него, как ястреб на цыпленка? Чтобы за оплеухи отплатить.
Однако ничего особенного не происходит. Господин Бернат сдачу дает, смотрит, улыбается. Кулаками не размахивает.
Среди людей Красный Гоз чувствует себя, словно голый. Даже зябко ему немножко. А ведь он ходит по земле с открытыми глазами и знает: все это потому, что уже нет у него за спиной артели. Артели, вечной, как сама деревня, хоть и все время меняются в ней люди. Раньше, с кем бы ни имел он дело, всегда чувствовал поддержку, силу артели. Теперь кончено. Корабль, на котором он плыл, пошел ко дну, а его выбросили на берег волны…
Правда, Тарцали, кореш его, тоже ушел из артели; да и это кажется уже не таким важным, как прежде. И дружба сейчас не та, что раньше. Не та обстановка, не те нравы.
Прежде воскресными утрами дел у него было столько, что не знал он, с чего и начать. А теперь все наоборот. Побриться он еще вчера побрился, времени было вдоволь; и дрова наколоты… Словом, все сделано, что в воскресенье полагалось сделать. Теперь ходит он за Марикой туда-сюда, места себе не может найти. Марика цыпленка ощипывает возле колодца (еще штуки три осталось с осени) — он рядом стоит. Марика в сени уносит таз, он околачивается немного во дворе, потом тоже в хату идет. Марика выбегает из сеней воду выплеснуть, в которой цыпленка мыла, и чуть не натыкается на Йошку.
— Он… — произносят они одновременно и смеются, глядя друг на друга. Однако смех этот — как утреннее солнце: светить светит, а не греет… Йошка в сенях топчется, однако и тут он мешает: мать устроилась в сенях двойняшек купать. А те ни за что купаться не желают. Особенно Эржебет недовольна, орет что есть мочи. А как бы она орала, если б вода и в самом деле была холодной!..
Определенно нынче он здесь не у дел, вот ведь беда.
— Дайте мне какую-нибудь работу, — требует он наконец.
Марика смотрит на мужа с беспокойством и жалостью: чувствует, что тяжко ему. Так хотелось бы поддержать его, утешить. Взамен одной потерянной жизни придумать другую. Как-нибудь, чем-нибудь заменить неверных друзей-приятелей… Последние дни уж так ласкова она с ним, как никогда; да и это не выход. Оттает Йошка на минуту, а потом думы опять стягивают его лоб в жесткие складки. Марике присесть, передохнуть некогда — так заполнен ее день детьми, двором, кухней; когда ж остается немного времени, все его отдает она мужу… Мало это, ох, как мало. Взяла бы она его за руку, повела куда-нибудь… да не знает куда. Люди отреклись от него — а все же к людям надо ему идти. Но куда, к кому?.. Перебирает Марика мысленно всю деревню. Скажем, соседи… Нет, с ними делать нечего. Они своей жизнью живут, сами по себе, одни так, другие этак. Не сварить с ними каши Йошке… На Главной улице стоят высокие заборы зажиточных хозяев; никто не знает, что там, за этими заборами. У самых богатых ярко раскрашенная решетка лезет в глаза прохожим, солнце и ветер свободно гуляют меж чугунными ее завитками. Однако сквозная эта решетка прочней и надежней отделяет дворы от улицы, чем глухой дощатый забор… Сколько домов, столько разных людей; лишь в артели были они одинаковы и спаяны… Куда же все-таки деться Йошке? Перед глазами проходит деревня, дом за домом, будто шагает Марика вдоль улицы; вот она возле правления. Рядом аптека, дом священника, школа; в церковном дворе набухают почки на сирени…
Сирень с церковного двора свисает на улицу; подальше — каштаны тянут ветви к небу. Под деревьями лилии, фиалки развертывают листья. Жена священника очень цветы любит, летом всегда раздает бабам гвоздики, тюльпаны, ноготки…
— Знаешь, что, Йошка, — вдруг радостно говорит Марика, — сходи-ка в церковь…
— Я? В церковь? — удивляется Йошка. Выглядит он так, будто поручили ему что-то, а он не выполнил поручение и теперь старается не думать об этом.
— Ну да. Там ведь тоже люди. А потом… не можем же мы совсем сами по себе…
Задумчиво смотрит Йошка на Марику, и вспоминается ему детство. Когда он школьником еще был и каждое воскресенье надо было петь в церкви. Сидели они наверху, на хорах, один номера псалмов вывешивал; и все вместе вопили, как мартовские коты. Потому что ректор их слишком уж высоко начинал всегда. Длинный, худой человек был ректор, лицо у него краснело от усилия; школьники и прихожане все время отставали от него, не могли вытянуть. Ректор вертел головой то туда, то сюда: мол, пойте же, подтягивайте… да все напрасно. И еще успевал терзать орган без всякой жалости. Они, ребятишки, пытались вступить то тут, то там, да недолго выдерживали. Так что ректор один дотягивал кое-как до конца. Стоял потом вспотевший, лоб вытирал ладонью.
Вытаскивал большой, красный, как флаг у социалистов, платок и устало сморкался в него.
…А однажды как-то — на пасху это было, во время причастия, — прихожане по очереди шествовали к алтарю. Сначала старейшины, потом пожилые мужики, молодежь, бабы, девки — как положено. И каждый раз новый псалом надо было петь — для старейшин один, для пожилых другой, для молодых — третий. Особый псалом предназначался для баб, особый для девок.
Невероятно много приходилось петь в таких случаях, даже у ректора не хватало сил начинать, и вытягивать, и опять начинать. Так что школьники повзрослев начинали во очереди: трое-четверо ребятишек с хорошими голосами. Все заранее обсуждено было с ректором, еще в школе. Псалом для стариков запевал Макра, для мужиков — Тарцали. Красный Гоз четвертым был, ему выпало начинать для старух. Ну ладно, двигаются старушки, приближаются к священнику, ректор делает Гозу знак, тот зажмуривает глаза и заводит:
В чистоте душевной, В невинности нетленной Руки я свои омою, Девственной душою Господа восславлю, К алтарю я припаду…Положение было скандальное. Ведь псалом этот для девок предназначен, а не для старух! Да делать нечего, пришлось петь до конца. Ректор сердито жал на клавиши, орган ревел перепуганно, люди оборачивались, смотрели на хоры, головами качали. Даже священник прервал на минуту обряд и наверх посмотрел. Однако затем продолжал раздавать причастие, как ни в чем не бывало.
Все это вспоминает сейчас Красный Гоз. Видится ему переполненная церковь, пестрая толпа девок, ощущается чистый запах мыльной воды; и еще голод он чувствует: в те времена столько приходилось петь, что под конец животики сводило от голода. Дома потом съедал Красный Гоз свой томатный суп, так что за ушами трещало… Кончив школу, перестал он ходить в церковь. Не до того было. А если и забредал иногда, то сидел там равнодушно, как путник в теплой шубе, которому не страшно, даже если очень холодно будет в дороге…
— Пойти, что ли, в церковь, в самом деле, — говорит он и смотрит на Марику, будто ждет, не придумает ли она что-нибудь получше.
— Вот и славно… — тихо говорит Марика, ополаскивая руки. — Принесите, матушка, сапоги…
— Тихо у меня! — кричит свекровь двойняшкам на всякий случай и спешит в горницу.
Мать сапоги тащит, жена — чистую одежду; вода льется в таз, мыло появляется, полотенце. Двойняшки, разинув рты, глядят на отца. Они еще не могут принять участие в общей суете. Удивляются только, почему это мать на прощание хлопает отца по спине…
— Йошка! Постой! — кричит через минуту Марика, выбегая за ним. Платком машет. Йошка останавливается у калитки. Марика подбегает запыхавшись и сует ему платок во внутренний карман.
Смотрят вместе со свекровью вслед ему, пока не сворачивает Красный Гоз на Главную улицу.
В это время уже в два колокола звонят в церкви. Солнечный свет, смешавшись с колокольным перезвоном, течет по деревне, как родниковая вода, и на глазах словно чище становятся хаты, дворы, ограды. Воздух пахнет уксусом и тертый хреном; и еще какой-то приятный запах расплывается по улице; две девки торопливо идут впереди, взявшись под руки. А на другой стороне улицы шагают бабы, в черных платьях с еще более черными передниками: спешат, и так уж опоздали к началу. Черные платья, черные платки, черные передники — будто вороны или скворцы. В руках носовой платок сжимают и псалтырь. Красный Гоз их обгоняет: он еще больше спешит; в нос бьет запах табачного листа, которым бабы платья перекладывают от моли; в животе у него бурчит, как в детстве. А ведь он еще и не пел нынче… Как-то по-новому, необычайно четко видит сегодня Красный Гоз все вокруг и все понимает, все знает. Однако не то чтобы он специально думал об этом… вот, мол, иду туда-то и туда-то, а трижды семь будет двадцать один… Нет, понимание это словно пропитывает, наполняет его целиком… Как неосознанное, но ясное ощущение. Ведь ощущает же человек свои руки, ноги, свое сердце, видит трубу на соседнем дворе, совсем не думая об этом…
В церковных воротах встречаются ему двое: он с одной стороны подошел, они — с другой. Имре Вад это, который в прошлом году, в корчме, угостил Кароя Болдога бутылкой по голове, и Тарцали.
Останавливаются на минуту поздороваться.
— Эй… мы с тобой будто сговорились, кореш… — говорит Тарцали, трясет Гозу руку и вроде даже подмигивает.
— Сговорились… — смеется Красный Гоз смущенно.
— Привет, — говорит Имре Вад тихо, с набожным видом; однако и он словно бы тайну какую-то знает, да про себя ее держит, потому что говорить о ней нет смысла.
Чтобы кому-нибудь вперед не вылезть или позади не остаться, идут по дорожке к паперти все трое рядом.
Благовест к концу подходит, судя по всему. Еще раздается несколько частых ударов, потом сбивается перезвон, путается. Еще бы, нелегко малому колоколу выдержать темп с большим: тот — восемь центнеров, а этот — всего два.
Вместе всходят они по ступеням паперти, а в дверях отстает Красный Гоз. «Идите, — говорит, — вперед, я тут не очень разбираюсь, куда идти». Имре Вад оглядывается на него, потом берется за ручку, открывает дверь.
Удивительная это вещь — церковная дверь. Откроешь ее — и видишь множество народу, и все залито сплошным благолепием… Это потому, что каждый, кто сюда входит, благолепным становится. И кроме того, все до того одинаковы — прямо как камыш на лугу или как ласточки на крыше. Никто не шевельнется; никто не смеется и не печалится — все смотрят перед собой, в псалтырь. Только что кончилось пение, и колокольный звон только что оборвался; сейчас должен войти священник. Однако нельзя просто сидеть молча, дожидаясь его.
Тишина. Но тишина эта — преходящая, краткая, потому что псалмы уже ждут своей очереди где-то вверху, под куполом, и паства, все как один, смотрит вверх.
— Псалом восьмидесятый! — громко раздается голос старого Чера, который теперь начинает пение. Он отодвигает от глаз псалтырь, очки его бросают яркий блик в сторону хоров, где школьник торопливо переворачивает доску.
Дружно шелестят листы, словно перелистывается одна большая книга, а не множество псалтырей; еще скворец копошится вот так в стеблях сухого плюща. Имре Вад идет по проходу, сворачивает к скамье, что позади ремесленников. Тарцали с Красным Гозом идут за ним. Все трое склоняют головы и начинают бормотать себе в шляпу: кто молитву, кто так; потом, оглядевшись, усаживаются.
Старый Чер откашливается, глотает слюну и начинает:
Пастырь Израиля! Внемли: Водящий, как овец, Иосифа, Восседающий на Херувимах, Яви себя.Тянет, закручивает мелодию старый Чер; голос у него хороший, и псалом льется, как ожидание чего-то значительного… Ожидание заставляет последние ноты звучать приглушенно — словно шуршит какой-то шлейф, отливающий шелковистым светом…
Сейчас, в марте, все еще чувствуется в церкви задержавшийся с зимы холод; зябко тянет из-под скамей, из приделов — оттуда особенно. Однако даже поблекшие лица стариков раскраснелись, ожили. Непонятное, идущее изнутри тепло греет людей.
Входит в церковь священник, в руке у него Библия. Идет он медленно, окидывая взглядом паству. Останавливается его взгляд на Красном Гозе. Тому кажется, что священник думает сейчас: мол, каждый достигает где-то своего предела и, достигнув, успокаивается, смиряется. Дрогнул глаз священника: непонятно, то ли подмигнул он, то ли просто слюну глотнул или мятный леденец от кашля.
Кончился псалом, выбранный старым Чером; ректор еще выводит на органе последние замысловатые рулады, потом начинает свой псалом. Паства отпела, что ей полагалось. Однако и вступление к новому псалму долго выводит, закручивает ректор на органе. Играет с ним, как кошка с мышью. Хрипит, клокочет орган; воздух вольно разгуливает по трубам. Наконец, звучат слова псалма:
Буду превозносить Тебя, Боже мой, И благословлять имя Твое во веки и веки…Гудит орган, сплетаясь с людским многоголосьем; высокий женский голос прорезает пение, плывет сверху, то взвиваясь, то опадая. Что-то сжимает грудь Красному Гозу, а что — непонятно; да он и не думает об этом, стыдится думать. Смотрит на сидящих напротив старейшин, на девчонок, баб за ними.
Дружно, разом открываются, закрываются рты, и молодые, яркие, и старческие, бледные, будто дикие маки на поле вперемежку с васильками, когда пронесется над ними ветер.
Видит Красный Гоз: вот мужики, там дети, девки, бабы — а другие различия словно напрочь исчезли между людьми. Старше, моложе, богаче, беднее — такого здесь как будто не существует. Кругом лишь паства, людское сообщество, большое и дружное. Неодолимое, как войско на высокой крепостной стене. Кажется Красному Гозу: поднимись сейчас эти люди — весь мир бы прошли насквозь. Горы рассыпались бы перед ними, ветры, бури повернули бы назад, откуда прилетели, пропасти сомкнулись бы, кладбища надолго заросли б травой. И деревья перестали бы сбрасывать листву с приходам зимы…
Дикая сила древних племен, раздел земель под пастбища для табунов, намер пашен на длину полета стрелы, вымачивание конопли и льна, объездка коней — все, все в этом пении. И Красный Гоз ощущает вдруг горячую потребность влиться в этот хор, парить, плыть в нем, как в какой-то волшебной реке, текущей вверх по склону.
Уста мои изрекут хвалу Господню. И да благословляет всякая плоть Святое имя Его Во веки и веки.Закрываются рты, псалом отлетает, замирает под куполом, и Красный Гоз чувствует в сердце какую-то жаркую волну. Смотрит вокруг себя; смотрит дальше, сквозь людей, сквозь стены, сквозь церковный сад — туда, где он всего несколько дней назад начинал с артелью строить дамбу. Не может быть, чтобы люди не поняли в конце концов друг друга. Обязательно поймут чужие землекопы, в чем, собственно говоря, дело; и свои позовут его обратно в артель…
Священник уже стоит на кафедре.
Молитву творит; и паства теперь становится какой-то серой и незаметной, как в засуху пыль под подсолнухами. Снова звучит псалом; паства тоже поет, однако поет боязливо, не в полную силу, будто отодвинутая какой-то большой ладонью: хорошо, мол, хорошо, да только совсем не требуется так уж совать нос в небесные сферы… Вот стихает и этот псалом. Кто покашливает, кто удобнее устраивается на скамье; все в ожидании смотрят на священника, будто смирившись с тем, что будет.
— Возлюбленные братья во Христе, — говорит священник, — я прочту вам сегодня следующее место из Священного писания:
О, кто даст главе моей воду, а очам моим — источник слезы! Я плакал бы день и ночь о прокаженных дщери народа моего!
О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и удалился бы от него, ибо весь он — сборище прелюбодеев и скопище вероломных.
Как тетиву, напрягают они язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо впадают из одного греха в другой, и Меня не признают, сказал Господь!
И каждый да устрашится своего друга и не поверит ни единому из своих братьев, ибо всякий брат, обманув, обманут будет, и всякий друг разносит клеветы…
Я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать со дщерью народа моего?..
Тишина. Потом растерянная суета поднимается в церкви; все оглядываются назад: одной молодой бабе плохо стало; ее уводят под руки.
Паства, которая во время пения псалмов казалась слитой в единую жаркую массу, как расплавленный чугун в доменной печи, — теперь на глазах распадается на богатых и бедных, на Сито и Эсени, на стариков и молодых. Совсем мало осталось от прежнего единодушия, как если бы случилось кому-то вчера сытно пообедать, а сегодня лишь отрыжка его мучает, напоминая о вкусе блюд…
Красный Гоз с мучительным недоумением глядит на священника. Зачем понадобилось ему читать Библию? И если уж вздумал читать, то почему именно это место? От древних пророчеств этих холодом веет на нынешнего человека; ядовитыми змеями готовы они броситься на него… Не пугать, не жалить надо людей, а любить их, поддерживать, помогать им. Губы, сердца их смягчить, понудить к ласковому слову. А от старых пророчеств стынет душа, покрывается инеем; сами же они, прозвучав, растворяются в воздухе и остаются в церкви навсегда, безвозвратно. Где-то, то ли вверху, в куполе, то ли внизу, под настилом, скапливаются столетиями, от воскресенья к воскресенью, эти непоправимо одряхлевшие, пережившие свое время слова. Столько слов, столько предсказаний, верных или неверных, прозвучало здесь, что если бы стали они водой, то затопили б и деревню, и окрестности и к другим деревням подобралась бы. Так зачем же они, какой смысл, какая в них польза? Ведь люда глухи к этим заклинаниям; так камни глухи к свисту ветра над ними…
— «…ибо как иначе мне поступать со дщерью народа моего?..» — пробует Красный Гоз ухватиться за последние слова, как путник хватается за борт телеги, когда возница кинет ему на ходу: мол, влезай, что ли… Девки сидят слева от прохода, тесной кучкой, пестрея платьями и платками. Одни из них только-только школу кончили, другие уже на выданье; одни — красивые, другие — не слишком; однако нет среди них такой красавицы, чтоб не нашлось девки красивее; да ведь и самой безобразной девки еще не рождалось на свете… Сидят девки на своей скамье — чтобы через год, через два перебраться постепенно на противоположную сторону, где сидят замужние бабы. А оттуда — под хоры, на места для старух. Пока совершается этот путь, бабы опять народят девчонок; так из старого улья появляется молодой рой, цветы рассыпают семена, дерево тянет в стороны корни, наращивает ствол… Вечное странствие по вечному пути.
Наверное, что-то думал Красный Гоз о церкви и прежде, еще в те времена, когда обходил ее стороной… Скажем, лежит у тебя в кармане клубок, лежит и ждет момента, чтобы выпасть и покатиться.
И теперь вот катится, разматывается клубок, хочет того Красный Гоз или не хочет.
Священник проповедь начал — да не доходит она до Красного Гоза. Боится он, что вслушается — и окончательно растает чувство, оставленное в нем пением псалмов, и окажется: напрасно пришел он в церковь, нечего ему унести отсюда.
«Жизнь обманчива, как весеннее солнце…» — колет его, болезненно и обжигающе, прорвавшийся вдруг в сознание обрывок проповеди. Очнувшись от своих мыслей, поднимает он глаза на священника. Однако опять слышит лишь гул слов, не понимая их значения. А от той неожиданной фразы глухо саднит в груди.
Потому что за стенами церкви, на воле, носится шальной мартовский ветер, солнечный свет льется белым водопадом, зеленеет трава густым шелковистым ковром, красновато отсвечивают стебли озимых посевов. Мираж вывешивает над степью гирлянды жемчужных венцов, ячмень тянет упрямые корни, по краям канав лезут побеги крапивы; под ветром прыгают взъерошенные воробьи; звенят жаворонки в прозрачной выси; трещат на акации сороки… Всюду буйно и бурно стремится к свету, к солнцу жизнь, и непонятно: почему ж все это — обманчиво?.. Теперь он ни о чем уже не думает, лишь смакует во рту вкус пропетых псалмов и хочет — слышит, хочет — не слышит, как гулко падают слова священника, будто кто-то стучит по сухому, дуплистому дереву.
Потом опять звучат псалмы, гудит орган; строки писания колышутся на волнах музыки, будто какие-то осязаемые предметы. Будто музыка — это река, а псалом — лодка на ней.
Вместе с псалмом вытекает из церкви народ; так ручей вырывается из-под скалы, разбегаясь на множество струй. Где-то нашел себе щель, вырвался на свет божий подземный поток… распахнулась церковная дверь.
Сразу легче становится на душе у Красного Гоза, а в то же время чувствует он: чего-то все же не хватает, чтобы стало ему совсем хорошо. Ведь он, собственно говоря, для того пришел в церковь, чтобы ощутить себя частью деревни, чтоб показать: не хочет он быть лучше других, но и хуже не хочет быть… Его желание — быть таким, как все, как многие… Делать то же, что все, как все, со всеми вместе жить, работать… Собственно, что-то в этом роде проповедовал в свое время товарищ Андял.
Надеялся Красный Гоз — втайне, конечно, — что в церкви он что-то получит, найдет для себя… А теперь понимает: это он должен был с чем-то прийти сюда. Давать, а не ждать от других — только так может он стать нужным, своим для людей.
Но что же есть у него? Способен ли он вообще дать что-нибудь другим?..
— Видал? — шепчет Тарцали, когда сходят они вместе по ступеням.
— Что?
— Ференца Вирага не было на месте. И вообще в церкви.
— А… Я и не смотрел туда.
— Не было, точно не было. Видно, в самом деле снял его исправник.
— Возможно. Стало быть, правда, что подмазал его помещик, когда с участками решалось дело?
— Конечно, правда. Да это еще ничего не значит. Уж Вираг-то вывернется как-нибудь. Разве что старостой ему не быть… Ты что на это скажешь?
— Вывернется, это точно… — И Красный Гоз думает теперь о том, что, пожалуй, не господа прижимают мужиков, а сами же мужики. Те, конечно, которые умеют вскарабкаться другим на шею. А если удастся теплое место еще заполучить, тут уж они не упустят случая, чтобы чего-нибудь не урвать себе. Для них общее достояние — как бесхозное добро: сколько ухватил, все твое… Проворуется один староста — за ним другой приходит, нисколько не лучше. Все похожи друг на друга, как родные братья… И есть, наверное, какая-то связь между церковью и правлением… Есть — но какая? Хорошо бы и на это найти ответ; может, кореша спросить?..
Да так и не спрашивает он кореша ни о чем; наверное, потому, что уже идут они по улице.
Девки далеко вперед ушли; черные фигуры баб маячат у калиток, исчезают во дворах. Только мужики еще стоят кучкой перед церковью.
— Обедать, кум? Приятного вам аппетита, — говорят друг другу, руки трясут и расходятся восвояси. Таким же манером и старый Чер прощается с соседом своим, Шойомом, хоть они и в ссоре давно. С тех пор как Шойом по ошибке Черихе угодил в спину комом земли. Да в церкви забывать полагается о ссорах. Ссориться дома можно; дома они и не взглянут друг на друга через изгородь.
— Что после обеда делаешь, кореш? — спрашивает Тарцали.
— Не знаю пока.
— Может, мы зайдем к вам с Пирошкой.
— Заходите, дома будем.
Пожимают руки. Один в одну сторону идет, другой — в другую.
Пустеет улица; ни души не видно вокруг. Время — около одиннадцати. По крайней мере так показывают часы на колокольне. Да ведь часы эти ходят, как хочет Шандор Пап, санитарный инспектор и похоронный агент. Поскольку все еще он часами ведает…
8
Едва разошелся народ по домам после службы, как снова начала оживать улица. Многим еще надо куда-то успеть до обеда; до сих пор ждали они, не хотели встречаться с теми, кто в церкви был. Одно дело — не ходить в церковь, а другое — чтобы всем это в глаза бросалось.
И вообще дурной приметой считается, если встретишь, во-первых, свадебную процессию, во-вторых, похороны, в-третьих, идущих из церкви…
Ференц Вираг выходит из правления, где с самого утра с глазу на глаз переговоры вел с секретарем. Озирается вокруг; руки то в карманы сунет, то вынет. Непривычно ему без жезла.
Черт бы их всех побрал!
Это его-то захотели в угол загнать? Ну что ж, пусть попробуют, пусть потешатся. Эх, этот Ямбор… кто б мог подумать, что таким заклятым врагом он ему окажется! А все из-за чего? Все из-за той шутки с соломой. Что ж это будет на свете, если люди из-за каждого пустяка начнут в бутылку лезть!.. Уж и пошутить, выходит, нельзя?.. Те две анонимки наверняка Ямбор послал, хоть и разной рукой они писаны. Конечно, писать каждый может, было б кому читать. Он вот тоже столько мог бы понаписать, за неделю не перечитаешь… Настропалился в свое время на выборах. Хорошее было время… Не хватает, скажем, рекомендаций у кандидата? Ерунда! Они с Фуксом за ночь напишут даже больше, чем нужно. Только не одним пером, конечно, и не одним почерком. Это легче легкого. Если нормально держишь перо, так и то можно ухитриться непохоже писать; ну а если под другой палец взять, совсем изменится почерк. Можно еще и другие два пальца использовать… а у человека на руке — пять пальцев. Это все равно, что пять разных почерков. Да еще — левая рука, на ней тоже пять пальцев… Десять почерков всего выходит.
Только вот за буквой «s» надо следить. И за «t». Потому что эксперты по ним скорее всего могут установить, кто писал… Правда, эксперты эти тоже ни черта не понимают. Мастера пыль пускать в глаза…
Обо всем думает Ференц Вираг; только не о том, что конец наступил его власти. Пронюхал-таки исправник про его дела. А ведь он даже наедине с собой старался про них не вспоминать. Успокаивал себя: мол, начнется строительство, и за суетой забудут мужики свои подозрения, опять выйдет он сухим из воды… А деньги, что от помещика получены… насчет них он даже сам себе лгал до сих пор: мол, ничего нет и не было… а что было, то он за бычка получил, которого откармливал и потом уступил помещику. Вообще-то за бычка получил он особо, что уж там… эх, черт побери!..
Счастье еще, что эконом ни в чем не признался. Все отрицал. Молодчина.
Да, только с господами, видно, и можно иметь дело…
Это вот — один Вираг.
А другой Вираг — тот, который на самом деле был хорошим старостой, и остался бы им еще бог знает сколько, если б не этот чертов пруд. Ведь это факт, что всегда он бедняков защищал (они его и выбрали в свое время). Хоть и не получили они участки на хороших землях, возле деревни, так зато в другом месте получили больше и по дешевой цене. Можно сказать, бесплатно. Если б не он, пришлось бы еще и платить втридорога. Вот оно как.
Есть еще и третий Вираг. Вираг, который знает, как стать хорошим старостой и для богатых, и для бедных; однако знает и то, как трудно стать таким. Полностью надо себя переделать для этого. Заново родиться, жизнь начать заново… Да только в этом случае навсегда остался бы он бедняком, а бедняку и думать нечего в старосты попасть…
Идет Вираг по улице, не спешит. Будто боится домой идти. Да пожалуй, и в самом деле боится: что ему дома делать целый день? И если б только сегодня — а завтра, послезавтра… Правда, зять еще с ним живет, в летней хате, да ведь зять — чужой человек. И дочь хоть и родная, а давно уже от отца оторвалась, так что, можно сказать, нет ее. Вот и выходит, что совсем он одинок. Дом у него пустой, неприветливый; и холоднее в нем, чем на улице… На улицу тоже не выйдешь посидеть: перед людьми стыдно. Будут мужики ходить мимо, думать злорадно: вон он, мол, бывший староста, что по шапке получил… И опять же — холодно еще сидеть-то на улице… И как всегда, поступает Ференц Вираг так, как считает нужным (потому и удавалось ему все до самого последнего времени): поворачивает к дому Шары Кери. Осторожно идет, чуть не на цыпочках.
Шара Кери обед как раз готовит, оладьи печет; увидев его в дверях, переворачивает оладьи и говорит:
— Ну красавец! Расправились-таки с вами.
— То есть как это? — делает Вираг непонимающее лицо. Будто не знает, о чем это она.
— Как? А так, что снял вас исправник.
— А, это… Ну, это ничего. Пусть. Если я деревне не подошел, посмотрим, кто подойдет… Да я бы и сам ушел. С меня хватит, — и ближе подходит. Становится возле плиты.
— Да неужто сами бы ушли?
— Ушел бы… А хорошо у вас тут пахнет.
— Это только запах — а вкус-то какой!.. Хотите, испеку одну для вас?
— Оно хорошо бы…
— С чем вам, с творогом?
— Можно и с творогом. Да только… не надо, пожалуй, одну для меня печь. Все равно ведь я у вас сегодня обедаю.
— Как это — у меня?
— А вот так. У вас — и все тут.
— Ого, какой смелый! Я ведь вас, кажется, не приглашала еще.
— Да чего там… Я ведь уже не староста, так что… — и вдруг набрасывается на нее, как ястреб на цыпленка.
— Эй, отпустите… Слышите? Отпустите сейчас же…
— Не отпущу… хоть сгори все вокруг… — и целует ее без памяти.
Губы у Шары Кери — в масле, в масле и щека одна… и запах от нее такой — будто новую плиту обжигают… Да что поделаешь: это-то и сводит Вирага с ума… Повитуха-женщина плотная, в теле, как говорится. Однако Вираг подхватывает ее на руки легко, как ребенка; ногой распахивает дверь в горницу. Шара Кери обвисает на нем, словно неплотно завязанный пшеничный сноп, шепчет испуганно:
— Господи, что с вами? Возьмите себя в руки…
Однако и сопротивляться уже не сопротивляется…
Трещит огонь в печи, масло шипит на сковороде; оладья вспухает, потом опадает. Снова вспухает, и снова опадает; края ее начинают дымиться. Дым клубится над плитой, за несколько минут наполняет кухню, становится все плотнее, гуще, наконец, найдя щель в двери, вытекает на крыльцо. Уж и там мало ему места; дым карабкается на стреху, стелется по крыше, переливается через конек на другой скат.
Дым ползет и по веранде до угла хаты; там ветер подхватывает его и несет во двор, будто серое одеяло. Вместе с дымом во двор, на улицу плывет такой запах, что собаки даже в дальних дворах поднимают головы, принюхиваясь.
— Гляди-ка, у повитухи-то пожар… — смотрит через изгородь внучка старого Шойома, Эстер; сердце у нее колотится от страха. И вместе с тем от радости. Еще бы: наконец случилось что-то у соседей.
Илонка Киш, жена Шандора Макры, идет мимо. Вытянув шею, пытается заглянуть в повитухин двор, потом наклоняется рядом с Эстер к дырке в заборе; сучок здесь выпал из доски.
— Что там, Эсти, что случилось?
— Пожар! Может, в набат надо бить?..
Илонка Киш решительно открывает ворота, вбегает на крыльцо, в кухню. Дым щиплет глаза, едкий запах стесняет дыхание; осматривается Илонка торопливо, хватает сковороду с плиты. Выносит ее на крыльцо и швыряет в траву. Снова бежит в кухню, к молчаливой двери в горницу, без раздумий распахивает ее. И тут же закрывает снова. Щеки у нее горят; она хватает за руку прибежавшую за ней Эсти. «Пошли, пошли, здесь все в порядке», — и тащит ее на улицу. А сама хохочет беззвучно. Эстер то назад оглядывается, то смотрит в смеющееся лицо Илонки. Не понимает, чего тут смеяться, если в доме пожар. «Что, разве нет пожара?» — спрашивает она разочарованно.
У Илонки уже на кончике языка вертится: мол, как так нет пожара… очень даже есть; да вовремя вспоминает она, что Эсти девчонка еще, рано ей такие вещи знать…
Часы на колокольне бьют половину двенадцатого; народ к обеду готовится, кое-где уж и на стол накрывают. А в иных домах только лапшу в суп кладут. На кровати разложена праздничная одежда. Проветривается. Чтобы моль не завелась. Мужики, побритые, причесанные, глядя в тарелку, хлебают суп; детишки ссорятся из-за места, или из-за стула, или из-за ложки: у другого ведь, известно, и стул лучше, и тарелка, и ложка… Где подзатыльник сорвется с отцовской руки, а где просто прикрикнут, — да это больше для важности. Ведь что за воскресенье без шума, без суеты! Иные хозяева недавно лишь свинью закололи, варят суп из хребтины. Конечно, тоже с лапшой. У кого хребтина кончилась, тот курицу зарезал: все равно не несется! Кое-где остались еще осенние цыплята — тоже хорошо для воскресного обеда. А кто у мясника говядины купил — павшую корову разделал мясник; надо кому-то и это мясо есть. Зато дешево!
Но суп есть в каждом доме. Какой-никакой, а суп.
К мясному блюду приготовлена подливка или гарнир; из помидоров, из крыжовника, а то еще из вишни, из огурцов, из лука, из хрена; на сладкое — хворост, или пирожок, или просто какая-нибудь лепешка из сдобного теста.
Все, что на столе, — от бога. Значит, все надо съесть.
Марика бульон с яйцом приготовила на обед, а на второе — паприкаш из цыпленка. Сладкое с вечера осталось; такой вот у них обед. Когда Йошка возвращается домой, еще не накрыто, конечно, на стол.
— Проголодался? — спрашивает у него Марика.
— Еще как. Вот не думал, что в церкви можно так проголодаться…
Марика гладит его по щеке, немножко еще и похлопывает, потом отворачивается к плите, крышкой гремит на кастрюле.
Йошка идет в горницу, и, как только переступает порог, откуда-то возникает в нем мелодия псалма… Чуть-чуть не запел он вслух — лишь в последний момент успевает перестроиться на какую-то песню.
— Эй, сынок, не годится петь, когда из церкви идешь, — ворчит мать. Вилки она чистила в сенях и теперь входит вслед за сыном в горницу.
— Полно, мама. Раз хочется, значит, надо петь… — и поет себе дальше. Голос у него сильный, красивый; раньше частенько звенел от него двор. Да в последнее время что-то не пелось ему после того случая на земляных работах.
Снимает Йошка черный пиджак, передник повязывает: двойняшки во время еды всегда у него на коленях пасутся.
Мать тарелки ставит на стол, Марика дует на половник, суп пробует; а Йошкин голос уже во дворе слышится, где-то возле хлева.
В этом доме, по всему видать, обед пройдет, как надо.
В одном доме — так, в другом — иначе. У соседей, у Сокальи, тоже шумно, да совсем по-другому. Старик со старухой здесь ругаются. И во двор летит вдруг полное блюдо голубцов.
Что поделаешь! Не может же у всех быть все хорошо…
У Жирных Тотов тоже накрыт стол. В этом доме едят на скатерти, с салфетками. С тех пор как Пашкуиха пришла сюда невесткой, многое тут изменилось.
Однако напрасно поставлены на стол по две тарелки одна на другую, рядом с тарелками ножи, вилки, ложки разложены по всем правилам: простывает обед. И молодые и старые ходят кто где, а за стол никого не тянет. Все потому, что в угловой горнице, на диване лежит Ребека и тихо стонет…
Лежит она на боку, в светлом тафтовом платье, рисунок на котором похож на рассыпанные крошки белого хлеба. Лицо у нее бледное, темные круги обозначились под глазами; вообще-то выглядит она хорошо, вот только платье это, не для сорокалетней оно бабы. Ну да ладно: недаром ведь говорят, бабе столько лет, сколько она сама себе дает. И где это сказано, что пожилые бабы должны обязательно в черном ходить? Нигде такого не сказано. Один раз живем, а там что будет, то и будет. Вот только теперь бы пронесло, господи…
Не потому она стонет, что больно ей, а потому, что страшно, ох, как страшно. Вертится в голове: семь месяцев… девять месяцев… Как бы из семи сделать девять или вообще бы месяцы не считать?
— Сходите за повитухой кто-нибудь, чего болтаетесь попусту? — прикрикивает на домашних старый Тот.
Геза, тот даже не глядит в их сторону; ему до всего этого — никакого дела, сидит на лавке, молча возится с ружейным прикладом. Зато Ферко хватает шапку и — бегом. Прямо к Шаре Кери.
К этому времени, конечно, дыма и в помине не осталось. Шара Кери и Ференц Вираг сидят за столом, друг против друга, едят оладьи.
— Хороши же мы… Наверняка увидела нас та баба, — говорит Шара Кери.
— Ну и что? Пусть и ей будет какая-то радость.
— Разговоры ведь пойдут, господи…
— Пусть себе. Все равно скоро поженимся; только вот оформим, чтобы без объявления, — и все… Ишь, вздумали посмешище из меня делать. Не угодил я им… Ну, я еще покажу!
Кому он покажет и что — не успел сказать Ференц Вираг: шаги раздаются в кухне. Шара Кери вскакивает, выходит быстро. Чтобы опять не увидели их вместе.
— Здравствуйте. Пойдемте, пожалуйста, скорее.
— С женой что?
— С ней. Я думаю, это самое…
— Ступайте, я за вами следом, — и уходит обратно в горницу.
У Вирага темнеет в глазах. Это что же, так и станут ее каждую минуту таскать куда-то? Ну нет, он этого не допустит!
— Я такого не желаю терпеть, — говорит.
— Что терпеть?
— А то… что любой может вас схватить и потащить, когда захочет, а еще чтоб вы там во всякой грязи копались.
— Ну что ты, милый. Это ведь моя профессия!
— Профессия? Зачем жене профессия? Профессия у меня есть. Хорошая профессия, крестьянская. Нет на свете ее лучше. Если я не стал хорошим старостой, так и вам не быть хорошей повитухой. Проживем без этого. А сына вашего выучим. Ишь, со мной они вздумали в дурака играть! Ну ничего, попомнят они это… Господи, знаете о чем я этой ночью думал?
— Не знаю.
— О том… что надо мальчику образование дать.
— Милый… — Шара Кери кладет ладонь ему на руку.
— Так что… я свое слово сдержал, верно? — вытирает он рот, обнимает Шару.
— Да-да. Я в этом не сомневалась. Уж если я за кого возьмусь, дорогой… Нет, нет, отпустите меня! Идти мне надо. Сейчас пустите, а потом посмотрим, — выскальзывает она у него из рук, целует его на ходу.
А жену Ферко Тота забрало не на шутку: уж не до притворства ей. Все на окно смотрит в нетерпении. И вот в соседней комнате раздается наконец голос Шары Кери.
— Где тут у вас молодая жена? — слышится за дверью. Еще слышно, как свекровь сморкается в платок; открывается дверь, Шара Кери подходит к дивану, садится.
— Что у нас случилось? — берет Ребеку за руку.
— Господи… кажется, началось…
— Так это ничего, милая… Это так и полагается, — и расстегивает на ней платье. — Ну-ка, посмотрим…
— Ох, да как же ничего-то?.. Что он подумает, бедный?.. — устраивается Ребека для осмотра.
— Что подумает? То, что вы захотите. От вас зависит.
— Не знаю, как и быть… Ох, как бы чего не вышло.
— Все обойдется. Доверьте это мне. Ну-ка, посмотрим…
Ребенок появился на свет в пять часов. Мальчик. И сразу заверещал, как голодный поросенок.
Ферко прыгает от радости: то к ребенку кинется, то к жене — и вдруг замечает мать, которая стоит тихонько в ногах кровати и плачет.
— Что с вами, мамаша? — спрашивает он испуганно.
— Ох, сынок, сынок… — говорит та и отворачивается. Подходит к Шаре Кери. Шепчет ей: — Скажите, милая, что это за ребенок? Чей он? Ведь семь месяцев только, как поженились они…
Шара Кери смеется громко, поднимает ребенка:
— И чего вы все выдумываете? Чего боитесь? Ведь и слепому видно, что прежде времени он родился. Смотрите, уши у него какие. Недоразвитые. Видите? Ну смотрите!
— Да это я вижу… А если прежде времени… будет он жить-то?
— Что за разговоры? Почему ж ему не жить? Ребенок ровно на седьмом месяце родился, а семимесячные дети все выживают. Странно, правда? Если хоть на два дня раньше или позже родятся, значит, не жилец, на белом свете. А если на седьмом месяце, то будет жив и здоров… Бог знает, почему это так…
Ребека прислушивается к разговору, вздыхает. Может, и обойдется все. Феркин это ребенок, и все тут. Чей же еще? Ребенок вопит. Шара Кери уносит его в другую комнату, чтобы мать отдохнуть могла.
— Не ори, не ори. Ишь, разорался. Кто поверит, что ты семимесячный, если ты так орешь?.. — шепчет она, переворачивая младенца на животик.
Только в шесть часов уходит Шара Кери домой.
Удивляется, что дверь не заперта. Господи, она ж забыла сказать Вирагу, чтоб запер, когда будет уходить. Могли чужие забраться. И вправду чувствует необычный какой-то запах в горнице. В углу что-то зашевелилось: Ференц Вираг подымается с дивана.
— Ну, знаете ли… это уж слишком… — говорит Шара.
— Ничего не слишком, — отвечает Вираг. — Как хотите, а я без вас домой не пойду… Теперь уж все равно. К этому идет дела…
— Ну хорошо… да все же… — теряется Шара Кери. Сама уж не знает, правильно ли она сделала,, что уступила ему. Что на всю жизнь привязала себя к этому человеку. К мужику. Правда, он и собой неплох, и умен. Пожалуй, даже очень умен. И у сына ее будет имя. Фери, Фери Вираг. Красивое имя. Теплое. Как добротная одежда. Гордое имя. Словно тот, кто его носит, выше других на целую голову.
— Я что хочу спросить… В самом деле хорошо мальчик учится?
— В самом деле. Круглым отличником был в прошлом году, — отвечает Шара и нерешительно начинает раздеваться.
— Я к тому… что если он хорошо учится, то выучим его на судью. Это вы мне доверьте. Деньги у меня есть, накопил я достаточно, пусть только сын ваш постарается. Ну, и нас пусть уважает, если уж на то пошло…
Шара Кери быстро разбирает постель, делает шаг вперед, шаг назад — и платье падает с нее. Сорочка белеет в рассветном полумраке; забирается Шара в постель. Положив ладонь под голову, смотрит на Вирага смеющимися, лукавыми глазами…
9
Облака стаями плывут по небу; несет их теплый юго-западный ветер.
Тень набегает на деревню, а поля в это время купаются в ослепительных лучах солнца; потом в поля уносит тучу, а в деревне все сверкает, как умытое. Кроме этого, можно сказать, нет ничего нового. Все работают, сколько хотят или сколько могут. А дел хватает по горло.
Конец мая стоит; на лугах уже тра́вы по колено; в палисадниках цветут пионы. В какой-то хате зеленый лук ели, даже на улице бьет в нос запах. А где-то жарили мясо на оливковом масле, тоже слышно издалека. Рядки скошенной люцерны сохнут в саду; дождевая вода застоялась в ушате — все издает свой особый запах. Болиголов по краям канав уже не просто ярко-зеленый, а ядовито-зеленый; тут же лопухи, дикие мальвы, ползучая бузина. Все это пахнет сильно и по-разному. Лепестки жасмина рассыпаны в пыли — детишки, должно быть, бегали, цветы воровали. Май, весенний ветер, солнце, тень — разве опишешь все так, чтобы ничего не пропало!..
По улице идет Лили Такач, мельникова дочь, которая в конце апреля вышла за Гезу Тота (та самая, что в прошлом году ребенка во сне зачала). Идет она из дому, от Тотов, в Закут, к Красным Гозам. Сын на руках у нее сидит; сама она одета в легкое летнее платье. Красива молодуха, ничего не скажешь. И одета нарядно. Сына она уже после свадьбы окрестила, и фамилию, конечно, получил он от нового отца. От Гезы, значит. А крестным отцом Красный Гоз стал. Геза так захотел. Люди понять этого никак не могли. Зато Гезе все понятно. Красный Гоз всегда поступал так, как Геза только хотел бы поступать: можно сказать, во всем для него образцом был Красный Гоз. Потому и позвал его Геза в посаженые отцы.
Идет Лили по улице, а ребенок большой уже, нелегко его нести. Это и видно, потому что тащит его Лили на бедре, живот выпячивая.
А все равно красивая баба Лили.
Платье у нее разрисовано большими цветами, вроде распустившихся роз; только синие эти розы, как горы на востоке в хорошую погоду. А еще небо бывает таким синим между тучами.
В переулке ветер крутится, вздувает платье пузырем. Под платьем нет ничего, только трусики. Испуганно оглядывается Лили: нет ли кого; пробует прижать платье; трусы под ним — как медовый пряник в форме сердца. А сбоку смотреть — как радуга над дальним озером.
Никого нет в переулке; один лишь господин Бернат высовывает голову из-за забора. Смотрит во все глаза. Хорошее представление устроил ему ветер…
Однако зря пришла Лили к Гозам. «Нету наших дома, милая, — говорит мать Йошки, — кукурузу пошли окапывать…»
— Жалко, — грустнеет Лили. У нее-то времени много, и рада она пойти куда-нибудь поговорить, да некуда. Домой, к родителям, не пойдет: очень истерзали ее дома из-за ребенка, а потом не хотели за Гезу Тота отдавать. У Тотов делать нечего, да и не особо ей охота что-нибудь делать: хватает ей мужа да ребенка. И нужды нет такой, работать. Не идти же ей в поле: не для того она в конце концов выходила за Гезу, не для того четыре класса реального училища кончала. И вообще: или ты в богатой семье живешь, или нет. Нравится ей к Гозам ходить. Марику она любит… и дети так славно играют друг с другом, Она и сейчас присаживается ненадолго, сына пускает к двойняшкам; барахтаются все трое в пыли. Ходить-то как следует еще не умеют, вот и ходят, как могут. Ползком. Или на четвереньках.
— Такие вот дела, милая. Беднякам работать приходится, — говорит старая Гозиха, держа в руке нож. Уткам люцерну она как раз рубила.
— О, не такие уж вы бедные, тетя…
— Да с голоду не помираем, это верно… Только ведь…
Лили скоро встает, уходить собирается: что ж, не застала, так не застала. Прошлась немного, и то хорошо. Хоть из дому выбралась.
Петух кукарекает на заборе. «Кыш, дурень, чтоб тебя…» — ворчит на него старая хозяйка. Не за то, что кукарекает, а за то, что к соседям повадился. Вот и сейчас туда собрался. На своих кур смотреть не хочет…
— Я, тетя, узнать хотела, не мог ли кум завтра к нам прийти косить? Поденно, конечно…
— Не знаю, милая, не знаю. Скажу ему, как придет…
Уходит Лили. Выйдя на Главную улицу, колеблется: куда теперь, в какую сторону? Все ж таки поворачивает к дому. Больше некуда. У всех сейчас работы хватает.
Дома то же, что всегда. На веревке детские одежки сохнут, собака звенит цепью, поросята есть просят; Ребека, жена Ферко, идет через двор, чисто одетая, будто в церковь собралась. «Хорошо, что ты пришла, — говорит, — теперь я пойду».
— Куда?
— К своим загляну, как они там живут…
Часто она к ним заглядывает.
Пирошкину сыну восемь месяцев уже: крупный ребенок, пухлый, а ведь у Пирошки и молока-то почти не было. И все ж — вон он какой вырос. Правда, в последнее время мать… то есть бабушка, частенько мальчика подкармливает. Особенно если Пирошка с мужем в поле уходит, а сына матери оставляет. Сейчас, правда, Пирошка дома, пол в сенях мажет, а ребенок на крыльце сидит, без штанов, и кричит как резаный. Рубашонка завязана на спине узлом, руки, ноги, рот в грязи… и орет, не замолкает.
— Ты что с ребенком-то делаешь? Почему не дашь ему что-нибудь?
— А что ему дать? Я еще не варила.
— Не варила, не варила… Для ребенка всегда что-нибудь наготове должно быть. Грудью покорми, если другого нет ничего.
— Конечно… И так всю высосал, ветром качает.
— Как же, ветром… По тебе этого не скажешь! Иди ко мне, маленький. Иди к бабушке. — Садится она с малышом на скамеечке. Грудь достает, сует ему. Миклошка умолкает сразу, смотрит на бабушку с минуту, потом принимается жадно сосать. Сучит ножками, ручками машет, за подбородок бабушку хватает, а та хохочет, потому что грудь у нее сразу становится грязной от его рта и от пальцев. — Ты вот что… устроила я вам три-четыре хольда кукурузы…
Пирошка сразу забывает про пол, оборачивается.
— Как? За четверть? Или за треть?
— За треть, конечно. Как же еще! А остальное — дело ваше. Отдавать будете, когда захотите. Или когда сможете. Так, что ли, дитятко мое? — И гладит пухлые щеки малыша. — Как-нибудь позаботится о вас ваша бабушка…
Она и в самом деле заботится. Еще как заботится.
Будто опасается, что опередит ее кто-нибудь, — тащит от Тотов все, что можно. Скажем, от ужина суп остался или мясо, — тут же прибежит, принесет. Пекли что-нибудь — надо отнести немножко бедным детям… Если нет ничего под рукой, так хоть хлеба кусок притащит, ну а к нему — сала кусок. Конечно, потихоньку старается это делать, чтобы старики не видели. А еще что придумала: берет из-под гусыни яйца, несет Пирошке, из-под Пирошкиной же гусыни к Тотам уносит. Потому что у Тотов гуси лучше, породистее… Да уж они с Лили не успокоятся, видно, пока не растащат все, что старики собрали.
Геза с Лили в крайней горнице живут, Ферко с Ребекой — в угловой. То есть, можно сказать, Ребека тут одна живет с сыном; Ферко только ночевать приходит. Первое время и свекровь заходила, да Ребека ее быстро отвадила.
— Ой, мамаша, опять вы всю грязь принесли, какая на дворе есть, — говорила ей каждый раз.
— Где? Где грязь? — смотрит старуха на свои туфли.
— Да вот же. И вот. Глядите, — показывает Ребека ей под ноги, на пустое место. Та наклоняется, смотрит, смотрит… Потом вздохнет и уходит. Ладно, они еще попросят, чтобы она сюда пришла. Со стариком, конечно, по-иному надо обращаться, он вздыхать не будет. У него тут все свое, кровное… Ему Ребека говорит: — Не сердитесь, папаша, выйдите, пожалуйста, на минутку, мне тут… — и краснеет стыдливо.
Старый Тот во всем этом плохо разбирается, видит, конфузится баба, и думает: о каких-то тайных женских делах идет речь. Скажем, о ночном горшке под кроватью. Или, может, одеваться ей надо или раздеваться, трусы менять, рубашку… Сдвигает Габор шляпу на затылок и выходит раздосадованный. И в другой раз дважды подумает, прежде чем зайти.
Даже Ферко долго вытирает сапоги, входя в горницу. Про него не скажешь, правда, что он этим недоволен. Он даже рад: смотрите, мол, какая у него жена — вся из себя чистая. Как вымытый стакан.
Сам Ферко в последнее время растолстел. Правда, только на лицо; а в остальном — как был, так и есть. Зато уж лицо! Будто пузырь надули сильнее, чем надо. Лоб, конечно, прежний, узкий, и потому голова у Ферко — как турнепс. Внизу в два раза шире, чем вверху. На подбородке — бороденка жидкая, будто бахрома на турнепсе…
Ребека, конечно, хорошо относится к Ферко, благодарна ему, что стал он отцом ее ребенка. А ведь у нее много в жизни было симпатий — да все очень уж быстро ее бросали… Что делать, если люди вокруг такие подлые!
Первый ее муж одну-единственную книгу читал всю жизнь — сборник заупокойных молитв: часто приходилось бедняге по ночам сидеть при покойниках. И одну-единственную бабу любил. Ее, Ребеку. А у нее и книг было много, и много поцелуев, много любовей. Можно сказать, она всех любила… Не сразу, конечно, а по очереди. Так приятно теперь вспоминать о том, что было. Когда одна она у себя, всласть, бывает, навспоминается…
А вообще, попав к Тотам, поняла она, что в этом доме каждый видит мир по-своему, не так, как другие. Будто собрали этих людей отовсюду, как придется… А все ж — вот поди ты — копится богатство, растет само собой. Словно в воздухе есть здесь что-то такое, что заставляет Тотов работать не покладая рук, гонит их, как ветер — перекати-поле. Правда, Балинт Сапора, работник, иначе говорит: по его словам, в этом доме и дурак богатым станет.
Что-то тут есть, пожалуй… Может, прежние хозяева оставили в стенах свой характер, свою жадность. А хозяев здесь сменилось много.
Однако сейчас пусто в доме; и в соседних домах пусто. Время стоит рабочее. И теплое. Хоть и дует ветер с юго-запада.
Порой замирает ветер, будто к чему-то прислушивается; в такие минуты солнце греет изо всех сил, и сразу мираж громоздится над полем, как аистиное гнездо над крышей.
Пшеница пестреет дикими маками и васильками: одни — красные, как кровь, другие — синие, как терн, прихваченный инеем. По меже вьюнок струится, белые цветы-колокольчики на нем как клочья пены. Трава на лугу волнуется под ветром, и хлеба растрепаны, будто волосы, которые ерошит ласковая ладонь. С криком мечутся над полем чибисы. Все кругом растет, подымается, лезет вверх, как тесто на дрожжах. Мужики кукурузу начали рыхлить.
Сразу возле деревни — выгон; дальше во все стороны расходятся полосы пашен; и все это разрезано надвое дорогой. Идет дорога с севера на юг или с юга на север. К востоку от нее — помещичьи оброчные пастбища и хлебные посевы, к западу — выкупные и инвалидные наделы.
Красный Гоз с Марикой кукурузу рыхлят на выкупной земле.
— Смотри, Марика, оставляй не гуще, чем я показал, — говорит Йошка и оглядывается на ряд, по которому Марика идет.
— Я так и делаю… да уж очень жалко их выдергивать…
Перед ней как раз три ростка кукурузных, близко друг к другу; примеряется Марика, который из них оставить. Один — плотный, крепкий, хоть и с четырьмя листками всего, другой — выше, но тоньше… трудно выбрать. И почему не жить всему, что родилось на свет?
— Надо, Марика, надо выдергивать. А то будет у нас то же, что у господина ректора было…
— О! А что у него было? Расскажи.
— Было дело так… Я еще парнишкой был, жили мы вместе с братом. Он тогда уже женился, вот мы все с ним и жили. Лошадь у него была своя; словом, обрабатывал он ректорскую землю, исполу. Я тоже ходил тогда кукурузу рыхлить; золовка как раз не могла, первенца кормила… В общем, рыхлим мы кукурузу, прореживаем, а ректор все вокруг околачивается. И все твердит, мол, погуще оставляйте, погуще, потому что где корень, там и початок. Ну, мы оставляем; ректор, думаем, ученый человек, знает, как надо. Что говорить: кукуруза хорошо росла какое-то время, а потом как ударит жара. Ух!..
— Ну и что? — не терпится Марике.
— Да то… так она и осталась, как была. Еле поднялась. Бледная стояла, хилая. А под конец желтой стала. Как огуречный цвет. Початков же на ней не было. Где были, так не толще моего пальца. И то в самом низу, у нижних листьев… Когда собирали мы урожай, ректор опять вокруг ходил, да помалкивал на этот раз. А брат очень был на него зол. Говорит… мол, верно вы сказали весной, господин ректор, что початок — там, где корень… ха-ха-ха… — смеется Красный Гоз. Втыкает лопату в землю, лоб вытирает рукой.
Марика тоже смеется. Аккуратно окапывает очередной стебель, еще и пальцами землю вокруг рыхлит: травинка там вылезла, выдергивает ее. Потом останавливается, разгибает спину.
Кукурузные листья зашевелились, зашелестели: туча растет над Керешем, из-под нее и вырвался ветер.
Стоят, отдыхают.
Кукуруза им еще и до колен не достает, однако окапывают ее уже третий раз.
Всего три тысячи квадратных саженей у Красного Гоза да две тысячи саженей покоса. С этой земли мать вырастила, замуж выдала, женила четверых детей. Правда, старшие-то дети рано стали зарабатывать, да все ж земля эта была для семьи и сберегательной кассой, и пенсией, и всем на свете. Если не считать те шесть пенгё в месяц — пособие вдове фронтовика. У него, у Йошки, детей пока двое, да еще жена, Марика, да родная мать. Пять ртов — и всех эта земля должна прокормить. Землекопом он больше не хочет идти, да если б и захотел, все равно не может; и к помещику не пойдет, ни на поденщину, ни по-другому. Лучше с голоду помрет. Другие живут же с земли… И они должны прожить. И с этой же земли нужно коров кормить, свиней, птицу; с этой земли нужно одеваться, налоги платить, содержать в порядке дом, хозяйство — словом, вся их жизнь от этой земли зависит, от трех тысяч квадратных саженей пашни. Да двух тысяч покоса…
На полутора тысячах пшеница посеяна: хорошо растет пшеница в этом году, семье хлеба хватит. Если, конечно, град не побьет посевы, ржавчина не съест, молния или злая рука снопы не подожжет. Тысяча саженей — под кукурузой, пятьсот — под картошкой, турнепсом, фасолью да под летними кормами для коров. Еще полхольда арендует Красный Гоз общинной земли, там у него — люцерна. На зимние корма.
Каждая пядь земли засеяна, засажена чем-нибудь, и взошло все славно; теперь то и дело окапывает, окучивает, рыхлит хозяин посадки. Не может же быть, чтоб столько труда, столько забот в конце концов себя не оправдали.
Раньше никогда особенно не тревожило Красного Гоза, что там у них на поле и как; да и не ему земля принадлежала, а матери. То есть братьям. К тому же земляные работы куда надежнее. Там все было ясно с самого начала. Знал он, что, скажем, за сегодняшний день перевез столько-то кубометров, значит, столько-то пенгё заработал. А здесь — что можно заранее знать? То есть рассчитывать, прикидывать — это сколько хочешь, да все вилами на воде писано: ни цен, ни урожая ведь вперед не определишь…
Рисковать приходится, одним словом. Целый год труда, пота, веры, надежд — все это вложенный капитал. Аванс.
Один на один остается мужик с землей, с растениями, с небом: если что не так, не с кого спрашивать. Погоду ведь не возьмешь за горло, как помещичьего эконома. Вот и бьется человек, полагаясь лишь сам на себя да на везение. Трудится целую неделю, от зари до зари, а придет суббота — не с кого требовать заработанное.
Вот какова она, крестьянская жизнь: с тебя огромный спрос, а тебе не с кого спрашивать, не на кого жаловаться…
Текут, множатся мысли, как пузыри на лужах во время дождя. Когда рыхлишь, хорошо думается: мысли проясняются, становятся четкими, определенными. Вот так и в церкви бывает: поешь псалом, поешь сердцем, а мысли в это время текут, текут… А веет ли ветер над головой или священник проповедь говорит — все равно.
Что, если бы проповедь была такой же, как псалом? Если б она тоже в сердце шла?
Не знает ответа Красный Гоз. Знает лишь, что было бы это очень здорово…
— Давай работать, Йошка, а то не успеем кончить, — говорит Марика.
— Давай, давай…
Оба делают вид, будто совершенно неотложное это дело. Словно не в третий раз они рыхлят кукурузу, а в первый. Как соседи, которые только-только выбрались в поле.
Мотыга с хрустом врезается в землю, мягкую, как пепел; по самый черенок входит. А за спиной погромыхивает небо.
Снова налетает ветер, треплет Марикину юбку. А Йошку лишь обдувает кругом, словно колодезный журавель. Работают они спиной к ветру, расставив ноги; ветер юбку поднимает у Марики. Да бог с ним… Даже приятно кожу холодит. Она у нее тугая, как этот ветер. Или как только что отлитая бронза.
— Что там мать делает одна с двумя пострелятами? — говорит вдруг Йошка. Так уж бывает: работаешь, работаешь в поле, а потом вдруг найдет что-то, и мыслями ты уже дома.
— Теперь ей полегче с ними. Все-таки четыре дня уже, как отлучили… — отвечает Марика и останавливается, ладонь прижимает к груди. Болит грудь: полным-полна молоком. Однако мужу она об этом не говорит. У него и без того забот хватает, у бедняжки. Для того ведь она и пошла в поле, помочь ему. Ну, еще для того, чтоб двойняшки быстрей от груди отвыкли; легче идет, когда они мать не видят.
— Да уж и то, пора бы…
— Пора… — и потихоньку опять грудь трогает. Старается, чтоб Йошка ничего не заметил. И снова наклоняется над кукурузой. Работа — лучшее лекарство.
Вдруг стих ветер. Не то чтобы обратно повернул или дальше умчался, а просто замер, где был. Словно бы прилег на поле. Вздыхая, распрямляются стебли; рядом, в пшенице, яростно пылают дикие маки; небо гремит, а солнце жжет что есть мочи. Тучи бегут друг на друга, длинными серыми полосами летит пыль; в жаркий воздух над полем врывается мятный запах дождя. Йошка с Марикой оглядываются почти одновременно: позади них ничего не видно, будто в зеркале у парикмахера Шербалога. Только рев дождя доносится, и земля невдалеке будто дымится. «Бежим, Марика!» — кричит Йошка, втыкая мотыгу в землю. То же делает и Марика. Потом оглядывается: упала ее мотыга. Однако некогда возвращаться: Йошка берет ее за руку, и они бегут через поле.
Какое-то непонятное веселье переполняет им сердце, пока бегут они к шалашу сторожа. Капли дождя бьют им по спине, словно торопят. Щекотно от этих капель. Хохочут оба, сами не знают отчего — то ли от холодных капель, то ли от щекотки, то ли каждый от того, что другой смеется. Марикина юбка то прилипнет к коленям, то отстанет. То поднимется, то упадет; словно Марика для этого и бежит, а не по какой другой причине.
Только не они одни — многие бегут сюда, к шалашу. Мужики, бабы, девки. Все пооставляли мотыги там, где работали.
Шалаш стоит возле Чертова оврага, на узкой полоске между пастбищем и пашнями; шалаш хоть и камышовый, а крепкий, аккуратный — любо-дорого смотреть. Изнутри и снаружи глиной обмазан. Даже кровать в нем есть. Кровать не ахти какая: просто топчан на четырех подставках. Вокруг — ни дома, ни дерева, только этот шалаш… Вскоре наполняется шалаш сырым духом мокрой одежды и остывающего пота. Бабы сразу место ищут у стены, присаживаются, юбки натягивают на коленки. Другие стоят.
Сторож Гергей Чепп — огромный старик, плечистый; лет ему не то шестьдесят, не то семьдесят. Сидит в изголовье постели, гордо, как и полагается сторожу. В хорошую погоду он всегда в одиночестве, разве что в обед кто зайдет поговорить или курева занести. А тут — столько баб, что его почти и не видно.
— Садись ближе, дочка. Не бойся, я не шелудивый, — говорит сторож Марике; они с Йошкой первые прибежали, потому что были ближе всех, так и оказалась она в самой глубине шалаша.
— Да я не боюсь… — смеется Марика и послушно садится ближе.
— Двигайся, двигайся, у меня вшей нету…
Это уже не нравится Марике; однако не перечит она, двигается еще ближе. Йошку ищет глазами; тот стоит в дверях, курит. Шалаш выходит на восток, а ветер и дождь идут с запада.
— Эй, потеснитесь, люди добрые. В тесноте да не в обиде, — вваливается в шалаш Шандор Макра и принимается штанины на ногах выжимать. А жену его, Илонку Киш, почти и не видно: только ногу одну да край юбки. Она снаружи встала, возле дверей.
Весело в шалаше — даже непонятно отчего; все будто только и ждут, как бы кто смешное что-нибудь сказал, и заранее смеются. А уж как смеются, если и вправду смешное услышат! Устраиваются, усаживаются поудобнее, будто надолго собрались здесь остаться. До того чувствуют себя вместе, и до того это хорошо — кажется, теперь силой не вытащишь их из шалаша. Мокрые тела, плечи, руки, бедра притиснуты друг к другу… Подумаешь! Что в этом особенного? Нечего стыдиться: все они тут как братья и сестры. Ну правда, есть и такие, которых обстановка на другое понуждает. Сперва крепится мужик, а потом махнет на все рукой и прижимается к случайной соседке куда сильнее, чем заставляет теснота. Если глаза встретятся с чьими-нибудь глазами, подмигнет — и отвернется, смотрит в дверной проем. А соседка пусть себе злится — это ее дело…
Ливень уже не хлещет, а низвергается ревущим водопадом. Вдруг, совсем неожиданно, мощный щелчок раздается над головой. Прямо напротив входа. Молния бьет в луг, в сотне шагов от шалаша.
— Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да приидет царствие твое… — быстро-быстро, с помертвевшим лицом, серыми губами бормочет Макра. Ничего не может он с собой поделать: страшно боится грозы.
Несколько мгновений полная тишина стоит: люди слушают, как молится Макра. А потом разражаются дружным хохотом. Дождь за стенами ревет еще сильнее, чаще сверкают молнии — да тем, кто в шалаше, теперь все нипочем. И Макра постепенно успокаивается; уже стыдно ему за свой страх, сквозь землю готов он провалиться. Но дела не поправишь. Со всех сторон глядят на него люди, хохочут, заливаются.
Тут он не выдерживает:
— Чего ржете? Я в газете читал: набился вот так же народ в шалаш, посреди поля… их всех и стукнуло, — пробует он оправдываться.
— Гром в дерьмо не бьет! — выкрикивает из своего угла сторож и наклоняется вбок. Совсем притискивает Марику к ее соседке, к девке Мезеи.
«Такой блудливый старикан, — шепчет та на ухо Марике. — В прошлом году я фасоль собирала…» — и все рассказывает про сторожа и про себя.
— Это верно. Да верно и то, что если господь бог захочет, то и лопата выстрелит, — задумчиво говорит пожилой мужик Поцок, достает кисет, трубку набивает.
Начинается разговор. Один говорит, что молния — это как точильный камень, только огненный. Вот он раз такой камень нашел. Остывший, конечно. И точило же из него вышло!
— Да нет, — спорит Поцок. — Молния — это то, что в Вараде трамвай двигает.
Однако первый мужик не сдается.
— Коли так, тогда чего бы тебе не привезти сюда трамвай да и ездить на нем в поле, копать или там фасоль собирать? Ха-ха-ха-ха…
В шалаше смеются от души.
Небо гремит уже подальше, и дождь заметно редеет.
Илонка Киш стоит снаружи, рядом с Красным Гозом, опирается на стенку так же, как тот, и так же выставляет вперед ноги, смотрит на них. На свои ноги смотрит и на Йошкины.
— Много курите, кум?
— А… когда время есть, закуриваю, — как-то странно ему, что Илонка, чужая жена, стоит рядом.
— Кто работает, тот может себе позволить…
— Да не то что… Просто куришь, и все, — и глядит он вслед уходящей туче. Дождь едва моросит, гроза ушла в горы; радуга встает невдалеке, над рощей акаций. Подсвечивает радуга стволы деревьев, которые община посадила несколько лет тому назад. Самостоятельные хозяева, правда, не хотели этим заниматься. Янош Багди был тогда председателем кооператива, он-то и уговорил их. И теперь роща — вон она. Что было бы с радугой, не будь этой рощи? Вздыхает Красный Гоз полной грудью, затягивается цигаркой, голову опускает — и тут же вздергивает ее, потому что увидел, как парится, сохнет юбка на животе у кумы. «Ну ладно… — говорит и втискивается в шалаш. — Пошли, Марика», — зовет он жену.
Все встрепенулись, завозились, будто куры, когда хозяйка открывает утром курятник. Сразу по двое пытаются выйти в дверь. Расходятся в разные стороны. Дождевые черви шевелятся в траве; вода проступает меж пальцами ног, кожа на них становится белой и морщинистой. Будто новые лапти все надели.
— Смотрите… дождевой мешок! — кричит радостно Марика, поднимая руку к небу. На горизонте, затянутом черной мглой, мечутся в тучах красные сполохи. А с юга длинное, закрученное облако приклеилось к туче, как присосок, будто высасывает из нее воду. Так на мельнице висят под ситами мешки.
— И правда… — с задумчивым видом говорит Илонка, останавливаясь рядом с Марикой.
— Э-хей… будет еще дождей больше, чем надо, — пророчит Макра и направляется по мокрой траве к своему полю.
Илонка с досадой смотрит ему вслед. Вечно он глупости мелет и всегда не вовремя. Потому еще она сердится, что он очень уж торопится на это поле, ей-то хочется с кумом, с кумой перекинуться словечком…
— Идешь, что ли? — обернувшись, кричит Макра во все горло.
Илонка юбку подбирает до самых колен, даже выше — назло мужу, уходит нехотя.
— Эх, дай бог побольше дожжю с толстую вожжу… чтоб лягушки друг к дружке в гости посуху ходили и макушки не замочили, — кричит один мужик, Альберт Бак, во всю глотку, чтоб всем было слышно — и ближним, и дальним. И никто не удивляется: знают, что любит он несуразицу нести. С него взять нечего — мужик он несерьезный. Даже с бабой своей живет необвенчанным.
— Ага… и чтоб уронил сало в лужу, ныряй за ним поглубже, — помогает ему другой, парень еще, работник Йожефа Эсени.
Однако этого уже слушают люди с неодобрением. Что позволено одному, то нельзя другому.
Пенные ручьи несутся по полю; какие-то мелкие лягушки появились, прыгают, дергают возбужденно лапками — то и дело застревают лапки в траве. Брюшко у лягушек огненно-рыжее, лапки — розоватые. Должно быть, их имеет в виду Шаркёзи, когда пристает к маленьким ребятишкам с вопросом: мол, кто из вас видал розовую лягушку?
Все уже разошлись, каждый на свое поле. А вот копать-то, выходит, нельзя… Две-три телеги стоят на межах; лошади выпряжены, пасутся рядом. Постепенно собирается народ вокруг телег; кто сидит, кто рядом стоит. Кое-кто все ж берется за мотыги, пытается работать; да много ли тут наработаешь: земля как кисель. Месишь грязь, вот и вся работа. Посматривают мужики на небо: может, ветер подымется, высушит землю, или солнце пригреет… Однако погода — ни то ни се. Ни пасмурно, ни ясно. Все какая-то муть застит солнце, болтается там, будто стружка на воде. Воздух над полем влажный, словно мелкими жемчужинами наполнен; аисты по лугу, как по болоту, расхаживают.
Смотрит Йошка на Марику, как она юбку аккуратно подтыкает. Стоят они на меже у своего поля. Земля на поле и без того рыхлая, сто раз перекопанная, а теперь, после дождя, совсем расползлась.
— У тебя все в порядке, Марика? — спрашивает с тревогой Йошка.
— У меня-то? Все в порядке, — отвечает та и улыбается ему. Да ведь Йошку не обманешь; чувствует он, что это неправда. И слова, и улыбка. Когда Марика от сердца улыбается, то лицо ее светится, словно солнечный луч, а сейчас ее улыбка — будто лампу зажгли вечером, в темноте. Неладно что-то у Марики… Только почему она не хочет сказать? Разговаривает, как обычно, смеется, однако, даже смеясь, словно бы прислушивается к себе. Может, зря он взял ее в поле? И нужды-то особой не было. Третий раз рыхлят, он и сам бы управился. Тем более сейчас рыхлить нельзя, и картошка окучена: словом, делать особенно нечего. Да Марика сама захотела. Сама с ним напросилась. Что же тогда с ней? Сразу ведь видно, что-то не так…
Настолько знает Йошка каждое ее движение, каждый вздох, что обмануть его трудно. Почему ж она не признается? Почему молчит?
— Не копать нам нынче, Марика, так что ступай лучше домой.
— А ты… ты что будешь делать?
— Я подожду еще. Может, подсохнет немножко. А нет — так турнепс подсажу, где не взошел, — отвечает Йошка. Не это он собирался ей сказать. Пожалуй, совсем ничего не собирался. Просто хотелось начать разговор: вдруг опять станет Марика такой же, как вчера; правда, уже вчера была она какая-то не такая… Ну, значит, не как вчера, а как прежде. Да видно, напрасно он старается: что-то гнетет Марику, отвечает она тихо:
— Хорошо, Йошка, я пойду, если хочешь, — и странно поводит плечами. Еще бы: грудь у нее болит, разрывается. Уже не может она скрыть боль. Йошке ж не говорит об этом, потому что думает, он и так знает. А кроме того, не любит она жаловаться. Стыдится…
— Ну, так я… — сделав несколько шагов, оборачивается к мужу. — Тогда я ужин хороший приготовлю к твоему приходу, — говорит. И вздыхает. Проводит рукой перед грудью, собирается уходить. Юбку приподымает немного: вода брызжет из-под ног.
Ушла Марика, и небо словно окончательно помрачнело над полем. До сих пор все радости, все горести были общими у них с Йошкой; первый раз не поняли они друг друга. Глупо это, потому что ни один не прав… то есть оба правы, в том-то и беда. Если муж с женой одинаковы, это или счастье большое, или несчастье. У Йошки с Марикой еще неизвестно что. Вот пройдут семь лет, семь зим, там ясно станет.
А пока — какая-то смутная тревога осталась у Йошки в сердце: не смог он понять, не смог догадаться, в чем дело. Так вот бывает иногда: ищешь, ищешь занозу в ноге и найти не можешь…
Заложив руки за спину, смотрит в одну сторону, в другую; потом шагает поперек поля, считает рядки.
Добравшись до межи, вниз идет, по склону, тоже считает.
Много раз обходил он это поле с тех пор, как стал его хозяином. А особенно после того, как пришлось уйти из артели; много раз измерял его шагами, подсчитывал, планировал… Как ни считай, а надо бы добавить сюда еще по крайней мере два или три хольда. Тогда можно с этой землей что-то сделать. Мало земли; сколько ни вкладывай сил, не сходятся концы с концами… А может, сойдутся? Это он осенью узнает. Когда пшеница будет в мешках, сено — в стогах, картошка — в яме. До тех пор все вилами на воде писано.
Считает картофельные рядки: ровно двадцать. И в длину считает, до середины склона; дальше посажен турнепс и горох. Двадцать на двести — это четыре тысячи… четыре тысячи кустов… Если с куста снимут по полкило картошки, будет двадцать центнеров. А если, скажем, по килограмму? Тогда — сорок центнеров. Десять центнеров им хватит и на еду, и на корм скотине, тридцать — продать можно. Деньги неплохие. За эти деньги на земляных работах, ох, и много надо земли перекидать, перевозить!.. Так-то так, да как добиться, чтобы и в самом деле по кило с куста получить? Вот если б земля была лучше… хотя бы как в огороде…
Стоит. Думает.
Какие-то люди идут гурьбой в его сторону; остановятся, снова двинутся. Вешки какие-то ставят. Идут они вдоль старой канавы, что тянется через поле; много делянок выходит к ней. Сейчас, после дождя, полна канава воды, так что люди прыгают с одной стороны на другую. Инженер это с землекопами: видно, здесь планируют канал рыть, воду отводить из пруда.
— Что, первый раз, а?.. — кидает Красному Гозу один из землекопов, проходя мимо, и взглядом окидывает всходы кукурузы, картошки, турнепса. Видно, сразу понял, в чем дело, хоть у Гоза в руках и нет мотыги.
— Да вообще-то… — впрочем, ответ тут и не нужен. Прошли уже землекопы; втыкают колышки по бокам канавы.
— Стало быть, здесь будут воду сливать… — задумавшись, бредет Красный Гоз вдоль своей картошки.
Канал — он канал и есть… Да за каналом этим многое прячется. Во-первых, каналом этим помещик окончательно свои земли от общинных отделит, и потом ни реформа, ни власти их не тронут. Деревне в ту сторону и смотреть нечего. У наделов только хозяева могут меняться, а в остальном как было, так и будет. Самой земли не прибавится ни сажени. Стало быть, у кого своей земли нет, пусть на поденщину идет, на пруд или к богатым мужикам, а у кого есть, тот пусть обрабатывает ее так, чтобы прожить можно было. Помощи ждать нечего: не поможет мужикам ни реформа, ни черт, ни дьявол…
Надо, стало быть, искать способ, чтобы с малого поля снять урожай, как с большого. Конечно, на навоз первая надежда, да навоз — это не спасение. У него, у Красного Гоза, поле и так унавожено. Два года возил он сюда навоз; восемьдесят две телеги вывез. По одному пенгё платил за ездку — это восемьдесят два пенгё… Да мало этого. Еще надо что-нибудь придумать. А что?..
— Значит, канал будет рядом… А если, скажем, воду для полива из него брать…
В прошлом году поливал он у себя в огороде несколько кустов картошки. Раз в неделю поливал, в воскресенье; там сладкий перец рос, и, как после него оставалась в лейке вода, выплескивал ее Красный Гоз в картошку. Сначала просто лил, не думая. А потом увидел, что эти кусты лучше прочих пошли, и начал поливать обильнее. И вода-то была холодная, колодезная; а осенью копала Марика и рассказывала, что на тех кустах вдвое больше было картошки, чем на других.
Может, тут-то и лежит ключ к сорока центнерам?
Может, только таким путем можно увеличить урожай? Да что говорить: таким ли, другим ли, а придется увеличивать. Раз нельзя поле расширить ни ему, ни прочим, значит, ничего не остается, кроме как увеличить его вверх и вниз. В высоту и в глубину.
И удивительное дело: как всегда, когда, бывало, находил он решение какой-нибудь трудной задачи, сразу думает он о других…
Уплыли тучи с небосвода, будто стадо овец с выгона; солнце опять печет вовсю. Вода в лужах согрелась, стала почти горячей; на земле появились, стали расти сухие, светлые полосы, пятна. Заяц скачет по полю: из пшеницы, через кукурузу, опять в пшеницу, скачет как ошпаренный. Лопаты поднимаются, руки машут в его сторону, крики раздаются.
— Заяц скачет, восемьсот форинтов тащит! — вопит через три делянки Макра: у него, известно, на все своя история. Любит он истории и вообще поговорить любит… Про зайца история в таком роде: жил-был, значит, мужик, продал он за восемьсот форинтов корову, завязал деньги в платок, домой пошел; по дороге поймал зайца и тем платком связал ему ноги… Словом, заяц, конечно, убежал. И деньги унес…
Заяц вдруг в сторону рванулся — прямо под ноги Илонке Киш, та взвизгивает и юбку подхватывает выше колен. Еще бы. Чуть не наскочил на нее заяц.
— Чуть выше, кума, подымите, сразу остановится! — кричит Красный Гоз, который только встал в начало ряда рыхлить кукурузу.
— Ох, и напугал же он меня… — хватается за сердце Илонка. Медленно опускает на ходу юбку, Подойдя к Красному Гозу, останавливается. — Сыровата еще земля, кум.
— Да нет, подсохла уже. Домой, кума?
— Домой иду, дел еще много до вечера… — и большим пальцем ноги водит по земле, круги рисует.
— Да, у всех дела. Марика вот тоже пошла.
— О, Марике есть зачем домой идти, кум. У Марики детки такие миленькие… из-за них не то что пойдешь — побежишь домой. Мне, знаете, так часто хочется к вам зайти, хоть на них взглянуть, да как-то неловко… А я вот прошу, прошу у господа…
— Да ведь это дело такое… детей да дождя не надо просить, сами придут. Может, потому и нет у вас ребенка, что просите. Вы не просите. Лучше попробуйте…
— Ах, кум…
— То-то раскроет рот кум Макра, когда… ха-ха-ха…
Ложатся слова друг на друга, будто карты у игроков.
Илонка ближе подходит; на глазах у нее слезы кипят, щеки огнем пылают. Оглядывается на мужа, который где-то в середине кукурузного поля трудится, да еще две полосы пшеницы между ними.
— Хорош гусь ваш кум, скажу я вам. Да откуда могла я знать в девках, каков, он есть? Ни вы мне ничего не сказали, ни кто другой… Если б я опять девкой стала, господи, и замуж бы собралась, уж я бы сначала посмотрела, кум, ох, посмотрела бы… Так себя наказать! Так жизнь себе испортить, — рыдает Илонка. — И зачем только такой парень жену берет, для чего?.. Скажите, неужто вы ничего не знали? Ведь вы приятелями были, гуляли вместе…
— Знал я кое-что, как не знать, да ведь…
— Господи, кум, почему же не сказали вы мне об этом? Почему? Ведь я вам ничего плохого не сделала, только любила вас, вы ведь знаете. Ладно, не женились вы на мне, но заслужила разве я такое? Да такое и самой последней бабе… — И плачет горько.
Совсем растерян Красный Гоз. Жалко ему бедную бабу. Оправдываясь, говорит:
— Я, конечно, знал, что кум… ну, словом, не совсем такой, каким полагается быть. Да все ж не думал я, что, на ком он женится, у того детей не будет.
— Не только детей, кум, ничегошеньки я от него не вижу. Понимаете, кум? Ничего. Два года мы вместе живем, а мне часто кажется: не доживу до следующего утра. Тьфу! До чего мне противно, даже самой себя. Верите ли, по утрам с закрытыми глазами причесываюсь, не могу на себя в зеркало смотреть… Ну что вы знали о нем, расскажите? — спрашивает она совсем другим голосом.
— Да ведь, как я об этом расскажу?..
— Полно. Вы, кум, взрослый мужчина, а я… ни баба, ни девка… Расскажите!
— А, черт! Все равно ведь этим не поможешь. Разведитесь с ним, кума, вот и все. Вы еще сможете замуж выйти.
— Развестись?.. Конечно, я часто об этом думаю. Да что там: лишь об этом и думаю. Вот только — так боюсь я теперь мужиков, просто ужасно.
— А так — все равно это не жизнь.
— Уж какая там жизнь… — и опять совсем другой становится Илонка. Будто и не об ее несчастье идет речь, а о чем-то другом. — Ну расскажите же, кум, что вы знаете об этом мужике, — просит заискивающе.
— Ну, если хотите, то есть если можете вы такое слушать…
Не отвечает Илонка, только кривит губы и рукой машет.
— В общем, когда в солдатах мы были… эй, забодай тебя комар… — смеется Красный Гоз смущенно, потом продолжает: — Пришли мы раз на врачебный осмотр — это, знаете, так полагается… Словом, осматривает нас врач, а Макра возле меня стоит третьим в ряду, и врач ему говорит: «Эй, сынок, что ж у тебя это дело-то такое хилое? Как ты баб-то любишь?» А кум на это отвечает: «А так… только мучаю, и все, господин доктор». Вот так.
Илонка Киш молчит, поправляет платок на голове. Через некоторое время говорит:
— Да уж это точно: мучает, и все… И как только бог такое допускает! Видите, кум, а во всем вы виноваты. Если бы вы мне тогда голову не вскружили, все было б по-другому. Вышла бы я замуж, как полагается, как все честные девки… А так — что мне оставалось? Пошла за первого попавшегося, не глядя. И надо ж было, чтобы этот недоделанный под рукой оказался…
— Эй, у кого-то жену увели! — кричит Шандор Макра с другого края пшеницы и еще лопатой машет в воздухе.
— Видите? Вот такой он. Ревнивый как черт. Будто у него право есть — ревновать… Ну, пойду я. Благослови вас бог, кум… — вздыхает горько, смотрит на Йошку долгим взглядом и идет. Под ногами у нее чавкает мокрая земля. Чтобы не поскользнуться, ноги широко в сторону расставляет, и тело ее от этого покачивается, будто в танце.
У Красного Гоза на какое-то время дыхание перехватывает. В голове — ни единой мысли. Вместо мыслей — коричневое, бесформенное пятно. И на этом пятне жирными буквами выкладывается черное слово (такие буквы бывают на лентах траурных венков); слово это — трагедия.
Где-то, когда-то слышал он или, может, читал это слово.
Однако сейчас, кажется ему, узнал он не книжный, а настоящий, страшный смысл этого слова. Ведь в самом деле хорошей девкой была Илонка, ласковой, мягкой, белотелой… Разве заслужила она такую жизнь? Вот ведь какая бывает судьба у людей; словно кто-то раздает ее — одному хорошую, другому похуже, третьему совсем скверную… Почему, говорит, не предупредил? А как он мог ее предупредить? У него самого в то время забот было по горло, не знал, за что и браться… К тому ж еще и ревнует ее Шандор, вот поди ж ты…
Однако ему теперь тоже есть над чем голову ломать. Например, что такое было сегодня с Марикой? Или еще: окучивать кукурузу или просто окопать, как первые два раза, вокруг стебля? Этого он не знает. И у других спрашивать бесполезно: одни одно говорят, другие — другое. Одни считают: окучивать надо, а то ветер повалит кукурузу, вывернет стебель с корнем; другие доказывают: нельзя окучивать, окученная кукуруза быстрее засохнет, если дождей не будет. Кому верить? Может, половину окучить, а половину так оставить? Тогда осенью выяснится, кто прав. Одно плохо: слишком мало у него поле, чтобы опыты на нем проводить. То есть для опытов, конечно, его хватило бы, да как бы зимой не пришлось положить зубы на полку. Так что надо кому-то поверить… причем тому, кто правду говорит. Ну а кто прав?
Весной, когда Красный Гоз окончательно решил, что не пойдет больше ни на поденщину, ни батрачить, начал он читать книги по земледелию; прочел все, что только сумел достать. Из тех книг узнал он, что такое капиллярность почвы, севооборот, испарение, задержание влаги, кругооборот воды в растениях… Теперь, работая мотыгой, старается все это найти, увидеть в земле, в растениях; и в то же время присматривается к облакам, бегущим у него над головой. Так трудно связать друг с другом и понять разные вещи: видимое — почву под ногами и невидимое — силу, которая заставляет растение всходить, наливаться соками, созревать…
Макра идет к нему вдоль межи, жует на ходу. В руках у него хлеб, сало. Теперь, когда Илонка ушла домой, все стало хорошо. Больше он ее не ревнует. Чего ревновать, раз ее тут нету!..
— Который раз рыхлим, кум, первый? — спрашивает он Йошку, шагая за ним по мягкой земле.
Смотрит Красный Гоз, как идет тот по копаному, и сам чувствует боль, как будто Макра по нему в сапогах идет. Однако виду не подает, что недоволен: теперь много чего придется ему от других скрывать.
— Да нет, кум. Третий.
— Третий? Может, вы не в своем уме, кум?
— Все может быть… А все равно третий раз рыхлю.
Молчит Макра. Ест. Отрежет хлеба кусочек, сала кусочек. Руки у него землей испачканы, а поверх земли — жиром. И Гоз молчит. Не о чем ему с кумом разговаривать. То ли еще не о чем, то ли уже не о чем. Работает себе. Макра топчется некоторое время, потом складывает ножик, говорит:
— Я тоже в газете читал что-то такое… да ведь им легко, которые пишут. Они деньги получают за вранье. А я вот делаю, как отец научил… — и уходит.
Дело близится к вечеру.
Многие домой ушли сразу после дождя; теперь жалеют, должно быть. А кто остался, тот доволен. Одни радуются, другие огорчаются — так уж устроен этот мир.
Клонится солнце к горизонту, а работа идет полным ходом. Вот еще кончить этот ряд — и все. Или скосить эту люцерну; пройти еще круг с сохой, отвезти еще кучу земли… — у кого какая работа.
На сооружении пруда уже сотни три землекопов трудятся. Спешить приходится с работами: мальки уже пущены в небольшой водоем, кишмя там кишат. Весь питомник будет состоять из нескольких отсеков, а готов пока один. Надо мальков расселять, пока не поздно, — от этого будущий приплод зависит. Как, скажем, с озимыми хлебами: вовремя посеешь — на будущий год хороший урожай снимешь… Вливной канал уже выкопан, вода поступает без перерыва; сейчас полным ходом сливной канал копают — стоялую воду спускать.
Где земля не поддается заступу, там машины работают; так что все теперь образовалось. И чужие землекопы успокоились. Эконом велел Красному Гозу передать: пусть, мол, выходит снова; старшой тоже заходил, уговаривал. А Красный Гоз — нет и нет. Не хочет он ни у кого на пути стоять. Не выйдет в общем.
Течет время, заживляет старые раны.
Человеческая натура — что камыш под ветром: гнется и туда и сюда. Лишь Красный Гоз не желает гнуться; взялся он за свою землю не на шутку. «Этот не отпустит, что ухватил», — говорят о нем мужики на земляных работах. Целые легенды складывают про него; и уважают Красного Гоза теперь даже больше, чем прежде.
Вот и вечер. Свиньи идут с выгона, во дворах бабы засуетились, забегали. Потому что свинья — такая животина, что, если калитка закрытой окажется, она ее и с петлями может вынести. В сумерках слышно, как то здесь, то там трещат доски в воротах.
— Пшла! Пшла! Подь-подь-подь! Подь сюда!.. — раздаются крики на улице; бабы с развевающимися подолами бегут к воротам.
И Марика кричит на свинью у себя во дворе. Двойняшек она носила к Шербалогу стричь, вот и опоздала. Никак не хотели даваться, глупышки.
Свинья в калитку сперва ломилась, потом к воротам перешла. Посредине не поддавались ворота, да в углу нашлась гнилая доска, свинья ее и выломала. Помчалась через двор прямо к хлеву. Марика к воротам побежала было, да свинья в это время уже перед хлевом носилась взад-вперед как ошалелая. Марика повернулась, хотела туда бежать. И остановилась возле сеней. Руки прижала к груди и стоит.
— Что с тобой? — испуганно спрашивает свекровь.
— Грудь… болит очень…
— Ах ты господи. Да чего ж не сказала? А я, тоже… сама бы догадаться могла. Ну, я сейчас… — закрыв хлев, идет обратно. — Я к соседям, а ты присядь пока, чтоб дети не видели. Под навес, что ли… — и уходит. Через минуту приносит от соседей, от Сокальи, двухмесячного младенца.
Марика сгорбившись сидит под навесом, на старой перевернутой корзине.
— Держи. Пусть отсосет скорее, — свекровь кладет ей на руки ребеночка. Как уж она его выпросила, что сказала — один бог знает. Мало кто любит свое дитя чужим отдавать.
Вскоре совсем темно становится. Странный гулкий звук плывет над деревней: будто кто-то кнутом пытается хлопнуть, а хлопушка оторвалась. Что-то в этом роде. Точно и не объяснишь, что это за звук. А причина простая: на изгородях горшки висят на кольях, а в них древесные лягушки кричат. Особенно в тех, которые зеленой глазурью покрыты. Лягушки, наверное, думают, что это большие, круглые, прохладные листья. Шелковицы шумят беспокойно: ветер налетает с полей. Красный Гоз останавливается у калитки, прислушивается. И весело нажимает на ручку: привычный шум слышен с крыльца, двойняшки вопят, требуют чего-то, а бабушка ворчит на них.
С огорода песня доносится: Марика поет. Негромко поет, для самой себя. Вот так же задумчиво, для себя, пиликает в летних сумерках сверчок… Молодой салат несет Марика в переднике — утятам нарубить с мякиной — позавчера вывелись у них утята, целый выводок.
Марика с огорода входит во двор, Йошка — с улицы. Возле крыльца встречаются.
Передник с салатом оказывается между ними, но Марика сумела все же быстро прижаться к Йошке; оглянувшись на сени, быстро целует мужа в губы.
— Теперь все в порядке… — шепчет.
— О, так ты… — правильно он, значит, чувствовал: что-то неладно было с Марикой. Совестно становится Йошке, что он на нее сердился за это. Даже и предлог, вишь, выдумал: мол, не хочет признаться… Теперь, когда Марика подходит к нему, ласковая, как всегда, и шепчет свои обычные слова, и целует, как раньше, — теперь как-то особенно ясно сознает Йошка, что былые, беззаботные объятия навсегда остались в прошлом. Жена не гитара, на которой играешь, когда хочешь и что хочешь. У жены у самой есть чувства, и даже очень сильные чувства, и сложные. Так что должен он приноравливаться, приспосабливаться к ней… Знает Красный Гоз, что есть дни, когда жена страдает из-за того, что она женщина, из-за того, чтобы снова стать женой. До сих пор не знал он этого. Зато теперь знает.
Как хорошо, что он это знает.
А еще лучше — то, что Марика есть, существует на свете…
Умывшись, садится Йошка, закуривает. Ужина ждет.
— Коровы пришли? Подоила? Все хорошо? — спрашивает жену.
— Все, все в порядке, — отвечает она, сливая воду с галушек. Галушки с вареньем она приготовила: пообещала ведь, что будет ждать мужа с хорошим ужином.
Идет неторопливый разговор о домашних делах, о скотине, как каждый вечер. Разговор этот никогда им не надоедает и никогда не кончается…
— Кума ваша новая была здесь, Лили Такач, жена Гезы Тота, — вспоминает Гозиха.
— Чего хотела?
— Да так… видно, времени у нее много.
Йошка задумчиво ест галушки. Есть у него уже хорошие друзья и кроме землекопов. Даже, может, больше, чем прежде. А из старых лишь кореш остался, Тарцали.
Только с этими новыми друзьями как-то так все выходит… никак, в общем, не выходит. Тут ведь от того все зависит, сколько уродит земля, какой урожай даст в этом году. Сумеет он не ударить в грязь лицом — все будет в порядке. Не сумеет — придется, значит, искать какой-то иной путь, чтобы жить с людьми и быть с ними на равной ноге. Без этого все равно нельзя: нужны человеку другие люди, как Отче наш. Конечно, если бы вот так, с семьей, оказался он где-нибудь на необитаемом острове, то прожил бы и там. Да ведь необитаемых островов, пожалуй, во всем мире не осталось ни одного. А уж что говорить о необитаемом острове… или просто о каком-нибудь безлюдном месте здесь на равнине…
Такие вот мысли бродят у него в голове; но и на этом еще не кончается вечер.
После ужина вышел он на крыльцо покурить. Марика тут же салат рубила утятам. Мать в горнице двойняшек умывала, в постель укладывала. Сел Йошка на порог возле Марики.
— Живешь вот на свете и не знаешь, сколько у иных горя, — говорит он вдруг.
— Мм… что?
— А вот… ушла ты домой, и тут подходит ко мне жена Макры. Кума твоя, Илонка Киш. И начинает жаловаться, что, мол, так и так…
— Ага. Жаловалась, значит. Насчет того, что детей нет, так?
— Ну… и насчет этого тоже. А еще… — и рассказывает все, что представилось ему как мрачная, черными буквами выписанная трагедия. Илонкина трагедия. Рассказывает, а Марика слушает. И вдруг замирает у нее в руке нож; неподвижным взглядом смотрит она в черноту двора. Не мигает, смотрит, пока глазам не становится больно. И, не дождавшись, пока Йошка кончит, перебивает его.
— Послушай-ка меня, Йошка. Я не могу быть лучшей женой, чем есть. Может, она или другая какая-нибудь баба лучше была бы, чем я. Дети были бы лучше или любила бы тебя сильнее, уважала бы — словом, все может быть. Только одного быть не может.
— Ты о чем?
— О том, что никто не встанет между нами: ни она, ни другая. Потому что я тогда сразу глаза тебе выцарапаю. Уж насчет этого можешь быть спокоен. Не забывай этого!
— Да Марика!
— Ладно, ладно. Сам потом увидишь. Мне-то ведь голову не задуришь никакими слезами. Детей у нее нет? И не будет у нее детей, пусть хоть вся деревня старается. Потому что она — как телега худая. Все из нее вываливается. Теперь, вишь, за тебя она взялась? А у тебя-то глаз нету, что ли? Открой их, пока не поздно, а то беда будет, это я тебе говорю. Меня она, вишь, любит… Дети ей наши нравятся… Эх!.. Да не может такая баба никого любить… — страшные вещи говорит Марика. В словах не стесняется. Йошка только моргает: никогда еще не видел он Марику такой, не слышал от нее таких слов. Совсем это новая Марика, отчаянная и задиристая. У этой Марики и сила, наверное, — дай бог мужику с ней справиться… Пожалуй, он уже и не слышит Марику, возбужденную ее речь, а думает над тем, что, ей-богу, у нее найдутся силы, чтобы выполнить все, что говорит. Думает о ее маленьких, но крепких руках, которые так хорошо умеют обнимать… Интересно, могла бы она бить… убить человека?.. Обнимать, копать, варить, скотину кормить — все это она умеет отлично. Пожалуй, сумеет и убить и глаза выцарапать.
Да, жена его — сильная женщина. Сила эта дана ей на то, чтобы детей выносить, родить на свет. Но еще больше сил у нее запасено, чтобы сохранить себя как мать и как жену. Красивой и здоровой.
— Ну, Марика, ты сама подумай… — пытается он спорить с женой, уже не из-за Илонки (бог с ней, с Илонкой!), а просто хочет полнее увидеть Марику с этой стороны.
— Я? О чем мне думать? — и встает. Ладонью стряхивает мусор с колен; складка ее передника касается Йошкина лица.
— Ну о чем… скажем, девка выходит замуж, а как вышла, тут и узнает, что ее муж не мужик…
Тишина. Марика стоит, сложив руки на груди. Смотрит во двор, куда вот-вот готовится перешагнуть от соседей луна. Наконец говорит:
— Несладко это, конечно. Жаль мне ее. Только вот что… если узнаю я еще раз, что ты разговаривал с ней, в поле или где, или если еще придет она сюда, я ее найду, где б ни была, и такое ей устрою, что чертям станет тошно. Это одно. А второе…
Йошке так весело становится, что еле удерживается он, чтобы не вскочить и не захохотать во все горло.
— Марика!..
— Подожди. А второе я уже сказала… то есть не так сказала, скажу сейчас лучше. Тебе от меня не избавиться. Ни так, ни этак. Развестись тебе со мной не удастся. Я от тебя не уйду… разве что на кладбище. Так вот, запомни раз и навсегда. Ты, конечно, можешь от меня уйти — да только прежде я глаза тебе выцарапаю… — этих ее слов уже почти не слышно, потому что Йошка не выдержал-таки, вскочил и обнял ее, прижал к себе. С минуту Марика отчаянно отбивается, да плохо это у нее выходит. Тогда пускается она на хитрость: делает вид, будто обессилела и сдалась. Однако Йошка чувствует, что руки его понемножку-понемножку разжимаются, словно бы сами собой. Да, играючи Марику не удержишь, тут надо потрудиться… Только чуть-чуть, для пробы, приотпускает он ее на секунду… Этого вполне хватает Марике: изловчившись, молниеносно бьет она мужа по щеке. И даже не по одной, а по обеим сразу. С двух сторон. А звук — один только слышится… В ушах у Йошки звенит.
Бледнеет Красный Гоз: не было еще в его жизни случая, чтоб он такое от кого-то стерпел… Марика глядит в испуге, потом бросается ему на шею, плачет горько.
В ушах у Йошки еще звенит, но сердце уже смеется.
— Милая… золотая моя… — шепчет он, целуя ей ладони, шею, лоб, что придется.
В горнице вдруг слышится грохот, потом отчаянный рев; отпрыгивают они испуганно друг от друга, вбегают в горницу. Однако ничего страшного. Всего-то и случилось, что Эржебет свалилась со скамеечки и ударилась головой о земляной пол. На что мать Йошки говорит: мол, до свадьбы наверняка заживет.
10
Снова установилось вёдро.
Поля пока не тронула ни ржавчина, ни град, ни другая какая напасть. Лишь раз прошел град над окрестностями, да и то по лугам. Камыш после этого стал, будто старая юбка — помятый, потрепанный. Ну да это не страшно: все равно остался камыш. Разве что теперь за треть будут нанимать его косить, а не за половину. Верно говорят, что нет худа без добра, а особенно для крепких хозяев.
Весь народ в поле трудится; редко кто в эти дни околачивается в деревне. Так что совсем уж непонятно, почему исправник сейчас решил выборы нового старосты провести. Может, чтобы без особого шума все сделать? Однако в таком случае попал он пальцем в небо. Потому что мужики все свои дела побросают, а от выборов в стороне не останутся.
Короче говоря, агитация уже идет полным ходом. И кандидатов в старосты хватает. Первый тут, конечно, Габор Жирный Тот… Но пока стал он серьезным кандидатом, чего только вокруг не случилось!
Прежде всего случилось вот что: жена его, в девках Ракель Торни, недели три тому назад захворала, слегла в постель и лишь теперь поднялась. Подняться-то она поднялась и выздоровела, как полагается — да только странно как-то выздоровела. Одним словом, скривило ее, что твое коромысло. То есть снизу, до пояса, такая же она, как была, а выше совсем согнулась. Будто такой и родилась. Голова же — опять-таки вверх торчит; и потому похожа Тотиха на корягу или еще на букву «Z». Да вдобавок руки расставляет в стороны и размахивает ими на ходу, будто веслами гребет.
Невестки пересмеиваются у нее за спиной, сыновья помалкивают, а старый Тот смотрит на жену с ужасом. Да-а, здорово ее скрутило. Видно, богатство-то не только половицы гнет, а и спину тоже…
Доктор говорит — это у нее нервы усыхают. Слыхано ли такое? Чтоб нервы… Да еще чтоб усыхали…
Старуха и сама испугалась, когда после болезни дотянулась до зеркала и увидела себя. А потом махнула рукой. «А… жива, и слава богу», — подумала про себя и отвернулась от зеркала. Какая есть, такая есть… Идет из горницы — и виден ей пол под кроватью до самой стены. Стало быть, кое в чем она еще и выиграла: нагибаться не надо…
Словом, выздоровела Ракель и снова почувствовала себя человеком… А спина крива?.. Подумаешь, большое дело. Смирилась она с этим. По вечерам, как всю жизнь, стелет постель ко сну. Правда, и на постели лежит она скрючившись, будто согреться не может.
— Ложись, что ль, отец, — зовет мужа.
С тех пор как поженились они, всегда спали вместе, на одном тюфяке, на одной подушке, под одной периной. Однако поди разберись в человеческой душе: на что привык Габор к жене, а теперь не может себя заставить рядом с ней лечь, и все тут… И как от него такое требовать? Был он для нее, для бедной, хорошим мужем; вместе богатство наживали, вместе мучились… Да что поделаешь, если не тянет его больше с ней спать. Не та это баба, на которой он женился, с которой жизнь прошел. Другая какая-то…
Ну конечно, надо и то сказать: не смотрел бы он на нее так, если б не было рядом двух молодых баб, которые частенько пробегают через комнату стариков полуодетыми или вообще в одной сорочке, — не одеваться ж им каждый раз, когда надо за чем-нибудь выскочить. То мыться вздумают, волосы мыть; то детское корыто таскают туда-сюда. Закроются в горнице на ключ и плещутся там, детишки визжат. Словом, живут в свое удовольствие…
Жалко Габору жену, да ничего не попишешь. Из самого себя ведь не выскочишь… Вот и выходит, что на старости лет оказался он при живой жене вроде как вдовцом. Во всяком случае, жизнь у него какой-то пустой стала. Состояние есть и заботиться о нем особо не требуется: само себя оно умножает… а если не умножает, так и черт с ним. Словом, начал Габор Тот осматриваться вокруг: чем бы ему заняться?..
— Пожалуй, я тут посплю, на другой постели, мать, — говорит он жене как-то вечером, зевая, и ногу почесывает.
А та, бедная, давно уж чувствует, что не так что-то с мужем; теперь лишь дошло до нее, в чем дело. Стало быть, не нужна она ему больше… Натянув на себя перину, отворачивается она к стенке и беззвучно ревет в подушку.
А старик с тех пор так и спит, отдельно…
Из самой отчаянной бедности пробился он наверх, к состоятельной жизни; понятно, что долгие-долгие годы не знал он иного желания, кроме как догнать тех, кто богатым родился. Добился он своего. Что говорить: даже перегнал многих. Да богатство — странная штука: плохо, когда его нет, а когда есть — вроде не так уж оно человеку и нужно. Все равно ведь не съешь больше, чем в тебя влезет… Был, говорят, один мужик, который попробовал больше съесть, да и тот за это поплатился. Как-то вечером съел он сначала столько, сколько мог, а потом еще столько же; через два дня его и схоронили. Словом, богатство у Габора есть, и в люди он вышел; вот и решил теперь во что бы то ни стало в старосты попасть. Первым человеком на деревне стать. За такое стоит и бороться, и страдать. Жена, дом, хозяйство — обо всем этом ему уже можно не заботиться; сыновья сделают, что надо. А должность старосты — только ему, Габору, по плечу.
Однако это тоже просто так не делается: мол, хочу быть старостой — и готово… Тут тоже свой порядок.
Ференцу Вирагу исправник отставку дал; стало быть, надо кого-то выбрать вместо него. Доходят до Габора слухи, что Эсени себе сторонников набирает, да и Янош Багди зашевелился. Надо и ему что-то предпринять, пока не поздно.
Ну ничего, он тоже не лыком шит.
Начал Габор с того, что посмотрел на себя в зеркало, когда один оказался в горнице. Хм. Мужик он еще ничего, вот только… пиджак на нем какой-то старый, вылинявший, да и голова заросла, усы лохматые. И сапоги простые, стоптанные… А есть ведь и праздничная одежда, и сапоги хорошие… Взять да надеть их, а на выход новое купить… И вот однажды утром не стал он натягивать будничное, а направился прямо к комоду и вытащил черный костюм. И надел его. Жена уже давно встала (как и прежде, встает она первой в доме), заходит в горницу, а Габор стоит у окошка, трубку набивает. Старухе даже почудилось вначале, чужой какой-то мужик забрел к ним; а как рассмотрела, так руками всплеснула.
— Господи боже, уж не случилось ли чего? Да ты в себе ли?
Такого еще не было, чтобы Габор Тот в будни хорошую одежу носил. Даже когда сыновья его женились, и то не надевал, чтобы зря не трепать.
— Я-то? Именно что в себе…
Вот и весь его ответ был. Буркнул под нос и ушел. К парикмахеру. Здесь он тоже не бывал до сих пор. Стриг его кто-нибудь из сыновей, а брился сам.
Шербалог не знает, куда и усадить такого клиента. Подушку кожаную на стуле раза три перевернул… Не очень-то ходят сюда богатые мужики. Разве что домой к себе его позовут, раз в год по обещанию. А этот вдруг сам пришел. Да в черном костюме. Видно, и вправду не знает, куда деньги девать.
— Пожалуйста, пожалуйста, господин Тот, — приговаривает Шербалог. Габор садится. И смотрит на себя в зеркало, будто всю жизнь этим занимался. Зеркало довольно тусклое; Шербалог его на каком-то аукционе купил, еще когда учился на парикмахера. Да ведь от этого оно не перестало зеркалом быть. Кто в него смотрится, того оно и показывает; скажем, посмотрится мужик — покажет мужика, не лошадь. А это уже немало…
— Ах, как запустили вас, господин Тот, — говорит Шербалог и начинает бритву точить, а сам ухитряется боком глядеть на клиента. Щелкает бритва по ремню, Шербалог же в такт носком постукивает и коленом подрагивает, будто ему очень весело или будто на ногу ему наступили.
— Потому и пришел…
— Конечно. А почему же еще? Вы уж это мне доверьте. Уж я… — одной рукой, с бритвой, тычет он в воздух, другой берет Габора за голову, и тут только спохватывается, что намылить забыл. — Сию минуту, я счас…
А Габор Тот ждет терпеливо, смотрит на себя в зеркало. Видит там не только себя, а еще и полгорницы. И печку. И бабу, жену Шербалога. «Ничего баба», — думает, вспоминает, что у Шербалога это вторая жена.
Правда, если присмотреться, она уже тоже не первой свежести; на ноге, под коленом, какой-то широкий рубец. Будто каленым железом прижгли. Или собака хватила… А так кожа на ногах — белая, как молоко… Ну, еще мозоли выпирают из туфель, да это ерунда. Баба справная. Топливо подкладывает в огонь, в кастрюле помешивает; по горнице разносится запах жира, слышится бульканье; суетится баба вокруг плиты: то в одну сторону нагнется, то в другую потянется…
Интересно вот так смотреть на нее. Когда она не знает об этом… В то же время и на себя, конечно, смотрит Габор Тот, наблюдает, как из старика превращается он в крепкого мужика в самом расцвете лет. Вот пропали пучки волос, торчащие из ушей; Шербалог и брови ему подравнивает, усы подстригает, советует пробор носить сбоку. «Прошу», — говорит наконец и салфеткой обмахивает ему шею, лицо.
Габор Тот встает, наклоняется к зеркалу, ощупывает себе щеки, подбородок, поворачивается. А жена Шербалога как раз в его сторону глядит. И уж как-то так получилось, что взял и подмигнул он бабе.
Да тут же и застыдился. Скажи кто вчера, что сегодня будет он чужой жене подмигивать, — в жизни бы не поверил. Чего только не бывает на свете, господи прости…
Расплачивается, как положено, прощается. И кажется ему, что баба опять на него глядит, когда он в двери выходит.
Вышагивает Габор по улице, нарядный, а сам косит по сторонам, как вороватый кот. Во дворы заглядывает через забор; бабы кур сзывают или у колодца ведра поднимают, нагнувшись. Другие полют в огороде, рвут салат. Опять же наклонившись. «Эх, черт побери, сколько баб на свете»… — такие мысли бродят в голове у Габора Тота; шляпу сдвигает он на затылок.
Ничего не может он с собой поделать: уж несколько недель все время про баб думает, грех на душу берет. Легко священнику говорить, дескать, не пожелай и прочее… Если у него кровь играет, нутро горит. Конечно, не полагается ему на баб заглядываться: как-никак, шестьдесят два стукнуло на днях. Да что делать?.. Так ведь никто об этом не знает…
И ночи в отдельной постели становятся все более беспокойными; чего только не приснится за ночь. То парнем себя видит, когда Ракель, бедняжка, девкой еще была: волосы, бывало, распустит, потом соберет в узел, и узел этот — словно пышный калач.
А вчера видел во сне юбку, которую ветер развевал в темноте. И надо же — из-за какой-то юбки потом до утра глаз не сомкнул, ворочался с боку на бок.
А нынче ночью… Даже вспомнить стыдно.
Нынче ночью летал он во сне. Руки в стороны развел — и лети куда хошь. Вернее, только подумает: мол, туда полечу или сюда, — и уже там оказывается. Словно ветер, носился над полями. Под ним облака клубились, меж ними открывалась бездна, а ему — хоть бы что. Он себе перепархивал через все эти бездны, будто кузнечик через межу… Ох, не к добру эти полеты, не к добру.
Вот что получается, когда жену скрючит, а муж по-прежнему здоров, здоровее, чем был.
— Так мне и надо. За то, что ни одного из сыновей своим именем не назвал… — корит себя Габор, натягивая сапоги; уверен он, что большой это грех, — потому и подвергает его бог такому жестокому испытанию.
А испытание в самом деле жестокое и мучительное. Еще бы: каково ему с женой, которая прожила рядом всю жизнь — и вот состарилась, засохла, как засыхает цветок или виноградная лоза, а он остался здоровым и бодрым… Что теперь будет? Любовницу завести нельзя: что скажет жена, что скажет деревня?..
Тогда-то и решил он стать старостой.
— Господи милостивый. Ох, господи милостивый, — запричитала старуха, когда явился он домой. Больше и слов у нее не нашлось, лишь передник подняла к лицу, высморкаться.
— Чего скрипишь?.. Геза дома?
А баба глядит на мужа и принимается реветь в голос. Потом вдруг перестает, вытирает передником нос, поворачивается, ни слова не говоря, и уходит в сад.
Ну а Геза как раз дома был, и не то чтобы совсем случайно. В полицию его нынче вызывали, к десяти часам. Зимой еще ружье у него отобрали… да ружье — это что! Никто про него не докажет, что он с тем ружьем охотился… Вызывали его за то, что в конце зимы вдруг стал он таскать откуда-то безголовых фазанов десятками; сколько он этих фазанов раздарил по деревне — не сосчитать. Вот насчет этого и пробовали полицейские дознаться.
— Где вы их брали? — спрашивают.
— Где? А там, на снегу валялись.
— В ивняке, что ли?
— Ну да. Кто-то им головы отгрыз, потому как мерзли они, бедняжки, и улететь не могли, видать… так что не оставлять же их там! Верно, господин унтер?
— Сердце у вас доброе, я вижу… — смотрит на него унтер. Ничего не может больше придумать. Если все это так — а как же еще может быть? — то нельзя его наказывать. Остается доложить начальству: пусть делают с ним, что хотят. Или что могут.
Так что Геза пришел домой веселый и дома еще долго смеялся. Сложит ладони ковшичком, приложит ко рту, будто на морозе греет, и хохочет. Звук раздается, как из старого бидона. Ишь, поймать его захотели. Не на того напали. Думают, они умнее его. Черта с два! Это полицейские-то? Да он и самого исправника вокруг пальца обведет, если надо. Хе-хе-хе…
Кто-то, скажем, открыл порох; еще кто-то — Америку… А вот нашелся человек, который открыл, как фазанов с дерева снимать, сразу без головы. Проще простого это. Как белье с веревки. Берешь ножницы на длинном шесте, которыми ветки на деревьях обрезают, идешь в ивняк, и — чик, чик. Падают фазаны на снег один за другим. Просто и ясно, как порох. Или как Америка. Или как божий день.
Ружье, вишь, у него забрали… И черт с ним, с ружьем. Он и без ружья больше добудет дичи, чем любой охотник. Потому что зайцы сами, можно сказать, в силки, в ловушки лезут, а фазаны сидят на деревьях, нахохлившись, мерзнут и ждут, чтобы их поймали. Лучше всего получаются силки из струн бандуры. А особенно — из струны «ми». Любо поглядеть! Выходишь в поле, берешь с собой капустную кочерыжку, да колышек, да струну «ми» — и все дела.
Можно еще к стогам приманивать зайцев…
А ружье — черт с ним.
Конечно, ружье — тоже штука хорошая… Вот если вернется Пер, кузнец… Стержень стальной у Гезы есть уже, и приклад подобран…
Словом, из-за этих дел Геза нынче дома.
Шагал он домой из полиции, и мир ему таким казался хорошим!.. В кооператив зашел, табаку подкупить. А в кооператив товар поступил, вся лавка ящиками заставлена. Лавочник как раз один ящик вскрывает, с пиленым сахаром.
Смотрит Геза на сахар, который в ящике куда белей и красивей кажется, чем так. Удивительно все-таки, до чего люди к красивому тянутся. Один, скажем, цветы приносит той, которую любит, потому что и цветы красивы, и та, кого любит он. Другие покупают апельсины, то, се… А Геза — не такой, как все. Он — особый. У него и ума больше, чем у других; а от ума и доброта происходит (как цыпленок от курицы); доброта же обращается на того, кого любишь. Любит он, конечно, жену свою, Лили. Причем его любовь — это тоже не то, что любовь обыкновенных людей. Это его, Гезы, любовь… Так вот он размышляет, стоя в кооперативной лавке и глядя на ящик с сахаром. Почему-то — бог знает почему! — в белизне этой видится ему белая кожа Лили… Да и вкус у сахара, можно сказать, точь-в-точь как вкус жениных губ.
— Почем будет такой ящик? — спрашивает Геза, тыча ящик носком сапога.
— Ящик-то? Сейчас… Пятьдесят на пять… Пятьдесят пенгё. Да сам ящик восемьдесят филлеров. Всего пятьдесят пенгё восемьдесят филлеров. Да только членам кооператива! А то ведь набегут всякие…
— А я что, не член, что ли? Дай-ка мне целый ящик, который не открыт еще. Запиши, потом расплатимся…
Короче говоря, входит старый Тот в горницу, а там, на полу, стоит разбитый ящик, и сахар высыпается из него грудой. Лили с визгом, с хохотом бегает вокруг стола, волосы растрепаны; сахар и в руке у нее, и во рту… А Геза, высунув язык, пытается ее поймать. Увидев свекра, Лили испуганно прыгает на диван. Спиной к стенке прижимается, юбку на коленях одергивает, глаза опускает конфузливо. Геза же остается, где был.
Что ни говори, а побаиваются в доме старика.
— Что это у вас тут? Делать, что ли, нечего? — и смотрит на гору сахара, не понимает ничего. Думает, Геза кучу денег нашел или с мельницы приехал.
— Я только-только домой пришел… в полицию вызывали. Да там все в порядке; вот переоденусь и пойду. Наверное, уже перевернули наши сено… после обеда соберем, сколько успеем…
— Ладно… я не затем. Я вот что… Ну ладно, скажу при твоей жене. В общем… выборы скоро. Старосту будут выбирать… Все готовятся. Как ты думаешь, что мне-то делать?
— Что? Да то, что… надо, чтобы вы стали старостой.
— Хорошо, да ведь…
— Я знаю. Я устрою. Вы мне только скажите.
— Ну, словом… если деньги нужны или что, так ты не стесняйся!..
— Я? Хо-хо…
Так вот и стал Геза у отца любимым сыном. А надолго ли — видно будет.
Правда, Ферко в хозяйстве лучше разбирается, чем Геза… зато Геза насчет политики ловчей. А это тоже дело немалое. Особенно когда старостой хочешь стать.
11
С тех пор как последний раз рыхлили, ни разу не было дождя; на кукурузе листья обвисли, затосковали. Зато пшеница хорошо твердеет, и рядки на покосе сохнут в два счета. Скосят мужики траву, через два дня пошевелят, а еще через день-два можно копнить и стога ставить. Травы в этом году стоят густые; дожди в конце мая низкотравье выгнали в рост. Так что даже на солончаках хорош сенокос, и делать там ничего не надо, только жди, смотри, потом коси. Теперь вот собирай. Да вози, в стога складывай.
Некоторые сразу после дождей все скосили; да напрасно. Не оправдался их расчет: слабым было еще сено. Кто не спешил с косьбой, вдвое больше получил. Да кто ж может сказать наперед, что лучше? В другие годы, бывает, протянешь с косьбой — и потеряешь на этом. Засохнет трава на корню. А теперь вот… Одно слово: человек предполагает, а бог — или погода — располагает.
У Красного Гоза тысяча пятьсот квадратных саженей под лугом; сена он получил много: сорок две копны. Когда высохнет, это центнеров двадцать будет. Да на арендованной земле третий раз уже косит люцерну. (Земля эта дешево обходится: за полхольда платит он в год семь пенгё, а землю арендовал на семь лет.) Так что корм на зиму обеспечен. С этим все в порядке.
Чуть не за каждой травинкой наблюдает Красный Гоз; душой болеет за каждое растение, каждый колосок. Что было бы, если б не удалась трава? Не знает, что тогда было бы… Две коровы с теленком ждут эту траву, да к сентябрю еще один теленок появится… Ну ладно, сено есть, это главное… А если да кабы — над этим еще успеет поломать голову.
Сено в деревне в случае нужды не очень-то купишь: в каждом дворе есть корова, часто еле-еле хватает корма до весны. А весной выгоняют скотину на пастбище: пусть ищет себе корм, если найдет. Мужики же с надеждой смотрят на солончаки: если не подведет погода, оправдает себя земля. А подведет… — лучше и не думать, что тогда…
Три огромных стога поставил Красный Гоз; вдвоем с Марикой собирали, таскали, складывали. Йошка сверху стоял, Марика подавала аккуратно. Хороши получились стога. Только средний чуть кривоват. И то потому, что не там слез Йошка, где надо было. Не рассчитал. Ну ничего, стоять будет; только вот издали он грустным каким-то выглядит, будто голову на грудь повесил…
Все луга уставлены стогами: издали взглянешь — будто облака, севшие на землю, или будто узлы на затылках у баб. Кузнечики трещат в траве: идешь по лугу, а они так и сыплются из-под ног, словно кто зерно бросает направо и налево. Много кузнечиков в этом году.
Жарко, душно; тени от стогов еле хватает, чтобы спрятаться, да к тому же комары звенят, досаждают.
Красный Гоз нынче в поле — накануне сухой ветер дул, надо взглянуть, не растрепал ли стога. Да нет, все в порядке. И тот, кривой, хорошо стоит, вроде даже еще и примял его ветер. Однако Красный Гоз не только из-за этого пришел; позавчера, когда копны таскали, подметил он кое-что… Бросилось ему в глаза, что очень уж крепкие, сильные сорняки вымахали вдоль канала, на свежей насыпи.
Всего месяц, как выкопали сливной канал — и надо же, какая сочная, мясистая трава вытянулась по берегам. Негустая, правда; да ведь выросла, вот что интересно, и все еще растет. Что за трава, неизвестно… вон она, тянется вверх, листья в стороны раскинула.
А это большое дело. Значит, неправда, что бесплодна солончаковая земля; надо только найти способ, чтобы заставить ее родить. Ведь никогда еще, пока свет стоит, не бывало, чтобы на солончаке что-то росло, кроме травы, которая как корм, конечно, хороша, да одна беда: мало ее и не всегда родится…
С весны много раз обходил Красный Гоз свой луг, смотрел, что к чему. Неплохой луг, и по величине, и так. Особенно нынче, когда уставлен он скирдами… А насколько был бы он лучше, если б и здесь, как на других делянках, волновалась под ветром пшеница или кукуруза поблескивала бы каплями росы…
Когда окончательно расстался он с артелью — всеми силами, почти с отчаянием уцепился за свою землю, как утопающий хватается за спасительную веревку; до всего ему хотелось дойти, узнать, понять все, что написано о земле, о скотине, об урожае. Прочесть об этом было нетрудно: в любом календаре, в любой газете пишут нынче; интересно только, что раньше он о таком и не слыхал… Словом, насчет солончаков вычитал Красный Гоз, что всем, кто хочет улучшать эти земли, правительство дает известь по сниженной цене, а известь тут нужна в первую очередь. Вот только… сколько ее надо, извести? Да и станция очень уж далеко отсюда — километрах в шестнадцати. И потом: сниженная цена — это какая же? Если даже считать примерно, то известкование, даже без перевозки, обойдется на его тысяче пятистах саженях, пожалуй, в триста пенгё… Нет. Это не выход. Выход, наверное, там надо искать, где вон эти пышные сорняки растут…
Идет он по лугу из конца в конец, с лопатой на плече, останавливается у края, где земля насыпана из канала. Сюда кидали землю и туда. На обе стороны.
Хорошо поработали мужики — оценивает опытным глазом; смотрит, как распределяются слои в почве. Конечно, все это он и так знал. Однако теперь смотрит по-другому, чем раньше. Глаза другие и смотрят по-новому.
Ясно, что на поверхность нижний слой попал; его-то он и разглядывает. Выброшенную наверх землю. Растут здесь больше крупные растения, вроде пырея; однако и другие лезут. Хоть и суховата земля и к тому же — сыпуча, желтая, с песком, однако не видно, чтобы потрескалась.
Ковыряет землю, ищет корни растений. Здесь, наверное, таится секрет солончаков.
Секрет таков: просто надо взять покос за четыре угла, как холстину, и перевернуть его. Вывернуть наизнанку. Чтобы земля снизу попала наверх. А сверху — вниз. Вот и весь секрет…
Однако… полторы тысячи квадратных саженей можно перевернуть только шаг за шагом, то есть из канавы в канаву. И канавы копать по крайней мере в метр глубиной. Ну, может, в восемьдесят сантиметров. Но лучше все же на метр. Для верности. Лучше раз сделать хорошо, чем два раза плохо… Длина луга — двести шагов, значит, столько же будет канав. Ширина — пятнадцать шагов, это — длина каждой канавы. Одна канава — пятнадцать кубометров земли. Двести на пятнадцать — три тысячи…
Три тысячи кубометров надо перекидать, перевернуть лопатой. Сколько Красный Гоз за день сможет сделать? На земляных работах — это он знает; да ведь своя земля — другое дело… Нет. Это надо прежде попробовать. Для того и принес он с собой заступ.
Однако сначала надо еще кое-что сделать, еще кое-что рассчитать, обдумать…
Воткнув лопату в землю, идет он к краю картофельного поля. Стоит здесь, смотрит в канал: намедни вырезал он ступеньки к воде. Хочет примериться, как пойдет полив на картошке.
Десять рядов картошки взял для начала. И дважды уже поливал. Таскал воду двумя ведрами, на каждый куст по полведра… Да не в самый куст лил: как ни тепла вода, а кожу холодит. Значит, и для растения не годится… Оно ведь — тоже живое… Выливает между кустами. Вот он и рассматривает сейчас место полива и картошку.
Политые рядки определенно и выше, и темнее. Хочется ему подкопать хоть один куст, еле удерживается. Потерпеть надо. До осени. Там увидит, что получилось. Зря таскал он из канала огромное множество ведер воды или не зря.
От канала до картошки протоптана тропинка, будто из бетона. Сколько шагов он сделал, сколько ведер отнес, пока тропка стала такой гладкой! Сколько капель выплеснулось ему на ноги, на штаны; сколько мыслей пронеслось в голове, пока ходил он этой тропой!.. Ну ладно, скоро увидит, ради чего старался… Раз досталась ему эта земля от матери, от деревни, от родины — значит, с нее он и должен жить!
Осенью выяснится.
Все станет ясно осенью.
Вот если б какое-нибудь приспособление, чтобы воду поднимать из канала…
…Вспоминает он, как в бытность солдатом, в далеких краях видел возле реки громадные колеса, которые вертелись и выливали воду на дощатый желоб. А кое-где пыхтел мотор, выбрасывая вонючий газ, от которого трава чернела и ложилась на землю. Или вращались лопасти из брезента, из жести, вроде как у ветряных мельниц. Ведь здесь тоже почти все время дует ветер. Сила ветра поднимала бы воду, текла бы вода между рядами картошки, орошала бы пшеницу или что угодно, когда случится засуха. Люцерна бы росла по колено, шапки подсолнечника были бы с дверь величиной, а турнепс выше человеческого роста…
Ну бог с ними, с мечтами. Пока надо что-то делать с солончаком.
Не один Красный Гоз протоптал здесь свою тропку: много троп вьется вокруг канала. Таков уж человек: тянет его к новому, как щенка. Идут мужики на поля — и все норовят возле канала пройти. Хотя бы для того, чтобы потом сказать: «Шел я, значит, мимо канала…»
Вот и теперь идет кто-то в эту сторону; пока только голова да плечи видны за рожью. А теперь — одна соломенная шляпа, потому что вниз спустилась тропа; вот опять по пояс виден мужик: сейчас он за кукурузой Шандора Папа идет, кукуруза та — недорослая, и к тому же желтая, как небеленый холст… Мужик этот — Пап Бикаи. У него поле подальше.
— Клад, что ль, ищешь? — спрашивает он, останавливаясь рядом. Красный Гоз уже по колено стоит в канаве, выбрасывает землю в сторону.
— Пробную копку делаю, дядя.
— Пробную? А на что?
— А чтобы люди смотрели да голову ломали, — и подравнивает выкинутую землю.
— Хе-хе-хе… — смеется тот. Потом ближе подходит. — Да ну, скажи, что ли, серьезно.
— Хочу этот луг перевернуть, дядя.
— Это как же? Как на винограднике, что ль?
— Ну да. Только глубже. На метр. Посмотрю, какая внизу почва.
— Ух ты… Ну, придумал! Зачем тебе это? Поспал бы лучше.
— Там видно будет, что лучше.
— Видно будет? Эх… это видно было в тот самый час, когда господь солончаки сотворил. Зачем бы он их творил, если б не нуждались в них тогдашние люди? Стало быть, нужны они были… хорошие ведь здесь покосы. Значит, так и надо. Жаль портить. А то ни покоса не будет, ничего другого, — и замолкает, потому что смотрит на поле и видит, насколько здесь все лучше, чем на соседних полях. Может, и есть в этом смысл…
— Да что ж, дядя… Даром, что ли, говорят: вольному воля?.. Каждый пляшет, как ему нравится.
— Это, конечно, так… — отвечает Пап Бикаи, воздух зачем-то нюхает, и идет дальше.
А Красный Гоз смотрит на часы: за сколько времени вырыл он одну канаву?
Пап Бикаи не первый, кто останавливается у его земли. Многие смотрели недоверчиво на кукурузу, на пшеницу, на картошку и головой качали. Всем видно, что кукуруза здесь лучше, чем у других; и картошка хороша; видели и следы полива, снова головой качали — и шли дальше своей дорогой. Кое-кто говорит: у Красного Гоза просто руки чешутся. Другие считают, что дельный хозяин из него выйдет.
Ну неважно. Красный Гоз этих слов не слышит, не приходится ему на все замечания отвечать. Он себе размышляет, придумывает что-то и трудится для успокоения души.
Жарко. Сейчас, часов около трех, самая жара…
Баба идет по тропинке, на плечах у нее — деревянные вилы, платок издалека виден. Красный платок, как дикий мак, а передник — белоснежный. Пшеница то по коленям ей бьет, то до подмышек достает; идет баба вдоль канала.
Красный Гоз только взгляд в ее сторону бросает и снова наваливается на заступ, режет землю большими кусками, бросает ее в соседнюю канаву. К половине четвертого обязательно надо эту канаву кончить… С половины двенадцатого до половины четвертого — четыре часа… Двести канав — это четыре на двести: восемьсот часов… Восемьсот часов требуется, чтобы весь луг перевернуть. Зато луг будет, словно бы совсем новую землю он купил. Выходит, свою собственную землю приходится покупать… Другого выхода нет.
— Здравствуйте, кум. Не жарко вам работать? — здоровается Илонка Киш — она это, собственной персоной — и ближе подходит. Присаживается на корточки возле канавы, вилы кладет поперек.
— Жарко, кума… В поле собрались?
— В поле, кум. Сено надо перевернуть на болоте. Трава там такая — ни на что не годится. Разве что скоту на подстилку… — уселась, ноги свесила в канаву.
— Кум как поживает?
— О, этот ваш кум… — и без лишних слов начинает рыдать. Слез не вытирает, смотрит сквозь них на Красного Гоза.
Тому не хочется глаза подымать, да ведь… что тут такого? В поле они, днем… и вообще, как ни кинь, а жена приятеля, кума опять же…
В то же время видел ведь он, как она села, и знает, зачем она так села. Только что не сказала при этом: иди, мол, располагай мной… Правда, трусы на ней надеты… а вообще ноги ее видны во всей красе, до самого, как говорится, корня. Эх, и дурацкая же история, черт бы побрал!.. Не баба, а куст при дороге: кто хочет, тот и сломит ветку. До чего дошла, бедняга… Вообще-то — что в этом такого вроде бы? Ничего такого нет: от мужа ее не убудет, а от нее самой — тем более. Раз уж она на это настроилась. Однако звенят у него в ушах недавние слова Марики, предупреждение ее; звенят, как набат на пожаре.
— Вот что, кума, поговорим начистоту. Мне, конечно, все равно… я бы вам сказал, мол, так и так… Ведь не чужие мы, так ведь? Только вот… тут другое еще есть. Я свою жену очень, очень люблю. И доволен я ею. И не буду на сторону глядеть, ни теперь, ни после. Так что, кума, прикройте-ка ваши причиндалы и убирайтесь отсюда к чертям собачьим.
— Да что вы, кум… — только и может вымолвить Илонка. И то с трудом.
Не думал Красный Гоз, что это так здорово — начистоту говорить… Эх, добавить, что ли, еще, чтоб до костей проняло?
— Кобель вам нужен хороший, а не я…
И готовится еще что-нибудь похлеще сказать. А Илонка только рот разевает.
— Я думаю, — говорит Йошка, — вам и кобеля, пожалуй, мало…
Кума не дожидается, что дальше будет, вскакивает. Выбегает на тропинку, и — давай бог ноги. Повернула за кукурузу, скачет, что твоя лошадь.
Красный Гоз посмеивается сконфуженно. Жалко ему бедную бабу, да ведь, если сейчас от нее не отвяжешься, потом трудней будет. Сядет на шею, не стряхнешь. Ничего другого ему не оставалось, кроме как отхлестать ее грубыми словами. А что она будет теперь о нем думать — это бог с ней. Даже лучше. То есть… это самое лучшее. Надо бы все-таки добавить еще что-нибудь или стукнуть ее — да жаль, убежала. Не осталось после нее ничего, только вмятина на свежей земле да вот еще вилы… Берет Красный Гоз вилы, швыряет их подальше, на тропу. Смотрит некоторое время на то место, где она сидела: так легко ее там представить… Со злостью вонзает туда заступ. Мало, бьет еще, перекапывает вдоль и поперек. Смотрит на взрытую землю, аккуратно ее выравнивает. Вылезает из канавы, кладет заступ на плечо, бросает еще взгляд вдоль поля и идет домой, напрямик, без дороги.
С поднятой головой идет, с чистыми глазами.
Двести канав… четыре часа на каждую канаву… восемьсот часов. По десять часов в день — это три месяца. За это время на поденщине, или на земляных работах, или ещё где-нибудь заработал бы он не меньше трехсот пенгё, да землю за эти деньги, конечно, не купишь; потому что деньги — такая вещь, уплывут как вода… а так — вроде бы землю купил. Целых полтора хольда. То есть, на господском языке, почти кадастровый хольд[38]. Самая дешевая земля это будет на свете.
Смотрит Гоз вдоль улицы; как рассказать об этом в деревне? Нет, сначала, пожалуй, лучше про себя держать: не поверят мужики. И поверят, и не поверят. До конца поверят после, когда он урожай снимет…
Во дворе встречает его необычная суета. Мать вместе с Марикой сидят на корточках посреди двора, а чуть поодаль стоят двойняшки. «Идите, идите ко мне, птички мои, идите», — приговаривает Марика и манит их к себе. Эржебет вдруг делает несколько шагов, почти бегом, пошатываясь. Потом останавливается, смотрит вокруг. Мария пока раздумывает… потом и она срывается с места, идет даже немного дальше, чем Эржебет, тоже стоит, оглядывается с серьезным видом. Мать Йошки сидит немного в стороне, морщины у нее на лице растянулись в ласковой улыбке.
— Смотри, Йошка, смотри, ходят! — радостно кричит Марика.
Красный Гоз присаживается рядом с женой и думаем: жаль, что не высказал-таки он куме самую большую грубость, которую мужчина может сказать бабе.
Понемножку отступая, заставляют они детишек дойти до садовой калитки, потом обратно.
Вот так птицы учат летать птенцов.
Когда занят человек таким делом, время словно бы не движется. А Йошка, хоть и сделал, что хотел, а еще и люцерну собирается сегодня посмотреть на арендованной земле. Да разве есть более важное дело в мире, чем первые шаги твоих детей!
Такое это большое дело, что не умещается в голове. Пусть говорят люди, что хотят, — а понять это может лишь тот, кто хоть когда-нибудь, присев на корточки, манил к себе, все ближе и ближе, своего ребенка.
Калитка стукнула; все оборачиваются. Двойняшки, словно решив, что на сегодня хватит, шлепаются на землю. Где стоят.
Геза Тот входит во двор.
Одет он по-праздничному, будто в церковь собрался или из церкви идет.
— Здравствуйте, — говорит. — Бог на помочь.
— Здравствуйте, — отвечают все втроем. — Спасибо. Сегодня вот пошли у нас двойняшки…
— Пошли? Так быстро? А наш ходит, только если за руку держишь… Поглядите-ка, что дядя вам принес… Что крестный вам принес… — присаживается и он на корточки, роется в кармане. Шелестит бумага, в которую конфеты завернуты. Леденцы это. Детишки очень их любят. Трясет кульком, как погремушкой.
Двойняшки что-то лепечут: вроде бы говорят, да не поймешь что. Ручонки протягивают. А вставать не встают. Не хотят, и все тут. Хватит с них на сегодня. Так что Геза сам к ним прыгает на корточках, как лягушка, и высыпает леденцы им в ладошки. Два-три леденца падают в пыль, да это не страшно. Здоровее будет ребенок, если с пылью конфеты ест. А Геза встает, ладони отряхивает, говорит:
— Так что, кум, кума, я вот зачем пришел. Сегодня вечером пожалуйте к нам на ужин по случаю именин моей супруги…
— Как? Разве сегодня у кумы именины?
— А как же. Правда, ее Лили зовут, да на самом деле она — Йолан. Окрестили ее так. В общем, два имени у нее: Лили и Йолан. Так что два раза можно именины справлять, если захочется.
Йошка и Марика молчат, переглядываются. В свое время, посоветовавшись, согласились они пойти в кумовья к Гезе; ну, а дружбу с ним водить — это уж, пожалуй, слишком. Правда, Геза этот не такой уж никчемный мужик, как многие считают. Тогда ведь и узнаешь человека, когда ближе с ним познакомишься. Одна беда: Тоты — богатые, а они — бедные… Бедные, конечно, рядом с Тотами… а вообще — еще видно будет. По крайней мере Йошка так думает. А еще думает: почему бы и не пойти? Стоит поближе узнать людей, которые из бедняков стали богатыми.
— Ладно, кум. Придем, если ничего не случится.
— Да уж вы постарайтесь, чтобы ничего не случилось.
— Ну-ну, само собой…
Уходит Геза; Йошка полдничать садится. Поев, собирается уходить, да тут приходит Шара Кери.
— А я уже не повитуха! А я уже не повитуха! — кричит от самой калитки. Одета она даже лучше, чем всегда. Раскраснелась от быстрой ходьбы, встает в тень, возле стены. — Ох, дайте сесть куда-нибудь, милые, а то упаду… Совсем нынче уходилась…
Марика выносит скамеечку, в тень ставит.
— Присаживайтесь, вот сюда.
— Ох, спасибо. Как у вас дела-то?
— Слава богу.
— Ну, мы еще поговорим… А я, красавчик, к вам пришла. Трус вы последний. Нет, вы бы видели, как он перепугался, когда близнецы у него родились! Вот уж никогда бы не подумала…
— Постойте, постойте. Дайте я сперва скажу, — подходит к ней Красный Гоз. — Знаете, кто бы из вас вышел?
— Капрал?
— Э, куда там капралу! Прямо-таки ротмистр. На поясе — большая сабля, на голове — кивер, и волосы на уши начесаны…
— Это зачем? Чтобы отбой не слышать?
— Ха-ха-ха-ха…
— Ну, хватит шуток, я по делу пришла. В четверг мы с Вирагом женимся, и вы будете у нас свидетелями, ясно? Это мое условие. Я Вирагу так и сказала. Иначе, мол, не пойду замуж.
— Ну, из-за этого стоит ли?..
— Постойте. Это — одно. А второе — то, что старосту будут скоро выбирать. Моему-то старостой уже не быть… пока по крайней мере. Но что мне с ним делать? Не вечно ж возле моей юбки ему сидеть… Словом, нельзя ли куда-нибудь его пристроить? Можно ведь, я думаю, да не от меня это зависит. Коли от меня бы зависело, все было б сделано. Ну, поругались бы мужики, а потом сказали: мол, черт с ним, что один, что другой… Не такой ведь плохой он, в конце концов. Только зря ввязался в эту историю с участками…
— Знаю, знаю… Другой бы на его месте тоже ввязался… да не в этом дело. В том дело, что я тут ничего не могу поделать. Кто я здесь? Никто. Ни хозяин, ни землекоп. Вроде мерина. Или вроде вола, — говорит Красный Гоз.
— Э, полно вам… вы теперь в деревне самый знаменитый человек. Уж если кого послушают мужики, так это вас. Так что не прибедняйтесь мне тут.
— Это я-то знаменитый?
— Вы, вы, нечего скромничать.
— Ну если я знаменитый, то будет ваш Ференц Вираг в правлении.
— Руку?
— Руку!
Ишь ты… он — знаменитый! И от него что-то зависит!.. Он Вирага уважает — плохого Вираг немного сделал, не больше, чем любой другой староста. Ведь и у святого руки к себе гребут, а не от себя… Ну, не повезло ему, не сумел осторожно действовать… Ладно. Если и вправду от него, от Гоза, что-то зависит, он постарается. Хотя бы потому, что кто-кто, а Шара Кери заслуживает благодарности. Пусть она не повитуха уже… да ведь дело не в этом.
А вечером именины были у Тотов.
Немного опоздали они с Марикой: Красный Гоз на люцерне долго пробыл, а потом детишки разохотились вдруг ходить — было там смеху, радости, чуть весь двор не перевернули, а потом сени, а потом и горницу…
— Сюда, сюда, кум, кума! — вскакивает Геза, завидев их. Два места для них оставлено; хоть и не самые главные, да и не самые последние.
— Лучше поздно… — идет к ним Ребека, жена Ферко, которая, по всему видать, с каждым днем молодеет; нынче она здесь за хозяйку. Лили тоже встает, она тут, пожалуй, единственная, кто в самом деле любит Марику, хоть и непонятно это: ведь у Лили за душой целых четыре класса реального училища. И к тому же на мельнице она выросла… Марика, как всегда, сразу освоилась за столом: кивает ласково и тем, и этим, улыбается, садится. Мужики и бабы, которые здесь собрались, — совсем другой народ, чем тот, с каким встречалась она прежде на именинах, на крестинах. Не те это, с которыми она росла, гуляла, а те, о ком лишь знала, что есть такие; кого видела иногда на свадьбе, с кем танцевала даже, разговаривала… Да как-то не по-свойски это было, без души и без особой радости. Ни для нее, ни для них.
Они, конечно, хоть до утра готовы были плясать с красивой, но бедной девкой. А вот в жены взять — тут бы подумали. Если, конечно, Ферко не считать, беднягу… Любопытно становится Марике, ищет его глазами. Ага, вон он. Сидит в конце приставного стола, улыбается во весь рот, кивает.
Господи, как же все меняется! Ведь два года назад этот мужик был причиной всех ее несчастий. А теперь сидит, такой безобидный, что диву даешься. И уж сердиться-то на него нет охоты…
Стало быть, вот куда чуть не попала она невесткой.
Оглядывает Марика горницу… да, да, та самая. С деревянными полами. С хорошей мебелью. А у нее когда же будет наконец мебель?.. Еще в прошлом году отец обещал, в этом опять обещает…
— Выльем, Йожеф. Подымай, — тянется через стол четвертый выборный, Лайош Ямбор, со стаканом вина.
— Кто вино свое не выпьет… — ораторствует рядом, справа, Шандор Пап, санитарный инспектор и похоронный агент. — Будьте здоровы, будьте здоровы… — чокается то с одним, то с другим. Красный Гоз пьет, а сам посматривает вокруг, пытается сообразить, что к чему. И видит, что дело тут, пожалуй, не в именинах. Неспроста Тоты столько народу к себе назвали… Тут и молодой Эсени с женой, и Фери Такач, брат Лили, тоже с женой, и зять Яноша Багди, здесь и кореш его, Тарцали, с Пирошкой. Словом, молодежь, цвет деревни… Лили шепчет что-то Марике, берет ее за руку, в другую горницу уводит. Горниц здесь хватает. Одна, две, три… и в каждой есть кому жить.
Вот только старую хозяйку нигде не видно.
Старый Тот выходит с вином, причесанный, побритый, усы подстрижены — будто заново родился. Вот, значит, где собака зарыта. В старосты метит Жирный Тот… Для того и именины понадобились.
Но пока об этом речь не идет; пока уговаривают гостей есть да пить. Да закуривать.
Ямбор уже руками машет, громче всех кричит: видно, самым первым сюда пришел. Да не только поэтому он шумит, а и потому еще, что с весны считает себя большим человеком. Умным. Если он чего захочет, обязательно добьется… Но при всем том, конечно, не вредно завести хороших приятелей — вроде Красного Гоза.
— Что, Йожеф? Не идет, что ли, вино?..
— Идти идет. Да куда спешить?
Пьют. Закусывают, Салом закусывают. Окороком.
Да как-то не от души пьется людям, будто прислушиваются все, ждут чего-то. И каждый другого уговаривает пить. А сам — не очень. Даже Лайош Ямбор нынче осторожен. А это значит — дело пахнет керосином… Музыка раздается: цыгане играют в коридоре. Кое-кто из баб подхватывает: мол, они плясать хотят, а там хоть трава не расти. Однако даже музыка не слишком расшевелила гостей…
Уже ближе к полуночи все вдруг головы поднимают: в дверях Геза громко и сердито толкует что-то Красному Гозу, который уходить было собрался, а Геза его не отпускает:
— Я тебе, кум, прямо скажу: не будет в деревне порядка, пока не изберут старостой такого человека, как мой отец.
— Что говорить: Габор Тот для этого подходит…
— Уж ты мне поверь: если б отец был старостой, так мужики бы участки не на солончаках получили…
— Это точно: не очень-то там хороша земля для жилья… — соглашается Красный Гоз и видит, что многие прислушиваются к их разговору. Шеи вытягивают. Видно, в самом деле не из-за именин они собрались, а из-за выборов.
Только избавился он от Гезы, как подходит к нему Фери Такач, с которым он и трех слов, пожалуй, не сказал за всю жизнь.
— Видишь ли, я как раз собирался к вам заскочить, если позволишь… — уж так он разговаривает. Можно сказать, по разговору он и не мужик вовсе, а прямо из господ… В общем, он тоже родственника своего, Габора Тота, хочет в старосты.
Однако и другие здесь есть, не только Такач. Молодой Эсени, например, отводит Гоза в сторонку, чтобы сообщить: самым лучшим старостой будет его отец, Йожеф Эсени. Что на это скажет кум Гоз?
Правда, Гоз ему ни кум, ни сват — да кумом кого хочешь можно звать. Не обижаться же из-за этого.
Полночь миновала; гости на группки разбиваются, шепчутся, обсуждают что-то. В общем, вылезло шило из мешка. Прямо чистые выборы это, а не именины. Может, Лили вовсе и не Йолан окрестили?
Смотрит Красный Гоз на суету вокруг. Вот они, стало быть, те самые самостоятельные мужики, одним из которых он собирается стать. Что ж, должен человек быть кем-то: или тем, или другим. И если сделал он первые шаги, то возвращаться поздно.
Мужики, которые здесь собрались, — это, можно сказать, лучшие люди деревни. Из них избираются старосты — пусть не из них самих, а из их отцов; но дойдет очередь, и они в старосты захотят вылезти. Они заправляют делами в деревне: ведь каков староста, такова и деревня. Как известно, рыба гниет с головы… Последние годы старостой был Вираг, перед этим — Йожеф Эсени, перед Йожефом Эсени — Янош Багди; теперь Габор Тот станет, если повезет… Не все ли равно?.. То есть… если Габор Тот будет избран старостой, то Вирага можно сделать хозяином в правлении. Пусть Шара Кери порадуется, бедняжка…
— Эй, мужики, — стучит по столу Шандор Пап. — Мы ведь на именины пришли, а не старосту выбирать. Успеем еще со старостой. Тем более, что… старостой будет Янош Багди, и никто другой.
Ух ты! Вот тебе и на..
Ферко губы себе грызет, жалеет вино, которое Шандор Пап выпил.
Расходились все трезвые, как пришли.
Марика, пожалуй, теснее, чем всегда, к мужу прижимается, когда идут они домой. Приятно, что так обхаживают Йошку богатые мужики. Неужто вправду так уважают его в деревне, как Шара Кери говорит? Конечно, за это не будут им товар в лавке бесплатно отпускать, и хлеба у них больше не станет… да все же… Это такое дело, что иной готов и за деньги купить, да не может.
— Скажи-ка, Марика, честно… как ты думаешь, где наше место: среди этих или среди старых друзей?
— Господи, Йошка, боюсь и сказать-то…
— Скажи, скажи. Для того я тебя и спрашиваю.
— Мне кажется… и среди этих, и среди тех…
— Но ведь они богатые. А мы с тобой бедняки.
— Ну и что? Ты не хуже, чем любой другой… и среди тех, и среди этих.
— Глупая. Вот тут-то ты и ошиблась. Не по дороге нам с ними. Они перед нами заискивают, потому что помощи ждут от нас… да зря стараются.
Молчит Марика. Задумавшись, идут они рядом. Уже, должно быть, два часа ночи, когда приходят домой. И видят: мать идет к воротам из огорода, в шлепанцах, руки под передником.
— Что такое? Уже встали, мама?
— Встала, сынок. У соседей, у Сокальи, корова ночью сдохла.
— Как сдохла?
— Сдохла. Должно быть, чесалась, да ногой и попала в цепь, и не могла вытащить.
Йошка стоит с минуту, остолбенев, потом бежит в хлев. Нет, здесь все в порядке. Коровы тихо жуют жвачку. Лежат, прислонившись друг к другу спинами. А теленок стоит и упрямо бодает стенку в углу.
Выходит Йошка из хлева. Вот тебе: какой-то момент — и все, над чем столько трудился, может прахом пойти… Строишь, строишь планы, рассчитываешь — а случись что, начинай все сначала.
Предоставлен человек своей судьбе и не знает, что его ждет завтра, через неделю, через час. И нет такой силы, которая бы его в случае чего защитила.
Прямо через изгородь перепрыгивает он к соседям.
Корову уже вытащили из хлева. Лежит она посреди двора, на боку; бабы, старая и молодая, стоят рядом и уже не плачут, только передником лица закрыли. Посмотришь: нет ни старой, ни молодой, а есть лишь две несчастные бабы. И мужики стоят, по другую сторону, и смотрят, смотрят на корову.
По деревне поют рассветные петухи.
12
Утром Красный Гоз не пустил коров в стадо; запряг их, мусор со двора покидал в телегу — чтобы пустым не ехать — и в поле поехал.
Дел особых нет в поле, да пусть походят коровы под ярмом. Весной он их начал приучать — так чтобы за лето не отвыкли.
За ночь он и глаз не сомкнул, да это не беда. В телеге можно подремать, как из деревни выедет. Народу там ходит мало. А в эти дни — и того меньше. Ни косить, ни жать, ни собирать не надо. Разве что рыхлить ходят, у кого времени много. Да это тоже не страшно. Пастбище большое, в сторону успеет свернуть.
Так живо вспоминается ему прошлая ночь, словно сию лишь минуту пришел он от Тотов. Даже слова слышит четко и свежо; бабы смеются, Лили несет блюдо с пирогами, Лайош Ямбор ухмыляется во весь рот… Странная компания, однако, эти богачи… Тошно ему думать о них.
Да еще эта корова у соседей… И вдруг испуганно поднимает голову. Подхлестывает Рози концом вожжей.
Едва выехал он на Главную улицу, как навстречу, из-за угла, автомобиль вылетел. Красный Гоз не первый раз на телегу сел: знает, что он правильно едет, по своей стороне, и все же пробует еще больше на обочину повернуть. Конечно, корова — животное медлительное, и, прежде чем телега успела съехать на обочину, автомобиль — вот он и чуть-чуть Борку не задел. Потому что та начала было поворачивать и холку выставила вбок.
Кровь застывает у него в жилах… Вот ведь как может быть. Запрягаешь утром скотину, едешь себе тихо в поле, а домой, глядишь, и не вернешься. Потому что есть люди, шоферы или еще кто, которые от нечего делать могут зацепить корову, телегу, чтобы твои планы, труд в мгновение ока превратились в пыль, в ничто…
Автомобиль уже сигналит где-то на другом конце деревни. Красный Гоз останавливает телегу. Обходит ее, меряет расстояние между следами колес телеги и автомобиля.
— Случилось что, сынок? — бредет через мост старый Торни; рассвело уже, народ везде поднялся.
— Нет, ничего не случилось. Да только… я думаю, случится. Случится еще, — и знает: поверни автомобиль обратно, выйдет он против него с вилами или хоть с пустыми руками.
У одних корова издохла, ногой случайно в цепь попала, бедная… другой вот поехал на телеге, а на него автомобиль наскочил… Не только град мужику опасен. Не только засуха. Не только головня на пшенице, пожар, молния. Врагов куда больше, чем думаешь.
Ну, против града есть страхование и против пожара тоже. Говорят, можно и скотину застраховать. А кто застрахует человека от лихих шоферов или господ, которые ни свет ни заря несутся куда-то как угорелые?
Надо и против них что-то придумать.
Потому ли, что не спал нынче, или по другой причине — мозг у него работает быстро; а эти слова — «надо что-то придумать»… собственно, не впервые он их произносит. Пусть не вслух… Живут они в нем, как заноза, с тех самых пор, как ушел он из артели и стал думать о своей жизни.
До сих пор лишь смутно бродили в нем эти мысли — теперь же ясно понимает он, что должна деревня оградить себя, окопаться… вот как помещик окопался против земельного голода. Иначе не будет у мужика и того, что есть. А о том, чтобы больше стало, и говорить нечего.
Это он понял и осознал накрепко.
Одна беда: он-то все это понимает, да не понимает деревня. Одна ласточка, известно, весны не делает… Однако верно и то, что, не будь весны, не будет и ласточек. Так что пусть станет он этой первой ласточкой в своей деревне. Все равно, кто будет здесь старостой. Словом, пока едет он в поле, потом обратно, домой, времени у него хватает над этими делами поразмыслить…
Позади осталась деревня, Красный Гоз усаживается на телегу. Коровы споро идут, весело, потому что с одной стороны дороги — болотистое место с водой, а по краям его — зеленая, свежая трава.
В деревне же агитация развернулась вовсю.
Те, кто вчера на именинах был у Тотов, успели разбиться на разные лагеря. Одни за Эсени стоят горой, другие — за Яноша Багди, третьи — за Габора Тота. А остальные, кто ни к тем, ни к другим, ни к третьим не присоединился, говорят: мол, пусть ни один из трех не будет старостой, а пусть будет старостой мельник Такач.
Такому повороту очень все удивились. Удивились — а потом еще яростнее взялись за дело. Забегали люди по улице, из одного дома в другой, разносить новости. Находились мужики, которые и одного кандидата поддерживали, и другого, и третьего… Всех захватила выборная горячка.
Молодой Такач уже в сторону отошел и только хмыкал, когда перед ним нового родственника поминали, Габора Тота. И говорил: мол, ему до этого дела нет.
— Так это что же такое, кум? — наседал на него Лайош Ямбор, с которым они ночью стали кумовьями. — Нельзя тебе в сторону отходить. Ведь о родственнике твоем речь. Никак ты не можешь Габора Тота не поддерживать.
— Он нам такой же родственник, как мы ему. Если ты не возражаешь, — отвечал Такач. Так он всегда говорит, а сегодня — тем более. Может, специально для того, чтобы Ямбора осадить. И осадил. Отошел от него Ямбор, как побитый.
Все три корчмы переполнены народом: как недавно, весной. Каждый свое кричит. Ну и пьют, конечно. Однако удивительное дело: ни с кого не требует корчмарь платы за выпивку. Будто мужики одолжение делают, что пьют. А ведь сколько они выпьют за три-то дня! Потому что через три дня назначены выборы. Так что надо торопиться сейчас с выпивкой, чтобы к тому времени все выяснить.
Красный Гоз возвращается домой не скоро, почти в полдень. Еще четыре ряда картошки отвел он под полив. Ведер пятьсот воды вытащил из канала. Носил, правда, по два ведра, да все равно немало времени ушло. Пока брели коровы домой, подремал в телеге; входит в ворота свежий, Рози за собой ведет.
— Стой. Тп-р-ру… — Корову, если уж она разошлась, остановить трудно.
А на крыльце, дожидаясь его, стоит Шара Кери.
— Ну, знаете… вы, должно быть, чувствовали, что ждут вас, потому и не спешили?
— Да вы не меня ждете. А места старосты. Или хотя бы должности в правлении.
— Ишь, какой умный… Ну-ну, говорите, коли начали. Что нам дальше делать?
Йошка проворно распрягает коров. В хлев не ведет их, а привязывает под тутовым деревом, навильник сена им кидает. Руки моет, а сам время от времени косится на Шару Кери, которая ходит вокруг в нетерпении.
— Вот что, Шара. Вам в самом деле надо, чтобы Вирага избрали в правление?
— Как же не надо-то? Ведь такое чудище мало поймать: его удержать еще надо. Сколько лет он общественными делами живет… не думаю, что так легко с ними расстанется. Ну и… для меня бы это было хорошо, из-за деревенских языков…
— Ладно. Попробуем. Старостой, конечно, ему не быть, исправник не позволит, но если новый человек старостой станет… в общем, Габор Тот…
— Вот-вот. Я это и хотела сказать.
— Надо найти сто человек, чтоб подписали они прошение насчет Габора Тота. Тогда дело сделано.
— Интересно… откуда вы все это знаете?
— Знаю. Могу и я знать кое-что, хоть по мне и не скажешь. Закон такой есть. Тогда исправник его назначит. А не назначит — будет основание обжаловать хоть в самом комитате. Да и выше есть власти… суд и прочее. Вы писать красиво умеете? Напишите-ка прошение, и за дело.
— Писать я могу… Да сумею ли прошение составить?
— Я вам помогу. Вдвоем-то мы как-нибудь потянем на одного толкового.
— Ох, какой вы умный! Я всегда это знала.
— Да? А я не знал… — смеется Красный Гоз. Недаром общался он с адвокатами; да и вообще с законом он всегда не очень-то ладил. Вот и готовился заранее к защите. Так что в самом деле разбирается немного в этих делах.
Прошение они написали; то есть писала Шара Кери, а Йошка кой-что подсказывал. Когда кончили, Шара Кери в восторг пришла. Красный Гоз, правда, сказал, что надо бы не так написать, по-другому. Тем не менее уже после обеда Лайош Ямбор с таинственным видом таскал прошение по деревне. Сначала просто разговор заводил, Красного Гоза поминал, как бы между прочим. Чтобы узнать, где как встретят его. Прощупывал почву, стало быть.
Во всяком случае, имя Красного Гоза звучало нынче во всех дворах, во всех хатах.
А к вечеру деревня разделилась по партиям, по улицам, по группам. Однако вино выставляли только две партии: Габора Тота и Йожефа Эсени. А Багди и Такач ставить не хотели. Говорили, пусть деревня радуется, если они так согласятся быть старостой. Еще им заплатить надо за это. Ишь ты. Ну да люди ведь разные и по-разному хотят в старосты попасть… Габору Тоту выпивка недорого обошлась, у него своего вина много. У Эсени же вина нет, зато денег с избытком. На все хватит.
Старый Киш, Илонкин отец, как раз серп отбивал, собирался идти камыш резать, когда открылась калитка и вошел Шандор Пап. На нем черный плащ, хоть солнце печет вовсю; должно быть, прячет под ним что-то. На старика, который возле хлева возился, он только взгляд бросил искоса — и прямо в хату.
Старик подумал было: мол, надо и ему пойти, узнать, зачем пришел Шандор Пап, чего хочет; молодого хозяина нету, с утра на мельницу поехал и пропал где-то… Да так и не пошел. Не срежешь камыш до вечера, завтра его и в помине не будет, как пить дать. У других ведь тоже глаза есть, не только у него. А камыш нужен в хозяйстве… Словом, ушел старик.
Илонка одета кое-как: одна юбка на ней, а поверх сорочки — коротенькая легкая блузка, и та не застегнута. Заслышав стук в дверь, оглядывает себя, и говорит:
— Можно! — и дальше стучит на швейной машине.
— Здравствуйте, хозяйка. Муж дома? — спрашивает Шандор Пап.
— Здравствуйте, господин Пап. Нету его дома, с минуты на минуту жду. Присаживайтесь, если подождать его хотите.
Шандор Пап неловко перехватывает под плащом то, что там у него спрятано, говорит:
— Пожалуй, подожду немножко… Я Шандора-то видел, когда он на мельницу ехал. Уговорились мы с ним, что зайду к вечеру, дела есть кой-какие… и другие придут… словом, речь о том, что мы Эсени хотим старостой. Вот так. Для того и собраться хотели…
— О, если Шандор вам чем-нибудь помочь способен… пусть помогает, — и нагибается над машинкой, строчит дальше.
Шандор Пап молчит, одно плечо подымает; бутылка под плащом вот-вот выскользнет. В бутылке — коньяк. Чтоб мужиков немного разогреть. Легче с людьми разговаривать, когда у них душа спрыснута.
— Долго нет Шандора…
— Придет. Навсегда там не останется. — И Илонка внимательно смотрит на гостя.
Шандор Пап чувствует себя не в своей тарелке. Давно не сидел он вот так, в прохладной горнице, с глазу на глаз с красивой бабой… словом, разгорается у него фантазия, которая уже раз-два крепко его подвела. Хороша баба, ох, хороша, и к тому же бесплодная. Эти бабы не опасны, как, скажем, та… уж скоро два года тому… эх!.. Словом, жена Ферко Тота, а тогда еще вдова Пашкуй… Здесь-то никакого риску нет. Все было б шито-крыто. Вдруг вытаскивает он бутылку из-под плаща, ставит ее на стол напротив Илонки, которая у окна сидит с машинкой. Смотрит на него Илонка и помалкивает. Шандор Пап стул берет и, обойдя стол, ставит у Илонки за спиной, немного сбоку. Садится.
— Уж коли ждать, так… чтоб не скучно было, — говорит. И тут же добавляет: — Что шьете?
Наклоняется над бабой, усы его щекочут Илонке щеку. Та машет ладонью, будто муху отгоняет, и все возится с холстом. Ни слова не говорит.
Это уже интересно, а еще интереснее то, что Шандор Пап будто забыл свой прежний опыт и все по-другому начал делать. Он и прежде не слишком подыскивал слова, когда случай представлялся, а теперь, можно сказать, совсем здравый смысл отбросил. Вместо того чтобы подождать какого-нибудь ответа, какого-нибудь знака, улыбки или еще чего, просто лезет в карман за ножиком, на котором у него и штопор есть, и все прочее, и откупоривает бутылку. А на бутылке, на этикетке, звездочки, вот так в календарях звездное небо рисуют. И еще в букварях… Потом тянется на комод за стаканом, наливает и говорит:
— Выпейте-ка это за здоровье будущего старосты!
Илонка головой трясет не глядя и отвечает:
— Палинку не люблю.
— Да ведь это не палинка, а коньяк.
— Коньяк?
— Ну да. Его из вина делают. Так что вы, можно сказать, вино пьете, вроде как если бы не, мясо ели, а консервы.
С этого и началось.
Дальше — больше. После третьего стаканчика Илонка загорелась, вспыхнула огнем, как прошлогоднее сено на высохшем лугу. Все ее мучения, обиды, все желания — все это вдруг стало таким ясным, таким простым… И показалось, что все решится само собой, стоит лишь выпить еще стаканчик.
Выпивает еще стаканчик.
Теперь кажется Илонке, будто она не баба, не мужняя жена, а сама земля, тучная, жирная, которая ждет не дождется, когда придут к ней все те, кто ходит по ней, прокладывает тропки вдоль и поперек. Она — семя, которое еще не бросили в землю… наперсток, которым еще не провели по складкам холста — о, так много сравнений приходит ей в голову, и ни одно не может полно выразить, что она чувствует.
Ощущает она свою плоть, ощущает жгуче, нетерпеливо… и, если зажмурить глаза, видит какие-то красные пятна. Беспокойные, мечущиеся, яркие, как лужи крови на снегу, когда режут скотину, а если глаза открыть, то все вокруг будто льется в нее, как тающая снеговая вода — в жестяной желоб…
— Ик… ик… — икает вдруг Шандор Пап и глотает слюну. Потом перешагивает через стул, как через маленькую лошадку, и без лишних слов хватает Илонку…
Несколько мужиков, что хотели собраться у Макры, бредут потихоньку в сторону Коццега.
— Не заглянуть ли к Лайошу Ямбору?.. — говорит один, задумчиво глядя на распахнутые ворота. Так и случилось, что сначала набились они в хату к Лайошу Ямбору. Как пчелиный рой, который прицелился сесть на одно дерево, а сел на другое. Вино и здесь есть, только в кладовую за ним выйти, а когда уж на столе оно стоит, так не уносить же его обратно.
— Куда этот Шандор Пап подевался? Уж должен бы прийти, — говорит кто-то недовольно.
— Может… ждет нас у Шандора Макры, — отвечает Лайош Ямбор осторожно.
— Шел бы сюда. Он один, а нас много, вот и шел бы к нам.
И то правда.
— Да ведь Шандор Пап для Эсени старается, — говорит другой мужик.
— Для Эсени? Хо-хо… вот уж для кого я бы не стал стараться… — качает головой Лайош Ямбор, и тут, хочешь не хочешь, надо наливать.
Однако ж послали все-таки за Шандором Папом: если он у Макры, так пусть сюда приходит поскорей. И хозяев приводит.
Отправили за ним Косорукого Бикаи, который хоть и парень еще, а право голоса на выборах старосты уже имеет.
Входит он в калитку, а Шандор Пап в это время шарит по дверям горницы — выйти хочет, да не с той стороны щеколду ищет. Темно, конечно, в горнице — однако не потому он открыть не может, что темно, а потому, что руки трясутся. Пожалуй, и нашел бы щеколду, так не сумел бы ее ухватить. К тому же не находит. Потому что в голове у него черт знает что творится.
Хохотать ему хочется — не то от радости, не то от горя. Странное все-таки существо — человек: сразу чувствует все, что может чувствовать. И необозримое добро, и необозримое зло, и брезгливость, и голод… По всему телу бродят щекотно мурашки от касания белой, до умопомрачения белой кожи Илонки Киш. Рука его все ощупывает доски двери — тут звякает щеколда, и на пороге появляется Косорукий Бикаи, который видит лишь, что ничего не видит. Если не считать какую-то расплывчатую белизну там, где стоит диван, и еще запах какой-то необычный… но не успевает ничего понять, потому что руки Шандора Папа хватают его за грудки и вышвыривают в сени.
— Ты… — только и говорит Шандор Пап, и кулаком трясет у него перед носом. И уходит.
Косорукий Бикаи смотрит ему вслед, потом ладонью приглаживает волосы и осторожно стучит в дверь.
Через несколько минут Илонка с рыданиями падает ему на грудь.
— О, Йошка Гоз, Йошка Гоз… из-за тебя я такой стала… — выговаривает она сквозь слезы…
Вечер. Свинья долго рвется в калитку, потом идет к воротам. Однако и там ничего у нее не получается. Пока какой-то прохожий не открывает калитку, а сам идет дальше своей дорогой. Свинья вбегает во двор, мечется возле хлева, да ничего для себя не находит. В огороде, у самой калитки, целый выводок утят сбился в кучу: прохладно стало к вечеру, мерзнут бедняги. Свинья тянет к ним рыло, а те сбиваются еще теснее. Голов не видно у утят, только лапки торчат из кучи. Свинья, недолго думая, хватает и жрет утят. Вот один утенок лишь остался: удирает, спасается, пищит не своим голосом; свинья глядит ему вслед, да потом, видно, другое приходит ей в голову. Бежит она к палисаднику, рыло между досками просовывает; трещат, ломаются доски — и она уже в палисаднике. Банка с огурцами квасится у стены — переворачивает банку; вишня разложена на сушилке — опрокидывает сушилку. Оглядывается торжествующе. Еды теперь хватит.
А хозяйка в горнице наливает своему кавалеру коньяку из бутылки, оставленной другим кавалером; муж ее в это время пляшет в корчме господина Крепса, на околице. Лошадь с телегой на улице стоит. Полицейские уже дважды записали ее в книжку; да Макра говорит, мол, пусть пишут, на то у них и карандаш, и ладонью звонко шлепает себя по затылку. Утром еще зашел он сюда выпить стопку; корчма уже тогда полна была агитаторами, и угощали они его изо всех сил… Вечер наступил, а он опять здесь. В полдень еще застрял, когда домой ехал.
— Жена-то? Хо-хо… у меня жена не то что у других. У меня жена не рассердится, хоть два дня здесь буду, — говорит он господину Крепсу, который все пытается домой его спровадить. Макра пляшет себе.
А Шандора Папа окружили мужики у Лайоша Ямбора.
— Пришел-таки! — кричит хозяин. — А Бикаи где потерялся?
— Бикаи? Постой-ка… — и оглядывается. Он больше всех удивляется, что нету Бикаи. — Не понимаю. Он ведь за мной шел…
— Отстал, должно быть. Налей-ка ему, Янош, — говорит Ямбор шурину, а сам расстилает на столе прошение, на котором подписей уже видимо-невидимо. — Дядя Шандор, подпишите-ка это.
— Это что? — смотрит Шандор Пап. Смотрит, да ничего не видит. Буквы сливаются в одно пятно, будто коньяк, пролитый на стол. Вдруг вспоминает он о жене, о Мари Чёс, и страшно ему становится, и хочется скорее домой. Чтобы все беды, все сплетни опередить… Да какое ему дело до того, кто старостой будет? И подписывает прошение, даже не прочитав, о ком там речь.
К утру на стенах школы, на заборах появились листки, в которых про Габора Тота говорилось последними словами. Однако и другой лагерь не дремал: угол дома Эсени, что на улицу выходит, вымазали коровьим дерьмом. Даже ручку на воротах вымазали, чтобы утром, кто первый к ним придет, рукой в дерьмо влез.
Однако к тому времени, как коров гнать, листки со стен исчезли, а жена Эсени побелила стенку. Да только тогда уже мужик скакал верхом в Нешту, к исправнику. Вез прошение со ста подписями…
Можно сказать, странное наступило время. Будто колесо заело, и ни взад, ни вперед. Еле-еле повернется на пол-оборота — и снова ни с места… Знают мужики: кого бы ни выбрали старостой — один черт, потому что и новый староста не пойдет против господ… А все-таки… кто знает… Вдруг чудо случится! Были ведь в старые времена старосты вроде Йожефа Берегсаси… правда, тогда и секретарь за народ стоял… Что говорить: все можно отнять у человека, нельзя лишь отнять у него надежду.
Половина деревни горой стоит за Габора Тота, другая половина — за Эсени. А ведь не все ли равно? И так ясно, что ни та, ни другая половина не получит, чего хочет… Сторонники двух других кандидатов, Яноша Багди и мельника Такача, рассеялись кто куда.
По прежним выборам знают мужики, что завтра с самого утра запрещено будет спиртные напитки продавать, пока не закончатся выборы. Потому и стараются выпить завтрашнюю порцию еще сегодня.
И пьют.
Можно сказать, пропивают шкуру неубитого медведя…
А исправник прочитал прошение, под которым сто подписей стоит… Хм. Что за этим кроется? Кто такой этот Габор Тот?
Дело в том, что старостой нужно избрать такого человека, который бы доверием пользовался в деревне, которого уважали бы; однако излишняя популярность тоже ни к чему: еще бог знает чем это обернется. Словом, очень надо подумать, кто будет старостой. Это так просто не делается… и вызывает исправник по телефону секретаря.
А секретарь тут же рассыльного шлет за Красным Гозом.
Красный Гоз, к счастью, дома как раз. Правда, в поле он собрался ехать, поэтому к правлению хоть и не бегом бежит, а все ж торопится.
Секретарь звонит исправнику, кричит «алло», потом перегибается через стол и подает трубку Красному Гозу.
— Говорите с господином исправником… — шепчет, сам же на цыпочках выходит из комнаты.
— Вот что, дорогой, — говорит в трубку исправник, — я только что получил прошение, насчет старосты. Ваша подпись здесь первая.
— Да. Я первым подписал.
— Скажите-ка мне вот что… Только поймите меня правильно: я вас знаю как порядочного и разумного человека. Почему вы все так хотите этого, как его… (слышится шелест бумаги) Габора Ж. Тота? Такой он хороший, что ли?
— Не то чтобы очень, господин исправник… я бы не сказал, что очень он хороший. Такой же, как все.
— Но это же не причина, чтобы старостой его сделать. К тому же у меня свой кандидат есть, я тоже забочусь о благе деревни, можете мне поверить. К чему эта агитация, эти прошения?
— Да к тому, что Габор Тот все-таки… неплохой мужик, и деревня хочет, чтобы он старостой был. Почему ж не быть так, как все хотят?
— Не понимаю!
— Да ясное ж дело… деревня Габора Тота хочет в старосты. Почему бы не сделать так, как хочет деревня?
— Но сто человек — это еще не деревня.
— Неважно. Лучшая часть деревни.
— Ну хорошо. Но мне все-таки не нравится этот… Ж. Тот. Да и опоздали вы с прошением. Его надо за десять дней до выборов подавать… Ну это ничего, я сделаю вид, что вовремя оно поступило. Но чтобы я в накладе не остался, договоримся о другом кандидате. Пусть будет Йожеф Такач. Хорошо?
— Нет, это никак не пойдет.
— Почему?
— Он не мужик. Ремесленник. Это уж совсем не годится… У меня тоже есть одна мысль, господин исправник.
— Говорите.
— Пусть останется… или, лучше сказать, назначьте снова Ференца Вирага. Тогда и мы отступимся от Габора Тота.
Красный Гоз даже зажмурился, а потом вверх посмотрел: не валится ли на него потолок. Однако на потолке ни трещинки. А исправник ответил лишь, что подумает, и трубку повесил.
Смотрит Красный Гоз вокруг, словно ни разу еще не был в правлении. Такое у него чувство, будто совершил он какое-то предательство, обманул, что ли, деревню, мужиков, которые вот уж несколько дней то и дело стучат щеколдой в его ворота. Будто продал он свою совесть исправнику, и притом бесплатно. Будто страшный грех совершил, против нравственных законов деревни. Потому что стал на сторону Жирного Тота, а сам потихоньку сговорился с исправником о другом…
Да вот только… каковы они, нравственные законы деревни во время выборов, если разобраться?
Очень просты эти законы: уверены мужики, что всякие выборы — на руку господам, и об убеждениях и обо всем таком тут нечего и говорить. А потому за выпивку, за деньги согласны выбрать любого.
Так что никакой нравственности тут нет: не нравственность это, а безнравственность. Пусть останется он один против всех, а за деревней в этом не пойдет. Да и не все ли равно, кто будет старостой: Такач, или Эсени, или Тот, или Вираг.
Тогда уж пусть будет Вираг.
Хотя бы потому, что никто его сейчас не хочет, кроме него, Красного Гоза. Даже Шара Кери не смеет об этом мечтать.
По крайней мере есть случай проверить, насколько велик его авторитет, может ли он, Красный Гоз, тягаться о исправником и со всей деревней…
Выходит из кабинета, по пути смотрит на стены, где висят портреты знаменитых людей комитата. И показалось вдруг Красному Гозу, что один из них, вице-бургомистр Фратер, весело подмигнул ему.
13
Дело близится к вечеру.
Заводилы оттачивают клинки, готовясь к завтрашнему дню… то есть, попросту говоря, уговаривают последних колеблющихся, целыми флягами ставят вино на стол.
Корчмари подсчитывают, сколько выпито вина. Неплохая это штука — выборы. Если бы каждый месяц выборы были… Вино льется рекой, записываешь абы как, примерно… да ведь не считать же, чтобы себе в убыток.
Даже баб захватила лихорадка. Языками болтают, по соседям ходят, тоже агитируют. Наверное, одна-единственная баба в деревне не вмешивается в эти дела. Илонка Киш, жена Макры.
Лежит она на диване с мокрой тряпкой на лбу, жар ее томит, хоть и плечи, и грудь открыты.
Муж стоит рядом на коленях — да для Илонки будто и нет его; руки ее блуждают неопределенно, без цели туда-сюда. Порой за волосы хватается, в желудке — невыносимая тошнота. Вчерашний день еще не ушел из нее, а завтрашний никак не может прийти… О, как мучительно не быть ни там, ни здесь.
Макра держит ее руки, целует, голову кладет ей на грудь. Смотрит Илонка на него с удивлением, как на чужого. Кто это? Что ему нужно? Как смеет он ее целовать?
— О…
Словом, каждый живет как может. Каждый по-своему с ума сходит…
А по деревне разносится весть, что не состоятся выборы завтра. Исправник их аннулировал.
Вот так и говорят: аннулировал.
Услышав это слово, пугаются мужики, лбы под шапками морщат.
Чудится им в этом слове что-то такое, что пахнет Властью, Государством; веет от него господским духом, духом всяких учителей, аптекарей, священников, секретарей, писарей; ну, еще духом Ильки, воспитательницы. Даже про Шару Кери вспоминают с подозрением… Да раз уж так дело обернулось, ничего тут не попишешь…
Выходит, напрасно пили мужики вино целыми бочками.
Выходит, напрасно скакал гонец в Нешту с прошением, на которое даже и не ответил никто, ни так, ни эдак…
Гезу Тота новость застала у господина Крепса; тут же помчался Геза к правлению. Искать Лайоша Ямбора. Ямбор — выборный, он должен знать, в чем дело. Однако не нашел он Ямбора. Рассыльные сказали, в кооператив пошел. Там он, должно быть.
Там он, в самом деле. Только не в корчме, а во дворе, за погребом. Одной рукой акацию обнимает, другой шляпу придерживает, потому что голова у него чуть не до земли свесилась, и блюет в свое удовольствие. Столько вина выпил он за три дня, что оно и быка бы с ног свалило, не то что мужика.
Геза обратно в правление бежит, к секретарю. Оказалось, все правда насчет выборов. Секретарь подтвердил. Теперь поскорее сообщить во все три корчмы, чтоб не давали вина больше ни капли: за выпитое дай бог расплатиться. А главное — все напрасно.
Агитаторы же только глазами моргают, глядя друг на друга. Как лягушки, вокруг которых вдруг высохла лужа.
— Так что, значит… пошли отсюдова, — говорит Шаркёзи и ощупывает карман, в котором кило сала лежит в бумаге. За счет Габора Тота купил. Уходит поскорее. А то еще передумают.
Такого смятения давно не было в деревне. Пожалуй, с тех пор, как Михая Кондаша убили. Да и тогда не потому растерялся народ, что убили мужика, а потому, что когда собрались его хоронить, он взял и ожил…
Многие к Красному Гозу побежали; другие посмотрели, посмотрели вокруг, да домой пошли. Вспомнили вдруг, что дома столько дел, не знаешь, за что и взяться.
А исправник опять звонит по телефону и велит секретарю позвать Вирага: пусть сию минуту напишет обжалование и пришлет к нему с гонцом.
Только всего и сказал. Однако это значит, что Вираг снова будет старостой, а вся суета с выборами — кошке под хвост…
— Вы что же делаете, мил человек? — врывается Шара Кери к Гозам.
— Я? Ничего. Нынче в поле был, а теперь вот виноград подвязываю… — И в самом деле он плети подвязывает к жердям в палисаднике.
— Да ведь… Вираг снова староста! Исправник велел немедленно подать обжалование на прежнее решение. Уже повезли. Курьер поехал верхом. На лошади Вирага.
— Х-хе!.. — только и произносит в ответ Красный Гоз. Стоит и смотрит на Шару. На шее у него бечевка, в руке ножик; стоит и смотрит.
— Ну что молчите? Признавайтесь, разбойник!
— А что говорить? Все ясно. Вираг будет старостой, а вы его женой. Больше нечего сказать. Разве что… пускай теперь Вираг думает, прежде чем сделать что-нибудь. Потому что теперь он не в одиночку править будет, а вдвоем.
— Понимаю. Вы за ним будете присматривать.
— Еще как!
— Ну не бойтесь, я тоже этим займусь. Да и… не такой уж плохой он человек. Конечно, конь о четырех ногах и то спотыкается… Но признавайтесь же, что вы сделали?
— Говорю вам, ничего не сделал. Всего-то и предложил Вирага выставить на выборах.
— Ясно. Тогда и выборы ни к чему.
— Вот-вот. А потом все шло, как я предполагал, да рассказать заранее не мог.
— Та-а-к. Ну… а что скажет деревня?
— Что скажет? Пусть говорит, что хочет. Что она до сих пор говорила? Я, знаете, много думал в последнее время и вот что надумал: если ты честный человек и с умом свои интересы защищаешь, то и общим интересам служишь. Чтобы Вираг остался в старостах — это пока что мне одному нужно… да оказалось, это и исправнику нужно, вот ведь какая штука. А дальше посмотрим. Пока у нас у троих интересы совпадают — хорошо, а если разойдемся когда-нибудь, каждый сообразит, что ему делать…
На это Шаре Кери нечего сказать. Она пока что счастлива: достигла, чего хотела: будет сама себе хозяйкой и у сына будет хорошее имя, притом законное. И повитухой хватит ей быть…
Словом, все вроде пришло в норму: разделившаяся на партии деревня опять слилась, как вода в библейском море. И никто при этом не захлебнулся. Все вовремя успели выскочить… Только Габор Жирный Тот не может в себя прийти от удивления. Это ведь надо такое: столько лет мечтал он старостой стать — и почти уже удалось. Чуть-чуть не стал. Так привык он уже к мысли, что важным человеком сделается… словом, очень ему обидно. И к тому же столько вина споил, в каждой корчме огромный счет на него написан… будто взял и выбросил кучу денег в колодец… Однако странное дело: теперь не так жалко ему денег, как раньше. Словно дешевле стали деньги… И сколько дней в черном пиджаке ходит, умытый, побритый. Что ж теперь — опять выгоревшее старье надевать, по неделям бороду не брить?..
На другой день, когда выборы уже точно не состоялись, долго не вставал с постели старый Тот. Лежал, в потолок глядел. «Одеться, пожалуй, пора…» — и глаза его останавливаются на стуле, где сложена аккуратно одежда. Стало быть, кончено… Сапоги хорошие стоят возле стула, блестят. Их тоже придется на гвоздь повесить.
Ребека, жена Ферко, проходит через горницу. Идет во двор, ночной горшок несет под передником. Эта уже принарядилась. У нее что ни день, то воскресенье… С веранды доносится пение, Лили поет, подметая пол. Этой тоже все равно, что один день, что другой. Сыновья еще на рассвете ушли работать… а ему что делать? У него никогда, что ли, не будет воскресенья?
— Не встаешь еще, отец? — спрашивает жена. Ишь, он и не заметил, как она вошла. С тех пор как сгорбилась, она всегда так ходит, неслышно и почти невидимо.
— Встану сейчас, пожалуй…
Старуха проворно поворачивается, дотягивается до вешалки, снимает будничную одежду. Кладет на край постели. Приносит сапоги из сеней, ставит рядышком. Как двух солдат. Блестит масло на сапогах, и запах от них идет, как от маслобойки. Пожалуй, куда они ступят, там на земле жирные пятна останутся.
Габор долго смотрит на старые сапоги, на будничную одежду. Молчит. Потом вскакивает, решительно скидывает ее на пол, а сам тянется за хорошими штанами. Пока застегивает штаны, сапоги валятся набок; одним пинком отправляет он их под кровать.
Жена стоит возле печи — и вдруг начинает реветь в голос, чего с ней, пожалуй, никогда еще не бывало, выскакивает в сени.
А старик воды наливает в крышку бидона, набирает полный рот, идет к тазу. Чтобы он теперь мылся, как раньше? Нет, теперь он и рот будет полоскать… Побулькав, выплевывает воду; наливает воды в таз. Дальше моется, как всегда. Причесывается, глядя в зеркало; подбородок щупает: эва, колется уже. Щетина выросла, от больших ожиданий-то. Выпив на ходу кофе, кидает в рот два кусочка сала; берет свою кривую палку и идет на улицу. Там останавливается, смотрит, как напротив делают новую изгородь в палисаднике, с чугунной решеткой: старый Сильва уже и каменные столбики поставил. Здоровается, те отвечают. «Все строим?» — спрашивает. «Да, а то старая-то совсем уж плоха была», — говорят ему. Отправляется Габор Тот к парикмахеру.
Шербалога дома нет, в поле ушел картошку окучивать. Жена его, в девках Жужи Сильва, вчера вечером утку зарезала, что на рынке купила. Теперь жир топит в сенях. Стоит баба в облаке пара, в кастрюле помешивает, рукава закатаны. Да, баба что надо…
— А муж-то твой где? — Позавчера здесь тоже агитаторы пили, и Шербалоги даже с самим кандидатом выпили на брудершафт.
— На картошку ушел.
— А ты что делаешь?
— Вчера вот купила утку. Да такая тощая утка, и поллитра жира не будет.
— Ну… пришлю я тебе немного жиру, не бойся. — И садится. Не ждет, пока сесть пригласят.
Ногу на ногу кладет, чувствует, очень хорошо сидеть рядом с бабой…
Словом, зачастил Габор Тот в дом парикмахера; в этом ничего такого нет, приятелям почему бы не зайти друг к другу потолковать? Было ли что там меж ними или нет, этого никто точно не знает… Вот только в жатву случилось как-то: сидит он у парикмахера. Окно завешено, полумрак в горнице, прохладно. Шербалог нанялся к кому-то жать, ушел на целый день. Мальчишка гусей пасет; бабе нынче и обед варить не надо, только ужин, потому что жнут далеко. Словом, спешить некуда. Десять часов пробило только что, четыре-пять минут назад, как вдруг откидывается занавеска на двери, свет врывается в горницу, и тут же темная фигура заслоняет проем. Ракель Торни, жена Габора Тота, появляется в дверях.
Рука ее держит занавеску, губы шевелятся, а слов не слышно. Не может ничего сказать. Потому что видит: жена парикмахера сидит у Габора на коленях.
Отступает Ракель назад, занавеска падает.
Она мужа домой хотела позвать: мол, иди скорей, жеребенок годовалый наскочил на косу. Балинт Сапора, работник, люцерну косил, и тут оно и случилось… Теперь и жеребенок, и коса, и Сапора вылетают у нее из головы.
14
Засуха пришла на поля.
По утрам еще было сыро, туманно; думалось, обязательно натянут тучи, кончится вёдро… Однако туман с каждым утром все редел да редел, пока совсем не пропал. Сушь стояла, даже роса не ложилась на траву. Когда звонили к заутрене, жара уже чуть с ног не валила.
Наконец в один из дней, к вечеру, с запада потянулись тучи. Мужики, и в поле, и в деревне, то и дело посматривали на небо: неужто дождь собирается? Неужто кончится это несусветное пекло?..
Ветер стих, замер; полнеба закрыла иссиня-черная туча. Вот уж и гром долетел оттуда. Аисты испуганно кружились над крышами. Солнце ушло за облачный край, потом снова прорвалось где-то, выглянуло наружу; земля дышала жаром, чуть не обжигая босые ноги… А туча стояла и дальше не двигалась.
Потом вдруг помчалась она, клубясь, кипя, и за несколько минут закрыла все небо. Тьма залила окрестности; чернота в небе была словно раскаленной. Небо гремело, исхлестанное молниями; пыль летела — густая, хоть грызи ее. А дождя все не было. Лишь ветер пришел, пришел и остался. Горячий ветер, сухой, и дул он чуть не до полуночи. Пыль уносил с равнины в горы… Зато в горах дождь выпал обильный. Такой, что через день переполнилось русло Кереша.
Когда в Кереше много воды, то и каналы, ведущие к питомнику, взбухают, подымаются. Наполняется и сливной канал.
Поблескивая, бурля, проходит канал через поля, несет воду обратно в Кереш; Кереш же несет ее в Тису, Тиса — в Дунай, Дунай — в море… А там — жди, когда эта вода обратно сюда попадет.
На вершок от канала — трава уже сухая; даже росу не может дать канал для собственных берегов. А что говорить о полях! В преисподней, наверное, стоит такая вот жара…
Захочешь пахать по стерне — ничего не выйдет: не берет лемех пересохшую землю. Кукуруза сникла, будто ошпаренная. А уж и початки начали зреть. Да так и не дозрели. Подсолнечник легче сушь переносит — да и он закрывается днем, а ночью плачет масляными слезами. До того все страдает вокруг, что даже человеку больно.
Свиньи, коровы целыми днями вокруг колодцев бродят; пастись не хотят. Да и как пастись? Кой-какую траву лишь на покосах можно найти. На картофельных полях — трещины с ладонь шириной; если не смотришь под ноги, попадешь в такую трещину и растянешься.
— Эй, кум, если не будет дождя, конец света наступит! — кричит один мужик другому. А тот отвечает:
— Верно, кум. Плохи наши дела. Не будет дождя, клади зубы на полку…
В воскресенье, когда звонили к утренней службе, церковный староста пришел к священнику.
— Ваше преподобие. Вы уж не забудьте насчет дождичка попросить…
Священник нынче не в настроении: ведь его поля так же горят, как и другие. Дождя просить из воздуха, где его нет? Н-да…
— Ладно, господин староста, попробую. Пользы, правда, от этого мало… да и вреда не будет… — обещает священник, облачение через руку перекидывает, в другую руку псалтырь берет.
Людей в церкви безбожно мало, только девки на своих скамьях сидят поплотнее. Пение не идет: жарко. Глотки сухие. И проповедь не удалась; паства тогда лишь начинает прислушиваться, когда священник гремит:
— Яви нам, господи, милосердие свое, дай обильных дождей на поля наши. Взгляни, господи, на беды наши, на жаждущие земли, на страждущих животных, на высохшие источники, на потрескавшиеся пашни наши. Без милости твоей погибаем, господи. Дай нам дождя, господи, ибо ты сказал, что дашь дождь и праведным, и неправедным. Окропи посевы наши, сады наши…
Хорошая молитва. Внушительная. В новой книге проповедей нашел он ее вместе с несколькими другими; в той книге, которую совсем недавно принял для церковного пользования затисский епископ. Написал ее один старый декан, который, почувствовав приближение смерти, продлил свою жизнь, воплотив ее в этой книге. Словом, все было бы хорошо — не будь здесь, в церкви, Красного Гоза. Вон он сидит. Во второй раз с тех пор, как ушел из артели.
Если для кого-нибудь страшна эта засуха, то для него вдвойне; ведь крохотная земля его — это вся его жизнь, и жизнь его жены, матери, его детей; не уродится в этом году картофель, кукуруза — хоть все сначала начинай. Снова ищи работу, иди землю копать, снова впрягайся в лямку… Как зверь в клетке, метался он между полем и домом. Где выход? Где-то должен быть, обязательно должен быть… но где? Спасаясь от этих мучительных вопросов, и забрел он в церковь. Теперь вот слушает священника, который просит дождя, уж так просит, что жалко его становится.
Закрывает глаза Красный Гоз, и опять появляется перед ним поле: безжалостное, слепое небо, горячая земля, бесцельно слоняющаяся скотина… Кожей своей ощущает он жару. Можно ли словами, молитвой добыть дождь из сухого, слепящего воздуха? Не словами тут надо действовать. А головой и руками. Ведь тут, под носом, течет через поля этот сливной канал. Почти вдоль полей. Только воду надо оттуда взять. Здесь — канал, немного подальше — Кереш, километрах в тридцати — Черный Кереш, оттуда недалеко — Белый Кереш. Четыре реки рядом. А там, дальше — Калло, Корхань… и все в одном комитате! И все полны воды! Часто настолько полны, что ревут, пенятся, — а вдоль берегов выгорает все. Скотина клочка травы не находит… Колодцы пересыхают; земля страдает, страдают люди… И собираются в церкви, вместо того чтобы пойти на берег с ведрами, ушатами, кастрюлями и черпать воду. Черпать, носить, поливать… А они сложили руки и сидят, молятся, на священника глядят. Экая тупость!
А ведь сказано: на бога надейся, а сам не плошай! Заботься сам о себе, тогда и бог о тебе позаботится. В это они, видно, не верят… Бог знает, во что они верят!.. Словом, другого выхода нет. Надо поливать. И он будет поливать!
Из церкви он вышел, словно был там в одиночестве и словно, побывав там, решил все, что его тревожило, решил отныне и навсегда. Проглотил кое-как обед — и в поле.
Словно вся неустроенность жизни человеческой, все несчастья, беды людские гудели в нем, когда проходил он по истомленным зноем полям. И чем глубже погружался он в свои мысли, тем нетерпеливее перекидывал из руки, в руку пустое ведро… Вся деревня, вся округа, весь комитат, все Затиссье сидело в это воскресенье в церкви, и должно быть, все попы, кто лучше, кто хуже, молили о дожде… А в небе, сколько ни смотри, не то что туч — даже облачка нет с ладонь величиной. Солнце пылает, жжет, край неба — желт; кузнечики, и те как пьяные… А ведь если б все вышли с ведрами к реке, к ручью — что было бы? На месте каждого ведра вылитой воды сразу зазеленела бы земля. Ведра воды хватит на четверть квадратного метра. Даже на половину. Ну-ка, посчитаем. Если это поле… (Упрямый мужик. Вбил себе в голову, что должен прожить с трех хольдов солончака, и не хочет отступаться.)
Пшеница у Красного Гоза уже в крестцах лежит, а жнивье твердое как камень. Здесь-то не растрескается, можно быть спокойным. Солончаки не трескаются. Ну, с этим можно не спешить. А вот кукуруза да картошка… Кукуруза уже початки гонит; здесь еще урон невелик. Не зря он землю обрабатывал и рыхлил раз пять, так что кукуруза пока держится. Однако если в течение еще двух дней не получит она воды — конец. Не будет урожая. Останется только будылья срезать… Поднимается Гоз на дамбу.
Пять шагов — на дамбу взойти, оттуда к воде — один шаг. Намного выше поля течет вода. Наклоняется Красный Гоз. И кажется ему, что этим движением спасает он землю, избавляет и себя, и свою семью от страданий.
Вода — теплая на ощупь; пенится земля, когда выливает он ведро воды меж двух крайних рядов кукурузы, и рассыпаются вокруг белые искры. И тут же пропадает влага, всасывается. Лишь темное пятно остается на этом месте. В нос бьет запах влажной земли; кажется Красному Гозу, что с этой водой принес он миру новые откровения. И когда поднимает ведра, одно за другим, будто снова и снова толкует смысл этих откровений.
Мысли теперь роятся в голове. Во-первых, думает он о том, сколько воды сразу же испаряется в воздух и сколько уходит в землю. Воздух, должно быть, забирает все ж меньше. Хорошо бы, однако, знать точно: сколько в землю, сколько в воздух… Ого, сколько ему всего надо знать.
Однако с одним ведром работать неспоро. Чем дальше надо носить, тем реже ходит ведро между каналом и землей. Неблагодарная работа. Сил требует много. И веры. Но все же главное — сил. И снова встает перед ним картина: большое колесо, вычерпывающее воду из канала. Не говоря уж о насосе с мотором, который включил — и знай только, рой лопатой канавки… Только так надо делать, иначе погубит деревню засуха и голод.
Время движется к вечеру, и наступает момент, когда чувствует Красный Гоз: силы у него кончились. Многовато для первого раза… да еще без передышки. Садится на дамбу, то на воду смотрит, то на поле. Закуривает. Следы полива на земле видны, а на самой кукурузе — пока не очень. Это позже скажется, ночью, когда поднимется влага в стебель, в листья, в початки… А солнце жжет все беспощаднее. Там, где тень падает от кукурузы, земля еще темная, а на солнце уже и следов не осталось от вылитой воды. Особенно там, где начинал он поливать!
Нет, так не годится. По-другому надо. Вечером надо запускать насос или колесо: ночью не высушит воду солнце. Вся в землю уйдет… А то еще… хо-хо! Воду можно просто пустить в канавку…
Несколько минут отдыха, еще одна цигарка — и опять ощущается сила в руках. Словно неделю отдыхал, лежал кверху пузом. Когда там еще колесо будет или насос. Пока остается надеяться вот на это ведро… Поехали дальше.
Как и рассчитывал, к заходу солнца вылил он на кукурузу ведер двести воды, а полил всего около ста саженей. Ничего, на сегодня хватит.
Надо посмотреть, что будет с кукурузой ночью.
Стоит на дамбе, под ногами грязь от выплеснувшейся воды; а со стороны прудов два человека подходят, господского вида, с ружьями. Между прудом и каналом, в углу, стоит помещичья пролетка. Пролетка стоит, господа идут. Один — управляющий, другой — инженер из Водного хозяйства. Смотрит Красный Гоз, чувствует: что-то не так, а что, об этом не хочет думать. Господа подходят.
Останавливаются возле лужи на дамбе, разглядывают лужу, следы сапог в ней, ступеньки на обоих склонах дамбы, тропинку, уводящую в кукурузу… Наконец управляющий говорит:
— Вы что здесь делаете?
— Я-то? Теперь — ничего. Теперь отдыхаю.
Тут говорит инженер:
— Вы, сосед, спрашивали у кого-нибудь разрешение?
— Разрешение? Это на что же?
— На что? На воду. Вода не вам принадлежит, а Водному хозяйству.
— Вот эта вода, которая течет просто так?
— А эта вода… государству принадлежит. Словом, разрешение нужно, сосед. Как вас зовут-то? — и лезет в карман. Ружье на плечо вешает. Вынимает блокнот, карандаш. Смотрит на Красного Гоза выжидающе.
Красный Гоз усаживается на землю. Колени поднимает, смотрит на инженера боком, исподлобья.
— Меня как зовут? Тогда начнем с самого начала. Как вас, значит, зовут?
У инженера глаза лезут на лоб. Растерянно вертит он в руках карандаш… Плохо дело. Если управляющий не выручит… Выручает управляющий.
— Вы, Йошка, не умничайте. Вода ведь не ваша, верно? И канал Водному хозяйству принадлежит, это тоже ясно. Вы нанесли ущерб каналу! За это отвечать придется. Согласны отвечать?
Красный Гоз молчит. Смотрит на них и молчит. Глубокая печаль переполняет его: значит, все напрасно? Значит, нет выхода? И ничего не остается, кроме как по воскресеньям ходить в церковь, помогать священнику выпрашивать дождичка? А кукуруза пусть горит и картошка… Пусть сохнет, трескается земля… и можно идти обратно в землекопы!…
И другие мужики могут идти, куда глаза глядят. Пусть бродят с пустым животом по полям — помощи ждать неоткуда.
— Вот что, господа, оставьте меня в покое.
Кажется инженеру, что теперь на его стороне сила.
— Ну-ка, говорите быстро имя, а то…
Вскакивает Красный Гоз. Не на ноги опираясь и не на руки, а как бы всем телом. Ведро, которое до сих пор спокойно стояло рядом, уже мечется у него в руке, гремит, словно смеется злобным жестяным смехом; ужасом наполняет инженера этот грохот, кажется ему, что сейчас это ведро будет у него на голове. Соскакивает он с дамбы. Оглядывается еще раз и идет торопливо, прислушиваясь к бешеному стуку сердца. Почти бежит к пролетке. Управляющий пока стоит, как ему и полагается.
— Ну ладно, Йошка! Запомните этот день!
— Уже запомнил. Все в порядке.
Управляющий тоже уходит. Красный Гоз нерешительно раскачивает ведро, потом погружает его в воду…
Нет в деревне мужика, кто, встав на рассвете, не взглянул бы на небо: будет сегодня дождь? Да все напрасно. День идет за днем, и нет между ними разницы. По небу порой пробежит облачный лоскуток — видно, оторвался от других, отстал или заблудился… И опять все по-старому. Жара. Телеги на дорогах чуть не по ось тонут в пыли; особого смысла нет в поле выезжать — да и дома нечего делать. Разве что навоз сушить. На зиму… Этот скудный, засушливый край дает целой большой деревне не только хлеб, мясо, а еще и топливо на зиму. Кизяк. Словом, все отдает, что может. И ничего не получает взамен, лишь дает. А теперь этот край — словно мать, которой надо кормить младенца, а молоко пропало. Что ему делать? Нечего… если завтра не будет дождя. А есть уже такие поля кукурузы, картошки, которым и дождь не поможет.
Дождя все нет. Нет и нет.
У кого земля пониже, возле лугов, тем еще ничего: хоть обильного урожая ждать нечего, да что-то все же будет. А что делать тем, у кого земля выше? Разве что в воскресенье в церковь отправиться… Красному Гозу в церкви пока нечего делать. Да и времени на это нет у него. Он свое поле поливает. Только теперь уже не руками вытаскивает воду, а журавлем, вроде колодезного. И льет воду в желоб, сколоченный из двух досок. И не из самого канала берет воду, а из колодца, выкопанного рядом. Конечно, в колодец вода поступает опять же из канала, из-под дамбы.
Там, куда достает вода, кукуруза словно помолодела и картошка зацвела; поле у Красного Гоза — будто оазис в пустыне. Колодец — в глубину всего-навсего четыре штыка. И все же словно бездонный он, вода в нем не кончается. Черпай себе да черпай целый день…
В среду, ближе к вечеру, старый Чер бредет по краю поля; подходит к Красному Гозу, останавливается.
— Э… ты что, сынок, делаешь? — и смотрит то на колодец, то на кукурузу.
— Да… сами видите, дядя Михай… — и продолжает работать. Погружается в воду ведро, скрипит журавель… Журавель этот сколочен наскоро из ствола акации да из длинной жерди; на ней и висит ведро.
— Эй, сынок, вот не подумал бы… — и, не досказав, быстро уходит.
А еще через полчаса старуха идет через поле, далеко обходит коровье стадо (быка боится). Старуха маленькая совсем, скрюченная. Руки под передником спрятаны. Ракель это, жена Габора Тота. Недалеко отсюда, возле дороги, на Герцогской пустоши, есть у них добрый кусок земли. Туда она и направляется. Вместе копили они с Габором деньги на эту землю. И покупали вместе. И записана она на них обоих. Пшеница там посажена, да овес, да на одной трети — кукуруза. Кукуруза по нынешнему лету неплохая. И посадили рано, и обрабатывали хорошо; только, понятно, засуха и ее не пощадила.
Идет она напрямик через жнивье, которое начали было пахать, да так и не вспахали: плуг не брал пересохшую землю. Уж она им сколько говорила: мол, докончить надо, не бросать, хоть и трудно. Да все впустую. Никто ее не слушает. Никому она не нужна. Ни сыновьям, ни работникам, ни Габору…
Ох, Габор, Габор. Будь ты проклят!..
Никогда не было у него перед женой никаких тайн, нечего было скрывать. А теперь… Недаром говорят: седина в бороду, бес в ребро. На нее, на законную жену, он и не смотрит уже. Хозяйство забросил… и до чего дошел: чужую бабу, эту мерзостную суку, на колени сажает!..
Нет ей места в этом мире, всем она — как бельмо на глазу: и Габору, и невесткам… сыновья, правда, не обижают пока… Да и защищать не защищают. И не видит она их целыми днями: все трудятся, трудятся, а придут домой вечером — только жены их и интересуют.
Ох, пропадет состояние, пропадет дом, который вместе лепили, строили… Да она до этого уже не доживет. Не хочет дожить.
Видит бог, она тут ничего не может поделать… Больно уж изменились времена, другой стала деревня. Что раньше грехом было, теперь и за грех не считается. Что добродетелью было — над тем нынче смеются. Бедные богатых не уважают больше, кричат, требуют чего-то — будто и мир для них был сотворен. И молодежь не такая, как в старое время… и внуки-то бог знает чьи… чтобы ребенок на седьмом месяце родился — слыхано ли такое? Да это бы еще куда ни шло… А Лили — не успела оторвать своего от груди, опять уж на сносях. Для того они столько лет копили, собирали, чтобы внуки потом по кусочкам, по крохам все растащили? А вообще-то… ей уж все равно. И ведь немного ей надо было: жить бы среди них спокойно. Да вот это-то ей и не дано…
Ревет. Так ветер плачет осенью на пустынном жнивье.
Идет вниз по склону вдоль кукурузных полей; солнце печет сквозь вялые, обвисшие листья. С метелок пыльца слетает облачком, садится ей на платок. Господи! Вот и этого она не увидит больше. Как цветет кукуруза. Не увидит, как высохшую, измученную землю смочит наконец благодатный дождь, не увидит туч на небе, радугу после дождя. Ничего не увидит. Потому что пришла она сюда помирать… не вернется больше домой.
Садится на меже, под кукурузой; в одну сторону посмотрит — видит садящееся солнце, в другую посмотрит — видит, как граница солнечного света скользит все ближе и ближе, словно туман. Или как ветер. Сорняки на меже оживать начинают к вечеру.
Великая тишина сходит на нее, будто сон. Или словно голубиная стая, садящаяся на крышу с мягким, теплым шелестом. Старые, натруженные кости ее отдыхают, а вокруг кукурузные листья пускаются в пляс. Закрывает она глаза, чувствует, как вечер опускает на нее легкое свое крыло. Одно крыло. Потому что второе колышется где-то там, в бесконечности.
Умирать притащилась она сюда, на эту землю, в которую по капле ушла сила ее и молодость. Каждый взмах лопатой — это крохотная улыбка, капля крови, кусочек ее плоти. Так постепенно и израсходовала она все за долгие годы, всегда в работе, в заботе. Ничего у нее не осталось; лишь слез немного да старые, кривые кости. Была молодой, красивой, тело было тугим, упругим, как земля весной; горячая кровь трепетала под кожей, как пыль над пашней, когда дунет теплый ветер; все прошло. Осталась одна-одинешенька, со старостью своей, со своим горем. Как ободранный ивовый куст при дороге.
Кузнечик пиликает где-то совсем рядом; слушает она его и ничего больше не слышит. Только немудреную его песню. Солнце село; дальние деревья, кусты словно медленно расплываются в сумерках; первая звезда сверкнула на западе, а так небо везде желтое, сухое. Возле деревни пыль тянется белым пологом. Комары отчаянно плачут вокруг; на соседней делянке прошелестел кто-то: змея или еж. Бог знает кто. Птица вспорхнула; вечер тянет за собой густую тишину. Тишина рождает еще тишину; в деревне торопливо звонят отбой… и в это время всадник отделяется от деревни, скачет в поле.
Ферко это. Мать поехал искать. Он — сюда. Геза — в другое поле. Уж полночь пришла, когда нашел Ферко мать в кукурузе. Спит она; слюна тянется изо рта на траву.
— О, мама… зачем вы сделали это, мама? — гладит он ей плечи, берет под мышки, подымает.
Старуха садится, всхлипывая, трет глаза кулаками, будто ребенок маленький. И опять начинает реветь, хоть и чувствует, что очень это хорошо — жить, быть на свете.
— Не плачьте же, мама… — гладит ей плечи Ферко, встает. Поворачивает коня в кукурузу, потом ложится на землю, рядом с матерью. Берет в рот травинку и тоже, как мать, смотрит на звезды и ревет.
15
Красный Гоз черпал воду журавлем да ведром; старый Чер попробовал двумя ведрами воду таскать, в руках. А умней всех оказался Косорукий Бикаи. Вышел к вечеру в поле, уселся на дамбе, посмотрел влево, вправо; а когда поденщики разошлись с прудов, взял в руки лопату. Острием аккуратно наметил ровную линию поперек дамбы. Рядом — вторую. Вот выроет небольшую канавку и до утра будет пускать по ней воду, а утром зароет. Солнце пригреет — никто и не догадается, что ночью здесь вода текла из канала. А догадается кто — пусть себе. Лишь бы никто не увидел… Ведрами воду таскать — ищите дураков. Он проще сделает. У него здесь хольда полтора кукурузы, до утра напоит их водой… а там пусть приходит дождь, когда хочет. Уж он-то не будет его вымаливать…
Даже после захода жарко было, а потом вдруг посвежело. Без всякого перехода. Пыль плавала возле деревни плоскими, узенькими, зыбкими облаками; в полях же чистым был воздух. Вечерняя звезда на западе светила так ярко, что свет ее словно каплями лился на землю. Лился на разморенные, истомившиеся поля, на кукурузу, съежившуюся от жажды… Косорукий Бикаи потоптался немного в нерешительности, потом-таки вонзил лопату в дамбу. Первый ком земли выбросил торопливо, а дальше копал уже медленно, с оглядкой. Когда под лопатой стала проступать вода, он уже ясно знал, чувствовал, что здесь, сейчас вот, соединятся, сольются два мира. Один — богатый, налаженный, прочный; другой мир — безнадежной нищеты. Что будет, когда они встретятся? Бог знает… Одно ясно Косорукому Бикаи: такой, как он есть, мир этот для него не годится, не подходит…
В деревне звонили отбой, когда вода помчалась по склону дамбы, будто заблудившееся, вспугнутое животное.
Колокольный звон выплыл в поле… ничего в этом нет особенного. Не умещается в деревне, просится наружу…
— Звонят, — говорит мать Йошки Гоза; пересыпает в переднике фасоль, зевает. Наклонившись вперед, облокачивается на колени и, положив голову на руки, глядит на луну, которая только что на конек крыши соседской вскарабкалась. Вся семья Красного Гоза сидит во дворе, перед домом. Такая жара стояла нынче, что страшно и подумать в постель ложиться.
— Звонят… Не лечь ли, а то ведь светает скоро, — отзывается Красный Гоз; первые слова говорит за все время, как сели они здесь после ужина.
— Знаешь, Йошка… У меня нынче весь день какое-то чувство… сама не знаю какое… — тихо говорит Марика, ссыпая очищенную фасоль в передник свекрови. Теперь и она смотрит на луну затуманенным взглядом.
— Бывает… что говорить. По-разному люди устроены… — жарко ему и как-то не по себе. То ли проголодался, то ли воды перепил…
— Нет, не то, Йошка. Что-то другое это… Скажи, не будет беды, что колодец ты вырыл возле канала?
— Беды? А почему? Колодец — на нашей земле… вода, правда, из канала туда идет… Ну, оштрафуют меня за нарушение каких-нибудь правил. А это, самое большее, — десять пенгё. Для штрафа срок назначат, а я в течение пятнадцати дней обжалую… в общем, пока дело до оплаты дойдет, и кукуруза, и картошка будут политы.
— Значит… ты думаешь, этот полив стоит чего-то?
— Думаю? Не просто думаю: знаю! Пошли со мной утром, посмотришь, какая разница там, где полито и где нет. Конечно, так поливать — дело тяжкое. Да ведь если не родится ничего, хуже будет. И что нам остается делать? Все надо испробовать, что позволяют разум и сила…
Умолкает Красный Гоз. Но мысли уже не остановишь, мчатся они друг за другом, голова кружится. Не было бы ни засухи, ни бедности, ни голода, ни страха перед завтрашним днем, если б был народ организован, действовал воедино. Не было бы сгоревших полей, сожженной солнцем кукурузы, засохших хлебов, если бы мужики понимали свое место в этом мире. Да не понимают они… Зато господа понимают: помещики, управляющие… Одно слово — господа. Им и земля принадлежит, и вода, и воздух, и даже дождь! Для них ведь скапливается он в реках, ручьях, в горных потоках. А что принадлежит мужикам?.. Прольется дождь — и тут же высушит землю жара; роса ляжет — и ее слизнет солнце огненным языком… А главное: все думают лишь о себе, не о других. Только о себе. Надеются, что вырвутся из нищеты, если других обойдут… Вот он, Красный Гоз, сколько раз уж показывал, что надо по-иному делать… и можно делать — а что толку? В свое время пытался он организовать бедноту, пробовал научить ее защищать свои интересы… и на земляных работах, и на жатве, потом на строительстве дороги — и тоже ничего. Все прошло бесследно, забылось. Теперь вот показал он деревне, что можно и от засухи спастись — кое-кто последовал его примеру; даже, пожалуй, слишком уж усердно, — да ведь это тоже не выход. Канала все равно не хватит для всех… Да и, вишь, тут же появился этот инженер, чтобы защитить интересы Государства! Ничего себе — Государство. Не устаешь на него дивиться…
Государство… оно, конечно, тоже не мужикам принадлежит; а тем… управляющему, инженеру, Яношу Багди, Жирному Тоту, Ференцу Вирагу. Для них и засуха не засуха: на их-то огромных полях обязательно уродится как раз столько, сколько надо. Вот если бы Государство всем принадлежало, кто в нем живет!.. Вот это было бы дело.
Тогда бы наверняка все было по-другому, справедливо. Скажем, вода протекающих через страну рек орошала бы по сети мелких каналов земли, а уж то, что не нужно, в море бы шло. Излишки, значит, и вода, которая прошла через поля… Каналы пересекали бы земли вдоль и поперек, по берегам их стояли бы деревья, и луга можно было бы косить по четыре-пять раз в год, и сухие степи исчезли бы, и Венгрия вправду стала бы Ханааном с молочными реками и кисельными берегами. Эх, что бы тогда было!.. Да ничего этого нет и быть не может. Почему?
Ясно, ничего хорошего нельзя ждать, пока каждый сам по себе поливает свое крохотное поле. Вот если б так, как делает Водное хозяйство: сразу на ста, тысяче хольдов…
Красный Гоз курит одну сигарету за другой, и развертывается перед ним яркая картина сказочной, счастливой страны. Счастливой страны, в которой живет счастливый народ… Вспоминается ему, что когда-то, когда начали было они организовываться в союз, что-то подобное рассказывал им товарищ Андял, делегат из центра. Говорил товарищ Андял о плановом хозяйстве, сравнивал кооперативные и крупные промышленные предприятия, упирал на сходство между ними; все об этом рассуждал. Сегодняшнего дня он и не касался, будто его и не существует. Все лишь о будущем. Но вот, смотри ты, сколько лет уже миновало — а что вокруг изменилось? Даже люди не изменились, остались те же. Все то же самое… Но что, если б он, Красный Гоз, стал здесь, в деревне, в округе, в комитате новым товарищем Андялом, пошел бы к мужикам и сказал бы им: мол, плохо, мужики, беда. Нет нам иного спасения, кроме как немедленно объединиться, организоваться. Не против погоды, не против засухи — сами видите, толку от этого мало. Объединиться против господ и против Государства, которое принадлежит господам. Потому как Государство это — заклятый наш враг. И земля-то уже только номинально наша, потому что в поземельной книге так значится; а остальное: скот, урожай — все государственное. Много платим — когда покупаем, много платим — когда продаем, наследуем что-нибудь… Что же наше? Только труд. Только пот наш. Мы не собственники, мы производители. Да налогоплательщики. Рабы. И ловят нас как раз на том, что мы считаем своими те несколько хольдов солончаковой земли, с которой живем…
— Йошка… пошли спать, — жалобно просит Марика.
— Пошли, милая, — и зевает.
Летние вечера тянутся далеко за полночь, а ночь тает в рассвете. Только погасла вечерняя звезда — а уж всходит утренняя. К двум часам уже светлеет на востоке небо. А в три часа в окно Красному Гозу постучал Тарцали.
— Спишь, кум?
— Спал. Теперь уже не сплю. Что случилось?
— Случилось… Выйди на минутку.
Красный Гоз садится, ноги сует в штанины. Шарит по краю стола, табак берет. Закуривает и выходит.
— Привет, кум.
— Привет. Я потому пришел… ты ничего не слыхал?
Красному Гозу вдруг вспоминается, как Марика говорила вчера вечером: чувствовала она что-то целый день. Смотри ты! Он, правда, не верит в такое, а все-таки…
— Ну, что случилось?
— А то, что Косорукий Бикаи, скотина, разрыл вечером дамбу, кукурузу хотел полить. Это бы ничего, да заснул он там, А вода размывала, размывала дамбу, да и размыла… И хлынула на поле. Он проснулся уже поздно…
— Та-ак. Стало быть, полил Косорукий Бикаи свою землю… Ему уже дождь не нужен…
— Да не только свою, а половину всех полей в той стороне. Кое-где по шею вода стоит, хе-хе-хе…
— Ха-ха-ха-ха…
— Э… — пугается вдруг Тарцали. Смех застревает у него в горле. Говорит серьезно: — Полицейские его забрали. Сейчас только по улице провели.
— Ну да, полицейские… — Красный Гоз садится тихо на перила крыльца. Чуть стон не вырывается у него из груди. Он придумал этот полив, мужики подражать стали, а Косорукий Бикаи, вишь, перестарался, и вот — увели его полицейские. Он же, заводила, сидит здесь, вместо того чтобы идти, бежать, схватить косу или мотыгу и не позволить, не отдать им беднягу… Вся деревня страдает, многие мужики мечутся в постели без сна, а Косорукого Бикаи уводят полицейские! Нынче того уведут, завтра другого, его или Тарцали, но всегда забирают кого-нибудь! По одному! Редко больше, все по одному. Или по два.
— И вот еще что: в полиции, кореш, знают уже, что это ты начал воду брать из канала…
— Знают? Ишь, какие умные… — и, прислонившись спиной к столбу, смотрит Красный Гоз на рассветное небо, на котором нет ни облачка, как не было вчера, как не было позавчера…
Примечания
1
Об особенностях социографии и о движении «народных писателей» см. статью Й. Дарваша «От старого «открытия Венгрии» до нового» в книге «Писатель и современность». М., «Прогресс», 1974.
(обратно)2
P. Szabó. Minden kör bezárul. Budapest, 1968.
(обратно)3
P. Szabó. Minden kör bezárul. Budapest, 1968.
(обратно)4
П. Сабо. Новая земля, М., 1955.
(обратно)5
В хортистской Венгрии подростки с 13 лет обязаны были посещать раз в неделю военные занятия. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)6
Около 8 хольдов. Хольд — мера площади, равная 1200 кв. саженей или 0,4316 га.
(обратно)7
Венгерское мучное блюдо.
(обратно)8
Шандор Роза (1813—1878) — легендарный разбойник, ставший одним из популярных романтических героев венгерского фольклора.
(обратно)9
Ринальдо Ринальдини — разбойник, герой одноименного романа немецкого писателя Х.-А. Вульпиуса (1762—1827).
(обратно)10
Слушаю, господин капрал (нем.).
(обратно)11
Распространенный в Венгрии напиток — вино с содовой водой.
(обратно)12
В реформистской церкви обычно студент семинарии, по большим церковным праздникам высылаемый в деревни для чтения проповедей.
(обратно)13
Бессмысленное словосочетание.
(обратно)14
Один из жилых районов Будапешта.
(обратно)15
Старый венгерский мужской танец (солдатский по происхождению).
(обратно)16
Последователи Белы Бичерди, который в 20—30-х гг. проповедовал в Венгрии особый вид вегетарианства — питание сырой растительной пищей.
(обратно)17
Оба отрывка из поэмы Ш. Петефи «Витязь Янош» (1844) даны в переводе Б. Пастернака.
(обратно)18
В венгерской орфографии написание слов, взятых из иностранных языков, пользующихся латинским алфавитом, не меняется.
(обратно)19
Земляные столбики, оставляемые на месте раскопа для определения объема вынутой земли.
(обратно)20
Йокаи, Мор (1825—1904) — известный венгерский писатель; популярен своими романами, полными романтических, часто невероятных приключений.
(обратно)21
Изделие народного промысла, традиционного в небольшой венгерской этнической группе — «матё».
(обратно)22
Енё — венгерская форма имени Евгений.
(обратно)23
Лабанцы — приверженцы австрийцев в эпоху борьбы за национальную независимость Венгрии (1703—1711 гг.), возглавляемой князем Ференцем Ракоци II. Куруцы (искаж. круциатус — крестоносец) — сторонники Ракоци.
(обратно)24
Delirium tremens (лат.) — белая горячка.
(обратно)25
Секфю, Дюла (1883—1955) — венгерский буржуазный историк, с националистических позиций рассматривавший судьбы венгерского народа. В 40-х гг. перешел на антифашистские позиции, признал народную демократию. Был первым послом Венгрии в СССР (1946—1948 гг.).
(обратно)26
Ади, Эндре (1887—1919) — выдающийся венгерский поэт. «Ястребиная свадьба над степью» — название одного из его стихотворений.
(обратно)27
Дани Тури — герой романа Жигмонда Морица «Грязь и золото»; Шандор Гёндёр — герой популярной в свое время пьесы Эде Тота «Гроза деревни».
(обратно)28
Пал Сабо имеет в виду движение «народных писателей».
(обратно)29
Кальман Тиса и Иштван Тиса — отец и сын, лидеры консервативной части венгерского дворянства в конце XIX — начале XX вв.
(обратно)30
Вираг — по-венгерски цветок.
(обратно)31
Миклош Толди — историческая личность (XIV в.), популярный герой многих легенд, а позже — эпических поэм, из которых самыми известными являются поэмы Яноша Араня. По преданию, родился в обедневшей дворянской семье и благодаря своей необыкновенной силе и уму стал знаменитым полководцем. Пал Кинижи (XV в.) — полководец короля Матяша I, по преданию, сын мельника.
(обратно)32
Аттила — имеется в виду вождь гуннов Аттила. Арпад — князь, под предводительством которого венгерские племена пришли на территорию нынешней Венгрии. Миклош Зрини (1508—1566) — герой освободительной борьбы венгров против турецкого ига.
(обратно)33
То есть к Миклошу Хорти, который носил официальный титул наместника.
(обратно)34
Марка ликера.
(обратно)35
То есть после буржуазной революции 1848—1849 гг.
(обратно)36
Царская армия по просьбе австрийского двора участвовала в подавлении венгерской революции 1848—1849 гг.
(обратно)37
Йожеф — венгерская форма имени Иосиф.
(обратно)38
1600 кв. саженей или 0,5755 га.
(обратно)








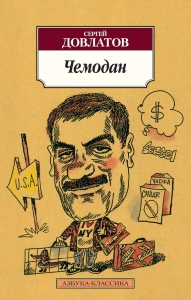


Комментарии к книге «Пядь земли», Пал Сабо
Всего 0 комментариев