Алан Силлитоу В субботу вечером, в воскресенье утром
Alan Sillitoe
Saturday Night and Sunday Morning
© Alan Sillitoe, 1958
© Renewed by Alan Sillitoe, 1986
© Перевод Н. А. Анастасьев, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018
* * *
Предисловие к юбилейному пятидесятому изданию
Роман «В субботу вечером, в воскресенье утром» вырос из цикла новелл, написанных в 1952–1958 годах, когда Алан Силлитоу жил во Франции, на Майорке и в континентальной Испании. Однако же свою творческую энергию и исходный материал писатель черпал из детских и юношеских лет, которые провел в Ноттингеме (такое детство потрясло бы Оруэлла и в несколько смягченных тонах было некогда описано Диккенсом), за которыми последовала полуквалифицированная работа на местных фабриках. Ничего подобного раньше не писалось и не печаталось, и книга эта изменила весь ход истории английского романа.
Перед тем как в 1958 году оказаться на столе Джеффри Симмонса, главного реактора издательства «У. Х. Аллен», рукопись была отвергнута пятью крупными издательскими домами, и смысл претензий к автору в какой-то степени обнаружился в ходе его общения с Томом Маршлером, редактором издательства «Макгиббон энд Ки». Рукопись показалась Маршлеру интересной, но он убеждал автора переписать значительные ее куски, с тем чтобы более верно представить образ жизни рабочего класса. Силлитоу нашел эти советы равнозначными суждениям некоего ясновидящего относительно его собственной биографии и отказался вносить в книгу какие-либо изменения. Маршлер, и не только он, был ошарашен и сбит с толку: настолько герой Силлитоу Артур Ситон отличался от персонажей других книг. Даже такие недавно вышедшие на литературную сцену отщепенцы, как Джим Диксон Кингсли Эмиса, Чарли Ламли Джона Уэйна, Джимми Портер Джона Осборна и Джо Лэмптон Джона Брейна, казались в сравнении с ним людьми более приличными. А вот Симмонса чтение захватило, он понял, что в руки ему попало нечто совершенно исключительное, и переслал рукопись своему другу Отто Стросону, «открывшему» в 1955 году Дорис Лессинг и рекомендовавшему ее издателю Голланцу. «Джеффри, — на следующий же день отвечал ему адресат, — я глазам своим не верю: кто это? Лучшего дебютного романа мне еще читать не приходилось». Другой авторитетный внутренний рецензент издательства, Доналд Моррисон, также не скупился на похвалы.
Артур Ситон — молодой человек, фактически не получивший приличного образования и не обнаруживающий ни малейшей склонности к приобщению к культуре либо повышению своего социального и профессионального статуса.
Это токарь, относящийся к политике, профсоюзам и классовой солидарности со смесью равнодушия и презрения; его больше интересуют выпивка и секс. В то же время он наделен острым, язвительным умом, отличающим его от всех персонажей, к которым привыкла читательская аудитория начиная со времен Вордсворта. Ситон появился на литературном пиру незваным гостем. Его предшественники из среды рабочего или нижней прослойки среднего класса распадались на три категории: одни представляли собой плод воображения интеллектуалов, смотрящих на них сверху вниз; другие стремились подняться вверх по жизненной лестнице, третьим, самым немногочисленным, хватало ума подвергнуть сомнению и пошатнуть положение так называемой верхушки общества. Ситон даже на словах, даже сквозь зубы отказывается признавать существование литературной, культурной и общественной элиты.
Обычно аутсайдеры в литературе вызывают либо жалость, либо неодобрение, либо страх. Но не таков Артур Ситон. Эгоцентриком его не назовешь, однако же именно его беспокойное присутствие и харизма организуют всю структуру романа. Не то чтобы он постоянно солировал в повествовании, но чем дальше мы продвигаемся по сюжету, тем острее ощущаем, сколь вездесущ этот персонаж с его абсолютной непредсказуемостью. Его поведение, даже по нынешним меркам, далеко от образцового: поразительная доверчивость товарища по работе, с женой которого он состоит в любовной связи, доставляет ему, кажется, не меньше удовольствия, чем сам секс. Когда Джек-рогоносец подбивает наконец двух своих приятелей-военнослужащих как следует поколотить Ситона, тот не испытывает ничего, даже отдаленно напоминающего жалость к себе, не говоря уж о раскаянии; кривая равнодушная ухмылка перед лицом неизбежного — вот, наверное, и вся его реакция на побои.
Рецензируя роман Силлитоу на страницах «Дейли экспресс», Роберт Питмэн пишет: «Образ жизни (Ситона) вам может не нравиться. Он и сам вам может не нравиться… но, так или иначе, Силлитоу написал произведение поразительное». Однако же Ситон читателю понравился. После того как права на издание были проданы «Пэну», книга стала его первым бестселлером, изданным миллионным тиражом, а уже через несколько месяцев после появления романа в твердом переплете кинематографисты засыпали «У. Х. Аллена» предложениями о его экранизации. Самое выгодное предложение поступило от английского представителя «Рэнк-организейшн»[1], но, прочитав роман, Рэнк самолично позвонил Симменсу из Голливуда и заявил, что подобного рода вещь никогда не найдет отклика в американских семьях; аванс, добавил он, возврату не подлежит. Освободившееся пространство было немедленно занято никому не известным импрессарио Гарри Зальцманом, на которого книга произвела такое сильное впечатление, что сценарий он предложил написать самому автору. В результате на экраны вышел первый режиссерский фильм Карела Райса, и он же положил начало актерской карьере Альберта Финни, сыгравшего роль Ситона. Подобно роману, фильм стал классикой, Зальцман заработал на нем целое состояние и в 60-е годы выступил продюсером цикла фильмов о Джеймсе Бонде.
Подобно иным популярным персонажам, Артур Ситон заставляет задаваться вопросами о том, насколько близок он своему создателю. Некоторые эпизоды романа имеют автобиографический характер, но, бесспорно, главное, что почерпнул у автора Ситон со своим неукротимым поведенческим абсолютизмом, это темперамент. Он, Силлитоу, глубоко предан идеалам свободы и равенства, но столь же безусловно отвергает любые посягательства системы — сколь угодно милосердной и либеральной — на сознание индивида. Четырнадцатилетним учеником токаря на фабрике он получил от цехового старосты уведомление, что членство в профсоюзе обязательно, что оно ему только на пользу и что взносы будут вычитаться из его жалованья. Послав в самых сильных выражениях старосту куда подальше, Силлитоу вернулся на свое рабочее место. Семена, из которых вырос характер Артура Ситона, были брошены в землю задолго до того, как его создатель задумался о писательской карьере.
Как правило, книгу Силлитоу рассматривают в рамках творчества «рассерженных молодых людей» 50-х годов, а также жанровой разновидности «рабочего романа». Такого рода определения представляются поверхностными и снисходительными по отношению к автору, ибо, помимо всего прочего, в них пропадает оригинальность и литературный блеск произведения. С равным успехом можно рассматривать творения Вирджинии Вулф, Сэмюэла Беккета и Ивлина Во как отражение трагического состояния пресыщенной знаниями буржуазии. Как художник, автор романа «В субботу вечером, в воскресенье утром» отличается удивительным мастерством в изображении мира рядовых англичан 50-х годов: избегая любых оправданий либо сантиментальности, он в то же время отказывается разделять распространенные представления, будто темой произведений такого рода непременно должна быть социальная несправедливость. Это книга о людях не менее сложных психологически и часто более сильных характером, нежели соответствующие им персонажи книг о среднем классе.
В 2008 году мы отмечали пятидесятую годовщину с момента первой публикации романа, и за это время Алан Силлитоу доказал, что является самым многоликим и непредсказуемым среди писателей-современников. Среди пятидесяти двух изданных им произведений — романов, новелл, книг для детей, стихов, путевых заметок, пьес, мемуаров, критических очерков — есть вещи, решительно не поддающиеся жанровым определениям. «Поездка в Нигилон» вызывает в памяти «1984» Оруэлла и «О дивный новый мир» Хаксли, но стилистически автор превосходит обоих. Это как если бы «Поминки по Финнегану» были бережно переписаны связными предложениями, помещены в четкую сюжетную рамку и возникла бы поразительная картина тоталитаризма, бесчеловечности и фарса. «Повествователь» (1979) — один из лучших в мировой литературе романов о беспощадной, безжалостной природе писательского труда, а «Генерал» (1960) — прямой литературный предшественник фильма Романа Полански «Пианист». В «Одиночестве бегуна на длинные дистанции» (1959), последовавшим за романом «В субботу вечером, в воскресенье утром», Силлитоу предстает как самый значительный мастер малой формы после Джойса.
Читайте первый роман Алана Силлитоу, наслаждайтесь этим чтением и знайте, что перед вами — веха в литературной истории.
Ричард Брэдфорд
Предисловие к изданию романа «В субботу вечером, в воскресенье утром» 1979 г.
Роман «В субботу вечером, в воскресенье утром» увидел свет двадцать лет назад, осенью 1958 года.
Никто, включая рецензентов, не удивился его успеху так сильно, как я. Последний вариант романа я писал на Майорке, в 1966–1967 годах, но многие главы и некоторые эпизоды сочинялись с начала 50-х, так что, можно сказать, работа продолжалась в течение семи лет, прежде чем рукопись ушла в Лондон.
Кое-какие главы изначально были написаны в форме новелл, иные из них я предлагал ежемесячным журналам, но получил отказ. Один-два фрагмента романа (включая раздумья героя во время рыбной ловли воскресным утром) первоначально имели поэтическую форму. Это были всего лишь эпизоды, события, но они удачно встроились в композицию романа, потому что либо разворачивались вокруг одного характера — Артура Ситона, — либо имели своим центром картину одного города и одной семьи.
Впоследствии эти этюды и новеллы были утрачены, ибо, переезжая в эти суровые, безденежные годы литературного ученичества из одной области Испании в другую, я просто не мог таскать за собой в чемоданах постоянно растущие в размерах гигантские кипы бумаги.
Роман был отвергнут четырьмя издателями. Я рассчитывал получить за него максимум 200 фунтов, и эта сумма позволила бы мне вернуться на Майорку и прожить там в течение года, пока не будет готов к изданию новый роман, на котором, хотелось надеяться, я заработаю столько же, и так далее — буду жить и писать.
Многие читатели сегодня, как и в ту пору, когда роман был издан впервые, делают одну и ту же ошибку: видят в нем жизнеописание этого автора. Это не так, во всяком случае, это не автобиография в строгом смысле этого слова. Приступая к сочинению романа, я уже десять лет как не работал на фабрике. Но главное — книга, воссоздавая в определенной мере атмосферу жизни, в которой я вырос, является плодом воображения, и все действующие в ней персонажи — это фигуры, выписанные и расположенные таким образом, чтобы в итоге нельзя было сказать, будто они списаны с кого-то конкретно. Мне кажется, романисты, описывающие жизнь среднего класса, действуют таким же образом.
Мною руководило только одно — радость самого писания, я готов был работать изо всех сил ради того, чтобы написанное получилось точным и правдивым. Я стремился запечатлеть черты обыкновенных людей, какими я их знаю, так, чтобы они узнали в персонажах самих себя. Эта работа отняла у меня много сил и времени и оказалась более тяжелой, чем можно было себе представить.
Не мне судить, получилось у меня задуманное или нет. Я по-прежнему остаюсь писателем и не являюсь критиком либо рецензентом. Я настолько поглощен сочинением своих романов — новых, в той же степени, что и этого, — что меня даже не тянет по-настоящему их прочитать. В конце концов, «В субботу вечером, в воскресенье утром» была и остается первой книгой автора, со всеми ее просчетами и недостатками. Тем не менее мне представляется, что именно в этом произведении я заговорил своим настоящим голосом, и если оно хоть в какой-то степени мне до сих пор нравится, то причина состоит именно в этом. А дальше — пусть судит читатель.
Алан Силлитоу
Часть 1. В субботу вечером
Глава 1
Шумная компания любителей погорланить песни, расположившаяся за несколькими столиками, наблюдала за тем, как Артур неровными шагами приближается к лестничной площадке, и хотя все наверняка знали, что он пьян в стельку, и понимали, какая ему грозит опасность, никто не попытался его остановить и вернуть на место. Залив в себя одиннадцать пинт пива и семь стаканчиков джина, играющих теперь в прятки у него в желудке, он пересчитал все ступени лестницы, сверху донизу.
Нынче вечером у членов клуба «Белая Лошадь» бенефис, и в честь него был вскрыт ящик для пожертвований и устроена попойка во всех помещениях и четырех стенах паба. Половицы скрипели, оконные рамы хлопали, листья комнатных растений увядали в парах пива и клубах сигаретного дыма. Команда графства Ноттс обыграла гостей, и друзья клуба «Белая Лошадь» собрались наверху отпраздновать победу. Артур не был членом клуба, но Бренда была, так что ему — до времени — полагалась доля выпивки ее отсутствующего мужа, а когда клубные средства иссякли и предусмотрительный хозяин паба расстелил салфетки перед теми, кто был не в состоянии платить, он выложил на стол восемь полукроновых монет в знак того, что отныне раскошеливается сам.
Ибо нынче был субботний вечер, лучшее и самое веселое время недели, одна из пятидесяти двух остановок в медленном вращении Большого колеса года, неистовая прелюдия к обессиленному воскресенью. В субботу вечером выплескиваются наружу переполняющие тебя чувства, и отложения, накопившиеся в организме за неделю изнурительной фабричной работы, исторгаются свободным и неудержимым потоком. Ты следуешь девизу «пей и радуйся жизни», обвиваешь мускулистыми руками женскую талию и чувствуешь, как пиво благотворно проникает в податливые вместилища твоих внутренностей.
Бренда и еще две женщины, сидевшие с Артуром за одним столиком, смотрели, как он оттолкнул свой стул, с трудом поднялся, и его серые глаза подернулись пленкой, делая его похожим на высокорослого худого шамана, готового пуститься в какой-то безумный танец. Вместо этого, однако, он пробормотал нечто нечленораздельное — что именно, они, то ли слишком пьяные, то ли погруженные в себя, разобрать не смогли, — и нетвердыми шагами поднялся на верхнюю площадку лестницы. Множество глаз наблюдали, как Артур цепляется за перила. Он повернул голову и медленно обвел взглядом переполненное помещение, словно прикидывая, с какой ноги начать, чтобы придать своему телу инерцию движения вниз, или даже пытаясь понять, зачем ему вообще понадобилось спускаться именно в этот момент.
Он чувствовал, как затылок его обжигает свет ярких электрических ламп, и на какой-то миг ему показалось, что его сознание и его тело представляют собой совершенно обособленные сущности, каждая из которых готова бездумно двинуться своим путем. Чей-то громкий голос, хрипло затянувший позади него песню, почему-то показался ему сигналом к немедленному началу спуска, и он сделал шаг вперед, проследил, как его ступня неуверенно опустилась на следующую ступеньку, почувствовал давящий на нее вес собственного тела, и когда тяжесть сделалась невыносимой, покатился вниз по лестнице.
Высокооктановая смесь семи стаканчиков джина и одиннадцати кружек пива привела его в движение, как если бы он был некий механизм, сама же она образовалась в результате хвастовства одного типа. Этот здоровенный крикливый ублюдок, называвший себя, как впоследствии припомнилось Артуру, моряком, шатался по бару и, задерживаясь у одного столика за другим, потчевал слушателей рассказами о различных точках земного шара, где ему пришлось побывать, всякий раз нажимая на то, что сам он — чемпион по части выпивки и самый компанейский парень во всем пабе. Ему было под сорок, он находился в расцвете сил, еще не успел обрасти основательным жирком, носил коричневый жилет и полосатую рубашку в тон, манжеты которой прикрывали густую поросль на мускулистых запястьях.
— Что это ты там сказала про выпивку? — вскинулась подружка Бренды. — Держу пари, что наш молодой Артур Ситон, вон он, — она мотнула головой в сторону стола, где сидел Артур, — тебя перепьет. Ему всего двадцать один, и он заглатывает зелье, как рыба воду. Не знаю уж, как в него все вмещается. Просто уходит и уходит внутрь, и все ждешь, когда же у него кишки наружу вылезут, ан нет, даже толще не становится.
Болтун пробурчал что-то и попытался было отмахнуться от этого панегирика, но под конец особенно красочного и яркого описания какого-то борделя в Александрии окликнул Артура:
— Я слышал, ты силен выпить, паренек?
Обращение «паренек» Артуру не понравилось. Он мгновенно выпрямился.
— Да так, более или менее, — скромно ответил он. — А что?
— И все же, сколько можешь выпить? — настаивал Болтун. — Мы, бывало, когда увольнительную на берег получали, нажирались на спор, — пояснил он, обращаясь с широкой понимающей улыбкой к заинтересованной публике.
Болтун напомнил Артуру старшину, влепившему ему как-то наряд вне очереди.
— Даже не знаю, — сказал он. — Я, видишь ли, считать не умею.
— Ну что ж, — подхватил Болтун, — посмотрим, умеешь ли ты пить. Проигравший оплачивает счет.
Артур не колебался ни минуты. Дармовая выпивка есть дармовая выпивка. К тому же он всегда завидовал незаслуженной славе хвастунов и надеялся и себя показать, и его поставить на место.
Тактика Болтуна была точна и продуманна, это Артур вынужден был признать. Они кинули жребий, и моряк, получив право первого хода, начал с джина. Но после седьмого стаканчика перешел на пиво — пинтами. Артур с удовольствием выпил джина и тоже налег на пиво. Довольно долго казалось, что спор идет на равных, так что даже могло возникнуть ощущение, будто они собрались пить до бесконечности, как вдруг на десятой пинте Болтун неожиданно позеленел и выскочил из-за стола. Расплатился он, наверное, внизу, потому что назад так и не вернулся. Артур же, словно ничего не случилось, вернулся к своему пиву.
Он смеялся про себя, катясь вниз по лестнице, слыша отдающийся в позвоночнике глухой стук, и ему казалось, будто все происходит за многие мили отсюда и по ту сторону земной поверхности возникают слабые вибрации, которые он регистрирует, подобно сейсмографу. Вообще-то говоря, это передвижение было таким покойным и усыпляющим, что, остановившись у подножия лестницы, Артур так и не открыл глаз и заснул. Он испытывал приятное чувство отрешенности, и ему хотелось бы всю оставшуюся жизнь пребывать точно в таком положении.
Кто-то пинал его в ребра, и он чувствовал, что это не были грубые пинки участника драки или заигрывание женщины, которую он уложил в постель; это были осторожные пинки какого-то мужчины, опасавшегося, что тот, кого он пинает, может внезапно вскочить на ноги и ответить пинком куда более сильным.
Артуру также казалось, что мужчина старается ему что-то сказать, и он, в свою очередь, изо всех сил пытался ответить, хотя и не мог разобрать пока, что именно ему говорят. Впрочем, даже если бы ему удалось разлепить губы, мужчина все равно бы его не понял, потому что лицо Артура было прижато к животу, так что окружающим он казался полностью одетым гигантским зародышем, свернувшимся калачиком у подножия лестницы на бархатном ковре в тени двух комнатных растений, листья которых переплетались над ним подобно лианам в джунглях.
Тычки становились все более настойчивыми, и Артур начал смутно осознавать, что исходят они то ли от кого-то из официантов, то ли от самого хозяина. Оказалось, это был официант, с салфеткой в одной руке и подносом в другой, в расстегнутой после тяжких трудов куртке и с лицом, обычно бесстрастным, но сейчас обретшим некоторую индивидуальность, ибо его начал всерьез беспокоить этот долговязый, коротко остриженный юноша с каменным выражением лица, лежащий без чувств у его ног.
— Чуток перебрал, бедняга, — вымолвил пожилой мужчина, переступая через Артура, мурлыча что-то себе под нос и рассуждая на ходу сам с собою о том, как славно было бы, хоть и грешно, если бы ему самому хватило слабости, но и силы духа вот так же надраться и скатиться с лестницы в бессознательном состоянии.
— Эй, Джеки, поднимайся, — уговаривал Артура официант. — Нам не нужно, чтобы сюда заявились копы и застали тебя в таком состоянии. Ведь прижмут нас, а не тебя. Только на прошлой неделе мы вляпались в историю, когда с одним типом случился припадок и его на «Скорой» увезли в больницу. Так что новых неприятностей нам не нужно, иначе у паба будет дурное имя.
Артур перевернулся было, чтобы, устроившись поудобнее, еще глубже провалиться в сон, но тут ему в лицо ударил свет, он открыл глаза и увидел белую куртку и раскрасневшееся лицо официанта.
— О господи, — с трудом выговорил он.
— Господь тебе не поможет, — бесстрастно заметил официант. — Давай поднимайся, ступай наружу да глотни немного свежего воздуха, полегчает.
Официант попытался поднять его на ноги, и Артуру, отнюдь не старавшемуся ему помочь, сделалось очень хорошо, как когда он лежал в больнице и медсестра всячески хлопотала над ним, постоянно повторяя, чтобы он не двигался, иначе пробудет в постели еще неделю. Это было два года назад, после того как он попал под грузовик на пути в Дерби. Но у официанта имелась на этот счет другая точка зрения, и, придав Артуру сидячее положение, он с присвистом выдохнул:
— Ну, все. Довольно. Не умер же ты. Валяй, дальше сам.
Когда над Артуром раздвинулись и тут же сомкнулись еще чьи-то ноги — каблук ботинка при этом врезался ему в плечо, — он громко и на сей раз вполне внятно вскрикнул:
— Эй, приятель, нельзя ли поаккуратнее? Смотри, куда оглобли тянешь. — Он повернулся к официанту. — Кое-кто любит в субботу вечером бутсы на ноги натягивать.
Мужчина остановился на середине лестницы:
— Нечего валяться у всех на пути. Пить не умеете, вот в чем беда с вами, нынешней молодежью.
— Это ты так думаешь, — огрызнулся Артур и, ухватившись за перила, рывком встал на ноги.
— Лучше тебе все же выйти на улицу, — грустно проговорил официант голосом человека, который надел черную мантию, чтобы вынести приговор. — Ты в таком состоянии, что больше эля мы тебе налить не можем.
— Да ничего такого со мной нет, — запротестовал Артур, чувствуя, что надвигается большая опасность.
— Точно, — с холодной усмешкой возразил официант, — ничего такого. Но все же, знаешь ли, не стоит так надираться.
Артур продолжал отрицать, будто он пьян, и говорил теперь так отчетливо, что официант, кажется, готов был ему поверить.
— Курни, приятель, — предложил Артур и зажег две сигареты без малейшей дрожи в руках. — Набегался, верно, нынче вечером, — добавил он так трезво, словно только что вышел на улицу и даже глотка пива не сделал.
Его слова тронули официанта.
— Не то слово, — пожаловался он. — Вымотался так, что ног под собой не чую. Право, эти субботние вечера когда-нибудь меня доконают.
— Да, веселой твою работу не назовешь, — сочувственно кивнул Артур.
— Это уж точно, — согласился официант и внезапно поделился, как с другом: — Людей не хватает, вот в чем все дело. Понимаешь, на такую работу никто не хочет наниматься и…
В этот момент в проеме двери появился хозяин паба — невысокий, жилистый, в костюме в тонкую полоску мужчина, в котором никто бы не признал хозяина, если бы не легкий налет властности в повадке и полная сосредоточенность во взгляде.
— Эй, Джим, — резко бросил он, — я не за то плачу своим официантам, чтобы они точили лясы с приятелями. Сегодня, сам знаешь, полно народа, так что поднимайся наверх и смотри, чтобы все были довольны.
Джим мотнул головой в сторону Артура:
— Понимаете, вот этот парень…
Но хозяин уже перевел горящий взгляд фанатика на что-то другое, и официант понял, что продолжать нет смысла. Он пожал плечами и пошел, как велено, заниматься своим делом, позволив Артуру пройти к стойке.
Крепко ухватившись за медные перила, он крикнул, чтобы ему налили пинту — единственную меру жидкости, которой хватило для начала избавления от жажды, вкусом напоминающей золу, что скопилась у него в гортани. Быстро расправившись с долгожданной пинтой, он потом незаметно для официанта проберется наверх и присоединится к Бренде — женщине, рядом с которой он сидел, пока не полетел с лестницы. Он все никак не мог поверить, что этот фокус случился именно с ним. Поначалу его память действовала как великодушный пропагандистский механизм, вместилище и горнило нравов, заставляющий считать, что он не мог напиться так, чтобы скатиться вниз по лестнице, что на самом-то деле именно так оно и было — он просто спустился и прилег на нижней ступеньке поспать. Такое с любым может случиться, особенно после целого дня работы на токарном станке под монотонный гул фабричных машин. Все же это объяснение звучало слишком уж успокоительно. Возможно, несколько ступенек он все же действительно пересчитал, ну да, теперь он вспоминает, что пролетел три-четыре ступеньки.
Артур заказал очередную пинту — третью. От изнеможения глаза его подернулись пленкой, и он готов был выпустить из рук перила у стойки бара, если бы в момент самого большого приступа слабости недремлющий инстинкт самосохранения не заставил его стиснуть кулаки и с новой силой вцепиться в стойку. Его начало тошнить, и борьба с позывами рвоты отнимала последние силы. Он уже не был уверен, стоит ли после всего случившегося подниматься к Бренде, может лучше, пробормотал про себя Артур, допить свою пинту и вернуться домой, в постель — лучшее место на свете, когда чувствуешь, что с тебя довольно.
Бармен поставил перед ним кружку. Он заплатил шиллинг и восемь пенсов и едва ли не залпом опорожнил ее. Силы чудесным образом вернулись, и Артур заказал очередную пинту, подсчитав про себя: тринадцатая. Кое для кого многовато, но мы еще посмотрим, как обернется дело. Получив заказ, он начал отхлебывать, на сей раз помедленнее, но когда дошел до середины, позыв к рвоте стал настоятельной потребностью, о чем упорно свидетельствовало бульканье в горле. Все же он допил пиво и с трудом закурил сигарету.
Дым попал Артуру в дыхательное горло, и ему едва хватило времени, чтобы ввинтиться в толпу, орудуя локтями и расталкивая тех, кто, сам о том не подозревая, мешал ему пройти, задыхаясь от дыма, исторгавшегося теперь у него изо рта и ноздрей, испытывая странное ощущение, будто его влечет некая непреодолимая сила, с которой он не может справиться, покуда он не дал волю позыву, мучившему его с тех самых пор, как он скатился по лестнице, и оглушительно рыгнул прямо над головой пожилого мужчины, сидевшего с женщиной на одном из сидений, обитых зеленой кожей.
— О господи! — вскричал мужчина. — Ты только посмотри! Посмотри, что натворил этот молодой бездельник. Мой лучший костюм. Только сегодня почистили и погладили. Глазам не верю! О господи, господи! Да я пятнадцать шиллингов выложил. Что, деньги на дереве, что ли, растут? Вместе с костюмами? Ну и как я теперь ототру эти пятна? О боже!
Жалобный голос звучал еще несколько минут, и те, кто наблюдал эту картину, все ждали, когда же сетования перейдут в настоящие рыдания. Артур застыл на месте, не в силах поверить, что разыгрывающаяся на его глазах трагедия может быть каким-то образом связана с ним и соблазном, которому он только что уступил. Тем не менее помутившееся сознание, сигаретный дым, а также визгливые выкрики спутницы мужчины — все это подсказывало, что да, он виноват и ему следовало бы пожалеть о содеянном.
Артур стоял прямо, напряженно, слегка покачиваясь, глаза его блестели, пальто было расстегнуто. Он механически пошарил в кармане в поисках очередной сигареты, но, вовремя вспомнив, к чему привела прошлая попытка закурить, отказался от этого намерения и уронил руки по швам.
— Посмотри, что ты наделал, гаденыш, — не унималась женщина. — Облевал лучший костюм Альфа. И посмотрите только на него: стоит себе и в ус не дует. Может, все же скажешь что-нибудь? А? Может, хотя бы извинишься?
— Правда, рот-то открой, — бросил кто-то из свидетелей этой сцены, и по его тону Артур понял, что люди не на его стороне, хотя сказать что-нибудь в свою защиту не мог — язык ему не повиновался. Он не сводил глаз с женщины, которая не переставала кричать на него, в то время как жертва безуспешно пыталась очистить костюм при помощи носового платка.
Женщина стояла в футе от Артура.
— Посмотрите на него! — визгливо выкрикивала она ему прямо в лицо. — Бесчувственный тип. Слова сказать не может. Даже извиниться неспособен. Ты почему не извиняешься, а? Извиняться не умеешь? Наркотой, видно, накачался, да и набрался вдобавок. Видала я таких гуляк, от них одни неприятности. Ну, извинись же.
По непрестанному повторению слова «извинись» можно было подумать, что она либо только что узнала его значение — может, после неполадок в телевизоре, — либо произнесла впервые с тех пор, как сорок лет назад, в школе, прочитала по складам слово, написанное цветным мелком.
— Извинись! — кричала она, едва не прижимаясь к Артуру своим раскрасневшимся от гнева лицом. — Ну же, извинись.
Зверь, поселившийся в желудке Артура, вновь разомкнул челюсти и внезапно и безжалостно, не дав себя остановить и не отступив в сторону, не предупредив о своем появлении, с угрожающим рыком выскочил у него изо рта.
Женщина была потрясена. В туманной дымке лицо ее обрело несколько более отчетливые очертания. Артуру были видны зубы в приоткрытых губах, суженные глаза, выпущенные когти. Тигрица.
Больше он не видел ничего. В последний момент, перед тем как она бросилась на него, Артур, влекомый мощным инстинктом самосохранения, собрал все свои силы и пробился сквозь толпу к входной двери, оставляя позади сцену, где смешались фарс, трагедия и нечто подобное воздаянию.
Он негромко постучал в дверь дома, где жила Бренда. Никто не откликнулся. Этого можно было ожидать. Дети спят, ее муж Джек уехал в Лонг-Итон на соревнования — собачьи и конские бега и мотоциклетные гонки — и вернется только в полдень воскресенья, а сама Бренда осталась в пабе. Сидя на крыльце перед входом, он вспомнил свой поход к ее дому: в памяти смутно шевелились картины сражений с фонарными столбами, стенами и каменными бордюрами тротуаров, столкновения с людьми, велевшими ему смотреть по сторонам и грозившими врезать, сердитые голоса и неприветливая каменная кладка домов и тротуаров.
Стояла мягкая осенняя ночь, в ветре растворялись случайные звуки — кто-то захлопнул дверь, кто-то запер оконную раму. Артур лежал поперек крыльца, стараясь держаться подальше от тротуара. Кто-то прошел мимо, напевая веселую песенку и не замечая ничего вокруг себя. Артур наполовину спал, но время от времени открывал глаза, чтобы убедиться, что улица по-прежнему на месте, и заверить себя, что он не в кровати, хотя жесткая каменная ступень была такой же круглой и мягкой, как подушка. Он испытывал чувство отрешенного блаженства, ибо отвратительные позывы к рвоте прошли, а вместе с тем в организме сохранялось достаточное количество алкоголя, чтобы испытывать одновременно душевный подъем и желание погрузиться в сон. Артур решил провести любопытный эксперимент — заговорить вслух, дабы выяснить, способен ли он услышать собственный голос. «Наплевать, наплевать, наплевать», — бормотал он в ответ на приходящие в голову вопросы, хорошо ли это — спать с женщиной, у которой есть муж и двое детей, напиваться как свинья, залив в себя семь порций джина и бессчетное количество пинт пива, скатываться с лестницы и блевать на незнакомых мужчину и женщину. Блаженство и чувство вины объединили усилия таким образом, что уже не вызывали тревоги, но просто погружали в приятное безразличие. Следующее, что он увидел, была Бренда; наклонившись, она больно упиралась негнущимися пальцами в его ребра.
— Ага! — заворчал он, уловив исходящий от нее запах дрожжей и хмеля. — Пьянствовала!
— Кто это говорит! — возмутилась она, размахивая руками так, словно привела с собой целую кучу зрителей. — Всего-то две пинты выпила и три оранжада, а он что-то там толкует о пьянке. Зато я все увидела в пабе — как ты скатился с лестницы и облевал людей.
Артур встал на ноги — твердо, с ясной головой.
— Но теперь-то, цыпленок, я в норме. Извини, что не получилось вернуться к тебе там, в пабе, право, не знаю, что со мной стряслось.
— Как-нибудь расскажу, — рассмеялась Бренда. — А сейчас не шуми, когда в дом войдем, а то дети проснутся.
Поосторожнее, сказал он себе, соседи, которым до всего есть дело, могут проболтаться Джеку. Он откинул у нее с воротника пальто прядь волос и поцеловал в шею. Бренда раздраженно обернулась:
— Неужели нельзя дождаться, пока поднимемся наверх?
— Нельзя, — с насмешливой ухмылкой признался Артур.
— Все равно придется, — сказала она, открывая перед ним дверь.
Пока Бренда возилась с замками и задвижками, Артур стоял посреди гостиной, вдыхая слабые запахи резины и машинного масла, исходящие от велосипеда Джека, прислоненного к огромному, чуть не во всю стену, посудному шкафу. Это было небольшое полутемное замкнутое пространство с его давно привычными приметами быта другого мужчины: старомодные стулья, кушетка, камин, настольные часы, тикающие на каминной полке, запах грубой оберточной бумаги и земли в цветочных горшках, обычный налет пыли, оставшаяся с зимы сажа в дымоходе, запах плесени, пропитавшей ковровые дорожки под столом и камином. Бренде эта комната известна все те семь лет, что она замужем за Джеком, и все же она не могла сродниться с ней так, как Артур за десять секунд, пока она возилась с ключами.
Он зацепился за педаль велосипеда и, вскрикнув от боли, выругал про себя Джека за дурость: зачем ставить его в таком неудобном месте?
— Ну и что он себе думает, как мне войти сюда, когда на пути торчит эта хреновина? — ухмыльнулся он. — Передай ему, что я велел на следующей же неделе переставить ее во двор, чтобы не торчала у всех на виду.
— Тихо ты, — прошипела Бренда, и, словно два вора, они скользнули в столовую, где при свете электрической лампы виднелись все еще остающиеся на столе следы ужина — чайные чашки, тарелки, банка с повидлом, хлеб. Из ближайшего двора донесся кошачий визг, хлопнула крышка мусорного бака.
— Ну и что? — в полный голос сказал Артур, распрямляясь во весь свой рост. — Какой смысл шептаться, когда снаружи такой тарарам?
Они стояли между столом и каминной решеткой, и Бренда закинула ему руки за шею. Целуя ее, Артур повернул голову так, чтобы увидеть самого себя в овальном зеркале над полкой. Рассматривая себя под таким углом, он с расширившимися глазами отметил всклокоченные коротко стриженные волосы, торчащие, как иглы дикобраза-блондина, и заживающий на щеке след от старого прыща.
— Не надо сегодня слишком долго задерживаться, Артур, — нежно сказала Бренда.
Он выпустил ее и, зная здесь каждый уголок как свои пять пальцев и действуя так, словно это был его дом, стянул куртку и рубаху и прошел в посудомоечную, чтобы стереть с лица следы усталости. Оказавшись в постели, заснут они не сразу, и ему хотелось оставаться свежим в течение хотя бы часа, а уж потом он отправится в бесконечный спуск по теплому ложу, ощущая рядом с собой податливое тело Бренды.
Было десять утра, а она все еще спала. Солнце пробивалось сквозь окно, принося со своими лучами уличный шум: воскресный перезвон бутылок в сумках молочников, совершающих обход района, голоса мальчишек — разносчиков газет, перекрикивающихся друг с другом, цокая каблуками по тротуару и рассовывая по почтовым ящикам свернутые газеты с кроссвордами, прогнозом погоды, спортивными новостями и новостями скандальными, которые будут сладострастно и вместе с тем лениво обсуждаться за тарелкой с беконом и помидорами, под кружку крепкого сладкого чая.
Артур повернулся к Бренде, грузно лежащей рядом с ним, и сел, чтобы рассмотреть ее получше. Она бесшумно дышала, волосы рассыпались по подушке, груди, высовывавшиеся из комбинации, прикрывала полная гладкая рука, словно в попытке защититься от чего-то, испугавшего ее во сне. Артур услышал, что в спальне на противоположной стороне лестничной площадки играют двое ее детей.
— Это мой медвежонок, это наш Джеки, — говорил один. — Отдай немедленно, иначе скажу маме.
В ответ донеслись приглушенные угрозы другого, не желавшего расставаться со своей добычей.
Артур блаженно скользнул под одеяло.
— Бренда, — негромко позвал он, — вставай, цыпленок, просыпайся.
Она повернулась и прижалась лицом к его груди.
— Сладкая ты моя, — прошептал он.
— Который час? — невнятно пробормотала Бренда, обжигая его кожу своим горячим дыханием.
— Половина двенадцатого, — соврал он.
Она вскочила с кровати — на одной щеке следы от смятой простыни, карие глаза широко открыты.
— В своем репертуаре, да? — взвизгнула она. — Из всех вралей, которых я когда-нибудь знала, ты самый бессовестный.
— Ну да, приврать я всегда любил, — ухмыльнулся он. — И у меня это недурно получалось.
— Врали долго не живут, — парировала Бренда.
— Ладно, сейчас только десять, — признал он, потрепав ее по затылку.
— Ну и денек вчера был, — вспомнила вдруг Бренда и засмеялась.
Его память тоже ожила. Пойла из него наружу вышло больше, чем из Болтуна, потом он скатился с лестницы и заблевал какую-то парочку.
— Кажется, тыща лет прошла. — Артур засмеялся, обнял любовницу за плечи, поцеловал в губы, потом в шею, в грудь, прижался ногой к ее бедру. — Ты у меня такая красотка, Бренда. Давай-ка ляжем.
— Мам, — донесся до них чей-то жалобный голосок.
Бренда оттолкнула Артура.
— Возвращайся в кровать, Джеки.
— Уже поздно, — захныкал малыш за дверью. — Я хочу чаю.
— Ложись, я сказала.
Они услышали шаркающие детские шажки.
— Хочу поздороваться с дядей Артуром, — капризно протянул Джеки.
— Вот негодник, — беззлобно пробормотал Артур, смиряясь с неизбежностью. — Даже в воскресное утро покоя нет.
— Не дразни его. — Бренда уселась на кровати и оправила комбинацию.
Джеки не унимался. Теперь он сильно пнул пяткой дверь.
— Дядя Артур, можно войти?
— Негодник ты этакий.
Мальчик засмеялся, понимая, что теперь ему ничего не грозит.
— Ступай вниз, в гостиную, и притащи-ка сюда «Новости», газету только что сунули в почтовый ящик. Тогда я тебя впущу.
Босые подошвы приглушенно застучали по деревянным ступеням. Артур и Бренда слышали, как мальчик быстро спустился в гостиную, затем, задыхаясь, понесся вверх по лестнице. Они отпрянули друг от друга в тот самый момент, когда Джеки ворвался в спальню. Мальчик швырнул газету на кровать и, прыгнув следом, зажал ее между своим животом и ногой Артура. Тот вытащил газету, одной рукой поднял паренька на воздух и держал, пока тот не начал икать и задыхаться от смеха. Тогда Бренда велела опустить его, а то вдруг еще припадок случится.
— Юный Джеки, — проговорил Артур, глядя на возбужденное личико пятилетнего ребенка с нежной кожей и светлыми волосами, такого свежего в своей детской рубашонке и чистого после утреннего купанья. — Ах ты, маленький негодник, юный Джеки, юный жокей. — Он опустил его, и мальчик прижался к нему, ласкаясь, как кролик.
— Слушай, — сказал Артур, дыша ему в ухо, — а теперь поднимайся и притащи мне брюки вон с того стула. Получишь шиллинг.
— Не порть ребенка, — сказала Бренда, прикасаясь к нему под одеялом. — У него и без того довольно денег. — Она выбралась из постели и сняла висевшую на нижней перекладине кровати юбку. Артур и Джеки оба, не отводя глаз, смотрели, как она одевается, явно поглощенные разнообразными тайнами тела, которые исчезали одна за другой под каждым очередным предметом одежды.
— Ну и что? — возразил Артур, вынужденный оправдывать свою щедрость. — Что плохого в том, что я дам ему монету? Мне и самому в детстве перепадало по полпенни.
Для воскресного утра Бренда была одета легко и просто: светлая блуза с открытым воротом, просторная серая юбка, туфли без задников. Волосы она небрежно скрутила на затылке.
— Все, Артур, поднимайся. Скоро одиннадцать. До двенадцати ты должен уйти из дома, вряд ли Джек обрадуется, увидев тебя здесь.
— Вот ублюдок, — пробурчал Артур, удерживая Джеки на вытянутых руках и строя ему рожицы. — Вот ты кого любишь? — спросил он и громко рассмеялся. — Кого ты любишь, юный пират?
— Тебя, тебя, — заверещал малыш, — тебя, дядя Артур.
Тут Артур отпустил его, и Джеки глухо шлепнулся на смятые простыни.
— Ладно, довольно, — нетерпеливо бросила Бренда, которой надоело наблюдать за этой сценой, — пошли вниз.
— Иди одна, цыпленок, — ухмыльнулся Артур, — и приготовь мне завтрак. А я спущусь, когда почую запах яиц и бекона.
Мальчик смотрел куда-то в сторону, и Бренда наклонилась, чтобы поцеловать Артура. Он крепко обнял ее за шею и все еще не отпускал, когда Джеки повернулся и с любопытством посмотрел на взрослых.
В половине двенадцатого Артур сидел за столом. Перед ним стояла тарелка яичницы с беконом. Он разломил пополам кусок хлеба и обмакнул в соус, затем сделал большой глоток чая. Джеки, уже поевший, забрался на ближайший стул и внимательно следил за происходящим своими голубыми глазами.
— Полет с лестницы — та еще работенка, после нее все время пить хочется, — сказал Артур. — Плесни-ка мне еще чайку, цыпленок.
— Сахара побольше? — Бренда свободной ладонью прижала газету к груди.
Артур кивнул и снова принялся за яичницу.
— Ты меня балуешь, — сказал он, — и не думай, что я не ценю этого.
— Очень хорошо, но если ты не поторопишься, это будет твой последний завтрак в этом доме. Джек вот-вот вернется.
Завтра рабочий день, я буду вкалывать до пота всю неделю, до следующих выходных. И что бы это была за жизнь, если не расслабляться время от времени. Он сказал Бренде, что у него сейчас на уме.
— Ни сна ни отдыха любителям жареного, — рассмеялась Бренда.
Артур протянул Джеки добрый кусок бекона:
— Подарок от дяди Артура.
— Ух ты! — оценил оказанную честь малыш, но не успел даже впиться в него зубами.
Бренда вдруг выпрямилась на стуле и слегка повернула голову к окну, застыв, как животное, готовое к прыжку, отчего лицо ее на мгновение сделалось некрасивым. Артур заметил это и поперхнулся чаем.
— Это он, — сказала Бренда. — Я слышала, как стукнула калитка.
Артур поднял Джеки на руки и поцеловал его в губы, чувствуя, как руки мальчика тесно прижимаются к его лицу и ушам. Потом встал со стула и поцеловал Бренду.
— Пока, — бросил он, — на неделе увидимся. — И зашагал в сторону гостиной. У велосипеда Артур на секунду задержался, чтобы зажечь сигарету.
— Иди, не копайся, — зашептала Бренда, видя, что муж открывает калитку и входит во двор.
Артур отпер и потянул на себя входную дверь, вдыхая свежий воздух воскресного утра, словно прикидывая, достаточно ли хорош день, чтобы выйти на улицу. День был хорош. Артур захлопнул за собой дверь в тот самый момент, когда Джек вошел в дом с черного хода, через посудомоечную.
Глава 2
Он снял со спинки кровати свежий комбинезон и сунул в штанины свои большие белые ступни, старясь не потревожить брата Сэма, который, не просыпаясь, уютно перевалился на гору одеял, образовавшуюся на оставленной Артуром кровати. Он часто слышал, как пятницу именуют Черной — по названию одного из давних фильмов Бориса Карлова, — и всегда удивлялся такому определению. Ибо пятница — день получки, хороший день, а слово «черный» больше подходило бы понедельнику. Черный понедельник. В этом есть хоть какой-то смысл: голова раскалывается после пьянки, в горле саднит от песен, глаза затуманены после просмотра слишком большого количества фильмов или сидения перед телевизором, в душе чернота и злоба, ибо в очередной раз начинается тягомотная рабочая неделя.
Внизу со скрипом открылась дверь на лестницу.
— Артур, — окликнул его отец мертвенно-угрожающим понедельничным голосом, от которого внутренности переворачиваются, потому что исходит он, кажется, из могилы, — ты оторвешь когда-нибудь задницу от кровати? На работу опоздаешь. — Он негромко, чтобы не разбудить мать и еще двух других остающихся пока в доме сыновей, прикрыл дверь.
Артур взял с каминной полки полупустую пачку сигарет, расческу, десятишиллинговую банкноту, горсть монет, сохранившихся после посещений пабов, букмекерские выкладки, масленки и рассовал все это по карманам.
Внизу снова заскрипела дверь.
— Ну?
— Я только сейчас тебя услышал, — прошептал Артур.
В ответ раздался громкий стук.
Последовала необходимая кружка чая, а потом — привычный конвейер.
Понедельник — всегда самое худшее; к среде втягиваешься в работу, как борзая в погоню. Ладно, туда-сюда, подумал он, но всегда остается Бренда, славная Бренда, с которой так хорошо и которая, если уж решилась, всегда приласкает. До тех пор, конечно, пока Джек не узнает и не захочет свернуть ему шею. Тот еще денек будет. А он, видит бог, настанет. Только сначала я сам ему пасть порву, этому недоумку, растяпе, несчастному ублюдку.
Артур еще раз осмотрел тесную спальню, поочередно останавливая взгляд на двуспальной кровати, придвинутой к окну, блестящем белом горшке, потрескавшихся книжных полках с хозяйством Сэма — линейками, карандашами и ластиками — и самодельном столе, на котором стоял его переносной радиоприемник. Он откинул щеколду в тот самый момент, когда отец в очередной раз потянул на себя лестничную дверь и задрал голову, готовый проскрипеть своим угрожающим, бередящим внутренности понедельничным голосом, что пора спускаться.
Однако, несмотря на сердитый тон, Артур застал его за столом умиротворенно потягивающим чай. В усовершенствованной печке — семья потратила на это тридцать фунтов — весело потрескивал огонь, в комнате было тепло, стол накрыт и чай заварен.
Ситон оторвался от кружки.
— Шевелись, Артур. Времени всего ничего. Сейчас десять минут восьмого, а в половину нам выходить. Глоток чаю — и двигаем.
Артур сел и вытянул ноги к печке. После чашки чая и сигареты «Вудбайн» в голове прояснилось. Чувствовал он себя уже не так плохо.
— Слушай, па, так ты когда-нибудь ослепнешь, — ни с того ни с сего сказал он, вытягивая слова наугад, из воздуха, забавы ради, готовый к любым последствиям, которые они могут вызвать.
Ситон непонимающе посмотрел на сына. Он был старше, и в висках у него все еще шумело, — чтобы привести себя в порядок, понадобится десять чашек чая и столько же «вудбайнов».
— О чем это ты? — требовательно осведомился он. До десяти утра ему было трудно что-либо втолковать.
— О том, что сидишь перед ящиком как приклеенный. Не отлипаешь от него с шести до одиннадцати, и так каждый вечер. Ничего хорошего в этом нет. В один прекрасный день ты ослепнешь. Как пить дать. На прошлой неделе я читал в «Пост», что один парень из Меддерса как раз таким макаром и лишился зрения. Правда, он еще может выкарабкаться, каждые понедельник, среду и пятницу ходит в глазную клинику. Но все равно это большой риск.
Отец налил себе очередную чашку чая и сердито насупил черные брови. Приземистый, крепко сбитый, Ситон никогда не раздражался и даже легкого недовольства не выказывал. В любом обществе он либо был весел и непоседлив, либо, сдвинув брови, меланхолически погружался в безмолвный гнев, жертвой которого мог стать кто угодно. Иное дело, что в последние несколько лет круг этих последних сузился, ибо Артур, как и его брат Фред, уже прошел службу в армии, и начал работать на фабрике, и теперь стоял с ним вровень, обеспечивая баланс сил, что более или менее поддерживало мир в доме.
— Уверен, что хуже от телевизора никому еще не стало, — возразил Ситон. — К тому же ты что, газетам, что ли, веришь? Если так, то тебе нужно мозги проверить. Они же только и умеют, что врать. Это-то я точно знаю.
— Я бы на твоем месте не был так уверен, — сказал Артур, выбрасывая потухшую сигарету в печку. — И между прочим, я знаком с одним типом, который точно знает, что этот парнишка таки ослеп. Так что на сей раз газеты, возможно для разнообразия, не соврали. Там написано, что люди видели, как мамаша вела его в глазную больницу. Черт-те что, говорят. Мальчишке семь, говорят. Она вела его за руку, а в другой руке у него была специально вырезанная палка, белая. Я еще слышал, что ему покупают собаку-поводыря, жесткошерстного терьера. Поговаривали, что, если ему не станет лучше, его могут поставить до конца жизни стоять перед мэрией с жестянкой в руках. У его отца рак, и его мать не может позволить себе ни белых палок, ни собак.
— По-моему, ты спятил, — заявил Ситон. — Рассказывай свои истории в другом месте. А о моих глазах можешь не волноваться. Глаза у меня всегда были хорошие, и всегда будут. Когда я проверялся перед войной, зрение у меня было А1, только, — с гордостью добавил он, — я всех облапошил, и мне записали 3С[2].
Тема исчерпала себя. Отец нарезал хлеб и сделал несколько сэндвичей из оставшегося от субботнего ужина мяса. Артур вдоволь над ним поиздевался, но в какой-то степени он и сам был рад, что в углу столовой стоит телевизор — полированный деревянный ящик, выглядевший, как ему казалось, так, словно его тайком вытащили из космического корабля. Старику наконец привалило счастье, и он его заслужил после многих лет жизни на пособие перед войной с пятью детьми — в нищете, без денег и надежды найти хоть какой-то выход. И вот теперь у него есть сидячая работа на фабрике, в избытке сигарет «Вудбайн», деньги на пинту пива, если захочется выпить, хотя вообще-то он не пьет, возможность провести где-нибудь отпуск или съездить в Блэкпул за счет фирмы, да еще телевизор дома. Разницу между жизнью до и после войны словами не опишешь. Во многих отношениях война — отличная штука, особенно если подумать, скольким в Англии она облегчила жизнь. «Ну, мне-то от нее ничего не обломилось», — подумал Артур.
Он сунул в карман пакет с сэндвичами и флягу с чаем и дождался, пока отец натянет куртку. Едва выйдя из дома, они сразу услышали шум, доносящийся с фабрики, что находилась отсюда в каких-то ста ярдах, за высокой стеной. Генераторы завывали всю ночь, а днем огромные фрезерные станки скрипели в цехах своими рычагами и зубцами, отчего у людей в домах создавалось ощущение, будто живут они в непосредственной близости от какого-то монстра, страдающего несварением желудка. Запахи дезинфекции и смазки, свежей стальной стружки отравляли воздух окраины, где фабрику окружали четырехквартирные дома, улицы и балконы, нависающие над ее тушей и боками, словно телята, сосущие вымя гигантской коровы. Каждый год фабричный отдел доставки направлял упакованные в ящики велосипедные части по Эддисон-роуд на железную дорогу, где ожидали дрезины, способствуя, таким образом, росту послевоенной (а может, думал Артур, и довоенной, потому что война может начаться хоть завтра) экспортной торговле и налаживанию понтонного сообщения на реке (ее назвали Стерлинговый Счет), через которую обычные мосты не перекинешь. Тысячи работающих на фабрике людей приносили домой хорошее жалованье. Это была уже не почасовая работа, как до войны, и увольнение, если задержишься на десять минут в туалете, чтобы прочитать «Футбол пост», уже не грозило — теперь, если десятник начинал наезжать, всегда можно было послать его куда подальше и найти другую работу. И не нужно было больше бежать в обеденный перерыв за кульком жареной картошки, чтобы съесть ее с принесенным из дома куском хлеба. Сейчас за то, что горбатишься на сдельной работе, получаешь хорошее жалованье, а в столовой тебя ждет горячий обед за шиллинг. С зарплаты можно скопить на мотоцикл или даже подержанную машину или все спустить за десять дней, кутя напропалую. Потому что сейчас нет смысла копить деньги из года в год. Это игра для дураков — денежки-то дешевеют, и к тому же кто скажет, когда янки придет в голову какая-нибудь безумная идея, типа сбросить на Москву водородную бомбу. А в таком случае останется лишь помахать всем рукой, сжечь футбольный абонемент и лотерейные карточки и позвонить Билли Грэму[3]. «Если, конечно веришь в Бога, — сказал он себе, — а я в него не верю».
— Пробирает что-то, — произнес отец, застегивая пальто доверху.
— А чего ты хотел, ведь уже ноябрь, — откликнулся Артур. Не то чтобы у него не было пальто, но на работу он его никогда не надевал, даже если на земле уже лежал снег, а в воздухе было морозно. Пальто существует для вечерних выходов, когда на тебе нормальная одежда. Когда живешь в пяти минутах ходьбы от фабрики, по дороге разогреваешься, а там — станок, он живо кровь по жилам разгонит… Пальто носят только те, кто живет в Мансфелде и Киркби, потому что в автобусах холодно.
Толстуха миссис Булл, местная сплетница, стояла во дворе, сложив свои мясистые руки поверх фартука, и смотрела, как люди идут на работу. Краснолицая, с глазами-пуговками, она бдительно защищала интересы своего племени — королева двора, жившая здесь двадцать два года и заслужившая прозвища Всемирные новости и Репродуктор, ибо с утра до полудня не спускала глаз с фабрики, процеживая слухи, которыми потом торговала в розницу. Ни Артур, ни его отец, проходя мимо, с ней не поздоровались, да и друг с другом словом не обмолвились, пока не прошли до середины улицы.
Улица была длинная, прямая, замощенная булыжником, с фонарными столбами и переходами через равные промежутки, с разбросанными тут и там палисадниками. Выходишь из дома — и сразу оказываешься на мостовой. Охряный цвет крыш потемнел от сажи, краска на стенах домов выцвела и пошла трещинами, на всем лежала печать столетней древности, кроме разве домашней мебели.
— Ну до чего только люди не додумаются! — проворчал Ситон, подняв голову и увидев возле почти всех дымоходов телевизионные антенны, похожие на цепь радаров, настроенных на волну несбыточной мечты.
У большой кирпичной столовой они повернули на Эддисон-роуд. Ноябрьское небо было ясным и темно-синим, кое-где еще поблескивали звезды.
— У каждого будет свой маленький вертолет, — с готовностью откликнулся Артур. — Вот увидишь. Бери кредит на десять лет, плати пять шиллингов в неделю с процентами, и будешь летать в Дерби к приятелю на обеденный перерыв.
— Размечтался, — фыркнул отец.
— А еще я читал в газете, — продолжал Артур, — на прошлой неделе, по-моему, в четверг, точно, я еще, помню, обжимку[4] в нее завернул, — так вот, там написано, что через пять лет человек на Луну полетит. А через десять будут летать туда-обратно. А что, похоже на правду.
— Ты совсем чокнулся, Артур, — засмеялся Ситон. — И когда только вырастешь и перестанешь сказки рассказывать. Тебе ведь уже почти двадцать два. Мог бы хоть что-то соображать. Я думал, армия тебя научит уму-разуму, но, выходит, не научила.
— Единственное, чему может научить армия, — огрызнулся Артур, — так это чтоб больше никогда не захотеть служить в армии. Тут они большие мастаки.
— Когда я был молодым, — задумчиво проговорил Ситон, — не было даже беспроводных радиоприемников. А нынче, гляди-ка, — телевизоры. Картинки на дому.
Их поглотил поток: велосипеды, автобусы, мотоциклы, пешеходы, торопящиеся успеть проскочить через одну из семи проходных до половины восьмого. Артур с отцом прошли через шестигранное административное здание, расположенное посреди широкой проезжей части и разделяющее фабрику на две неравные части. Ситон работал в сборочном цеху и через сто ярдов свернул в сторону.
— Увидимся в перерыв, Артур.
— Пока, па.
Артур шел длинным коридором, нащупывая во внутреннем кармане пропуск и вдыхая, как и каждое утро с тех пор, как ему исполнилось пятнадцать — за вычетом двух лет армейской службы, — фабричные запахи смазки, моторного масла и металлической стружки, от которых появляются и пышным цветом расцветают на лице и плечах прыщи, которые всего тебя превратят в один огромный прыщ, если не становиться каждый вечер на полчаса под душ. Что за жизнь, подумал он. Тяжелая работа, хорошие деньги и запах, от которого кишки сводит.
Звонкий понедельничный сигнал к началу работы показался скрежетом, совершенно отличным от музыки, звучавшей в душе Артура. Оказавшись в цеху, он сразу погрузился в мир разнообразных шумов и двинулся вдоль вереницы токарных и фрезерных станков, полировальных машин, ручных прессов, приводимых в движение множеством ремней и шкивов, вращающихся, извивающихся и хлопающих на втулках тяжелых, хорошо смазанных колес, нависающих над головой. Они, в свою очередь, питались от двигателя, застывшего в дальнем конце цеха черной блестящей тушей выброшенного на берег кита. Почти невидимые за спинами рабочих станки, снабженные собственными небольшими двигателями, дергались со стоном и постепенно начинали завывать, отчего все сильнее кружилась голова и в висках пульсировала боль. Эта боль особенно сильно ощущалась после мирных выходных, которые для Артура закончились ловлей форели в прохладной тени поросшего ивами берега канала невдалеке от домов, именуемых Воздушными шарами, в нескольких милях от города. По центральным проходам взад-вперед сновали дрезины, перевозящие готовую продукцию — педали, ступицы, цепи, болты — из одного конца цеха в другой. За стеклянной перегородкой, над кипой только что составленных табелей учета склонился десятник Роббо. Женщины и девушки в шляпках или сетках для волос, мужчины и подростки в чистых синих комбинезонах начинают работу, им не терпится начать дневную смену. Меж тем уборщики и подметальщики уже деловито расхаживают по проходам, готовые по любому знаку заняться своим делом.
Артур дошел до своего токарного станка, снял куртку и повесил ее на ближайший гвоздь, чтобы видеть свои вещички, потом нажал на кнопку, и мотор с легким всхлипом ожил. Если приглядеться, могло показаться, что, несмотря на адский грохот всех этих безостановочно движущихся механизмов, никто никуда особенно не торопился. Артур улыбнулся про себя, вытащил из верхней коробки высящейся рядом с ним груды блестящий металлический цилиндр и закрепил его на оси. Затем выплюнул окурок в мыльницу, приладил станину и вставил револьверную головку в самое широкое отверстие цилиндра. Ему понадобились две минуты, чтобы оценить точное положение резца и цилиндра, после чего он поплевал на ладони, потер их, включил трансмиссию, нажал на кнопку, заставляющую ось вращаться, и направил дрель в узкий паз. Утро понедельника перестало казаться страшным.
При средней выработке четырех-шести изделий с сотни заготовок отработаешь свое жалованье, если выточишь тысячу четыреста деталей в день — что возможно, даже если не очень сильно напрягаться, — а если попотеть и выдать утром тысячу, после обеда можно филонить — поточить лясы с женщинами, остановиться поболтать с друзьями. Такое времяпровождение порой едва не доводило Артура до беды, как, например, несколько недель назад, когда он придавил мышь, не замеченную раскормленными фабричными кошками, и подложил ее под дрель одной из работниц, а Роббо-босс услышал истошный вопль и выскочил из своей конторки, решив, что у какой-то дурехи волосы попали в приводной ремень (по всей фабрике развешаны объявления, где большими буквами написано, что работницы должны надевать сетку на голову, но разве с женщинами можно быть в чем-нибудь уверенным?). Какова же была его радость, когда выяснилось, что весь сыр-бор разгорелся из-за дохлой мыши. Тем не менее он двинулся по проходу, выясняя, кто же все-таки придушил мышь, и, дойдя до Артура, всячески отрицавшего свою причастность к этому делу, сказал:
— Уверен, что это твоих рук дело, негодник ты этакий.
— Моих, мистер Роббо? — Артур выпрямился во весь рост с видом оскобленного достоинства. — Да у меня столько работы, от станка не отойти. К тому же я никогда не позволяю себе обидеть женщину, вы и сами это знаете. Это против моих правил.
— Ну, не знаю. — Роббо пристально посмотрел на него. — Кто-то ведь это сделал, и мне кажется, что это ты. Вот что я скажу, если меня спросить: уж больно ты смахиваешь на красного.
— А вот это уже клевета, — возмутился Артур. — Придется переговорить с моими адвокатами. Тут тысяча свидетелей найдется.
Роббо вернулся к себе в конторку, мрачно посмотрев на сидевшую внутри девицу, а заодно и на всех остальных, кому могло прийти в голову обратиться к нему за чем-нибудь в ближайшие полчаса. Артур же, как и подобало образцовому рабочему, трудился за своим станком.
Хотя четыре-шесть с сотни — норма божеская, жаловаться не приходится. Время от времени подходил нормировщик, наблюдал за твоей работой, и если понимал, что ты можешь делать сотню заготовок меньше чем за час, появлялся Роббо и заявлял, что в один прекрасный день ты получишь на шесть пенсов или шиллинг меньше. Так что если почувствовал, что над тобой нависла тень нормировщика, ты знаешь, что делать, — если, конечно, хоть какие-то мозги есть. Каждое твое движение должно быть основательным, хотя и замедляться тоже не надо — это значило бы перерезать собственное горло. Действовать следует сосредоточенно, но в то же время с точным расчетом времени. Проклинаемый всеми как злейший враг, нормировщик выглядел при этом человеком безобидным, ходил всегда немного сутулясь, в очках, курил те же сигареты, что и все, носил поверх голубого костюма в полоску коричневый служебный халат, был лыс, как шляпка гриба, и хитер, как лисица. Поговаривали, что с каждого понижения зарплаты, сделанного по его докладу, он получает комиссионные, но это, решил про себя Артур, всего лишь злостные слухи, распускаемые теми, у кого только что отняли шиллинг. Если столкнуться с нормировщиком по дороге с работы домой, он здоровался, а ты кланялся в ответ, независимо от того, обидели тебя недавно или нет. Артур всегда принимал подобные знаки внимания с подчеркнутой вежливостью, потому что когда нормировщик возникал за его спиной, тут же снижал скорость до расчетной сотни, хотя однажды, замешкавшись с выполнением дневной нормы, сработал четыреста. Как-то раз он, интереса ради, прикинул, сколько заработает, если будет как сумасшедший выдерживать эту доводящую до колик в желудке, сногсшибательную, стесывающую кожу на пальцах, презирающую любую дипломатию скорость — четыреста в неделю, — и расчеты, произведенные на полях очередного номера «Дейли мейл», показали: тридцать шесть фунтов. Чего, конечно, поклялся он себе, никогда не будет, потому что на меня накинутся, как свора собак, и уже на следующей неделе я буду корячиться за гроши. Вот он и остановился на вполне подходящих четырнадцати фунтах. Более высокий заработок означал бы, что ты просто выбрасываешь потом добытые тяжелым трудом деньги в широко распахнутые окна налогового ведомства — кормишь, как говаривала мамаша Артура, свиней вишнями, — а это тоже не в его правилах.
Таким образом, ему удавалось заработать себе на жизнь, несмотря на администрацию компании, нормировщика, десятника, а также наладчиков станков, которые всегда готовы перегрызть друг другу горло, за исключением тех случаев, когда объединяются, чтобы вцепиться в горло тебе, хотя, как правило, ты на них плюешь и вполне довольствуешься своими четырнадцатью монетами, орудуя бабкой, вдыхая запахи масла и металлической стружки, действуя механически, так что весь день в голове у тебя мелькают картины куда более яркие и приятные, нежели то, что ты видишь вокруг. Накручивать ходовой вал и стесывать стружку правой рукой все же легче, чем, например, водить грузовик, когда все время надо шевелить мозгами. Он вспомнил, как в армии один капрал сказал, что все кажется чудесным, когда сидишь в сортире — единственном месте, где тебе не мешают предаваться размышлениям. Ну а сейчас витать в облаках можно целыми днями. Один час наматывался на другой, с того момента, как погрузишься в мысли, и до того, как очнешься из-за вспышки, мелькнувшей в конторке десятника и означающей, что сейчас десять часов, и женщины в белых халатах начнут развозить тележки с чаем и торопливо разливать жуткое пойло из блестящих электрических чайников.
Артур отказывался от бесплатного чая, потому что он был слишком крепким, изготовленным не из лучших цейлонских сортов, а из складского мусора с добавлением соды из фабричной столовой. Однажды он пролил эту оранжевую смесь на скамейку — такова была его версия — и целых три часа пытался стереть пятно, но даже умельцы-механики не смогли ничего поделать со следами этого неудобоваримого чая, которые оставались там, молча призывая приносить на работу собственное питье — хотя мало кто этому призыву внимал. «Слушайте, если даже на деревянной скамье, облитой машинным маслом, остается такое пятно, только представьте себе, что станет с вашими кишками», — обращался Артур к своим товарищам и слышал в ответ: «Какого черта, стоит ли думать об этом». Тогда он пожаловался в дирекцию, и его выслушали. Кто-то из администрации проверил чайники в столовой и убедился, что изнутри они покрыты толстым осадком от чая и содовых добавок. Он продолжал отстаивать свои права, поднялся большой шум, и качество чая улучшилось, хотя и не настолько, чтобы заставить Артура его пить. Он по-прежнему носил с собой в кармане флягу и вот сейчас, выключив станок, извлек ее. В конторке Роббо замелькал свет, и все начали разворачивать пакеты с сэндвичами.
Он направился к мужу Бренды, сидевшему на своей скамейке наладчика между тисками и колесом из карборунда, с чашкой фабричного чая в одной руке и сэндвичем с сыром в другой, — половина его уже была съедена, другую он собирался поднести ко рту.
— Подвинься, — сказал Артур, присаживаясь рядом. — Дай место бедному крольчонку!
— Смотри чай не опрокинь, — пробурчал Джек.
Артур отвинтил крышку фляги и плеснул себе обжигающего чая.
— Не хочешь попробовать? — предложил он. — А то на твоем пойле только язву заработаешь.
Джек развернул второй сэндвич. У Артура был свой, достаточно внушительный, но ему хотелось, чтобы Джек угостил его тем, что был приготовлен руками Бренды. Да нет, даже если предложит, откажусь, тут же одернул он себя. Черт, так ведь и выдать себя недолго.
— Для других этот чай хорош, — сказал Джек, — стало быть, и для меня тоже. Я непривередлив. — Его рабочий халат был чисто выстиран и выглажен, только возле нагрудного кармана виднелись несколько пятнышек, а простая голубая рубаха без воротника небрежно сколота на шее булавкой. Это был свежий на вид мужчина двадцати девяти — тридцати лет, хотя его портило вечно хмурое выражение лица — предмет безжалостных насмешек тех, чьи станки он обслуживал.
— А надо бы, — наставительно произнес Артур. — Все должны быть привередливыми. А то есть ребята, которые мочу пить готовы, если ее разольют по китайским чашкам.
Лицо у Джека разгладилось. Он и сам не ругался, и не любил, когда другие ругаются.
— Нет, — возразил он, — до этого никто не дойдет. Вообще-то я мог бы попросить Бренду наполнить мне флягу, но не хочется ее беспокоить.
— Да что это за беспокойство. — Артур надкусил сэндвич.
— Еще какое, когда у тебя на руках двое малышей. Джеки такой проказник. Вчера днем с лестницы свалился.
— Ничего себе не повредил? — спросил Артур с несколько чрезмерной поспешностью.
— Несколько синяков да вопил пару часов. А так все в порядке. Он у меня, если хочешь знать, железный.
Пора сменить тему. Как по канату идешь, старый ты греховодник, прикрикнул на себя Артур. Не поздно ли?
— Как там на скачках?
— Нормально. Пять фунтов выиграл.
Действительно, неплохо.
— Везет тебе, ублюдок, — выругался он. — А я в субботу поставил десять шиллингов на Красного, и ни цента назад не получил. Честное слово, прибью как-нибудь этого букмекера.
— Букмекер-то здесь при чем? — рассудительно сказал Джек. — Суеверный ты какой-то. Все просто: ты либо выигрываешь, либо проигрываешь, а в удачу я не верю.
Артур смял обертку от сэндвича и бросил ее через проход в чью-то рабочую корзинку.
— В точку! — воскликнул он. — Нет, Джек, ты только посмотри, даже если бы целился, лучше бы не получилось.
— Да и вообще, — продолжал Джек, — я считаю, что в конечном итоге удача никого еще до добра не доводила.
— Ну, а по мне так все наоборот, — возразил Артур. — Мне чаще всего везет, вот и все. Иногда, конечно, получишь между глаз. Но редко. Так что да, я суеверен, и я верю в удачу.
— Только на той неделе ты мне говорил, что веришь в коммунизм, — с упреком сказал Джек, — а теперь заявляешь, что суеверен и веришь в удачу. Товарищам это не понравится, — закончил он с коротким смешком.
— Ну и ладно, — огрызнулся Артур, дожевывая второй сэндвич и глотая чай. — Не понравится, так пусть подавятся.
— Ты так говоришь, потому что на самом деле у тебя с ними нет ничего общего.
— Я сказал только то, что они не хуже других, вот что я сказал, — заупрямился Артур. — И это не шутка. Думаешь, я бы дал тебе хоть пенни, если бы угадал счет в футболе? Или кому-нибудь еще? Вряд ли. Все бы себе оставил, разве что семью бы не обделил. Купил бы своим дом, наладил им жизнь, а остальные пусть зубами щелкают. Я слышал, ребята, выигравшие в футбольную лотерею, получают тысячи писем с просьбами поделиться, но знаешь, что бы сделал я, окажись на их месте? Не знаешь? Ну так я скажу тебе: устроил бы костер из этих писем. Потому что, Джек, я не верю в равную дележку. Возьми хоть ребят, что соловьем разливаются за фабричными воротами. Мне нравится слушать, как они говорят про Россию, про фермы и электростанции, потому что это интересно, но когда начинается трепотня про систему, при которой все равны, — это дело другое. Я не коммунист, заруби это себе на носу. Но коммунисты мне нравятся, хотя бы потому, что не похожи на этих жирных котов-тори из парламента. Да и на ворюг-лейбористов тоже. Эти каждую неделю залезают нам в карман, выдумывая всякие страховки и налоги, да еще говорят, что это ради нашего же собственного блага. Дай мне власть, и знаешь, что бы я стал делать? Стал бы ходить по английским фабрикам, одна за другой, с брошюрками и разыгрывать в лотерею парламент. «Шесть пенсов штука, парни, — предлагал бы я. — Победителю — большой классный дом», — а когда бы набил карманы, устроился бы где-нибудь с пятнадцатью женщинами и пятнадцатью машинами. Вот так.
Правда, Джек, по-моему, я говорил тебе, что на прошлых выборах голосовал за коммуниста. Но только потому, что подумал: иначе бедняга вообще не получит ни одного голоса. А я люблю помогать тем, кто проигрывает. К тому же, понимаешь ли, я вообще не должен был голосовать, потому что тогда мне еще не исполнилось двадцати одного, но я воспользовался отцовской карточкой: он тогда мучился болями в спине и не вставал с постели. Я потихоньку вытащил эту штуковину у него из кармана куртки и перед входом на участок сказал копу, а внутри малому, что раздавал за столом бюллетени, что меня зовут Гарольд Ситон. Никто даже не почесался, чтобы взглянуть на карточку, и я прошел в кабинку и проголосовал. Вот так вот. Помню, пока наружу не вышел, не верил, что прокатило. И я бы снова проделал такой фокус, как пить дать.
— Если бы застукали, мог десятку схватить, — сказал Джек. — Это тебе не шутки. Так что, считай, тебе повезло.
— Так я же говорил, что я везучий, — победоносно заявил Артур. — Да и для чего другого пишут все эти кретинские законы, если не для того, чтобы такие парни, как я, их нарушали?
— Ладно, ты хвост-то не особо распускай, — осадил его Джек. — Когда-нибудь попадешься.
— На чем? Уж не о женитьбе ли ты? Неужто ты держишь меня за такого болвана?
Артур нащупал слабое место Джека, и тот поспешил занять оборонительную позицию.
— Этого я не говорил. Но и я не по дурости женился. Просто захотелось, вот и все. Шел на это с открытыми глазами. И мне нравится такая жизнь, вот тебе и весь сказ. Мне нравится Бренда, я нравлюсь Бренде, и все у нас хорошо. Если не обижать друг друга, супружеская жизнь — это то, что надо.
— Ладно, верю. Хотя куча народа не поверила бы.
А кто бы поверил, что у меня шуры-муры с его женой? Когда-нибудь, наверное, он все узнает, но в любом случае не петушись, петушок ты эдакий. Если чересчур петушиться, удача повернется к тебе спиной, так что гляди в оба. Самое скверное во всем этом то, что Джек мне нравится. Джек хороший малый, едва ли не лучший. Жаль, что мир так жесток. Но я не могу забыть, что он каждую ночь спит с Брендой. Наверное, мне следовало бы надеяться, что в один прекрасный день его собьет автобус и тогда я смогу жениться на Бренде и спать с ней каждую ночь, но почему-то мне не хочется, чтобы его сбил автобус.
— Я вроде еще не говорил тебе об этом? — угрюмо спросил Джек после долгого молчания, в ходе которого он дожевывал сэндвич: могло показаться, что ему на ум внезапно пришло что-то очень важное.
Артур задумался. Неужели он… Да может ли быть такое? Вид у него серьезный. В чем дело-то? Вроде бы никто не мог сказать Джеку про мои похождения. Или все-таки кто-то из любителей сунуть нос в чужие дела настучал? Но кто? И много ли он знает? Что-то Джек нынче утром невесел.
— О чем ты, старина? — спросил Артур, завинчивая флягу.
— Да ничего особенного. Просто на днях ко мне подошел Роббо и сказал, что на следующей неделе переводит меня в ночную смену в штамповальный цех. У них там людей не хватает, нужен еще один наладчик. Неделя ночью, неделя днем.
— Вот гад, — посочувствовал Артур, решив, что в данных обстоятельствах говорит то, что нужно. — Мне очень жаль, Джек.
И тут же понял свою ошибку. На самом-то деле Джек был только рад переводу.
— Ну, не знаю, — протянул он. — Денег будет побольше. Бренда недавно присмотрела новый телевизор, и теперь я, пожалуй, смогу себе позволить его купить.
Артур протянул ему сигарету со словами:
— Пусть так, но с кем мне теперь поговорить в перерыв?
Джек рассмеялся, хотя лицо его странным образом сохраняло хмурое выражение.
— Ничего, справишься. — Он легонько хлопнул Артура по плечу. — Ладно, увидимся.
Вспыхнул сигнал: перерыв закончился.
Мне просто везет, говорил себе Артур, запуская станок, слишком везет в этом мире, так что, пока есть возможность, надо пользоваться удачей. Вряд ли Джек уже сказал Бренде, что его переводят в ночную смену, но держу пари, когда скажет, она умрет от смеха — слишком уж хорошая новость. Может, на выходные и не увидимся, зато буду приходить к ней каждую ночь, а это даже лучше. Бабка, фартук, станина. Готово. Бери деталь, вставляй новую заготовку, поглядывай время от времени, чтобы размер был нужный, а то я терпеть не могу, когда сварганишь свою тысячу, а проверяющие вернут ее тебе назад. Сорок пять шиллингов на дереве не растут. Бабка, фартук, станина, ходовой вал — и так, пока руки не онемеют. Живо, еще живей. Вынуть — вставить, проорать, чтобы поскорее подъехала тележка, увезла сделанное и подкинула новые заготовки, отметить очередную сотню, не обращая больше никакого внимания на вонь или приводные ремни над головой, от которых при первом появлении на фабрике, когда мне было пятнадцать лет, в глазах зарябило: болтаются, перекручиваются, визжат, дергаются в разные стороны, как команды Роббо-десятника. Тяжелая жизнь, но надо держаться, исходить потом, чтобы заполучить свои несколько фунтов, сходить с Брендой куда-нибудь выпить, а потом в постель или на тропинки и лесные прогалины в Стрелли, мимо большого жилого комплекса, где у Маргарет, моей сестры, есть дом, в котором она живет с тремя детьми и никчемным мужем, и дальше — туда, где стоит покосившаяся пастушья хижина, которую я знаю с детства, уложить Бренду на солому и заняться любовью, чего нам обоим уже давно не терпится. Но прочь, прочь все это, иначе станок снова заклинит, и я не буду знать, что с этим делать, и работа остановится. Время летит, и все идет как по маслу, и так оно и должно быть, потому что я сделал очередную пару сотен и готов идти домой, чтобы чуток отдохнуть и почитать «Дейли миррор» либо поглазеть на то, что осталось на девчонках-купальщицах в «Уик-энд мейл». Бренда, Бренда, жду тебя не дождусь. А как же иначе, цыпленок, если ты такая сладкая и любвеобильная. А вот нож, его надо заточить. Отдам Джеку после обеда, пусть займется. Его это совсем не обрадует, но скоро он перейдет в ночную смену, что тоже его не обрадует, потому что мы с Брендой будем скакать в постели и во всех уголках, какие только найдутся. Полощутся юбки, и сплетаются ноги, и плевать, что в Стрелли-вудс становится все холоднее.
В тот момент, когда оказываешься за воротами фабрики, ты перестаешь думать о работе. Но самое занятное заключается в том, что ты не думаешь о ней и стоя за своим станком. Ты начинаешь день, тщательно вытачивая и шлифуя металлические цилиндры, но постепенно твои движения становятся автоматическими, и ты забываешь и про станок, и про быструю работу твоих рук и плеч, и про то, что обтачиваешь и сверлишь металл на площади, не превышающей пятитысячной доли дюйма. Шум дрезин, снующих взад-вперед по проходу, и оглушительный грохот ремней с их круговым вращением — все это уже через полчаса перестает воздействовать на твое сознание, никак не влияя на качество работы, и ты забываешь былые стычки с десятником и обращаешься мыслями к тому приятному, что у тебя когда-то было в жизни, и тому, на что надеешься в будущем. Если станок в порядке — мотор работает без перебоев, клапаны тугие, матрицы какие надо — и ты сумел поймать подходящий ритм движений, ты доволен, и до конца дня витаешь в облаках. А вечером, когда, по правде говоря, чувствуешь себя так, словно тебе на плахе кости дробили, погружаешься в уютный мир пабов и веселых девчонок, который в один прекрасный день даст тебе пищу для новых заоблачных мечтаний, какие возникают за токарным станком.
Чудесны вещи, которые ты вспоминаешь за токарным станком, вещи, казалось, забытые и невозвратимые, нередко такие, какие тебе хотелось бы навсегда оставить в прошлом. Время летит, летит, пока ты, не замечая его, топчешься на полу, пропитанном машинным маслом, и работаешь как черт: ты живешь в прекрасном мире картин, что мелькают у тебя в сознании, как в волшебном фонаре, часто раскрашенных в какие-то яркие, полыхающие, немыслимые цвета, — мире, в котором память и воображение обретают полную свободу и проделывают с твоим прошлым и, возможно, будущим акробатические фокусы, амок, порождающий различные, но неизменно радостные видения. Как сказал по поводу сидения в сортире капрал: это единственное время, когда у тебя есть возможность подумать, а если продолжить его высказывание — думаешь ты о всяких приятных и чудесных вещах.
Когда в тот день Артур вернулся к работе, ему для выполнения нормы оставалось выточить всего четыреста цилиндров. Если постараться, то можно уменьшить скорость, но он никак не мог успокоиться, ему очень не хотелось нарочно замедлять движения, пока вся работа не будет сделана и каждый цилиндрик, отполированный до блеска, не ляжет в ящик рядом со станком. Он справился с этими четырьмя сотнями за три часа и оставшееся время собирался приятно провести в хорошо скрытом ничегонеделании, прикидываясь, будто чем-то занят, например смазкой станка или болтовней с Джеком, к которому явился якобы для того, чтобы тот наточил инструменты. Не высовывайся, повторял он про себя, приступая к первой сотне и неторопливо укладывая изделия в ящик. Не дай этим ублюдкам прищемить тебе яйца, как говаривал Фред, когда служил на флоте. Что-то про карборундовое колесо — так это звучало, когда он старался выговорить название на латыни, но совет в любом случае хорош, пусть даже мне он ни к чему. Я никому не позволю прищемить себе яйца, потому что ничем не хуже других, хотя, когда дело доходит до этого вшивого избирательного бюллетеня, что мне суют в руки, часто хочется сказать, куда его засунуть, — мне-то он вовсе ни к чему. Но если мне скажут: «Артур, вот тебе сотня килограммов динамита и новенький плунджер, подними на воздух эту фабрику», я так и сделаю, потому что оно того стоит. Дело. Я бы рванул в Россию или на Северный полюс, уселся бы и ржал, как лошадь, над тем, что сотворил, любовался бы, как прекрасной лунной ночью в воздух взлетают все эти десятники, и станки, и сверкающие велосипеды. Не то чтобы я что-то имел против них, просто иногда накатывает такое чувство. Что касается меня, то пусть весь мир летит в тартарары, лишь бы я был вместе со всеми. Правда, перед тем неплохо бы выиграть тысяч девяносто. Но мне хорошо живется, мне на все наплевать, и жаль было бы потерять Бренду со всем, что у нее есть, особенно сейчас, когда Джека переводят в ночную. А он и не против, потому что рад и лишней деньге, и переменам. И я рад, и Бренда, знаю, тоже рада. Все рады. Мир порой бывает очень хорош, если, конечно, не давать слабину, не позволять этим ублюдкам выеживаться с карборундумом.
По проходу идет Роббо-десятник, останавливается поговорить с кем-то из наладчиков. Роббо — малый лет сорока, на компанию работает с четырнадцати, начинал учеником, усердно посещал вечернюю школу. Довоенная безработица, — в отличие от моего старика, подумал Артур, — его не коснулась, а во время войны получил «бронь по профессии» и в армию не призывался. Сейчас заколачивает двадцатку в неделю плюс хорошие премиальные — спокойный дядька с квадратным лицом, грустными глазами, тонкими, в ниточку, губами, одна рука все время в кармане, сжимает микрометр. Роббо удерживается в должности, потому что у него хватает ума правильно отвечать на твои вопросы и кисло, но незлобно улыбаться, если ты дерзишь ему, и дерзишь нахально, с таким видом, будто тебе сам черт не брат и ты его не боишься. На людей вроде Джека он наводит ужас, а в глазах Артура — просто человек, несущий на плечах свинцовую тяжесть власти, когда кажется, что в любую минуту может вспыхнуть бунт.
Артур пришел в компанию рассыльным, переносящим велосипедные части из одного фабричного цеха в другой либо разъезжающим с поручениями по городу на велосипеде. Было ему тогда пятнадцать, и каждый четверг утром Роббо посылал его с каким-то таинственным поручением в центр города, где он должен был передать аптекарю запечатанный конверт с запиской и парой банкнот. После увлекательной неторопливой поездки вдоль канала и по лабиринту узких улочек Артур добирался до аптеки, где хозяин передавал ему более плотный коричневый конверт с чем-то на ощупь плоским и мягким, как губка, а также сдачу с денег, вложенных в первый конверт. Через три месяца подобных поездок Артур выяснил, за чем его посылал Роббо. Однажды аптекарь слишком спешил, чтобы проверить, достаточно ли хорошо запечатан конверт, и, стоя на перекрестке в ожидании зеленого света, Артур сумел открыть его, посмотреть, что там внутри, и снова заклеить, на сей раз более надежно. Он увидел то, что и предполагал увидеть, и гнал теперь велосипед с сумасшедшей скоростью, оставляя позади автобусы, тележки с молоком, даже автомобили.
— Три упаковки! — вопил он. — Грязный негодник! У него классная подружка! Девять раз в неделю!
Новость быстро разнеслась по цеху, и еще долго после того, как Артур с рассылки перешел за станок, стоило ему отлучиться в туалет, кто-нибудь обязательно кричал вслед: «Ты куда это?» — и если Роббо не было поблизости, Артур своим густым, намеренно грубым, под Робин Гуда, голосом, неизменно вызывавшим пронзительный смех женщин и гогот мужчин, громко, чтобы всем было слышно, отвечал: «В город, за резинками для Роббо!»
Роббо остановился у его станка, взял готовое изделие и тщательно измерил его своим микрометром. Артур оторвался от работы.
— Ну и как? — воинственно осведомился он.
Роббо с неименной сигаретой во рту помахал ладонью, отгоняя дым от глаз, при этом на его коричневый рабочий халат упал пепел. Он достал глубиномер и произвел последние измерения.
— Все нормально, — кивнул Роббо и проследовал дальше.
Артур и Роббо терпели друг друга и доверяли друг другу. Враг внутри каждого из них пребывал в состоянии дремоты — грозный зверь, сдерживающий свой рык, словно по команде дрессировщика, велящего ему молчать, зверь, приручаемый, возможно, поколениями, от отца к сыну, с обеих сторон. Каждый уважал в другом эту наследственность и ощущал ее, сжато отвечая на те немногие отрывистые вопросы, что возникали, когда они громко и без малейшего блеска в глазах разговаривали друг с другом.
У Роббо была машина — правда, всего лишь старенький «моррис», — и он вел полузатворническую жизнь в богатом районе, что Артуру не нравилось, ибо в общем-то они были с ним одной породы, и потому Роббо был бы ему ближе, если бы жил в таком же доме на четыре квартиры, как и он сам. Ведь Роббо был ничем не лучше его, думал Артур, вытачивая последний десяток цилиндров из сегодняшней нормы, — да и всех других, если уж на то пошло, тоже. Артур оценивал людей не по знаниям и положению, а наугад, чувством, проникая, таким образом, в их глубинную суть. Это были весы, эмоциональный метр-эталон, неизменно точный, если его настраивал он сам, и те, к кому он его прикладывал, либо проходили проверку, либо нет. Во время своих бесхитростных «взвешиваний» он использовал его как надежный инструмент для определения, кто является или не является его другом, а также у кого есть шанс стать его другом.
Так что стоило Артуру посмотреть на человека, или услышать его голос, или увидеть походку, как он мгновенно его «взвешивал», и это «взвешивание» оказывалось не менее точным, чем если бы оно производилось после многих недель знакомства.
Его отношение к Роббо определилось сразу же и с тех пор не изменилось. Более того, он лишь еще больше в нем утвердился. Из полуосознанных заключений Артура следовало, что в данном конкретном случае все одинаковы, все живут в одном враждебном мире, и четкое понимание этого требует определенной меры взаимного доверия. Артур не сомневался, что и Роббо подверг его тому же испытанию и пришел к тем же выводам. Так что уважение, которое они испытывали друг к другу, основывалось на том типе оценки, какой ни один из них не мог бы выразить словами.
Если Артур, посмотрев кому-нибудь в лицо и сдвинув брови, чтобы придать себе суровый и глубокомысленный вид, бросал: «Ага, я тебя взвесил», вполне могло получиться так, что главные свойства этого человека действительно определились на весах его сознания, хотя ни устройства этих весов, ни природу груза, который приводил их чаши в равновесие, объяснить он бы не сумел.
Что касается реакции на подобного рода замечания, то она бывала разной. Когда такие слова слышал кто-нибудь из его товарищей по работе, например во время спора из-за ящика с деталями, не прошедшими проверку контролера, в ответ слышался такой же уверенный и зычный голос: «Это ты так думаешь». А если, в свою очередь, «Я тебя взвесил» говорили самому Артуру, то стандартный ответ звучал так: «Да ну? Тогда, приятель, ты очень умный, потому что я, по правде говоря, и сам еще себя не взвесил», что оказывалось не менее действенным, если надо было заставить кого-то замолчать, и, возможно, не менее верным в том смысле, что, хотя любой может обладать способностью кого-то взвесить, ему никогда не придет в голову взвесить самого себя. В принципе, Артуру тоже, как и всем остальным, не хватало этой способности, хотя покуда он особенно и не старался приложить лекало к самому себе.
Тем не менее при всей своей способности взвешивать людей Артур так и не смог вполне взвесить Джека-наладчика. Быть может, тот факт, что он — муж Бренды, заставлял его казаться ему сложнее других людей. Разумеется, он был вылеплен из того же теста, что и Артур, и другим никогда и не прикидывался, в принципе, его можно было бы понять с полувзгляда, и все же некие существенные особенности характера Джека почему-то упорно ускользали от него. Во многих отношениях Джек был человек робкий и замкнутый, откровенничать не любил. Мог поболтать в компании, но никогда не повышал голоса, и не сквернословил, и не напивался в стельку, даже не выходил из себя, сколько бы десятники ни действовали ему на нервы. Он никогда не открывал, что у него на уме, так что вглядывайся не вглядывайся, а не поймешь, каков он на самом деле. Артур даже понятия не имел, знает ли Джек об их отношениях с Брендой. Может, знает, а может, нет, но если знает, то тогда он тот еще хитрован, слова не скажет. Он из тех, кто может подозревать или даже иметь точные доказательства того, что ты уже месяцами трахаешь его жену, но и вида не подаст до тех пор, пока не решит, что пора настала. А может, такой момент вообще не настанет, и тогда это будет ошибкой с его стороны, потому что Артур выгораживать Бренду не будет — таково одно из правил его игры.
Но так или иначе, если уж он трахает жену Джека, то и поделом ему. Артур разделял мужей на две главные категории: те, кто ухаживает за женами, и раззяв. Джек подпадал под вторую, куда более многочисленную, чем первая, что Артуру было известно по собственному опыту. Быстро поняв это, он сделался удачлив в любви, всячески ловил кайф, куя железо, пока оно горячо, и все более укрепляясь в мысли, которая пришла ему в семнадцатилетнем возрасте: самые лучшие женщины — замужние. Мужей-«раззяв» Артур не жалел. Чего-то им не хватало, не в том смысле, как не хватает одной ноги калеке — ее-то уж никак не поставишь на место, — а в том, что они, мужья-«раззявы», легко могли бы исправиться, если бы не были такими эгоистами, прочистили себе мозги и больше внимания уделяли своим женам. Сам Артур, в моменты наибольшей терпимости, говорил, что женщина — это нечто большее, нежели просто украшение или домохозяйка, это теплое, чудесное существо, заслуживающее ухода, требующее максимума внимания со стороны мужчины, и уж точно нечто более важное, нежели его работа или его удовольствие. Тем более что мужчина и так получает большое удовольствие от ласкового обращения с женщиной. Иное дело, что есть женщины, которые не позволяют ласково с собой обращаться, женщины с лицами мегер и железным, как гвоздь, сердцем, женщины, размахивающие у тебя кулаком под носом и орущие: «Сделай то, сделай это», и хоть кол на голове теши, старясь быть с ними ласковым, все без толка, не хотят они этого. Лучше бы им родиться мужчинами, меньше бы бед от них было, меньше несчастий: их призывали бы в армию и убивали на войне либо швыряли бы в тюрьму за то, что, взобравшись на ящик из-под мыла, они орут во всю глотку: «Долой то, долой это!» Такие женщины считают тебя недоумком, если ты за ними ухаживаешь, они просто не понимают, что такое любовь, и тебе остается только одно: дать им под зад как следует. Они сами безнадежные дуры. Но, по-моему, большинство женщин хотят, чтобы их любили и были с ними ласковыми, но даже если нет, то через какое-то время сами начинают тебя любить. Пусть женщине будет с тобой хорошо в постели — это важная часть сражения, — и ты уже на пути к тому, чтобы она захотела с тобой остаться навсегда. Господи, да это лучшее, что я сделал в жизни: заставил женщину получить удовольствие и получил его сам. Одному богу известно, как я до этого додумался. Мне — нет. Но тут есть еще одна заковыка. Если мужчина любит выпить, а женщина не любит пьющих мужчин, тогда в любой момент можно сорваться, с какой стороны ни посмотри. И в этом состоит большая моя беда, и поэтому в конечном итоге я бываю в себе не уверен, и приходится то и дело оглядываться по сторонам и находить самых любящих женщин — а это почти всегда женщины, которым не хватает любви, жены «раззяв».
И с тем можно забыть про фабрику, где потом жилы рвешь за станком, а после дуешь пиво в пабе или, по выходным, любишь Бренду в ее просторной мягкой постели. Фабрика не имеет значения. Пусть себе работает, пока не надорвется и не взлетит на воздух, а я, подумал Артур, и так уж перевыполнил дневную норму на двадцать штук и буду здесь, когда фабрики не будет, и Бренда тоже, и все женщины, такие, как она, тоже — не женщины, а золото.
Глава 3
За те несколько минут, что прошли между тем, как он сначала проснулся, а затем открыл глаза, стало понятно, что ему слишком плохо, чтобы идти на работу. Несколько раз Артур пытался подняться, чтобы понять, как все же он себя чувствует, но удалось ему это только в одиннадцать утра. Внизу он обнаружил на столе чайник с остывшим чаем — мать оставила, уходя за продуктами. Прохаживаясь босиком по комнате, он безуспешно пытался сообразить, что же с ним стряслось. Взял «Дейли миррор» и, убедившись, что на первой полосе нет фотографии какой-нибудь красотки, принялся листать газету. Что ж, купальный костюм неплох. Бросив газету на пол, он спустился в подпол и набрал в ведро угля.
Вошла, с сумками в руках, мать.
— Я так и думала, что ты не в себе, — сказала она, увидев его осунувшееся бледное лицо, — потому и будить не стала.
— Внутри все крутит, — пожаловался он.
— Желчь разлилась, — как всегда при подобного рода жалобах, отозвалась мать.
А стандартным лекарством будет индийское бренди на шесть пенсов, которое она принесет из лавки на противоположной стороне улицы, после того как разгрузит в посудомоечной сумки с продуктами.
Она поспешно просеменила по двору, крепко стиснув на холоде ладони и прижав их к животу. Летом она обычно небрежно кладет их на плоскую грудь — эта картинка мелькнула в памяти Артура, пока он стоял у огня, слыша, как стучат по мостовой ее черные, блестящие, на низком каблуке туфли.
— Индийского бренди, мистер Тейлор, на шесть пенсов, — скажет она, входя в лавку.
Старый жмот, подумал Артур.
— Самое то с утра, — откликнется хозяин лавки, нацеживая по капле жидкость. Артур знал, что мать скорее согласится с недоливом, чем будет ждать, но бодрящая музыка, доносящаяся из радиоприемника, и холодный взгляд, направленный сквозь замерзшее окно, заставят Жмота поторопиться. Ее худое, без малейших следов косметики лицо — лицо женщины пятидесяти с чем-то лет, было довольно сильно испещрено морщинами, но не от возраста, а оттого, что она слишком часто смеялась или плакала. Видит бог, до войны она много работала, и жизнь ее не баловала. Артуру это было известно. Когда Ситон мрачнел из-за отсутствия сигарет, она бегала из лавки в лавку, выпрашивая несколько штук в долг до четверга, когда платили пособие по безработице. Но сейчас, подобно тому, как у Ситона есть вдоволь «Вудбайн», а также телевизор, мать каждую неделю получает хорошее жалованье, которое в зародыше подавляет любые тревоги, и позволяет ей вести вполне сносную жизнь, и добавляет блеска ее и без того блестящим серо-голубым глазам, когда она, если вдруг придет в голову, попросит в кооперативе отпустить ей в кредит фунт того или фунт этого.
Артур слышит, как Жмот спрашивает мать:
— Что-нибудь стряслось, миссис Ситон?
У него невыразительное, но по-своему волевое лицо сорокалетнего мужчины, и он любит повсюду совать свой нос, словно легавый. Мать расцепит руки и достанет из кармана кошелек.
— Артур опять животом мается. Одни только беды всем от этой фабрики.
Моложавый, с приглаженными волосами, Жмот возьмет бренди и скажет себе, что, когда она уйдет, надо будет добавить в бутылку воды.
— Ну, я бы так не сказал, — наверняка возразит он, возвращая затычку на место. — Правда, сам я там никогда не работал. Переезжал, знаете ли, с места на место. Но от мазута лучше еще никому не становилось, с этим я согласен.
Мать пока поседела не больше чем наполовину. А наполовину, любил повторять Артур, — блондинка. У старика-то волосы черные, цвета пикового туза.
— Думаете, это ему поможет? — спросит она. — Бедный парень слишком много работает, это я вам говорю. Он у меня хороший. И всегда был таким. Не знаю уж, что бы я без него делала.
Жмот подумает о том дне, когда в лавку к нему зашел Артур и стал играть на автомате, где вместо цифр выскакивают фрукты. Он скармливал машине, вспоминал, сидя подле огня, Артур, пенс за пенсом, и когда наконец выпали три лимона, банк остался пустым. Ни фартинга. Старый Жмот заявил, что ничем не может помочь, а Артур принялся колотить по стенке автомата, и не переставал, пока тот не закашлялся и на колени ему не вывалились двенадцать шиллингов и четыре пенса.
Он ждал ее, видел, как она пересекает двор, слышал, как, войдя в дом со своей скромной целебной ношей, возится с замком.
— Вот, держи, — сказала она, — сейчас приведем тебя в порядок.
Он проглотил бренди и почувствовал себя вдвое лучше, словно после того, как повторил перед зеркалом выпад Билла Хикока[5] в салуне Дикого Запада, — слабость, возникшая из-за чересчур долгого пребывания в цеху, где пахнет мазутом и хлоркой, начала постепенно проходить. Ему захотелось пить, и мать живо принесла кружку крепкого дымящегося чая с несколькими кусками сахара и жирным молоком из кооперативного магазина, которое она держала в литровой бутылке на оконном карнизе, — добрая смесь, действенность которой была подтверждена двадцатилетним опытом. Пока мать готовила обед, он сидел у огня, рассеянно поглядывая через заиндевевшее от дыхания и холода окно на длинные захламленные задние дворы, на женщин, возвращающихся домой с покупками, на мать, которая сновала взад-вперед, вынося мусор из посудомоечной в баки и останавливаясь порой, чтобы перекинуться словом со старушкой Ма Булл.
Это была, если не капризничать, славная спокойная жизнь, защищенная от холодного мира теплом уютной кухни, из окон которой видны внушительные, из красного кирпича, многоквартирные дома на противоположной стороне улицы. Артур готов был рассмеяться. Порой бывает совсем неплохо занедужить, посидеть перед огнем, читая и попивая чай, в ожидании того, как по телевизору покажут что-нибудь занятное. Он не мог понять, отчего ему стало плохо. Вчера вечером они с Брендой выпивали в Спортивном клубе, но в меру, явно недостаточно для того, чтобы с желудком что-нибудь случилось. Отсюда вопрос: действительно ли утром он так уж плохо себя почувствовал? Но совесть его была спокойна: зарплата не пострадает, на фабрике он всегда опережал остальных по выработке как минимум на день. Так что беспокоиться не о чем. Желудок успокоился, и он отодвинул свои худые белые ноги от полыхающего в печке огня.
Обмотав шею шелковым шарфом, прикрывающим его вязаный галстук от Виндзора, Артур направлялся к Воллатону в надежде встретить возвращающуюся из Спортивного клуба Бренду. Чем пробираться темными переулками, он предпочел постоять у забора, откуда было видно, что Мартинов пруд уже покрылся льдом. Вчера вечером Бренда, нежно прощаясь с ним, говорила, что не уверена, придет ли: только «возможно», и даже скорее «вряд ли», так что он совершенно забыл про нее, только за чаем вспомнил.
Часы на Воллатоновой башне пробили пять, звуки рассыпались в морозном воздухе, эхом прокатились по поверхности пруда, где возвращающиеся из школы дети скользили по льду и с криками швырялись камешками в растерянных уток, и те поднимались из зарослей камыша и, хлопая крыльями, перелетали на деревья и ограду прилегающих к домам садов. Засунув руку глубоко в карман длинного драпового пальто, Артур стоял у забора и скользил взглядом по опушке леса. Как почти всегда в ожидании появления женщины, он играл с собой в игру, повторяя: «Ну что, не придет скорее всего», или, когда из-за поворота выезжал, притормаживая у остановки, автобус: «На этом автобусе ее точно не будет», или: «Раньше чем через пятнадцать минут не появится», в надежде на приятный сюрприз: вот она. Иногда он выигрывал, иногда нет.
С автобуса сошли несколько человек, но ее среди них не было. Он попытался заглянуть внутрь, прочесать первый этаж, второй, но окна запотели от дыхания и дыма. А ну как этим автобусом приехал Джек? Подумав о такой возможности, Артур от души рассмеялся. Месяц с лишним назад Бренда обмолвилась: «Ну и что мне сказать Джеку, если он спросит, почему я так часто хожу в клуб?» И он ответил в шутку: «Скажи, что тебя включили в команду по метанию дротиков». При следующей встрече она объявила: «Я сказала ему, что в клубе бросаю дротики, и, кажется, он поверил». «Ревнивцы всему верят», — ответил он тогда. Но через несколько недель она пожаловалась: «Джек сказал, что собирается как-нибудь зайти в клуб, посмотреть, вправду ли я бросаю дротики. Пошутил еще, что хочет увидеть у меня в руках чемпионский кубок». «Ну что ж, пусть приходит», — сказал Артур.
И сейчас он мог бы повторить то же самое. Да, на этом автобусе ее не было. Двигатель взревел с такой мощью, что ломкие кустики и ветви деревьев, кажется, испугались наступившей следом тишины, а Артур поежился от холода и перестал слышать детские крики на пруду. Бренда ходила в клуб три раза в неделю, когда Джек работал по ночам. Маленького Джеки и его сестру она оставляла с соседской девочкой, платя ей за труды шиллинг и при расставании подмигивая, из чего следовало, что та должна держать язык за зубами — ни единой душе ни слова. Артур надеялся, что дротиковая легенда продержится еще несколько недель. Повернувшись спиной к автобусу, направляющемуся в сторону Воллатона, он снова посмотрел на детей, перекрикивающихся друг с другом и скользящих в сумерках по ледяной поверхности пруда.
Она вышла из следующего автобуса, задержалась на тротуаре, пропуская автобус, и направилась в его сторону. Он был уверен, что она его заметила, и остался стоять в тени кустарника. Она шла мелкими семенящими шажками, в застегнутом на все пуговицы пальто, руки в карманах, вокруг шеи обмотан никак не подходящий к пальто шерстяной шарф. Когда между ними оставалось всего несколько ярдов, он окликнул ее по имени и шагнул вперед, но все еще не выходя из тени. Надо соблюдать осторожность. А что, если Джек ее выслеживает? Не то чтобы он боялся за себя — в случае чего он кому хочешь отпор даст: шесть с лишним футов роста, только-только двадцать два исполнилось, и на подмогу, если понадобится, откуда-нибудь придут. Иное дело Бренда — ведь это ей придется платить. Гляди в оба, и сильно не промахнешься, подумал он.
Он шагнул ей навстречу и потянул за собой в тень.
— Привет, цыпленок, — сказал он, целуя ее в щеку. — Как ты?
Она приблизилась к нему вплотную, и он прижал ее к себе.
— Все нормально, Артур, — мягко откликнулась она — так, как если бы сказала то же самое, будь на самом деле не все в порядке. Он положил ладонь ей на грудь, и под шарфом мелькнула белая блузка. От нее легко и приятно пахло женщиной, которая куда-то торопилась, а теперь приходит в себя, источая тепло и едва ощутимый запах пота, всегда его возбуждавший. «Сколько ей? — подумал он. — Должно быть, тридцать. Точно, тридцать, день в день».
— Что, удалось ускользнуть от Джека? — спросил он, отстраняясь от нее.
— Ну да, конечно. Я сказала, что иду в клуб, снова на тренировку. — Кажется, что-то ее тревожило, и он опять привлек ее к себе, на сей раз более нежно, чем прежде. Неправильно, если женщину что-то слишком волнует. Сейчас ему хотелось взять все тревоги на себя. Это ведь нетрудно. Надо просто взять их и, поскольку делать с ними нечего, — выбросить куда подальше.
— А он что?
— Сказал, что, может, попозже заглянет. — Она говорила, обдавая его своим горячим дыханием.
— Он всегда так говорит, но никогда не делает. К тому же он сейчас в ночной смене, так?
— Ну да.
Ей было бы неспокойно, окажись он даже за десять тысяч миль отсюда. Но это естественно, подумал он, обнимая ее обеими руками и нежно целуя в губы.
— Не волнуйся, цыпленок, не придет он. Ты со мной, и все будет хорошо. — Он поднял воротник ее пальто, покрепче затянул шарф, потом прикурил две сигареты и одну протянул ей.
Они шли темной, тихой, обсаженной с обеих сторон деревьями улочкой, которая вела к клубу. Он говорил ей, как долго ждал ее здесь, подтрунивая над самим собой, замечая, что это то же самое, что ждать начала футбольного матча, назначенного на другой день, болтая разную чепуху, лишь бы развеселить ее. По одну сторону улицы начинался лес, и, поболтав еще какое-то время, перемежая шутки поцелуями, они углубились в него через разрыв в кустах.
Артур хвастал, что знает этот лес как свои пять пальцев. Посреди него было озеро, где он раньше любил плавать. На опушке находилась лесопилка, похожая на лагерь захватчиков, медленно пожирающих лес, хотя деревья еще оставались, что по вечерам, подобным нынешнему, было Артуру весьма на руку.
Он знал, что, увлекая Бренду вглубь и сжимая ее запястье, делает ей больно, но ослабить хватку ему и в голову не приходило. Окружающие их во тьме кусты и деревья наводили на него тоску. В какой-то момент он сказал себе, что держит ее так крепко, потому что спешит найти удобное сухое место; потом решил, что всему виною она сама и сложившаяся ситуация, заставляющая его причинять ей боль, нечто, имеющее отношение к тому, как именно она обманывает Джека. И пусть даже, ведя ее на место, о существовании которого внезапно вспомнил, он предвкушал грядущую радость, ему вдруг подумалось: «Все женщины одинаковы. Если они с мужьями выкидывают такие штуки, то и с тобой, дай им малейшую возможность, проделают то же». Он наступил на сучок — треск эхом прокатился по невидимому, поросшему ивняком берегу темного озера, расположенного чуть ниже. Бренда вскрикнула: ее хлестнула по лицу ветка, а он даже не подумал ее отвести.
Земля была твердая и сухая. Они перелезли через свободный от кустов бугор — крышу тоннеля, врезанного в земную твердь и поддерживаемого крепежными стойками; во время войны при воздушных налетах сюда спускались рабочие лесопилки. Теперь он, слегка сжимая руку Бренды, вел ее за собой, снова весь внимание и нежность, подсказывая, когда надо нагнуться или переступить через торчащий из земли корень.
Дорожек в лесу было не больше, чем ясных и четких линий на ладонях Артура, и он без труда нашел то самое сухое и закрытое от посторонних глаз место, о котором вспомнил чуть раньше. Он снял пальто и разложил его на земле.
— Здесь нам будет удобно, — мягко проговорил он.
— А ты не замерзнешь? — Это были первые слова Бренды с того времени, как они углубились в лес.
Уловив в ее голосе подлинную тревогу, Артур уже едва сдерживался в ожидании того, что должно последовать.
— Не бойся, — громко засмеялся он. — Это ничто в сравнении с тем, каково приходилось в армии. А ведь тогда тебя, цыпленок, не было рядом, чтобы согреть.
Она закинула ему руки за шею и дала расстегнуть пальто. Он снова почувствовал запах женщины, возбужденной тем, что она делает что-то, по собственному разумению, не совсем правильное, но готовой отдаться любви. Он ощутил твердость броши из искусственного жемчуга у нее на блузе, потом пуговицы, и они опустились на тщательно расстеленное им пальто. Они забыли про холодную землю и про нависающие над ними ветви деревьев и растворились в жаре любви, погруженные в блаженную тишину ночного леса, пахнущего первобытной растительностью, леса, где никому не раскрыть твоих тайн и не отнять восторг, который дарят друг другу мужчина и женщина, лежащие в темноте на расстеленном пальто.
Вернувшись в переулок, они, чтобы попасть в клуб, должны были пройти несколько сотен ярдов через аркаду склоненных деревьев, в дальнем конце которой мерцали райские огни. Бренда взяла его под руку, и они перебрасывались шутками, непринужденно болтали, курили, чувствовали удивительную близость друг к другу — так, будто их долго лишали тепла.
Но когда они дошли до теннисных кортов, веселость Артура куда-то улетучилась, оба погрустнели, как если бы позволили себе столько радости, сколько не могли удержать. Бренда шла, слегка склонив голову, и едва удержалась на ногах, поскользнувшись на корке льда. Артур снова подумал про Джека, на сей раз с раздражением: надо же быть таким слабаком, чтобы позволить жене гулять с чужим мужчиной. Забавно, однако же, как часто ощущаешь себя виноватым, гуляя с женами слабаков: наверное, потому, рассудил он, что сильных стоит опасаться.
Интересно, подумал он, — Джек знает? Конечно, знает. Конечно, не знает. Но если все еще не знает, то уж и никогда не узнает. Он должен знать: таких чокнутых просто не бывает. Наверняка ему кто-нибудь сказал. У Артура не было ясных причин считать, что Джеку все известно, он полагался на точность своих «взвешиваний», произведенных на основе встреч с Джеком и сообщений Бренды. Впрочем, полной уверенности никогда не может быть. Не то чтобы это имело какое-то значение, особенно если Джек готов мириться. А что ему остается? На развод он никогда не пойдет, это слишком дорого, чем бы там все ни кончилось. Нет такой женщины, которая была бы достойна развода.
У него было ощущение, что Джек, возможно, хочет убедиться в происходящем наверняка и потому, не исключено, находится сейчас в клубе, ожидая появления Бренды. Подозрение становилось все сильнее, набухало словами, готовыми сорваться с губ. У последнего изгиба ограды он остановился и сказал:
— Слушай, цыпленок, я, пожалуй, зайду сначала один: а ну как Джек в клубе? Думаю, вряд ли, но надо убедиться, так что ты лучше подожди меня здесь. Я живо.
Она не стала спорить, остановилась покурить — Артур сам зажег ей сигарету. Он двинулся вперед по гравиевой дорожке. Вошел в ворота. Остановился у нижней ступени. Достаточно рослый, чтобы заглянуть в окно, он попытался разобрать, что происходит в баре, и порадовался, что он-то всех внутри видит, а сам стоит в темноте и остается невидимым. Джек сидел у дальнего окна — глядя, между прочим, прямо на него, — один за столиком, барабаня пальцами по наполовину опорожненной кружке пива. Артур не сводил с него глаз: ему вдруг стало очень интересно, и это не позволяло уйти. Он увидел, что к Джеку подошел какой-то мужик, похлопал его по спине, сказал что-то явно по-приятельски и вновь отошел. Джек пожал плечами и рассеянно поднес кружку ко рту.
Стало быть, ублюдок появился-таки наконец! Артур не мог заставить себя пошевелиться. Удивление и любопытство пригвоздили его к земле, взгляд, словно камера, медленно скользил по картинке, фокусируя ее в сознании. Тут он вспомнил, что на улице его ждет Бренда, резко повернулся и отошел, ощущая бодрость и даже подъем; кровь снова побежала по жилам, а подошвы скрипели по гравию, словно он только что хлебнул добрую пинту пива.
Он нашел ее там же, где и оставил, растворившейся тенью среди других теней, что отбрасывала ограда. На самом деле он бы даже не заметил ее, не пошевелись она слегка, чтобы выдать свое присутствие. Иначе Артур вышел бы прямо на главную улицу, не отдавая себе отчета в том, что делает, — так он был возбужден. Сейчас же, описав полукруг, словно это был не он, а велосипед, на котором ехал кто-то другой, Артур повернул к ограде.
— Я замерзла, — сказала Бренда наполовину мрачно, наполовину жалобно, словно упрекая Артура, и тут же в этом раскаялась. Он потянул ее за собой вверх по переулку, к автобусной остановке.
— В чем дело? — уперлась она.
— Джек в клубе.
Казалось, это ее не удивило.
— А он тебя видел?
— Нет.
Бренда спросила, что им теперь делать.
— Ты отправляйся домой, — твердо сказал он. — Это будет лучше всего. Я посажу тебя на автобус, а сам вернусь в клуб и пропущу пинту-другую, просто чтобы показать свою физиономию.
— Что, если Джек спросит, где я была?
— Скажешь, что заскочила на часок к сестре, а там голова разболелась, и ты не захотела идти в клуб.
Объяснение было простым и ясным — потому что само собой пришло в голову. Если начнешь слишком много думать, так хорошо не получается. Она кивнула, соглашаясь, и на повороте улочки они поцеловались. Теперь, пройдясь быстрым шагом, она согрелась.
— Жаль, что все так получилось, — сказал он, когда они дошли до автобусной остановки, — но ничего, цыпленок, завтра увидимся.
— Все нормально. Ведь свою долю любви мы получили, верно?
— Да, верно, — прошептал он. — Я люблю тебя, Бренда.
Автобус подошел, остановился, быстро отъехал по темной дороге, и он смотрел ему вслед, пока за углом не исчезли габаритные огни.
Артур направился по переулку назад в одиночестве, испытывая потрясающее чувство душевного подъема и свободы, с трудом веря, что такое возможно, готовый пуститься в пляс в тени деревьев. Через просветы в нависающих над ним переплетенных ветвях виднелись звезды. Он пел и насвистывал, и чувство радости освещало ему путь, как горящая свеча, и укрывало от чернеющего холода ночи.
Он чувствовал себя так хорошо, что ему хватило каких-то десяти минут, чтобы вернуться в клуб. Он взлетел по деревянным ступеням — что показалось небезопасным, потому что его так и распирало от оптимизма, — и, толкнув дверь, сразу увидел Джека, который по-прежнему сидел на том же месте, и единственное отличие заключалось в том, что теперь кружка была пуста, а повторить он не побеспокоился.
В клубе находились не более десятка человек, потому что был конец рабочего дня и получка давно растворилась в бездонной бочке пива и в дыму дорожающих сигарет. Хозяин бара, он же охранник, облаченный, как положено, в белую куртку, выданную компанией, швырял дротики. Игроком он был популярным, но не благодаря какой-то особенной меткости, а потому, что хорошо удерживал в уме счет — способность, которую он развил на этой работе. Как-то раз счет вел Артур, и под конец игры хозяин указал на несколько ошибок — все в пользу Артура. «Прям не знаю, — загоготал он тогда, — тебе только яблоки перебирать. До трех досчитать не можешь». «Такой уж я неумеха, — подмигнул ему Артур. — Недаром всегда в лотерею продуваю».
Сейчас он уверенно пересек зал, сел за стол Джека и сразу, не успев еще снять пальто и заказать пива, дружески похлопал его по спине. Энтузиазм, испытанный им на улице, несколько спал, но приподнятое настроение не проходило.
— Ну, Джек, ты как? Два года не виделись, ладно, не меньше двух недель.
Джек не ответил, лишь молча кивнул. Если в один прекрасный день он снимет с лица эту маску вечной озабоченности, будет вполне ничего себе на вид: черты у него правильные, и для своего возраста выглядит молодо. Артур заметил, что на щиколотках у него закреплены велосипедные клипсы.
— Я думал, ты сегодня в ночной, — дружелюбно пробурчал он.
— Именно так. Просто решил сначала пропустить пинту. Смена начинается в десять, да и дел в токарном цехе не так чтобы очень много. — Подобно всем озабоченным людям, Джек всегда отвечал на вопросы прямо, не желая тратить время на всякие оговорки. По той же причине его было трудно разговорить.
— Как там Бренда в последнее время? — Поинтересоваться, подумалось ему, стоит, иначе он может что-нибудь заподозрить.
Джек посмотрел на него, потом повернулся к стойке. Артур встретил его взгляд невинной полуулыбкой, затаившейся в уголках серых глаз.
— Все нормально.
— Простуда прошла? — Он тут же одернул себя: может, переигрывает?
— Не было у нее никакой простуды, — с некоторым неудовольствием сказал Джек. Обычно он смотрел мимо того человека, с которым разговаривал, на пустые столики, на автоматы, выстроившиеся вдоль голой стены.
— А я вроде от кого-то слышал, что простудилась. — Он попросил хозяина принести две пинты пива — одну для Джека, другую для себя.
— Спасибо. — Голос Джека немного потеплел. — Только много мне нельзя, а то еще засну на работе.
Сейчас, сидя рядом с Джеком, после всего того, что было с его женой в лесу, Артур испытывал такое множество разнообразных чувств, что затруднился бы определить, какое из них главное. И еще — когда столько мыслей лезет в голову, не знаешь, что и сказать. Он решил поинтересоваться детьми, хотя снова показалось, что, может, пережимает.
— Все в порядке, — сказал Джек. — Старший скоро в школу пойдет. Бренде полегче будет.
Этот хорошо, подумал Артур и не удержался от того, чтобы не высказаться вслух. После чего сделал большой глоток пива.
— Да, на себя останется побольше времени, — согласился Джек.
— Не пиво, а моча, — громко пожаловался Артур в надежде вовлечь любителей пошвырять дротики в какой-нибудь легкий разговор и отвести его подальше от Бренды и детей. Странно, подумалось ему, когда общаешься с человеком, с женой которого трахаешься, все время тянет говорить о ней. Впрочем, тут же пришло ему в голову, добрую половину разговора Джек берет на себя. Так что вину они делят поровну. Выходит, все же что-то ему известно, мрачно подумал Артур.
Игроки не проглотили заброшенный им крючок, и он остался один на один с Джеком, с плотной массой его серого вещества, и это начало его раздражать, так что он едва ли не пожалел, что не сел на один автобус с Брендой и не поехал к ней домой. Они заговорили о рыбалке, Артур заметил, что надеется на скорую оттепель: тогда в воскресенье утром можно будет сесть на велосипед и поехать в Котгрейв или в район Труэл-Бридж.
— Туда зря не прокатишься, — сказал он, — рыба клюет, словно толпа голодных черномазых. Сама норовит на крючок попасться. Стаями ходит. Я знаю местечко, где есть старые печи для обжига извести, там можно укрыться, если пойдет дождь.
Но Джек, в отличие от рыбы и подобно метателям дротиков, на крючок не попался. Да уж, точно, просто так его не разговоришь. Артур крикнул, чтобы принесли еще пару пинт, но, как выяснилось, чем больше Джек пьет, тем реже открывает рот, чтобы сказать что-нибудь.
— Эй, старина, да что это с тобой такое? — громко воскликнул Артур, перегибаясь через стол и похлопывая его по плечу, как часто делал на работе, когда Джек, наклонившись над скамейкой, натачивал чью-то дрель. — Чего захандрил? Вид у тебя такой, будто на уме что-то.
Вот это были явно верные слова, потому что Джек, впервые за весь вечер, улыбнулся, и с лица его мгновенно стерлось озабоченное выражение.
— Да нет, все нормально, — дружелюбно возразил он, а Артур подумал: что, интересно, сказал бы он и сделал, если признаться, как у них с Брендой на самом деле все складывается? И из дружбы, из ощущения товарищества едва не решил так и поступить. Но нет, тут же одернул он себя, это была бы отвратительная шутка, с товарищами так как раз не поступают. И ради чего — позабавиться?
К Джеку вернулось его обычное озабоченное выражение, словно он взвешивал возможные последствия какой-то неприятности — интересно, какой именно, подумал Артур, — а в следующую минуту спрашивал себя, а впрямь ли случилось что-то такое, может, ничего и не было.
Артуру захотелось пожать ему руку и во всем признаться и еще сказать, какой он, Джек, отличный, с его точки зрения, малый, какие у него хорошие мозги, и вообще все на месте, и как скверно видеть его переживающим из-за какой-то чепухи вроде этой, из-за того, что между ними встала женщина.
Но ничего этого он не сказал, а затеял разговор про футбол, и, допивая третью пинту, Джек уже разглагольствовал о том, что на будущий год «Ноттс» выйдет во вторую лигу. Все присутствующие в клубе также внесли в дискуссию свою крупицу знания, а где знаний не хватало, в ход шло воображение. Артуру сказать было почти нечего, и он заказал еще пару пинт, одну для себя, другую для Джека, довольный щедростью, с какой угощает мужа Бренды. При этом он не переставал повторять себе, какой Джек славный малый. Просто не повезло ему, что все так обернулось.
— У их центр-форварда самый сильный удар, и прицел точный, и плевать мне на то, что ты там несешь! — орал не на шутку разошедшийся Джек. Никогда еще Артур не видел его менее озабоченным.
— Пошел ты к черту, Джек! — орал в ответ бармен, тряся своим маленьким подбородком. — Ни за что им на тот год не пробиться.
— Точно, — поддержал его кто-то из метателей дротиков. — Пусть еще хоть десять лет носятся по полю, все равно ничего не выйдет, это я тебе точно говорю, Джек.
Все разгорячились, то и дело прикладываясь к кружкам и дружески переругиваясь, и каждый надеялся, что именно его предсказание окажется верным.
— Ты позабыл про трансфер из «Халла» на прошлой неделе, — говорил Джек, мастерски аргументируя свою позицию, меж тем как бармен протягивал ему через стол очередную пинту. Артур смотрел на него, довольный тем, что существуют определенные законы, не позволяющие заглядывать друг другу в голову, потому все так отлично и складывается.
— Да какая к черту разница, — стоял на своем бармен, — пусть хоть пятьдесят трансферов будет.
— А как насчет Уоррела и Джексона? Это тебе что, тоже без разницы?
Артур почти на слушал спорщиков, ему было хорошо от выпитого пива, он смутно вспоминал холодную землю в темном лесу, где несколько часов назад лежал с Брендой, а про футбол он все уже давно слышал.
Барабаня пальцами по кружке, на которой, решил он, можно бы сегодня закончить, Артур в то же время раздумывал, а не надраться ли как следует и свалиться по пути домой в кусты, и что Джеку просто не повезло. Или тебе прет карта, или нет. Он говорил себе, что надо ловить удачу за хвост, ковать железо, пока оно горячо. Бренда — классная женщина, и он от нее не откажется, пока все не раскроется, а что раскроется, так или иначе, он не сомневался.
Теперь, когда Джек забыл про свои заботы и увлекся футболом, у Артура стало легче на душе. Жизнь и впрямь казалась чудесной. Он надел пальто, готовясь уйти, попрощался со всеми, с Джеком в последнюю очередь. Но Джек забыл про него, он настолько погрузился в прекрасный и яростный спор, что почти не заметил, как Артур ушел.
Он вышел на крыльцо и, застегивая пальто, почувствовал, как морозный воздух щиплет кожу. Еще больше похолодало — хорошая погода для того, чтобы переварить несколько вылитых пинт, — но скоро распахнутся врата нового года, и тогда славно будет брать с собой Бренду в долгие прогулки по лесам и полям и проводить вдвоем тайные долгие вечера на теплом весеннем воздухе.
Под ногами скрипнули ступеньки, и Артур вышел на дорогу. Оглянувшись, он увидел, что все по-прежнему с воодушевлением спорят, размахивают руками, смеются, выпивают, и эхо их голосов плывет над зелеными газонами и теннисными кортами, постепенно растворяясь в холодном воздухе.
Оказавшись в неосвещенном месте, Артур не выдержал и громко загоготал. И этот звук тоже эхом разнесся вокруг, коснулся, кажется, просмоленной крыши клуба, потом соскользнул по скосу. Завтра вечером он увидится с Брендой. Он закурил и принялся насвистывать на ходу. От этой мысли ему сделалось хорошо.
Совершенно поглощенный ею, он, держась слишком близко к краю дороги, споткнулся о корень дерева, разразился проклятьями и выпрямился, потом засмеялся и продолжил путь.
Глава 4
Появился Роббо с жалованьем; он переходил от верстака к верстаку, от станка к станку, неся в руках длинную узкую коробку, набитую сотнями маленьких коричневых конвертов. Это был добрый час: Роббо улыбался, отпускал плоские шутки и вообще был совершенно не похож на того сурового, сосредоточенного мастера, что в иное время расхаживал по цеху, нащупывая в глубоком кармане своего комбинезона микрометр. Приводные ремни скрипели не так пронзительно и шкивы вращались не так быстро, как обычно, будто и сами ощущали приближение тишины и безделья выходных дней, и, хотя их назойливый шум все же не утихал, Артур воображал, будто слышит шелест шин автомобилей, проносящихся по Эддисон-роуд, и скрип груженых фур, выезжающих со двора расположенного невдалеке склада готовой продукции.
Остановив станок, он широкими мозолистыми ладонями сгреб с лотка железную стружку, запихал ее в деревянный ящик и утрамбовал башмаком — теперь дрезина увезет ее и сгрузит снаружи. Сам же принялся чистить станок — по-армейски, так, чтоб ни пылинки не осталось и чтоб блестел как новенький, — смахивая оставшуюся стружку, вытаскивая хлопчатобумажные волокна, застрявшие между станиной и бабкой. Налегая на станок всей своей долговязой фигурой, он тщательно протер питательную трубу, револьверную головку, ручки, но работал при этом не напрягаясь, насвистывал какую-то бойкую мелодию и думал о том, что происходит снаружи, об обеденном перерыве, о сверкающем солнце и о том, хватит ли у него сил остаться на небосклоне, когда в половине шестого прозвучит отбой. С того места, где он стоял, угадать было нельзя: маленькие окна, расположенные высоко на стене, покрылись копотью и почти не пропускают света.
— Эй ты там! — Роббо неожиданно вырос за его спиной. — Если уделишь мне минутку, получишь, что заработал.
Артур выпрямился и с насмешливой улыбкой вытер паклей руки.
— Не откажусь, мастер Роббо.
— Если бы отказался, был бы таким первым, — рассмеялся тот.
— Ну, и сколько на этой неделе накапало? — спросил Артур, хотя, как и любой сдельщик, прекрасно знал точное количество банкнот по одному фунту, лежавших в его конверте.
— Четырнадцать. — Роббо понизил голос. — Это больше, чем наладчики получают. В один прекрасный день меня прищучат за то, что я даю тебе так много зарабатывать.
В ответ на этот тонкий намек Артур сразу ощетинился и сердито проворчал:
— Да ничего с вами не будет, кому вы тут нужны.
— Когда я начинал здесь работать, — не унимался Роббо, — приносил домой в пятницу по семь фунтов и два пенса. А возьми тебя. Четырнадцать штук. Целое состояние.
— Да бросьте вы. В те дни пачку сигарет можно было купить за два пенса, а пинту эля за три. А сейчас посмотреть только, что эти гады делают. — Артур взял пакет с деньгами и прочитал: — Подоходный налог — два восемнадцать плюс еще теннер[6]. Это неправильно, я заработал эти деньги. И знаю, на что их потратить.
— Ну, компанию в этом ты винить не можешь, — возразил Роббо, закуривая сигарету. Для него рабочий день закончился, и он мог себе это позволить. — Не надо столько заграбастывать.
— Да ничего я не заграбастываю. Я зарабатываю. Все до последнего пенса. И вы это знаете.
Роббо действительно ценил тяжелый труд.
— Да я и не спорю. Просто не высовывайся. Мне не хотелось бы, чтобы все знали, сколько ты приносишь домой. Иначе мне все горло перегрызут, чтобы я накинул жалованье. И тогда, ты уж пойми меня, придется играть по-другому.
Он отошел, и Артур сунул конверт в карман комбинезона. Перемирие закончилось. Вражеского лазутчика больше не было рядом. Именно так Артур называл про себя Роббо — вслед за отцом. Хотя серьезных оснований для боевых действий, как в отцовские времена, больше не существовало, кое-какие, трудно объяснимые, однако же ощутимые причины для конфликта оставались, и вторая половина дня в пятницу была как раз тем временем, когда обе противоборствующие стороны, при посредничестве конвертов с жалованьем, выбрасывали белый флаг, когда фабричным рабочим вручалось доказательство их положения, каковое значительно выросло в своей рыночной цене с той поры, когда вышеупомянутая вражда носила более острый характер.
В половине шестого замигал сигнал, означающий окончание работы, и Артур влился в толпу, хлынувшую к фабричным воротам. Солнце светило слабо и тускло, задувал пронизывающий апрельский ветер. Артур бездумно шагал к дому и, поворачивая за угол, нагнал отца. Круглое щекастое лицо миссис Булл, ее приплюснутый нос, полные губы, короткие седеющие волосы представляли собой постоянную примету фабричного района, уродливую витрину, знакомую всем, кто проходил мимо. Она жила в одном из многоквартирных домов, почти рядом с фабрикой, и сейчас стояла в ожидании своего мужа-каменщика, чтобы выхватить, как полагал Артур, у него из рук конверт с деньгами, но в то же время проследить за фабричным людом — это занятие ей никогда не надоедало.
Артур с отцом прошли через посудомоечную в гостиную, где на потолке горела стосвечовая лампа. В небольшой комнате сидели пятеро. Артур снял пальто, занял за столом свое место, а Маргарет тем временем отодвинула стул от камина. Уильям стоял на коленях — пятилетний малыш в коротких штанишках и шапке с помпоном.
— Привет, дядя Артур, привет, дедуля! — завопил он при виде вошедших.
По поводу дня получки мать выставила на стол особое угощение — бекон с фасолью.
— Что это за месиво, Вера, — раздраженно заворчал Ситон, — между прочим, сегодня получка.
— Помолчал бы, старый бездельник. Каждый день на тебя горбачусь. Знаю, пока чашку чая не выпьешь, как черт злой. — На самом деле они и двумя словами нормально перемолвиться не могли, пока, даже не вымыв руки, не опорожнят двух чашек.
— Ладно, ладно, Вера, курочка моя, не надо злиться. — Он наклонился над тарелкой, тщательно поддевая вилкой фасолины.
Мать стояла у камина, следя за тем, как они едят, потом, поразмыслив несколько минут, подошла к столу и отрезала два толстых куска хлеба:
— Вот вам на закуску.
Маргарет сидела, задумавшись о чем-то, у огня, — молодая пышнотелая женщина двадцати девяти лет от роду. На коленях у нее ерзал Уильям, напевавший какую-то песенку, но замолчавший в попытке разгадать смысл громогласных высказываний Артура. Смирившись с тем, что расшифровке они не поддаются, он вернулся к песне, поглядывая время от времени в сторону стола, дабы убедиться, что ни Артур, ни дед не наступили случайно на его раскрашенный игрушечный вагон. Артур отнял мальчика у Маргарет, высоко поднял его и усадил к себе на колени.
— Ну что, маленький негодник, давай я рассажу тебе одну историю. — Он нарочно понизил тон. — Когда-то в давние времена… Сиди тихо, или ничего не узнаешь. Не суй пальцы мне в чашку. — Так вот, жил некогда в темном лесу, в огромном замке плохой человек. По стенам замка стекала вода, по углам, словно пуховое одеяло, висела паутина, окна скрипели, а на полу повсюду были доски-ловушки — не туда ступишь, и сразу провалишься…
— Хватит, Артур, — перебила его Маргарет, — так ты ребенка до смерти напугаешь.
— Ничего подобного, ему нравится, правда, старина?
Уильям не сводил с него глаз, ожидая продолжения.
— Так вот, человека этого звали Борисом Карловым. Это был чокнутый доктор, присматривавший за тысячами летучих мышей-вампиров, которые по ночам вцеплялись людям в горло, когда они шли по черному как смоль лесу и болотистым полям. Потому что, понимаешь ли, этот доктор, этот Борис, каждую ночь выпускал мышей на волю, а сам оставался в замке и слушал, как люди кричат от боли, когда на них налетают эти вампиры. А бывало, поднимался в башню и ужинал детьми, громко хохоча и показывая клыки. — Артур страшно забулькал горлом. — Но вот однажды вечером, когда он сидел у себя в лаборатории и перебирал склянки с засушенными головами, вдруг…
Уильям глядел на него широко открытыми глазами, лежавшие на столе ручонки сжимались и разжимались, пухлое личико побледнело, рот, по мере продолжения рассказа, открывался все шире.
— Короче… — В этот самый драматический момент повествования Артур вдруг резко откинулся назад, и все застыли, замолкли, как по команде, и повернулись к нему. — Короче, в гости к этому человеку пришел дьявол. Они были больше приятели, и, потолковав об убитых, о том, как избавиться от тел по шесть шиллингов за сотню…
Услышав про дьявола, Маргарет отвлеклась от своих мечтаний.
— Он подумает, что ты говоришь о его отце, — рыдающим голосом проговорила она, возвращая успокоившегося, судя по виду, Уильяма к себе на колени. — Ты до чертиков его напугал, правда, Билли?
— Что, опять на тебя наехал? — спросил Артур.
В комнате повисло напряженное молчание.
— Да это уж как водится. — В голосе матери прозвучали осуждение и ненависть. — Сегодня она у нас ночует, подальше от этой пьяной свиньи.
— Когда-нибудь я ему врежу, — пообещал Артур.
Да, не повезло, вышла замуж за типа, который не просыхает, да еще и рукам волю дает. Но ничего, он своего дождется. Надеюсь, в канаве сдохнет. Артур извлек из кармана комбинезона чистенький конверт с жалованьем и протянул три фунтовые банкноты матери.
— Моя доля, ма.
— Спасибо, сынок.
Уильям наблюдал за передачей банкнот, глазки у него разгорелись: он уже знал, что означают эти бумажки — сладости, автобусные билеты, пирожные, бесконечные поездки на Гусиную ярмарку. Вот они слегка липнут к ладони дяди, а вот переходят в руки бабушке. У него даже рот открылся при виде этих сокровищ, этого разворачивающегося перед его глазами пятничного действа, — ошеломительное количество денег, демонстрирующих за столом всю свою силу и могущество.
От Артура не укрылось его возбуждение.
— Нет, вы только посмотрите на этого маленького негодника, — сказал он. — Описаешься от такого зрелища. Ты бы присматривала за ним, сестренка, а то, глядишь, откроет газовый кран за какой-нибудь шиллинг.
— Да ни за что в жизни, — вскинулась Маргарет, — если только ты сам, балбес, не вобьешь ему в голову эту мысль.
Артур вытянул из конверта пятифунтовую банкноту. Уильям стоял у стола, прижимаясь носом к краю и теребя ручонками скатерть. Артур помахал бумажкой перед его носом.
— Вот тебе пятерка, Билли, сгоняй к Тейлору и купи себе пачку леденцов.
Уильям задрожал. Перед глазами у него закачались, поплыли разноцветные конфетки, полученные в обмен на смятый черно-белый клочок бумаги, точно такой же, какой нынче утром дала ему мать, велев заплатить первый взнос за стиральную машину. Он обежал глазами лица взрослых, потом медленно потянулся к ладони Артура, которая, как маятник, качалась у него над головой. Он попытался схватить банкноту, но промахнулся. Тогда, пока все смеялись над его неудачей, а Артур продолжал медленно водить у него перед носом деньгами, он вычислил в уме угол атаки.
Рука его поднялась и опустилась на манер поршня, он ухватил банкноту, кинулся к черному ходу, дернул щеколду, и не успел никто и глазом моргнуть, как мальчик уже мчался через двор, сжимая в ладони свои пять фунтов.
— Поделом тебе, — взвизгнула мать, держась рукой за сердце.
Артур выскочил наружу в погоне за ускользающим в результате собственного легкомыслия богатством. Нескольких шагов его длинных ног хватило, чтобы вплотную приблизиться к Уильяму, упрямо семенящему все еще в нескольких футах впереди в своих тесных штанишках.
— Билл! — завопил Артур. — А ну-ка немедленно вернись, негодник!
Весь дом у него за спиной грохнул от смеха.
— Отдай пятерку — и получишь теннер.
Уильям завернул за угол, выбежал в сгущающихся сумерках на улицу и, цокая ботинками с железными набойками по мостовой, пыхтя, как трактор-тягач, и еще сильнее сжимая в руках деньги, рванул к магазину.
Артур схватил его за пояс, поднял, расцеловал в обе щеки и взял из ослабевших пальцев банкноту.
— Ах ты, маленький разбойник, бежать с моей пятеркой! С моими трудовыми сладостями. Леденцов на пятерку! Боже милостивый! Да тебя бы наизнанку вывернуло, можешь быть уверен.
Своим детским умом Уильям с самого начала понимал, что это только игра, что вот так, запросто, пятерку не получишь и гору сладостей на нее не купишь. Так что он и не подумал заплакать, напротив, обхватил ручонками шею Артура, своего любимого богатого дяди, который вернулся из огромного мира, где люди работают, и выложил фунтовые банкноты на дразнящий своими пятничными запахами кухне. Артур донес племянника до лавки и протолкнулся к двери, где гомонили и играли дети, упоенные возможностью потратить деньги.
— Ну что, может, у Тейлора и вафли есть, как думаешь? Только смотрю, Билли, ты у нас раздулся немного. Тебя Маргарет чем кормит, пушечными ядрами, что ли? Право, целую тонну весишь. И от вафель ты легче не станешь, это я тебе точно говорю.
Шагнув через ступеньку, Артур внес толстяка Уильяма внутрь. Несколько женщин оплачивали недельные чеки. Наверняка ведь у всех дома есть телевизор, подумал Артур, и все равно по-прежнему берут продукты в кредит. Уильям медленно осматривал своими голубыми глазами полки с разнообразными банками, втягивая приплюснутым носиком поднимающиеся от прилавка восхитительные запахи мяты и ветчины.
— Сто ты мне купишь, дядя Ар?
— Если будешь хорошо себя вести, три банки карамели по пенни каждая. — Артур опустил мальчика на пол. Пятифунтовая банкнота вернулась в брючный карман, и теперь он рылся в мелочи, отыскивая монетки по пенсу. Уильям вцепился в карамель, засунул в карман шестипенсовик, Артур снова водрузил его на плечи, и они отправились домой.
Артур громко плескался в посудомоечной, густо намыливая грудь и лицо. Помывшись, прошлепал к огню обсушиться. Наверху он отшвырнул свой пропитанный машинным маслом комбинезон и в поисках подходящего костюма принялся перебирать вешалки, которые оберегала от пыли коричневая оберточная бумага. Несколько минут он простоял на холоде, запуская руки в карманы и поглаживая лацканы пиджаков, лаская свисающие с железной перекладины сокровища стоимостью в добрую сотню фунтов. Это было его богатство, и он не уставал повторять себе, что одежда — разумное вложение средств, потому что и чувствуешь себя от этого хорошо, и сама она хороша на вид. Артур перешел к другим вешалкам, поближе к окну, — туда, где были развешаны рубашки, натянул одну их них на пропотевшее нижнее белье, застегнулся, поджал губы и присвистнул, разом нарушив висевшую в комнате тишину.
Под мелко сеющим дождем он быстро шел к автобусной остановке. Чисто выбритый, модно одетый, с коротко подстриженными сверху и чрезмерно длинными снизу светлыми волосами, он весь источал запах свежего крема. Из-под полы пальто виднелись сужающиеся книзу аккуратно отглаженные брюки со стрелками, набегающие на блестящие туфли с квадратными носами. При своем высоком росте он из-за ежедневной работы у станка слегка сутулился, но сейчас, когда, немного наклонив голову и со стуком опуская подошвы на мокрую мостовую, пересекал дорогу, чтобы встать в очередь на автобус, все мысли о работе остались где-то в стороне.
Он сел сверху и закурил сигарету. Автобус медленно полз в горку. Артур передал деньги за билет. С соседнего сиденья потянуло вонью трубочного табака, и, отгоняя его, Артур оглушительно высморкался. Следовало бы вообще запретить курить трубки, подумал он. Трубочники представляют угрозу — и самим себе, и другим. Хотя, если гуляешь с женщиной, муж которой курит трубку, считай, что тебе повезло, потому что мужья, курящие трубки, — это раззявы из раззяв, их провести легче всего. Как это было с мужем Джойс пять лет назад. Знай себе пыхтят целыми днями, словно дети с соской во рту, и ни о чем и ни о ком не думают. Они слишком поглощены сами собой, чтобы заботиться о своих женах, и тут-то и появляются парни вроде Артура.
Он приехал на десять минут раньше и приготовился к долгому ожиданию, но Бренда уже стояла в тени какого-то бара. Они не виделись четыре дня, и для обоих часы, насыщенные самыми разными делами, тянулись страшно медленно. Из освещенного бара донесся стук кегельных шаров. Никогда не знаешь, рассуждал сам с собой Артур, в каком она придет настроении и в каком настроении буду я, после того как она развеселится и рассмеется. Он взял Бренду за руку, но она отдернула ее и угрюмо сказала:
— Не стоит здесь болтаться. Пошли куда-нибудь.
«Что это с ней», — подумал он.
Они медленно шли по Роупвок, направляясь в сторону тихого, тускло освещенного района больниц и докторских домов. Пахло деревьями и кустами, за невысокой оградой парка угадывались очертания особняков, построенных в конце прошлого столетия фабрикантами — владельцами кружевного производства; сейчас они терялись во тьме, а впереди мерцали разноцветные огни сортировочной станции.
Бренда еще и рта не успела открыть, а Артур уже понял, что ее что-то гнетет. Что-то стряслось, сказал он себе, ощущая, как ее тревога густо и физически ощутимо обволакивает их обоих.
— Может, скажешь все же, что стряслось? — Он остановил ее и, увидев выглядывающую из-под пальто бледно-голубую кофту, начал застегивать ее: первая большая коричневая пуговица, вторая, третья, четвертая. — И воротник пальто подними, — велел он.
— Не суетись, — отмахнулась Бренда.
Он обнял ее и поцеловал.
— Все хорошо, Бренда, — сказал он, — ты мне так нравишься.
Она и впрямь выглядела на редкость миловидной, именно потому, как ни странно, что чего-то боялась. Она обмякла, и тишина, нарушаемая время от времени звуками города, только подчеркивала округлость ее раскрасневшегося лица.
— Так скажи все же, в чем дело, цыпленок.
Бренда снова напряглась и отвернулась.
— Все та же старая история, — заплакала она.
Он не понял. Она никогда и ничего не говорила ему прямо, словно не хотела растревожить рану. Может, надеялась, что окольные пути позволят не пробудить гнев распорядителей людских судеб, обладающих властью подтвердить тот факт, что все пошло не так, а может, и того хуже.
— Какая старая история? — требовательно спросил он. — У нас с тобой в последнее время было полно старых историй.
— Ну что ж, если так уж хочешь знать, я беременна, и это точно.
«Ну и что?» — чуть не спросил он. Пусть даже беременна, что с того? Ты ведь замужняя женщина, не так ли? Так в чем дело? Была бы юная девушка, тогда другое дело.
— И это ты во всем виноват, — сварливо продолжала она. — Никогда не предохраняешься, когда мы занимаемся этим. Тебе просто наплевать. А я всегда говорила, что когда-нибудь это случится.
— Ну конечно, я виноват, кто же еще, — съязвил Артур. — Я вообще во всем виноват. Это мне известно. — Замечательный пятничный вечер, ничего не скажешь! Впрочем, не было бы этого, было бы что-нибудь другое. — Только я что-то не вижу, чтобы ты располнела, — добавил он.
— Ты что, спятил? — огрызнулась Бренда. — Всему свое время.
— Тогда откуда ты знаешь? — Всегда остается возможность ошибки, того, что она сама не знает, о чем говорит. Надеяться надо до самого конца, говорил он себе, даже когда ты угодил в ад и внутренности твои уже пожирает пламя.
— Ты мне никогда не веришь, Артур, — заплакала она. — Наверное, поверишь, только когда ребенка увидишь. — Она остановилась у ограды. Дождь прошел, они вглядывались в отдаленные огни.
— И все же откуда ты знаешь? — настаивал он.
— Оттуда, что у меня задержка на двенадцать дней. А это значит, что сомневаться не в чем.
— Всегда есть в чем сомневаться.
— В этом случае — нет.
Он знал, что она права. Иначе рыдала бы, в истерике билась, а это значит — надеялась. А сейчас он слышал в ее голосе одну лишь покорность судьбе. За последние несколько дней надежда испарилась, и она смирилась с неизбежностью.
— Ладно, — вновь заговорил он, — делать-то что будем? — Она хочет, чтобы я чувствовал себя виноватым, но мне вовсе не кажется, что произошло нечто страшное. На все воля Божья, что на это, что на оспу, например. Да, наверное, мне следовало бы быть поосторожнее, но какая радость крутить любовь с замужней женщиной, если пользоваться резинкой? Это только все портит. Тут ему пришло кое-что в голову.
— А с чего ты взяла, что это мой? — грубо спросил он.
Она вырвала руку и оттолкнула его.
— Что? Не хочешь признать себя виноватым? Получил свое — и в кусты?
— Да какая там вина? Нет на мне никакой вины. Я просто спросил, почему ты решила, что это мой ребенок. Ведь может быть и иначе, так?
— Твой, твой, можешь не сомневаться. С Джеком у меня уже месяца два или даже больше не было так, как с тобой.
Это как сказать, подумал он. Никогда нельзя быть уверенным.
— Ладно, что будем делать?
— Я знаю одно — мне он не нужен, это я тебе точно могу сказать.
— А ты пробовала? Я хочу сказать, избавиться пробовала?
— Принимала пилюли, но без толку. Между прочим, они мне стоили тридцать пять шиллингов. Таких денег у меня не было, пришлось одолжиться у Эмлер, это моя старая приятельница по работе. А сама я на мели.
Он нащупал в кармане две смятые фунтовые банкноты и сунул ей в ладонь. Она оттолкнула деньги.
— Я не это имела в виду, и ты это знаешь.
Тем не менее Артур запустил руку ей в карман и оставил там деньги.
— Да, знаю, но все равно возьми, не помешает. — Он громко выругался — затем, чтобы она поняла, что он переживает вместе с ней, и еще чтобы нагнать на себя дурное настроение. Был вечер пятницы, что уже само по себе предполагало довольство жизнью, и нужно было какое-то очень большое несчастье или тонна динамита, чтобы взорвать это чувство.
— Что толку ругаться? — спросила она. — Лучше придумай что-нибудь.
— Так ты точно не хочешь? — с надеждой в голосе спросил он.
— Тебе бы мозги не мешало проверить. — Ее смех горьким эхом отозвался на пустынной дороге и покатился дальше, к темным окнам домов.
— Это я знаю, — кивнул он. — Много раз собирался к врачу, только в очередях стоять не нравится.
— В таком случае тебе, наверное, понравилось бы, если бы я родила от тебя? — усмехнулась Бренда. — То-то бы обрадовался бы. Но не бойся. Этого не будет. Если хочешь детей, найди себе кого-нибудь еще. А у меня и так двое есть.
— В таком случае что изменится, если будет еще один? — возразил он. — Разве не так, цыпленок? — Он взял ее руку и сжал локоть. Случайный порыв ветра бросил ей на ногу пачку сигарет, и она отшвырнула ее в канаву.
— Нет, ты точно чокнулся, — сказала она. — Ты хоть себе представляешь, что значит родить ребенка? Девять месяцев пьешь всякую дрянь. Груди становятся большими, потом вся раздуваешься. Дальше в один прекрасный день орешь как резаная, и вот он — ребенок. Но все это еще куда ни шло. Ничего страшного. Главное начинается после — каждую минуту надо смотреть за ним. И так пятнадцать лет. Попробуй сам как-нибудь.
— Без меня, — мрачно бросил он. — Что ж, если ты так на это смотришь…
— А ты чего ждал?
Они снова двинулись в сторону длинного ряда окон на здании Центральной больницы.
— Схожу к тетке, — сказал он. — Она разбирается в таких делах. У нее четырнадцать детей, а еще бог знает от скольких она избавилась.
— Что ж, надеюсь, она что-нибудь подскажет, потому что иначе — жуть, настоящая жуть, ты уж мне поверь.
Он все никак не мог вполне разделить ее тревогу, всерьез отнестись ко всему этому, да и поведение ее не очень ему нравилось. Так ничего не добьешься.
— Не волнуйся, малыш, не пройдет и недели, как ты будешь в полном порядке. Ладно, я пошел, в воскресенье доложусь.
Но ночь, как говорят в кинофильмах, была еще молода.
Глава 5
Дождь и солнце, дождь и солнце, то тебе голубое небо, как в следующее воскресенье, то плотные облака, ползущие, словно воздушный материк, состоящий из молочно-белых гор, над башней замка — этой повернутой в сторону от города и увенчанной бурым песчаником гривастой львиной головой с разинутой пастью, готовой, кажется, поглотить замусоренное предместье, лежащее за излучиной Трента. Две нарядно, по-воскресному, одетые пары, направляющиеся в кинематограф, вошли с промозглого холодного воздуха в автобус, который, обогнув здание клуба «Хорз-энд-Грум» с плотно закрытыми сейчас дверями, оставил Артура одного на опустевшей дороге.
Он шел по Раддингтон-роуд, засунув руки в просторные карманы брюк глубже обычного, в препаршивом настроении, уныло думая, как хорошо было бы просто повернуться спиной к тем несчастьям, что обрушила на него в пятницу Бренда, вот так же, как он только что оставил на углу за спиной замок, и еще избавиться от головной боли, навалившейся на него в результате попыток потопить эти несчастья в жидком эле, какой варят в центральных графствах Англии. Кто бы только мог подумать? Бренда залетела, Бренда надулась, Бренда забеременела, и вот теперь он должен тормошить тетю Аду, чтобы она нашла способ, как сделать так, чтобы Бренда сдулась, и облегчилась, и то, что влетело, — вылетело. Любой ценой, сказала. Так надо. Но ведь так положено по природе, сопротивлялся он. Ну да, саркастически бросила она, положено, только вот тебе не повезло. А он все никак не мог взять в толк, зачем гнать волну, зато наконец понял, почему в нынешние счастливые деньки мужчины идут в армию: чтобы не задохнуться в дыму от пожара в доме соседа. Слишком много шума из ничего, а ты от этого должен страдать или, по крайней мере, присоединяться к общим стонам и завываниям, иначе жизни конец, ты оказываешься в какой-нибудь жалкой ночлежке, и все на свете тебя отшвыривают, как гнилое яблоко. Вот тут-то ты и попался. Вчера вечером Бренда рыдала, как ребенок, а он одной рукой стирал ее слезы, а другой подхватывал сопли, текущие из собственного носа из-за простуды, чтобы ей показалось, будто он тоже плачет, и она вернулась бы домой хоть немного утешенной. Но, едва оставшись один, он громко расхохотался, а потом напился в стельку, с трудом добрался до дома, поднялся наверх в одних носках, повесил свой пижонский костюм на вешалку номер один и заснул как убитый.
Посреди железнодорожного моста он повернулся и увидел все еще скалящийся на него львиный зев замка, его укороченного фронтона. Ненавижу этот замок, ненавижу, как никогда в жизни, с каким удовольствием бы заложил тысячу тонн тротила в тоннель, который называют Мортимеровой дырой, и отправил бы его в царство теней, чтобы его больше никто не видел. Кипя от ярости, он шел мимо домов и закрытых магазинов, и сильный пронизывающий ветер никак не способствовал избавлению от простуды.
Он толкнул калитку, ведущую к черному ходу в дом Ады. Там его ждала встреча с двадцатью, или сколько там их у нее, детьми, которые и слова не дадут сказать; впрочем, может, повезет, и дома никого не окажется, и можно будет тихо и мирно потолковать. Ладно, в любом случае лучше особо не откровенничать, не говорить, зачем мне понадобился ее совет. А то через пять минут всей семье будет известно. Новости распространяются с такой быстротой, что можно подумать, на каждой крыше установлен репродуктор.
Через открытую дверь он заметил, что унитаз в туалете треснул. Сарай для хранения угля полностью обвалился, потому что в свое время Ада с мужем устроили в нем курятник и сами сломали часть стены, натянув на ее месте проволоку, а потом, когда началась война, убрали асфальт и разбили садик в форме буквы V — победа. Оконные занавески с одной стороны порвались, но были чистыми, хотя задняя дверь, к которой вели три ступеньки, годами оставалась приоткрытой в любое время дня и ночи, потому что хозяин дома упорно отказывался ремонтировать давно просевший кафельный пол. Хотя аренду ему, подумал Артур, платят исправно. Нынче хозяевам везет — думать ни о чем не надо. А вот до войны свою арендную плату они могли получать от нас только через окружной суд.
— Кто-нибудь есть дома? — крикнул он из посудомоечной. — Выводи своих покойничков, тетя Ада.
— Заходи, Артур, — откликнулась она.
В лицо ему ударила горячая волна, исходящая из огромного, встроенного в стену камина.
— Смотрю, Дейв все еще работает в шахте. — Задыхаясь от дыма и жара, Артур поспешно сбросил пальто. — А твой выводок где?
— В кино пошли. — Стол, за которым она сидела, был заставлен грязными тарелками, оставшимися от воскресного обеда, и лишь появление Артура отвлекло ее от созерцания полыхающего в камине угля; в его пламени, словно в кристаллическом шаре, она видела прошлое, события которого, сколь печальными они ни были, сейчас захватывает как раз потому, что остались далеко позади. Это была женщина пятидесяти с чем-то лет, одетая в серое платье, с ухоженным лицом, лицом, которое Артур помнил округлым, но сейчас былую пухлость утратившим и вернувшим себе черты молодости, хотя и со следами возраста.
— Ну, как ты, птенчик? А что мама больше не заходит навестить меня? Неужели старый хрыч все еще не дает покоя? — Она потянулась к плитке за котелком и ловко поставила его на горящие угли.
— Да нет, папа угомонился. — Артур бросил пальто на диван. — Прилично себя ведет. Давно уже, с тех пор, как мы с Фредом выросли.
— Присаживайся, малыш, — сказала она. — Чай будет готов через десять минут. Хорошо, что ты заглянул. Воскресенье — единственный день, когда можно хоть немного отдохнуть, да и поговорить с кем-нибудь бывает приятно. Мне нравится, когда в доме никого нет. Здорово, что ты так следишь за своей одеждой, Артур. Каждому бы молодому человеку так, вот что я тебе скажу. Но знаешь, когда дети перестают беситься и бегать повсюду, кажется, будто в другом доме живешь. Эдди с Пэм и Майком уехали в Клифтон и вернутся, слава богу, не раньше шести. Они мне такую жизнь всю неделю устраивают, что хорошо хоть в выходные от них отдохнуть. А вчера вечером мы ходили в «Летающую лису», и я так набралась джина, что думала, домой не доберусь. Наша Бетти подцепила какого-то парня, и он целый вечер поил всю нашу компанию. Должно быть, не меньше пяти фунтов просадил, бедолага. Правда, у него есть машина, так что, видно, может себе это позволить, да к тому же решил, что с нашей Бетти у него теперь все сладится, но видел бы ты его лицо, когда она уехала с нами, а не с ним. Он уж собирался затеять скандал, но наш Дейв — он тоже там был — пригрозил отметелить его, если тот не отстанет. Ну, бедняга побледнел как смерть и укатил на своей машине. А наша Бетти говорит ему вслед: «Ну что же я за дура, надо было заставить его отвезти нас домой».
— Жаль, что меня там не было, — рассмеялся Артур, думая, как хорошо ему сидится с тетей Адой в этот холодный апрельский полдень в ожидании того, когда вскипит чай, но тут в мозгу у него снова застучал молоточек, напоминая о его тревогах. Больше всего ему сейчас хотелось бы заснуть — ощущение было такое, словно месяц не ложился в постель. От жара слезились глаза, мраморные часы на каминной полке что-то слабо пропели, словно птица, предчувствующая, что через пять минут ей придет конец, Ада пошевелила угли и переставила котелок. Буфет, занимавший большую часть комнаты, отъехал от стены и наклонился — кафель в этом месте выпал, — в результате чего образовалось довольно большое пространство между полом гостиной и крышей чердака, где трое сыновей тети Ады, дезертировавших из армии во время войны, прятали, после того как случится удачная охота, награбленные вещички, превратив его тем самым в своего рода банк, позволявший им поддерживать повседневное существование, пока они наслаждались свободой вдали от военного трибунала и последующего тюремного заключения. Над платяным шкафом висели две картины в удлиненных рамах — нечто вроде семейной реликвии: отец, ныне покойный, украл их и привез домой из Франции после другой, прошлой войны; до двадцатого года он служил в артиллерии капралом и был уволен из армии, по словам Ады, за то, что пил и сквернословил так, что даже у солдат уши вяли. На картинах, подаренных им Аде, были изображены две красивые девушки, стоящие на фоне пышно цветущих роз у мраморной балюстрады в шифоновых накидках, прикрывающих полные плечи. Додо погиб три года назад, когда его мощный мотоцикл, как пуля, пробил стену мануфактурной лавки у подножия холма. Весь перекосившись, вцепившись руками в крагах в руль мотоцикла, Додо уже понимал, что слишком поздно, что ему следовало бы повернуть раньше, и в последнюю перед аварией секунду, словно картечь, выплевывал изо рта все известные ему ругательства. Вот так и нужно умирать, думал Артур, с трудом соображая от жары и вызванной простудой лихорадки. Додо знал, чем ему грозит забывчивость и слишком поздний поворот.
У Ады теперь был другой муж, но новое замужество не умножило количества вышедших из ее чрева детей — оставались те же четырнадцать, от Додо. Она теперь и постарела, и помудрела для того, чтобы рожать дальше, и почивала на лаврах, наслаждаясь сумерками наступившего покоя. Ибо Додо обрушился на нее в свое время как бич божий, измучив жизнью на пособие по безработице, пьянством, визитами судебных приставов, а также кучей детишек, которые росли, обучаясь стоять за себя с таким неистовством, что единственной их школой стал Борстал[7], а единственной надеждой — джунгли. Ральф, нынешний муж Ады, был человек кроткий. Он привел с собой в дом пятерых детей от первого брака — отсюда слух о том, что всего их теперь в доме двадцать, — и ничего так не хотел, как мирной жизни, после того как жена его умерла от туберкулеза, а у восемнадцатилетней дочери тоже началось кровохарканье. Но сыновья и дочери Ады не были воспитаны в мире, и жизнь его стала даже тяжелее, чем раньше, тем более что, как выяснилось, он ревновал Аду. В свои пятьдесят она все еще выглядела как пышка-официантка и была наделена доброй душой, заставляющей ее выслушивать россказни любого мужчины, и рыдать ему в пивную кружку, и даже приводить домой и укладывать в постель, если, по ее мнению, от этого ему будет лучше. Ральфу это не нравилось, до поры он сдерживал себя, но в какой-то момент взорвался, потому что ведь и с ним случилось то же самое — с той лишь разницей, что он пришел в дом с оковами в виде мебели и пятерых детей, да так и остался. У него было неприятное предчувствие, что в один прекрасный день она вот так же приветит и какого-нибудь другого несчастного. Старший сын Ады Дейв купил пластинку с записью «Ревности», и всякий раз, когда Ральф заговаривал о своем мягкосердечии и корил Аду за то, что она обращает слишком много внимания на мужчин, когда они оказываются в баре или пабе, включался проигрыватель, и проклятый диск начинал вращаться, издавая меланхолические звуки танго, рвущие доброе сердце Ральфа. Однажды в субботу вечером, под отчаянные стоны Ады, он, услышав знакомую мелодию, набросился на Дейва; тот справился с ним одним ударом, но при падении Ральф успел схватить и проигрыватель, и пластинку и изо всех сил шмякнуть ими об пол. С тех пор Дейв и другие удовлетворялись тем, что просто включали на полную мощь транзистор, когда в программе «Любимые мелодии» по заявкам семей или военнослужащих передавалась «Ревность». Ральф был отзывчивым человеком и дарил Аде — насколько это было в его силах, ибо ее сыновья характером и нравом пошли в Додо, — покой, которого она никогда не знала. После войны, когда военная полиция перестала наконец преследовать ее сыновей, жизнь их вошла в нормальную колею. У всех была работа, все регулярно несли деньги в дом, так что ей уже не нужно было беспокоиться, что может случиться, если времена переменятся. Теперь настоящий шум в доме поднимался только по вечерам в субботу, когда объявление результатов очередного футбольного турнира раскалывало его пополам. Но уже на следующее утро, когда по радио передавали песни по семейным заявкам, вновь наступал мир.
Пока Артур смотрел на огонь, Ада накрыла стол к чаю, достала из буфета батон колбасы, спрашивая попутно, как дела, как он в последнее время себя чувствует, как если бы Артур недавно чем-то переболел. Такие вопросы она обращала к любому, кто бы к ней ни пришел или с кем бы она ни столкнулась на улице, и можно было подумать, что Ада всю жизнь провела среди больных, хотя на самом деле это было не так. Артур ответил, что чувствует себя хорошо, иное дело, что ему надо с ней кое о чем поговорить.
— Как! — воскликнула она, появляясь из посудомоечной с бутылкой соуса и водружая ее на стол. — Неужели такому симпатичному молодому человеку есть о чем беспокоиться?
Он снял котелок с розовой угольной клумбы и вылил обжигающую жидкость в заварной чайник:
— Да вовсе я не беспокоюсь, тетя Ада, ты же сама знаешь, я вообще никогда не беспокоюсь. Это касается одного моего приятеля с работы. Понимаешь, из-за него попала в беду одна молодая женщина, и он не знает, что делать. Попросил меня помочь, но и я тоже не знаю. Вот и пришел к тебе посоветоваться.
Ада поцокала языком и села за стол.
— Да, не повезло бедняге, — проговорила она с выражением покорства судьбе. — Это же надо быть таким дураком, чтобы довести девушку до беды. Неужели нельзя было поосторожнее? Что ж, придется ему теперь дослушать музыку до конца, как нашему Дейву.
Артур вспомнил: Дейв обрюхатил женщину, оказавшуюся самой последней потаскушкой — тощей, злобной, с крысиным личиком шлюхой, которая хотела содрать с него все до последнего пенни, пока наконец он не пригрозил сбросить ее ночью с моста через Трент, и только тогда она согласилась не доводить дело до суда в обмен на фунт в неделю.
— Ладно, — кивнул он, — сделать-то что-нибудь можно? Я хочу сказать… — А вот как сказать, он и не знал; откровенно он с теткой никогда раньше не разговаривал и теперь сам дивился, с чего взял, что это будет так просто. — Словом, иногда ведь удается как-то избавиться от этого. Таблетки, или что там, верно ведь?
Она наливала чай в большую белую кружку, но при этих словах, задержав ложку в сахарнице, резко остановилась, и на ее стареющем лице появилось пытливое выражение. Он впервые заметил, что у нее не хватает зубов.
— А тебе откуда про такие вещи известно?
— В воскресных газетах прочитал, — улыбнулся он, ощущая себя, однако, преступником; примерно такое же неприятное чувство он испытал, когда, получив военный билет, впервые направлялся в казарму.
— Не надо бы тебе ввязываться в такие истории, — назидательно сказала она. — Неизвестно, чем все это может окончиться.
— Говорю же тебе, речь идет о приятеле. Это он вляпался в историю, и мне хочется его выручить. Нельзя же бросать друзей в беде. Он хороший парень, и, окажись я на его месте, поступил бы точно так же.
— А ты уверен, — она посмотрела на него с подозрением, — что это он, а не ты вляпался?
Он ответил ей невинным, почти потрясенным взглядом оскорбленной добродетели. Ври до посинения, был его девиз, ври, и рано или поздно тебе поверят.
— Лучше бы уж я, а не товарищ, — серьезно сказал он, — тогда бы я так не переживал. Но в беду попал он, и я должен ему помочь. А иначе для чего существуют друзья?
— Не знаю, что тебе и сказать. — При демонстрации такой преданности Ада смягчилась. — С этими вещами связываться опасно. Я знала одну женщину, которая угодила из-за этого в тюрьму. — Она медленно отхлебнула чая.
— У этой девушки задержка почти на две недели, — пояснил Артур. — Она принимала пилюли, но не помогло.
— Тогда, насколько я понимаю, единственное, что она может попробовать, — это горячая ванна и горячий джин. Пусть сидит два часа в кипятке, сколько выдержит, и запьет пинтой джина. Должно сработать. Ну а если нет, придется рожать, вот и все.
Входная дверь с грохотом распахнулась, и в передней раздался стук множества башмаков. Тяжело дыша после стремительной пробежки от автобусной остановки до дома, передовой отряд выводка скидывал с себя пальто.
— Вернулись, — лаконично констатировала Ада.
Джейн, Пэм, Майк и Эдди ворвались в комнату, громко требуя чая. Артур отодвинул в сторону свою пустую тарелку и чашку. Как раз вовремя, поздравил он себя.
— Умойтесь сначала, — скомандовала Ада. — Все равно надо дождаться, пока чайник вскипит.
Джейн, крупная рыжеволосая девица, бросилась на диван, и Артур заметил, как всколыхнулась у нее под свитером тугая грудь.
— Свиньи твои, что ли, весь чай вылакали? — наливаясь краской, с негодованием спросила Джейн.
— Попридержи язык, иначе вообще ничего не получишь, — замахнулась на нее Ада.
Очередная домашняя свара. Додо оставил после себя достаточно боевое наследие, чтобы его дух постоянно витал в доме. «Если бы это были мои дети, я бы им так не спустил», — подумал Артур.
Следующей досталось Памеле — за то, что она слишком громко включила транзистор. Это была четырнадцатилетняя копия Джейн, только с лицом подобрее и грудью поменьше, с такими же веснушками на руках и такими же огненно-рыжими волосами. За ними появились вернувшиеся из кино Берт и Дейв, и в попытках призвать к порядку Джейн и Пэм разом устроили в комнате оглушительный шум. Один орал: «Заткнись и не лезь в чужие дела», другой: «Сам жри свою колбасу с этих грязных тарелок». Спустился в длинных, до подошвы, панталонах Ральф, дремавший у себя наверху и разбуженный доносящимся снизу криком.
— Чего разорались, черт бы вас побрал? Потише нельзя? — прорычал он, открывая лестничную дверь и держа в одной руке ботинки, а в другой — спортивную страницу сегодняшней газеты. Лицо его перекосилось от бессильной ярости. Но никто — что Ральф сразу отметил — и головы в его сторону не повернул, так что он шагнул к огню и угрюмо присел на скамейку, чтобы надеть башмаки. Ада налила ему чая.
Артур вышел в соседнюю комнату сыграть с двоюродными братьями в покер. Заперев дверь — чтобы предотвратить внезапное наглое вторжение из гостиной, — они включили верхний свет и расселись за круглым полированным столом. Дейв поднял стоявший посередине горшок с цветами и поставил его на пол, у окна.
— Только не жульничать, — предупредил Берт.
— Тот, кто в этом доме попробует жульничать, будет иметь дело со мной, — воинственно заявил Дейв, явно в ответ на какую-то былую обиду. — И это прежде всего относится к тебе, Берт. На прошлой неделе ты меня на семь шиллингов наколол, три короля у него, видишь ли, откуда-то взялись. — Он выхватил колоду из рук Берта, который уже приготовился сдавать, и начал, багровея лицом и наклонившись к партнерам, пересчитывать карты.
— Давайте я сдам, — вызвался Артур. — Уж мне-то можно доверять, я в жизни не жульничал, это я вам точно говорю.
— Когда так говорят, верить нельзя, — недовольно возразил Берт и повернулся к Дейву, сжимая от ярости кулаки. — Смотри, еще раз вот так вырвешь у меня карты — получишь.
— А ты, сука, не жульничай, — огрызнулся Дейв. — Поделом тебе.
Артур раздал карты: другим обычные пять, себе, незаметно для них, — семь, и две самые младшие, пока Дейв и Берт рычали друг на друга, сбросил на колени. Из гостиной доносились глухие удары и громкие голоса.
— Нет, вы только послушайте, — невинно обронил Артур. — Про деньги заспорили.
— Ну да, про кормушку, — загоготал Дейв и, увидев свои карты, насупился.
— Блефует, — сказал Берт. — Наверняка у него флеш-рояль.
— Рояль-флеш, задница ты этакая. — Дейв не стал менять и бросил карты на стол вверх рубашкой. Берт поменял две, улыбнулся и подтолкнул шиллинг на середину стола. Артур перетасовал свои карты и добавил полкроны.
— Спокойно, — сказал Дейв. Он вышел из торговли. — Это большие деньги. Нельзя так играть.
— Да блефует он, а то я его не знаю, — уверенно заявил Берт и удвоил банк.
Но Артур не блефовал.
— Принимаю, — сказал он и раскрыл карты.
Валет — дама — король — туз треф. Семь шиллингов перекочевали к нему в карман.
— А сколько у тебя карт? — подозрительно спросил Берт.
— Столько же, сколько и у тебя. — Явно обиженный подобным недоверием, Артур поджал губы. В чем, собственно, дело? Он просто увеличил банк до пятнадцати шиллингов.
Один из братьев воспринял его победу с юмором, другой с неудовольствием, на что Артур ответил:
— Жульничество? Конечно, жульничество. Я всегда жульничаю, разве вы не знали? — Из чего они заключили, что никакого жульничества не было. Он перемешал и незаметно вернул в колоду с полдюжины секретных карт.
Артур с Бертом отправились в центр города промочить горло. На мосту было темно. Замка не видно, он скрывается где-то позади, в ночной пелене тумана, дыма и темноты. Со складских дворов, заболоченных берегов канала и ручейков с их мелкой живностью донесся порыв ветра, заставив Берта обрушить проклятья на апрельскую сырость, а Артура застегнуть пальто.
Берт был приземист, голубоглаз, несдержан — настоящий сын своего отца. Он понимал, что опасность — это опасность и ничего хорошего в ней нет, но бросался в бой очертя голову и дрался до конца, пока единственное, что еще можно было разглядеть в свалке, были его курчавые светлые волосы. Этому его научили исправительные колонии и Борстал. Его братья, уходя от полиции, выказывали храбрость едва ли не большую, чем если бы их гнали винтовками и штыками на передовую. Но Берт был почему-то похож на Додо больше других и из армии сбежать никогда не пытался. Более того, он сбавил себе год, и в семнадцать лет его бросили в последнее наступление на Рейне, и он вернулся из этой мясорубки целее, чем его братья, служившие в доблестных рядах дезертиров. Берт, говорила Ада, — вылитый отец, потому она его так и любила. А еще за смышленость и чувствительность — это уж он унаследовал от матери. Берт так и не дал Ральфу заменить в доме Додо. Додо был тяжел на руку и не терпел возражений — настоящий диктатор, а теперь на прочном троне восседала Ада, а Ральф — у подножия, принц-консорт, которого Берт, лорд-протектор, всегда грозил вздуть, стоило тому повысить на жену голос.
Они молча спустились по мосту, пересекли Замковый бульвар, миновали «Вулворт» с затемненными витринами и свернули в переулок, направляясь в захолустный паб за первой на сегодняшний вечер пинтой. «Может, попробуем снять телок?» — предложил Берт, но поскольку в этом районе ничего интересного не оказалось, они неторопливо проследовали дальше, пока не добрались до Ноттингем-Роуз. Тут им вроде бы повезло больше, но две симпатичные бойкие девицы, сидевшие с ними до закрытия паба и заставившие их раскошелиться на тридцать шиллингов, в последний момент продинамили и вскочили в автобус. Вот и побрели Артур с Бертом через оживленную Слэб-сквер, а потом вниз, в сторону дома.
Вместе с сыростью от канала навалилась тоска, и Артур задумался о бедах Бренды, которые, казалось, давили на него сейчас сильнее, чем прежде.
— Что ж, — сказал Берт, — пошли домой, поужинаем. Думаю, мама приготовила нам мясо.
Лучше не придумаешь, решил Артур. Улицы почти опустели. Продребезжал, направляясь в депо, припозднившийся автобус — все освещение включено, на задних сиденьях съежились кондукторы, судя по виду, уставшие до смерти.
— Еще раз встречу этих двух шлюшек, — Берт нащупал в недрах кармана пальто чинарик и чиркнул спичкой, — голову сверну. — Они сошли с тротуара и пересекли мощеную дорогу.
— Все, что им нужно, — эль, — отозвался Артур. — Но, с другой стороны, чего от них ждать? Когда снимаешь телку в пабе, это всегда большой риск. Может, даст, а может, и не даст.
Берт проворчал, что им бы только ободрать парня как липку, но к Артуру вернулись его тревоги, и, проходя мимо биржи труда, он испытал вдруг пьяное желание лечь в стоявшее у стены корыто с водой для лошадей и утопиться в нем. Он рассмеялся: слишком мелко, да и холодно. К тому же разве Ада не дала ему хороший совет? Он от души надеялся, что совет действительно хорош и все сработает как надо. В витрине спортивного магазина тускло мерцали новейшие образцы велосипедов, между которыми смутно угадывалась картонная фигура склонившегося в придворном поклоне сэра Уолтера Рэли. Берт, чувства которого были сильно обострены незадавшимся вечером, остановился и повернулся, привлеченный чем-то лежащим на земле: какой-то запах, слабые звуки, интуитивное ощущение того, что на каменном полу в дверном проеме что-то шевелится. Артур, которому хотелось как можно быстрее добраться до холодного мяса, нетерпеливо спросил, в чем дело. Берт забыл про шлюх-пиявок.
— Какой-то бедолага надрался, — сказал он, наклоняясь над распростертым телом. — Пьян в доску, — ухмыльнулся он. — И несет, как из помойки.
Артур пнул тело каблуком, Берт велел пьяному подняться.
— Нельзя так валяться. Простудишься и сдохнешь. — Артур, проявляя больше интереса к происходящему, чем вначале, отметил, что голова у лежащего не покрыта, одежда старая и потертая на локтях. Несмотря на холод, пальто на нем не было; брюки из-за позы, в которой он лежал, задрались до лодыжек и обнажили ноги — в ботинках, но без носков. Лет пятьдесят, прикинул Артур.
— Надо его поднять, — сказал Берт, но оторвать от земли удалось только плечи и голову. Мужчина бубнил что-то, но не вставал.
— Эй, приятель, поднимайся, а то копы сцапают.
Мужчина снова заворчал, глаза его закатились, словно в попытке исторгнуть выпитое — должно быть, не меньше пятнадцати пинт. Внезапно по всему его телу, с головы до пят, пробежала судорога, мужчина предпринял отчаянную попытку подняться, но с тяжелым вздохом откинулся назад. Артур обвел взглядом дорогу, убеждаясь, что полиции поблизости нет.
— Если мы его не поднимем, проснется в камере, и штраф как пить дать влепят. У нас сейчас мэром Рэнклинг, а это тот еще гад.
Берт принялся трясти мужчину до тех пор, пока тот не издал горлом булькающий звук и не открыл глаза.
— Эй, приятель, где твоя хата? Живешь, спрашиваю, где?
Мужчина медленно сложился, как перочинный нож, и перекатился на бок. Берт подсунул ему кулаки под мышки, сильно надавил на ребра и держал так до тех пор, пока он не встал на ноги. При свете уличного фонаря стало видно, что у него заплыли оба глаза. Берт сказал, что вид такой, будто его порядочно избили. Оба крепко взяли мужчину под локти и повели по дороге к мосту. У следующего фонаря Артур остановился и прокричал ему прямо в ухо:
— Приятель, живешь-то где? Наверное, надо его домой отвести. — Он повернулся к Берту.
Губы у мужчины распухли от выпитого и почти не шевелились, ничего членораздельного он сказать не мог. Наконец губы все же разомкнулись. Он поднял руку, она тут же бессильно упала. Берт с Артуром разобрали название улицы, но не дома. Будь глаза у него открыты, губы могли бы сложиться в подобие улыбки. По-прежнему удерживая мужчину под руки, они продолжали свой путь, а когда, решив, что он способен передвигаться самостоятельно, попробовали отпустить, тот рухнул на мостовую, и им стоило немалых трудов вновь его поднять. Берт болтал с ним, будто он вовсе и не был пьян, спрашивал, как прошел вечер, много ли он выпил. Сам Берт представился Миком, нового приятеля называл Пэдди и любопытствовал, из какой он части Ирландии, приходилось ли ему прикасаться губами к Камню красноречия[8] и работать в дублинской пивоварне Гиннеса.
Мужчина жил на длинной прямой улице, ведущей от железнодорожного вокзала к мосту. Артур еще раз протрубил ему в ухо в надежде узнать все же номер нужного дома, но ответа не дождался.
— Все ясно, — сказал Берт. — Как-то раз, когда мама не пустила Додо домой, он переночевал в какой-то ночлежке. На этой улице вроде есть что-то похожее. — Мужчина висел на них мертвым грузом, его башмаки просто бессильно волочились по мостовой. Когда они приблизились к целой цепочке домов-пансионатов, Берт ткнул его в бок:
— Ну, Пэдди, который из них?
— Вон тот, — с трудом прохрипел мужчина и указал пальцем на железную калитку.
Артур поволок его по гравиевой дорожке, Берт придерживал калитку, чтобы не слетела ненароком с петель.
Мужчина оттолкнул руку Артура.
— Пусти, — сказал он, наваливаясь на дверь и пытаясь повернуть ручку.
Артур первым нащупал ее, ощущая рукой исходящий от бродяги жар, и когда открыл, тот мешком рухнул прямо на пороге. Через час-другой он проснется от холода, подумал Артур, и доберется до постели. Он затащил его внутрь, закрыл дверь и вернулся на дорогу. Берт шел рядом.
— Мы спасли его от ночи в тюряге, — сказал Артур, открывая пачку сигарет. — Хотя, кажется, этот гад не очень-то нам признателен.
— Я его бумажник обшарил, но в нем пусто, как в пещере. — Берт протянул Артуру бумажник мужчины.
Это был дешевый, синего цвета кошелек, пропахший потом, словно он годами был прижат к потной груди какого-нибудь ниггера-экскаваторщика. Еще от него несло табаком, а одно из отделений служило чем-то вроде кисета для какой-то крепкой смеси. Берт был прав. В бумажнике не оказалось ничего, кроме крохотной газетной заметки, аккуратно вырезанной из полосы, на которой печатаются объявления о вакансиях. Артур смял ее и бросил на мостовую, откуда бумажка скатилась в кювет.
Глава 6
Пышное тело Бренды еще глубже скользнуло в зев длинной цинковой ванны. Вода становилась нестерпимо горячей, но она издала вздох, долженствующий означать, что так ей лучше, чем раньше, и сказала:
— Еще черпак, Эмлер.
Артур облокотился о буфет. Он был сердит и угрюм и, хотя в помещении нечем было дышать, все никак не мог заставить себя расстегнуть пальто, как если бы именно оно защищало его от духоты, паров джина и непредсказуемых женщин. Наскоро выпив чая и переодевшись, он вскочил в автобус и поехал к Бренде, категорически потребовавшей, чтобы он присутствовал при церемонии «избавления». Помощь в этот знаменательный вечер ей должна была оказывать старая приятельница по совместной работе на чулочной фабрике, особа, по слухам, немного чокнутая. Едва Джек ушел в ночную смену, а дети были отправлены до десяти в кино в сопровождении соседской девицы, чьи услуги были щедро оплачены, как из подвала, где хранится уголь, была извлечена ванна, из буфета — бутылки с джином, и Эмлер протиснулась в посудомоечную, чтобы развести огонь и вскипятить воду. Открыв заднюю дверь, Артур узнал ее и в удивлении подался назад: он ожидал увидеть кого-то незнакомого. Во всех пабах Эмлер знали как фантастическую сплетницу, и Артур сразу же представил себе, как уже завтра новость разнесется по всем питейным заведениям города. Но тут он вспомнил, что она слегка чокнутая, так что даже если ее рассказу кто и поверит, прозвучит он так путано, что правду от вымысла не отличишь. Так что он просто улыбнулся, кивнул — «привет, цыпленок» — и прошел в просторную кухню, где стол был уже передвинут к окну, а на его месте, посреди комнаты, установлена цинковая ванна.
Эмлер придерживала на огне ведро с кипящей водой.
— Не знаю, не знаю, — явно сочувствуя страданиям Бренды, приговаривала она таким тоном, что Артуру хотелось ее придушить. — Не знаю, — повторяла она, зачерпывая из ведра воду алюминиевым черпаком и тонкой струйкой направляя ее в ванну, так что все новые клубы пара поднимались кверху и расползались по потолку. — Не знаю, право, не знаю.
— Ты кончишь когда-нибудь причитать? — буркнул Артур.
— Обои портятся, — заметила Бренда, подмигивая ему. — В прошлый раз все слезли, Джек страшно разозлился. — Она весело засмеялась.
— А куда он, кстати, делся, ему надо бы здесь быть, — злобно фыркнула Эмлер. — Если бы хоть немного мозгами пошевелил, понял, что все это из-за него. Но разве от мужчин дождешься, чтоб они мозгами пошевелили?
Артур усмехнулся. Она думает, что это от Джекова ребенка Бренда старается избавиться. Не поймешь, как в ее помраченном сознании объясняется его, Артура, присутствие в доме.
— Веселее, малыш. — Бренда посмотрела в его сторону. — Все будет хорошо. Глотни джина. Эмлер, налей Артуру.
Ему сунули в руку полкружки, но, едва отглотнув, он скривился и отставил ее в сторону.
— Что, не нравится? — громко окликнула его Бренда и приветственно помахала из ванны рукой.
— Яд.
— Вырви глаз, — пояснила она, и на ее лице появилось мечтательное выражение, подчеркнутое ярким светом электрической лампочки. — Не оторвешься.
— Неудивительно, что Эмлер на него налегает. Если дело и дальше так пойдет — глядишь, последние мозги потеряет. — С момента его появления Эмлер уже успела прикончить целую кружку.
— Да нет, — возразила Бренда, — она вроде меня, знает, когда остановиться.
— Вот именно, — подтвердила Эмлер, помешивая угли в камине. — Я выросла на этой штуке.
— Оттого, наверное, такая умная, — съязвил Артур.
— Да уж не глупее тебя, — вскинулась Эмлер. — Поумнее вас, мужчин, буду, не сомневайся.
Бренда потянулась за кружкой горячего джина, при этом на лбу у нее выступили свежие капли пота, скатились по лицу на шею и стремительно побежали дальше, по ложбинке между грудями и в ванну. Она сделала большой глоток и тяжело уронила руку, возмутив спокойную поверхность обжегшей кожу воды.
— Не знаю, не знаю, — простонала Эмлер, — право, не знаю. Не нравится мне смотреть, как ты мучаешься.
Но Бренде не нравилась угроза отказа от задуманного, она вскипела, насколько это позволяла горячая вода.
— Так нужно, — сказала она.
— Слушай, может, заткнешься все-таки? — Артур мрачно посмотрел на Эмлер.
Та выдержала его взгляд.
— Это ты заткни пасть, — огрызнулась она.
Артур зажег сигарету и бросил не догоревшую спичку в камин — она едва не задела ее лица.
— Выпей, цыпленок, лучше будет. — Эмлер протянула Бренде очередную порцию джина.
Та сделала несколько глотков и поставила кружку на сиденье стула.
— Слишком горячий, — пожаловалась она.
— Долить воды?
— Чуть-чуть.
Эмлер плеснула немного воды в ванну.
— Еще?
— Пожалуй.
— Прям сердце разрывается, — вздохнула Эмлер. — Неужели ничего не помогло?
— Принимала, сколько можно. — Бренда потянулась за джином. — Но, понимаешь, уже больше двух недель.
— Тогда лучше бы родила. Отдала бы мне ребенка. Я бы ухаживала за ним, растила, холила, можешь не сомневаться.
— Да я и не сомневаюсь, — улыбнулась Бренда. — Ты у меня золото, но, понимаешь, Эмлер, нельзя. Слишком бы много всяких проблем получилось. — Она отхлебнула джина и, чувствуя, как он обжигает желудок, поморщилась.
Эмлер вытащила из ее красной сумочки сигарету в мундштуке, но Бренда не позволила зажечь ее и сунуть себе в губы.
— Промокнет. Лучше добавь еще воды. — Глаза у нее закатились, и последние слова она почти проглотила. — Довольно, — сказала Бренда, когда вместе с четвертым черпаком вода дошла ей до пояса.
Артур скинул наконец пальто и, вытянув ноги на ковровой дорожке, курил сигарету за сигаретой. Он смотрел, как расплываются черты Бренды, как искажается выражение ее лица под воздействием огненного джина и горячей воды. Все, это никогда больше не повторится, говорил он себе, никогда. Никакого кипятка. Никогда. Скорее горло себе перережу. Он почувствовал себя пьяным, хоть и выпил всего глоток джина. Каким-то образом он сделался участником этой сцены, сидя между двумя женщинами у горящего камина, задыхаясь от пара, поднимающегося от ванны. Он перевел взгляд вниз, словно перед ним возник экран телевизора, но теперь не принимал участия в передаче. Подлинным оставалось только то, что происходило внутри его. И эта реальность, удостоверенная тяжелой усталостью, накопившейся после целого дня работы, и усиленная бьющей его лихорадкой, не менялась. Сигареты пахли навозом, но он курил. Он бы не отказался от кружки пива, однако в доме пива не держали, а выйти в паб он не мог, потому что не в силах был покинуть подмостков, к которым, казалось, его привинтили гаечным ключом. А когда ему все же удалось ослабить зажим, он почувствовал, что если попробует уйти, то обе женщины набросятся на него и разорвут на куски.
Эмлер со слезами в голосе твердила, что хочет уложить Бренду в кровать:
— Хватит уже, достаточно, теперь все будет в порядке.
У Бренды широко открылись карие глаза; она добродушно обвела взглядом комнату, словно просто принимала перед сном субботнюю ванну.
— Нет, — прохрипела она, — не будь дурой, так легко такие вещи не делаются, это точно. — Она повернулась, словно собираясь с силами, но от этого слабого движения по воде пошли пузыри, Бренду обожгло с новой силой, она застонала и закрыла глаза.
Артур подошел, наклонился, поцеловал ее влажный лоб и губы:
— Скоро все кончится, малыш.
— Да, да, знаю. У тебя доброе сердце, Артур.
Все, это никогда не повторится, сказал он себе. «Но неужели, — продолжал Артур внутренний разговор, — вся эта суета так уж необходима?» И еще он упорно не мог взять в толк, как они с Брендой такое допустили. Никогда.
— Держи, цыпленок, — в голосе Эмлер прозвучала боль, — выпей. — Ни слова не говоря, Бренда поднесла кружку к губам и тут же, не сделав и глотка, оттолкнула ее.
— Выпей, малыш, — проговорил Артур. Бренда повиновалась и слегка пригубила джин. Эмлер не умолкала, чтобы не дать Бренде держать глаза закрытыми и потерять сознание, спрашивала, когда она в последний раз делала завивку и где Джек, говорила, что это его штучки и следовало бы ему быть дома в такой момент. Бренда открыла глаза и приподняла голову:
— Ничего подобного, — возразила она. — Как раз наоборот. Откинь мне волосы с глаз, подруга. Джек предпочитает быть на работе, когда такое случается.
— Ну и неправильно это, — сердито откликнулась Эмлер. — Мужчины уверены, что им все сойдет с рук. — Она с откровенной ненавистью посмотрела на Артура.
Тот ухмыльнулся, и Эмлер отвела взгляд, вновь протянув Бренде кружку с джином.
— Много там осталось? — спросила она.
Эмлер заглянула внутрь.
— Половина, — приврала она.
Кожа на теле Бренды ниже пояса сделалась розовой, как у молодого лосося. Делая маленькие глотки, она откинула голову назад, не нашла точки опоры, снова подалась вперед и в конце концов наклонилась немного в сторону. У Артура тоже силы были на пределе. Из-за лихорадки его клонило в сон. Лицо Бренды тонуло в паре, в комнате было так жарко, и воздух настолько пропах джином, что временами он терял представление о том, где находится. Коротко обрубленные ножки стола, выглядывавшие из-под клетчатой скатерти, походили на ноги кухарки, выглядывающие из-под фартука, а массивный кухонный шкаф, зеркало которого полностью запотело, походил на баржу с углем, исчезающую в черном тумане. Стулья, диван, на котором Бренда разложила свою одежду, превратились в мокрые пятна, какие выступают на подоконниках. Артур встрепенулся, когда из потных пальцев Бренды выскользнула стеклянная кружка с джином, и Эмлер, словно подброшенная пружиной, сорвалась с места, сбила по дороге шаткий стул, но не дала-таки напитку пролиться на ковер, после чего насухо вытерла Бренде полотенцем ладонь и вернула ей кружку.
— Совсем немного осталось, цыпленок, — ласково проговорила она.
— Не хочу. Меня сейчас стошнит. — Бренда оттолкнула ее руку.
— Это для твоей же пользы, — стояла на своем Эмлер.
— Выпей, — мягко попросил Артур. — Еще капельку, цыпленок. — Запах джина пробил заложенный нос, и Артур почувствовал, что, похоже, немного загрипповал.
— У меня голова кружится, — пожаловалась Бренда.
Эмлер добавила воды в ванну.
— Не закрывай глаза, — сказала она, внимательно глядя на Бренду, — тогда и голова кружиться не будет, малыш.
— Да они сами закрываются. — Бренда попробовала сделать глоток, но джин полился у нее изо рта. — Мать меня этому не учила, — протянула она и повторяла, повторяла эту фразу, пока ее стало невозможно разобрать. Тогда она запела тонким кошачьим голоском.
— Перестань, цыпленок, — увещевающе сказала Эмлер и повернулась к Артуру. — А ты ублюдок. Грязный ублюдок.
— Кто ублюдок? — Он подпрыгнул от изумления. — Идиотка, уродина, тварь!
— Глотни, цыпленок, — повторила она. — Ну же. Еще капельку. И держи глаза открытыми, тебе лучше будет.
Бренда наклонила стакан и сделала глоток, потом, не говоря ни слова, тупо посмотрела прямо перед собой. Лицо ее побледнело, губы плотно сжались. Эмлер стерла у нее полотенцем пот с лица, откинула со лба прядь волос и добавила в ванну горячей воды.
— Смотри, совсем чуть-чуть осталось. — Она протянула ей кружку.
— Я думала, уже все! — У Бренды скривились губы. — Не могу больше, вырубаюсь, — прорыдала она.
Эмлер скосилась на кружку с остатками джина на дне.
— Оставь ее в покое, — сказал Артур. — Игра сыграна.
— Заткнись, — резко бросила она, — это моя работа.
— Так и работай. — Артур закурил очередную сигарету.
Бренда вдруг поднялась на ноги, ее разгоряченное, с побагровевшей кожей тело раскрылось перед ним, словно роза в полном цвету. Она пошатнулась, но удержалась на ногах и ступила из ванны на ковер. Эмлер досуха вытерла ее, придерживая одной рукой.
— Помочь? — предложил Артур.
— Нет, спасибо, — незамедлительно последовал ответ, — как-нибудь сама, без твоей помощи справлюсь, большое тебе спасибо. — Она потянулась к лежащему на диване халату, при этом полотенце соскользнуло, и ее, совершенно нагую, повело в сторону огня. Артур первым перехватил ее, но Эмлер ревниво оттолкнула его и сама обхватила полное тело Бренды, пытаясь в то же время натянуть на нее халат.
— Спокойно, Бренда, держись. Дай мне застегнуть пуговицы.
— Скажи, если нужна моя помощь, — предложил Артур, откинувшись на спинку стула.
— Заткнись, говорю тебе, ублюдок, — огрызнулась Эмлер. — Когда-нибудь ты у меня получишь.
— О господи, в жизни такой дуры не видел. Паскуда косоглазая, — ровным голосом произнес он.
Бренда слегка пошевелилась, прикрыла тяжелыми веками выпученные глаза и без чувств опустилась на ковер. Эмлер бросилась в посудомоечную за чашкой холодной воды и принялась поливать лицо Бренды, пока у той не открылись глаза. Эмлер напряглась, умело поставила ее на ноги, подвела к лестничному барьеру и откинула его, открывая путь наверх.
— Пошли уложу тебя, цыпленок, — уговаривала она Бренду. — Все кончилось. Ляжешь, выспишься и все забудешь. — Они поднимались по лестнице со скоростью улитки. Время от времени Эмлер приходилось помогать Бренде подняться на очередную ступеньку, сберегая, таким образом, ей силы. Артур, наблюдавший за ними сзади, благодарил Бога за то, что Эмлер все взяла на себя, и даже, в какой-то момент преисполнившись чувств, простил ей «ублюдка».
— Ну же, Бренда, давай, — говорила тем временем Эмлер. — Давай, цыпленок. Еще шажок. Вот так. Теперь еще один. И еще. Скоро поднимемся. Уверена, у нас все получилось. Еще шаг.
Бренда вдруг на мгновенье протрезвела и отчетливо выговорила со смехом:
— А мне все равно, получилось или не получилось. Теперь мне все равно.
Эмлер усадила ее на кровать. Бренда упала на подушки, вытянулась, вздохнула и немедленно провалилась в сон. Артур стоял на пороге, глядя, как Эмлер покачивает головой и укутывает Бренду простынями.
— С ней все в порядке? — спросил он.
— Беспокоиться не о чем. — Эмлер почти улыбнулась, чего раньше ему видеть не приходилось.
Артур извлек из кармана фунтовую банкноту.
— Держи, Эм, купишь себе что-нибудь.
— Не нужны мне твои деньги. — Она оттолкнула его руку. — Оставь их себе. Пригодятся на черный день.
— Не будь дурой, — возразил он. — Купишь себе блузку или не знаю что там, чулки. Ты сегодня изрядно потрудилась.
Эмлер пригладила волосы.
— Не нужны, говорю, мне твои деньги. — Голос ее стал жестче.
Он сунул ей фунт в карман фартука, но она снова оттолкнула его руку.
— Ну что ж, — пожал плечами он, — если ты не позволяешь мне поблагодарить тебя…
Она перегнулась через кровать, чтобы погасить свет.
— Да кем ты себя вообразил? Поблагодарить меня за это? Ну, доложу тебе, приятель, ты и наглец.
— Ну и катись в таком случае сама знаешь куда, — выругался он и, повернувшись, шагнул уже было на лестницу, но передумал, вернулся в комнату, наклонился и поцеловал Эмлер в губы: — Спасибо.
Она вскинула сжатую в кулак сильную руку, но он перехватил ее.
— Попробуй только прикоснуться, увидишь, что будет, — прошипел Артур и сжимал ее кисть до тех пор, пока она не поморщилась от боли.
— Пусти, слышишь, ублюдок, пусти, — взвизгнула она. — По двору кто-то идет.
Он услышал стук в заднюю дверь и выпустил ее. Выключив свет, они сбежали вниз.
— Бренда? — послышался голос Джека. — Открой, я забыл кое-что.
Артур сжал Эмлер руку и прошептал:
— Задержи его немного, поговори о чем-нибудь. Я выйду через парадную дверь.
— Сделаю, как сочту нужным, — ответила она своим обычным голосом ненормальной. — Может, задержу, а может, и нет. Тебе меня не заставить. Это мне, знаешь ли, решать, что делать, а чего не делать.
— Приблудная, — прошипел Артур, — потише не можешь?
— Какая я тебе приблудная? — закричала она.
— Ладно, ладно, не приблудная. Только говори потише.
Джек меж тем забарабанил кулаками в дверь.
— Эй, Бренда, открывай! Кто это там с тобой?
— Может, это ты ублюдок, — продолжала как ни в чем не бывало Эмлер. — Не знаю, как тебя зовут, а я никакая не приблудная. Могу показать свидетельство о рождении.
— Ты хуже, — бросил Артур и повернулся, оставив ее бормотать что-то и рыться в кармане фартука, словно она и впрямь носила с собой свидетельство о рождении.
Он на цыпочках прошел через гостиную, слыша, как Эмлер откидывает цепочку, сварливо спрашивает Джека, что ему нужно, и талдычит что-то в том роде, что сейчас найти свидетельство о рождении не может, но завтра непременно покажет. Артур оставил дверь в переднюю открытой и не удержался от смеха, услышав, как Джек бормочет какие-то извинения, меж тем как разъяренная Эмлер упорно преграждает ему путь в дом — по причинам, ведомым только ей одной. Бренда наверняка заснула, и Артура теперь совершенно не заботило, успешно ли прошла вечерняя операция. Дрожа от лихорадки, едва держась на ногах от усталости, он стоял на пороге и прикидывал, как бы поскорее добраться до ближайшего паба, и ему действительно было совершенно все равно, пусть даже он обрюхатил двадцать тысяч женщин и за ним гонятся жаждущие его крови, с серпами в руках все их мужья.
Он шел вниз по длинной пустынной улице, и сознание его при внезапном порыве свежего ветра прояснилось, в голове стало полегче, и тревоги перестали давить, просто потому что остались позади. Вокруг плясали огни рыночной площади. Его шаги громко отдавались по булыжной мостовой. Из дверей паба тянуло пивом и табачным дымом. Он протиснулся между большими зелеными автобусами, яркий свет которых рвал на части окружающую тьму, и начал пробиваться сквозь толпу людей, скопившихся на Плиточной площади вокруг проповедников Слова Божия и ораторов, вещающих, взгромоздившись на ящики из-под мыла. Вечер образовал в его мозгу щель-убежище, и сейчас он никак не мог стереть из сознания яркую, кроваво-яркую картину: белое тело Бренды, откинувшееся на спинку ванны, и идиотическое лицо Эмлер, которая протягивает ей джин, кружку за кружкой, пока Бренда не вырубается вконец, и жидкость течет у нее изо рта, и она уже не может говорить и не узнает никого вокруг. Это ты во всем виновата, выругался он. Безмозглая сучка.
Он добрался до «Персикового дерева» и заказал двойной ром. Полегчало, простуда уже не донимала, как прежде. Кто-то, безбожно фальшивя, затянул визгливым голосом песню, в дальнем конце зала на сцене закачалась перед микрофоном змееподобная голова. Он, угрюмо поглядывал на спины, вытянувшиеся вдоль стойки, прислушивался к деловитому перезвону монет в кассе и хриплому, пропитому голосу барменши. Неровный, бесноватый голос, уходивший в микрофон, пробивался через клубы табачного дыма и обволакивал Артура, так что ему захотелось вцепиться обеими руками в это чертово горло, исторгающее подобные звуки. Кажется, такое желание возникло не только у него. Артур увидел, как какой-то мужчина пробивается через переполненный зал — «извините, извините» — и направляется к молодому человеку на эстраде. Они заговорили как друзья, случайно встретившиеся на улице. Исполнитель держал в руках сигарету, его собеседник потрагивал лацкан пиджака. Сигарета была не зажжена, и солист вроде бы протягивал ее подошедшему мужчине. И тут совершенно неожиданно последний, казавшийся таким незлобивым, нанес певцу мощный удар в челюсть. Ноги того зацепились за провода микрофона, и при попытке подняться и ответить ударом на удар он снова упал.
Артуру чрезвычайно понравилась эта сцена, и он расхохотался так громко, что едва не задохнулся от боли в ребрах. Возможно, исполнитель так и не понял, что стал причиной всей этой заварухи, наверное, счел себя Джином Отри или Нельсоном Эдди[9]. В любом случае не стоило завывать с такой силой, так что поделом ему досталось. Растерянный, с покрасневшим лицом, весь в царапинах и синяках, исполнитель прошел мимо Артура и исчез во вращающихся дверях паба. А с противоположной стороны в тех же дверях, с которых он по-прежнему не сводил глаз, появилась Винни, младшая сестра Бренды.
Она бросила взгляд на стойку, оглядела столики, стоявшие у стены, и расстегнула черное пальто — похоже, ей неожиданно стало жарко. Артур отметил разноцветный шарф, больше похожий на чалму, туфли на высоких каблуках, чулки и черную сумочку.
— Привет, Винни, — окликнул ее Артур, — место найти не можешь?
Она не услышала его. Однажды они уже встречались, это было в прошлом году на дне рождения Джека, когда она часа в два ночи безумно разозлилась на именинника за то, что тот пролил полпинты на лучшее платье Бренды, и, вооружившись кочергой, разбила все стоявшие на столе бутылки и стаканы. Этот разрушительный акт произвел тогда на Артура сильное впечатление, и ему захотелось познакомиться с этой женщиной поближе. Она была лет двадцати пяти, невысокого роста, и Артуру вообще показалось, что размером она едва ли не вдвое меньше его самого. На той вечеринке у Джека он назвал ее Цыганочкой из-за длинных черных волос. Прозвище ее обозлило, и она пригрозила врезать ему, если он тут же не прекратит обзываться. Артур предложил осуществить угрозу на месте, только выйти, чтобы не портить Джеку праздник, но Винни отказалась, заметив, что если он не будет вести себя прилично, она все расскажет мужу, когда тот приедет домой в отпуск из Германии.
— Ну что ж, Цыганочка, — сказал он в ответ.
И эти слова вывели ее из себя, что и стало причиной скандала, положившего конец вечеринке, а облитое платье — это был только предлог.
Он поднялся и подошел к ней.
— Привет, Винни. — Время для «Цыганочки» еще не настало.
Она повернулась к нему и улыбнулась, ничуть не выказывая раздражения, к которому он был готов.
— Ищу кое-кого, — пояснила она.
— Может, он в «Трипе»? — предположил Артур.
— Это она, умник, — огрызнулась Винни.
— В таком случае пошли, пропустим по стаканчику. — Он взял ее под руку.
— Нет, — отказалась она, — надо идти. Я еще не закончила прибираться дома, а завтра вечером приезжает Билл и, если хоть пылинку найдет, закатит скандал и понаставит мне синяков.
Все же Артур уговорил ее присесть.
— Мне джин с апельсиновым соком, — сказала Винни.
— Надолго он в отпуск?
— На этот раз на десять дней, но через месяц опять приедет. Он теперь сержант, в военной полиции служит.
Артур смотрел, как она пьет: ее маленькие пухлые губы недовольно кривились и, казалось, таили в себе некое беспокойство; грудь, большая и непропорционально полная для хрупкого тела, вздымалась под алым свитером. Тронь, словно бы приглашает она, тронь — и не оторвешься. Холмы соблазна. Никогда бы не подумал, что она сестра Бренды. Занятная история случилась в этой семейке двадцать с лишним лет назад. Наверняка какой-то бродячий цыган, торгующий вешалками для одежды, поимел ее мамашу, когда она предложила ему чашку чая, и вот что из этого получилось. Достаточно посмотреть на ее глаза, и косые скулы, и угольно-черные волосы, и нос с горбинкой. Все лучше, однако, чем толстая круглая физиономия с глазками-пуговицами и красными ушами.
— А когда Билл уволится? — заговорил Артур.
— Осталось только десять месяцев. И слава богу. И ему лучше, и мне. А то как будто и не замужем, когда он в армии. — У нее была крохотная симпатичная щелка между двумя передними зубами, благодаря которой рельефно подчеркивалось любое чувство, отражавшееся на ее лице — раздражение, грусть, радость, — эта дразнящая внешняя добавка к ее характеру не давала покоя Артуру.
— Да, — кивнул он, — ну что это за жизнь для женщины? Некому приласкать, некому сводить куда-нибудь, когда ей захочется хорошо провести время. Туго тебе, верно, приходится? Женщине нужно, чтобы за ней ухаживали, а не болтались где-то в Германии. Не могу и никогда не мог понять парней, которые рвутся служить, особенно если они женаты. А если жена такая, как ты, маленькая, сладенькая, то вообще надо быть чокнутым. Бросить тебя одну в Ноттингеме! Не знаю, куда катится мир, право, не знаю. Выпей еще стаканчик, цыпленок, почувствуешь себя лучше. Точно-точно, ты уж мне поверь. Армия — это не жизнь, даже в лучшие времена. Я-то знаю, на своей шкуре испытал. Нет, цыпленок, чем скорее он вернется домой, тем лучше, тогда он сможет о тебе заботиться, как и положено мужику. Найдет работу, осядет, будет каждую пятницу получку в дом приносить. Что еще нужно? Ты напиши ему, скажи, чтобы возвращался как можно скорее, а про армию вообще забыл. Джин с апельсиновым? Ну а я еще пивка выпью. — Артур говорил негромко, и в его тоне не было сочувствия к Винни. Это производило эффект не меньший, чем выпивка: слово цеплялось за слово, образуя единую тему сочувствия к брошенной женщине, которая в какой-то момент начинает жалеть самое себя, и вот тут-то он принимается тормошить ее, забрасывает сальными шутками, подбивает колышки — и называет Цыганочкой, а она довольна и ничуть не против.
— Как там Бренда? — некоторое время спустя, когда она допивала третий стакан джина с апельсиновым соком, спросил он.
— Тебе лучше знать, — засмеялась Винни, — ты же ее ухажер.
Они обменялись понимающими улыбками и сменили тему. Артур чувствовал себя превосходно. Справилась со своей проблемой Бренда, не справилась — не имеет значения, достаточно уже того, что она заснула, и дело так или иначе разрешилось, и это чувство облегчения делало его неуязвимым во влечении к ее сестре Винни. Когда, судя по настенным часам, время приблизилось к десяти, он уже держал ее за руку, одним лишь взглядом заказал отвальную, прежде чем прозвучала команда «закрываемся». Чем больше он говорил, тем меньше слышал гул голосов; они сидели, окруженные волшебным кольцом одним им слышных слов, и внутрь этого кольца не мог проникнуть никто из посторонних.
— Если хочешь, я провожу тебя домой, цыпленок, — предложил он, когда все было допито и они застегивали пальто.
— Пошли, — откликнулась она. Защищенный твердыней своей гриппозной лихорадки, он едва вспоминал Бренду — кажется, она ему когда-то снилось, но это осталось в прошлом. Сейчас она исчезла, рассеялась в пелене лихорадки, утонула в обжигающей воде цинковой ванны, растворилась вместе с бутылкой кипящего джина, вместе с этой полоумной Эмлер. Ему было хорошо с Винни. Они шли вверх по Дерби-стрит в сторону ее дома. Она взяла его под руку, явно забыв, что надо еще убраться в доме к завтрашнему приезду Билла, а Артур ей не напоминал. Мимо проезжали переполненные автобусы. На Каннинг-серкус она попросила его идти быстрее, чтобы их не заметили соседи, также возвращающиеся домой после долгих посиделок в кафе и барах. Он понял, что это означает, и подумал, какой же он удачливый сукин сын, надеясь при этом, что не сглазит и предчувствия его не обманут. Рядом с ним она казалась совсем маленькой, просто девочкой. Ну ты и ублюдок, настоящий похититель детей, рассмеялся он про себя, когда они поворачивали на улицу, где жила Винни. Теперь они молчали, старались ступать как можно тише.
— Мне совсем не хочется, чтобы соседи заметили, — прошептала она, сжимая его руку.
— Знаешь, на что они способны? — насмешливо спросил он Артур.
— Заткнись, — прошипела она. — Тебе-то что, но Билл завтра вечером возвращается, и если кто-нибудь увидит меня с тобой, мне несдобровать.
Простуда сделала его неосторожным, но ее резкое и вполне разумное замечание разом заставило его собраться, и пока они не оказались в доме, он не проронил ни слова.
— По-моему, пронесло, никто не заметил, — сказала она, включая свет в кухне.
— Все будет хорошо. — Он мягко обнял ее и нагнулся, чтобы поцеловать. Она закинула ему руки за шею, принимая его поцелуи с жадностью страстной женщины, давно не знавшей мужчины.
— Пошли наверх, малыш?
— Да, но потише.
Он последовал за ней, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы поцеловать, ощущая неудержимое желание овладеть этим маленьким ненасытным телом, вспоминая, что еще совсем недавно он поднимался по другой лестнице и в других обстоятельствах. Тогда вечер начинался, а сейчас заканчивается. Она разделась и легла в постель, ожидая его. Никогда еще, думал он, стягивая носки, вечер не начинался так печально и не заканчивался так хорошо.
Глава 7
Джек прошел через сборочный цех, срезав таким образом путь, — с тех пор как его повысили, время стало дорого. Увидев его в проходе, Артур удивился: похоже, за последний месяц Джек как-то скукожился: лицо приобрело болезненно-желтый оттенок, рот полуоткрыт, словно он разговаривал сам с собой, черные волосы, которые он всегда помнил блестящими, потускнели и опали, да и вошел он в цех с таким видом, будто не имел на то права, робко кивнул Роббо и направился, минуя ряд станков, к Артуру.
Артур попытался представить себе, как выглядела сцена, когда в прошлый понедельник Джеку удалось наконец войти в собственный дом и он увидел в гостиной разбросанные по полу мокрые полотенца, пустые стаканы, бутылки из-под джина, а посреди комнаты — большую цинковую ванну с кипятком. Интересно, что сказала ему Эмлер. Он был готов отдать на отсечение правую руку, лишь бы стать невидимым свидетелем происходящего. Но даже Бренда ничего не знала, во всяком случае, хотя джин и горячая ванна возымели действие, она мало что рассказала Артуру, когда несколько дней спустя они встретились в пабе «Ройал Коуч», — большей частью угрюмо молчала и открывала рот только для того, чтобы язвительно пошутить.
Когда Джек приблизился, Артур оторвался от работы, хлопнул его по спине, сказал, что рад встрече — приходи, мол, почаще, потреплемся, как в былые времена.
— А впрочем, у тебя, наверное, на новом месте дел по горло. Глядишь, со временем мастером станешь, так тогда и не повернешься, как на улице встретимся.
Джек принял эти шуточки вполне равнодушно, оглядел своими темными глазами станок, перевел взгляд на раму, потом на переднюю бабку, потом на заготовки — куда угодно, но только не на Артура.
— Ну правильно, ты и должен быть рад меня видеть, потому что у меня есть что тебе сказать.
— В лотерею, что ли, выиграл?
Выражение у Джека сделалось грустным и серьезным.
— Я бы на твоем месте перестал балагурить и послушал, что тебе говорят. Времени у меня немного, через десять минут я должен вернуться к себе.
— Да в чем дело-то? — раздраженно спросил Артур. Ему было не по себе, потому что Джек явно нервничал, а ему всегда было не по себе с людьми, которые грузят его своими заботами.
— Я пришел честно тебя предупредить, — продолжал Джек. — Вообще-то мне не следовало бы этого делать, но, поскольку мы считаемся друзьями, решил все же сказать. Ближайшие пару дней тебе стоит быть настороже, потому что два здоровенных типа, армейские, точат на тебя зуб. Грозят шею свернуть, так что не говори потом, что я тебя не предупредил, хотя, видит бог, стоило бы. В твоем возрасте можно бы и побольше мозгов иметь. Надо думать, что делаешь.
В таких делах лучше помалкивать, подумал Артур. Пусть сам говорит. Разве что можно подтолкнуть: «Не знаю, что эти ребята против меня имеют. Но все равно спасибо, что сказал».
На сей раз Джек повернулся в его сторону, но задержать взгляд не смог и сказал:
— Хитрован ты, Артур. По-моему, ты прекрасно знаешь, в чем дело, но если все-таки нет, то слушай. Один из этих вояк — Билл, муж Винни. Он говорит, что ты гуляешь с его женой. А заодно и с Брендой. Насчет его жены ничего не скажу. Может, у вас впрямь роман. А вот насчет Бренды, думаю, он ошибается. Я люблю во всем ясность: черное — белое, так или иначе, и в данном случае я как раз знаю, где белое, а где черное. Уверен, что насчет Бренды он ошибается. Но если нет, Артур, то помни: я тебя честно предупредил. И если ты действительно гуляешь с Брендой, берегись, я тебе ту еще жизнь устрою. Однако думаю, что ты мне друг и никогда себе такого не позволишь. Мне кажется, в глубине души ты хороший малый.
На всем протяжении своей долгой речи Джек сжимал и разжимал кулаки, и в конце ее Артур протянул ему чистую тряпку. Джек взял ее и медленно стер капли пота с верхней губы и со лба.
— Даже не сомневайся, с Брендой у меня ничего нет, — заверил его Артур.
Услышанное его ничуть не обеспокоило, хотя он чувствовал, что после триумфальной ночи с Винни силы добра объединятся, чтобы подрезать ему крылья и притупить когти. Но ведь по-всякому случается. Удача то отвернется от тебя, то улыбнется тебе. Судьба то ударит кастетом по затылку, то сахарком угостит. Главное — не сдаваться. Как Джек, например.
— Знаешь, — сказал Артур, — может, эти амбалы и точат на меня зубы, но, если дойдет до дела, побегут так, что пятки засверкают. Так что это им надо держать ухо востро, уж я-то им спины не покажу.
— Так-то оно так, — покачал головой Джек, — не покажешь, я тебя знаю. Только лучше бы показал, потому что, если не будешь держаться от них подальше, это для тебя плохо кончится.
— Это для них, ублюдков, плохо кончится, — выругался Артур, чувствуя, как вжимается спиной в стену. Он не любил драться и всегда старался избежать драки, если оставалась хоть малейшая возможность: только придурки, у которых не хватает мозгов договориться, машут кулаками, — это самый плохой способ решить проблему. Но уж если тебя загнали в угол, если тебя хотят порвать на куски два здоровых амбала — два здоровенных безмозглых придурка, которые ничего не желают слушать, — что ж, тогда остается только как следует поработать кулаками, пусть на тебя хоть стокилограммовая туша навалится.
— Не говори, что я тебя не предупреждал, — повторил Джек.
— Не скажу. Спасибо за хлопоты. Буду смотреть в оба.
— Ну что ж, увидимся. — Джек уже удалялся по проходу.
— Пока. — Артур с такой силой ударил по станине, что ее визг перекрыл шум всех остальных станков.
Шагая после работы по Эддисон-роуд, Артур, незаметный в толпе таких же, как и он, работяг, думал о том, насколько же был прав Джек: теперь он мог поклясться, что несколько дней назад, в это же время, за ним неотступно следовали двое вояк. Сначала он принял их за полицейских, но потом решил, что этого не может быть, ведь он ни у кого не выхватывал из рук сумок, не разбивал газовых счетчиков, не колотил дубинкой хозяев продуктовых лавок. В рассказе Джека все выглядело следующим образом — сейчас, по дороге домой, Артур восстановил в памяти эту историю: Билл вернулся из Германии и в тот же вечер отправился в забегаловку на углу, где остановился поболтать с одной местной сорокой, которая сразу же стала втолковывать ему, какая хорошая женщина и жена Винни и как она хорошо себя вела, пока его не было дома, намекая при этом, что накануне вечером ей что-то показалось подозрительным; к тому же, добавила она, Винни видели в «Персиковом дереве» с молодым парнем — высоким блондином. Разбор полетов, случившийся по возвращении домой, кончился синяком у Винни и расцарапанной щекой — следом нападения тигрицы — у Билла. Винни сказала, что да, конечно, она была в «Персиковом дереве» и Артур там был, но он ждал Бренду, которая появилась минут через десять, и за это время она, Винни, только и успела, что выпить жалкий стаканчик джина с апельсиновым соком. А что касается того, что потом она якобы пригласила Артура к себе домой, пусть Билл спросит Бренду, в чью постель Артур вернулся в тот вечер, хотя Джеку этого лучше не говорить, а то можно разукрасить тигриным узором и другую щеку. Билла, ожидавшего после тяжелого перехода через пролив безмятежного отдыха, вся эта история разозлила настолько, что он решил заставить Артура заплатить по полной. Молодого человека, который спит с двумя замужними женщинами, следует остановить раз и навсегда. Билл надавил на Джека: слушай, Джек, с твоей женой спит один малый с твоей же фабрики. Джек ему не поверил, но Билл заявил, будто может доказать, что в прошлый понедельник Артур был с Брендой. Джек рассмеялся ему в лицо, пояснив, что в тот самый понедельник вечером он был дома, а Бренда плохо себя чувствовала и с ней была Эмлер, старая приятельница, с которой они когда-то вместе работали на чулочной фабрике. Наверное, он чувствовал некоторое смущение, добавив, что Эмлер была пьяна — хороша подруга, — а жена до самого утра пролежала, не вставая, в постели, настолько ей было плохо. Билл назвал Джека кретином. Джек улыбнулся. Ладно, черт с тобой, сдался Билл. Он пробудет дома десять дней, и этого времени хватит, чтобы достать молодого ублюдка, который хочет разрушить их с Винни счастливый брак. Сейчас вместе с ним в отпуске его приятель, и в один из ближайших дней они подстерегут этого типа в укромном месте и вышибут ему мозги. Джек понял, что Билл не шутит, и предупредил Артура.
Артур свернул во двор. Дома окутывали сумерки, постепенно переходящие в холодный ветреный апрельский вечер. Тяжелые башмаки стучали по булыжнику. Артур отпер дверь, миновал посудомоечную и снял в гостиной пальто. «Всем привет», — обычно говорил он, обращаясь к семье, но на сей раз был слишком занят разными мыслями, чтобы думать о вежливости, и угрюмо сел за стол в ожидании, пока мать нальет ему чашку чая. Невдалеке хрипел транзистор, и первыми словами Артура были:
— Выключи эту штуку.
Но передавали какие-то старинные вальсы, а мать их любила.
— Пусть играет, — возразила она, — это хорошая музыка.
— Ладно, но в таком случае налей мне чашку чая, — потребовал он.
— Что это с тобой сегодня? — Мать пристально посмотрела на него. — Какая муха укусила?
Он не ответил. Транзистор продолжал работать. Его старший брат Фред сидел за столом и решал кроссворд. Артур пил чай, не говоря ни слова, и Фред тоже подумал про себя: что это с ним нынче стряслось?
— Я иду наверх, — объявил он, — послушаю транзистор.
Артур последовал за ним и сел на кровать.
— Какой-то ты смурной нынче, — заметил Фред. — Случилось что-нибудь?
— Ничего не случилось, — грубо отмахнулся Артур, которому вовсе не хотелось распространяться о своих тревогах. Он закурил сигарету, подошел к окну, швырнул наружу догоревшую спичку с такой силой, словно это был камень, которым он хотел в кого-то попасть, и немного постоял, глядя, как внизу при свете уличных фонарей играют ребятишки, и прислушиваясь к отдаленному гулу машин и тяжелым вздохам фабрики, примыкающей к жилому кварталу.
— Ладно, если хочешь знать, что случилось, — заговорил он, — то пожалуйста: на меня наезжают двое парней, армейских. — И он выложил всю подноготную. — Муж Винни приехал из Германии в отпуск и грозится, прежде чем вернется, вместе с приятелем поквитаться со мной.
— Ну так держись какое-то время от них подальше, — рассудительно посоветовал Джек. — Собираешься сегодня куда-нибудь?
— Подумывал.
— В таком случае я с тобой. — Если в самой драке я и не очень ему пособлю, сказал себе Фред, то по крайней мере могу постараться, чтобы он в нее не ввязался.
— Уверен? — Артуру совершенно не хотелось втягивать Фреда в какие-либо неприятности. Пусть даже в свои собственные.
— Ты что, не слышал? Я же сказал: иду с тобой.
— В таком случае пеняй на себя, — предупредил его Артур, — как бы на собственные похороны не попасть.
— И на твои тоже, — огрызнулся Фред. — Это же надо в такую историю вляпаться!
Ни один из них не надел пальто в надежде разогреться быстрой прогулкой до ближайшего паба, а потом пинтой-другой пива. Выходя во двор, Фред признался, что он на мели — тридцати шиллингов, полученных по бюллетеню, надолго не хватило, — и Артур сказал, что выпивка за его счет. У выхода со двора стояла миссис Булл. Лунообразное лицо ее, подобно радару, просвечивало улицу на предмет уже случившихся событий, а также в предвидении новых жертв, которых уже поджидали собаки, высматривавшие в полутьме тех, кто направлялся к Тейлору за харчами в кредит. Проходя мимо, Артур задел миссис Булл локтем, но даже не почувствовал этого.
— Эй, ослеп, что ли? — крикнула она ему вслед. — Поганец этакий.
— Ты вроде толкнул ее, — пояснил Фред.
— А я тебя и не заметил, — проворчал, поворачиваясь, Артур. — Ты торчишь здесь так часто, что я подумал, будто строители врыли новый столб. Так что гляди в оба: в следующий раз могу остановиться и случайно погасить о тебя окурок. Хотя, наверное, такое уже бывало.
— Наглец! — она возмущенно потрясла кулаком. — Я видела, как ты ходишь к замужним женщинам. На днях засекла, и не говори, что это мне померещилось. — По части шантажа миссис Булл была большая дока, у нее всегда имелся наготове целый арсенал разнонаправленных зарядов против тех, кому не посчастливится пересечь ей дорогу, она обстреливала их и одиночными выстрелами, и очередями, используя древнее орудие — сплетню.
— Не суйся в чужие дела, старая хрычовка, — возмутился Артур.
— Ах вот оно что! — завизжала миссис Булл тем всепонимающим голосом, который всегда приводил Артура в бешенство. — Вот, выходит, как нечисть вроде тебя живет себе и в ус не дует!
— Да она же чокнутая. — Фред дернул брата за рукав. — На старости лет умом тронулась.
Они поднялись к пабу «Пикок», где в этот ранний час было всего несколько человек, и уселись за столик в углу напротив стойки. Артур принес выпивку: себе — крепкий портер, Фреду — пинту пива.
Артур выпил восемь бутылок портера, из чего Фред заключил, что брат встревожен не на шутку. К тому же обычно Артур, когда много пил, курил сигарету за сигаретой. А сейчас опрокидывал стакан за стаканом, даже не заметив пачки, которую подтолкнул в его сторону Фред.
— Ты бы полегче, — предостерег Фред брата.
— А то что? — Это сказано было резким тоном, ясно дающим понять, что Артур хочет, чтобы его оставили в покое.
— А то, что напьешься и полезешь в драку.
— Не полезу. На это у меня ума хватит.
Логичный ответ, но Фред знал, что цена ему может быть пенни, если Артуру кровь ударит в голову и он даже подумать ни о чем не успеет. После седьмой бутылки он не выдержал:
— Все, дурак, заканчивай. Мне совершенно не улыбается тащить тебя домой.
— А кто тебя просит?
— Никто. Да ты никогда ни о чем и не просишь. Просто с катушек слетаешь.
— И много раз ты меня видел слетевшим с катушек после выпивки? — воинственно спросил Артур.
— Два. Но с меня довольно.
Артур мрачно посмотрел на брата, но тот выдержал его взгляд. В конце концов Артур успокоился и просто сказал:
— Не бойся, если я вырублюсь, ты здесь ни при чем.
— Посмотрим, — пожал плечами Фред. — В любом случае я не собираюсь волочить тебя по улице в темноте. Особенно если блевать начнешь. — Пока еще он не особенно волновался: восемь бутылок портера — не повод для паники.
— Рюмка мне сегодня не помешает, — сказал Артур.
— Рюмка — да, но не бочка.
Артур рассмеялся, но это был смех человека, услышавшего вдруг нечто смешное в ситуации, которая смешной ему совершенно не кажется.
— Сам-то ты, смотрю, на выпивку не особо налегаешь.
Фред негромко постучал по наполовину опорожненной кружке.
— Кому-то же надо оставаться трезвым, чтобы присматривать за тобой.
— Попридержи язык, ублюдок. Мне не надо, чтобы за мной присматривали.
— Еще как надо, — возразил Фред. — Любой, кто ухлестывает за двумя замужними женщинами и позволяет их мужьям узнать об этом, нуждается в присмотре.
Такой поворот разговора Артуру явно не понравился.
— Ничего я не позволял. Это кто-то из соседей меня заметил и распустил язык. Жизни от них нет.
— Жизни тебе не будет от этих армейских, когда доберутся.
— Я могу за себя постоять, — решительно заявил Артур. — Подожди — и сам увидишь.
— Именно это я и делаю. Только если они окажутся здесь нынче вечером, я буду рядом, чтобы в случае чего прийти на выручку. Мне совершенно не хочется, чтобы тебя размазали пьяным по стенке. А лучше всего, когда увидишь их, дай деру. Ты сам мне сказал, что эти ублюдки-отпускники те еще бугаи. С таким количеством выпитого в желудке тебе с ними не справиться.
— Поддатый я всегда лучше дерусь, — возразил Артур. — Выпивка меня заводит. Если бы я встретился с ними трезвый, наверное, пожал руку и сказал: «Привет, парни, как делишки? Извините, но это каким же дураком надо быть, чтоб загреметь на десять лет в армию. Остались бы дома, так и за женами можно было бы получше присмотреть». Ну а если я пьяный, то просто врежу.
Четверо молодых людей забавлялись метанием дротиков, выкрикивая счет с такой страстью, что можно было подумать, будто на кону стоит девяносто тысяч фунтов. Но то ли они вообще играли неважно, то ли напились, но стрелы попадали то в стену, то в проволоку, которой крепилась доска, и падали на пол, точно подбитые птицы. Один из игроков, размахнувшись изо всей силы, запустил дротик просто в направлении доски. Заостренный наконечник громко ударился о проволоку, срикошетил и, сделав несколько плавных поворотов, полетел к ноге Артура.
Садясь за стол, Артур никогда не знал, как справиться с ногами. А если говорить об этом конкретном столике, то сколько-нибудь удобно удалось разместить под столом только одну ногу, вторую же пришлось вытянуть снаружи; при этом между краем коротких носков и поддернувшейся штаниной обнажилась ничем не прикрытая кожа. Неровный полет стрелы закончился крутым нырком, и она, покачиваясь, впилась Артуру в лодыжку.
Нога дернулась, но Артур не подпрыгнул от внезапной боли — он был слишком поглощен своими заботами, так что даже свалившийся на голову кирпич либо вспыхнувший рядом бенгальской огонь вряд ли заставили бы его пошевелиться. Он просто наклонился, выдернул из лодыжки стрелу и положил ее на стол рядом с рюмкой.
Фреда всегда удивляло, каким образом начинается драка: словно включается заведомо неисправный аппарат и ты знаешь, что, если не остановить его как можно быстрее, он неизбежно вырубится сам. Но в такие моменты слишком увлекаешься самим процессом движения в сторону конца, и аппарат превращается в кучу валяющихся на полу болтов и гаек.
На молодом человеке, бросившем дротик, был костюм цвета «электрик», коричневые туфли, желтый пуловер, бежевая рубашка без галстука, а лицо было сплошь покрыто следами от прыщей — несколько из них еще полыхали тут и там. Глаза же его настолько заплыли, что спиртное буквально сочилось из-под век.
— Нельзя ли мне забрать мою стрелу? — спросил он Артура.
Артур поднял голову и спокойно сказал:
— Да, но только извинись, потому что твоя стрела попала мне в ногу.
«Сделай, как он говорит, — хотелось сказать Фреду, — и все обойдется». Но он продолжал сидеть молча, заключая пари с самим собой насчет дальнейшего развития событий. Молодой человек посмотрел на Артура сверху вниз и сказал:
— Мне нужна моя стрела.
— Что ты там копаешься, Тед, — зашумели его партнеры, — твой бросок. Мы ждем.
Молодой человек осклабился и повторил, на сей раз с несколько большим нажимом:
— Верни мою стрелу.
— Говорю же тебе, извинись, тогда и получишь, — резонно возразил Артур.
— А я тебе говорю, что не привык ни перед кем извиняться! — выкрикнул молодой человек, сознание которого, затуманенное алкоголем и духом противоречия, кажется, на мгновение вдруг прояснилось. — Давай сюда мою стрелу!
Артур поднялся на ноги и выбросил вперед кулак, вложив в удар всю накопившуюся за последние несколько недель досаду на жизнь. Удар оказался так силен, что молодой человек перелетел через стойку и, совершив, словно гимнаст, изящный кувырок, вновь оказался на подгибающихся ногах. Проковыляв мимо своих приятелей, которые, расступившись, смотрели на него выпученными глазами, он развернулся и нанес удар Артуру, чей кулак сразу же пришел в движение, как у робота, откликающегося на простое нажатие кнопки. Молодой человек вновь проделал путь к стойке, на сей раз слегка повернувшись вокруг собственной оси, и в очередной раз присоединился к своим спутникам.
Впоследствии Фред рассказывал, что все это выглядело как классная сцена из какого-нибудь ковбойского фильма. Ему удалось описать ее близко к действительности, потому что в самом начале драки он переместился к двери, ведущей в туалет. Ему очень не хотелось оставлять брата одного, однако же из-за бронхита врач запретил ему принимать участие во всякого рода потасовках, так что пришлось отойти в сторону от мелькающих кулаков и перевернутых столиков.
У Артура получается все как надо, решил он. Увидев его сидящим, молодой человек явно не оценил рост противника, и теперь ему пришлось убедиться в своей ошибке: Артур оказался настолько выше всех остальных, что до него и дотянуться-то было непросто. Он наносил удары налево, направо, по центру, а помимо того, время от времени пинал противников своими тяжелыми башмаками. К нему пробивались бармен и хозяин паба.
— Артур, делай ноги! — заорал Фред и увидел, что брат на мгновение замер, оглянулся, кивнул, еще раз двинул в челюсть молодому человеку, ставшему причиной всей этой заварухи, и бросился к вращающимся дверям.
Встретились братья уже снаружи.
— Потопали по этой улице, — предложил Фред.
Фонарь светил тускло, из какого-то окна пробивалась полоска желтого света. Они быстро удалялись от паба и уже поворачивали за ближайший угол, когда позади послышался шум.
— Бежим, — бросил Фред, но Артур ответил, что лучше идти потише, чтобы непонятно было, куда они направляются.
Братья еще несколько раз сворачивали в лабиринте улочек и переулков и в конце концов выбрались на ярко освещенную Альфертон-роуд.
— Мне бы не помешал еще глоток, — сказал Артур, застегивая пальто.
После десяти, когда закрылись пабы, на Кэннинг-серкус наступил комендантский час и все стихло. Припозднившиеся машины, задрав в темноте морды, с кряхтением ползли вверх и, обогнув лесной островок на верхушке холма, растворялись в темноте убегающей куда-то дороги. На выцветший сад посреди островка лился лунный свет, и в сравнении с этим небесным сиянием освещение от зеленых фонарных столбов на перекрестке казалось совсем тусклым.
Артур и Фред шли мимо темных домов, толкуя о войне. Фред, размахивая руками, высказывал свои соображения касательно тактики боя, бегло сравнивал Корею с Ливией, горы с пустыней, «людские моря» с танками. Впереди светились окна одного бара, где все еще толпился народ. Все остальные подъезды и здания были затемнены, окна затянуты шторами. Тут и там виднелись редкие прохожие: один брел в тени деревьев, другой стремительно пересекал островок, насвистывая модную песенку, третий, покачиваясь и сжимая в руках пивную кружку, выходил из бара.
— Посмотри-ка, — указал на него Артур, — что задумал этот странный тип?
Поначалу Фред заметил только, что его перебили, но, подойдя поближе, услышал, что «тип» что-то мурлычет себе под нос, словно бы скрывая истинную цель своего путешествия на противоположную сторону дороги. Выйдя на мостовую, он пристально вгляделся в окно похоронной конторы.
— Ну, и что ему все-таки нужно? — вновь спросил Артур.
Наконец, словно бы решившись, мужчина сделал три шага назад к тротуару и изо всех сил швырнул кружку в окно. Раздался легкий мелодичный звон, осколки стекла рассыпались по мостовой, а мужчина ловко обошел кучу мусора, образовавшуюся в результате его же усилий.
Звон бьющегося стекла подстегнул Артура — в нем воплотился весь его буйный нрав, он наилучшим образом подходил концу света и его собственному концу. Артур бросился навстречу событиям, и эхо от стука его башмаков по мостовой натыкалось на обезлюдевшие углы улиц, чтобы потом раствориться в пустом кольце окружающих их зданий.
— Пошли, — кивнул он Фреду.
Близ окна похоронной конторы уже собралось несколько словно из-под земли выросших людей, а какая-то женщина крепко удерживала за руку растерявшегося злодея. Артур пригляделся и заметил, что другая женщина, помоложе, в армейской форме — цвет которой ему сразу не понравился, — взяла дело в свои руки и послала кого-то за полицией. Фред с ухмылкой посмотрел на заостренные края образовавшейся в окне дыры, разбегающиеся от нее в разные стороны огромные трещины, надгробья с памятными надписями, глиняные цветочные вазы, расколовшиеся вместе со стеклом. Вид произведенных разрушений развеселил его, и он носком ботинка отбросил несколько осколков в кювет.
— Что тут произошло, мэм? — полюбопытствовал мужчина в плаще и с трубкой во рту и кивнул в сторону пленника, чрезвычайно дружелюбно поглядывавшего на каждого вновь прибывшего. — Что он сделал?
— Швырнул кружкой в окно, — сказал Артур.
— Вот именно, — подтвердила женщина в хаки, указывая на разбитое окно с видом гида, демонстрирующего ценный экспонат выставки. Ей было лет тридцать пять, форма груди, и без того пышной, подчеркивалась до блеска начищенными пуговицами. Артур отметил ее тонкие губы, высокие скулы, полуприкрытые глаза, низкий лоб и волосы, локонами выбивающиеся из-под пилотки и прикрывающие шею. Интересно, думал он, оценивая про себя эту женщину, знает ли она, что такое любовь? Сомнительно. Она из тех, кто плюнет в лицо мужчине, попытавшемуся за ней ухаживать, хотя, с другой стороны, продолжал рассуждать сам с собой Артур, ничего сильнее не желает, чем быть любимой. И все равно, судя по ее виду, подкатишься к ней — и получишь по физиономии. Старая крыса. Гадюка. Лошадиная задница.
— Нет, ты только посмотри на эту чертовку, — наполовину восхищенно, наполовину презрительно сказал мужчина. — Она точно знает, что делает.
— Ну да, — хохотнул Артур, — нашивка тебе за такие слова обеспечена. Прямо на задницу.
Наибольший интерес вызывал сам злоумышленник — немо стоявший рядом с женщиной, не выпускавшей его вялой, безжизненной руки. Его нельзя было назвать ни молодым, ни пожилым — этот мужчина принадлежал сразу к двум поколениям и не был ни взращен, ни воспитан ни одним из них. По лицу его можно было сказать, что за спиной у него несколько лет супружеской жизни, но манера держаться выдавала одиночку, странного, неприкаянного человека, ни с кем и ни с чем не связанного, что заставило Артура заподозрить в нем слабоумного. Женщина в хаки тоже выглядела так, будто у нее никогда не было своего дома и родного места на земле, но она связала себя с законом и порядком, и это не добавляло ей привлекательности. Мужчина слегка повернулся к окну. У него были каштановые волосы, редеющие у лба, а лицо раскраснелось так, словно он только что вышел из горячей ванны. Свободной рукой он указывал через разбитое окно на черную цветную вазу в решетке и серое, с незаконченной надписью надгробие: «В память о любимой…»
— Мне всего лишь захотелось вот этого, — сказал он, оглядываясь в поисках понимания, — и вот этого. — Говорил он жалобно, словно и не думал разбивать окно, и потому женщина, вцепившаяся ему в руку, должна его немедленно отпустить.
— Слушай, приятель, чего это тебя понесло? — спросил Артур. — Да такое окно и не стоит того, чтобы его разбивали.
Мужчина с надеждой посмотрел на него и снова ткнул пальцем в окно.
— Мне хотелось вон то и вон то, — упрямо повторил он.
Сочувственные голоса придали ему уверенности в себе, и хотя он все еще надеялся на освобождение, оставаться центром внимания ему, кажется, тоже было приятно. Судя по его взгляду и блуждающей улыбке, можно было подумать, что он пребывает в какой-то дреме, либо не вполне отдает себе отчет в том, где находится, либо воспринимает все происходящее как нечто вроде игры.
— Мне они нужны для матери, — сказал он, вновь поворачиваясь к окну. Его интонация указывала на то, что это только начало, за которым должно последовать продолжение, но мужчина замолчал, словно зараз способен был выговорить лишь одно короткое предложение, но в момент сильного возбуждения заколебался, не стоит ли преступить эту границу.
— Пошли домой, — предложил Фред. — Эти старые ведьмы отдадут его копам. Нам-то чего тут ждать?
Но Артур предпочел остаться, бездумно поглядывая по сторонам, как в театре, когда сидишь в зрительном зале и действие тебя захватывает, но не можешь принять в нем участия.
— И где же твоя мать? — в один голос спросили сразу несколько человек.
Женщина в хаки подтянулась.
— Оставьте его в покое. Все необходимые вопросы задаст полиция. С ней он и поговорит.
Какой-то умник снова спросил мужчину про мать, тот повернулся, оглядел собравшихся и торжественно произнес:
— Я похоронил ее три месяца назад. Я не хотел сделать ничего дурного, мэм, — мягко обратился он к женщине, все еще не выпускавшей его руку.
— Пусть так, — сказала она, — но все равно тебе не следовало так поступать.
Полиция на подходе, сообщил кто-то. Фред вплотную подошел к пленнику.
— Это же надо быть таким дураком, чтобы додуматься до такого, — сказал он тоном, исключающим всякую надежду на поддержку с его стороны.
— В центре окна побольше и получше, — добавил Артур. — Есть у меня на примете одно такое на Лонг-роу, через него видно классную мебель!
— Говорю же, я сделал это для матери. Только-только ее похоронил.
— Ну и отсидишь за это полгода в Линкольне! — крикнул кто-то из-за его спины, демонстрируя равные познания в географии и юстиции.
Все засмеялись. Женщина, державшая злоумышленника за руку, велела остальным вести себя потише и оставить человека в покое: из-за ваших подначек ему только хуже.
— Отпустите меня, мэм, — прошептал тот, как если бы ее обращение означало, что теперь она на его стороне. — Ну пожалуйста. Я ведь не хотел сделать ничего дурного. Да и выпил-то всего пинту-другую.
Женщина в хаки резко повернулась к нему.
— Эй ты там, заткнись. Стой где стоишь и жди, пока полиция не появится.
— Нет, вы только послушайте ее, — возмутился кто-то из присутствующих. — Она с ним, беднягой, говорит так, будто он грязь под ногами.
При этих словах все присутствующие оживились, выказывая явный интерес к биографии и личности мужчины. Его спрашивали, где он живет, сколько у него детей, где работает, как зовут, сколько лет. Смущенный обилием вопросов, он не мог вымолвить ни слова. Женщина в хаки громко потребовала оставить все вопросы до прибытия полиции, — казалось, что это происшествие должно было стать главным событием в ее жизни.
А мужчина по-прежнему искал спасения у той, которая не хотела его отпускать.
— Пустите меня, мэм, — уговаривал он, — будьте другом.
Она лишь слегка придерживала его за рукав, так что ему не составило бы особого труда вырваться и убежать, но такая мысль в голову ему не приходила. Зато Артура она уже некоторое время не оставляла.
— Делай ноги, приятель, — прошептал он. — Все будет хорошо. Я тебе не помешаю, и мой брат тоже.
— Эй ты, нечего его подначивать! — пролаяла женщина в хаки.
— А ты заткни свое хайло, крыса, — презрительно бросил Артур. — Иначе я сам его заткну. Что тебе, лучше будет, если копам его сдашь? Такие, как ты, только жить людям мешают. А ты, парень, шагай отсюда. — Он повернулся к мужчине. — Крыса ничего тебе не сделает.
У пленника оказалось столько союзников, что он поворачивался на каждый новый голос, и с его лица не сходила сияющая улыбка, даже в те моменты, когда он в очередной раз напоминал, что недавно похоронил мать. Присутствующие требовали освободить его, но женщина в хаки, слегка расставив ноги, твердо стояла на своем. Артур протянул мужчине зажженную сигарету и вложил ее в его дрожащие пальцы.
— Беги, — шепнул он.
— Не могу, — нервно затягиваясь, сказал он. — Эта женщина не позволит.
— Да не ее это дело, — возразил Артур. — Делай ноги. — В толпе образовался проход, через который он вполне мог уйти. — Беги, иначе в тюрягу попадешь, это я тебе точно говорю.
Лицо мужчины перекосилось от страха, и с внезапной решимостью он вырвал руку.
— Стой где стоишь! — заорала Крыса.
Он огляделся в смущении, не зная, что делать, не умея разжать зубы мышеловки, захлопнувшейся у него в мозгу. Артур отступил на проезжую часть дороги, открывая ему путь к бегству. На лице мужчины, во всех его чертах отразилась твердость мгновенно принятого решения, и улыбка, столь долго смягчавшая их, слетела, словно птица с ветки дерева.
Крыса попыталась остановить его. Она ухватила его за руку, но он грубо оттолкнул ее. Она замахнулась, но он перехватил ее руку и вывернул кисть, а поддержка публики придала ему сил освободиться окончательно. Он стоял, дрожа всем телом, готовый броситься прочь.
С той же внезапностью, с какой только что открыла ему путь к спасению, толпа почему-то вновь сомкнула ряды. Никогда еще надежда столь стремительно не покидала человека, мгновенно меняя выражение его лица. Перед ним стоял полицейский.
На все вопросы были даны правдивые ответы — без промедления и с такой готовностью, будто мужчина уже много раз на них отвечал и был рад тому, что теперь ему нет нужды принимать решение — бежать или нет. Ему нравилось отвечать, словно путь к избавлению лежал как раз в демонстрации этого довольства, а улыбка отражала всеобъемлющее желание удовлетворить полицию ясностью признаний и потешить умолкшую публику их содержанием. Две женщины, державшие его за руки, дали свои показания.
— Кто-нибудь еще хочет дать показания? — осведомился полицейский, оглядывая собравшихся. Никто не пошевелился. Полицейская машина с задержанным обогнула островок и одной из боковых улиц направилась в центр города, от резкого рывка с места закачалась антенна на крыше автомобиля.
У Артура было ощущение, будто он пробуждается от сна, и первое, что он отметил, — у него замерзли ноги. Ему представилась Бренда, свернувшаяся калачиком в теплой постели, погруженная в глубокий сон, наверное, вместе с обоими детьми.
— Я бы пропустил пинту, — сказал он, поворачивая с братом на Альферстон-роуд.
— Никогда себе не мог такого представить! — в бессильном гневе выкрикнул Фред. — Неужели можно такое себе позволять?
— Да она просто сука, проститутка, — выругался Артур. — У нее вместо сердца камень, гранитная плита, она ничтожество, крысеныш, косоглазое отродье. Да и этот тип тоже хорош — бесхребетный ублюдок.
При свете луны и редких фонарей на широкой улице, по обе стороны которой тянулись магазины и мастерские, было светло. Артур шагал по самому краю тротуара и, засунув руки в карманы, разговаривал сам с собой.
— Есть такие, что и на родную мать настучать готовы. Лучше уж в джунглях жить вместе со зверями. Точно, лучше. И в армии, где кто смел, тот и съел, тоже лучше. По крайней мере, знаешь, что надо все время быть начеку. И там всегда можно за себя постоять.
По дороге на большой скорости проехала машина, за ней, направляясь в сторону Бэсфорда, с грохотом промчался мотоцикл. Полицейский, проверяющий замки на дверях магазинов ярдах в пятидесяти позади братьев, проводил их взглядом. Фред шагал ровно, но Артур все еще держал его под руку. Они повернули на Хартли-роуд и прошли между церковью и школой; оба здания выглядели сейчас заброшенными и никому не нужными. Фред сказал, что больше всего ему хочется кого-нибудь задушить, неважно кого, любого, кто попадется под руку, лишь бы хватило сил вцепиться пальцами в горло и задушить до смерти. На пустынной улице стоял приятный запах табака, доносящийся с фабрики «Бульвар». На ближайшем перекрестке Артур предложил срезать путь.
Они сошли с тротуара и по диагонали пересекли улицу, направляясь к противоположному углу, за которым начиналась спящая в этот час городская окраина. Когда каждый из них погрузился в собственные мысли, из ближайшего переулка на большой скорости появилась, торопясь, как видно, домой, малолитражка. В царящей вокруг глухой тишине они не заметили ее приближения; неслышно шелестя шинами по асфальту, машина вдруг оказалась совсем рядом, и водитель лишь в последний момент попытался вильнуть в сторону, чтобы не сбить их.
Из них двоих Фред был более погружен в себя, однако же заметил происходящее первым. Машину занесло, но свернуть до конца в сторону водитель так и не сумел.
— Артур, осторожнее!
Завизжали тормоза. Фред отскочил в сторону и, чувствуя, что брат заваливается вперед, потянул его за руку. Но было слишком поздно. Сильный удар пришелся Артуру в бедро, его отбросило в сторону, в руку вонзилось что-то острое, и он плашмя рухнул на мостовую. Лицом и ладонями он ощущал холод твердой поверхности, а в глотку ему, казалось, заткнули пылающий уголь. Затем чья-то рука потянула его вниз. Машина остановилась неподалеку.
Артуру удалось сесть.
— Где машина? — резко спросил он, потирая ногу.
— Ты как, встать можешь? — спросил Фред, у которого у самого дрожали колени.
— Досталось прилично, — буркнул Артур. — Но ничего, дай только добраться до этого подонка, несладко ему придется.
Фред взял брата под мышки и помог ему встать. Направляясь к машине, они услышали стук закрывающейся двери. Водитель зажег сигарету и двинулся в их сторону.
— Эй вы, оболтусы, — сразу перешел он в атаку, — не видите, куда идете? — Водитель сделал движение, словно собирался ударить Артура.
Роста он был среднего, пальто расстегнуто, на невзрачном лице выделялся мощный подбородок. Его низкорослый дружок стоял, прижимаясь к бордюру. У Артура сильно болели бедро и бок, и ему приходилось внимательно следить за своими ногами, которые упорно норовили развернуть его в направлении, явно для него нежелательном. Ни он, ни Фред до сих пор не проронили ни слова, и могло показаться, что агрессивная манера водителя приносит успех.
— Я же мог убить вас обоих. Вы что, всегда ходите с закрытыми глазами? Или слишком надрались, чтобы хоть что-то вокруг себя замечать? Лучше бы вам пить поменьше эля, тогда, глядишь, и не будете представлять угрозу для таких, как я, и научитесь правильно переходить дорогу.
Братьев обдало густыми парами виски. Фред подумал, что из такой ситуации есть только один разумный выход. Сами они после того, как оставили позади Кэнниг-Серкус, капли в рот не взяли.
— Это тебе следует пить поменьше, — увещевающе сказал он, — иначе в участок отведем за вождение в пьяном виде. Всякий скажет, что ты слишком много принял на грудь.
Водитель злобно оскалился, подошел еще ближе и бросил на землю только что зажженную сигарету. На Артура, стоящего в стороне и прислушивающегося к разговору с плотно сжатыми губами, он не обращал ни малейшего внимания.
— Вы сами во всем виноваты. И отлично это знаете, — продолжал водитель, вдохновленный столь слабым отпором со стороны Фреда, и стиснул кулаки в карманах пальто. — Вы переходили дорогу с закрытыми глазами. Наверное, упражнялись, лунатиками захотелось поработать. Я ведь гудел вам до посинения, а вы хоть бы хны. Наверное, не только слепые, но и глухие.
— Ты прекрасно знаешь, что даже не прикасался к сигналу, — спокойно возразил Фред. — Больше того, держу пари, в такой машине, как у тебя, вообще клаксона нет. Она такая маленькая, что после того, как ты втиснешь туда свою тушу, там больше уже ничто не поместится.
Водитель подошел поближе и помахал кулаком.
— Если ты не заткнешься… — пригрозил он.
Фред оглянулся в надежде предотвратить неизбежное. Артур сделал шаг вперед, протиснулся между ними, схватил растерявшегося водителя за лацканы пальто и оторвал его от земли.
— Если ты сам не заткнешь пасть, — проревел он как бык, вне себя от ярости, с налитыми кровью глазами, — я тебя по стене размажу!
У того открылся рот, но из него не вылетело ни звука, затем челюсти снова сомкнулись, в то время как обладатель их по-прежнему висел в нескольких дюймах над землей. Глаза его закатились, лицо мертвенно побелело, и казалось, что он яростно и вместе с тем со страхом пытается понять, как же это он очутился в таком незавидном положении. Артур отпустил водителя, тот сделал несколько неверных шагов назад и, бледный, изнемогший, безнадежно пьяный, привалился к стене.
Изобретательный ум Фреда породил дьявольскую идею.
— Давай перевернем его машину, — предложил он. — Она не больше, чем детская коляска.
Артур расхохотался и принял предложение, полагая, что реализация его станет совершенно справедливым возмездием как этой железной колымаге, из-за которой он пострадал, так и пьянчуге-водителю, опирающемуся о стену.
Они вжались спинами в машину — один спереди, другой сзади — и, постанывая от напряжения, работали плечами, невероятно тяжело дыша, как если бы имели дело с огромным «Уолсли»[10]. Они искали наиболее удобное положение для ладоней, сражались с дверями и подножкой, рулем и крыльями, получая нескрываемое удовольствие от этой великолепной игры.
Машина слегка подалась и стала легче.
— Ну, еще немного, — подначивал брата Артур.
Последнее усилие…
— Пошла! — с сияющей улыбкой воскликнул Фред.
— Взяли, еще немного, — подхватил Артур. — Идет, чувствую.
Больше они не слышали ничего. Поглощенные актом отмщения, братья в то же время были охвачены высоким духом командных действий, наполняющим их сердца ослепительным светом исключительного могущества и справедливости, обретений и надежды на лучшие, более значительные дела. Сначала тяжесть казалась неподъемной, потом стала постепенно уменьшаться, и вот машина мягко замерла, как бабочка, нанизанная на нитку, и достигла полного равновесия, отчего братьям хотелось смеяться и выкрикивать победные кличи, как воинам-завоевателям, и они наверняка так и сделали бы, если бы это не означало краха всего их предприятия.
Машина покачнулась и через неуловимую долю секунды со скрежетом рухнула набок и безмятежно застыла на мостовой. В таком положении она казалась более привлекательной, исполненной спокойного достоинства, подобно мулу, когда он после тяжелых дневных трудов наслаждается у себя в стойле заслуженным отдыхом.
А водитель лежал подле стены, погруженный в глубокий сон.
На пути домой Артур не чувствовал боли. Никогда еще за последние месяцы не испытывал он такой радости и бодрости и подъема чувств, надеясь, что ближайшие несколько дней пролетят незаметно, Джек вернется к столь любимым им ночным сменам, и ничто не помешает ему после рабочего дня заглядывать в тускло освещенную гостиную Бренды. Лабиринт улиц городского предместья, вьющихся между табачной и велосипедной фабриками, затянул их в свой огромный зев и обволок густой тьмой. За стенами новых кирпичных домов расстилались поля и леса, скатывающиеся в долину Ирвош, а потом поднимающиеся по склонам холмов Дербишира, и, входя в дом, братья говорили о том, как славно будет съездить в Мэтлок в первое же погожее воскресенье.
Глава 8
Злобная сплетня миссис Булл пробежала, словно электрический ток по проводам, от выключателя к выключателю, и удивительно еще, что пробки перегорали так редко. В один из дней начала лета, когда низко нависшее и пока еще безмятежное небо начинало выказывать первые устрашающие признаки надвигающейся грозы, она стояла, прислонившись к столбу, в ожидании, когда с фабрики повалит народ. Внезапно раздался негромкий щелчок — кто-то выстрелил из духового ружья, и она высоко подскочила на месте. Жирные руки, лежавшие на фартуке, разомкнулись, и, прижав ладонь к лицу, миссис Булл завопила:
— Господи, вот ужас-то! Убивают, убили!
Так она визжала несколько минут — чисто свинья на бойне, по определению старой миссис Мэкли, с тайным удовольствием созерцавшей поцарапанную щеку соседки, однако же не отважившейся выказать никакого иного чувства, кроме сострадания:
— Интересно, какой подлец додумался до такого?
С присущей ей основательностью миссис Булл, наругавшись всласть, принялась осматриваться в поисках обидчика. Глубоко посаженные глазки-бусинки обежали двор до самой фабричной стены, затем проделали обратный путь до того места, где она стояла, попутно останавливаясь на всех окнах сверху донизу. Ни одно архитектурное сооружение, ни единое человеческое движение не ускользнуло от нее. Поговаривали, что к следующей войне власти внесут ее в списочный состав разведывательных служб.
— Ну вот, все ясно, — сказала она, резко мотнув подбородком в сторону миссис Мэкли и не сводя глаз с предпоследнего от точки наблюдения окна: оно было слегка приоткрыто. Там жил со своей разведенной матерью Бернард Гриффин. Когда-то у него было духовое ружье, а саднящая скула заставила миссис Булл предположить, что оно и сейчас у него имеется. Зашелестели страницы архива памяти: подростком Бернард был помещен в Борстал за то, что разбил газовый счетчик и отодрал кусок железной кровли на церкви; три раза дезертировал из армии; довел до беды девушку и отсидел три месяца, отказавшись давать деньги на младенца; не говоря уж о том, что он ненавидит всех вокруг. У миссис Булл имелось досье на любого из жителей дома.
В сопровождении миссис Мэкли она проследовала к черному входу в квартиру Гриффина и заколотила в дверь с такой силой, что сосед, живший напротив, крикнул, что таким манером она всю стену выломает. Но миссис Булл лишь грохнула в дверь еще раз. Дома никого не было. Во всяком случае, на стук никто не откликнулся.
Прижимая руку к щеке, она вернулась во двор. Половина рабочих уже вышла из фабричных ворот и рванулась в ближайшие кафе и продуктовые лавки, тем самым лишив миссис Булл привычного развлечения, и подобная утрата, вкупе с болью от раны, сулила ее мужу нелегкий ужин.
Случались моменты, когда Фред вынужден был признать, что Артур не такой уж славный малый. Если честно, говорил он себе в таких случаях, брат его бывает настоящим ублюдком. Случись кому-нибудь его задеть, он черт знает что способен выкинуть — если не знать, что им движет жажда мести. Миссис Булл постоянно всем рассказывала, что Артур волочится за замужними женщинами, и оба они, Артур и Фред, находили это непростительным грехом, потому что так оно и было. Артур считал, что она подрывает его репутацию, не говоря уж о том, что подвергает риску его жизнь, и всякий раз, проходя по двору, лишь хмуро игнорировал ее взгляды и злобное бормотание себе под нос, когда она обзывала его грязным сластолюбцем. Каким образом миссис Булл удалось так много о нем разузнать, он понятия не имел и не собирался докапываться. Ну, сплетница и сплетница, это его не интересовало, и ему никогда не приходило в голову предъявлять ей какие-то претензии. Но при всем нежелании отвечать огнем на огонь однажды, в нерабочее время и на пустой желудок, он вдруг подумал, что можно открыть огонь оловянной пулей. При всей своей незаурядной наблюдательности миссис Булл не заметила, как он закрыл окно в спальню после выстрела, да и не могла заметить, ибо ему не было нужды его закрывать — он стрелял через дырку в оконном стекле; мать уже несколько дней собиралась заделать ее картоном, да все руки не доходили. В момент выстрела Фред находился в одной комнате с Артуром, сидел за столом, заполняя формуляр на выплату компенсации по болезни. Артур перезарядил ружье и следующую пулю послал в покоящиеся на каминной доске останки гипсового пуделя, своего симпатичного бессловесного дружка. С тех пор как Артур за десять шиллингов купил духовое ружье у Бернарда Гриффина, в результате прицельной массированной стрельбы тот лишился головы и туловища, так что теперь от него оставалась только бесформенная масса черно-белого гипса, удерживаемая на четырех нетронутых лапах.
К вечеру домовое радио разнесло весть о том, что в миссис Булл стреляли. Правда, добавлял вестник или вестница в ответ на смех или слова сочувствия — в зависимости от отношения к жертве, — не из настоящей винтовки, а из духового ружья. Сама же миссис Булл никогда еще не была так разгневана и исполнена решимости, как когда, размахивая руками, говорила: «Гнусный тип! Как он мог поднять на меня руку, я ведь не причинила зла ни одной живой душе».
Она перехватила Бернарда Гриффина возвращающимся домой с работы — он занимался мойкой окон, — и ее кудахтанье, будто он стрелял в нее из своего духового ружья, привело его даже в большую ярость, чем если бы он действительно это сделал.
— Да что за чушь! — взорвался он. — Во-первых, я все утро был на работе. Если не верите, можете спросить моего босса. А во-вторых, я еще на прошлой неделе продал ружье одному малому в Мэнсфилде.
Артур в рубашке с короткими рукавами смотрел на них от ворот с интересом и сочувствием, печально покачивая головой при каждой новой вспышке гнева со стороны миссис Булл. Фред следил за происходящим из окна спальни: он знал, что миссис Булл, изливая гнев на кого-то одного, может легко, без всякой видимой причины, перенести его на случайного свидетеля и обвинить его в чем угодно, требующем отмщения. И этот кто-то и окажется виновным. Потому Фред считал, что не стоило Артуру стоять так близко.
— К тому же, — продолжал Бернард Гриффин, — с чего вы взяли, что стрелял кто-то из нашего двора? Духовое ружье, знаете ли, бьет далеко, может, целили откуда-то с верхнего конца улицы.
В конце концов миссис Булл решила, что Бернард Гриффин тут ни при чем, и, отвернувшись, принялась еще острее обычного шарить взглядом вверх-вниз по улице в поисках другого подозреваемого. Винить ее трудно, подумал Артур, вон какой синяк на щеке — можно подумать, кто-то бутылкой чернил запустил.
Они пошли на дешевый дневной киносеанс. Зал был забит пенсионерами, прогульщиками-школьниками, продавцами магазинов на половинном окладе, сменными рабочими и теми, кто, вроде их самих, сидел на бюллетене. Позади изо всех сил дымил вонючей сигарой какой-то старикан; еще тремя рядами дальше орал малыш, напуганный оглушительной развязкой ковбойского фильма. Выскочив из всего этого пекла — грохота пальбы из шести винтовок одновременно, стука копыт коней возмездия, несущихся в тусклых солнечных лучах, ревущего ветра, — он налетел на Бренду. Нагруженная сумками с продуктами, она, краснощекая и расслабленная, выглядела свежо и невинно.
— Смотреть надо по сторонам, — резко, как и положено в субботу вечером, бросила она.
— Курни, цыпленок, — предложил Артур, но ей не хотелось курить на улице.
— Неохота, — ответила она.
— Как Джек? — поинтересовался Артур. — Что-то давно его не видел.
— Да вроде нормально.
— А Эмлер? — Он закурил сигарету.
— В полном порядке, — рассмеялась Бренда. — По-прежнему считает всех сумасшедшими.
— Если хочешь знать мое мнение, этой сучке самой надо провериться насчет мозгов. — Именно ее Артур считал причиной всех своих бед.
— Ну, она никому вреда не причиняет. А в тот вечер вообще не знаю, что бы без нее делала. — За все это время Бренда впервые упомянула «тот вечер», и это его порадовало: это означало, что можно закрыть глаза на прошлое и начать все сначала.
— Я пробовал всучить ей фунт за услуги, но она отказалась. Только что глаза мне не выцарапала. Впрочем, ты же знаешь, Эмлер мне нравится. Она хорошая. Иное дело, что временами она меня бесит. По-моему, она любит посплетничать, иначе откуда бы одна тетка с нашего двора знала, что я гуляю с замужней женщиной, и портила мне жизнь?
— Ну, если ты обращаешь внимание на такие вещи, — громко рассмеялась Бренда, — значит, это не Эмлер, а тебе надо мозги проверить.
— Да не в том дело. Мне наплевать, если кто-то про нас знает. Просто эта тетка меня достала. — И Артур рассказал, как выстрелил в миссис Булл, на что Бренда ответила, что шутка идиотская и он мог выбить ей глаз.
— Сама напросилась, — огрызнулся Артур. — Ладно, урок будет. Теперь она десять раз подумает, прежде чем снова сплетни по всему двору распускать.
— Дай мне знать, как все закончится. Если тебя посадят, пришли записку, и я принесу тебе в Линкольн кусок яблочного пирога с парой напильников внутри.
— Спасибо, — насмешливо ответил он, — я всегда знал, что на тебя можно положиться. Как там Винни и Билл?
— Билли вернулся в часть. По-моему, он остался не очень-то доволен своим отпуском. Все время старался отыскать какого-то парня, который ухлестывает за Винни. Кто-то из кожи вон лезет, лишь бы разрушить их брак. Винни клянется, что ничего не было и нет, и ей стало легче, когда он уехал.
Смотри-ка, подумал Артур, Джек даже не сказал Бренде о подозрениях Билла. Почему, интересно? Странно, если подумать. Джек все знал про меня и Винни, но Бренде не сказал ни слова, хотя бы просто так, между делом, чтобы хоть что-нибудь сказать, пока жена кипятит чайник, или между двумя затяжками. И Винни тоже не сказала Бренде, что ту ночь мы провели вместе. Может, Джек просто не хотел, чтобы и ей в голову пришли ненужные мысли? Так или иначе, джунгли не так густы, как думалось.
— Можно заглянуть к тебе нынче вечерком, цыпленок? — спросил он.
— Лучше завтра, часов в девять, когда дети улягутся. Только смотри, чтобы ничего такого не повторилось.
— Не повторится. На этот счет можешь отныне быть спокойна.
Дул сильный ветер, и чей-то велосипед, прикрепленный за педаль к бордюру, упал на тротуар, а из парикмахерской выскочил мужчина, чтобы его поднять. Бренда сказала, что ей пора домой — надо покормить Джека.
— Он уходит в половине восьмого.
— Ну что ж, до завтра.
Фред поджидал его на ближайшем углу, читая газету.
— Ну, что там новенького? — полюбопытствовал Артур.
— Ничего особенного. В Воллатонском пруду утонул ребенок. Какой-то мужик схлопотал три месяца принудительных работ за магазинную кражу. В Редклиффе большая дорожная авария. В шахте погиб углекоп, и намечается встреча в верхах трех держав.
— И все?
* * *
Крыши домов полыхали в оранжевых лучах заходящего солнца, ярко-зеленые полосы света расчерчивали стены домов на противоположной стороне улицы, в насыщенной цветовой гамме сумерек, поглотившей охру стен туалета во дворе, внезапно наступила тишина, которую нарушил стук в заднюю дверь квартиры Ситонов. Это был мистер Булл. Увидев выражение обреченности на его распухшем лице, Фред сразу догадался, что нанести этот визит его заставила жена, и пожалел человека, стоящего на пороге в фабричном комбинезоне и не знающего, что сказать. Есть женщины, которые не дают мужьям никакой жизни, подумал он. А есть и такие, которые вообще никому не дают жизни. Пока мистер Булл думал, с чего начать, а Артур, стоя за стеклянной кухонной перегородкой, разыгрывал одноактную пантомиму, Фред пытался понять, каким образом миссис Булл пришла к заключению, что это Артур в нее палил.
— Мне сказали, что кто-то из вас стрелял в мою старуху, — заговорил Булл, нервно переступая через порог и заставляя Фреда гадать, как это получилось, что мужчина с бегающими глазами женился на женщине с бегающими глазами. У Булла подергивались лицевые мышцы: ему хотелось быть агрессивным, но он боялся даже голос повысить и, по сути, всего лишь просил Фреда хоть сколько-нибудь убедительно подтвердить, что никто в этом доме в его жену не стрелял: это его вполне удовлетворит, и он уберется восвояси. Ну, Фред и сказал со всей возможной решительностью: «Я в вашу старуху не стрелял. И вообще не понимаю, о чем вы толкуете. Уходите-ка подобру-поздорову и поищите где-нибудь еще». Он попытался захлопнуть дверь прямо перед Буллом, но тот еще не был готов к отступлению. Если он вернется домой с пустыми руками, его ждет весьма неприятная сцена.
— Слушай, — сказал Булл тоном, словно намекающим на возможность некой сделки, — в обеденное время в мою старуху кто-то выстрелил из духового ружья, и она думает, что это был один из вас. — Он говорил плачущим голосом, который сильно действовал Фреду на нервы.
Ну как можно иметь делом с типом, подумал он, который, даже не начав, уже знает, что не прав.
— Ну, так она ошибается, — бросил он. — В этом доме нет оружия.
— Послушайте, вы куда, по-вашему, пришли? — крикнул Артур, выходя из-за перегородки. — В главный штаб Королевского корпуса снайперов?
Глаза у Булла на мгновение широко открылись, потом полуприкрылись, и лицо его исказила гримаса гнева. Он принялся обзывать хозяев варварами, кричал, что они некультурные люди и заслуживают хорошей трепки и он готов дать ее и тому, и другому, пусть только они по одному выйдут из дома.
Артур оттолкнул стул к камину и навис над Буллом как фонарный столб.
— Это ты получишь трепку, если немедленно не закроешь свою поганую пасть! — заорал он.
Они мерили друг друга взглядами. У Булла было такое выражение, словно он только что произнес свое последнее слово. Потом он повернулся и вышел во двор, нащупывая в кармане ключ от ворот.
— Теперь бедняге предстоит пообщаться со своей старухой, — сказал Артур. — Некоторые парни уже рождаются неудачниками.
Тут они вдруг увидели эту самую старуху — она пересекала двор раскачивающейся походкой, словно только что сошла с корабля. На ее щеке все еще явственно проступал синяк, хотя после обеда опухоль уменьшилась.
— Он ей даже идет, точно тебе говорю, — заметил Артур.
— У нее явно что-то на уме, — озабоченно сказал Фред. — Когда она так вышагивает, жди беды.
Артур бросил, что идет наверх за ружьем, и не успел Фред остановить его — нельзя же быть таким кретином, — как хлопнула дверь и Артур помчался наверх с резвостью призового рысака. Фред сел у камина в ожидании бури.
Миссис Булл забарабанила в дверь со скоростью пулемета. Фред невозмутимо покуривал, не отвечая. Стук смолк, потом возобновился.
— Они дома, — услышал он голос Булла. — Я знаю, дома они.
Фред подошел к двери, медленно открыл ее, пригласил их войти, посетовал на то, что они долго не виделись, давая понять, что им стоило бы заходить почаще. Миссис Булл вошла в дом настороженно, словно ожидая подвоха, но, оказавшись внутри, сразу обежала взглядом все помещение, как если бы была судебным исполнителем, явившимся описать мебель. Хорошо, что отца нет дома, подумал Фред, иначе бы он ее в два счета выставил. Если он кого и не мог терпеть, так это сплетников, и говорили, что в этом смысле Артур пошел в него.
— Жаль, что не могу предложить вам чашку чая, — продолжал Фред, — холодина такая, что вода не успела согреться.
Миссис Булл стояла у дверей со сложенными на груди руками и видом человека, то ли прикидывающего, достаточно ли в доме чисто, чтобы войти внутрь, то ли старающегося заглянуть в буфет и выяснить, сколько там еды. Но и Фред тоже производил оценочные действия: она из тех, кто на три месяца задерживает оплату аренды, пусть это всего лишь одиннадцать шиллингов в неделю, и каждый понедельник с утра торчит у ломбарда, хотя у мужа хорошая работа.
В конце концов мисс Булл заговорила: тяжелая челюсть медленно перемалывала слова, в глубоко посаженных глазках застыла твердая решимость.
— Я пришла сюда по поводу вашего ружья.
— Ружья? — Фред даже привстал от изумления. — Куда, по-вашему, вы попали, в Кэммел-Лэйрд?
Он никогда не мог понять, отчего люди так легко выходят из себя. Может, ее задело упоминание о Кэммел-Лэйрде — крупном ружейном заводе в Мэдоуз?
— На наглейте, молодой человек. — Все еще не трогаясь с места, миссис Булл воинственно потрясла кулаком. — Сегодня меня ранили из духового ружья, и я собираюсь узнать, кто это сделал.
Фред посмотрел на нее с видом оскорбленной невинности, опасаясь возможного появления старика, которому явно не понравится встреча с такими гостями у себя дома. Он ведь всего лишь подстричься вышел.
— Вы не единственная, в кого стреляли, — заявил Фред так, будто это самое худшее, что может случиться, и что подобного рода выходкам следует положить предел самым безжалостным образом. — Я слышал, в миссис Моррис тоже попали, всего час назад, на углу улицы. Она сама сказала об этом маме, когда та вышла купить что-нибудь отцу к чаю. Поэтому я так и разозлился на вашего мужа: с чего это он вдруг решил, что это моих рук дело? Я в жизни не видел никакого духового ружья в нашем доме. Папа ни за что бы не позволил.
По глазам миссис Булл было видно, что она заколебалась. Фред почти убедил ее.
— Ну что ж, коли так… — начала она.
— Говорил же я тебе, они здесь ни при чем, — перебил жену мистер Булл.
Она повернулась к нему:
— А ты заткни свою пасть. Да, я еще ничего не нашла, но не успокоюсь, пока не найду.
Они уже повернулись, чтобы уйти, когда на лестнице послышался топот каблуков и стены кухни задрожали от оглушительного скрежещущего гогота. Все забегали глазами по помещению с застывшим выражением, ожидая чего-то совершенно невероятного.
Дверь со стуком отворилась, и в проеме возник Артур. Он стоял на нижней ступеньке, широко расставив ноги, и из заряженного духового ружья целился в Буллов.
Фред не сводил глаз с брата. Лицо миссис Булл пошло красными пятнами. Мистер Булл дрожал в страхе, что жена велит ему разобраться с этим типом.
— Ну вот! — завизжала она. — Все-таки оно есть у него, у этой бесстыжей сволочи. Это он в меня выстрелил.
Артур с усилием заставил себя перестать смеяться, и лицо его окаменело.
— Вон отсюда, — заорал он, — или еще получишь! На этот раз кишки выпущу.
Миссис Булл возмущенно закудахтала, что сообщит обо всем в полицию и Артура посадят, потому что держать дома духовое ружье противозаконно. Затем повернулась к мужу:
— А ты что застыл? Действуй! Это его рук дело, его!
— Действуй, действуй, старик, вали отсюда! — давясь от смеха, крикнул Артур.
Булл, однако же, не двинулся с места, словно ноги его были гвоздями приколочены к полу. Вторую рану миссис Булл получать не хотелось, и она сказала мужу, что сейчас действительно лучше уйти, но вскоре они вернутся — в сопровождении полисмена.
— А как ты ему докажешь, что это я стрелял? — бросил Артур. — Ружье не найдут, в этом можешь быть уверена.
Буллы развернулись и, сопровождаемые Артуром, вышли во двор через посудомоечную. Фред увидел отца со свежевыбритым черепом и выражением такой ярости на лице, будто его лишили на фабрике годовой премии. Он перехватил Буллов, прежде чем они успели выйти со двора.
— Привет, чего явились?
Артур сказал, что они ворвались в дом и начали шуметь насчет духового ружья.
— Ах вот как? — Старик повернулся к мистеру Буллу. Они были одного роста, но Ситон казался шире в плечах, крупнее и решительнее. — Я разве не говорил, — он стиснул кулаки, — чтобы ты больше никогда не приходил сюда?
Рядом начали открываться двери: соседи наблюдали за происходящим.
— Все вы, Ситоны, шайка негодяев и ворюг, — заверещала миссис Булл.
Начался скандал, даже более шумный, нежели довоенные битвы на пустой желудок. Разгорелись старые междоусобицы, тайное стало явным, миссис Робин сделалось плохо, и она послала мужа за виски, что стало для него хорошим предлогом неучастия в сражении, а ведь это он отдал своих сыновей в скауты и всегда голосовал за либералов, нарушая тем самым прочное единство анархо-синдикалистов, проживающих на этой улице.
Миссис Булл пригрозила сделать из Фреда котлету, когда он заявил ей, что все эта заваруха началась из-за нее: нечего распространять злостную клевету, будто Артур гуляет с замужними женщинами. Далее последовало заявление, что, как бы там ни говорили о ней люди, никакая она не сплетница и это является твердо установленным фактом.
Сумерки сгустились, лица стали неузнаваемы. Все орали друг на друга, грозя расправой. Глоток виски несколько оживил миссис Робин, но неумолчная брань, раздающаяся со всех сторон, вновь лишила ее сил. Кто-то из сражающихся благородно обозвал ее мешком с костями, и она пришла в себя как раз вовремя, чтобы увидеть, как Артур тащит мистера Булла через двор.
— Ты ублюдок! — кричал он, стискивая кулаки. — Сплетник и ублюдок.
— Никакой я не ублюдок, — огрызнулся Булл.
— А я говорю, ублюдок.
— А я говорю, нет.
Раздался оглушительный шум, как в кульминационный момент представления с фейерверком, и миссис Робин в очередной раз грохнулась в обморок.
Толпа рассеялась, двери начали захлопываться. Стало совершенно темно, и старик Ситон добрался наконец до дома выпить чашку чая, приговаривая по дороге: «Поделом им всем. Поделом».
Потом появился полицейский и потребовал показать духовое ружье. По приглашению Артура он обшарил весь дом, но ничего не нашел. Артур избавился даже от черного, в оспинах, искалеченного пуделя, стоявшего на полке в спальне, а теперь похороненного вместе с духовым ружьем в куче угля под лестницей. Ситоны отрицали все, и в конце концов полицейский решил, что произошла обыкновенная свара, какие бывают между соседями, и велел лишь прекратить устраивать скандалы во дворе. Даже свидетельство в виде синяка на щеке миссис Булл было истолковано как след от удара мужнина кулака. Появление представителя закона удовлетворило самолюбие миссис Булл, и ее сплетен Артур больше не слышал.
Своего наблюдательного пункта в конце двора она, тем не менее, не оставила, лишь переместилась чуть ближе к улице, где посредине линии огня, начинающейся от окна Ситонов, стояли два туалета. И держалась этого места, даже когда Артур отправился на пятнадцатидневные военные сборы.
Глава 9
Июль, август и летнее небо над городом — над домами западной окраины города. Дворы… Выжженные солнцем дворы, иссеченные гудроновыми дорожками, запахи антисептика, смешанные с вонью давно не чищенных мусорных баков, высохшая и потрескавшаяся, особенно на входных дверях, краска, проржавевшие дверные кольца и почтовые ящики, вянущие цветы на подоконниках, летнее голубое небо и поднимающиеся наверх, свивающиеся кольцами черные клубы фабричного дыма.
Артур исходил потом за своим станком, работая с той же скоростью, как и зимой, чтобы заработок остался прежним. Жизнь летела вперед, словно стрела, пущенная наугад, сопровождаемая смутными воспоминаниями об оставшихся позади пособиях по безработице и школьных буднях, да еще более смутными ощущениями смерти на фронте. Жизнь нынешняя — с ее регулярными свиданиями с Брендой по определенным чудесным вечерам, когда на улицах тепло и шумно, а сквозь облака пробивается, оставляя на крышах домов пятна света, полная луна. Они занимались любовью в гостиной или спальне, ощущая, как покачивается на океанских волнах засыпающего городского предместья их утлый челнок неприкасаемой надежды и блаженства. Однажды Артур, готовясь заснуть в собственной постели, сбросил на пол одеяло и в тот же самый момент услышал, как во дворе хлопнула крышка мусорного бака — кошка задела ее в поисках ночного пропитания, — и вспомнил, как Фред отвел за руку его, шестилетнего, в общественную столовую пообедать. Наконечником стрелы была одна лишь смерть, и газетные заголовки, словно гвоздями, заколачивали в его глазницы с широко открытыми глазами слова про войну. Лучше всего было вспоминать часы, когда они занимались любовью с Брендой, и больше всего ему хотелось никогда не вставать с ее постели или хотя бы нежиться в ней до утра, прижимаясь к ее теплому телу. Но крайним сроком была полночь, иначе не избежать встречи с Джеком, когда он, замерзший и злой, вернется с ночной смены. Хорошо, должно быть, думалось ему, жить все время с женщиной, спать с ней в одной постели, из которой тебя, поймав на месте преступления, никто не сможет вытащить.
Будущее, если заглянуть вперед, означало разные вещи, как хорошие, так и дурные: наступление лета (это хорошо); военные сборы в конце августа (чистилище); Гусиная ярмарка в октябре (потрясно); Ночь фейерверков (хорошо, если только тебя не разорвет на куски); наконец, Рождество (ну, Рождество оно и есть Рождество). А потом Новый год потрясет кулаком, схватит за загривок и забросит тебя, с завязанными глазами, на гребень очередной волны. Живя в городе и работая на фабрике, только по календарю и определяешь реальное течение времени — за меняющимися временами года уследить трудно. Переход весны в лето и осени в зиму Артур отмечал только по выходным дням, в субботу или воскресенье, когда седлал велосипед и по берегу канала отправлялся за город на рыбалку. Долгими летними вечерами он сидел перед входной дверью с перочинным ножом и деревянным бруском в руках и выпиливал поплавок в виде рыбешки, а потом, отбросив в сторону недокуренную сигарету, разглядывал его на свет, оценивая пропорции головы, брюшка и хвоста. Потом он причудливо раскрасит ее, эту деревянную рыбешку, глаза — серым, красным и оранжевым, брюшко — голубым цветом гусиного яйца, и получится странное существо, которое, хотелось бы надеяться, заставит попасться на крючок его настоящих сородичей. Сидя на берегу канала ниже Хемлок-Стоун и Брамкот-Хиллз, он забрасывал удочку в узкую, с неподвижной поверхностью заводь, а на противоположном берегу клонились к земле листья бузины и над зеленой кроной деревьев ползли рваные белые облака. Это было тихое, укромное, почти безлюдное место, окруженное крутыми, поросшими кустарником берегами, где на старой вырубке, в бечевнике, Артур оставлял свой велосипед. Городом здесь и не пахло. Он находился всего-то в четырех милях, за холмами. Но и того хватало, когда он, в тишине и покое, сидел с зажатой в пальцах сигаретой и не спускал глаз с покачивающегося у противоположного берега поплавка, а вокруг него вдруг вспенивалась и расходилась концентрическими кругами вода, и водомерки, подобно крошечным лодчонкам, изящно скользили между лилий с их широкими листьями. В боковом кармане гимнастерки, сохранившейся у Артура с армейской службы, лежали сэндвичи, фляга с чаем и бутылка эля на полдник, чего вполне хватало, пока не сгустятся плотные тени и не станет холодно; тогда он закрепит на велосипедной раме удочки и устремится назад, домой, опережая последние минуты затухающего дня. Так проходили воскресные дни его лета, этого драгоценного, залитого различными красками времени года, границы которого омрачались сонными днями фабричной рутины, когда ему приходилось насиловать свои мышцы, сдерживая их естественное желание отдохнуть. Все остальное — мимолетный проблеск неба в середине дня или вечером, жизнь как в тюрьме, но притом вполне сносная, потому что работа позволяет не беспокоиться о том, где раздобыть завтра кусок хлеба, пинту эля, пачку сигарет и одежду с обувью.
Порой Артур вспоминал, как лет в восемнадцать с небольшим на него напялили хаки, как он вошел в магазин одетым в спортивную куртку поверх рубашки с галстуком, а вышел настоящим воякой, в солдатском обмундировании и непонятной тяжелой скаткой за плечами. Начищая до блеска пряжку ремня, он думал о том, как жили во время войны его кузены — долговязые, вечно ухмыляющиеся дезертиры, которых время от времени ловили краснофуражечники[11] или полиция, но которые всегда оставались на плаву, вечно в бегах, деля кров с проститутками, воруя деньги и еду, потому что ни военных продуктовых карточек, ни пособия по безработице у них не было. Опасная игра, и Артур порой удивлялся, отчего они так долго скрывались, почему не отправились за море, чтобы погибнуть и покончить со всем этим. И все же они были правы, теперь Артур понимал это, ибо они по-прежнему здесь, живые, работают и прилично зарабатывают, несмотря ни на какую армию. Он вспоминал, как Дейв говорил отцу в военные годы: «Я восемнадцать месяцев жил на пособие. Как и ты, Хэролд. Мы все из кожи вон лезли, лишь бы не сдохнуть, и что же, теперь нас собираются призвать? У матери было на руках четырнадцать ртов, а Додо то получал какую-то работу, то снова терял ее. И вот однажды ночью я залез через черный ход в какую-то лавку — просто потому, что нам было нечего есть. А когда вернулся — никогда этого не забуду, Хэролд, — у нас получился такой классный ужин, какого в жизни не бывало. Мне тогда было пятнадцать, и каждую неделю в течение пары месяцев я залезал в магазин, но однажды эти сволочи меня сцапали. И знаешь, что я получил? Знаю, что знаешь, дядя Хэролд, и все же скажу. Три года в Борстале. А когда вышел, началась война, и меня призвали. Так неужели ж ты думаешь, что я собираюсь драться за этих ублюдков?»
Артур помнил лицо Дейва — худое, изможденное, покрасневшее на ветру после семидесяти с чем-то миль езды на краденом велосипеде, когда он без крошки еды в кармане бежал через горы от военной полиции Манчестера. Он явился в четверг, а недельную норму еды выдавали по пятницам, и в доме были только хлеб, варенье и чай. Ситон предложил ему остаться у них на неделю. Дейв пробыл три. Однажды днем, когда его не было, заявились полицейские, и, пока они прочесывали дом, Артур в какой-то момент уловил отцовское подмигивание и вышел на улицу. Дейва он встретил накручивающим своими длинными ногами педали очередного краденого велосипеда и насвистывающим какую-то песенку. Полицейские только что уехали, и пока Артур уговаривал Дейва какое-то время не возвращаться домой, в небе появились белые вспышки, и над крышами домов скользнула длинная тень самолета гансов — снизу он походил на гроб. Артур едва удержался от смеха. Шла война, они сражались с гансами, по радио после девятичасовых новостей выступал Черчилль и говорил англичанам, за что они сражаются, словно это имело какое-то значение. Ну и что делать, думал он. Последовать примеру Дейва и откосить от армии? Нет, единственное, что тебе остается в этом мире, — хитрость. Ничего больше. Потерпеть два года, стиснув зубы, а потом, когда выберешься, счесть, что тебе повезло. Как-то раз он чистил сапоги, а мимо проходил сержант и, увидев, что все блестит и сверкает, все прибрано и убрано, сказал Артуру, что из него получится хороший солдат. Хитрость, повторил про себя Артур. Эти ублюдки меня не достанут. Он запомнил возвращение, которому был свидетелем, трех сыновей Ады после непродолжительной армейской службы в начале войны: как они жгли в печке, находившейся в спальне, обмундирование и военное снаряжение и дым поднимался по трубе, о которой обычно никто даже не вспоминал.
Из-за высокого роста Артура определили в военную полицию, выдали свисток и красную фуражку и поставили столбом проверять пропуска счастливчиков, идущих в увольнение либо отпуск. Артур — краснофуражечник. Какая ирония! В семье все покатывались со смеху. Но сам он не находил себе места. Ему платили пять шиллингов в день, и он с горечью думал, что за станком зарабатывал два фунта. Но ничего, думал он, пусть только начнется война, и тогда сразу станет видно, какой я плохой солдат. «Те, кто наверху», должны знать, что никто не будет за них воевать, и, наверное, именно поэтому, думал Артур, эти верхние особо и не рассчитывают на это в будущей войне. В армии так: «Да пошел ты куда подальше, Джек, у меня все в порядке». А на гражданке — каждый за себя. Все сводится к одному и тому же. Оттенки не имеют значения. Умное взаимодействие означает уйти от захвата, получив взамен полунельсон, хотя Артур знал, как избежать и того и другого. Единственный отдых, который обретешь, оказавшись вдали от всего этого, — это возможность усесться на поросшем ивами берегу канала и ждать, пока клюнет рыба. Или лечь в постель с женщиной, которую любишь.
Поговаривают о новой войне, на сей раз с Россией. При этом обещают, что она будет короткой — несколько ярких вспышек, и все, конец. Это же надо до такого додуматься! Мы что же, будем драться бок о бок с немцами, которые бомбили нас во время прошлой войны? За кого нас принимают? Кретины чертовы, и скоро им самим придется в этом убедиться. Думают, что заткнули нам рот страховкой да телевизорами. Да шиш им, я вместе с другими покажу, насколько они ошибаются. Вот окажусь на пятнадцатидневке, плюхнусь на мат, начну шмалять по мишени, тогда уж точно будут знать, чьи физиономии я держу на мушке всякий раз, как спускаю курок. Да. Это и есть те самые ублюдки, что заставили меня взять в руки винтовку. Вот они, я хорошо вижу этих тупых очкариков, что щурятся, читая толстые книги и газеты, в которых пишут, как напялить на ребят вроде меня хаки и погнать на поле боя, где сами-то они никогда не окажутся. Попались голубчики. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Да и не только они, других я тоже хорошо вижу в прицел: злобный хорек — налоговый инспектор, косоглазая свинья, собирающая арендную плату, большеголовый ублюдок, достающий своими просьбами сходить на профсоюзное собрание или подписать протест против того, что происходит в Кении. Как будто мне есть до этого какое-то дело!
Он вспомнил, как отец копал в саду домашнее бомбоубежище. Артур угодил в яму и получил за это изрядную взбучку. А потом вся семья сидела там на досках, кашляя от сырости, расчесывая покрывшуюся струпьями кожу и прислушиваясь к доносящимся со стороны Бичдейлского леса глухим, наводящим ужас выстрелам береговой артиллерии. В полночь, не обращая внимания на рвущуюся вокруг шрапнель, отец, бледный как смерть, бросился наружу с чайником в одной руке и полудюжиной чашек, нанизанных на пальцы другой, и вернулся, едва успев ускользнуть от пулеметного шквала, которым начал поливать фабрику вражеский самолет. А при долгом пронзительном свисте падающей бомбы съеживается и замирает целый свет, и ты просто считаешь про себя, считаешь, считаешь затаив дыхание, не шевелясь, с широко открытыми глазами, а когда бомба наконец взрывается где-то рядом с железнодорожным депо или на соседней улице, среди жилых домов, благодаришь Бога за то, что остался жив.
И если уж на то пошло, сыновья Ады не так уж и промахнулись. Под конец войны их поймали в последний раз и бросили на гауптвахту. Дейв оттрубил полгода на принудительных работах, после чего был демобилизован. Война закончилась, и он случайно встретился в Берлине с сестрой Артура Маргарет, работавшей в АИС[12] официанткой. Рука об руку они пошли вниз по Унтер-ден-Линден, глазея на развалины, вспоминая старые времена, попивая крепкое пиво и смеясь при мысли о том, что надо же, где они умудрились пересечься, — на разбитых улицах Берлина.
В сорок пятом году Дейв был в отпуске по демобилизации, и однажды в субботу вечером Артур натолкнулся на него у паба «Хорс-энд-Грум». На Дейве было новенькое, без единого пятнышка, хаки, и поверх нагрудного кармана красовались пять ленточек — награды за участие в боях.
— А я и не знал, что за отсидку на гауптвахте дают медали, — засмеялся Артур.
Дейв рассказал, как Ада и другие члены семьи начертили на стене домашнего бомбоубежища приветствие: «Добро пожаловать домой, Дейв», а в окне спальни в честь героя войны вывесили флаги.
— А ленточки, — добавил он, — я купил в армейском магазине. Они стоят всего полкроны и в отпуске не помеха. Пока, Артур, меня там в пабе один жулик ждет.
Расставаться с Брендой Артуру совершенно не хотелось. После скучной поездки на автобусе до деревни Воллатон они, взявшись за руки, пошли в сторону Брамкот-Лейн. У подножия холмов, кое-где покрытых низким кустарником, тянулись пшеничные поля, кое-где урожай был уже снят. Разлитый в воздухе запах убранной пшеницы пробудил у Артура воспоминания:
— Мальчишкой я сюда за черникой ходил. Однажды мы с двоюродным братом Бертом наткнулись на каких-то ребят, которые уже набрали чернику, и Берт отнял у них всю добычу. Мне это не понравилось, но Берт сказал, что так мы сбережем массу времени, которое ушло бы на сбор ягод.
Бренда остановилась, чтобы поправить перекинутый через руку плащ.
— Ну да, держу пари, ты не хотел их ограбить, — саркастически бросила она. — Великий подвиг. Ты у нас, Артур, малый не промах. Никогда не можешь отличить хорошее от плохого.
— Еще как могу, — возразил он. — Плохо, если хочешь знать, то, что отличать одно от другого не приносит никакой пользы. Разве не так, цыпленок? — Артур поднял голову и серьезно посмотрел на нее.
— Бывает, что совсем не так. И это помогает не попасть в беду. А ты рожден, чтобы наживать неприятности. Помоги мне взобраться на эту лесенку, милый.
Он протянул ей руку.
— Я рожден для неприятностей? Вот уж нет. Только не я. Если хочешь знать, я всегда жил мирной жизнью. И ни в какие свары не ввязывался, и никому вреда не хотел причинять. От этого у меня только настроение портится, как после попойки. Иное дело, что иногда не могу сдержаться. Придерживай снизу юбку, а то все твое хозяйство будет видно. Вот сюда-то влюбленные парочки и приходят, и все начинается с того, что мужчина помогает своей подружке влезть на лесенку.
— Ну что ты несешь? — рассмеялась Бренда. — В любом случае это ты меня сюда привел, и должен бы знать, что, когда женщина перелезает по лестнице через забор, что-то да наверняка будет видно. Так, тихо, держи меня за руку. У-упс. Все, приехали.
Артур перелез вслед за Брендой через забор, и они пошли вдоль зарослей бирючины, а нависающие над тропинкой кисточки пшеницы шевелились и поблескивали, как мишура.
— Но вообще это свинство, когда каждый год тебя дергают в армию. Жить не дают, гады.
— Да что там, всего пятнадцать дней. — Бренда снова взяла его за руку. — И ты сам знаешь, что это ерунда. Да и, по-моему, это нравится всем мужчинам.
— Всем, может, и нравится, — огрызнулся Артур, — а мне нет. Говорю же тебе, ненавижу армию, и всегда ненавидел. И попробуй возразить. Я не такой дурак, чтобы ее любить.
— Ладно, пусть так. И все равно я уверена, что многие любят. Любят натянуть на себя военную форму и быть вместе со всеми. Начнись война, и миллионы мужчин бросятся на призывные пункты.
Брэмкот-Хиллз были по щиколотку покрыты зелеными полями, на верхушке виднелись рощицы чахлых деревьев, на склонах — пятна низкорослой, будто подстриженной ежиком, травы. Артур вообразил, как еще с двумя сотнями таких же, как он, парней, спотыкаясь и падая, бежит с примкнутым штыком, пьяный в доску, в атаку, поднимаясь наверх, к деревьям. Несколько хорошо расположенных пулеметов и орудий — и можно, прикинул он, положить пару батальонов. «Нет, только не я. Буду держаться подальше. Ненавижу. Если уж начистоту, даже говорить на эту тему не могу».
Бренду перспектива разлуки смущала гораздо меньше, чем Артура. Ему даже казалось, что при мысли о двухнедельной свободе лицо ее светится радостью.
— Ну что за ерунда, Артур, ты же скоро вернешься. Да и о чем речь — всего раз в год. А когда все кончится, тут тебе Гусиная ярмарка, а потом Рождество. Время летит, и скоро мы начнем стареть, уж я-то знаю.
— Я — нет, — пробурчал он. — Тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь, а у меня жизнь еще даже не начиналась.
— Да и не начнется, пока не женишься.
— Женюсь? Я? Можешь не беспокоиться. Я бы на тебе женился, потому что люблю тебя, но это невозможно. А если, цыпленок, я не могу жениться на тебе, то вряд ли женюсь на ком-то еще.
Подобная прямота Бренде понравилась, и тем не менее она возразила:
— Все так говорят, наверное. Но не пройдет и года, как ты передумаешь. В твоем возрасте все думают, что никогда не женятся. Возьми хоть Джека, он тоже так думал, сам мне говорил. Мол, тебе кажется, что всю жизнь проживешь один — так он, помнится, говорил, — а потом вдруг оказывается, что нет, не получается.
— Ну, мне-то все равно нет нужды жениться, разве не так? — Артур лукаво улыбнулся. — Не женись, пока не обязан жениться, — вот мой девиз. — Он игриво ткнул ей пальцем в ребра и привлек к себе.
— Отстань, до смерти задушишь. И нечего здесь целоваться, вон видишь, на верхушке какой-то мужик, ему все видно. — Похоже, она действительно разозлилась.
— Да ничего ему не видно, — ухмыльнулся Артур.
— Ну, неважно. К тому же ты что, думаешь, что люди женятся ради этого? В таком случае ошибаешься. То есть некоторые, возможно, да, ради этого, но большинство совсем по другим причинам.
— Ну, ты у нас прямо всезнайка. — Искры, сыпавшиеся из обоих очагов напряженности, достигли такой температуры, что огонь готов был вспыхнуть с любой стороны. — Но и я кое-что знаю. Например, что женюсь, когда буду готов, а пока не готов. — Он резко повернулся к ней. — А ты, наверное, ждешь не дождешься, когда я женюсь?
— Не будь дураком, — сказала она, довольная тем, что сумела его разозлить. — Именно этого я как раз не хочу, и тебе это известно. Но если когда-нибудь решишься, не дай мне тебя отговорить. Если хочешь, смейся, но ты знаешь, что я имею в виду. Да, верно, сегодня ты любишь меня, но через полгода все может быть иначе.
Э-э, подумал он, через полгода любой из нас может умереть. И он принялся приплясывать перед ней на тропинке, вскидывая свои длинные ноги, ныряя в высокие заросли пшеницы и внезапно выскакивая наружу, думая ее напугать. Пусть тоже посмеется.
— Валяй, валяй! — прикрикнула она. — Нет, ты и впрямь дурак. Никогда тебя не поймешь.
— Ну что ж, — задыхаясь, усмехнулся Артур и обнял ее за талию, — то же самое я мог бы сказать о тебе. Но меня это совершенно не волнует, потому что я никогда особо и не старался понять людей. От этого тоже не бывает большой пользы. — Артур помрачнел, ощущая, как огромное вселенское колесо разворачивается в его сторону, готовое размолоть в порошок. Пятнадцать дней в военной форме виделись ему поднятой над ним боевой дубинкой какого-нибудь индейского племени. И то, что Бренду, кажется, не особенно огорчал его отъезд, и то, что над головой расстилалось безбрежное голубое небо летнего вечера, не находило в его груди отклика и лишь заставляло чувствовать пустоту и одиночество среди моря цветов и трав.
— Ладно, куда пойдем-то, Артур?
А он и не знал. Это большой вопрос, и не только в каком-то одном смысле. Надо действовать, подумал он. Вот это будет по-моему. И он в одно мгновение отбросил тоску и повлек Бренду вдоль прямоугольной линии живой ограды. Пшеница скрывала их от посторонних взглядов, и Артур шагнул вглубь, собираясь примять ее.
— Это нехорошо, — сказала она. — Нельзя затаптывать траву.
— Почему нехорошо? Мне нравится. И вообще, какое это имеет значение?
— Вот я и говорю, — слабо улыбнулась она, — ты не можешь отличить хорошее от дурного.
— Не могу. А еще не хочу, чтобы меня учили.
— Но мысль, мне кажется, правильная. Это хорошее место, — сказала она, глядя на образовавшуюся в зелени вмятину. — Я люблю тебя, Артур. — Они сели и страстно прильнули друг к другу.
В ожидании поезда из Бирмингема он стоял на платформе в Дерби, прислонившись всей своей тощей долговязой фигурой к неработающему автомату с шоколадными конфетами. Посвежевший и выбритый настолько чисто, что его нестираная гимнастерка существовала как бы отдельно от всего того благоухания, что от него исходило, Артур только что вышел из вокзального буфета, где чашке чая сопутствовала булочка с изюмом. Неподалеку было свободное место, но Артур, не желая мять аккуратно выглаженные брюки, не стал на него садиться. Он не мог оторваться мыслями от бурного прощания с Брендой там, в пшеничном поле, затянувшегося до полуночи, когда уже ушел последний автобус. Они возвращались домой при полной луне, с неясным ощущением обреченности, вышедшим наружу при столь бесповоротном расставании, с чувством начала несчастного конца, с которым можно бороться, но нельзя победить. И чувство это, хоть не было сказано ни слова, испытывали они оба и выдавали его друг другу слишком явным желанием казаться веселыми. В их страсти заключалась горечь, в нежных словах не было смысла, и они чересчур легко и поспешно подхватывали, как брошенную на землю перчатку, шутливые замечания, призванные скрыть их истинные чувства.
— Береги себя, — сказала Бренда. — И будь хорошим мальчиком. Скоро увидимся.
Дай-то бог, подумал он.
Носильщик катил по платформе тележку с багажом. Артур стоял неподвижно, глядя, как одна за другой скатываются по черным стенам депо тонкие струйки дождя, того легкого моросящего дождичка, который всегда навевал на него тоску и нестерпимое чувство внутренней опустошенности. Пятеро солдат перешли виадук и шумно спустились на платформу. Влажный воздух наполнился сальными шутками. Артур узнал их. Они узнали Артура. Они протопали к нему, стуча своими тяжелыми башмаками, и швырнули рюкзаки на сиденье. Артур стоял потерянный, съежившийся в атмосфере солдатского гогота, ощущающейся тем острее, что сам он весь вспотел, а тут еще другие протягивали руки и хлопали его по спине.
— Смотрите-ка, да это старина Эрни Амбергейт!
Все они направлялись в один и тот же лагерь и знали друг друга по прошлогодним сборам.
Каждый вечер Артур напивался. Пятнадцать дней — срок долгий, и трезвым его не выдержать, тем более что он ненавидел перемены и еще больше ненавидел армию. У него всегда были с собой кусачки, чтобы незаметно вернуться после отбоя в лагерь, и он с восторгом спускался в ров, одну за другой отхватывая нити колючей проволоки и аккуратно возвращая их свободной рукой на место, ощущая коленями влажную землю, лицом — острые травинки, щиколотками — колючую ежевику, переползая с места на место, чтобы не заметил часовой в будке, и так до тех пор, пока лаз в ограде не оказывался таким широким, что через него могла проникнуть вооруженная дивизия.
На первой поверке старшина воскликнул, что не может разобрать, какой формы у Артура череп, потому что он слишком оброс, и тот весело согласился подстричься, имея в виду забыть об этом разговоре, как оно и получилось.
— Ты теперь солдат, а не пижон какой-то, — сказал старшина, но Артур знал, что, с какой стороны ни посмотри, он не прав. Когда ему пытались объяснить, кто он, Артур оказывался ни тем, ни другим, ни третьим. Даже собственное имя — недостаточный признак, хотя оно и значится в платежной ведомости. Так кто же я? — задумывался он. Шестифутовый крепежный столб в шахте, которому не терпится выпить пинту эля, — вот кто я такой. А если какому-нибудь умнику этого недостаточно, то тогда я — торговец динамитом, продавец оружия, коммивояжер, торгующий стотонными танками, заряжающий, только и ждущий команды взорвать армию к такой-то матери. Я это я, и никто другой. И кто бы что ни думал и ни говорил, я как раз не тот, потому что никто про меня ни черта не знает.
На второй день он зашел в туалет и уставился в выкрашенную краской стену, словно пытаясь отыскать непристойные надписи, казавшиеся ему некогда такими забавными, и видя вместо них четко составленный список сегодняшних участников забегов и завтрашних победителей. Секунды, что он там провел, казались днями, каждый — словно товарный поезд, проехавшийся по его желудку, динамо-машина, крутящаяся в голове, наковальня в сердце, кляп во рту, который, тем не менее, выталкивал из себя слова: «Ублюдки. Ублюдки. Ублюдки», пока после завтрака не появился Амбергейт и не ткнул его в спину, а Артур обернулся с поднятым кулаком, радуясь возможности исколошматить его как следует. Но он вовремя остановился, потому что с Амбергейтом не мог так себя повести — ведь это был его кореш-шахтер с какого-то заброшенного рудника в предгорьях Дербишира.
Дни и ночи текли довольно медленно. На полигоне он чувствовал себя с Бреном — своим ручным пулеметом — как дома: ему становилось хорошо от одной мысли о пулях, попадающих в трубу из ленты-змеи, и выстрелы-плевки, поражающие мишень, музыкой отдавались в его ушах. Стрелять Артур любил, это следует признать. Стрельба утоляла жажду разрушения, возникавшую сразу, как только в дальнем конце стрельбища появлялась мишень-фанера. Правда, приятнее было бы поразить нечто более ощутимое — дома или людей, но это невозможно, во всяком случае пока. Когда приходила очередь стрелять другим, он любил постоять и послушать неумолчный визг пуль, вылетающих из десятков стволов, наслаждаясь самим звуком стрельбы, то возвышающимся, то опадающим, ее безумным восторженным ритмом, от которого воздух разрывается на мелкие частицы.
Каждый вечер они с Амбергейтом уходили выпивать, и на долгом пути он строил планы персональной войны и революции, отравлений и ограблений. С Амбергейтом он делился несбыточными мечтами, представляя их как шутку. Возвращаясь из деревни, они забывали обо всем на свете, кроме собственного существования, кроме вот этой, сейчас протекающей минуты, набитого брюха, волочащихся ног и исцарапанных под штанинами бедер. В темноте, над полями и лесами, звучало, словно обретшее голос первобытное безумие, пьяное пение Артура, и это были лучшие часы всех тех пятнадцати дней. Они проходили мимо запертых на замок, недоступных для них коттеджей, мимо дверей и окон, которым не было дела до придуманных на ходу песен Артура, перекатывающихся и гремящих, будто рык некоего полузабытого голоса Вселенной.
Однажды он возвращался после вечерней вылазки один, каким-то образом потеряв в пабе кореша. Ясный, голубой, полыхающий день потух, сменившись беспросветно-черной тьмой с ползущими по небу рваными тучами. Засунув руки в карманы и пошатываясь от такого количества спиртного, которое его организм был еще способен удерживать, Артур насвистывал какую-то мелодию. Мгновенная багровая вспышка ярко осветила его стоявшим на тропинке. По краям он увидел деревья, ранее не замеченные, и машинально продолжал насвистывать под аккомпанемент оглушительных ударов грома, но та, самая первая, вспышка проделала в его сознании глубокую борозду, в которую, широко осклабившись, влетела очередная молния. Артуру стало страшно, ноги у него задрожали. «В чем дело?» — пробормотал он. Потом громче: «Что происходит?» Он пробивался сквозь ровную отвесную стену дождя, считая секунды между вспышкой молнии и ударом грома. Потом снова засвистел, на этот раз какой-то походный марш, и так шел, по-прежнему покачиваясь, и в какой-то момент остановился закурить. Очередная вспышка молнии, казалось, рассекла землю надвое, а мгновенно последовавший за ней удар грома прозвучал так, словно взорвалась пороховая фабрика. Деревья аркой сомкнулись над тропинкой, и Артуру стадо страшно, что молния ударит в него. Впервые за много лет гроза так его напугала. Мальчишкой, когда наступало время летних гроз, он, бывало, с криком вбегал с улицы в дом и прятался в темной посудомоечной либо под лестницей, и так продолжалось до того лета, когда небесный гром сменился грохотом бомбежки, а молнии — вспышками артиллерийского огня, и он понял, насколько же безобидные гром и молния. Однажды летней ночью — дело происходило во время войны — его разбудили грохот взрывов и вспышки огня, мерцающие за окнами в спальне. Ему ужасно не хотелось вставать с постели и спускаться в домашнее бомбоубежище, и он никак не мог понять, отчего не прозвучал сигнал тревоги, а если прозвучал, то почему ни он, ни кто-то другой в доме его не услышал. Фред сел на кровати и сказал, что это всего лишь гроза. Всего лишь гроза! Бабах! Под это музыкальное сопровождение он повернулся на другой бок и заснул, и сейчас, когда ему вдруг стало страшно и он так обессилел, Артур вспомнил этот момент и рассмеялся и продолжал смеяться, пока не увидел вблизи горящие огни военного лагеря, когда уже не нуждался ни в каком убежище и мог прошагать еще много миль.
Ударом ноги Артур открыл дверь в казарму, расстегнул ремень и сбросил фуражку. Последнее, что он услышал перед тем, как провалиться в сон, был удар грома.
Он вынырнул из сладкой дремы на следующий день, в восемь утра, лежа на своей койке раздетый, под кучей одеял. Он открыл глаза, но не смог и рукой пошевелить, чтобы почесаться. Все четыре конечности были прочно привязаны к коечной раме. Оторвав на несколько дюймов голову от подушки, он увидел, что в казарме пусто. На завтрак, должно быть, ушли, подумал он. Лучи солнца, бившие через окна казармы и превращавшие пол в зеркало, а кухонную плиту в сноп света, падали на аккуратно сложенные на застеленных койках солдатские ранцы. Голова у него болела. Артур попытался освободиться, но веревки были затянуты туго и закреплены надежно, так что ничего не получилось. Через несколько минут он уже крепко спал.
Разбудили его голоса тех, кто вернулся с завтрака, и, в частности, Амбергейта, засовывавшего в ранец свою оловянную кружку. Мур предложил Артуру чашку чая.
— Эрни, — хрипло окликнул Амбергейта Артур, — отвяжи меня.
Мур протянул ему чашку.
— На, выпей, сразу почувствуешь себя лучше.
— Сначала отвяжите меня.
Видя, что никто и пальцем не хочет пошевелить, он шумно опорожнил чашку. Вид его вызвал общий смех.
— Что за ублюдок меня связал? — мрачно осведомился Артур.
— Никто тебя не связывал, — возразил Мур.
— Как это не связывал? Кто, спрашиваю?
— Вчера вечером, — подмигнул ему Амбергейт, — мы застали тебя лежащим плашмя на полу, а когда попробовали уложить в койку, ты начал брыкаться. Ну, мы сначала решили оставить тебя в покое, но появился комроты. «Что это, — спрашивает, — за солдатик здесь валяется на полу в луже собственной мочи?» «Вырубился, сэр», — отвечаю. «Ну так уложите его в койку, — приказывает он, злой как черт. — Нечего этому ублюдку валяться на полу в казарме. В койку его». «Но понимаете, сэр, — говорю, — стоит подойти, как он начинает лягаться своими башмаками». «Не будь идиотом, — рычит командир, — укладывай его. Сейчас покажу, как это делается». А дальше, Артур, хочешь верь, хочешь не верь, ты приложил ему прямо в яйца. Правда, парни? Точно попал. Ну, командира чуть кондрашка не хватила. «Вяжите его, — рычит, как обезумевший бык. — Вяжите этого гада. Чтобы я позволил какому-то мальчишке лягать меня куда попало?! А уж утром я с этим козлом разберусь, попомните мое слово». Ну, мы тебя и связали. Приказ командира.
— Врешь ты все, ублюдок! — завопил Артур. — Тебе бы в цирке выступать, пятьдесят шиллингов в неделю зашибал бы. Развязывай.
— Как же, — посреди общего хохота ответил Амбергейт. — Чтобы ты лягаться начал?
— Развязывай, говорю.
В казарму сунул голову сержант.
— Эй, вы все, на плац, перекличка! — громко скомандовал он, и через полминуты казарма опустела, остался лишь Артур, привязанный к кровати и лишенный возможности двигаться. Не то чтобы это так уж его смущало: он устал и совершенно обессилел. Глаза его закрылись сами собой, и Артур вновь погрузился в сон.
В одиннадцать часов в казарму зашел дежурный офицер.
— Ну и что это за кретин валяется в кровати средь бела дня? — возмутился он. — Эй, ты там, ты что себе думаешь?
Артур медленно открыл глаза. Попытался пошевелить руками-ногами, потом все вспомнил, моргнул и снова закрыл глаза. Дежурный потряс его за плечи, ткнул пальцем в ребра:
— Эй, парень, объясни ради бога, что ты здесь делаешь? Вставай. Ну, живо!
— Что, сэр? — Артур наконец посмотрел на него.
— Чего валяешься, спрашиваю? — рявкнул дежурный.
— Мне плохо, сэр, — придумал первое попавшееся объяснение Артур, — не по себе что-то. Голова болит и живот, и кажется, будто меня к койке приковали.
— Прекрасно. Почему в таком случае не вышел на перекличку вместе с другими больными?
— Проспал.
Дежурный тяжело вздохнул, словно в первый раз ощутил бремя жизни.
— Чтоб вам неладно было, резервисты чертовы, — выругался он. — Ладно, пришлю сержанта, пусть отведет тебя в больничку.
Хлопнула дверь, и в казарме стало тихо. Сержанта дежурный прислать забыл, и Артур валялся в койке до полдника в приятной дреме, забыв, что связан; часы летели так легко и быстро, что потом он сказал Амбергейту: не надо, мол, меня трогать, пусть все так и остается, и лучшего способа провести все эти пятнадцать дней не придумаешь, особенно если дадут напиться чая да курнуть время от времени позволят.
Глава 10
Он переоделся в твидовый пиджак и зауженные книзу брюки и, остановившись на пороге паба «Мэтч», обежал взглядом L-образный зал. Бренда и Винни сидели за угловым столиком, потягивая крепкий портер. Бренда подняла голову и улыбнулась. Она не ожидала увидеть его здесь.
— Ничего, если я присяду? — спросил он.
— Конечно, присаживайся, — кивнула Бренда. Немного наклонив голову, она задумчиво смотрела прямо перед собой и медленными глотками отпивала портер. Шеи ее не было видно до тех пор, пока она не поставила бокал на стол.
Интересно, что она там прячет, подумал Артур, смутно ощущая, что ему здесь не рады, пусть даже предложение выпить еще по одной было принято с благодарностью.
— Что-нибудь не так, цыпленок? — спросил он.
— Да нет, все нормально. — Бренда посмотрела на него с улыбкой.
— Если хочешь, можно пойти куда-нибудь в другое место. Здесь скучно, как на кладбище ночью, — сказал он, поворачиваясь спиной к публике, толпящейся за стойкой.
— Зачем? Мне и здесь хорошо, — мягко возразила она.
У нее здесь свидание, подумал он, мужчину ждет.
— Здесь так здесь, — согласился Артур и велел официанту принести выпивку. Винни поинтересовалась, как прошло время в лагере, и он рассыпался в похвалах: лучше, мол, чем в Блэкпуле, потому что вместо соленой воды там крепкое пиво. В последний раз он видел Винни на вечеринке у Бренды, и выглядела она сейчас еще соблазнительнее, чем раньше: оделась откровенно напоказ, в белую блузу с глубоким вырезом и черную юбку, со свежим перманентом — словом, так, словно решила как следует повеселиться, прознав, что ее муж Билл спит с какой-то немкой под жарким солнцем Рейна. Скорее всего, так оно и есть, подумал Артур, недаром у «Мэтча» худшая в этом смысле репутация в городе. Он не мог оторвать от нее глаз и чувствовал себя королем, угощающим двух шикарных и доступных женщин.
Он перегнулся к Бренде.
— Что-то ты нынче грустная, цыпленок. Не рада меня видеть?
Она ответила не сразу, сначала допила свой портер:
— Тебя в школе писать учили?
Ах вот оно что. Он так и не написал ей.
— Совсем времени не было, цыпленок. Я ведь еще когда уезжал, предупредил, что могу быть очень сильно занят.
— Даже на открытку времени не нашлось? — мрачно осведомилась она.
— Говорю же, с утра до вечера был занят — то одно, то другое. Стоило появиться в лагере, как мне тут же сунули в руки винтовку, и пошло, и поехало. Десять миль кросса с примкнутым штыком под дождем, потом по-пластунски в лесу, через густой кустарник — весь исцарапаешься. Честно, под вечер сил не хватало, даже чтобы чашку с чаем до рта донести. А еще шагистика, лекции, вахта, военные игры, чтение карты, стрельбище, и так каждый божий день. Ты даже представить себе не можешь, каково это. Денежки свои там отрабатывают, это уж точно. Я все время собирался тебе написать, но, честно, ни минутки свободной не было. Я даже мамаше ни слова не написал. Она жутко за меня волновалась и какими только словами не крыла сегодня, стоило в дом войти: думала, говорит, тебя там пристрелили, или танком раздавило, или еще что в этом роде.
— Даже вечером времени не было? — спросила Бренда, все еще не вполне убежденная его речами, несмотря на серьезный вид, с каким они были произнесены.
— Вечером? — оскорбился он. — Эти ублюдки заставляли нас до десяти драить полы в казарме или чистить оружие. Да мы света белого не видели с самого начала, как только приехали в лагерь, и до самого конца. Я лично ни разу выпить не отлучился, ноги не держали. А еще вахты чуть не каждую ночь. Говорю тебе, это были худшие две недели в моей жизни.
В конце концов она ему поверила, но вот вопрос: почему же он в самом деле не нацарапал ей письмецо? И правда, как выяснилось, состояла в том, что попросту забыл. Верно, вспоминал ее время от времени, но написать в голову не пришло. К тому же, спросил он себя, разве это не было бы опасно? Что, если бы письмо попало в руки Джеку и он бы его прочитал? Джек — малый неплохой, но себе на уме, его трудно понять, он из тех, у кого в любой момент может сорвать резьбу, особенно если вдруг узнает, что ты проделывал у него за спиной в течение долгого времени. И тогда жди беды. А еще писание писем слишком похоже на тяжелую работу.
С Брендой он многого не добился. Правда, Винни была более податлива. Тем не менее в девять вечера он удивил их обеих, заявив, что идет домой отсыпаться после тяжелых армейских будней.
— Рано еще, — сказала Бренда, но, похоже, не имела ничего против его ухода.
— А о нас можешь не беспокоиться, — весело засмеялась Винни с выражением, не обещающим ничего хорошего ее мужу. — Мы уж как-нибудь о себе позаботимся.
За ним закрылись двери. Он быстро зашагал вверх по улице, пробился сквозь группу солдат к главной улице с ее фонарями и оживленным движением, все больше удаляясь от двух упрямиц, не проявивших к нему ни малейшего интереса. Продолжая свой внутренний монолог, он выругал их про себя грязно и изощренно: вышли, понимаешь в «Мэтч» на вечернюю охоту, а тут, откуда ни возьмись, появляется он и подсаживается к их столику. Настоящий удар. Пьют его портер, и не хватает мозгов, чтобы прямо сказать: тебя здесь не ждут. Не то чтобы ему было жалко их угостить. Этого можно было ожидать, таковы уж ноттингемские женщины: у них хватает наглости, и тупости, и самоуверенности, чтобы пить твой эль, и неважно, нравится им твоя компания или нет. Шлюхи, все они шлюхи. Все, с меня хватит. Больше они от меня ничего не получат. Не стоила Бренда тех хлопот, которые он поимел ради нее. Скорее всего, с удовольствием посмотрела ему в спину, когда он выходил, и все эти две недели только и делала, что поливала его грязью, не говоря уж о бедном старине Джеке. Не портером надираться ей надо бы у «Мэтча», а дома сидеть, за детьми присматривать, за этими бедными крошками. Если я когда-нибудь женюсь, думал он, и жена начнет гулять, вроде Бренды и Винии, такую взбучку получит, что навек запомнит. Убью. Моя жена будет растить детей, моих детей, и держать дом в образцовом порядке. И если поведет себя хорошо, я, может быть, позволю ей время от времени ходить в кино, а по субботам возьму с собой выпить кружку пива. Но если узнаю, что она за моей спиной шашни строит, отошлю к матери, а перед тем синяков понаставлю, она и заметить не успеет. Это уж как пить дать.
Он направлялся в сторону Слэб-сквер, всей кожей жаждая шума общественного места, растворения в фонтанах эля и смеха. Главная улица была ярко освещена фонарями, они тайно подмигивали прохожим, словно готовые мгновенно выключиться и погрузить весь окружающий мир во тьму, стоит только появиться какому-нибудь бдительному члену Общества соблюдения Дня Господня[13]. В таком случае, мрачно подумал он, лучше уж понедельник, чем воскресенье, хотя это и первый день тяжелой рабочей недели. Многочисленные пабы подавали признаки жизни, но в них явно не хватало страсти, необходимой для того, чтобы избавиться от тяжелых мыслей о проклятых бабах, пытающихся затащить его в пучину беспробудной пьянки.
У дверей церкви Святой Марии толпилась группа людей. Внутри все еще горел свет, невдалеке был припаркован «даймлер», своим видом напоминающий призового спаниэля, привязанного к бордюру. Артур пробился сквозь толпу, рассчитывая, что уж в «Хорс-энд-Грум» в воскресный вечер будет достаточно шумно. Здесь нередко собирались ирландские чернорабочие, чтобы спустить остатки жалованья перед тем, как наутро явиться к десятнику за новым нарядом. Когда-то в их бригаде работал двоюродный брат Артура, и он рассказывал, что обычно по выходным всегда находится пара бузотеров, готовых сразиться где-нибудь на ближайшей поляне на все, что есть у каждого в кошельке, при том условии, что победитель заплатит фунт за ночевку проигравшего в общежитии. Бесчувственные дуболомы, думал Артур, прокладывая себе путь к выбранному месту, и не успел он еще заказать у стойки первую пинту, как его окутало парами пива.
— Тихо нынче сегодня, — сказал он барменше, нацедившей ему кружку эля.
— Да. — Она сплела пальцы и улыбнулась одними губами. — Зато в прошлую субботу здесь был большой шум. Они, — речь шла все о тех же чернорабочих, — затеяли драку, появилась полиция и вышвырнула всех на улицу. Не слышал? У нас чуть не отняли лицензию.
Артур объяснил причину своего отсутствия.
— Да, эти мики[14] — та еще публика, — согласился он.
— Посмотрел бы ты на них, — продолжала она не без некоторой гордости, — дерутся, как львы. А по воскресеньям, говорят, ходят в церковь, потому что они католики. Вот этого я понять не могу, право слово, не могу.
— Ну, такие уж у них привычки, — заметил Артур, — а у меня другие. Я в жизни в церкви не был. Меня даже не крестили.
— Ничего, — сказала она, — как женишься, так пойдешь, это я могу тебе обещать.
— Только не я, — засмеялся он, подталкивая к ней опустевшую кружку. — Прежде всего, я не собираюсь жениться, но даже если женюсь, пойду не в церковь, а в мэрию.
— Посмотрим, что скажет на это твоя невеста. Никогда не угадаешь, что у нее на уме.
— Ну, в таком случае я на ней не женюсь. У меня есть тетка, очень религиозная женщина, так совсем доходит сейчас. Ее мальчишку сбила машина, когда ему было десять лет, и с тех пор она стала совсем другой. Мало того, еще и пьет вусмерть. Целыми днями тянет портер бутылка за бутылкой. Так что никогда я не женюсь на девчонке, которая верит в Бога.
— Влюбишься — женишься, — сказала она.
— Только не я. Еще одну, цыпленок, на этот раз гиннеса.
Занято было всего несколько столиков, и ничего интересного вроде не происходило. Впрочем, за одним, у дальней стены, царило некоторое оживление. Из четырех сидящих там людей Артур выделил девушку, держащую в ладонях кружку с имбирным пивом. Ее каштановые волосы красиво сходились на затылке в овал, из-под воротника пальто выбивался ромбик шелкового шарфа, и если судить по тому, что Артур мог разглядеть со своего места, колец на пальцах не было, а из косметики она пользовалась только губной помадой, и лицо ее казалось таким бледным, словно во время месячных. Она из такой же среды, что и он, решил Артур, потому что хотя говорила девушка немного, нет-нет да слово вставляла. «Да не так это, мамаша», — произносила она довольно громко, потом снова умолкала, давая матери поговорить с молодым человеком и еще одной женщиной. Эти последние, заключил Артур, муж и жена, или дочь и зять, хотя, может, сын и сноха. А девушка — точно дочь, по лицу видно. Здорово, думал он, когда есть на пальце кольцо, нет кольца, а всегда можешь отличить замужнюю от одинокой. Это вопрос интуиции. Смотришь на женщину и сразу говоришь себе: «замужем», или «не замужем», и в девяти случаях из десяти оказываешься прав. Было у него еще одно наблюдение касательно молодых женщин — хотя тут случались и проколы: даже если они были одеты в просторное пальто, по лицу можно было определить размер и форму груди. Если у женщины тонкие губы и лицо как морда у борзой, если она любит поговорить, то, значит, грудь у нее плоская, как тарелка для овсяной каши, или маленькая, меньше гусиного яйца, а у щекастой хохотушки с пухлыми губами всегда есть за что подержаться. В этом смысле труднее всего с теми женщинами, о которых говорят «в тихом омуте черти водятся»: чаще всего у них все на месте, но если вдруг нет, то все недостатки они компенсируют в постели. Что касается девушки, которая привлекла его внимание, поворачиваясь что-то сказать матери, то она скорее подпадает под последнюю категорию. Ему принесли заказанную кружку гиннеса.
Она посмотрела в его сторону. Решила, наверное, что у меня не хватит нахальства глазеть на нее, подумал он, улыбаясь и кивая в ответ на приветствие, которого еще не было. Тут улыбнулась и она и сразу же отвернулась к матери, что-то ей сказавшей. Он поднял кружку и посмотрел в огромное зеркало, висевшее над барной стойкой.
А почему бы, подумалось ему, и нет? Потому что она с матерью, придурок ты этакий. Ну и что? А то, что матери это может не понравиться. Да мать ничего не узнает. Скажу… Девушка вроде славная, милая, познакомиться стоит. Он снова посмотрел и увидел, какая у нее белая шея. Шарф, наверное, сняла, потому что жарко стало. Жаль, что она так занята разговором с другими. А ведь чувствует, что я стараюсь поймать ее взгляд. До закрытия двадцать пять минут, время утекает, как песок между пальцев.
Он повернулся к стойке и заказал еще одну кружку. Барменша раньше видела их с Брендой и поинтересовалась, где его приятельница.
— Приятельница? — переспросил он. — Да никакая она мне не приятельница. Двоюродная сестра, живет в Шеффилде, приезжала навестить. А я тогда, наверное, город ей показывал. Сейчас она вернулась домой.
— Да не вмешиваюсь я в ваши дела, — заторопилась та, — просто показалось, что вид у вас… немного одинокий.
— Ничего страшного, — отмахнулся он. — Иногда мне даже нравится побыть одному. В одиночестве я хорошо себя чувствую, потому что живу в большой семье, и на работе народу полно, так что побыть одному — мне в радость. Нет ничего лучше, чем сесть на велосипед, поехать за город, на рыбалку в Котгрейв или Трауэл и сидеть там на берегу часами.
— Очень хорошо вас понимаю, — откликнулась она. — Я и сама такая. Не очень-то, знаете ли, весело стоять целыми днями за стойкой. Но что поделаешь? Это приличный заработок. Да, цыпленок? Чем могу? — Последние слова она проговорила громче, обращаясь к кому-то за спиной Артура.
Он повернулся и отступил в сторону, давая пройти той самой девушке, на которую только что смотрел со своего места. Она поблагодарила его и попросила барменшу дать четыре пакета хрустящего картофеля. Пальто ее было распахнуто, и под ним виднелось ярко-желтое платье, донизу застегнутое на пуговицы того же цвета. Взглянув искоса, он оценил ее несколько худощавую, но стройную фигуру.
— Чей-то день рождения празднуете? — поинтересовался он.
— Нет, — с готовностью откликнулась девушка, — мамину серебряную свадьбу.
Барменша положила на стойку пакетики и сдачу и отошла к дальнему концу стойки налить кому-то двойной виски.
— А почему папы не видно? — спросил он. — Умер?
— Разошлись, — ответила она. — Так что мамаша затеяла это празднество вроде как в шутку, но мне такие шутки не нравятся.
Вот так, не нравятся, подумал он.
— Может, выпьешь чего-нибудь, цыпленок, раз уж подошла?
Девушка обернулась через плечо и, увидев, что ее спутники заняты разговором, кивнула:
— Пожалуй. Имбирного пополам с лимонадом, если ты не против. А ты что за черную смесь пьешь? Похоже на патоку.
Он пояснил, что к чему.
— А-а, слышала и даже, кажется, пробовала однажды, — кивнула она. — Но для меня это слишком крепко. — Она отхлебнула имбирного. — Это мой предел.
— Ну, я тоже не такой уж пьянчуга. Просто сегодня захотелось поддать, потому что я только что с военных сборов. Думаю, человек имеет право выпить по такому поводу.
— Это уж точно, — кивнула она. — А ты в каких частях?
— Пехота. Но на следующий год — вчистую.
— Рад?
— Не то слово. Жду не дождусь.
— Моя сестра замужем за летчиком, — сказала она. — Он классно выглядит в форме. Но сейчас в отставке, они купили дом в Воллатоне. На следующей неделе ей рожать.
— И ты тоже там живешь? — спросил он, так и не прикоснувшись пока к кружке.
— Нет, в Брокстау, там новая застройка. Мне нравится. От магазинов далеко, зато полно свежего воздуха.
Он предложил ей отнести своим пакеты с картошкой и вернуться.
— Ладно.
Он услышал, как она громко говорит матери, что встретила товарища по работе и хочет поболтать с ним, и сделал глоток.
— У тебя что, мать глуховата? — спросил он, когда она вернулась, и протянул ей сигарету.
— Ну да. А когда на улице люди слышат, как я кричу ей прямо в ухо, думают, наверное, что я — громкоговоритель. Нет, приятель, спасибо, я не курю.
Он засмеялся и спросил, как ее зовут.
— Дорин. Дурацкое имя, верно? — Она высунула язык — большой, лопатообразный — и тут же вернула его в теплое убежище.
— Да нет, нормальное имя. Дорин. А я Артур. Тоже ничего особенного, но это ведь не наша вина, верно?
— Ну, мне, во всяком случае, приходилось встречать имена получше моего. Можешь поверить.
Он допил свое пиво.
— Если хочешь знать, что я думаю, то все жалуются на то, что чего-то им недодано. И это нормально, иначе пришлось бы признать, что в мире что-то не так. Так ты где работаешь?
— Я? В мастерской Харриса, мы там делаем сетки для волос. Ладно, давай курну все же. Только не хочу, чтоб мамаша увидела, иначе доставать будет. Уже четыре года там работаю, сразу после школы начала.
Так я и думал, сказал он себе. Девятнадцать.
— А я велосипедами занимаюсь. Мне нравится работать на большом производстве: премия на Рождество, бесплатная поездка в Блэкпул, спортивный клуб есть, где можно выпить. На фабрике о тебе заботятся. — Черта с два, добавил он про себя.
Она допила свой напиток.
— Давай еще кружечку, — предложил он. — Ну же, не повредит, не напьешься. Имбирного с лимонадом, мэм, — окликнул он барменшу. — К тому же твоя мать отмечает сегодня серебряную годовщину.
— Тебе совершенно необязательно быть таким милым, чтобы просто предложить мне выпить. Хорошо, выпью имбирного. А тебе твое темное, смотрю, тоже нравится.
— Ну ты и язва, — хмыкнул он, допивая вторую кружку в ее присутствии. — Все замечаешь.
— За слепоту не платят, — засмеялась она.
— Чем занята на неделе? — сделал он заход. — В кино ходишь?
— Только по понедельникам. А что? — Она подозрительно посмотрела на него своими карими глазами.
— Да ничего, просто чудно: я тоже по понедельникам хожу в кино. Всегда считал, что вечер понедельника — лучшее время для такого рода дел, потому что в выходные я отправляюсь выпить и потрепаться с приятелями, а в другие дни много всяких хлопот — то велосипед починить, то снасти для рыбалки приготовить, то еще что. А вечер понедельника — лучшее время еще и потому, что всегда крутят новые картины. Ты куда обычно ходишь?
— В «Грэнби».
— И я туда, бывает, по понедельникам заглядываю. Но ни разу тебя не видел.
— Потому что в зале сидит еще несколько сотен человек, — небрежно бросила она.
— Ну что ж, в таком случае увидимся завтра, в семь, — сказал он.
— А ты, как я посмотрю, на ходу подметки рвешь, а? Ладно, только не в последнем ряду.
— А почему нет? Мне плохо видно, если я сижу не в последнем ряду. Ближе картинка размывается. Наверное, что-то не так со зрением.
— Тогда тебе, наверное, нужны очки.
— Знаю. Дойдут руки — куплю. Хотя это мне и не нравится. В очках я буду похож на какого-нибудь босса, или бухгалтера, или сборщика налогов. К тому же не так уж плохо я и вижу. И вообще раньше шестидесяти мне очки не понадобятся, а до тех пор я могу и не дожить.
— Веселый ты парень. Это почему же не дожить?
— Так ведь о войне все говорят.
— Только говорят. Какое это имеет значение?
— По мне так если война не начнется до завтрашнего вечера, то и хорошо.
— Все мужчины одинаковы. — Она пожала плечами. — Сразу видно, что ты работаешь на большой фабрике. Слова от зубов отскакивают. Наверное, целыми днями с женщинами болтаешь?
— Думай как нравится. А вообще-то у меня слишком много работы.
— Я-то тебе верю, хотя большинство не поверило бы.
Стрелка часов остановилась на без пяти десять.
— А что завтра показывают? Что-нибудь интересное?
— По-моему, ты сказал, что часто ходишь в «Грэнби», — резко бросила она. — А там всегда перед сеансом дают анонсы будущих фильмов.
Попался.
— Да знаю я, знаю, — заторопился он, — просто внимания чаще всего не обращаю. Или забываю, как только выйду из зала. Память дырявая. Я даже про что картина, которую только что посмотрел, не помню, если только это не какая-нибудь крутая шутка с Борисом Карловым или кем-нибудь в том же роде. Я, наверное, как и все, тысячи картин видел, но, если честно, помню не больше десятка. Например, «Генриха Пятого», хотя видел его два года назад, — но с тех пор еще шесть раз. К тому же я читал речь, которую он произнес, сидя в седле перед сражением. У брата есть книга.
— Прочитать можешь?
Кое-что мог бы. Иные слова, произнесенные громовым голосом короля, запомнились и звучали в ушах, но продекламировать их он бы не смог.
— О нас, о горсточке счастливцев, братьев… Тот, кто сегодня кровь со мной прольет, мне станет братом… Всякий, кому охоты нет сражаться, может уйти домой, получит он и пропуск, и на дорогу кроны в кошелек… Кто, битву пережив, увидит старость… Кто невредим домой вернется, тот… при имени святого Криспиана[15]… — Его пальцы оторвались на мгновенье от кружки, и он даже встал, чтобы получше услышать смертоносный полет стрел под Агинкуром. — Нет, забыл. Она слишком длинная. Но если хочешь, возьму у Сэма книгу и перепишу для тебя.
— Не беспокойся. По-моему, Лоренс Оливье — замечательный актер. А тебе он как? И такой красивый. Он напоминает мне одного моего знакомого, он когда-то работал у нас в мастерской.
Барменша начала застилать полотенцами стойку.
— Время! Закрываемся!
— Что ж, цыпленок, до завтра, — сказал Артур.
— Да. В семь вечера. И смотри не подведи, чтобы я тебя зря не ждала.
Подгоняя задерживающуюся публику, замигали лампочки.
— Не говори так. Буду как штык.
Мать окликнула Дорин.
— Ладно, пока.
— Пока-пока, до завтра.
В точку, говорил он себе, ступая на тротуар. В точку, повторял он, удаляясь от паба. Люди оставляли свои места за пустеющими стойками и столиками, выстраиваясь в очереди на автобусных остановках, и каждая такая очередь походила на шевелящийся, как у головастика, хвост очередного уик-энда. Бежит время, подумал он. Глазом моргнуть не успеешь, а на дворе Гусиная ярмарка, потянутся темные ночи, ударят зимние холода, и все повалят в рождественские клубы за шоколадом, пирогами с мясом и выпивкой. В декабре мне стукнет двадцать три. Не за горами старость. Заворачивая за угол у церкви, он увидел Винни, идущую в одиночестве мимо темной витрины Вулворта.
— Ты же вроде спать ушел? — спросила она, когда он нагнал ее.
— Передумал. А Бренда где?
— Наелась и домой отправилась.
Он почувствовал, что она врет.
— И с кем же это она отправилась домой?
— Это такая же чистая правда, как и то, что я сейчас стою здесь с тобой, — заверещала Винни, даже останавливаясь, чтобы ложь прозвучала более убедительно. — У нее голова раскалывалась, она села в автобус и уехала домой.
— Что ж, если она хочет играть в такие игры, — сказал он, отступая вместе с ней к стене, чтобы не мешать проходящим, — мешать не буду, но в один прекрасный день сама об этом пожалеет, так и можешь ей передать от меня.
Винни посмотрела на него своими угольно-черными глазами.
— Слишком ты большой у нас умник, вот в чем твоя беда.
Они направились вверх по улице, и он обнял ее за талию.
— Ладно, Цыганочка, не твоя это забота, так что не надо злиться. — Он подумал, что его шансы провести с ней ночь вырастут, если не садиться в автобус. Она нетерпеливо стиснула его руку, и предположение, что суета нынешнего дня найдет счастливое разрешение, показалось вполне разумным. Утром он ездил в Шрусбери, и теперь в голове у него стремительно замелькали картинки дня и вчера: сначала мигающие огни города, затем деревенский пейзаж, небо, запахи вокзала и табачного дыма в поезде, потом автобус и пары пива и, наконец, обещание запахов женского тела и спальни, которые увенчают весь этот долгий беспокойный день. Неторопливо, в молчании поднимаясь к дому Винни, он думал о том, что хорошо бы Дорин не забыла про их завтрашнее свидание и не заставила его ждать у дверей кинотеатра слишком долго. Его мнение о ноттингемских женщинах несколько изменилось. Да, конечно, говорил он себе, все они своего не упустят, и все же большинство сделаны из хорошего теста и, как правило, можно получить свое, надо только, если хочешь найти нужную женщину, глядеть в оба и отказаться от некоторых привычек.
Глава 11
В свои девятнадцать Дорин уже боялась «остаться на бобах». Ее замужние, обрученные или еще как-то устроенные в жизни товарки по работе в мастерской сеток для волос донимали ее тем, что у нее даже приятеля нет, но после знакомства с Артуром у Дорин появилась возможность говорить с ними о своем «молодом человеке». При этом, когда она принималась расписывать его достоинства — доброту и щедрость, ласковость и трудолюбие, — округлое лицо ее расплывалось в улыбке. Она создала целый образ: высокий, культурный, почти двадцати трех лет, уже отслуживший свой срок в армии, раньше хороший солдат, а теперь хороший работник — недаром зарабатывает на сдельщине четырнадцать фунтов в неделю. И мужем станет хорошим, в этом не может быть никаких сомнений, ведь он такой добрый и внимательный. И более того — симпатичный, стройный блондин. С таким, как он, любая девушка будет счастлива. К тому же, по словам Дорин, он ее любит, а она, кажется, любит его. Обедая вместе с женщинами и девушками в рабочей столовой, она рассказывала, как при первом же свидании Артур едва не размазал по стене какого-то парня, который позволил себе сказать ей непристойность. Но товарки возражали, что, мол, пусть молодой человек у Дорин теперь и есть, они не обручены, а это имеет большое значение. Ибо в один прекрасный день просто молодой человек может запросто смыться, и потом о нем не будет ни слуху ни духу, а вот если вы обручены, так он дважды подумает. Иметь молодого человека — очень хорошо, но из этого отнюдь не следует, что ты выйдешь за него замуж. Следует, гнула свою линию Дорин и, что ни день, заново рисовала им портрет Артура, и так до тех пор, пока они наконец с неохотой не признали, что, хотя официально они не помолвлены, постоянный молодой человек у нее есть.
Артур был на этот счет совершенно иного мнения. С момента их знакомства — ночи сделались темнее, длиннее, холоднее, Гусиная ярмарка становилась все ближе — они виделись только три раза, и все три раза в кино. Его грела мысль, что он гуляет с девушкой, у которой, кроме него, никого нет, но поскольку она уже несколько раз говорила ему, сидя в заднем ряду «Грэнби», чтобы он не давал воли рукам, и еще ни разу не пригласила его домой, Артур не испытывал ни малейшего желания встречаться с ней чаще раза в неделю. Да, девушка славная, этого у нее не отнимешь, и, насколько можно было судить по тому, до чего при прощальном поцелуе его проворным рукам все же позволялось дотронуться, красивая, но ухаживать ему вовсе не хотелось. А Дорин как раз хотелось, чтобы за ней ухаживали. Она, говорил себе Артур, девушка бойкая и смеется хорошо, ему нравится гулять с ней, не опасаясь преследования со стороны двух громил в военной форме, но он отдавал себе отчет в том, что, имея дело с незамужней девушкой, в один прекрасный день можно — ненароком и самым катастрофическим для себя образом — оказаться на краю головокружительной и никому не нужной пропасти, которую мужчины старше его называют женитьбой, а это еще более непривлекательная перспектива, нежели возможная встреча с чьим-то разгневанным мужем, готовым заехать тебе в челюсть. Как жаль, думал Артур, что всегда приходится выбирать одно из двух или более зол.
С Дорин он встречался нечасто, ибо и рабочие, и выходные дни ему приходилось делить между Брендой и Винни. Впоследствии ему приходило в голову, что стоило бы выбрать безопасную и благоуханную тропу под названием «Дорин», но сладостный риск связи с двумя замужними женщинами был слишком притягателен, чтобы от него отказаться. Он много думал о Бренде и Винни, колдуя над своим токарным станком, и, подобно тому, как детали мелькали перед ним, сменяя одна другую, затевал игру со своими женщинами: Бренду брал с собой в «Лэнгхэм», Винни в «Розу»[16] и все время думал, как долго это может продолжаться. Винни все знала про Бренду и называла Артура грязным развратником и гнусным типом, но Бренде не хватало ума сообразить, что в промежутках между свиданиями с ней он встречается с ее сестрой. Это была жизнь во тьме, это были темные делишки, и самые темные его мысли постоянно возвращались к возможности столкновения с людьми в военной форме. Но его способность таиться только усилилась, и туго натянутые нити не провисали и не ослабевали, более того, достигнутому равновесию ничто не грозило, во всяком случае пока.
* * *
Он вышел под моросящий дождь и, высматривая на противоположной стороне улицы Дорин, встал спиной к витрине кинотеатра, в которой мелькали цветные кадры. Мокрую дорогу окаймляли розовые стены недавно построенных домов, выглядевшие даже более мрачно, чем черные строения Рэдфорда. Он повернулся к витрине лицом: военная картинка и юмористическая картинка, Корея и фарс, сначала морские пехотинцы, скрывающиеся во рву от налета пикирующих бомбардировщиков, потом Эббот и Кастелло[17], которых под общий смех гонят к развалинам счастья убийцы; в конце концов все направляются к дверям под звуки «Боже, храни королеву».
Оставалось несколько дней до начала Гусиной ярмарки, неделя до вступительной речи лорда-мэра, и огромные трейлеры с громоздкой аппаратурой для аттракционов в сопровождении доджей с грохотом въезжали в город из центральных областей страны, собираясь на просторной площадке недалеко от центра. Гусиная ярмарка — большой праздник, единственное место, где встречаешься с людьми, которых не видел несколько лет. Помимо того, по традиции молодой человек берет на ярмарку свою девушку, и на протяжении последних двух недель традиционалистка Дорин терзалась сомнениями, пригласит ее Артур или нет. Он об этом догадывался, но так давно пообещал взять с собой Винни и Бренду, что уже ничего нельзя было изменить, даже если бы захотелось, а такого желания у Артура не было.
Дорин обогнула угол, перешла дорогу и помахала ему рукой в тугой лайковой перчатке.
— Слишком поздно за чай села, извини, что заставила ждать. — Она обнажила в улыбке белые зубы, стянула перчатки и пальто, и со стороны они с Артуром, стоявшим у кассы, казались любящей, давно обрученной парой, которой мешает пожениться лишь отсутствие жилья.
В десять вечера они неторопливо отправились к ее дому по бульвару, окаймляющему этот район города (Артуру вспомнился снимок, сделанный с воздуха: огромная паутина дорог, улиц и перекрестков со школой — черным пауком, затаившимся посредине). Проходя мимо автобуса-киоска, они остановились и купили пакет жареного картофеля, пахнущего уксусом и солью. Дорин вспомнила про Гусиную ярмарку:
— Вчера я вышла погулять в Лес, смотрю, там уже карусели установлены.
— Правда? — рассеянно спросил Артур, словно никогда не слышал о ярмарке.
— И трейлеры тоже видела, — добавила она, — они со стороны Мельничного моста ехали.
— Как-то, мне тогда было шесть лет, я заблудился на Гусиной ярмарке, — вспомнил он. — Но ничего страшного, наоборот, было здорово, я бесплатно на каруселях катался. Правда, около одиннадцати я заплакал и, когда подошел полисмен, сказал, что заблудился, и он отвел меня в участок. Там меня угостили чашкой чая с пирожными — проголодался я прилично, а когда наелся, сказал, где живу, и меня отвезли домой на полицейском пикапе. До сих пор помню, какими вкусными были эти пирожные. Наверное, я уже тогда был малый — палец в рот не клади, потому что до тех пор, пока меня не накормили, все прикидывался, будто не могу вспомнить, где живу. В таких случаях полицейские — совсем неплохие ребята, а вот с моим двоюродным братом они добренькими не были: однажды он обчистил все газовые и электрические счетчики на улице, так его поймали и прилично отделали, выпытывая, куда он спрятал деньги. Только к тому времени он уже их потратил. Его отправили за это дело в Борстал, а когда он на праздники приехал домой, все спрашивали, работает ли он все еще в налоговой компании и где его маленькая коричневая форменная сумка для денег и фуражка. — Он смял пакет из-под картошки и бросил в канаву.
Она ничего не сказала, и какое-то время они шли молча. Он понимал, что она ждет, пока он заговорит первым. И, как и в иных случаях, когда хочешь не хочешь, а надо что-то решать, чувствовал себя припертым к стенке. Она тоже с силой швырнула на землю свой пакет и взяла его под руку.
— Ты нынче на ярмарку идешь? — спросил он наконец, когда они уже приближались к последнему перед ее домом перекрестку.
— Собираюсь, — лаконично ответила она. — Как обычно.
— Я тоже, хотя, честно говоря, не очень-то мне все это нравится. Катаешься на каруселях до посинения. Радости мало.
— А кое-кому нравится, — резко возразила она. — Многим нравится.
Ярмарка продолжалась три дня, и лучший из них — суббота, как раз когда он обещал взять с собой Бренду и Винни. На тот же вечер рассчитывала и Дорин.
— В таком случае, может, вместе сходим? — ласково предложил он.
— Вот было бы здорово, цыпленок. — Она порывисто схватила его за руку.
— В таком случае — в пятницу, — продолжал он. — Этот день мне нравится больше, потому что народу не так много, как в субботу. Да и в любом случае в субботу я не могу, обещал приятелю съездить вместе с ним кое-куда. У него мотоцикл, я на заднем сиденье пристроюсь.
Дорин еще сильнее стиснула его руку. «За кого она меня принимает? — подумал Артур. — Что я ей, жених, что ли, водить ее с собой повсюду?»
— В пятницу я не могу, — сказала она. — Обещала сестру навестить. Через месяц ей рожать, и каждую пятницу я езжу к ней помочь по дому.
Вот как, око за око, зуб за зуб.
— Жаль. А я-то надеялся, получится вдвоем сходить. Как насчет четверга в таком случае?
— Не лучший день, — покачала головой Дорин. — Ярмарка только открывается. Но мне вовсе не хочется, чтобы ты беспокоился.
— Ну, какое там беспокойство. — Артур сделал вид, что не заметил сарказма.
Они подошли к ее дому.
— Мне пора. Надо еще голову вымыть.
— Ну что ж, в таком случае, когда в четверг увидимся?
— Может, в половине седьмого, на углу бульвара Грегори?
Он уловил разочарование в ее голосе. А она подумала, что, может, четверг это тоже не так плохо, по крайней мере, кое-кто из товарок увидит ее под руку с молодым человеком. Хотя если бы это была суббота, увидели бы все. Тем вечером Артуру достался всего один прощальный поцелуй.
В субботу он встретился с Брендой и Винни там же, где встречался с Дорин двумя днями ранее. Все втроем — Бренда по правую руку от него, Винни по левую — они проследовали к ярмарочному огненному озеру, одетые в лучшее свое платье вопреки старому правилу, гласящему: в такие вечера надевайте старье, чтобы не жалко было испачкаться рыбьей чешуей, жареным картофелем, сахарной ватой, пролить на себя бренди, ну и понаставить всякие другие пятна. Джек, по словам Бренды, остался дома, чтобы заняться бухгалтерскими делами, проверить профсоюзные взносы и занести все это в свой гроссбух.
Ярмарочные огни сливались в одну поблескивающую, переливающуюся оранжевым цветом простыню, благодаря которой тьма вокруг совершенно рассеялась. По мостовой, растекаясь неровными потоками, двигалась густая толпа — кто-то направлялся к палаткам и аттракционам, кто-то возвращался от них. Дети запускали воздушные шары, женщины и девушки надели матросские шапочки с надписями: «Поцелуй меня, мой милый» или «Свое получил»; другие бережно прижимали к себе игрушечные поезда и фарфоровых собачек, выигранных в тире для метания дротиков или в соревновании по метанию колец. В воздухе едко пахло бренди и уксусом. Слышался глухой перестук поршней двигателей, выкрашенных в красный цвет, приводящих в движение колесницы и ноевы ковчеги: с американских горок и верхней точки Большой карусели доносились отдаленные выкрики, общий гул и огни образовывали нечто вроде трясины, неумолимо засасывающей в себя людей на много миль вокруг.
Увлекая своих женщин вперед, Артур остановился, чтобы купить матросские шапочки — «Поцелуй меня, мой милый» для Винни, «Свое получил» для Бренды — и, пока они протискивались через вход в палатку, едва не пропустил цирковой номер на железной стойке, почти невидимой за плотной стеной зрителей. Винни держалась за полу его пальто, чтобы не потеряться.
— Куда сначала? — прокричала она.
— Просто иди за мной! — рявкнул он в ответ.
— У меня шляпка слетела! — взвизгнула Бренда.
— Да черт с ней, другую куплю, — откликнулся Артур.
— Нет, вот она. — Бренда успела подхватить ее на лету и прижать к себе.
С конной карусели доносилась протяжная органная музыка, и в такт ей поднимались и опускались всадники.
— Лошади! — захлопала в ладоши Винни. — Кто даст шиллинг прокатиться?
— Они уже останавливаются. Живо! — Бренда подхватила юбку, и Артур подтолкнул ее сзади, одновременно таща за собой Винни, которая, сев на лошадь, стащила с головы и принялась комкать в руках бумажную шляпку.
— Ну, это забава для пенсионеров! — крикнул Артур. — Погодите, пока до ракеты доберемся.
Лошади стали на дыбы, и над головами людей они увидели площадки, где столпились вперемешку взрослые и дети.
Медленно продвигаясь к центру, они взобрались на колесницу, и там, под прикрытием, в темноте, Артур поцеловал сперва Бренду, потом Винни, а когда холст откинулся и им открылось звездное небо, обе, раскрасневшиеся от мужской ласки, громко рассмеялись и принялись вырываться из его сильных рук. Не то что Дорин, подумал он: та в четверг по дороге домой за каждым его шагом следила, не дав хоть немного побаловаться, и на полчаса остановилась, чтобы потрепаться с этой дурой — приятельницей с работы.
— Попытаем счастья, — предложила Винни. — Покатаем пенсовики, выиграем фунт. — И она быстро разбросала выпавшие из деревянной прорези монетки по нумерованным квадратам, проиграв за пять минут пять шиллингов. Бренда целилась тщательнее, но выступила с тем же успехом. Артур катил монеты еще медленнее и при этом вообще не целился, однако же выиграл — просто потому, что не переставал орать, что родился счастливчиком. В конце концов возобладал здравый смысл Бренды, и они вышли с прибылью в два шиллинга, купили по стаканчику бренди и, потягивая пряный коричневатый напиток, медленно двинулись вдоль аттракционов. Из зоопарка их выгнали, после того как Артур попытался затолкнуть Винни в клетку, где дремали, свернувшись кольцами, два полуживых питона.
— Ты им понравишься, — говорил он вырывающейся из его рук женщине. — Выглядят, несчастные, так, словно в последний раз их кормили на прошлое Рождество.
Смотритель гнался за ними по ступеням, размахивая плеткой.
Бренда удачно метнула дротики и выиграла разукрашенную тарелку.
— Вот что значит целый год тренироваться в клубе, — понимающе кивнула Винни. — Тебе тоже надо что-нибудь выиграть, Артур.
— Прикуси язычок, иначе в следующий раз скормлю львам, — пригрозил Артур. — Смотри, я не шучу.
Сейчас уже было не до здравого смысла: все плавали в волнах света и развлечений, от которых не могли оторваться. Четыре ярмарочных акра превратились в целую вселенную с палатками и фургонами, ларьками и аттракционами, балаганами и вышками, качелями-лодками и качелями-каруселями, и люди потеряли всякое представление о времени и пространстве, замкнутые в чреве этого инфернального гудящего мира.
Винни заявила, что хочет прокатиться в поезде-призраке, и Артур почувствовал себя отцом двоих детей, выполняющим обещание, данное под конец рождественских праздников. Они дождались пустой кабины и очутились в непроглядной тьме, оглушенные ужасными криками, доносящимися из Ада, расположенного, по соображениям Артура, в голове поезда. Он встал, намереваясь вступить в бой с призраком Смерти, чьи устрашающие письмена были начертаны на внешней стороне вагона.
— Садись, — одернула его Бренда.
— Иначе привидение явится, — сказала Винни, которой было страшнее всех, хотя она же и предложила эту поездку.
На первом этапе больше всего пугают темнота и демоны, рождающиеся в твоем собственном сознании, и Артур, который таким страхам подвержен не был, только ругался на чем свет, требуя, чтобы ему вернули деньги, потому что в такой тьме ничего не видно. Сидевшие впереди девушки захихикали — протесты Артура вывели их из закономерного состояния ужаса, за которое они заплатили по шиллингу.
Он вышел из кабины, пробежал вперед несколько ярдов и догнал девиц, преисполненный решимости вернуть им веру в поезд-призрак. Он замахал руками, и они закричали от страха. Стук копыт споткнувшейся, готовой попятиться назад лошади эхом отозвался в черном чреве тоннеля, послышался предсмертный хрип умирающего, а под конец Артур дико вскрикнул, словно его жизненные страдания оборвала пуля. После этого он вышел из кабины и, рассчитав, когда Бренда и Винни должны поравняться с ним, шагнул на ступеньку.
— Кто это только что сел в поезд? — послышался незнакомый женский голос. Артур замер и затаил дыхание.
— Не знаю, — ответил мужчина. — А что, кто-то сел?
Артур уловил, что, пытаясь успокоить спутницу, он поглаживает ее бедро.
— Да не беспокойся ты, Лил.
— Говорю же тебе, кто-то вошел, — захныкала она. — Смотри, вон стоит.
Мужчина вытянул руку и, задев ногу Артура, резко подался назад, словно это был оголенный провод.
— Вы кто? — спросил он.
— Борис Карлов, — замогильным голосом ответил Артур.
— Говорила же тебе, не надо было сюда садиться, — заныла женщина. — Эта была твоя затея, вечно ты со своими дурацкими штучками.
— Ничего страшного, — сказал мужчина, но на сей раз менее уверенно. — Это всего лишь механик. Хотя, если хочешь знать мое мнение, он слишком далеко зашел, нечего портить нам удовольствие.
— Крови хочу, — сказал Артур. — Немного, всего лишь чашечку на ужин.
— Скажи ему, пусть убирается, — простонала женщина. — Пусть пересядет на другой поезд.
— Бренда! — крикнул Артур. — Винни! Вы где? — Он засмеялся. Назад ему возвращаться не хотелось, можно и так доехать.
Поезд достиг поворота, и перед пассажирами закачался освещенный скелет. Тоннель наполнился истошными воплями.
— Алф, скажи ему, пусть убирается, — нервно твердила женщина. — Мало ли кем он может оказаться.
— Я — Джек Потрошитель, — заявил Артур. — Но сегодня я не потрошу.
— Какие страшные вещи он говорит, — прорыдала женщина.
— Да успокойся же ты, Лил, — сказал Алф. — Все будет хорошо. Мы ведь в поезде-призраке, это только игра. Которая скоро кончится.
— Мне страшно, — продолжала скулить Лил. — У него такой жуткий смех. Откуда нам знать, может, он только что из сумасшедшего дома.
С приближением к скелету Артур все больше распрямлялся.
— Слушайте, мэм, если вы окажете мне любезность и позволите доехать до места в вашем купе, я покажу этому типу, где раки зимуют.
— Уходите, — рыдала женщина, закрывая лицо ладонями, — я не хочу этого видеть.
— Ну же, ну, — успокаивал ее Алф. — Не плачь. Как только доедем, я сразу же сообщу администрации.
Артур нанес удар по скелету — это был кусок материи, в которой он сразу запутался, так что и руку было не вытащить. Он судорожно пытался освободиться, но, срываясь с многочисленных крюков, материя все больше опутывала его и отбивалась, словно живая. Он был похоронен, лежал на глубине шесть футов в парусиновом гробу — колеса поезда едва не задевали его торчащие ноги, до него доносились вопли женщины, он ощущал тычки ее приятеля, слышал, как люди перебегают из вагона в вагон, и, наконец, заорал что есть мочи через просвет в материи: «Пожар! Пожар! Спасайся кто может!» Он боролся с тьмой, стараясь сквозь смех докричаться до Бренды и Винни, махал кулаками и брыкался до тех пор, пока наконец ладони его не показались из-под тяжелого черного покрывала скелета, матовые кости которого походили на полосы на шкуре тигра, рассекающие его спину, голову и плечи.
— Я выиграл! — закричал Артур, обращаясь ко всем пассажирам. — Я победил этот чертов скелет!
Поезд вырвался на открытый воздух, в мир сверкающих огней и музыки, каруселей, колес обозрения и стука — тут-тут-тук — моторов, и через весь этот оглушительный грохот и гул к Артуру пробивался, размахивая гаечным ключом, механик.
Артур поспешно сдернул с себя полотно, с силой швырнул его служащему, и пока тот, сразу запутавшись в нем и злобно ругаясь, старался освободиться, подхватил Бренду и Винни за руки и потащил их к ближайшей, притягивающей как магнит, бешено вращающейся карусели.
У выхода с ярмарки они остановились выпить чашку чая. Произошел обмен бумажными шляпами: с просьбой о поцелуе теперь обращалась Бренда, а Винни удостоверяла, что все уже получено. Когда все они оказались в особенно людном месте и женщины стояли друг к другу спиной, Артур удостоился по поцелую с каждой. Именно в один из таких приятных моментов, когда они вновь направлялись к карусели с лошадьми, в толпе неожиданно мелькнуло лицо Дорин. Оторвавшись от созерцания Винни и еще не вполне остыв от восторга поцелуя, он поймал взгляд Дорин, смотревшей на него сквозь щель, образовавшуюся между двумя повернутыми в противоположную сторону головами в фетровых шляпах. Восторг исчез, его сменила широкая улыбка и легкий взмах руки, свидетельствующий о том, что он ее заметил.
— Кто это? — спросила, поворачиваясь, Бренда.
— Девушка с нашего двора.
Бренда принялась протискиваться к карусели, а Артур попытался еще раз отыскать взглядом Дорин, но ее уже унесло в море покачивающихся голов и бумажных шляпок.
С вафельным мороженым в руках, они все трое дошли до Пирожной просеки и, толкаясь, приплясывая, непрестанно смеясь, двинулись вперед, подхваченные колыхающейся живой лентой, Бренда шла первой, следующей — Винни, ухватившаяся за талию сестры, и в самом конце — Артур, хватающийся за все, что попадалось под руку. После Пирожной просеки он предложил пройти к большой деревянной башне, с самого верха которой сбегал вниз желоб, достаточно отполированный для того, чтобы беспрепятственно по нему промчаться, и надежно укрытый с обеих сторон, чтобы не дать людям, летящим как птицы через палатки и ларьки, сломать себе шею. Прихватив подушки, они вошли в башню и ощупью двинулись наверх по узкой деревянной лестнице. Снаружи доносилось монотонное шуршание и свист воздуха, рассекаемого летящими вниз любителями острых ощущений.
Поднявшись наверх, они сразу — дверей там не было — вышли на площадку, и Артур первой отправил вниз Винни.
— Не толкайся, — взвизгнула та, — я никуда не тороплюсь, — и исчезла из поля зрения. Бренда последовала за ней. Артур опустился на подушку, ожидая, пока следующий в очереди подтолкнет его. Он видел огни, и крыши палаток, и людей, чьи ревущие голоса неслись вверх, к небу, слышал трехдневный гул сорока тысяч голосов. Сейчас он ощущал себя королем, наделенным безграничной властью надо всем, куда ни кинь взгляд, надо всем, что находилось внизу, и пока чьи-то ладони не уперлись ему в спину и не толкнули в бездну, прикидывал, сколько отрядов солдат можно составить из этих людей в случае бунта.
Он мчался по гладкому спиралеобразному желобу, кругами спускаясь вниз и с каждой секундой приближаясь к океану, каплей которого вот-вот предстояло сделаться и ему. В этом волнующемся, с неровной поверхностью океане его будут ждать Бренда и Винни, что несколько смягчит силу удара о воду. Отталкиваясь от стен желоба, он попытался увеличить скорость, потом выпрямился, чтобы оглядеться по сторонам, получше рассмотреть нагромождение палаток и огней и всю ту громогласную массу, к которой он приближался, и чем быстрее он спускался, тем отчетливее шум превращался в визг. Его путешествие продолжительностью в одну минуту растянулось, казалось, на целую жизнь, и в голову ему лезло такое количество самых разных мыслей, что лишало его всякого удовольствия. Он возвращался на землю, готовый благополучно соскользнуть с желоба на кучу расстеленных внизу матрасов. Финал был близок, и от этого делалось легче. Ждать остается совсем немного, шепнул ему чей-то голос. Но чего ждать? Последний поворот он прошел на предельной скорости и, уже свободный от всяких мыслей, полностью очищенный, мягко опустился на кучу матрасов.
Винни и Бренда стояли впереди всех. Тут же был Джек в своем рабочем комбинезоне: явно удивленный присутствием Артура, он держал Винни за руку. А справа от Джека пристроились здоровенные бугаи — солдат и его приятель, оба в форме цвета хаки. С побагровевшим от ярости и жажды мести лицом Билл выскочил из толпы с твердым и недвусмысленным намерением придушить Артура на месте. Но не успел он и шага ступить, как Артур заметил опасность и, когда вояка оказался в пределах досягаемости, лягнул его и нырнул в толпу. Последнее, что он увидел, были Бренда и Винни, обе с сокрушенными лицами, последнее, что почувствовал, — соскользнувшую с его локтя ладонь солдата, после чего он наклонил голову и растворился в толпе.
Глава 12
Вечерние прогулки по городу согревали его, даже несмотря на тоску, которую навевал холодный пронзительный ветер. Его путь лежал между стандартными двухэтажными домами, на крыши которых выходили округлые, похожие на соски свиноматки, дымоходы, отправляющие в холодный лоток зимнего неба тепло и клубы дыма. Звезды вели стрельбу со снайперской точностью, вновь и вновь выбирая цель в бойницах облаков. Зима — хорошее время для хранения тайн, любая темная улица похлопывала его по плечу и становилась другом, и немигающий глаз каждого газового фонаря освещал ему путь. Дома выстроились рядами, по ранжиру, каждый со своею мерой надежности. Те, что стояли поглубже, подальше от дороги, были уютнее — благодарные беглецы, укрытые от суровых ветров, несущих с собой дожди с гор Дербишира и снег с пустошей Линкольншира. Серые струи дождя разбивались о сточные трубы и сбегали по тротуару в канавы, напевая сладкую песню, и неважно, слушал ли ты ее, сидя подле горящего камина, пробирался ли под дождем в паб или кино, а может, спешил на тайное свидание туда, где уже расстелена кровать чьей-то бойкой женушки. Артур даже сигарету изо рта вынул, захваченный головокружительной игрой с опасной картой на руках — тремя тузами — и чувствуя после каждого удачного маневра, ведущего из постели Бренды в постель Винни и наоборот, что в одну кромешно-темную ночь флеш-рояль останется внизу колоды.
Встретившись с Дорин после Гусиной ярмарки, где она увидела его с двумя женщинами в то самое время, когда он якобы уехал куда-то с приятелем, Артур придал своему лицу негодующее выражение и с обидой спросил, почему она, вместо того чтобы ответить на его приветствие, поспешно растворилась в толпе.
— Я хотел познакомить тебя с кузинами, — сказал он, — а ты ни с того ни с сего исчезла, словно не хотела разговаривать со мной на людях.
Дорин угрюмо пробурчала, что даже если эти две женщины действительно его кузины — во что она не верит, — то все равно, зачем он наврал, будто едет куда-то на мотоцикле с приятелем?
— Ничего я не наврал, — с тем же оскорбленным видом откликнулся Артур. — Так оно и было. Но не проехали мы и полмили, как у мотоцикла заглох мотор, и дальше ни с места. Мы хотели сесть в автобус, но все были забиты. Вот мне и пришлось возвращаться от самого его дома — он живет на Мэнсфилд-роуд — пешком. По дороге я столкнулся с Дженни и Лил, и они попросили сходить с ними на Гусиную ярмарку. Скажи, цыпленок, разве я мог им отказать?
На сей раз она ему поверила, убеждая себя, что, наверное, все же не стоило убегать с ярмарки, когда она увидела там Артура. В конце концов, парень он честный и прямой, и нехорошо, упрекнула она себя, отбривать его таким образом.
С полным денег конвертом в кармане комбинезона Артур начал протирать свой станок. Прочистив зажимной патрон, он распрямился и увидел остановившегося рядом Джека.
— Доброе утро, Артур, — спокойно кивнул ему тот.
Чего это он так вырядился, удивился Артур и отпустил какую-то шутку насчет его повышения. А Джек действительно стал теперь мастером, частично отвечающим за сборку велосипедов, и носил чистый коричневый комбинезон, застегнутый спереди на все пуговицы.
— Как жизнь? — спросил Артур.
— В последнее время грех жаловаться.
— Давненько не виделись, — продолжал Артур, пряча улыбку. — В последний раз на Гусиной ярмарке, кажется?
— Ну да, — кивнул Джек. — Только вот поговорить не удалось. Мне хотелось тебе кое-что сказать, но ты вроде сильно торопился.
— Можно и так сказать, — пожал плечами Артур. — Во всяком случае, мне было не до разговоров. Там откуда-то этот бугай появился. Не знаю, заметь себе, что я ему такого сделал, но ты же сам видел, как он собирался на меня накинуться. Если это как-то связано с тем, что рядом была Винни, то это полная чушь. Я столкнулся с ними обеими, Винни и Брендой, буквально за несколько минут до этого и предложил им скатиться с вышки. По-моему, в этом нет ничего дурного, верно? Между прочим, кто этот бугай в хаки?
Джек не отводил взгляда от станка.
— Билл, муж Винни. Его часть нынче в Англии.
— Все равно, нечего ему было набрасываться, — сердито пробурчал Артур.
— Он уверяет, что ты гуляешь с Винни, — возразил Джек.
Артур поднял гаечный ключ и похлопал им по ладони.
— Не знаю, с чего он это взял. Если увидишь этого вояку, скажи ему от меня, пусть ведет себя поаккуратнее. Мне не нравятся такие обвинения. Плохо, когда у людей такая грязь на уме.
Наступило молчание.
— Когда же ты поумнеешь, Артур? — Джек заговорил первым. — Почему бы тебе не познакомиться с какой-нибудь хорошей девушкой да не угомониться, семью завести. От этого тебе только лучше будет.
Первый вопрос Артур пропустил мимо ушей, а на второй ответил:
— У меня, если хочешь знать, уже есть хорошая девушка. Но перед тем, как заводить семью, надо хорошенько подумать. Мне кажется, я еще не готов к этому.
— Тебе понравится, — сказал Джек, — ты уж мне поверь.
— Может, и понравится, — улыбнулся Артур, — только мне не по душе проводить все свое свободное время с какой-то одной женщиной. По пятницам я буду мчаться домой с жалованьем, все отдавать ей, и меня еще выругают за то, что мало принес, в то время как сейчас я спокойно возвращаюсь, переодеваюсь и иду в «Белую лошадь» пропустить пинту-другую.
Джек на секунду задумался, и в глазах его мелькнуло то ли беспокойство, то ли неудовольствие от того, что его поставили в положение, когда надо на что-то решаться.
— Мне лично эль в «Белой лошади» никогда не был по вкусу.
Артур почувствовал, что разговор становится непринужденнее.
— Насчет эля не скажу, — подхватил он, — но по вечерам, как нынче, когда то холод до костей пробирает, то дождь хлещет, «Белая лошадь» — славное местечко, хотя бы потому, что оно в двух шагах от моего дома. Да и эль не так уж плох. Так или иначе, сегодня вечером я туда иду, глоток мне не помешает, это я тебе точно говорю.
Джек принял решение.
— Ну что ж, — чуть ли не весело проговорил он, — я, как ты знаешь, много не пью. Кстати, по пятницам вечером в «Лошади» много народа?
— Не протолкнешься. Но ведь после того, как весь день простоял у станка, хоть что-то да выпить надо?
— Может, ты и прав. — Джек собрался уходить.
— Так ты чего заходил, хотел что-то сказать? — спросил Артур.
— Да нет. — Джек сдвинул брови и вынул руки из карманов. — Просто наведался спросить, как дела идут. — До окончания рабочего дня оставалось десять минут. — Ладно, Артур, всего. — Джек двинулся по проходу.
Артур нашарил в кармане сигарету и чиркнул спичкой о карборундовое колесо. «Что это с Джеком творится? — думал он. — Никогда не видел его таким обеспокоенным и смущенным. За все время разговора он едва взглянул на меня и сорвался с места так неожиданно, словно хотел заехать мне в спину, но потом передумал». Артур потянулся за табелем учета, чтобы подбить бабки за рабочую неделю.
Запив сосиски и консервированные помидоры чашкой чая, Артур сел у камина и закурил сигарету. Все ушли в кино. Он стянул рубашку и вымылся в посудомоечной, вернувшись в столовую, досуха вытерся грубым полотенцем. Наверху, в спальне, он устроил тщательный осмотр своего гардероба — пиджаки, брюки, спортивные куртки, все отличного качества, все сшиты на заказ, не менее двух сотен фунтов потрачено, а помимо того, роскошный халат, которым Артур особенно гордился, потому что, покупая его, пришлось особенно усердно потрудиться. Сегодня он почему-то выбрал свой лучший пиджак, темный, наглухо застегнул перламутровыми пуговицами шелковую рубашку, натянул брюки. Взял бумажник, сунул в наружный карман зажигалку и портсигар. Последним действом вечернего пятничного ритуала было встать внизу перед зеркалом и поправить галстук, зачесать назад густые светлые волосы и вынуть из ящика туалетного столика носовой платок. Он наклонился, чтобы проверить, нет ли пыли на его черных тупоносых туфлях, и в них явственно отразилось его раскрасневшееся лицо. Поверх пиджака Артур надел еще одну свою гордость — плотное, длиной в три четверти твидовое пальто от Донгала стоимостью двадцать гиней.
На холодной пустынной Эддисон-роуд было сыро: рядом, извиваясь между полями и впитывая в себя угольную соль, бежала Лин — речка, истоки которой уходили в Ньюстед, Пэплвик и Булвелл. Позади вздрагивали набухшие вены разнообразных механизмов, а на газовом заводе жалобно, как продрогшая кошка, подвывал генератор — потусторонний звук, сопровождавший Артура до тех пор, пока он не миновал серое помещение конторы у входа.
В «Белой лошади» он заказал кружку гиннеса, расстегнул пальто и сел у окна, ощущая, как начинает подрагивать стена, стоит мимо проехать троллейбусу. В пабе, где добрая половина мест была занята, он странным образом чувствовал себя отрезанным от привычного ему мира. Одному ему оставаться не хотелось, и он рассчитывал встретить в баре кого-нибудь из знакомых. Одиночество представлялось продолжением наркотической зависимости от станка. Ему хотелось шума, выпивки и любви. Сидя один за столиком, он испытывал жалость к самому себе и даже раздумывал, не сесть ли на троллейбус и поехать, в поисках шумного веселья, на Слэб-сквер, но отказался от этой мысли — не хотелось вставать. Пятница — плохой день в смысле свиданий: Винни и Бренда навещают — или по крайней мере так говорят — родичей, а вытащить из дома Дорин — значит, скорее всего, оказаться в обстановке не более праздничной, нежели та, в какой он пребывает сейчас. Он вспомнил, как не более двенадцати месяцев назад пришел сюда с Брендой и, выпив семь порций джина и одиннадцать пинт пива, скатился, словно снежок, с верхней площадки лестницы, и продолжением этого стала потрясающая ночь, которую он до сих пор не может забыть. А сколько раз с тех пор он кувыркался, словно сумасшедший, словно коверный клоун, с Брендой и Винни, всякий раз взлетая в воздух и всякий раз благополучно приземляясь в той или другой постели. Опасная жизнь, подумал он.
В половине девятого в пабе появился его дядя Джордж. Артур знал его как закоренелого халявщика и потому не любил, но в сложившихся обстоятельствах окликнул его и угостил кружкой пива. Джордж набил трубку и пожаловался на погоду. Ему нравился дождь.
— Смотри, накликаешь, — хрипло сказал Артур. — Хлестал всю неделю, водой по лодыжки заливало, земля до сих пор сочится влагой.
— Уже не сочится, друг мой, — возразил Джордж. — Почва впитывает влагу быстрее, чем проглотишь десять пинт эля.
— Парни вроде тебя не успокоятся, если последнее слово не останется за ними, — проворчал Артур.
— А что в этом плохого? — сказал Джордж, долговязый, краснощекий, с заостренными чертами лица торговец овощами.
Все называли его Свистуном, прозвище прилипло к нему в семье, потому что, когда кто-либо из родичей встречался с ним на улице, он начинал или продолжал насвистывать. У него были впалые щеки, поджатые губы, пустые голубые глаза, седеющие волосы, приплюснутая кепка на макушке и быстрая походка, которой он вышагивал под какую-нибудь на ходу придуманную мелодию. Он едва умел читать и писать, но в глубине его невыразительных голубых глаз угадывалась смекалка, благодаря которой его огородик площадью в несколько акров обеспечивал ему совсем недурное существование. Однажды Артур проходил мимо его угодий и увидел на двери хибары небольшое объявление: «Свежесрезанный салат-латук, шесть пенсов пучок». К двери тянулась небольшая очередь.
— Наверное, голова у него варит, — говорила про брата мать, стуча себя по лбу, — недаром так хорошо зарабатывает.
— Но если я еще хоть раз услышу, как он свистит, — отозвался Артур, к немалой радости отца, недолюбливавшего женину семейку, — пакет семечек для птиц на Рождество подарю.
Джордж сменил тему.
— В газеты последнее время заглядывал, Артур? — спросил он. Под воздействием двух третей пинты его адамово яблоко энергично запрыгало.
— Я их каждый день читаю. А что?
— Хотел спросить, что ты думаешь про завтрашние забеги.
Артур часто давал ему хорошие советы — к немалому своему сожалению.
— Последнее Эхо, — сказал он. — Ставь на него.
Джордж рыгнул и допил пиво.
— Но это же двадцать к одному. При таких ставках не выигрывают.
— Последнее Эхо, — повторил Артур, хотя в душе был согласен с дядей. — Знаю, двадцать к одному, но сам ставлю пару фунтов. А можно бы и побольше. Рискни пятеркой, дядя Джордж, не пожалеешь.
Джордж был человек осмотрительный. Он выдохнул струю черного дыма прямо в лицо Артуру и сказал:
— Надо посмотреть, что букмекеры на этот счет думают.
Такие ублюдки всегда на коне, подумал Артур, а вслух сказал:
— А мне наплевать на то, что они думают. Эхо победит, это сто процентов, и я ставлю на него. Букмекер-то, конечно, скажет тебе: «Забудь, парень» — просто потому, что сам знает: это верняк, и не хочет отдавать свою конфетку другому.
Джордж вынужден был признать, что логика в таких рассуждениях имеется, и все же, судя по глазам, его продолжали терзать сомнения. Артур заказал еще две пинты — от Джорджа все равно не дождешься. И ведь не пристыдишь этого гнуса, бесполезно. А иногда он даже восхищает. Джордж поинтересовался, почему Артур считает, что Эхо — такой уж верняк.
— Потому что нынче днем мне позвонил из Энтри лорд Ирвиг. Это, спрашивает, ты, Артур? Слушай, мы с тобой такие старинные кореша, что я подумал: надо бы дать тебе немного заработать, а уж как распорядиться денежками, ты сообразишь, недаром целыми днями поливаешь потом этот чертов станок. Нет, дядя Джордж, ты уже мне поверь, лорд Ирвиг в таких делах разбирается. Зря, что ли, он заставил меня поклясться, что никому ничего не скажу? Иначе его выкинут из Жокейского клуба, и тогда мне уж никогда не дать тебе свежей наводки. Кстати, разве я тебя хоть раз подвел?
Услышанное удовлетворило Джорджа, пусть даже наличие связей Артура в аристократической среде казалось ему несколько сомнительным.
— Ладно, — подмигнул он, — я тебя понял.
Кружки вновь опустели, и Джордж, рассеянно посмотрев в сторону бара, чуть слышно что-то засвистел. Едва принесли сделанный Артуром очередной заказ, как он одним глотком опорожнил кружку, словно десять дней капли спиртного в рот не брал.
— Что ты думаешь о войне, Артур? — спросил он.
— О войне?
— Да. Один малый на рынке сказал мне, что читал в какой-то газете, будто через три месяца начнется война.
— Ну, тебе, дядя Джордж, волноваться на этот счет нечего, — рассмеялся Артур. — Парней твоего возраста не призывают.
— Да не в том дело. Я просто думаю, что снова карточки введут. Помнится, во время последней войны с едой было совсем плохо.
Столь яркая кульминация разговора заставила Артура расхохотаться, так что он едва не поперхнулся очередным глотком пива. У дяди Джорджа только одно на уме — деньги. И в этом смысле мозги у него на месте. Во время войны он сумел откосить от армии и работал на оружейной фабрике, а в свободное время, будучи ответственным за пожарную безопасность, мастерил блестящие пуговицы на случай затемнения, коробки для противогазов и обложки для сброшюрованных продуктовых карточек, что позволило ему к концу войны скопить деньги и купить землю под огороды. Помимо овощей он разводил домашнюю птицу и продавал яйца.
— Знаешь, на твоем месте я бы не особенно радовался войне, — покачал головой Артур. — Даже если атомную бомбу сбросят в нескольких сотнях миль от Ноттингэма, земля будет отравлена, и на ней уж ничего не вырастишь. И куры тоже все передохнут. От, как это называется, радиации. Что-то в этом роде. Как раз на днях я своими ушами это по радио слышал.
Дядя Джордж, привыкший сомневаться практически во всем, как огня боялся научных фактов.
— Нет, ты это что, всерьез? — побледнел он и даже кружку с пивом на стол поставил. — Впервые слышу.
— Это потому, что ты не встречаешься со знающими людьми, — наставительно сказал Артур. — В свободное время только и знаешь, что торчать в букмекерской конторе.
— Да откуда у меня, парень, это свободное время? Знаешь, сколько вкалывать приходится, чтобы хоть что-то заработать?
— Ну да, а я целыми днями в покер дуюсь. Короче, я тебе сказал: эти самые атомные бомбы отравят землю так, что на ней уж больше ничего не вырастет. Это я и в газете читал, в статье одного доктора, который шесть месяцев проверял салат из тех мест, где сбрасывали атомные бомбы.
Кружки опустели, и Джордж поднялся, трезвый, несмотря на все с таким удовольствием выпитое за чужой счет. Он снова вспомнил язвительное замечание Артура насчет букмекерских контор и счел нужным повторить: «Да, я знаю, что такое тяжелый труд». После чего одернул пиджак, поправил на голове кепку и принял столь идущий ему беззаботный вид. «Ну, я к „Псу и Оленю“», — бросил он и, направляясь к выходу, засвистел так громко, что не услышал ответа Артура на свое отрывистое «пока».
Артур выпил еще одну кружку, на сей раз в одиночестве, и подумал, что пора домой — поужинать, может, телевизор немного посмотреть. Что дурного в том, чтобы хоть раз прийти домой пораньше? «Покойной ночи!» — крикнул он бармену.
Паб «Белая лошадь» стоял на углу. Артур вышел через центральную дверь и сразу увидел остановившийся на противоположной стороне улицы автобус. «Побежать, что ли, может, успею», — подумал он и тут же ответил себе: «Нет». Он услышал звонок кондуктора, и автобус, похожий в этот момент на освещенную теплицу, набитую людьми, с натугой пополз вверх. Артур нырнул в темный зев Эддисон-роуд и, пройдя всего несколько футов, услышал позади чьи-то тяжелые шаги.
— Это он, точно тебе говорю, он. А ну-ка, Билл, врежь ему как следует.
«Что происходит? — подумал Артур. — Кому это тут собираются врезать?»
— Наконец-то мы достали этого ублюдка.
— Давно пора.
Из тени разом вышли двое и схватили его за руки. «Это ж они меня собрались поиметь», — подумал Артур и, молотя кулаками, точно ветряная мельница, сумел-таки освободиться.
— Спокойно, — сказал он, — иначе плохо будет.
Он стоял спиной к стене, со стиснутыми кулаками и глазами, налившимися кровью от ярости и потаенного страха. Война наконец началась, и на ней никуда не уйти от пудовых кулаков и тяжелых ботинок, которым можно противопоставить только собственные мышцы при всей их недостаточности.
Время противники не теряли. В своем нетерпении один опередил другого, и Артур с такой силой засадил ему в челюсть, что тот, зажав лицо ладонями, бросился назад, к дороге. Артур прислушался к собственному тяжелому дыханию, потом отвлекся — и как раз вовремя, чтобы успеть отбить вторую атаку ударом башмака. Силы в этом ударе не было и, он, сделав шаг в сторону, нанес удар в голову нападавшему. Каким-то образом вышло так, что стена, бывшая только что позади, сместилась в сторону, но он даже не осознал этого, потому что то, что он принимал за стену, с силой врезалось ему прямо в середину позвоночника. Кто-то вцепился ему в шею и не отпускал, и все ж чудесным образом ему удалось высвободиться до того, как вернулся второй служивый. Путь к бегству был открыт, однако он по какой-то неведомой ему самому причине не побежал.
Стена снова оказалась позади. На сей раз оба бросились на него одновременно. Артур сосредоточился на одном и отбросил его, сделав в то же время выпад ногой, чтобы сдержать второго. Он достал одного, затем другого и снова изготовился к атаке, но они еще сохраняли свежесть, и Артур услышал оглушительный треск и почувствовал, как ломающиеся кости словно вдавливаются ему в лицо, и в его глазах, готовых лопнуть от боли, заплясали оранжевые искры. В тот же миг он выбросил вперед кулак — ему удалось получить свободу рук, — но в этот момент последовал удар в спину, и еще один, сбоку, в подбородок. Уже не глядя, куда бьет, он продолжал действовать кулаками. Противников он больше не различал, для него они были анонимы, что только еще больше его заводило. Но двойное преимущество в силе — четыре кулака против двух — начинало сказываться, хотя мысль о возможности бегства по-прежнему не приходила ему в голову. В пабе «Белая лошадь» пила пиво или виски добрая сотня посетителей, но для Артура мир съежился до нескольких квадратных ярдов, на которых решалась судьба сражения, и окрашен этот мир был в зловеще-багровые цвета.
В какой-то момент между двумя ударами ему показалось, что все это происходит во сне. Ему пока удавалось держать их на расстоянии, он слышал ругательства, угрозы и прерывистое хриплое дыхание, которое опаляло его всякий раз, когда он отбрасывал их назад. Судя по изощренности ругательств одного из противников, пульсирующей боли в суставе руки и рези в костяшках пальцев, он только что нанес самый мощный удар за весь этот вечер. После этого ему показалось, что они уходят. Но никто никуда не уходил. Он почувствовал удар в грудь, затем еще один, ответил выпадом в живот и, свободной рукой, в голову. Его пытались оттащить от стены. Боковой удар в зубы развернул его вокруг собственной оси, и земля вздыбилась, чтобы врезаться ему в плечо. Падая, он ответил ударом на удар, освободил вторую руку, ткнул костяшками пальцев в глаза кому-то из двоих и вновь встал на ноги. Они тащили его куда-то в сторону, он отбивался, стараясь не запутаться головой в кустах. Его тянули за волосы назад, а он стиснул пальцами чье-то горло. С дороги донесся сигнал автомобиля, и не успел еще стихнуть его скрежещущий звук, как от очередного удара Артур на миг потерял сознание.
Ножи и стрелы впились во все части его тела. Они хотят убить меня, смутно подумал он и попытался распрямиться, но его вновь швырнули на землю. Он лежал, подтянув ноги к подбородку. На его плотной одежде остались следы подошв их тяжелых башмаков. Им показалось, будто кто-то приближается, и они ушли.
Злость помогла ему встать на ноги. Чувствуя сильное головокружение, он схватился за стену и, заметив, что в некоторых местах штукатурка осыпалась, и цепляясь ногтями за острые края, сумел распрямиться. Он ощупал лицо и попытался двинуться вперед, думая о мести и не желая знать, заслужил ли он поражение в этой схватке. Самым большим его желанием было как можно скорее вернуться в «Белую лошадь» и успеть выпить до закрытия двойное виски. Он ощупал карманы пальто: бумажник оказался на месте. И тут в голову ему ударила боль. Мир вокруг него оставался зловеще-багровым, кирпичи и брусчатка бледно светились во тьме, ощетиниваясь злобой и болью, стоило ему попробовать прикоснуться к ним. Он медленно добрел до бокового входа в «Белую лошадь». Посмотрел на часы, но они были разбиты, стрелки согнулись на девять тридцать. «Семь фунтов псу под хвост», — подумал он, направляясь в туалет. Там, при тусклом свете лампочки, повернул кран, вымылся холодной водой, промочил носовой платок и принялся стирать с лица грязь и кровь. Два боковых зуба шатались. Сполоснув носовой поток, он полез в карман за расческой. Она оказалась сломана, и он выбросил ее, плеснул водой на волосы и пригладил их ладонью. Он мало что соображал от боли, которая обожгла и лицо, когда он наклонился, чтобы стереть пыль с ботинок.
Толкнув дверь, ведущую в бар, Артур поднял воротник пальто, подошел к стойке и заказал двойное виски. Освещение было слишком ярким, лампы, подобно огромному магниту, притягивали воздух и закачивали в череп, делая его в несколько раз больше, заставляли щуриться настолько, что вокруг ничего не было видно. Виски обожгло все внутренности, и он уже собирался заказать еще одну порцию, гадая, почему это никто не видит стекающей у него по лицу крови, как кто-то прикоснулся к его локтю. Он обернулся и увидел Дорин.
— Привет, цыпленок, — улыбнулся он.
— О господи, — ахнула она, — что это с тобой такое, Артур? Вид у тебя кошмарный.
— Ты как здесь появилась? — Артур пропустил ее вопрос мимо ушей.
— Была в гостях у сестры и зятя, а потом мы пошли сюда выпить по рюмочке. Вон они сидят.
Но Артур не последовал взглядом за ее пальцем, и она снова повернулась к нему.
— И все же, что стряслось? Что у тебя с лицом? Как?..
Слова ее растворились в воздухе, и, с застывшей на лице ухмылкой, он, уже в бессознательном состоянии, соскользнул с табурета, чувствуя, как мир наступает своими гигантскими башмаками ему на голову, отрывает от света и тащит куда-то вниз, в темноту грязного, заплеванного, покрытого опилками пола.
Часть 2. В воскресенье утром
Глава 13
Он лежал, отрешенный и безучастный ко всему, потом, приподнявшись лишь затем, чтобы поправить подушку, посмотрел, не узнавая, на розовые обои на стенах своей спальни и снова откинулся назад, чтобы забыть во сне обо всех своих бедах. Проснувшись, он жадно накинулся на еду, что мать поставила на стул рядом с кроватью. Ее вопрос, что случилось и почему он целыми днями валяется вытянув ноги, только обозлил его.
— Мне плохо, — буркнул он.
— В таком случае давай я вызову тебе врача.
— Плохо, но не настолько.
Жив он или умер — ему было, в общем, все равно. Колеса переменчивой судьбы, упрямо прокладывающие путь и оставляющие глубокую колею в его сознании, еще недостаточно обнаружили свое направление, чтобы решить, что лучше. Он уставился на розовое пятно обоев над камином, угнетаемый стучащей в висок и не находящей слов для выражения мыслью. Ему казалось, что он сходит с ума. Он слышал доносящийся снизу звон посуды, глухое урчание фабричных машин в конце квартала, шаги прохожих, возгласы детей, играющих под уличными фонарями, гул проплывающего низко над крышами домов самолета, наминающий игру астматика на гребенке через папиросную бумагу, — но все это было лишено какого-либо смысла, все смутно сливалось в некий единый мир подземелья, перекатывающийся через черное облако его тоски. Он твердил себе, что скоро вернется на работу, а вечерами будет ходить в паб или кино; сядет в автобус, идущий в город, а там пройдется по «Вулворту», присматриваясь, что бы такого купить на Рождество, но ничто не могло вывести его из полудремы, в которой он пребывал последние три дня.
Эти дни казались сотней лет, и все их Гусиные ярмарки, Ночные фейерверки и Рождества прокатывались по нему и впивались в тело, как раскаленное железо в камере пыток. Отрываясь от созерцания обоев, он снова проваливался в сон, в котором ему являлись страшные, но не запоминающиеся видения, а потом просыпался, и нагло ухмыляющийся диск дешевых настенных часов говорил ему, что спал он всего две минуты. Он понимал всю бесполезность борьбы с холодной тяжестью своей безымянной болезни, как и вопросов, откуда и почему она появилась. Он и не спрашивал, полагая, что она как-то связана с его поражением в борьбе с армейскими, а об этом он предпочитал особо не задумываться. Он не спрашивал себя, потому ли оказался в столь плачевном положении, что не имел права любить двух женщин, или потому, что эти двое представляли собой закон клыка и когтя во всей его наготе, закон, на котором основываются все остальные законы, закон и порядок, против которого он боролся всю свою жизнь, но так бездумно и беспорядочно, что не проиграть просто не мог. Все эти вопросы прозвучат позже. А сейчас простой факт состоял в том, что двое армейских в конце концов его достали — в чем он не сомневался с самого начала, — достали и превзошли на поле боя в джунглях.
Он поел, но курить не стал, как не бросился и в волнующуюся поверхность озера и водоворот своего сознания. Да у него и желания такого не было, он просто ждал, сам о том не догадываясь, когда поток иссякнет и волны вынесут его на песчаный берег целым и невредимым, исцеленным от мозговых колик, готовым продолжать жизнь с того места, где она оборвалась. Боль таилась в каждой клетке его организма, в каждой — своя, особенная боль, и в тот момент, когда отчаяние прошло, он понял, что именно оно стало той анестезией, которая позволила ему выдержать реальную острую боль, заставившую его проваляться в постели еще неделю.
В субботу утром он не ответил на ворчливый оклик отца, зовущего его к завтраку. Голос прозвучал, как всегда, отчетливо и повелительно, Артур слышал, как он перекатывается по ступенькам вверх, проникает сквозь закрытую дверь спальни, но продолжал просто смотреть на стену, пытаясь понять, сколько еще раз отец будет его звать, пока не поймет, что это бесполезно.
Потом заглянул Фред и спросил, все ли в порядке.
— Да, а что? — по возможности спокойно ответил Артур.
— Да ничего, я просто подумал, что, если тебе плохо, надо бы вызвать врача. Выглядишь ты неважно.
— Ничего мне не надо, — сказал он.
— Что, армейские достали?
— Да. Оставь меня в покое. В понедельник на работу я не пойду. Но все в порядке. Закрой дверь, когда будешь уходить.
— Что это за девушка привела тебя домой вчера вечером? — полюбопытствовал брат.
— Какая девушка? Оставь, говорю, меня в покое.
— Может, все же вызвать доктора?
— Нет. Отцепись.
Фред вышел и закрыл за собой дверь. Артур откинулся на подушку и снова погрузился в полудрему. Что за девушка? Наверное, Дорин. Она еще в «Белой лошади», когда я вырубился, дала мне глотнуть бренди, а потом вышла вместе со мной и повела по Эддисон-роуд медленно, шаг за шагом. Он вспомнил, что пытался заговорить с ней, только вот что ответил, когда она спросила, как он умудрился довести себя до такого состояния? Впрочем, он не сомневался, что это было нечто правдоподобное. Потому что даже когда соображаешь туго, нетрудно придумать какую-нибудь отговорку. Или попросту соврать, добавил он про себя.
Когда в голове немного прояснилось, он задал себе вопрос и, не сумев на него ответить, здорово разозлился. А вопрос был такой: каким образом вояки прознали, что он в тот вечер придет в «Белую лошадь»? Ни тот, ни другой внутрь не заходили, а через окна ничего не увидишь — шторы были плотно задернуты. Но они знали, что он должен был появиться, и ждали снаружи. В таком случае кто их предупредил? Да и предупредил ли? Возможно, и нет. Возможно, они просто случайно оказались на Эддисон-роуд, когда он поворачивал за угол. Да нет, вряд ли. Они нарочно болтались там, в темноте, ожидая, пока он выйдет из паба.
На четвертый день сквозь окна спальни пробились солнечные лучи, оставив на смятом одеяле яркий след, как от наконечника копья. Он поднялся с кровати, прочитал «Дейли миррор», а в одиннадцать крикнул, чтобы принесли чашку чая. Наверх поднялась мать, поставила на стул целое блюдо печенья и, глядя, как он отхлебывает чай, сказала:
— Ну что ж, отделали тебя прилично. Что, интересно, ты такого натворил?
Серые глаза его вспыхнули, он сердито посмотрел на нее и, с трудом шевеля распухшими губами, ответил:
— Я просто упал. Сама знаешь, каким я бываю, когда напьюсь. Печенья хочешь?
— Уже поела. Упал! После обычного падения так не бывает.
— Ну, не обычного. Я с газгольдера спрыгнул на спор.
— А по-моему, это чей-то муж с тобой разобрался. И коли так, поделом тебе. Нельзя играть с огнем и не обжечь руки.
— Ясно. — Он поморщился и отставил допитую чашку. — Я так понимаю, Фред распустил свой длинный язык. Выходит, даже родному брату доверять нельзя.
— Никому ничего распускать не нужно, — возразила мать и отступила от кровати, словно хотела получше разглядеть его. — Я и так все про тебя знаю. Ты ведь мой сын, разве не так?
С этим не поспоришь.
— Я еще день-другой полежу, неважно себя чувствую. Снова, понимаешь, не повезло, голова кругом идет.
Она сложила на груди руки, и в глазах ее были гордость и нежность.
— Еще чая налить?
— Вообще-то я, пожалуй, до следующего понедельника дома побуду, — решил он.
— Что ты несешь? — Она взяла его чашку. — Нечего отлынивать. Ты уже завтра можешь выйти на работу.
Ну да, подумал он, ей только одно и надо — чтобы я вернулся на фабрику.
— Ничего я не отлыниваю. У меня живот болит.
— Я принесу тебе немного индийского бренди. И оливковым маслом спину протрем. Еще печенья хочешь? Я полфунта купила.
Он подумал, что не прав, вовсе не старается она вытолкать его на работу. Ему захотелось поцеловать мать, обнять ее.
— Дорогая ты моя старушка, — сказал он, привлекая ее к себе. — Да, немного печенья неплохо бы.
Она спустилась вниз, а он снова лег на кровать. Глаза под распухшими веками отчаянно болели, голова трещала так, что, казалось, мозг обнажился и стал открыт всем ветрам. От мыслей боль только усиливалась, но теперь он не мог не думать. Хоть его всего-то отделали двое бугаев в армейской форме — не такая уж страшная штука, да и не впервой ему проигрывать рукопашную, — ощущал он себя корабликом, который раньше никогда не покидал своего причала, а теперь вдруг оказался, беззащитный, посреди океана. Сам он плыть даже не пробовал, просто отдался набегающим, бьющим в грудь волнам, вместе с которыми в него впивались острые края разных предметов — остатков кораблекрушения. Армейские с их кулаками и бутсами тут ни при чем, на пятый день последствия тех ударов уже не чувствовались.
Ему не хватало ощущения безопасности. Не было в целом мире места, которое можно было бы назвать безопасным, и впервые в жизни он понял, что безопасности как таковой не существует вообще и никогда не будет существовать, и разница заключается лишь в том, что сейчас это стало для него фактом, а раньше воспринималось как некая естественная бессознательная данность. Если живешь среди густого леса, в пещере, думал он, ты не в безопасности, во всяком случае, если говорить о сколько-нибудь продолжительном времени, и спать надо, держа один глаз открытым и имея под рукой кучу камней с заостренными краями. Ему стало ясно, что так он всегда и поступал и это ему ничуть не мешало. Он часто видел во сне, как падает с высокого утеса, но никогда не мог вспомнить, чтобы разбился при падении на землю. Вот и жизнь такая, продолжал рассуждать он сам с собой: спускаешься на парашюте, как парни из фильма про Арнем[18], натягиваешь стропы так, чтобы можно было вытянуть руку и попасть туда, куда тебе нужно, а в один прекрасный день падаешь на дно, сам того не понимая, и лопаешься, как пузырь, ударившийся обо что-то твердое, и ты мертв, ты погас, как свет, когда в Дербишире собирается буря.
Ну, это не для него. У него будет хорошая жизнь: много работы, много выпивки, каждый месяц новая юбка, и так пока не исполнится девяносто. Винни и Бренда вне пределов досягаемости, их заарканили Джек и Билл, но на берегу всегда больше одного камешка, и полей, на которых растет клевер, тоже хватает. Он снова заснул, на этот раз так крепко, словно не спал несколько лет. И если подумать, то в каком-то смысле так оно и было, во всяком случае, еще никогда в жизни он не оставался в постели больше трех дней. Никогда.
Маргарет появилась в пятницу вечером и поднялась по узкой лестнице, держа на каждой руке по младенцу. Позади нее семенил Уильям; на нем были шерстяные рейтузы и кепка, которую Артур сразу сорвал у него с головы и поднял высоко вверх — пусть попрыгает. Но мальчик настолько поразился, увидев дядю Артура в постели в такое неподходящее время дня, что ему было не до игр. Маргарет присела и сообщила Артуру, что купила новый телевизор.
— Знаешь, милый, он просто классный, никогда не думала, что смогу себе позволить такой, но Альберт сейчас пьет гораздо меньше и посулил выплачивать по тридцать шиллингов в неделю. Так что теперь могу в любой момент включить ящик и не вспоминать про него. — Она забыла даже поинтересоваться, отчего это Артур не встает с постели.
Телевизор, презрительно подумал он, когда сестра ушла, это же каким идиотом надо быть, чтобы увлекаться такой чушью. Вот здорово было бы, если бы большой Черный Воронок прокатился по городу и народ вооружился бы топорами и порубил на куски эти чертовы ящики. Все бы с ума посходили. Не знали бы, что делать. Революция бы началась, это как пить дать, взорвали бы мэрию, подожгли замок. А по мне, так лучше бы вообще телевизоров не было, ни одного.
— Артур, — крикнула снизу мать, — тут тебя юная леди хочет видеть. Пустить?
Артур решил, что это штучки Фреда.
— Пусть поднимается, — засмеялся он. — Только скажи, чтобы ухо востро держала.
Он знал походку всех членов семьи и легко мог определить, кто идет по лестнице, но на сей раз приближающиеся шаги были ему незнакомы — легкие, неуверенные шаги женщины. Что за шутка? Ему что, одну из его собственных теток хотят выдать за молодую девушку? А может, это Винни? Или Бренда? Нет, ни той, ни другой не хватит смелости явиться сюда. При одной этой мысли у него сердце замерло. Повернулась дверная ручка, и Артур включил свет.
На пороге стояла Дорин.
— Зашла вот навестить, — сказала она, явно неуверенная, что это стоило делать.
Артур не думал о ней вот уже несколько дней, и этот визит стал для него полной неожиданностью, тем не менее он приподнялся на подушках и сказал:
— Заходи, цыпленок, присаживайся. Вот уж кого не ждал.
— Да я вижу. Вид у тебя такой, словно призрак явился.
— Да, не ожидал, — повторил Артур, поудобнее уперся локтями в подушки и недоверчиво посмотрел на нее.
— А мне нравится твоя комната, — сказала она, останавливая взгляд на открытой дверце гардероба. — Это что, все твоя одежка?
— Да так, пара тряпок.
Она выпрямилась и положила руки на колени.
— По мне, так это не просто тряпки. Они, должно быть, стоили тебе кучу денег. — На сей раз Дорин подкрасила губы и немного надушилась, от чего в комнате стало веселее.
— Я хорошо зарабатываю, — сказал он, глядя на лежавший у нее на коленях яркий головной платок, — и трачу деньги на одежду. Люблю хорошо одеваться. — Артуру было неловко, что его застали в постели. На сей раз эти ублюдки там, внизу, все же прихватили его. — Что-нибудь интересное на этой неделе в кино видела? — спросил он, хватаясь хоть за какую-то тему для разговора. Болея, он предпочитал отлеживаться один в своей берлоге, и этот визит смутил его так, словно расплачиваться за него ему придется всю оставшуюся жизнь.
— Видела, — подхватила Дорин, довольная тем, что он явно размяк. — Классная картина. «Барабаны в джунглях». Жаль, что тебя со мной не было.
— Да я бы с радостью, только видишь вот, из дома выйти не могу. Мне тут костыли приспосабливают, сапожник новую подкладку ставит. Обещался еще к понедельнику сделать, чтобы я доковылял до станка, но закопался.
— Может, на следующей неделе выберешься, — засмеялась она, слишком сомневающаяся в себе, чтобы прямо сказать, чего ей хотелось.
Он мрачно посмотрел в окно.
— Холодный нынче вечер, — сказала Дорин, просто чтобы что-нибудь сказать.
— Только не в кровати, — возразил он. — Здесь-то, под всеми этими одеялами, тепло. И добавил с намеком, от которого не мог удержаться: — Можешь сама проверить.
— Еще чего, — улыбнулась она. — За кого ты меня принимаешь?
— Пари держу, это будет не в первый раз, — ухмыльнулся он.
— Не наглей.
Но по мелькнувшей на ее лице улыбке он понял, что верно, не в первый.
Дорин заговорила о другом — менее неудобном для нее, но более неприятном для него.
— Ладно, скажи, как самочувствие. Вид у тебя в пятницу был тот еще, когда я тащила тебя из «Белой лошади» домой.
— Лучше, — уклончиво ответил он.
— Выглядишь ты и впрямь получше, — признала она. Разговор на некоторое время прервался, затем она спросила: — Так что все-таки с тобой тогда случилось?
— Я же говорил тебе, — проворчал он, забыв, что именно. — На меня налетел конный экипаж. Я заметил его, только когда под колесами оказался. Как еще выжил, непонятно.
— Все скрытничаешь, — без улыбки бросила она. — Никогда никому ничего не скажешь.
— А что толку? Калитку лучше держать на замке.
— Ничего подобного, — отрезала она. — Меня ты прикармливаешь, как собачку.
— Я тебе все сказал, как было, — упрямо повторил Артур, не желая ввязываться в спор.
— Врешь! — возмутилась она. — И сам знаешь, что врешь.
Гад я все-таки, подумал Артур, ведь она для меня много сделала, а вслух сказал:
— Правда тебе не понравится.
— Неважно. — Она прикрыла его руку ладонью.
Важно — не важно, значения не имеет, и он сказал:
— Меня двое бугаев отделали. Я долго трахался с двумя замужними женщинами. Ну, они узнали и выследили меня. Двое на одного. По одному-то я бы с любым из них справился.
Дорин убрала руку.
— Что, и когда встречался со мной, тоже?
— Естественно. — Ему захотелось сделать ей больно. Неужели два и два в уме не может сложить?
Она с оскорбленным видом отвернулась от него.
— Мог бы и пораньше сказать.
Ему было противно слушать ее и противно слушать себя. Может, он и не очень хорошо с ней поступает, но ведь они друг другу ничего не обещали.
— Забудь, — миролюбиво сказал он. — Теперь все это позади.
— Может быть. — Она повернулась к нему, ожидая, что он скажет что-то еще, быть может извинится. Но он решил, что и так сказал достаточно, пожалуй, даже слишком много. А впрочем, лучше покончить со всем этим сейчас, раз и навсегда.
— Словом, теперь ты знаешь, как это было, — заключил он. — Но больше ни с одной из этих женщин я встречаться не собираюсь. Эта игра того не стоит. — Он потрогал шрам на лбу.
— Выходит, эти две женщины на Гусиной ярмарке тебе не кузины?
— С чего это ты взяла? — грубо возразил он. — Именно что кузины. Не такой уж я враль. — Он ей палец протянул, а она всю руку отхватить норовит.
— Ничего подобного, — сказала она, — но ты совершенно не должен мне что-то объяснять. Мне просто не нравится, когда ты врешь.
— Ладно, твоя взяла, — обозлился Артур. — Но не забывай, у нас не было помолвки или чего там еще.
Своя логика, хоть и дурная, в этом рассуждении, следует признать, имелась. Тем не менее Дорин начала:
— Пусть даже так, но…
— Но я рад, что ты меня навестила, — весело подхватил он. — Не знаю, сколько бы еще провалялся, если бы ты не зашла.
— Просто хотела узнать, как ты себя чувствуешь. На прошлой неделе ты прямо умирал.
Он подвинулся на край кровати и оказался почти вплотную к ней. Пальто у нее было расстегнуто, под ним виднелась зеленая блузка, и он потянулся в вырез ладонью, но она отвела ее.
— Чтобы убить меня, двух вояк мало, — бодро заявил он.
— Наверное, — согласилась она, вновь стараясь увернуться от его вездесущей ладони, — но мне надо было знать, что с тобой случилось, потому что я волновалась. Ты мне нравишься, Артур, и все это время я надеялась, что с тобой ничего страшного не стряслось, что ты жив и вообще все порядке. Когда я на прошлой неделе дотащила тебя до дома, твоя мать посмотрела на меня как на злодейку, будто это я во всем виновата. Ну, я и ушла сразу. Но сегодня она подобрее.
Он взял ее за руку, и они проговорили еще час.
— В понедельник в кино сходим, — сказал он, когда она поднялась, застегнула пальто и сделала шаг к двери. — В семь увидимся или, если хочешь, раньше.
— Давай в семь, тогда я чаю успею попить. После работы я всегда голодная. — Она наклонилась, чтобы поцеловать его, и он, высвободив руки из-под одеяла, крепко обхватил ее за шею и талию.
— Иди ко мне, цыпленок, — прошептал он, чувствуя жар ее поцелуя.
— Не сейчас, Артур, не сейчас.
Понедельник был не за горами, возможно, время пролетит быстро.
Глава 14
Он отдернул палец от дрели. Под мозолистой белой кожей быстро набух бугорок крови, его прорвало, и кровь потекла по руке. Он вытер ее смятой промасленной тряпкой. Порез небольшой, но крови вытекло много, она залила всю ладонь и дальше, до запястья. Он отвел поврежденный палец вниз, к полу, подальше от обнаженной мускулистой руки, и, выругавшись, что приходится терять время, направился в пункт первой помощи на перевязку. Он находился в противоположном конце фабрики, и Артур быстро зашагал по проходу. Палец он по-прежнему держал отведенным вниз, и кровь беспрепятственно капала на пропитанный смазкой пол коридора. Поворачивая за угол, он увидел Джека.
Артур остановился, посмотрел, как тот закуривает сигарету. Джек неторопливо чиркнул спичкой и раскурил сигарету тщательно, так, чтобы, коль скоро уж он занялся этим делом, все шло как положено. Это была работа, и выполнял ее Джек, как любую другую работу, медленно и основательно. Он бросил спичку на пол и, прежде чем направиться дальше, поднял голову и увидел Артура. Как ни странно, встреча эта, казалось, поразила Джека. Он побледнел.
Артур, в свою очередь, тоже непонятно почему, не испытал от нее ни малейшей радости, даже не поздоровался, а только спросил, заметив разлившуюся по лицу Джека бледность:
— Что-нибудь не так? Может, соли нюхнуть хочешь? — И в следующее же мгновенье, не успев дать себе отчета, зачем это делает, насмешливо бросил: — Может, ты решил, что они меня прикончили?
Джек не мог выговорить ни слова, и вид у него был такой, словно ему веревку на шею набросили. Кто еще, кроме него, две недели назад мог настучать армейским, что в пятницу, тогда-то и тогда-то, он будет там-то и там-то?
— Прикончили? — переспросил Джек. — Не понимаю, о чем ты.
— Ничего удивительного, — сказал Артур. — Такой уж ты малый. Тебя надо мордой во что-то ткнуть, вот тогда ты завизжишь, как свинья резаная.
В коридоре они были одни, и оба одновременно обратили на это внимание. Артур стиснул руку, всю в крови от пореза. А впрочем, подумалось ему, оно того не стоит: да, око за око, зуб за зуб, но хватит, он уже и без того нахлебался.
— Что же тебя, слабак ты несчастный, даже на то не хватает, чтобы правду сказать? — бросил Артур.
Джек подался назад и что-то пробормотал, но что именно, Артуру было неинтересно. Они отступили к стене, пропуская тележку с хромированными велосипедными рулями, молча смотрели друг на друга, Джек — не в силах оторвать взгляда от пальца Артура, от алмазов и жемчужин крови, падающих одна за другой на пол. Каждая новая капля вызывала у него желание зажмуриться.
— Положим даже, я сказал им, где ты будешь в тот вечер, что с того? — сказал Джек с некоторым раздражением. — Не надо было тебе с Брендой гулять. Это неправильно.
Артуру неудержимо захотелось ударить его, прогнать пинками по всей фабрике, из одного конца в другой. Джек почувствовал это и отвернулся, глядя вслед заворачивающей за угол грузовой тележке. Нет, не здесь, подумал Артур. Прихвачу его так же, как армейские прихватили меня, где-нибудь на улице в темноте.
— Не тебе меня учить, что правильно, что неправильно. Все, что я делаю, правильно, и все, что делают мне, тоже правильно. И что я делаю тебе — тоже. Вбей это в свою башку.
Джек докурил сигарету и, отвернувшись от Артура, черты лица которого прибрели гранитную твердость, зажег новую.
— Наверное, лучше тебе сказать, — заговорил он. — Муж Винни все никак не успокоится. Он пробудет здесь в отпуске все Рождество, так что гляди в оба.
Артур попробовал нашарить в кармане пачку сигарет, но безуспешно.
— Спасибо, что предупредил. Но если он будет один — пожалеет. Я тоже предупреждаю: попадется — шею сверну. Так и скажи ему. Я не шучу.
Это было заметно.
— От тебя одни только неприятности, Артур, — негромко проговорил Джек. — Слишком уж тебя заносит. И когда-нибудь, попомни мое слово, ты об этом сильно пожалеешь. Сам нарываешься.
— А тебе мозгов даже на то не хватает, чтобы хоть во что-нибудь вляпаться, — огрызнулся Артур. Добрых слов для Джека у него не находилось.
— Может, и так, — сказал Джек и, видя мучения Артура с рукой, предложил: — Закури мою. — И бросил ему пачку.
В этот момент Артур наконец добрался до цели.
— Обойдусь, — буркнул он и неловко обхватил окровавленными пальцами коробок спичек.
Джек сделал было движение в сторону, но что-то его остановило.
— Все еще в токарном цеху работаешь? — спросил он, чтобы хоть как-то нарушить непереносимую тишину.
— А где, ты думаешь, я руку поранил? Работаю и буду работать до Судного дня. Если, конечно, не рехнусь прежде того.
— Ну, тут бояться нечего, — сказал Джек. — На Рождество получишь от фирмы хорошую премию. Ты сколько уже здесь работаешь?
— Восемь лет. На пожизненный тянет. Если увеличат до двадцати одного, могу и пришить кого-нибудь.
— Это уж точно, — глухо рассмеялся Джек.
— Только не хочется. По крайней мере пока. Думаю, вообще нет в мире человека, который стоил бы того, чтобы его убили, разве что забавы ради.
— Не надо так говорить, — терпеливо, по-дружески посоветовал Джек. — Твоя беда, Артур, в том, что ты никогда и ни в чем не уступишь. Потому что иначе тебе жизнь не в радость.
— А она мне в радость, приятель, — громко сказал Артур. — Просто потому, что я не такой, как ты, заруби это себе на носу. У тебя своя жизнь, у меня своя. Ты командуй на фабрике и ходи на скачки, а я буду ходить в «Белую лошадь», удить рыбу и трахать баб.
— У меня своя дорога, у тебя своя, — согласился Джек.
— Вот именно. И эти дороги разные.
Наступило молчание.
— Ладно, я в медпункт, — прервал его Артур, — а то кровью истеку.
— А мне надо на склад, за запчастями, — с облегчением сказал Джек. — Увидимся.
— Возможно, — кивнул, отходя, Артур.
* * *
В пятницу вечером он пришел домой с тридцатью фунтами в кармане — жалованье и премия. В субботу накупил игрушек для детей Маргарет, подарков для всех членов семьи и вернулся из города с полными руками и сигарой во рту. Помимо всего прочего, он поставил на нужную лошадь и выиграл двенадцать фунтов. Двадцатку отложил и спрятал у себя в комнате, а остальное запихнул в бумажник — на Рождество.
Пока он шел через рыночную площадь к тете Аде, над городом повисло темное одеяло тучи, обещающее, коли Богу вздумается повернуть рычаг, превратиться в одеяло снега толщиной в шесть футов.
Артур протиснулся через покосившуюся заднюю дверь и наткнулся прямо на тетю Аду, затараторившую, что она пропустила время обеда, а теперь в посудомоечной такая холодрыга, что там только кошки могут есть. Артур запустил руки в карманы пальто, раздал детям шестипенсовые подарки, а Берту, Дейву и Ральфу сигары, и все четверо задымили так, что хоть топор вешай. Тетя Ада сразу принялась рассказывать Артуру о том, что они ждут чернокожего солдата с Золотого Берега. Зовут его Сэм, он друг Джонни, они вместе служат в Западной Африке. Сэм собрался на курсы механиков в Англию, и Джонни пригласил его в гости. Вчера пришла телеграмма: «Приезжаю двадцать четвертого Сэм», и Ада причитала, как же он, бедный и одинокий, потащится в такой холод через весь город, да еще не зная дороги.
— Он, наверное, думает, что телеграмма — это что-то вроде там-тама. — Берт засмеялся собственной шутке. — Ну да ничего, не пропадет. Только и надо, что отыскать черного в хаки.
Они с Артуром отправились сначала на вокзал, потом на автостанцию, а через час зашли в чайную на рыночной площади, так и не найдя Сэма. Было поздно и холодно, им хотелось узнать результаты футбольного тура дома, на полный желудок, под сигарету у горящего камина.
— Уже больше пяти, — сказал Артур, отодвигая чашку в сторону. — Жалко, конечно, если он заблудился. Но я не собираюсь околевать от холода, бегая за каким-то зулусом.
Они вернулись домой. Сэм уже оказался на месте. Это был невысокого роста негр со спокойным умным лицом. Он пояснил, что приехал еще утренним поездом и провел день, гуляя по городу.
Одетый в хорошо отглаженный полевой мундир с тремя большими нашивками на рукаве, он напряженно сидел на соломенном стуле, и вид у него был такой, будто он вот-вот задохнется в этом жарко натопленном, людном помещении. Его тщательно сложенный матерчатый пояс лежал на диване у окна. Оставаясь центром всеобщего внимания, Сэм встал при появлении Берта и Артура. Темная ладонь его была теплой, рукопожатие крепким, отметил Артур, кивая в ответ на приветствие: «Рад познакомиться». Две русоволосые дочери изо всех сил старались не рассмеяться, наблюдая за изнурительной церемонией знакомств, выпавших на долю Сэма, ибо Дейв пришел не вместе со всеми, а минут на пять позже — с футбола — и сразу сделал вид, что изумлен появлением первого в его жизни негра, оказавшегося в семейной гостиной. Девушки громко объявили, что с минуты на минуту явится весь второй батальон. Ада прикрикнула на них и велела замолчать. Уютно устроившийся у камина и погрузившийся в свой собственный теплый мир, Ральф не обращал на всю эту перепалку ни малейшего внимания и отвлекся лишь на то, чтобы спросить у Дейва, кто выиграл.
— Наши продули ноль — четыре, — ответил Дейв. — Все только об этом и говорят. Никогда еще не играли так бездарно. — Он бросил свою кепку девушкам, которые, вволю над ним посмеявшись, вытащили у него из кармана аккуратно сложенное футбольное приложение к «Миррор» и перебросили его Ральфу со словами: «Вот, здесь есть результаты первого тайма». Приложение раскрылось посредине, и Ральф поймал его буквально в последний момент, прежде чем оно успело спланировать в горящий камин.
Артур сидел за чашкой чая, улыбаясь про себя колким вопросам, которыми присутствующие засыпали простодушного и общительного Сэма. Умеет ли он читать и писать? И если умеет, то кто его научил? Верит ли он в Бога? Как там Джонни живется в Африке? Как он выглядит, как переносит жару, нравится ли ему там? Скучает ли Сэм по Западной Африке? (А как же, громким шепотом сказал Берт, наверняка ему не хватает там-тамов. Ада свирепо посмотрела на него.) Давно ли в армии? Семь лет! Так это ж целая жизнь. Рад ли, что всего три года осталось служить? Сколько тебе лет, Сэм? Всего тридцать два? Как тебе нравится Англия? Ну, в любом случае скоро привыкнешь. А дома у тебя девушка есть, Сэм? Красивая? (Такая же черная, как туз пик, прошептал Берт на ухо Артуру.) Венчаться в церкви будешь? Артур впился вилкой в кусок пирога с мясом; ему хорошо было в этом доме на Рождество, когда на тебя со всех сторон сыплются шутки и ощущение такое, будто это искры падают на расслабленные мозговые извилины. Он вышел с Бертом и Дейвом в гостиную посидеть перед камином, покурить и послушать, как гулко звучат снаружи шаги прохожих, редких в этот час, когда футбольные матчи закончились, а время встреч в пабах еще не подошло. Задергалась дверная ручка, и в гостиную вошла Джейн, узколицая, русоволосая женщина дет тридцати. Она облокотилась о кресло, на котором сидел Дейв, и объявила:
— С каждого по полкроны на ящик пива, чтобы ждал нас, когда возвратимся из паба.
Все безропотно полезли в карманы.
— А как насчет Сэма? — осведомился Дейв.
— Он не в счет, — отрезала Джейн, — он наш гость.
— Ну и что? — возразил Берт. — Пусть бусинами расплачивается.
— Заткнись! — сердито прикрикнула на него Джейн. — Он сегодня идет с нами, и веди себя с ним прилично, иначе тебе не поздоровится, когда Джонни вернется из Африки.
Через некоторое время дом начал походить на горловину песочных часов: гости входили с заднего двора и у парадной двери сливались с многочисленными членами семьи. Ада, Ральф, Джим и Джейн взяли на себя первую партию. Дети до шестнадцати были отправлены на ближайший сеанс в кино.
Артур ушел вместе с Бертом, Дейвом, Колином и Сэмом. Все были в пальто, что не мешало Сэму дрожать от холода. Разбившись на пары, они поднимались по склону, ведущему к мосту; идущий навстречу паренек с упаковкой рыбы и жареного картофеля в руках был просто сметен с дороги. Железнодорожные помещения внизу утопали во влажном тумане; он же поглощал грохот фур, с натугой ползущих вверх, к освещенной дороге. На противоположной стороне улицы оранжево мерцали большие вокзальные часы и чернели силуэты зерновых складов.
В «Лэмбли-Грин» почти никого не было. Дейв заказал по пинте пива, и все решили побросать дротики. Артур объединился с Сэмом против Колина и Берта, Дейв вел счет. У Сэма оказался верный глаз, каждый его бросок попадал точно в цель — Берт объяснил это унаследованной от предков точностью в метании ассегая. Перешли в следующий паб, где народа было побольше. На сей раз угостить всех вызвался Сэм, но предложение было дружно отвергнуто. Артур перегнулся через медные перила стойки и заказал пять пинт. Передавая кружки одну за другой через плечо, он пролил несколько капель на пальто сидевшей рядом женщины. Та сердито повернулась к нему:
— У тебя что, глаза на затылке?
— Извините, мэм, — приветливо улыбнулся ей Артур.
Рядом стоял ее муж, рослый мужчина с пухлыми губами, черными усами и волосами, зачесанными наверх, от низкого лба на затылок, откуда они падали на белый шарф, уходящий под воротник черного пальто.
— Растяпа, — буркнул он.
Не обращая на него внимания, Артур продолжал передавать кружки.
— Ты что, оглох? — повысил голос мужчина.
Артур стиснул кулаки, готовый пустить их в ход.
— Точно, оглох, — подхватила женщина, некрасиво выпячивая губы и сверля Артура уничтожающим взглядом.
Артур промолчал. Дейв протиснулся к мужчине.
— Нарываешься на неприятности, дружок?
Сэм и Колин смотрели на них со своего места у стены.
— Отвесь ему, Артур! — крикнул Берт.
— Ни на что я не нарываюсь, — сказал мужчина, избегая ледяного взгляда Артура и отступая с максимумом воинственности. — Просто надо смотреть, куда что ставишь.
— Слушай, но это же просто случайно вышло, — громко сказал Джек, нависая над мужчиной и постепенно багровея от негодования.
— Врежь ему, Джек! Почему ты ему не врежешь? — настаивала женщина, отхлебывая свой портвейн.
— Это тебе бы следовало надавать по заднице, мадам, — сказал Дейв. — Это от таких, как ты, одни неприятности.
В их сторону направлялся хозяин паба:
— Эй, вы там, мне здесь драки не нужны.
— Чего это они? — спросил Сэм у Артура.
— Мне не нравятся люди, проливающие эль на пальто моей жены, — воинственно выпятил грудь мужчина.
Артур разжал кулаки.
— Если бы это было виски, она бы его вылизала, — сказал Берт. — Здесь как на кладбище. Полно мертвецов.
Они перешли через Слэб-сквер и, взбодренные очередной пинтой в «Сливовом дереве», перебрались к «Красному дьяволу», оттуда в «Кегельбан» и трактир «Почтовая карета» и, наконец, пробились сквозь толпу людей, набившихся в «Путешествие в Иерусалим», этот шумный пятачок света, отражающий громаду замка на Скале.
Сэм попытался пересчитать, сколько людей в гостиной, но на двадцати сдался, поняв, что считает уже пересчитанные головы. Джейн разлила пиво по чашкам и стаканам.
— Давай, Артур, нажимай. Ты как, Сэм, все в порядке? — она круто повернулась к нему. — Это хорошее пиво, Сэм, — весело продолжала она чуть заплетающимся языком. — Мы с Джимом раздобыли его в пабе по соседству. Знаешь, пару лет назад, — продолжала она, — Берт с Дейвом спустились в наш погреб с молотком и стамеской, вынули из стены несколько кирпичей и стибрили из соседского погреба пару ящиков. Потом заделали дыру, и никто ничего не заметил. Славно мы тогда посидели.
Артур громко засмеялся вместе с остальными: он тоже принимал участие в той истории и вспомнил сейчас, как помечал мелом передаваемые ему кирпичи.
Вошла Ада. В руках у нее было большое блюдо с индейкой, обложенной сэндвичами с бараньей ногой.
— Налетайте, люди, надо же хоть что-то поесть. Сэм, не стесняйся, мы хотим, чтобы тебе у нас понравилось. — Она круто повернулась к Колину. — А где Битти? Сегодня же сочельник, я думала, она придет.
— Ты бы не заряжал ей так часто, Колин, — усмехнулся Дейв.
— Да на Битти достаточно просто посмотреть, и она уже с пузом, — сказал Колин, наливая себе пива и надкусывая сэндвич.
На Аде было яркое платье с веселым рисунком.
— Как тебе моя гостиная, Сэм?
Тот оглядел стены, потолок, рождественские открытки на мраморной каминной доске, скрывающие почти весь, кроме орехового купола, корпус громоздких часов.
— Стены пару лет назад обклеили Артур с Бертом, — пояснила Ада. — Обойщику пришлось бы заплатить пять фунтов, а так — даром, и ничем не хуже.
— Если не считать этих здоровенных морщин, — сказал Артур, завершая продолжительный рождественский, под омелой, поцелуй с одной из своих русоволосых кузин. Ральф в разукрашенной бумажной шляпе и Джим в форме военного летчика танцующей походкой вошли в гостиную, за ними, нахлобучив себе на голову фуражку зятя, вплыла вторая кузина.
— Пива хочу, — капризно заявила она.
— Выпьешь хоть каплю, задницу надеру, — посулила ей Ада.
Сэм устроился на кушетке, кто-то натянул поверх его черных, начинающих седеть волос розовую бумажную шляпу. Чахоточная Юнис пришла с Гарри, своим молодым человеком с широким, желтоватого цвета лицом и вьющимися каштановыми волосами, гладко зачесанными назад. Он работал сварщиком на одной из городских фабрик. На Юнис было темно-бордовое пальто, которое она подбивала в плечах, чтобы скрыть худобу, подчеркиваемую, однако, впалыми щеками и руками-палками. Им сразу сунули в руки выпивку и сэндвичи с бараниной. Артур, уже изрядно набравшийся к тому времени, затянул, вовлекая других, какую-то песню под аккомпанемент тарелок, на которых невпопад отбивали ритм сидевшие за столом Берт, Колин и Дейв. Ада велела Сэму петь громче, но тот сказал, что не знает этой песни.
— А «Все любят субботний вечер» знаешь, Сэм? — крикнул из-за стола Берт, и Сэм расплылся в широкой улыбке, явно довольный всеобщим вниманием. Один за другим гости потянулись на кухню, и в конце концов в гостиной остались только Юнис и Гарри. Они выключили свет и пересели ближе к окну, наблюдая за проезжающими по дороге машинами.
Когда огонь в камине на кухне догорел, все отправились спать; по всему дому слышался стук захлопываемых дверей. Артуру, на ощупь поднимавшемуся в темноте по лестнице следом за Сэмом, предстояло разделить большую кровать с двумя своими двоюродными братьями, Сэму же постелили на большой походной койке у окна. Все заснули почти сразу, лишь Артур бодрствовал: его отвлекали разные звуки, нарушавшие тишину дома. То дверь хлопнет, тот раздастся женский смех, то чей-то визг, то храп братьев. С проходящей неподалеку железной дороги донесся глухой монотонный стук колес, словно некое железное чудовище пробиралось через долину Трента. Задребезжало оконное стекло — это проехала легковая машина. Рядом с парадной дверью послышались мужские шаги, а в центре города сразу несколько часов меланхолически отбили три четверти.
Сэма разбудила перебранка Берта и Дейва, каждый из которых старался перетянуть одеяло на себя. По коридорам босиком бегали дети, и в окна било солнце. Сэма оставили наверху одного переодеться, и, пока Артур, Берт и Дейв спускались вниз, из кухни все сильнее доносился запах жареного бекона. Джейн и Джим болтали у себя в спальне, за закрытой дверью с храпом ворочался с боку на бок Ральф. Все по очереди помылись в посудомоечной. Садясь завтракать, Берт не удержался от шпильки в адрес Сэма: «Эй, ма, а у меня в комнате зулус поселился». «Не валяй дурака и оставь Сэма в покое!» — прикрикнула на него Ада. Когда Сэм спустился, ему подали три яйца, что заставило девушек пожаловаться на несправедливость. Но Ада тайком показала им кулак и велела заткнуться. После завтрака все остались в гостиной погреться у камина. Стоявший в кухне беспроводной приемник был подсоединен к усилителю, и весь дом содрогался от рокочущих, как волнующееся море, звуков «Итальянского концерта Баха».
Все отправились в город. С востока дул холодный пронизывающий ветер, и Дейв предсказывал близкий снегопад, всячески поддразнивая Сэма, который видел снег только на открытках. Из пабов доносились редкие, приглушенные звуки, словно посетители в память о вчерашнем вечере решили провести два часа в молчании. Солнце то било в глаза, то буквально в следующий момент скрывалось под порывами ветра за облаками. Они выпили по кружке в «Хорс-энд-Грум», где Артуру понадобилось пять минут, чтобы объяснить Сэму значение слова «лоточник» — «тот, кто продает товары на улице». Когда они вернулись домой, в гостиной уже был накрыт праздничный стол и вовсю полыхал огонь в камине. Девушки разносили еду — вареный картофель, жареная свинина и цветная капуста. Ели в молчании. Далее последовал рождественский пудинг, с которого клинообразными потоками стекал густой заварной крем. С кухни, где под строгим присмотром Ады обедали другие члены семьи, доносились звуки, напоминающие тяжелый гул морского прибоя. Покончив с трапезой, все собрались в гостиной сыграть в «Копилочку»: посреди стола была поставлена большая стеклянная ваза для фруктов, которая по ходу игры наполнялась монетками. Участвовали двенадцать человек, включая Сэма и Аду, толстые руки которой занимали чуть ли не полстола. Стоило кому-то чуть помедлить со сдачей, как раздавался грозный окрик, с началом каждого очередного раунда по полированной поверхности стола скользили монеты, и чья-то проворная рука сгребала их после его окончания. В какой-то момент куш — три шиллинга и девять пенсов — сорвала десятилетняя девчушка. «Грязная плутишка». «Мошенница». «Везет же». Больше рисковать девочка не захотела, в общий банк деньги не положила и сказала, что ее ждет приятель. Со всех сторон зазвучали угрозы.
— Я не обязана играть, если не хочу! — заверещала она.
Хлопнула дверь. Ада обернулась и, увидев, что это одна из дочерей Битти, спросила, когда придет ее мать.
Дейв раскрыл карты и сбросил две червы.
— Слишком уж много у нее детей, за всеми не углядишь, — сочувственно сказал он. — Да и не накормишь всех в одно время. Не пойму даже, как они все улеглись спать в этом доме. Должно быть, Колин раскладушки притащил из подвала.
— Никогда еще у нас не было столько народа, — поддержал его Берт. — Куда ни ступишь, обязательно на какого-нибудь мальца наткнешься.
Сэм не очень-то понимал их домашние шутки, но смеялся вместе со всеми. Чай подали в три приема, процессом руководила Ада, отдававшая указания своим незамужним сестрам. Одну звали Энни — это была невысокая, изнуренная многолетней работой на кружевной фабрике женщина лет сорока с выцветшими, заплетенными в косу волосами, в темно-зеленом платье и черной как уголь шерстяной кофте. Вторая, Берта, — ростом была повыше, старше сестры, с пышной грудью, говорила басом и отличалась несколько большим вкусом в одежде. Ада появилась из посудомоечной с блюдом салата, за ней шла Берта с вазой всякой всячины и Энни с рождественским тортом, обмотанным розовой лентой, — гордость Ады.
— Кушай, Берт, малыш, а я займусь чаем.
Артур переложил салат в тарелку, насаживая помидоры на вилку и стараясь не уронить их на белую скатерть. Берта стояла во главе стола, как на вахте, с чайником в руках, готовая в любой момент наполнить опустевшую чашку. Взгляд ее остановился на Сэме.
— Ну, Сэм, смотрю, поесть не дурак. Наворачивает за обе щеки.
Сэм поднял голову и улыбнулся.
— В армии небось так не кормят? — заметил Берт.
— Да откуда, — не дала ему ответить Ада. — Верно, Сэм?
— Верно. Правда, и в армии бывает неплохая еда, — дипломатично ответил Сэм.
— Когда я служил в армии в Бельгии и Германии, — вступил в разговор Берт, протягивая руку к блюду со сладкими пирожками, которое Энни только что поставила на стол, — мы питались одними помоями.
— А я в армии, — засмеялся Берт, — жил на хлебе и воде, да и то если повезет.
— Знаешь, в какой части он служил? — повернулся Берт к Сэму.
— Нет.
— В ККД. А знаешь, Сэм, что такое ККД?
Сэм вновь покачал головой.
— Королевский Корпус Дезертиров, — громко расхохотался Берт.
— И как только начнется новая война, мы вернемся в ту же часть, верно, Артур? — Дейв попросил налить ему еще чашку чая, но Ада крикнула, что времени нет и сейчас будут поданы еще два блюда. Все потянулись назад в гостиную, и, пока Сэм отлучался в туалет, вошла Джейн и протянула руку за очередными взносами в виде полукроны.
— Это на пиво, — пояснила она и, когда все заплатили, осведомилась: — А где Сэм?
Артур ответил, а Берт добавил:
— Одеялом обвязался.
— С него тоже полкроны.
— А что, он больше не гость? — поинтересовался Дейв, бросая в камин два куска угля.
— Гость не гость, а заплатить должен, — отрезала Джейн. — Денег у него хватит.
— А как в таком случае насчет Энни и Берты? — осведомился Дейв. — Или эти две нахлебницы уже заплатили?
— Да, — подхватил Берт, — как насчет этих послушниц? Уж у них-то в кармане всегда найдется несколько монет. Каждое воскресенье в церкви жертвуют.
— Не беспокойся, — сказала Дженни, — заплатят.
Она перехватила Сэма в коридоре и заставила его раскошелиться.
Сменив в тот вечер несколько пабов, они вместе с Адой и Ральфом закончили обход в Железнодорожном клубе. Это было длинное помещение с низким потолком, в котором столики были расставлены, как столы в солдатской столовой, а в одном конце находились бар и музыкальная площадка. Играли в «домик». Артур, Сэм, Берт и Дейв купили фишки и оглядели своих соперников. В самый драматический момент игры внезапно вскочил какой-то мужчина в кепке и заорал, словно резаный: «Домик!»
— Вот черт! — ахнула Ада. — Всего двух ходов не хватило.
— А мне одного, — сказал Артур.
— Не повезло, — согласилась она. — Мог бы бутылку виски выиграть.
В половине одиннадцатого семья покинула клуб, пересекла железнодорожный мост и направилась домой. Пальто кое-как побросали на кухонный стол — вешалки в передней и без того прогибались под тяжестью одежды. Пиво — взрослым, оранжад — детям (шестнадцать лет — пограничный возраст). Что кому, определяла у бара в гостиной Джейн. Битти, долговязая и шумная, устроилась вместе с Колином на кушетке; Эйлин, Фрэнсис, Джун и Алма расселись на стульях у окна и пытались, бросая вызов всем остальным, затянуть гимн оппозиции. Артур, Сэм, Берт и Дейв господствовали на пространстве вокруг камина, Ральф, Джим и Ада стояли около двери. Энни и Берта разносили сэндвичи с мясом, Фрэнк, двадцатидвухлетний сын Битти от первого мужа, уговаривал свою невесту выйти наружу и сунуть два пальца в рот. Гарри, Юнис и какая-то девица в хаки заняли еще одну кушетку, а многочисленные дети жались к ножкам стола, чтобы их ненароком никто не задел. Алма, пятнадцатилетняя девушка с каштановыми волосами, в хлопчатобумажном платье с глубоким вырезом, обнажающим округлую белую грудь, стала честной добычей Берта, который потребовал расплатиться поцелуем под омелой. Но когда он попытался заставить ее поцеловаться с Сэмом, она выбежала из дома. Лопнули воздушные шары, под потолком затрепетали разноцветные ленты. Берт прокладывал себе путь через комнату, размахивая зажженной сигаретой. Общий шум заглушил голос Джейн, воинственно нападавшей на Джима:
— Не верю. Ты все врешь. Попридержи язык, сучонок.
Берту удалось заставить Энни и Берту поцеловаться с Сэмом под омелой, и Берта спросила, напишет ли он ей из Африки.
— И передай привет своей девушке, ладно? — добавила она, и от выпитого у нее так подернулись влагой глаза, что в левом даже не стало видно небольшого косоглазия.
— Хорошо, — сказал Сэм, — непременно передам.
Ада спросила, понравилось ли ему, как у них дома отмечают Рождество, и он торжественно ответил, что очень понравилось.
— И ты все расскажешь Джонни, когда вернешься? — настаивала она.
— Непременно, — заверил ее Сэм.
— Жаль, что Джонни нет с нами, — продолжала она. — Он такой хороший мальчик. Никогда в жизни дурного слова мне не сказал. Помнится, однажды какой-то тип что-то сказал мне на Уотервэй-стрит, так Джонни гнал его по всей улице. Тот тип успел вбежать к себе в дом и запереться, но это не остановило нашего Джонни. Он начал колотить в дверь ногами и не переставал, пока тот не сдался — из страха, что Джонни ее вышибет. И тогда наш мальчик принялся гонять его вокруг стола и, наконец, поймал и размазал по стенке. После этого он стал для меня как сладкий пирожок.
Ада протянула Сэму кружку пива и поцеловалась с ним под омелой.
— Держу пари, — крикнула Битти, — ей не впервой целоваться с черным.
Кто-то высказал предположение, что Ральфу это может не понравиться — будет ревновать.
— Да какая там ревность, — возмутилась Ада, — Сэм мне как сын.
Снова с оглушительным треском лопнули воздушные шары, и девушки завизжали.
— Так тебе нравится Англия? — спросила Джейн, которая на несколько минут выходила их комнаты.
— Очень нравится, — заплетающимся языком ответил Сэм.
Она закинула ему руки на шею и поцеловала, повернувшись спиной к двери, где стоял, судя по лицу с трудом себя сдерживая, ее муж. Две девицы ушли домой, Эйлин и Фрэнсис уложили кого-то из детей спать. Фрэнк наконец-то вытащил свою невесту на улицу, где ее благополучно стошнило. Юнис ушла с Гарри. Энни и Берта оделись и пошли домой. Джейн и Джим сидели на диване с пустыми стаканами в руках: одна была мрачна, другой подавлен. Сэм заявил, что идет спать, встал и снял со спинки стула свой пояс. В комнате вдруг стало тихо. Джейн медленно поднялась с дивана и, сердито сжав губы, впилась взглядом в мужа.
— Попробуй еще хоть раз сказать про меня то же самое, — громко сказала она.
Артур заметил, что она сжимает в руке пивную кружку.
— А что он такого сказал? — обратилась ко всем Ада.
Ничего не ответив, Джейн разбила кружку о лоб мужа. От удара у того образовался глубокий, в полдюйма, порез. Брызнула, а потом потекла струей, впитываясь в ковер, кровь. Он стоял неподвижный, как статуя, и не издавал ни звука. Кружка выпала у нее из рук.
— Попробуй еще хоть раз обвинить меня в этом, — повторила она дрожащими губами.
— За что ты меня ударила? — выговорил наконец Джим голосом, в котором изумление смешивалось с тоской и горечью.
— В следующий раз последишь за своим языком! — выкрикнула Джейн, отступая при виде такого количества крови.
— Да что я такого сказал? — взмолился он. — Объясни мне или кому еще, что я сказал.
— Поделом тебе, — отрезала она.
Дейв усадил Джима на стул. Артур сходил в посудомоечную и смочил под краном чистый носовой платок. Сэм пока держался, но, казалось, вот-вот ноги у него подогнутся. Артур плеснул ему в лицо холодной водой, и он несколько оживился. Потом Артур прижал влажный носовой платок ко лбу Джима, испытывая необычное и радостное ощущение оттого, что вновь оживает, как если бы все то время, что прошло после драки с армейскими, он пребывал в безвоздушном пространстве. Да, говорил, он себе, ты с тех пор и не жил вовсе и только теперь очнулся, готовый преодолеть любые преграды, победить любого мужчину или женщину, которые попадутся на пути, весь мир перевернуть, если начнет слишком уж досаждать, перевернуть и разнести на куски. Треск стекла, разбивающегося о лоб Джима, звучал и звучал в его сознании.
Глава 15
Родился бунтарем, бунтарем и помрешь. Другим быть ты просто не можешь. И даже не пытайся спорить. Да и хорошо быть бунтарем, это самое лучшее: ты словно всем показываешь, что пытаться тебя нагнуть — дело пустое. Фабрики, биржи труда, страховые компании — благодаря им (во всяком случае, так они утверждают) мы дышим и держимся на плаву, но на самом деле это мины-ловушки, и если не смотреть в оба, то они тебя проглотят, как песок засасывает человека в пустыне. Фабрики выжимают из тебя пот до смерти, биржи заговаривают до смерти, страховщики и налоговики тянут деньги из кармана и обирают до смерти. А если после всего этого свинства в тебе еще теплится хоть какая-то искорка жизни, тебя призывают в армию и убивают. А если хватит ума откосить от армии, погибнешь под бомбежкой. Да что там говорить! Это не жизнь, если только не прижать эту гнусную власть, не позволять ей больше совать тебя мордой в грязь, хотя, по правде говоря, не очень-то много ты можешь сделать, разве что изготовить динамит да разнести на куски эти очкастые рожи.
Со всех трибун кричат: «Голосуй за меня, делай то, делай это», но за кого бы ты ни проголосовал, кончается все одним и тем же, потому что в любом случае ты получаешь власть, которая обклеит всю твою физиономию гербовыми марками, за которыми собственной руки не увидишь, и, больше того, тебя заставляют принимать все это, чтобы и дальше можно было продолжать делать свое дело. Тебе ввинчивают это в мозг, в позвоночник, в череп, пока не решат, что только помани, и ты сорвешься с места.
Но вот мой станок — старинный, верный товарищ, он заставляет меня думать, и у всей этой публики выходит большая промашка, потому что я знаю, что я не один. Однажды свистнут, а мы не побежим, как овцы, в загон. Однажды хлопнут в ладоши и скажут: «Да ладно, ребята, чего там, становитесь в очередь и получите свои денежки. Мы не хотим, чтобы вы голодали». А может, мы, некоторые из нас, готовы поголодать? И вот тут-то все беды и начнутся. Может, кому-то захочется поиграть в футбол или порыбачить в затоне Грэнтхэм-Кат? Толстопузый гомик из профсоюза попросит нас не мутить воду. Сэр Гарольд Мочпуз посулит большущую премию, когда все устаканится. Главный инспектор Попкорн скажет: «Не бузите ребята, не болтайтесь перед воротами». Парни во фраках и котелках скажут: «У этих ребят есть телевизоры, есть на что жить, есть всякие советы, фонды, пиво, у некоторых даже есть машины. Это мы их осчастливили. Так чего же им еще нужно? Эй, уж не пулемет ли там заработал или это просто выхлоп машины?»
Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах! Хотелось бы надеяться, что я этого не увижу, ан нет, куда мне деться, я ведь из тех козлов, что хотят оттрахать весь мир, и что же в этом удивительного — ведь мир хочет сделать с нами то же самое.
Артур официально стал молодым человеком Дорин. В этом было некоторое преимущество: ведь если не восставать постоянно против правил любви и не смешивать их с правилами войны, остается сокрушительная мощь власти, против которой можно выставить свое белое костистое плечо, остаются тысячи установок, принятых для того, чтобы на них плевать и, стало быть, нарушать. Каждый человек — враг самому себе, и только на таких условиях — условиях борьбы — можно достичь мира с самим собой, и единственное приемлемое правило, способное стать оружием в твоих руках, — это хитроумие. Нет, не то слезливое, сопливое хитроумие, что хуже смерти, но энергичное, с кулаками, хитроумие мужчины, который проработал весь день на фабрике и имеет четырнадцать фунтов в кармане, которые готов спустить, как ему заблагорассудится, в выходные; мужчины, мечущегося между одиночеством и полуосознанными жизненными установками, что, томясь в неволе, пытаются вырваться наружу.
Выстаивая пожизненную вахту за станком, Артур доводил себя до безумия мучительными внутренними спорами с самим собой. Кровавая рана на лбу Джима и испуганное, с плотно сжатыми губами лицо Джейн в рождественскую ночь воочию, как при мгновенной вспышке света, показали ему, что, если мужчине суждено одержать победу в поединке, осторожничать почти не приходится (и в то же время он думал, что если бы женщина, любая женщина, ударила его так, как Джейн ударила Джима, то ей бы не поздоровилось). Победить — значит выжить; а выжить, притом что в тебе еле теплится жизнь, и значит победить. Жить, ощущая почву под ногами, не значит, как он впервые полностью осознал, идти против собственного, глубоко укорененного упрямства — например, неудержимого желания смести врагов, ползающих, точно муравьи, по перекладине большой буквы П (Правительство). Кроме того, это значит приятие добра и радостей жизни, как ему уже приходилось делать, только в более жесткой форме, пока все то же Правительство не разнесло тебя в пыль или пока радость не обернулась печалью.
Погожим воскресным утром в начале марта, когда солнце согревало землю, еще недавно ощущавшую холод снежного покрова, а воздух был прохладен и свеж, он встретился с Дорин на окраине города. Народа вокруг почти не было — обеденное время кончилось совсем недавно. На Артуре был костюм, рубашка со стоячим воротничком, галстук и черные башмаки, а Дорин, уже ждавшая его, не сводя глаз с автобусной остановки, где он должен был появиться, надела светло-коричневое пальто и воскресные дополнения в виде чулок, элегантных туфель и кофты из тонкой шерсти.
Он пересекал дорогу — высокий, стройный, с коротко подстриженными, аккуратно зачесанными назад светлыми волосами, одна рука в кармане брюк. Они договорились погулять: Дорин хотела, чтобы это было в городе, Артур — за городом.
— Слушай, — настаивал он, — я и так целыми днями торчу на фабрике, дай мне хоть в воскресенье немного подышать свежим воздухом. К тому же я вообще ненавижу город.
В том, что ее заманивают в пустынные поля, Дорин смутно почувствовала некоторый подвох, однако же уступила. Шагая рядом с ней, Артур думал о необычности их свиданий, об отсутствии опасности, которая ощутимо подстерегала его, когда он встречался с Брендой или Винни. Сейчас свидания перестали быть настоящими экспедициями, когда за каждый угол надо сворачивать с максимальной осторожностью, в каждом пабе искать возможность тактического отступления в случае засады, каждый шаг по темной улице под руку с Брендой делать с трепетом. С Дорин ему всего этого не хватало — настолько, что всякий раз, отправляясь с ней на прогулку, при приближении к углу он чувствовал, как его охватывает возбуждение, и на какое-то время умолкал, пока угол не оставался позади и не приходило двойственное чувство разочарования и облегчения, когда выяснялось, что путь свободен.
День тянулся бесконечно, высоко в небе плыли редкие облака, и все вокруг ласкало взгляд. По обе стороны сельской дороги пробуждались к жизни липы: острые, еще не раскрывшиеся почки готовы были насладиться весной и блестели, как изумруд, уже настолько свежие, чтобы утолить любую жажду. Отсюда, с дороги, последние дома окраины казались тусклыми и разбросанными наугад, словно это было дело рук какого-то полоумного.
Дорин взяла его под руку, и они свернули туда, где церковь Стрелли рассекала вьющуюся поверху тропу надвое: один рукав тянулся через поля к Илкстону, другой — в сторону шахт Кимберли и Иствуда. Артуру всегда было хорошо за городом. Он вспомнил своего деда-кузнеца, у которого были дом и кузня в деревне Воллатон. Фред часто брал его туда с собой, и те поездки четко отпечатались в памяти Артура. Воду там доставали из собственного колодца, сами выкапывали в огороде клубни картофеля, яйца брали буквально прямо из-под курицы и зажаривали с беконом, и ты сам выбирал, откуда отрезать кусок свинины, засоленной и свисающей с крюка в кладовке. Тот дом давно сровнялся с землей, уступив место натиску новых, свежевыкрашенных строений, разлившихся по полям, точно красные чернила по зеленой промокашке.
Они медленно приближались к Илкстону по узкой каменистой тропинке, с одной стороны ограниченной низким забором, а с другой зарослями бирючины, и лишь изредка перебрасывались парой слов. Там, где дорога стала пошире, они свернули к Трауэлу. Артур, всю жизнь болтавшийся в этих краях летними вечерами после школьных занятий или работы, знал здесь каждый уголок, каждую тропку и полянку. Они подошли к дому, где, судя по тому, что было выставлено в окнах, торговали шоколадом и фруктовой водой. Ему уже приходилось здесь бывать, шины его велосипеда были знакомы с каменистым покрытием этой дорожки, его подбрасывало и несло здесь юзом по пути на рыбалку к Ирвош-кэнал, и он часто притормаживал у этого самого окна купить что-нибудь поесть.
Дорин съела плитку шоколада и выпила бутылку лимонада. Хозяйка вспомнила Артура и, отыскивая его любимый сорт шоколада, лукаво поинтересовалась:
— Что, сегодня рыбалки не будет?
— Попробуй с орехами и изюмом, цыпленок, — предложил он, поворачиваясь к Дорин. — Тебе понравится. Нет, какая рыбалка, — это уже хозяйке. — Не видишь, что ли, я за девушкой ухаживаю. — И в подтверждение потрепал Дорин по плечу.
— Ах, ухаживаешь? — воскликнула хозяйка. — Ну, в таком случае рыбам волноваться не о чем.
Артур расплатился, и она закрыла окно.
— А на рыбалку, думаю, еще найдется время, — сказал он.
Они ступили на подвесной мост и облокотились о перила.
— Я знаю короткий путь назад, — сказал он. — Об автобусе можно не думать.
Его рука обвилась вокруг ее талии, и они смотрели на темно-зеленые камыши, росшие всего в нескольких футах. Вряд ли это можно было назвать даже ручьем, скорее небольшим рукавом протекавшего неподалеку канала. Здесь было довольно мелко, вода казалась совершенно неподвижной, и в ней отражались облака. Они стояли в молчании. Никого рядом не было видно. Ладонь его скользнула по ее спине и остановилась на теплой шее. Он попытался поцеловать ее. Она отвернулась.
— Никто не смотрит. — Он крепко прижимал ее к себе и, глядя вниз на воду, на гладкую поверхность, где в неподвижной прозрачной тишине изящно скользили мелкие рыбешки, все глубже погружался в грустные раздумья. Бело-голубое небо отражалось в воде очертаниями островов, и погружение в их недра казалось загадочным и бесконечным, рыбы проплывали сквозь немыслимые бездны и расселины кобальтовой голубизны. Артур не сводил глаз с прекрасной земной чаши бездонных вод, пытаясь постичь каждую заводь и каждую мель, пока, подобно тишине вокруг, внутри его тоже не установилась тишина, которую не могла нарушить ни единая частица его тела или сознания. В воде их лица не были видны, они сливались с тенями рыб, сновавших посреди стреловидно тянущихся вверх камышей и раскинувшихся лилий, сами же они растворились в водной стихии, словно были ее частью, словно их плоть, когда они погрузятся в воображаемые глубины, ощетинятся острыми когтями мира, более напоминавшими клыки, словно все это им, изгнанникам, давно уже было известно, и теперь они хотят вернуться туда, — а тени их уже там, — и мирные неизведанные глубины манят и манят их, призывая продолжить путь.
Но ни о каком продолжении не было и речи. Рано или поздно тебя просто затягивает в воронку, независимо от того, хочешь ты этого или нет. На поверхности воды возникла зыбь, она разбежалась концентрическими кругами, а потом пришли в действие вневременные силы, и произошел взрыв. И все струйки растеклись и исчезли близ берега, в зарослях камыша.
— Я устала, — нарушила тишину Дорин.
— Пошли. — Артур взял ее за руку и вывел на дорожку.
Срезав, как он и обещал, путь, они вышли к самому уединенному за весь этот день месту, и, влекомые убийственной и неудержимой страстью, легли на землю подле живой изгороди.
По завершении очередного субботнего киносеанса он заявил, что, прежде чем идти к ней домой, хорошо бы выпить кружку пива. К тому же, рассудительно заметил он, на улице дождь и под крышей паба посидеть будет совсем недурно. Но ведь можно поехать на автобусе, возразила она, в нем уж точно не промокнешь, на что он ответил, что не выносит очередей — любых.
— В жизни не стоял в очереди, — заявил он, — и сейчас не собираюсь.
— Но ведь это всего пять минут, — раздраженно бросила она.
— Это слишком долго. К тому же я ведь сказал, кажется, что хочу пива.
— А что, без пинты никак? — Защищаясь от холодных иголок дождя, она подняла воротник пальто. — Поехали ко мне, там тепло. Мама приготовит нам ужин.
В нем взыграл дух противоречия.
— Я хочу выпить пинту, — упрямо повторил он. — И не вижу в этом ничего дурного.
— Ну а я вижу. Ты слишком много пьешь.
— Ничего подобного. С тех пор как мы вместе, я пью вдвое меньше прежнего. Так что не надо мешать мне выпить пинту-другую, когда захочется.
В пабе было накурено и шумно.
— Хорошо, но только одну, — сказала она, входя внутрь.
— Почему бы и тебе не выпить чего-нибудь? — предложил он.
Она остановилась на имбирном с лимонадом, но сесть за столик отказалась, заявив, что в таком случае он не уйдет отсюда до закрытия.
— Ты что, стараешься держать меня на коротком поводке? — засмеялся он. — Ведь мы же еще вроде не женаты.
— Верно, даже не обручены, — насмешливо подтвердила она.
— Так ведь мы и знакомы-то всего несколько месяцев.
— И ты считаешь, что все это время ухаживал за мной? — Она сделала гримасу. — Что ж, кое-кто, может, и назовет это ухаживанием, но я — нет.
— Даже последние две недели? — поддразнил ее он.
— Свинья! — не сдержалась она. — Ты теперь постоянно мне этим в лицо тычешь.
Он повернулся к ней и негромко рассмеялся:
— Знаешь, мне нравится на тебя смотреть, когда ты вот так споришь со мной и ругаешься.
— Лучше бы ты слушал, что тебе говорят, как все остальные, — огрызнулась Дорин.
— Да я бы слушал, если бы не любил тебя.
— Любил! — воскликнула она. — Ты вообще не знаешь, что такое любовь.
— Верно, дорогая, знаю я немного. Но все же немного побольше твоего.
— Нет, ты чокнутый, — покачала головой Дорин, — просто ненормальный.
— О господи, — покачал головой Артур, — и вся эта суета только из-за того, что мне захотелось выпить пинту, а тебе не удалось настоять на своем. Ты бы лучше на себя посмотрела, как ты пьешь свое имбирное. Любой решит, что ты родилась в трактире. Да, если бы я не любил тебя, постыдился бы прийти сюда вместе с тобой.
Она прикусила губу и сердито посмотрела на него.
— Любой подумает, что мы уже женаты, — выпалила она, — такие вещи ты говоришь и так себя ведешь. Все по-своему делаешь.
— А разве ты этому не рада? — требовательно спросил он все в той же небрежной, столь раздражающей ее манере. — Разве тебе это не нравится? А ведь это единственное мое право, которое я буду отстаивать всегда, и тебе это известно.
— О господи, — вздохнула она, — будь мы где-нибудь еще, я бы тебе голову разбила, честно.
— Бьюсь об заклад, Дорин Грэттон, так бы оно и было. Но и за мной бы не заржавело, и это тебе тоже известно, так?
— Ну, и много бы ты с этого получил? — уже помягче проворчала она и, вспомнив, что он говорил про радость и про то, что ей якобы по душе, добавила: — Да, кстати, кто тебе сказал, будто мне это нравится? И уж в любом случае не благодаря тебе, можешь быть уверен.
— А кому же еще? Мне-то уж не ври. Ты что, забыла, как говорила мне, что тебе это нравится? Прям не знаю, всегда скажешь что-нибудь, а потом выясняется, что имела в виду совсем другое.
Она замолчала и не пыталась возражать, когда он заказал себе очередную кружку пива. Он предложил ей сигарету, она отказалась, и он закурил сам, с нажимом чиркнув спичкой по коробку.
— Ты думаешь, что ты петух в курятнике, — продолжала она, имея в виду: «Дай срок, и я приберу тебя к рукам, можешь не сомневаться».
Повернувшись, чтобы выбросить спичку в урну, Артур заметил сидевшего рядом мужчину в военном мундире. Мужчина был высок и хорошо сложен, по-солдатски приятен на вид, хотя лицо его, особенно на фоне черных волос, казалось слишком красным — вскоре оно сделается и вовсе багровым, — а усики над бледными губами были подстрижены слишком коротко. Фуражку он бросил на стойку, рядом с пивной кружкой. Окинув Артура взглядом, достаточно долгим для того, чтобы оба узнали друг друга, мужчина отвернулся.
— Ты сегодня один или с приятелем? — бросил Артур.
— Кто это? — потянула его за руку Дорин.
— Тебе-то какое дело? — презрительно фыркнул военный, и лицо его мгновенно утратило какую-либо приятность.
— Если ты все еще ищешь приключений на свою задницу, давай выйдем, — предложил Артур. — А ты не беспокойся, — повернулся он к Дорин, — это мой старинный приятель.
Военный продолжал неподвижно сидеть, облокотившись спиной на стойку, только сдвинул брови и опустил веки, словно слегка перебрал.
— Ничего я не ищу, — наконец сказал он, явно смущенный ледяным взглядом Артура.
— О чем это ты? — неожиданно высоким, испуганным голосом спросила Дорин. — Какой он тебе приятель?
— Предупреждаю, — говорил Артур, — если будешь нарываться на неприятности, ты их получишь.
Никогда он не извинится, и я никогда не извинюсь. Не будь он солдатом. Так же и я потел за станком и думал, как бы запастись динамитом и взорвать мэрию. Но нет, он всего лишь безмозглый ублюдок. Не понимаю, что Винни нашла в этом несчастном уроде. Фунт ставлю, что у него с ней не получается. Угощу его, пожалуй, пинтой пива.
— Выпей со мной, приятель, — предложил он.
— Спасибо, не стоит, — отказался военный.
— Да ладно тебе, — дружелюбно настаивал Артур, — выпей. — Он заказал две кружки, одну ему, другую себе, и сосуды тут же появились на стойке. Военный подозрительно посмотрел на свой, словно это была чаша с ядом.
— Будь здоров. — Артур поднял кружку. — Выпьем, приятель. Я женюсь на той неделе.
Военный вышел из оцепенения, сказал: «Ну что ж, удачи в таком случае» — и залпом опорожнил кружку.
Они сели в автобус, идущий на окраину города, и промолчали всю дорогу, словно пассажиры самолета, впервые поднявшиеся в воздух и так напуганные полетом, что боятся хоть слово вымолвить. В какой-то момент, уже когда они, выйдя из автобуса и направляясь к дому, огибали холм, она спросила:
— Так что же это все-таки за солдат?
— Я же сказал тебе, старинный знакомый, — ответил он. — Служили вместе. — И замолчал.
Они прошли через сад к черному входу и поднялись на низкое крыльцо, зажатое между ящиком с углем и туалетом. Артур проследовал за ней на кухню, где пахло газом и выстиранной одеждой. В гостиной было неубрано. Живи я здесь, все было бы иначе, подумал Артур. Через всю комнату, по диагонали, была натянута веревка, на которой сушилась одежда, а на буфете и каминной полке были беспорядочно разбросаны старые рождественские открытки, фотографии, щетки для волос, часы без стрелок и пачки сигарет. Старый, двадцатилетней давности транзистор, издававший какие-то звуки с крышки буфета, мать Дорин выключила сразу при их появлении. Стол был накрыт к ужину: заварной чайник с чашками, сахарница, кружка молока, хлеб, сыр и несколько ножей с вилками.
Миссис Грэттон сидела у камина, читая газету, напротив нее, у ведра с углем, устроился индиец из Бомбея с зажатой в ладонях сигаретой. Мать Дорин была глуха и носила очки, на вид Артур дал ей лет пятьдесят и все никак не мог понять, что такого нашел индийский друг в грузной некрасивой женщине с поредевшими и поседевшими на висках волосами. За все то время, что Артур приходил в этот дом, индиец ни разу не заговорил с ним, просто кивал — судя по всему, по-английски не знал ни слова. Мать Дорин сообщила, что он работает на машиностроительном заводе и через три года рассчитывает вернуться в Бомбей, скопив тысячу фунтов, а там, где он живет, такая сумма — миллиардное состояние. На индийце был комбинезон, куртка и вязаная кепка, которую в присутствии Артура он снял лишь однажды — поднимаясь следом за миссис Грэттон в спальню, — и тогда обнаружилось, что он совершенно лысый. Бомбейцу было лет сорок, он отличался приятной, на свой индийский манер, наружностью, но Артуру не нравился. Он все время молчал, разглядывая картинки в журнале, и медленно, задумчиво вертел в пальцах сигареты, так и не донося их до рта. Время от времени миссис Грэттон отрывалась от газеты и что-то живо ему говорила — что именно, он не понимал, но делал вид, что понимает, и в ответ либо ворчал что-то, либо кивал, либо произносил то или иное слово на своем языке, которого она не знала.
Миссис Грэттон сложила газету и подала ужин. При этом она не вынимала сигареты изо рта и, поглядывая на них поверх очков, двигалась по комнате так медленно и неуклюже, что Артур удивился, как это ей удалось так аккуратно разложить приборы и подать еду всего за десять минут. Ни ему, ни Дорин есть не хотелось. Молча жуя хлеб с сыром, они поглядывали друг на друга, и, когда мисс Грэттон отворачивалась, Артур сразу же начинал подмигивать Дорин, а когда индиец опускал голову — подносил к носу растопыренные пальцы.
— Твоя мать целый вечер не отрывается от газеты, — громко, не боясь быть услышанным, сказал Артур. — Она что, медленно читает или рассматривает объявления?
— От слова до слова читает, — ответила Дорин. — Газеты ее интересуют гораздо больше, чем книги.
Миссис Грэттон подняла голову. Острый взгляд подсказал ей, что они о чем-то разговаривают.
— Что это вы такое говорите? — с любопытством спросила она.
— Я говорю Артуру, что ты любишь читать объявления в газетах, — повысила голос Дорин.
— Ну да, они такие интересные, — лаконично бросила миссис Грэттон.
Привлеченный разговором индиец — Артур ни разу не слышал, чтобы в этом доме его называли по имени, словно никто не взял на себя труд поинтересоваться хотя бы, как его зовут, — поднял голову и улыбнулся.
— Заблудшая душа, — сказал Артур Дорин, улыбнувшейся индийцу в ответ.
— Что? — переспросила миссис Грэттон.
— Заблудшая душа, говорю! — прокричал Артур.
— Да не заблудшая вовсе, — возразила миссис Грэттон. — Все с ним в порядке. Он хороший малый.
— А имя у него есть? — повернулся Артур к Дорин.
— Есть, наверное, но мы все зовем его «Чамли», потому что это ближе всего к тому, как он сам себя назвал, когда мы спросили, как его зовут. Верно, Чамли? — окликнула она индийца.
Тот повернулся и посмотрел на нее так, словно она старалась выведать у него какой-то секрет, потом снова отвернулся к огню.
— Он совсем не сердится, — пояснила Дорин, наливая Артуру очередную чашку чая. — Он любит, когда мы говорим о нем.
— Вид у него какой-то одинокий, — сказал Артур, так, словно это действительно его волновало.
— Да нет, — пожала плечами Дорин, — они с мамой вполне ладят. И жизнь у него совсем недурная.
— Ну а мне он кажется одиноким, — повторил Артур. — Ему бы домой, в Индию, вернуться. Я всегда могу сказать, когда парню одиноко. Молчит ведь все время, видишь? А это значит, скучает по друзьям.
— У него есть мама, — сказала Дорин.
— Это не то, — возразил он, — совсем не то.
Покончив с едой, они остались сидеть за столом, продолжая разговаривать. Артур ждал, пока Чамли и миссис Грэттон уйдут спать, освободят площадку и можно будет остаться наедине с Дорин, которая все более неохотно участвовала в разговоре — похоже, нетерпеливо ждала того же, что и он.
Чамли поднялся, снял кепку, подставил лысый череп ярко горящим лампам и направился к двери. Миссис Грэттон уловила в комнате какое-то движение, ее газетный щит зашелестел и опустился.
— Я скоро, милый, — проворковала она.
— Хотелось бы надеться, — вполголоса проворчал Артур.
Они слышали, как Чамли медленно поднимается по лестнице. Миссис Грэттон продолжала упрямо читать газету, словно решила просидеть тут всю ночь. Артур протянул зажженную сигарету Дорин, закурил сам, разломал спичку на насколько частей, разложил их вокруг тарелки и принялся щелчками направлять в центр стола, туда, где лежал кусок сыра. Дорин снова спросила его про солдата, с которым они встретились в пабе.
— Ладно, слушай, — сдался он, — да, мы служили в одной части. Как-то раз он проштрафился, и это я его подставил. Иначе не мог, потому что рядом был офицер. Он получил семь суток губы. Вскоре после того, как он отсидел свое, мы встретились в городе, он мне все припомнил, мы подрались и с той поры перестали быть такими уж добрыми приятелями. Но это давнее дело, сейчас, думаю, все забыто. Он хороший малый, и мы, бывало, весело проводили вместе время до этого случая. Теперь сама понимаешь, почему мы так сцепились при встрече. — Он расцвечивал повествование о совместных приключениях все новыми подробностями, и в конце концов серьезность, которую Артуру удалось, хоть и не сразу, придать своему голосу, убедила ее в правдивости его рассказа.
Миссис Грэттон дочитала газету до последней страницы. На ней печатались новости спорта, а уж они-то, подумал Артур, ее точно не интересуют.
— Слушай, — спросил он у Дорин с великолепно разыгранным равнодушием, — а твоя мать не решает кроссворды? Потому что если решает, то это затянется до четырех утра.
— Нет, как-то раз попробовала, но отказалась: у нее глаза болят из-за этих черно-белых квадратиков.
С облечением выслушав ответ, Артур увидел, что миссис Грэттон скользит взглядом вверх-вниз по газетной полосе. Чамли был наверху один уже двадцать минут. Когда же она, черт побери, поднимется и уйдет, наконец, подумал Артур. Так и до середины ночи просидит. Он прихлопнул севшую ему на запястье муху. Услышав звук удара, миссис Грэттон подняла голову, затем вновь вернулась к чтению. Нет уж, мрачно подумал Артур, я все равно ее пересижу, пусть хоть до утра здесь остается. По улице проехала машина.
— Это фургон с рыбой и жареной картошкой, в город возвращается, — сообщила Дорин.
Было без четверти одиннадцать. Сверху донеслись нетерпеливые шаги Чамли, в чулках разгуливавшего по спальне.
— Сейчас уйдет, — сказала Дорин.
Но не тут-то было. Ну вставай же, поднимайся, ради бога, взмолился про себя Артур. Матери становятся на удивление несообразительными, когда дело доходит до таких вещей. Ну, чего сидишь?
В одиннадцать миссис Грэттон встала и сложила газету.
— Ну что ж, — сказала она, глядя на них обоих. — Я пошла спать. Ты тоже не задерживайся, Дорин.
— Ладно, мам. Не больше десяти минут. Да и Артуру пора. Ему до дома далеко идти.
— Это уж точно! — прокричал Артур. — Сейчас ухожу.
— И не беспокойся, мам, я, пока не лягу, сама вымою посуду и уберусь здесь, — сказала вслед матери Дорин.
Дождавшись, пока на верхней лестничной площадке скрипнула разболтавшаяся доска, Артур привлек ее к себе и крепко поцеловал:
— Я уж думал, она никогда не уйдет.
— Ну, так ты ошибался, — укоризненно произнесла Дорин, отстраняясь от него. Она убрала с кушетки одежду и газеты, чтобы им с Артуром ничто не мешало целоваться, — это был субботний ритуал, установившийся за последние несколько недель, после чего мягко оттолкнула его, поднялась и сказала: — Ладно, давай сделаем вид, что ты ушел.
— Все та же старая шутка, — проворчал он, следуя за ней через посудомоечную к задней двери.
Дорин громко стукнула задвижкой и с натугой проговорила:
— Ну что же, Артур, покойной ночи.
— Покойной ночи, цыпленок! — проорал он так, что, верно, вся округа проснулась. — До понедельника.
Дверь закрылась с таким грохотом, что содрогнулся весь дом, и Дорин надеялась, что при всей своей глухоте мать его услышит. Артур, никуда, естественно, не выходивший, на цыпочках последовал за Дорин в теплую, уютную, хорошо освещенную гостиную.
— Не шуми пока, — прошептала она ему на ухо.
Он закурил сигарету, откинулся на спинку кушетки и, негромко насвистывая что-то, с облегчением вытянул свои длинные ноги. Дорин тем временем убирала со стола и мыла посуду в кухне, производя негромкие, но отчетливые звуки, которые, как она надеялась, отдаваясь наверху, помогут матери погрузиться в сон или хотя бы убедят ее, что дочь внизу занимается своим делом и никто ее не отвлекает.
Она вышла из кухни, сняла фартук и прислонилась к столу. На ней было темно-зеленое платье, которое так соблазнительно подчеркивало ее грудь и изгибы стройной фигуры, что Артур не удержался и сказал:
— Никогда не видел тебя такой красивой.
Она улыбнулась и села рядом с ним на кушетку. В комнате было тепло от все еще тлеющего в камине угля.
— Я люблю тебя, — негромко сказал он, бросая недокуренную сигарету в огонь.
— И я тебя люблю, — откликнулась она, но как бы между прочим.
— Я хочу жить с тобой. — Он положил ей ладонь на плечо.
— Хорошо бы. — На сей раз она широко улыбнулась.
— Сколько, говоришь, тебе лет? Хотя вообще-то, черт возьми, какое это имеет значение?
— Скоро двадцать исполнится.
— А мне двадцать четыре. Тебе будет хорошо со мной. Ни о чем беспокоиться не будешь.
Она просияла и, беря его за руку, негромко произнесла:
— Никогда не забуду нашу воскресную прогулку, как мы смотрели на воду около Коссала, а потом пошли в поле.
— Но ты понимаешь, о чем я только что говорил? — сурово спросил он.
— Конечно.
Они замолчали. Артур погрузился в себя, в голове у него кружились вопросы и ответы, его не удовлетворявшие, он вел последние бои давней войны с самим собою и в то же время чувствовал, что вот-вот прозвучат первые выстрелы нового вооруженного столкновения. Но на сердце у него было легко, он ощущал свободу и уверенность, прокладывая дорогу куда более прочную, нежели те, которыми хаживал раньше. «Напился я, что ли? — подумал он. — Да нет, трезв как стеклышко».
Они сидели рядом так, словно в этот момент мир избавил их от всей своей тяжести и заставил онеметь от изумления. Но это чувство тут же улетучилось. Артур прижимал к себе Дорин с убийственной силой, словно стремился покорить ее дух в первой же короткой схватке. Но она отвечала с не меньшей силой, также желая взять верх. Положение было патовое, но они облегчение черпали в том важном решении, которое только что приняли одновременно. Он негромко говорил ей что-то, она в ответ кивала, даже не пытаясь вникнуть в смысл его слов. Да Артур и сам не понимал, что говорит: и передатчики, и приемники куда-то исчезли, и они бросились в разверстые глубины земли.
Глава 16
Весенним воскресным утром он сидел на берегу канала в укромном месте, где старая ольха клонится к воде, напоминая едва стоящего на ногах старика, которого нетерпеливо подталкивает сзади крепкий молодой дубок. Он выпрямился и поправил нейлоновую леску на стремительно вращающейся катушке. Неподалеку лежали рюкзак, куртка, пустой сачок, велосипед и две жестянки червей, которых он заблаговременно накопал у себя в саду. Сквозь облака пробивались солнечные лучи, позволяя земле дышать и вознося к небу запахи почвы. Пели птицы. Его внимание привлек беззвучный, почти незаметный всплеск воды. Он встал, сделал шаг вперед и резким движением забросил удочку.
Чуть ниже по берегу возился со снастями другой одинокий рыбак, но Артур знал, что они друг другу не помешают, даже не поздороваются. Здесь тебя никто не потревожит, ты охотник, мечтатель, сам себе хозяин и в любой день, когда с неба не льет дождь, на несколько часов отрешаешься от всего на свете. Как сказал армейский капрал, лучшие мысли приходят в голову, когда сидишь в уборной. А когда в тишине и покое удишь рыбу, так и еще лучше.
Он отхлебнул чая из фляги, закусил сэндвичем с сыром и, немного отодвинувшись от воды, принялся внимательно наблюдать за красно-белым поплавком, до середины утопленным в воде под ольхой, — нельзя пропустить то мгновенье, когда поплавок вдруг вздрогнет, свидетельствуя о поклевке. Что касается его лично, то поклевка уже состоялась, и с этим придется бороться всю оставшуюся жизнь. Когда рыбина оказывается у тебя на крючке, ты тоже в известном смысле оказываешься у нее на крючке, и то же самое бывает, когда тебе приходится поймать что-то еще, будь то корь или женщина. Всё и всех на свете так или иначе ловят, а если кого-то еще не поймали, то это значит, что они на пути к тому, чтобы быть пойманными. Уже в момент рождения, в ту минуту, когда ты являешься на свет и издаешь первый крик, тебя пленяет свежий воздух. Потом тебя связывает, набрасывает аркан на шею фабрика, далее подвешивает за задницу к крюку женитьба. В общем, ты в основном подобен рыбе: плаваешь себе спокойно в воде, размышляя, как хорошо, что тебя все оставили в покое, делаешь все, что тебе заблагорассудится, и ни о ком не думаешь, как — блямс! — в тебя впивается большой крючок, и ты пойман. Сам себе в том не отдавая отчета, ты проглотил больше, чем способен переварить, и эта наживка остается с тобой до конца дней твоих. Для рыбы это означает смерть, но для человека все может сложиться не столь печально. Может, наоборот, это начало чего-то лучшего в жизни, чего-то такого, что даже не казалось тебе возможным, когда твои алчущие челюсти смыкались на жизнетворной наживке. Артур понимал, что еще не проглотил ее, только облизнул и нашел приятной на вкус, что еще может выплюнуть надкусанный пирог. Но ему этого не хотелось. Если жить, отказываясь от любой наживки, покачивающейся перед тобой, то это не жизнь. Все одинаково, никаких перемен, и не с чем бороться. Жизнь будет скучна, как стоячая вода. Будешь слишком хитер — погубишь себя. И хотя наживка таит в себе опасности, вечно не замечать ее нельзя. Артур засмеялся при мысли о том, что он-то наживки наглотался по уши и даже наполовину переварил ту кашу, которая, бесспорно, уже принесла ему — так или иначе — немало хлопот.
От пристального наблюдения за поплавком Артура начало клонить в сон. Вчера он пробыл с Дорин до двух ночи. Они говорили о том, что поженятся через три месяца, когда, по словам Артура, у него скопится недурная сумма денег, около ста пятидесяти фунтов, а если считать возврат по налогам, то, может, и все двести. Ну что ж, сказала Дорин, этого должно хватить, тем более что миссис Грэттон уже предложила им жить у нее, сколько захотят, за половину арендной платы. Когда Чамли уедет, ей будет одиноко. Артур подтвердил, что с миссис Грэттон он уживется, потому что будет хозяином в доме. А если начнут возникать конфликты, снимут квартиру где-нибудь еще. В общем, прикидывал Артур, все вроде складывается удачно, лишь бы война не началось и не возникли экономические проблемы, из-за которых снова введут карточную систему. Или голод, или чума, которая выкосит половину Англии, землетрясение, которое расколет ее на две части и разрушит города, наконец, бомба, взрыв которой положит конец жизни на земле. Но не стоит слишком уж предаваться таким мыслям, особенно если у тебя есть планы на будущее и ты собираешься получить от жизни нечто совсем другое. А ведь так оно и есть, думал он, жуя травинку.
Артур воткнул удочку в землю и встал, чтобы размяться. Зевнул со вкусом, почувствовал, что ноги подгибаются, затем мышцы напряглись, а потом расслабились. Его высокая фигура резко выделялась на фоне изгибающегося берега канала и окаймляющих его кустов и деревьев. Он потер ладонью обветренное лицо, провел ею по пухлым губам, векам, под которыми скрывались серые глаза, низкому лбу и коротко подстриженным светлым волосам, потом поднял голову и посмотрел на небо, где серые облака перемежались с голубыми разрывами. Он почему-то улыбнулся увиденному и сделал несколько шагов по тропинке, поросшей бечевником. Совершено забыв о застывшем в воде поплавке, остановился у кустов помочиться и, уже застегивая брюки, увидел, что поплавок бешено подпрыгивает, словно внезапно ожив и стремясь вырваться из воды.
Артур бросился к удочке и начал вытягивать леску, методично наматывая ее на катушку. Руки его действовали умело, и леска вытягивалась так быстро, что само это движение было незаметно и судить о нем можно было лишь по утолщению и расширению нейлоновой нити на катушке, где он выравнивал ее ногтем большого пальца, чтобы, не дай бог, в нужный момент не запуталась. Рыба выскочила из воды, сверкая боками и извиваясь на конце лески; он крепко обхватил ее ладонью и снял с крючка. Заглянул в стеклянно-серый глаз, в коричневый зрачок, где трепетал страх — весь страх прожитой жизни и весь страх перед надвигающейся смертью. В этих глазах он увидел зеленый сумрак поросших по обеим сторонам ивами каналов с их неподвижной гнилой водой, увидел ужас и стремление уцепиться за остатки жизни, трепещущей подобно возникающим вокруг маленьким немым водоворотам. Куда, интересно, подумал он, отправляются рыбы после смерти? В их глазах отражается мерцание прожитой жизни, а еще — память о хитроумных кривых и закруглениях движущихся теней, от камыша к камышу, когда они разгоняют мелюзгу и сами становятся жертвами преследования со стороны более крупных рыб. Артур почувствовал, как по всему чешуйчатому тельцу рыбы, от головы до хвоста, пробегают волны надежды. Он снял ее с крючка и бросил в воду. Сверкнула серебристая чешуя, и рыба исчезла.
Даю тебе еще один шанс, сказал он про себя, но если ты или кто-нибудь из твоих друзей еще раз попадетесь на крючок, то все, занавес упал. Поплавок снова запрыгал, но теперь Артур не торопился, сидел, выжидая. Теперь это была война, и эту рыбу он хотел принести домой — либо поджарить на сковородке, либо скормить коту. Всего-то обычная наживка, а забота для нас обоих. Я насадил на крючок самого жирного червя, так что не обессудь, когда эта острая штуковина вопьется в тебя.
Ну а моя забота — это каждодневная война до самого конца жизни. Зачем делать из нас солдат, когда мы и так солдаты, до мозга костей? Сражаемся с матерями и женами, хозяевами и бригадирами, копами, армией, правительством. Не одно, так другое, не говоря уж о работе и о том, как мы тратим заработанное. Да у меня, что ни день, сплошные заботы, потому что заботы всегда были и всегда будут. Родился пьяным, женился слепым, заброшен в этот странный, безумный мир, прошел через пособия по безработице, войну, когда на стенных часах болтается противогаз и каждый вечер воют сирены, а ты, покрытый струпьями, гниешь в бомбоубежище. Восемнадцатилетним тебя затягивают в мундир, а когда отпускают на волю, ты снова потеешь у станка, зарабатывая на лишнюю пинту, перепихиваясь в выходные с женщинами, прикидывая, чей муж нынче вышел в ночную смену, работая до изнеможения, до каши в мозгах и боли в спине, и все ради денег, которые каждый понедельник утром тянут тебя на фабрику.
И тем не менее это хорошая жизнь и хороший мир, не надо только жаловаться, и даже если ты знаешь, что этот огромный мир ничего еще о тебе не слышал, ты уверен, что со временем услышит и ждать теперь осталось не так уж и долго.
Поплавок запрыгал еще более яростно, чем раньше, и с широкой ухмылкой Артур начал наматывать леску на катушку.
Биографический очерк
«Самое выдающееся достижение Алана Силлитоу — столь же ценимое сегодня, сколь и во времена Макмиллана и Гейскелла[19], — заключается в том, что он показал, как художник способен черпать вдохновение на окраинах Ноттингема не в меньшей степени, нежели на Блумсбери-сквер».
Д. Дж. ТейлорСын неграмотного и почти постоянно безработного дубильщика, Алан Силлитоу родился 4 марта 1928 года «в гостиной кирпичного муниципального дома на окраине Ноттингема». Его детские годы, столь откровенно описанные в суровой автобиографической книге «Жизнь без доспехов», были отмечены безденежьем и омрачены жестокими нравами, царившими в семье. Дед Силлитоу по материнской линии кузнец Эрнст Бертон тоже был неграмотен. Тем не менее именно в его доме будущий писатель пристрастился к чтению и книгам. Подростком Силлитоу «как правило, проводил выходные и школьные каникулы у деда с бабкой, примерно в миле от города». В стоявшем в гостиной большом застекленном ящике хранились «рассудительные книги», которые дети получали в качестве награды в воскресной школе. В «Горах и пещерах» Силлитоу пишет, что «никогда не видел столько книг в одном месте». Его бабка Мэри Энн, пытавшаяся (безуспешно) заставить его сдать экзамены в школу второй ступени, как-то дала ему из этого собрания одну чудную книгу, наказав «взять ее с собой домой и хранить».
В школе Силлитоу проучился до четырнадцати лет, после чего работал токарем на нескольких фабриках в Ноттингеме, в том числе почасовиком на знаменитом в городе велосипедном заводе «Рейли». В 1945 году он поступил на службу, диспетчером, в министерство авиации, а затем был призван в Королевские военно-воздушные силы, где стал радистом (он и поныне свободно владеет азбукой Морзе — выступая на международном книжном салоне 2004 года в Эдинбурге, Силлитоу признался, что именно азбука Морзе помогала ему сбрасывать напряжение и бороться с отчаянием, когда писательская работа заходила в тупик). Как-то в годы службы в Малайе приятель-радист дал ему почитать роман Роберта Трессела «Филантроп в лохмотьях», и он произвел на него неизгладимое впечатление. «Затруднюсь даже в точности определить, каким откровением стала для меня эта книга, — вспоминал он в 1964 году. — Но событием стала, это факт, не зря вот уже сколько лет она преследует меня».
Вскоре у Силлитоу был диагностирован туберкулез, и он более года провел в армейском госпитале, где жадно читал и начал писать. По выписке из госпиталя Силлитоу, «не пройдя медкомиссию на пригодность к службе в авиации», в возрасте двадцати одного года «стал пенсионером». Вернувшись в Ноттингем, он познакомился в одном книжном магазине с американской поэтессой Рут Фейнлайт, которой тогда было девятнадцать лет. Молодые люди полюбили друг в друга, а в 1952 году отплыли на континент и в продолжение последующих шести лет жили душа в душу на военную пенсию Силлитоу во Франции, Италии и Испании. За эти годы Силлитоу написал множество рассказов и стихотворений, а также несколько романов, но ни один из них так и не увидел свет. На Майорке молодые люди познакомились и подружились с поэтом и романистом Робертом Грейвзом. По совету последнего Силлитоу приступил к работе над рукописью, из которой впоследствии вырастет роман «В субботу вечером, в воскресенье утром»: большая его часть была написана «осенью 1956 года под апельсиновым деревом».
Отвергнутый целым рядом издательств, роман был в конце концов принят издательством «У. Х. Аллен» и опубликован 14 октября 1958 года, сразу же получив признание критиков и читателей. Газета «Обсервер» назвала его лучшим романом года, а в апреле следующего года автору была присуждена премия Клуба писателей за лучший дебют 1958-го.
Переживший театральную постановку и экранизацию (сценарий был написан самим Силлитоу), роман до сих пор успешно продается.
Примечания
1
Первоначально основана в 1937 году крупным промышленником и финансистом Артуром Рэнком. Впоследствии — концерн, производящий радиоэлектронную аппаратуру, радиоприемники, телевизоры, множительную технику, оборудование для кинотеатров и т. д. Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. пер.
(обратно)2
Категория А означает, что призывник годен к службе, тогда как категория С означает стойкую потерю здоровья призывником — в подобных ситуациях в армию, как правило, не призывают. — Примеч. ред.
(обратно)3
Всемирно известный американский проповедник (р. 1918).
(обратно)4
Имеется в виду приспособление для обминания электрических кабелей. — Примеч. ред.
(обратно)5
Легендарный герой американского Дальнего Запада — стрелок, охотник и картежник.
(обратно)6
Монета в шесть пенсов.
(обратно)7
Система воспитательных учреждений для несовершеннолетних преступников.
(обратно)8
Плита, вмонтированная в стену замка Бларни в графстве Корк. По легенде, любой прикоснувшийся к ней губами обретает дар красноречия.
(обратно)9
Джин Отри (1907–1988) — американский исполнитель песен в стиле country, чрезвычайно популярный в 30–50-е гг. прошлого века.
Нельсон Эдди — американский певец — исполнитель классических партий («Аида», «Богема», «Женитьба Фигаро» и т. д.) и киноактер (1901–1967).
(обратно)10
Самая популярная марка машин в Англии эдвардианской эпохи.
(обратно)11
Военная полиция.
(обратно)12
Армейская интендантская служба — организация, сформированная в 1921 голу правительством Великобритании для обеспечения материальных нужд и досуга английских военнослужащих за рубежом. Полное наименование — Naval, Army and Air Force Institution (NAAFI).
(обратно)13
Основанное в 1831 году общество правоверных пуритан, отстаивающее святость воскресенья, когда нельзя предаваться никаким развлечениям.
(обратно)14
Жаргонное обозначение выходцев из Ирландии.
(обратно)15
Шекспир, Генрих Пятый, акт 4, сц. 3. Перевод Е. Бируковой. Герой вспоминает реплики из монолога короля Генриха, несколько путая их порядок и ошибочно полагая, будто произносит его герой, сидя в седле боевого коня (на самом деле король обращается к графу Уэстрморленду в лагере англичан, накануне сражения с французами).
(обратно)16
Популярные гостиничные сети.
(обратно)17
Американский комедийный дуэт.
(обратно)18
Город в восточной части Нидерландов, где в 1944 году союзные войска выбросили парашютный десант для предотвращения взрыва моста. Операция прошла неудачно — парашютисты приземлились слишком далеко от цели. Впоследствии этот сюжет лег в основу фильма «Слишком далеко от моста».
(обратно)19
В конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века лидеры соответственно консервативной и лейбористской партий Великобритании.
(обратно)





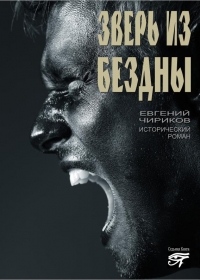


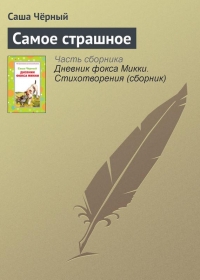
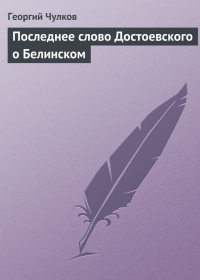
Комментарии к книге «В субботу вечером, в воскресенье утром», Алан Силлитоу
Всего 0 комментариев